КОЧУБЕЙ
Даниил Лукич Мордовцев ЦАРЬ И ГЕТМАН
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Царь Пётр Алексеевич осматривает работы, производимые под наблюдением старого Виниуса в новоотваёванном у шведов Шлиссельбурге.
Работа идёт напряжённо, нервно, сообразно той страстной возбуждённости, с которою неугомонный царь, в своём меркуриевом беге за Перовою, делает каждый свой быстрый шаг, кладёт кирпич на кирпич в этой вавилонской башне, в которую он обратил всю Россию, как бы желая скорее добраться до неба, захватить у времени и у истории всё, что потеряла Россия в течение не одного столетия спячки, застоя и внутренних неладиц.
Со всего северо-восточного клина России согнаны десятки тысяч рабочих к этому крепкому Орешку, который, как прославляли хвалители царя, удалось, наконец, разгрызть всесокрушающим зубам российского льва. Тысячи тачек неистово скрипят своими немазаными колёсами, «словно лебеди распущенные». Тысячи лопат в несколько часов срывают до основания горы и в других местах громоздят новые: не надо там, где было, — надо тут, где не было. Надо всё сызнова, с корня, с листьев до почек перевернуть старое дерево…
А царь-непоседа всё торопит, всё гонит, показываясь с своею геркулесовскою дубинкою то на том месте работ, то на другом. То падает его гигантская тень с крепостной стены на воду, на насыпи, то вырастает вдруг словно из земли между землекопами в канавах, и рабочие вздрагивают при виде этой колоссальной фигуры, и лопаты, тачки, заступы, топоры шибко, лихорадочно двигаются, словно бы в такт учащённому биению пульса великана, который заставляет учащённо и усиленно биться пульс всей Русcкой земли.
Глубокой осенью 1702 года взята была с бою шлиссельбургская крепость у неподатливого шведа Шлиппенбаха, а теперь уже весна, апрель — реки и моря вскрылись, и шведы не сегодня-завтра могут прийти водою к Орешку и взять его обратно... О! Это значит взять у Петра его любимое новорождённое детище, его новую Россию... Ведь этот ковш воды — это ковш живой сказочной воды, отнятой у шведского ворона... Эта паутина Нева — это ариаднина нитка, которая приведёт Россию к золотым яблокам Геспериды-Европы... Эта пядь земли, этот маленький «шлиссель» — ключ, Орешек — это ключ в Европу, ключ апостола Петра который отопрёт царю Петру и его России двери в рай... И после этого утратить эту дорогую пядь земли!.. Ни за что! Никогда!..
Вот почему так лихорадочно горят глаза у беспокойного царя при виде этой нервной работы землекопов и каменщиков...
Прислонившись к одной из башен крепости, Пётр задумчиво глядит вдаль. Он одет гак просто, так бедно — такое грубое тёмно-зелёное сукно у него на кафтане, такое грубое, что когда немка Аннушка, Монцова дочь, при виде его бросается ему на шею, то всегда поколет себе об это сукно и нежные ручки, и розовые щёчки; но зато это — своё сукно, не заморское, не астрадамовское, а сделанное на первой русской суконной фабрике... Энергичное лицо царя от времени до времени нервно подёргивается... Перед ним влево даль водная, всё Ладожское озеро искрится на солнце серебряною рябью... Вдоль берега его — флотилия из лодок... Жалкие лодки, и ни одного корабля?.. А вправо эта нитка водяная, эта синяя паутина, протянутая к Европе, — Нева... Но Нева ещё не вся его, устье в руках у шведов, и море заперто для этого водяного царя... Добраться до моря нельзя, там стоит проклятый Ниеншанц, это дьявол с огненным мечом, не пускающий врага... Надо его взять, этого дьявола... А как ещё возьмёшь?.. Шереметьев скоро прибудет с войском... Ну, а если и тут ждёт новая Нарва?.. Пётр вздрогнул и машинально так стукнул геркулесовской дубинкой о стону, что молоденький денщик его, юноша лет восемнадцати-девятнадцати, чернокудрый Павлушка Ягужинский, молча наблюдавший за царём своими живыми, бегающими еврейскими глазёнками, тоже невольно вздрогнул... Тут и Александр Меншиков, боящийся прервать задумчивое молчание царя... Пётр зол, заряжен, он нервно подёргивается: он шибко осерчал на старого Виниуса, на его медлительность. Он чуть со стены не сбросил обезумевшего от страха старого дьяка за недоставку артиллерийских снарядов и лекарств для крепости, которую не сегодня-завтра могут обложить шведы...
Вдруг распалённые внутренним огнём взоры царя останавливаются на чём-то, что, по-видимому, не было замечено прежде. Павлуша Ягужинский с юношеским любопытством рассматривает что-то копошащееся под стеною крепости, у нового канала.
А у канала мальчик в лохмотьях. Мальчику не более семи-восьми лет. Оборвыш чем-то серьёзно занят. Живые глаза царя невольно приковались к тому, что делал оборвыш. А оборвыш, оснастив верёвочками лапоть, поставив на нём мачту из большого гусиного пера и натянув из лоскутка онучи парус, перепускает это оригинальное судно через канал. Лапоть, подгоняемый ветерком, бойко плывёт через канал. Оборвыш радостно следит за ним своими детскими глазёнками и по положенным через канал доскам торопливо перебегает на ту сторону канала, чтобы причалить своё судно-лапоть. Так же радостно следят за проделками маленького оборвыша и живые глаза царя. Лицо его, доселе хмурое, мрачное, тёмное и холодное, мгновенно озаряется какою-то теплотой, так был на нём быстр переход от мрачного гнева к всепрощению.
— Смотри-тко, Данилыч! — сказал он отрывисто, показывая на маленького оборвыша.
— Вижу, государь... молодой матрос...
— Навигатор, — вставил Павлуша.
Ртутный царь не вытерпел и сошёл со стены к каналу. Маленький оборвыш, увидев перед собой громадного человека, такого большущего, какого он ни разу не видел и жизни, так и остался с разинутым ртом, изумлённо посматривая на этих, как ему казалось, солдат.
Царь ласково улыбался, глядя на маленького оборвыша, одетого в женскую кацавейку и в опорки.
— Это что у тебя, малец? — спросил он.
— Карапь, — бойко отвечал мальчик.
Царь засмеялся. Павлуша Ягужинский даже прыснул.
— А из чего он у тебя слажен? — снова спросил царь, трепля мальчика по бледной, обветренной щёчке.
— Это тятькин лапоть, а это онучка моя.
— Ай да молодец! Ай да моряк! — радостно говорил царь.
Но мальчуган что-то заботливо бросился к лаптю, бормоча: «Ишь ты, шведин поганый!.. Постой, я тебя!» В лапте возилось что-то чёрненькое.
— Что это тебя у тебя в корабле? — спрашивает царь.
— А шведской полоняник..
— Как? Какой полоняник?..
— Он царский корм воровал, я и накрыл его... Стой-стой, опрокинешь карапь.
— Да что у тебя там? Говори! — уже нетерпеливо спрашивал Пётр.
— Мышонок... он у нас в сумке сухари всё грыз... А тятька и говорит: этот швед царский корм ворует... Я его и поймал, привязал на верёвочку и катаю но морю, а после кошке отдам.
Бойкий мальчик, не подозревая, кто перед ним, смело болтал, видя, что всех занимает его «карапь», и вынул из лаптя самого мышонка... «Вот он, шведин... ишь юркий какой…»
Мальчик окончательно очаровал царя. Он видел в нём врождённое стремление к воде, к морю. Это самородок. Его только поддержать, выучить, направить, и из него выйдет мореходец.
— А чей ты, мальчик? Как тебя зовут? Откуда ты? — нетерпеливо спросил царь.
— Меня зовут Симкой... Нас с тятькой сюда пригнали на царскую работу... Тятька там землю роет.
Царь задумался и молча глядел на мальчика. При виде его рубищ, которых он никогда не замечал, как по привычке не замечал жалкого вида рабочих, широко загадывал обо всей России, о её славе и могуществе, при виде дырявой кацавейки я старых порток, исчез которые сквозило маленькое, худощавое тело ребёнка, он нервно тряхнул головой и, достав из кармана несколько серебряных монет, бросил их и лапоть.
— Это тебе и тятьке, скажи, что царь пожаловал, — сказал он отрывисто и погладил ребёнка.
Мальчик оторопел и обратил на великана свои серые, светлые, испуганные глаза.
— А ты, Павел, запиши его вместе с отцом: кто и из каких волостей, — обратился он к Ягужинскому.
Мальчик по-прежнему стоял испуганно, не смея прикоснуться к лаптю.
— Возьми же деньги, Сима, не бойся... Я пожаловал их тебе, — ласково сказал он мальчику. — А ты, Данилыч, не забудь о нём...
— Не забуду, государь.
— Запиши его в мои навигаторы, в московскую школу.
— Будет по сему, государь, — отсекал Меншиков.
В это мгновение на досках, перекинутых через новый, узкий, но глубокий канал, по которым за несколько минут перед этим перебегал Симка за своим кораблём, а потом переходили царь, Меншиков и юный Ягужинский, послышался крик испуга, и что-то тяжёлое бухнуло в воду…
— Караул! Караул! — послышались отчаянные крики.
В канале кто-то барахтался, беспомощно хлопая об воду руками и глухо взывая о помощи... Из воды показывается ещё одна голова, потом другая... Всё это отчаянно мечется, утопающие хватаются один за другого... видна последняя, безумная, молчаливая борьба из-за последнего дыхания, и все трое исчезают под водой...
Царь первый бросается спасать утопающих... Но как? Чем?
— Лодок! Багров! Сети! — кричал он громовым голосом, так что вся крепость встрепенулась, тысячи рабочих солдат и матросов бросились к каналу, заслышав крик царя, и некоторые матросы отважно ринулись в холодную апрельскую ледяную воду...
— Лодок! Багров! — гремит голос царя. — Кто утонул?
— Доктора Лейма, государь, я опознал, — отвечает Ментиков.
— А я, государь, видел Кенигсека и Петелина, — прибавил Ягужинский.
— Господи! Какое несчастье!
— Но вот и лодки с баграми... В одну из них прыгает царь с такою поспешностью, что едва не опрокидывает её; да ему это нипочём, он любит воду.
— Государь!! Береги себя! — кричит испуганно Ментиков.
— Ищи там! Подавайся ниже!..
Лодки бьются на месте, толкутся в узком канале, словно в ступе, а утопленников всё не найдут.
— Спускай ниже!.. Их водой несло... подайся сюда! — командует царь, бороздя воду длинным багром.
Лодки стукаются одна о другую. Меншиков постоянно повторяет, чтоб берегли царя. Берега канала усыпаны народом, который напряжённо ждёт... Иные крестятся.
— Кто утонул?
— Немцы, паря.
— Туда им, куцым, и дорога, — отзывается кто-то.
Наконец, багор царя зацепил что-то, тащит... Из воды показывается что-то серое... спина человеческая, а голова и ноги в воде... Приподнимается багор выше, виден затылок утопленника и чёрные, мокрые волосы, падающие на лицо...
— Благодарение Богу… Кенигсек бедняжка…
Царь быстро схватывает его за шиворот и втаскивает в лодку.
— Ищи других, тут должны быть, — распоряжается царь.
— Не клади, не клади, царь-государь! — торопливо предупреждает старый матрос. — Не клади наземь, не отойдёт, не откачаешь.
— Качать! Качать! — слышатся голоса.
Лодка пристав берегу. Утопленника, словно мешок, слабо набитые чем-то мягким, с рук на руки сдают стоящим на берегу. Царь, проворно сбросив с своего громадного тела кафтан, в который можно было завернуть двух утопленников, кидает его на берег.
— Качайте на моём кафтане!.. А ты, Данилыч, обыщи его карманы, может, есть важные бумаги, государственные, запечатать надо тут же...
— Ещё тащут! — дрожит толпа. — Вон, вон, матушки!
Снова из-под воды показывается что-то скомканное, перегнутое, мёртвое, но ещё не окоченевшее... А Кенигсека кладут на царский кафтан. Меншиков, исполняя приказ царя, опоражнивает карманы утопленника и найденные у него мокрые бумаги тут же вкладывает и небольшой сафьяновый портфель и отдаёт Ягужинскому.
— Запечатай тотчас и сохрани.
Кенигсека качают. Беспомощно переваливается мёртвое, посиневшее тело по кафтану. Из-за спутавшихся мокрых волос, падающих слипшимися прядями на лицо, шины красивые очертания этого молодого, ещё за несколько минут полного жизни лица... теперь оно такое серьёзное, молчаливое, застывшее...
— Лекаря бы надо, — с беспокойством говорит Ментиков, сильно встряхивая царский кафтан.
— Да вон и лекаря тащут, — отвечает юный Павлуша, который всё видит и всё слышит.
Действительно, из другой лодки выносит на берег другого утопленника — это доктор Лейм... Отыскивают, наконец, и Петелина...
В трёх местах на берегу канала идёт энергическое качанье трёх свежих трупов. Пётр не спускает глаз с Кенигсека. Ему особенно жаль его, надо, во что бы то ни стало, оживить этого мертвеца, откачать, отнять у смерти... Она ещё не успела его далеко унести... Душа его тут, близко, может быть, за теми плотно сжатыми красивыми губами... Стоит только их разжать, и они порозовеют, язык заговорит, душа скажется... Пётр трогает эти губы, холодные такие, мёртвые...
Кенигсек, или Кенисен, как называл его Пётр, был саксонским посланником при русском дворе; а недавно, прельщённый выгодами службы в России, он поступил в русское подданство, и Пётр был очень рад приобрести себе такого служаку... И вдруг, на глазах его, он погибает! Это большая потеря...
Но, может быть, он отойдёт... Он так недолго был под ногой... Правда, вода ледяная, режет, обжигает своим холодом.
— Что, Данилыч?
— Трясу, государь... Душу, кажись бы, всю вытрясти можно, кабы...
— Кабы не отлетела?
— Да, государь.
Царь нагибается к трупу, щупает голову мертвеца — холодна, как глыба. И тело коченеет.
— Помре... Царство ему небесное... — Царь снимает шляпу и крестится, крестится и толпа. — Вот не ждали, не гадали... Вместо радости печаль.
— Надо же было, государь, немецкому водяному и жертву принести водою и немцами, — заговаривает Ментиков.
— Правда... правда... А всё за мои грехи.
— За всех, царь-государь...
— А бумаги вынул?
— Вынул, государь... У Павлуши.
Но царю некогда долго останавливаться на этом печальном эпизоде. Надо спешить вперёд. Шереметев с войском, поди, уж у Ниеншанца. Надо с лёгкой флотилией плыть на сикурс к нему.
Царь велит с честью похоронить утопленников и готовиться в поход под Ниеншанц.
— А об Симке не забыли? — вспоминает царь о маленьком оборвыше.
— Нет, государь, — отвечает Меншиков. — Неумедлительно иду сыскать его отца, и всё учиню, как ты, государь, указать изволил.
— Изрядно. Тут потеряли, а там, может, бог даст, найдём.
Истинно, государь: не знаешь, где найдёшь, где потеряешь.
— Дай Бог... Кто знает, что может из Симки выйти. Пути Господни неисповедимы…
II
В то время, с которого начинается наше повествование, весной 1703 года, Петербурга ещё не существовало. Нева принадлежала шведам, равно как и всё Балтийское море, в только небольшой камень, на котором, при выходе Невы из Ладожского озера, ютилась шведская крепость Нотебург, древний новгородский Орешек, — был взят Петром, укреплён и переименован в Шлиссельбург вместо Орешки. Петру так нравились немецкие названия.
После Шлиссельбурга надо было, во что бы то ни стало, отвоевать и всю Неву. С этой целью, похоронив Кенигсека и других его несчастных товарищей по смерти, он двинул свою лодочную флотилию вниз по Неве, с тем чтобы идти на помощь Шереметеву, который с двадцатипятитысячным войском тоже подвигался к Неве имея намерение напасть на Ниеншанц, стоявший при впадении речки Охты в Неву. На месте же нынешнего Петербурга чернел сплошной дремучий лес.
Лесом покрыты были и все берега Невы вплоть от Ладожского озера до устья реки, до Финского залива.
Спускаясь с своей небольшой гребной флотилией вниз по Неве, Пётр был глубоко взволнован всем, что видел перед собою. Угрюмый бор, покрывавший берега реки, он уже превращал в пылком воображении своём в бесчисленные армады кораблей, и эти армады будут не чета «непобедимой армаде» Филиппа II, короля испанского. Нет! Его армады будут действительно непобедимы... А эта многоводная река, но которой скользила его флотилия, такой реки он не видал во всей Европе. Что Волга! То река неустойчивая, с расползающимися, песчаными берегами. А Нева — она точно закована и свои берега и несёт постоянную неубывающую массу воды в то заманчивое, чужое, Варяжское море... О! Тут, на этой реке, должна быть столица России...
И пылкое воображение царя уносится вдаль, в глубину грядущих веков... При устьях Невы видится ему величавый город, столица восточных царей, к которой обращены удивлённые взоры всего света. Со всех морей и океанов, от всех народов Старого и Нового Света плывут корабли в этот величавый город, в город Петра... Петроград... Нет, это слово противное, Москвой затхлой пахнет, византийским ладаном отдаётся. Не быть тут Петрограду, довольно и византийского Царьграда... А будет тут Россенбург или Ризенбург, город богатырей... Нет, пусть лучше будет тут Питербург... Да, это лучше всего... Он будет славен, более славен, чем Тир и Сидон, более славен, чем Рим и Карфаген... Он будет весь на воде, как Венеция. Каналы изрежут его вдоль и поперёк... Вода, море-океан станут колыбелью российского народа…
А флотилия, взмахивая длинными вёслами ловких гребцов словно стая длиннокрылых птиц неслышно пенит прозрачную невскую воду. С каждым взмахом весел, с каждым поворотом руля открываются новые пустынные берега, окаймлённые зелёными борами, а выше — голубым небом… На берегах ни души человеческой, да и пения птиц не слышно, хотя самая пора бы петь и птице, и человеку: апрель на исходе... Только и виднеются над водой длиннокрылые, белогрудые чайки, которых жалобный скрипучий крик, совсем не похожий на крик серой, чубатой! южной чайки, нарушает могильную тишину этой красивой, но холодной, неприветливой природы...
На царском катере, на шпеньком сиденье, почти у самых ног царя сидит Павлуша Ягужинский и грустно смотрит на эти неприветливые берега, на эту красивую, но холодную природу. И ему вспоминается другая природа, другая зелень, другое солнце... Как ни молод он, но и у него уже есть свои воспоминанья, свои могилы в сердце. Жизнь его, начавшаяся где-то далеко на юге, в Польской Украине, среди чубатых и усатых казаков, и, как нитка, оборвавшаяся там полным забвеньем, потом та же жизнь в шумной, толкучей Москве, перенёсшая его словно на ковре-самолёте сюда, в эту холодную Карелию, — эта жизнь оставила в его памяти какие-то клочки воспоминаний, смет, ощущений сладостных и горьких, смешение веры в людей и глубокого к ним недоверия, эта жизнь научила его думать, задумываться, вспоминать...
Да, Павлуша Ягужинский рано начал думать. Ещё там, на далёкой, тёплой родине, которая вспоминается ему как сонная грёза, он уже начал задумываться. Чем-то сиротливым, чужим рос он среди родной природы, которая была ему более близка, более отзывчива, чем люди. Эти гордые, надутые маленькие польские панки, его сверстники, чуждались его, как неродовитого шляхтича, у которого не было ни холопов, ни быдла, ни грунту, ни палаца, ни богатых маентков, хоть его, Павликов, татко был такой же благородный, как и те надутые паны, но только не был ясновельможным паном, а учителем и музыкантом. И эти черномазые хохлята, отцы и матери которых работали на канон как быдло, тоже избегали Павлушу Ягужинского... «Жидовиня», «лядскiй недовирок», «перекинчик», «собача вира», «свиняче ухо» — вот что он слышал среди этих чумазых хохлят и недоумевал, за что они его не любят... «Жид», «жид»... нет, не жид, потому что и жиденята бегают от него, как от чужого...
Вот что помнится ему из далёкого детства... Ещё помин гея ему его отец, вечно грустный и задумчивый, сидящий над какими-то старинными книгами или в тихий летний вечер играющий на скрипке... Что за плачущие звуки лились тогда из-под горького смычка татки! Слушает, бывало, маленький Павлик эти всхлипывания смычка, слушает и у самого польются слёзы, неведомо отчего... И становится маленькому Павлику жаль всего, на что он ни взглянет, хочется ему обнять всё плачущее, утешить...
Татко говорил потом, что когда они жили ещё в Польше за Днепром, то Павлику пошёл только пятый год... А он помнит эти зелёные иглы — тополи высокие, что вели к панскому палацу...
Потом он помнит себя уже в Москве. Помнит, как с татком ходил он в немецкую кирку, где татко тоже играл, но уже не на скрипке, а на органе. На скрипке он продолжал играть только дома, да и то осторожно, потому что нередко слышал, как москвичи говорили: «Вон немецкий пёс воет — себе на похороны, на свою голову...» А московские мальчишки дразнили Павлика «нехристем» и нередко бросали в него каменьем. За что? Павлик и об этом часто думал Но чаще и чаще до слуха Павлика начинают долетать слова: «какое красивое чёртово отродье», «какое хорошенький жидёнок», «немчура, немчура, а поди ты, зело леповиден бесёнок...»
Павлик учится читать, писать, чертить, рисовать... Татка его так много знает и сам учит Павлика...
И Павлик всё растёт, вытягивается, хорошо уже говорит по-московски, попривык к Москве.
А в Москве так страшно становится, такие зловещие слухи ходят... Говорят, что стрельцы всех немцев, всех нехристей перебить хотят... А там какие-то смуты в Кремле: то царя хотят убить, то царевну Софью заточить... Стоном стонет Москва, страшно кругом...
А эти ужасные казни стрельцов... Едут на телегах с зажжёнными свечами в руках, а за inf ми бегут стрельчихи да воют, душу разрывают — воют… Какая страшная Москва!
— Что, Павлуша, задумался? По Москве, чаю, скучаешь? — говорит царь, ласково глядя на юношу.
Павлуша невольно вздрогнул. Он действительно думал о Москве, только страшной, кровавой, стрелецкой.
— А? Заскучал, поди, но Москве?
— Нету, государь, не скучаю, — отвечал юноша.
— То-то! Со мной скучать некогда.
— Некогда, государь, да и неохота.
— Правда. Скучают только дармоеды да лежебоки, А мы не лежим, — отрывисто говорил царь, глядя вдаль и тихо налегая на руль.
Юноша молчал. Слова царя так и обдали его холодной действительностью... Царь был в духе.
— А что, хотел бы ты тут жить? — снова спросил он сшито юного любимца, лукаво улыбаясь.
— Где государь поволит жить, там и я.
— Так... А, может быть, Бог и доведёт до благополучного конца, — сказал царь в раздумье.
Это сами собой сказывались его заветные думы, его мечтания.
А флотилия всё скользит неслышно по гладкой водяной поверхности холодной, неприветливой реки. Тихо кругом. Ни говору не слышно, ни смеху, ни песен. Да и как петь, когда всякий час флотилия может наткнуться на шведские корабли, на замаскированные редуты, на засады?
Глаза царя зорко следят за всей флотилией. Ничьим другим глазам он не верит, верит он только своим глазам. Он сам хочет всё видеть, всё знать... Были только одни глаза, которым он доверял, как своим собственным, — это бойкие, живые глаза Павлуши Ягужинского.
— Это моё око, — часто говорил Пётр, указывая на Павлушу, — коли Павел увидит что, то истина дойдёт до меня такою же истиною, как ежели бы я сам её видел.
А теперь Павлуша сидит такой задумчивый. Ему было нехорошо, страшно чего-то... И зачем утонул этот Кенигсек? Зачем эти проклятые бумаги он носил с собой!.. Когда Павлуша по приказанию царя запечатывал их, то он увидел между ними что-то такое страшное, отчего у него полосы стали дыбом, кровь застыла... Неужели же это правда?.. О! Как он желал бы, чтоб чти проклятые бумаги пропали, уничтожились, исчезли бы под водой вместе с трупом Кенигсека...
И Павлуша силился отогнать от себя это страшное, которое он видел в бумагах утонувшего Кенигсека. Он старался думать о своём прошлом… В этом прошлом был такой крутой перлом. И опять всё это точно во сне было… Понравился Павлуша Головкину, Гавриле Ивановичу, и он взял его к себе в жильцы, в комнатные… «Такого смазливенького паренька, как Павлуша, всякому охота держать около себя на глазах», — говаривал, бывало, Гаврило Иванович: «и показать гостям есть что — малый бойкий…» И Павлуше жилось у Головкина — не то хорошо, не то дурно; а надо было привыкать — дом знатный, можно в люди выйти… Зорко присматривается Павлуша ко всему, что около него, быстро всё понимает, и Головкин не нахвалится Павлушей… Он его любит как сына, балует его, ласкает… И Павлуше вспоминается, что почему-то ему противно становилось от этих ласк. Но у Павлуши уже образуется характер будущего государственного человека: он уже многое знает, и знает, где помолчать... Он всё обдумывает, взвешивает, всему отводит надлежащее место...
Замечает Павлушу и царь у Головкина. Павлуша и царю нравится…
И вот Павлуша у царя на глазах, и денщиках его вместе с Ванькой Орловым... Только тот больше всё за девками дворскими... А Павлуша ни-ни, не глядит на девок, как они ни заигрывают с ним... Одну только девушку не может забыть, да то не здешняя... Далеко она... а так вот и стоит перед глазами... Да и имя-то какое милое — Мотря, таких имён во всей Москве нет...
На днях только они воротились с царём из Воронежа. Царь осматривал там новые корабли, весел был, всех торопил, всё ему хочется Азовское да Чёрное море себе завоевать, из Воронежа-то! Мало того, и султана терского воронежскими кораблями из Цареграда выгнать, а Дон-от соединить и с Волгой, и с Днепром, и с Двинами обеими, и с Обью — Дон-от. Вот чадушко! Со всеми концами света задумал Дон и Воронеж соединишь... «И на тот свет, говорит, прокопаюсь — только б у меня помощники были!..» А Павлушу вместе с бывшим там в Воронеже, по малороссийским делам, генеральным судьёю Василием Кочубеем и с бумагами царь посылал из Воронежа к гетману, к Мазепе Ивану Степановичу; а гетман в то время гостил на хуторе у Кочубеихи в Диканьке... Вот там-то Павлуша и видел эту девушку, дочку Кочубея, её-то и не может он забыть...
Вот и теперь, от этой невской холодной пустыни, мысль Павлуши отлетает в ту яркую зелень юга, в эту счастливую Диканьку... Апрель в начале, a уже всё в цвету. Никогда Павлуша не подозревал даже, что так дивен и прекрасен может быть свет Божий… Деревья — вишни, яблони, груши, тёрн — словно снежною, розоватою метелью засыпаны сверху донизу — хлопья, комья, горы этого снегу цветочного, куда ни глянешь, где ни ступишь... Деревьев не видать совсем, а виден только цвет, цвет, цвет без конца... Только ниже виднеется зелень, да и та вся усыпана цветами, живыми и умирающими, опавшими, завядающими... Это — цветочное море кругом! А птицы заливаются. Господи! Павлуша так и затрепетал всем телом, когда очутился в этом раю... Разом как будто воскрес один день из его детства, из той золотой, забытой, застланной пеленою лет поры, когда они жили где-то далеко там, за Днепром... Только не слышно плачущем скрипки доброго татка... Но зато поют птицы, столько голосов, столько мелодий неуловимых, столько подмывающего, доброго, нежного, стадного, что после московского холода и угрюмого и молчанья природы, Павлуша не выдержал и, бросившись лицом на траву, зарыдал...
Вдруг он слышит, кто кто-то тихо трогает его за плечо. В изумлении он приподымает голову и... не верит глазам своим: перед ним стоит русалка, не то богиня этого рая... и она вся в цветах, вся сияющая, как весна, как это дивное голубое небо... На волосах её, густых и чёрных, как вороново крыло, корона из цветов. И коса её вся переплетена цветами. Гирлянды цветов обвиваются вокруг шеи вместе с кораллами и спадают вниз по белой, шитом красными узорами сорочке... Смугло-белое, матовое без румянца личико смотрит ласково, девушка открывает розовые губы, из-за белых, мелких, как у мышки, зубков вылетают какие-то слова, не похожие ни на польские, ни на московские, но довольно попятные...
— Чего вы плачете? — спрашивает она.
— Так... мне хорошо… я не знаю, — бормочет Павлуша, боясь взглянуть на видение.
— Та вы ж с татком приiхали?
— Нет... мой татко в Москве…
Павлуша заметил, что девушка улыбнулась.
— Ни, не ваш татко, а мiй — Кочубей... Вин з вами вид царя прiихав до пана гетьмана...
— Да... он… я, — лепетал Павлуша, всё ещё не пришедший в себя.
— Може, вас кто обидив у нас?
— Нет, никто, я так заплакал, вспомнил детство.
— А вам якiй рик? — спрашивала девушка.
Павлуша не понимает слово «рик» и молчит, глядя вопросительно в чёрные, детские добрые глаза.
— Год вам якiй? — допытывается девушка.
Павлуша понял. — Мне восемнадцать уже исполнилось.
— Овва! А мени вже скоро симнадцятый буде...
В это мгновенье за кустами мелькнула тень, и показалась бодрая фигура старика с седыми усами и живыми серыми глазами, которые, при постоянно понуром лице старика, смотрели словно исподлобья, но смотрели бойко, лукаво и как будто приветливо... Это был Мазепа.
— Те-те-те! — весело заговорил гетман. — Вже моя дочечка из москалём женихается...
Девушка вспыхнула. Павлуша тоже стоял растерянный — он узнал Мазепу.
— От так дивка! От так Мотрёнька! Вже й пидчепила царьского денщика... Ото дивчача натура! — смеялся гетман, но смеялся немножко ревнивым смехом.
— Ну бо, тату... Вам бы все жарты, — заговорила девушка, надув губки.
— Яки жарты! У вас тут не до жарт...
— Та вони ж бо, тату, плакали...
А вон идёт и сам хозяин сада — Кочубей, осыпанный, как снегом, цветом вишен, яблонь, груш... Господи! Какой рай, какие светлые видения...
И мысль Павлуши, плывущего по неприглядной, холодной Неве, переносится в этот кран, и из хмурого северного леса выступают светлые видения...
— Павел, — вдруг пробуждает его голос царя.
— Что изволишь, государь?
— Бумаги Кенигсека запечатал?
— Запечатал, государь.
— Хорошо. После спрошу.
Опять проклятые бумаги... Быть беде, как он сам увидит это страшнее...
III
Вечером того же дня, 24 апреля, флотилия пристала к берегу недалеко от устьев Охты, где Шереметьев во главе двадцатипятитысячного войска, уже ожидал царя с флотским подкреплением. Царь прибыл не одни и не сам он командовал своим лодочным флотом: флот ил него командовал сам адмирал Головин, а в числе других командиров были Головкин и Ментиков Царь всех их превратил в моряков, а сам носил звание простого бомбардирского капитана.
Ниеншанц был тотчас же обложен русским войском и со стороны суши, и со стороны Невы Надо было торопиться с взятием крепости, потому что шведская эскадра скоро должна была войти в реку с моря и спешить на помощь Ниеншанцу.
На другой день крепость была бомбардирована. Когда всё было готово к приступу и всем начальникам частей отданы были соответствующие приказы — куда идти, где стоять, как действовать, царь подозвал к себе Ягужинского, который, как не принимавший ещё непосредственного участи в деле и не получивший никакого особого назначения, стоял поодаль и беспокойно откидал, что же будет дальше.
— Ну что, Павлуша, ты ещё не видывал настоящей баталии? — спросил его царь ласково, взволнованным голосом.
— Не видывал, государь, — ответил юноша.
— Боишься, чай?
— Чего бояться?.. За тебя, государь, боюсь.
В холодных, быстрых взорах царя засветилась нежность. Он положил руку на плечо юноши.
— За меня не бойся... Меня хранит Бог для блага России... Молись ему...
— Буду молиться, государь.
— Так стань там, к тому леску, и видно будет, и в безопасности находиться будешь.
Царь быстро повернулся, снял шляпу, набожно перекрестился и исчез в числе прочих, шедших на приступ.
Павлуша стал на указанное место. Крепость, Нева, спускающиеся по ней лодки, двигающиеся ряды войск, всё это спуталось в его глазах, смешалось, потеряло всякий смысл... Он видел что-то неопределённое, непонятное для него...
Что-то глухо бухнуло, словно упало, оборвалось, разбилось... Это пушка... Буханье повторялось всё чаще и чаще. Вот уже стелется дым над Невою... И на крепости, на стенах всплывают какие-то белые, громадные пузыри и лопаются с гулом. Это дым от пушек. Глуше и сердитее ревут пушки, и Нева стонет, и лес словно вздрагивает... Вздрагивает и Павлуша...
Он машинально крестится, но не знает, о чём молиться, что просить и за кого. Ему разом стало страшно за всех; и за тех, что рядами двигались к крепости, как бы подгоняемые громом, и за тех, неведомых ему, которых эти за что-то ненавидели я стремились убить их...
— Езус-Мария! О! — послышался сзади его тихий стон.
Он с испугом обернулся и остолбенел от изумления. В нескольких шагах от него опять показалось что-то вроде того видения, которое поразило его в саду Диканьки, среди цветущей природы Украины. Но это было другое видение, хотя такое же прелестное, только без короны и цветов. Павлуша видел только большие чёрные глаза, которые его пугали своим каким-то глубоким и густым, так, по крайней мере, Павлуше казалось, блеском... Это была молоденькая девушка, высокенькая, плотная.
— Его убьют! Езус-Мария! — повторила девушка, как бы вопросительно.
— Кого убьют? — невольно спросил Павлуша. — Царя?
— Нет... царя я не знаю...
— Так кого же?
— Моего доброго господина.
— А кто твой господин?
— Мой господин — Александр Данилович.
— Меншиков?
— Да, Меншиков.
У девушки заметен был нерусский выговор. Но русские слова, как видно, она знала.
— А ты кто же? — спросил Павлуша.
— Я — Марта Скавронска, из Мариенбурга. Меня русские в полон взяли. А ты кто?
— Я денщик царский — Ягужинский Павел. А ты у Меншикова теперь?
— У Меншикова. Он добрый.
— Что ж ты у него делаешь?
— Я служу ему.
Между тем канонада разгоралась. Слышался уже не стук отдельных ударов, а сплошной гул, который перекатывался из конца в конец, как удаляющаяся гроза.
Войско, предводительствуемое Борисом Шереметевым и ведомое молодыми русскими и преимущественно немецкими офицерами, извивалось вокруг маленькой крепости в виде огромной змеи, которая с каждой минутой суживала своё страшное кольцо и должна была скоро задавить жалкий Ниеншанц. Крепостные батареи, в большей части подбитые русскими ядрами, умолкали одна за другой. Казалось, что войско шло на мертвеца.
— Лют сегодня Борис, — послышался голос царя.
— Да добрым был ли он, государь, и от младых ногтей?
— Подлинно так. Намедни доносит мне: «Послал де я во все концы пленить и жечь, дабы де помнили вороги твои, государевы, твоих ратных людей, как они-де чисто бреют».
— Брадобрей, государь, точно брадобрей, Шереметев Борис Петрович.
— Да, крутенек Боря.
Это царь, в сопровождении Меншикова, ехал к другому концу поля битвы, чтобы ничего не оставить без внимания. Ягужинский и Марта увидели их. Узнав Меншикова, Марта радостно вскрикнула. Царь оглянулся.
— А! Это ты, Павлуша… А кто с тобой?
— Это Марфуша государь, моя полонянка ливонская, — отвечал Меншиков, ласково взглянув на девушку, которая тоже глядела на него радостно.
Быстрым взглядом царь окинул интересную полонянку с ног до головы. Глаза девушки, встретившись с глазами царя, словно застыли: это был какой-то детский, полный глубокого удивления, взгляд.
Царь тоже как бы изумился. Перед ним почему-то мелькнул образ Анны Монс... Точно Аннушка... Нет, не Аннушкины глаза.
— Как тебя зовут? — быстро спросил царь.
— Марта, ваше... ваше величество.
— А кто твой отец?
— Самуэль Скавронски.
Девушка отвечала тихо, робко на спуская глаз с вопрошающего, точно это была исповедь... По лицу царя пробежало нервное подёргивание.
— Давно она у тебя? — спросил царь, быстро обращаясь к Меншикову.
— Недавно, государь.
— А при каком деле она у тебя?
— Портомоя...
Царь снова молча взглянул на девушку, потом на Ягужинского, пришпорил коня и скрылся. Ускакал и Ментиков.
Осыпаемая ядрами, не видя ниоткуда помощи, крепость недолго сопротивлялась. Пётр широко перекрестился, когда увидел, что на одной из крепостных башен показался белый флаг.
— Пардону просит, — весело сказал царь, — я не чаял так скоро добыть ключи от рая.
— Ключи-то, государь, может, и добыты, да дверь-то в рай ещё не отворена, — заметил Меншиков. — Может, она припёрта изнутри.
— Что ты преть, Данилыч! — сердито сказал царь.
— Не вру, царь-государь... Дверь-то райская не токмо засовом изнутри засунуто, да и архистратиг Михаил за дверью с огненным мечом стоит.
— Что ты!
— Верно, государь, сейчас сам увидишь, погоди немного.
Сказав это, Меншиков удалился, а царь поскакал к тому месту, где Шереметев распоряжался осадой крепости.
Крепостные ворота скоро отворились, и престарелый шведский комендант вынес ключи на блюде.
Пока всё это происходило, из обоза воротился Меншиков в сопровождении седого, как лунь, старика. Он был одет не как местный житель, не по-чухонски, а по-русски. Характерные лапти, покрой рубахи с косым воротом и волосы с подстриженной маковкой изобличали его национальность.
Старик молча приблизился к царю. Из старых, запавших, но ещё светившихся жизнью глаз текли слёзы. При виде царя старик повалился в землю.
— Встань, старик. Говори, кто ты такой и зачем пришёл к нам? — спросил царь.
Старик поднялся и, всплеснув руками, снова зарыдал.
— Hу, говори же, старичок.
— Господи! Сорок годов я рускова духу не слыхал, слово родное забывать стал... А ноне вот на поди! Сам государь великий... речь православную слышу...
И старик крестился дрожащими руками.
— Ну, так говори, кто ты и что хочешь поведать нам.
— Пёс я, осударь, одичалый, — мотая головой, говорил старик. — Одичал совсем, отбился от родного дому, от земли православной. Блаженные памяти при царе Лексей Михайлыча ушёл я из Великого Новагорода от тесноты боярской и вот скоро пятый десяток как молюсь тут среди чуди белоглазой... Ох, опостылела мне она, эта сторонка чужая, проклятая, а повороту мне к родной земле нету... Хуть бы кости старые причёл Бог родною землицею присыпать...
— Ну, так что ж ты хотел поведать нам? — нетерпеливо повторил царь.
— Осударево дело, батюшка, осударево, — как бы спохватился старик. — Я вот, осударь, здесь, грешным делом рыбку ловлю и на взморье частенько бываю. Так ноне, осударь, утром я и видел корабли швецкие в море, от Котлина от острова, надо бы полагать, сюда идут...
— А много кораблей? — тревожно спросил царь.
— Многонько, осударь. Только я так тебе скажу, царь-батюшка, эти-то швецки корабли можно голыми руками побрать.
— А как? Говори, старик, я твою службу не забуду.
— Спасибо, царь-осударь, на добром слове, а я служить своему батюшке-царю всегда рад.
— И ты говоришь, корабли сюда идут? — нетерпеливо спрашивал царь.
— Надо так думать, осударь. Я их обычаи знаю. Всяку весну они тут плавают по Неве, вплоть до Ладоги... Так я тебя научу, осударь, что делать. Вот туда, пониже, за этим коленом от Невы влево речечка махонька течёт, Мыя называется, так лесом-то эта самая Мыя и доходит до взморья... А вправо от Невы идёт рукав, он идёт за островом, за Янисари, и тоже в море входит... Так ежели, примером сказать, ты, осударь, пойдёшь, кодами своими рукавом, а кто другой у тебя с другими кочами войдёт в Мыю-речку, так коли швецки корабли придут, да в Неву зайдут, тут и бери их, как карасей в верше...
Царь казался взволнованным. Никогда ему не представлялась такою лёгкою возможность первой морской виктории. И вдруг!.. Да это вероподобно, рассказ старика дышит такой простотой, такой уверенностью... А он и не подозревал о существовании тут лесной речёнки, обходной струи, в которую корабли не могут попасть, но которая именно создана для его лёгких лодочек... Промысл Божий... Дверь райская отворяется... Старик — это посланник Божий, это новый старец Пелгусий, который предсказал победу Александру Невскому, тут же, на берегах этой самой заколдованной Невы...
— И ты верно, старичок, знаешь, что есть здесь обход лесом? — с волнением спрашивал царь.
— Есть, осударь, Мыя называется.
— И ты проведёшь но ней мои кочи?
— Проведу, как не провести.
...Ночь тихая, прозрачная, с широкою зарею от заката до востока, с прозрачно-голубоватым небом, с робко мигающими звёздами, которые как бы боятся, что вот-вот из-за тёмного бора выглянет бессонное солнце а прогонит их с бледного неба. Но всё же это ночь, обязывающая ко сну и к покою. Спит полуразрушенный Ниеншанц, окружённый белыми палатками. Это русское войско, которое тоже спит, оберегаемое дремлющими часовыми. Спит тёмная Нева, и только слышится её тихий, сонный шёпот — катится сонная вода речная от Ладоги до самого моря. Спят, уткнувшись в берега, словно утки, маленькие лодочки, составляющие флотилию царя. А среди них, среди этих серых уточек, спят две огромные птицы, не то гуся, не то лебеди... Это два шведских корабля, взятые сбою маленькими русскими лодочками.
Не спит один кто-то... Вот на берегу реки стоит этот кто-то, задумчиво глядя на воду, на реку, сонно бегущую к морю. Кому же больше быть, как не царю? У кого другого такой нечеловеческий рост в полтора роста человеческого? У него одного только.
Да, это оп, он не спит. Не спится ему после первой славной морской викторин. Могучие грёзы одолевают беспокойную голову царя. Радостью и гордостью блестят его глаза всякий раз, как они останавливаются на шведских кораблях.
«Всё это моё — моё отныне и до века», — думается царю. «На сём месте созижду дом мой, и будет стоять он, пока стоит российское государство, пока земля стоит».
И он нетерпеливыми шагами начинает ходить по берегу останавливается, размеривает, говорит сам с собою... А беспокойная мысль забегает вперёд. Уже ему видится на этом месте громадный город, весь изрезанный каналами, охраняемый неприступною крепостью, и корабли…
Никогда в жизни Пётр не был так счастлив, как в этот день. То, о чём он мечтал с детства, с тех пор, как увидал Переяславское озеро, для чего он подтянул на дыбу всю Россию, сбывалось; ноги его стояли на клочке земли, который омывала морская вода, вода европейского моря, и этот клочок земли был его собственностью, и никто у него этого клочка не отымет… А эти два чудовища морские, и их он взял с бою, как и этот клок земли…
Теперь у него будут свои морские чудовища, им есть где разгуляться, расправить свои белые крылья...
— Пойду напишу про свою радость Аннушке да князь-кесарю, — сказал он, топнув ногой...
И он быстро пошёл к своей палатке. Ему не спалось в доме, не спалось под крышей, его тянуло под открытое небо, а потому он и по взятии Ниеншанца оставался в походной палатке, где и работал, и спал.
У входа в палатку стояли часовые. Царь, отдёрнув полог, увидел, что у самого входа лежит что-то на полoге, скомкавшись в клубочек.
— А, это ты, Павлуша, — сказал царь. — Ступай к себе, спи, я ещё писать буду.
Ягужинский, не совсем очнувшись от сна, тихо удалился в своё отделение палатки. Но царь точас же вернул его.
— А бумаги Кенигсека где? — спросил он.
— У тебя на столе, государь, — отвечал юноша, бледнея и со страхом глядя на царя.
— Хорошо, ступай, спи.
Но Ягужинскому не довелось спать в эту ночь.
Он внимательно стал слушать из-за наружной перегородки, что делает царь... Всё слышно, слышно даже его могучее дыхание, слышно, как он потянулся, зевнул, хрустнул пальцами и присел к своему походному столу.
— Боже, благoдарю тебя! — слышалось из-за перегородки. — Сна мне нет от великого счастья... Какой день, никой славный день...
Послышался шорох бумаги, хруст взламываемого сургуча... У Ягужинского сердце упало... Скоро, сейчас он увидит это страшное...
— Эх, бедный, бедный Кенигсек! Не дожил ты до моего счастья, — слышался тихий, задумчивый говор царя с самим собою. — Посмотрим, что-то у тебя тут есть... А! Что это такое?
«Страшное... страшное увидал», — думал Павлуша, дрожа всем телом.
— Аннушка... Анна Монцова... Как она к нему попала!.. И письма её — знакомая рука... Так вот она как... Так вот где змея подколодная... А! «зейн гетрейсте бет ин мейн дот»... как и мне писала... «по гроб верная»... А! Шлюха...
Что-то звякнуло, разломилось, хрустнуло... Упала табуретка...
— На дыбу!.. На плаху!.. Нет!.. На кол, на кол немецкое отродье!..
Голос царя страшен. Он быстро ходит по обширной палатке, роняя и разбрасывая всё, что попадалось ему на пути... Потом он снова шуршал бумагами, комкал их, бормотал несвязные слова...
— Вот тебе и радость, вот тебе и виктория... Что же! Из-за сей мрази радость великую погубить? Нет! Не люба мне была Москва, а теперь стала ещё постылее. Там Убить меня хотели, в Москве же и обманули меня... К чёрту Москву! У меня есть новое место для столицы, и отныне будет оно моим парадизом и парадизом всего российского царства...
Ягужинский стал спокойнее прислушиваться. Он знал, что когда беспокойный царь заговорит о российском царстве, о его славе, то всё другое, личное, уже менее острым становится для него.
— Я здесь сооружу мою новую столицу... Се будет новый мех, и в новый мех я волью новое вино, и просвещение, и новые доблести российские... А Москва пусть останется Москвою... Ишь ты! Москва-де сердце России, ну, ин и пусть останется сердцем, кое присно живёт в разладе с рассудком... Так и Москва. А эта немка Анна... Что ж! Пускай её... не любит уж... Да и любила ли, полно? Не царя ли видела во мне, а не любовника? Да, любить и царь не может заставить...
Ягужинский видел, как громадная тень царя наклонилась над столом. Голова опустилась на руки. Тихо стало о палатке.
— А эта. Марта, что ли? Какие глаза — чистые, невинные... Может, эта и полюбит не как царя... Ну, да благо, быть здесь «Питербургу»!
Царь даже кулаком об стол стукнул... Потом зашуршала бумага, заскрипело перо.
Под скрип царского пера и уснул Павлуша Ягужинский.
IV
Малороссия... Украина... Всегда, во все века исторической жизни русской земли крап этот выступал из могильного мрака истории под дымкою очарования, поэзии, чего-то чудесного... Да, чудесное, героическое, легендарное прошло и сквозь всю историю этого симпатичного, но несчастного края. Яркость исторических красок так и бьёт в глаза, когда вы переноситесь в прошедшее Украины: первые богатыри народного эпоса, богатыри стихийные и полумифы, потом богатыри-запорожцы, гетманы, казаки, гайдамаки, чумаки — на всём этом лежит печать поэзии.
…………………………………………………..
— Що се ты, доню, читаешь?
— — Та се, мамо, про блудного сына.
— Що ж воно, из евангелии, из святого Письма?
— Ни мамо, се комедия.
— Яка, доню, комедия!
— Воно, мамо, виршами писано.
— А хто его написав?
— Симеон Полоцький, мамо.
— Що ж воно там пише?
— Та пише, мамо, що у одного человека було два сыны, старший, тихий та слухьяный, а меньший, якiиеь козакуватый, непокiйный, мов запорожскiй козак: «Отпусти та отпустив, каже, «мене, тату»...
— Та сё ж и святе Письмо так пише... Яка ж се комедия, доню?
— Ах, мамцю. яко-бо ты! Тут вирши...
— Так що ж шо вирши?
— Тим воно й комедия называется.
— А ну-ну, почитай, я послухаю, ще воно таке е.
— Слухай, мамо... Ото вин, меньший сын, уже на воли, десь у чужiй земли... Слухай, мамцю, шо вин каже:
Бех у отца моего яко раб пленённый,
Во пределах домовых як в тюрьме заключённый.
Ни что бяше свободно по воле творити.
Ждах обеда, вечери, хотяй ясти, пити,
Не свободно играти, в гости не пущано,
А на красные лица зретя запрещено...
— Овва! Се б то его батько на вечерници не пмскав...
— Ни, мамо, яка-бо ты! Слухай...
— Та кого ж слухать! Волоцюга — волоцюга и есть... Одно слово, блудный сын, Семён Палий...
— Ну, вже, яка-бо ты, мамцю! А люди кажуть, що Палий такiй козак, якого и в свити нема.
— Не всё то правда, що люди кажуть.
— Як же-ж, мамо? Вин за виру стоит!
Так говорили между собою мать и дочь: дочь Мотрёнька Кочубей. Зачем Пушкин назвал Мотрёньку «Марией»? Разве не благозвучно было бы это имя в поэме? — Вероятно. А может быть, Пушкину неизвестно было настоящее имя знаменитой дочери Кочубея.
Горница, в которой сидят мать с дочерью, не похожа на то, что в настоящее время разумеется под комнатами лютей среднего состояния а в особенности богатых. Это ни зала, ни гостиная, ни кабинет, ни столовая, ни уборная, ни спальня, — просто горница. Четыре окна её выходят непременно в «вишнёвый садочек». Вдоль двух стен горницы тянутся широкие лавки, которые сходятся в переднем углу, украшенном богатою киотою. В киоте блестят иконы в золотых и серебряных окладах. Самый бога тын оклад на образе «Покровы», это наиболее почитаемая икона украинца.
У других стен горницы несколько резных, с прямыми стенками стульев, и там же шкапы и поставцы, наполненные серебряною и золотою посудою. Особенным богатством отличаются кубки, между которыми есть и дорогой, итальянской работы. Верхние половины шкапов стеклянные, а нижние глухие, с глухими дверцами. Дверцы эти изукрашены рисунками, малёванными масляными красками. Рисунки большею частью из народной жизни и истории, а также из священного Писания и нравоучительные. Так на одном изображены два человека, стоящие друг против друга; у одного в глазу нарисован сук, а у другого целое бревно. Подпись гласит:
У ближнего в оци бачишь маленькiй сучок, А в себе не бачишь здоровый дручок.На другом рисунке изображены «казак» и «москаль»; последний держит первого за полу, которую первый обрезывает саблей. Подпись: «Вид москаля полу врижь та втикай». На третьем рисунке: «козак» и «лях», которые жмут друг другу руку, а козак другую руку держит за пазухой. Подпись гласит: «3 ляхом дружи, а каминь за пазухою держи».
«Стара Кочубеиха» смотрит ещё женщиной не старой и красивой, но в этой красоте не видно уже привлекательности, нежности и обаяния молодости. Скорее в красоте этой есть что-то отталкивающее, жестокое и надменное. Движения её изобличают желание властвовать повелевать, и если сфера этого владычества является ограниченной, то она превращается в семейный деспотизм, в форме держания мужа под башмаком, а детей в ежовых рукавицах. Перед Кочубеихой прислуга должна непременно трепетать, ходить в страхе Божием и исполнять приказания госпожи, а движения её бровей и глаз, мановения руки и понимать, её молчание. Недаром Мазепа, которому Кочубеиха немало насолила, называл её женою гордою и велеречивою.
— На Кочубеиху треба доброго муштука, як на брикливу кобылу, — не раз говорил он.
— Як бы не вы, Иван Степанович, — замечал на это лукавый Семён Палий, — то вона б давно була гетьманом.
Кочубеиха, подойдя к Мотрёньке, стала рассматривать лежащую перед ней книгу.
— Кто се тоби дав таку книгу? — спросила она.
— Пан гетьман, мамо, — отвечала Мотрёнька.
— От-ще! Старый собака, задумав вчити чужу дитину.
— Ну вже яко-бо ты, мамцю! За що ты его не любить! — возразила девушка, глядя на мать. — Вин такiй добрый…
— Добрый, як кит до сала.
— Та ни бо, мамо, вин мени и ласощив дае.
— Знаю, бо сам дуже лысый...
— Та за що ж ты его, мамцю, не любишь? — настаивала Мотрёнька, ласкаясь к матери.
— За те, що ты ще дурне, — отвечала Кочубеиха, гладя голову дочери.
— Та ну бо, мамчику, скажи, за ви що? — ласкалась девушка.
— Выростешь, тоди сама знатимешь.
— Ах, мамо! Та я выросла вже...
— Выросла, тa ума не вынесла.
— Ну, яка-бо ты мамо... мени вже скоро симнадцатый рик буде…
— Знаю... а молоко мтеринськое он ще и доси на губах не обсохло... — И Кочубеиха тронула Мотрёньку по губам.
— Ни, обсохло, мамцю, — лукаво возражала девушка. — Я знаю, за що...
— А за що бо? Ну, скажи, Мотрона Васильивна, будте ласкови.
— Не скажу, мамо.
— От дурне!
— Ни, не дурне... Я чула, як ты раз таткови казала: «Коли б не сей старый собака, Мазепа, ты б давно був гетьманом»...
— Що ж, воно й правда... Вин уже чужiй вик заидае.
— Та ни бо, мамо, ним вже не такiй старый.
— А якого ж тобi ще?
— Хочь вин и старый, мамо, та вжавый, умный, вин кращiй вид молодых...
— Тю на тебе! От сказала!
— Та правда ж, вин мов и не старый.
— А знаешь, якiй вин старый? — сказала Кочубеиха, поправляя монисто на шее у дочери. — Оце намисто вин тоби подарував, як хрестили тебе, та й казав, що сему намистови вже сорок лет буде, що коли вин женився, то подарував его своiй невисти, а теперь тоби... Та ще дуже мы тоди смiялись, як хрестили тебе… Як пип, отец Матвiй, облив тебе свячёною водою та положив тебе ему на руки, вин, Мазепа, дивлячись на тебе... а ты була така малесенька, мов рачок маленькiй... и каже! «от дивчина так дивчина», каже, «а нижки яки малюсеньки — Господи! — а коли выростут, каже, то так-то любенько бигатимут по мoiй могильци»... От тоби й могилка!.. А батюшка, отец Матвiй, и каже: «Не загадуйте-ка, пане гетьмане, попереду Господа Бога: у его своя черта на наши могилки. Може на вашу труну, каже, дерево ще и з земли не вылазило: може, коли оце нова раба божа Мотрона выросте, то вы б до ней й сватив прислали, та тильки пани гетманова вас за чуб вдержит»... Ото смиху було!
При последних словах матери девушка задумалась. То, что говорила мать, для неё было совсем не смешно. Старый Мазепа встал перед нею и каком-то чарующем обаянии, с его загадочным, угрюмым, задумчивым взглядом, в котором светилась молодая прелесть и ласка, когда он смотрел на Мотрёньку... Эти задумчивые глаза смотрели на её маленькие ножки, когда он, после купели, держал её на руках и думал: «Эти маленькие ножки будут бегать по моей могиле... могила травой зарастёт»... Нет! Эти живые глаза старого гетмана не заглядывают ещё в свою могилу, они заглядывают далеко вперёд, как глаза гоноши, смело глядят в таинственное будущее, и это будущее обаятельно манит к себе Мотрёньку.
Мотрёнька росла какой-то загадочной девочкой. Она не походила на других детей Кочубея, и, когда девочке было пять лет только, мать её, гордая Кочубеиха, державшая свой дом в таком же строгом повиновении, в каком батько-кошевой держал Запорожскую сечь, упрекала, бывало, пучеглазую Мотрёньку: «Та ты в мене така неслуханья дитина, ще вже й в пелюшках було пручалася, мов козиня, та из колиски кожен тоби день литала... В кого воно й уродилось, прости Господи»! А оно уродилось, пожалуй, в неё же самое — в Кочубеиxу... «Тильки було прокинеться, вже й кричит у колесци: «Не хочу, мамо, не хочу»! Се бач, не хоче що б iй мыли й обували... И сам лизе з колиски, та бебех до долу, писне трошки, та й мовчит, не плаче, а тильки сопе... Як не дотянут бувало, то воно вже й гоня по двору босе та расхристане... А було прiймаешь его, спитаешь: «Та чи вмивали тебе, Мотю?» Так воно й одриже: «Мене, мамо, каже, дрибен дощивмив», або воно, непутно, «росю, каже, вмивалося... О така дитина!»
Мазепа, как крестный отец и бездетный, тоже не мог не обратить внимания на этого бедового ребёнка. «Се у тебя, кумо, царь-девица росте», — говорил, бывало, старый гетман, любуясь своею хорошенькою крестницей, которая, сидя у него на коленях, теребила его за усы и за чуб; «а мени не дав Бог такой утихи»... Кроме гетманских усов и чуба, Мотрёнька любила также забавляться гетманскою булавой, которую старик, когда у него гостила крестница, тихонько от старшины давал девочке «програтись». Не было, кажется, просьбы, которую старый гетман не исполнил бы ради своей крестницы. «Попроси воно в мене Батурин, и Батурин отдам, тильки гетьманства не отдам, бо воно, мале дивча, до ваших, панове, чубив ручками не достане» — обращался он, бывало, к своим полковникам, держа на руках маленькую Мотрёньку.
Когда Мотрёнька стала большенькою, уже она не любила обыкновенных детских игр и выдумывала для себя собственные развлечения. У неё был целый завод и домашней, и приручённой птицы, а также равных зверей, начиная от ручных зайцев, ежей, кроликов и кончая сайгаками. Журавли, аисты, лебеди, пеликаны — всё это бродило на её птичьем дворе, а когда поутру Мотрёнька являлась к своим любимцам, то звери и птицы наперерыв старались завладеть её вниманием и лакомыми яствами, с которыми являлась к ним девочка.
Врождённая ли впечатлительность и самоуглубление или любовь к рассказам о сверхъестественных силах и явлениях, о чарах, скрытых в природе, необыкновенна разнили в девочке воображение. Когда ей уже было лет пятнадцать, она ночью ходила в лес отыскивать цвет папоротника для того, чтобы с его помощью облететь весь мир и посмотреть, что в этом мире делается. Особенно её тянуло в те неведомые страны, где, по народным рассказам, томились на «турецких галерах» казаки-невольники, думу о которых она никогда не могла слышать без того, чтобы в конце концов не разрыдаться.
В то время, когда началось наше повествование, крестнице Мазепы было уже шестнадцать лет. Девочка выровнялась в статную, стройную, прекрасно развитую женщину, которая казалась несколько старше своих, в сущности, ещё детских лет. Но эта возмужалость пришла к ней вместе с её южным, горячим темпераментом, в котором сказывалась немножко восточная кровь, кровь Кочубеев, может быть, хаджи-беев, давно забывших своё татарское гнездо и превратившихся в коренных украинцев. Необыкновенно живая, впечатлительная, страстно стремительная, Мотрёнька с годами становилась всё сдержаннее, ровнее. Быстрые движения кошки превратились в движения плавные полные непринуждённости и грации. Только цвет волос и какой-то глубокий свет чёрных глаз изобличали что-то жаркое, азиатское, смягчённое необыкновенною мягкостью лицевых очертаний. Но грёзы детства не отлетели от неё с возмужалостью, и если она не искала цветка папоротника в шестнадцать лет, как искала его несколько раньше, то взамен этого мысль её и живое воображение развёртывали перед нею картины всего мира, среди которых не последнее место занимали далёкие, никогда не виданные моря, с плавающими по ним галерами турецкими... А на галерах эти «бедные невольники»... А вдали, на азиатском берегу, на серой скале, висящей над морем, стоит девушка и ломает себе руки... Это — Маруся Богуславка...
Несколько лёг Мотрёнька прожила в Киеве, в одном из женских монастырей где она, под надзором настоятельницы и наиболее образованных монашенок, докончила своё образованье, начатое дома. В монастыре её часто навешал Мазепа, который всё по-прежнему любил и баловал свою крестницу и всегда с интересом расспрашивал настоятельницу об успехах своей любимицы. И Мотрёнька с своей стороны всё более и более привыкала к старому гетману. Она даже узнавала топот гетманского коня, котла Мазепа, в особенности по праздникам, заезжал в монастырь или во время обедни, или после службы. Когда он входил в церковь, то, не оглядываясь, Мотрёнька узнавала о его приближении и всегда была рада его видеть, тем более, что он или привозил ей вести от отца и матери, или оделял её и подружек-монастырок разными «ласощами».
Как дома, так и в монастыре Мотрёнька проявляла несколько большую самостоятельность характера и пытливость, чем того желали бы её родители и нос питателя, взросшие на преданиях и на законе обычая, столь крепком в то старосветское время. Дома она ходила искать цвет папоротника, бродила одна по лесу, чтобы встретиться с «мавкою» или русалкою; но искания её оказались напрасными. В монастыре она задалась упрямым решением помогать выкупу обидных невольников» из турецкого плена. С этой целью каждую церковную службу, особенно же в большие праздники, она вместе с матерью казначеею и другими инокинями обходила всех молящихся в церкви, таская огромную кружку с надписью: «на освобождение пленных», и часто к концу службы кружка её была битком набита медью, серебром и золотом... «На битных невольников... На страдающих в пленении», — шептала она, погромыхивая звонкою кружкою, к карбованцы сыпались в кружку черноглазок клирошанки...
Однажды Мотрёнька произвела в монастыре небывалый, неслыханный соблазн... Дело было таким образом. Монашенки постоянно твердили, что женщина не может входить в алтарь, что она — нечистая, что раз она вступила в святая святых, её поражает гром: Мотрёнька решилась войти в святая святых, но не из шалости, а ко страстному влечению того чувства, которое влекло се ночью в лес за цветком папоротника... Три дня она постилась и молилась, чтоб очиститься, и наконец, когда церковь была пуста, со страхом вступила в алтарь... Там она упала на пол и жарко молилась, благодарила Бога за то, что она — не нечистая... В этом положении застала се старая монастырская «мать оконома» и остолбенела на месте... «Изыди, изыди, нечистая!.. Огнь небесный пожрёт тя!» — завопила старушка... Мотрёнька тихо поднялись с колен, приложилась к кресту, благоговейно вышла из алтаря и радостно сказала изумлённой «окономе»:
— Матушка! Бог помиловал мене... Вин добрый, добришiй, ниж вы казали...
Девочка была строго наказана за это; но Мазепа, которому мать игуменья пожаловалась на его крестницу, с улыбкой заметил:
— Вы кажете, матушка, що дивчини не след у олтарь ходить, що дивчина не чиста... А як вы думаете, мать святая, дяк Опанас, то по шинках, да по вертепах, да по пропастях земных вештаеться, чище над сю дитинку божу?
На это матушка игуменья не нашлась что отвечать.
С годами Мазепа всё больше и больше привязывался к своей крестнице. Иногда ему казалось, что он был бы счастлив, если б судьба послала ему такую дочку, как Мотрёнька. С нею он не чувствовал бы этого холодного, замкнутого сиротства, которое особенно стало чувствительно для старика после смерти жены, более сорока лет делившей его почётное, но тягостное одиночество в мире. Мир этот казался для него монастырской кельей, острогом, из которого он управлял миллионами свободных, счастливых люден, а сам он был и несвободен, и несчастлив. Да и с кем он разделил бы свою свободу, своё счастье? Кому он нужен не как гетман, а как человек?.. на высоте своего величия он видел себя бобылём, круглым сиротой, гетманской буланой, перед которой все склонялись, но которую никто не любил. Хоть бы дети! Хоть бы какие-нибудь семейные заботы, горе, боязнь за других! Нет, ничего нет, кроме власти и отчуждения!..
Иногда на старика попадала страшная, смертная тоска... Для кого жить, зачем? Чего искать? Личного счастья? Но какое же у булавы личное счастье! Да и какое может быть счастье под семьдесят лет! Отрепья старые, жалкие обноски, сухое перекати поле, зацепившееся за чужую могилу…
Хоть бы дети! Так нет детей! Никого нет! Какое проклятое одиночество!
Есть дети... усатые и чубатые «детки-козаки»... А он их «батько»... Но не радует и дети, «детки»... Не радует вся Украйна-матка… Для неё разве жить? Её оберегать. Но надолго ли? Кому она потом, бедная вдовица, достанется? Разве не начнут её опять трепать и москали, и ляхи, и татары? А ей бы пора отдохнуть, успокоиться...
А там, по ту сторону Днепра, «тогобочная Украйна» тоже мутится... Семён Палий широко загадует... Палий свербит на языке поспольства, на языке всей Украины... Скоро Мазепа и на Украйне останется вдовцем, бобылём.
Такое мрачное раздумье нападало на старого гетмана всякий раз, когда ему нездоровилось. К тому же и из Москвы приходили тревожные вести: царь разлакомился успехами... Этою весною он уже стал пятою на берегу моря, и не сбить его оттуда... А оттуда, разохотившись, повернёт опять на Дон, поближе к этим морям, да и на Днепр, да на всю Украйну...
— А ты, старый собака, чого дивишься! От вин загарба твою стару неньку, Украйну, и буде вона плакать на риках вавилонских... О, старый, старый собака!..
Так хандрил старый гетман, взволнованно бродя по пустым покоям гетманского дворца в Батурине, в то время когда Кочубеиха, застав свою дочь за чтением Димитрия Ростовского, заговорила о Мазепе и о том, как он когда-то крестил Мотрёньку.
— Занедужав, кажуть, дидусь, — заметила кстати Кочубеиха.
— Хто, мамо, занедужав? — спросила Мотрёнька.
— Та вин же, гетман.
Девушку, по-видимому, встревожили слона матери. Она давно привыкла к старику, привязалась к нему, её привлекал его светлый ум, его ласковость, а ещё более сто одиночество, которое девушке казалось таким горьким, таким достойным участия.
— Що в его, мамо? — спросила она торопливо.
— Та всё то ж, мабуть...
— Та що-бо, мамочко?
— Певне, подагра та хирагра... Чому ж бильше бути в его! Нагуляв соби... Час и в домовину...
— Ах, мамо, мамо! Грех тоби... А вид подагры, мамо, можно вмерти?
— Як кому... Вин уже сто лит вмирае, тай доси не вмер...
Девушка ничего не отвечала, слова матери слишком возмущали её. Но она решилась навестить больного старика, как он навещал её в монастыре, и потому оставила без возражения то, против чего в другое время она непременно бы восстала.
После разговора с матерью Мотрёнька вышла «у садочек» и нарвала там лучших цветов, которые, как она знала, нравились старому гетману, особенно когда ими была убрана его крестница. Ей так хотелось утешить, развлечь бедного «дидуся», который всегда, бывало, говорил, что Мотрёнька чаровница, которая всякую боль может снять с человека одним своим щебетаньем.
Нарвав цветов, она направилась к дому гетмана через свой сад, за которым тянулись гетманские усадьбы. На дороге встретился ей отец, который шёл вместе с полтавским полковником Искрою. Лицо Кочубея просияло при виде дочери, Искра тоже любовался девушкою.
— Да се ты, дочко, идёшь? Чи не на Купалу? — ласково спросил отец.
— Якiй сегодня, тато, Купало?
— Та як же ж? Якого добра нарвала, повни руки... Хоч на Купалу.
— Та се я, татуню, до пана гетьмана... Мама каже, вин занедужав...
— Та що ж, ты его причашать идёшь?
— Ни, тату, так... щоб вони не скучали...
— Ах ты моя ясочка добра! — говорил Кочубей, целуя голову дочери.
— Та як же ж, татуню, мини жаль его...
— Ну, йди-йди, рыбочко... Вид твого голосу й справди полегшае...
— Бувайте здорови! — поклонилась она Искре.
— Будемо... А дайте ж и мини хоть одну квиточку — улыбнулся Искра.
— На що вам?
— Та хоч понюхати... може й мини легше стане...
— Ну нате оцей чернобривец...
— Овва! Самый никчёмный... От яка...
Девушка убежала. Она знала, что Искра, как истый украинец, любивший «жарты», долго не оставил бы её в покое; а ей теперь было не до «жарт».
У ворот гетманского двора стояло несколько «сердюков», принадлежащих к личному конвою гетмана. Это были большею частью молодые украинцы, дета наиболее «знатных» малороссийских семейств, из коих Мазепа, воспитанный на польский лад, старался искусственно выковать что похожее на европейское дворянство и польское шляхетство, положительно несовместимое с глубоко демократическим духом казачества и всего украинского народа. Молодые люди, скучая бездействием, выдумали себе забаву: они свели на единоборство огромного гетманского козла с таким же великаном, гетманским бараном. И козел, и баран давно жили на одном дворе и всегда враждовали друг против друга: козел считал своею территорией ту часть гетманского двора, где помещались конюшни, а баран считал себя хозяином не только около поварни, но и у самого панского крыльца, и при всякой встрече браги вступали в бой. Теперь «сердюки» заманивали их за ворота и раздразнили того и другого. И козлу, я барану они присвоили названия сообразно ходу тогдашних политических дел; козел у них изображал «москаля», а баран — «шведа».
В то время, когда на улице показалась Мотрёнька, бой между «москалём» и «шведом» был самый ожесточённый, козел, встав на задние ноги и потрясая белой бородой, свирепо шёл на своего противника; а баран, стоя на одном месте и понурив голову, с бешенством рыл землю ногами. В то время, когда козел не успел пройти половину пространства, отделявшего его от противника, баран разом ринулся вперёд, и противники страшно стукнулись лбами. Сила удара со стороны барана была такова, что козел осел на задние ноги и замотал головой.
— Крипись, москалю!
— У пень его! У пень, шведе!
— А ну ще, москалю! Не той здоров, то поборов...
Но голоса сердюков разом смолкли, когда они увидели, что рассвирепевший козел, заметив идущую но улице Мотрёньку, поднялся на дыбы и направился прямо на неё... Молодые люди оцепенели от ужаса, растерялись, не зная, что делать, куда броситься. Девушка также растерялась... А страшное животное шло на неё... расстояние между ними с каждым мгновением ока уменьшалось.
Но в этот момент из кучки сердюков бросается кто-то вперёд, в несколько скачков настигает козла и хватает его за заднюю ногу... Животное спотыкается, ищет нового врага, оборачивается, и в это время остальные сердюки окружают его. Тот из них, который первым столь самоотверженно бросился на разъярённое животное остановил его, поднялся с земли при немом одобрении товарищей. Он был бледен. Глаза его смущённо смотрели в землю.
Девушка первая оправилась от испуга. Подойдя к тому, кто первым бросился на её защиту, она остановилась в нерешимости. Молодые сердюки также чувствовали себя неловко.
— Спасиби вам, — первою заговорила девушка, обращаясь к тому, который оказался находчивее прочих. — Чи вы не забились?
— Ни, Мотрона Василивна, — отвечал тот, не смея взглянуть на девушку. — Простить нас, Бога ради, мы вас налякали.
— Як вы? Вы тут не винни…
— Ни... се наши играли... Се мы, дурни, его рассердили... Тильки не кажить, буде ласкави, панове гетьманови, що вы злякались...
— Не скажу... на що казати?.. Я не маленька…
— Щире дякуемо... А то вин нас со свиту сжеве...
— Не бiйтесь... А оце вам роза за те, що вы смилый козак.
И девушка подала ему розу. Молодой сердюк взял её, повертел в руках, понюхал и воткнул за околыш шапки.
— О, якiй лицарь! — засмеялись товарищи.
— Козинячiй лицарь. — пояснил тот, кому досталась роза.
Девушка также засмеялась. Она не знала, что этот «козинячiй лицарь» будет играть важную роль в её жизни... Это был Чуйкевич...
Пройдя мимо часового, ходившего около крыльца гетманского дома, девушка из светлых сеней вступила в большую приёмную комнату, увешанную оружием и бунчуками. На пороге встретил её огромный датский пёс, видимо, обрадовавшийся гостье.
— Здоров, Цербер, — сказала Мотрёнька, гладя красивое и ласковое животное. — Пан дома?
Пёс радостно залаял, услыхав про пана, которым он эти дни был недоволен: эти дни пан такой хмурый, сердитый, что как ни виляй перед ним хвостом — он не замечает этого собачьего усердия и ничем не поощрит его.
Из приёмной девушка отворила дверь в следующую комнату и приостановилась на пороге. Это была также довольно просторная комната со стенами, украшенными картинами и портретами. Одна стена занята была стеклянным шкапом с книгами, я вдоль другой на полках блестело серебро и золото. Сайгачьи головы с рогами, кабаньи морды с огромными клыками и чучело громадного орла довершали украшенье этой комнаты.
Остановившись на пороге, девушка увидела знакомую широкую спину и такой же знакомый, плоский седой затылок. Мазепа, нагнувшись над столом, рассматривал лежавшую на нём ландкарту.
— Од Днипра за Случ, а там за Горынь, а там за Стырь и Буг до самого Кракова... Так, так... А од Кракова Червоною землёю до Коломiи, а од Коломiи до самого моря... Ото усе наше... Де била сорочка та прямый комир, то наше... Ох, бисова поясниця! — бормотал старый гетман, водя пальцем по карте.
— Добри день, тагу... Здоровеньки були, — тихо сказала девушка.
Согбенная спина старика мгновенно выпрямилась. Он обернулся, и хмурое, усталое угрюмо-болезненное лицо его осветилось радостной улыбкой. По серым, глубоко запавшим глазам прошло что-то тёплое...
— Се ты, ясочка моя... Спасиби, доненько…
У старика дрогнул голос, он остановился... Девушка быстро подошла к нему и поцеловала руку.
— Помогай би, тату, — ещё тише сказала девушка, — що вы шукаете там? — Она указала на карту.
Старик, взяв её за руки и грустно глядя ей в глаза, так же тихо отвечал:
— Могилы соби шукаю, доненько.
— Якои могилы, тату любый? — и у неё голос дрогнул.
— Глыбокои, глыбокои, доненько, могилы, щоб почиваючи в нiй, моя сидая голова плачу людського не чула, шоб очи мои стаpiи, сырою землёю присыпанiи, не бачили больше твоей головки чернявенькой, щоб замист горя сумной едноты, в сердци моим черви-гробаки мишкали... Глыбокои, глыбокои могилы шукаю я, доненько моя.
В голосе старика звучала глубокая, тихая, безнадёжная тоска, словно бы в самом деле он хоронил себя... Девушка чувствовала, что к горлу её приливают слёзы... Она крепко сжала старые руки.
— На що могилу!.. Не треба могилу, таточко... Не треба вмирати... Що болит у вас?
— Душа болит, доню... Прискорбна душа моя даже до смерти, — говорил старик, садясь около стола и усаживая около себя девушку. — Для чого я живу? Кому на корысть, на утиху? — продолжал он как бы сам с собою. — Ни дитей у мене, ни ближних... Ближнiи далече мене сташа, и аз в мире семь точiю в пустыне пространной... О! Ты не знаешь, дитятко, яке то велико горе, сиритство старости! Яки довги, страшни ночи для старика безридного!.. Оце ходишь, ходишь по пустых покоях, слухаешь витру або лаю собачого, ждёшь сонця... а сонце прiйде, и воно не грiе... Так лучше в домовину, та в могилу, щоб не бачить ничого и ничого не чути. Де мои други и искреннiи? Нема их! Один Цербер друг мiй и товарищ, пёс добрый и вирный... Буде з мене и пса, бо я гетьман, игемон великiй народу украиньского... Та Господин Боже Miй! И Бог Саваоф, игемон видимого и невидимого мира — и той не одни, и той в Тройци. А я, я один, один, як собака!
Он остановился. Девушка грустно си топила голову, машинально перебирая цветы, положенные сю на стол.
— Се ты мени, доню, на могилу принесла? — тихо спросил Мазепа, дотрагиваясь до цветов.
— Бог з вами, тату! — с горечью сказала девушка и тихонько смахнула слезу, повисшую на реснице.
— Бог... Бог зо мною... истинно... А ты знаешь, дочко, что есть посещение Божие? — как-то загадочно спросил, он.
— Не знаю, тату.
— Ох, тяжко Его посещение!.. Посети Бог мором и гладом... Огнём посети Бог страну, вот что есть посещение Божие!.. А мене посетив Бог горькою самотою.
Острою болью по сердцу проходили эти безнадёжные слова одинокого старика, эту острую боль чувствовала девушка в своём сердце, и слёзы копились у неё на душе... Бедный старик! И власть, и богатство, и почёт — всё есть, а душа тоскует... Девушка не знала, что сказать, чем утешить несчастного...
— А вы б чаше до нас ходили, тату, — сказала она, не зная, что сказать.
Мазепа горько улыбнулся и опустил голову.
— До вас?.. Спасиби моя добра дитина.
— Далибы, таточку, ходить... А то он вы яки... могилу шукаете... Мене вам и не жаль...
И девушка вдруг расплакалась, Она припала лицом к ладоням, и слёзы так и брызнули между пальцами.
Старик задрожал, эти слёзы ребёнка не то испугали его, не то обрадовали...
— Мотрёнько! Мотрёнько моя! Дитятко Боже, сонечко моё весиннее, рыбочко моя, — бормотал он, сжимая и целуя чёрненькую головку. — Не плачь, моя ясочко, ластивочко моя! Я не вмру, я не хочу вмирати... Я буду довго, дсвго жити... Подивись на оцю бумагу, — и он поворачивал плачущую голову девушки к лежащей на столе ландкарте, — подивись оченятами своими ясенькими... Я не могилу шукав соби, ни! Я мир я в нашу Украйну-неньку... Она яка вона! Дивись, як вона разлаглася: од Сейму до Карпатив и от Дону до самой Вислы... Оце всё наше буде, доненько моя, всё твоё буде... Ты хочешь, щоб вино всё твоё було? — спросил он, загадочно улыбаясь.
— Як моё, тату? — девушка отняла руки от заплаканного лица и глядела на старика изумлёнными глазами.
— Твоё, доненько... Оце всё твоё буде: и Батурин, и Киев, и Черкасы, и Луцк, и Умань, и Львив, и Коломия, и вся Червона Русь, и Прилуки, и Полтава, всё твоё, як они твоя запасочха червонепька, як оци твои корали на шiйци биленькiи… Тоби жалко мене, дочечко моя?
— Жалко, тату.
— И твои очнията карiе плакатнмуть на моей могильци?
— Тату, тату!
Девушка опять заплакала. Мазепа опять начал утешать её.
— Ну, годи-годи, серденько моё, не плачь... Я не буду... Подумаем лучче, що маем робити... Мы ще поживемо... Коли ты хочешь, щоб я жив, я буду жити.
— Хочу, таточко...
— И ты будешь до мене старого ходыти, як теперь прiйшла, рыбочко!
— Буду... хочь кожен день…
— И ты не скучатимешь с старым собакою?
— Ну, яки бо вы, тату!
— Так не скучатимешь?
— Не скучатиму... я таки буду жити з вами.
Опять загадочным светом блеснули старые, помолодевшие глаза гетмана.
— А твои батько й мати? — нерешительно спросил он.
— Та то ничого... вин добрый... А мати, може, й вони ничого...
— А сама ты хочешь до мене?
— Та хочу ж бо! Яки вы!
Мазепа задумался. Он хотел ещё что-то сирость, но не решился.
— Так будемо жити, — сказал си после непродолжительного молчанья. — Ты глени даси и здоровье, и мододiи годы... А я вже думав кинчати мои писеньку... А писня моя тильки ще зводиться...
Куда девалась и подагра, и хирагра! Мазепа бодро заходил по комнате. Седая голова его гордо поднялась, и просветлевшие глаза глядели куда-то вдаль...
— Чи чит, чи лишка?.. Чи Петре, чи Карло, — бормотал он, нетерпеливо встряхивая головою, словно бы на неё садилась докучливая муха. — О, Семёне, Семёне Палию... мы ще не мирялись с тобою... Помиряемось... чи чит, чи лишка... О, моё сонечко весиннее!..
V
Семён Палий... Почему Мазепа вспомнил о нём при воспоминании о Петре и Карле? И почему он желал бы с ним помериться?
Эти вопросы очень беспокойно занимали Мотрёньку после её свидания с Мазепой, да и многие другие мысля наводнили её впечатлительную головку после разговора с старым гетманом, разговора, подобного которому она ещё ми разу не вела в жизни ни с Мазепой, ни с кем-либо другим.
И что сталось с гетманом? То он ищет могилы, говорит, что встосковался на этом свете, не глядел бы на мир Божий в своём одиночестве; то обещает ей, Мотрёньке, всю Украину, как вот эту червоную плахту... И отчею ей не жить с ним, чтоб он не скучал? У него нет детей, никого нет на свете, не так, как у них, у Кочубеев: и братья, и сёстры, и родичи... А он один, бедненький, как былиночка в поле.
Но что ему сделал Палий? И зачем они все четверо сочились: Мазепа, Палий, Пётр-царь и Карл-король? Надо было расспросить кого-нибудь. Но кого?
«Маму хиба? Так мама ни Палия, ни Мазепы не любит... А хиба татка? Татко добрый. Так татко смiячиметься... «Пиди, скаже, в цяцю, пограйся»... От кого спытаю? Стару няню, вона всё знае...»
Так думала Мотрёнька, ворочаясь с боку на бок в жаркой постели... А тут ещё этот «соловейко» не даёт, спать, щебечет тебе под самым окном всю ночь, точно ему, сорокоуст заказали; щебечи да щебечи от зари до зари...
Да и ночь, как на беду, жаркая, тихая, душная, лист на дереве не шелохнёт, воздух куда-то пропал, нечем дышать человеку. Вместо воздуху в окна спальни пышет душный запах цветущей липы, точно и она задыхаемся. А этот «соловейко» так и надрывается, так и стучит, кажется, под самое сердце.
«А той сердючок молоденький що цапа за ногу пiймав... Якiй чудний... Козинячiй лицарь... И яки в его очи чудни... А ну, буду думати про цапа, може й засну... Цапцак, у цапа роги, у цапа борода мов у москаля... Цап... цап... Мазепа... Палий... Петро... Карло... А те молоденько москальча, що весною плакало у садочку? Царськiй, бач, денщик, Павлуша Ягужинский, а плаче мов дивчинка... А що се соловейко всё одно спивае?.. А може й ранок близько... Подивлюсь у викно...»
И Мотрёнька осторожно сползла с кровати, чтобы пробраться к окну, выходившему в сад. Она была в одной сорочке, босиком и с распущенной косой, потому что не любила спать ни в чепчике, ни с заплетённою косой... А теперь же так жарко!.. Вот она идёт к окну, а в окна кто-то смотрит. Ох! Да это белые цветы липы, это они так п-пнут...
— Оце вже! Чи не коров доити? — послышался вдруг голос из-за угла спальной.
— Ах, няня! Як на мене злякала. — Это была старуха нянька Устя, спавшая. У панночки на полу.
— Де злякати! Сама злякалась... Думала, видьма йде розхристана, простоволоса...
— Еени, няню, жарко, не спится...
— Може, блишки кусают?
— Ни, няню, блох нема... А так жарко. Я всё думаю про Палия…
— От тоби на! Чи тебе не сглажено часом?
— Ни, няню. А ты бачила Палия?
— Бачила, панночка... Що се вин тоби приснився?
— Не приснився, няню, а я так думала… Якiй вин, няню?
— Та старый, дуже старый. Такiй старый як ота тополя у перелазу… От, сказать бы, я стара: ще коли жив був старый Хмиль-Хмильницкий и мене замиж отдавали, так и тоди Палий був уже старый-старый, аж сивый… От уже я семый десяток по земли вештаюсь, симсот, може раз на мене смерть косою замахувалась, симсот, може молоденьких дубкив, що мини на домовину росли, посохло й позрубавано, а я всё, мов бовкун-зилля, бованiю на свиси, а Палий Семён так и передо мною такiй ветхий, як я перед тобою, моя зеленька ягидка.
— А якiй вин, няню, из себе?
— Великiй та понурый, а очи оттаки, а вусы орераки, сиви та довги, мов ретязи...
И старуха, сидя на полу, показывала, какие огромные глаза у Палия и какие длинные усы.
— Що ж вин робе, няню?
— Татар, та ляхив, та жидив бье. Яму так вид Бога наказано.
— А сам вин добрый?
— Такiй добрый, рыбко моя, такiй добрый, що и сказали неможно... Бo вин од святой золы уродивсь...
— Як от святой золы, няню?
— Так, от золы... В его й батько не було, тилько мати...
— Як-же-ж се, няньцю, я не розумею.
— А от-як, рыбко моя... Оце був собчи чоловик та жинка, а в их дочка Олёнка. От и поихав той чоловик у поле орати. Оре та й оре, коли хрусь! Щось, хруснуло пид плугом у земли... Дивиться чоловик, аж то голова чоловича, та така велика голова, мов казан... От и дума тот чолович: «Се мабуть великого лицаря голова, такого лицаря, що вже давно перевелись»... От вин и взяв ту голову, дума: «Нехай, батюшка пип над нею молитву прочитае, та помьяне, та водою свячёною скропить, та но христiянськи поховае...» Прiихав до дому той чоловик и голову с собою привиз та й положив iи на лаву, а сем сив вечеряти... Повечеряв, а голова всё лежит на лави. А жинка, глядючи на голову, и каже: «Мабуть голова ця на своим вику богато хлиба переила». А голова й каже: «Вуде вона ще исти…»
— Ох, няню! Се мертва готова сказала? — с испугом спросила Мотрёнька, поглядывая на окно.
— Та мертва ж, рыбко.
— Ох, як страшно!
— Чого страшно, рыбко? Се од Бога.
— Ну, няню?
— Ну, голова й воже: «Буду я ище исти...» От жинка та як злякаеться, та у пич ту голову й кинула... И стала та мертва голова белою золою... Выгрибли золу у горщик, поставили на лави, щоб москалям на поташь продати... А дочка того чоловика, що найшов голову, не знала, що то зола, думала, що силь, та й посолила соби кусочек хлиба, так маленькiй шматочок, и зъила. Та важкою ото и стала…
— Важкою, няню! Як се-б-то?
— Важкою, рыбко. Ты сего не знаешь ще... Бог iй сына дав... од золы...
— Ну, няню, се казка…
— Яка казка?
— Та казка ж, няньцю!
— А Палий казка?
— Ни, няню, Палий не казка.
— Так то, бач, рыбонько, и був сам Семён Палий, от золы родився... Тоди вин ще не був Палий, а просто Семеиик Гурченко, бо его мати була Гурченкова... Той чоловик, що найшов мертву голову, був Гурко.
— Якiй Гурко? Що в Борзни?
— Та вин-же-ж борзеньскiй, рыбко... Ото Гурки в Борзни, то его родичи по матери та по дидови, а сам вин од золи родився, вид попилу... Ему б, бачь, треба було бути Золенком, або Попилченком, а вин сам себе зробив Палием...
— Як-же-ж се, няню?
— А от-як, рыбко... Як той Семёник, що вид попилу родився, став парубком, от и захтив козакувати: «Пиду, каже, мамо, а та пиду в Запороги». От и пишов. Йде-йде, дивиться, Запороги стоят, горы страшенни. На горах тих запорозци стоят та й дивляться, смiются: «як-то вин, молоденькiй хлопчик, на гору страшенну злизе... Бо посередини гори, рыбко, на великому камини сидит, не к ночи будь сказано, сидит сам...» — старуха остановилась.
— Хто сам, няню?
— Та чёрный, рыбко.
— Якiй чёрный?
— Та нечистый, сказать бы, чертяка...
— Ну? Се впьять казка, няню.
— Ни, не казка, рыбко. От сидит та козинячими нижками тупотить та рогами в гору бье...
Мотрёньке вспоминается козел, который сегодня шёл на неё, потрясая бородой и рогами, и ей становится смешно...
— Так у его, няню, роги як у цапа?
— Як у цапа, рыбко... От вин сидит та нижками тупотить, та рогами в гору бье... А Семёник як стрелит из мушкета, як загуркотить по горах, дивляться козаки, аж там, де сидив нечистый, одно поломья паше та смола пекельна кипить... Се, бач, Семёник, чорта убив, спалив его. От запорозьци й кажуть: «Оце так козак! Оце так Палий, самого чорта спалив. А кошовой и каже: «Ну, брате, будь же ты Палием, та йди на Вкраину, та пали оттак усяку нехристь, як ты дидька лисого спалив». И с того часу став вин Палием.
— Ах яка-бо ты, няньцю, — возразила Мотрёнька, — та се ж не про Палия розсказуют, а про святого Юрия, як вин чёрта спалив.
— Эге, рыбко, то таки святый Юрко, а се Палий... От и пишов Палий за Днипр на Вкраину. Иде та и иде. Як оце побаче татарина, так зараз из мушкета лусь! — и вбив татарина. А як побаче ляха, то зараз шаблюкою брязь — и стяв головку у ляшка. А як побачить жидовина, то зараз на аркан его, та на осину и повисить, як собаку... Так од самого Запорожка до Вкраниы и проложив великiй шлях: зараз знати, де йшов Палий, оце тут татарин застреленный валяеться у степу, а тут лях порубанный лежить, а тут жидовин повишенный висить, так и знати Палиеву дорогу... А сам вин, Мати Божа! Такiй, що его ни пуля не бере, ни шабля не вруба, мов зализо. А оце як начнуть козаки с татарами або з ляхами битись, то Палий сам гарматы заряжае навхресть и бье за двадцать вёрст, а чужи гармати до его не достают. А кинь у его такiй, що ледве земля его держит, а на простого коня вин только руку положит, так то кинь на землю пада. А шабля в ёго в пьять пуд, така важка. Як оце якiй козак провиниться, то Палий и дае ёму свою шаблю нести, так тон бидный аж стогне, не пидниме нести, а други козаки с ёго смiються... Оттакiй-то, рыбко, тот Палий...
А «рыбка» между тем, слушая болтовню старушки, спала крепким сном. Упав горячей головой на руки, положенные на подоконник, она долго прислушивалась к щёлканью соловья и к монотонному говору старой няни; перед нею проходили, словно в тумане, образы Палия и Мазепы, которые сливались как бы в одно лицо, и только у Мазепы старые глаза искрились слезою, и Мотрёньке стало его жалко-жалко... То выступал этот молоденький белокурый сердючок с пышною розою на шапке, то шёл на неё никогда не виданный ею москаль Пётр в виде огромного «пана»... И сон неслышно подкрался к ней под щёлканье соловья, так что когда няня подошла к ней, то увидала только белую спину, до половины прикрытую белою сорочкою, да чёрные косы, густыми прядями лежащие на подоконнике... В окно уже заглядывала заря чудного, просыпающегося утра…
— А воно вже й спить... От дурна дитина! — тихо бормотала старуха, качая головой. — От дурне! Як-же-ж я ёго теперь положу на лижко, вже мене его не пидняти на руку: слава Богу, выросло... Он яке-спасиби Богови, ввгодовалось: здоровеньке та повнотиле та кругленьке мов яблочко червоне, и не вщипнешь его... А де ж его подняти! Мене, стару, переросло... О-о-хо-хо! А чи давно ж ёго на руках носила, кашкою, мов горобчика, годувала?.. Молоде росте, як твой мак цвите, та як мак и опадае: сонечко пригрie, витрець повiе, весь цвить розвiе... Поки дитина, поти й горя не знае, писни спивае та в косу стрички заплитае... Спи-спи, дитятко, пока кисою свитешь, горенька не знаешь... A прiйде час, и его пизнаешь...
— У могилы темно-темно, — слышится сонный лепет девушки.
— Господь с тобою, рыбонька, яко могила...
— Гетман могилу шукае...
— И нехай шукае... Можа й могила его шукае давно, та не найде... А ты, дитятко, лягай спати...
— Я, я, няню, сплю...
Старушка тихо приподняла голову панночки. Та не сопротивлялась...
— Иди же, рыбко, лягай...
— Иду, няню... нехай соловейко щебече…
— Спи, спи, моё золото черноне...
Девушка, поддерживаемая старухой, улыбаясь сквозь сон, перешла на кровать.
— Нехай соловейко щебече, а ты кажи про Палия, — бормотала она в полусне.
VI
Недаром занимал Палий и Мазепу, и Мотрёньку. В одинаковой мере он занимал и царя Петра, когда он, твёрдо ступив своею пятою на берег Невы и воткнув трезубец в пасть Швеции, мечтал уже поразить этим трезубцем и турецкую пасть в устьях Днепра.
Что же был Палий для Петра и Пётр для Палия?
Палий, действительно, был борзенский казак, как уверяла и Устя, старая няня Кочубеевны. Родовая фамилия его действительно была Гурко, а уже после, по народному обычаю, он получил проявите Палия, с которым и перешёл на страницы истории, как последний представитель исторически вымиравшего казачества «тогобочной», Правобережной Украины, хотя сам родился в Левобережной Украине.
Тихим, добрым, ласковым «хлопчиком» рос Семёник в своём родном городидшке. Хлопчик этот всегда казался робким, застенчивым, а если его и любили товарищи-хохлята, то именно не за казацкие качества, а за то, что он был добрый и деликатный, «як дивчина». Обыкновенно эти качества нравились сверстникам; таких они называют «мизями», «плаксами» и другими подобными укоризненными «дражненiями». Но Семёника Гурченка, напротив, любили за эти качества, потому что с восковою мягкостью характера в нём амальгамировалась необыкновенно стойкая честность, самоотверженность и беззаветная доброта. Не умея плавать, он бросался в воду вытаскивать утопающих товарищей; голодный сам, он отдавал свой кусок голодной собаке, и чем существо, взятое им под покровительство, было жальче и беззащитнее, тем более убивался над ним Семёник. Под внешней робостью и застенчивостью в нём крылись поэтические инстинкты, и он любил степь больше, чем обработанное поле, горы и леса предпочитал садам Борзны, а пустыню его воображение населяло целым миром таинственных существ.
Когда Семёника отдали учиться в Киевскую коллегию, он показал необыкновенные способности, и здесь он уже начинал проявлять себя так, как потом проявлялся всю жизнь: он становился нечувствительно центром и головою кружка, в котором вращался; он всегда знал больше всех, успевал делать больше всех; все товарищи, пугаемые латынью и всеми школьными чудовищами, прибегали к Семёнику, и Семёник разгонял эти чудовища с такою лёгкостью и скромностью, что товарищи невольно преклонились перед этою ласковою «дивчинкою».
Но вот он выучился, вырос, стал «козакувать»... Застенчивая «дивчинка» встречает другую, более бойкую «дивчину» с «довгою косою» и «бровями по шнурочку»... Начинаются свиданья «у вишнёвому садочку», по ночам, чтоб не стыдно было, «щоб не соромно бело дивчину обнимати»... Целовались-целовались, и доцеловались «до рушников»… Вот и руки поп связал «рушниками»... А всё Семёнику и в церкви «соромно» было при людях взглянуть на свою невесту...
Оженился Семёник и овдовел... Где утопить горе великой потери, где размыкать тоску одиночества? Такие робкие, застенчивые натуры не скоро забывают «своё»... Где этот омут забвения? В степи в пустыне, где от Украины осталась одна «руина», за Днепром, далеко от родины...
И Семён Гурченко пропадает словно в воду канул...
Вынырнул он в Запорожье: это уже Палий, «такий казак, якого в роду-вику не видано»...
Но и в Запорожье заскучал он. Не такого простора искала душа его, не по сердцу ему была собачья жизнь: или сидеть сторожевой собакой, или ловить в поле татар, словно волков, Душа его искала дела живого, творческого... И затосковал он…
Нередко казаки и рыбаки видели Палия бродящим по берегу Днепра и об чём-то думающим. То сядет он на горе и смотрит куда-то своими добрыми глазами...
— Кто даст мне криле, яко голуби не и полечу? — часто шептал он молитвенно.
И он улетел из Запорожья. Видели его истом на той стороне Днепра, в польской Украине.
Что же он там делал? Его неудержимо влекла к себе «руина» Украины, пустынная местность, бывшая когда-то цветущею страною, а потом свидетельницею кровавейших войн казачины с поляками, местность, на которой Хмельницкий добивал господство ляха над украинцем и где потом преемники его добили самую казачину... Местность эта была разорена, разорена самым безбожным образом, как не разорена была когда-то даже Палестина, посыпанная римскою солью. Западная Украина была залита кровью, и над ней произнесено было проклятие земных владык: вывести из неё на левый берег оставшееся в живых население, и пусть она навеки останется «руиною».
Среди этой-то «руины» и явился Палий. Что он нашёл там, этого он не мог забыть всю жизнь!
Страна лежала в развалинах; но и развалины уже перегнивали окончательно, прорастали травой и могильною плесенью... На мосте обширных, цветущих некогда сёл — кучи мусора, золы, разносимой ветром, и обуглившихся брёвен... Кое-где уцелели трубы от домов, размытая дождём глина и кирпичи от печей, да какой-нибудь покосившийся одинокий столб, свидетельствовавший, что здесь когда-то стояли дубовые казацкие ворота, которые вели во двор, полный детьми, стариками, «дивчатами» и «молодицями», и ничего этого не осталось, ничего, кроме следов старого кладбища с торчащими кое-где крестами... Старики померли где-то в пути в новый казацкий Иерусалим, дети повырастали вдали от родины, «дивчата» и «молодицы» похоронили своих женихов и мужей под «руинами» дорогой Украины... Бурьяном позаросли обширные сельские площади, а следы улиц ещё хранят намять о прошлом в кое-где сохранившихся колеях от железных ободьев тяжёлых возов чумацких... И поля, вместо пшеницы, поросли бурьяном, среди которого кое-где белеются кости человеческие, кости казаков, павших за эту дорогую «руину», когда она ещё не была «рунною».
Заплакал Палий, когда увидал эту пустыню, усеянную сухими казацкими костями, и долго плакал он, припав лицом к крутой шее своего любимого коня...
— О чём плачешь ты, сын мой? — раздался вдруг голос позади его.
Палий вздрогнул... Кому быть в этой пустыне, проклятой Богом и людьми?.. Оглянувшись, он увидел старика, седая борода которого спускалась до пояса. На голове у него была скуфейка, нечто среднее между восточной фесой, только чёрной, и монашескою шапочкой. В руках у него был большой дорожный посох, а за плечами кожаная сума. В лице старика было столько доброты, а в чёрных глазах столько искренности и какой-то детской незлобливости, что Палий сразу узнал в незнакомце человека не от мира сего...
— О чём слёзы твои, сыне мой по благословению? — повторил незнакомец, осенняя крестом Палия, у которого на груди блестело большое серебряное распятие.
И вид, и благословение незнакомца расположили Палия к полной искренности.
— Плачу я над сею пустынею и над костями человеческими, отче, — отвечал Палий.
— Плачь, сын мой... дороже фимиама слёзы сии пред Господом... Ты тутошний?
— Ни, отче, тогобочний.
— А ради какого дела пришёл сюда?
— Поклониться праху предков моих, и сердце моё разорвалося при виде сей руины... Богом проклята, видно, отчизна предков моих...
— Не говори сего, сыне...
И незнакомец, сняв с плеч котомку, достал из неё толстую книгу в кожаном переплёте.
— Читаешь, сын мой? — спросил старик.
— Читаю, отче.
— Раскрой пророка Иезекииля главу тридесять седьмую, — сказал старик, подавая книгу Палию.
Палий отыскал указанное место.
— Чти, сын мой.
«И бысть на мне рука Господня, и изведе мя в Дусе Господни, и постави мя среди поля, её же бяше полно костей человеческих», — читал Палий.
— Се поле, и се кости, — сказал старик, указывая на пустыню. — Чти далее.
«И обведе мя окрест их около, и се многи зело на лицы поля и се сухи зело, — продолжал Палий дрожащим голосом. — И рече ко мне: сыне человечь, оживут ли кости сия? И рекох: Господи Боже, ты веси сия. И рече ко мне: сыне человечь, прорцы на кости сия, и речеши им: кости сухия, слышите слово Господне: се глаголет Адонаи Господь костем сим: се Аз введу в вас дух животен, и дам на вас жилы, и возведу на вас плоть, и простру по вам кожу, и дам Дух мой в вас, и оживёте, и увесте, яко Аз семь Господь»...
Палий остановился от волнения. Кинга дрожала в его руках. На него, ничего не боявшегося, напал страх, не страх, а священный ужас...
— Отче святым, мне страшно, — тихо сказал си, боясь взглянуть на незнакомца.
— Не бойся слова Божия... чти дале...
«И прорекох, я ко же заповеда ми Господь (читал Палий, бледный, растерянный). И бысть глас, внегда ми пророчествовати, и се трус, и совокупляхуся кости, кость к кости, каяждо к составу своему. И видех, и се быша им жилы, и плоть растяще и протяжеся им кожа вверху, духа же не бяше в них. И рече ко мне: прорцы о Дусе, прорцы, сыне человечь, и рцы духови: сие глаголет Адонаи Господь: от четырёх ветров прииди душе, и вдуни на мёртвые сия, и да оживут. И прорекох, яко же повели ми, и внииде в ня дух жизни, и ожиша, и сташа на ногах своих, собор мног зело...»
Палий зарыдал и упал на колени.
— Отче снятый... благослови мя... — молился он.
— Встань, сыне... Я грешный человек... встань...
— Ох! Боже! Боже! Оживут ли кости сия? — рыдал Палий, целуя книгу.
— Оживут, оживут, и будет собор мног зело.
— Благодарю тя, Господи Боже! Благодарю тебя, отец святый!.. Но кто ты?
— Я скажу тебе, кто я... Ты в Хвастов едешь?
— В Хвастов, огне.
— Так пойдём вместе, дорогой ты всё узнаешь...
VII
— Я, Юрий Крижанич, словенин, из Загреба, града цесарского, — начал свой рассказ незнакомец. — Ныне возвращаюсь в отчину свою из Москвы, отряхнув прах московский от ног моих, чтобы лечь в родную землю. Многотрудна была жизнь моя, сын мой, но я не жалею о том, что потрудился и пострадал ради великого дела. Я вижу, что ты истинно любишь страну свою, и я открою тебе то великое дело, ему же я отдал и жизнь мою, и душу мою. Деда сне благословил Бог бессмертием, и подобно тому, как воскресил сухие кости человеческие под дуновением Духа Божия, так воскреснет дело сие под дуновением духа жизни.
Крижанич остановился. Палий вспомнил, что слышал когда-то это имя, но, где и от кого, не припоминал.
— Разверну я перед тобою, сын мой, свиток жизни моей, и ты узришь, куда привела меня нитка моей жизни, — продолжал Крижанич. — Родился я в Загребе граде и в оном же отдан был в книжное научение. С детства осталось в моей памяти нечто обидное, горькое: уже в школе немчата тыкали в меня перстами и попрекали меня тем, что я словенин, «склавин» — раб сиреч... Ты разумеешь, сын мой, латинскую речь? — вдруг обратился он к Палию.
— Разумею... Я учился в Киевской коллегии.
— Так ты поймёшь меня, яко человек просвященный... Так я и пошёл с отрочества за «раба». В Вене потом учился я, и наименование «раба» не снимали с меня, а глумились ещё более над гноим несчастным рождением от матери-рабыни. Но жажда знания росла во мне с годами; я отправился к самому источнику мудрости человеческой, в университет, в Болонию. Я жадно пил из сего источника, как только может пить раб, чающий своего освобождения. Но на мне тяготело проклятие, на мне оставались следы словенской проказы: я был словенин. Из Болонии ушёл я в Рим, а словенская проказа была у меня за плечами: и в Риме я чувствовал себя прокажённым... Но не было Христа, который исцелил бы меня, а если бы и исцелил, то оставались бы миллионы прокажённых словен... Я много трудился, сын мой, много писал, а жажда моя всё ещё не была удовлетворена, ибо жажда сия превратилась и жажду вечную; я думал найти Христа, который бы снял проказу с словенского тела... Я направил стопы мои в Царьград, с мыслью поискать и там Христа для спасения словенского рода; но там я нашёл токмо алчность и лживость греческую, и вспомнил бытописателя вашего, преподобного Нестора: «Суть бо льстиви и до сего дне». Там же я нашёл, что словенские народы превратились в вола подъяремного под турскою властью, и некогда славные болгаре, сербы и илирцы стали притчею во языцех… Тогда я обратил мои взоры на север, к великому народу российскому, не найду ли там спасителя словенства, который бы снял проказу с тела словенского. Пришед в Вену я обратился к бывшему там посланнику московского царя, к Якову Лихарёву с товарищи. Лихарёв усердно звал меня на службу в Московию, обещая мне царское жалованье такого, «какого-де у тебя, Юрия, и на уме нет…» Но не жалованья искал я, а спасителя словенского.
Крижанич опять остановился. Седая голова поникла в раздумье и изредка вздрагивала.
— И что же, отче, нашёл в Москве, кого искал? — спросил Палий, грустно глядя на старика.
— Нашёл...
Крижанич опять остановился. Видно было, что тяжело говорить ему, что в памяти, его разбередились какие-то раны, ещё не зажившие. И Палён молчал. В его душе слышался чей-то таинственный голос: «Сыне человечь, оживут ли кости сия?..» И ему казалось, что пустыня оживает, совокупляются сухие кости кала иксе, коси, к кости, каждая к составу своему, и кости связываются жилами, и растёт на них плоть, и плоть покрывается кожей... Боже! Какой собор люден! Конные и пешие, и знамёна веют по воздуху, и бунчуки косматые развиваются, и чубы казацкие по ветру распущены...
— Да, нашёл я, сын мой, нашёл в Москве... ссылку, Сибирь, — продолжал как бы про себя Крижанич.
— Ссылку? Сибирь?
— Сибирь, сын мой... В Сибирь послал меня царь искать Спасителя словенства...
На лице Палия выразилось глубокое изумление.
— Который царь сослал тебя? — спросил он.
— Тишайший.
— И долго ты пробыл в Сибири?
— Пять надесять лет, до смерти Тишайшего.
— За что же сослали?
— Богу одному ведомо... Но думаю, что по какому ни на есть подозрению: боялись меня. А может, и за то, что царю докучал я своим словенским делом... О! Тяжко было мне, сын мой, говорить с человеком, от которого зависит спасение всего словенского мира и который не разумеет своих выгод. Я говорил ему: посмотри, державный владыко севера, как гнётся под немецким и турецким ярмом выя болгарина, словенина, хорвата, серба, илирца, чеха... Он уподобляется Христу, ведомому на распятие и несущему свой страстный крест, а ты, о, царю: уподобляешися Агасферу, не токмо не помогшему Спасателю нести его тяжкий крест, но и не давшему ему успокоения при доме своём... я громко вопиял к царю: помни, о царю, участь Агасферову; не поможешь ты ныне словенам снять с себя тяжкий крест мученичества, этот крест падёт на выю твоих преемников, царей российских, и тогда крест сей будет ещё тяжеле, — тяжеле целыми веками страданий Словенских народов. Вместо тысяч жертв во искупление словенства преемники твои принесут на алтарь словенства миллионы жертв, ибо России не избыть того, что предопределено ей провидением. Чем раньше совершится сне, тем легче самое совершение. И не ради себя должен ты сделать сие, а ради их: не думай завоевать их, расширять твоё царство насчёт словенских народов, ты только освободи их, и ты будешь в тысячу крат сильнее и могущественнее того, чем ежели бы ты покорил их под власть свою...
Старик снова умолк.
— Чудна, чудна Москва, — проговорил про себя Палий в раздумье.
— Ты что говоришь, сын мой? — спросил Крижанич, как бы очнувшись от забытья.
— Так кажу, дурна Москва, — отвечал Палий по-украински.
— Истинно дурна: выгод своих не разумеет…
— Так за щож царь розсердивсь? — продолжал по-прежнему Палий.
— Не царь, а бояре, думаю... Я говорил царю: покорение словенских народов всё гибель Московского царства: сие покорение будет не иное что, как самоукушение скорпиево... Покоривши дунайских ли словен, ляхов ли, болгар ли. Москва, всенепременно наложит на них железную цепь тяжких законов царя Ивана Грозного и царя Бориса-татарина: она наводнит словенские земли своими темниками и баскаками, приставами да целовальниками, боярами да стольниками, дьяками да подьячими; и сне зло злее зла турецкого, злее яду немецкого...
— Се-б то дуже правда, — покачивал головой Палий.
— Какое не правда! Познал я московскую душу: её и в десяти водах не вываришь...
— Так-так... Он и у нас на Вкраине, Москва вже свои порядки заводит, така вже московска натура ижаковата...
— И я сие сказывал царю.
— Що ж вин?
— Милостиво молчал и шубу с плеча своего пожаловал мне...
— А там и гайда! У Сибирiю?
— Да, сын мой.
Палий даже рассердился. Он передвинул свою курпейчатую шапку с одного уха на другое и с досадою остановился.
— Так це всё бояры?
— Бояре, кому ж больше: они и царя обманули.
— Ах, гаспидовы дити! От ироды! А царь и не знав ничого?
— Ему доложил», якобы мне «надобеть быть у государевых дел, у каких пристойно», и сослали в Тобольск.
Рассказ Крижанича произвёл на Палия тяжелее, удручающее впечатление. Опять перед ним вставало поле, усеянное костями человеческими: но кости, эти еже не оживали. «Не оживут кости сия», — звучала под, сердцем плачущая, погребальная нота... Кто поможет воскресению сухих костей? На кого надежда?
Крижанич угадал его мысль и кротко посмотрел на него глазами старческими, ясными, как у юноши, глазами.
— А всё-таки, сын мой, оживут кости сия, — с глубоким убеждением сказал он.
— Хиба Духом Святым? — грустно заметил Палий.
— Духом животным, сын мой... А кто ты? Как имя твоё? Я и не спросил тебя.
— Я Семён Палий, из Борзны... Був запорожцем, а теперь... — Он остановился.
— Хочешь оживить кости сии?
Палий молчал, вера в Москву вновь была глубоко потрясена.
— Не отвещай, я знаю, — продолжал старик, — я умею читать душу человеческую на лицах людей... Я прочитал твою душу... Ты оживишь кости сии...
— Как же, отче? Научи!
— Знаешь, сын мой, как засевают поле, поросшее волчцами?
— Знаю.
— Засей же поле сие пшеницею, и волчцы погибнут... кости оживут... Как зерно выходит пшеничным стелем и колосом, так кости сие взойдут людьми живыми... Живая пшеница за Днепром: кликни клич, и пшеница сама придёт сюда, и ты засеешь ею сие поле мёртвое, и «оживут кости сии»...
Палий видел, что эта мысль отвечает его собственной, давно лелеемой мечте. Ещё будучи в Запорожье, он много думал о судьбе западной, Заднепровской Украйны, и ему казалось, что безбожно было бы оставлять её «руиною». Эта «руина» под боком у Киева. Ксёндзы уже угнездились в Хвастове и, как пауки, начали растягивать свои цепкие нити по Волыни, Подолии и Полесью. Сухие кости казацкие уже хрустят под копытами панских коней...
А тут этот таинственный, неведомо откуда явившийся старик с апостольскою бородою я речью пророка, с этим не от мира сего выражением глаз, читающих душу чужую, как раскрытую книгу, эта мёртвая тишина степи, нарушаемая лишь иногда мерными замахами белых крыльев луня, словно разыскивающего по «руине» погибшие казацкие души, да звонкий клёкот в вышине орла, не находящего себе добычи, всё это сковывало впечатлительную душу Палия священным ужасом… Кто этот старик? Куда он идёт, чего ищет?
«Бысть человек послан от Бога... к своим прiйде, и свои его не познаша» — невольно повторяется евангельский стих.
— Сеять, сеять подобает на новой ниве — говорил как бы сам с собою старик. — А сеятели лукавы суть…
— Какие сеятели, отче?
— Лукавые... Одни — Дорошенок, гетман сегобочный, другой — Самойлович, гетман тогобочный... Оба они сеют на чужое поле, — продолжал старик про себя, не поднимая головы.
— А третий сеятель?
— Мазепа...
— Осавул енеральный?
— Он... Се диавол в образе сеятеля... Плевелы он сеет, и заглушат сии плевелы всю Украйну...
— Да ом ещё не гетман.
— Будет гетманом... Гетманскую булаву он уже носит за пазухою, у сердца лукавого.
— А Дорошенко и Самойлович?
— Дорошенок на турскую ниву сеет словенское добро, а Самойлович на московскую, на боярскую... никто не сеет на свою ниву, на народную...
Крижанич остановился. Сгорбленная спина его выпрямилась. Он положил руку на плечо Палия и глянул ему прямо в очи.
— Семён Иванович, — сказал он медленно.
Палий вздрогнул от этих слов, он точно испугался чего, и с недоумением глядел на старика.
— Как ты познал моё имя? — робко спросил он.
— Я давно его знаю, и тебя знаю, — загадочно отвечал Крижанич. — Хочешь добра земле своей?
— Хочу, видит Бог.
— Помнишь историю народа израильского?
— Помню.
— И работу египетскую?
— Помню, отче.
— И Моисея?
— Всё помню.
— Будь же Моисеем народа украинского... Изведи из плена латинского в сию Палестину... Помни, сын мой, что сила народов в согласии их... Когда оживёт пустыня сия и кости сухие восстанут, и будет собор мног зело, соедини десницу народа украинского с шуйцею, тогобочную страну с сегобочною, и тогда не страшно для вас будет жало латинское... Жало сие злее жала скорпия для словенского рола: Польша уже гнить начинает от сего змеиного яда и сгниёт она... А вы останетесь и живы будете... Придёт время, вы познаете других братьев своих, словен... О! Много горького будет между братьями, горькую чашу испити имать род словенский... Но горечь сия, верь мне, будет ему во спасение... Только помните: Concordia parvae, res crescunt...
Крижанич остановился, как бы что-то припоминая. Палий не прерывал его молчания, он был слишком взволнован.
— Прими же моё благословение, — снова заговорил Крижанич, — и не забывай меня, сын мой... Не забывай и словес моих, не мои то словеса, а Божьи: я умру, а словеса сии не умрут... Я теперь иду на родину, и там, на краю гроба, став ногою у самой могилы своей, крикну к словенскому роду: «От четырёх ветров прииде, о душе словенеск, и вдуни на мертвыя сия, и да оживут!..»
Много лет прошло со времени встречи Палия с старым энтузиастом Крижаничем. Сам Палий стал уже ветхим, хотя бодрым стариком. И Крижанич, и Дорошенко, и Самойлович отошли в вечность. Мазепа вынул гетманскую булаву из-за пазухи и царствует над Украйною в качестве холопа царей московских...
А Палий всё засевает «руину» новою человеческою пшеницею... О! Как мощно взошла новая великая нива украинская! Какой налила богатый, ядрёный колос яровая пшеница Заднепровья!
Бывшая «руина» опять превратилась и страну, текущую молоком и мёдом... Ожила заднепровская казаччина... Сухие кости ожили, и стал собор мног зело...
Как оживали эти сухие кости, как скреплялись жилами, покрывшись плотью и кожею, об этом, благосклонный читатель, зри почтенных историков: Соловьёва, Костомарова, Антоновича, Кулиша, и в особенности Костомарова, который уже заготовил и полотно, и краски, и кисти для создания великой картины «руины» и её воскресения... Я же, благосклонный читатель, поведу тебя туда, куда не смеет проникнуть историк, и покажу то, чего историк показать не может. Я поведу тебя в область творчества, черпающего свои идеалы из архива более обширного, чем все архивы государства, открытые историку, и, не отступая от исторической правды, покажу тебе самую душу исторических деятелей: для нас открыты самые сокровенные думы Палия; мы проникнем в тёмную глубину души Мазепы; мы подслушаем, как бьётся сердце у спящей Мотрёньки, о чём грезит эта «неслухъяна дитина».
Не спится и старому Палию в эту жаркую ночь, как не спится Мотрёньке..., Мотрёньке не дают спать молодые грёзы; беспокойное сердце колотится под горячею от жаркого тела сорочкою а Палию не дают спать старые думы…
О! Многое думается этой сивой, почти столетней голове казацкого батька... Вон каким пышным цветом цветёт «руина», некогда представлявшая обширное разрытое кладбище, усеянное сухими костями казацкими. Вог бы теперь прийти сюда тому старцу словенскому, Юрию, который благословлял эту степь своею старою, дрожащею рукою, да поглядеть на неё та поплакать от радости...
И усталые от бессонницы очи Палия плачут тёплыми, хорошими слезами.
Нет, не прийти уж, верно, старцу Юрию, где прийти. В могиле, поди, отдыхают его святые, нывшие за словенский род старые кости...
Тихо кругом, сонно... Палий выходит из своего дома, что в Белой Церкви, садится на рундучке и думает, думает, думает... Что за тихая ночь! Тёмное небо усеяно звёздами, много их, как много казаков на всей этой степи, но всей Хвастовщине и по Полесью... Вот уж сколько лет, словно пчёлы за маткою, летят в Хвастовщину казаки и голота со всех концов, все до Палия, до батька казацкого… И запорожцы чубатые идут «погуляти» и волохи черномазые целыми посёлками валят в Хвастовщину, и подоляне идут сюда же, и Червонная Русь, и Волынь, всё бредёт в царство батька козацкого, Палия Семёна Ивановича... Мазепинцы, левобережные, словно саранча, летят сюда же, и нету им удержу, не устеречь их караулам Мазепиным... И лютует на Палия старый, лукавый Мазепа. Да и как не лютовать ему! Сам видит, что у Палия житье людям привольнее, чем у него, в гетманщине. А сам и виноват же... Лядским ладоном прокурен Мазепа Иван Степанович, ляхом смердит от всего духа мазепинского, так и остался старый королевским пахолком, что блюда лизал в королевских передних, да и всех молодых, знатных казацких сынов в пахолков перевернуть хочет... Где ж тут, у чёртовой матери, хотеть, чтоб казаки его любили! Вон он, старый пахолок, панство на Украйне расплодить хочет, мало польское панство залило сала за шкуру народу украинскому! «До живых печёнок» дошло это панство! А он и своё, казацкое панство, на поругу народу разводит...
А эти ляшки-панки, словно осы в улей с мёдом, забрались в Украйну, да так и гудут около Мазепы в охотницких, да компанейских, да сердюцких полках... Так и этого мало, надо своих трутней в улей напускать... Ну, и напустил бунчуковых товарищей, землю у поспольства отнял, панщину завёл вражий сын, да ещё и на старого Палию лютует... То-то! Засел в свой Батурин, окопался, как в чужой земле, и носу показать без сердюков да московских стрельцов не смеет... Пропадёт за ним милая Украйна!
Вон недавно проезжал через Хвастав к святым местам поп московский, отец Иоанн, по отчеству Лукьянов, так говорил «не абы яке» про Мазепу...
— Крипко сидит там гетман? — спрашивал попа Палий.
— Да крепок-то он только стрельцами, и он, и Батурин его, на караулах все москали стоят, целый полк стрельцов живёт в Батурине. Анненков полк с Арбату...
— А народ, поспольство?
— Яко собака перед горячею кочергою... Коля б та стрельцы, то б хохлы его давно уходили, что медведя в берлоге, только стрельцов и боятся, а он без них не ступит и шибко жалует их, всё им корм, да корм, да пития всякие...
Поп этот московский, отец Иоанн Лукьянов, что от святых мест ехал на Белую Церковь, «таке чудна попиня»... Тупки, что провожали его с купцами по степи, боятся, говорит попик, Палия...
— Мы б с радостью и до Киева проводили, говорят, да боимся Палия вашего: он нас не выпустит вон от себя, тут де и побьёт...
— Чудни турки…
— То-то чудны... У нас, говорят, про Палия страшно грозная слава...
— Овва-бо! Яга вже там гризна!
— Ещё бы! Мы, говорит, никого так не боимся, как Палия. Нам де и самим зело хочется его посмотреть образ, каков де он?
И доброе лицо старика светится детски-старческою улыбкою.
— Образ... у мене образ. От дурни!
И старик, сойдя с рундучка, тихо побрёл через обширный двор к леваде, усаженный вербами. Начинало светать, но вербы со своими густыми низко опустившимися ветвями казались ещё совсем тёмными, и только и просветах между ними виднелось небо, розовые краски которого обещали прелестное утро. Две собаки, которые спали, разметавшись среди двора, словно бы уверенные, что не их дело лаять, когда не на кого, увидав хозяина, поднялись с земли и, точно по заказу, замахали хвостами, как бы говоря: «Ну, вот соснули мы маленько, а теперь за дело...»
— То-то, выспались, сучьи дити, — ласково бормочет старик, — знаете, що я, старый собака, не сплю…
У конюшни, распластавшись на соломе, спят «хлопцы», которые всю ночь гуляли «на улице» и напролёт всю ночь горланили то «Гриця», то «Ой сон, мати», то «Гоп, мои гречаники»...
— Эх, вражи сыны, набигались за ничь за дивчатами, — продолжает ласково ворчать старик.
А там кони, узнав хозяина, повысовывали морды в открытые двери конюшни и ржут весело...
— Що, дитки, пизнали старого? — обращается он к коням...
А вот и утро, совсем светло становится... Вдоль лева ты ко двору приближается конный казак и, узнав «батька» Палия, осаживает лошадь...
— Здоров, Охриме, — ласково говорит Палии.
— Бувайте здорови, батьку, — отвечает казак, снимая шапку.
— Звидки?
— Та з Kiива ж московського попа проводили.
— Отца Иоанна?
— Его же.
— Добре.
Казак что-то мнётся, конаясь в шапке. Вынув из шапки хуетку, он достаёт из неё что-то тщательно завёрнутое.
— Що в тебе у шапци там, кiевськiй бублик, чи-що? — улыбаясь, спрашивает Палий.
— Ну, батьку, не бублик.
— Так, може, гарна цяця?
— Ни, батьку... Ось-де воно гаспидьске, — радостно сказал казак, вынув из платка какую-то бумагу и подавая её Палию.
— Що се таке? — спрашивает этот последний.
— А Бог его знае, що воно таке е... писано щось…
— А де взяв?
— У Паволочи дали... У того козака найшли за скринею, де московскiй пип ночував... Можа воно яке там, Бог его знае, ще воно надряпано...
И Палий, развернув бумагу, прочёл: «А в Хвастове по земляному валу ворота частые, а во всяких воротах копаны ямы да солома наслана в ямы, там палиевщина лежит, человек по двадцати по тридцати, голы, что бубны, без рубах, нагие, страшны зело; а в воротех из сел проехать нельзя ни с, чем, всё рвут, что собаки: дрова, солому, сено, с чем не поезжай...»
— Бреше гаспидив москаль, — не утерпел казак, — бреше сучiй сын...
Палий улыбнулся. — Себ то ты попа так, Охриме?
Охрим смутится, но не растерялся...
— Ох, лишечко... Хиба ж се пип пише?
— Пип, Охриме.
— Так окрим его священства... А всё же бреше...
«А когда мы приехали в Паволочь, — продолжал читать Палий, — и стали на площади, так нас обступили, как есть около медведя, все козаки-палиевщина: и все голутьба беспорточная, а на ином и клока рубахи нет, страшные зело, черны, что арапы, и лихи, что собаки, из рук рвут. Они на нас, стоя, дивятся, а мы им и втрое, что таких уродов мы от роду не видали; у нас на Москве и на Петровском кружале не скоро сыщешь такого хоть одного...»
— А то-ж! Воно трохи и правда, — заметил старик, кончив читать и догадавшись, что это, вероятно, листок из дневника или путевых заметок отца Иоанна, оброненный о Паволочи.
Как бы то ни было, но листок этот заставил задуматься старика. По листку Палий мог судить, какие вести и в каком виде доходят о нём до Москвы, до бояр и до царя и насколько эти вести отвечают его задушевным, глубоко таимым от всех планам... Вести не лестные: они могут только бросить иди, на то, что всю жизнь лелеял Палии в своей казацкой душе, а теперь уже светилось вдали не то путеводною звездою, не то погребальным факелом... Ведь могила-то уж не за горами...
— Спасибо, Ох ним с... Прихода погодя, дило буде, — сказал старик и, поникнув седой головой, снова направился к дому, бормоча: «Билла Украина... коли-то твоё сонечко встане?»...
Солнце действительно вставало, но не то, которого искали старые очи Палия Семёна.
VIII
Много было в это время работы Палию, и было о чём подумать; и молодому черепу так впору бы лопнуть от дум беспокойных, от тяжкой неизвестности, которая тяготела над Правобережной Украиной, которую старые, но еже мощные руки Палия буквально вынули ил могилы, как о том пророчествовал Юрий Крижанич... Не хочет брать Палия с его воскресшею Украиною под стою высокую реку московский царь, да и как ему взять его и всю его буйную Палиевщину под свою руку, когда он шибко задрал шведского короля, отнял у него ключ к морю Варяжскому, и сердить Польшу не приходится. А взять Палия, значит, рассердить Польшу, потому: Палий-де полковник в подданстве состоит у польского короля, союзника царского, да вся Правобережная Украйна, вся Палиевщина — польская земля... То-то польская! Разодрали бедную Украйну по живому телу надвое: одну половину Москва взяла, другую, правобережную, дали польским собакам на съеденье... Так не быть же этому! Старый Палий все собачьи зубы переломает у ляхов, а не даст им Украины! Вон сколько поды в Днепре, что бежит к морю мимо Киева: то кровь да слёзы украинские, а не вода... Как же отдать всё это ляхам? Пускай лучше уж с мёртвого сымуг сорочку, когда Палий умрёт, а Украйну он не отдаст ляхам... Не Иуда он, чтобы продать Христа; да и Иуда и тот удавился… А то царь пишет, покорись ляхам, отдай им мать родную на поругу... Царю хорошо; он там у самого моря новый город строить начат, это он свечечку затеплил там в память пращура своего, Александра Невского... А Палию велит загасить свечу, что он затеплил над могилой Украйны... Нe бывать этому! Лоб расшибут поляки об стены Белой Церкви, что укрепил Палий. Не видать им, как своих панских ушей, ни Богуслава, ни Корсуна, ни всей Хвастовщины, ни Полесья, ни Побережья, всё это Палиево; умрёт, так Богу завещает свою отчину-Украйну, а не панам на прогул, да на пропляс, да на венгржин, да на мазура...
А и поп этот московский, отец Иван Лукьянов, подозрителен. И туда из Москвы ехал, в Царьград, так всё высматривал да вынюхивал и назад теперь с караваном торговых московских людей шёл, так тоже до всего докапывался. Уже не подослан ли кем?..
Вот уж и солнце высоконько взошло. Казак Охрим, что приехал из Паволочи, успел соснуть и идёт к батьку-полковнику, Палий сидит на рундуке, в холодку, под навесом своего дома, и завтракает: на белой скатерти, постланной на небольшом дубовом столе, стоит сковорода с шипящею яичницею; тут же на столе белая «паляниця», хлеб, огромный каравай, с воткнутым в него ножом; тут же и «пляшка» с «горилкою-оковитою», и серебряная с ручкою чара. Палий ест шипящую яичницу, прямо с сковороды, круглою деревянною ложкою... Тут же и собаки облизываются...
— Що, Охриме, выспався? — спрашивает старик, завидев казака.
— Выспався, батьку.
— А снидав?
— Снидав.
— А оцiеи не цилював? — указывает Палий на бутыль с водкой.
— Зачепив трохи, батьку, — улыбаемся Охрим.
— А ну, зачепи ще. — И Палий наливает чару.
Охрим бережно, словно чашу с дарами, берёт чару в правую руку, потом передаёт её левой, широко крестится, снова берёт чару в правую руку и опрокидывает её под усы, словно в пропасть...
— На здоровьячко, — говорит Палий, — утирая «рушником» губы.
— Не хай вас Бог милуе, батьку, — отвечает Охрим, ставя чару на стол.
— Теперь побалакаемо... Що там у вас у Паволочи?
— Спасибо Богови, усе горазд.
— Козаки не скучают?
— Скучают, батьку... На долонях, кажуть, шерсть пророста...
— Оттакои! Як на долонях шерсть пророста?
— Давно, кажуть, ляхив не били, тим и пророста.
— Эч, вражи дити... А що пани моя стара?
— Пани-матка здоровеньки, кланяются.
— А московського попа бачила?
— Бачили... вони ж его й привитали и обидом частували.
— А купцы московськи, ще з ним були?
— И их пани-матка частували. Не нахваляться москали: «от кажуть, так полковниця! Вона, кажуть, и цилым полком управит, хоч на войну, так поведе»...
— О! Вона баба-козак у меня, — улыбаясь и моргая сивым усом говорит Палий.
— Та козак же-ж, батьку…
— Козак-то козак, тилько чуб не так…
И Охрим оскабляется на эту остроту старого полковника.
— Москали казали, що пани-матка у нас така, як он у их Москви була царевна Сохвiя, козырь-дивка.
— Эге! Козырь-дивка... Высоко литала тильки царь iй крыла прибуркав.
Разговор шёл о второй жене Палия, на которой он женился уже в Хваставщине, когда начал превращать, «руину» в цветущую Украину. Палииха была женщина умная, энергичная, как раз под пару неугомонному старику, этому Иисусу Навину Заднепровской Украины, который на время остановил солнце западной Малороссии, склонявшееся к закату погружавшееся в мутные воды Речи Посполитой. В отсутствие мужа, который был в беспрестанных разъездах, то воюя с поляками и татарами, то сооружая крепости, Палииха правление полком и землёю в свои умелые руки, и из этих рук ничто не вываливалось: она отдавала приказы казацким старшинам, выслушивала их доклады, держала суд и расправу, принимала посланцев со всех мест: из Киева, из Батурина, от польской шляхты. Но всей Правобережной и частью по Левобережной Украине раздавалось имя «пани-матки», «Пнлиихи», почти столь же громко, как имена Палия и Мазепы.
Историческая судьба украинской женщины и женщины московской, великорусской, представляет собою явления, далеко не похожие одно на другое. На жизнь московской женщины, особенно боярыни и боярышни а равно жён и дочерей всех «лучших», по тогдашнему выражению, «людей», татарщина наложила вековую печать тюремности и замкнутости, печаль, которую пробовали было сорвать с этой отатаренной жизни первые вольнодумки русской земли — мать царя Петра Первого и сестра его, царица Наталья Кирилловна Нарышкина, и царевна Софья, но не осилили и которую уже сорвал сам Пётр вместе с кусками живого русского мяса и с переломом рёбер и голеней русской земли. Московская женщина ничего не знала и не видала, кроме терема и церкви. Эта тюремная жизнь скрашивалась только возможностью от утра до ночи, не разгибая спины, сидеть над нехитрыми рукодельями, шить и вышивать пелены, ризы да воздухи для церквей и попов, кроить и строчить для себя кики да повойники, да душегрейки, да иногда пропеть грустную песню.
Каторгу выносила московская женщина, а не жизнь, и из домашней тюрьмы-терема ей оставался одни-два выхода: либо в монастырь, в «темну келью», на новую тюремную жизнь, либо на погост, на вечное успокоение... Государственная, общественная и даже уличная жизнь проходила мимо московской женщины не задевая её, не интересуясь ею, и только задевало её время, проводя черты и резцы по её отцветающему лицу, вплетая серебряные блестки в её косу русую, вечно прикрытую, мало-помалу задувая огонь её очей... Выходила московская женщина замуж, не зная и не видя своего суженого: это была не радость для неё, а суд, суд Божий, да суд батюшков, да матушкин, за кого «осудили» её выдать, тот и «суженый» её, и этого суженого ни конём не объедешь, ни пешей от него не убежишь. И стала — исторически, наследственно,— стала московская женщина «бабою», у которой волос долог, да ум короток... А где было ей набраться этого ума, чем отрастить и обострить его?
Не такова была историческая судьба украинской женщины. Над Украиною не тяготела татарщина и не отатарила её, как землю московскую, не заперла украинскую женщину в терем. Над Украиною татарщина пронеслась ураганом, оставив повсюду следы разрушений; но отатарения там не было; после урагана историческая жизнь дала новые, свежие побеги. Эта своеобразная жизнь создала пресимпатичный и препоэтический тип вольного казака, который не терпел никакой узды, ни повода. Эта же жизнь создала и своеобразный тип украинской женщины, которая никогда не была ни рабою, ни теремным, бесполезно прозябаемым растением. Украинская женщина росла, часто, по целым годам, не видя ни своего «татка любого», ни своих «братиков милых, як голубоньких сизых», которые рыскали «по степах та по байраках», с ляхами да татарами воюючи, да своим казацким белым телом «комаров годуючи». Выходила украинская «дивчина» замуж всегда по любви, потому что, живя на свободе, любя до страсти «вулицю» и «писню», хороводясь с козаками-парубками по целым ночам на общественных сходбищах, видаясь с ними и тайно, то в «вишнёвых садочках», то «у тёмному лузи», то «коло криниченьки с холодною водиченькою», — она успевала изучить своего милого и знала, за кого выходила... А там глядит — её милый «стрепенувся та и полинув» с ляхом да татарвою драться, а у неё на руках — и дети, и хозяйство, «быки та коровы», та «волы крутороги»... Надо обо всём подумать, за всем усмотреть — чтоб и «быки та коровы не поздыхали», да чтоб и её «чорни брови не полиняли»... И вырабатывался из украинской женщины прелестнейший исторический тин — это тип самостоятельной женщины, самостоятельной везде, куда бы ни покатилось её жизненное колесо: если красота и несчастья родины делали её «полоняночкой», если она попадала в руки какого-нибудь паши-янычара, то и там становилась госпожою, либо — «дивкою-бранкою Марусею Богуславкою», которая самим нашею заправляла, либо султаншей вроде Роксанды из Рогачева, которая играла судьбою всей Оттоманской Порты, держа в своих красивых руках сердце и волю повелителя правоверных; если же она оставалась дома, то она в общественной жизни имела свой голос, а в семье она владычествовала нередко над самим «чоловиком»... Такова была старая Кочубеиха...
Тот же тип самостоятельной украинки представляла и Палииха. Московский поп Лукьянов, привыкший видеть московскую боярыню только на исповеди, на смертном одре, да в гробу, был поражён тем, что он нашёл в Паволочи. Этим местечком заправляла Палииха: она была и комендантом крепости, и полковником в местечке, и хозяйкою в своём доме.
Едва купеческий караван, с которым Лукьянов следовал из Цареграда в Москву, въехал в Паволочь и остановился на площади, как тотчас же был окружён любопытствующими казаками, у которых, как они жаловались, от скуки волосы стали прорастать на ладонях, долго, может быть, несколько месяцев не бравших сабель в руки. Лукьянов, который, проездов в Царьград, видел, как в Паволочи же его окружили казаки «голы, что бубны, без рубах, нагие, страшны зело», «все голудьба беспорточная», «черны, что арапы, и лихи, что собаки», — замечал теперь, что казаки смотрят уже не «голудьбою беспорточной», а порядочно одетыми, кроме тех, которые, «пропив штаны и сорочку», бродили в чём мать родила, одетые лишь солнечным лучом, да кое-где волосами...
— Видкиля, добри люде? — спрашивает один из таких молодцов, одетый лишь в солнечные лучи, подходя к каравану. Хотя он был весь голый, но на голове всё-таки красовалась казацкая шапка.
— Из Цареграда, родимый,— отвечает московский купчина, потолкавшийся по белу свету и всего видавший на своём веку. — Из самой турской земли.
— Добре... самого бисового сына козолупа бачили:
— Какого, родимый, козолупа?
— Вавилонську свиню...
— Не ведаю, родимый, — отвечает купчина в недоумении.
— Нашего Бога дурня, — настаивал голый казак.
— Не ведаю, не ведаю, родимый, про кого баишь, — недоумевает купчина.
— Та самого же салтана, иродову дитину...
— О! Видывали, видывали...
Увидев попа, голый казак, не забывающий своего человеческого достоинства, хоть оно и ничем не прикрыто, почтительно подходит к Лукьянову и, сложив руки пригоршней, протягивает их к священнику.
— Благословите, батюшка, козака Голоту.
— Господь благословит... Во имя Отца и Сына и Святого Духа...
— Аминь...
— Что это ты, любезный, без рубахи? — спрашивает священник.
— А на що вона теперь, батюшка? — в свою очередь невозмутимо спрашивает казак Голота. — И так тепло...
— Как на что, наготу прикрыть...
— На що ж прикрывати те, що Бог козакови дав? — озадачивает Голота новым философским вопросом. — Бог ничего худого не дав козакови...
— Так-то так, а всё же студно...
— Ни, батюшка, не холодно, саме впору…
Вот и говори с ним! Но в это время к каравану подходы хорошо одетый казак при оружии и также просит благословения у священника в свою массивную пригоршню. Получив его и как бы боясь просыпать, он продолжает держать перед собой пригоршню и говорит:
— Пани-матка полковникова прислала мене до вас, запрохати вас до господы.
— А кто это пани-матка полковникова? — спрашивает отец Иван.
— Пани-матка, батькова Палиива жинка.
— А! Спасибо-спасибо на добром привете... Ради ей, матушке, поклониться... Как с дороги малость приберёмся да пообчистимся, так и явимся к ней на поклон. Только где б нам, у какого доброго человека остановиться в избе?
— А в мене, батюшка, — радушно предлагается голый казак.
— У тебя, сын мой? — удивлённо спрашивает батюшка.
— Та в мене ж... У мене сорочки хоч и нема, так хата е: бо хату пропити неможно: пани-матка зараз чуприну почуха.
— Какая пани-матка?
— Та вона ж, вони ж, на в и полковникова... вони в нас строги...
— Ну, спасибо, друг мой... Где ж твоя изба?
— У миня не изба, а хата.
— Ну, пущай будет хата... Где ж она?
— А он-де, колы вербы, без ворот... Ворота пропив, та на що вони козакови?
И словоохотливый, радушный голяк, важно накрепив свою высокую смушковую шапку на бок, повёл гостей к своей хате.
— Хата добра… А жинка в мене умерла, от и некому сорочку пошити, — объяснял он отсутствие на себе костюма. — Були сорочки, що ще покiйна Хивря пошила, так як було подивлюсь на их, згадаю, як вона шила, та усякими стежками, та мережками мережила их, та зараз у слёзы... Ну, и пропив, щоб не згадувати, та не тужити по жинци...
И бедняк горестно махнул рукой. Две крупные слезы, выкатившись из покрасневших глаз, упали на пыльную дорогу.
И двор, и хата Голоты представляли полное запустение. Хата была новая, просторная, светлая. И снаружи, и внутри она была чисто выбелена, разукрашена красною глиною, узор на узоре, мережка на мережке!
— Се, бач, всё вона, Хивря, розмалювала... От була дотепна — грустно говорил бедняк, показывая гостям своё осиротелое жильё.
В хате то же запустение, словно недавно отсюда вынесли покойника, а за ним и всё, что напоминало жизнь, счастье... Стол без скатерти и солоницы, голые лавки, голые стены, голые нары без постели... Только под образами висело расшитое красною и синею заполочью полотенце, оно одно напоминало о жизни...
Гости, войдя в хату, набожно помолились на образа.
— Оце iи рушник Хиврин, — говорил Голота, показывая на полотенце. — Оцим рушником нам пип у церкви руки звъязав, на веки звъязав... Так смерть развъязала. Нема в мене Хиври, один рушник.
И бедняк, упав головою на голую доску дубового стола, горько заплакал... «Один рушник... один рушник зостався... щоб мене повиситись на ёму...»
Не более как через час после этого московские проезжие люди были уже на Палиевом дворе. Они несли с собою подарки для пани полковничихи: отец Иоанн нёс несколько крестиков и образков, вывезенных им из святых мест; купцы московские — кто турецкую шаль, кто сафьянные шитые золотом сапожки, кто нитку кораллов, кто коробок хорошего цареградского «инджиру».
Палииха встретила гостей на крыльце. Это была высокая, массивная, уже довольно пожилая женщина, на лице которой лежала печать энергии, а в обхождении проглядывала привычка повелевать. Серые, несколько стоячие глаза, которые в молодости подстрелили такого обстрелянного и окуренного пороховым дымом беркута, как старый Палий; орлиный нос с широкими ноздрями, для которых требовалось много воздуха, чтобы давать работу могучим лёгким; плотно сжатые хотя не тонкие губы, которые и целовались когда-то, и отстаивали вылетавшую из-за них речью права и достоинство этой женщины с страстною энергиею, — всё это говорило о цельности характера, о стойкости воли и недюжинном уме. На голове у неё было нечто вроде фески или фригийского колпака, спускавшегося на бок и закрывавшего её белокурые, густые, но уже посеребрённые временем и старостью волосы. На плечах — нечто вроде кунтуша, из-за которого виднеется белая, расшитая узорчато, сорочка с синею «стричкою» у полного горла и голубыми монистами на шее и на могучей груди. Сподиица — двуличневая, гарнитуровая. В руках — белая «хустка». На ногах — голубые «сапьянцы».
Ступив своей грузной, но свободной, мужской походкой навстречу отцу Иоанну, она наклонила голову, согнув только свою воловью шею и не сгибая спины, и ждала благословенья. Священник громко и внятно благословил и получил в ответ такое же громкое и внятное «аминь».
— Мир дому сему и ти, жено благочестивая!
— И духови твоему.
— Поклон тебе от супруга твоего, благородного полковника Симеона Иоанновича, и наше челобитье.
— Дякую, отче.
— Челом бьём тебе, госпоже, и нашими худыми поминками, — сказал купчина, низко кланяясь и шибко встряхивая волосами. — Прими наше худое приношенье, не побрезгуй.
— Дякую на ласци, дороiе гости... Прошу до господы...
Купцы низко кланялись, с удивлением глядя на эту новую Семирамиду. В Москве таких они отродясь не видывали... «Вот баба-яга», — вертелось на уме у старшего купчины: «Личах, конь-баба!»
Конь-баба грузно, но бойко повернулась, брязнула о пол рундука коваными подковками, звякнула бусовым монистом, визгнула о косяк гарнитуром своей широкой сподницы, словно стеклом о стекло, и вошла в свой дом, вдавливая дубовые половицы «помоста», как тонкие жёрдочки.
«Ну, конь-баба, подлинно конь»...
Поп и торговые люди робко следовали за нею, точно боясь, что пол под ними подломится. Они вступили в просторную комнату с широкими лавками вдоль стен, увешанных оружием и разными принадлежностями и добытками охоты. С одной стены глядела гигантская голова тура с огромными рогами. Массивный стол, покрытый шитою узорами скатертью, был уставлен яствами и питиями. На самой середине стола красовался жареный баран, стоящий на своих ногах и с рогами, перевитыми красною лентою. Против барана стоял жареный поросёнок и держал в зубах огромный свежий огурец, висевший на голубой ленте.
— Прошу, дороiе гости, до хлиба-соли, поснидати c дороги. Будьте ласкови, батюшка, благословить брашно cie и питiе, — говорила приветливая хозяйка.
Священник благословил. Палииха налила по чаре водки-запеканки и поднесла сначала попу, а потом и купцам. Выпили, крякнули, да и было отчего крякнуть: словно веником, царапнула по горлу запеканка.
— Уж и горилка же! — заметил ошеломлённый поп.
— Спотыкач, батюшка, — улыбнулась Палииха, звякнув монистом.
— Истинно, спотыкач, — заметил и купчина, — от сей чары сразу спотыкнёшься.
— Спотыкач, ишь ты, — качали головами гости.
— Уж и подлинно спотыкай-водка...
— Ни, воно з дороги так, водка добра, не сильна...
— Како, матушка, не сильна! Кистень-водка... Обухобухом...
И москали об полы руками били, дивуясь крепости спотыкача, кистень-водки... Уж и вор-водка!..
— Рушайте, батюшка, рушайте, дорогiи гости, — угощала хозяйка.
И рушали. Досталось и барану рогатому, и поросёнку зубатому, и огурцу-великану. Хозяйка между тем свела разговор на политическую почву, на московские, шведские и польские дела, сообщила им, как свежую новость, о взятии царём устьев Невы и заложении там новой столицы. Известие это порадовало попа и встревожило торговых людей.
— Ну, из нового-то стольна града проку не будет, — заметил старый купчина.
— Чом не буде? — спрашивала Палииха.
— Да Варяжское море, матушка, нам, московским торговым людям, не с руки.
— Як не зруки? А торги торговать морем?
— Да то не море, матушка, хвост един от моря, да и хвост-то оный задран зело высоко... Что в ем проку!
— Не говори этого, Кузьма Федотыч, — возражал поп, — на том месте, в оно время, великий Новгород далеко уехал, какие торги торговал!
— Что было, то сплыло, а ноне Москва всему свету голова... Из Москвы вывезти трон царский, да царь-пушку, да царь-колокол, это всё едино, что из Ерусалима града гроб Господень выкрасть.
Ловкая хозяйка искусно прекратила этот слишком специальный для неё московский диспут, свернув разговор на путешествие отца Иоанна.
— А то, батюшка, у Стамбула чути? — спросила она, наливая гостям по чаре крепкой, ароматической «варенухи».
— Уж и это не спотыкай-ли водка? — с боязнью подумал старый купчина, отстаивавший мировое главенство Москвы.
— Да турки, матушка, в большом переполохе, — отвечал поп, чувствуя какое-то наитие от спотыкача.
— Вид чого се такой сполох?
— А всё от нашего царя действ... Хотят запереть себя на замок агаряне-то эти.
— Як на замок, батюшка?
— Да вот как царь-государь Пётр Алексеевич Божиим изволением покори под нози свои Азов-град, дак агаряне-то и восчувствовали страх велий, дабы-де московские воинские люди морем к Цареграду не пришли и дурна какого не учинили...
— Се, бач, по-нашему, по запорозьськи: як наши козаки морем на човнах под самый Стамбул пидплывали и туркам-янычарам страху завдавали...
— Так-так, матушка... Да вот они и думают от московских кораблей отгородить Чёрное море, заперши море Азовское, пролив в Керчи засыпать хотят.
— Э, вражи дити! А як вони вид нас, вид козакив, загородиться?— сказала Палииха, и глаза её сверкнули зловещим огнём.
— Ну, Днепр не засыпать им, — робко сказал старый купчина.
— Не засыпати! Мы их човнами самих засыпемо!
И Палииха так стукнула по столу своею богатырскою рукой, что жареный баран свалился с ног. Но в это время в светлицу взошёл уже знакомый нам казак Охрим.
— Ще здравствуйте, пайматко! — сказал ом, перекрестившись на образа и кланяясь Палиихе. — Хлиб та силь, люде добри!
— Ты що, Охриме?
— Та козаки, пайматко, скучають...
— Знаю... От вражи дети! Ну?
— Нехай, кажут, пайматка, погуляти нам здозволить…
— А на кого?
— На вражьих ляхив, пайматинко...
— А хиба пахне людським духом, Охриме?
— Звоняло таки, пайматинко... У Погребищи дви корогви их, собачих сынив, показалось... Здозвольте, пайматочко, кiями их нагодувати...
— Годуйте, дитки... Та щоб чисто було.
— Буде чисто, пайматко.
— Хто поведе козакив?
— Та дядька ж мiй, Панас Тупу-Тупу-Табунець Буланый.
— А другу сотню?
— Козак Задерихвист.
— Добре... добрый казак... С Богом!
Охрим радостно удалился. Московские люди, слушая, что около них происходило, так и остались с разинутыми ртами...
«Уж и конь-баба! Вот так конь! Лихач, просто лихач... Полкан-баба!..»
IX
Не успел Палий управиться с своей яичницей, как на улице послышался конский топот и у ворот показался отряд польских жолнеров. Изумлённый Охрим невольно схватился за саблю и недоумевающими глазами смотрел на старого «казацького батька»: ему почему-то представилось, что это те две польские хоругви, забравшиеся в Погребите, против которых пани-матка Палииха отрядила из Паволочи казаков под начальством Тупу-Тупу-Табунця-Буланого и сотника Задерихвист и которые, разбив казаков, ворвались теперь и в Белую Церковь. Не веря своим глазам, он искал ответа на тревоживший его вопрос в глазах Палия; но старые глаза «батька» смотрели спокойно, ровно и, по обыкновению, кротко, без малейшей тени изумления.
— Чи пан полковник дома? — послышалась с улицы полупольская речь.
Охрим не отвечал, он онемел от неожиданности.
— Универсал его королевского величества до пулковника бялоцерковскаго, до пана Семёна Палия! — снова кричали с улицы. — Дома пан пулковник?
— Дома, дома, Панове! — отвечал Палии. — Бижи, Охриме, хутко, одчиняй ворота.
Охрим бросился со всех ног. Собаки бешено лаяли, завидев поляков. «Кого Бог весе?» — шептал старик, отеняя рукой свои старые, но ещё зоркие глаза с седыми нависшими бровями и всматриваясь в приезжих: «щось не пизнаю, хто се такiй»...
Впереди всех на двор въехал на белом коне белокурый мужчина средних лет, более, впрочем, чем средних, хотя белокурость и свежесть лица значительно придавали ему моложавости. На нём было не то польское, не то московское одеяние. Подъехав к крыльцу, он ловко соскочил с седла, бросив поводья в руки ближайшего жолнера. Палий уже стоял на крыльце, вопросительно глядя на этого, по-видимому, знатного гостя.
— Не полковника ли бялоцерковскаго, пана Палия, мам гонор видеть пред собою? — спросил гость, ступая на крыльцо.
— Я Семён Палий, полковник вiйськ его королевского величества, — отвечал Палий.
— Рейнгольд Паткуль, дворянин, посланник его царского величества государя Петра Алексеевича, всея России самодержца, и полномочный эмиссар его королевскаго величества и Речи Посполитой, имеет объявить пану полковнику бялоцерковскому высочайшее повеление их величеств, — сказал Рейнгольд, став лицом к лицу с Палием.
— Прошу, прошу пана до господи.
Что-то неуловимое, не то тешь, не то свет, скользнуло по старому, как бы застывшему от времени и дум лицу и по кротким глазам казацкого батька, и лицо снова стало спокойно и задумчиво. Рейнгольд, окинув быстрым взглядом скромную обстановку, в которой он застал человека, десятки лет державшего в тревоге Речь Посполитую и всемогущих, роскошных магнатов польских, как-то изумлённо перенёс глаза на седого, стоявшего перед ним старичка, словно бы сомневаясь, действительно ли перед ним стоит то чудовище, одно имя которого нагоняет ужас на целые страны. А чудовище стояло так скромно, просто... И эта мужицкая сковорода с яичницей... Это дикарь, старый разбойник, предводитель таких же, как он сам, голоштанников... Рейнгольд чувствует себя великим цезарем, попавшим к босоногим пиратам...
Он гордо, с дворянскою рисовкой проходит в дом впереди скромного старичка; а старичок хозяин, как бы боясь обеспокоить вельможного пана гостя, ступает за ним тихо, робко, почтительно.
Но вот они в «будинках», в большой светлой комнате окнами на двор и в маленький «садочок», усеянный цветущим маком, подсолнечниками вперемежку с высокими, лопушистыми кустами «пшенички» — кукурузы, до которой Палий такой охотник, особенно до молоденькой, с свежим только что сколоченным искусною рукой пани-матки маслом.
— Предъявляю пану полковнику универсал его королевского величества и пленипотенцию ясневельможного пана гетмана польного войск Речи Посполитой, — сказал Паткуль, подавая Палию бумаги.
Старик почтительно, стоя, взял бумаги, почтительно развернул их одну за другою и внимательно прочёл; потом, медленно вскинув свои умные, кроткие глаза на посланца, спросил тихо:
— Чого ж вашей милости вгодио?
А мне вгодио именем его королевского величества и его царского величества государя и повелителя моего объявить тебе, полковнику, о том, чтобы ты незамедлительно сдал Белую Церковь законным властям Речи Посполитой, — резко и громко объявил Паткуль.
Палий задумался. Кроткие глаза его опять опустились в землю, и он медлил ответом.
— Я жду ответа, — напомнил ему Паткуль.
— Я повинуюсь его величеству... Я зараз отдам Билу Церкву, коли...
Старик остановился и нерешительно перебирал в руках бумаги.
— Что же? — настаивал Паткуль.
— Коли вы покажете мени письменный на то приказ од его царского величества и от пана гетьмана Мазепы, — снова вскинул он своими кроткими глазами.
Паткуль откинулся назад. Голубые, ливонские глаза его заискрились. Глаза Палия, кроткие, как у агнца, стали ещё кротче.
— В царском желании ты не должен сомневаться, — ещё резче и настойчивее сказал первый. — Белая Церковь уступлена полякам ещё по договору 1686 года; при том же с того времени царь заключил теснейший союз с королём против шведов, так что нарушать договор он и не может желать; а ты мешаешь успешному ведению войны, отвлекаешь польские войска и упрямством своим навлекаешь на себя гнев царя.
— Упрямством, — тихо, задумчиво повторил Палий, — упрямством... Упрямством я помогаю и царю, и королю... Я за для того й заняв Билу Церкву, що боявся, щоб вона не досталась и царьским, и королевским ворогам — шведам, бо... бо вы сами горазд знаете, что у ляхив не ма ни силы, ни ума, вони и своих городив и фортецiй не вмiют обороняти... А в моих руках, пане, Бела Церква не пропаде, мов у Христа за пазухою.
Эта простая, но логическая речь не могла не озадачить ловкого дипломата, ещё недавно от имени царя ведшего переговоры с венским двором и не встретившего там такого дипломатического отпора, какой он встретил теперь от этого мужика, от простого, «подлого» старикашки.
— Так ты взял крепость на сохранение? — изворачивался дипломат, как уж на солнышке.
— На сохранение, пане.
— А есть ли токмо на сохранение, так и должен возвратить её по первому требованию владельца.
— И возвращу, пане, коли царь укаже.
— Царь! — Дипломат начинает терять дипломатическое терпение. — Именем царя ты прикрываешь не по правде!
А старичок опять молчит. Опять кроткие глаза его вскидываются на волнующегося пана, и в этих глазах светится не то робость, не то тупость, не то насмешка... Паткуль не выносит этого в одно и то же время и покорного, и лукавого взгляда.
Вдруг в открытое окно, выходящее на двор, просовывается лошадиная морда и тихо, приветливо ржёт...
— Что это ещё! — невольно вскидывается Паткуль.
— Да се, пане, дурный коник хлиба просит, — по-прежнему кротко отвечает Палий.
— Это чёрт знает что такое! — горячится дипломат. — Я думал, что мне придётся говорить с людьми, а тут вместо людей лошади...
— Ну-ну, пишов, геть, дурный коню! — машет Палий рукою на нежданного гостя. — Пиди до Охрима... Эх як дурный... Мы тут за господином послом его королевськи милости про государственни речи говоримо, а вин, дурный, лизе за хлибом...
Откуда ни возьмись под окном Охрим и уводит недогадливого коня в конюшню.
— Именем царя ты покрываешься не по правде, — снова налаживается дипломат. — Тебе изрядно ведомо, что царь удерживается от вооружённого против тебя вмешательства потому токмо, что не желает брать на себя разбирательства внутренних дел Речи Посполитой из уважения к королю его милости, но естьли ты послушанием не постараешься тотчас же снискать милость короля и Речи Посполитой, то царь, по их просьбе, должен будет, в согласность трактатов, подать им сикурс и выдать тебя на казнь и скарание горлом, яко бунтовщика...
— Так... так... Пропала-ж моя сива головонька, — бормочет старик, грустно качая головой.
— Так покоряешься?
— Покоряюсь, покоряюсь, пане.
— Сдаёшь крепость?
— Сдаю... Ох, як же ж не сдать... зараз здам... тоди як...
— Что! Как?
— Тоди, як пршде приказ...
— Да приказ вот... — И Паткуль указал на универсал.
— Ни, не сей, пане... Се — холостый...
— Как холостой?
— Та холостый же, пане... У ляхив, пане, усе холосте, и сама Речь Посполита, уся Польша холоста, не жереба...
Паткуль невольно улыбнулся этой грубой, но меткой речи старого казака. Он сам давно понял, что Польша — это холостой исторический заряд, из которого ничего не вышло, и потому он сам, бросив это неудачливое, но жерёбое государство, поступил на службу России.
— Холостой приказ... то-то! А тебе нужен не холостой, жеребячий? — спросил он строго.
— Так, так, пане, жеребячий, заправський указ.
— От кого же?
— Вид самого царя, пане... О! Там указы не холости...
Паткуль понял, что ему не сломать и не обойти дипломатическим путём упрямого и хитрого старикашку, прикидывающегося простачком. Он попробовал зайти с другого боку, пойти на компромисс.
— А если я предложу тебе заключить с поляками перемирие до окончания войны со шведами? — заговорил он вкрадчиво. — Пойдёшь на перемирие?
— Пиду, пане, — опять отвечает старик, потупляя свои умные глаза.
— А на каких условиях?
— На усяких, пане... Я на всё согласен.
— И противиться королевским войскам не будешь?
— Не буду, борона мене Бог.
— И Белую Церковь сдашь?
— Ни, Билой Церкви не здам...
Это столп, а не человек! От отобьётся от десяти дипломатов, как кабан от стаи гончих... У Паткуля совсем лопнуло терпение...
— Да ты знаешь, с кем ты говоришь! — закричал он с пеною у рта. — Знаешь, кто я!
— Знаю... великiй пан...
— Я царский посол, а ты бунтовщик! Ты недостоин ни королевской, ни царской милости, и с тобою не стоит вести переговоров, потому что ты потерял: и совесть, и страх Божий!..
— Ни, пане, не теряв.
— Я буду жаловаться царю, он сотрёт тебя в порошок!
— О! Сей зотре, правда, що зотре, в кабаку зотре...
— И сотрёт!
— Зотре, зотре, — повторял старик, качая головой.
— Так покоряйся, пока есть время. Сдавай крепость! Правобережье навеки потеряно для Украйны.
Старик выпрямился. Откуда у тщедушного старика и рост взялся, и голос. Молодые глаза его метнули искры... Пат куль не узнавал старика и почтительно отступил.
— Не отдам никому Билой Церкви, — сказал Палий звонко, отчётливо, совсем молодим голосом, отчеканивая каждое слово, каждый звук. — Не виддам, поки мене видсиля за ноги мёртвого не выволочуть!
Положение Паткуля становилось безвыходным, а в глазах пильного гетмана, Адама Сеневского, который истощил все средства Речи Посполитой, чтобы выбить Палия из его берлоги, и не выбил, и которому обещал, что он немедленно заставит этого медведя покинуть берлогу, лишь только пустит в ход свою гончую дипломатическую свору, в глазах гетмана положение Паткуля, при этой полной неудаче переговоров, становилось смешным, комическим, постыдным. Испытанный дипломат, которому и Пётр, и Польша поручали самые щекотливые дела, и он их успешно доводил до конца, дипломат, который почти на днях вышел с торжеством с дипломатического турнира — и где же! — в Вене, в среде европейских светил дипломатии, этот дипломат терпит полное, поголовное, огульное поражение — и от кого же! — от дряхлого старикашки... Да это срам! Это значит провалить свою дипломатическую славу совсем, бесповоротно, сломать под своею колесницею все четыре колеса разом.
А старик опять стоит по-прежнему тихий, робкий, покорный, только сивый ус нервно вздрагивает...
А в окне опять конская морда и ржание...
— Геть, геть, дурный коего... не до тебе... Пиди до Охрима...
Паткуль вдруг рассмеялся, да каким-то странным, не своим голосом... Видно было, что его горлу было не до смеху...
— Какой славный конь, — сказал он, подходя к окну.
— О, пане, такш коник, тагой разумный мов лях тти с ля шкоды, — весело говорил и Палий, приближаясь к окну. — Мов дитина разумна...
А «разумна дитина», положив морду на подоконник, действительно, смотрит умными глазами, недоверчиво обнюхивая руку Паткуля, которая тянулась погладить умное животное.
— Славный, славный конь... ручной совсем...
— Ручным, бо я его, пане, сам молочком выгодував замисть матери...
— А где ж его мать?
— Ляхи вкрали, як воно гцо було маленьке.
Этот нежданный, негаданный дипломат в окне помог Паткулю выпутаться из тенёт, в которые он сам запутался своею горячностью, помог отступить в порядке е тля битвы.
— А который ему год?
— Та вже шостый, пане, буде.
— И под верхом ходит?
— Ходит, пане, добре ходить... тильки пидо мною, никого на себе не пуска, так и рве зубами...
— О! Вон он какой!
— Таке, таке воно, дурне.
— Точно сам хозяин, — улыбнулся Паткуль.
— Та в мене-ж воно, пане, всё в мене, и таке-ж дурне..
— О! Знаю я это твоё дурно...
— На сему коникови, пане, я и Билу Церкву брав.
— А!
Снова приходит Охрим и снова гонит в конюшню избалованного Палиевого «коею», который так кстати подвернулся в момент дипломатического кризиса. Паткуль спустил тон и, видимо, стал почтительнее обращаться со стариком, который, с своей стороны, тоже удвоил свою ласковость и добродушную угодливость.
— Ох, простить мене, пане, простить старого пугача, — говорил он, хватая себя за голову. — Вид старости дурный став, мов коза-дереза... И не нечастую ничим дорогого, вельми шановного гостя, голодом заморил ясневельможного пана, от дурный опенек!
И старик звонко ударил в ладоши. На этот раз как из земли выросли пахолята, два черномазых хлопчика, в белых сорочках с красными лептами, в широких из ярко-голубой китайки шароварах и босиком.
— Чого, батьку? — отозвались в один голос пахолята.
— А, вражи дити! Зараз бижить, як мога, нехай Вивдя, Катря, Кулина, та Омелько, та Харько, та Грицько, та вся стари й мали, нехай готуют снидати, обндати, вечеряти, та зараз несут дорогих напитков частувати вельможного пана и усих дорогих гостей... Хутко! Швндко! Гайда!
Пахолята ветром понеслись исполнять приказания «дидуся».
Между тем Паткуль, стоя у окна, рассматривал внизу городок с его не массивными, но умелою рукою возведёнными укреплениями, насыпями, окопами, рвами, наполненными водою, и бойницами.
— Однако, пан полковник свил себе прочно орлиное гнездо, — сказал он, обращаясь к старику.
— Та воно-ж, ясневельможный пане, гниздо и есть, тильки я не орёл, а старый пугач, — отвечал улыбаясь старик.
— Не пугач старый, а старый Приам, — любезничал дипломат, думая хоть на древностях да на истории загонять упрямого казака.
— Де вже, пане, Приям! Анхиз безногий...
Паткуль удивлённо посмотрел на старикашку... «А старая ворона — и в истории смыслит», — подумал он невольно.
— Нет, не Анхизом смотрит пан полковник, а Ахиллом, — продолжал он свои исторические сравнения.
— Якiй там Ахилл, пане! Анхизка убогий... Тильки в мене нема Енея, хто б вынис мене из моей Трои... Хиба Охрим замисть Енея...
И старик грустно задумался: перед ним прошла картина его молодости... его первая любовь... его первая жена — его хорошенькая дочка Парасочка... Вот уж двадцать седьмой год и Параня его замужем... А Энея у него нет и не было.
— Да, Троя, истинно Троя, — повторял Паткуль, любуясь видом крепости.
— Троя священная, Троя Украины, — повторял и старик, — А хто-то введе деревьяного коня в мою Трою, як мене не стане? А пока я жив, не бувать тому коневи в мoiй Трои...
— О, это верно, — улыбаясь, заметил Паткуль. — Я хотел было ввести в твою Трою этого деревянного коня.
— Се б то Речь Посполиту, Польшу, пане? — лукаво спрашивает старик.
— Да её, только не удалось.
— Ни, пане, нехай вона и остаётся деревьяным конём: вона сама себе и зруйнуе, ся нова Троя разломиться сама на трое, попомнить моё старе слово, — сказал Палий пророчески.
Угощение посла удалось на славу. Паткуль всё более и более дивился талантам старика: он не только умеет распутать дипломатический клубок, как бы он ни был спутан, не только понюхал истории, но умеет быть и любезным хозяином, угостить по-рыцарски.
Когда после угощения Палий, бойко сидя на своём красивом «конике», показывал гостю свою Трою, обнаруживая при этом необыкновенные качества военного организатора и сообразительность государственного мужа, Паткуль едва ли льстил старику, когда сказал, с уважением пожимая его руку:
— Клянусь, пан полковник, что я не преувеличу, если скажу тебе, как после скажу Речи Посполитой: Палий — это единственный человек, который мог бы ещё оживить упадшие силы некогда славной и могучей республики польской...
— Э, шкода! — грустно махнул на это старый Палий — Не там мiй Ерусалим и не там священный гроб моего Спасителя... Десь-инде... Alibi...
Паткуль ничего не отвечал... «Да это необыкновенный старик, он и язык Горациуса знает».
X
На новом, новозавоёванном севере России, где непоседа-царь закладывал новую столицу и вместе с тем закладывал в него всю свою крупную, исторически ценную душу,— на севере это, 1703-е от нарождения Христа Спасителя, лето выдалось такое же, как и царь, невмерное: то не в меру и не в пору дожди и зябели, то не в пору и не в меру бездожие и засуха. Сначала, всю весну, лились с неба дожди, словно бы твердь небесная прорвалась или изрешетилась, и оттуда хляби небесные и облачные лились на промокшую до последней нити землю, а потом заколодило, ударила жара, настала сушь трескучая, пожгла до корня только что оправившиеся и выпрямившиеся после ливней хлеба и всякую снедь, задымилось, зачадило удушливым чадом всё поневское, олонецкое, новгородское и белозерское Полесье, горели и тлели леса, горела и тлела земля; клубы дыма выползали из глубоких торфяников, окутывали корни и стволы деревьев, заволакивая стоящею в воздухе дымною гарью. Птицы бросали гнезда и улетали из этого дымного царства. Люди ждали преставления света: это ад чадит, это геенна огненная просовывает свои горячие, дымные языки из-под грешной земли, ад пожирает землю... «Оле, оле, прегрешений наших!» Стонут старые грамотники, покачивая седыми, глупыми головами, не ведавшими, что неведение-то и есть грех смертный, кара Божья... Сумрачный, заряженный гневом и своими думами, ходит царь, со страстною щемью в сердце видя, как горят его дорогие леса, его корабельные боры, его сила и надежда... «О! Проклятое, бородатое, длиннополое неведение! Это ты палишь мои леса; сожигаешь мои корабли... А там — в голендерской да аглицкой земле — не горят боры великие... А у меня — горят».
В это время в один из душных, дымных дней, несчаным берегом Белого озера, по направлению к Крохину, медленно тащилась артель рабочих; в руках — у кого слега длинная, посох дорожный, у кого заступ, видимо, поработавший вдоволь в земле-матушке; за плечами — у кого котомочка с невещественными знаками бедного одеяния либо старые лапти, у кого — жалкие лохмотья старой овчины в память о том, что они изображали собой когда-то полушубок; на ногах — у того лапотки-отопочки, у другого — слои засохшей и потрескавшейся грязи. Жарынь страшная, безвоздушная, какая только может быть на болотном севере во время лесогорения. Тихо в соседнем, подернутом дымною пеленою лесе, тихо и на тихом Белоозере, над поверхностью которого тоже висит что-то дымное, белесоватое. На небе стоит солнце без лучей, а всё-таки марит, душит банною теплынью. Очумевшие от жару, вороны сидят тихо на деревьях, опустив отяжелевшие крылья и разинув рты, видно, что и птице дышится тяжело.
За артелью плетётся мальчуган, лет восьми, не более, с огромным лопухом на белокурой головке вместо шапки. Хотя живые глаза мальчика с любопытством поглядывают на плавный полёт белобрюхого мартына, скользившего над поверхностью озера, однако ноги у мальца, видимо, притомились. Всякий раз, когда мартын, делая в воздухе неожиданный пируэт, быстро падал на воду, вытягивая свои красные ножки за добычей, мальчик невольно вскрикивал: «Ах! Ишь ты! Не пымал, не пымал»… И лицо мальчугана оживлялось.
— Уж и жарынь же, людушки, вот, жарынь, — ухма! — говорил шадроватый, рябой мужик с клочковатою белой бородкой, распахивая ворот рубахи и обнажая коричневую грудь, которая была темнее его светлой, спутавшейся бородки.
— Чево не жарынь! Хушь блины пеки на солнышке...
— Баня, что и говорить! Без веника баня.
— Это что, ребятушки! А вот упёка, я вам скажу, тая упёка в Кизилбашской земле! — отозвался седой, но бодрый старик, видимо, из ратных людей, в истоптанных до онуч лаптях.
— А ты, поди, был тамотка? — отсевался шадроватый мужик.
— Бывывал... Ещё в те поры мы с царём Петром Ликсеичем Азов город брали.
— А далече эта земля от нас будет?
— Близёхонько, рукой подать, клюкой достать...
— Ой ли, паря?
— Пра!.. У пёсьих-голов...
— Что ты! Пёсьи-головы у кого?
— У людей, знамо, не у псов.
— Ври ты!
— Не вру, сам видывал, как Азов-град громили.
— А далече это, дядя?
— Да как вам сказать, ребятушки, три не тридесять земель, а без малова на краю света, за Доном... Спервоначала это лежит наша земля-матушка, московская, святорусская, а за нашей-то землёй украйная земля это, стало быть, край земли россейской, как, к примеру, вон край земли, где земля с небом сходится, а дале уж ничего нет.
— Что ты! На нет, сталоть, земля сошлась. А пёсьи-ж, чу, головы где?
— Далее, за Доном за самым... За украйными городы лежит эта земля черкаская, а в ней все черкаские люди живут, народ черноволос, чубат, на голове хвост.
— Хвост! На голове на самой?
На голове, говорят тебе.
— А, може, коса, не хвост?
— Толком тебе говорят, хвост, чуб по-ихнему... Коса-то у бабы да у попа сзади живёт, а это — спереди, от лба да за ухо, да на спину али на плечо..
— Ах ты, Господи! Ну?
— Ну, черкасы это чубатые, голосисты гораздо, песельники и гудцы знатные, говорят необычайно, а по-нашему, по-россейски разумеют маленько: скажешь это — «воды», даст испить тебе, скажешь — «хлеба!», хлеб даст... А там за черкасами донские казаки, а за донскими казаками татары да ногаи, а за ногаями кизилбаши, а за кизилбашами арапы чёрны, что черти, а глазищи и зубы белы, что у псов... А там пёсьи-головы.
— А турки, дедушка? — вмешивается в разговор малец с лопухом на голове, заинтересовавшийся россказнями старого ратного человека.
— Ах, ты «царска пигалица!» — усмехнулся старый ратный мальчику. — А где царской ялтын? Потерял, небось?
— Нету, вон он, на гайтане.
И мальчик, распахнув на груди рубашку, показал висевший у него на шее вместе с крестом «царский ялтын» — небольшую серебряную монетку.
— Ишь ты, царско жалованье, не величка кружавочка, а сила в ей знатная, от самого царя, значит, — рассуждал старый ратник. — Камушек царь пожаловал, лычко, а всё в ём сила, поди-ка!
— Всё от Бога... нихто как Бог, — радостно говорил шадроватый мужик, с любовью поглядывая на мальчика.
— Вестимо, от Бога, — подтверждал ратный. — Вот хушь бы с турскими людьми, примером скажем, как мы Азов-от град добывали. Уж и натерпелись мы — не один ковш слёз пролили, не один ковш и лиха, чу, выпили, а всё Бог на добро концы свёл. Царь это сам по Дону на галерах рати ведёт, видимо-невидимо галер, а мы, пешая рать, берегом идём. С нами и черкасские казаки, что с Запорогов, и донские с Дону... Уж и житье привольное, я вам скажу, на этом, на самом Дону! Ни бояр там нет, ни князей, ни этой приказной строки — все вольные люди. А сёла у них, станицами прозываются, как маков цвет, цветут: земли вдоволь, арбузов да дынь этих ввек не слопать. А там дале, к Азову-то граду, степь голая — ни души, только птица реет да зверь рыщет... Вот тут и натерпелись мы по горло: в степи упёка такая, что конь не выносит, падает на ноги, а тебя-то и солнце палит, и комар этот да муха бьёт, ну, ложись да и помирай без свечи, без савана, без попа, без ладону... А там эта татарва проклятая гикает да аллалакает, словно зверь лютой, да стрелой бьёт... Ну, смертушка да и только... Ну, шли это мы, маялись-маялись, а там и до Азова дошли... Стоит Азов, укрепушка крепкая, водой обведён, валом обнесён, а там стена каменна, а за стеной ещё стена, а супереди ещё две укрепушки, две каланчи высоких белокаменных... Подошли, глядим как её, чёрта, возьмёшь! Вот и выходит сам царь-то на берег, на коня садится, конь под ним, что птица. «Насыпай, говорит, ребятушки, земляну стену до неба, до облака ходячего». Стали мы это сыпать, гору на гору ставим, до неба добираемся. И не диво! Не мало нас было сыпальщиков: не одна, не две тысячи, а двудвенадесятеро тысяч рук работало, вон оно и понимай! Двудвенадесятеро тысяч, братеньки вы мои!
— Ну-ну-ну! — качал головой шадроватый мужик. — Сила не махонька...
— Чево больше! Прорва!
— До Божья оконца, поди, добраться можно.
— Где не добраться! Как пить дать...
— Так-ту, братеньки вы мои, — продолжал ратный — насыпали мы эту Арарат-гору, а на Арарат-гору пушачки встащили и ну жарить! Жарили мы их жарили, дымили, братец ты мой, дымили, индо светло небушко помрачилося, ясно солнышко закатилося... А сам-от царь от пушачки к пушачке похаживает, зельем-порохом пушачки заряживает, да бух, да бух, да бух! А там загикали донские да черкасские казаки, напролом кинулись... И что ж бы вы думали! Насустречу к ним выходит старенькой-преетареиькой старичок, седенькой-преседенькой, что твоя куделя белая, и песет это в руках Миколу-чудотворца. «Стой! говорит, братцы! Видишь, кто это?» «Видим, говорят казаки, шапки сымаючи: «Микола-угодник». Ну, знамо, икона, крестются, целуют угодничка... А старнчок-от и говорит: «Видите, гыт, братцы, что у ево, у угодничка-то, на лике?» «Видим, говорят, брада чесная». «То-то же, говорит, а царь-от ваш хочет попам да чернецам бороды обрить... Так не взять ему, говорит, Азова-града: подите и скажите это царю». Воротились эти казаки, говорят царю: так и так, сам-де Микола-угодник выходил на сустречу им, не велел брать города... А царь-от как осерчает на их, как закричит, как затопает ногами. «А! говорит: сякие-такие, безмозглые! Не Микола то угодник выходил, а старый пёс раскольничий, что ушёл от меня с Москвы, к туркам убег, свою козлиную бороду спасаючи... А коли, говорит, он Миколой стращает, так я супротив Миколы, говорит, Ягорья храброго пошлю: ево-де Ягорьина дело ратное, а Миколино, гыт, дело церковное, так Миколе, гыт, супротив Ягорья не устоять»...
— Где устоять! — подтверждает шадроватый мужик.
— Не устоять, ни в жисть не устоять, — соглашаются и другие мужики.
— И не устоял, — заключает ратный, торжественно оглядывая слушателей. — Всё от Бога.
— Это точно, что и говорить!
— А пёсьи-головы, дядя, что сказал ты? — любопытствует долговязый парень.
— Что пёсьи-головы?
— Да каки они? Видал ты их?
— Как не видать, видывал.
— И близко, дядя?
Не, ни-ни! Близко не подпушают аспиды... Уж и шибко-ж бегают, так бегают идолы, что и собакой не догнать... А поди ты, об одной ноге.
— Что ты! Об одной?
— Об одной.
— Ах, он окаянный! Как же он, сучий сын бегает об одной-то ноге?
— А во как. В те поры как Христос народился и в яслях лежал, прослышали об этом цари и бояре, жиды и пастухи и весь мир, ну и пришли Христу поклониться, да не токмо люди, а и птицы, и звери. И прослыть про то Ирод царь-жидовин, что вот-де новый царь народился, и будет де этот самый царь царствовать и на земле, я на небе. Ну, и распалился Ирод-царь гневом и говорит своим Иродовым слугам: «Подите, гыт, вы Иродовы слуги, скрадьте младенца Христа и принесите ко мне!» Как же мы, ваше царское величество, говорят Иродовы слуги, скрадём его, коли там у его страж стоит аньдед с огненным мечом? Он-де нас огнём и мечом посечёт я спалит». А Ирод-царь и говорит: «К ему-де, гыт, к младенцу Христу, не токмо люди на поклонение идут, а и звери и птицы. Так вы, гыт, слуги мои Иродовы, наденьте на себя шкуры собачьи с собачьими головами и подите якобы поклониться младенцу со зверьем со всяким и скрадьте его». Ну, ладно: сказано — сделано. Надели на себя Иродовы слуги шкуры собачьи с собачьими, с пёсьими, значит, головами, и пошли. Входят да прямо к яслям Только что, братец ты мой, руки они, Иродовы слуги, протянули, чтобы, значит, скрасть младенца, как аньдел хвать их по плечу огненным мечом, да так, братец ты мой, ловко хватил, что от плеча-то самого наскрость и проруби, до самого естества, сказать бы. Так половина-то тела с рукой, с ногой так и осталась тут на месте, у самых яслей, а они-то, Иродовы слуги, сцепившись друг с дружкой, рука с рукой, нога с йогой, и ускакали на двух ногах, по одной у каждого. Ну, с. тех пор, братец ты мой, так и скачут они. Иродовы слуги: коли он тихо идёт, так на одной ноге скачет, а коли ему нужно наутёк, так зараз в сцепку друг с дружкой, и тут уж их сам чёрт не пымает... А головы-то собачьи так и приросли у их к плечам, с той поры и живут пёсьи-головы...
— Крохино, батя, Крохино! — закричал радостно мальчик, которого ратный «царской пигалицей» называл.
Из-за дымчатой синевы, вдоль берега озера, неясно вырисовывалось что-то похожее на бедные избушки, разбросанные в беспорядке по низкому склону побережья. Только привычный глаз человека, родившегося тут и выросшего среди этой неприветливой природы, да сердце ребёнка, встосковавшегося по родным местам, могли различить неясные очертания бедных, чёрных, кое-как и кой из чего сколоченных лачужек.
— Да, Крохино, — отвечал шадроватый мужик и перекрестился. Перекрестились и другие артельные.
— Шутка, сот семь-восемь, поди, вёрст отломали.
— Добро, что живы остались, — заметил ратный. — А мы вот с царём да с Шереметевым боярином и тысячи Отламывали, а уж который жив оставался, кого в поле да в болоте бросали, которых в баталиях теряли, про то и не пытали.
В это время впереди показался маленький, едва заметный от земли человечек, который нёс что-то за плечами. По мере приближения этого человека к артели можно было распознать, что то шёл мальчик с кузовом на спине.
— Мотя! Это Мотька идёт! — закричал мальчик с лопухом на голове…
— А точно он, пострелёнок, — подтверждал и шадроватый мужик, приглядываясь к тому, что шло им навстречу. — Куда это он, псёнок, путь держит?
— К нам.
— А что у ево, у псёнка, за плечами.
— Кошель на грибы.
Мальчик в лопухе не выдержал и побежал навстречу мальчику с кузовом. — «Мотя! Мотька! Мотяшка!» — «А! Симушка! А батька где?»
Мальчики остановились друг против друга расставив руки. Мотька положил на землю кузов, в котором что-то ворочалось и сопело, силясь просунуть мордочку между скважин плетешка.
— Что это там у тебя? — с удивлением спрашивает Симка.
— Мишутка махонький... С дедом пымали его... Несу в город за хлеб показывать, — скороговоркой отвечает Мотька... — У нас есть нечего, всё вышло: и мякина, и ухвостья, так иду с Мишуткой хлебца добывать.
Мотька, поставив кузов на землю, развязал мочалко, прикреплявшее плетёную крышку к кузову, и оттуда высунулась косматая лапка, а потом и острая мордочка маленького медвежонка. Мишутка усиленно моргал своими невинными, детски-доверчивыми, как у ребёнка, глазками, карабкаясь из кузова и опрокидывая его.
— Ах какой махонькой! — с восторгом суетился около него Симка.
— Ай да зверина! Ха-ха-ха! Вот карапузика!
— Фу ты, ну ты, боярченок какой!
— Уж и точно боярченок...
— Не черноризец младёшенек, — заметил ратный, подходя к медвежонку, — а вырастет в игумна, давить нашего брата станет.
Артель обступила медвежонка и забавлялась им. А зверёныш, глупый ещё по-звериному, доверчивый к человеку, облапил Симку, и ну с ним бороться. Симка сразу, с человеческим лукавством, подставил доверчивому зверёнышу подножку, и зверёныш растянулся при общем хохоте артели.
— Ай да Симка! Зверя сломал...
— Глуп зверь, честен на чистоту, а Симка-то уж с хитрецой парень.
Медвежонок снова лез на Симку, ожидая честного боя; но Симка опять слукавил по-человечески, увильнул, и Мишутка с своей звериной честностью опять не потрафил.
— Что, Мотюшка, дома у нас? — ласково спрашивал шадроватый мужик, гладя белокурую голову Мотьки.
— Хлебушка нету, — отвечал мальчик.
— А мякина?
— Вышла, и ухвостье вышло... Мамка с голоду пухнет.
— Ахти-хти, горе какое... А отец екимон?
— Лих, у-у как лих! Телку взял на монастырь залетошню соль.
Едкая горечь и какая-то робкая, покорная безнадёжность отразились на лице мужика при последних словах мальчика.
— А этого где добыл? — спросил он, указывая на медвежонка.
— С дедом в лесу пымали, у бортей, — радостно отвечал мальчик.
— А медведица?
— Мы не видели её, и она нас не видела... Мы как взяли его, так бегом домой!..
— То-то счастлив ваш Бог... А куда ты его несёшь?
— В город, батя, хлеба мамке да деду добыть...
Мужик поморщился: не то хотел улыбнуться, не то заплакать, а скорее и то, и другое вместе.
— Нет уж, сынок, пойдём домой, я достану хлеба.
Медвежонка, несмотря на его сопротивление, снова посадили в кузов, и артель двинулась к посёлку.
Посёлок Крохино был беспорядочно раскинут на берегу озера и глядел чем-то не то недоделанным, не то разрушенным. Да почти оно так и было. Сначала посёлок был вотчиною боярскою, а потом стал монастырскою, когда последний владелец Крохина с соседними пустошами, рыбными ловлями на Белоозере и иными угодьями, пожив на свою волю, уморив трёх законных и семерых незаконных жён, которые потом поочерёдно являлись к нему во сне, иная с пробитым до мозга черепом, другая с вырванною вместе с мясом косою, третья с переломанными рёбрами и тому подобное, засёкши до смерти дюжины две людишек и холопишек, разоривши дотла пять других вотчин с их людишками, женишками, детишками и животишками и допившись до того, что у него на носу бесы в сопели играли и в бубны били, это-то чадушко, перед смертью, поминаючи грехи свои, и отписало свои вотчины разным монастырям, дабы они, монастыри, служили в нём, по болярине Юрье, панихиду вечную вплоть до самой трубы архангела, когда та труба призовёт его, болярина Юрья, на страшный суд. Но ни в боярских руках, ни в монастырских крохинцам не было житья окроме собачьего. Боярин лютовал над ними и разорял их; старцы монастырские сосали из них кровь по капле, разоряли поборами, морили на каждодневной работе: на ловле рыбы в пользу братии и монастырской казны, на рубке, возке и пилке лесу, на колке льду, на собирании грибов и ягод, даже на ловле белок, до шкурок которых был такой охотник «отец екимон», эконом монастырский, любивший и спать на беличьей постели, и укрываться беличьим одеялом, и рясу и штаны носить беличьи, и сапоги опушать белкою. Не хуже боярина умели и святые отцы лютовать. Лютованье это ещё более усилилось с тех пор, как молодой царь Пётр Алексеевич, возлюбив море и войдя во вкус всяких баталий и викторий, возложил на государственную спину такие великие тяготы, от которых если не лопнул российский государственный хребет, так благодаря лишь слоновой выносливости и беспозвоночной податливости российского позвоночного столба: вся Россия была разделена на «купы», а из «куп» сгруппированы «кумпанства» духовные, светские и гостиные — для постройки кораблей, и к этой тяжкой барщине привлечена была вся русская земля: кто давал деньги, кто лес, кто рабочих и топоры для стройки, а кто и то, и другое, и третье вместе; князи и бояре, митрополиты и епископы, игумены и чернецы, церкви и монастыри, гостиные и иные согни, а наипаче «крестьянство», «подлый народ», мужики, — всё отбывало кораблестроительную барщину. А там рекрутские наборы по несколько раз в год, сгоны рабочих со всех концов для государевых крепостных и иных работ, насильственные выселения лучших семейств в излюбленные царём места, — всё это проносилось над страною в виде каждогодных административных эпидемий и изнуряло страну до государственной чахоточности.
Вот почему лютовал «отец-екимон» над крохинцами, таская с их дворов за рога последних телок, выжимая сок и из спины, и из топора мужичьего... «Оскуде житница Господня даже до нищеты», — плакался «отец-екимон» на государственные тягости и тащил в эту житницу и последнюю мужичью телку, и последний сноп овса, и заячью шкуру, и последний туесок мужичьего медку...
Да, не красна жизнь в Крохине. Глядит оно так, словно после чёрной немочи: мужиков почти не видать, все в разгоне: кто на корабельной стройке в Воронеже, кто у Шереметева в войске, кто на олонецких заводах, кто на крепостных работах, кто в бегах, почти вся Россия обратилась в беглое государство...
У крайней крохинской избы, с прогнившею крышею, с покосившимися боками, стоит баба в жалком одеянии и набожно крестится, вглядываясь в приближающуюся артель рабочих. В воротах стоит ветхий старик, переминаясь на своих исхудалых босых ногах...
— Никак наших Бог несёт, — шепчет он недоверчиво.
— Упаси… помилуй... вот те хрест, — бессмысленно молится баба.
— Симушка, кажись, и Мотюнька с Мишуткой, а где ж Сысой?
— Ох, хрест, от хрестушка батюшка... помилуй...
Симка, увидав мать и деда, стремглав летит к ним.
Мать так и присела не то от радости, не то от испуга... Нет, такие страдальческие лица не умеют выражать радости, они раз застыли на испуге и боязни, да так уж и отлились навсегда в испуганную, так сказать, форму.
— Мотри, мамка, мотри! — радостно бросается к матери Симка, распахивая рубашку на груди.
Мать припала бледным, остекленевшим от долгого голоданья лицом к лопуху, прикрывавшему белокурую голову сына, и дрожит.
— Мотри-ка, на гайтане! — настаивает Симка.
— Что, что, родной?
— Алтын царской.
— Ох, Господи!
— Сам царь подарил и по головке погладил... Это — царское жалованье.
Подошла артель. Стали здороваться. Сбежались бабы и ребятишки с соседних домов. Пошёл шум по всему посёлку, хлопанье дверей, скрип калиток и ворот, возгласы баб, писк и плач ребятишек, лай собак, которые более всех животных интересуются человеческими делами и разделяют их радости.
— Здорово-здорово, Сысоюшка, здравствуй, мнучек Симушка, здорово, Агапушка, — шамкал Симкин дед, обращаясь то к сыну своему, шадроватому Сысою, то к внучку, то к другим сельчанам, то к ратному. — С коих местов теперь, Агапушка, — с Олонца?
— Нету, с самово Шлюхина града, — отвечает ратный.
— Что же это за град такой? Не слыхивал такова отродясь.
— Новый, значит, град, с немецкой кличкой, Шлюхин...
— Шлюхин, ишь ты, таких на святой Руси не бывало: Хлынов город есть, холопий, а Шлюхина града на Руси не бывало.
— Да это наш Орешек, что под шведом был, а теперь опять наш, — пояснил Сысой.
— Укрепа такая, Шлюхина крепость, — дополнил ратный.
— А царя видали?
— Как не видать, батюшка! Сам-то Симку по головке гладил и денег пожаловал...
— Вот, дедушка, царский ялтын, вот он, — хвастался Симка перед дедом. — Я в лапоть мышь посадил да с лаптя карбас справил, на воду пустил, оснастил, а царь и увидал...
Издали откуда-то донеслось звяканье колокольчика. Все стали прислушиваться, напряжённо прислушиваться, ибо все опытом жизни испытали, что медь, отлитая в колокол, реже звонит к добру, чем к худу.
— Ямской, — пояснил ратный, прикладывая ладонь к уху, — казённый.
— Валдайской голос, — добавил Сысой шадроватый. — Ишь звонец какой...
— Кто и зачем бы? — спрашивали другие, недоумевая и вглядываясь в дымчатую даль.
— Не к добру... к худу, — заключили бабы, более чуткие сердцем.
А звонец заливался всё явственнее и явственнее. Показалась ямская тройка со стороны белозерской дороги.
— Пристав, братцы... Опять некрутчина али бо что хуже.
— Да уж хуже нашего-то и на земле не растёт, и по воде не плывёт...
— Помилуй, Господи! О-о-хо-хо.
Тройка приближалась. Видны уже были фигуры едущих. Ямщик, с кудрявыми перьями тетерева хвоста на шляпе, дико гикал на тощих коней, которые неслись скорее по силе инерции, готовые упасть и тут же околеть, чем вследствие быстроты своих йог.
— Батюшки! Пристав! — ахнули мужики.
— А с ним и екимон наш, матыньки, ох! — охали бабы.
Тройка остановилась на всём скаку. Взмыленные кони тяжело дышали, вздымая свои тощие бока.
— Здесь Сысой Шадровит? — крикнул с телеги «отец-екимон», тощий, словно высосанный чернослив, монашишко.
Все молчали, сняв шапки и испуганно переминаясь на месте.
— Молитесь Богу, царская милость к нам пришла, — продолжал отец-екимон, высаживаясь из телеги.
Сысой Шадровит, рябой мужик, прозванный за свою рябоватость Шадровитым, выступил вперёд, низко кланяясь и боясь взглянуть на пристава. Последний, вынув из кожаной перемётной сумы бумагу и развернув её, сам снял шапку.
— По указу его царского величества! — сказал он громко. — Царь-государь, его пресветлое величество. Пётр Алексеевич указал: Сысойки Ивлева сына Шадровитова сына Симонку взять к Москве в ноги... ногиваторы...
Мать Симки, обхватив белокурую голову сынишки, казалось, замерла от ужаса: глупая баба не знала, что её сынишку берут на такое великое царское дело, которого сам пристав не в состоянии выговорить... Бедные люди!
XI
Нужно было иметь необыкновенную, невероятную и положительно нечеловеческую крепость организма, и в то же время страшную упругость воли, чтобы осиливать пазом столько дела, и притом дела векового, сложного, крупного, чтобы дело это, которое в продолжение столетий вываливалось из косных рук всей России, не вывалилось уже более из мозолистых рук-клёшей невиданного и неслыханного рабочего-порфироносца, нужно было обладать большим, чем в состоянии вместить в себе дух и тело одного человека, чтобы успевать делать столько, сколько делал разом бессонный, безустанный, безжалостный и к себе, и другим молодой, тридцатилетний царь, невиданный в летописях всего мира и всех народов экземпляр человека, когда-либо сидевшего на троне. Перевернув вверх дном весь строй жизни огромного государства, строй, сложившийся исторически и покоившийся на самых непоколебимых в мире столбах, на массовых обычаях, верованиях и привычках, подставив под всё, под чем разрушены были старые устои, новые устои и укрепы, наметив и загадав дела вперёд на целые столетия и делая разом сто дел, стуча своим мозолистым кулаком разом и на юге, и на севере, и на востоке, и западе, чтоб пробить в московской, более неподатливой, чем китайская, стене международные продушины, вырвав у турок клок южных морей, а у шведов клок северных, заложив себе новую столицу у нового моря, чтобы развязаться с постылою, ошалелою от долгого сна Москвою, переболев в то время своею суровою душою и несутерпчивым сердцем о том, что он нежданно-негаданно открыл в проклятом кармане проклятого Кенигсека, царь по возвращении летом 1703 года из вновь заложенного «Питербурха» в Москву чувствовал необходимость в отдыхе, в развлечении, не забыв в то же время послать Мазепе бочонок ягоды-морошки, выросшей в «новом парадизе», и отправить куда-то на Белоозеро за каким-то мальчиком Симкой гонца «по нарочи важному делу...»
И вот царь развлекается, отдыхает. Он сидит в своём рабочем кабинете, заваленном бумагами, книгами, ландкартами, чертежами, заставленном глобусами, моделями кораблей и машин, образцами всевозможных руд, камней и почвы, и бегло набрасывает на бумаге новый костюм для «всешутейшего патриарха князь-паны» к предстоящему всешутейшему, всепьяннейшему и сумасброднейшему всероссийскому собору. А Менщиков, сидя против него, тихо читал что-то по складам, с трудом разбирая написанное.
— Это ты Мазепино доношение по складам твердишь, Алексаша? — не глядя на него, спросил царь.
— Нету, государь, прожект кондиции с поляками насчёт полковника Палия... Черничок прочитываю, государь.
— А... А ну чти вслух...
Меншиков начал читать, спотыкаясь на каждом слове! «Понеже его королевское величество»...
— Который артикул? — перебил его царь.
— Четвёртый, государь.
— Ну, чти, да не спотыкайся.
— «Понеже его королевское величество и светлая Речь Посполитая, по причине нынешних обстоятельств, сами против непослушного своего подданного, Палия, права изобрести никак не могут, потому от его царского величества, как друга, соседа и сильного союзника...»
— Знай наших, Алексаша! — снова перебил царь, — Вот мы и сильные стали...
— Точно, государь, могуществен ты...
— Ну, скандуй дальше.
— «...и сильнаго союзника в таковом деле просили вспоможения (продолжал нараспев Меншиков). И так, по силе онаго союза, его царское величество принимает то на себя, что Палий, добрым ли или худым способом, принуждён будет области, крепости и города...»
При последних словах Пётр поднял свою львиную голову, и лицо его нервно дёрнулось.
— Постой, Алексаша... Похерь слово «области», будет с них крепостей и городов... Поляки и с своими областями не умеют управиться, а уж об этих бабушка надвое сказала, — пояснил он, как-то странно улыбаясь.
Меншиков, взяв перо, похерил слово «область», да так усердно, что продрал бумагу.
— Ну, кончай, пора и за дело...
— «...крепости и города, взятые во время бывших недавно в Украине замешательств, возвратить, и оные его королевскому величеству и Речи Посполитой без всяких претензий, как наискорее быть может, а по крайней мере по предыдущей кампании, отдать, обещая Палию вечное забвение, если насильно захваченные в оных замешательствах крепости добровольно отданы будут».
— Зер гут...
В дверях показалось молодое женское лицо и тотчас же спряталось. Меншиков покраснел.
— Кто там? — спросил царь.
— Девка Дарья, — отвечал Меншиков, усиленно шурша бумагами.
— Это ты, Дарьюшка? — крикнул Пётр.
— Я, государь, — отвечал звонкий голос, — Дарья глупая.
— Что ты, Дарьюшка? Что Марфуша?
— Чарта Самойловна в здравии обретается, — отвечала, входя в кабинет, кланяясь и краснея, девушка.
Это была дворская «девка» — фрейлина Дарья Арсеньевна.
— Не скучает Марфуша? — спросил царь ласково.
— По тебе скучает, государь... Спрашивает, в каком платье укажешь ей быть на соборе, в московском или немецком?
— В немецком всенаинепременнейше.
Девушка поклонилась и вышла, скользнув светом глаз по лицу и по глазам Меншикова.
Энергические приготовления к «всешутейшему и всепьяннейшему собору» были кончены к этому дню. Хотя «всешутейший и всепьяннейший патриарх князь-пана», каким считался бывший учитель молодого царя, Никита Моисеевич Зотов, обретался в полном здравии и пьянственном ожирении, однако, по случаю закладки новой столицы и перенесения русского трона к устьям Невы, царь желал ради собственного развлечения и потехи, а также в видах осмеяния в глазах народа некоторых застарелых московских предрассудков переизбрать «всешутейшего» и всепьяннейшего патриарха князь-пану», пополнив титул его прибавкою эпитета «питербурхский».
Необыкновенная всешутейшая процессия, проходя Кремлем, поравнялась с царскими дворцами.
Впереди идёт князь-пана в блестящем шутовском наряде, ведомый под руки архижрецами, князь-паниными кардиналами. В таком же необычайном виде двигаются за ним пёстрые толпы освящённого всешутейшего собора — попы, певчие, шутовские архимандриты, суфраганы и прочий всешутейший конклав. Но выше всех и величественнее всех красуется под ярким летним солнцем обрюзгший и отёкший от пьянства, перевитый хмелем и виноградными листьями, искусно сделанный истукан Бахуса, несомый «монахами великой пьянственной обители».
За всешутейшим собором медленно двигаются толпы музыкантов: неистовый кошачий концерт всевозможных нестройных музыкальных и антимузыкальных инструментов — медных тарелок, чугунных сковородок и горшков, медных тазов, трещоток, диких свистков, дудок и всяких визжащих и скрипящих инструментов, таких, от которых нервный человек с ума сойти может, а музыкальное ухо навеки испортиться, лопнуть, оглохнуть.
А тут ещё звон колоколов всех московских церквей, такой звон, на который способны только пьяные, нарочно напоенные по приказанию царя звонари московские, способные в могилу уложить своим звоном всякого немосквича, всякого, с детства не привыкшего к этому колокольному кнутованию, оглушению и задушению... Звонят, гудят, орут разом все колокола, и нарочно нестройно, дико, набатно, в перебой, перекрёстно, так что страшно становится от этого звона, до того страшно, что один любский немец от этого звону повесился...
А тут ещё вся опоенная в царских кабаках на даровщину и охрипшая Москва орёт, вопит дико, неистово, следуя за процессией и бросая вверх, в заражённый пьяным дыханием воздух, шапки, шляпы, рукавицы и лапти...
Царь смотрит на всё это из окон дворца и смотрит хмуро, невесело... Вспоминается ему улица в Саардаме, улица, запруженная мальчишками, и мальчишки бросают в него, в царя могучей страны, грязью... А всё же тогда легко было на душе, светлее впереди. Тогда была молодость, а теперь старость, дряхлость... скоро тридцать два года исполнится... старость-то какая! Да, старость души, дряхлость сердца... Только у царей старость начинается с двадцати лет... Ничто не радует... любить некого и нечего... желать нечего! Это всего ужаснее! Вон и немка Анна Монцова тогда любила, и он её любил... ох, как хорошо любилось тогда! А теперь всё одряхлело, и Анна изменила старику... Всё стареется... Вон и орёл двуглавый словно бы от старости крылья опускает... А Питербух... А Марта, Марфуша...
«Нет! Вон отсюда! На Неву, в море, где воды много, где свету больше... Воды, воды, моря! Воды больше! Свету больше! А те я здесь задохнусь...»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Мир Божий и жизнь человеческая не были бы столь прекрасны и обаятельны к в то же время столь мрачны и ужаса исполнены, если бы прекрасное и светлое не чередовались с мрачным и ужасным, и если бы мрак не придавал цену свету, а счастье не красилось бы горем и отчаянием, как молодость прожитая красится воспоминаниями передмогильного старчества, а сладость прошлого жгучей, но обильной отравой саднет на сердце в соединении с горечью настоящего...
— О, моё золотое прошлое! О, моё молодое счастье! Не кукуйте вы под моим окном горькою кукушечкой... Един, два, три, четыре, пять... конца нету сему кукованью горькому... Всё она кукует, всё кукует, всё кукует, а мне, горькой, всё жить — маяться, горе мыкати горючее, по моей молодости помин творит», саван подымати, на своё лицо взирати... Не глядя на меня, Васенька, не смотри на меня, мил сердечный друг, на твою прежнюю Софьюшку... Вона как заиндевела коса моя девичья, пеплом-серебром присыпалася, посеребрилася моя головушка, словно риза похоронная, серебром прошитая... А мы думали с тобой, ненаглядный сокол мой Васенька, думали-гадали эту буйную девичью головушку золотом прикрыть, златым венном царским... Ох, не кукуй, не кукуй ты, горькая кукушка!..
Так, стоя у келейного окна в Новодевичьем монастыре, плакалась царевна Софья Алексеевна в то утро, когда в Москве гремели сорок-сороков в честь всешутейшего собора.
Какой страшный контраст!
Там — земля стонет от звона тысяч медных глоток с медными языками, от неизобразимого топота ног и говора людского. Здесь — только голуби воркуют, гнусливо переговариваясь о своих птичьих делах и нуждах, шурша крыльями о каменные карнизы монастырского здания, да воробьи радуются неведомому благополучию, беззаботно чирикая и, по-видимому, не подозревая, что и у них, как и у людей, бывают свои, воробьиные горя и невзгоды... Из окон кельи виднеется Москва с кремлёвскими стенами и золотыми маковками церквей, которые и ей, Софье-царевне. а ныне старице Сусанне, кричали когда-то в сорок-сороков медных глоток... Влево зеленеется лес, и в этом лесу кукует горькая кукушка...
— Един, два, три, четыре... Зачем и считаю, сколько мне ещё лет жить, сколько дней и ночей в скорбях и печалях маятися?.. О... житие человеческое! Житие плачевное... И она, чаю, Ксения царевна Годунова, сидючи здесь, в это окошечко со слезами сматривала, житье своё царское вспоминаючи...
— Ах, и не кукуй, не кукуй же ты, пташечка!.. А он, Гришка Отрепьев царь, сказывают, приходил сюда к ней в эту келью... полюбилась она ему, чу, тут, Ксения трубокоса... А мой от братец лиходей не жалует ко мне... Ох, лиходей!.. Что-й-то у него ноне на Москве затеяно? Что звоны-то раззвонилися? Али шведа побил?..
Кто-то подъезжает в дворцовой коляске к монастырю. Софья всматривается...
— Никак Алёша-царевич, племянничек... Спасибо ему, не забывает старой тётки.
А тётка Софья, действительно, стара стала, не так годы состарили, как думы... Глубокою резьбою вышли на её белом, некогда полном, мелочном лице государские думы, эка резьба какая. Русые волосы, выбившиеся из-под чёрного монашеского клобука, шибко серебрятся, жизненный иней выступил на них, холод, что душу пронизывал много лет, снегом пал на голову... А глаза ещё живые, молодые... А всё не те уж, что были, когда в них смотрел любовно мил-сердечный друг, Васенька князь Голицын...
Стук коляски замер у крыльца кельи. Из коляски выскочил юноша лет тринадцати, высокенький, стройненький, с худым бледным лицом и кроткими, задумчивыми, робкими глазами. Вслед за ним вышел из коляски старик в длиннополом кафтане, словно в подряснике, опираясь на трость с золотым набалдашником вроде поповского посоха.
— Ишь как ступеньки потёрты... То-то время Божье, всё сгложет, — говорил старик, стуча тростью о ступеньку крыльца.
— А стар монастырь? — спросил юноша.
— И-и стар! Ступней-то много человеческих перебывало тут: и святые подошвы, и грешные, и царские, и смердьи тёрли камень сей...
Приезжие, взойдя по ступенькам на верх лестницы, постучались в дверь кельи.
— Господи, Исусе Христе, сыне Божий, помилуй нас!
— Аминь! — тихо отозвались в келье.
Пришедшие вошли и перекрестились истово на богатые иконы, украшавшие келью. Это были — тринадцати, летний царевич Алексей Петрович и наставник его, князь Никифор Вяземский. При входе их глаза старицы, царевны Софьи, блеснули теплом и радостью.
— Здравствуй, Алёшенька-царевич! Здравствуй, князь Никифор! — звонко сказала Софья, подходя к царевичу и глазами приветствуя Вяземского.
— Здравствуй, тётушка-царевна! — отвечал радостно юноша, целуя руку тётки, которая при этом звякнула чётками и поспешила обмотать их вокруг пухлой кисти белой руки.
— Здравия и долгоденствия, царевна-матушка, — низко кланяясь, приветствовал Вяземский и тоже поцеловал руку Софьи, и край её чёрной мантии.
— Спасибо, что не забываете старуху заключённую...
— Сохрани Бог забыть! Забвенна буди десница моя.
— Садитесь, дорогие гости. Что у вас на Москве делается? Что звон такой?
— Батюшка тешится, — с едва заметною улыбкою на толстых губах отвечал царевич, не глядя на тётку.
— Скомрашествует, матушка-царевна... Нарядил старого греховодника, учителя своего недостойного, Микитку Зотова, в скомрашеские ризы, посадил его в ковш, что свинью в купель, и носит по городу под звон святых колоколов...
Софья, слушая это, задумчиво качала головой, перебирая чётки.
— А Москва что? — спросила она.
— Москва беснуется, благо ей вина выкатили бочек несчётное число...
— О! Москва всегда была глупа, что овца в Петровки, — с горечью сказала Софья, нервно перебирая чётки, — А ты, Алёша, — обратилась она к царевичу, — по батюшкову примеру в ковш посадишь учителя своего, князь Никифора, когда царём будешь?
— Нет, тётушка-царевна! — быстро, оживлённо заговорил Алексей. — Я все эти батюшкины новшества выведу, заведу опять всё старое, по старине, а новое изгоню...
— Нет, не говори этого, царевич, — серьёзно, также горячо заметила Софья, — не всё старое хорошо, не всё новое дурно... Наше старое темень, неученья, наше новое свет ученья... Просветись сим светом сам и просвети оным Русскую землю... Я вот о себе скажу: мало Ли у меня было сестёр, и тёток, и бабок, невесток, и никто из нашей царской семьи, ни единая женщина, не касалася трона превысочайшего, не правила Российскою державою, не подписывалася «самодержицею всеа Русин», чего не бывало, как и Русская земля стоит... А я всё сие изведала, я была самодержицею всеа Русин. А чего ради?
— Мудрости твоей ради, — матушка-царевна, — отвечал Вяземский.
— Не говори этого, князь Никифор, — возразила Софья, — были и умнее меня жёны и девицы, а не правили царством: а я правила...
Она остановилась, как бы забыв, о чём говорила, и вопросительно глядела то на царевича, то на Вяземского, как бы спрашивая последнего: «Почему же я-то одна царствовала?»
— По благодати Божией? — рутинно отвечал Вяземский, не зная, что сказать.
— Не говори, не говори так, князь... У благодати Божьей глаза лучше наших...
Царевич, до того времени молчавший, после замечания о «новшествах батюшки», подошёл к тётке и, встав на колени у её кресла, начал ласкать её руку с чётками.
— А я знаю, тётя, — сказал он нежно.
— Что ты знаешь, Алёшенька? — спросила Софья, гладя голову царевича.
— Почему ты была самодержицею всеа Русин.
— А почему, дружок?
— Мне батюшка сказывал...
— Ну, ну, что он тебе сказывал?
— Осерчал он на меня однова, что я урока не выучил, и — говорит: «Тётка-де твоя, Софья, хорошо уроки учила, и для того у тебя-де, дурака, говорит, чуть царство не отняла»...
Софья горько улыбнулась... Рука её дрожала, глядя продолговатую голову племянника... «Не для царского венца эта голова добрая...»
— А ты и вправду думал, что я у тебя царство бы отняла?— с какою-то судорогою в горле спросила она, не глядя на племянника.
— Нет, тётя... Да и на что оно мне, царство-то? Заслужить бы только царство небесное...
— Не говори этого, друг мой, — по обыкновению, возразила Софья. — Учись, чтобы быть мудрым царём...
— И батюшка говорит это... «Ученье, говорит, нищему венец даёт, нагого порфирою одевает, а неученье из-под царя престол похищает, порфиру рубищем заменяет... не у него-де, так у детей, внуков и правнуков его...»
— Правда, правда, друг мой... Я хорошо учила уроки, когда наставлял меня в книжной мудрости покойный учитель мой; царство ему небесное! Симеон Полоцкий Петровский-Ситианович... Как он любил меня, и как я его, света моего, любила!.. Он инако не называл меня, как «белокурая моя царевна Премудрость...»
— Софья, премудрость божия, — важно заметил Вяземский.
— «Ну, что, говорит, белокуренькая Премудрость моя, уроки выучила, а може переучила?» А я, бывало, всегда переучивала; он, бывало, задаст мне «до сих», а я жадная такая, забегу дальше, всё вперёд, вперёд, без оглядки... И в келью к нему, бывало, отай бегивала: шмыгну переходами, да вон из терема... «Ах, срам, говорят, какой! Девка царевна под солнышком ходит, в келью к монаху бегает...» А мне, бывало, и нуждушки мало... Приберусь монашкою, да к нему шмыг, все у него книги перерою, свитки, харатьи...
Глаза её горели молодым огнём. Чёрный клобук её сдвинулся несколько набок, открыв новые пряди белокурых, посеребрённых временем и думами волос. Царевич смотрел на неё с удивлением, Вяземский — с грустью...
— Я хотела пролить свет учения на Русскую землю, — продолжала она словно бы в какой-то забывчивости, не глядя ни на кого. — И маленький Петруша стал учиться из зависти ко мне... А там и дальше, всё я да я! Уж как и царём он стал, не его просили о том, чтобы Русскую землю просветил светом ученья, а меня просили... А теперь на поди! Всё он да он, а я ни при чём... У него на голове венец, а у меня...
И она судорожно дотронулась рукой до чёрного клобука... И царевич, и Вяземский молчали, всё разом как бы замерло кругом, как замерла та жизнь свободы, власти, борьбы и света впереди, которая вспала на ум бедной заключённице...
Только слышалось опять, как за окном горько, однообразно-горько и надоедливо-горько куковала кукушка...
— Един, два, три, четыре, — бессознательно, опустив голову, повторяла Софья. — Конца нету кукованьям, — нету и мне конца...
Вдруг она почувствовала, что что-то горячее капает ей на руку. Она опомнилась. Это царевич, припав к её руке, тихо плакал...
— Что ты, что ты, мой дружок! Полно... я забылась, старая дура...
Царевич продолжал всхлипывать... «Мне жаль тебя, тётя, батюшка... он — не добрый...»
— Не говори этого, дружочек, полно же, полно... А скажи лучше мне, как ты учишься? — ласково заговорила она, приподымая лицо племянника и целуя его влажный лоб.
— Я учусь, тётя.
— А скажи, князь Никифор, как он учится? — обратились она к Вяземскому.
— С Божьей помощью хорошо учится, коли к нему с любовью да с лаской; а коли государь-батюшка накричит, насердитует, пригрозит, что к немцам за море ушлёт учиться, ну, у нас и книга из рук валится.
— Бедный ребёнок, горемычный сиротинушка, — жалостливо говорила Софья, продолжая ласкать племянника. — А что, к матери не пускает? — спросила она ещё ласковее.
— Нет, тётя... Велит и думать об ней забыть... А как я её забуду! Никогда, никогда я её не забуду! Ох, Господи! Матушка! Мама моя!
И юноша зарыдал, припав к коленям тётки.
— Ох, горькое дите! Ох, сиротинушка круглый при отце-то и при матери! — причитала Софья.
— Да и как пущать... У нас паки и паки новшества, — загадочно заговорил Вяземский.
— Какие ещё новшества? — спросила Софья.
— Новую, чу, завёл...
— Ой ли! Немку?
— Пёс её ведает... полонянка... Марфуткой зовут...
— А Монциха что?
— Рога под венцом-то вырастила...
— Что ты! Так убил её, поди? Колесовал? Жилы на спицы вытянул? На сковороде изжарил?
— Нет, жива-здорова... токмо в немецкий монастырь упрятал...
— Диво... диво, как живу оставил... С кем же она связалась, Анка-то?
— С немцем с саксонским, с послом Кенисиным, свой-то милее.
— Застал, поди?
— Где застать! Не сдобровать бы немцу, так подобру-поздорову сам отправился в царство немецкое, прямо к сатане в кошель Иудин...
— Как? Руки на себя наложил?
— Нет, утонул в Орешке... А в кармане-то цидулочки Монцихины да парсуна её обретены, у утопленника-то и нашли. С праздником-то наш сокол и остался...
— Диво-диво...
Во время последнего разговора царевны Софьи с князем Вяземским царевич, приподнявшись с полу, стоял бледный, с дико блуждающими глазами. Он вспомнил слова своего духовника, отца Якова, который высказал опасение, что царь женится на новой любимице и что детям её суждено будет продолжать царствование на Руси. Опасение это пугало его не лично за себя, он ещё не дорос до возраста властолюбия, а он боялся за мать, которую любил страстно и разлука с которой, обставленная всякого рода насилиями и стеснениями, усилила эту страсть до болезненности. До сих пор он ещё верил, что отец опомнится, возвратит бедной изгнаннице если не своё чувство, то место около себя, а сыну возвратит мать, но теперь и эта мечта разрушалась: между отцом, матерью и сыном разверзалась страшная пропасть...
Царевич так сжал руки, что тонкие пальцы его хрустнули, хрустнуло что-то и в сердце.
— О Господи! Почто отвратил еси от меня лицо Твоё!— вырвался у несчастного крик отчаянья, крик, страшно памятный для него, крик, от которого он иногда по ночам просыпался в ужасе.
Страшный крик этот был роковою гранью в его жизни... Пять лет назад, когда он был ещё совсем ребёнок, рыдающая мать держала его в своих объятиях. Он до сих пор чувствует, как вздрагивало от судорог рыданья это дорогое, горячее, мягкое тело матери и как руки её прижимали к полной груди его плачущее лицо, его горячую голову. Вдруг кто-то берёт его за плечи и силою оттаскивает от матери... Слышатся крик, борьба... Его уводят, а за ним протягиваются руки матери и слышится последний, страшный крик материнского голоса: «О, Господи! Почто отвратил еси от меня лицо Твоё!..» С той поры он уже не слыхал этого голоса.
— Алёшенька! Постой! Подойди ко мне, — заговорила торопливо Софья, увидав, в каком нравственном состоянии находится несчастный царевич. — Ты хочешь с матерью повидаться?
Алексей, по-видимому, не понимал её, в этот момент он переживал разлуку с матерью. Софья встала и подошла к нему. Положив левую руку на плечо юноши, она правою перекрестила его.
— Ты веришь мне, тётке своей, друг мой? — спросила она тихо.
— Верю, тётя, — отвечал юноша, по-видимому, ничего не понимая.
— Я люблю твою мать, она добрая, тихая, и тебя люблю... И её, и меня взыскал Бог: ей, по великой благости своей, меня по грехом моим великим, за гордость мою... Я искала венца царского, тленного, а Господь судил мне венец терновый, буди благословенное имя Его святое! Я заслужила сие терние колючее... А ты, отроча невинное, рано, ох, зело рано, украсил главу свою венцом терновым... это не твой венец; за чужую голову ты носишь его, и Господь наградит тебя венцом царским... А теперь мне жаль тебя: я хочу дать тебе утешение... Хочешь видеться с матерью?
— Хочу, — со страхом отвечал юноша.
— И соблюдёшь тайну от батюшки?
— Соблюду, видит Бог.
Софья подошла к небольшому, покрытому чёрным бархатом с золотом, аналою и открыла лежавшую на нём, рядом с золотым крестом, книгу.
— Клянись, — сказала она.
Царевич не знал, что отвечать. Он глядел то на строгое лицо тётки, то на недоумевающего учителя своего.
— Повторяй за мной, — сказала Софья. — Сложи персты вот так и повторяй за мною клятву.
Она показала, царевич повиновался.
— Аз, раб Божий, царевич Алексий, клянусь Всемогущим, в Троице славимым Богом пред святым его Евангелием и животворящим крестом Христовым...
— Аз, раб Божий, царевич Алексий, — повторял юноша дрожащим от страха голосом.
— Никому же не поведати тайны сея...
— Никому же не поведати тайны сея, — трепетно повторялась клятва.
— Аще же я о сём клянусь ложно, то да буду отлучён от святыя единосущным и нераздельныя Троицы, и в сём веце и в будущем не иму прощения...
— Не иму прощения...
Голос Софьи всё мужал и становился грозным, пугающим. Голос царевича с трудом выходил из горла, перехватываемого судорогами...
— Да трясусь, яко древний Каин, и разверзнувшися земля да пожрёт мя яко Дофона и Авирона...
— ...пожрёт мя яко Дофона и Авирона...
— И да восприиму проказу Гиеззиеву, удавление Иудино и смерть Анании и жены его Сапфиры...
— ...удавление... смерть Анании...
Царевич повторял каким-то удушливым, обморочным голосом, весь дрожа и шатаясь...
— И часть моя будет с проклятыми диаволы, — глухо выкрикивала Софья.
Царевич не кончил клятвы... Он зашатался и упал на пол.
II
На другой день поле всешутейшего собора царь уже скакал на север, к морю, к дорогому, недавно только приобретённому клочку земли, который непосредственно соприкасался с этой, неоценимой никакими сокровищами мира стихией, с горькою, как горе людское, и солёною, как их слёзы, морского водою, открывавшею ему путь во все концы вселенной. В Москве он чувствовал себя неспокойно, тоскливо. В Москве ничто не развлекало его, даже шумный всешутейший собор, на котором мысль его уносилась куда-то далеко-далеко — или к невозвратной молодости, которую словно бы украли у него с шестнадцати лет вместе с грёзами юности, а взамен их дали лишь корону и тяжёлую порфиру, или к неведомому, но полному славы и величия будущему. Ему всё казалось, что и этот дорогой клочок земли, этот лучший алмаз в его короне украдут так же, как украли его молодость с её золотыми грёзами, и оставят его опять с одной Москвой, этой постылой старухой, и улыбки, и ласки, и приветствия которой ему опротивели до тошноты, как ласки постылой, заточенной им в монастырь Авдотьи-царицы.
Для скорости он взял с собою только Меншикова да Павлушу Ягужинского. Дорога от Москвы-реки, этой грязной клоаки, в которой не только ему, гиганту, но и воробью по колена, дорога от Москвы до Невы многоводной казалась ему нескончаемою. На всех ямах ставили под царя лучших лошадей — чертей-коней; на козлы садились ямщики, которые могли перегоняться с ветром и птицею; а царь всё торопил коней до загона, ямщиков до одури.
— Когда же это люди дойдут до того, что летать будут?— говорил он как бы про себя, глядя в синюю даль.
— Дойдут, государь, скоро, — отвечал Меншиков, зная, что отвечать надо было во что бы то ни стало, как бы ни был замысловат вопрос.
— А когда? — нетерпеливо добивался царь.
— Когда больше будет таких царей, как ты.
Царь улыбнулся. Он знал грубую, топорную, подчас ловкую находчивость своего Алексашки.
— Не царей... Одних царей для сего мало, — сказал он раздумчиво, — а когда все будут работать, как их царь... Вон мозоли.
И он показал широчайшую, массивную ладонь, загрубелую, покрытую мозолями.
— Это не мозоли, государь, а камни многоцветные, — тихо сказал Меншиков.
Павлуша Ягужинский, сидевший в том же экипаже, по-видимому, не слушал, что говорил царь с своим любимцем. Но это только так казалось: у Павлуши был слишком музыкальный слух, который схватывал не только слова царя, но и нервную музыку его голоса, и в то же время слышал свист встречного воздуха... Только глаза его задумчиво бродили по отдалённым предметам, видневшимся на горизонте, а мысль по временам забегала далеко на юг, в сад Диканьки, где ему предстало видение в цветах...
— А ты как думаешь, Павел, будут люди летать? — обратился к нему царь.
— Будут, государь, — отвечал юноша, скользнув своими мягкими глазами по стальным глазам царя.
— Почему ты сие знаешь?
— Потому, государь, что люди умнее птиц.
— Хвалю, умно...
Царь несказанно радовался, снова увидав Неву и возникающий город, любимое детище его сердца. Словно из-под земли вырастали крепостные стены. Гранитные плиты точно сами собой громоздились одна на другую... Нет, не сами собой... Вон весь невский берег усыпан человеческими телами, прикрытыми... серым, бесцветным, безобразным лохмотьем... То рыжая, никогда ничем, кроме корявых пальцев, не чёсаная борода торчит к голубому, хотя северному, но теперь душному, морящему небу; то печётся на жарком солнце, вся в пыли от щебня, косматая голова, которая всего раз, только в купели, была дочиста вымыта, а потом было некогда мыть её; то глядит на это жаркое солнце голая коленка сквозь продранные порты; то истрепавшийся лапоть, столь же чистый, как прибрежная грязь, отдыхает после каторжной гонки с берега на крепостную стену, со стены в сырую канаву... Эта серая куча тел человеческих, зипунов, лаптей, тачек, лопат, рогож изодранных рубах и портов, это титаны, воздвигающие новую столицу своему великому царству, титаны, которые, похлебав чистой невской воды с нечистыми сухарями, теперь отдыхают в жаркий полдень под стенами возводимой ими крепости.
А немного выше возводимой гранитной твердыни уже высится небольшая, наскоро сколоченная деревянная крепостца с шестью бастионами.
— Это первое логовище медведя, — весело сказал царь, стоя на одном из бастионов.
— Российский Капитолий, государь, — подсказал находчивый Павлуша, который прилежно читал историю.
— Так, так, Павел, и гуси в нём будут?
— Не знаю, государь.
— Я сюда из Москвы навезу гусей в бородах, пускай не спят по ночам, как те гуси, что Рим спасли, да стерегут мой Капитолий... А кто ж у нас Манлием будет, ты, Данилыч?
Меншиков не нашёлся, что отвечать, как ни был находчив: он не знал истории.
— Чем государь изволит указать быть, тем и буду, — уклончиво сказал он.
— А ты знаешь, кто был Манлий Капитолийский? — спросил царь.
— Не знаю, государь.
— Ну, да тебе не до ученья было... Ты у меня и без того молодец... Прежде сего ты знал токмо «пироги-горячи», а ныне мы с тобой «законы горяченьки» печём... Я назначаю тебя губернатором сей новой моей столицы.
Меншиков стал на колени и поцеловал руку царя.
День был ясный, жаркий. Широкая лента голубой воды катилась под ногами царя, у стен бастиона. Видно было ровное Заневье с зелёными лугами, окаймлёнными тёмным бором; Заневье, со стороны крепости, где ныне Адмиралтейская сторона. Всё это было пустынно, мрачно. Острова также представляли собою глухую лесную пустыню... Задумчиво глядел царь на открывавшиеся перед ним виды...
— Россия будет вспоминать Петра вот на этом самом месте... Коли Бог благословит мои начинания, я сюда перенесу престол царей российских: и будет шум жизни и говор людской, идеже не бе. Храмы и дворцы воздвигнутся, идеже мох один зеленеет... Будет на сём месте новый Рим, и память о Петре пронесётся из рода в род.
Пётр говорил это с глубокой задушевностью, потому что то, что говорил он, было его заветным верованием, мечтою, наполнявшею всю его жизнь. Да и как могло быть иначе? Из-за чего же он работал, как каторжный, физически, мускульно и умственно, работал, не давая себе ни на день, ни на час роздыху, работал, словно водопозная лошадь в пожар, когда имел все способы наслаждаться жизнью, развлекаться соколиною охотою по примеру блаженной памяти родителя своего, тишайшего и благочестивейшего царя Алексея Михайловича всеа Русии? Из-за чего он не досыпал ночей, не доедал лакомого царского куска, не знал покою ни днём, ни ночью? Ради чего он грубил свои державные руки, натруживая их до опухолей, до мужицких мозолей? Конечно, не ради притворства. Да и перед кем, да и для чего ему было притворяться? Не перед кем, не для чего... Можно не соглашаться с историками в оценке этой необыкновенной между людьми личности — за и против; можно оспаривать пользы, принесённые им стране; можно не одобрять приёмы его деятельности; можно идти ещё дальше, вслед за славянофилами. Но он работал, конечно, во имя своих идеалов.
— Я перенесу сюда мощи предка моего, благоверного князя Александра Невского... Кости его возрадуются здесь, видя, что следы славной виктории, одержанной им четыре с половиною века назад, не забыты его потомками.
В это время из Малой Невы выплыла небольшая рыбацкая лодка и, видимо, приближалась к бастиону, на котором стоял царь. Виднелась только сгорбленная спина работавшего на вёслах старика и обнажённая белая как лунь голова.
Лодка причалила к берегу, а из неё вышел старик и, приблизившись к валу, пал ниц на землю.
— Это, кажись, старый знакомый? — сказал царь, всматриваясь в старика.
— Я не узнаю его, государь, — отвечал Меншиков.
— Рыбак, новгородец, — подсказал Павлуша Ягужинский, у которого была изумительная память.
— Он, он, — подтвердил ларь, — Двоекуров, что проход нам в Мыю показал и первой нашей морской виктории своим указанием способствовал... Что он?
Старик всё лежал на земле. Царь вместе со своими спутниками сходит с бастиона и приближается к распростёртому на земле старцу.
— Встань, старичок, — говорит царь ласково. — Что тебе нужно?
Старик поднимает седую голову от земли и остаётся на коленях. Старые глаза светятся радостью.
— Здорово, Двоекуров!
— Буди здрав, царь-осударь, на многие лета! — дребезжит разбитый старческий голос.
— Что скажешь?
— Сижком кланяюсь твоему царскому величеству.
— Спасибо, дедушка... Чем ты сказал?
— Сижком, царь-осударь... Сига пымал тебе во здравие...
Но вдруг лодка, стоявшая у берега, поплыла сама собой: её что-то тянуло в глубь реки. Старик, всплеснув руками, отчаянно заметался.
— Ох, Владычица-Троеручица! Ох, ушёл разбойник! Ой, батюшка!
И старик бросился в воду, стараясь догнать лодку... Лодка удалялась всё дальше и дальше. Старик отчаянно бился в воде, поспешая за лодкой: седая голова несколько раз окуналась в воду и снова показывалась на поверхности. Момент был решительный, старик тонул.
— Он тонет! — крикнул царь и бросился к воде, Меншиков за ним.
— Государь! Что ты делаешь? Караул!
В этот момент, откуда ни возьмись, ялик с двумя матросами, которые, взмахнув вёслами, разом очутились около утопающего старика. Одни из них, схватив показавшиеся на поверхности реки седые волосы, приподнял утопающего, не давая ему снова окунуться в реку. Другой грёб к берегу. Старик, немного опомнившись, горестно застонал:
— Ох, Владычица! Ох, Троеручица! Сиг ушёл... Сиг ушёл с лодкой...
Старика вытащили на берег, но он опять лез в воду, повторяя: «Сиг ушёл... лодку увёл... ох, батюшки!»...
Царь, сообразив, в чём дело, приказал одному матросу поберечь старика, а другому велел догонять рыбацкую лодку, уплывшую по воле сига-разбойника... Старик продолжал метаться и стонать жалобно.
Но лодку скоро привели, и разбойника сига вытащили из воды. Это был действительно разбойник сиг необыкновенной величины: будучи привязан за жабры к лодке, он силою своею увлёк её в глубь реки и чуть не утопил несчастного старика, как бы в отмщенье за то, что тот поймал его в свои сети и привёл к царю, кланяясь своей добычей.
Пётр был рад, что всё кончилось благополучно, и любовался великаном сигом, которого с трудом удерживали два матроса. Спасённый от смерти старик, любуясь на великана царя и почти столько же на великана сига, плакал радостными, старческими мелкими слезами, поминутно крестясь и шамкая беззубым ртом.
— Спасибо, спасибо, дедушка! — благодарил царь, — Вот так рыба-богатырь! Да он больше моего Павлушки...
Павлуша Ягужинский обижается этим сравнением...
— Нет, государь, я больше...
— Ну-ну, добро... Ай да богатырь! Да это что твой шведский корвет, что мы с тобой, дедушка, взяли...
— Точно-точно, царь-осударь.
— Да как ты его осилил, старик;
— Оманом-оманом, царь-осударь, осилил подлеца... Сколько сетей у меня порвал, и-и!..
— Ну, знатную викторию одержал ты над шведом-сигом, старик. Похваляю.
Старик, радостно осклабляясь, качал головой и разводил руками.
— А ещё хотел у меня купить ево, голубчикя... Нет, думаю, повезу царю-батюшке...
— Кто хотел купить? — спросил царь.
— Он, шведин, осударь...
— Какой шведин? Что ты говоришь? — встрепенулся царь.
— Шведин, царь-осударь... Он, значит бы, с кораблём пришёл, а кораб-от у Котлина острова оставил... Чухонцы ево ко мне на тоню лодкой привезли... Чухна и говорит: «Продай ему рыбу-то, а не продашь, он даром возьмёт»... А он, шведин, и говорит: «Я-де, чу, не московская собака, чтоб чужое даром брать»... Так меня это, осударь-батюшка, словно рогатиной под сердце ударило... Я и говорю: «Русские-дё, говорю, православные люди, а не собаки, и сига-де вам моего не видать»... Так только смеются...
— Где ж ты их видал? — тревожно спрашивал царь.
— У лукоморья у самого, царь-осударь, там, за островом.
— А корабль их где?
— У Котлина острова стоит... Чухна сказывала: шанец, стало быть, острог на Котлине рубить хотят...
Царь был неузнаваем. За минуту ровный, ясный, спокойный взгляд его теперь горел лихорадочным огнём. Лицо его поминутно передёргивалось... Ещё в Москве, во время празднеств и всешутейшего собора, его мучила неотвязчивая мысль об этом проклятом Котлине: этот маленький огрудок в лукоморье; этот прыщик на поверхности взморья может превратиться в злокачественный веред и где же? У самого сердца... Сердце! У него нет своего сердца, вместо сердца у него слава России... Когда он прощался с круглоглазой, курносенькой Мартой и слышал, как колотится у него под мозолистой рукой её маленькое, робкое сердце, он и тогда думал об этом Котлине...
«А они хотят там шанц возводить… новый ниеншанц... нарыв у самого моего сердца... Так не бывать сему!»— клокотало в душе встревоженного царя.
В ту же ночь Пётр, в сопровождении Меншикова, Павлуши Ягужинского, старого рыбака Двоекурова и дюжины матросов, пробрался на небольшом катере к самому Котлину и, пользуясь начинающимися уже сумерками, вышел на остров. Шведского корабля там уже не было, потому что он, исследовав бегло берега острова, вышел в открытое море, воспользовавшись первым благоприятным ветром.
На взморье старик Двоекуров не утерпел, чтобы не показать то место, где он поймал сига-великана.
— Отродясь, батюшка-осударь, такого богатыря не видывал, — умилялся старый рыбак.
— Это он из моря пришёл поглядеть на богатыря царя, — пояснил Меншиков.
— Точно-точно, батюшка боярин.
А Пётр, сидя у руля и всматриваясь в туманные очертания острова и берега Финского залива с его тёмно-зелёными возвышенностями и крутыми взлобьями, мечтал: «Тут у меня будет крепость «Парадизшлюсс», ключ к раю российскому или «Кроншлюсс», ключ к короне российской... или «Крондштадт»... А там я возведу «Петергоф» — мою резиденцию, а там — «Алексисгоф», а около «Петергофа» — «Мартенгоф»... Какие добрые, нежные глаза... Нет, она не будет называться Мартой — непригоже... А лучше бы Клеопатра... нет, я не Антоний, не променяю царство на бабьи глаза».
Море положительно вдохновляло его. Тихий прибой волн и плеск воды у крутых рёбер плавно скользившего по заливу катера казались ему музыкой. На море он забывал и детей, и семью... Да и какая у него семья! Ни он вдовец, ни он женатый... Сын — выродок какой-то... моря не любит, войны не любит... Ему бы не царём быть, а черноризцем...
И опять охватывают его грёзы, величавые думы...
«Тут упрусь плечами, яко атлант мифологийный, и на плечах моих будет полмира, а ногами упрусь в берега Дуная, где сидел прадед мой, великий князь Святослав... Он плечами доставал Киева и Новгорода, а я — на Неве крикну, а на Дунае мой голос услышат... Карла я вытолкаю за море, к варягам, правую и левую Малороссию солью воедино... Мазепа и Палий будут моими губернаторами... А там, что богу угодно будет...»
И неугомонная мысль его переносится в Воронеж, к Дону, где строятся корабли для воины с турками.. Вспоминается измождённое, кроткое, святое лицо Митрофана, епископа Воронежского, которого царь так полюбил за ум светлый, восприимчивый, за обаятельную чистоту сердца и за положительную святость, какой он ещё не видал на земле.
«Он благословил меня на агарян... святой старик!..»
«Се аз на тя. Гог, и на князя Рос, Мосоха и Фовеля и обращу тя окрест, и вложу узду в челюсти твоя...». Я не забуду этих слов его из пророка Иезекииля... «Недаром народ боготворит его, при жизни молебны ему служит...»
Катер пристал к берегу острова Котлина. Остров небольшой, низменный, с небольшими взлобинами, кое-где покрытый лесом, кое-где осокой. Окружавшее его море было тихо, и только небольшая зыбь нагоняла на берег едва заметные, сонные волны. Уже совсем рассвело, когда пловцы вышли на берег, и проголодавшиеся за ночь птицы уже реяли над водою, ища себе пищи. Выкатывавшееся из-за горизонта солнце золотило уже верхушки финляндского побережья... То была шведская земля...
Пётр, стоя на возвышении, задумчиво глядел на море, на вырезывавшиеся вдали, вправо и влево, возвышенные берега... Виднелось даже что-то похожее на устье Невы... Петру грезилось наяву, что он видит уже гам, на месте заложенного им городка, золотые маковки церквей, упирающиеся в небо кресты, какой-то гигантский, необычайный, как бесконечная свайка, иглообразный шпиц с ангелом и крестом на золотом яблоке... Бесчисленные, словно лес, чёрные мачты кораблей с флагами из синих, белых а красных широких полос...
— Ишь, островок махонький, словно бы проран в игле, — шамкал старый рыбак, топчась на месте и благоговейно взглядывая на царя.
— Что говоришь, старик? — спрашивает царь, очнувшись от грёз.
— Островочек, говорю, осударь, махонький, проран, чу, в игле...
— Проран?
— Проран, царь-осударь, куда нитку вдевают...
— Да, правда твоя, старик: это точно, игольное ушко...
— Игольное осударь, игольное...
— И кто войдёт, в сие игольное ушко, вельбуд ли шведский, я ли, тот и будет в царствии небесном, в «парадизе» сиречь...
— Точно-точно, осударь, — шамкает старик, не понимая слов царя и его иносказаний.
А Меншиков и Павлуша Ягужинский хорошо понимaют его... Котлин — это действительно игольные уши к Петербургу, к новой столице русской...
— Вдень же, государь, нитку в ушко, благо ушко свободно, — иносказательно говорит Меншиков.
— Ныне же нитка будет вдета, — отвечал царь.
Тут же на возвышении, откуда он осматривал море и его окрестности, царь велит матросам оголить от ветвей росшую одиноко, стройную сосенку. Когда сосенка была очищена, Пётр велит снять с катера бело-красно-синий флаг и водружает его на верхушке сосенки. Потом на стволе дерева собственноручно вырезает матросским ножом:
«На сей горсти земли, данной мне Богом, созижду охрану царства моего. Anno 1703. Piter».
Оглянувшись, царь увидел, что Павлуша Ягужинский сидит у подножия холма, глубоко опустив свою чёрную голову.
— Павлуша! — окликает его царь.
Юноша с трудом поднимает голову и смотрит на царя помутившимися глазами.
— Ты спишь, Павел?
— Нет, государь, — отвечает слабый, болезненный голос.
— Так что с тобой?
Юноша силится встать на ноги, приподнимается и снова в изнеможении опускается на землю. С беспокойством приближаются к нему царь и Меншиков. Голова Павлуши падает на сырой песок.
— Павел... Павлуша... — царь с участием нагибается к нему.
— Он занемог, государь... Весь в огне, — тихо говорит Меншиков, дотрагиваясь до головы юноши.
— Ах, Господи! Печаль какая!
И откуда у сурового, железного Петра столько ласки, столько нежности в голосе, привыкшем повелевать, посылать на смерть, под пули, на плаху! Откуда?.. Да ведь ему, которому принадлежало пол-Европы, некого было любить, некого жалеть, не над кем склониться с нежностью и плакать тёплыми слезами... Не над кем!.. Сын!.. Э! Да Бог с ним... не такой он... А в этом мальчике десять, двадцать таких сидит, как сын... Золотая голова, золотой глаз...
Царь опускается на колени, нежно и с боязнью глядит на молодое лицо, упавшее на песок...
— Павлуша... дружок... Господь над тобой...
Железные руки бережно приподымают юношу... Как маленького ребёнка, великан прижимает его к груди... Горячая голова Павлуши валится с плеч...
— Господи!.. Скорее бы в город... лекаря... Катер живее!
И царь несёт своего любимца к катеру, быстро входит в него, велит застлать пол лодки плащами, парусом, кафтанами и бережно кладёт на них больного.
Катер быстро скользит по гладкой поверхности моря. Царь, сидя у руля, не спускает глаз с больного юноши, который мечется в жару...
— Мазепа гетман... змеи в глазах... Цветы, цветы, море цветов... Кочубей... Мотря, в волосах цветы... а там змеи...
— Бредит Малороссией...
Да, юноша не вынес утомления, бессонных ночей, гонки из конца в конец Русской земли, массы подавляющих впечатлений, крови... он уже видел кровь сражений... Что выносили железные тела и железные души царя и Меншикова, того не вынес хрупкий организм и незакалившийся ещё дух мальчика, будущего железного человека...
III
Поразительное, невиданное зрелище представляла Русская земля в год заложения Петербурга и Кронштадта — 1703 год. Если бы существовало на земле всевидящее око и всеслышащее ухо, то увидало бы оно и услыхало то, что «не лет есть человеку глаголати».
Непрестанный стук топоров и визжанье пил оглашают всю Русскую землю от Невы до Дуная почти, до Дона и до дальних изгибов Волги. Это Русская земля строит корабли. Всё царство разделено на «кумпанства» для корабельного строения. Вотчинники светские и духовные, помещики и гостиные люди, люди торговые и мелкопоместные слагаются в «кумпанства» и строят по одному кораблю: светские — с десяти тысяч крестьянских дворов, духовные — с восьми тысяч, а гости и торговые люди строят сами собой двенадцать кораблей.
И вот стучат топоры, и визжат пилы, по всему царству, пугая своим гамом и птиц, и зверей, и людей, которые разлетаются по лесам и полям, прячутся в норы, трущобы и извины, убегают в степи, скиты, в пустыни и за рубеж Русской земли... Стучат топоры, сколачивая неуклюжие «баркалоны», громаднейшие сорока- и пятидесятипушечные суда во сто и более футов длиною... Сколачиваются и «барбарские» суда, и «бомбардирские», и «галеры» — ещё громаднее первых... Вся Русская земля превратилась в топор, в пилу, в лопату, в тачку, в горн — для литья пушек, в фискала — для собирания податей на великое дело, в рекрутское присутствие — для обращения всей молодой России в новобранца…
— Это стук-от, Господи! — бормотал Фомушка юродивый, бродя в Воронеже по верфи, где торопились строить новые корабли в ожидании царя.
Фомушка прибрёл в Воронеж для поклонения святителю Митрофанию, о подвижнической жизни которого пронеслась великая слава по всей русской земле.
— До неба, до престола Божия стук этот доходит... Корабли, все корабли, ковчеги великие, словно перед всемирным потопом... Быть потопу великому...
Так каркал юродивый, окидывая изумлёнными глазами то, чего он в Москве никогда не видывал. Так каркали многие на Руси в то время... Да и нельзя было не каркать...
Только к зиме, по окончательному выздоровлении Павлуши Ягужинского, Пётр мог выехать из Петербурга, надёжно укрепив его и заложив у Котлина форт Кроншлот, и поспешил в Воронеж. Там ожидали его построенные за лето и вновь начатые постройкою корабли. Там же ожидал его новопостроенный хитрыми немецкими мастерами при помощи русских плотников и каменщиков небольшой дворец, обращённый фасадом к реке, на берегу которой вот уже несколько лет кипела египетская работа — построение великих кораблей, этих ковчегов будущего спасения Русской земли от потопления русского могущества на суше.
Не доезжая ещё до города, Пётр услыхал этот отрадный для его слуха и сердца стук топоров и визг неугомонной пилы...
— Это сколачивают гроб старой, бородатой, косной Руси, — сказал он задумчиво.
Встреченный колокольным звоном, царь вышел из экипажа, увидав толпы народа и впереди их престарелого святителя, епископа Митрофана во главе духовенства, с крестом в руке.
Был холодный день глубокой осени. Солнце ярко горело на золотой митре епископа и на кресте, который святитель держал окоченелыми от холода, худыми, бескровными, всю жизнь неустанно молившимися и благословляющими паству руками. На кротком, невыразимо симпатичном и страшно измождённым лике святителя покоилась глубокая мысль, и в добрых, глубоко запавших, но юношески чистых глазках светилось что-то не от мира сего... Как ни обаятелен был вид вновь прибывшего царя, но народ не спускал глаз с Митрофания...
Пётр подошёл к кресту, глубоко склонив свою гордую, непреклонную, царственную голову... Великан смиренно склонялся пред дряхлым, маленьким, кротким старичком... И не для простого народа это была потрясающая картина...
Павлуше Ягужинскому, при виде Митрофана-епископа, казалось, что это древний образ сошёл со стены церкви и вышел навстречу царю... Ещё не совсем оправившийся от болезни, Павлуша дрожал как в лихорадке... Он ещё верил...
— Буди благословенно пришествие твоё, о царю, — ясным, юношеским голосом говорил дряхлый епископ. — Да будут благословении вси пути твои и начинания во благо Русской земли, ради счастия народа твоего верного. Буди славен и препрославен труд твой, подъятый ради возвращения отечеству невских берегов, их же ороси некогда кровь предков твоих и предков народа русского под святым стягом благоверного князя Александра Невского... Тела убиенных тамо вопияли ко Господу о возврате останков их родной земле... И ты, царю, возвратил русские кости убиенных тамо Русской земле, и за то молится о тебе святая церковь... И ты молился о душах их, царю?
— Молился, владыко, — отвечал царь.
— Да благословит тебя Господь Бог!
Епископ широко осенил крестом сначала царя, потом народ на все четыре стороны... Высоко поднялись, за крестом, в воздух тысячи рук, и какой-то радостный ропот, словно ропот волн, прошёл по толпе от края до края...
— Многая лета, многая лета! — гремел хор вослед удалявшемуся царю.
Часть толпы бросилась за царём, большая же половина стеной окружила епископа, жаждая поближе взглянуть на него, получить благословение, прикоснуться к его ризам... Тут сказывалось глубокое благоговение и беззаветная, детски-неудержимая любовь к святителю...
Да и как мог народ не любить Митрофания! Все эти тысячи и десятки тысяч согнанных со всех концов России строителей великого ковчега: плотники, пильщики, каменщики, землекопы, «амо обращающие потоки водные, камо от века не текли они»; этот бедный народ, пришедший на богомолье и терпящий от голода и холода, все эти алчущие и жаждущие, страннии и обремененнии, слепые и хромке каждый день толпятся у архиерейского двора и получают из обширной архиерейской поварни всё, чего им, по бедности, не довелось ни допить, ни доесть... Это было всенародное кормление, лечение, призрение... Сам владыко изо дня в день бродил своими старыми, недужными ногами по оврагам, норам, трущобам и язвинам, где в непогодь укрывались голодные и больные строители великого ковчега, и всех их кормил, поил, лечил, утешал, сам падая от изнеможения... Огромные архиерейские мастерские были заняты день и ночь изготовлением для бедных тёплой одежды и обуви... Криками радости и благословениями встречали святого старичка бабы и дети, едва замечали вдали чёрный клобук святительский и под ним кроткое апостольское лицо, улыбавшееся детям... О! Народ недаром сам канонизирует при жизни своих любимцев, святителей и угодников; только непосредственным добром народу заслуживается народная слава...
Как ни был смел Фомушка-юродивый, который даже царя не боялся, но при виде Митрофания пропала вся его смелость и находчивость; раз только святитель взглянул ему в очи своими кроткими, детски-чистыми глазами, и Фомушка понял, что угодник одним взглядом прочитал всю его жизнь, заглянул во все сокровенные изгибы его души, выкопал из-под пепла прошлого всё, что даже он сам давно забыл, похоронил, отмолил у Господа...
— Ох, страшно, страшно всеведение святости, — бормотал он, пряча свои глаза, — разогнулася книга моя животная, листок по листку... Ох, страшно, Господи!
Пётр, для которого московские бородачи и чёрные клобуки были более ненавистны, чем шведы, только перед одним клобуком невольно смирялся, как перед олицетворением нравственной, идеальной чистоты, добра и правды, — это перед клобуком смиренного, кроткого Митрофана. Гордый царь чувствовал, что в худенькой, костлявой руке, благословлявшей обнажённые головы толпы, было больше силы, чем в его державной мозолистой руке, и не завидовал этому...
«Эти живые мощи сильнее меня, — думалось ему, когда толпа заколыхалась, бросившись вслед за уходившим святителем, — он один не понимает своей страшной силы, точно младенец невинный...»
В этот приезд в Воронеж царь особенно чем-то озабочен был даже при виде своих любимых кораблей. Лицо его чаше обыкновенного нервно подёргивалось, и Павлуша Ягужинский, который всегда видел его насквозь, на этот раз никак не мог понять причины тайного беспокойства своего повелителя. Один раз в жизни он видел у царя почти такое же выражение лица с нервными подёргиваниями; но тогда глаза его метали искры гнева, а теперь они казались более задумчивыми... То было давно, когда Павлуша был ещё очень маленьким и служил у Головкина, то было во время стрелецкой расправы... Но что теперь происходило в душе царя, Павлуша не мог понять. Одно он заметил: когда в этот раз, проездом из Питербурха в Воронеж, они останавливались в Москве, царь несколько раз беседовал о чём-то наедине с царевичем Алексеем Петровичем, казался раздражённым и рассеянным; а потом долго разговаривал о чём-то с Мартою и в разговоре несколько раз настойчиво произносил слово «пароль» и упомянул имя царицы Авдотьи...
На другой день царь послал Павлушу пригласить к себе преосвященного по делу. Около архиерейского дома, по обыкновению, стояли толпы, толкаясь по делу и без дела. Увидев молоденького царского денщика, толпа заколыхалась, догадавшись о цели посольства Ягужинского.
— За архиереем идёт от царя...
— Ох светики! Так выдет сам-от батюшка?
— Знамо, чу, выдет...
— К царю, их, матыньки!
— Сюда, робята! Сам выдет...
— Ой ли! Что ты!
— Пра! К царю, слышь...
В архиерейском доме Ягужинского встретил толстый, с добродушным лицом келейник, который тотчас же доложил о приходе царского денщика и затем, воротившись в приёмную, просил его следовать за собою, извиняясь, что владыка несколько устал за службою и теперь отдыхает...
Павлушу ввели не то в кабинет, не то в молельную, уставленную иконами в дорогих окладах. У икон теплились лампадки, и свет их, смешиваясь с дневным светом, проникавшим в окна, производил такое впечатление, как будто бы в комнате должен был находиться покойник...
Павлуша почувствовал, как холодный трепет прошёл по его телу, в комнате действительно был покойник!..
В переднем углу, головою к образам, стоял на полу простой дубовый гроб, в гробу-то и лежал покойник... но он был жив... бледное, усталое лицо смотрело из гроба кроткими, приветливыми глазами... Это был святитель Митрофан!
Павлуша окоченел на месте…
— Мир ти, юноше! — тихо проговорил голос из гроба.
Святитель силился приподняться, но не мог от слабости. Келейник нежно наклонился к нему и, как ребёнка, приподнял из гроба... В гробу, в изголовье, лежали дубовые стружки... Какова постель!
Святитель приблизился к Павлуше и благословил его. Юноша с трепетом и благоговением припал к худой, сухой и холодной руке архиерея, который ласково глядел в смущённое лицо посланца.
— Ты от царя, сын мой?
— От царя, владыко, — был робкий, едва слышный ответ. — Его царское величество указал просить...
— Явиться к царю?
— Да... пожаловать, святой отец...
— Буду, неукоснительно буду... А ты денщик царёв?
— Денщик, святой отец...
— Молоденький какой. А трепетна служба на очах у царя, ох, трепетна. Близко царя, близко смерти.
Павлуша молчал. Что-то невыразимо доброе звучало в голосе святителя... это забытый голос матери... Павлуше плакать захотелось...
— А как имя твоё, сын мой?
— Павел Ягужинский, владыко.
— Павел Ягужинский... не российского, видно, роду.
— Я из Польской Украйны, святой отец.
— Так-так... От запада прииде свет, всё от запада... Там, на западе, солнце долее стояло, чем на востоце, по повелению Иисуса Навина. Такова воля Господа, ныне от запада свет, — говорил, словно про себя, святитель, тихо качая головой. — А нам пора в могилу... вот моя ладия, вечная ладия тела моего бренного...
«Да не смущается сердце ваше — веруйте в Бога и в Мя веруйте — в дому Отца Моего обители многи суть», — слышится протяжное, за душу хватающее чтение: это читает кто-то в соседней комнате.
«Господи! Что за страшная жизнь!» — щемит в душе у Павлуши, и он готов разрыдаться, но сдерживается.
— Доложи, сын мой, царю, что непомедлительно приду к нему, — прерывает тягостное молчание архиерей.
Павлуша кланяется, а глаза его снова падают на ужасный гроб... Это страшнее кладбища!
Через несколько минут архиерей, в сопровождении своего келейника, вышел из дома. Толпа, стоявшая у ворот и на площади, казалась ещё многочисленнее. Едва показался старый епископ, как все обнажили головы; многие крестились. Толпа разом нахлынула к своему любимцу; он кротко улыбнулся, поднял свои добрые глаза к небу, как бы прося благодати у невидимой силы, и стал благословлять направо и налево: «Благодать свягаго Духа, благодать святаго Духа»...
Архиерейский дом отделялся от нового царского дворца только площадью, и архиерей направился к царю пешком, как он обыкновенно посещал норы и язвины бедных и рабочих...
Царь смотрел в окно на шествие святителя... Что это было за шествие! Рабочие бросали на землю свои зипуны, бабы платки и холсты, чтобы только святые ноги архиерея прошли по их одежде... Иные целовали следы этих ног, брали из-под них землю и навязывали на кресты, бабы подносили своих детей... Только младенческий народ так непосредственно умеет ценить святость и истинную доброту человеческую.
— Владычица! Упадёт кормилец...
— Из гроба, чу, встал, светик наш...
— Ох, матушки! Из гроба...
— Из дубового, сам, братцы, видел... и стружки в ем...
— Ох, Господи! Касатик!
— Все там будем...
Архиерей, с трудом пройдя площадь и вступив на царский двор, обогнул дворец справа, чтобы подойти к главному входу с фаса, обращённого к реке.
Подойдя к подъезду с опущенными в землю глазами и потом подмяв их, архиерей остановился в неподвижном изумлении. На добром лице его изобразились не то гнев, не то горечь и жалость... Детски-кроткие глаза заискрились, и он попятился назад.
— Свят-свят... что есть сие!
На крыльцо выбежал Ягужинский, чтобы встретить владыку. Но тот стоял неподвижно, только голова его дрожала, и посох нервно ударял в промёрзлую землю...
— Идолы еллинскне... Чертог царя, и кумиры идоложертвенные... Свят-свят, Господь Саваоф!..
У входа во дворец стояли статуи. Особенно поражал своею величественностью Нептун с трезубцем, более других любимый Петром классический бог. Тут же стояли Аполлон, Марс и Минерва.
Статуи эти соблазнили святителя, который считал «еллинских идолов» неприличным украшением для царского дворца. Архиерей был прав со своей точки зрения и сообразно византийским преданиям, господствовавшим тогда в нашей церкви.
— Куда ты меня привёл? — и кротко, и в то же время строго спросил он келейника.
Тот молчал. На добродушном лице его выражалось смущение.
— Что это такое? Я тебя спрашиваю, — повторил святитель громче.
— Дворец, владыко...
— Не дворец царский, а капище идольское...
— Ваше преосвященство! — смущённо заговорил Ягужинский, приближаясь к архиерею. — Его величество ждёт...
Святитель вскинул на него своими чистыми, блестящими внутренним огнём, глазами.
— Доложи его величеству, что служитель Бога живого, предстоящий престолу Его предвечному, не внидет в капище языческое...
— Владыко... отец святой...
— Пойди и передай мои слова государю, юноша! — по-прежнему кротко, но твёрдо сказал архиерей.
Ягужинский убежал в дом. Архиерей продолжал стоять на дворе, опустив голову... Народ, прорвавшись в ворота, смотрел в недоумении на стоящего у крыльца святителя...
Снова вышел Ягужинский. Смущение и страх выражались на его живом, прекрасном лице.
— Его величество повелел указать... — юноша совсем замялся и покраснел.
— Что повелел указать?
— Явиться к нему... и — и (голос у Павлуши сорвался) — напомнить, что ожидает... ослушников...
— Скажи, юноша, его величеству, что я скорее явлюсь к престолу Всевышнего, будучи предан лютой казни, чем переступлю порог капища сего! — громко, отчеканивая каждое слово, отвечал Митрофаний. — Я охотно приму мученическую смерть... Доложи царю, что и гроб у меня готов уже...
И, быстро поворотившись, он вышел со двора, благословляя народ... Словно море, заколыхалась площадь человеческими головами...
Царь стоял у окна бледный, с зловещими, страшными подёргиваниями искажённого лица.
IV
Народ, сопровождавший Митрофания, был необыкновенно поражён тем, что он видел. Некоторые видели только, что архиерей был чем-то остановлен у входа в царский дворец и воротился назад с особенной строгостью на добром, всепрощающем лице, которое так было знакомо народу именно в смысле всепрощения. Другим удалось слышать протестующий голос владыки. Иным бросилось в глаза изумлённое и испуганное лицо юного царского денщика. Некоторые, наконец, слышали самые слова Митрофания, хотя уловили их без связи: «Дворец» — «капище идольское» — «лютой казни» — «гроб готов»... Что это такое? Кто на кого разгневался? Кто кому угрожал? Кого ожидает гроб? Конечно, того, кто менее силён в этом столкновении. А что столкновение между царём и архиереем произошло, это было ясно как день. Но из-за чего? Конечно, из-за этих медных «бесов», что поставлены при входе во дворец. Да и кто мог не смутиться при виде этих огромных медных дьяволов, что стоят там! Ещё когда только привезли их откуда-то, да привезли не на простых возах, а на каких-то огромных катках с невиданно толстыми колёсами без ободьев и без спиц, так и тогда народ диву дался и недоумевал, что бы это было такое. Ведь шутка ли! Одних лошадей было впряжено в эти дьявольские колесницы по три тройки. Сначала думали было, что это царь, для потехи себе, велел привезти из Москвы царь-пушку да царь-колокол, и все с нетерпением ждали увидеть эти чудеса. Но когда чудеса эти корабельные плотники целой артелью едва осилили стащить с катков и когда стали освобождать их от рогож, то из рогож показались ужасы! Там нога медная торчит, там рука, да такой необычайной величины, что и не леть есть человеку глаголати; плотники так и шарахнулись от них с ужасом, крестясь и чураясь: «Чур-чур-чур меня! Чур, нечистая сила!» А как немецкие мастера сняли рогожи с верхних частей этих чудищ, и народ увидал там огромные медные головы с медными волосами и медными глазами без зрачков, так всем ясно стало, что это дьяволы, «идолы медяны». С тех пор так эти чудовища и пошли за медных бесов, и народ боялся их.
Теперь, когда что-то произошло между царём и архиереем и когда архиерей, видимо, хотевший подойти к царю, наткнулся на медных бесов и воротился назад, ясно стало, что всё это из-за бесов. По городу, по рынкам и между рабочими артелями пошли толки самые разнообразные, самые невероятные. Бабы и тут, как и везде, представляя собою материал более восприимчивый и более горячий, оставляя в своём более впечатлительном мозгу всегда свободное гнездилище для фантазии, бабы уже разносили по городу целые легенды, с неопровержимыми цитатами, что «сама-де своими глазыньками видела». Одна рассказывала, что «когда батюшка Митрофаний подошёл к медным бесам, так они испужались его, угодничка, и медными глазищами своими так и воззрились». Другая уверяла, что когда Митрофаний «перекрестил их, бесов, так у них, у проклятых, из ушей и из ноздрей полымя — полымя так и пышет». Третья рассказывала, что бесы, как увидали, что «к ним идёт сам угодничек Митрофанушко, так от радости, мать моя, заплясали, да заплясамши-то и говорят: «Наш еси, Митрофаний, — воспляшем». Одним словом, толкам, догадкам и ужасам не было конца. Но всё это сводилось к одному страшному вопросу: «Сказнит» царь Митрофания или «не сказнит». Большинство было уверено, что «сказнит». Слова, сказанные самим архиереем о «казни», о «готовом гробе», подтверждали возможность и даже неизбежность этого последнего, трагического исхода.
Но ещё в большее изумление и ужас пришёл народ, когда к вечеру услыхали, что самый большой колокол соборной колокольни ударил на «отход души». Все невольно вздрогнули от этого звона: все знали, что этот колокол звонит только на «отход священнической души». Кто же из попов соборных умер? Недоумевали все... За первым ударом, как это всегда бывает при звоне «на отход души», следовал убийственно долгий промежуток: унылый, мрачный гул первого удара всё ещё стоял, медленно замирая, в вечернем воздухе. Ждали второго удара, напряжённо ждали. Сколько-то раз ударит? Чем больше ударов, тем старше поп... Но вместо повторения удара на соборной кафедральной колокольне ударил колокол на крестовой архиерейской церкви!.. Ужас напал на богомольных воронежцев и на весь пришлый, тысячами согнанный для корабельного дела народ... Умер кто-то в крестовой церкви; кому же больше, как не Митрофанию!.. После крестовой отходный колокол уныло ударил на колокольне малого собора, потом в другой, в третьей, в четвёртой церкви — все воронежские церкви ударили по разу, да так медленно-торжественно, пока не замирал последний звук стонущего колокола на предыдущей колокольне. А там снова загудел большой соборный колокол... Опять ему ответили все церкви одна за другою, опять это страшное перекликание глухо ревущей меди.
Что это такое? Народ повалил толпами к архиерейскому дому, слышно уже было, как выли и голосили бабы. Рабочие, топоры которых стучали на верфи до глубокой ночи каждый день, теперь покинули свои работы и кучами спешат на площадь. Площадь уже полна народу. В окнах архиерейского дома светятся необычайные огни; видно, что зажжены свечи у всех паникадил, у всех образов. Мелькают тени протопопов, попов и диаконов в чёрных ризах. Из самого дома невнятно доносится погребальное, не то отходное пение...
Умер Митрофаний, преставился угодничек Божий. Да и смотрел он уже мертвецом, не жильцом на белом свете. Весь-то он уже был словно восковой, точь-в-точь белая свечечка воскояровая, и ручки-то восковые да холодные-холодные! Только в глазах и теплился огонёк.
И царь в недоумении. Что за необычайный звон на отход души? Чья душа отходит, да не мирская душа, а иерейская? Не таков звон, это звон большой, епископский, это отход большой души, словно бы царской... Пётр невольно дрогнул... Подходит к окнам — площадь залита народом, а в архиерейском доме зловещие огни. Что там творится?
Немедленно царь посылает Ягужинского узнать, что делается в архиерейском доме, по ком это звон в городе?
Сопровождаемый двумя рейтарами, Павлуша с трудом пробивается сквозь живую стену мужичьих тел. На архиерейском дворе те же толпы, но только больше духовенства. «Посол от царя, посол от царя!» — проносится глухой говор по площади и по двору. На лестнице также толпится духовенство, в покоях тоже... Воздух пропитан курениями... В крестовой идёт служба...
— По указу его царского величества пропустите! — заявляет Павлуша своим отроческим, ещё не сформировавшимся голосом. — Где преосвященый?.. Его величество указать изволил...
— Владыка в крестовой... отходит, — отвечает кто-то убитым голосом...
Кругом слышатся стенания, то глухие, то неудержимые.
— Отходит?.. Кончается? — растерянно спрашивает Павлуша.
— Готовится на исход души...
Павлуша входит в крестовую. Она полна духовенства. Все стоят коленопреклонённые...
Юного царского посланца охватывает ужас... Среди церкви на архиерейском возвышении стоит гроб, а у гроба Митрофаний, коленопреклонённый, громко, пред всею церковью, исповедуется в грехах всей своей жизни и плачет. За ним плачет вся церковь...
— Заповедую вам, молю вас! Тело моё грешное псам вверзите, — слышится Павлуше; это говорит Митрофаний.
Юноша не выносит этой, раздирающей душу, сиены. Ещё недавно он сам вынес жестокую горячку, которая подкосила его в тот момент, когда неугомонный царь воздвигал крест на Котлине в ознаменование закладки там будущей грозной крепости; ещё недавно метался он на могучих руках царя, в безумном бреду, переживая те острые боли постоянно бьющих по сердцу и по нервам впечатлений, неизбежных в присутствии такой страшной, всё опрокидывающей силы, как Пётр, и слишком сильных для такого хрупкого организма, как организм юноши; ещё не успел этот юноша отрешиться ни от глубокого потрясения, какое он испытал в Украине, в саду у Кочубея, при необыкновенной встрече с его дочкою, залитою цветами, и с этим смеющимся сатиром с лукавыми глазами, ни от сцены смерти Кенигсека, ни от кровавых сцен штурма Ниеншанца, и вдруг эта потрясающая сцена! Измождённый старик заглядывает в свой гроб... Но мало ему этого гроба: гроб — это роскошь для него! «Вверзите псам тело моё!» Вот где успокоится измождённое тело...
Разбитый, подавленный этим впечатлением, Павлуша возвращается к царю бледный, растерянный...
— Ну, что там? Что с Митрофаном? Скончался? — спрашивает Пётр, участливо глядя на своего любимца, которого ещё недавно он с трудом отнял у смерти.
— Кончается, государь... У гроба исповедуется... Велит тело своё собакам отдать... Все плачут, — бессвязно отвечает юноша.
— Так внезапно! Бедный старик, я огорчил его... Я хочу его видеть...
— Нет, государь... да... успокой его.
Царь быстро проходит через приёмную, где немецкие и голландские мастера-корабельщики ждут его с своими докладами, чертежами, моделями, и они, видимо, торопятся, и они наэлектризованы неугомонным кайзером, куда девалась немецкая неповоротливость!
— Клейх, клейх, мине херен! — торопится царь. — Я скоро ворочусь!
— Ай-ай-ай! — диву даются немцы. — Нун! Спет оркан! Аа-ай-ай!
А этот «ураган» уже несётся по площади, на целый аршин высится над всеми голова великана, и народные волны расступаются перед «ураганом», площадь колышется... «Царь, царь идёт»... Пока царь шёл, шёпот этот, обойдя всю площадь, проник и на архиерейский двор, и в архиерейский дом, и в крестовую церковь. Понятно поэтому, что там ждали царя, и когда он проходил по дому в крестовую, то всё расступалось перед ним и склонялось, как трава под ветром. Но служба продолжалась; Пётр слышал, что в церкви поют «отход души».
Царь вступил в церковь и остолбенел от изумления: на архиерейском возвышении стоял гроб, а мертвец, положенный в гроб, благословлял его, царя!
— Благословен Грядый во имя Господне! — благословлял царя Митрофаний из гроба.
Царь не понимал, что вокруг него делается; он видел только, что все плачут, а тот, кого оплакивают, глядит из гроба и благословляет своею мёртвою рукой.
— Митрофан! Что есть сие? — спросил Пётр, приблизившись к гробу и глядя в кроткое, как и всегда, лицо епископа.
— Творю волю царёву, — отвечал лежавший в гробу.
— Какую мою волю! Кто объявлял её тебе?
— Твой денщик перед лицом народа твоего.
— Но что он объявил тебе?
— То, что ослушника царёвой воли ожидает смерть... Я готовлюсь к смерти, я должен умереть.
— Ты не должен этого делать, жизнь твоя в руках Божиих.
— Ив царёвых... Ты изрёк мне смерть... Не мимо идёт слово царёво...
— Митрофан! — резко сказал царь. — Ты смеёшься надо мной! Встань из гроба!
— Не встану! — отвечал старик.
— Встань, говорят тебе!
— Не встану.
— Послушай, — и лицо Петра исказилось, — вспомни митрополита Филиппа и царя Иоанна!
— Помню, царь... Большего и ты не сделаешь. Я умру...
Пётр отшатнулся от гроба. Он чувствовал, что железная воля его встретила волю более упругую: из молота он сам превращался в кусок железа, и тяжкий молот бил по нём. Кто же был этот молот? Полумертвец... Пётр снова почувствовал, как чувствовал это утром на площади, что он бессильнее этой тени в образе человека.
— Митрофан, епископ Воронежский и Задонский! — грозно сказал царь. — Я повелеваю тебе встать!
— И паки реку: не встану!.. Не мимо идёт слово царёво, — продолжал твердить упрямец.
— В последний раз говорю тебе, Митрофан... Слушай! Божиею милостию мы, Пётр Первый, император и самодержец всероссийский, повелеваем тебе: встать! Это мой именной указ...
— Именному указу я повинуюсь: я встаю, — сказал наконец Митрофаний.
Но встать он не мог, силы покинули его. Он было приподнялся из гроба, перекрестился; но хилое, испостившееся и изморившееся тело не выдержало страшных напряжений духа, и старик опрокинулся навзничь, ударившись головой о край гроба. Присутствующие вскрикнули в ужасе. Испуганный царь нагнулся к несчастному и силился приподнять его...
— Прости меня, отче святой, прости! — шептал он, целуя холодную руку подвижника.
— Бог простит, Бог простит...
— Я был не прав перед тобою... Я сказал необдуманное слово... Прости меня!
— Бог да благословит тебя, сын мой.
Поддерживаемый царём, Митрофаний встал из гроба и, обращаясь к присутствующим, сказал: «Отцы и братия! Царь даровал живот мне... Молитесь о здравии царя». Потом, обращаясь к Петру, сказал: «Не суди, царь, безумие моё видимое... Ради тебя я не вступил во дворец твой: не идолы еллинские остановили меня, а невегласы... Помни, царь, на их выях зиждется крепость твоя, а я — пастырь их... Крепко будет царство твоё, доколе овцы будут слушать гласа пастыря своего»...
В ту же ночь по приказанию царя статуи, стоявшие у входа во дворец, были сняты. Это было первый раз в жизни Петра, что он покорился чужой воле. И кто же сломил этого железного великана! Дряхлый, стоящий одною ногою в могиле, старичок.
Когда на другой день Митрофаний явился к царю, то о вчерашнем происшествии не было произнесено ни одного слова ни с той, ни с другой стороны. Пётр был ещё более внимателен к старому святителю и казался несколько задумчивым.
— Я хочу посоветоваться с тобой, святой отец, — сказал царь. — Меня отягчают и семейные, и государственные заботы, и я прошу твоей помощи.
Митрофаний сидел молча, наклонив голову и тихо перебирая чётки.
— У меня нет семьи, владыко, — продолжал царь. — Я одинок...
Митрофаний молча поднял на царя свои кроткие глаза и ждал.
— У меня нет жены, а сын сердцем принадлежит не мне, да он и не приносит мне утешения... Я помышляю вступить во второй брак, владыко... Благослови меня...
Митрофаний не сразу отвечал. Чётки в руках его усиленно перебирались.
— Если церковь благословит твой брак, то и я благословлю тебя, государь, — отвечал он наконец.
— Я и желаю, владыко, чтоб церковь освятила мой брак...
— А кого ты избираешь царицею? Дщерь православной церкви?
— Мет, владыко...
На лине Митрофания выразилась горечь сожаления... Он грустно покачал головой...
— Ошибки... все ошибки... Великие дела и великие погрешности... Величие и слепота, — повторял он как бы про себя, — Господи, просвети очи царёвы...
— О каких ошибках говоришь ты, владыко? — нетерпеливо спросил царь.
— Разогни книгу твоей жизни — и ты увидишь их, — отвечал Митрофаний. — Теперь новую ошибку хочешь вписать в книгу жизни твоей... А ошибки царей, ведай, государь, кровию миллионов пишутся на скрижалях истории...
— Я понимаю, владыко, о какой ошибке говоришь ты, — перебил его царь. — Но ту, которую я намерен царицею наименовать, я введу в лоно православной церкви... Какие же другие ошибки ты разумеешь? Не ты ли благословлял меня на дело просвещения России? Не ты ли один словом твоим мудрым укреплял меня в трудах моих? Не ты ли благословил борьбу мою с Карлом за возвращение земель предков моих? Не ты ли окропил святою водою первый корабль, который я построил здесь на твоих глазах? Не ты ли светлым умом прозрел будущее величие России и поддержал меня, одинокого, никем не понятого? И я ли не любил тебя за это!
Пётр встал и нервно заходил по комнате... Поразительный контраст представляла его мощная, гигантская фигура рядом с тщедушным телом архиерея, который грустно покачивал головой, по-видимому, далеко блуждая своей старческой мыслью.
— Я скоро, великий государь, предстану пред лицом Бога моего... Се ныне зде, с тобою беседую, а наутро в землю отыду, откуду же взят есмь... Творцу моему я повинен буду отчёт дать в том, всё ли исполнил я на земле. Не всё я исполнил, государь... не всё... и виною тому ты, великий государь.
— В чём же вина моя пред тобою, владыко?
— Имеяй уши слышати — да слышит, имеяй разум ведети — да ведает, имеяй очи сердечные — да видит... А у тебя, царь, сердце слепотствует...
— Говори же, в чём?..
— Да ты не послушаешь гласа моего... Не пастырь я твой...
Пётр остановился перед ним, вытянувшись во весь свой гигантский рост. Лицо его дёргалось, но в огненных глазах светилась небывалая теплота.
— Послушай, владыко! — резко сказал он, и голос его дрогнул. — Чего тебе надо от меня? Послушания, любви? Да я ли не люблю тебя больше всего на свете после России! Я ли не сын тебе? Я отца родного не любил так, как тебя люблю. Я не знаю, не ведаю, что это за сила в тебе, дух ли то Божий чуется мне в твоей кротости, ум ли то божественный горит в очах твоих смиренных, но я всегда слушаю тебя трепетно. Ты один не усыпляешь ум мой лестию, и ты один — один во всей державе моей — понял меня, подкрепил, благословил... Так ты ли не пастырь мне!
Он остановился, увидев, что старик плачет... Мелкие-мелкие, как роса утренняя, — крупные уже давно выплаканы! — слёзы, сбегая с бледного, худого лица, разбивались о чётки.
— Прости меня, царь, — тихо сказал Митрофаний, — я говорю с тобою в последний раз... Земля зовёт сию земную оболочку мою (и он указал на своё измождённое тело), — я отхожу от мира сего, час мой приспе... Выслушай же меня, великий государь, Богом живым заклинаю, выслушай.
— Я слушаю, — покорно сказал Пётр.
— Великие бедствия, царь, готовишь ты державе твоей в сердце твоём: сердце твоё отвратилось от сына, а он — не Авессалом. Помни это! — сказал Митрофаний. — Слёзы нелюбимого отольются горчайшими слезами на любимом. В новом браке твоём, царь, я предвижу горе для сына твоего.
Царь слушал, задумчиво склонившись на руку и, по-видимому, прислушиваясь к стуку топоров и визгу пил, доносившихся с пристани.
— Напрасно, владыко, я люблю Алексея, — сказал царь по-прежнему задумчиво, — только он не любит моего дела.
— Оттого, что ты его не любишь.
— Не знаю, но он назад глядит, а не вперёд.
— А потому, что назади у него образ матери...
Лицо Петра подёрнулось.
— Не напоминай мне царицу Авдотью, — сухо сказал он.
— Я напоминаю тебе всё, что велит мне совесть моя, я иду отдавать отчёт Богу и Царю моему и твоему... Ты вспомнишь меня в самые тяжкие часы твоей жизни и тогда уверуешь в слова мои: в кого ты душу свою положишь, царь, от того душа твоя прободёна будет...
— От кого же? — живо спросил царь.
— Я не знаю, я не пророк: я не имена говорю тебе, а заповеди человеческие.
В это время в кабинет, где сидели царь и Митрофаний, вошёл Павлуша Ягужинский и остановился у двери. Лицо юноши было необыкновенно оживлённо, на щеках играл румянец, в глазах светилось что-то особенное.
— Ты что, Павел? — спросил царь, пристально вглядываясь в лицо своего любимца.
— Посланцы, государь, от гетмана Мазепы приехали.
— Кого прислал он?
— Енеральнго судью Василия Леонтьевича Кочубея с бунчуковыми товарищами.
— Добро... Скоро приму их... А ты что такой весёлый?— неожиданно спросил царь.
Павлуша смешался ещё более и покраснел и готов был провалиться сквозь землю.
— Я ...ничего, государь... так, — бормотал он.
— Не так, я знаю тебя, ну! — настаивал царь.
— Я, государь, Диканьку вспомнил (Павлуша знал, что солгать царю нельзя было — допытается)... Там в саду так хорошо... и Кочубей там, и Мазепа...
Но юноша не досказал: не Кочубей и не Мазепа вспомнились ему в этих цветах, а Мотря; только о Мотре он не сказал царю... А между тем эта Мотря прислала с отцом поклон ему, Павлуше... Вот отчего горят его щёки.
Царь улыбнулся, а Митрофаний, глядя своими кроткими глазами на Павлушу, с любовью шептал: «Дитя... сих бо есть царство Божие»...
«Она не забыла меня», — билось радостно сердце Павлуши, и щёки его ещё пуще горели.
V
Прошло три года после описанных нами событий. Пётр продолжал войну с Карлом XII; положение дел год от году становилось с обеих сторон напряжённее, и грозный, никому неведомый исход этой роковой борьбы тем более обострялся, что напряжение сил и с этой, и с другой стороны, можно сказать, уже переходило за предел упругости; сталь событий, если можно так выразиться, не там, так, здесь должна была лопнуть. Пётр ни за что не думал уступать Балтийское море и лихорадочно работал над укреплением Петербурга и ключа к нему — Котлина с нововозведённой крепостью Кронштадтом. Для этой борьбы Россия должна была нести страшные, небывалые жертвы: для того, чтобы достать средства на войну, царь обложил налогами и землю, и воду, живых и мёртвых. Обложена была податью даже борода — от 30 до 100 рублей, смотря по человеку, что на наши деньги составляет тысячный налог на одну бороду. Рабочие, приходившие в город для заработков, должны были платить по две деньги всякий раз, как входили в городские ворота и заставы или выходили из них, если были с бородами. Зипун, армяк, чанан, одноряди — всякое русское платье, входившее в город, платило 13 алтын 2 деньги, когда оно входило в город пешим, и 2 рубля — конным. Каждый мужик, идя в город, должен был нести в казну три камня для мощения улиц. Дубовые гробы были отобраны у продавцов и продавались четверною ценою богатым и благочестивым людям для их мертвецов. Рекрутские наборы чуть не превратились в поголовщину.
Можно по этому судить о напряжении народных сил.
Нравственное напряжение отражалось и на каждой отдельной личности, а иных привело к роковому концу. Царь стал ещё суровее, чем был. Отношения его к сыну сделались ещё более натянутыми, особенно с тех пор, как царь стал подозревать, что Алексей, руководимый лукавою тёткою, царевною Софьею, успел тайно свидеться с матерью.
Царевна Софья недолго ещё жила в своём грустном заточении, да там же, в Новодевичьем, и Богу душу отдала. В предсмертной агонии она всё отмахивалась от чего-то, с ужасом глядя на окна своей кельи и бессвязно повторяя:
— Что вы мне подаёте ваши челобитья!.. Подавайте их Господу Богу... вы повешены... преставились... Что глядите с виселиц ко мне в окна. Уйдите... не глядите на меня... не дражните мёртвыми языками... я сама к Богу уйду... уйдите!
Это вспоминались ей стрельцы, которых когда-то царь повесил перед её окнами и дал им в мёртвые руки челобитные, в коих были написаны их «повинки»...
Митрофаний так же недолго прожил после того, как, вследствие царского гнева, велел звонить по себе «па отход души» и когда царь видел его лежащим в гробе и благословляющим входящего в церковь грозного монарха: он скончался через несколько недель после разговора с Петром, прерванного Павлушею Ягужинским известием о прибытии послов от Мазепы. Царь искренне плакал над гробом святителя и на своих богатырских плечах, вместе с сановниками и Павлушею, перенёс маленькое тело угодника в его вечное успокоение.
— Как легки мощи угодника, — сказал Пётр, опуская в могилу гроб Митрофания, — точно тело младенца.
— Для того им легче будет, ваше величество, из земли изыти и истинными мощами стати, — заметил Кочубей, бывший тут же на похоронах.
— Кочубей правду говорит, — сказал на это царь. — Одного токмо боюсь я, как бы нам с тобою, Василий Леонтиевич, не пришлось скоро опускать в землю нашего любезного и верного гетмана, сведут его со свету эти подагрические да хирагрические немощи.
Кочубей ничего не отвечал, только какой-то неуловимый свет пробежал по его чёрным татарским глазам и тотчас же потух. Павлуша Ягужинский, ни на шаг не отходивший от Кочубея во всё время его пребывания в Воронеже и постоянно расспрашивавший его о Диканьке, о тамошнем саде, о цветах, о том, какие цветы больше любит панна судиевна, один Павлуша мог прочитать в татарских глазах Кочубея ответ на опасения царя о Мазепе: «Ну, его чёрт не скоро ещё возьмёт» — и Павлуше это очень понравилось, потому что он почему-то с первого разу невзлюбил гетмана, особенно когда тот поцеловал в лоб свою крестницу.
Действительно, чёрт не думал ещё брать Мазепу. В то самое утро, когда в Воронеже царь опускал в могилу маленький гробик Митрофания и думал о своём верном гетмане, тоже, по-видимому, стоявшем на краю могилы, в это утро Мазепа на лихом арабском коне мчался по снежному Батуринскому полю рядом с своей хорошенькой крестницей.
В это утро гетман устроил у себя в Батурине охоту по пороше. Утро выдалось великолепное, яркое, морозное. Ровное, несколько всхолмлённое поле серебрилось первовыпавшим снегом. Вершины леса, тянувшегося с одной стороны поля, также искрились бриллиантом. Бриллиантовые кристаллики носились и в морозном воздухе, сверкая чудными иридиевыми искорками, словно бы огромная радуга, превращённая морозом в кристалл, разбилась на мелкие пылинки и носилась по полю.
В этой бриллиантовой пыли, обсыпаемые ею, мчатся Мазепа и Мотрёнька. На Мазепе тёмно-зелёный кунтуш, с сивыми, как его усы и голова, смушковыми выпушками, высокая светло-сивая, светлее даже его сивых волос, шапка с ярко-зелёным верхом. Через одно плечо — маленькое двуствольное ружье с блестящими серебряными насечками, через другое — огромный турий рог в изящной, итальянской работы, золотой оправе. На луке седла — шёлковая, ярко-красная, как свежая кровь, нагаечка, которую на днях привезла из Белой Церкви пани Палииха и подарила её пану гетману с самою любезною, но и с самою лукавою улыбкою, как подарок работы самой пани полковниковой и как эмблему того, что пану гетману не мешало бы этою нагаечкою «выпендзиць» из Левобережной Украины всех молодых польских пахолят, которые, как мухи, облепили двор пана гетмана. Конь под паном гетманом, как и сам он, как и его шапка, — тоже сивый: всё в нём и на нём и под ним сивое, седое, блистающее серебром мудрости и лукавства.
Рядом с паном гетманом, на высоком, тонконогом, с круто-выпуклою шеею, белом как снег аргамаке, несётся гетманская крестничка, панна Кочубеевна. На ней тёмно-малиновый кунтушик, опушённый гагачьим пухом по разрезу, по подолу, по рукавам и вокруг лебединой шейки. На чёрной головке её — барашковая белая, белее снега, шапочка с ярко-малиновым верхом — и из-под этой шапочки, словно из-под снегу, выглядывает смуглое, разрумянившееся личико и чёрные ласковые глаза, которые у Павлуши Ягужинского и в Воронеже с ума нейдут и на Неве с ума не выходили.
В стороне, по ровной снеговой возвышенности виднеются другие охотники — гости пана гетмана и его дворская молодёжь, польские и малорусские пахолята да юные бунчуковые товарищи. Там же, впереди всех, на огромном вороном коне, мчится гигантских размеров женщина, перед массивною фигурою которой все пахолята и бунчуковые товарищи кажутся детьми. На этой гигантской амазонке с такою же, как и на Мазепе, барашковою опушкой кунтуш и смушковая шапка с висячим в виде мешка огромным красным верхом. Это пани Палииха, которая, с нагайкою в зубах и с двуствольным ружьём наперевес, бешено мчится за волком, выпугнутым доезжими из соседнего леска и забирающим к глубокой лесистой балке.
— То пани пулковникова пендзи за своим старым менжем, — острит польский пахолёнок, не поспевающий за Палиихой.
— Ни-ни! То она за московским подьячим, что грамоту от царя привёз, — острит юный Чуйкевич.
Мазепа и его хорошенькая крестница, напротив, преследуют чёрно-бурую лисицу, которая, едва ускользнув от пастей гончих, перемахнула через овраг и наткнулась на гетмана с его миловидной наездницей. Вот-вот настигнут они выбившуюся из сил жертву, всё меньшее и меньшее пространство отделяет их от бедного зверя. Вот-вот изнеможет лисичка... Но близко и спасительный лес...
Мазепа, грузно навалившись к луке, забыв подагру и хирагру, уже наводит свою двустволку на истомившегося зверя и прищуривает лукавый глаз...
— Не треба, таточку, не треба! — испуганно шепчет рядом скачущая Мотрёнька.
Мазепа нежно оглядывается на неё, опускает свою дубельтувку... «Чого, Мотрёнька, не треба?».
— Не бiйте, хату, лисички!
— Ну, серденько, як-же-ж можно!
И ужасная дубельтувка опять наводится на бедную лисичку; сивый гетманский конь, почуяв остроги у боков, прибавляет роковой рыси... Ох, не уйти лисичке!
Мотрёнька не отстаёт от Мазепы... Вот-вот грянет дубельтувка!
— Тату! Тату! Я заплачу! — молится Мотрёнька и тро; гает гетмана за плечо.
Гетман опускает дубельтувку, вскидывает её за плечи и пускает поводья коня. Лисица скрывается в ближайшем подлеске.
— Добрый! Любый татуню! — И Мотрёнька, перегнувшись на седле, ласково обнимает старого гетмана.
Мазепа сначала как бы отшатывается от девушки, но потом руки его обвиваются вокруг стана хорошенькой спутницы, и он, припав своими сивыми усами к пунцовой щёчке, страстно шепчет:
— Серденько моё! Квите мiй рожаный! Мотрёнько, моя коханая!
— Ох, тату, яки у вас вусы холодин, — отстраняется девушка.
Люба моя! Зоренька ясная! Ясочка моя!
— Ох, щекотно, тату... буде вже, буде...
— Мотрёнько! Рыбко моя! Я не хочу без тебе...
— Буде, тату, буде!.. Ой, вусы!
Девушка не понимала, что с ней делается. Ей казалось, что это холодные усы гетмана щекочут её пылающие щёки; но отчего же и в сердце как-то не то щёкоту но, не страшно?.. А тато такой добрый — лисичку не убил... Надо татка ласкать, целовать... Да он и хорошенький такой! Мороз подрумянил его бледные щёки, сивые усы такие славные, хотя и холодные, и глаза добрые, и весь он добрый, лисичку простил... Он всегда был добрый и в монастырь ласощи возил, и Мотрёньку на колена сажал, про горобчика рассказывал...
Не успел он опомниться, как из ближайшей балки показалась красноверхая шапка массивной Палиихи.
— А он, тату, и пани полковникова, — шепчет девушка, оправляясь на седле.
— А! Чёрт несе сего Голiафа в юпци! — ворчит Мазепа.
А у Палиихи в тороках уже болтается огромный серый волк.
— Як ваша работа, пане гетмане? — спрашивает Паяииха, грузно опираясь на седло. — Я вже вовка сироманця мов татарина, у полон взяла.
— Добре, добре, пани... А мы ничего ще не взяли...
— Ми лисичку впустили, — пояснила Мотрёнька.
— Так зайчика шймаете, — улыбнулась Палииха.
Наезжают другие охотники со всех сторон. У кого в тороках заяц болтается, у кого лиса, у кого серая остромордая сайга. Начинается оживлённый говор, похвальбы, рассказы о небывалых случаях. А вдали всё ещё то протрубит рог, то дружно затявкают собаки, то раздастся глухой выстрел...
Около гетмана уже большой кружок не только дворской молодёжи, но и знатной войсковой старшины; Филипп Орлик, генеральный писарь, Апостол Данило, миргородский полковник, Павло Полуботок, полковник черниговский, молодой Войнаровский, полковник полтавский Иван Искра и другие.
— А! И у пана писаря лисичка, — обращается пана Палиева к Орлику, серьёзное лицо которого и задумчивые серые глаза, казалось, говорили, что он тут не по своей воле, а так, из политики. — Яка добра лисичка...
— А у пани добрый вовк, — лаконически отвечает серьёзный Орлик.
— Симилiя симилибус, — добродушно замечает Мазепа.
— А панови гетманови василиска не достае? — плати! тем же находчивая Палииха.
Из лесу скачет казак в ушастой волчьей шапке и что-то машет руками. Это Охрим, уже знакомый нам, любимый хлопец старого Палия. Он приближается к панам и на всём скаку осаживает коня.
— Ты що, хлопче?— спрашивает Палииха.
— Там, у лиси, пани-маточка, наши хлопцы самого Карлу застукали, — радостно отвечает Охрим.
— Якого Карлу, дурню?
— Та самого ж щевйiя Карлу, двенадцятого чи тринадцатого, чи-що ведмедя застукали...
Такому редкому гостю, конечно, все обрадовались, двинулись к лесу. Впереди всех ехала Палииха в сопровождении Охрима, а за ними вся старшина с молодёжью. Мазепа не отпускал от себя ни на шаг свою Мотрёньку.
— А ты ж, доню, не злякаешься? — заботливо спрашивал он.
— Ни, с таткою я ничего не боюсь, — отвечала детушка.
Выехали на полянку, с трёх сторон окружённую густым лесом. В дальнем углу полянки стояли два казака с длинными ратищами в руках, словно часовые. Недалеко от них темнелась куча хворосту, наваленного у корней столетнего дуба. Сквозь хворост, присыпанный снегом, проходил не то дымок, не то пар, то была берлога медведя: от дыхания его шёл тот пар, который можно было принять за дымок.
Все остановились, как вкопанные. Палииха сделала знак, что она желает вступить в единоборство с «шевнем Карлою двенадцатым», так как это было её неотъемлемое право. Мотрёнька было хотела протестовать, не Мазепа тихо остановил её: «Нехай, доню, вона и чорта сдюже...».
Палииха сошла с коня, отдала его Охриму, подозвала одного казака с ратищем и взяла ратище из его рук. Сняла с плеча двустволку, осмотрела её курки, осмотрела длинное трёхгранное железное острие ратища и пошла прямо к берлоге. В нескольких саженях от берлоги, на полянке, росла старая осина, под которою Палииха и остановилась. Подняв затем ком мёрзлой земли, она швырнула им в отверстие берлоги, швырнула другим комом, третьим... В берлоге что-то засопело и завозилось. Захрустел хворост, и из берлоги высунулась чёрная остромордая голова, поводя ушами. Палииха опять бросила мёрзлым комом прямо в морду зверю. Медведь замотал головой, выскочил из берлоги и, рыча, пошёл прямо на «Голиафа в юбке». Он шёл быстро, переваливаясь всем грузным телом своим и понуря голову, словно бы собирался драться с бараном, лоб об лоб. Палииха стояла, как вкопанная, расставив ноги в красных с подборами «сапьянцах» и приложив двустволку к правой щеке. Последовал выстрел. Пуля, задев верхнюю часть головы медведя, у правого уха, засела где-то в шее. Медведь страшно заревел и стал, на задние ноги, раскрыв передние мохнатые лапы словно для дружеских объятий. Страшно было видеть это двуногое чудовище на коротких мохнатых ногах, ступавших таю как ступают малые дети, с перевалкою, но плотно, грузно. Плотно стояла на своём месте и Палииха, держа длинное ратище наперевес. Едва медведь приблизился на расстояние ратища, как сильная рука Палийхи уже всадила его в грудь зверя. Зверь зашатался было, но в тот же момент, схватив древко ратища передними лапами, сам как бы начал вдавливать его в себя, так что оно прошло насквозь его тела и вышло в спину... Медведь двигался по ратищу, нанизывая на него своё страшное тело... Вот лапы его уже недалеко от рук Палиихи... вот-вот обнимут её... Но страшная баба разом выпускает из рук конец ратища, медведь падает с ним на четвереньки, а Палииха новым выстрелом из двустволки пробивает череп своего противника. Медведь не устоял и, ткнувшись мордой в землю, распластался, словно копна чёрной шерсти.
Мотрёнька с испугом ухватилась за руку Мазепы... «Ох, таточко!»
Тут только присутствующие опомнились, как бы очнувшись от временного оцепенения, и бросились поздравлять победительницу. А Палииха, «низенько вклоняясь» панам и обращаясь к Мазепе, сказала:
— Прошу пана гетьмана не погордувати моим подарунком: нехай кожух оцего дядьки буде грити гетмапьскiи педагрические нижки.
Мазепа моргнул сивым усом, поморщился, но любезно отвечал: «Падам до ножек паньских».
— Те-те-те! — засмеялась Палииха. — Я не ляховка, не пани Фальбовска... У мене ноги велики, а пан гетьман любе нижки малюсеньки...
Все засмеялись, не зная только, на какую пани Фальбовскую намекает Палииха; но Мазепа знал: он догадался, что злобная баба недаром язвит его, намекая на давно забытый грех молодости, когда... когда...
И перед старыми глазами его встала картина давно забытой молодости, целый ряд картин, отодвинутых от него на десятки, лет, на полное полстолетие!..
Эх, молодость, молодость! Безумная молодость!..
Кто этот юный, ловкий, гибкий, как червонная таволога, на чёрном коне, освещённый майскою, луной украинской ночи, пробирается к тёмному саду пана Фальбовского? Привычная лошадь чуть слышно, словно кошечка на бархатных лапках, пробирается к калитке сада и останавливается как вкопанная. С шитого шелками седельца соскакивает гибкий юноша, и когда луна упала на его лицо, то осветила те же самые изогнутые брови над теми же самыми ласковыми, не то чересчур добрыми, не то лукавыми глазами, которые теперь смотрят на убитого медведя, только те глаза и брови, и всё лицо, и русые усики, освещённые луной, на пятьдесят лет моложе этих, что смотрят на убитого медведя и на Палииху.
Да, это всё он же подъехал к саду пана Фальбовского, он, Мазепа, но только не гетман с семьюдесятью годами и целым историческим, именно «мазепинским» циклом украинской истории на плечах, с подагрою и хирагрою в придачу к этому циклу, с дружбою могучего Петра новороссийского на тех же плечах, с целым коробом лукавства, обманов, козней, казней, кровавых битв и клятвопреступлений, Мазепа-паж, ловкий, дерзкий, лживый, только что удалённый от двора Иоанна-Каземира за шляхетский гонор не у места, за горячность, за буйство, за обнажение сабли в королевских покоях...
Как гибок телом тот — паж, и как лукав умом этот — гетман, что стоит рядом с Мотрёнькою и глядит на убитого медведя!..
Перед пажом как бы сама собой открывается настежь калитка сада. Паж входит в прямую освещённую луною аллею и поворачивает в узкую, боковую аллейку. Навстречу ему идёт что-то закутанное лёгкой тканью. При приближении пажа ткань спадает с этого чего-то, и лунным светом освещается прелестнейшая чернокудрая головка... «Сердце моё! Душа моя!..».
И тихо-тихо в саду, тихо всю ночь до зари — только лягушки проквакали до утра в ближнем пруду, да соловей, сам не ведая зачем, а может, просто от бессонницы, надрывался всю ночь в густом кусту крыжовника, да в голубом павильоне слышались иногда не то стоны, не то шёпот страстный, не то жаркие поцелуи — не то всё это вместе... О, безумная молодость!
А вот и другая такая же ночь проносится перед семидесятилетними очами гетмана...
Тот же пан Мазепа пробирается к тому же саду. Всё так же светит, луна-сводница, всё так же квакают лягушки в пруду, всё так же не спится соловью, и он трещит!
надрывается... Вот Мазепа уже у калитки — сходит с коня... «Кто идёт?» — кричит кто-то над самым ухом юноши, и шесть, а то и более сильных рук схватывают его, словно клещами... «А, негодяй! Ты к моей жене!» — узнает Мазепа голос пана Фальбовского. «Нет, нет!» — отрицает несчастный.
И юный паж, раздетый, донага, привязанный на спину своей лошади головою к хвосту, мчится по степи, освещаемый майской луной... О, безумная молодость!..
Мазепа-гетман вздрагивает...
— Вам холодно, тато? — участливо спрашивает Мотрёнька.
— Холодно, доню, — отвечает гетман, отмахиваясь от воспоминаний молодости. — И скучно якось, серденько моё, ох, скучно!
— Чого ж бы вам, тату, скучно?
— Ох, доню, доню! Один я, як перст...
— А я-то у вас, татуню?
— Э! Ты не моя... тебе скоро визмут у мене... И останусь я, мов ота былинка в поли...
Они тихо ехали снежным полем, и Мазепа указал на сухой стебель травы, одиноко торчавший из-под снегу: «Ото я, доненько, ота былиночка...». Девушке невыразимо стало жаль его, так хотелось плакать, охватив эту седую, одинокую, как былинка, голову и плакать, плакать над нею...
— Я про яку то пани Фальбовску, тато, сказала Палииха? — спросила девушка, помолчав.
— Та то вона так, серденько, сама не зна що меле.
И в лукавых глазах гетмана выразилось что-то большее, чем лукавство, что-то холодное и злое. Кто знал эти глаза, тот, наверное, догадался бы, что рано ли, поздно ли, не сдобровать тому, кто вызвал на глаза гетмана этот злой холод, что этим взглядом в его сердце уже подписано роковое решение: выкопать исподволь глубокую-глубокую яму и столкнуть в неё и Палииху за её намёки и гордость, и её мужа, старого Палия, ставшего гетману на дороге, столкнуть так, как он столкнул своего благодетеля, гетмана Самойловича.
VI
С того дня как Пётр в Воронеже опустил в могилу гроб Митрофания и оплакал его, а Мазепа в Батурне, на охоте, признался крестнице своей, Мотрёньке Кочубеевой, что любит её, но как — девушка этого не поняла, — с того дня, в течение трёх лет, многое изменилось и на Украине обеих сторон Днепра.
Правобережная Украина, вызванная к жизни народным гением Палия, давно осиротела; не стало у неё её «батька», старого, не стало с ним и доброй «пани-матки», которая одна ходила на медведя и на тура. Правобережною Украиною распоряжались уже, попеременно, то поляки, то шведы, то русские, смотря по тому, кто кого выгонял оттуда силою оружия.
Куда же девался старый «батько», оплакиваемый казаками?
А вот послушаем, что говорит народ, толкающийся на рынке в Белой Церкви. Рынок пестреет народом, как поле цветами: тут и истые украинцы-казаки, и польские жолнеры, и московские рейтары, слоняющиеся от группы к группе, от шинка к шинку, и скучающие по родине...
— Эх! Кабы да не этот швед проклятый, давно бы мы дома были!
— Да, толкуй! Ево, чёрта, и ладаном не выкуришь.
Внимание скучающих рейтаров привлекает один украинец, совсем голый, но в высокой смушковой шайке набекрень. Вместо рубахи и штанов на нём красуется полотенце, расшитое красными узорами и обмотанное вокруг голого тела так, как это принято у новозеландцев. Он стоит около сидящего на земле слепого нищего с бандурою в руках и о чём-то упрашивает его. Рейтары тоже подходят.
— Та заспивай бо, старче Божий! — упрашивает голяк.
— Та про кого? — спрашивает слепец.
— Та про батька ж, Палия, заспивай, голубе сивый!
— Та спивайте бо, дядьку! Чого боитесь! — упрашивают другие, собравшиеся кучкой около старца, — Мазепа не почуе, а почуе, так послуха...
— Та нам що Мазепа! Мазепа не наш, вин тогобочный! — протестуют новые голоса. — Спивайте, дядьку! От и москали послухают (это к рейтерам: рейтары улыбаются дружелюбно).
— Спой, дедушка, не бойся: мы свои люди! — говорит один рейтар.
— Вашей веры, мы, православные, — подтверждает другой.
Слепой нищий, это тот лирник, которого мы уже видели в Батурине на дворе Кочубеев, не поднимая своей старой слепой головы, тихо перебирает пальцами по струнам бандуры. Вдруг он Начинает мотать головой из стороны в сторону, словно бы плакать ему захотелось, быстро перебегает левой рукой по ладам бандуры.
Слышится только треньканье бандуры.
Кто не слыхал пения кобзаря в Малороссии, где-нибудь на рынке, или, в праздничный день, на улице, на свободной громадской сходке, тот не в состоянии будет представить себе, какое неотразимое влияние имеет эта простая, детски-наивная поэзия на слушателей, как могущественно властвует над сердцем толпы бесхитростное слово песни, а в особенности её музыка. Это особенная музыка, не песенная, не хороводная, не уличная, а музыка «дум» и «духовных стихов»: в ней большею частью звучит глубокая грусть; в ней для каждого слушателя отчётливо плачет его собственное горе, а у кого в жизни не висело оно на вороту в той или иной форме!.. Мазепа погубил Палия: каждому жаль Палия; но в плаче кобзаря о Палие каждому слышится и свой плач: все из этой толпы когда-либо плакали, и в плаче кобзаря непременно прозвучит для каждого хоть одна нота этого, для каждого «своего» плаканья...
Вот почему так горько плачет Голота, конечно, спьяну немножко, но и не пьяному нельзя не плакать... Другие не плачут потому, что стыдно; а пьяному не стыдно: за него плачет его пропащая жизнь, пропащая голова... В погибели Палия он переживает похороны своей Хиври, когда и он был человеком, а не пропойцей...
Толпа всё больше и больше надвигается к кобзарю. Уже затерялись в ней и московские рейтары, и плачущий казак Голота. Всем хочется послушать этой «новой думы» — дума эта плачет о человеке, которого многие видели здесь и в Белой Церкви, знали его, любили... Не видать уже его сивой головы в церкви, где он обыкновенно сам пел на клиросе; не развевается его сивый ус и на крепостной стене, не слышно больше его голоса...
Куда же, в самом деле, исчез Палий, о котором уже успела сложиться народная дума?
А вот где он, благодаря лукавству Мазепы, который успел-таки столкнуть его в яму: в Сибири, в Енисейске, в самом отдалённом из известных в то время мест ссылки; на этом, буквально, конце света, у выезда из города стоит жалкая избушка, обнесённая высоким частоколом с заострёнными верхушками. В избушке всего два окошечка, да и те обращены куда-то на север, в неведомую для тогдашнего украинца область вечных снегов и вечной ночи. Недаром в Украине говорили, что царь, по доносу «проклятого» Мазепы, заточил Палия в такую темницу, до которой только вороны раз в году долетают на Спаса, куда солнце доходит только раз в году на Купалу, заточил его в эту темницу, а ключи от неё бросил в море...
Избушка, в которой поселили Палия в Енисейске, состоит из двух половин, разделённых сенцами. В той и другой половине поместился сначала сам Палий с своим пасынком Семашкою, которого тоже постигла ссылка; а когда к старику вместе с верным Охримом приехала в Сибирь и его мужественная «пани-матка», то Семашко своё место у вотчима уступил своей матери, а сам с Охримом перебрался на другую, кухонную половину избушки.
Мучительно-тоскливую жизнь проводил в своём заточен mi бедный старик, у которого было отнято все: и родина, и родные, и его не родные, но дорогие ему «детки» — казаки, которых он вырастил, выкормил, на коней посадил. Целый край отняли у старика, край, им созданный на месте кладбища, вызванный к жизни из могилы, которая даже уже быльём поросла. Это было хуже пленения вавилонского; уведённые в вавилонский плен евреи не сами создали и оживили обетованную землю; они получили её в наследство от предков; а Палий сам создал и оживил Правобережную Украину на месте ужаснейшей пустыни, тем более ужасной, что это была не Богом созданная пустыня, а «руина», усеянная развалинами городов, крепостей, церквей и усыпанная костями человеческими, украинскими костями.
В далёкой ссылке старику ничего не оставили на память о родной стороне, даже одежды; его одели в одежду ссыльного. Только каким-то чудом уцелела у него «хусточка», вышитая украинскими узорами, и уцелела потому только, что когда в Москве, в Малороссийском приказе, пленного старика одевали в московское арестантское платье, он плакал и этою «хусточкою» утирал себе слёзы... В Енисейске, в своей ссыльной избушке, он повесил эту «хусточку» под образом Богородицы «Утоли моя печали» и молился этому образу.
По целым дням, бывало, старик и его товарищ по изгнанию, молодой Семашко, сидят на берегу Енисея и вспоминают о далёкой родине... Хоть бы птица залетела оттуда! Хоть бы песню родную ветер принёс с Украины, нет ничего не слыхать...
— На реках вавилонских, тамо седохом и плакахом, — часто, бывало, вспоминает старик этот стих из ветхозаветной поэзии, и ему вспоминался другой старик, что тоже пятнадцать лет выжил в Сибири и, возвращаясь на родину, за Дунай, благословил его, Палия, на «оживление костей человеческих»...
И он оживил их, а его самого, живого, заточили в могилу...
— Да, истину, великую истину говорил Крижанич Юрий про Москву, — сам с собою рассуждал, бывало, старик.
Добровольный приезд в ссылку жены и Охрима оживил старика. «Пани-матка» привезла целую «скриню» всякого добра из Украины, а что всего отраднее — это книги и разные хронографы малороссийские, до которых Палий был такой охотник. Чтение и слушание этих хронографов наполняли теперь всю жизнь ссыльного героя... Он любил слушать, когда читали, потому что старые глаза уже отказывались ему служить, хотя в поле, на коне, он бы ещё видел далеко, узнал бы сразу и ляха, и татарина, и мушкет его промаху бы не дал... А в книге уж он ничего не видит...
Бон и теперь они сидят в своей избушке за какими-то тетрадками: это рукописные «нотатки», писанные то тем, то другим книжным человеком, будущие источники украинской истории.
— А ну, любко, почитай бо, як той чоловик пише про нашу Вкраину, коли вона була ещё «руиною», — говорит он, обращаясь к жене, желая воскресить в своей памяти незабываемую им сцену встречи с Юрием Крижаничем.
— Се що б тоди, як я не була ще твоею малжонкою? — спрашивает пани-матка, перебирая лежащие на столе тетрадки и книжки.
— Та об руини же, яка вона була до нас с тобою.
— Добре, добре, чоловиче.
И пани-матка, насадив на свой орлиный нос огромные, круглые очки, напоминавшие стекла телескопа, развёртывает одну тетрадку, перелистывает её, шепчет что-то, головой качает... А й в этой мужественной голове, в густых волосах, протянулись уже серебряные нити... А всё Мазепа!
— Ось! Найшла... — И, поправив очки, пани-матка начала читать таким тоном, каким в церкви читаются только «страсти».
«И проходя тогобочную, иже от Корсуни и Белой Церкви Малороссийскую Украину, потим на Волынь и далей странствуя, видех многие грады и замки безлюдные и пустые, валы, негдысь трудами людскими аки холмы и горы высыпанные и тилько зверем дикiим прибежищем и водворенiем сущiи. Муры зась, якото в Чолганском, в Константинове, в Бердичеве, в Збараже, в Сокалю, що тилько на шляху нам в походе войсковом лучилися, видел едни мололюдные, другiе весьма пустiи, разваленiи, к земле прилинувшiе, заплеснялые, непотребным былiем зарослы тилько гнездящихся в себе змiев и разных гадов и червей содержание. Поглянувши паки, видех пространные, тогобочные, украино-малороссийскiи поля и разлеглые долины, леса и обширные садове, и красные дубравы, реки, ставы езера запустелые, мхом, тростiем i непотребною лядиною зарослые. И не всуе поляки жалеючи утраты Украйны оноя тогобочные, раем света польского в своих универсалах её нарицаху и провозглашаху, понеже оная пред войною Хмельницкого бысть аки вторая земля обетованная, мёдом и млеком кипящая. Видех же к тому на разных там местцах много костей человеческих, сухих и нагих, тилько небо покров себе имущих, и рекох во уме: «Кто суть сiя».
— О, бидна, бидна Украйна! — шепчет старик под чтение этих украинских «страстей», а Охрим, сидя в углу, на лавке, и думая, что в самом деле читают «святе Письмо», набожно крестится.
«Тех всех, еже рех, пустых и мёртвых, — продолжает читать пани-матка, — насмотревшися, побелех сердцем и душею яко красная и всякими благами прежде изобиловавшая земля и отчизна наша Украйна Малороссiйская, в область пустыне Богом оставлена, и насельницы её, славнiи предки наши без вести явишася»...
— Так, так... Оттака ж вона була, ся руина, як я вперше поситив iи и того Крижанича зустрив, — сказал Палий, качая сивою головой. — Така ж, така... тихо було, голосу, чоловичеського нечути, тилько небо сине та могилы з витром размовляли.
— А теперь, яке добро! — с горечью заметила пани-матка.
— Добро-то воно, мамо, добро, та коли б Мазепа его знов руиною не зробив, — пояснил Семашко, который, сидя у открытого окошечка, задумчиво глядел на Енисей.
Наступила опять тишина в избушке; слышно было только, как вздыхал Охрим, которому тесно и душно было в этой клетке и которому даже во сне грезилось постоянно, как они, бывало, тихонько от батька Палия на ляхов ходили.
Но вдруг Охрим захохотал. Все посмотрели на него с удивлением: уж не с ума ли он сошёл от тоски? Сидит себе в углу и хохочет, ухватившись за бока.
— Ты чого, Охриме? — просила пани-матка. — Здурив?
— Та я ничого, пани-матка, так... — И хохол снова залился самым искренним смехом.
— Та чому ты радый, дурню? — удивлялась Палииха.
— Та Голоту згадав.
— Ну? Що ж Голота? Голота добрый чоловик, хоча и пьяный.
— Та не гоже казати, пани-матка. — И Охрим застыдился. — Се я, бач, так, здуря.
— От дурный! А ещё козак...
— Та я ничого, — оправдывался тот. — Он вони, батько знают, — и он указал на Палия.
— Що таке, Охриме? — спросил тот. Що я знаю?
— Та як Голота ляхам дорогу показував.
Палий тоже улыбнулся, и Охрим был рад, что развеселил старика, на лице у которого давно никто не видал улыбки. Это заинтересовало и Палииху.
— А як-же-ж вин показував? — спросила она мужа.
— Та по козацьки... Ишов польскiй регимент пид Хвастовым; та не знав дороги. А Голота з козаками сино косив, стоги вершили, так вин на стогу стояв. Его й пытают ляхи: де дорога на Лабунь. А Голота й показав-де-що таке, що ляхи его трохи не вбили за те, та други козака не дали...
Охрим не утерпел и опять покатился со смеху.
— Ото дурный! — смеялась и Палииха.
— Не вин дурный, — заметил старик, — а пан региментарь: вин до мене универсаль прислав, що Голота ему— «juxta suam barbariam rusticam, in honeste tergiversionem ostendit» — так в универсала и написав, мов Цесарь сенату.
— Ну-вже я вашои бурсацькои речи не розумiю, — сказала Палииха.
В это время в сенях что-то застучало и высморкалось. Все взглянули на дверь: кому бы там быть? Охрим схватился с лавки, подошёл к двери, но дверь сама отворилась, и на пороге показалась лысая голова с остатками Седых болтающихся за ушами косичек. Вошедший был старик лет шестидесяти, с лицом, обезображенным оспою, с глазами, косившими так, что никто никогда не знал, куда они глядят и что видят. Одет он был в жёлтый нанковый кафтан, подпоясанный широким, как у попа, кушаком, в нанковые же грязно-зелёные штаны, убранные в сапоги из некрашенной юфти. Войдя в избу, он, по-видимому, глядя в левый угол, перекрестился на правый, передний, где в углу, в золотой ризе, блистал образ Покрова Ботородниы, увешанный узорчатыми полотенцами. Кланяясь образу, он сильно встряхивал косичками и тоже делал, приветствуя хозяина и хозяйку.
— Мир дому сему и здравие, — сказала лысая голова, глядя не то в потолок, не то под лавку.
— Дякуем... благодаримо на добром слове, батюшка Потапьич, — поспешила Палииха. — Просимо жаловати и сести, гостем будете.
— Не до гостии, матушка полковница, — отвечал лысый. — По дельцу пришёл к батюшке, Семён Иванычу, от воеводского товарища.
Все встрепенулись, переглянулись, снова оглядели пришедшего с ног до лысой маковки, как бы желая в его фигуре прочесть — на истыканном оспою лице и в бродячих глазах прочесть было нечего — с добрыми или худыми вестями пришёл он. На ветхом, иконном лике Палия только осталось прежнее выражение — застывшая в решимость покорность всему, что бы ни случилось, потому что от судьбы, как и от жизни, уже ждать нечего. На мужественном лице пани-матки, умягчённом несчастиями, засветилась другая решимость — решимость борьбы, словно бы предстояло единоборство с туром или медведем. На молодом лице Семашки блеснула надежда. Добродушное лицо Охрима выразило то, что оно всегда выражало при виде москаля; «з москалём дружи, а камень за пазухою держи».
— А по какому делу, Потапьич? — просил Палий, немного помолчав.
— Да оно, дельце-то, батюшка, Семён Иваныч, без касательства, безо всякого касательства... Привели к воеводе это ноне некоего якобы бродягу, сказать бы варнак, так нет, ноздри, не рваны и клейм на ем никаких не обретается, а всё сумнительный человек.
— Так какое ж моё к одному бродяге касательство есть?
— Не касательство, батюшка, не касательство, а единственно для ради той причины, что оный речённый бродяга речию своею яве себя творит, яко бы он черкасской породы.
— А как зовёт себя?
— В том-то батюшка Семён Иваныч, и загогулинка: оный-неведомый старец именует себя гетманом малороссийским и запорожским.
— Гетманом! — не утерпела пани-матка, — Мазепою? Да як же так?
— Не ведаю, матушка... А древний, зело древен муж, и очи, як у Василиска и аспида?
— Не видывал, матушка, ни аспида, ни василиска, а токмо в священном Писании чел: «На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия»...
У пани-матки глаза метали искры: воображаемый враг стоял перед нею. И Палий казался встревоженным.
— Дак что ж я-то до него и он до меня? — спросил он в раздумье.
— Может, батюшко Семён Иванович, признаешь его личину, кто таков есть он, — отвечал лысый, шмыгая косыми глазами по углам избы.
— Добре. Ходимо до воеводы.
— Он не у воеводы, батюшка, а в воеводской канцелярии, за приставы.
Палий стал собираться: накинул на себя кунтуш, привезённый женою из Украйны, взял палку, шапку, перекрестился и направился к дверям.
— И я, Потапьич, с вами, — нерешительно сказала Палииха, — чи можно ж?
— Можно, можно, матушка, — отвечал подьячий. — Дело не секретное. Да у нас тута, в Сибири, не то что в Москве — у! Там звери, а не люди... В оно время, ещё при блаженной памяти царе и великом государе всея Русин, при осударе Алексий Михайловиче, бывал я на Москве — соболей возили в казну, — там видел московские приказные порядки — и не приведи Господь Бог! — Оберут, как липку, да и лапотки из тебя сплетут, да ещё и наглумятся: «Лапоток-де ты, лапоточек плетёный, ковыряний»... А у нас, в Сибири — рай не житье: живи вольно, никто тебя перстом не тронет...
Охрим при этих словах даже плюнул с досады.
— Бывал я на Москве и при царевне Софей Алексеевне с дьяком Сибирского приказу Семишкуровым, и оную царевну зрел, в ходах шла, — продолжал словоохотливый подьячий. — Красавица из себя! Лицом бела, станом полна, аки крупичата, матушка, и глаза с поволокой... И бывал я, государи мои, на Москве и раней того, блаженный памяти при царе Алексий Михайловиче всея Русии: в ту пору ещё вашего гетмана Демка Игнатенкова Многогрешного к нам, в Сибирь, провожали, народу на Москве она-то, яко изменника, показывали, Охотным рядом водили, и Охотный ряд на его плевал, и «гетманишкой» и всякими скверными и неподобными словами ругал... А у нас здесь не то, у нас рай...
Так проболтал подьячий всю дорогу, вплоть до воеводской канцелярии.
Войдя в канцелярию, Палий остановился: он поражён был тем, что увидел; голова его затряслась, всё тело его дрожало, и он, казалось, готов был упасть...
— Кого я вижу, Боже Всесильный! — с ужасом проговорил он. — Ты ли это, Ивасю, друже мой искреннiй?
— Я — Божою милостiю Iоанн Самуйлович, Малороссiи обеих сторон Днепра и Запорогов великiй гетьман! — отвечал тот важно, гордо поднимая голову.
Палий со слезами бросился обнимать его, бормоча: «Боже праведный! Боже! Ивасю мiй!..».
Странный вид представляла та неведомая личность, которая назвала себя гетманом Самойловичем и которая так поразила Палия.
VII
Это был очень ветхий, дряхлый, согнувшийся старик, хотя широкие плечи и кости, обтянутые жёлтой, испаленной солнцем кожею, обнаруживали, что это останки чего-то крепкого, коренастого, некогда мускулистого и мужественного. Высокий лоб, наполовину закрытый космами седых, спутавшихся волос; серые с каким-то блуждающим огнём, глаза, смотревшие из-под нависших, как у старой собаки, седых бровей; седые усы, длиннее, чем такая же седая борода, белыми жгутами спадавшие на грудь, прикрытую рубищем; мертвенно-худое лицо, оживлённое быстрыми, гордыми, какими-то повелительными глазами, — всё это вместе с лохмотьями и огромным чекмарём в правой руке невольно поражало.
При виде сцены, последовавшей за входом Палия, изумление приковало к месту и косого подьячего, который стоял у порога, растопырив руки и пальцы и не зная, на чём остановить свои бродячие глаза; — и часового, стоявшего у дверей с старинною, ржавою до коричневости алебардою; и приземистого, с двойным подбородком и двойным животом на широко расставленных ногах воеводского товарища, вышедшего из другой двери и остановившегося с разинутым ртом... Тут же стояла Палииха и крестилась...
— Иван Самуйлович! Что с тобою приключилося? Ты живый ещё, дяковати Бога! — говорил Палий, протягивая руки. — Обнимемся, друже!
Странный старик продолжал сидеть, держа чекмарь в правой руке.
— Обнимемося, обнимемося, Семёне, — сказал он, наконец, спокойным голосом. — Подержи булаву! — обратился он повелительно к часовому, протягивая чекмарь. — Сей есть клейнот войсковой.
Часовой повиновался, изумлённо поглядывая то на воеводского товарища, то на косого подьячего.
— Теперь обними мене, Семёне... Ты давно с Запорогов? Что мои козаки? Повертаются из Крыму? Где обретается ныне с войском московским боярин князь Василiй Василiевич Голицын? Kaкie указы, слышно, получено от великих государей Iоанна и Петра Алексеевичей и правительницы царевны Софiи Алексеевны? — спрашивал странный старик, обняв Палия и вновь принимая чекмарь из рук часового.
Палий понял, что пред ним только тень его школьного товарища и друга, вспоследствии славного гетмана Ивана Самойловича, тень, живущая памятью прошлого, слепая и глухая ко всему, что теперь её окружало... Счастливое безумие! Завидно несчастному это безумие, безумие, когда память и потерянный рассудок застыл на картинах счастливого прошлого, на воспоминаниях золотой поры молодости и с ней могущества и славы. И в уме Палия горько прозвучали слова, за несколько часов до этого прочитанные ему женой в рукописной тетрадке «летописцев козацких», в которых говорится о превратностях судьбы бывшего гетмана Самойловича: «И за тую гордость и пыху скаран от Господа зостал же перше от чести великой отдалён и як якiй злочница з безчестiем на Москву голо проважен, а потом маетности и скарбы, которые многiе были, усе отобрано, в которых место великое — убожество осталось, вместо роскоши — строгая неволя, вместо карет дорогих и возников — простой возок; тележка московская с поводником, вместо слуг нарядных — сторожа стрельцов, вместо музыки позитивов — плач щоденный и нареканiя на своё глупство пыхи, вместо усех роскошей панских — вечная неволя»...
Палий заплакал... Чужое горе, и притом такое, было для него жесточе его собственного.
Он не знал, что отвечать на эти вопросы своего безумного друга, и молчал, не отнимая от глаз «хусточки», которую подала ему жена.
— Так ты, полковник Семён Иванович Палий, признаешь сего человека? — спросил воеводский товарищ, подходя к плачущему старику и кладя ему на плечо свою жирную, с сердоликовым в алтын величиною на указательном пальце перстнем, и красную руку...
Палий отнял от глаз платок и, казалось, не понимал, что ему говорили. Глаза были заплаканы.
— Признаешь сего человека? — повторил воеводский товарищ, показывая головою на странного старика.
— Признаю, боярин, — тихо отвечал Палий.
— Кто ж он таков есть имянем и званием?
— Бывый малороссiйский гетман Iоанн Самуйлович.
— Как бывый, Семёне? — перебил безумец. — Божою милостiю Iоанн Самуйлович, Малороссiи обеих стран Днепра и Запорогов великiй гетман.
— Гетман, точно великiй гетман, — повторил Палий, горестно качая головой.
— Он был сослан в Сибирь? — продолжал воеводский товарищ.
— Сюда, в Сибирь, а в какой город оной, то мне не ведомо, боярин.
— А давно ли го было?
— Давно... о, вельми давно... Я тогда был ещё в Запорогах...
— То было року тысяща шестьсот восемьдесять седьмого, — добавила Палииха.
— О! Девятый-на-десять год уже, давно, давно, — говорил воеводский товарищ, качая головой. — Но неведомо, как он попал сюда.
Потом, обращаясь к самому Самойловичу, он спросил: «Господин гетман! В каком городе находился ты в ссылке?».
— Как в ссылке? Кто меня ссылал? — отвечал тот гордо. — Меня ещё недавно государыня царевна Софiя Алексiевна грамотою похвалила.
— А где ты был теперь? — продолжал воеводский товарищ.
— Мы с боярином князь Василiем Василiевичем Голицыным в Крым ходили.
— А ныне где твоя милость обретается?
— Ныне... ныне, я не знаю... вчера мы у Великому Лузи были, и я сына Грицька выслал на той бок Днепра до Сечи з войском, — бормотал несчастный, силясь что-то припомнить, и не мог; на этом роковом дне обрывалась нитка его памяти и его рассудка.
Только Палий и его жена знали события этого рокового дня, следовавшего за роковым «вчера». Несколько часов назад ещё, сегодня же, Палий, грустно качая головой, слушал, как пани-матка через свои огромные очки нараспев читала «летописца козацкого»:
«И як прiйшло» войско малоросиiйское на Кичету, и там старшина козацкая — обозный, асаул и писарь войсковый Иван Мазепа и иные преложеныя, видячи непорядок гетманский у войску и кривды козацкiя же великiе драчи и утесненiя арендами, написали челобитную до их царских величеств, выписавши усе кривды свои людские и зневагу, якую мели от сынов гетманских, которых он постановлял полковниками, и подали боярину Василiю Васнлiевичу Голицыну, просячи позволенiя переметит гетмана Ивана Самуйловича, которую зараз принявши, боярин скорым гонцом послал на Москву до их царских величеств. На которую челобитную прiйшел указ от их царских величеств и войско застал на Коломаце, где боярин ознаймил старшине козацкой и народившися з собою, оточили сторожею доброю гетмана на ночь; а на светанию, прiйщовшы старшина козацкая до церкви, и узяли гетмана з безчестiем, ударивши, и отдали Москве. И зараз сторожа московская, усадивши на простыя колеса московскiя, а сына гетманского Якова на коницю худую охляп без седла, и проводили до московского табору до боярина, и там узяли за сторожу крепкую... И так того часу скончалося гетманство Ивана Самуиловича поповича и сынов его, который на уряд гетманство роков пятнадцать зоставал и месяц»...
— Видишь сам, боярин, в каком он несчастном состоянии ума? — тихо спросил Палий.
— Вижу, полковник, вижу, не в своём уме.
— Что ж вы с ним учините?
— Сам не знаю... Отпишу обо всём на Москву, буду ждать указа.
— Так, так... А как попал сюда?
— Найден бекетами и доставлен в Енисейск.
— А далеко найден и как?
— Вёрст за сто, а то и боле будет... Сказывал бекетным, что заблудился якобы у Запорожья и ищет своё войско...
Палий грустно покачал головой. А Самойлович, задумчиво вертя в руках чекмарь — воображаемую гетманскую булаву, бормотал про себя: «Одна надiя у меня на писаря, на Мазепу... розумна и правдива голова... Мы с ним у шоры уберём прокляту Москву...».
— А поки до указу, боярин, отдай его мне на поруки, — по-прежнему тихо сказал Палий.
— Вин, небога, може, давно голодный, — пояснила Палииха.
— Так, так,— соглашался боярин, — по человечеству жаль его.
— Коли не жаль! Подивиться на его...
А несчастный продолжал бормотать, витая своим безумием в прошлом: «Мазепа и сынов моих добру и письму научил... Мазепа и се, и те... О! Голова Соломоновой мудрости!..».
— Так вы его одпустите до нас, господин боярин? — не отставала пани-матка.
— Отпущаю, матушка, отпутаю: поберегите его...
— Мы доглядимо, никуды не пустимо.
— Да и куда ему, матушка, отсель уйтить! Сторонка не близкая...
— Так, де вже ему уходить! Хиба в домовину...
— Ну, матушка, до домовины ему далеко, поди, тысяч шесть вёрст будет...
Пани-матка улыбнулась: «Домовина — се гроб по-нашему», — сказала она.
— А! — удивился боярин. — Вот язык чудной! Гроб у них домовина... Да оно и вправду, матушка, гроб есть наша вечная домовина...
Самойловича увели, наконец, прибегнув к маленькому обману. Палий показал вид, что перед ним настоящий гетман и постоянно обращался к нему со словами: «пане-гетмане», «ясновельможный», «батьку козацкiй» и т.п. Он поддерживал в нём его тихое, спокойное заблуждение, что они теперь находятся в Украине, на Днепре, недалеко от Запорожской Сечи, и именно на хуторе у Палия. На Енисей безумец смотрел, как на Днепр...
— А, Днипро батьку, здоров був, — приветствовал он голубую, широкую ленту воды при виде Енисея, когда подходили к невольному жилью Палия. — Ото добре будет, как поплывут тут чайки козацюя да в море выйдут! Они там будут Царьград мушкетным дымом окуривать, а мы тут у Крыму орде чосу задамо.
— Задамо, задамо, — подтверждал Палий, грустно опуская седую голову.
Они вошли в избу. «Вот и курень мой, «пане гетмане», — говорил Палий. «Добрый, добрый курень», — бормотал безумец. Ему представили Семашка и Охрима.
— А Мазепа где? — спохватился безумный.
Палий смешался было, вопрос застал врасплох. Но ианиматка выручила своею находчивостью:
— Мазепа универсалы пише, пане гетмане, — сказала она.
— А! Универсалы... добре, добре... У Мазепы перо соловьиное, у, мастер писать, собачiй сын!.. На тот час как мы с Дорощенком на перах войну вели, Мазепа золото был для мене: такого, було, спотыкача у листу надряпа, шо у Дорошенко, було, аж шкура заболит... «Ознаймучй», було, вверне, да «здирства вшеляки», да латинською речiю, мов перцем, пересыплет, так у вражого сына Дорощенка од такого листа аж очи рогом... Золото, а не писарь Мазепа...
Палий заметил, что в памяти несчастного прошлое сохранилось нетронутым и представлялось в последовательном и логическом порядке, в картинах прошлого воскресал и потерянный рассудок его, сказывалась и ясность представлений; но в настоящем был хаос и полное забвение всего, что происходило уже за пределами этого светлого круга. Старики вспомнили даже, как они юношами учились в Киевской коллегии и как, несмотря на дружбу, на глубокую, можно сказать, взаимную привязанность, они были непримиримыми врагами там, где дело касалось первенства, и тот и другой хотел быть первым в коллегии и потом на всей Украине. Будучи оба одарены богатыми способностями, они быстро усваивали всё, что касалось знания, обогащения памяти научными сведениями, и вечно воевали из-за первого места в классе.
— Цесарь, Цесарь, собачий сын, этот Мазепа, — бормотал Самойлович, который в ссылке, по-видимому, совсем усвоил великорусскую речь и всё на неё сбивался, настоящий Цесарь «veni, vidi, vici[1]...
— А помнишь, друже, как мы с тобой в коллегии хотели оба бути цесарями? — наводил Палий на прошлое.
— Как не помнить! «Лучше быть первым на Украине, чем вторым за партою в коллегии» — это ты ж выгадал, — задумчиво улыбался Самойлович, не расставаясь с своим чекмарём.
— Я, я... Только не удалось мне быть первым на Украине, — продолжал Палий, тоже впадая в русскую речь. — А вот ты был первым...
— Как был? Я и поднесь первым остаюсь: Дорошенка отправил туда, где козам рога правят.
Палий спохватился, поняв свою ошибку.
— Так, так, точно первый ты на Украйне, пане гетьмане...
— Ты, признайся теперь, Семёне, с досады на меня и. на тот бок Днепра ушёл? Л? — лукаво допрашивал безумец. — Не осилил Иоанна Самойловича? А?
— Правда, правда, по зависти ушёл...
— И скучна, пустынна, должно быть, оная «руина»? А?
— Была пустынна, теперь там рай земный, страна обетованная, текущая мёдом и млеком... Там бы и умереть...
И у Палия защемило сердце от одного воспоминания об отнятом у него крае, о новом царстве Украинском... Хвастов, Паволочь, Погребищи, Белая Церковь — эта «новая Троя», как её назвал Рейнгольд Паткуль, всё это, как пёстрая лента, протянулось в памяти старика и выдавило слёзы из глаз.
— А вот что, Семёне, — снова начал безумец, — мы с тобою отвоюем эту правобережную Украину у ляхов, а потом (безумец огляделся по сторонам — не подслушал бы его кто) отложимся от проклятой Москвы, поставим новое царство Украинское: я буду царём сегобочного царства Украинского, ты же, Семёне, царём тогобочным, как бывало в коллегии за партою: и я, и ты первый... И будет у нас два царства, како две Иудеи, либо царство Римское и Византийское... А Москва нам не помеха: она ныне сама с собою не справится... Да и у неё на сей час два царика, два младенца — Иоанн да Пётр, коими баба, дивчина, заправляет, аки мамка...
Слушая безумца, Палий горестно, улыбался: пусть де утешается перед смертью несчастный, у которого горе вычеркнуло из жизни и из памяти двадцать лет страданий, двадцать долгих лет, в продолжение коих у Палия и у Самойловича успели пожелтеть сивые бороды, а из младенца Петра вырос великан, который топчет своими победоносными ногами не только сегобочную и тогобочную Украину, но и всё балтийское и варяжское побережье с Корелиею и Ингерманландиею... Куда безумным старцам тягаться с этим великаном, у которого и силы, и замыслы непомерны, как его рост!
Пани-матка между тем и добрый Охрим хлопотали по хозяйству, чтобы успокоить и накормить дорогого гостя, безумного гетмана своего. С него сняли лохмотья и дали ему чистую сорочку и иную одежду, взятую у Семашка, так как платье тщедушного и маленького телом, хотя и могучего духом Палия было не по плечу коренастому, хотя тоже теперь сгорбленному и пригнутому к земле, некогда гордому вельможному гетману. Семашко притащил живой рыбы на обед, достал у рыбаков на Енисее. А безумец всё не расставался с своим чекмарём-булавою даже тогда, когда Палий переодевал его... «Украдёт, украдёт этот собачий сын, Петрушка Дорошенок, как его покойный царь Алексей Михайлович в грамоте облаял, хочется ему моей булавы», — пояснял несчастный.
Увидав на столе неприбранную по нечаянности тетрадку «летописцев казацких», Самойлович взял её и, щурясь старческими своими близорукими глазами, начал перелистывать.
— А «летописец козацкiй»... Того ж року, того же року дима велика была, — шептал он, перелистывая тетрадку, — A! Вот и обо мне пишут — гетман Иванович Самуйлович... Так, так... «Того ж року тысяща шесть сот семьдесят восьмого» — о! Давно сие было, десять лет назад. Ну, ну, почитаем: «Того ж року, iюля 10-го, войска великiя подступили турецкiя с визирем Мустафою под Чигирин с тяжарами великими»... Так, так, это об Чигиринском походе, когда проклятый Дорошенко турок на Украину призвал... Ну — «а войско его царского величества с князем Ромодановским и гетманом Иваном Самуйловичем переправилися того часу через Днепр, нижей Бужина, на поля чигиринскiя»... О, помню, помню: трудное то было время, немало полегло в поле Козаков... А всё проклятый Дорошенко, да и Юрасько Хмельницкiй там был...
Перелистывая тетрадку, он прищурился к одной страничке и задумался.
— Об ком бы сие писано было, о каком гетмане? — с удивлялся он.
— Что такое, пане-гетьмане? — тревожно спросил Палий, догадываясь с ужасом, что безумец наткнулся на ту именно роковую страницу, где описывалось его собственное, Самойловича, падение. — Что там писано? Да будет тебе, пане-гетьмане, читать, поговорим лучше.
И Палий хотел как-нибудь тихонько стащить эту злосчастную тетрадку.
— Нет, постой, постой Семёне, — не давал безумец, — о ком бы сие писание?... «И оточили сторожею доброю гетмана на ночь (читал он, водя пальцем по строкам), а на светанне, пршовши старшина козацкая ко церкви, и узяли гетмана з безчестiем, ударивши, и отдали Москве. И зараз сторожа московская, усадивши его на простые колеса московскiе, а сына гетманского Якова на коницю худую, охляп без седла, и провалили до московского табору»...
Несчастный остановился и смотрел на Палия безумными глазами. Он, казалось, хотел что-то припоминать и не мог... вот, вот-вот, кажется, что-то припоминает... Ночь такая жаркая... Слышатся окрики часовых... А, там утром шум на площади, крики: «Давай гетмана, сучого сына! Киями его, злодея!»... лошадь — кого-то тащут — кто-то бьёт в ухо: кажется, это его бьют, гетмана Ивана Самуиловича... Нет, это сон!.. И тележка московская сон...
Несчастный мучительно силится припомнить что-то» и мозг его не слушается, память отлетела... Какие-то осколки в памяти: жаркая ночь и крики, только... Что ж после было, утром? Кого везли на тележке?.. Кого били по уху и по щеке? Его, Божою милостию Иоанна, нет, не может быть!.. А кажется, били... щека и теперь как будто горит...
— А красная у меня, Семёне, левая щека? — дико глядя на Палия, спрашивает несчастный...
— Нету, пане гетмане, не красная, — дрожа всем телом, отвечает Палий.
— То-то... а горит, это я сегодня во сне видел, что меня кто-то в щёку ударил... на московской тележке везли меня... Вот какой сон!
— Всякi сны бывают, пане гетьмане.
— Да, да... а горит щека...
В это время в избу вошла пани-матка, вся раскрасневшаяся, с засученными за локти рукавами шитой сорочки. Она «поралась» в кухне, готовила обед дорогому гостю, ясневельможному гетману обеих половин Украины.
— А я вже и обидати наварила, пане-гетьмане! — весело сказала она. — Зараз буду дорогого гостя частвувати, чим бог послав у московскiй неволи...
Палий строго взглянул на жену, и она, спохватившись, прикусила свой говорливый, бойкий язык. Она тотчас же собрала на столе всё, что на нём лежало, в том числе и предательского «летописца козацкого».
Несчастный гетман, впрочем, услыхав слово «обидати», забыл опять все: и прошедшее и настоящее; он ощутил только одно чувство теперь — это мучительное, чисто животное чувство голода, который томил его, он и сам не помнит, сколько уж дней и ночей... В безумце проснулось животное, и он жадно ждал обеда...
За обедом ел он с алчностью идиота, молча и как будто со злобой пожирая огромные куски хлеба, рыбы, обжигаясь горячим и давясь неразжёвываемою беззубым ртом пищею. Свесившимися на лицо прядями седых волос, пасмы коих полузакрывали его впалые, как у мертвеца, щёки; с глазами, горевшими безумным, огнём из код седых, длинных, словно собачьих бровей со ртом, набитым пищею, он походил на зверя или озверевшего, одичалого человека...
И Палий, и пани-матка, и Семашко, и Охрим с глубоким сожалением и какою-то боязнью смотрели украдкой на несчастного и почти ничего не ели. Под конец обеда он стал есть спокойнее, не так торопливо. Бледное лицо немножко утратило свою мертвенную бесцветность. Глаза стали добрее, осмысленнее.
— А теперь выпьемо по чарци сливянки за здоровiе пана гетьмана! — провозгласила пани-матка. — Я з Украины привезла-таки сiей доброй горилки не одну плашечку... Охрим, щоб не отняли iи москали, виз пляшечки за пазухою.
— Та в штанях, — пояснил добросовестный Охрим.
Палий опять сделал жене глазами знак насчёт «Украины» да «москалей». Пани-матка поняла намёк и замолчала.
Выпили по чарке. Самойлович совсем ожил, даже как будто выпрямился, вырос. Выпили по другой, и гетман тотчас же охмелел: усталость, голод, теперь с избытком удовлетворённый, и душевное истомление взяли своё... Старик скоро уснул, сжав свою воображаемую булаву обеими руками, и долго спал, иногда бормоча во сне бессвязные речи: «Мазепа золото — не писарь», «Украинское тогобочное царство», «украинский царь», «щека горит»...
Проснувшись, он не скоро узнал Палия, всё как-то дико всматривался в него, потом спросил, где он, где Мазепа, и успокоился, когда ему отвечали, что Мазепа универсалы пишет. Подойдя к окошку и увидав Енисей, спросил, что за река? Ему опять отвечали, что Днепр. Он сказал, что хочет пойти на берег посмотреть, скоро ли «козаки на чайках приплывут, чтоб идти Крым и Царьград плюндровать»...
Вышли на берег. Летнее солнце клонилось уже к западу. За Енисеем далеко тянулись тёмные леса, высились серые с тёмною же зеленью горы. Над рекою носились и «кигикали» чайки, точно в самом деле это Днепр... То же голубое небо, то же тёплое, даже жаркое, как у Перекопа, солнце, та же трава под ногами, что и в Киеве, у Крещатицкого спуска... Всё то же, тот же один неведомый Бог раскинул и над Киевом с Днепром, и над Енисейском с Енисеем этот голубой шатёр, убрал землю свою зеленью, набросал в неё цветов, а с цветами набросал промеж людей счастья, горы счастья, а дьявол, тот что в Печерском монастыре, «в образе ляха», бросал на не молящихся людей свои цветы — «лепки», этот завистник от века набросал промеж людей горя, целые горы горя...
Гетман в немом умилении остановился над рекою, глядит на небо, на далёкое заречье, на реку, на воду, на водные струи, катящиеся к северу!.. К северу!..
— Что это такое делается? — с изумлением и ужасом сказал гетман, глядя на воду, а потом глянул на небо, на солнце, опять на воду. — Что это?!.. Днепр не туда побежал... не на полдень, а на полночь... Господи! Что ж это такое?
Палий побледнел и задрожал на месте... Гетман глянул на него, на свой чекмарь, огляделся кругом... Палию казалось, что он видит, как у безумца волосы на голове шевелятся... Он уж, кажется, опять не безумец... понял всё... всё... всё вспомнил...
— Так это был не сон... не сон... Меня били в щёку, гетмана били... Вот уже двадцать годов горит от пощёчины щека гетманская... О! Проклятый Мазепа!.. Это он...
И Самойлович, уронив чекмарь, упал ничком, как ребёнок, стукнулся головою в песчаный берег и зарыдал...
— О, мои детки! О, проклятый Мазепа — о-о!
Палий, подняв глаза к небу, перекрестился и безнадёжно махнул рукой... А небо было такое же голубое, как и над Украйною, над Кiевом, над Мазепою...
VIII
Что же делал в это время Мазепа, которого где-то в далёкой Сибири, в неведомом ему городе, проклинали люди, занимавшие не последнее место в воспоминаниях его долгой, как дорога до Сибири, жизни?
Что думал он в то время, когда один из этих проклинавших его, самый несчастный, колотился головой о песчаный берег Енисея и тщетно звал к себе тени дорогих сынов своих, тоже погубленных Мазепою?
Мазепа думал о скорой женитьбе своей, о хорошенькой Мотрёньке, о том, какие у них пойдут дети от этого «малжонства», о том, как он наденет на свою сивую семидесятилетнюю голову и на чёрненькую головку Мотрёньки венцы, да не церковные, не венчальные, а маестатные, настоящие владетельные венцы... И детки его от Мотрёньки будут расти в порфирах да виссонах... Ведь она его любит, «сама сказала и рученьку биленькую дала»...
Задумав жениться и не получив ещё согласия на этот брак родителей невесты, он по какому-то сродственному сцеплению мыслей вспомнил, что у него есть мать, о которой он редко думал, хотя и продолжал побаиваться — единственное существо в мире, которому Мазепа не мог смотреть прямо в глаза, и робость перед которой не вышибли из него долгие семь с половиною десятилетий жизни. Может быть, он, потому побаивался матери, что это опять-таки было единственное существо в мире, которое знало, что Мазепа всю жизнь фальшивил и лукавил, лукавил от первых проблесков в нём сознания, лукавил от колыбели. Она заметила начала этого лукавства в своём «Ивасе» ещё тогда, когда «Ивася» спал в колыбельке, убаюкиваемый усыпительными детскими песенками, и ещё не имел своей кроватки. Она заметила, что «Ивась» не любил засыпать под колыбельную песню, а любил, лёжа в своей «колисочке», играть золотыми мишурными кистями, спускавшимися от верха колыбели и развлекавшими его. Мать часто наблюдала за ребёнком и подсмотрела, что» когда его начинали качать и монотонно петь — «у котика, у кота колисочка золота», — он скоро закрывал глаза и, по-видимому, засыпал; но тотчас же оказывалось, что он притворялся, чтоб только скорей перестали его качать и оставили его с любимыми «цяцами» — кистями. Притворство и лукавство росли в «Ивасе» с годами, и эти качества тем более укоренялись в нём, что развитие ребёнка совершалось под двумя несходными нравственными влияниями: отец, старый шляхтич Мазепа, души не чаял в своём «Ивасе Коновченке», как он называл будущего казацкого «лыцаря», и до крайности баловал его; а мать, вспоенная немножко молоком польской культуры, мечтала выработать из своего сынка «уродзонего папина» с лоском, грацией и манерами отборного паньства. Способный и сметливый мальчик гнулся и в ту, и в другую сторону, словно угорь, обманывал мать, которая была баба не промах, попадался впросак, вился перед нею, как змеёныш, а потом, когда мать окончательно пристроила его ко двору короля Яна-Казимира, где тоже приходилось виться и так и этак, юный Мазепа окончательно превратился в нравственно-беспозвоночное существо. Лукавить, притворяться, лгать, стало его природой, и он так выхолил в себе лукавую душу, что сам иногда не сознавал, лукавит он или действует искренно. Эта внутренняя приросшая к душе лукавость в свою очередь выработала и внешние органы для своего проявления, превратив образ Мазепы в какие-то неуловимые лики, именно лики, несколько ликов, а не лицо: лик кротости, целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви перед сильными мира сего, лик добродушия и даже простоватости перед равными и лик милого беса, которого не отличишь от ангела — перед прекрасным полом; и только старость уже наложила на эти лики печать какой-то угрюмости, да и то в моменты лишь его одиночества и раздумья. Оттого Петру он казался добрым, умным и преданным стариком, полякам казался своим братом шляхтичем, а женщины были от него без ума, — и только народ, дети и собаки сторонились от его глаз, как ни старался он сделать их добрыми и ласковыми. Одна мать хорошо видела эту бесовскую триипостасность своего чадушка под всеми соусами, потому что изучила с пелёнок этого чадушка, и чадушка побаивался своей матушки. Зато вдали от матушки, — а он был всегда вдали от неё, — он лукавил везде и всегда: перед москалями — прикидываясь их покорным и строгоисполнительным орудием, перед поляками — рисуясь своими симпатиями к польской культуре, перед православным духовенством — воздвигая храмы и давая на монастыри большие вклады, перед католиками — лаская их таинственными недомолвками. Он лукавил и перед собой, и перед Богом, лукавил на молитве, стоя дольше на коленях перед образами, чем того желало бы его лукавое сердце и подагрические ноги. Зная это, хитрая старуха-мать, увидав, бывало, своего сынка-гетмана, как он, заходя иногда в Фроловский монастырь, где его матушка была игуменьей, распинается на людях перед Спасителем в терновом венце, бывало, нет-нет да и шепнёт, проходя мимо молящегося гетмана: «Ивасю! Али ты не знаешь, что у Бога очи лучше моих? Я и то вижу, а Он»...
Вот и теперь перед женитьбой он надумал навестить эту ведьму-матушку и испросить у неё родительского благословения, тем более, что, возвращаясь из похода с правобережной Украйны на левобережную, он заехал в Киев, как для свидания с киевским воеводою князем Димитрием Голицыным, так и для закупки подарков и приданого для своей невесты.
Мазепа приехал в монастырь в богатой берлине с двумя сердюками позади. Лицо его после продолжительного похода по Заднепровской Украйне для восстановления покорности в бывшей Палиивщине казалось усталым, несмотря на густой загар, наложенный на него южным солнцем, что ещё более выдавало сивизну его головы и усов, ставших в последние три года совсем белыми, чисто серебряными. Таким же серебром отливала пара отличных серых коней, запряжённых в берлину, обитую внутри малиновых бархатом, к которому и была прислонена лукавая сивая голова гетмана.
Выйдя из берлины, он направился по монастырскому двору, пестревшему всевозможными цветами, прямо к келье игуменьи. Встречавшиеся ему монашенки робко и низко кланялись, не глядя на него, а попавшаяся на пути кудластая чёрная собака, взглянув в добрые глаза гетмана, поджала хвост, и, словно укушенная августовскою мухою, бросилась под ближайшее крыльцо. Далее попалась молоденькая черничка с большими чёрными глазами, хотела, по-видимому, их спрятать, но не успела: вспыхнула, поклонилась и тоже, как собака, юркнула в сторону. Мазепа проводил её глазами и вступил на знакомое крыльцо.
В сенях не оказалось никого, в первой просторной келье — тоже. Окна открыты в сад. Пахнуло запахом цветущей липы и листьями увядающей розы; это на окне, на листе синей бумаги сушились розовые лепестки на солнышке. В соседней келье сквозь полуоткрытую дверь слышны голоса.
— Я, бабусю, принесу кутику червоную ленточку на шею, — щебечет детский голосок.
— Червоную нельзя, дитятко, — отвечает старческий голос.
— Отчего, бабусю.
— Котик живёт в монастыре, а в монастыре ничего червоного нет.
— А цветы, бабусю?
— То цветы Божьи сами червовые, а носить на себе червоного нельзя.
— Та котик же, бабусю, не монах...
Мазепа улыбнулся и тихо отворил дверь, он всё делал тихо, как-то неожиданно, словно пугал.
— Те-те-те! Старе и мале котиком забавляются, — сказал он, входя во вторую келью.
В этой келье, просторной, светлой, с богатыми образами в переднем углу и с цветами на окнах, в глубоком кресле, наподобие ниши, сидела старушка, по-видимому, глубокой старости. Она была в монашеском одеянии, хотя по-келейному, но с перламутровыми чётками на правой руке, и вязала чулок. Маленькое, от старости сжавшееся личико было необыкновенно бело, так что едва отличалось от таких же белых, сухих и мягких, как лен, волос, выбившихся из-под чёрного платочка, охватывавшего всю голову. Сухой, горбатый, как у копчика нос, острый, кверху поднявшийся подбородок, полное отсутствие губ, давно и безвозвратно втянутых беззубым ртом, и небольшие серые, круглые, как у птицы, глаза невольно приковывали внимание к этим живым останкам человека. Но что особенно било в глаза, так это чёрные брови, непонятным образом уцелевшие среди общего отцветания этого ветхого существа и придававшие какую-то молодую живость птичьим глазам.
У ног старушки забавлялся огромным клубком чёрный котик, а около него на полу же сидела девочка, одетая негородскому: в белой с узорами сорочке и в голубой юбке.
После первого восклицания Мазепа подошёл к старушке, низко наклонил голову и подставил почти к самому носу маленького съёжившегося существа обе ладони пригоршней для благословения.
— Благословите, мамо и матушка игуменья, — сказал он тихо, опустив глаза.
Старушка подняла свои, сделала головой движение, как бы клюнула клювом Мазепу, положила на колени чулок, снова клюнула и благословила, гремя чётками.
— Во имя Отца и Сына... Бог благословит...
— Живеньки-здоровеньки, мамо? — спросил гетман, целуя руки матери.
— Живу... Вот последние панчошки плету себе для дороги на тот свет, — и она указала на чулок. — Далёкая дорога!
— Далёкая, мамо, далёкая... только, Бог даст, ещё поживём.
Старушка махнула сухой ручкой. — Что уж об нас! А вот как ты, сынку, живёшь?
— Да, я, матушка, сейчас из походу, до Львова доходили, всю тогобочную Украйну ускровнили, а то Палий её избаловал ни на что... Заезжал и до дому до ваших местностей...
— А! Пусто там?
— Нет... Только хлопы того дуба срубали, что вы посадили в день моего рождения.
Старушка вздохнула и молчала. Мазепа тотчас переменил разговор.
— А! И Оксанка тут! — ласково обратился он к девочке. — У! Какая большая стала дивчина... Л очи, ай батюшки, ещё больше стали... Ух, боюсь Оксанкиных очей...
Девочка рассмеялась, взяла кошку на руки и стала её гладить.
— Так червоною ленточку ему нельзя? — улыбаясь, шутил Мазепа.
— Нельзя, грех... А я ему беленькую, шёлковую стричечку принесу, — заговорила девочка.
— Ну, добре. А что батько, старый Хмара?
— Татко до Запорожжа поихали с козаками.
— А мати в городе?
— Мама дома.
— Ну, скажи матери, что я буду к ней в гости: пускай ковбаски готовит.
Болтая с девочкой, Мазепа украдкой поглядывал на мать. Та, с своей стороны, молча вяжучи чулок, нет-нет, да и клюнет сынка, да опять в чулок спрячет свои птичьи глаза.
Но надо было начать о деле, а при девочке нельзя, не годится о таком важном деле при посторонних говорить. Мазепа взглядывает сначала на мать, потом на девочку. Ждать некогда...
— Ну, Оксанко, — говорит он ласково, — возьми, дивчинко, котика да пойди, поиграй с ним у садочку.
Девочка поднимает на него свои большущие глаза.
— У! Яки очи велики! Боюсь-боюсь их! Беги отсюда.
Девочка с котом на руках выбежала из кельи, а мать Мазепы, положив чулок на колена, устремила на сына безмолвный, вопросительный, скорее испытующий взор... «Что он задумал? О чём намерен лгать и для чего? Или в первый раз в жизни хочет правду сказать?» — говорили пытливые глазки матери-игуменьи.
Мазепа пододвинул к ногам матери складную кожаную табуретку и опустился на неё. С минуту и тот, и другая молчали. Мазепа сидел, опустив голову и устремив глаза на колена матери, на чулок, белевшийся на них. В памяти у него мелькнуло светлой искоркой, как он маленьким сидел, бывало, на этих коленях и играл дорогими ожерельями, блестевшими на белой точёной шее матери. Как давно это было! Не видать теперь и шеи белой, да и какая она теперь!.. А мать, глядя на седую, наклонённую голову сына, тоже вспомнила белокуренькую головку Ивася... Седая уж и она, да как седа!.. Так и сжалось старое сердце — руки дрогнули...
Мазепа наклонился, взял эти маленькие, сухие, сморщенные руки и молча стал целовать их... Ещё больше дрогнули руки.
— Что, Ивасю? Что с тобой, сынок? — дрогнул голос у старушки.
«Ковалику-ковалику! Скуй меня пичку, таку невеличку...», — доносился со двора весёлый напев Океании.
Мазепа выпрямился и глянул в глаза матери. Он прочёл в них давно, почти никогда невиданную нежность, и в сердце у него шевельнулось что-то острое... «И я бы был добрее, если б эти глаза добрее были», — сказалось у него в душе как-то невольно.
— Матушка! Благослови меня на доброе дело, — выговорил он, наконец, нерешительно.
— На доброе дело я всегда благословлю тебя, — отвечала игуменья. — Какое ж это дело, сынку?
— Я хочу в малжонство вступить, жениться.
— Жениться! В твои годы!.. А сколько тебе?
И старушка стала нетерпеливо перебирать чётки, как бы считая годы, десятилетия. Голова её дрожала, впалый рот жевал что-то, круглые глазки стали ещё круглее... У Мазепы меж бровями прошла складка, га историческая складка, которую заметил раз и царь Пётр Алексеевич, когда во время одного буйного пира, разгорячённый вином и неловким замечанием Мазепы, он дёрнул гетмана за сивый ус; заметил эту складку и Палий перед тем, как Мазепа велел его заковать в железа... Он не отвечал на вопрос матери.
— Восьмой десяток давно... не поздненько ли, сынку? — продолжала старушка.
— Не в летах дело... Аще в силах, говорит святое Письмо... Могий вместити, да вместит, — сказал он резко.
— Так-то так... Ну, да это твоё дело... Ты не мала дитина обдумал, поди... Тебе жить... — Старушка как будто смягчилась и снова взяла чулок в руки. — А кого вздумал взять?
— Кочубеивну...
Старушка откинулась назад, заторопилась и спустила петлю. Сначала она не знала, что сказать — и то глядела на сына, то на чулок, как бы со стороны ожидая разрешения своего недоумения.
— Кочубеивну!.. Дочку Кочубея Василия!.. Да он сам тебе в дети годится...
— А хоть бы и во внуки... Моя воля... — У Мазепы голос становился резче, и складка между бровями обозначилась явственнее: лицо его превращалось в тот лик, которого пугались дети и собаки.
— А которую это из них?
Мазепа на это не отвечал, а точно оборвал басовую струну у гитары: «Матрону!»
Старуха рванулась было встать, но ноги её не слушались, она их только поджала под кресла.
— Да ты Лот, что ли? — оборвала в свою очередь старуха.
— Не Лот — Лот был святой человек, а я просто Мазепа-гетман, — отвечал он уж с спокойной злостью.
— Дочь-то свою брать себе в жёны?
— Она мне не дочь, а крестница.
— Всё равно, грех... она твоя духовная дщерь...
Мазепа встал и начал ходить по келье. Лицо его было сурово. Глаза, смотревшие исподлобья, из-под седых нависших бровей, казалось, были не его, да и смотрели всё как-то в бок, точь-в-точь глаза собаки, которую рванули сзади за икры, а она, не успев отмстить врагу, косо озирается, как бы ища, на ком сорвать злость.
— Боже мой! Боже мой! — говорила сама с собой старушка. — И когда умрёт в нём эта похотливость проклятая!.. С детства такой: покоювкам ни одной не давал проходу... Там с этой Фальбовской связался... Ещё милостив был пан Фальбовский, не к хвосту конскому привязал, а на спину...
— Да что вы, матушка, из могил людей выкапываете? — остановился он перед матерью.
— Как не выкапывать!.. Отца бы твоего выкопать, пусть бы порадовался на своего сынка...
— И порадовался бы... Из нашего и вашего роду кто был гетманом? Кто водил дружество с царями и владыками? Я один... Моего батюшки могила никому неведома, козы по ней ходят и траву щиплят; а об сыне его и вашем, об Иване Мазепе летописцы уже пишут, как вон писали о Мономахе да о других владыках земли... И твоё имя, матушка инокиня Магдалина, по мне воспомянут будущие летописцы. Ради меня ты и игуменство получила, а не будь у тебя сына Ивана, тебя бы давно Палисва голутьба на поругу из твоих местностей собаками выуськала, а то, может, и по тебе бы давно козы паслись, как пасутся на батюшкиной могиле... Для тебя одной сын Иван — не сын: он де стыд и поношение нашему роду... Знаю я тебя! Всю жизнь точила ты меня, как червь старую осину: может, оттого и сидит во мне этот червь, которого никто кроме меня не чует... А каково жить-то с этой червоточиной в сердце... Вот часом оглянешься на свою прошлую жизнь, как собака на червивый хвост глядит, и что ж увидишь там? Кто меня любил? Никто! Мать родная не любила! А за что? За то, что мать — шляхтанка, молоком матери шляхтянки да католички отравленная, и у сына — на вон! Не панская кровь, а казацкая, батьковская... Да ты и эту кровь испортила — ни я козак, ни я лях, а выродок какой-то, я хуже Измаила... Того отец выгнал в пустыню, но у него осталась мать Агарь... А у меня не было и Агари, у меня никого не было! Я думал, сын, сын у меня будет, будет-де кому, умираючи, передать и добро моё, и имя. Так нет у меня и сына! Некому меня любить... Одна душа добрая нашлась, дитя чистое, так и ту хотят отнять у меня... Нет! Не бывать этому! До патриарха дойду: он даст благословение...
Мазепа остановился: он был страшен и силён. Но и пред ним был кремень, хотя уже до половины закопанный в могилу. У старухи всё лицо ходуном ходило.
— Патриарх даст, так я не дам своего благословения! — как-то долбанула она своим птичьим клювом и застучала клюкой, стоящей у кресла. — Не дам!
— Так и не нужно мне твоего благословения!
Старуха швырнула на пол чулок, оперлась на клюку-посох и встала, дрожа всем тщедушным, иссохшим телом...
— Не нужно?.. Тебе материнского благословения не нужно, змеёныш? — И она подняла посох. — Так вот же тебе, на!
Она, шатаясь и дрожа, пошла на него с посохом. Мазепа отступал. Старушка запуталась в чулке, слабые ноги не выдержали, и она клюнулась носом об пол, упав бесшумно, словно мешок со старым хламом...
— Будь же ты проклят, аспидово отродье! Проклят, проклят, про-оклят!..
— Матушка!..
— Буди проклят, проклят!.. Аминь, буди проклят!
— Мамо! Мамо! — Он хотел поднять её.
— Прочь, прочь, проклятый! Сгинь с очей моих.
Мазепа вышел, не оглядываясь более на свою мать.
В ушах у него звенело проклятие... — Мене бить... гетмана... как последнюю собаку... сего ещё не доставало!..
— А мати Галина котику рыбки давала! — зазвенел ему навстречу голосок и тотчас же смолк: Оксанка испугалась очей гетмана...
IХ
С проклятием матери и с горьким чувством глубокого одиночества и сиротства воротился Мазепа в свою столицу, в Батурин. Теперь он ещё более чувствовал то, что в последний раз высказал матери, что его кто-то проклял от колыбели, наложив на всю жизнь, как на братоубийцу Каина, печать отчуждения. Но он, Мазепа, не убивал брата, да у него и не было брата... И он перебирал всю свою жизнь... Но и там ничего кроме старых ран, ничего, над чем бы поплакала усталая память сладкими слезами.
Тут, во всей этой Малороссии, он чувствует себя чужим, отгороженным от сердца народа, как он всю жизнь был отгорожен от сердца матери: народ не любил его, не верил ему, чуждался его; у него один кумир, как тот израильский змий в пустыне, — и этот змий Палий. И казаки, и старшина не любят Мазепы; он это видит, чувствует, подмечая в глазах всех ту искорку недоверия, какую можно видеть у чужой собаки, которая может и укусить... Там, в тогобочной Малороссии, он и подавно чужой; над каждой хаткой, над вновь запаханными нивами, над вновь выросшими из «руины» городами витает тень того же змия пустыни, а на Мазепу все смотрят, как евреи смотрели на Фараона...
Да и Москва, царь и Польша смотрят на него только как на сторожевую собаку, которая прикована на цепь около их, чужого, добра и должна лаять по ночам...
Сгинула бы совсем эта проклятая, безмозглая хохлатчина!..
А вот и здесь на сердце одна была у него услада, одна надежда, так и ту отнимают. Кочубеи и слышать не хотят о замужестве на их дочери, когда гетман формально посватался, сам богатые ручники и подарки привёз из Киева. А всё эта проклятая Кочубеиха Любка, запорожец в юбке! Такой же запорожец, как и саженная Палииха... Ну, да та теперь далеко — в Енисейске где-то, где холодное небо со снежною сибирною землёю сходится... Там и Самойлович згинул... Всех сломил Мазепа, одну эту Кочубеиху Любку не сломит. Эко Салтан-Гирей какой завёлся на Украине! Нельзя, говорит, жениться на крестнице, земля де пожрёт обоих в первую же ночь после венца... Вздор какой, «нисенитница»! А она-де, говорит, Мотря, ещё «мала дитниа»... Мала! Чуть ли не девятнадцатый год...
А сама Мотрёнька? О! Да она безумно любит старого, никем не любимого, одинокого среди своего величия и роскоши гетмана. Может быть, за это одиночество, за это сиротство и привязалось к нему чистое, ещё никого, кроме «тата» да «мамы», не любившее девичье сердце... Всё время после той охоты по пороше, когда Палииха убила медведя, и когда потом гетман с войском ушёл в поход на тот бок Днепра, в Польшу, девушка не переставала думать о нём. Окружённый ореолом могущества и славы, полновластный владыка целой страны, могучий умом и волею, каким он казался всем и ей самой, ом в то же время в мечтах девушки рисовался грустным, одиноким, каким не мог казаться самый последний нищий, таким сиротствующим, которому, как в тот день, когда он особенно был грустен, и когда Мотрёнька приносила ему цветы, ничего не оставалось в этой жизни, как искать своей могилы. И молодое сердце девушки разрывалось на части при мысли, что никто, никто в мире не может утешить его, что нет в свете существа, на груди которого он мог хоть бы выплакать свои никому, кроме её одной невидимые слёзы, существа, которое могло бы приласкать эту седую, так много и так горько думавшую голову и отвечать любящими слезами на его горькие, одинокие слёзы. И Мотрёнька плакала иногда, как безумная, думая о нём, особенно после того, как он сказал, что она одна составляет радость его жизни, яркое солнышко в его мрачной старости, и что это солнышко скоро закатится для него. Первое её чувство, из которого выросла потом страсть, была жалость к нему, о, какая жгучая жалость! Так бы, кажется, и истаяло, изошло слезами молодое сердце.
Когда Мазепа во главе своей свиты: войскового обозного, асаула, генерального судьи, войскового писаря, полковников разных полков и другой казацкой старшины, окружённый блестящим эскортом из золотой украинской молодёжи, бунчуковыми товарищами и сердюками, въезжал в Батурин под звуки труб и котлов, под звон колоколов и при многочисленном стечении народа, Мотрёнька не вышла вместе с другими навстречу гетмана и отца и притаилась в своём саду, мимо которого следовал торжественный кортеж, и когда из блестящей свиты выделилось седоусое, понурое и болезненно-угрюмое лицо Мазепы рядом с черноусым и моложавым лицом Кочубея, девушка, прикрытая зеленью сада, восторженно упала на колени и перекрестила эти две головы — голову отца и Мазепы; но в душе она крестила только последнего, а тату своего мысленно целовала и дёргала за чёрный ус, что она, перебалованная им донельзя, очень любила делать. Это движение видела лишь старая няня, следившая за панночкой, и заплакала от умиления, глядя на свою вскормленницу и благоговейно бормоча; «От дитина добра… Божа дитина...»
В тот же день вечером Мазепа навестил Кочубеев, явившись к ним с полдюжиною сердюков, которые принесли целые вороха подарков для самой пани судиихи и для панночек, которых у Кочубеев, кроме Мотрёньки, было ещё две. Гетман был особенно любезен с хозяйкою, рассказывал о своём походе, описывал яркими красками то цветущее положение, в каком он нашёл Палиивщину, ту часть тогобочной Украины, которую вызвал к жизни Палий. Говорил о новых милостях, оказанных ему царём — как в виде дорогих подарков, так и любезных писем, и о слухах, ходивших насчёт шведского короля, о его беззаветной храбрости, о простоте его жизни, ничем не отличающейся от жизни солдат. Рассказ его был жив, увлекателен, остроумен. Между серьёзной речью блистали остроты, каламбуры, словесные «жарты», которые так любит украинский ум. Он пересыпал свою речь удачными пословицами, стихами, польскою солью. Панночки слушали с величайшим удовольствием, а Мотрёнька украдкой любовалась им и болела за него, зная, догадываясь, что под этой весёлой, живой наружностью таится глубокая тоска, переживается тяжкое одиночество.
— А все мои старые кости не нашли своей домовины, — неожиданно и с горечью заключил он свою живую и восхитительную беседу.
Это было сказано так, что Мотрёнька, прибежав в свою комнату, бросилась на колена перед образом и зарыдала.
Немного спустя Мазепа отыскал её в саду с заплаканными глазами. Это было поводом к роковому объяснению между ними, объяснению, положившему начало той страшной исторической драме, которая через три года закончилась кровавыми актами — трагической кончиной отца девушки, поражением Карла XII под Полтавой и не менее трагической кончиной Мазепы, которого прокляла вся Россия и втайне оплакало лишь одно существо, одно, любившее эту анафематствованную церковью крупную историческую личность, когда её, по-видимому, ненавидели все — и свои, и чужие.
Увидев свою крестницу заплаканною, гетман спросил её о причине её слёз. Девушка сначала молчала, сидя на скамейке под дубом и рассматривая дубовый лист от ветки этого развесистого зелёного гиганта, свесившейся к самой ручке высокой скамьи. Старик стал гладить её голову, допытываясь о причине слёз. Девушка продолжала молчать, теребя листок, как это делают дети, собирающиеся вновь заплакать, и по всему видно было, что она собиралась разреветься. Мазепа отнял от её рук ветку, взял за подбородок, как ребёнка, и хотел приподнять её лицо. Девушка упиралась, Мазепа тихо-тихо и грустно назвал её по имени. Снова молчание, только на руку ему скатились две горячие слёзы... «Что с тобою, дитятко моё?» — с испугом спросил он. «Вас жалко...» И девушка, припав к плечу гетмана, горько, неудержимо плакала. Мазепа тихо привлёк её к себе и, одною рукою придерживая стан, другою гладя бившуюся у него на груди горячую головку, долго сидел молча, пока она не выплакалась и пока грудь её не стала ровнее и покойнее биться на его груди. Тогда он отвёл от себя её заплаканное лицо и, глядя в детски светлые глаза, которых никак не мог забыть Павлуша Ягужинский, тихо спросил: «Ты обо мне плачешь?» «Об вас» «О том, что я одинок, в могилу гляжу?» — «О, тату!» Мазепа помолчал, как бы собираясь с силами... «Хочешь быть моею?» — дрожа и почти шёпотом спросил он. «Я давно твоя...» Мазепа стиснул её руки... «Я говорю: хочешь ли ты быть вся моею?» Девушка молчала, глядя на него безумными глазами... «Хочешь ли быть малжонкою старого гетмана перед людьми и Богом?» Девушка снова упала к нему на грудь с страстным шёпотом: «Возьми мене... неси мене хоч на край свита... я твоя, твоя!..»
Непостижима душа человеческая!.. В этот самый момент перед глазами её пронеслось какое-то видение: яркое весеннее утро, сад и земля, усыпанная розовым цветочным снегом, и юноша с заплаканными, такими мягкими, тёплыми какими-то глазами... «Мне восемнадцать уже исполнилось», — говорит юноша.
Когда на другой день Мазепа объявил о своём сватовстве, Кочубеи решительно отказали ему. Гетман был глубоко поражён. Девушка плакала безутешно Но она уже не могла жить без того, кого давно полюбила. Между нею и Мазепою начались почти каждодневные тайные свидания по ночам то в саду Кочубеев, то в саду гетмана. Старик охвачен был всепожирающею страстью. Никогда в жизни не любил он так, как полюбил теперь, хотя любить ему приходилось не раз и в самую раннюю весну своей жизни, ещё при дворе Яна-Казимира, а потом в саду у пана Фальбовского и в самом зрелом возрасте. Зато никогда не встречал он и такой женщины, такого чудного и обаятельного ясностью и полнотою духа существа и с таким глубоким и серьёзным складом чувства, какое он нашёл в этой своей предмогильной привязанности. Он и в молодости не испытал того, что теперь в первый раз испытывал: это обаяние и опьянение целомудренного, робкого какого-то чувства, в котором господствовали более чистые порывы духа. Может быть, это чувство очищалось чистотою той, которая вызвала его; но Мазепа чувствовал глубоко, что он сам переродился с этой привязанностью; в нём проснулась неведомая для него сила — доброта... Ему в первый раз в жизни стало жаль погубленных им жертв — Самойловича, Палия и легиона других, забытых им. В сердце его в первый раз шевельнулась холодная змея — совесть, стыд за своё прошлое, чувство брезгливости своих собственных мерзких дел, которые до этой роковой минуты не казались ему гадкими. Руки его дрожали, когда в темноте ночи они ловили руки девушки, трепетно ждавшей его, и дрожали боязнью, что вот-вот и ночью, во мраке, лаская его, она увидит на этих руках невинно пролитую кровь, ощутит слёзы, которые заставили вылиться из множества глаз эти сжимаемые нежными пальчиками девушки, жёсткие, злодейские руки. «Прости, прости меня, чистая!» — шептал он невольно, обнимая колени дорогого ему существа. А девушка, страстно обнимая и целуя седую голову, надрывалась, плакала; «Головонько моя! Серденько... На горенько я с тобою спозналася...»
Но скоро об этих свиданиях проведала мать Мотрёньки, и тогда для последней адом стал её родительский дом. За несчастной учредили строгий надзор. Суровая, гордая, несдержанная на язык Кочубеиха поедом ела дочь, язвя её своим змеиным языком с утра до ночи. Девушка выслушивала такие замечания, такие оскорбительные намёки, от которых кровью обливалось её тоскующее сердце. Но что было мучительнее всего — это ничем не сдерживаемая брань, которая сыпалась на голову Мазепы. Ему приписывалось всё, что только может быть унизительнее для человека...
Но девушка не плакала, она точно окаменела. По целым часам она сидела в своей комнате, не двигаясь с места и прислушиваясь к вспышкам домашней бури, и только тогда, когда матери не было дома, она со стоном бросалась на пол и страстно молилась... И опять-таки молилась за него... Она видела своё горе, знала, как переносить его; но его горя она не видела, а невиданное так страшно...
Что делает он? Как он выносит своё горе?.. До девушки доходят слухи, что он болен. Она представляет) себе его одиночество, беспомощность. От неё не отходив его образ, тоскливый, скорбный... И она готова на казнь идти, лишь бы увидеть его, утешить...
Самое могучее чувство женщины не любовь, а жалость. Когда жалость закралась в сердце женщины, в ней просыпаются неслыханные силы, слагаются решения на неслыханные дела и подвиги: тут её самопожертвования не знают пределов, героизм её достигает величия...
После долгих, мучительных дней в сердце Мотрёньки сложилось, наконец, последнее бесповоротное решение: она должна идти, чтобы взглянуть на него! От этого не остановят её ни позор, ни смерть...
И вот ночью, когда все в доме спали, и когда старая няня Устя, наплакавшись над своею панночкой, которая в несколько недель извелась ни на что, тоже глубоко уснула, скукожившись на полу у постели своей панночки, Мотрёнька тихо сошла со своего ложа, перешагнув через спящую старушку, тихо в темноте оделась, отворила окно в сад и исчезла...
Тенистым садом она прошла до того места, где их сад сходился с садом гетмана, и сквозь отверстие, сделанное ещё прежде в частоколе и закрытое густым кустом бузины, вошла в гетманский сад. Но как пойти в дом? Как пройти мимо часовых, мимо расставленных везде сердюков и стрельцов, которые, хотя и дремали но ночам, но около них не дремали собаки? Девушка приглядывалась сквозь тёмную зелень, не светится ли огонёк в рабочей комнате гетмана. Может быть, он сидит ещё, работает. Нет, он, вероятно, болен, бедненький, лежит одинокий, всеми покинутый, хоть покой его и оберегает свора этих сердюков и московских красных кафтанов... Страшно в тёмной глубине сада. Где-то меж старыми дубами филин стонет, пугач страшный: «Пу-гу, пу-у-ггу!» А из-за этого птичьего стона слышится, как за садом, должно быть, на выгоне, свистит «вивчарик», которого никогда Мотрёнька не видала, но знает его ночной свист, не то свист птички, не то зверька. А ещё выше, из-за вершин лип и серебристых тополей глядят чьи-то далёкие очи-Божьи, всевидящие: они смотрят на Мотрёньку, следят за каждым её шагом, даже за биением её сердца... Но она ведь ничего дурного не сделала: она исполняет евангельскую заповедь, ей жаль больного, страдающего... Мотрёнька двигается дальше, трепетно прислушиваясь к чему-то; что-то стучит около неё, не то идёт за нею, крадётся... «ток-ток-ток!»... Господи! Что это такое? Девушка останавливается, прислушивается... Всё стучит, всё идёт: «Ток-ток-ток»... Ох! Да это стучит у неё внутри, это «токает» сердце в рёбра, вот тут, под сорочкой...
Но Боже! Что-то движется, кто-то идёт по аллее... Девушка так и затрепетала на месте... Куда двинуться? Где скрыться?.. Кто-то говорит, точно сам с собою... «Может, Карл, может, Пётр... кто сломит... а мне куда? Для кого, да и на что!.. Эх, Мотрёнько!.. Мотрёнько!..» Огнём опалило девушку: это голос гетмана... «Тату-тату! Любый»... Мазепа остолбенел на месте, раскрыл руки... Девушка всем телом упала к нему на грудь, обвилась вокруг него, шепча что-то, и тихо, без чувств опустилась у ног оторопевшего гетмана... Он хотел вскрикнуть и не мог. Дорогое существо лежало без движения... Дрожа всем телом, старый гетман упал на колена, припал к дорогому, как-то беспорядочно брошенному наземь неподвижному телу девушки и, обхватив её дрожащими руками, прижал к себе, как маленькую, как, бывало, он нашивал её ещё в свивальничках, спящую, и, целуя её лицо, волосы, шею, понёс в дом, не чувствуя не только «подагрических» и «хираргических» болей, но даже забыв, что ему далеко за семьдесят...
Мимо двух стрельцов, которые с удивлением видели что-то несущего на руках гетмана «не то ребёнка махонького, не то собаку, темень, не видать-ста», Мазепа вошёл в дом, прошёл в свой кабинет и бережно опустил свою ношу на широкий турецкий диван. Но только что он хотел подложить под голову девушки подушку, чтоб не скатывалась голова, как Мотрёнька открыла глаза.
— Тату, тату! Я у тебе! Любый мiй, — и руки её обвились вокруг шеи старого гетмана, который, стоя у дивана на коленях, плакал от счастья.
— Як-же-ж ты змарнила, дитятко моё, сонечко моё!.. Личко худенькое... очици запали... — шептал он, заглядывая ей в лицо.
— Ничого, таточку, теперь я с тобою... буде вже, буде!
— Рыбонько моя... ясочко...
В этот момент где-то тревожно ударили в колокол, Мазепа вздрогнул. Начались учащённые удары, беспорядочные, набатные. Только во время пожаров и бунтов так отчаянно кричат колокола. Что это? Не бунт ли? Не встали ли казаки и мещане на стрельцов, на самого гетмана? Недаром так косо они смотрели всегда на московских людей. А может быть, пожар...
Нет, в окна не видать зарева, а набат усиливается. И гетман, и девушка тревожно смотрят друг на друга, в глазах последней испуг...
— Не лякайся, дитятко моё, я зараз узнаю, — успокаивает её гетман.
Он хлопнул два раза в ладоши, и в дверях показался хорошенький мальчик, «пахолок», одетый в польский кунтушик. Он стрункой вытянулся у дверей. Большущие серые глаза его выражали больше, чем изумление, в них был ужас... «У пана гетмана ведьма, русалка, мавка...». Но скоро глаза «пахолка» блеснули радостью: он узнал панночку.
— Покличь, хлопче, московского полковника Григора Анненка, — сказал гетман.
— Аннеико сам тут, ясневельможный пане, — бойко ответил пахолок.
— Тут? Чого ему? До мене?
— До ясневельможного пана гетьмана.
— Так покличь зараз...
Мотрёнька между тем, незаметно выйдя в образную, упала на колена и горячо молилась.
Вошёл Аненнков Григорий, начальник московского отряда, состоявшего при гетмане для охранения как особы гетмана, так и его столицы Батурина. Анненков был мужчина уже немолодой, полный, светло-русый, с голубыми глазами навыкате.
— Что случилось в городе, господин полковник? — спросил Мазепа чисто по-русски. — Что за сполох? Пожар?
— Никак нет, ваше высокопревосходительство! Это генеральный судья звонит.
В глазах Мазепы блеснуло что-то холодное. Он понял, что там объявляли войну.
— Что ж он в звонари, что ли записался? Давно бы пора!
— У него, ваша ясновельможность, дочь девка сбежала.
— Сбежала? — нахмурился гетман. — Али она собака?.. Сбежала! — говорит он с неудовольствием.
— Ушла отай, ваша ясновельможность.
— Так он и намерен звонить всю ночь, никому спать не давать? А? — Гетман сердился, правый ус его нервно подёргивался.
Анненков знал Мазепу и знал, что это дурной знак. Быть буре.
— Я спосылал к нему Чечела, — сказал он скороговоркой, чтоб остановить его, — так говорит: «Пока-де дочь мою не найдут, буду звонить хоть до Покрова».
— А если я заставлю его звонить кандалами, да не до Покрова, а до могилы, — сказал гетман тихо, понизив голос; но в этом понижении звучало ещё более угрозы.
Потом он задумался и заходил по комнате. Тусклый свет нагоревших восковых свечей в серебряных канделябрах падал но временам на какое-нибудь одно место его седой головы, то на висок, то на затылок, и казалось, что эта гладкая голова покрыта фольгой.
— Мотрёнька! — вдруг сказал он, подойдя к двери образной. — Выйди сюда, дочко.
Девушка вышла, бледная, заплаканная, но спокойная: она видела того, по ком тосковала... Он не болен... Анненков почтительно поклонился, не без смущения взглянув на гетмана.
— Вот где обретается дщерь генеральского судьи, её милость Мотрона Васильевна Кочубей, — сказал Мазепа, обращаясь к Анненкову. — Она у гетмана... Её милось не сбежала и не отай ушла из дома родительского... Она пришла просить моего покровительства, и я по долгу службы и по знаемости, како крестный отец Мотроны Васильевны и гетман, принял её под свою защиту.
Между тем набатный звон не умолкал. Видно было, что Кочубей, настроенный женою, намеревался привести в исполнение свою угрозу — звонить до Покрова. Мазепа подошёл к крестнице, стоявшей у стола, и положил ей руку на плечо.
— Доню! — сказал он с нежностью в голосе, — чуешь звон?
— Чую, тату, — едва слышно отвечала девушка.
— Се родители твои зовут тебе до себе, — продолжал гетман.
Девушка молчала. Видно было только, что золотой крест, который висел у неё на груди, дрожал.
— Доню, дитятко моё! Що я маю робити с тобою? — ещё с большей нежностью и грустью спросил Мазепа.
Девушка подняла на него заплаканные глаза, ресницы дрогнули: но она опять не сказала ни слова.
Мазепа подошёл к Анненкову и, указывая на девушку, сказал: — Видишь, полковник, она пришла искать суда, она, дочь генерального судьи малороссийского... Кто повинен рассудить её с родителями?
— Никто, кроме Бога, ваше высокопревосходительство! — отвечал Анненков.
— Но Бог судит на том свете, — возразил гетман, — это Божий суд. Но её милость ищет суда людского. Меня Бог и люди поставили судьёю над малороссийским народом. Я по сему повинен рассудить и её милость Мотрону Васильевну с её родителями. Я и рассужу их, и горе неправым!
Голос его прозвучал грозно, словно бы посылал в битву свои полки. Седая голова поднялась высоко. Но набат не унимался.
— Доню! — снова заговорил Мазепа. — Се твои родители жалуются на нас Богу, до Бога кричат мидным языком... Повинись родителям, дитятко! Вернись до дому.
— Тату! Не гонить мене!
— Доненько моя! Я не гоню тебе, я прошу тебе: повинись теперь закону. А там я покажу им, кто я!
Затем, обращаясь к Анненкову, Мазепа сказал:
— Тебе, полковник Григорий, я поручаю с честию и с великим бережением проводить их милость Мотрону Васильевну Кочубей в дом генерального судьи, её родителя. Скажи Кочубею мою властную и непременную волю: если с сего часу я узнаю, что он дозволит себе или жене своей сделать хотя бы то наималейшее утеснение, либо огорчение дочери своей родной, а мне духовной, то я, гетман, не токмо дщерь его силён взяти, но и жену отъяти у него не премину. Скажи это ему!
Потом он подошёл к Мотрёньке, поцеловал её в голову и перекрестил.
— Се моё благословение тебе, дщерь моя любимая! Прощай, моя дочечко! Господь да пошлёт тебе своего Ангела-хранителя, а я не оставлю тебя и не забуду... Забвенна буде десница моя!
Девушка молча поцеловала его руку и, взглянув полными слёз глазами в глаза Мазепы, направилась к Анненкову. Мазепа остался среди комнаты угрюмый и безмолвный: казалось, что в этот момент он постарел несколькими годами.
Выйдя в другую комнату как-то машинально, ничего не понимая, Мотрёнька заметила, что у двери стоит молоденький пахолок и плачет.
— Ты об чём это, хлопчик? — спросил его Анненков.
— Панночку жалко! — И находок совсем расплакался.
X
Прошло ещё два года. Борьба Петра с Карлом ХII принимала такой острый характер, что со дня на день следовало ожидать кризиса, и, по-видимому, рокового для России, Союзник Петра Август, король польский, был раздавлен коронованным варягом, который, казалось, пришёл с своего далёкого полуострова, из-за Варяжского моря, на континент, чтобы повторить в новейшей истории России и Польши роль предков своих, какими историки называют старых варягов Рюрика, Синеуса и Трувора Верного слугу Петра и Августа, бойкого и ловкого Рейнгольда Паткуля, которого Палий часто вспоминал в Сибири, этот коронованный варяг на польской, униженной и разорённой им земле колесовал самым ужасным образом, приставив в палачи поляка, не умевшего колесовать, а потом растерзанные части его тела выставил, как указательные знаки, на пяти колёсах по дороге из Варшавы в Москву! По этой дороге Карл гнался за Петром, убегавшим из Польши в Москву, в эту постылую Москву, не научившую в течение столетия своих солдат драться и побеждать варягов Пётр бежал в Москву затем, чтобы вывезти из неё все казённые и церковные сокровища на Белоозеро, подальше от страшного варяга, а оттуда бе жать в свой новый «парадиз» и защищаться там отчаянно или пасть, но только не в Москве, а там, в Петербурге, поближе к дорогому морю.
Но куда прежде бросится страшный варяг, на Москву или на Петербург, или кинется на юг, в Украину?
Вот что должен был решить царь, когда к нему, успевшему в побеге от варяга достигнуть Витебска, привезли Кочубея, Искру и нескольких других украинцев с неожиданною вестью: гетман с Малороссиею передаётся на сторону Карла!.. Перо хрустнуло в руке Петра, начавшей было писать какой-то указ с любимого царём «понеже», в тот момент, когда ему принесли весть об измене Мазепы; а в глазах тут же находившегося Павлуши Ягужинского Головкин, Гаврило Иванович, принёсший царю эти вести о Мазепе и Кочубее, при имени последнего заметил что-то необычайное, по как будто бы радость...
Царь ни за что не хотел верить, чтобы Мазепа изменил ему. Уже не раз на него доносили по злобе или по зависти, и всякий раз оказывалось, что доносы были ложны. Так, не подтвердился ещё почти двадцать лет назад донос некоего инока Соломона, подосланного врагами Мазепы с изветом, будто бы гетман хочет отдать Малороссию Польше, и царь выдал доносчика головою Мазепе же. Так, оказался ложным донос в форме подмётного письма на «злого» и «прелестного» Мазепу, письма по-видимому, сочинённого родственниками бывшего гетмана Самойловича, гадячским полковником Самойловичем, князем Юрием Четвертинскнм, полковником Дмитрашкою Райчею и Леонтием Полуботком; и этих Пётр выдал головою своему любимцу-гетману, как и инока, Соломона. Того же самого ожидал царь и от доноса Кочубея; но при всём том велел Головкину расследовать это дело тщательнее, «по розыску». Это уже пахло застенком...
И Гаврило Иванович работает над этим делом день, другой, третий, работает неделю, другую... Работает с ним и Павлуша Ягужинский, которому царь велел приучаться к «сыскным делам», узнав верность его глаза, его необыкновенную смётку и находчивость, такую находчивость, подмеченную им только в евреях, что он, кажется, и в пуде пороха нашёл бы маковое зерно. Впрочем, Павлуша давно уже не Павлуша, а Павел Иванович: ему пошёл двадцать четвёртый год, хотя Головкин доселе никак не может привыкнуть к этому: всё зовёт его Павлушею.
Вот и теперь в Витебске, в главной походной квартире паря, сидя в просторной комнате, у стола, заваленного бумагами, молодой Ягужинский перебирает какие-то письма, приложенные к показаниям Кочубея. А сам Гаврило Иванович «на розыске», пытает доносителей... Лицо Ягужинского такое печальное. Нет-нет да и откинется от стола его красивая голова с бледным лицом и чёрными, ласково-грустными глазами, и на этом лице выражается не то тоска, не то физическая боль... Он, кажется, прислушивается к чему-то, хотя ничего не слышно, кроме им же производимого шороха бумаги. Но ему как будто слышится стон, долгий-долгий такой, какой — он это слышал уже — пытаемые издают на дыбе или на «виске». Ведь пытают его, отца той, в цветах, кораллах и дивной зелени диканькинского сада, которой вот уже пять лет не может забыть Павлуша: пытают Кочубея, отца Мотрёньки...
«Мотря» — имя, которого Павлуша не встречал во всей России... Где она теперь, бедненькая? Что с нею? Тогда ей было пятнадцать лет, а теперь уж двадцать... Помнит ли она Павлушу, как он плакал у них в саду, уткнувшись носом в траву? Нет! Где помнить! Может быть, она давно уж замужем...
Вдруг глаза Ягужинского с немым удивлением остановились на бумаге, что лежала перед ним в кипе других бумаг. Что это такое? Глаза его расширились... Он схватил бумагу, руки дрожат... Это её имя, имя Мотрёньки; но кто ей пишет и что?
«Моё сердце коханое, Мотрёнько, — жадно читает Ягужинский. — Сама знаешь, як я сердечно, шалене люблю вашу милость...»
— Люблю... «шалене»: безумно что ли это значит, чёрт бы его побрал! — шепчет Ягужинский, скрипя зубами от злости. — Кто это... дьяволов сын, ну...
«Ещё никого на свете не любив так. Моё б тое счастье и радость, щоб нехай ехала до мене, тилько ж я уважив, якiй конец с того может бути, а звлаща при такой злости и заедлости твоих родичов. Прошу, моя любенько, не одменяйся ни в чём, яко юж не поеднокрот слово своё и рученьку дала есь, а я взаемне, пока жив буду, тебе не забуду».
— Кто же этот злодей?.. Нету подписи под письмом... Кому она это слово и рученьку дала?..
Ягужинский так сжал листок, что он превратился в комок, и хотел было швырнуть его в открытое окно; но опомнился: письмо это приложено к делу по доносу малороссийского генерального судьи Василия Кочубея с прочими на гетмана Ивана Степановича Мазепу, якобы о измене оного... Его бросать нельзя — за это самого в застенок поведут.
Но вот другое письмо, писаное тою же, по-видимому, старческою рукою. Ягужинский читал:
«Моё серденько! Зажурилемся, почувши от девки такое слово, же ваша милость за зле на мене маешь, иже вашу милость при себе не задержалем, але одослал до дому. Уваж сама, що б с того выросло. Пёршая: щоб твои родичи по всём свете разголосили, же взяв у нас дочку у ноче гвалтом и держит у себе место подложншце. Другая причина: же, державши вашу милость у себе, я бым не могл жадною мерою вытримати, да и ваша милость так же: мусели-бы-смо из собою жити, як малженство кажет, а потом пришло бы неблагословение от церкви и клятва, жебы нам с собою не жити. Где ж бы и на тот час подел? И мне б же чрез тое вашу милость жаль, щоб есь на мене напотом не плакала».
— Проклятый!.. Значит, она-то была у него уж, а он отослал её к родителям, и она, знать, печалуется об нём... У! Аспид!.. Ночью гвалтом взял... подложннца... она-то Голубица чистая... Да ещё «жить» с ним, малженство...
Ягужинский схватился руками за голову... То, о чём он думал пять лет, что не выходило из его памяти и сердца ни под гул пушек в виду шведских войск, ни под стук топоров на стройке кораблей, ни под резкий скрип неугомонного царского пера, ни в церкви при пении клира, теперь это дорогое, далёкое милое разом разбилось... Остались только эти проклятые бумаги, перья…
— Но, может быть, она не любит его. Да и как, если б любила, письма от любимого человека попали бы в это проклятое дело? Да и зачем они тут? Зачем Кочубей привёз их с собою? Не хотел же он срамить свою дочь.
Как ни был находчив Ягужинский, который, по уверению царя, мог найти маковое зерно в пуде пороха, но тут он растерялся. Дело касалось его самого, его сердца, его тайных дум. А он так долго ждал, всё надеялся, авось царь повернёт в Малороссию или его пошлёт за чем-нибудь туда, в этот цветочный рай, в Диканьку... И вдруг, что ж это такое!
Но живуча человеческая надежда: это самое живучее в мире животное, живучее, кажется, чумного яда...
Ягужинский опять схватился за письма, опять читает:
«Моё серденько, мой квете рожаной! Сердечне на тое болею, що на далеко од мене едешь, а я не могу очиц твоих и личика беленького видети. Через сее письменно кланяются и вси члонки целую любезно...»
— «Все члонки» — дьявол!.. А что ж нет её писем... Нет ли дальше?
И Ягужинский перелистывает лежащую перед ним кипу писем, ищет; но всё видит один этот проклятый почерк да режущие глаз слова: «Мотрёнько», «коханая», «серденько», «личко беленькое», «ручки», «ножки»... Голова идёт кругом!
Нет, надо читать всё по порядку. Может, так и сыщется правда. И он скрепя сердце читает:
«Моё сердечко! Уже ты мене изсушила красным своим личиком и своими обетницами. Посылаю теперь до вашей милости Мелашку, щоб о всём размовилася с звашею милостью. Не стережися ей ни в чём, бо есть верная вашей милости и мине во всём. Прошу и вельце, за ножки вашу милость, моё серденько, облапивши, прошу не откладай своей обетници...»
— За ножки облапивши... Медведь проклятый! Просит об чём-то: что-то она ему обещала...
Ягужинский с горем и бешенством падает головою на бумаги, которые капля по капле брызгали ядом на его молодое, в первый раз полюбившее сердце...
В эту минуту в дверях показалась колоссальная фигура царя, который, сильно нагнувшись, чтоб не стукнуться своею высоко посаженную головою о косяк низкой двери, теперь выпрямился во весь свой исполинский рост и с удивлением глядел на лежавшую на кипе бумаг чернокудрую голову юного царедворца. В глазах его мелькнул как будто гнев, так часто эта искра, не всегда, впрочем, гневная, светилась в пронизывающем взоре, тогда как губы передёрнулись улыбкой.
— Что, Павел, уснул над делами? — сказал он, делая шаг вперёд.
Ягужинский вскочил, как ужаленный. Бледное лицо его залилось румянцем.
— Я не сплю, государь! — сказал он быстро, глядя в глаза царя. — Я задумался над этими письмами.
— Над какими это? — И царь подошёл к столу.
— В деле по доносу на гетмана... Я ещё не всё, государь, сие письма прочёл и не нахожу подписи, чьи они быть должны.
Царь взглянул на письма.
— А! Рука гетмана... Тебе она неведома, поди: ты недавно у дел... Сие письма писаны, я знаю о том, писаны им Кочубеевой дочери... Всё прочёл со вниманием?
— Не всё ещё, государь, читаю только.
— Улик не сыскал, поди? Намёков каких?
— Улики есть, государь! — ответил Ягужинский смущённо и думая о чём-то: он знал теперь, кто его злейший враг, кто отнял у него самое дорогое в жизни; он вспомнил теперь и выражение лица Мазепы, когда в саду Диканьки он ехидно смеялся: «У вас-де не до жарт...»
— Как? Улики, говоришь? — встрепенулся царь, и лицо его разом сделалось страшно похожее на то, что давно когда-то, Павлуша был ещё маленьким тогда, четырнадцатилетним мальчиком и жил у Головкина, когда в Преображенском рубили головы стрельцам. Ягужинский растерялся.
— Улики! Докажи! Так ли ты понял?
— Да вот, ваше величество, и из сего письма явствует, — указал Ягужинский на лежавшее сверху письмо, краснея и запинаясь.
«Моё сердечне кохане! Прошу и вельце прошу, рачь за мною обачитися для устной розмовы. Коли мене любишь, не забувай же; коли не любишь, не споминай же! Спомни свои слова, же любить обещала, на що ж мине и рученьку беленькую дала. И повторе и постокротне прошу, назначи хочь на одну минуту, коли маемо з тобою видетися для общего добра нашего, на которое сама ж прежде сего соизволила есь была. А ним тое будет, пришли намисто з шiи своей, прошу...»
Кончив читать, царь вопросительно посмотрел на Ягужинского, который стоял как вкопанный.
— Тут ничего не нахожу я, — говорил царь, — простая любовная цидула...
— Он прямо признается ей в своей любви, государь, — бормотал Ягужинский, — сие ясно.
— Что ж! Любовь — не измена отечеству... И я люблю, и ты, может, любишь, — улыбаясь, уже говорил царь. — Где ж тут измена?
Ягужинский совсем смешался и стоял красный как рак.
— И я, государь, измены гетмана не вычел из писем, — почти шептал он.
— Какие ж улики ты поминал?
— Про любовь, государь, улики...
— А! Про любовь токмо... Ну, сие не важно, понеже любить и Христос велел... Ну, брат Павел, осрамился ты в новях-то, на первом сыскном деле: любовные цидулы принял за изменные письма...
Царь говорил это совсем спокойно и весело. Сегодня он получил вести, что Карл уже не гонится за ним, а сам застрял в Литве, в Родошковичах, ожидая корпуса Левенгаупта из Лифляндии, и потому царь был в духе.
— Осрамился, осрамился, брат! — повторял он, глядя на раскрасневшегося будущего воротилу, который впоследствии уже не краснел и не бледнел даже перед плахой. — А ну, что он тут ещё пишет своей Матрёне, старый? А, каков! За семьдесят уж давно перевалило, а поди на! Меня за пояс заткнёт, старый хрен... Ещё, значит, поживём: мы с ним и Карлушу уложим... А то на! Измена... да я на него, на верного Мазепу, как на каменную гору надеюсь... Молодец, молодец, люблю и за это: быль молодцу не укор...
И царь торопливо перелистывал письма. Ему пришло на мысль, что и он сегодня писал такое же любительное письмо к своему «другу сердешному Катеринушке», в ответ на её письмо, в котором она, «мудер-матка оповещала» своего «Петрушеньку», что дочки его—шишечки Катюша да Аннушка — во здравии обретаются, а Катюша-де второй зубок выдувает, слюнтявочки поминутно менять приходится...»
— А ну-ну, старый... «Моё серденько! — читает царь. — Тяжко более на тое, що сам не могу с вашею милостью обширне ноговорити, що за одраду ваша милость в теперешнем фрасунку» — печали, сиречь, польское слово (пояснил Пётр) — «фрасунку учините. Чого ваше милость по мне потребуешь, скажи всё сiе девце. В отставку, коли они, проклятiи твои» — это родители, полагать должно — «тебе цураются, иди в монастырь, а я знатиму, що на той час з вашею милостью чинити. Чого потреба и повторе пишу, ознайми мине ваша милость!»
При слове «монастырь» глаза Ягужинского несколько оживились, а Пётр покачал головой.
— Бедная девка! Невесело, полагаю, жилось ей у родителей... А ты её видел, Павел? — вдруг обратился он к Ягужинскому. — Помнишь, с бумагами посылай был от меня при Кочубее?
— Помню, государь, — нерешительно отвечал тот.
— Так видал девку?
— Видал, государь.
— Какова она видимостью и персоною показалась тебе?
— Она, государь, чернокоса, лицом бела, глаза такоже черны, вся в цветах была.
— А персоною какова?
— Такой, государь, и не видывал.
— Да, по отцу судя... — И царь задумчиво перелистывал лоскутки бумаги, на которых пестрели признания Мазепы в любви и его сожаления. — Жаль старика... «Моя сердечне коханая (почти про себя читал он) тяжко зафрасовалемся, почувши, же тая катувка» — палачка, то есть мать, надо думать — «не перестаёт вашу милость мучити, яко и вчора тое учинила. Я сам не знаю, що з нею, гадиною, чинити. То моя беда, що з вашею милостью слушного не мам часу о всём переговорит Больш од жалю не могу писати, только тое яко ж кольвек станеться, я, поки жив буду, тебе сердечне любити и зычити всего добра не перестану, и повторе пишу, не перестану, на злость моим и твоим ворогам!»
За дверями послышались шаги и шорох бумаги. Царь быстро оглянулся. На пороге показался прежде всего большой лысый лоб со сползшим на маковку париком, а потом и целая фигура в тёмно-коричневом камзоле с огромными медными пуговицами, в башмаках с такими же огромными пряжками, словно от конской сбруи, и на козьих тонких икрах, обтянутых красными чулками. Бритое лицо с красноватыми подкожными жилками смотрело обрюзгло; на нём горбоватый нос, словно кадык, поместившийся выше тонкогубого рта, и такой же горбоватый кадык ниже подбородка с висячими, как у индюка, складками; карие с желтизной, зоркие и юркие глаза, точно тараканы, постоянно прятавшиеся в щели, — всё это глядело непривлекательно и не возбуждало к себе ни нежного чувства, ни особенного доверия. Пришедший, держа в левой руке связку бумаг, ещё на пороге низко поклонился, опустив правую руку к башмакам, как бы стараясь достать пальцами пол, как это делают перед иконой.
— А, Гаврило Иваныч... в красных чулках; из застенка, значит, — сказал царь, быстро окинув взором взошедшего. — В красненьких чулочках, у князя-кесаря Ромодановского перенял, чтобы кровушки не видно было...
— Истину изволит молвить великий государь, — отвечал вошедший (это был Головкин), — дабы кровушки в нашем-то заплечном мастерстве не видать было.
— Ну что, винится доноситель?
— Винится, государь, сразу повинился, как только дыбу спозрел.
— А! Что ж открывает?
— Сказывает, государь: писал-де на гетмана ложно, изблевом, по злобе, а мыслил-де, что великий государь без распросу веру его известным речам даст... В таком-то великом государевом деле да без распросу, без сыску!.. Я и искал, и доискался правды; по злобе-де ложь затеял, облыжно писал.
— А Искра?
— Искра, государь, на него же всё дело, сматывает, на этот самый глубок нитку мотает: его вся эта, Кочубеева, известная затея, он, Кочубей, и Искру подучал... Обнадёживал его; государь-де милостию за сие пожалует... Я Искре, государь, по твоему государеву указу, велел дать десять, так и под кнутом утвердился на первых речах; ничего-де изменного за гетманом не ведает, а слышал-де от Кочубея. А как Кочубея стали раздевать...
Ягужинский при этих словах Головкина вздрогнул.
— Что, Павел? — спросил царь, заметив эту дрожь в своём любимце.
— Знобит как будто, государь; от окошка должно быть.
— Ну? — обратился царь к Головкину. — Раздел-таки и Кочубея?
— Раздел, государь, а он из-за пазухи и вынимает вот сие рукописание и говорит: покажь-де оное великому государю, он-де помилует горестью удручённого отца о погибели дщери своея.
Ягужинский опять вздрогнул и прислонился к стене: он, казалось, готов был упасть. Головкин с низким поклоном подал царю пакет. Государь молча разорвал конверт, стал пробегать глазами написанное в бумаге.
— Да, так и есть; всё из-за дочери, — сказал он, наконец. — Пишет, якобы гетман обольщал её. «На день святого Николая, пишет, присылал Мазепа Демьянка, приказуючи, жебы з ним виделася дочка моя, а объявил тое, же дирка в огороде межи частоколом против двора полковницкого есть проломана, до которой дирки абы конечне вечером пришла для якогось разговору. Якая присылка частократне бывала, яким способом крайнiи нам учинилися оболга и поруганie и смертельное безчестье...» А всё же это не измена, — пояснил царь.
— Не измена, великий государь, — подтверждал Головкин.
— Посмотрим дальше... «В день святаго Савы, — читал Пётр, — прислал его милость гетман з Бахмача рыб свежих чрез Демьянка, а за тоею оказiею тот Демьянко говорил Мотроне на самоте, же усильно пан жадает, абы для узреняся к ему прибыла, а обецует 3.000 червонных золотых. А потом того ж дня, поворачпваючися з Бахмача, прислал того же Демьянка, приказавши наговаривати Мотрону, же пан 10.000 червонных золотых обецует дати, абы тильки так учинила, а коли в том она отговоровалася, тогда просил тот хлопец словом пана своего, щоб часть волос своих урезала и послала пану на жаданье его...» Ишь, старый! — улыбнулся царь. — Волоски его понадобились...
— Как же, государь, нельзя без этого: всё же легше, — шутил и Головкин, делая скверные глаза.
Один Ягужинский стоял молча, и как он в постоянной близости царя не вымуштровал своё лицо, оно всё-таки выдавало его глубокую тревогу.
— Ах, старый, старый, — качал головою Пётр, читая показание Кочубея, — словно паренёк молоденький... «Присылают!, — читал он дальше, — гетман брав сорочку Мотроны з тела з потом килько раз, до себе. Брав и памисто з шiи килько раз, а для чого, тое его праведная совисть знает...»
— А сам, поди, и чулочки, и подвязочку у своей-то Любушки бирывал, — скверно, плотоядно хихикал Головкин, семеня красными икрами, словно гусь около царя.
— Да, да, — подтверждал царь, — а всё я никакой измены тут не нахожу... Разве в письмах самого Мазепы к оной девице: да я их чел и ничего не вычел.
И царь снова пододвинул к себе письма Мазепы. Ягужинский лихорадочно следил за ним.
— Вот большое письмо, нет ли тут чего?.. «Моя сердечие каханая, наймильшая, наилюбезнейшая, Мотроненько! Вперёд смерти на себе сподевася, неж такой к сердцу вашем одмены. Спомни тилько на свои слова, спомни на свою присягу, спомни на свои рученьки, которые мине не поеднокрот давала, же мене, хоч будет за мною, хоч не будеш, до смерти любити обецала. Спомни на остаток любезную нашу беседу, коли есь бувала у мене в покою. Припомни тилько слова свои, под клятвою мне данные на тот час, коли выходила есь зо покою мурованого од мене, коли далем тобе перстень дiаментовый, над который найлепшого, найдорогшого у себе не маю, же хоч сяк, хоч так будет, а любовь межи нами не одменится. Нехай Бог неправдивого карает, а я, хоч любишь, хоч не любишь мене, до смерти тебе подлуг слова свого любити и сердечне кохати не перестану на злость моим ворогам. Прошу, и вельце, моё серденько, яким-кольвек способом обачься зо мною, що маю з вашею милостью далей чинити, бо юж больш не буду ворогам своим терпети, конечно, одомщенiе учинию, а якое, сама бачишь. Счастливили мои письма, що в рученьках твоих бывают, нежели мои бедные очи, що тебе не оглядают!»
Царь остановился. Рука его машинально перебирала бумаги, тогда как в голове, видимо, созревала новая мысль, заставляя нервно подёргиваться мускулы на его подвижном лице и зажигая новые искры в глазах. И Головкин, и Ягужинский, напряжённо следя за этой работой мысли, оба ожидали чего-то, но только не с одинаковыми чувствами.
— Понеже... — начал было царь, но потом, как бы опомнившись, продолжал, — вот что, Гаврило Иванович, кончай ты с этим розыском скорее, я вижу, что тут измена верного гетмана примазана безлепично... Жаль мне и Кочубея, а наипаче жаль Мазепу... Каково отнять у старика последнюю радость! А ежели она, девка-то, любит его, горемычная? Каково ей? А она любит его, сие несумнительно. Так быть по сему, отошли ты Кочубея, Искру и прочих доносителей к Мазепе на его волю; хочет — казнит, хочет — помилует. А на этой красавице я сам его женю, сам и сватом буду и посаженным отцом. Я хочу, чтобы Россия имела сына от Мазепы: доблестный и верный род Мазепы не должен угаснуть, это моя воля!
Что выражало при этом бледное, без кровинки лицо Ягужинского, трудно передать... Бедный Павлуша...
XI
В конце нюня 1708 года по Днепру, недалеко от впадения в него Тетерева, плыла небольшая парусная галера, тихо подгоняемая северным ветерком, который едва-едва надувал парус и лениво поскрипывал флюгером, изображавшим стрелу, пробивающую полумесяц. День выдался жаркий, безоблачный, и хотя солнце повернуло уже на запад, но зной всё ещё не спадал, и близость воды не, приносила прохлады. Галера была вооружена двумя небольшими чугунными пушками. В передней части её расположилась группа солдат и стрельцов, из коих одни спали, раскинувшись кто кверху носом, кто книзу, другие играли в какую-то замысловатую игру и то и дело били друг друга по ладоням концом толстой смолёной снасти, а третьи вели между собой беседу о предметах, вызывающих на размышление.
— Знамо, сторона она чужая, черкаская, а всё не то, что свейская. Вон я, примером сказать, у этих самых свеев в ту пору, после ругодивской громихи-то, в полону был, так и не приведи Бог! Слова русского не услышишь: всё одна тебе собачья речь, индо одурь возьмёт слухаючи, как они там промеж себя лопочут по-собачьи. Ну, а у этих, у черкасов, ничего, можно жить: так малость какая не подходит к нашей речи, невмоготу им, черкасским людем, говорить по-нашему, потому язык у них слабый самый, суконный, сказать бы, крепости в ем нашей нету, а то всё понятно, только, сказать бы, маленько попорчено: у нас вот, примером бы сказать, девка, а у них девчина, у нас это парень, а у них будет либо парубок, либо хлопец, а вино у них — горелка... Да и вправду, братец ты мой, горелка она у них, не то что у нас на Москве, на кружечных дворах, Москвой-рекой она разбавлена: не водку пьёшь, а Москву-реку, сказать бы, лакаешь. А у черкасов — ни-ни! Водка как есть водка, огонь, так и горит в нутрах горелка-та ихняя. А уж и попили мы её, братцы, горелки-то этой в Диканьке, вон у его в гостях...
И рассказчик, стрелец, скуластый и коротконогий, почти без лба и с калмыковатым разрезом глаз, увалень, чудом спасшийся от виселицы, когда стрельцы шли за царевну Софию, и потом вместе с другими стрельцами высланный в украйные города, а после в Батурин, в полк Григория Анненкова, на службу Мазепе, кивнул головой по направлению к казёнке, у которой в тени полога виднелись две человеческие фигуры, прикрытые рогожами, а по сторонам их, на свёрнутых канатах, сидели два рейтара с ружьями и дремали.
— А ты нетто бывал у него? — спросил один из игравших в замысловатую игру с жгутом.
— А как же, за его хозяйкой нас посылал весной Григорий Анненков с Трощинским полковником, да с волохами.
— Так, стало, Кочубейшу взяли?
— Вестимо, взяли... И, братец ты мой, вот яга-баба! От миру отведённая. Прибежали мы это в Диканьку утреем, только что раннюю обедню отпели. Спрашивает полковник, где пания будет? В церкви, говорят. Мы в церкву, караул вокруг поставили. Входим, а она стоит на коленях у местных образов да поклоны кладёт. Полковник, перекрестившись, как след, говорит: «По приказу-де гетмана, я приехал за тобою, имать тебя за приставы». «Плевать-де я, гыть, хотела на вашего гетманишку-изменника. Я, гыт, знаю одного царя-батюшку, как-де он повелит, на том-де я стану». А полковник и говорит: «Наш-де, гыт, гетман по указу его царского величества тебя имать приказал». «Не слушаю-де я, гыть, она, вашего гетманишки, бездельника бл...ина сына: покажь царский указ». А полковник-от нам и мигает: возьмите-де ведьму! Мы к ей, а она, уж и ешь её мухи, Бога не побоялась: возьми да прямохенько царскими-то вратами да в самый алтарь! Мы так и ахнули. Боже милостивый! Баба в алтарь! Уж это как есть последнее самое дело, баба в алтаре...
— Это что и говорить! — подтвердили слушатели. — Церковь баба опоганила.
— Ну, она это в алтарь, и мы в алтарь: знамо, приложились допреж к местным образам. Входим, а она за алтарь шмыгнула, да как крикнет: «Не пойду с церкви! Нехай, постражду меж алтарём, как Захария!»
— Это кто ж Захарий-то?
— Запорожец, сказывали, был такой: поляки его в церкви изрубили.
— Ну, и что ж, взяли медведицу?
— Имали... Хотели было эдак под ручки, так куда! Словно волчица в лесу: «Не трошь меня, гыть, погаными руками, сама пойду на плаху!» Ну, и пошла, а мы за ей, да на двор. А на дворе назавстреч к нам дочка ейная идёт, красавица писаная, Мазепина, сказывают, крестница. Уж и красавица же, братцы! Чернокоса, что твоя волошка, белолица, словно свечечка воску белого. Идёт и плачет, а за ей, братец ты мой, птица всякая валит: и куры, и гуси, и индейки, журавли, братец, словно робятки, за ей идут да в глаза заглядывают. А она только ручкой машет: нету-де у меня ничего, самое-де берут... Жалко её стало, страх как жалко! А за ей идёт старушка старенька, нянька сказать бы, либо мамка ейная, и в голос голосит. Вот тут мы и попили горелки этой, в мертву голову пили, потому погреб казаки ихние, черкаские, распоясали: «Пей, говорят, братцы, кочубеевскую горелку: он-де супротив нашего батьки гетмана пошёл изменой...» Ну, и попили!
— А их куда же, Кочубейшу-то с дочкой?
— В Батурин за приставы привезли.
Солнце клонилось всё ниже и ниже, тени от берегов и берегового леса становились длиннее, достигая чуть не до половины Днепра. Ветерок совсем упал, а вместе с ним упал и парус, лениво болтаясь на снастях. По знаку рослого мужика, стоявшего у руля, солдаты и стрельцы, бросив свою интересную игру, убрали парус. Галера стала двигаться ещё медленнее, её несло только течением.
По берегам Днепра то там, то здесь вытыкалось жильё, белелись из-за зелени чистенькие хатки, пестрели разными цветами да подсолнухами огороды. Кой-где паслись стада. По Днепру скользили иногда маленькие лодочки-душегубки и, завидя московскую галеру с пушками, спешили к берегу.
— Тихая сторона, не то, что у нас на Волге, — говорит скуластый стрелец, поглядывая на берег.
— А ты нетто и на Волге бывал? — спрашивал его молодой рейтар с сросшимися бровями.
— Бывывал и на Волге... А ты спроси, где я не был! И в полону у свеев был, да убёг, и в Польше был, и с Мазепой к Запорогам хаживал, и в Астрахани с Шереметевым боярином смуту усмиряли.
— Ас чего смута была?
— Да всё из-за бород, да из-за взятков: стали это брать с их банные деньги, с бани по рублю, да с погребов, да причальные, да отвальные пошлины, да с гробов дубовых, ну, и заартачились астраханцы. А мы как приплыли Волгой да сыпанули из пушек чугунными арбузами... Уж и арбузы же там, братец, дыни астрахански!..
У казёнки, под рогожами, зазвенели железа; из-под рогожки показалась чёрная с сильною сединою голова и с длинными тоже посеребрёнными сединою усами. Давно небритый подбородок также чернел и серебрился густою щетиною.
Трудно было узнать в этом лице Кочубея, до того изменился он; а это был он, отец Мотрёньки, выдержавший не одну пытку в застенке Головкина и до этого ещё прошедший не одну нравственную пытку с тех пор, как в доме у него поселилось горе, и его любимая дочка гасла, как свечка. Кочубей приподнялся, перекрестился, насколько позволяли ему ручные кандалы. Он оглянулся на небо, на берега Днепра. Он соображал, по-видимому, где они плывут, далеко ли ещё осталось до конца. Да, конец приближается... Давно они уже плывут из Смоленска родною, дорогою рекою, по которой когда-то плавали на воле, на казацких чайках. Как это давно было! Ещё при Дорошенке и Самойловиче; но и их давно нет.
Что-то дома делается? Что жена, дети, бедная Мотрёнька?.. А всё из-за неё это... А чем она виновата? Виновата «личком биленькнм, станом тоненьким, карими очами, чёрными бровами...»
Солнце всё ниже и ниже. Галка летит Днепром, опережая галеру... «Ой, полети ты, чёрненькая галка, та до дому рыбы исти, ой, принеси ты, галко, та в родины висти...» Улетела и галка.
А как спина болит от пыточных ударов! «Боже правый!..»
Из-под рогожки выглядывает и другое лицо, тоже с трудом узнаваемое. Это Искра, тот весёлый Искра-Иван что так любил «жарты...» Ничего не осталось ни от Искры, ни от Кочубея; и платье на них арестантское, сермяжное, а их дорогие кунтуши и перстни, как и все маетности, в казну взяты.
— Ты спав, Иване? — спрашивает Кочубей.
— Заснув трохи... хоть сонною думою дома, у Полтави, «обував...
— А мене и сон не бере... Десь там выспимось... голова буде спати сама собою, а тило само собою.
Отворилась дверца в казёнке, и оттуда вышел пожилой мужчина в синем кафтане, худой и морщинистый. Это был стольник Вельяминов-Зернов, которому царь приказал доставить Кочубея и Искру к Мазепе, находившемуся в то время с запорожским войском за Днепром, в Палиивщине.
Вельяминов-Зернов зевнул, перекрестил рот, отенил маленькие свои глазки ладонью и приглядывался к синеющей дали и к золотящимся от садившегося за горы солнца берегам Днепра.
— А далеко ещё до Киева? — спросил он, взглянув на Кочубея и Искру, сидевщих в своём арестантском углу.
— Завтра надо бы быть там, — отвечал Кочубей.
— Завтра, на день апостолов Петра и Павла; это изрядно, — как бы про себя проговорил стольник.
Потом он прошёлся вдоль галеры, сделал кое-какие замечания солдатам и стрельцам, постоянно позёвывая и крестя рот. Он, видимо, скучал этой долгой волокитой от Смоленска до Киева, спал до одурения и всё никак не мог скоротать времени. Добредя потом до рулевого, он сел на скамейку, зевнул, перекрестил рот и затянул вполголоса «Свете тихий!..»
Вечерело. Воздух становился прохладнее. Солнце не золотило уже ни берегов, ни вершин леса, ни гор: оно само давно спряталось за гору. И даль, и поверхность Днепра, и зелень, всё мало-помалу теряло цветность, окутывалось невидимою дымкою. С берега доносилось иногда блеянье овец, ревели коровы; это стада возвращались с полей к жилью.
Стольнику надоело, по-видимому, тянуть и «Свете тихий...»
— А пора бы, кажись, и к берегу... Завтра в Киев, поди рано приплывём, — сказал он рулевому.
— Бог даст рано управимся, боярин: к обедням поспеем, — отвечал рулевой, не спуская глаз с кормы.
— Так чаль, вон приглубый бережок, и рыбки молодцы к ужине, поди, наловят.
Галера привернула к левому берегу. Заякорились, бросили сходцы на берег и стали выходить.
— Ну, ребята, раскладывай костёр, да бредешком забредите, может, стерлядочек зацепите, али окуньков хорошеньких, бычков, прескусная рыбица, — оживился стольник, ходя по берегу и разминая залежавшиеся члены.
Одни арестанты остались на своём месте, на галере, да часовые, которые караулили их.
Солдаты и стрельцы бросились собирать сухой валежник, разложили и разожгли костёр, поставили огромный треног с висячими крючками, подвесили котелки с водой... Говор такой на берегу, весело! Повеселел и стольник, большой охотник до рыбки, особливо же, ежели её теперича поймать свеженькую да прямо из воды да в котелок, да лучку туда, да перчику, да лаврового листу, да щавельку свежего, да сольцы в меру, да так на воздусех, под божьим покровом, и трапезовать: то-то любо-дорого.
Костер распылался на славу — фу да ну! — а кругом от зарева темень, и небо темнее стало, звёзды высоконько да далеконько помигивают, и на галеру зарево костра падает, а из галеры, из арестантского угла выглядывают два бледных лица, тоже глядят на костёр.
Скуластый стрелец, что бывал и у свеев в полону и на Волге, и молодой рейтар с сросшимися бровями разделись донага, голые тела так ярко освещены заревом костра, захватили бредешок и тихо сошли в воду, бережно ощупывая глубину у берега. И стольник тут: руками машет, шикает.
— Шш... тише... глубже забирай; водой не плещи...
Бредут, долго бредут, а стольник за ними по берегу идёт «Заходи; рейтар, становись; стрелец, вытаскивай живей; улю-лю-лю! улю-лю-лю! ловись, рыбка; гоните её, святые угоднички Петра-Павла, в бредешок...»
Вытащили, трепыхается рыбка, и крупненькая, и махонькая... «Давай ведро! Живей, ребята!» — командует стольник, поднимая полы и засучивая рукава камзола. «Ай да рыбка, рыбина Божья! Ишь трепыхается... а вот и рачок соколик, другой... Те-те-те! Окупите знатный, ишь, боярин какой! Улю-лю-лю! Рыбина Божья...» присев на корточки, радуется стольник, хватая то окунька, то ёршика.
И долго ещё радовался стольник, суетясь потом около костра, заглядывая в котелки, пробуя ушицу Божью, потом смакуя её и рыбину сердешную, скусную, подсаливая её, да запивая потом ренским, да славословя Бога, насытившего его земных благ и чаянии не лишити и небеснаго царствия...
Ели потом и рейтары, и стрельцы, освещаемые костром и похваливая уху и рыбку.
А из угла галеры виднелись два бледных лица, да мигали с неба бледные звёзды.
Утром в день Петра и Павла галера подплыла к Киеву. Чудное утро выдалось, радостное. Киев так весело, празднично смотрит. Зазванивают к обедням. После обеден люди разговляться будут, в гости друг к дружке ходить; молодёжь любиться будет жарче, жарче втихомолку целоваться станут... Сколько поцелуев будет украдено у жизни, у старости всезапрещающей, у вечного, глазастого цензора «нельзя!..» Эх, хороша ты, жизнь проклятая! Как же не хороша? Вон дети купаются в Днепре; сколько счастья на их невинных личиках.
— Докийко! Докийко! — кричит девочка, выставив из воды чёрную головку с распущенною косою. — Я поплыву, от до того великого човна.
— Ох, панночко! He плывайте, втонете! — кричит другая девочка, ныряя в воду, как утка.
— Ни, Докiйко, поплыву, плыви за мною.
И девочки, словно русалки, быстро подплывают к галере и с испугом останавливаются на воде: они узнают на галере два лица, но какие страшные эти лица!
— Ох, Докийко, — шепчет первая девочка, отплывая с испугом от галеры, — та тож Кочубея москали везуть, Мотреньчиного тату... Я так злякалася, трохи не втонула.
— То-то, панночка, втонете вы коли небудь.
— Видна Мотрёнька... Ходим, Доко, подивимось, як их поведут.
Это та девочка, Оксанка Хмара, которую мы видели с котиком на руках в келье игуменьи Магдалины, матери Мазепы, когда гетман приходил просить её благословения.
Не успели девочки выйти из воды и одеться, как галера пристала к берегу, и арестантов новели прямо в Печерскую крепость.
Через две недели Кочубей и Искра были уже в обозе Мазепы, который со всем малороссийским и запорожским войском стоял за Белою Церковью, на Борщаговке.
С раннего утра собраны были войска на площадь около церкви. Скоро прибыл на площадь и Мазепа, окружённый блестящею свитою: Филипп Орлик, Данило Апостол, Павло Апостол, Павло Полуботок, Иван Скоропадский, Войнаровский, Гамалия, Лизогуб, Балаган — всё это на добрых конях, в богатой одежде. На Мазепе голубая андреевская лента — редчайшая в то время в целой России. Голубой цвет её, играя на солнце, придаёт какую-то мертвенную бледность щекам гетмана. С тех пор, как мы его видели в последний раз с Мотрёнькой, когда он под набатный звон передавал её Григорию Анненкову для сопровождения к родителям, Мазепа ещё более осунулся, и лицо его стало напоминать что-то хищное, птичье; то, что было в лице его матери: брови больше спустились на глаза, что оттеняло их особенно сильно и придавало им черноту и блеск; усы тоже свисли и как бы ещё более оттянули книзу углы губ. Орлик иногда поглядывал на него исподлобья, постоянно вдумываясь в что-то и словно высчитывая умом и за, и против. Скоропадский тоже о чём-то думал... Да и нельзя было не думатть! Его хорошенькая жиночка Настя так настойчиво провожала его в поход словами «хочу бути гетьманшею...» А вот что значит слушаться «жинок», вой Кочубей из-за жены да из-за дочки погибает...
Но вот ударили в бубны и котлы. Встрепенулись казаки и старшина. Все оборачивают головы, ждут. Из-за звуков бубен слышатся позвякивания желёз: тилим-тилим, тилим-тилим... Глаза Мазепы совсем исчезают под бровями. Он жадно прислушивается к этому пилящему по душе, тилим-тилим... «За кари очи, та за черни брови... Ох, сколько народу из-за вас пропало!..»
«Ведут! Ведут!» — прошёл шёпот по рядам казаков. Иные крестятся, взглядывая на церковь, на кресте которой сидит ворона и каркает... «На кого она, проклятая, каркает?» — думается Мазепе.
Ряды раздвигаются и пропускают арестантов. Впереди отряда стрельцов, конвоирующих осуждённых, идёт скуластый стрелец, усердно выбивая под бубен такт запылёнными ногами. Стольник Вельяминов-Зернов в новом камзоле переваливается с боку на бок и как бы повторяет мысленно под тот же бубен: «улю-лю-лю... ловись, рыбка Божья, ловись...»
Показываются и сермяжные чапаны, подпоясанные мочалками. Это Кочубей и Искра с непокрытыми головами, с нависшими на лбы волосами и с глазами. Опущенными долу, как будто бы глаза эти ищут дороги, как бы не сбиться с неё, не угодить туда, в яму невидимую... а может, скоро и увидят... На ногах арестантские казённые коты и белые суконные онучи, обхваченные железными кольцами, от которых идут такие же железные звенья к поясу... Арестантов ввели в старшинский круг и поставили лицом к церкви. Глаза их не сразу охватили и узнали всё, что было в этом почётном кругу; а в кругу вот что было: белые сосновые доски, настланные в виде стола; два каких-то холстовых мешка на этом помосте со ступеньками; тут же два новых, наскоро сколоченных гроба.
От этих досок и гробов Кочубей поднял глаза, и они упали на голубую ленту, потом и встретились с глазами Мазепы... Филипп Орлик махнул рукой, и бубны умолкли... Тихо стало, так тихо, что слышно, как дышат казаки.
— Помни, Иване Мазепо, я иду до Бога! — громко сказал Кочубей, показывая на церковь.
— С Богом, Василе, с Богом, иди! — хрипло отвечал Мазепа, сверкнув глазами.
— Помни, Мазепо, я зову тебя на страшный суд...
— Помню, помню...
— Буди проклято чрево, носившее тя, и сосца, яже еси сосал! — не выдержал Искра, топнув закованною ногою.
Мазепа сам думал то же, потому что в этот момент в памяти его пронеслось последнее свидание с матерью, с которого, по-видимому, и начались все несчастия, а там и потеря существа, которое одно в жизни он любил искренно. Но в это время Орлик подал знак, загудели бубны и всё собой покрыли. Затем Орлик развернул бумагу и снял шапку. За ним обнажили головы старшина и всё войско.
«По указу его царскаго пресветлаго величества и по приговору войска малороссийскаго Запорожскаго, — начал читать Орлик, когда умолкли бубны. В приговоре упоминалось и «ложное доношение», и «посяжка на гетмана», и «изблевание клеветы» на всё войско и иные преступления.
Кочубей тихо качал головой, беззвучно шевеля губами.
— Бреше, сучiй сын! — крикнул Искра при словах «изблевание клеветы на войско». — Мы на казакив не блювали.
— Шкода! Шкода! — закричали казаки за спинами старшин.
Опять машет Орлик рукой, опять колотят бубны... К осуждённым подходит священник с крестом. Осуждённые падают ниц, звеня кандалами, потом поднимаются, крестятся. Священник их напутствует только им одним слышными словами и даёт целовать крест.
Осуждённые остаются на коленях: они знают казацкие обычаи и не хотят в последний раз в жизни ударить перед казаками лицом в грязь. Снова Орлик машет рукой. Из-за стрельцов выходит низенький, широкоплечий, татарского облика «кат» с блестящим топором в руках. Молнией блеснуло железо в глаза осуждённым. Палач положил топор на помост и взял оттуда белый мешок: это был саван, что-то длинное, словно поповская риза без рукавов. Когда палач подошёл к Искре, чтобы связать ему руки висевшею у пояса верёвкою, Искра оттолкнул его.
— Геть! — крикнул он с силой. — Я не хочу йти до Бога злодiем... не рушь моих рук.
Палач глянул на Мазепу. Тот сделал знак, чтобы Искре не связывали рук. Тогда палач накинул саван сначала на него, потом на Кочубея. Оба осуждённые поднялись с земли, бодро взошли на помост, повернулись к казакам, сделали им по глубокому поклону и стали на колени, вытянув вперёд головы, чтобы удобнее было палачу рубить им шеи. Палач взял топор и, поглядывая на Мазепу, ожидал знака. Жёлтая, с золотистыми крыльями бабочка, порхавшая над помостом, спустилась и села на помост как раз перед осуждёнными, расправляя свои блестящие крылышки. Искра, высвободив из-под своих колен подол савана, махнул им на бабочку, и она снова закружилась над помостом.
Мазепа сделал знак. Топор блеснул в воздухе, и голова Кочубея стукнулась лбом об помост вместе с туловищем. Голова не отлетела от шеи, а держалась на ней небольшой полосой кожи. Искра, подняв голову, страшно глянул на палача.
— Собака! Ты рубать не вмiешь!— грозно сказал он, снова протягивая свою воловью шею.
— От побачишь! — огрызнулся палач.
— Рубай, я подивлюсь...
Но ему уже не удалось «подивиться» на искусство палача и на то, как упрямая голова широким лбом хлобыснулась об помост, а туловище всё ещё стояло, как бы не хотело падать... Но и оно грохнулось, изливая фонтаном горячую кровь.
— Погибе память их с шумом! — сказал Мазепа и поворотил своего коня.
В это время ударили к обедне; словно бы то был звон на отход души. Но это был звон не похоронный, а скорый, частый, как бы радостный: то звонили для живых, которые должны были молиться и за себя, и за усопших.
Казаки, и конные, и пешие, по отъезде гетмана и старшины, понадвинулись к казнённым и долго смотрели на них. Ни на одном лице не видно было ни осуждения, ни какого-либо иного укора; напротив, все смотрели строго, жалостливо, иногда с ужасом, боязнью, но более всего с какою-то тайною загадкою во взоре, с неразрешимым вопросом и относительно себя, и относительно вот их, лежащих на помосте так страшно-картинно: Кочубей уткнулся в кровавую лужу, словно кланяется церкви, хотя голова его лежит боком к полу, а усы и рот мокнут в кропи, точно пьют её; Искра же растянулся во всю длину и как бы тянется всем своим массивным телом к голове, которая откатилась от туловища и закрыла глаза, точно прислушиваясь: сразу отрубят её от тела или не сразу.
А жёлтая бабочка опять тут: то на Кочубея сядет, то на Искру, расправляет крылышки, приближается к крови и снова поднимается... Не занимают, по-видимому, эти белые, обрызганные кровью, саваны...
— Якiй метелик, дивиться, хлопцы, — говорит один казак, указывая на бабочку, — то може душа Кочубеева прилинула... Он як коло головы его крыльцями вie...
— А може се дочка до его прилетела, убивается по батькови, — заметила баба-богомолка, возвращавшаяся из Киева — он як лине до батенька...
— Яка, бабусю, дочка?
— Та Матроною, кажуть, зовуть. Вона, кажуть... Мазепа до неё, та щось не тее...
Богомолка не договорила. Бабочка опять опустилась на труп Кочубея и поползла по его савану, расправляя крылышки.
— Та вона ж, се вона... бидна дитина... — богомолка утёрла слёзы, — от и поплакати никому...
Только по окончании обедни трупы казнённых были положены в гробы и повезены в Киев, на родину, поближе к своим... Богомолка была права; тут над ними некому было плакать.
XII
Прошло лето, прошла осень, прошла и половина суровой зимы. Наступил 1709 год, скоро весна...
По снежной равнине, раскинувшейся белым саваном к востоку от Сум до Сейма, гладкою возвышенностью едет группа всадников. Несколько впереди всех, на полкорпуса лошади, высокого и тонконогого, чёрного с белою звездою во лбу скакуна, резко выделяется из группы и своею осанкою, и своим усестом на богатом седле фигура молодого человека в войлочной треуголке с зрительною трубою и с огромным палашом у бедра.
Что-то странное, непонятное в лице у этого молодого человека! Необыкновенно круто вскинутые брови; несколько приподнятые с концами бровей внешние углы глаз; в том же направлении приподнятые углы дерзко-насмешливых губ; нос, как-то упрямо выдающийся на этом каком-то чёрством, загрубелом лице; ноздри, постоянно раздувающиеся, как у горячей, норовистой лошади, и в особенности серые, с неподвижными, как у безумца или мономана, какие-то жёсткие, упрямые, стоячие глаза, всё это так резко выдвигало лицо этого молодого человека из группы других лиц, что при виде его встречный невольно пятился назад с вопросом внутри себя: что это такое, или это злодей, или необыкновенный человек?.. А между тем одет этот необыкновенный человек очень просто, даже бедно и нечисто: военный однобортный кафтан потёрт, вывалян в сене; металлические пуговицы на нём заржавели; старый чёрный галстух обмотан вокруг шеи неловко, небрежно; высокие, выше колен сапоги неизвестно, когда чищены; огромные шпоры тоже носят на себе следы ржавчины. Зато конь убран богато, по-царски; да и конь редкой породы и необыкновенно выхоленный.
Рядом с ним, тоже на кровном скакуне, стараясь держать своего коня нога в ногу с первым всадником, едет розовый мальчик, не спускающий глаз с первого и нервно следящий за каждым его движением. Розовые щёки его обветрены, но юношеский, как на персике, пушок ещё не сошёл с них, а чистые светло-голубые глаза так ясны, что никогда, кажется, до смерти не обветреют. Юноша также одет по-военному и с таким же большим палашом, который, кажется, своею тяжестью гнёт его на сторону.
По другую сторону первого всадника на белом коне, на высоком казацком седле, грузно сидит знакомая нам, несколько сутуловатая и понурая фигура, с таким же понурым лицом, с понурыми бровями и понурыми седыми усами. Это Мазепа в своей сивой смушковой шапке, мало отличающейся от сивой головы гетмана.
Далее, почти в ряд, следуют и незнакомые нам в незнакомых костюмах лица, и давно знакомый нам старшина малороссийский — Филипп Орлик со своими серыми серьёзными глазами, Войнаровский и другие.
Первый всадник с какою-то неподвижною задумчивостью глядел вдаль, как бы силясь прозреть, что там далеко-далеко за этим белым пологом, точно разостланным чистою скатертью до неведомого царства, до неведомых, людей.
— А отсюда, ваше величество, и до Азии недалеко, всего только несколько миль, — не то с иронией, не то с придворной лестью заговорил Мазепа на чистом латинском языке.
— Да? — круто повернувшись на седле, спросил первый всадник, странный на вид молодой человек, который был не кто иной, как Карл XII.
— Точно, ваше величество, — отвечал гетман. — Вот как далеко проникло ваше победоносное оружие!
— Sen non conveniunt geographi (географы надвое сказали), — не то отшутился, не то поверил Карл.
— Северный Донец, ваше величество, некоторые географы считают этой границей, а Донец недалеко отсюда, — продолжал Мазепа.
Карл нервно приподнялся на седле, оглянулся на свиту, отыскал глазами худого с сухим носом и такими же сухими, точно никогда не смеявшимися глазами старика с большим орденом на шее и громко сказал:
— Слышите, Реншильд, мой старый друг? Мы скоро доберёмся до Азии, недалеко уж.
— С вами, ваше величество, и до аду недалеко, — уклончиво отвечал хитрый фельдмаршал.
У Мазепы невольно дрогнул сивый ус, а лукавые глаза его только одному Орлику знакомым языком добавили: «Туда вам и дорога».
— Я хочу быть в Азии! — продолжал упрямый король. — Если мои предки, варяги, с их смелыми конунгами ходили в Византию, то и мы пройдём до Азии.
Розовый мальчик, ехавший рядом с ним, глядел на него с восторгом и благоговением.
— О, ваше величество! — воскликнул он. — Вы идёте по следам Александра Македонского.
— Ах, мой милый Макс! — улыбнулся Карл, — Здесь даже и он не ходил... нет тут его следов...
И странный король показал на снежную равнину, по которой их кони делали первые следы. Юноша вспыхнул. Это был юный Максимилиан, герцог вюртембергский, который, будучи очарован небывалою военною славою дерзкого короля Швеции, явился к нему в лагерь в качестве ученика военного гения Карла и просил его принять в число других, дружинником этого нового варяжского конунга. Карл принял его; томил юношу тою суровою жизнью солдата, какую сам вёл: скакал с ним по целым часам от отряда к отряду, спал вместе с ним на сене и на голой земле, и юноша боготворил своего сурового учителя.
— О, ваше величество! — восторженно, с яркою краскою на загорелых и обветренных, но всё ещё нежных щеках сказал Максимилиан. — Вы в Азии найдёте следы Александра Македонского и затопчете их вашими ногами, вашею славою...
— Хорошо, хорошо, мой храбрый Макс, затопчем их.
Мазепа продолжал помаргивать сивым усом, думая о чём-то другом, а Орлик сердито поглядывал на него, как бы желая сказать: «Охота тебе было, пане гетмане, нагадать козе смерть — раздразнить этого короля-гульвису; он теперь заберёт себе в упрямую башку Азию да этого пройди-света Александра, а Украина пропадай!»
А Карл действительно уже забрал себе в голову. Он снова повернулся на седле и, отыскав глазами другого всадника, белоглазого с льняными волосами плотного мужчину немолодых лет, крикнул:
— Любезный Гилленкрук! Наведите справки о путях, ведущих к Азии.
— Справиться не трудно, ваше величество, но дойти до Азии нелегко, — сердито отвечал белоглазый мужчина.
— Вы всегда скучны со мною, старый дружище! — засмеялся король. — Только я всё-таки хочу добраться до Азии: пусть Европа знает, что и мы в Азии побывали.
— Ваше величество всё изволите шутить, а не серьёзно помышляете о таком важном деле, — по-прежнему сердито отвечал Гилленкрук.
— Я вовсе не шучу! — оборвал его король.
В сумасбродной, «железной голове» короля-варяга, как его тогда называли некоторые, зароились дерзкие, безумные мечты о будущем, и поэтические, полные сурового очарования воспоминания о далёком, седом прошлом, и картины своего далёкого, сурового, но милого скандинавского севера, и этот вот, что расстилался перед его глазами, безбрежно, как океан, степного «сарматского» юга. Из этого седого прошлого выступают тени великанов сумрака, но сумрака славного, полного ярких личностей, громких дел, и эти великаны проходят перед ним, перед своим потомком, сумрачными рядами. И они, как и он, топтали своими ногами и копытами своих коней эти необозримые степи Сарматии, водя свои дружины вместе с ратями полян, курян, кривичей и дреговичей на половцев и печенегов. Они, старые конунги с варягами, бороздили своими лодками воды Днепра, по которым и он, их потомок, плавал уже и снова с весной поплывёт на юг, к Азии... А давно уже не бродили тут ноги варягов, отвыкли эти ноги от дальних походов, приросли подошвами к родной Скандинавии; а тем временем в течение столетий эта сарматская Русь выскользнула из варяжских рук и вон как ширится! Раскинулась и на восток, и на юг, и на запад, и на север, а теперь вон в лице этого великорослого коронованного дикаря протянула свою ненасытную руку и к Варяжскому морю... О! Никогда не бывать этому! Скандинавия проснулась, проснулись древние варяги вместе с своим конунгом, и горе сарматской Руси с её великорослым дикарём! С севера пахнуло стариной, и опять варяги приберут к своим рукам эту Русь, эту Московию-Сарматию, которая доселе «велика и обильна, а порядку в ней нет...» «Идите вновь, варяги, володеть и править нами...»
— А до Запорожской Сечи далеко ещё? — встрепенувшись вдруг, спросил «железная голова» Мазепу.
— Далеко, ваше величество, — по-прежнему о чём-то думая, отвечал Мазепа.
— Но не дальше Азии?
— Дальше, ваше величество.
И Мазепа опять о чём-то задумался, глядя в безбрежную даль. Не весело ему, да и давно уже ему не весело, а в последнее время чем-то безнадёжным пахнуло на него, и последние лепестки надежд на будущее, которые ещё оставались в душе его, словно листья дуба, свернулись от мороза и унесены куда-то холодным ветром. Он чувствовал, что его положение день ото дня становилось всё более безысходным. Сегодня прибыл в шведский стан его верный «джура» Демьянко — и сколько горького и тяжкого порассказал он! Демьянко всё сообщил, что происходило в той части Малороссии, которую покинул Мазепа, передавшись Карлу, и как скоро отреклась от него Малороссия! Один Батурин ещё держался несколько дней, но и тот москали взяли и разгромили. Взят был и верный Чечел, полковник над сердюками. Разгромлена вся столица Мазепы и сожжена, камня на камне не осталось. Как лютовали москали над роскошным дворцом гетмана, над всеми его пожитками и челядью! Гетманских любимцев — и громадного барана, и огромного «цапа», которые, бывало, своим единоборством развлекали старика и тешили дворцовую молодёжь, казачков да пахолков, — и барана, и козла москали середь гетманского двора изжарили на вертелах и тут же съели, запивая вином из гетманских погребов. Богатый сад Мазепы выломали, вытрощили всё в нём и протоптали московскими сапожищами все дороженьки, по которым когда-то хаживал Мазепа с Мотрёнькою, и на которых ещё остались следы её маленьких крошек, «ножек биленьких». Замела и эти дорогие следы проклятая Москва! «Жиночок и диточок», прислугу гетманскую, что оставалась в батуринском дворце и замке, в Сейм побросали и потопили.
А что было в Глухове, на раде, при избрании нового гетмана вместо него, Мазепы! Что было после рады! Вместо Мазепы избрали этого губошлёпа Скоропадского, который и козакувал и полковничал, и Богу молился из-под башмака своей Насти. Дождалась-таки Настя гетманства! Теперь её, поди, и с коня рукой не достанешь... Фу, какая тоска! Как тошно жить на свете!
Ещё рассказывал Демьянко про молебствие в Глухове, когда его, Мазепу, проклинали... Царь стоит такой сердитый, заряженный, высокий, как колокольня в Ромнах, и страшно озирается по сторонам; а лицо так и дёргается, вот-вот увидит Демьянка! А попы, архиереи, протопопы, дьяки и сам царь выкрикивают над Мазепиным портретом, поставленным на эшафоте: «Клятвопреступнику, изменнику и предателю веры и своего народа, трепроклятому Ивашке Мазепе — анафема! анафема! анафема!» Ажио собаки жалобно и боязно завыли по Глухову от этого страшного пения... И везде теперь, по всей Украине, поют эту новую песню про Мазепу — «анафема! анафема!» А там «кат» привязал верёвку к портрету и потащил его через весь Глухов на виселицу — и повесил... Далеко видна голубая андреевская лента на повешенном под виселицею портрете... Долго висел там портрет, и вороны и «круки» слетались к портрету, думая клевать мёртвое тело Мазепы. Нет, оно ещё не мёртвое! Вон на белом коне грузно сидит, сивым усом подёргивает.
Да, не весело Мазепе, очень не весело. Уж и прежде, давно, он чувствовал себя одиноким, осиротелым.; а теперь, здесь, около этого коронованного гайдамака, около короля пройди-света, он увидал себя окончательно всеми покинутым. Почти все передавшиеся с ним этому шведскому чумаку полковники бежали от него к Петру: и Апостол Данило, и Галаган, и Чуйкевич, и Покотило, и Гамалия, и Невинчанный, Лизогуб, и Сулима, — все бежали к царю... Всё повернулось вверх дном, и счастье Мазепы опрокинулось дном кверху и рассыпалось пылью... Что было вверху — стало внизу, а нижнее до облаков поднялось. Вон на какую высоту поднялась вдова Кочубеиха, обласканная царём; а он, Мазепа, упал с высоты и разбился. Вой и эти бродяги-шведы, видимо, уж не верят ему, следят за ним. Мазепа это чует своим лукавым сердцем, видит своими лукавыми глазами, хоть сам король пройди, свет и верит ещё ему, да что в том толку! Мазепа уж себе не верит!
А она, голубка сизая, что с нею? Где она? Демьянко говорит, что видел её в Киеве, в Фроловском монастыре: вся в чёрном, она стояла в церкви на коленях рядом с игуменьею матерью Магдалиною, а когда проклинали Мазепу, вздрогнула и, припав головой к церковному помосту, горько плакала... О ком? О чём?
— Что беспокоит мудрую голову гетмана? — спросил вдруг Карл, заметив молчаливость и угрюмость Мазепы.
Захваченный врасплох со своими горькими думами, которые далеко унесли его от этой однообразной картины степи, с вечера присыпанной ярким, последним подвесенним снегом, Мазепа не сразу нашёлся, что отвечать на вопрос короля, как ни был находчив его лукавый ум.
— Мою старую голову беспокоит молодая пылкость вашего величества, — отвечал, наконец, он медленно, налегая на каждое слово.
— Как! Quomodo, tantum? — встрепенулся Карл.
— Вашему величеству угодно было лично отправиться в поле на поиски за неприятелем, и мы не посмели отпустить вас одного в сопровождении его светлости, принца Максимилиана и нескольких дружинников — ведь это не охота за зайцами, ваше величество... Мы можем наткнуться на московитов или на донских казаков...
— О, dux Sarmatiae! — засмеялся молодой король, — Для меня достаточно одного моего богатыря Гинтерефельта, чтобы не бояться целой орды диких московитов. Гетман видел моего богатыря? Вон он едет рядом с старым Реншильдом.
И Карл показал на белобрысого, коренастого шведа с белыми веками и красным носом, глядевшего каким-то белым медведем.
— Этот добряк Гинтерсфельт удивительный чудак, — продолжал Карл. — Однажды, ещё под Нарвой, будучи тогда простым солдатом, он должен был стоять на часах около своей батареи, но, соскучившись, забрался в шалаш маркитантши, да и запьянствовал там. Я делал ночной объезд патруля и часовых и наткнулся на его батарею... Вдруг слышу, кто-то у шалаша испуганно говорит: «Король! Король!» И что же я вижу. Из шалаша выбегает Гинтерсфельт, схватывает пушку с лафета и делает мне пушкой на караул! Ружье-то он у маркитантши забыл впопыхах... Каково! Пушкой на караул!
Мазепа с удивлением посмотрел на богатыря, хотя и полагал, что Карл, по свойственной ему пылкости, преувеличивает, но отвечать ничего не отвечал, а только выразил немое удивление...
— А в деле мой богатырь просто клад! — продолжал увлекающийся король, — он обыкновенно пронизывает своего противника мечом и перекидывает через голову. А раз в Стокгольме, проезжая под сводами городских ворот, он ухватился рукой за вделанный в сводах крюк и приподнял себя вместе с лошадью!
— Ах, как смешно, я думаю, болтала бедная лошадь ногами в воздухе! — не вытерпел юный Максимилиан.
— О, нет, мой Макс, далеко не смешно: она взбесилась с испугу и помяла нескольких солдат, С тех пор я и не велел моему геркулесу так опасно шалить... Но как долго зима стоит у вас в Сарматии, точно у меня в Скандинавии, — нетерпеливо обратился Карл к Мазепе.
— Да, ваше величество, это небывалая зима: я такой и не запомню у нас в Малороссии; а живу уже я давно. Вот уж скоро апрель, а поле вновь покрылось снегом, точно зимою, невиданная зима!
— Скорее бы тепло! А то мои люди болеют и мрут, от этой стужи, хоть они и привычны ко всему... Скорее бы до Запорожья добраться, а там и крымцев перетянуть на свою сторону; и уж тогда, побывав в Азии, затоптав следы Александра Македонского, как выражается мой юный друг Макс, мы из Азии ринемся на Москву, а из Москвы к Неве и с берегов Невы загоним нашего любезного братца Петра в Сибирь, на берега Иртыша, пусть он там владеет царством Кучума, которое завоевал для его прапрадеда храбрый Ермак... Я хочу быть для Москвы новым Тамерланом и буду! Я не потерплю, чтобы Пётр распоряжался в моих наследственных землях. Я ссажу его с престола, как ссадил Августа с трона Пястов. Я напомню ему, что не он потомок Рюрика, а я!
Карл был сильно возбуждён. Ломаные брови его поднялись ещё выше, глаза остоячились, он был весь нетерпение. Приближённые его знали упрямую порывистость своего короля, знали, что противоречие и даже спокойное советывание ему того или другого толкало эту упругую волю неугомонного варяга на совершенно противоположные решения, и молчали: если б ему сказали, что это невозможно, то непременно получили бы ответ: «Я именно и хочу сделать невозможное».
В это время Орлик, отделившись от общей группы и делая какие-то знаки Мазепе, поскакал к видневшейся в стороне «могиле», высокому степному кургану.
— Что он? Куда поскакал? — спросил удивлённый Карл, обращаясь к Мазепе.
— К кургану, ваше величество, чтобы с возвышения осмотреть окрестности.
— А какие знаки он делал руками?
— Он просил ваше величество остановиться на минуту.
— Хорошо... Но и я сам хочу видеть то, что он увидит, — упрямился Карл.
— Конечно, ваше величество... Но вам неизвестны наши казацкие приёмы в подобных случаях.
— А что? Какие приёмы?
— Вон изволите видеть...
И Мазепа показал на Орлика. Этот последний, подскакав к кургану, соскочил с лошади, забросил поводья за седельную луку и сам ползком стал взбираться на курган. Все остановились и ждали, что из этого выйдет. Доползши до вершины, Орлик вынул из кармана что-то белое, вроде полотенца, и накрыл им свою голову.
— Это, ваше величество, чтобы голова не чернела, чтоб издали от снега нельзя её было отличить, — пояснил Мазепа.
Несколько минут Орлик оставался в лежачем положении с несколько приподнятою головой. Наконец, он сделал какое-то движение, огляделся во все стороны и опять ползком спустился с кургана.
— Что нам скажет почтенный скриба войсковой? — с улыбкой спросил Карл, когда Орлик снова прискакал к группе.
— Я заметил в отдалении нечто вроде отряда, ваше величество, — почтительно отвечал Орлик, как и Мазепа, на хорошем латинском языке.
— Отряд? Тем лучше! — обрадовался неугомонный варяг. — Arma! arma!..
— Аrmа virumque саnо, ваше величество! — улыбаясь своими серьёзными глазами, добавил Орлик.
— О! Это начало Виргилиевой «Энеиды...» Прекрасно, почтенный скриба (Карл любил цитаты из классиков, и Орлик с умыслом сослался на Виргилия). — Вы хорошо владеете языком Цезаря: я не забыл вашей латинской прелиминарской договорной статьи, присланной моему министру графу Пиперу...
Орлик поклонился. Мазепа снова угрюмо молчал, косясь на Карла. Его беспокоило привезённое Орликом известие о появлении какого-то отряда.
— Так прикажите, ваше величество, нам ближе рассмотреть, что это за отряд, — не утерпел он;— может статься, это неприятель.
— Тогда мы на него ударим, — поторопился нетерпеливый король.
— Непременно, ваше величество, только прежде узнаем его силу.
— Я никогда не считаю врагов! — заносчиво оборвал Карл...
— Но, быть может, это наши друзья, ваше величество, — вмешался старый Реншильд.
— Хорошо. Так узнайте.
Тогда Мазепа, Орлик, принц Максимилиан, Гилленкрук и белый медведь Гинтерсфельт отделились от группы и поскакали к стогу сена, черневшемуся в том направлении, куда указал Орлик. Юный Максимилиан со слезами на глазах умолял короля позволить ему участвовать в этой неожиданной маленькой экспедиции, и Карл отпустил его. Прискакав к стогу, они увидели, что ниже, в пологой ложбине, бурлит речка, которой они издали не могли заметить, и что хотя ночью и выпал снег, а к утру подморозило, однако реченька не унималась и делала переправу на ту сторону невозможной. Речка эта, по-видимому, изливалась в верховье Сейма, по ту сторону которого лежал путь от Воронежа на Глухов, пересекая Муравский шлях.
Скоро из засады, из-за стога сена, можно было различить, что по ту сторону речки по гладкой равнине действительно пробирался небольшой отряд. Зоркий глаз Орлика тотчас же уловил то, что было нужно знать: в отряде виднелись и донские казаки с заломленными набекрень киверами, и московские рейтары. Они сопровождали пару больших колымаг. Скоро этот отряд с колымагами так приблизился к реке, что из засады можно было даже различать уже лица этих неведомых проезжих. В передней колымаге сидел ветхий старик, высунувший голову и, по-видимому, глядевший на бурливую речку. Из-за его головы виднелась голова женщины.
Орлик вздрогнул даже, увидав старика.
— Та се сам сатана! — невольно вырвалось у него восклицание.
— Хто, Пилипе? — с неменьшим удивлением спросил Мазепа.
— Та сатана ж: Палiй!
Мазепа задрожал на седле и тотчас схватился за «дубельтувку», коротенькую двухстволку, висевшую у него на левом плече. Взведя курок, он выехал из засады; за ним выехали и другие. Казаки, сопровождавшие колымаги, увидав засаду, осадили коней.
Мазепа ясно увидел, что из колымаги на него смотрит Палии! Как ни было велико между ними расстояние, но враги узнали друг друга.
— Га! Здоров був, Симёне! — хрипло закричал Мазепа. — А ось тоби гостинец!
Дубельтувка грянула. Мазепа промахнулся.
— Га! Сто чортив тоби та пекло! — бешено захрипел он и снова выстрелил, и снова промахнулся, проклиная воздух.
На выстрелы с той стороны отвечали выстрелами, но тоже бесполезно: слишком велико было расстояние для тогдашнего плохого оружия.
На выстрелы прискакал Карл с своею свитою. Но было уже поздно: колымаги и сопровождавшие их конники скрылись за небольшим пригорком.
Мазепа молча погрозил в воздух невидимо кому...
XIII
Квартируя с своим войском в Малороссии всю зиму 1708—1709 года, Карл постоянно порывался то пробраться на юг, в Запорожье, в союзе с запорожцами и крымцами пройти потом с огнём и мечом вдоль и поперёк Московии, столкнув Петра, как лишнюю фигуру с шахматной доски; то, загнув в самую Азию, оттуда прошибить железным клипом владения Петра и прищемить его опять к стенам Нарвы, как чёрного таракана, то, наконец, волком забраться в его овчарню, в корабельное гнездо в Воронеж и там придавить его вместе с его игрушечными кораблями. И в этих-то мечтаньях беспокойный варяг и теперь, в тот день, как увидели мы его с Мазепой, Орликом и другими, далеко отбился от своего войска с небольшим отрядом, для того, чтобы облегчить свою беспокойную душу и охолодить немного свою горячую железную башку хотя тем, что вот-де понюхал таки он, чем это там поближе к корабельному гнезду пахнет, и какая это там Сарматия. В эту-то безумную, бесполезную экскурсию; свита его и натолкнулась на Палия, который, будучи возвращён Петром из ссылки с Енисея и обласканный им в Воронеже, возвращался теперь на свою дорогую Украину, которой он уже не чаял видеть у преддверия своей могилы.
Нечаянная встреча с Палием заставила задуматься и Карла, и Мазепу. Если Палий возвращён царём из ссылки, то как он очутился в этой половине Малороссии, в самой восточной? Почему он не следовал из Сибири на Москву, а оттуда на Глухов или прямо в Киев? Что заставило его проехать гораздо ниже и перерезать Муравский шлях? Одно, что оставалось для решения этих вопросов, это то, что сам царь теперь где-нибудь тут, в этой стороне, и скорее всего, что он в Воронеже. Очень может быть, что он с этой стороны намерен с весны начать наступление, и тогда надо, во что бы то ни стало, занять крепкую позицию на Днепре, упереться в него и сделать его базисом операционных действий. Мазепа так и действовал: он говорил, что надо укрепиться в Запорожье. «Это гнездо, из которого всегда вылетали на московскую землю чёрные круки, а теперь из этого гнезда вылетит сам орёл», — пояснил Мазепа, называя орлом Карла. Карлу и самому нравилась эта мысль; но какая-то варяжская непоседность, жажда славы и грому подмывала его побывать и нагреметь разом везде и в Европе, и в Азии, и, пожалуй, за пределами вселенной.
«Вот чадушко!» — думал иногда Мазепа, глядя на беспокойное, дерзкое лицо Карла с огромным, далеко оголённым лбом и с высоко вздёрнутыми бровями, какие рисуются только у чёрта: «Вот чадо невиданное! И лоб-то у него, точно у моего цапа, что проклятые москали съели в Батурине, этим лбом он и барася моего сшиб с ног... Вот уж истинно медный лоб!»
Далеко за полдень воротился Карл с своею свитою из описанной выше сумасбродной экскурсии. Подъезжая к своему лагерю, он заметил в нём необыкновенное движение, особенно же в лагере Мазепы, расположенном бок о бок с палатками шведских войск. Видно было, что казаки и шведские солдаты бросали в воздух шапки и шляпы, что-то громко кричали, смеялись, обнимались с какими-то всадниками, спешившимися с коней. Гул над лагерем стоял невообразимый Лошади ржали как бешеные, точно сговорились устроить жеребячий концерт.
— Что это такое? — с удивлением спросил Карл, осаживая коня.
— Я и сам не знаю, ваше величество, что оно означает, — с не меньшим недоумением отвечал старый гетман. — Разве пришло из Польши ваше войско, так нет: это, кажется, не шведы. Не пришло ли подкрепление от турок?
— Нет, султан что-то ломается, должно быть, Петра боится.
— Так крымцы...
— Не гоги ли и магоги пришли мне на помощь против Александра Македонского? — шутил Карл, который вечно шутил, даже тогда, когда вёл тысячи своих солдат на верную смерть.
— О, нам бы и гоги и магоги пригодились, — пасмурно отшатнулся Мазепа.
Орлик, не дожидаясь разъяснения загадки, пришпорил коня, понёсся было вперёд, светя красным верхом своей шапки, но, проскакав несколько и приблизясь к группе всадников, ехавших к нему навстречу, он всплеснул руками и остановился, как вкопанный: прямо на него скакал какой-то рыжеусый дьявол и широко раскрыл руки, словно птица на полёте.
— Пилипе! Друже! — кричал рыжеусый дьявол.
— Костя! Се ты!
— Та я колись був, голубе.
— Братику! Голубе!
И, не слезая с коней, приятели перегнулись на сёдлах, обнялись и горячо поцеловались. Только кони под ними, как оказалось, не были приятелями: они заржали, одыбились и, как черти, грызли друг дружку.
Подскакал и Мазепа, которого подмывало нетерпение…
— Гордiенко! Батьку отамане кошовый! — закричал он радостно.
— Пане гетьмане! Батьку ясневельможный! — отвечали ему.
— Почоломкаемось, братику!
— Почоломкаемось...
И они начали целоваться, несмотря на грызню бешеных коней.
— Як! До нас с Запорогив!
— До вас, пане гетьмане, до вашой коши...
Подъехал и Карл со свитой. Мазепа тотчас же представил ему усатого дьявола, по-видимому, большого охотника целоваться хоть с казаками. Да и не удивительно: усатый дьявол был запорожец, а у них насчёт бабьего тела строго... Поцеловал только бабу, либо ущипнул, либо за пазуху ненароком забрался, зараз «товариство» киями накормит: потому закон такой на Запорожье, этакого скоромного, бабьятины, чтобы ни-ни! Ни Боже мой!
— Имею счастье представить высочайшей потенции вашего королевского величества кошевого атамана славного войска запорожского низового, Константина Гордиенко, — сказал Мазепа церемонно, официальным тоном.
Гордиенко, осадив коня, сидел на седле, словно прикованный к нему, жадно вглядываясь своими маленькими, узко разрезанными, как у калмыка, глазками в того, кому его представляли. Лицо Гордиенко смотрело так добродушно, и не шло к нему другое имя, как Костя: немножко вздёрнутый кирпатый нос изобличал какую-то детскость и весёлость; загорелые круглые щёки скорее, кажется, способны были покрываться у него краской стыдливости, чем гнева; только рыжие усища, спадавшие на широкую грудь длинными жгутами, как-то мало гармонировали с этим добродушным лицом и точно говорили: по носу — добрый человек, а по усищам — у! бедовый козарлюга! — самому чертяке хвост узлом завяжет...
Сказав первую фразу к лицу короля, Мазепа повернулся к кошевому и спросил по-украински:
— Кланяешься, батьку отамане, его величеству королю славным войском запорожским?
— Кланяюсь, — был ответ. И кошевой низко склонил голову перед Карлом.
— Dux Zaporogiae[2] Константин Гордиенко кланяется вашему величеству славным войском запорожским! — торжественно перевёл Мазепа королю поклон кошевого.
— Душевно рад! Душевно рад! — весело, с необычайным блеском в сухом взоре, отвечал Карл. — А сколько у вас налицо славных рыцарей? — спросил он, обращаясь к кошевому.
Тот молчал, наивно поглядывая то на короля, то на Мазепу, то на Орлика, как бы говоря: «Вот загнул загадку, собачий сын!».
— Он, ваше величество, понимает только свою родную речь, — поспешил на выручку Мазепа.
Шум усиливался. Запорожцы, целовавшиеся с своими приятелями казаками-мазепинцами, заметив или скорее догадавшись, что это король приехал, и увидав знакомые лица Мазепы и Орлика, шумно закричали: «Бувай здоров, королю! Бувай здоров на многие лита!».
— Это они приветствуют ваше величество, — пояснил Мазепа.
Карл, у которого лицо дёргалось от волнения, и брови становились совсем торчмя, двинулся к запорожцам в сопровождении графа Пипера, старшего Реншильда, белоглазого Гнлленкрука, медведковатого Гинтерсфельта и розового Максимилиана, обводя глазами нестройные толпы храбрых дикарей и приветствуя их движением руки.
Пришельцы, действительно, смотрели не то дикарями, не то чертями: все, по-видимому, на один лад, но какое разнообразие в частностях! Шапки — невообразимые, невообразимых размеров, высот, объёмов и цветов, и между тем это нечто вроде цветущего маком поля, что-то живое, красивое. А кунтуши каких цветов, а штанищи каких цветов, широт и долгот! Это что-то пёстрое, болтающееся, мотающееся, развевающееся по ветру, бьющее эффектом. А шаблюки, а ратища, а самопалы, а чоботы всех цветов юхты и сафьяну!.. Только настоящая воля и полная свобода личности могла выработать такое поражающее разнообразие при кажущейся стройности и гармоничности в целом... Тут есть и оборванцы; но и оборванец чем-нибудь бросается в глаза, поражает: или усищами необыкновенными, или невиданными чоботищами, или ратищем в оглоблю, или чубом в лошадиную гриву...
Карл радовался, как ребёнок. Ему казалось, что он видит настоящих Геродотовых сарматов, рождённых львицами пустыни, вскормленных львиным молоком. Что бы было, если б таких чертей увидала Швеция, Европа; и эти черти сами пришли к нему...
— Что, старый Пипер? Что, Гинтерсфельт? Вот с кем потягаться! — обращался он то к Пиперу, то к своему белому медведю Гинтерсфельту, то к сухоносому Реншильду.
А что касается до юного Максимилиана, так он глаз не сводил с невиданных усищ Кости Гордиенка, да с одного страшенного чуба, который казался чем-то вроде лошадиного хвоста, торчавшего из-под смушковой конусообразной шапки запорожца в жёлтой юбке... Но это была не юбка, а штаны, на которые пошло по двенадцати аршин китайки, на каждую штанину.
На радостях Карл приказал задать пир запорожцам на славу. Тут же среди лагеря поставили нечто вроде столов — доски на брёвнах, изжарили на вертелах почти целое стадо баранов, недавно отбитое у москалей, выкатили несколько бочек вина, нанесли всевозможных ковшей, мне и чар для питья, и началось пированье тут же, на воздухе, тем более, что солнце стало порядочно греть, и весна брала своё.
Тут же поместился и Карл с своим штабом и со всею казацкою и запорожскою старшиною.
Обед вышел необыкновенно оживлённый. Карл был весел, шутил, перекидывался остротами с графом Пипером, трунил над старым Реншильдом, заигрывал посредством латинских каламбуров с Мазепой и Орликом, которые очень удачно отвечали то стихом из Горация, то фразой из Цицерона; шпиговал своего белого медведя, который, не обращая внимания на шпильки короля, усердно налегал на вино. Даже Мазепа повеселел, и когда увидел, что около одного из отдалённых столов какой-то ранний запорожец уже выплясывает, взявшись в боки.
Развеселившийся гетман, указывая на пляшущего казака, сказал Карлу:
— Да, ваше величество!
Пляшущий за королевским столом запорожец особенно понравился Карлу. Желая выразить в лице плясуна своё монаршее благоволение всему свободному запорожскому рыцарству, король сам наполнил венгерским огромную серебряную стопу работы Бенвенуто Челлини и приказал Гинтерсфельту поднести её импровизированному свободному художнику в широчайших штанах на «очкуре» из конского аркана. Когда Гинтерсфельт, переваливаясь как медведь, приблизился к плясуну, выделывавшему ногами удивительные штуки, и протянул к нему руку со стопою, запорожец остановился фертом и ждал.
— Чого тоби? — спросил он вдруг, видя, что швед молчит.
— Та пiй же, сучiй сын! — закричали товарищи.
Запорожец взял стопу, взглянул на Гинтерсфельта весёлыми, как у ребёнка, глазами и, сказав: «На здоровьечко, пане», опрокинул стопу в рот, словно в пропасть. Потом, полюбовавшись на стопу и лукаво пояснив: «У шинок однесу», опустил её в широчайший карман широчайших штанов, откуда у него торчала люлька и болталась «китиця» от кисета с тютюном, тщательно обтёр рот и усы рукавом и полез целоваться со шведом...
— Почоломкаемось, братику!
— Добре! Добре, Голото! — кричали пирующие. — Ще вдарь, ще загни, пёхай вин подивиться!
И Болота, это был он, «вдарил» и «загнул», снова «вдарил», и ну «загинать» спиной, ногами, каблуками, всем казаком «загинал»!.. А Гинтерсфельт, неожиданно поцелованный запорожцем, стоял с разинутым ртом и только хлопал глазами, поглядывая на казацкие штаны, в которых громыхала королевская стопа... «Вот тебе и стопа, вот тебе и тост»! — выражало смущённое лицо шведа.
А Болота, увлекаясь собственным талантом, вошёл в такой азарт, что вместо ног пустил в ход руки и, опрокинувшись торчмя вниз головой, так что чуб его стлался по земле, стал ходить и плясать на руках выкидывая в воздухе ногами невообразимые выкрутасы и хлопая красными, донельзя загрязнёнными чоботами друг о дружку.
Во время этих операций из кармана штанов его посыпались наземь кремень и «кресало», люлька и кисет, мочёный горох, которым он раньше лакомился, и сушёные груши. Вывалилась из кармана и королевская стопа. Гинтерсфельт, увидав её, нагнулся было, чтобы поднять драгоценный сосуд, но Болота остановил его словами: «Не рушь, братику» и, собрав с земли свои сокровища, снова пустился в пляс, но только уже не на руках, а на ногах.
Не утерпели и другие казаки, повскакали с земли, расправили усы, подобрали полы, взялись в боки, и ну садить своими чоботищами землю. Тут была и молодёжь, и седоусые старики. Тем поразительнее была картина этого необыкновенного пляса, что старики вывёртывали ногами всевозможные выкрутасы молча, посапывая только, и с серьёзнейшим выражением на своих смурых, седоусых лицах, словно бы этот пляс составлял для них нечто вроде исполнения общественного, громадского долга, и словно бы они, выкидывая своими старыми, но ещё крепкими ногами трепака, должны были показать этим молодёжи в вечное назидание, что вот-де так-то пляшут гопака старые люди, что так-де плясали его отцы и деды, испокон века, как и земля стоит, и что так-де следует выбивать этого гопака «поки свить сопця».
— Оттак, дитки! Оттак треба! — приговаривали они, светя то лысыми головами, то седыми усами, «бо шапок чортма», шапки давно на утоптанной земле валяются. «Оттак, хлопци! Оттак, дитки!»
А «детки» — и не приведи Владычица! — не только не отстают от «батьков», но, конечно, за пояс их затыкают лёгкостью своих ног, живостью и упругостью мускулов и прочего казацкого добра.
А уж сбоку тут же, на куче конских седел и прочей сбруи, сваленной копною, примостился одноглазый казак «сиромаха» Илько, страстный музыкант и поэт в душе, на этой самой музыке и глаз потерявший, потому что раз как-то в недобрую годину он так натянул витую проволокой струну на своей бандуре, что растреклятая струнища возьми да лопни да и выхлестнула сиромаху Ильку левый глаз, оставив правый для стрельбы из мушкета в ляха да татарина. Примостился кривой Илько с своей бандурой, заходил по ней пальцами, заёрзал по ладам, и бандура «загула-загула»...
И около короля возрастает оживление. Молчаливый кошевой, доселе не проронивший ни единого слова, но запивший изрядно все предложенные ему Карлом кубки, уже подёргивается на месте от нетерпения, а серьёзный Орлик, с улыбкою глядя на своего друга Костю, нарочно подмигивает ему, что «вот-де там так настоящий праздник, по-людски-де умеют веселиться товариство»... Увлечённый картиною общего оживления, Карл уже настойчиво требует от Гилленкрука, чтобы он составил маршрут и план похода в Азию и доложил проект военному совету из шведских, украинских и запорожских военачальников.
— Помилуйте, ваше величество, ведь мы живём не во время Шехерезады, — отбивался Гилленкрук, боясь, чтобы сумасбродный король в самом деле не забрал себе в железную башку этой шальной идеи…
— А я хочу повторить Шехерезаду! — настаивает железная голова. — Я хочу, чтобы Европа прочла «тысяча вторую сказку Шехерезады».
В это время подошёл смущённый Гинтерсфельт, не смея взглянуть в глаза королю.
— Что, мой богатырь? — спросил этот последний.
— Я поднёс ему кубок, ваше величество, но он его в карман положил, — отвечал смущённый богатырь.
— Как в карман положил? Не выпивши вина? — засмеялся Карл.
— Нет, ваше величество, он вино выпил, поцеловал меня и кубок положил в карман.
— Ну, и прекрасно, я ему жалую этот хороший кубок как своему союзнику, — весело сказал Карл.
Мазепа, глянув своими хитрыми глазами на ничего не понимавшего кошевого Костю, поднялся с места и, улыбаясь своею кривою и тонкою верхнею губою без участия нижней, торжественно произнёс:
— Ваше королевское величество! Вы оказали величайшую милость всему запорожскому войску вашим драгоценным подарком.
— Очень рад, — отвечал Карл, — желал бы сделать им ещё больший подарок.
— И этого много, ваше величество: они пропьют его всем кошем за ваше драгоценное здоровье.
— Тем больше рад... Виват, мои храбрые союзники и их доблестный полководец, кошевой Константин Гордиенко! — воскликнул он, подымая кубок.
Добродушный Костя кошевой, услыхав своё имя, единственно понятное ему в речах короля, встал и закричал таким голосом, которого хватило бы на десять здоровенных глоток.
— Гей, казаки братцы! Панове товариство! А нуте многая лита его королевскому величеству! Многая, многая лита!
— Многая лита! Многая лита! — застонало всё Запорожье, плясавшее и не плясавшее, евшее и пившее кругом, целовавшееся и спорившее без умолку.
Пир приходил к концу. Многие запорожцы были уже совсем пьяны: они обнимались со шведами, иные дружески боролись с ними, пробуя свои силы, и то швед слетал через голову ловкого запорожца, то дюжий швед сминал под себя неловкого мешковатого казака.
Юный Максимилиан, увидав эту борьбу, бросился к ратоборцам и увлёк за собою силача Гинтерсфельта. Последнего, выпившего порядком, шибко подзадорило то, что он увидел, и он пошёл пробовать силу: став в боевую позицию, он показывал вид, что ищет охотника побороться, засучивая рукава. Охотник тотчас же нашёлся. Наплясавшись вдоволь и увидав своего нового приятеля, топтавшегося шведа, якобы подарившего ему кубок, Голота подступил к нему с ясными признаками, что хочет с ним потягаться, т.е. поплёвывая и фукая в ладони.
— А ну, братику, давай! — говорит он, расставляя ноги и протягивая вперёд руки.
Гинтерсфельт понял, что его приглашают на единоборство, и немедленно облапил своего противника. Началась борьба, и Голота, и Гинтерсфельт, согнувшись в пахах и обхватив друг друга, стали медленно топтаться и кружить на месте, широко расставляя ноги и нагибая друг дружку то в ту, то в другую сторону. Ноги так и делают борозды по земле, всё напряжённее и напряжённее становятся мускулы руки и затылков единоборцев, но ни тот, ни другой ещё не делают последних усилий. Наконец, Голота сделал отчаянное напряжение и приподнял шведа, словно отодрал от земли прикованные к ней могучие ноги богатыря; но ни перекинуть через голову, ни смять под себя не мог. Снова став ногами на землю, шведский богатырь в свою очередь сделал усилие, подогнулся немножко, коленками к земле, под своего неподатливого противника, и не успели казаки, обступившие борцов, мигнуть очами, как Голота, перелетев через голову шведа и зацепив подборами двух-трёх казаков, валялся уже недалеко за спиною ловкого варяга, трепыхая в воздухе своими красными чоботами.
— Ого-го-го! — застонали запорожцы.
— Голла! Голла! — захлопали в ладоши шведы, а более всех «маленький принц».
Честь запорожцев была затронута. Голота, приподнявшись на четвереньки, растрёпанный, запачканный, красный, и, обводя вокруг себя изумлёнными глазами, старался подобрать высыпавшиеся у него из кармана сокровища: горох, сушёные груши, огниво и люльку.
— Задери-Хвист! Дядьку Задери-Хвист! — кричали запорожцы. — Кете, сюды, дядьку!
Из толпы выполз плечистый, коренастый запорожец с короткими руками, обрубковатыми ногами, с короткою и толстою, как у вола, шеею и с добрым ленивым лицом.
— Что вы, вражи дити? — сонно спросил он, оглядывая товариство.
— Та он Голоту побороли... Он вин рачки лазить, горох сбирае, — пояснили «вражи дити».
Мешковатый запорожец свистнул: «Фю-фю-фю! Овва! Хто-ж се его так?»
— Та он той бугай, вернигора...
Мешковатый запорожец, подойдя к Гинтерсфельту, смерил его глазами и опять свистнул.
— Ну, давай! — лаконически бухнул он и отбросил шапку.
Противники молча обнялись. Можно было думать, что это немая встреча друзей, немые объятия или что это соединило их безмолвное горе. Стоят, и ни с места, только нет-нет да и пожмут друг друга. А лица всё краснее становятся, слышно, как оба сопят и нежно жмут один другого в объятиях. Но вот они начинают медленно-медленно переставлять ноги и как-то всегда разом обе, боясь остаться на одной опоре. Вот уже запорожец подаётся, гнётся... Вот-вот опять сломит шведский бугай... Пропало славное войско запорожское! Срам! Осрамил дядько Задери-Хвист всю козаччину! Это верно не то что тогда, как он настоящего разъярённого бугая удержал за хвост и посадил наземь, за что и прозвали его «Задери-Хвист»... Эх, пропал дядьку!.. Но дядько, во мгновение ока припав на одно колено, так тряхнул шведа, что тот своим толстым животом саданулся об голову запорожца, страшно охнул и растянулся, как пласт, пятками к казакам... А запорожец уже сидел на нём верхом и, достав из-за голенища рожок с табаком, преспокойно нюхал, похваливая: «У! добра табака»...
Храбрый Гинтерсфельт не скоро очнулся...
Тем временем в другом месте запорожцы успели затеять с шведами уже настоящую ссору. Перепившись до безобразия, эти дети степей и раздолья, подобно Голоте, начали тащить со столов всякую посуду, и серебряную, и оловянную. Шведы хотели было остановить дикарей, замечали, что не годится так грабить, отнимали добычу. Запорожцы за сабли, и пошла писать!
— Се ваше и наше, ащо, ваше, те наше! — кричали низовые экономисты.
— А наше буде ваше, от що, — подтверждали другие.
— У нас усе громадське, кошове! Нема ни паньского, ни козацкого.
Шведы не понимали новой экономической теории своих союзников и стояли на своём, защищая столы с посудой.
— Нам у шинок ничого дати, — пояснили некоторые более спокойные запорожцы; но упрямые шведы и этим не внимали.
Тогда запорожцы бросились на шведов и одного тут же зарубили. Сделалась суматоха. Шведы также обнажили сабли и кинулись на зачинщиков. Начиналась уже свалка, скрещивалась и визжала сталь, усиливались крики. Но в этот момент прибежали кошевой, гетман и другая старшина.
— Назад! Назад! Якого вы биса! От чорты! — заревел страшный голос Кости Гордиенка.
Это был уже не тот добродушный, застенчивый Костя с детскими глазками, что сидел за королевским столом, это был зверь, которого знали запорожцы и трепетали. Они остолбенели, услыхав его рёв. Сабли их так и остановились в воздухе с застывшими руками.
Пришёл на шум и Карл со свитою. На земле валялся обезображенный сабельными ударами труп злополучного защитника права собственности. Несколько в стороне лежал лицом кверху массивный Гинтерсфельт, бессмысленно поводя глазами, а около него, тут же на земле, сидел его противник и никак не мог насыпать себе на хитро сложенные дулей пальцы понюшку табаку, насыпая всё мимо да мимо.
— Что тут случилось? — спросил Карл строго. — Убийство?
— Пошалили дети, ваше величество, и вот одному досталось, — поторопился ответить Мазепа.
Карл увидел Гинтерсфельта и попятился назад.
— Это ещё что? — грозно крикнул он. — Моего могучего Гинтерсфельта? Кто его?
— Сея его... поборов, — бормотал совсем опьяневший запорожец, силясь засунуть рожок за голенище.
— Они боролись, ваше величество, — пояснил Мазепа недоумевающему Карлу, — и вот этот пьяница поборол и зашиб вашего богатыря.
Карл ничего не отвечал. Он понял, с какими людьми столкнула его судьба.
XIV
Наступило лето 1709 года. Близилась роковая развязка для всех действующих лиц исторической драмы, избранной предметом нашего повествования.
Что делала в это время та, нежная рука которой так жестоко, хотя невольно разбила и гордые политические мечты Мазепы, и его личное счастье, отняв у него и покойную смерть старости, и место на славном историческом кладбище его родины? Что делала и что чувствовала несчастная дочь Кочубея?
После ужасной смерти отца она вместе с матерью и другими сёстрами находилась несколько времени под арестом; но потом они были освобождены.
Что пережила бедная девушка за всё это время, известно только ей одной, и только необыкновенная живучесть молодости, да страшно богатый запас здоровья, которым по-царски наделила её чудная благодатная природа Украины, спасли её от смерти, от безумия, от самоубийства в порыве тоски и отчаяния, охватывавших её порою так, что она готова была искать забвения в могиле, в глубокой реке, в самоудавлении... Ведь она страстно любила и отца, которого сама же погубила, и мать, которая прокляла её и не хотела видеть до смерти. Она любила и того, которого, как и отца, потеряла навеки...
Проклятая и изгнанная с глаз матери, она приютилась у матери того, которого продолжала любить и любила с новою, небывалою нежностью, любила его, далёкого, потерянного для неё навсегда, одинокого и славного в её сердце, в её памяти, и проклятого всеми, как и она проклята матерью. Там, в монастыре, у матери Мазепы, она с безумной тревогой в сердце расспрашивала, бывало, старушку об её Ивасе, с которого та теперь в глубине своей души сняла материнское проклятие в тот день, как его начала проклинать церковь. Она постоянно, бывало, просила мать Магдалину рассказывать ей о том времени, когда курчавенький Ивась Мазепинька был маленьким, как он рос, что любил, как шалил, как учился. И старушка в долгие зимние вечера рассказывала ей о своей молодости, о жизни при дворе польских королей, о том, как у неё родился Ивась, как она его лелеяла и холила, и какой это был странный, неразгаданный мальчик. Слушая рассказы матери Мазепы, Мотрёнька чувствовала, что её горе становится как будто менее острым и что тут, при этих рассказах, присутствует его душа, его мысль, его память об ней...
С наступлением весны Мотрёнька начала иногда посещать могилу своего отца, которого вместе с Искрой похоронили в лавре...
«Року 1708, месяца iюля 15 дня, посечены средь обозу войскового, за Белою Церковию, на Борщаговце и Ковшевом благородный Василий Кочубей, судiя генеральный, и Иоанн Искра, полковник полтавский».
— Ах, тато, тато! — думалось Мотрёньке ври чтении этой эпитафии. — Зачем же злуданьем Мазепы? Разве он виноват во всём, что случилось?.. Я, проклятая, виновата: я погубила и тебя, и Мазепу, и всю Украину... Не встать ей теперь больше никогда. А всему я, проклятая, виною... На что я родилась, кому на счастье, на утеху? Никому, никому таки на свете! На одно горечко да на зло родила меня недоля, родила на недолю всем. Не родись я на свет Божий, не знал бы меня маленькою мой гетман милый, не крестил бы меня в купели на горе, не носил бы меня на руках вместе с булавою, не полюбил бы меня, проклятую гадюку... А то полюбил, и я полюбила его, душу мою в него положила... Думали и так, и так, и то, и это загадывали, и далеко, и высоко — ох, высоко загадывали... А вон что вышло... Теперь и этот швед сюда пришёл, и царь нагрянул, а всё из-за моей недоли, всё из-за меня, окаянной: не будь меня на свете, не будь этой косы гаспидской (и девушка горько улыбнулась, взяв из-за плеча свою толстую, мягкую косу и перебирая её пальцами), не будь этой косы, не будь меня, гетман не полюбил бы меня, не пошёл бы против воли мамы и татка, а татко не пошёл бы к царю... А вышло вон оно как: пропал татко, и гетману приходилось пропасть, а всё из-за меня... Что же ему оставалось делать? Идти к Карлу, чтоб он заслонил за собою Украину от царя, и он заслонил, и гетмана моего милого взял... А кто теперь верх возьмёт? Возьмёт царь, не станет моего гетмана; возьмёт Карл, что тогда будет?.. Эх, татко, татко! Зачем ты всё это сделал? Да это не ты, а мама; ты бы отдал меня моему гетману, так мама не схотела... «Не хочу, говорит, завязать тебе свет — отдать за старого гетмана: выходи, говорит, за молодого, за Чуйкевича». А на что мне Чуйкевич, хоть он и молодой? На что мне был этот «козинячий лыцарь», как его все называли с той поры, как он от гетманского цапа меня спас? Что я ему? Так только счастье моё разбил, долю мою по ветру пустил, да пылью развеял. А на что ему была моя доля, моя краса девичья? Вон женился же он на Цяне нашей: значит, ему всё равно было: что я, что Цяца.
Недолго пришлось Мотрёньке прожить и в монастыре, у матери Мазепы. Весною этого года мать Магдалина тихо скончалась. Перед смертью она всё вспоминала и звала к себе своего сына. «Ивасю мой, гетмане, где ты? Не увижу я тебя больше на этом свете»... Умирая, она благословляла и Мотрёньку, и ещё другую девочку, Оксану Хмару, что была тут же, и говорила, качая головой: «Ох, не будет вам доли на свете, деточки, не будет... Не так вы смотрите... Краса ваша погубит вас... Красота, деточки, это великое несчастие: красота — это целое царство, на волоске висящее... дунул ветер — фу! и нету царства... А потом всё будет казаться, что корона на голове; а короны уже нет — одни седые волосы»...
Со смертью игуменьи Магдалины Мотрёнька вместе с своею неразлучною нянею Устею переехала из Киева поближе к своему родному дому, к Диканьке. Но в Диканьке она не смела жить, там сама Кочубеиха-вдова жила; а она не хотела и на глаза пускать к себе несчастную дочь. Мотрёнька поселилась в Полтаве, у своей тётки, вдовы казнённого Искры. Эта добрая женщина, и прежде любившая свою бойкенькую племянницу «с оченятами карими да бровенятами на шнурочку», как называл её покойный «жартливый» Искра, теперь ещё более привязалась к девушке, справедливо сознавая, что не она, не Мотрёнька, была причиною гибели мужа её и Кочубея, а что сами они, Кочубей и Кочубеиха, по упрямству своему погубили всех, в том числе и лучшую из своих дочерей. «Вот диво какое, невидаль, что Мазепа держал её, дитятку малую, на руках после купели, отчего б не держать ему её и после у себя на коленях, как малжонку властную!» — говорила она иногда, осуждая Кочубеев за то, что «свет завязали своей дочери».
С самой весны в Полтаве поговаривали, что шведы где-то недалеко, чуть ли не в Опошне, и что видели там и самого Мазепу вместе с королём: старый гетман, несмотря на проклятие, всё таким же, говорят, молодцом смотрит, постоянно на коне и постоянно с королём разъезжает. А куда они двинутся, никто не знал: одни говорили, что на Киев пойдут, другие — что за Запорожье, третьи — что будто бы прямо на Москву, как только сойдут реки.
Мотрёнька слышала эти толки, и в сердце её зарождались надежды, которых она никому на свете не доверила, разве только тому, о ком она день и ночь думала и чьё имя ставила на молитве рядом с именем отца, только немой молитве доверяя свою тайну.
Раз в воскресенье, возвращаясь от обедни, она увидела, что какой-то москаль-коробейник, проходя мимо дома Искры с своим коробом, помахивает подожком.
Поравнявшись с Мотрёнькой, он вдруг, понизив голос, назвал её по имени.
— Матрёна Васильевна, панночка боярышня! Я вам поклон принёс.
Девушка невольно остановилась. В сердце её шевельнулось что-то давнишнее, давно там как бы насильно задушенное — и дорогое, и страшное. Ей показалось даже, что она слышала где-то этот голос вкрадчивый, с которым обратился к ней коробейник. Она смотрела на него своими большими изумлёнными глазами и молчала.
— Поклон принёс я вам, хорошая панночка, — ещё тише повторил коробейник, и сердце у девушки дрогнуло.
— От кого? — чуть слышно спросила она, бледнея.
— От Ивана Степаныча, от етмана.
Мотрёнька с испугом отступила назад: сказанное коробейником имя было так страшно здесь, во всей Украине. Ещё и сегодня его проклинали в церкви, откуда возвращалась Мотрёнька.
— Вы меня, боярышня, не узнали, оттого и испугались, — продолжал коробейник, — я Демьяшка, помните Дёмку, что от етмана вам гостинцы из Бахмача важивал, да ещё в последний раз он, етман, велел мне передать вашей милости на обновки десять тысяч червонцев, а у вашей милости выпросил для его, для етмана, прядочку вашей девичьей косы на погляденье... Я и есть тот Демьянка.
При последних речах коробейника девушка зарделась... Да, он правду отчасти говорит: когда ей запрещено было свидание с гетманом, то он однажды действительно, встосковавшись по ней, прислал няне Усте десять тысяч червонцев, чтоб только она прямо с её Мотрёнькина тела сняла сорочку или урезала небольшую прядочку косы и прислала бы к гетману, но кажется, не с Демьянком, а с Мелашкою.
Да, это точно, Демьянко, Мотрёнька теперь узнала его, вспомнила; только прежде он одевался не по-московски, а по-украински, когда служил у Мазепы.
— А вот, вашей милости и перстенёк алмазный от етмана. — Коробейник подал ей перстень, блеснувший на солнце всеми цветами радуги. — Это чтоб вы мне верили, не сумлевались... Я всегда у его милости етмана был верный человек.
— А где теперь гетман? — спросила Мотрёнька с большим доверием; однако голос её дрожал, как слабо натянутая струна.
— Они теперь недалече будут, со свейским королём вас, боярышня, ищут.
Краска снова залила бледные щёки девушки. Она чувствовала прилив глубокой радости, такой радости, что готова была заплакать.
— А как его здоровье? — спросила она, не поднимая глаз.
— Его милость в здоровье, только о вашей милости гораздо убиваются. А как узнали, что вы в Полтаве здесь, так и послали меня проведать, точно ли ваша милость тутотка; а коли-де ваша милость тутотка, так етман наказали мне: «Когда-де ты, Демьян, увидишь Матрёну Васильевну, так скажи ей наедине, с глазу на глаз, что я-де етман, вместе с свейским королём, приду под Полтаву, и Полтаву-де возьму; так чтоб-де Матрёна Васильевна не пужалась; я-де за ней иду и ей-де никто никакого дурна не учинит»... Так вот я, боярышня, для-ради этого, чтобы из свейского обозу пройти в Полтаву, и нарядился коробейником. Да мне и не привыкать стать: допрежь сего я и в России у себя с коробом хаживал, а опосля у Меншикова Александр Данилыча в комнатах служил, да как меня хотел царь в матросы взять, я и сбежал с Москвы к вашим черкасам, в Запороги, а откедова уж его милость етман взял меня к себе в ездовые.
Мотрёнька слушала его с смешанным чувством тревоги и счастья. Всё это случилось так неожиданно, окутано было такою волшебною дымкою, что она думала, не сон ли это. Так нет, не сон: она чувствовала у себя в ладони что-то дорогое, что напоминало ей то время, когда по её душе не прокатилось ещё это страшное колесо судьбы, раздавившее её жизнь, её молодые грёзы.
— Мотю! А Мотю! — раздался вдруг чей-то голос.
Мотрёнька встрепенулась и испуганно взглянула на коробейника. Тот понял, что пора прекратить тайную беседу.
— Счастливо оставаться, боярышня! Так ничего не купите? — сказал он скороговоркой.
Девушка ничего не отвечала. А коробейник, вскинув за плечи свою ношу, зашагал вдоль улицы, звонко выкрикивая: «Эй, тётки-молодки, белые лебёдки, красные девчата»...
Оказалось, что Мотрёньку окликнула её «титочка», вдова Искриха.
— Ты не забула, Мотю, що у нас на двори Купало? — сказала она, показываясь в воротах с ложкою в руках.
Всё это утро пани Искра вместе со старою Устею и маленькою покоювкою Орисею занята была серьёзным делом — приготовлением на зиму разных «павидел» и других прелестей из вишен, малины, Полунины и всякой ягоды, какие только производит природа Украины. По этому случаю середи двора весь день горел очаг — варенье всегда лучше варить на воздухе, вкуснее выходит — и пани Искра совсем испекалась на очаге, тогда как у Ориси даже правое ухо было всё в варенье от усердного лизанья тарелок и кастрюлек с пенками.
— Забула Купалу?— спросила добрая женщина, ласково глядя на Мотрёньку, которая казалась и встревоженною, и рассеянною.
— Ни, титочко, не забула, — отвечала девушка, думая о чём-то своём.
— То-то — ни... Вечером, хочешь не хочешь, а я прогоню тебе с Орисею подивится, як на Ворскли дивчата та парубки будут через огонь скакати, та купальских писень спивати; а то он-яка ты всё сумна та невесела.
— Та мени, титуню, не до Купалы.
— Ни вже — годи все плакати та сумовати... не вернёшь его, уплыло...
Искриха настояла-таки на своём. Вечером Мотрёнька, сопровождаемая Орисею, пошла за город, где, на берегу Ворсклы, происходили купальские игры.
Вечер был великолепный. Западная часть неба ещё не успела окутаться тёмною синевою, которая боролась с потухающею зарей; но мало-помалу эта синяя темень надвигалась всё ниже с середины неба к западному горизонту, сгоняя с запада и его бледную розоватость и прозрачную ясность воздуха. Показывались звёзды, которые как-то слабо, неровно мигали. Но когда взор от неба переносился к земле, в сторону, противоположную той, где гасла заря, то глаза прямо тонули во мраке, и этот мрак становился ещё плотнее оттого, что в нескольких шагах впереди по берегу реки пылали костры, отражаясь золото-красными бликами то на реке, то на белых, как будто седых листьях серебристых тополей, кое-где темневших у костров и осветившихся только красными, обращёнными к огню пятнами. У костров то мелькали тени, на мгновение заслоняя огонь, то двигались какие-то красные пятна — белые сорочки, лица, плахты, руки, освещаемые красноватым заревом.
От костров доносилось пение, странная, солидная какая-то, словно застывшая во времени мелодия которого всегда почему-то переносит воображение в седую глубочайшую древность, когда вот так же пели поляне, кружась то вокруг истукана Перуна, то вокруг Ярилы, совершая эти игрища не как простые игры, а как моление, обрядовое торжество и славословие сил природы в образе многоразличных богов и полубожков...
«Иван... упал в воду, сгинув на веки, — думалось Мотрёньке под монотонное пение, — а завтра Иван — завтра он, гетман, именинник... Где-то и с кем завтра будет он праздновать свои именины? Вспомнит ли обо мне, вспомнит ли, как в третьем году мы вместе с ним смотрели в Батурине на купальские огни у берега Десны?»
По мере приближения к кострам темнота кругом, и на земле и в небе, становилась непрогляднее, но зато тени, двигавшиеся у огней, выступали рельефнее, ярче, грубее; то блеснёт над огнём красноватый диск круглого молодого лица с светящимися глазами и смеющимися щеками; то вспыхнет пламенем белая сорочка с искрящимися на груди монистами; то огонь отразится на гирлянде цветов, обвивающих голову. Что-то волшебное, чарующее в этой картине... А вокруг костра медленно двигаются, схватившись за руки, убранные цветами девушки, плавно и в такт пению покачиваясь из стороны в сторону, а красное пламя попеременно освещает то то, то другое лицо, по мере движения их вокруг костра.
— Пидем и мы, паночка, у коло, — говорит, дрожа от восторга, Орися, которая давно отмыла свои щёки и уши от варенья и «заквечала» свою чёрную головку всевозможными цветами, так что вся голова её походила на громадный сплошной букет, а розовое личико с загорелыми щеками и светящимися глазами представляло подобие маленького живого портбукета. — Пидем, панночко.
— Та йди же, Орисю, — задумчиво отвечала Мотрёнька.
— А вы же, панночко?
— Я постою, подивлюсь.
Орися юркнула в «коло», и через секунду её маленькая, чудовищно утыканная цветами голова уже торчала между шитыми рукавами двух «дивчат», достигая им только до поднятых немного локтей.
Мотрёнька остановилась под тополем недалеко от одного из костров, но так, что ей разом видно было два «кола», которые «вели танок» — кружились то есть — то в ту, то в другую сторону, или, говоря по-старорусски, «посолонь» или против хода солнца. С правой стороны чернела вода Ворсклы, отражая длинные полосы купальских огней, а влево за кострами расстилалась темень до самого горизонта и даже далее, до неба и на небо, которое чуть-чуть синело, особенно там, где моргали звёзды Воза, созвездие Большой Медведицы. Ещё левей, к городу, высились крепостные валы, на которых иногда слышались окрики часовых.
И эти ночные окрики, и это пение у костров, иногда звонкий смех дивчины и грубоватый хохот парубка-казана — всё это наводило Мотрёньку ещё на большее раздумье... Вспоминался ей и покойный отец, и Мазепа, «ищущий могилы себе», и этот Чуйкевич, каким-то разрыв-зельем вошедший в её жизнь, и этот хорошенький, плачущий на траве в Диканьке «москалик» Павлуша Ягужинский... Где-то он теперь? Что с ним?.. А как это было давно! Какие они тогда ещё дети были!..
Вон звёздочка прокатилась по небу!.. Это чья-нибудь жизнь скатилась в вечность, свечечка погасла, и не будет уж этой звёздочки на небе... А ещё гетман говорил, что это такие же земли, как вот и эта земля, где купальский вечер справляют люди, а другие плачут... И там, верно, плачут...
Да так всю ночь из головы не выйдет это пение... А вон Орися как веселится... Счастливая! Она через огонь прыгает, как козочка перелетела...
А что это словно тени какие-то движутся от степи? Да, что-то мельтешится во мраке, что-то высокое-высокое, как будто бы и не люди, а что-то большее, чем люди... На тёмной синеве вырезываются, но так неясно, две-три, даже четыре большие тени, и всё ближе и ближе... Может быть, это казаки откуда-нибудь едут; только зачем же без дороги, там нет дороги: дорога идёт левее, мимо самых крепостных палисадов... Да это конные...
Если б не это пение «Купала на Ивана», не смех и не жарты у реки, и если б Мотрёнька стояла немного к степи поближе, то она могла бы расслышать даже шёпот на незнакомом ей языке, на том языке, который она, впрочем, слышала в польских костёлах, на латинском...
— Довольно, ваше величество, опасно дальше двигаться... Вы видите, что это не бивачные огни: это полтавская молодёжь затеяла свои обычные игры накануне Иоанна Крестителя... Это праздник Купалы, — шепчет один кто-то.
— Так я хочу посмотреть на этого Купалу, — отвечает другой шёпот.
— Но вы рискуете собой, ваше величество, — снова шепчет первый.
— Я, любезный гетман, и люблю риск, — отвечает второй.
— Но тут близко крепостной вал, часовые там могут заметить...
— Пустяки, гетман! Я знаю, часовые далеко.
Всё ближе тёмные фигуры. Это всадники. Они скоро приблизятся к линии света от костров. Вон они выступают в эту область света, но так тихо-тихо... Видны уже лошадиные морды, кое-где искорками блестит сбруя, там свет упал на стремя... Ещё ближе, свет костра падает на лица... Одно лицо, молодое, впереди — в какой-то странной шляпе... Ещё лицо... усы белеются...
Боже!.. Мотрёнька узнала его!.. Это он, гетман...
Она невольно вскрикнула... Всадники встрепенулись... Мазепа тоже узнал её...
Вдруг на крепостном валу забили тревогу. Всадники шарахнулись от костров в степь, в темь... С вала раздались выстрелы... Вдали, во тьме, раздавался конский топот...
Всё всполошилось у костров. Пение прекратилось. Послышались визги, оханья, все бросились бежать в город, оставляя купальские огни на произвол судьбы.
Когда испуганная Орися подбежала к своей панночке, панночка лежала без чувств... Она «зомлила»...
XV
Таинственные всадники, подъезжавшие к купальским огням под Полтавой, были Карл, Мазепа, юный принц Максимилиан и генерал Левенгаупт, недавно присоединившийся к королю со своим отрядом.
Карл, овладев в июне Опошнею и ожидая подкреплений из Польши, на которые, впрочем, сомнительно было рассчитывать, зарядился вдруг, по обыкновению, безумною мыслью — завладеть Полтавою. Мысль эта, надо сказать правду, не сама забралась в железную голову, а натолкнул на неё как бы нехотя и случайно лукавый бес — Мазепа. Этот «полуденный бес», как называла его хорошенькая молодая гетманша, Настя Скоропадчиха, прослышав, что его «ясочка коханая» Мотрёнька находится в Полтаве, безумно захотел хоть ещё раз в жизни взглянуть на неё, услыхать её голосок, её соловьиное щебетанье; и живучи были надежды, упряма была его железная воля — бок о бок с нею идти к своей цели, добиться короны герцогской, — что уже между ним и Карлом порешено было, — и вместе с Мотрёнькою потом взойти на ступени герцогского трона. Под давлением этой двойной страсти он и забросил в шальную голову Карла мысль взять Полтаву, где должны были храниться огромные запасы провианта и боевых припасов, в которых шведы чувствовали ужасающий недостаток: шведские солдаты умирали с голоду в благодатной Украйне, а порох их за зиму был подмочен и почти не стрелял... Полтава и должна была дать всё это Карлу...
Зарядившись этой мыслью, король-варяг уже не слышал советов своих полководцев и министров.
— Что за безумная мысль пришла ему в голову брать Полтаву? — ворчал Гилленкрук, допрашивая Реншильда, когда Карл сказал, что сегодня, 23 июня, он хочет ехать ночью осматривать укрепления Полтавы.
— Король хочет, пока не придут поляки, немножко потешиться, s`amuser, «повозиться», как он юношей любил «возиться» с фрейлинами, а потом с волками и медведями на охоте, теперь с московитами, — с улыбкой отвечал старый фельдмаршал, хорошо изучивший своего коронованного ученика.
— Сегодня ночью цветёт папоротник, я хочу найти этот цвет, — с своей стороны говорил Реншильду этот коронованный ученик его.
Осторожный Гилленкрук и голову повесил. Даже храбрый Левенгаупт задумался: «У него всё шутки... он так же играет Швецией, и своей короной, и своею жизнью, как маленьким играл в Александра Македонского».
Вот за этим-то цветом папоротника он и явился под Полтаву, к самым купальским кострам, приняв их за огни бивуаков. И он нашёл волшебный цвет: одна пуля, пущенная с крепостного вала вдогонку неизвестным всадникам, угодила Карлу прямо в пятку левой ноги, прошла сквозь всю лапу и застряла между пальцами. Упрямый варяг даже не вскрикнул, не промолвил слова, даже заметить никому не дал, что он ранен. Напротив, этот безумец был счастлив, радовался этой ране! Да и как не радоваться! На языке древних варягов-викингов рана называлась «милость», отличие — faveur, и её не следует перевязывать раньше как через сутки...
— Господи! Помоги нам! — в ужасе воскликнул Левенгаупт, увидав по возвращении в лагерь, что из сапога короля льёт кровь. — Случилось именно то, чего я всегда боялся и что я предчувствовал!
— Жаль, что рана только в ноге! — отвечал безумец с сожалением. — Но пуля ещё в ней, и я велю вырезать сеча славу.
Хмурый гетман только головою покачал: ему было не до Карла, не до его раны, он сам сегодня разбередил свою старую, страшную рану, которая сведёт его в могилу... Он её видел...
Но упрямый король, счастливый и гордый своею раною, истекая кровью, всё-таки не прямо отправился в свою главную квартиру, а поскакал по лагерю посмотреть, что там делается.
Рана между тем делала своё дело. Нога воспалилась, страшно распухла, и нужно было разрезывать сапог. Оказалось, что кости в лапе были раздроблены; нужно было вынимать осколки и делать глубокие разрезы в ступне. А он, как ни в чём не бывало: весел!
— Режьте, режьте, живее, ничего! — ободрял он хирурга, любуясь операцией.
— От чадушко! И бисова ж дитина! — невольно проворчал по-своему, по-украински, Мазепа, дивуясь на эту «бисову дитину».
— Что говорит гетман? — спрашивает чадушко.
— Благоговеет перед вашим величеством! — был латинский ответ, заменивший «бисову дитину».
В это время в палатку, где происходила операция, заглянул Орлик, знаками приглашая Мазепу выйти. Гетман вышел. У палатки стоял знакомый нам коробейник.
— Ну, что, был? — нетерпеливо спросил Мазепа.
— Были-с, ваша милость, — тряхнул волосами коробейник.
— И её видел?
— Как-ж-с, видали-ста... Приказали кланяться и на подарочке благодарить.
— И она здорова?
— Ничего-с, слава Богу, во здравии... только об вашей милости больно убиваются.
У Мазепы ус дрожал, и пальцы хрустнули, так он стиснул руку другою.
— А что москали? — спросил он после минутного молчания.
— Царя ждут в город... Онамедни, сказывают, боньбу из-за Ворсклы бросил в город, а она, боньба, пустая, а в боньбе грамоту нашли: что потерпите-де, мол, маленько, на выручку иду.
Мазепа задумался на минуту.
— Ладно, ступай в мою ставку, — сказал он и вошёл в палатку короля.
Карл, которому в это время перевязывали ногу после операция с мертвенно-бледным лицом, видимо, искажённым страданиями, которых он, однако, не хотел из упрямства обнаружить, с блестящими лихорадочным огнём глазами рассматривал только что вынутую из ноги пулю.
— Какая славная пуля! — говорил он словно в бреду. — А помялась немножко... Посмотри, Реншильд, какой дорогой алмаз...
Реншильд нагнулся и ничего не сказал. Он только вздохнул.
— Проклятый кусок! — проворчал Левенгаупт, тоже нагибаясь к чёрному кусочку свинца, помятому и окровавленному:
— Зачем проклятый, фельдмаршал? — возразил безумный юноша. — Я велю оправить её в золото и буду носить в перстне, это моя гордость, мой драгоценный алмаз.
— Да, ваше величество, это великая истина — подтвердил Мазепа, тоже всматриваясь в пулю, — О! Это королевская регалия... Только это не нашего, не казацкого литья, а московского... Эту пулю, ваше величество, надо вделать не в перстень, а в корону... это драгоценнейший диамант в короне Швеции, он будет светить вечно во славу Карла XII.
Карл даже приподнялся на постели и глядел безумными глазами на Мазепу.
— О, да! Мой гетман прав! — воскликнул он восторженно, хотя слабым голосом. — Мой мудрый Сократ всегда скажет что-нибудь умное... Да... да... эту пулю надо вделать в мою корону, в корону Швеции... это лучший перл в истории Швеции...
— И с кровью, ваше величество, — прибавил гетман.
— Как с кровью? — Он глядел на Мазепу, видимо, не понимая, почти в бреду.
— С кровью вашего величества пуля эта должна быть вделана в корону Швеции.
— Да... да-да... О, великий ум у гетмана, великий! — бормотал король, всё более слабея.
— И вокруг этой окровавленной пула, — продолжал Мазепа, — будет вырезана, ваше величество, надпись: Sangius regis Caroli Duodecimi sanctissima, pro Scandinaviae et omnium regionum Septentrionalium gloria cum virtute heroica effusa».
— Да!.. Да!., pro gloria, pro gloria aeterna... in omnia calcula suesulorum...
Далее он не мог говорить. Железная голова опрокинулась на подушку, Карл лишился сознания.
Когда через несколько минут его привели в чувство, доктор сказал: «Вашему величеству несколько дней строго запрещается всякое умственное занятие и физическое движение... Это запрещаю не я, а медицина»...
— Медицина мне не бабушка! — возразил упрямый король. — Слава Швеции для меня старше медицины.
— Так слава Швеции запрещает вам это! — строго сказал старый Реншильд.
— Хорошо, славе Швеции я повинуюсь, — уступил упрямый швед, — но что я буду делать?
— Лежать и сказки слушать.
— Да-да, сказки... я люблю сказки о богатырях... Так пошлите ко мне моего старого Гультмана: пусть он рассказывает мне сагу о богатыре Рольфе Гетриксоне, как он одолел русского волшебника на острове Ретузари и завоевал Данию и всю Россию...
Мазепа только головой покачал... «Ну вже ж и чортиня!.. Из одного, десь, куска стали выковав коваль и сего, маленького, и того — великого... Ой-ой-ой! Кто кого — кто кого?» — саднило у него на сердце.
Вошёл Гультман, нечто бесцветное, грязноволосое, красноносое и с отвисшего нижнего губою. Глянув на короля, Гультман укоризненно покачал головой.
— Ты что такой сердитый? — весело спросил его Карл.
Гультман не отвечал, а, ворча что-то под нос, начал сердито комкать и почти швырять платье короля, разбросанное в разных местах палатки. Карл улыбнулся и подмигнул Реншильду.
— Гультман! А Гультман! Ты что не отвечаешь, старина? — снова спросил король.
Гультман, не поворачивая головы, отвечал тоном ворчливого лакея: «Да с вами после этого и говорить-то не стоит—вот что!».
— Что так, старина? (Карл, видимо, подзадоривал его.) А?
Гультман, порывисто повернувшись к Реншильду и не глядя на короля, заговорил обиженным тоном. «Вот и маленьким был всё таким же сорви-головой: то он на олене скачет, то спит на полу с собаками, а платья на него не припасёшь... Хуже последнего рудокопа, а ещё королём называется! Я и тогда говорил ему, маленькому: не сносить вам, говорю, головы... Так вот — на поди!.. Эх!»
— Полно-полно, старина! — успокаивал его Карл. — Знаешь, сегодня ведь канун Иванова дня, когда цветёт папоротник, я нашёл этот самый цвет... — И он показал Гультману пулю.
А Мазепа всё раздумывал, глядя на высокий, гладкий, словно стальной, лоб короля: «Ох! Кто кого, кто кого?.. А если тот этого?..»
А в это самое время тот, о котором думал Мазепа, в свою очередь думал о Мазепе. Он только что воротился в свою палатку с осмотра ночных работ по возведению шанцев на Полтавском поле, которое в течение нескольких последних дней стало опорным полем между Петром и Карлом. Пётр, прибыв к Полтаве с левой стороны Ворсклы, со дня на день ожидал нападения Карла на город, и ввиду этого, известивши посредством брошенной в крепость пустой бомбы (о которой передавал Мазепе и его шпион-слуга, коробейник Демьянко, и в которую было вложено царём письмо) — известивши полтавского коменданта о приближении своём с войском, — Пётр стал по ночам переправлять отдельные его части на правый берег Ворсклы отчасти в тыл и к левому крылу армии Карла. Когда последний, увидав купальские огни, поскакал с Мазепой и Левенгауптом удостовериться, не бивуачные ли это огни армии царя, и получил ахиллесовскую рану в пятку, царь в это самое время, позже, находился недалеко, на другой стороне Ворсклы, потому что и он, как и Карл, принял купальские огни за бивачные огни своего противника. Вместе с Шереметевым, Меншиковым и Ягужинским царь тихо подъехал к Ворскле и, окутанный мраком ночи и кустами верболоза, видел всё, что происходило по ту сторону речки; только он не видал того, что видела Мотрёнька — Карла и Мазепы, потому что их закрывали густые ветви тополя, прислонившись к стволу которого стояла Мотрёнька. Её-то царь, правда, видел и даже полюбовался этим освещённым красными огнями, строгим, задумчивым, единственно серьёзным женским личиком среди оживлённых, весёлых и смеющихся лиц других дивчат; но он и не догадывался, что это дочь того Кочубея, который почти год назад погиб вследствие своей роковой ошибки, сделанной им в пылу гнева на Мазепу за честь якобы дочери, но главное под давлением сварливого характера своей жены, Кочубея, которого теперь часто вспоминал царь с чувством искреннего сожаления. Зато Ягужинский узнал Мотрёньку и едва не вскрикнул от изумления и радости. Он кинулся было к реке, забывши и осторожность, и присутствие царя; но в этот момент последовали выстрелы с крепостного вала, крики и суматоха среди молодёжи, кружившейся около огней, и все были крайне изумлены: царь было подумал уже, что это шведы начинают приступ, и уже готов был скакать к своему войску; но последовавшая затем тишина на том берегу реки успокоила его, он догадался, что это были шведские разведчики. Только Ягужинский с ужасом вскрикнул:
— Боже мой! Это её убили!
— Кого убили! Что ты, Павел? — с недоумением спросил царь, увидав бледное лицо Ягужинского.
— Её, государь... дочь Кочубея... я узнал... она стояла под деревом, а теперь лежит...
Действительно, царь увидел, что девушка, которою он любовался издали, лежала на земле, а около неё, стоя на коленях, ломала руки маленькая девочка с копной цветов на голове...
— Так это она, бедная? — сожалел царь.
— Она, государь, что Мазепа проклятый погубил.
— Ах, бедная, бедная!.. А ты её всё помнишь, угадал?
— Угадал, государь, — дрожа всем телом, говорил Ягужинский.
Но скоро они увидели, что девушка приподнялась, тихо встала и медленно пошла в город, ведомая девочкой. Царь также ускакал к своим шанцам: он и не знал, что сейчас находился почти лицом к лицу с своим непримиримым и непобедимым врагом, которого он считал таким страшным и, который так беззаботно играл и своею жизнью, и своею храброю армиею, и всею Швециею, играл, по выражению ворчливого Гультмана, «словно деревенский мальчишка мячиком»...
— Ох, надо, надо с Божию помощию готовиться к генеральной баталии, — говорил сам с собою царь, осматривая шанцевые работы, — а то он, от чего сохрани Боже, не сегодня-завтра к штурму прибегнет... Только вот всё нет калмыцкого войска, а без него боюсь начинать...
Воротившись к своей палатке, царь, несмотря на темноту, разглядел среди множества толпившихся там генералов и полковников малороссийских войск маститую фигуру Палия и подошёл к нему, сойдя с коня.
— Ну, что, мой верный Палий, как нашёл ты моё доблестное войско? — спросил он старика.
— Орлы, государь, истинные орлы, — прошамкал старый рубака, гроза крымцев и турок.
— А малороссийские полки?
— Оные, государь, полки за тебя и в огонь, и в воду, да и самому Люциперу себя знати дадут.
— А как ты себя на коне носишь?
— Погано, ваше царское величество: моё дело старое... А всё ж таки проклятому Мазепе сала за шкуру налити не премину.
Царь улыбнулся. Он сам видел, что пять лет ссылки и тоска по родине наложили страшную печать разрушения на старика, и без того ветхого.
Отдав некоторые приказания начальникам отдельных частей, царь вошёл в палатку в сопровождении неразлучного своего Павлуши, теперь уже Павла Ягужинского. В палатке на походном столе лежали планы, бумаги и пакеты, привезённые курьерами из Москвы, Петербурга, Воронежа и других мест обширного царства. Некоторые, более важные и спешные, были уже распечатаны и прочитаны; оставались только домашние письма, бабья переписка.
— Что-то моя матка пишет, мудер Катеринушка? — говорил царь, взяв одно письмо и распечатывая его. — «Всемилостливейший государь, дорогой хозяин мой, батюшка! Доношу милости твоей, что я с дочуркою нашею Аннушкою благостию Всевышнего Бога в добром здравии, только лапушка наша ныне скорбит зубками, понеже ещё один зубок выдувает, и оттого слюнки текут во множестве. А впротчем, государь хозяин, не изволь сомневаться. А за то, государь, что изволил прислать мне с Азовского моря устерсы да материю по голубой земле цвет лазорев, и за то тебе, государю моему, земно кланяюсь, и тебя в оном новом голубом капоте обнять страх желаю, красавца моего свет Петрушеньку...»
Царь, приподнявшись над письмом, весело встряхнул своею курчавою гривою.
— Ах ты, мудер-мудер Катеринушка! Недаром я тебе оный пароль дал, — радостно говорил он сам с собою. — Ну-ну, что дале? «А обо мне, для Бога, не печалься: мне тем наведёшь мненье. При сём посылаю тебе, государю моему, ящик с анисовкою и цедреоли шесть скляниц, а есть ли бы у меня у горькой крылья были, и я бы сама к тебе прилетела, другу моему. А что о царевиче Алексии Петровиче изволишь писать, государь, что якобы он тайным способом, от тебя, государя, таясь, к матери своей, старице Ольге, в Суздаль ездил, и то, государь, он сам мне, пред Господом кающись и прося у тебя, государя своего, родительского прощения, со откровенностью поведал. И ты, всемилостливейший государь, молю слёзно, сына своего, для Бога, прости, понеже не он то своею волею учинил, а умыслом покойной царевны Софии Алексеевны: она его тому научила»...
Царь быстро откинулся от стола, и лицо его нервно задёргалось.
— У! Зелье — сестрица Софьюшка! И из гроба-то мне покою не даёшь! — с волнением проговорил он. — Мало со стрельцами да с бородачами-раскольниками намутила, а вон и в наследство мысль свою змеиную сынку моему дурачку оставила... У, зелье московское!
Он встал и заходил по палатке. Как ни велик был шатёр царский, но и в нём великану шагать двухаршинными шагами было тесно. Он опять присел к столу:
«А я тебе, другу моему сердешному, Петрушеньке, хоша и стыдно мне вельми и алая кровь со стыда к щекам приливает, на ушко другу моему шепну: у меня, друг мой, там во чреве под сердцем твоя шишечка возится, к Рождеству Христову, может, и сына тебе дам».
Пётр вскочил и вытянулся во весь свой исполинский рост. В глазах его мелькнула не то безумная радость, не то гнев.
— Павел! — громко окликнул он.
В другом отделении палатки, которая разбита была пологами на несколько комнат, послышался шорох бумаги и быстрый ответ: «Сейчас, государь!» Это отвечал Ягужинский, который, войдя с царём в палатку, тотчас прошёл в своё отделение и стал писать письма, раньше заказанные ему царём. Ягужинский вышел из-за полога и остановился, ожидая приказаний.
— Мне бог сегодня радость послал, — сказал царь необыкновенно весело, — так я хочу и тебе радость учинить.
Он остановился и, ласково улыбаясь, глядел на своего смущённого любимца. Тот стоял бледный и смутный, словно статуя, с лицом из белого воска.
— Я давно заметил, что у тебя в сердце зазноба есть, а? Правда? — спросил царь, продолжая улыбаться и кладя руку на плечо молодого человека.
Ягужинский молчал. Царь чувствовал, что он дрожит.
— Ты не бойся, Павел... Говори мне правду: любишь эту чёрненькую Кочубеевну?
— Люблю, государь, — чуть слышно отвечал тот, не поднимая глаз и чувствуя, что краснеет.
— То-то же, я это и ныне заметил: малый чуть в воду не кинулся, когда увидал, что девка упала с испугу... Так хочешь, я тебя женю на ней, когда одержу викторию над Карлом?
Ягужинский упал на колени и стал целовать руки царя.
— Ну, полно, полно... Сам сватом буду... А девка, сдаётся мне, лицом благообразна... Недаром этот проклятый сатир Мазепа такие епистолии к ней писал... Встань!
Ягужинский встал весь красный.
— У! Попадись мне этот домовой старый, сто стрелецких казней я учиню над ним, и то ему мало! — гневно говорил царь, снова зашагав по палатке. — А тебя женю на этой черкашенке... как её зовут, не знаю...
— Мотря, государь.
— Мотря, какое хорошее имя... Мотря-Мотрюшко, хорошо, зело хорошо... У нас такого имени нет... Да и так говоря, мне украинская здешняя речь зело по душе, благозвучия в ней много... Как приведу здесь всё к желанному концу, заведу школы по городам, дабы в оных учение преподавалось их же малороссийскою речию, — говорил царь как бы сам с собою, ходя по палатке. — Так все мудрые государи, как то из истории видно, поступали, понеже отнимать у народа язык, Богом ему данный, и Богу противно, и безумно есть... теперь я подлинно ведаю, что и Мазепа всего своего потентату лишился ради того, что склонность имел более к польским нравам и польской речи, чем к малороссийской... Так ступай, Павел, кончай с письмами и ложись спать: завтра у нас дела будет изрядно.
Ягужинский ушёл в своё отделение, а царь, сев к столу, глубоко задумался над письмом своей «матки Катеринушки». Письмо это заставило его беспокойный мозг работать в том направлении, какого он сам не ожидал. Он видел рядом с постылым сыном от постылой женщины другого сына, и перед этим последним нюня Алексей казался таким жалким, недостойным того призвания, которое выпало ему на долю актом рождения... А что если из его бессильных рук, которые способнее держать кадило, чем скипетр, выскользнет всё, что приобретено вот этими мозолистыми руками (царь невольно раскрыл свои массивные ладони: мозоли плотника, мозоли от топора, от молота — все ладони в мозолях, словно бы это были ладони рудокопа), всё, что добыто годами тяжкого труда, бессонными ночами, под удары этого страшного молота — этого нового Карла-Мартела!.. Нет, не бывать этому! Этот постылый сын должен уступить место будущему брату...
Но чем ещё кончится предстоящая баталия? Страшно подумать, если Полтава будет второй Нарвой... Страшно!..
Но и после второй Нарвы можно будет стать на ноги. Вон Нева уже взята... Не сидеть постылому Алексею на престоле в Петербурге, довольно Алексеев! Пусть Петры только будут царствовать в Российской земле!..
И царь невольно вздрогнул: ему представился гроб, а в гробу лежит Митрофаний и грозит пальцем...
XVI
Утро 27 июня 1709 года только начинает брежжиться. Полтава ещё окутана дымкой ночи, и только на верхних частях её крепости да на верхушках и крестах церквей отражается белесоватый свет от бледной полосы неба, всё более и более расширяющейся вдоль восточного горизонта. Звёзды ещё светятся, мигают, но это мигание уже какое-то слабое, трепетное, словно веки выглядывающих с неба чьих-то неведомых глаз, которые всё чаще смежаются.
Между тем выше Полтавы, вдоль нагорного берега, на всхолмлённой равнине, кое-где за холмами торчат, словно из земли, какие-то тёмные точки и иногда как бы дрожат, движутся, обнаруживая при ближайшем рассмотрении то высокую казацкую шапку, то длинное ратище копья, то ствол мушкета. Это передовые сторожевые пикеты левого крыла шведского войска.
Восток, луговое Заворсклье, глядит всё яснее и яснее, и Полтава мало-помалу словно из земли выползает, сбрасывая с себя тёмное покрывало. По нагорному возвышению от Ворсклы движется какая-то одинокая тень. Это человеческая фигура. Белеющий восток слабо освещает наклонённую под высокой казацкой шапкой голову, седой чуб, свесившийся на глаза, и седые усы, глядящие в землю, словно им уже не ко времени торчать молодецки кверху, а пора де в могилу смотреть. По мере движения этого старого путника тёмная шапка за ближайшим холмом нагибается всё ниже и ниже и, наконец, совсем прячется.
— А бисив сон! Уже й ранок, а вин не йде! — бормочет сам с собою старый путник. — Не сплять стари очи...
Старик останавливается И с удивлением осматривается — где он?
— От, старый собака! Де се я бреду! Чи не до шведа втрапив? — изумлённо спрашивает он самого себя, наткнувшись почти на самый холм.
Из-за холма опять показывается шапка и ствол мушкета и украдкой двигается к задумавшемуся и опустившему к земле голову старику.
— Ох, лишечко! Та се ж батька Палiй! — невольно вскрикивает шапка с мушкетом.
Старик вздрагивает и оглядывается, не понимая, где он и что с ним...
— Батьку! Батьку ридный! — радостно говорит шапка с мушкетом; не шапка, а уж целый запорожец в жёлтых широчайших китайчатых штанах.
— Да се ты, сынку? — изумляется старик.
— Та я-ж, батьку, я, Болота... — И он бросается к старику. — Так вы живи, не вмерли там?
— Живый ще, сынку... А ты що?
— Та у шведа с запорозцями.
— У шведа? О бодай тебе!
— А вы, батьку?
— Я в царя вин мене с Сибиру вызволив.
Вдруг со стороны, где расположен был шведский лагерь, что-то грохнуло, стукнуло и покатилось в утреннем воздухе, отозвавшись эхом и в Полтаве, и за Ворсклой, Болота и Палий встрепенулись. Это пушечный выстрел — вестовой сигнал к наступлению, к битве.
— Тикайте, батьку! Тикайте хутко до себе, а то вбьют! — торопливо говорит Болота. — Тикайте до царя, а мы вси запорозци до вас перекинемось од шведина...
На первый грохот ответили в других местах. Ясно, что шведы начинают... Болота скрылся за холмом, а к Палию с другой стороны, от московского войска, подскакал, держа в поводу другую осёдланную лошадь, какой-то казак... То был Охрим...
— Сидайте, батьку, на коня, бо вин, проклятый, сдаеться, кашу варити зачина.
И он помогает старику сесть на лошадь. Не тот уж это Палий, сам уж и на коня не сядет...
Битва, действительно, зачиналась... Карл не вытерпел: надоело ему лежать в постели, да слушать сказки Бультмана о Рольфе Бетриксоне, слушать ворчанье старого слуги, да ждать-ждать, пока заживёт эта проклятая нога... А между тем лазутчики из казаков донесли ему, что царь со дня на день ждёт двадцатитысячного калмыцкого корпуса... Где ж тут ждать!
— На пир! На пир кровавый, мой храбрый Реншильд! — метался больной король в бессоннице. — На пир, мой мудрый гетман! Повторим Нарву!
Рослые драбанты вынесли его из палатки на качалке и внесли на высокий курган.
— Вот здесь и дышится легче... Сна мне нет... но под победный грохот пушек и под победные крики моих богатырей я усну в этой качалке как под колыбельную песню... Несите же смерть врагам, а мне мой сон.
И он в горячечном жару махнул рукою, и грохнула вестовая пушка, за ней другая, третья...
Как из земли, из палаток, из-за шанцев, из-за холмов и из рвов вырастали люди и смыкались в стройные ряды, ряд к ряду, колонна к колонне, словно живые параллелограммы, покрытые синею краскою, это утренний бледноватый свет падал на синие груди шведских войск, строившихся в колонны и развертывавшихся внизу по равнине перед лихорадочно блестевшими глазами железного полководца в горячке. Свет уже отражается на оружии, на копьях, на латах; а по бокам, словно разноцветная бахрома, не стройно, но внушительно волнуется и строится конница на нетерпеливых конях: это малороссийские мазепинские войска, сильно поредевшие, казацкие полки в своих невообразимых шапках и разноцветных кунтушах, и дикое, нестройное, но страшное и пугающее глаз этой самой нестройностью запорожское «лыцарство», пёстрое до боли глаз, разношёрстное, богатое и бедное, цветно разукрашенное и ободранное как липка, на конях всевозможных мастей и пород и в кунтушах, свитках и штанах всевозможных цветов, как цветы этого полтавского поля, уже притоптанного там и сям конскими копытами.
Когда Карл махнул рукою и откинулся на своей качалке, с холма, как бешеные, понеслись вестовые, его дружинники и казаки к отдельным командирам и частям войск, а за ними, окружённые своими штабами, спустились сами военачальники — Реншильд, Левенгаупт, Гилленкрук, с одной стороны, и Мазепа, Орлик, Костя Гордиенко — с другой.
В то время, когда войска смыкались в ряды и передвигались как огромные синие шашки по неровной шахматной доске, артиллерия, расположенная на холмах, бороздила воздух и взрывала землю ядрами, выбрасывая огромные клубы белого дыма, как будто бы это дымилась и курилась вздувшаяся холмами и пригорками земля. Впереди всех, как стройная стая волков перед овцами, двигается отборный легион Карловых дружинников — в блестящих рыцарских латах, с блестящим оружием, на отборных, привычных к бою, словно к игре, конях, Виднеется и коренастая фигура Гинтерсфельта и рядом с ним жиденькая фигурка юного принца Макса.
И Мазепа, бледный, сумрачный, сосредоточенный, подъехал к своим полкам и, указывая на Полтаву, где маковки и кресты церквей уже золотились весёлым солнышком, сказал:
— Туда, хлопци! Там ваше добро, ваши жёны, ваши дети! Вызволимо их из московской неволи, бо московска неволя гирша неволи турецькои! Вызволимо Украину неньку!
И вечно серьёзный Орлик тоже бледен... «Чёрт их несёт на эту Полтаву!» — думается ему нерадостно: «Обломаем мы об неё последние зубы, а всё этот старый дьявол!»
И Костя Гордиенко, «батько кошовый», подъезжает к своему «товариству», к запорожцам. Все готовы к бою: шапки насунуты на самые очи, чтобы на скаку не спадали, чубы расправлены, мушкеты и ратища наготове, только гикнуть да гаркнуть, и пошли в сечку чёртовы дети, пошли задавать москалю резака да чесака знатного.
Маленькие глазки у батька кошевого веселы, радостью и отвагой светятся; курносая «кирна» так и раздувает ноздри, мушкетного дыму нюхать хочет; усища подобраны, за плечи закинуты, словно косы девичьи, чтоб не мешали казаку «колоти та стриляти, та у-пень Москву рубати»...
И Голота тут. Но это уже не тог Голота, что когда-то в Паволочи: пропил штаны и сорочку, и ходил голый, что бубен, в чём мать родила, плачучись московскому попу Лукьянову на своё сиротство, на то, что его мастерицы Хиври не стало, ясны оченьки грошами медными закрыты, белы рученьки накрест сложены, черны брови и уста щебетучие, да ноженьки ходючие землёю присыпаны... Нет: этот Голота уже на добром коне, в жёлтых шароварах, не пьян, а такой задумчивый, «сумный та думный», думает как бы всё товариство от проклятого Мазепы отвернуть да до старого батька Палия привергнуть... Широкое дело задумал Голота, большое, удастся ли только до доброго конца его довести?
Тут и дядько Задери-Хвист. И он думает то же, что казак Голота думает; Голота успел шепнуть ему, что батько Палий жив, что царь воротил его из «Сибиру», что он будет биться с «проклятым Мазепою», так не дурно б было «бидным невольникам» казакам махнуть до батька Палия, «бо духе добрый батько, щирый козацькiй батько, не смердит лядским духом, як просмердив Мазепа».
И дядько Тупу-тупу-табунец-Буланый тут. И он думает заодно с Голотою и с дядьком Задери-Хвостом. У батька Палия было бы лучше, чем у проклятого Мазепы. Да и пани-матка: бывало, позволяла казакам, тихонько от старого, погулять в поле, ляшков-панков пощупать по панским хоромам да жидовские капшуки порастрясти... Надо-надо перемахнуть до батька Палия...
И загремело же, загуркотало всё поле, когда Москва заговорила из своих пушек. Видно, как они, чёрные, зевластые, словно старухи какие пузатые, стоят окарач на холмах да рыгают в шведа и в казаков дымом и огнём пепельным, да ядрами с картечью жарко бьют!
Но что это несётся вдоль рядов московского войска, такое большое, словно дуб либо явор, на коне? Фу! Какое большое да страшное. И конина под ним страшенная... Да это ж он сам, сам москаль, самый большой и старшой из всех москалей, это батько москалячий, царь московский... У! Какая детина здоровенная! — дивуются казаки-мазепинцы.
А за ним — казакам это видно с высокой «могилы» — за ним трюх-трюх-трюх кто-то — невеличек, сгорбленный, и чуб и ус серебрятся на солнце... Не поспевает за царём, куда поспеть!.. Да это, братцы сам батько Палий, он, он, родимый, он, дедусь добрый!.. — Так и задрожало сердце у казаков, у тогобочных да у охочекомонных при виде их любимого дедуся.
Битва страшно разгорается. И швед крепко напирает на москаля, и москаль на шведа: в одном месте сшиблись ряды, в другом сшиблись, уж сотни валяются по полю мёртвых, раненых, с перебитыми и переломленными костями, с разможжёнными головами... Сшибутся-сшибутся, смешаются в кучу, а там разойдутся, живые, побросав мёртвых, а всё ни чья не берёт... Ряды опять расходятся.
А царь, проскакавши перед рядами, остановился, снял шляпу и перекрестился на полтавские церкви. Перекрестились и ряды, несмотря на адский огонь шведской артиллерии и пехоты...
— Дети мои! Сыны России! — громко, голосно сказал царь, да так голосно, что ни гул орудий, ни треск и лопотанье ружей не в силах были заглушить этого голоса. — Помните, что вы сражаетесь не за Петра, а за государство, Петру вручённое... Вы сражаетесь за свои кровы, за детей, за Россию; а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Русь, слава, честь и благосостояние её!
В этот момент пуля с визгом пронизывает его шляпу.
Он снимает шляпу и снова крестится.
— Борис, и ты, Александр! — говорит он Шереметеву и Меншикову. — Думайте только о России, а меня забудьте... Коли я нужен для блага России, меня спасёт Бог... А убьют, не падайте духом и не уступайте поля врагу... Изгоните шведов из моего царства и погребите тело моё на берегах моей Невы, это моё последнее слово!
Опять запищала пуля и впилась прямо в грудь царя, на которой висел золотой крест.
— Государь! — с ужасом вскрикнул Меншиков.
— Ничего, Бог хранит меня, пуля как воск сплюснулась...
И с обнажённою шпагою царь скачет вперёд.
Увидев царя впереди всех, Москва буквально осатанела: с каким-то рёвом бросилась она по полю, спотыкаясь через трупы товарищей и врагов.
Карл видел всё это с холма и задрожал всем телом.
— Несите меня туда, к этому великану! — закричал он, порываясь броситься с носилок.
Драбанты сбежали с холма, подняли носилки с королём выше головы, словно плащаницу, и понесли вдоль войска...
Шведы, увидав своего идола, бледного, простирающего вперёд руки, как бы с желанием схватиться с тем великаном, что издали виднелся на белом коне, шведы пришли в звериную ярость и сделали нечеловеческие усилия...
Но как ни стойки были московские рати, как ни старались расстроить шведские, словно скованные цепями колонны, малороссийские полки, врезывавшиеся в самую гущину шведского живого бора, ничего не помогало... Страшная плащаница, носимая над головами сражающихся, осиливала...
Московские ряды дрогнули... Дрогнуло левое крыло армии, где командовал Меншиков... Как полотно побелел «счастья баловень безродный, полудержавный властелин» и выстрелил в первого попятившегося назад...
Но в эту минуту, откуда ни возьмись, Палий, обхватив руками шею коня, чтоб не упасть, сопровождаемый Охримом, без шапки, с развевающимися по ветру, словно грива, сивым чубом, с громким воплем, врезался в правое крыло шведского войска, которое составляли запорожцы...
— Ой! Дитки! Дитки! — отчаянно кричал он с плачем. — Убiйте вы мене, диточки! Убiйте старого собаку! Я не хочу, щоб мои очи бачили поругу Украины... Поругав iи лях, поругав татарин, теперь швед наругается...
— Палий! Палий! — прошло по рядам.
— Не дамо на поругу Украину! Не дамо ни шведу, ни татарину! — зазвучал зычный голос Голоты.
— Не дамо! Не дамо! — дрогнуло по всему правому крылу.
И в одно мгновение несколько сот запорожцев, повернув коней, с тылу врубились в шведские ряды. За ними махнули другие сотни... Шведские расстроились...
— Зрада! Зрада! — закричали мазепинцы. — Запорозци. своих бьют!
— Бiйте шведа! Рубайте Мазепу проклятого! — отвечали запорожцы.
Дрогнувшие было, ободрились московские полки, ринулись в гущину смешавшихся шведских полков, и началась уже резня: в русском солдате сказался мужик — он начал буквально косить, благо не привыкать стать ни к косьбе, ни к молотьбе...
У старого Реншильда опустились руки, когда он увидел себя отрезанным. Когда к нему подскакал Меншиков, упрямый варяг, расстрелявший все свои патроны, с отчаянья переломил свою саблю об луку седла и бросил её в Ворсклу. Принц Максимилиан хотел было броситься с кручи, но его удержали, и этот безумный мальчик сдался только тогда, когда Голота выбил у него из ослабевших рук саблю.
Карл, видя гибель своего войска, велел в последний раз нести себя вперёд, как знамя; но Брюс, командовавший русскою артиллериею и давно с одного холма наблюдавший в зрительную трубу за королевскою качалкою, велел направить на неё разом несколько пушек; качалка была подбита, драбанты полегли под нею, и несчастный Карл вывалился из своей последней колыбели на землю... Но он и не застонал от боли, хотя рана на ноге открылась и из неё хлынула кровь.
— О, великий Бог! Швеция упала! — закричал Левенгаупт, всё ещё державшийся на левом крыле, и поскакал было к королю..
Но в это время богатырь Гинтерсфельт, соскочив с коня, словно ребёнка, поднял с земли своего побеждённого, плавающего в крови бога и, снова сев на коня, поскакал в лагерь, прижав к груди бесчувственного героя, словно кормилица или, мать своё детище.
— Дивись-дивись, дядьку! — закричал, увядав, эту трогательную сцену, Толста, который вместе с казаком Задери-Хвист гнал через поле шведских пленных. — Дивись бо, дядьку! От чудесiя!
— Та що там таке? — лениво отвечал тот.
— Та он той, що с тобою боровсь, комусь цицьки дае!
И Голота искренно захохотал, не догадываясь, что это, точно ребёнка у груди матери, спасают короля.
От всего левого крыла шведской армии остались отдельные отряды и кучки пленных, которых, словно разогнанное оводами да слепнями стадо, гнали к Полтаве то малороссийские казаки и запорожцы, то московские рейтары. Правое крыло, увидав упавшего короля и не видя главнокомандующего, старого рубаки Реншильда, также дрогнуло и попятилось назад, несмотря на то, что оставшиеся верными Мазепе запорожцы с кошевым во главе, носясь по полю, словно хвостатые дьяволы, гикая и ругаясь, вырывали лучшие силы из рядов русской армии. Мазепа, Орлик и Гордиенко с самыми отчаянными головорезами-запорожцами прорубились было через всё правое крыло русской армии, но, не видя ни короля, ни Реншильда, ни Пипера, ни Левенгаупта, поворотили к степи и скрылись в облаках дыма и пыли.
— Или-или-лима самахвани! — как-то застонал Мазепа евангельскими словами, с горя и стыда припав к гриве коня своею старою, обездоленною головою: ему казалось, что там, в красующейся зеленью Полтаве, на возвышении стоит Мотрёнька и ломает свои нежные ручки. — Боже мой! Боже мой! Векую же ты оставил меня!
— Но ещё не «свершишася», пане-гетьмане! — мрачно сказал Орлик. — У нас за пазухою Крым и Турция.
Мазепа безнадёжно махнул рукой... Что ему Крым, что ему Турция, что ему теперь вся вселенная.
Умолк гром пушек. Тихо на полтавском поле: слышен только стон раненых и умирающих, да говор людей, копающих громадную могилу, такую громадную, в которой можно было бы похоронить и погибшую, хотя незавидную славу Карла XII, и позор Нарвы, и тысячи жертв обоюдных увлечений и ошибок, похоронить и всю старую византийско-инконописпую и татарско-суздальско-московскую Русь с её невежеством и безобразием. Но напрасно думает царь, что он выкопает такую могилу: ещё в недрах Русской земли не образовалась та залежь железной руды, из которой можно было бы добыть достаточно железа на выковку лопат для вырытия задуманной Петром могилы...
Но могила всё-таки выкопана, не та, а полтавская, и в неё свалено всё, что мешало торжеству викторин...
И началось торжество тут же, на кровавом поле. Из всех торжеств, до которых люди всегда такие охотники и которые всегда окупались реками слёз и крови других, не принимавших в них участия, это полтавское торжество было одною из величайших исторических ошибок Петра. Пётр, у которого закружилась голова от неожиданной виктории, торжествуя её, забыл о железном варяге, который не будучи никем преследуем, успел скрыться и тем положить начало новой великой Северной войне, продолжавшейся ровно сто лет и стоившей стольких жертв и таких потоков крови, что в ней могли бы потонуть не только все участники торжества, но и те, кто не участвовал в нём.
Эту громадную историческую ошибку Петра как нельзя проще и правильнее оценил Голота, который, нализавшись на радостях до положения риз, сказал своему приятелю, казаку Задери-Хвист:
— Дядьку! А дядьку! Чуй-бо!
— Ну, чую.
— Москаль-то?
— А що?
— Наш брат, козак, пье, коли в его дила нема, а москаль тоди й пье, коли у его дило за пазухою... От що!
Действительно, в то время, когда русские пировали, расстроенные боем части шведского войска, избежавшие смерти и плена, и казацкие полки Мазепы, равно запорожцы, снова сплотились, но, не смея вступить во вторичный бой, решились идти искать счастья за Днепром, а в случае новых неудач нести свои обездоленные головы в Турцию.
Они так и сделали. Очнувшемуся от обморока Карлу перевязали рану. Сначала он долго не понимал, где он и что с ним; но злая память не замедлила воротить к нему то, что он желал бы навеки забыть: он вспомнил этот день, первый день в своей жизни, когда от него отвернулось счастье. Когда же он узнал, что старый Реншильд, юный Макс, старый Пипер и другие генералы в плену, что и любимец его Адлерфельд, писавший историю Карла, раздробленный русским ядром, уже не может продолжать своей истории, несчастный безумец воскликнул:
— Те убиты, а те в плену, в плену у русских! О! Так лучше смерть у турок, чем плен у этих варваров!.. Вперёд! Вперёд!
Его посадили в коляску.
Наступала ночь. Полтава чуть-чуть виднелась в вечернем сумраке, как тогда, когда около неё горели купальские огни. Печальный кортеж двинулся степью в безвестную даль. Мазепа с своим штабом ехал впереди, открывая шествие и руководя движениями шведского войска... Как хорошо была ему знакома эта широкая чумацкая дорога, этот «битый шлях» мимо Полтавы до Днепра, и до самого Запорожья, где провёл он молодость! Как далека теперь казалась ему Полтава, в которой он оставлял всё, что было самого дорогого в его жизни! А между тем вон она тут, под боком, да только дорога к ней заросла теперь для него могильною травою...
Вон взошла звёздочка над Полтавою... Может быть, и те добрые, ласковые «очинята», что когда-то на него с любовью глядели, тоже теперь смотрят на эту звёздочку...
— О, моя Мотрёнька! О, моё дитятко! Кто-то закроет навеки мои очи старые на чужой стороне?.. Не в твои чистые, невинные очи гляну я в последний раз моими очами бедными, закрываючи их в путь в далёкую-далёкую, безвестную дорогу...
— Тату! Тату! Ох, таточку! — послышался вдруг стонущий голос в стороне от дороги. — Ой, тату! Возьми мене с собою!
Мазепа задрожал всем телом, он узнал, чей это был голос... Он поскакал туда, где слышался этот милый голос, и через минуту казаки увидели гетмана с дорогою ношею на руках.
— От нам Бог и детину дав, — добродушно говорили казаки, с любовью посматривая, как старый гетман, утирая скатывавшиеся на седые усы слёзы, усаживал в свою походную коляску что-то беленькое да бледненькое такое, да жалкое...
— Ну, теперь хоть на край света!.. Только край этот для Мазепы был не далеко, очень не далеко...
XVII
Трогательно, хотя мрачными красками описывают шведские историки-современники это печальное бегство двух злополучных союзников, с именами которых связано в истории так много трагического и поучительного. Один даже говорит, что если б эти злополучные союзники, Карл и Мазепа, соединились раньше, то «нам бы, может быть, довелось увидеть украинское величество из династии Мазепид и великую Шведскую империю на севере Европы»!
Напрасная надежда! История не признает этих «кабы» да «если бы»…
Страшные дни потянулись для Мазепы, не говорим — для Карла: этому оставалась ещё молодость, у которой никогда нельзя всего отнять, которую никогда и никакими победами нельзя ни победить, ни ограбить; у Карла оставалось ещё целое царство где-то там, за быстрыми реками, за безлюдными степями, за синими морями да за высокими горами. А у Мазепы ничего не оставалось, кроме старости да воспоминаний, да вот ещё этого дорогого существа, грустное личико которого выглядывает вон из той богатой коляски, безмолвно созерцая неизмеримую, безвестную даль, расстилающуюся перед очами. Что-то с нею будет, когда его не станет на чужой стороне, да и как ему самому покинуть это сокровище, хотя бы для загробной вечной жизни?.. Бог с нею, с этой вечной жизнью без земли, без этого жаркого голубого неба, без этой степи, выжженной солнцем, без этих милых глазок, по временам о нежною грустью останавливающихся на нём, на бездольном старике, лишённом всего! Бог с нею!
«Вот и опять едем искать моей могилы в неведомой степи», — думает Мазепа при виде бледного личика Мотрёньки, выглядывающего из коляски, и ему вспоминается тот день в Батурине, когда он в первый раз узнал, что Мотрёнька любит его. Но он не выдаёт ей своих мрачных мыслей, не хочет огорчать её.
— Дитятко моё! Ясочко моя! — тихо шепчет он.
— Таточку мiй! Любый мiй! — страстно молится она, с тоскою замечая, как этот последний год и этот последний, вчерашний день состарили её милого, её гордость, её славу и придали что-то мягкое, детское его вечно задумчивому лицу... И она любит его ещё больше и беззаветнее, чем когда-либо любила.
Он сильно пришпорил коня и поскакал вперёд, мимо коляски короля, завидев вдали синюю полосу Днепра, где они должны были переправиться на тот берег, за пределы гетманщины.
«Прощай, моё славное царство!» — колотилось у него в сердце.
Авангарды из малороссийских казаков, запорожцев и шведской конницы подскакали к берегу. Шведов поразило уменье и неустрашимость казаков, тотчас же спешившихся с коней и вместе с ними бросившихся в воду. Понукая лошадей, с криками, жартами, смехом, свистом и руганью эти степные дьяволы, держась за хвосты своих привычных ко всему четвероногих товарищей, пустились вплавь, вспенив всю поверхность реки, усеяв её то фыркающими лошадиными мордами, то своими усатыми и чубатыми головами в косматых шапках.
Подъехали к берегу и коляски, из которых в одной лежал, страшно страдая от раны и зноя, сломленный упрямою судьбою упрямый король-варяг, а из другой выглядывало задумчивое, прелестное личико Мотрёньки. Солнце клонилось к западу, хотя всё ещё жгло невыносимо.
Мотрёнька вышла из коляски и спустилась к самому берегу Днепра, припала коленями на камень, торчавший у самой воды, сбросила с головы белый фуляр, защищавший её от солнца, и, зачерпывая пригоршнею воду, стала освежать ею и пылающее лицо, и усталую от горьких дум голову... Намоченная коса стала так тяжела, что её нужно было расплести, чтобы выжать из неё воду, и Мотрёнька, усевшись на прибрежный валун и выжав косу, стала приводить в порядок свою голову.
— Ото, мабудь, мавка косу чеше, — шутили казаки с того боку Днепра, суша на солнышке свои кунтуши да чоботы.
А Мотрёнька, глядя, как перед нею плавно катились днепровские воды, с грустью думала: «Не течи уже им до Киева в родную землю, не воротиться им никогда назад из моря, не воротиться, как той поповне Марусе-богуславке, которая потурчилась, побусурманилась ради роскоши турецкой, ради лакомства поганого».
И вспомнилась ей та далёкая Пасха, когда Мотрёнька была ещё маленькою, десятилетнею, а может быть и меньшею, девочкою, и когда у них в Диканьке на дворе сидел седой слепой лирник, и, потренькивая на бандуре, жалостливо пел про Марусю-богуславку да про «бедных невольников»... Как тогда жалко ей было этих невольников, проводивших святой день — «Великдень» — на далёкой чужбине, в тяжёлой неволе и в тёмной темнице! Как охотно она отдала бы тогда им свои «писанки» да «крашаики», чтоб только им легче было!.. Л теперь и она, и её тато милый — те же «бедные невольники», и так же, как и те казаки-невольники, не будут знать в чужой земле, когда в христианской земле «Великдень» настанет.
Между тем запорожцы, что оставались ещё на этой стороне Днепра с Мазепою, Орликом и Гордиенком, успели наладить нечто вроде паромов — плавучие плоты на маленьких лодках, чтобы на них можно было перевезти коляски с королём и Мотрёнькою да богатые сокровища Мазепы в разной утвари да бочонках с золотом.
Мазепа так торопился перевезти на тот бок своё единственное сокровище, Мотрёньку, боясь, чтобы её не настигли царские войска, что почти совсем забыл о своих бочонках с золотыми дукатами, и Карл тихонько от Мазепы велел их потом похитить.
Увидав Мотрёньку сидящею у воды в глубокой задумчивости, Мазепа, покончив все распоряжения с переправой, сам сошёл к воде и тихо положил руку на голову девушки.
— О, моя Клеопатра! — сказал он, стараясь казаться весёлым, хотя на душе у него было очень смутно. — Иди до своих кораблив...
И он указал на приготовленные к переправе плоты. Девушка радостно взглянула на него, думая, что он в самом деле весел.
Когда они подошли к экипажам, стоявшим на берегу, чтобы вместе с коляской и каретой самого Мазепы (его собственная карета следовала за ним в обозе) перейти на плоты, из одной коляски выглянуло молоденькое, бледное лицо с такими глазами, каких Мотрёнька ни разу не видала в жизни, и пристально посмотрело на девушку. Мотрёнька невольно почему-то, а вероятно по этим именно странным глазам, тотчас догадалась, что это был король, которого она до сих пор не видала, так как он ехал не в передовом, не в казацком обозе, а в шведском. При виде бледного лица у девушки сжалось сердце... «Боже! Да какой же он молоденький ещё, а уж что испытал!» — подумалось ей.
Карл сделал знак, чтобы Мазепа приблизился. Мазепа повиновался.
— Кто эта прелестная девушка? — спросил король, глядя на Мотрёньку.
— Сирота, ваше величество, родственница моя, крестница...
— Какое милое существо! И она решилась разделить вашу суровую участь?
— Да, ваше величество... это моё единственное сокровище, которое мне оставила немилосердная судьба...
— О! Не говорите этого, гетман, мы её заставим быть милосердной! — вызывающе воскликнул упрямый юноша, и глаза его стали какими-то стеклянными. — Фортуна это брыкливая лошадь, на которой может ездить только смелый... Мы её объездим...
— Вы, я в том уверен, ваше величество... но я... меня уже ждёт Харон с лодкою, чтобы перевезти в область Аида...
И Мазепа мрачно указал на плот, стоявший, у берега.
— Так познакомьте меня с вашей прелестной Антигоной, Эдип, царь Украйны! — с улыбкой сказал король.
Мазепа кликнул Мотрёньку, которая стояла в стороне и смотрела, как казаки втаскивали на плот её коляску и карету гетмана.
— Дитятко! Ходи сюда! — сказал он. — Их величество мают оказати тоби жичливость.
Девушка подошла, потупив голову, и сделала молчаливый поклон.
— Очень рад познакомиться с вами, прекрасная панна! — сказал Карл по-польски.
Мотрёнька снова поклонилась и подняла на короля свои робкие, стыдливые глаза.
— Это делает вам честь, что вы не бросили вашего батюшку... Только в несчастий познаются истинные привязанности...
Но в этот момент к коляске короля подскакал Левенгаупт, весь встревоженный.
— Ваше величество! За нами погоня, — торопливо проговорил он. — За Переволочною уже показались русские отряды... Торопитесь переправляться...
— Я раньше моей армии не переправлюсь.
— Государь! Умоляю...
— Мне бежать? Никогда!.. Я эту коляску сделаю моею крепостью и буду защищаться в ней, как защищался в Нарве, — отвечал упрямец. — Вот кого поберегите, женщин.
И он указал на Мотрёньку. Мазепа тоже больше всего боялся за неё и потому, откланявшись королю, взял под руку свою любимицу и торопливо повёл на плот. Там было уже несколько женщин, тоже оставлявших Украину вместе с своими мужьями и родственниками.
Солнце было уже низко, когда плот пристал к тому берегу Днепра.
— Теперь мы, доненько, в запорожских вольностях, се их земля, их и царство, — сказал Мазепа, вступая на берег. — Колись я тут, ще молодым, походив, як був у Дорошенка... Дорошенко тоди гетманував на сим боци Днипра...
Мотрёнька с грустью оглянулась на покинутую уже ею сторону Днепра, на которой лежали красноватые полосы света от заходящего солнца. Девушка мысленно прощалась с тогобочною Украйною, где оставались лучшие воспоминания её молодой, незадавшейся жизни.
По ту сторону всё ещё виднелась коляска короля, около которой толпились генералы и офицеры. Упрямый Карл никак не хотел переправляться, не хотел показать, что он бежит. Он до того разгорячился, что толкнул Левенгаупта в грудь, воскликнув с азартом: «Генерал сам не знает, что говорит! Мне приходится думать о других более важных делах, чем моя личная безопасность».
— Коли б его москали не взяли, — как бы про себя заметила Мотрёнька.
— Кого, доню? — спросил Мазепа.
— Та короля, тату.
— В его стане... Чёрт послав мени на погибель сего молокососа! — с сердцем сказал старый гетман.
На душе у него уж слишком много накопилось. Упрямая воля, которая поддерживала его в течение всей бурной жизни, отказывалась служить ему. Он чувствовал себя физически разбитым. Он начинал жаждать покоя, а между тем новые тревоги только начинались.
Едва лишь к полночи успели переправить на другую сторону Днепра обезумевшего от неудачи короля. Коляска поставлена была имеете с ним на две лодки, и двенадцать драбантов на вёслах мигом доставили его к берегу.
А в это самое время на том берегу, который он сейчас оставил, послышались мушкетные выстрелы. Это Меншиков, посланный царём на другой день после попойки, успел нагнать остатки шведского войска, в числе 16000 человек, предводительствуемого Левенгауптом, и после лёгкой перестрелки заставил его положить оружие...
Карл слышал, как замолкла перестрелка, и понял, что случилось...
— Ставка проиграна, — сказал он со свойственным ему легкомыслием, — так я удвою её!
Но на эти слова никто не отвечал.
Беглецы в ту же ночь вступили в безбрежную степь. Это была настоящая пустыня, мёртвая, безлюдная и безводная. Могильная тишина царствовала кругом, и только звёзды смотрели с тёмного неба, словно живые существа, осуждающие безрассудные деяния человеческие. Шведы были глубоко поражены видом этого застывшего мёртвого моря, которому они не видели ни конца, ни края.
Одни запорожцы были тут как дома. Им не привыкать было плавать в этом море по целым месяцам, выискивая красной дичи в виде косоглазого крымца, а то буйвола, либо лося, либо быстроногого сайгака…
Вон и теперь они весело балагурят, усевшись в кружок и потягивая тютюн из люлек. Беглецы, отъехав вёрст с десяток от Днепра, остановились на ночлег, Все спят после трудов и тревог последних дней, тихо кругом; только несколько казаков в стороне от обоза стерегут спутанных коней и калякают себе по душе.
Вдруг слышат, кто-то идёт и как будто сам с собою разговаривает. Присматриваются: действительно, кто-то тихо бредёт от обоза... Кому бы это быть? Кто не спит, когда скоро уж и утро настанет? Ближе, ближе... Видят, фигура гетмана... Да, это сам гетман и есть... Чего он ходит? 6 чем разговаривает?.. Запорожцы присмирели, слушают....
— Ни, не спит моя голова, важко iй, важна моя стара голова, сон не бере, — бормочет старик, останавливаясь и качая головой, — де таку голову сну побороти? Вона в золотiй коруни... Ох, важка та коруна, важка!.. Достав Мазепа коруну, винец державный, а! Лиха матери!.. Не винец державный достав Мазепа, а винчик погребный... От скоро, скоро возложат на сю шалену голову винец державный смерти... О! Смерте! Смерте! Страшна твоя замашная коса!.. А дитинку ж чисту, невинность голубину за що я погубив? До кого воно, бидне дитя, головку прихилить на чужини?.. Проклятый, проклятый Мазепа... анафема, проклят...
Слова замолкли. Старик снова, не подымая головы, тихо побрёл к обозу.
— А мабудь и певне проклят, — заметил кто-то.
— Та проклят же... От весною чумаки ихали степом за силью, так казали, що на всiй Украини его у церквах попы проклинают.
— О! Що попы! То московськи попы, не наши.
— Ни, и наши проклинают.
— Та то ж москаль велив.
— Хиба... О, забирае силу вражiй москаль, ох, як забирае!
Начинало светать. Прежде всего проснулся предрассветный ветерок и струйками пробежал по степному ковылю, нагибая и покачивая то тот, то другой белый чуб безбрежной степи. Просыпалось и небо. Там от времени до времени слышалось карканье ворона да клёкот орла, такой странный да гулкий, как будто бы кто-то высоко-высоко в небе ударял палочкою об палочку. Это пернатые казаки чуяли себе корм по ту сторону Днепра.
Мазепа, к которому с рассветом воротились его разбитые и распуганные ночным мраком и бессонницею мысли, тихо подошёл к коляске, в которой ехала Мотрёнька, Неслышно приподнял он полу фартука и заглянул внутрь экипажа. Девушка спала. Подложив левую ладонь под щёку, она, казалось, пригорюнившись, думала о чём-то. Чёрные волосы падали ей на белый низенький лоб и на правую бледную щёку. Вид спящего человека всегда представляет что-то как бы маленькое, беззащитное. Спящая Мотрёнька казалась беспомощным, горьким ребёнком, который, наплакавшись, крепко уснул и не вполне согнал с лица следы горя...
С благоговейным чувством, но с едкой тоской глядел гетман на это милое, невинное личико... Чего бы не дал он, чтобы воротить прошлое!
— Гетман иде... ласощи несе, — шептали во сне губы девушки.
Видно, что ей грезилось её беззаботное детство, когда она ещё воспитывалась в монастыре и всякий раз с радостью ожидала, что вот-вот приедет гетман я привезёт всем им, девочкам, всяких сластей и хорошеньких «цяць», игрушек. «Ласощи несе»...
У гетмана задрожали веки, и по бледным, впалым щекам прокатились две мелкие, едва заметные слезинки, которые и спрятались в сивом волосе усов.
— Правда... принис ласощив, ох, принис, проклятый! — простонал он и отошёл от коляски.
Обоз просыпался. Казаки готовили коней и экипажи в далёкий, неведомый путь...
XVIII
Прошло ещё несколько месяцев.
Из села Варниц, недалеко от Бендер, под заунывные звуки труб и литавр выступает похоронная процессия. Впереди трубачи и литаврщики в глубоком трауре, на конях, покрытых траурными мантиями от ушей до самых копыт. За ними на траурном коне выступает кто-то знакомый: это запорожский кошевой атаман Костя Гордиенко. Открытое лицо его смотрит задумчиво, а громадные усы как-то особенно мрачно спускаются на грудь. В руке у него гетманская булава, которая так и горит на солнце дорогими камнями да крупным жемчугом. Вслед за кошевым шестёрка прекрасных, белых, как первый снег, коней, в трауре же, везёт погребальный катафалк, на котором стоит гроб, покрытый дорогою красною материею с широкими золотыми нашивками по краям. По сторонам катафалка — почётная стража с обнажёнными саблями, готовая поразить всякого, кто бы осмелился, оскорбить бренные останки, покоящиеся в гробе. За гробом идут женщины... Как голосно плачут и причитают. Как раздирает душу горькая мелодия этого народного причитания, причитания, с которым хоронили когда-то и Олега «вещего», и ослеплённого Василька, и старого Богдана Хмельницкого... От времён Перуна и Дажбога идёт эта мелодия слёз, мелодия смерти... Только одна женщина не плачет, это Мотрёнька; она идёт, глубоко наклонив голову, и переживает всю свою горькую, незадавшуюся жизнь... За нею, на коне, Филипп Орлик, новый гетман: ещё серьёзнее его вечно серьёзное лицо, ещё сосредоточеннее взгляд... «Над кем гетманувать я буду?» — вот что выдаёт его задумчивое лицо: «Да и где моя гетманщина?» Рядом с ним Войнаровский, племянник того, кто лежит в гробу. За Орликом и Войнаровским выступает варяжская дружина Карла XII. Как мало её осталось с того дня, как она оставила родную землю, чтобы следовать за своим беспокойным конунгом скандинавского севера! Как много их полегло на чужих полях, не зная даже, что делается дома. Из 150 варяго-дружинников, вышедших с Карлом из Швеции, до Полтавы едва уцелело 100 человек, а под Бендерами только 24 королевских варяга провожали до могилы труп Мазепы: остальные полегли в чужих полях, а конунг их лежал раненый. По обеим сторонам всей процессии ехали запорожцы с опущенными долу знамёнами и оружием.
Мотрёнька шла за гробом, по временам взглядывая на него и прислушиваясь к печальной музыке, отдававшей последнюю честь одиноко умершему старику, и память её переживала последние тяжкие дни, последние часы дорогого ей покойника. С переходом через степь и через Буг, со вступлением на турецкую землю дух, могуче действовавший в старом теле гетмана, как бы разом отлетел, оставив на земле одно дряблое тело, которое двигалось машинально, да и двигалось как-то мертвенно. Старик, видимо, умирал изо дня в день. По целым часам он лежал, устремив глаза в потолок и как бы припоминая что-то. Иногда он делал отрицательные движения то рукой, то головой, словно бы отрицался от всего прошлого, от всей его лжи, от горьких ошибок и жгучих увлечений, от которых остался лишь саднящий осадок...
«Ваще высочество», — бормотал он невнятно, — князь Полоцка и Витебска... Божиего милостию мы, Иоанн Первый, великий князь полоцкий и витебский, древнего Полоцкого княжества и иных земель самодержец и обладатель... обла-а-адатель... по-московски... О, царь, царь! Ты мене за ус скуб, як хлопа... Чи царь, чи гетьман? Куц выграв... куц програв... Чи чит, чи лишка?.. Лишка! Лишка!.. Пропала Украина, пропаде и Запорожже... всё одцвитае и умирае... зацвитуть други цвиты, а старых уже не буде... Зацвите и друга Украина, та старой вже не буде... Так ни, нема цвиту, один барвинок застався»...
Когда Мотрёнька подходила к нему, лицо его принимало молитвенное, но страдальческое выражение, и часто слеза скатывалась на белую подушку, на которой покоилась такая же белая голова умирающего... «О, моя ясочко!.. Закрый мени очи рученьками своими, та вертайся до дому, на Вкраину милу... у той садочек, де мы с тобою спизналися»... Мотрёнька плакала и целовала его холодеющие руки... «Не вдержу вже й булавы, — бормотал он, — а хотив скипетро держати, та тоби его, моё сонечко, передати»...
В последние минуты он глазами показал, чтобы Мотрёнька передала гетманскую булаву Орлику, и она с плачем передала её. Тут стоял и Войнаровский, и Гордиенко, стояли словно на часах, ожидая, когда душа умирающего расстанется с телом...
Тихо отошёл он, со вздохом: глубоко-глубоко вздохнул о чём-то, вытянулся во весь рост, и лицо стало спокойное, величественное, царственное... Да, это она, «смерти замашная коса», наложила печать царственного величия... «Ну вже бильше ему не лгати... буде вже... теперь тилько первый раз на своим вику сказав правду, вмер», — думал молчаливый Орлик, держа булаву и серьёзно глядя в мёртвое лицо бывшего гетмана...
Скоро похоронная музыка смешалась с перезвоном колоколов, когда процессию увидели с колокольни церкви, стоявшей от Варниц несколько на отшибе.
У ворот церковной ограды два казака держали под уздцы боевого коня Мазепы, покрытого длинной траурной попоной. Умное животное давно догадывалось о чём-то недобром и жалобно, фальцетом, словно скучающий по матери жеребёнок, заржало, увидев приближающуюся процессию. С большим трудом казаки могли удержать его. Когда же гроб проследовал в ворота, казаки увидели, как из умных, чёрных глаз гетманского коня катились слёзы.
— Що, жаль, коею, жаль батька? — спросил казак, ласково гладя морду животного.
— Эге! — философски заметил другой казак. — Може, одному коневи й жалко покойного, но никто в свити не любив его, лукавый був чоловик.
Конь заржал ещё жалобнее.
Когда гроб хотели уже опускать в склеп, Мотрёнька быстро подошла к последней и вечной «домовине» гетмана, обхватила её руками и вскрикнула со стоном: «Тату! Тату! Возьми мене с собою»...
Стоявший тут же на клюшках король подошёл было к девушке, с участием нагнулся к несчастной, чтобы поднять её; но она была без чувств...
Карл быстро повернулся и с каким-то странным выражением оловянных глаз погрозил кулаком на север...
А на севере всё шло своим чередом.
Царь, разославши пленных шведов по всем городам, всех участвовавших в преславной полтавской виктории русских наградил орденами, чинами, вотчинами, своими портретами, медалями и деньгами, а себе пожаловал чин генерал-лейтенанта. Затем, послав в Москву курьера с известием о победе, велел на радостях звонить и палить «гораздо», назло старым бородачам: и Москва звонила «гораздо», без устали колотила в колокола ровно семь дней, разбила, как доносил кесарь Ромодановский, триста семнадцать колоколов и опоила до смерти семьсот четырнадцать человек разного звания людей, «наипаче же из подлости и низкого рангу».
Сам же Пётр, захватив с собой Данилыча и Павлушу, поскакал в Варшаву, где заключил аллианц с Августом. Из Варшавы через Торун — в Мариенвердер, где заключил аллианц с прусским королём, и всё против Карла. Из Мариенвердера — к Риге, которую и велел Шереметеву Борьке осадить «накрепко». Бросив для начала собственноручно три бомбы в крепость, ускакал в Петербург, уж давно подмывало его туда!
В Петербурге первым долгом навестил старого рыбака Двоекурова, который уже ждал царя с подарком: с самого лета у него в Неве сидел уже на цепи невообразимой величины сиг, презент царю. У старика царь выпил ковш анисовки, и оттуда — на вновь устроенный корабль. Там ему подали привезённые курьерами из разных мест бумаги и между прочим от Палия пакет, в котором находился перевод перехваченного палиевскими казаками письма Карла; но к кому — неизвестно.
Царь прочёл это письмо вслух.
«Он-бо где я еемь, как я всеми оставлен! Где мои смелые люди? Где их ратоборственная смелость? О, Реншильд, помози, чтоб они паки доброе сердце восприяли и на за жертву за меня принесли свою прежду сего другую кровь.
О, Левенгаупт! Где ты? Где с остатком девался? Помози мне в нужде, в которой я ныне обретаюся. О, Пипер! Пиши ныне ты почасту, преж сего писывал. О, горе! Я обретаю, что ты с иными отлучился. Кого ж я при себе ныне имею? Кому я могу себя вверить? Ах, все отлучились и все погибли! Когда прямо сие размышляю и себя самого осмотряю, то я обращу, что ныне слово карл (т.е. карлик) есмь я. Хотел своими людьми орла понудить, чтоб он мне свою корону пред ноги низложил...»
При этих словах письма царь нервно тряхнул головой, так что волосы на ней задрожали...
— Ого! Я перед тобой... мою корону!.. Ист, я тебя и из Турции вышвырну, бродяга!
И царь снова начал читать:
«... корону перед ноги низложил; по ныне так я бегу, чтоб мог только уйтить, понеже собственная моя корона через сей бой подвизается...»
— Сие воистину, — вставил Меншиков.
«Но куда мне побежать? (продолжал царь). Где могу покой сыскать? Понеже я ныне далеко от земли моей обретаюсь. Только б ныне волохи могли б меня провесть, инакож я несчастливый и с моею землёю погиб. Но, орёл, объяви мне как хотеть, чтоб я поклонился, понеже ты через сей бой надо мною мастером стал. Приходи, Август, приходи паки назад в Польшу, понеже сия корона по достоинству прямая твоя. Но ты, Станислав! Я был твой приятель, пока я силу имел и тебе помочь мог; но ныне то миновалось: можешь ты только сии вести прочесть, как я ныне мастера своего в великом царе сыскал, того ради последуй моему совету, ляг пред королевскими ногами и проси, чтоб он тебе паки милостив был, а ты себе избери чернический монастырь, ибо сей бой нам есть временная адская мука. Прощаясь, я ныне принуждён чрез чужую землю иттить, ибо нового пути в свою землю искать имею. Моя болезнь ныне всему свету известна, что я ныне кричать принуждён: о горе! о горе! моя нога!»
Царь, повертев письмо в руках, бросил его в кучу с другими бумагами.
— Старика Палия сим письмом в обман ввели, — сказал он, — оно сочинено малороссийскими ласкателями, понеже малороссийские люди преострые сочинители и хорошего, и дурного, уж так у них в крови.
Скоропадский ему доносил тут же, что «вероломен и Иудин брат Ивашка Мазепа в турецкой земле аки пёс скаженный здох».
— Умер Мазепа, — сказал царь вслух.
При этих словах Ягужинский, подававший царю пакеты, так вздрогнул, что уронил пакет.
— Что, Павел? — спросил царь участливо. — Не, верно, вспомнил... Забыл, как её зовут...
— Мотря, государь, — отвечал тихо Ягужинский, бледный и не поднимая глаз.
— Да, да, Мотренушка, вспомнил! — продолжал царь. — Помни, Павел, что я у тебя в долгу...
Ягужинский молчал, только бумаги в руках его дрожали.
— Обещал тебя женить на этой отроковице, так вон она ушла в Турцию с Мазепой и Карлом... Ну, не печалься, Павлуша: на следующий год я достану себе Карла, а тебе — оную отроковицу...
Но царь и тут остался в долгу у своего Павлуши: Прутский поход 1711 года доказал, что ни Карла, ни отроковицу достать нельзя...
Скоропадский в письме своём добавлял, что его «малжонка Анастасия повергает к подножию ног его царского величества бочку варения киевского сухого цукрованого, оныя Анастасии руками властными на здравие царского пресветлаго величества свареннаго».
— У! Ловкая баба, — подумал Пётр, — она трижды умнее своего колнака-мужа... да такой там нам надобеть...
Осматривая затем корабль, царь увидел, что на мачте, словно белка, с реи на рею перескакивает какой-то молоденький, белокурый юнга, укрепляя спасти. Царя заняла эта ловкость и смелость.
— Ты кто такой? — крикнул он на мачту.
Двуногая белка в несколько мгновений соскользнула с мачты и уже стояла перед царём в струнку, смело похлопывая глазами.
— Юнга вашего царского величества! — бойко сказал мальчик, которому на вид было лет четырнадцать, а то и меньше.
Царь улыбнулся.
— А как зовут? Какова фамилия?
— Симка Крохинский, ваше царское величество! — по-прежнему бойко ответил мальчик.
— А! — царь что-то вспомнил, и глаза его блеснули. — Это ты тогда в Шлиссельбурге первый российский корабль из лаптя соорудил и онучкой оснастил?
— Я, ваше царское величество!
— Молодец, молодец! Помню... А потом?
— Потом в московском навигаторском училище учился...
— Кончил с доброю аттестациею?
— С аттестацией «оптиме», ваше царское величество!
— Зело рад... — И лицо царя действительно выражало живую радость: блестящими глазами он посмотрел на Меншикова и Ягужинского. — А! Смердий сын, землекоп, а теперь вон что! — быстро говорил царь, любуясь мальчиком и его льняными кудрями. — Теперь тебя за море, в немецкие и голландские страны вместе с боярскими детьми доучиваться пошлю... А там, что Бог устроить соизволит...
Но почему-то сейчас же вспомнился «сынок, Алёша-дурачок», а тут же и «сестрица Софьюшка, зелье московское», и «постылая царица Авдотья», и московские «бороды», разбитые триста семнадцать колоколов... А тут и «Катеринушка», давно её не видал... а может быть, и «шишечка» скоро будет...
Итак, гетмана Мазепу похоронили. Царь мечтает о будущем величии Российской державы...
Кого же ещё желательно было бы вспомнить? Палия и Мотрёньку? Да, их.
Палий сам умирал на руках своей мужественной жены, когда получил известие о смерти Мазепы.
— О, отыде дух лукавый... отыде, — бормотал умирающий. — Я найду его там и приведу на суд к престолу Божию, яко ворога и погубителя матери нашей Украины... И онаго старца словенина Крижанича Юрия обрету у Господа, за народы словенские молящася... А теперь прощай, жинко, прощай, Охриме... Я отхожу з Украины...
Он сильно в последний раз дохнул и потушил восковую свечку, теплившуюся в его холодеющих руках... Потухла и его свечка жизни.
И Мотрёнька умерла на своей милой Украйне, в Диканьке. Ей удалось поцеловать те места, где ступали когда-то старые ноги проклятого, но ей дорогого человека...
В Полтаве и до сих пор показывают могилу Мотрёньки.
Фаддей Венедиктович БУЛГАРИН МАЗЕПА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Возьмём же истины зерцало,
Посмотрим в нём твоих лучей!
Ехиднино раскроем жало,
Сокрытое в груди твоей.
Исследуем твои деянья,
Все виды, козни и желанья, —
И обнажи тебя всего.
Державин.ПРЕДИСЛОВИЕ
Мнения насчёт романов различны. Многие любители чтения и даже некоторые литераторы, особенно у нас, в России, требуют от романа одной занимательности происшествии и думают, что сей род словесности должен служить только для забавы. Неоспоримо, что занимательность в романе вещь необходимая, но дело в том, что она должна быть только путеводительницей к главной цели, а цель сия не должна быть одною забавою праздности. Роман должен служить автору средством или к развитию какой-либо философической идеи, или к освещению тайников сердца человеческого, или к пояснению характера исторического лица. Так понимают роман отличнейшие современные писатели Англии и Франции, а потому даже мужи учёные, философы и политики не пренебрегают ныне сим родом словесности и не стыдятся писать и читать романы. Этого прежде не бывало.
Весьма далёк я от того, чтоб иметь притязания на сравнение себя с уважаемыми мною романистами Франции и Англии, однако же придерживаюсь их мнения насчёт цели романа, состоящей в том, чтоб по древнему правилу поучать забавляя. Действовал я и буду действовать единственно в сём убеждении и утешаюсь мыслию, что есть люди, которые поняли чистоту моих намерений.
В романе я предпринял представить очерки характера Мазепы, так как я понял его по истории и по преданиям. Мазепа был один из умнейших и учёнейших вельмож своего века, и, чтобы быть великим мужем, ему недоставало только — добродетели! Без неё не сделали его счастливым ум, учёность, почести, богатство и власть.
Вот тема моего романа!
В нынешнее время в Малороссии и в Украине просвещение разлито в большей массе, нежели было до преобразования России, но тогда просвещение было виднее, ибо сосредоточивалось в малом числе избранных и составляло редкую противоположность с дикостью Запорожья и Заднеприя, где всё достоинство человека поставлялось в удальстве и наездничестве. Палей избран мною в представители сего удальства, и характер его очерчен также сообразно с историею и преданиями.
Все прочие лица, входящие эпизодически и роман, носят на себе отпечаток тогдашнего века: образованность ума с дикостью нравов.
Изображение характера Петра Великого и Карла XII не входило в план моего романа. Я коснулся их только мимоходом.
Лорд Байрон и А. С. Пушкин воспользовались лучшими эпизодами из жизни Мазепы: романтическою любовью его в юности и в старости, с занимательными и ужасными последствиями сей необузданной страсти. Я почёл благоразумным не входить в совместничество с столь отличными дарованиями и не коснулся того, что уже изображено английским и русским поэтами. Я ограничился политическим характером Мазепы, представив его, если смею так выразиться, в рамах частной его жизни. Для завязки романа я ввёл вымышленные лица.
Исторические события, рассказываемые от имени автора, верны; но в происшествиях не соблюдено в точности хронологического порядка, ибо цель романа, как выше сказано, есть изображение характера Мазепы, а не история Малороссии.
ГЛАВА I
Се глыба грязи позлащённой!
И вы, без благости душевной,
Нe все ль, вельможи, таковы?
Державин.Южная Россия, ныне тихая, населённая, процветающая, была подвержена беспрерывным волнениям и смутам, от пришествия варягов до основания империи Петром Великим. Междоусобные брани удельных князей, набеги татар, продолжительная и кровавая борьба с храбрыми единоплеменными соседями и народные смятения истощили богатую от природы страну, остановили ход просвещения и, утомив воинственных жителей, сделали их, наконец, беспечными к собственной участи. Вельможи, составлявшие всю силу аристократической Польской республики, воспользовались благоприятными обстоятельствами и, покорив лучшие области Южной России, обременили народ тяжким игом рабства. Но бедствия, угнетавшие страну, не истребили в храбрых её жителях духа народности, основанного на православной вере, и священная память русской независимости сохранялась в народе, подобно неугасимому огню древних язычников. Со времени первого нашествия татар на Южную Россию толпы отважных её защитников, будучи не в силах спасти отечество и влекомые любовью к независимости и чувством народной самобытности, удалились в пустыни и на диких берегах Днепра, возле порогов, в густых камышах и неприступных засеках, основали беспримерную дотоль в мире подвижную военную республику, получившую впоследствии название Сечи Запорожской. В течение нескольких столетий Сечь держалась и укреплялась новыми пришельцами из порабощённой родины и удальцы из соседних и дальних стран сохраняли древние воинские обычаи предков. Презирая негу, живя добычею и почитая дикую независимость превыше жизни и всех её наслаждений, запорожцы исключили женщин из воинского своего пристанища как лишнее бремя для человека, посвятившего себя в вечную войну. Вольное Запорожье не признавало ничьей власти и ничьих прав в порабощённом отечестве и жестоко отмщало потомкам Орд Батыевых и соотчинам польских вельмож за прошлые и настоящие бедствия Южной России, питая в жителях её надежду к освобождению и поддерживая в народе воинственный дух. Надежда сия исполнилась, ибо основана была на справедливости. Созрели горькие плоды угнетения: ненависть и жажда мести, и мужественный, предприимчивый Зиновий Хмельницкий, восстав с горстью запорожцев против притеснителей, воззвал к оружию весь народ Малороссии и Украины, свергнув польское иго, и возвратил России древнее её достояние. Облечённый в звание гетмана, или предводителя освобождённого народа, Хмельницкий, признавая власть русского царя, управляя Малороссиею и Украиною, как независимый владелец, на основании дарованных им прав и пребыл верен России. Но последовавшие за ним гетманы, избираемые вольными голосами, мучимые честолюбием, алчностью к богатству и подстрекаемые поляками, татарами, турками и волошскими господарями, завидовавшими возникающему могуществу России, беспрестанно нарушали долг присяги и подданства, изменяли русским царям, возмущали народ, губя собственную родину и уязвляя общее отечество, Россию. Не имея постоянного, устроенного войска, Россия не могла держать в пределах законного повиновения вооружённый народ Малороссии и Украины. В опасностях и нуждах государства русские цари, наученные опытами, не смели полагаться на верность и помощь гетманов малороссийского народа, приученного к буйству и своеволию собственными старшинами. Политика тогдашнего российского двора требовала употреблять все возможные средства, чтобы иметь в гетмане человека верного и преданного престолу, и когда царевна Софья Алексеевна объявила себя правительницею государства, тогда любимец и первый её советник, ближний боярин, государственных великих и посольских дел сберегатель, князь Василий Васильевич Голицын, отправился в Малороссию для избрания гетмана, преданного пользам царевны. По доносу генерального есаула Мазепы, гетман Самойлович, верный царям и чести, низложен и сослан в Сибирь, а на его место избран, происками Голицына, сам доносчик. Вознаграждая неблагодарность и гнусную измену, вопреки нравственности, князь Голицын посеял семена, которые принесли свои ядовитые плоды.
Генеральный есаул войска малороссийского, Иван Степанович Мазепа, славился умом, познаниями в науках, искусством и ловкостью в делах письменных и государственных. Он употребляем был гетманами Дорошенком и Самойловичем при труднейших переговорах с русским двором, в сношениях с Польшею и с Крымом и заслугами достиг до почётного звания генерального старшины. Но при всём уме своём и ловкости он не имел в войске друзей, которые приобретаются сердцем, а не головою, и без влияния князя Голицына никогда бы не был избран в гетманы. В сём звании он вёл себя весьма осторожно: во время насильственных потрясений, бывших в Москве, до принятия Петром Великим единодержавной власти, Мазепа держался всегда первенствующей стороны и повиновался одной силе. Будучи избран в гетманы противу воли и желания старшин и заслуженных родов в войске. Мазепа имел нужду в подпоре и потому искал покровителей при дворе Московском, Угодливостью и покорностью он снискал дружбу многих русских вельмож, приближённых к престолу, а верною и усердною службою приобрёл милость самого государя.
В самую трудную и самую блистательную эпоху бытия России, во время её перерождения, великий её преобразователь имел нужду в верных и умных исполнителях своих исполнительских предначертаний. По неотъемлемой принадлежности гения Пётр умел находить их во всех сословиях народа, и сей гений, открывший чрез грубую оболочку невежества необыкновенный ум в юном Меншикове, не мог не оценить но достоинству изощрённого науками и опытностью разума Мазепы. Государь, пользуясь советами и содействием гетмана в великих своих подвигах, наградил его первыми государственными почестями и почтил полною доверенностью, которую Мазепа оправдывал двадцатилетнею верною службой.
Пётр Великий созидал среди пожара и разрушений. Когда великое дело преобразования России уже начинало процветать, вся Северная Европа объята была пламенем войны. Петру невозможно было утвердить величие России на прочном основании без возвращения отторгнутых Швецией приморских областей и без ослабления беспокойного соседа, Польши. Но сей подвиг, казавшийся сначала лёгким, порождал, по мере исполнения, непреодолимые трудности, Швеция произвела героя, равного Петру по воинской доблести и твёрдости душевной, который, повелевая народом мужественным, решился или погибнуть, или погубить соперника своего. С переменным счастием, хотя с существенными выгодами для России, война продолжалась и на суше, и на водах, пока, наконец, Карл XII, устрашив Данию, опустошил Саксонию и, обессилев Польшу посеянием в ней междоусобия, вознамерился вторгнуться в сердце России, лишённой всех своих союзников, свергнуть с престола Петра, так же как свергнул Августа в Польше, и разрушить до основания все великие начинания, долженствовавшие, по созрении своём, вознести Россию на нынешнюю степень могущества. Приближалась решительная минута! Карл XII надеялся найти в России недовольных правлением Петра и не стыдился смущать подданных своего соперника льстивыми, хотя лживыми обещаниями. Пётр Великий готовился с твёрдостью встретить врага в пределах своих и, зная народный русский характер, не опасался обманчивых наущений иноплеменника, Только Малороссия и Украина, ещё не сросшиеся с Россией и напитанные буйством прежних своих владетелей, несколько беспокоили государя; но там управлял Мазепа, и государь, надеясь на испытанную его верность и на необыкновенную проницательность его ума, отдалял от себя все сомнения насчёт того края и был совершенно спокоен. Мудрейшие государи могут только постигать ум и судить дела человека: сердце остаётся тайною до тех пор, пока участь сильного не будет зависеть от воли слабого. Только в несчастий познаётся верный друг и бескорыстный слуга. Пётр Великий не знал сердца Мазепы: оно открылось в опасности, угрожавшей государю.
Ни один гетман не управлял войском малороссийским столь самовластно и вместе столь блистательно, как Мазепа, Его воля была законом для народа, а дарованные народу права — орудием к утверждению гетманской воли. Имея власть делать добро и зло, Мазепа приобрёл приверженцев, которые находили свои выгоды в оказывании ему беспредельной преданности; но не имел искренних друзей, кроме племянника своего, Войнаровского, и питомца, Орлика, нераздельно связанных судьбою с участью гетмана. Старшины войсковые ненавидели его; но не смели обнаруживать своих чувствований. Примерная казнь доносчиков на гетмана и угнетение недовольных его правлением заставляли молчать всех его противников, а пешие полки гетманской стражи, называемые сердюками, набранные из вольницы, пользуясь преимуществами и наградами, устрашали народ и содержали его в повиновении. Мазепа жил с невиданною дотоле пышностью, в новом своём дворце, построенном в Батурине по образцу палат знатных польских вельмож. Здесь он угощал роскошно царских посланцев, генеральных старшин[3] и полковников войска малороссийского, раболепствовавших пред властью гетмана. Но лаская и награждая старшин, оказывающих ему преданность, Мазепа устранил их от совещания в делах, го древнему обычаю, и сам сносился с государем и его вельможами, повелевая войском от своего имени. В Малороссии и русской Украине никто не смел рассуждать о пользе или вреде гетмановых распоряжений. Честь, имущество и свобода каждого жителя Малороссии зависели от воли гетмана, поправшего дарованные народу права.
В то время, с которого начинается сие повествование, несколько малороссийских полков находились на службе при войске русском, действовавшем в Ливонии, в Польше и в северных областях России, противу шведов и поляков, принявших сторону новоизбранного короля Станислава Лещинского. Остальным полкам отдан был приказ приготовляться к походу. Многие полковники и генеральные старшины, прибывшие в Батурин для личных объяснений с гетманом, уже две недели ожидали позволения представиться ему. Мазепа сказывался больным и никого не допускал к себе, кроме Войнаровского и Орлика, через которых передавал старшинам свои приказания. Враги и приверженцы Мазепы с равным нетерпением, хотя и с противоположными чувствованиями, ожидали прибытия врача, за которым послали нарочного в польскую Украину. Наконец, врач прибыл в Батурин и остановился во дворце гетманском.
После пробития вечерней зари на литаврах, перед дворцом гетмана, Мазепа отпустил на покой всех слуг своих и остался в почивальне своей с племянником своим, Войнаровским. В ближайшей зале стоял у дверей, на страже, неотступный слуга гетмана, немой татарин. Сей татарин был в детстве полонён запорожцами, и свирепый Дорошенко, умертвив его родителей, отрезал язык безмолвному ребёнку, чтоб иметь впоследствии скромного слугу; но, будучи недоволен мальчиком за его угрюмость и упрямство, подарил другу своему, Мазепе. Ненависть к христианам, особенно к казакам, возрастала с летами в мстительной душе татарина за причинённое ему увечье и смерть родных, но он скрывал свои чувствования и, оказывая преданность своему господину, как злой дух, питался только чужими бедствиями и страданиями. Один Мазепа понимал условные знаки татарина, и как в войске и в доме почитали его глухим, то гетман употреблял его для подслушивания чужих замыслов, которые долженствовали оставаться навсегда в тайне. Татарин, стоя на страже, трепетал от радости в уверенности, что ночная беседа гетмана породит для кого-нибудь бедствие, и, как вран, ожидал добычи.
Мазепа сидел в задумчивости перед столом, на котором развёрнуты были карты Польши, России и Украины. Он был в турецком халате и в больших бархатных сапогах. Голова его покрыта была небольшою красною скуфьёю, или феской. Хотя ему было уже за шестьдесят лет, но он имел вид бодрый. Блестящие, быстрые глаза оживляли бледное лицо его. Он то покручивал длинные седые свои усы, то посматривал на своего племянника, который стоял безмолвно возле стола, опершись на саблю, и ожидал с нетерпением окончания прерванного разговора. Наконец, Мазепа сказал:
— Любезный племянник! Я воспитал тебя как царевича и имел попечение о тебе, как о родном сыне. Ты последняя отрасль моего рода и единственная моя надежда. Досель я употреблял тебя в одних воинских делах, но теперь укажу тебе поприще, на котором тебе нужны будут и доблесть воина, и проницательность государственного человека. Я открою тебе тайну, от которой зависит моя жизнь, честь и благо целой Малороссии. Слушай со вниманием! До сих пор ты не посвящён был в таинства моей политики и не знал положения наших дел. Но клянись мне, что ты ни словом, ни делом, ни помышлением не нарушишь верности ко мне!
— Можете ли вы сомневаться, мой отец, мой благодетель? Клянусь Богом и всеми святыми, что ни смерть, ни мучения не заставят изменить вам!
— Итак, слушай! На старости лет мне предстоит совершение подвига, на который напрасно покушались мои предшественники, после храброго, но недальновидного Зиновия Хмельницкого. Я решился отложиться от России, основать независимое государство, укрепить его союзами с соседними владителями, враждебными России и тобой продлить род мой, на сооружённом мною престоле. Теперь или никогда!..
Трепет пробежал по всем жилам молодого человека, и вся кровь в нём взволновалась. Предстоящие опасности, слава и величие воспламенили в одно мгновение, как порох, пылкий ум и честолюбивую душу племянника Мазепы. Войнаровский встряхнул саблю, на которую упирался, ударил ею в пол и воскликнул:
— Независимость или смерть... Теперь, сей час!..
— Да, теперь или никогда! — сказал с жаром Мазепа и, помолчав, продолжал: — Если Пётр останется победителем в сей войне, то он вознесёт Россию на высочайшую ступень могущества, и тогда Малороссия исчезнет как песчинка в степи. Если б я был на месте Петра, я также не согласился бы, ни за какие выгоды, иметь в своих владениях отдельную военную полуреспублику, которая гораздо более может вредить государству, нежели приносить пользы. Уже Пётр намекал мне об этом, и когда я, в качестве гетмана Малороссийского, стал горячо возражать, — он затворил мне уста пощёчиной! Пощёчина эта врезалась у меня в ум и, как неизлечимая язва, осталась на сердце. Я отомщу, отомщу не как оскорблённый раб, а как разгневанный владелец: буду воевать с русским царём и не допущу, чтоб та рука, которая поднялась на гетмана Малороссии, сломила мою гетманскую булаву и разодрала нашу войсковую хоругвь! Герой Севера, Карл, предлагает мне союз. Король польский, Станислав Лещинский, обещает уступить области, на которые Польша предъявляет права свои. Хан крымский ждёт только моего согласия, чтоб соединиться со мною. Султан турецкий и волошский господарь дают деньги, и я едва ли буду не сильнее Петра, истощённого войною, постройкой флота и городов! Духовенство предано мне совершенно, страшась потерять свои вотчины, а народ Малороссийский, послушный моей воле, с радостью возьмётся за оружие, когда я объявлю ему, что восстаю за его права. Правда, между полковниками и генеральными старшинами у меня есть враги, но я от них скоро отделаюсь. Одна трудность в том, что не вся Украина в моей власти. Кошевого атамана Сечи Запорожской, Гордеенку, я надеюсь склонить на свою сторону. Гетман Польской Украйны, Самусь, при всей храбрости своей, человек простой, недальновидный и легко может быть увлечён моими советами. Страшен мне один Палей! Это старая лисица в волчьей шкуре! В течение двадцати лет я не могу с ним управиться! Прежде он служил полякам, теперь враждует с ними и, признавая над собою власть русского царя, нося звание полковника Хвастовского, отложился от меня, завладел целым Заднепровьем Польским и сидит царьком в Белой Церкви, набирая подати с пограничных жителей и разоряя Польшу. Ни обвинения мои, ни жалобы не имеют никакого действия при дворе Московском, и царь велел мне сказать, что если я хочу предать суду Палея, то должен представить его вместе с обвинительными актами. Вот в чём всё моё горе! Пока Палей жив и свободен, я не могу ничего начать. Он имеет сношения с моими врагами, слывёт богатырём в войске, и если б я восстал противу царя московского, то он мог бы произвесть замешательство даже в моих полках и переманить большую часть к себе. У меня воинский порядок, а у него дикая вольность; у меня для казака труд и тяжкая служба, а у него праздность и грабёж. Хитрый Палей не дремлет и беспрестанно наблюдает за мною. Верно, он догадывается о тайных связях моих с Польшею, что прислал сюда двух своих посланцев будто бы с предложением мира и покорности, а в самом деле для шпионства. Но он меня не обманет: я знаю обоих его молодцов! Огневик хотя молод, но хитёр и смышлён. Он воспитан у иезуитов и служит вместо секретаря при Палее. Иванчук был писарем при Дорошенке. Этот старик, при всей дикости своей, ловок в делах и искусен во всех пронырствах. Они здесь ничего не узнают, но и я от них ничего не выпытаю, а потому не хочу даже видеть их и тебе, племянник, запрещаю видеться с ними. Пусть Орлик ведёт с ними переговоры, пока я велю их выслать восвояси. Дело с Палеем я поручу иезуиту Заленскому, посланцу короля Станислава, и надеюсь, что иезуитская хитрость переможёт запорожское пронырство. Но теперь нам надобно начать с того, чтоб посеять неудовольствие в войске нашем, приготовить всё к наступающему пожару, и как я никому не верю и ни на кого не смею положиться, то избрал тебя, чтоб бросить первую искру...
— Дядюшка! Я готов на всё! Приказывайте! За вас готов пролить последнюю каплю крови!..
— Нет, любезный племянник! Пусть проливает за нас кровь наш народ, а мы должны щадить кровь свою и действовать умом. Первая добродетель, в твоём положении, должна быть — скромность, а первое искусство в нашем деле... как бы это назвать!.. благоразумие, то есть уменье казаться тем, чем надобно быть для успеха предприятия, именно то, что простодушные люди называют притворством.
— Дядюшка! — возразил молодой человек, посмотрев на Мазепу с удивлением. — Я не учился притворству и не могу вдруг сделаться искусным в этом ремесле!
— Учись, а если не хочешь, так откажись от желания управлять людьми и достигнуть первой степени могущества. Мне, в моём звании, невозможно сближаться с моими подчинёнными; но ты можешь и должен искать друзей и приверженцев, а в этом иначе нельзя успеть...
Молодой человек не мог вытерпеть и снова прервал слова дяди, сказав:
— Но друзей приобретают откровенностью, простосердечием, а не притворством!..
— А кто же тебе запрещает казаться откровенным и простосердечным? Но быть и казаться большая разница! Искренностью, при великом предприятии, ты предаёшь себя во власть того, с кем ты откровенен, а только казавшись искренним, овладеешь человеком по мере возбуждения в нём, истинной к тебе доверенности. Не открывай никому своих намерений, но умей вперить в каждого свой образ мыслей, заставь открыться себе и кажись убеждённым чужими доводами. Люди тогда только усердно служат и помогают другому, когда убеждены, что действуют своим умом, ибо тогда они уверены, что действуют для собственной пользы. Я открыл тебе все мои надежды, потому что ты — другой я, и что я только насаждаю древо, с которого ты, с твоим потомством, соберёшь плоды. Но до тех пор, пока я не прикажу ударить на московские полки, никто в войске моём не должен даже догадываться о моём намерении, — никто, понимаешь ли?
— Как никто! Неужели и Орлик, и Чечел, и Кенигсек? — спросил с изумлением Войнаровский. — Эти люди преданы вам душевно, дядюшка!
— Преданы! Но зачем мне без нужды испытывать их верность? Помни слова молитвы: «...и не введи нас во искушение»! Человек слабое творение, любезный племянник. Им должно действовать как орудием, взяв крепко в руки, но не должно опираться на него, из опасения, чтоб не сломался. Большая часть людей привержена к власти, а не к человеку, имеющему власть, и если верность моих приверженцев положить на весы между мною и царём московским, то, быть может, весы поколеблются и перетянут на царскую сторону! На великий, решительный и опасный подвиг людей надобно вызывать в последнюю минуту, перед начатием дела, чтоб не имели времени рассуждать и совещаться, а до тех пор должно только ласкать их и привязывать к себе. Пуля оттого бьёт крепко, что вылетает из ружья быстро, а кто заряжает его осторожно, тот более уверен в успехе. Ты должен начать с распространения слухов, будто царь объявил решительно, что по окончании войны он намерен переселить казаков к новому городу, Петербургу, и уничтожить казатчину. Но не говори, что ты сам слышал это, а только спрашивай, правда ли, будто об этом поговаривают в войске. Стоит только породить мысль и бросить её в народ, а она сама распространится, если вымышленное дело опасно для всех и предосудительно для власти. Люди так созданы, что скорее верят злому, нежели доброму...
— Позвольте заметить вам, дядюшка, что если вы почитаете Палея столь опасным для себя, то не лучше ля начать с того, чтобы распространить в войске какие-нибудь вредные вести на его счёт?
— Сохрани тебя от того Бог! — возразил Мазепа. — Помни слова философа Сенеки: Professa produnt odia vindictae Jocum[4]. Все знают, что Палей враг мой; каждое двусмысленное твоё слово об нём будет сочтено злым намерением противу него и, вместо вреда, принесёт ему пользу. Напротив того, ты должен восхвалять Палея, превозносить его, сожалеть о неприязни его ко мне и обнаруживать желание о нашем примирении. Этим ты усыпишь друзей его, а порицанием ты только разбудишь их. Что же касается царя, то все знают, что он ко мне милостив, что я предан ему и служу верно, и нас не станут подозревать в выдумке злых вестей противу него. Надобно так устроить, чтоб войско, веря в угрожающее ему бедствие, думало, что я также согласен с царём на переселение казаков и уничтожение войска. Пусть меня подозревают в измене войску, пусть бранят, проклинают, и тогда-то, узнав, наконец, что я восстаю для защиты народа, жертвуя милостию царскою, все с восторгом пристанут ко мне, не подозревая, что умысел составлен мною и для нас... Понимаешь ли теперь дело, племянник?
— Я удивляюсь вашей мудрости, дядюшка! Но, признаюсь, мне было бы приятнее, если бы вы поручили мне такое дело, которое надлежало бы начать и кончить саблею. Я новичок в политике и опасаюсь, чтобы не оступиться на этой скользкой стезе...
— Держись за меня, племянник, и не зевай, а всё будет хорошо. Сабля, племянник, — ultima ratio, но и сабля сокрушается умом. Медведь сильнее человека, а человек заставляет его плясать под палкой. Теперь позови патера Заленского. Надобно отпустить его. Пребывание его здесь может возбудить подозрение, если посланец Палея, Огневик, узнает его. Иезуит требует от меня решительного ответа на предложение королей приступить к их союзу. Надобно отделаться от него так, чтоб он не знал ничего решительного.
— Но вы уже решились, дядюшка?
— Решился, но этого не должны знать те, которым нужна моя решительность! Не так я глуп, чтоб, полагаясь на одни обещания, вверил участь свою людям, которым я нужен только как орудие к их собственным пользам. Короли могут завтра примириться с царём и, в залог своей искренности, предать меня. Нет, они не проведут меня. Я сам извещу царя о делаемых мне предложениях королями и тем самым обеспечу себя на всякий случай. Королям же буду обещать всё и исполню, когда это не будет сопряжено с опасностью измены с их стороны. Надобно забавлять их до поры до времени, а когда настанет решительная минута, тогда положение дел покажет нам путь, на который должно устремиться. Ступай же за иезуитом!
Войнаровский вышел, не говоря ни слова, чтоб позвать иезуита, а Мазепа, покачав головою, сказал про себя: «Молодость! Молодость! Пусть он верит в наследство!.. Оно, в самом деле, может достаться ему, если я останусь бездетным. Но за это ещё нельзя поручиться!..» В ожидании иезуита Мазепа стал снова пересматривать карту Польши, на которой означены были предполагаемый путь и становище шведского войска из Саксонии в Украину.
Дверь отворилась, и за Войнаровским вошёл пожилой человек низкого роста, бледный, сухощавый. Он сбросил с себя синий плащ, прикрывавший иезуитский наряд, поклонился низко гетману и сказал обыкновенное приветствие католических священников: «Laudatur Jesus christus!»
— In secula seculorum amen! — отвечал Мазепа и, указав рукою на стул, примолвил: — Присядь, старый приятель, патер Заленский, и поговорим о деле. — Патер снова поклонился и сел, а Мазепа продолжал: — Перед племянником у меня нет ничего скрытого, и я не стану говорить с тобою без обиняков, по врождённой мне откровенности и моей казацкой простоте. Начну с повторения сказанного уже мною тебе, патер Заленский, что пока вы не избавите меня от Палея, до тех пор у меня руки будут связаны. Я человек добродушный, не питаю к нему ненависти, а напротив того, много уважаю его. Но он вреден для нашего общего дела, и если вы искренно желаете освободить Украину от русского владычества, то должны начать со старого Палея, на которого оно опирается в здешнем крае. Притом же Палей жесточайший враг поляков и без разбору опустошает владения приверженцев обоих королей в Польше. За это самое он уже достоин казни! Я не постигаю, почему русский царь до сих пор терпит хищничество этого разбойника и не слушает ничьих жалоб на него! Вероятно, Палей оклеветал меня перед царём и царь, сберегая Палея и позволяя ему владеть независимо от меня Хвастовским полком и отнятыми у польских панов землями, хочет держать в узде меня, с моими полками, надеясь на неусыпность Палеевой вражды. Когда же не станет Палея — я буду один властелин в Малороссии и Украине и тогда... тогда могу безопасно совещаться о союзе с королями!
— По я не предвижу, какими средствами гложем мы избавиться от Палея... — сказал иезуит, потупя взор. — У нас нет войска в этой стороне, а атаман Заднепровских казаков в дружбе с ним и следует его советам...
— Полно, полно! — возразил Мазепа. — Ведь мы учились с тобой в одной школе, патер Заленский! Помнишь ли, как нам повторяли, что, где нельзя быть львом, там должно сделаться лисицей. В Украине много тайных католиков и учеников ваших, патер Заленский, а на что не решится католик с разрешения духовного отца и с уверенностью, что он действует для блага церкви! Иезуитский Орден уже не раз делал чудеса и доказал, что чашке шоколаду или рюмке вина он может дать силу нули и кинжала. Патер Заленский, пожалуйста, будем откровенны между собою. Я человек простой, не хитрый, и у меня, как говорится, сердце на ладони. Вот, например, первый любимец Палея, Огневик, который теперь в Батурине, твой ученик и друг. Здесь было бы опасно для пас, если бы он увидел тебя и узнал, что ты приехал сюда под именем врача; но когда б ты встретился с ним в другом месте и растолковал ему, какая польза была бы для него, если б старик Палей отправился ad patres, какие награды получил бы он от королей?
— Нет, ясневельможный гетман, об этом и думать напрасно, — отвечал иезуит. — Огневик обязан Палею жизнью и воспитанием и ни за что не изменит своему благодетелю. Я хорошо знаю этого молодого запорожца. Науки образовали ум его, но нисколько не укротили в нём дикости запорожской, не обуздали пылкого нрава и не изгладили того простосердечия, которым отличаются они в самой своей свирепости. С Огневиком нельзя делать попыток в подобных делах. Он хладнокровно готов перерезать половину рода человеческого, если б это надобно было для безопасности разбойничьего притона его благодетеля, но за все земные блага не сделает того, что почитается злом в их шайке. Огневик умён и просвещён за пером и за книгою, но при сабле он тот же хищный зверь, что и все запорожцы. С ним страшно переговариваться!..
— Так приищи другого... Нельзя ли употребить женщин? Это стрелки и наездники иезуитского воинства, патер Заленский! — сказал с улыбкою Мазепа.
— Дело это надобно обдумать, и я обещаюсь вам, ясневельможный гетман, предложить его на общее совещание в нашем коллегиуме. Но прежде надобно решить важнейшее. Благоволите подписать договор, ясневельможный гетман, которого ждут с нетерпением их величества!
— Подписать! — сказал с улыбкой Мазепа, — Я не думал чтоб, при твоём благоразумии, ты был так тороплив, патер Заленский. Царь Пётр, купивший мудрость опытностью, повелел присягать своим воинам, чтобы они во всём поступали: «как храброму и неторопливому солдату надлежит». Scripta manent, verba volant, патер Заленский! Ты человек умный, итак, скажи же мне, на что бы пригодилось королям условие, подписанное мною, если б его величество король шведский отложил намерение своё вторгнуться в Россию чрез Украину и заключил мирный договор с царём, а вследствие того, если бы моё содействие было ненужным его величеству, и с моей стороны даже невозможным?
— Тогда бы их величества возвратили вам, ясновельможный гетман, подписанный вами трактат, в такой же тайне, как и получили, — отвечал иезуит.
— Итак, для избежания затруднений при сбережении тайны, пусть же этот трактат останется неподписанным до тех пор, пока гласность его не будет ни для кого опасною. Я даю тебе моё гетманское слово исполнить все условия, изъяснённые в трактате, как только король шведский вступит с войском в Украйну и когда вашим содействием я, до того времени, избавлюсь от Палея, который своим влиянием мог бы помешать мне. Слово моё прошу передать их величествам. Одиннадцатая заповедь моей веры: Verbum nobile debet esse stabile.
— Но всё, что вы изволите говорить, ясневельможный гетман, не согласно с данным мне наставлением при отпуске к вам, — возразил иезуит, — и не удовлетворит...
— Как угодно, патер Заленский, — сказал Мазепа, прервав слова иезуита, — я человек простой, не хитрый и говорю откровенно, по-казацки, что думаю. Я буду верный слуга их величествам, но не прежде, как могу свободно действовать. Это моё последнее слово!
— Этот ответ не утешит княгини, — примолвил иезуит, — она особенно поручила мне сказать вам...
— Об этом после, патер Заленский! — возразил быстро Мазепа и, оборотясь к Войнаровскому, который во время этого разговора стоял почти неподвижно возле стола и слушал со вниманием, сказал: — Поди, любезный племянник, и узнай, готовы ли лошади и провожатые для почтенного моего врача. Да останься в канцелярии, пока я позову тебя, когда будет нужно.
Войнаровский приметно смутился, когда иезуит сказал о княгине. Не говоря ни слова, он вышел из почивальни и медленными шагами, в задумчивости, удалился из комнат гетманских.
— Хотя я и сказал тебе, патер Заленский, что перед племянником я не имею тайн, но ты должен был догадываться, что сердечные дела исключаются из общего разряда. Напрасно ты намекнул при нём о княгине!
— Прошу извинить меня, ясневельможный гетман, но мне мало остаётся времени для переговоров с вами, и притом же я так был занят моим предметом, что совсем забылся...
— Ну, что ж говорит прелестная княгиня Дульская? — спросил Мазепа, устремив пристальный взгляд на иезуита.
— Она приказала мне сказать вам, ясневельможный гетман, что с тех пор, как вы приобрели любовь её и получили согласие на вступление в брак, княгиня находится в весьма затруднительном для неё положении и не знает, как из него выпутаться. Родственник её, король Станислав, не зная о ваших связях с нею, принуждает её решиться на выбор мужа из числа знатнейших вельмож польских, старающихся получить её руку. При нынешних междоусобицах в Польше это послужило бы к поддержанию королевской стороны. Другие родственники княгини, которых участь соединена с торжеством короля, также просят её неотступно об этом. Будучи душевно к вам привязана, она решилась бы оставить все свои надежды в Польше и приехать к вам, если б не опасалась, что брак с родственницей друга Карла XII повредит вам в мнении царя московского. Итак, она просит вас покорнейше утвердить подписью договор с королями; тогда она объявит королю Станиславу, что она ваша невеста, и освободится от утруждающих её убеждений, близких к принуждению. Но пока она не уверена, что вы союзник её родственника, княгиня боится открыть ему о своих связях с вами, чтоб не подвергнуться подозрению, ибо весьма многие почитают вас искренним другом царя Петра.
Мазепа задумался.
— Вспомни, патер Заленский, историю Самсона с Далилою! — сказал он, улыбаясь. — Сила моя также вмещается в тайне, и если тайна сия выльется на бумагу до времени, то я попаду во власть филистимлян! Но для успокоения княгини я напишу к ней письмо!
Вдруг вдали послышался шум, и татарин опрометью вбежал в комнату. Он истолковал Мазепе, знаками, что внизу, в сенях, где находилась стража сердюков, произошло замешательство. Гетман забыл о своей болезни, вскочил с кресел, схватил пистолеты со стены, подпоясался кушаком, положил их за пазуху и вышел поспешно из почивальни, опираясь на плечо татарина. Иезуит, трепеща от страха, спрятался под кровать. Когда Мазепа прошёл чрез залу и приближался к передней, он услышал звук оружия и яростные вопли сердюков. Отворив двери на лестнице, гетман встретил Войнаровского, который бежал к нему вверх. Они остановились, чтоб объясниться.
ГЛАВА II
Извлёк он саблю смертоносну:
— Дай лучше смерть, чем жизнь поносну
Влачить мне в плене! — он сказал.
И. И. Дмитриев.— Что это значит? — спросил Мазепа.
Войнаровский отвечал:
— Орлик, проходя по коридору нижнего жилья, увидел при слабом свете фонаря человека, который притаился за столбом. Когда Орлик подошёл к нему, он бросился на него, свалил с ног Орлика и стремглав побежал по задней лестнице, ведущей в сад. По счастью, дверь на том крыльце была заперта и стража успела окружить дерзкого. Вообразите наше удивление, когда в этом ночном посетителе мы узнали Огневика, посланца Палеева!..
— Огневик!.. Посланец Палея!.. В моём доме... ночью!.. — вскричал Мазепа. — Измена!.. Коварство!.. Он, верно, хотел убить меня…
— Так и мы думаем, — примолвил Войнаровский, — и потому велели схватить его живого, чтоб расспросить. Но ом не сдаётся, невзирая ни на угрозы, ни на увещания, и уже переранил нескольких сердюков.
— Вы очень умно поступили, что не велели убить его на месте, хотя он и заслужил это, — сказал Мазепа. — По постой, я поймаю этого зверя тенётами!
Опершись одною рукой на Войнаровского, а другою на татарина, Мазепа сошёл с лестницы в большие сени. В углу, у печи, стоял молодой человек исполинского роста, в коротком кунтуше, в широких шароварах и в низкой бараньей шапке. Он махал саблей, отклоняя удары, которые старались ему навести сторожевые сердюки. Один из сердюков, увидев Мазепу, закричал:
— Ясневельможный пане гетман! Позволь пустить пулю в лоб этому головорезу! Он уже умылся нашею кровью, и мы только напрасно бьёмся с ним!..
— Никто ни с места! — сказал Мазепа повелительным голосом. — Кто смеет обижать в моём доме дорогого гостя и посланца моего приятеля, полковника Хвастовского полка? Прочь все, отступите от него! А тебя, пан есаул Огневик, прошу извинить, что люди мои тебя обеспокоили.
Бой прекратился. Сердюки с ропотом отступили, и Огневик в замешательстве не знал, что делать. Он не промолвил ни слова и с удивлением смотрел на Мазепу, который приближался к нему медленно, прихрамывая. Но подойдя к Огневику на три шага, Мазепа вынул из-за пазухи пистолеты и отдал их татарину, дал знак, чтоб он отнёс их назад, в почивальню. Потом, оборотись к сердюкам, стоявшим в некотором отдалении, сказал:
— Сабли в ножны, ружья но местам!
— Ты видишь, — сказал Мазепа Огневику, — что я не намерен поступать с тобой неприятельски. Вот ты стоишь вооружённый противу меня, безоружного, и я вовсе не подозреваю в тебе злого умысла. Ты гость мой; поди со мною в мои комнаты, и мы объяснимся с тобой дружески. Притом же ты окровавлен и, кажется, ранен. Если б я желал тебе зла, то ты видишь, что, по одному моему слову, ты лежал бы трупом на месте. Но я, напротив того, желаю тебе всякого добра и рад случаю показать полковнику Палею моё к нему уважение и дружбу ласкою и снисхождением к его посланцу. Пойдём со мной, пан есаул!
Огневик, казалось, колебался; наконец он вложил окровавленную саблю в ножны, снял шапку и, поклонясь гетману, сказал:
— Я противустоял насилию, но покоряюсь беспрекословно ласковому приказанию и готов исполнить всё, что вы прикажете, ясневельможный гетман!
Мазепа подошёл к Огневику и, потрепав его по плечу, примолвил:
— Я люблю таких молодцев! Пойдём-ка ко мне и переговорим спокойно и по-приятельски, а там ты пойдёшь себе, с Богом, куда захочешь.
Мазепа, опираясь на Войнаровского и на Орлика, пошёл вверх по лестнице, оставив в недоумении и негодовании сердюков, которые роптали, про себя, за такое снисхождение к дерзкому пришельцу. Орлик втайне разделял чувства сердюков. Огневик следовал за Мазепой, который пошёл в свой кабинет, послав служителя вперёд засветить там свечи. Вошед туда, Мазепа сел в кресла и сказал Войнаровскому и Орлику:
— Подите, детки, к доктору, в мою почивальню. Он, верно, соскучился в уединении! Я позову вас, когда будет надобно. Велите татарину стоять у дверей. Не опасайся ничего! — примолвил он, обращаясь к Огневику. — Мы с тобой останемся наедине, и татарин станет у дверей не для стражи, а для помощи мне, хворому, в случае надобности.
Войнаровский и Орлик вышли из комнаты.
— Ты, пан есаул, человек умный, а потому я с тобой стану говорить без обиняков, со всею моею откровенностью. Скажи: чтоб ты подумал о теперешнем случае, если б ты был на моём месте? Полковника Палея почитают врагом моим. Тебя, его верного и неизменного сподвижника, находят ночью в моём доме прячущегося от моих людей, и, наконец, когда велят тебе положить оружие и объясниться, зачем ты ночью вошёл в гетманский дворец, оберегаемый стражею, куда не позволено входить без позволения даже верным моим генеральным старшинам и полковникам, — ты стараешься силою выйти из моего дворца и бьёшь моих людей! Скажи, пан есаул, что б ты подумал об этом, будучи на моём месте?
— Признаюсь, ясневельможный гетман, — отвечал Огневик, — что с первого взгляда можно счесть меня преступником. Но клянусь пред вами Богом и совестью, что я не повинен ни в каком злом противу вас умысле. Я проходил вечером мимо вашего сада. Калитка была не заперта, и я вошёл в него погулять. Прилёгши на траву, я заснул и проснулся уже поздно. Желая возвратиться тем же путём, я нашёл калитку запертою и потому хотел пройти чрез сени, увидев отпертую дверь на заднем крыльце. Не зная расположения дома, я запутался и попал в коридор. Послышав шаги в коридоре, я почувствовал неосторожность моего поступка и хотел спрятаться от проходящего, чтоб не возбудить в нём подозрения. Орлик напал на меня, закричал на стражу, и я, не думая ни об чём, по врождённому чувству, стал обороняться. Вот всё, что я могу сказать в свою защиту, и прошу вас, ясневельможный гетман, верить мне.
Пока Огневик говорил, Мазепа писал карандашом на лоскутке бумаги. Когда Огневик кончил своё оправдание, Мазепа захлопал в ладоши. Вошёл татарин. Мазепа отдал ему записку, сделав несколько знаков, и татарин, кивнув головою, снова вышел. Тогда Мазепа сказал Огневику:
— То, что ты изволил сказывать, пан есаул, было бы хорошо выдумано, если б мне не известно было, что ключи от садовой калитки и от задних дверей хранятся у Орлика и что двери отпираются по моему приказанию. Впрочем, подобрать ключ к замку не великая мудрость, и его может подделать каждый слесарь. Но не в том дело. Мне давно уже сказывали, будто Палей хочет знать внутреннее расположение моего дома и намеревается подослать убийцу, чтоб умертвить меня. Я уверен, что ты не взял бы на себя такого гнусного поручения; но скажи мне откровенно, не слыхал ли ты чего-нибудь об этом? Жизнь твоя была в моих руках, но я не воспользовался моим преимуществом и поступил с тобой, как с приятелем. Из благодарности ты можешь сказать мне, для моей предосторожности, справедлив ли этот слух?
— Я никогда и ни от кого не слыхал об этом и готов жизнью ручаться за полковника Палея, что он не в состоянии покуситься на такое гнусное дело. Он человек горячий, сердитый, но честный и простодушный. Врага своего он готов убить в бою или в единоборстве, но никогда не посягнёт на ночное убийство. В этом вы можете быть уверены, ясневельможный гетман!
Мазепа лукаво улыбнулся.
— Дело идёт не о похвальных качествах полковника Палея, но об его вражде ко мне, — сказал он, — Неужели он не дал тебе никакого другого поручения, кроме предложения своей покорности? Мне что-то не верится, пан есаул! Будь откровенен со мною и выскажи всю правду. Если ты боишься Палея, то я даю тебе гетманское слово, что завтра же сделаю тебя полковником в нашем верном войске малороссийском и дам вотчину, в вечное владение.
— Я не хочу ложью приобретать ваши милости, ясневельможный гетман, — отвечал Огневик. — Полковник Палей не давал мне никакого другого поручения и не имеет никакого злого противу вас умысла. Напротив того, он желает помириться с вами и поступить под ваше начальство.
— Он не должен был выбиваться из моего законного начальства, — возразил Мазепа. — Но я вижу, что с тобой нечего делать: ты не знаешь ни благодарности, ни обязанности своей к законному твоему гетману. Бог с тобой! Я напишу сейчас письмо к полковнику Палею, и ступай себе, с Богом, в Белую Церковь! Ты должен немедленно, сей же ночью отправиться в путь. Однако ж, после того что случилось здесь, я не могу тебя отправить восвояси иначе, как в сопровождении моей стражи. Надеюсь, что ты эту предосторожность не сочтёшь излишнею?
— Мой долг повиноваться вам, ясневельможный гетман! — отвечал Огневик.
— Хорошо было бы, если б это была правда, — сказал Мазепа, улыбнувшись, и, не ожидая ответа, принялся писать. Огневик между тем стоял у дверей и ожидал, когда он кончит. Вошёл татарин и, сделав несколько знаков, удалился. Мазепа положил перо и сказал Огневику:
— Прежде отъезда ты должен непременно явиться к полковнику царской службы, Протасьеву, который находится при войске малороссийском по повелению царя для наблюдения за пользами службы его царского величества. Он должен засвидетельствовать, что ты отпущен отсюда цел и невредим. Но твоя одежда изорвана и облита кровью, а в таком виде неприлично тебе явиться к царскому чиновнику. Поди в ближнюю комнату, умойся и переоденься. Я велю выдать тебе что нужно!
Мазепа хлопнул в ладоши, и татарин снова явился.
По данному Мазепою знаку, татарин отворил двери в другую комнату, взял со стола свечу и кивнул на Огневика, который беспрекословно последовал за ним. Мазепа пошёл в почивальню.
Огневик вошёл в небольшую комнату с перегородкою. Несколько пар платья лежало на стульях; на столе стоял умывальник. Татарин показал знаками, что должно раздеться. Огневик отпоясал саблю, снял с себя кафтан и хотел умываться. Но в самую эту минуту татарин схватил саблю Огневика и перебросил её чрез перегородку, в которой дверь мгновенно отворилась и четверо сильных сердюков бросились опрометью на Огневика, не дали ему опомниться, повалили на пол, связали верёвками по ручкам и ногам, рот завязали полотенцем и потащили за перегородку. Татарин поднял дверь с полу, и сердюки спустили Огневика по высокой и крутой лестнице в подземный погреб. Там, при свете лампады, уже ожидал их тюремный страж, который из огромной связки ключей выбрал одни и отпер боковые железные двери в небольшой, но высокий погреб. Здесь сердюки помогли тюремщику приковать Огневика к стене, подостлали под него связку соломы, развязали ему рот, поставили при нём ведро воды и положили кусок хлеба. Огневик не промолвил слова во всё это время и, будучи не в силах противиться, беспрекословно позволял делать с собою всё, что им было угодно. Татарин с приметною радостью помогал сердюкам приковывать Огневика, и, удаляясь из погреба вместе с сердюками, с улыбкой погладил узника по голове, и провёл несколько раз указательным пальцем по шее, как будто давая знать, что его ожидает. Страж взял лампаду, вышел последний из погреба и запер двери снаружи двумя замками. Огневик остался во мраке.
Мазепа, пошутив над иезуитом насчёт его трусости, сказал ему:
— Теперь, патер Заленский, ты должен остаться на несколько дней у меня и переговорить со старым своим знакомцем, Огневиком, которого уже нечего опасаться. Во что бы ни стало, но я узнаю, зачем приятель Палий подослал ко мне своих людей. Один из них уже в мешке, а за другим я послал моих сердюков!
— Сомневаюсь, ясневельможный гетман, чтобы вы могли выпытать что-нибудь у Огневика, — отвечал иезуит. — В нём душа железная!
— А мы смягчим это железо в огне! — возразил Мазепа. — Ты знаешь, старый приятель, что душа столько же зависит от тела, как тело от души. Крепкое тело сначала изнурим мы постом и оковами, а твёрдую душу ослабим мраком и уединением. Верь мне, патер Заленский, что самый твёрдый, самый мужественный человек, который презирает смерть с оружием в руках, при свете солнца, и даже готов выдержать жесточайшую пытку в крепости сил телесных, что этот самый человек, лишённый пищи, движения, света и воздуха, непременно упадает духом, по прошествии некоторого времени... Ведь тюрьма именно для этого и выдумана умными людьми.
— Но что скажет Палей, узнав, что вы, дядюшка, задержали его посланцев? — сказал Войнаровский.
— Он и до сих пор не говорил об нас ничего доброго, — возразил Мазепа с улыбкою. — Посланцы его так же, как и он сам, суть мои подчинённые, и я имею полное право над ними.
— Но если Палей искренно желал примирения, если Огневик в самом деле невиновен в злом умысле?.. — возразил Войнаровский.
— Тогда Палею должно было самому явиться с повинною, а посланцам его надлежало вести себя осторожнее, — отвечал Мазепа. — Я сам человек простодушный и неподозрительный, как и ты, любезный племянник: но всему должна быть мера. Впрочем, это дело общественное, а не моё собственное, и я обязан исследовать его порядком. Послушаем, что скажет Орлик. Что ты думаешь, Орлик, как должно поступить в этом случае?
— По моему мнению, так этого ночного разбойника надобно взять в порядочные тиски и выжать из него всю правду, а после, для примера, петлю на шею, да на первую осину! — сказал Орлик.
— Орлик говорит как человек государственный, — сказал Мазепа, — а ты, племянник, всё ещё нянчишься со своими школьными понятиями о делах и об людях. Ты знаешь, что я не люблю проливать крови, что я не могу смотреть равнодушно, когда режут барана — по, где общее благо требует жертв, там скрепя сердце должно прибегать даже к жестоким средствам. Если б Огневик сознался добровольно, я не тронул бы волоса на голове его, а теперь... он должен выдержать пытку. Не правда ли, Орлик?
— Иначе быть не может и не должно, — отвечал Орлик.
— Орлик понимает дело, — примолвил Мазепа, — а ты, патер Заленский, мой старый приятель и школьный товарищ, что скажешь об этом?
— Вы лучше меня знаете, что должно делать, ясневельможный гетман, — отвечал иезуит. — Но я думаю, что к крайностям должно прибегать в таком только случае, когда они могут принесть верную пользу. Огневика же вы не заставите муками изменить своему благодетелю.
— Так я накажу его за измену мне, законному его гетману, — сказал Мазепа. — Но вот привели и другого...
В комнату вошёл любимый казак Мазепы, Кондаченко и, остановись у дверей, сказал:
— Иванчук ушёл из города!
— Как! Когда? — воскликнул Мазепа в гневе.
— Недавно, в то самое время, как мы управлялись здесь с его товарищем, Огневиком, — отвечал Кондаченко. — Они жили в доме хорунжего Спицы, который, уже четвёртый день, отправился в Стародуб. Мы допросили жену его и парубков. Жена хорунжего сказала нам, что Иванчук был в своей светлице и ждал товарища, как вдруг кто-то постучался у окна, шепнул что-то на ухо Иванчуку, а тот пошёл в конюшню, оседлал коня, съехал со двора — и только!..
— Измена! Заговор! — сказал Мазепа, ударив рукой по столу. — Но я всё узнаю, всё открою! Послать погоню за беглецом...
— Наши поскакали уже по всем дорогам, и сам есаул Небеленко понёсся по Винницкому тракту с десятью казаками, — отвечал Кондаченко.
— Хорошо, спасибо вам, братцы! Видишь, ли, Орлик, как глубоко Палей запустил свои когти в мою гетманщину, — сказал Мазепа. — Иванчука тотчас уведомили, что делается в моём доме. Не дремлют приятели! Теперь, патер Заленский, нельзя нам полагать, что ночное посещение Огневика есть случайное. Палей имеет своих лазутчиков в собственном доме моём, ибо кто бы мог известить Иванчука о происшедшем здесь при запертых дверях? Но сам Бог хранит меня, и он же поможет мне открыть измену и наказать изменников. Теперь ступайте почивать, друзья мои! Ты, патер Заленский, не поедешь сегодня. Ты должен знать последствие этого дела, ибо оно может быть связано с общею пользою... Понимаешь меня?.. Ну протайте! Орлик! Осторожность в доме!
Все вышли, и Мазепа остался один с татарином, который помог ему раздеться и лечь в постель.
Между тем обыск в доме, где проживали посланцы Палеевы, и погоня за одним из них не могли произойти втайне в небольшом и тихом городке. Несколько генеральных старшин из любопытства, другие из опасения, старались в ту же ночь разведать о случившемся, и некоторые из них собрались в доме Черниговского полковника, Павла Леонтьевича Полуботка, потолковать о сём происшествии. Сей заслуженный воин хотя не мог равняться с Мазепою учёностью, но был одарён от природы умом необыкновенным, укреплённым долговременною опытностью в делах, а проницательностью своею превосходил даже хитрого Мазепу. Полуботок пользовался неограниченною доверенностью всех благомыслящих старшин и любовью народною и потому был ненавистен Мазепе, который почитал Полуботка своим совместником и опасался его ума, веря, что разум только пригоден на козни, к погибели соперников.
Все желания, все помышления Полуботка клонились к одной цели: к сохранению прав Малороссии, которые он почитал столь лее священными, как самую веру, и пока он был убеждён, что Мазепа намерен сохранять и защищать сип права, он был искренно предан гетману и даже способствовал его возвышению. Но уверившись и коварстве и в себялюбии Мазепы, Полуботок возненавидел хитрого честолюбца и хотя не выходил никогда из пределов повиновения, но с твёрдостью защищал права народные и безбоязненно говорил гетману правду. Зная, что Мазепа наблюдает за всеми речами и поступками его, Полуботок был осторожен, однако ж, по врождённой ему откровенности, не мог всегда скрывать ненависти своей к притеснителю Малороссии и иногда, хотя неясно, обнаруживал свой образ мыслей пред искренними друзьями. Уже было далеко за полночь, когда пришли к нему Стародубовский полковник Иван Ильич Скоропадский, Нежинский Лукьян Яковлевич, Жураковский и Миргородский Даниил Апостол. Полуботок с нетерпением ожидал вестей и весьма обрадовался посещению своих товарищей.
— Скажите, братцы, что это за шум, что за скачка на улицах, в эту пору, в глухую ночь? — сказал Полуботок вошедшим полковникам.
— Сказывают, что посланцы Палеевы хотели убить гетмана, в его дворце, — отвечал Апостол. — Одного из них поймали, а другой ушёл.
— Счастливый путь! — примолвил Полуботок, улыбаясь. Потом, помолчав несколько, сказал. — Знаете ли что, братцы? Я не верю всем этим россказням! Не так глуп Палей, чтоб подсылать убийц в Батурин, в гетманские палаты, которые оберегаются с большим усердием, чем наши малороссийские права. Да если б он это и вздумал, то не послал бы на такое опасное дело первых своих любимцев, письменных своих есаулов. Он нашёл бы в своей удалой вольнице довольно головорезов, которые бы давно уже сняли голову, как шапку, с нашего ясновельможного князя! Всё это пустое! Гетман не страшен Палею так, как нам, грешным, и он в своей Белой Церкви едва ли не сильнее нашего пана гетмана, которого полки подмазывают колеса в царском обозе да гоняют стада за московским войском. Я скорее бы поверил, если бы что-нибудь подобное случилось в Белой Церкви!..
— Воля твоя, Павел Леонтьевич! — возразил Скоропадский. — А уже здесь есть что-то недоброе. Я говорил со сторожевым сердюком, и он сказал мне, что есаула Огневика поймали в самом гетманском дворце и что ом не хотел сдаваться живой...
— Так что же? Убили его? — спросил Полуботок.
— Нет, сам гетман вышел и уговорил его сдаться... — отвечал Скоропадский.
— Сам гетман! Итак, он не так опасно болей, что не может встать с постели или в постели выслушать нас! — примолвил Полуботок. — Я не хочу судить о деле, которого не знаю в точности, но как гетман уже выходил из комнаты, то завтра же пойду к нему, чтоб он выслушал меня. Что за чудесного исцелителя привезли из Польши! — примолвил он насмешливо. — Сказывали, что гетман лежит почти без языка и без дыхания, а лишь появился польский лекарь, так ясневельможный наш пан в ту же ночь стал расхаживать и говорить, да ещё так убедительно, что убийца отдался ему живой в руки!
— Недаром Польша так мила нашему гетману!
— Правда, что у гетмана не сходит с языка похвала Польше и всему польскому, а милости получает оп втихомолку от русского царя, — сказал Жураковский. — Как Малороссия Малороссией, ни один гетман не был так награждён от царей, как нынешний: он и князь, и Андреевский кавалер, и действительный тайный советник, и вотчинник в Великой России... Уж не знаю, чего ему было желать!
— Не нами сказано, — примолвил Полуботок, — что чем более дают, тем более хочется; а есть ещё такие вещи, которых царь дать не может или не захочет. Ты помнишь, что сказывали Кочубей и Искра в своём доносе?
— Эй, побереги себя, Павел Леонтьевич! — сказал Скоропадский. — Уж ты был раз в тисках за твой язычок; смотри, чтоб в другой раз не попасть в гетманские клещи! Как нам сметь припоминать о доносе, за который враги пана гетмана положили головы на плаху!
— Я ведь не доношу на гетмана, а говорю о деле, всем известном и обнародованном! — возразил Полуботок.
— Нет, воля твоя, Павел Леонтьевич, а я никак не верю, чтоб гетман имел намерение отложиться от России и отдаться в подданство Польше, как доносили царю Искра и Кочубей, — сказал Жураковский. — Наш гетман человек умный и знает, что ему нельзя этого сделать без нас и без воли целого войска, а нет сомнения, что каждый из нас скорей полезет в петлю, чем покорится Польше! Дались нам знать, польские паны и ксензы, и об них такая же память в народе, как предания о чертях да о ведьмах.
— А я знаю, что есть люди в Украине, которые иначе думают, как мы с тобою, Лукьян Яковлевич! — возразил Полуботок. — И эти люди говорят: «Не будь Палея да Самуся за Днепром, так поляки давно бы расхаживали по Киеву и по Батурину!»
— Их и теперь довольно здесь, — примолвил Жураковский. — Почти вся дворня гетманская из поляков!..
— Теперь они служат здесь, а им хочется господствовать, — отвечал Полуботок. — Но полно об этом. Завтра, братцы, надобно всем нам идти поздравить гетмана с благополучным избавлением от измены и убийства, и я произнесу ему поздравительную речь!..
— Да полно тебе играть с огнём, Павел Леонтьевич! Обожжёшься! — сказал Скоропадский.
— Я не шучу и божусь вам, что пойду завтра поздравлять гетмана, — примолвил Полуботок.
— Да ведь ты не веришь ни измене, ни покушению на убийство гетмана! — возразил Скоропадский.
— Верю или не верю — это моё дело, — отвечал Полуботок. — Но пока Полуботок полковник черниговский, а пан Мазепа гетман малороссийского и запорожского войска, до тех пор Полуботок должен наблюдать все обычаи, какие были при прежних гетманах.
— Ну так и нам идти с тобой же? — спросил Скоропадский.
— Без сомнения! Уж когда Полуботок кланяется гетману, так нам должно падать ниц пред ним, — примолвил Жураковский.
— Полуботок кланяется не гетману, а гетманской булаве, — возразил Полуботок. — Но пора почивать, братцы! Прощайте! Завтра, может быть, узнаем более.
ГЛАВА III
Каких ни вымышляй пружин,
Чтоб мужу бую умудриться,
Не можно век носить личин,
И истина должна открыться.
Державин.На другой день Мазепа не принял старшин и назначил им свидание в воскресенье, чрез трое суток. Генеральные старшины и полковники собрались в сей день во дворце гетманском. Генеральный войсковой писарь. Орлик, как первый чиновник после гетмана, ввёл их в приёмную залу. Гетман был в зелёном бархатном кафтане русского покроя, с золотыми застёжками и широкими золотыми петлицами от верху до низу, подаренном ему царём Иоанном Алексеевичем, при милостивой грамоте, за верную службу. Старшины и полковники были в польском платье, в длинных шёлковых кафтанах, называемых жупанами, сверх которых надеты были суконные кунтуши с прорезными рукавами. Все они подпоясаны были богатыми парчовыми кушаками, при саблях, в красных сапогах; головы у всех были обриты в кружок, а на верху оставлен был хохол, и все носили длинные усы, но брили бороды. Только один Мазепа и Войнаровский не подбривали волос на голове. Орлик провёл войсковых старшин по парадной лестнице, на которой стояли сердюки, с ружьями на плечах. Они одеты были в синие кунтуши с красными воротниками и красными выпушками по швам, имели низкие шапки с чёрным бараньим околышком и красным верхом; подпоясаны были красными шерстяными кушаками, имели сабли и чёрные ремённые перевязи, на которых висели небольшие пороховницы с гербом Малороссии. Стены обширной залы обиты были красными кожаными обоями под лаком, с золотыми цветами, а на стенах висели портреты, писанные масляными красками, царей: Алексея Михайловича в старинном наряде; Петра Великого в мундире Преображенского полка; Феодора и Иоанна Алексеевичей в русском платье и гетмана Хмельницкого е польской одежде. На обоях приметны были четвероугольные пятна, где висели портреты бывшей правительницы царевны Софьи Алексеевны и любимца её, князя Голицына, которые прозорливый гетман велел снять со стены после заключения правительницы в монастырь и ссылки Голицына. Гетман сидел в конце залы в больших креслах, обитых бархатом, положив на подушки ноги, завёрнутые в шёлковое одеяло на лисьем меху. Возле кресел гетмана стоял русский полковник Протасьев, в мундире Ингерманландского драгунского полка. Он находился при гетмане для наблюдения за порядком во время прохода великороссийских полков чрез Малороссию. Гетман знал, что он имеет тайные поручения от не благоприятствующего ему князя Меншикова и явного врага его, фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева, и потому был осторожен с полковником и весьма ласкал его. Для него поставлен был стул, но он не садился, из уважения к гетманскому сану и к старшинам, которые должны были стоять в присутствии надменного повелителя Малороссии.
Генеральные старшины и полковники, вошед в залу, низко поклонились гетману и стали полукругом. Тогда Павел Леонтьевич Полуботок выступил на середину залы и, поклонившись ещё раз гетману, произнёс громким голосом:
— Ясневельможный гетман, наш милостивый предводитель! Вельможные генеральные старшины и полковники верного царского войска малороссийского поручили мне изъявить пред вами общие наши чувствования. Распространился слух, что, за несколько дней пред сим, провидение избавило вас от убийцы. Благодаря бога за покровительство нашему предводителю, мы поздравляем вашу ясневельможность и желаем вам здравия и благоденствия на многие лета!
Сказав сие, Полуботок ещё поклонился гетману и стал на своё место.
Гетман смотрел проницательно на Полуботка. Сухость речи его и холодная важность в голосе и во всех приёмах обнаруживали, что поздравление излилось не из сердца. Лицо Мазепы, однако ж, казалось светлым, на устах была улыбка, но нижняя губа его двигалась судорожно, челюсть дрожала, глаза искрили и придавали физиономии вид злобный и вместе насмешливый. Мазепа поглядывал кругом так весело, как смотрит голодный волк в отверзшие овчарни, избирая верную добычу. Помолчав немного, он сказал:
— Благодарю вас, вельможные паны, за ваши желания и поздравления; надеюсь, что они искренни, по крайней мере у большей части панов генеральных старшин и полковников, го есть у тех, которые знают меня коротко и постигают мою любовь и усердие к общему благу. Всевышний, покровительствующий народ малороссийский, избавивший его уже однажды от чужеземного ига, как израильтян из неволи египетской, правосудный Господь, видимо, хранит меня от убийц и злейших врагов, нежели убийцы — от предателей и клеветников. В искренности чувств моих, я верю, что Он хранит меня для утверждения благоденствия Малороссии, под мощным скиптром всемилостивейшего государя нашего и моего благодетеля, его царского величества, которого волею я живу, дышу, мышлю и движуся! Под покровом Провидения и под защитой всемилостивейшего моего государя и благодетеля не боюсь я ни измены, ни клеветы! Ещё происшествие, о котором вы вспомнили, не совсем объяснилось, то есть ещё не исследована вся гнусность измены и предательства, но злой умысел открыт и опасность, угрожавшая в моём лице всему войску, отвращена. Не помышляю я о себе, ни о бренном моём существовании, но молю Бога, да сохранит храброе царское войско малороссийское, нашего всемилостивейшего государя и моего благодетеля и верных моих сотрудников в тяжком и славном деле управления! — Мазепа, окончив речь, приветствовал собрание наклонением головы, и старшины снова поклонились гетману.
После некоторого молчания Мазепа примолвил:
— Прошу извинить меня, слабого и недужного, что я задержал вас так долго в Батурине, вельможные паны!
Я ожидал и ожидаю ежечасно повелений от его царского величества, нашего всемилостивейшего государя и моего благодетеля, и потому не мог исполнить желание ваше и распустить по домам ваши сотни, которые находятся на польской границе. Между тем прошу вас, вельможные паны, возвратиться теперь в свои полки и продолжать ревностно приготовления к походу. Быть может, скоро наступит пора, что всем нам, без исключения, старым и малым, придётся взяться за оружие.
— Об этом именно мы и хотим переговорить лично с вами, ясневельможный гетман! — сказал Полуботок. — В прошлом году саранча опустошила Малороссию, и скотский падеж довёл до бедности даже зажиточных казаков. Все доходы, которые прежде поступали в полковые скарбы, ныне отсылаются в скарб войсковой, и мы, полковники, не имеем средств одеть и вооружить как следует полное число казаков и дать помощь неимущим. Мы просим вас всепокорнейше, ясновельможный гетман, исследовать сне дело и помочь нам высокою своею мудростью!
— Давно ли ты усомнился в своей собственной мудрости, пан полковник Черниговский, что вздумал прибегнуть к моей? — отвечал Мазепа насмешливо, обращаясь к Полуботку. — Разве ты не знаешь, что сделано и что делается на деньги, которые поступают в войсковой скарб?
Насчёт каких доходов содержатся Компанейские полки, сердюки и артиллерия? На какие деньги строятся и украшаются храмы Божии? Из каких доходов воспитывается наше юношество в Киевской Академии? Не хочешь ли ты, чтобы я тебе отдал отчёт в доходах и расходах войскового скарба? Послушай, пан полковник Черниговский! Если мы станем рассчитываться, то едва ли не все вы останетесь внакладе! И в какое время ты заговорил о деньгах, о помощи! — когда отечеству угрожает опасность; когда все подданные его царского величества, всемилостивейшего государя нашего и моего благодетеля, должны жертвовать жизнью и последним имуществом для низвержения врага, осмеливающегося называться непобедимым!
— Извольте послушать, господин полковник! — примолвил Мазепа, обращаясь к Протасьеву. — Вот какое усердие нахожу я в некоторых из моих подчинённых! Слава Богу, что их немного и что я их знаю! Прошу вас, господа, ехать домой и приготовляться к походу; а если которому полковнику недостанет средств к поданию помощи неимущим казакам, то я сам помогу нм, из доходов от полковничьих маетностей.
— Осмеливаюсь доложить вам, ясневельможный гетман, — сказал Полуботок, — что я не отказывался от пособия неимущим казакам ни из ранговых маетностей, пи из собственного моего имущества; но, на основании дарованных нам прав, изложил пред вами, как пред начальником, состояние наших полков, не зная намерений и средств других полковников к поданию помощи разорённым казакам. В старину помощь сию давал войсковой скарб по представлению полковников, которые, на основании дарованных прав...
Гетман прервал слова Полуботка и сказал:
— В старину все козни делались именем дарованных прав, о которых ты беспрестанно толкуешь, пан полковник Полуботок. Но я знаю права не хуже тебя, и я один хранитель и исполнитель сих прав, всемилостивейше подтверждённых его царским величеством! Правда, что я иногда отступаю от сих прав, но только к собственному вреду моему, а не ко вреду войска. Нарушением сих прав я даровал свободу тебе и твоему отцу и возвратил вам имущество, полковник Полуботок, после ложного и злобного на меня доноса, составленного изменником Забелою с его клевретами. Но память твоя так загромождена правами, что ты забыл это, полковник Полуботок, и, верно, хочешь, чтоб я припомнил тебе возобновлением прошедшего!.. Прощайте, вельможные паны! С Богом, по домам — и за дело! Ты, Чечел, останься!
— Я был и есмь не виновен!.. — примолвил Полуботок, но гетман не хотел более слушать его и снова, прервав речь его, повторил:
— Прощайте, вельможные паны, до свидания.
Генеральные старшины и полковники вышли из залы, поклонясь гетману. Остались Орлик, Войнаровский, Чечел и царский полковник Протасьев.
— Вы видите, какой крамольный дух обнаруживают мои полковники, — сказал Мазепа Протасьеву, — я ежедневно опасаюсь здесь восстания и измены; а между тем его царское величество, всемилостивейший государь наш и мой благодетель, по внушениям неприязненных мне вельмож, которых я не хочу называть, беспрестанно понуждает меня высылать по нескольку тысяч казаков к царскому войску! Для пользы службы царской и для защиты священной особы его величества я готов отдать жизнь мою, и если б здоровье моё позволило, сам сел бы на коня и сражался в рядах, как простой казак, когда б это было нужно и угодно его царскому величеству. Но теперь, когда носятся слухи, что неприятель намерен вторгнуться в Россию, когда в Польше приверженцы Станислава Лещинского и враги его царского величества вооружаются на наших границах, возмущают Запорожье и заводят связи на Дону и у нас; когда измена уже открывается в самой Украине, — я должен иметь при себе все полки мои, чтоб противустоять внешним и внутренним злодеям его царского величества. Полковники мои нарочно высылают лучших и вернейших людей к войску царскому и оставляют в полках самых бедных и самых своевольных казаков, которых легко совратить с истинного пути и вовлечь в измену. В таком положении нахожусь я, верный слуга царский, и мысль, что я, при желании пользы, могу быть неугоден его величеству, моему благодетелю, увеличивает болезнь мою, убивает меня!..
Мазепа замолчал и закрыл лицо руками, опустив голову на грудь.
— Вам известно, князь, — отвечал полковник Протасьев, — что я прислан сюда по царскому повелению, единственно для наблюдения за порядком во время прохода великороссийских полков чрез войсковые малороссийские земли и для защиты здешних жителей от обид и притеснений. Я не имею права вмешиваться ни в какие дела, не касающиеся до моего поручения, и не смею судить о положении сего края. Только из преданности к вашей особе, как честный человек, я расспрашивал господина генерального писаря о происшествии, случившемся в вашем доме, которое наделало много шуму в Батурине и, вероятно, дойдёт до царя... По службе моей я даже не смею и об этом спрашивать!..
Мазепа значительно посмотрел на Орлика и на Войнаровского и отвечал Протасьеву голосом простодушия;
— Я знаю ваше поручение, и если открыл пред вами душу мою, то не как пред царским чиновником, но как пред любезным мне человеком, которого я уважаю и почитаю моим искренним приятелем. Открылся я вам но врождённой мне откровенности и простодушию! Что и е касается до последнего происшествия, так вот в чём всё дело. Палей подкуплен поляками и шведами. Зная мою непоколебимую верность к его царскому величеству, он вознамерился спровадить меня на тот свет изменнически, будучи не в силах погубить клеветою, чрез своих единомышленников в моём войске. Посланный Палеем убийца во всём признался и покаялся — а я, гнушаясь местью и следуя внушению сердца, дал ему свободу. Об этом я буду писать к его царскому величеству, лишь только силы позволят мне взяться за перо. Враги мои, вероятно, составят из этого какую-нибудь сказку, к моему же вреду! Бог с ними! Я помышляю не о себе, а о пользе службы его царского величества и о благосостоянии вверенного мне войска. Всё прочее предоставляю воле Божией и царской. Но полно о делах! У меня есть до вас просьба. Вы отличный ездок и знаток в лошадях. Сделайте мне одолжение и возьмите себе моего гнедого турецкого жеребца. Я знаю, что он вам нравится, а мне он вовсе не нужен и только напрасно занимает место в конюшне. Мне, дряхлому старцу, уж нельзя ездить на таких конях! Мо« время прошло. Вам же этот конь будет пригоден!
Полковник Протасьев смешался. Ему хотелось иметь эту лошадь, но он не смел принять её в подарок, опасаясь толков и доноса от врагов гетмана при дворе царском.
— Покорно благодарю вас, князь! — сказал он прерывающимся голосом, потупя глаза. — Чувствую в полной мере ваше великодушие, но не могу принять такого дорогого подарка... Всем известно, что вы заплатили за этого жеребца триста червонцев... Это слишком много для приятельского подарка!
Мазепа прервал слова его:
— Полно-те, полно, полковник! Кто вам может запретить принять подарок от приятеля? Ведь вы находитесь здесь без всякого особенного поручения в отношении к моей особе, следовательно, мы можем обходиться между собою как друзья, как независимые друг от друга люди. Лошадь ваша — и ни слова об этом! Она уже в вашей конюшне, и я уверен, что вы не захотите обидеть меня отказом. Уверяю вас, что вы мне оказываете услугу, принимая этот маловажный подарок, потому что мне весьма хочется, чтоб эта лошадь была в хороших руках, у знатока и охотника, когда не может служить мне самому. Прощайте, дорогой приятель! Я чувствую начало моего подагрического припадка. Орлик! Войнаровский! Проводите меня в мою спальню! Чечел! Подожди в канцелярии моих приказаний! — Не дав полковнику Протасьеву объясниться, Мазепа сделал ему приветствие рукою, встал с кресел и, опираясь на плечи Орлика и Войнаровского, вышел из залы. Протасьев поклонился гетману и вслед ему повтор ил благодарение за подарок, который был весьма приятен ему как страстному охотнику до лошадей. Вышед из залы вместе с Чечелом и проходя чрез комнаты, Протасьев слушал терпеливо преувеличенные похвалы гетману, которого превозносил до небес Чечел, преданный ему искренно. Стража, расставленная на лестнице, расположилась в своём обычном месте, в обширных сенях нижнего яруса, у входа в гетманский дворец и в ближней комнате. Во дворце водворилась прежняя тишина.
Когда Мазепа уселся в своих креслах, он посмотрел весело на своих приверженцев и громко захохотал.
— Хитёр москаль, — сказал он, — но и малороссиянин не бит в темя! Протасьев думает, будто мы люди простенькие и не знаем, что он шпион Меншикова и Шереметева, приставленный ко мне, чтобы наблюдать за всеми моими речами и поступками! Меншикову хочется быть гетманом, и он свернул бы шею родному отцу, чтоб сесть на его место. Шереметев поклялся погубить меня за то, что я избавил Малороссию от неспособного и слабодушного гетмана Самойловича, его тестя. Но у меня есть приятели при царском дворе, и чрез них я знаю вперёд все замыслы моих врагов. Трудно им провести меня при всём моём простодушии! Но признаюсь вам откровенно, верные друзья мои, что это положение между жизнью и смертью, между милостию сильных и погибелью наконец мне наскучило. Мореходец и воин имеют время отдыха и безопасности; я же должен бодрствовать беспрерывно, целую жизнь, и днём и ночью, чтоб отклонять козни врагов моих и блюсти милость царя, который одним грозным словом своим может лишить меня, как моего предместника, Самойловича, жизни, чести и имущества! Это грозное слово висит над головою моею, как меч Дамоклеса, на одном волоске, и я должен наконец разорвать этот волосок и обрушить меч — на главу врагов моих и завистников! Сердце разрывается у меня на части, когда я подумаю об вас, друзья мои! Какая участь постигнет тебя, верный мой Орлик, когда врагам моим удастся свергнуть меня с гетманства и разделить Малороссию между русскими вельможами, под управлением великороссийских воевод?
— Я не доживу до этого! — воскликнул Орлик с жаром. — И скорее погибну, нежели дождусь уничтожения нашего войска, вашего несчастия...
— Конечно, лучше, во сто крат лучше погибнуть, чем пережить позор! — отвечал Мазепа. — Но пока мы живы и целы, нам должно помышлять об отвращении угрожающей нам опасности. В голове моей созрела мысль, которая если исполнится, то может избавить нас навсегда от опасностей и страха. Мы потолкуем с тобой об этом на досуге, верный мой Орлик, избранное чадо моего сердца, сладкий плод моей головы! Тебя я воспитал и возвысил для подпоры моей старости и для блага моего отечества и тебе поручу судьбу моего рода и моего отечества! Обнимитесь при мне, дети мои!..
Войнаровский и Орлик бросились в объятия друг другу и потом начали целовать руки гетмана. Они были растроганы и не могли ничего говорить. Слёзы навернулись у Войнаровского. Мазепа закрыл платком глаза.
— Жить и умереть для тебя — вот мой обет! — воскликнул Орлик. — Скажи одно слово — и эта сабля сразит твоего врага, хотя бы он стоял на ступеньках царского престола! С радостью пойду на смерть и мучения, чтоб только доставить спокойствие тебе, моему отцу и благодетелю!
— Поди ближе к сердцу моему, обними меня, мой верный Орлик! — сказал Мазепа, — Я всегда был уверен в тебе и сегодня же дам тебе самое убедительное доказательство моей беспредельной к тебе доверенности. Сегодня ты узнаешь тайну, от которой зависит более нежели жизнь моя!
Разговор пресёкся на некоторое время. Мазепа радовался внутренно, что нашёл в Орлике готовность содействовать замышленной им измене, но не хотел открываться при Войнаровском, намереваясь воспламенить ещё более своего любимца надеждою на наследство. Он хотел уже выслать его, под предлогом своей болезни, но Орлик прервал молчание и сказал:
— Простите моему усердию, ясновельможный гетман, если я осмеливаюсь сделать некоторое замечание насчёт вашего ответа Протасьеву о нашем пленнике. Вы изволили сказать, что он отпущен и сознался в том, что подослан Палеем умертвить вас, а между тем Огневик находится в темнице и ещё не допрошен. Я боюсь, что если Протасьев проведает об этом, то может повредить вам, ясневельможный гетман!
— Не опасайся, я всё обдумал, — отвечал Мазепа. — Конечно, я сам той веры, что тайна тогда может называться тайною, когда известна только двум человекам. Но в этом случае некому изменить нам. На моего татарина и на верных казаков моих, Кондаченко и Быевского, которых мы употребим при допросе Огневика, мы можем смело положиться, а иезуит Заленский сам имеет надобность в сохранении тайны. Чем бы ни кончился допрос, сознанием или отрицательством, Огневик, по твоему же рассуждению, Орлик, не должен более видеть свету Божьего, итак, допросив его, мы освободим душу его от земных уз, а после этого сказанное много Протасьеву об его освобождении будет совершенная правда! Прикажи Чечелу, чтоб он послал разъезды по всем дорогам. Чего ждать доброго от бешеного Палея! Пожалуй, он готов напасть на меня открытою силой. Да скажи Кенигсеку, чтоб он выкатил все пушки на валы и содержал вокруг крепости строгие караулы. Но, пожалуйста, растолкуй Чечелу и Кенигсеку, чтоб они всё это делали, как будто для приучения людей к полевой и крепостной службе, не подавая виду, что это делается из опасения и предосторожности. Народ никогда не должен знать, что правитель его опасается чего-нибудь. Ступайте с Богом!
Войнаровский и Орлик вышли, и Мазепа занялся чтением писем, полученных им из России и из Польши.
Прошло две недели, и Огневик томился в цепях, во мраке, поддерживая угасающую жизнь чёрствым хлебом и полусгнившею водою. Он никого не видал в это время, кроме своего стража, который дважды в сутки отпирал его темницу и подходил к нему с лампадою в руках, чтоб удостовериться, жив ли он. Мазепа медлил приступить к допросу и пытке несчастного, хотя участь его уже была решена. В первый раз в жизни свирепый и мстительный Мазепа чувствовал жалость к чужому человеку и не постигал, каким образом чувство сие могло вкрасться в душу его и что удерживало его от истязания явного врага. Гетман только один раз в жизни видел Огневика, но образ его беспрестанно представлялся его воображению и тревожил его сердце. Мазепа, во время мучившей его бессонницы, припоминал себе гордый вид и мужественную осанку Огневика, противуборствующего толпе яростных сердюков, и его открытый, ясный взор, когда, надеясь на слово гетмана, он покорился его воле. Даже звук голоса Огневика имел необыкновенную приятность для Мазепы. «Если б этот человек захотел передаться мне, — думал Мазепа, — я осыпал бы его золотом. Чувствую в нём присутствие великой души, способной на всё отважное, отчаянное, а таких-то людей мне теперь и надобно. Иезуит говорит, что обширность ума его равна твёрдости его характера. Какой бы это был клад для меня! Проклятый Палей! Нет, ты не будешь пользоваться им! Он умрёт! Он должен умереть! Но мне жаль его. Сокол не терзает сокола, и львы вместе ходят на добычу. Этот Огневик создан по размеру Мазепы, и оттого-то сердце моё сожалеет его. Но дело решено! Я должен переломить лучшее орудие Палеево. Смерть Огневику, а перед смертью — пытка!»
Накануне дня, назначенного к пытке, Мазепа был угрюм и скучен. Для рассеяния себя он послал вечером за женщиной, которая некогда пользовалась его любовью и даже после прохлаждения любви умела сохранить его благосклонность. Пример единственный, ибо Мазепа обходился с людьми, как своенравное дитя обходится с игрушками: бросал их или уничтожал, когда они ему были не нужны или немилы.
Только двух страстей не могла обуздать сильная душа Мазепы: властолюбие и женолюбие. Они, от юности до старости его, управляли им самовластно и подчиняли себе и глубокий ум его, и коварное сердце. Для достижения цели, предначертанной властолюбием, и для приобретения любви женщины Мазепа жертвовал всем — жизнью, честью, дружбою, благодарностью и сокровищами, собираемыми с усилием, всеми непозволенными средствами. Но властолюбие и женолюбие в душе Мазепы лишены были тех свойств, которые облагораживают человека, даже в самых заблуждениях страстей. Мазепа искал власти и дорожил ею, как разбойник ищет смертоносного оружия и бережёт его, чтоб иметь поверхность над безоружным странником, и любил женский пол, как тигр любит кровь, составляющую лакомую его пищу. Все ощущения души Мазепы основаны были на себялюбии, и потому-то, не обуздываемый ни верою, ни добродетелью, он успевал во всех своих желаниях, при помощи хитрого своего ума и золота. В сорокалетнем возрасте он возвысился на первую степень могущества в своём отечестве и пользовался любовью красавиц, даже будучи в тех летах, когда мужчина не может вселять других чувств, кроме дружбы и уважения. Последняя любовная связь с дочерью генерального писаря Кочубея и ужасные её последствия, навлёкшие гибель на целый род сего малороссийского чиновника, возбудили негодование во всех благомыслящих людях и ужаснули людей простодушных. В народе носились слухи, что гетман водится с колдуньями и волшебниками и носит при себе талисманы, имеющие силу очаровывать женщин. Легковерные родители и мужья трепетали за дочерей и за жён своих, боясь волшебства, благоразумные страшились ухищрений сладострастного гетмана. Но люди бессовестные и развратницы пользовались сею слабостью своего повелителя и ценою чести приобретали богатство и почести для себя и для своих родных. Мазепа был непостоянен в любви, и потому все удивлялись, что одна женщина имела к нему доступ и пользовалась его милостью в течение многих лет, невзирая на другие любовные связи гетмана.
Сию любимицу свою Мазепа вывез из Польши во время первого похода и вскоре после того выдал замуж за старого урядника из своих телохранителей, Петрушку Ломтика, которому он велел называться Ломтиковским и произвёл его в сотники. Марья Ивановна Ломтиковская обходилась с мужем своим, как со слугою, и только при гостях позволяла ему садиться с собой за стол. Старый казак вовсе не обижался этим и был доволен своею участью, живя в достатке, в особом отделении дома. Ломтиковская хотя уже имела лет под тридцать, но сохранила всю красоту и всю свежесть юности. Она одевалась богато и любила наряжаться в польское платье, чтоб показывать свои прекрасные, чёрные, как смоль, волосы, которые замужние малороссийские женщины, по обычаю своему, должны были скрывать под головными уборами, или намешкою. Черты лица её были правильные. Орлиный нос, небольшие розовые уста, оживлённые нежною улыбкою, белые как снег зубы, густой румянец и пламенные чёрные глаза, окружённые длинными ресницами, составляли вместе самую приятную физиономию. Ломтиковская имела ум хитрый, проницательный, но игривый, и притом весёлый нрав. Мазепа любил её беседу, которая разгоняла его мрачные думы и доставляла рассеяние при важных занятиях. Но привыкнув пользоваться всем для выгод своих, он употреблял её для шпионства и отпускал ей значительные суммы денег для подкупа слуг войсковых старшин и для заведения приятельских связей с жёнами нижних чиновников, имеющими доступ к семействам малороссийских вельмож. Гетман верил ей более, нежели другим своим лазутчикам, думая, что собственная польза должна внушать ей к нему верность. Знатные малороссийские женщины не допускали её в своё общество, но многие из войсковых старшин, в угодность Мазепе, навещали её и старались снискать её благоволение лестью и подарками, употребляя её иногда, как орудие, для оклеветания врагов своих перед гетманом. Никто не знал ни родственников Ломтиковской, ни настоящего её происхождения, ни отечества. Она исполняла все наружные обряды греко-российской церкви и ежегодно ездила в Киев говеть и поклоняться мощам святых угодников. Но люди простодушные и легковерные, особенно женщины, основываясь на народных толках, были убеждены, что Ломтиковская занимается волшебством; что она только для обмана христиан исполняет закон, по наружности, и что она ездит в Киев не для богомолья, но для совещания с ведьмами, на Лысой горе.
Ломтиковская за несколько дней перед сим возвратилась из Киева. Она узнала, чрез своих лазутчиков, что в Батурин приехала из Варшавы девица, в сопровождении одной пожилой женщины и управителя гетманского, поляка Быстрицкого. Гетман скрывал её две педели в замке своём, Бахмаче, под Батурином, и перевёз в город во время своей болезни. Ломтиковская, при всём усилии своём, не могла проведать, кто такова новоприбывшая красавица, с которою гетман обходится весьма важно, но почтительно и никогда не оставался с нею без свидетелей. Кроме Орлика и двух племянников гетмана, Войнаровского и Трощинского, никто даже не видал её, и Ломтиковская могла только узнать от слуг, что прибывшая девица необыкновенная красавица и имеет не более осьмнадцати лет от рождения, говорит по-польски и по-малороссийски, исповедует греческую веру и нрава печального, любит уединение и часто плачет. Не ревность, сия мучительная спутница истинной любви, терзала сердце Ломтиковской, но зависть, свойственное женщинам любопытство и наконец страх лишиться милостей и доверенности гетмана тревожили душу её. Она боялась влияния польки на ум старца, зная ловкость польских женщин и их искусство к овладению сердцем мужчины. Истощив бесполезно все средства пронырливого своего ума к узнанию, кто такова гостья гетмана, Ломтиковская наконец решилась попытаться разведать о ней у самого гетмана, при первом удобном случае. Она знала, что гетман не любит расспросов, и предвидела всю трудность и всю опасность своего предприятия. Тысячи планов вертелись в голове её, а когда её позвали к гетману, сна ещё не избрала ни одного из них.
Немой татарин провёл её чрез задние двери в коридор, ведущий во внутренние комнаты гетмана. Было около десяти часов вечера. Гетман лежал на софе, в своём кабинете, и курил трубку из длинного, драгоценного чубука. На маленьком столике стояли две свечки, несколько скляночек с лекарствами и серебряный поднос с сухими вареньями. Татарии придвинул стул и удалился.
— Здравствуй, Мария! Садись-ка да расскажи мне, что слышно нового в Киеве, — сказал гетман, не переменяя положения.
— Вы бы не узнали Киева, пан гетман! — отвечала Ломтиковская. — Печерская крепость, которую заложил сам царь, выросла как на дрожжах. А пушек-то сколько, а народу сколько! Царского войска множество, и конного и пешего, да какие все молодцы! Как обрили бороды москалям, да как одели их в цветные короткополые кафтаны, так любо смотреть! Народ бодрый, красивый, весёлый, и как станут в строй, так не хуже наших польских и саксонских солдат. Все говорят, что теперь будет худо шведу, если он вздумает вызывать царя на бой...
— Так говорят все дураки, а верят им бабы да храбрецы, которые помогают бабам прясть, сидя за печью, — возразил Мазепа с досадою. — Пускай бы противу меня выставили трёх таких фельдмаршалов, как Шереметев да Меншиков, хоть бы с двумястами тысяч этих безбородых короткокафтанников... С одним моим казацким войском я бы припомнил им Нарву!.. Пошли бы снова наутёк...
— Да в том-то и сила, что у шведа нет такого гетмана, как у царя московского! — сказала Ломтиковская. — Ведь пан гетман один на свете, как солнце!..
— А почём знать, может быть, у шведского короля и есть свой Мазепа, — примолвил гетман с улыбкою. — Дело ещё впереди и песенку ещё не разыграли, а только гусли настроили. Сила русская в Киеве, а как швед возьмёт Москву, так и Киев ему поклонится!..
— Шведы возьмут Москву! — воскликнула Мария Ивановна. — Да об этом никто и не думает в Киеве!
— Потому что там ни об чём не думают, а просто двигаются как волы в плуге, под плетью! Чай, воевода киевский, князь Голицын, куда как храбрится! — примолвил насмешливо Мазепа.
— Правда, что он не дремлет. С утра до ночи он на коне, то перед войском, то на крепостных работах; за всем сим смотрит, всем сам занимается и, как говорят, стал даже вмешиваться и в наши войсковые малороссийские дела и знает всё, что у нас делается.
— Ого, какой любопытный! А ты знаешь польскую пословицу: что любопытство первая ступень в ад! Если мой приятель Шереметев приказал ему разведывать, что здесь делается, то я боюсь, чтоб он не выдрал ему после усов, когда выйдет на поверку, что сосед мой, киевский воевода, ничего не знал, ни про что не ведал! Не спозналась ли ты с ним, Мария, и не приманил ли он тебя московскими соболями, чтоб ты шепнула ему иногда, что здесь делается?
— Как вам не стыдно обижать меня, пан гетман! — сказала Ломтиковская с недовольным видом. — Мне и без московских соболей не холодно, по вашей милости, а если б я была уверена, что могу избавить вас от всех ваших врагов и завистников, то с радостью бросилась бы в прорубь, в крещенские морозы!
— Я шучу, Мария! Я знаю, что ты не изменишь мне, если бы даже был случай к измене. Но как я веду все дела начисто, служу царю верно и усердно, то не боюсь ни разведов, ни измены, ни козней врагов моих. Ты знаешь, что я человек простодушный, откровенный, и если благоразумие велит мне соблюдать некоторые предосторожности, то это единственно для сбережения друзей моих, которых участь сопряжена с моею безопасностью. — Мазепа, сказав это, посмотрел пристально на Ломтиковскую, чтоб увидеть, какое действие произвела в ней его ложь. Ломтиковская казалась растроганною, закрыла глаза платком и сказала со вздохом:
— За то и верные слуги ваши готовы за вас в огонь и в воду!
— Ну, а что ж толкуют обо мне в Киеве? — спросил Мазепа с притворным равнодушием.
— Ведь там языки не на привязи, там толков не оберёшься, — отвечала Ломтиковская, — я жила в доме Войта Ковнацкого, к которому собираются русские офицеры, полковники и даже адъютанты Голицына и англичанина Гордона. Наслышалась я всякой всячины.
— Да что б такое говорят?
— На что повторять пред вами пустяки! Пользы от этого не будет, а вам будет неприятно...
— Но я непременно знать хочу, что такое ты слыхала про меня! Говори, Мария, я не люблю этого жеманства!
— Я, право, боюсь... Вы нездоровы, можете прогневаться, и это повредит вам!
— Давно бы мне пришлось лечь в могилу, если б злые толки причиняли мне болезнь! Говори смело! Ты знаешь, что я привык к дурным вестям.
— Говорят, будто друг короля шведского, новый король польский, Станислав Лещинский, старается преклонить вас на свою сторону и заставить вас отложиться, с. войском, от России...
— Так это новость в Киеве! — возразил Мазепа с улыбкою, — Об этом я сам уведомил царя!
— Сказывают, будто Станислав Лещинский прислал вам богатые подарки...
— Какой вздор! Казна короля Станислава столь же пуста, как голова тех бездельников, которые выдумывают на меня такие вещи. Если б король Станислав был в состоянии дарить, то он послал бы подарки не мне, а царским вельможам, например, Меншикову, Шереметеву. Ведь московские паны куда как падки на подарки! А мне что он может подарить? Я едва ли не богаче короля Станислава!
— Говорят, — примолвила Ломтиковская, понизив голос, — что король Станислав прислал к вам с подарками... красавицу... польку... которую смолоду обучали, как вести дела политические... — Ломтиковская, закрывая лицо платком, посмотрела исподлобья на Мазепу. Он быстро поднялся присел на подушках и, устремив пламенный взор на Лом таковскую, сказал:
— Как! В Киеве знают о прибытии сюда женщины из Полыни! Мария! Говори правду... не твоя ли это выдумка?
— Клянусь вам, пан гетман, всем, что есть святого, что я слыхала об этом в Киеве! — возразила она дрожащим голосом. — Даже адъютанты князя Голицына говорили об этом... Но я чувствовала, что мне надобно было молчать!..
— Хорошо! Я напишу к Голицыну... Я скажу ему, кто такая эта девица… Пусть он узнает... Пусть узнает сам царь!.. — сказал Мазепа прерывающимся от гнева голосом. — Я окружён здесь изменниками, лазутчиками... Ио на этот раз они жестоко обманутся... Я их открою!.. О, я открою их... — Мазепа замолчал, снова прилёг на подушки и чрез несколько времени, пришёл в себя и как бы устыдясь своего гнева, сказал хладнокровно: — Всё это пустое! На меня выдумывали не такие вещи и ни в чём не успели. А какая кому нужда до моей домашней жизни? Пусть себе толкуют, что хотят! Поврут, да и перестанут!
Но хитрая Ломтиковская видела ясно, что равнодушие Мазепы было притворное и что эта весть сильно поразила его и даже заставила, противу обыкновения, разгорячиться. Она решилась продолжать разговор и, приняв также хладнокровный вид, сказала:
— Не равны толки толкам. Один духовный сказывал мне в Киеве, что хотя царь и много уважает вас, но не перенесёт равнодушно известия, что у вас находится женщина, подосланная врагами его из Полыни. Я боюсь за вас, паи гетман!
— Да какой чёрт вбил тебе в голову эту мысль, что она подослана ко мне! Эта девица — моя собственность и была моею прежде, нежели королю Станиславу снилось о короне польской! Перестань молоть вздор, Мария!
— Да ведь это говорю не я, пан гетман! Я только пересказываю вам, что говорят в Киеве — и даже здесь... Мне кажется, что, вместо того, чтобы объявлять Голицыну или царю, кто такова эта девица, лучше б было, если б вы, пан гетман, сказали об этом верным своим друзьям и слугам — тогда они могли бы опровергнуть ложь и клевету...
— Целая Малороссия, целая Украина, весь мир узнает, кто такова моя гостья... Да, да, Мария, целая Малороссия и Украйна преклонят пред ней колени... Слышишь ли, Мария! Но теперь не время... Чрез полгода, чрез год а не теперь!
— Я первая упаду ниц перед ней и готова поклоняться ей как божеству! Все друзья ваши, все верные ваши слуги давно уже молят Бога, чтобы вы избрали себе жену по сердцу, чтоб оставили наследника великого имени!.. Благодарю тебя, Боже, что наконец желание моё сбылось!.. — Коварная женщина подняла руки и взоры к небу и притворилась восторженною от радости.
Мазепа пожал плечами, покачал головою и сморщился от досады.
— Побереги свою радость и молитвы на другое время, Мария! — сказал он с язвительной усмешкой. — Скорее я обвенчаюсь с луною, чем с этою девицею! Но более ни слова об этом! Ни одного слова!.. Я приму меры, чтоб потушить клевету в самом её начале. Спасибо за известие, хотя оно не стоит сломанного ешелега. Да скажи-ка мне, не слыхала ли ты чего здесь или в дороге о пойманном в доме моём убийце, подосланном Палеем?
— Я узнала об этом здесь и слыхала, что многие полковники никак не верят тому, что посланец Палеев хотел убить вас. Они думают, что всё это выдумано для того только, чтоб погубить Палея в мнении царя. Могу поручиться вам, что Палей имеет весьма много друзей в войске русском и здесь и что он найдёт между старшинами и между простыми казаками много таких, которые поверят ему более, нежели вам. В целой Малороссии и Украйне Палея чтут и уважают, как другого Хмельницкого, как народного витязя... И я не раз слыхала, что если б пришлось избрать гетмана вольными голосами, то Палей, верно, был бы гетманом!
— Ну вот потому-то Палей и хочет извести меня, а они для того хотят Палея, чтоб своевольничать безнаказанно! И вот меня же обвиняют! Да что смотреть на вражеские речи! Им я ничем не угожу... Нас с Палеем рассудит — смерть или... Но я чувствую себя нездоровым; прощай, Мария! Мы потолкуем с тобою в другое время, а между тем ты прилежно наблюдай за всеми моими недоброжелателями и старайся открыть, кто из них переписывается с русскими чиновниками. Полковника Протасьева ты опутай кругом паутиной, чтоб муха не добралась к нему без твоего ведома. Я велю Быстрицкому выдать тебе нужные деньги... Прощай, Мария! — гетман захлопал в ладоши и дал знак вошедшему татарину, чтоб он проводил Ломтиковскую. Она вышла в крайней досаде, что не могла ничего узнать о таинственной гостье.
ГЛАВА IV
...А ты, свирепый зверь,
Моей главой играй теперь!
Она в твоих когтях...
А. Пушкин.По наступлении вечера Мазепа с нетерпением ожидал в своём кабинете возвращения иезуита, патера Заленского, которого он послал в темницу к Огневику, чтоб уговорить его к открытию замыслов Палея и к признанию в покушении на жизнь гетмана.
С печальным лицом вошёл иезуит в комнату и, сложа руки на груди, не говорил ни слова.
— Ну что ж, признался ли он? — спросил Мазепа, едва переводя дух.
— Он стоит всё на одном, что не покушался на жизнь вашу и ничего не знает о намерениях Палея, кроме того, что объявил вам, ясневельможный гетман!
— Итак, он упорствует... Нечего делать! — сказал Мазепа и, помолчав, примолвил с жаром: — Или я извлеку тайну из души его, или извлеку из него душу!
— Признаюсь вам откровенно, — возразил иезуит, — что мне весьма тяжко было видеть его в таком несчастном положении. Он был моим учеником, и я невольно чувствую к нему некоторую привязанность, а зная нрав его, не думаю, чтоб он был в состоянии лгать и запираться. Страданья его трогают меня, и если он должен умереть...
— Он должен умереть! — воскликнул Мазепа. — Этого потребует безопасность моя и успех нашего великого предприятия. Мне самому жаль его, патер Заленский! Но... что значит жизнь одного незначительного человека, когда идёт дело об участи целых государств, о безопасности правителя народа? Я вижу, что ты грустен, старый друг мой! Садись-ка, патер, да потолкуем!..
Иезуит сел в безмолвии, потупя глаза. Мазепа повёртывался беспокойно в своих креслах и, погладив себя по голове, обтёр пот с лица и, устремив взор на иезуита, сказал:
— Что такое жизнь, патер Заленский? Мы с тобой дожили до седых волос, прочли множество философских бредней, а знаем об ней столько же, сколько знает грудной младенец. Жизнь есть не сон, не мечта, а какая-то странная существенность, которой всё зло в настоящем, а вся прелесть в прошедшем и в будущем, в воспоминаниях и в надеждах. Жизнь была бы даже тогда благо, когда б человек мог, по крайней мере, сохранить по смерти память о своём земном странствии. Но как с жизнью кончатся и земные радости, и земные страдания, и воспоминания и надежды, то и жизнь и смерть есть ничто. Они важны тогда только, когда служат к пользе многих. Судя таким образом, жизнь, право, небольшая потеря для Огневика, а если он мил тебе, то верь мне, что в воспоминании, то есть после своей смерти, он более выиграет, ибо будет тебе милее. Впрочем, если б жизнь его была для нас безвредною, мы оставили бы его в покое; но жизнь его есть искра, которую рука врага нашего, Палея, может произвесть гибельный для нас пожар. Итак, мы должны погасить эту искру! Мы, предпринимая теперь новое устройство целых царств, так же мало должны заботиться о жизни одного человека, как зодчий, сооружающий новое здание, мало помышляет о потере одного камня.
— По этот камень мог бы служить украшением целого здания, если б попал в руки искусного ваятеля, — возразил иезуит. — Я думаю, что нам было бы весьма полезно склонить Огневика на нашу сторону каким бы ни было средством!
— Я уже истощил все средства и не знаю, чем смягчить его!
— Великодушием, — примолвил иезуит. — Насильственные средства не действуют на благородное сердце: оно, как нежное древо, гибнет бесполезно в насильственном жаре и только влиянием благотворной теплоты солнца производит сладкие плоды.
— Солнце действует, патер Заленский, только на те растения, которые ищут лучей его. Впрочем, шаг сделан, воротиться нельзя!.. — Мазепа, сказав это, отворотился и задумался. Иезуит молчал.
Вдруг вошёл Орлик в комнату.
— Всё готово! — сказал он.
— Иду! — отвечал Мазепа. — Увольняю тебя от присутствия при допросе, патер Заленский.
Иезуит, не говоря ни слова, вышел из комнаты.
— Я не верю этой змее, — сказал Мазепа, указав на дверь, в которую вышел иезуит. — Партия Станислава Лещинского ищет повсюду друзей и помощников, и быть может, что в то самое время, как этот иезуит лижется ко мне, сообщники его льстят Палею и обещают ему мою голову в награду за измену. Мне известно, что самый этот Огневик был несколько раз в Варшаве и проживал там тайно, по повелению Палея. Об этом писал ко мне этот же иезуит, за два месяца пред сим. Нет сомнения, что Палей в связях с Польшей, хотя и грабит польские области. Всё это мы должны узнать... Пойдём!
— Давно пора кончить это дело, — примолвил Орлик. — Мы напрасно теряем время. Что за важная особа этот запорожский головорез? Аминь ему!
— Мы тотчас кончим, — возразил Мазепа и, засветив фонарь, отдал его Орлику, а сам, опираясь на костыль, пошёл в ту самую комнату, где схватили Огневика; велел Орлику поднять опускную дверь и, держась за него, сошёл в подземелье, по тайной лестнице.
Между тем верные сердюки гетманские, Кондаченко и Быевский, расковывали Огневика, который, предчувствуя, что его ведут на казнь, радовался близкому окончанию страданий, предпочитая смерть вечному заключению в темнице. Невольно подумал он о жизни, и прошлые радости и будущие надежды отозвались в душе его, как отдалённые звуки мелодии в ночной тишине. Он забылся на минуту и тяжело вздохнул. Кровь в нём взволновалась, быстро пролилась по всем жилам и скопилась к сердцу: оно сжалось, и холод с дрожью пробежал по всему телу.
Кондаченко, который, стоя на коленях, поддерживал ногу Огневика (между тем как Быевский развинчивал оковы), почувствовал, что узник затрепетал.
— Что, брат, струсил! — сказал насмешливо Кондаченко, посмотрев в лицо Огневику.
— Молчи, палач, и делай своё дело! — возразил Огневик грозным голосом.
— Палач! Я палач? Ах ты, разбойник, бесов сын! — воскликнул Кондаченко в бешенстве и уставил кулаки, готовясь ударить пленника. Быевский удержал за руку своего товарища.
— Перестань! — сказал он. Пусть чёрт дерётся с мертвецами. Он почти уж в могиле.
— Постой, проклятая палеевская собака! Ты у меня завоешь другим голосом! — завопил Кондаченко и так сильно дёрнул за ногу сидевшего на соломе пленника, что тот упал навзничь.
— Расковывай скорее, что ли! — примолвил Кондаченко Быевскому. — Пора молодца на пляску!
Медленно привстал Огневик. Ничто не оскорбляет столько благородной души, как уничижение в несчастии. Не будучи в состоянии отмстить за обиду, он посмотрел с негодованием на дерзкого и сказал ему:
— Презренная тварь! И дикие звери не ругаются над добычей, готовясь растерзать её, а ты...
— Полно толковать! — вскричал озлобленный Кондаченко. — Вставай и ступай на расправу! — Огневик не мог подняться на ноги. Сердюки пособили ему привстать и, связав назад руки, повели его из темницы. Тюремщик шёл впереди с фонарём. Несчастный пленник, лежавший около двух недель без всякого движения, почти без пищи, в стеснённом воздухе, едва мог передвигать ноги от слабости. Быевский поддерживал его. Пройдя длинный коридор, они вошли в погреб, которого дверь была не заперта. Провожатые позволили Огневику присесть на отрубке дерева, и он, бросив взор кругом подземелья, догадался, какая участь его ожидает.
В одном углу стоял стол, покрытый чёрным сукном. На столе находились бумаги, письменный прибор, огромная книга в бархатном переплёте с серебряными углами и застёжками, вероятно, Евангелие. Между двумя свечами стояло распятие из слоновой кости. Возле стола стояли двое кресел. В своде погреба вделаны были большие железные кольца. На средине стоял узкий стол, нагнутый к одному концу, а на четырёх углах вбиты были также железные кольца, при которых висели сыромятные ремни. В другом углу погреба сидел немой татарин и раздувал огонь в жаровне. Голубоватое пламя освещало смуглое лоснящееся лицо татарина, который, смотря со злобною улыбкой на узника, выказывал ряды белых зубов, как будто готовясь растерзать его. Татарин встал, взвалил на плечи тяжёлый кожаный мешок, приблизился к Огневику и высыпал перед ним страшные орудия пытки: клещи, молотки, пилы, гвозди... Сталь зазвучала на каменном полу, и в то же время раздался под сводами глухой, пронзительный хохот немого татарина. Эти адские звуки проникли до сердца несчастной жертвы. Огневик невольно содрогнулся.
Вдруг дверь настежь растворилась. Вошли Мазепа и Орлик. Мазепа остановился, окинул взором Огневика и медленными шагами приблизился к креслам, сел и, облокотись на свой костыль, продолжал пристально смотреть на узника. Орлик уселся за столом и стал разбирать бумаги. Татарии примкнул двери и присел по-прежнему возле жаровни. Огневик не трогался с места и, взглянув мельком на гетмана, потупил глаза.
— Ты сам причина своего несчастия, — сказал Мазепа Огневику смягчённым голосом. — Я предлагал тебе дружбу мою и мои милости взамен твоей откровенности, но ты упорствуешь, и я принуждён прибегнуть к последним средствам. Терпенье моё истощилось, и если теперь ты не признаешься во всём и не будешь отвечать удовлетворительно на вопросы, то кончишь жизнь в жесточайших мучениях. Если ты христианин и хранишь в сердце веру отцов своих, то подумай, какой грех берёшь на душу свою, лишая себя добровольно дарованной Богом жизни, упорствуя во лжи и в обмане! Если ложный стыд удерживает тебя, то я поклянусь тебе на Евангелии, что сознание твоё останется навсегда тайною и что я не предприму никаких мер противу Палея, чтоб сделать сие дело гласным. Выскажи правду и ступай себе с Богом, куда заблагорассудишь, если не пожелаешь остаться при мне! Ни с одним из врагов моих не поступал я столь человеколюбиво... Ты возбудил во мне участие… Страшись превратить это чувство в месть! — Мазепа замолчал и, не ожидая ответа Огневика, обратился к Орлику, примолвил:
— Делай своё дело!
— Мне не для чего повторять тебе, в чём ты обвинён, — сказал Орлик Огневику, — товарищ твой, Иванчук, захваченный в одну ночь с тобой, во всём признался. Он подтвердил присягою своё показание, что изменник Палей, полковник Хвастовский, присваивающий себе звание гетмана и не признающий власти законной, выслал вас сюда, чтоб умертвить ясневельможного нашего гетмана, произвесть мятеж в войске малороссийском и заставить своих клевретов избрать себя в гетманы, Ты видишь, что нам всё известно, итак, воспользуйся милостью ясневельможного гетмана, сознайся, и дело будет кончено.
— Вельможный писарь войсковой! — отвечал Огневик. — Иванчук не мог признаться тебе в том, чего не бывало. Если б Палей имел какие злые замыслы, то скажу, не хвалясь, он бы скорее открылся мне, нежели Иванчуку, однако ж я ничего не знаю о том, что ты говоришь. Сведи меня на очную ставку с Иванчуком: пусть он уличит меня.
— Это вовсе не нужно, — возразил Орлик. — Ты сам уличил себя, вошед в дом ясневельможного гетмана вооружённый, ночною порою, и стараясь силою пробиться сквозь стражу. Ты весьма обманываешься, почитая нас столь глупыми, чтоб мы могли поверить сказке, выдуманной тобою в своё оправдание. Итак, говори правду... или прочти последнюю молитву, и...
Огневик быстро привстал, как будто чувствуя возрождение своих сил. Лицо его покрылось слабым румянцем, в глазах отразилось пламя, вспыхнувшее в душе его.
— Слушай, гетман, последние слова мои! Не хочу предстать пред судом Божиим с ложью на сердце и скажу тебе правду.
Гетман поднял голову, Орлик встал со своего места, и Огневик продолжал:
— Я вошёл в твой дом с умыслом. Скажу более: для исполнения сего умысла я нарочно напросился у Палея, чтоб он выслал меня в Батурин, вместо назначенного в посланцы священника Никифора. Но ни Палей, ни Иванчук и никто в мире, кроме меня и ещё одного лица, не знают причины, для которой я хотел проникнуть в дом твой. Это собственная моя тайна, и она не касается ни до тебя, гетман, ни до Палея, ни до войска малороссийского. Я не имел намерения убить тебя, гетман, и даже не помышлял о тебе, входя в дом твой. Что же касается до замыслов Палея, то я знаю, что это одни только догадки твоего тревожливого ума, потому что Палей не имеет других намерений, как искренно помириться с тобою, для пользы службы его царского величества. Вот святая истина: теперь делай со мною что хочешь!..
— Ты должен непременно сказать, зачем вошёл в дом мой ночью, — сказал Мазепа. — В противном случае то, что ты называешь правдивым сознанием, ещё более навлекает на тебя подозрение в злом умысле. Говори!..
— Это моя тайна, — отвечал Огневик, — и если б ты мог превратить в жизнь каждую каплю моей крови и каждую из сих жизней исторгал веками мучений, то и тогда не узнаешь ничего. Вот я безоружный пред тобой!.. Режь меня на части... тайна моя ляжет со мной в могилу!..
— Заставь его говорить, Орлик! — сказал хладнокровно Мазепа, сложил руки крестом на костыле и, опершись на него подбородком, потупил глаза.
— На встряску его! — сказал грозно Орлик. Клевреты гетмана потащили Огневика на середину погреба, сорвали с него одежду и обнажили до пояса. После того повалили его на пол, привязали руки к железному кольцу, а ноги к двум деревянным толстым отрубкам, продели верёвку от кольца, к которому привязаны были руки страдальца, в кольцо, прибитое к потолку, и ожидали дальнейшего приказания.
— Скажешь ли правду? — возопил Орлик, бросив гневный взор на страдальца.
— Я всё сказал вам, что знаю и что мог высказать, — отвечал Огневик, — и вы ничего не услышите более от меня, кроме проклятия вам, изверги!..
— Поднимай! — закричал Орлик, ударив кулаком по столу. Два дюжих сердюка и татарин ухватились за конец верёвки и стали тянуть медленно до тех пор, пока страдалец не поднялся на руках до того, что чурбаны, привязанные к ногам, чуть дотрагивались до полу. Тогда, удвоив усилия, они, по условленному знаку, дёрнули вдруг за верёвку. Все члены страдальца хрустнули в суставах, и он повис на руках. Положение его было ужасное. Все жилы вытянулись в нём до такой степени, что едва не полопались. Истощённые силы несчастного узника не могли выдержать сего внезапного напряжения. Сперва лицо его покраснело, и вдруг он побледнел, как труп, глаза его закатились, голова перевалилась назад, и кровь хлынула изо рта и из носа... он лишился чувств.
Мазепа сидел во всё это время в безмолвии, потупя глаза, и, казалось, ожидал воплей страдальца, чтоб возобновить вопросы. Но не слыша никакого звука, он поднял голову и, увидев Огневика без чувств, облитого кровью, обратился к Орлику и сказал по-латыни, хладнокровно:
— Видишь ли, что наш доктор прав! Он сказал, что гораздо лучше пытать человека сильного и здорового, нежели истощённого, уверяя, что чем человек здоровее, тем более может выдержать мучений, и притом тем сильнее чувствует боль. Вот тебе наука, Орлик! Ну что теперь нам с ним делать?
— Я не переменяю моего мнения, ясневельможный гетман! — отвечал Орлик также по-латыни. — Мне кажется, что лучше всего будет, если мы избавимся от него поскорее. Велите придавить его, да и в землю!
— Для этого не стоило бы и начинать дела, — возразил Мазепа. — Нет, я непременно хочу, во что бы то ни стало извлечь из него эту тайну. Тут должно крыться что-нибудь весьма важное! Одно средство не удалось, попробуем другое. Вылечим его, выкормим, заставим полюбить приятности жизни — и тогда снова в пытку... Снимайте его! — примолвил он по-русски.
Истязатели опустили верёвки, и несчастный упал, как труп, на землю. Мазепа встал с кресел, приблизился к нему, положил руку свою на его сердце и сказал:
— Он жив ещё. Развяжите ему руки и ноги, а ты, Кондаченко, подай воды и уксусу...
Вдруг в коридоре послышались быстрые шаги, дверь с треском отворилась, и в погреб вбежала опрометью женщина. Она остановилась, вскрикнула, бросилась стремглав к Огневику и, припав к нему, обняла его и, прижавшись лицом к его лицу, оставалась неподвижно в сём положении, не вымолвив слова, не взглянув на сторону. Только по сильному волнению груди и по тяжкому дыханию приметна была в ней жизнь.
Мазепа стоял над трупом, как громом поражённый. Смертная бледность покрыла лицо его, костыль дрожал в руке, и он смотрел на молодую женщину, диким взором, в котором попеременно изображались то злоба, то сострадание. Наконец он оборотился к Орлику, посмотрел на него значительно, покачал головою и горько улыбнулся дрожащими устами. Орлик пожал плечами и молчал.
— Тайна открыта. Орлик! — сказал Мазепа. — Но пытку суждено выдержать мне! Никакие мучения не сравнятся с тем, что я чувствую теперь в душе моей!.. В ней целый ад!.. Наталия!.. Наталия!.. Опомнись! — примолвил он тихим, прерывающимся голосом.
Молодая женщина, казалось, не слышала слов его и не переменила своего положения.
— Наталия! — сказал гетман ласково. — Отойди от него, дай нам помочь ему... Ты убьёшь его, если не допустишь нас помочь ему.
Молодая женщина подняла голову, осмотрелась кругом и, уставив блуждающий взор на Мазепу, сказала тихо:
— Ты убил его... Ты убил моего жениха!..
— Твоего жениха! — воскликнул Мазепа. — Орлик, слышишь ли! — примолвил он голосом отчаяния.
Молодая женщина быстро приподнялась; бледное лицо её покрылось пламенным румянцем; она одной рукой держала бесчувственную руку Огневика, а другой вынула нож из-за пазухи и сказала тихим, но твёрдым и спокойным голосом:
— Гетман! Эта кровь погасила в душе моей все прежние чувства к тебе и искупила долг мой. Теперь я свободна и не признаю твоей власти надо мною! Ты призрел меня, сироту, заступал место отца, воспитал, хотя в чужой стороне, но с родительским попечением, и я ежедневно молилась за тебя как за моего благодетеля. Одним ударом ты разрушил своё созданье и убил того, кого я любила более жизни, более счастия, ты произнёс мой смертный приговор... Ты любишь кровь... насладись кровью!.. — При сих словах она замахнулась на себя ножом; но Кондаченко, стоявший рядом с нею, схватил её за руку и вырвал нож.
— Наталия! Ради бога успокойся! — воскликнул Мазепа в отчаянье. — Этот человек не убит, он жив... он будет жить!.. Помогите ему! — примолвил он. — Орлик, помоги ему! Бегите за доктором! О, я несчастный! — Мазепа подошёл к Наталье, взял её за руки дрожащими руками и, смотря на неё с нежностью, наблюдал все её движения. Между тем Орлик послал за доктором тюремщика, стоявшего за дверьми, и велел оттирать Огневика уксусом и спиртами, которые принесены были прежде, как принадлежности пытки.
Наталия стояла неподвижно; глаза её были красны, но в них не видно было слёз, и в чертах лица её заметно было какое-то отчаянное хладнокровие. Она пристально смотрела на бесчувственного Огневика и не отвечала Мазепе.
Вдруг Огневик открыл глаза и вздохнул. Наталия мгновенно вырвалась из рук Мазепы, бросилась снова к Огневику, стала пред ним на колени, взяла его за руки и с трепетом смотрела ему в лицо, как будто желая уловить первый взгляд его.
— Богдан, милый Богдан! — сказала она нежно. — Взгляни на меня! Это я... твоя Наталия! Они не убьют тебя!..
Этот голос проник до сердца Огневика и возбудил в нём угасающую жизнь. Он пришёл в чувство и, устремив Взор на Наталью, пожал ей руку.
— Теперь смерть будет мне сладка, — сказал он слабым голосом, — я видел тебя... Пусть они убьют меня... Смерть лучше разлуки!..
— Они не разлучат нас, — сказала Наталия, — мы умрём вместе, если не можем жить друг без друга. Богдан! С этой минуты мы неразлучны!..
Каждое нежное слово, каждая ласка Натальи, обращаемые к Огневику, уязвляли сердце Мазепы. Он молчал и смотрел на любовников, как смотрит змей из железной клетки на недосягаемую добычу. Страшно было взглянуть на гетмана! Посинелые губы его и навислые брови судорожно шевелились; на бледном лице мгновенно показывался румянец и снова исчезал; глаза пылали. Между тем пришёл патер Заленский со склянками и перевязками и, не говоря ни слова, стал натирать и перевязывать Огневика.
— Наталья! — сказал наконец Мазепа. — Тебе неприлично быть здесь. Ступай в свои комнаты, я велю перенесть твоего друга в верхнее жильё, и ты сама станешь ухаживать за ним.
Наталья оглянулась и смотрела на Мазепу с удивлением, как будто не доверяя своему слуху.
— Ты позволишь мне ухаживать за ним? Ты не запрёшь его в темницу? О мой благодетель, мой отец! — воскликнула она и бросилась к ногам гетмана.
Мазепа поднял её, поцеловал в голову и сказал нежно:
— Не обвиняй меня в жестокости противу него, Наталья! Я почитал его врагом моим, убийцею и должен был употребить обыкновенные судебные меры для исследования истины. Бог свидетель, что я с горестью в сердце исполнял сей тяжкий долг судьи! Но теперь, когда я знаю, зачем он вошёл скрытно в дом мой; когда я вижу, что ты любишь его... он более не враг мой! Напротив, он мне столь же дорог, как собственное детище. Наталья! Счастье твоё есть моё собственное благополучие, и я всем готов жертвовать, чтоб осушить твои слёзы. Ты худо знаешь меня, Наталия, если думаешь, что я стану противиться твоему счастью, будучи убеждён, что оно состоит в любви, в союзе с ним! Я человек простодушный и откровенный в дружбе и во вражде. Верь мне и успокойся! С этой поры он поступает в семью мою!..
Наталья рыдала и, улыбаясь сквозь слёзы, целовала руки Мазепы, обнимала его колени, была вне себя от радости.
— Отнесите его бережно в мои комнаты, — сказал гетман Кондаченке, и он с Быевским и татарином понесли больного на плаще. Наталия шла рядом, поддерживая его голову.
Во всё это время Орлик не трогался с места и стоял как окаменелый. Он знал, кто такова Наталия: знал, с каким намерением гетман велел привезти её из Варшавы, и потому думал, что, открыв любовную связь её с человеком, которого он почитал не более как разбойником из мятежной шайки Палея, гетман без отлагательства, своеручно убьёт дерзкого обольстителя. Непостижимая слабость характера, оказанная Мазепою в сию решительную минуту, удивляла Орлика, и он едва верил собственным чувствам. Но один взгляд Мазепы вывел его из недоуменья. Когда вы несли Огневика из погреба и когда Наталия удалилась, Мазепа обратился к Орлику, взглянул на него весело и простодушно улыбнулся. Орлик совершенно знал Мазепу: это была улыбка торжества и самодовольствия, и потому Орлик догадался, что Мазепа составил какой-нибудь замысел, которого успех верен и соответствен его пользе. Орлик успокоился.
— Подай мне руку, верный мой Орлик! — сказал Мазепа. — И проводи меня в мою светлицу. Мне нужно успокоение. А ты, почтенный друг мой! — примолвил он, обращаясь к иезуиту. — Приложи попечение о здоровье твоего прежнего ученика. Жизнь его мне драгоценна. Клянусь тебе, что она мне драгоценнее, чем смерть десятерых врагов. Прошу тебя также, успокой Наталию и уверь её, что я не стану противиться их любви... Завтра мы поговорим об этом подробнее.
Вошед в свою почивальню, Мазепа послал немедленно татарина за Марьей Ивановной Ломтиковской и остался наедине с Орликом.
Мазепа бросился на софу, вздохнул и, покачав головою, сказал:
— Ну что ты думаешь об этом, Орлик?
— Всё, что я видел и слышал, кажется мне непонятным, непостижимым, чудесным!
— А мне всё это кажется простым и весьма обыкновенным, — возразил Мазепа. — Ты знаешь, что Палён несколько раз посылал Огневика в Варшаву. Молодой человек мог встретиться там с Наталией, влюбился и снискал её любовь. Узнав, что она здесь, он хотел повидаться с нею, а может быть, и похитить её из моего дома. Всё это весьма просто и естественно. Что он не признался в истинной причине своего ночного посещения — это весьма похвально, а что Наталия скрывала до последней минуты свою любовь и не пришла просить у меня прощения для своего любовника, это также весьма благоразумно, ибо, вероятно, она надеялась освободить его из темницы и, весьма основательно, не полагалась на моё снисхождение. Но каким образом Наталия узнала о времени пытки? Как она попала в подземелье?.. Вот это загадка, которую мы должны разгадать. Если эту шутку не состряпал наш проклятый иезуит, то очевидно, что между моими людьми есть изменники, которых надобно извести, как ядовитых гадин. Время всё откроет! Только надобно терпенье, а твой единственный порок, Орлик, нетерпеливость! Ты не можешь представить себе, сколько мне стоило труда преодолеть справедливый мой гнев и негодованье!.. Сердце моё чуть не лопнуло от внутренней борьбы. Но я победил себя и этою победою над собою восторжествую над моими врагами! Какая была бы польза, если б я вспыхнул, разгорячился... даже убил Огневика? В глазах Наталии я был бы чудовищем; хотя бы она и забыла со временем Огневика, но всегда бы ненавидела меня, его убийцу. Пусть он умрёт естественною смертью...
— Понимаю! — подхватил Орлик. — Порошок пли пилюли сделают своё дело. Конечно, это лучше...
— Это совсем не лучше, и ты не понимаешь меня, Орлик, — примолвил Мазепа. — Я хотел сказать, что, когда он умрёт естественною смертью, тогда Наталия простит мне, ибо я пытал его как врага, не знав о её любви к нему. Но мне не нужна смерть его. Напротив, я дал бы год собственной жизни за его исцеление.
— Признаюсь, что я вовсе не понимаю ничего! — сказал Орлик, склонив голову и размахнув руками.
— Поймёшь, если я скажу тебе, что Огневик будет примирителем моим с ГТалеем.
— Неужели вы, ясневельможный гетман, искренно желаете примирения с Палеем и верите в его искренность?
— Верю или нет, это моё дело; но мне надобно помириться с ним; необходимо нужно, чтоб Палей верил моей искренности, и никто лучше не убедит его в этом, как воспитанник его и первый любимец, Огневик. Его же весьма легко убедить теперь в чём угодно, потому что никто так не расположен всему верить, как влюблённые, особенно когда от его верования зависит успех их любви. Скажу тебе одним словом, что Огневик есть теперь главное веретено в моей политической машине и мы должны беречь и лелеять его как зеницу ока! Прошу тебя, верный мой Орлик, наблюдай сам за его исцелением и прикажи, чтоб скрывали от всех пребывание его в моём доме. Навещай его, приобретай его доверенность и дружбу твоими ласками... Прошу тебя об этом... Преодолей себя! Всё это необходимо нужно к моему и твоему счастью. Но вот и Мария! Ступай с Богом, Орлик, до завтра!
— Что новенького, Мария? Садись-ка да порасскажи мне, — сказал гетман.
— Кажется, что новости мои вам неприятны, ясневельможный гетман, итак, мне лучше молчать, потому что я не умею, подобно другим, лгать пред вами.
— Ого! Да ты не на шутку сердишься, Мария! Когда же я гневался на тебя за твои вести! Я гневался на тех, которые говорят про меня вздор, а не на тебя. Как друг твой, я не скрывал перед тобой чувств моих. Я имею к тебе полную доверенность, Мария, ибо убеждён, что ты предана мне искренно.
Ломтиковская тотчас догадалась, что гетман имеет нужду в её помощи в каком-нибудь важном деле. Она вознамерилась воспользоваться сим случаем к удовлетворению своего любопытства и корыстолюбия.
— Вы шутите, ясновельможный гетман, говоря, что имеете ко мне полную доверенность, — отвечала она с притворною досадой. — Передо мною сокрыто то, что знают даже ваши домашние прислужники!..
Гетман громко засмеялся.
— О женщины, отродие Евино! — сказал он, смеясь. — Тебя всё мучит эта варшавская красавица, не правда ли? Тебе хотелось бы знать, какова она, как одевается, как ходит, как говорит!.. Изволь, милая, я доставлю тебе удовольствие быть с нею по целым суткам... Слышишь ли?
Мария смотрела Мазепе в лицо, не веря словам его и думая, что он шутит над нею.
Вдруг Мазепа принял важный вид.
— Ты сказывала мне, — примолвил он, — будто в войске и даже в Киеве толкуют, что эта девица моя любовница, моя невеста, присланная ко мне из Польши, для уловления меня в сети измены своею необыкновенною хитростью. Увидишь, Мария, как справедливы народные толки и как мудры догадки людей, почитающих себя умными и дальновидными! Правда, эта девица имеет жениха, но этот счастливец — не я, а тот самый запорожский удалец, о котором говорили, что он хотел убить меня. Он здесь, болен, и пока выздоровеет, ты должна быть при нём, ухаживать за ним, как бы ты ухаживала за мною, а между тем наблюдать, чтобы эта варшавская девица, его невеста, которая будет навещать его, не оставалась с ним наедине. Влюблённые не думают о приличиях, о клевете, и чем они безвиннее, тем скорее подают повод к злословию. Я не доверяю польской воспитательнице этой девицы и имею на то мои причины. Тебе поручаю я важное звание надзирательницы с условием, чтоб ты не беспокоила ни девицы, ни её жениха своими расспросами и скрывала пред всеми, что посланец Палея скрыт в моём доме. Вообще, ты должна хранить в глубокой тайне всё, что ты узнаешь, всё, что услышишь и увидишь. За преступление сего приказания — смерть! Слышишь ли — смерть! Ты знаешь меня, Мария; я человек добродушный и простосердечный, почитаю величайшим наслаждением награждать верных исполнителей моей воли и неумолим в праведном наказании — как самая судьба!
— Вы напрасно, ясневельможный гетман, огорчаете себя, припоминая об изменниках, о непослушных, о казнях!.. Всё это до меня и не касается... Жизнь моя посвящена вам, и я готова была бы наперёд выколоть себе глаза и отрезать язык, если б не надеялась, что они будут послушны моей воле, то есть вашей воле. — Ломтиковская едва могла скрыть радость, возбуждённую в ней повелением гетмана, достигнув до того, чего так пламенно желала.
— Я верю тебе, Мария, — сказал гетман с видом простодушия, — но любя тебя искренно, должен предостеречь, что сто глаз и сто ушей будут наблюдать за всеми твоими поступками и подслушивать... даже мысли твои! Ты знаешь хорошо Орлика!
Ломтиковская наморщилась.
— Его личные выгоды сопряжены с сохранением сей тайны, и если он откроет какую-либо нескромность... то ты погибнешь прежде, чем я узнаю об этом. Берегись, Мария!
— Пусть сам чёрт или чёртов брат, Орлик, смотрит во сто своих глаз и слушает своей сотней ушей... Надеюсь, однако ж, что найдётся хоть один праведный язык, который, донесёт вам о моей верности.
— Я слыхал, что муж твой хотел взять в арендное содержание Чигиринскую мельницу, — сказал гетман. — Д отдаю её тебе в трёхлетний срок, без платежа откупных денег.
Ломтиковская поцеловала руку гетмана.
— Прощай, Мария! — примолвил он. — Завтра переселись ко мне в дом и разгласи в городе, что ты призвана ухаживать за мною, в моей тяжкой болезни. До времени я не хочу показываться войску.
Ломтиковская вышла, и Мазепа захлопал в ладоши. Вошёл немой татарин, раздеть и уложить в постель гетмана. Татарин был угрюм и грустен. Он похож был на волка, который уже ощущал на языке тёплую кровь добычи и лишился её от внезапного нападения охотничьих псов.
Мазепа не нашёл сна на мягком ложе. Сильные страсти и исполинские замыслы порождали в нём мысли и желания, которые беспрестанно росли, созревали и тем более терзали его наедине, чем усильнее он старался скрывать их пред людьми. Тщетно он закрывал глаза и хотел забыться. Каждая капля крови перекатывалась чрез сердце его, как холодный и тяжёлый свинец. Мазепа, до восхождения солнца, перевёртывался в постели, вздыхал, охал и, наконец, выбившись из сил, заснул, чтобы снова мучиться в сновидениях.
ГЛАВА V
Ой, на горе да женьци жнут,
А под пид горою
По пид зелёною
Казаки йдут,
Малорос. песня.Необозримая долина, покрытая высокою, густою травою, оканчивалась холмами, между коими поднимался туман, разгоняемый лучами восходящего солнца. После дождливой и бурной ночи настало тихое и тёплое утро. По степи, без дороги, тянулась ватага украинских казаков. Впереди ехал на вороном турецком жеребце воин высокого роста, сухощавый, бледный. Седые усы его ниспадали на грудь. Бритая голова покрыта была низкою шапкой с голубым бархатным верхом и с собольим околышком, а из-под шапки, надетой набекрень, висел клок белых, как лунь, волос, или чуприна. Он был в синем суконном кунтуше, с прорезными и закидными рукавами, подбитом светло-голубою шёлковою тканью, в красных бархатных шароварах и в жёлтых сафьяновых сапогах.
За столом персидским кушаком заткнут был турецкий кинжал; чрез плечо, напрасных шёлковых шнурках висела кривая турецкая сабля в золотых ножнах. Турецкое, окованное серебром, седло покрыто было бархатным чапраком с золотою бахромой. На коне был ронтик с серебром и сердаликами. Воин держал в зубах короткую трубку и сквозь дым, пробивающийся чрез густые усы, вперял взор вдаль. Лицо его было угрюмое, суровое, нос длинный, орлиный, губы тонкие, а большие чёрные глаза светились из-под седых, навислых бровей, как звёзды. За ним ехал казак в синем кобеняке[5], насунув видлогу[6] на малую шапку из чёрной овчины, и держал в руке аркан, которого другой конец зацеплен был за шею жида, ехавшего без седла, с связанными назад руками, на тощей кляче. Бедный жид был в одном полукафтанье, без шапки, с открытою грудью, босиком. Ветер развевал длинные его волосы и осушал слёзы, которые оставили светлые следы на грязном и бледном его лице. Другой казак вёл одну заводную и одну вьючную лошадь. В некотором отдалении ехали рядом два воина, одетые также в короткие суконные кунтуши синего цвета и в голубых бархатных шапках. Наряд их был простой, и только в оружии и в конской сбруе видно было золото и серебро. Один из них был уже в пожилых летах, а другой молод и красив, с гордым взглядом, с богатырскою ухваткой. За ними охали в беспорядке, но в тишине казаки, по одному, по два и по нескольку вместе. Некоторые были в кобеняках, а другие сняли кобеняки и перевесили куртки их чрез седло. Наряд простых казаков состоял из синей куртки с нашивными на груди карманами, для храпения зарядов, и из широких холстинных шаровар, также с нашивными карманами по обеим сторонам, в которых были пистолеты. Все казаки имели одинаковые низкие шапки из чёрной овчины с голубым верхом и светло-голубые шерстяные кушаки. У каждого была сабля при бедре, за плечом ружье, обёрнутое в овчину, и в руке длинная пика. Чрез плечо на ремне висела нагайка. С тылу чрез седло перевален был мешок с съестными припасами и кормом, а напереди была баклага с водою и аркан, свёрнутый в кольцо. Всех казаков было человек двести, и между ними не было ни одного молодого. Почти у каждого седина пробивалась в усах и в чуприне.
Ватага повернула к оврагу, поросшему кустарниками, чрез который проходила дорога, извиваясь змейкой по степи. Лишь только передовой, богатоубранный воин, взъехал на дорогу, на повороте, за кустами, послышался скрип телеги и голос погонщика волов. Ватага продолжала шествие своё. Вскоре телега, запряжённая парою волов, показалась из-за поворота. Украинский поселянин, в свитке, в шапке, слез с воза, поворотил телегу на сторону, остановил волов, и, когда передовой воин поравнялся с ним, поселянин снял шапку и поклонился ему в пояс.
— Здорово, хлопче! — сказал передовой воин.
Мужик поднял глаза и, как будто поражённый блеском убранства воина, ещё ниже поклонился, примолвив:
— Здоров будь, пане! — Потом, взглянув простодушно на воина, выпучил глаза, разинул рот и, осмотрев его о головы до пят, спросил: — А куда едете, Панове?
— Куколь с пшеницы выбирать; жидов а ляхов резать! — отвечал хладнокровно передовой воин.
Жид вздрогнул, как будто его кто уколол под бок, сделал жалостную гримасу, но не смел ойкнуть, страшась казачьих нагаек.
— Помогай Бог! — отвечал простодушно мужик.
— А далеко ли до Днепра? — спросил передовой казак.
— Для проклятого ляха или для поганого жида была бы миля, а для тебя, пане, скажу только — на один воловий рык, — отвечал мужик.
Передовой воин улыбнулся, вынул из кармана талер и бросил мужику, который не спускал глаз е воина и даже не наклонился, чтоб поднять талер.
— Возьми деньги и пей за наше здоровье! — сказал передовой воин.
— Мы и за свои гроши пьём за твоё здоровье, пане, коли ляхи да жиды не подсматривают за нами да не подслушают, — отвечал мужик.
— А разве ты знаешь меня? — спросил воин.
— Как нам не знать батьку нашего, пана Палея! - отвечал мужик, снова поклонясь в землю.
Это был в самом деле знаменитый вождь Украинской вольницы Семён Палей, гроза татар и поляков, бич жидов и жестоких помещиков, ужа Мазепы, идол угнетённого народа в польской Украине, любимец войска малороссийского и Запорожского. Казаки и поселяне не называли иначе Палея, как батькой, и это нежное, сердечное наименование употребляли всегда, говоря с ним и про него. Палей гордился этим прозванием более, нежели титулом ясневельможного, которым величали его паны польские и даже сам король; а с тех пор, как отложился от Польши и объявил себя подданным царя русского, он истребил в своей вольнице все прежние польские обыкновения, удержал только наряд польский, который носили тогда все знатные украинцы и чиновники царского войска малороссийского.
Палей бросил мужику другой талер и спросил:
— Не слыхал ли про польских жовнеров или не собирается ли где шляхта?
— Не знаю, татар ли, москалей или тебя, батько, боятся ляхи, а только они крепко зашевелились, как овцы перед стрижкой. Отовсюду гонят подводы да свозят всякий запас в Житомир. Слышно, что паны паши да экономы, трясца их матери, берут за то гроши, а нам велят давать хлеб и волов даром! Вот и к нашему пану наехало ляхов тьма-тьмущая. Сами ляхи — бис бив бы их батьку! — пируют на панском дворе, а коней своих да ляшенков расставили по сёлам да велят объедать, пас, бедных! Ты знаешь, батько, что ныне у нас завелось два короля, и наш пан держит за новым королём, так и собирает у себя ляхов, чтоб идти на старого короля. Брат мой, надворный казак, сказывал мне, что ляхи навезли к пану целые скрини с грошами, а разве жид да бис увидит ляшский шеляг!
— Гроши будут наши, а ляхи — собакам мясо! — сказал Палей. — А как зовут твоего пана?
— Пан Дульский, тот, что...
Палей не дал мужику кончить.
— А я к нему-то именно и еду в гости, — сказал он. — Так ты говоришь, что у него собралось много ляхов? А сколько, например?
— Считать я их не считал, а знаю, что их будет больше, чем скота в панском стаде...
— Сотни три, четыре, что ли? — спросил Палей.
— Уж верно, сотни четыре, — отвечал мужик. — Не ходи теперь, батько, к нашему пану, а то тебе мудрено будет добраться до него, коли ты к нему едешь с тем, чего мы ему у Бога просим. Панский двор окопан валом, на валу стоят двенадцать пушек, да ещё каких крепких, железных! А перед валом ров, а за рвом частокол, а за частоколом стоят ляхи с ружьями, а ворота одни, да и те на запоре, а за воротами решётка, да ещё железная, а над воротами куча камней, а за камнями...
— Довольно, довольно! Спасибо за добрые вести, — примолвил Палей и бросил третий талер мужику.
— Добрые вести, добрые вести! — проворчал мужик с удивлением подбирая деньги. — От этих добрых вестей у другого бы морозом подрало по коже, а нашему батьке пули, как вареники, а пушка, как бабья ступа!
— Что ты ворчишь себе под нос? — сказал Палей.
— Так, ничего, а дивлюсь только, что ты не боишься ни панских пушек, ни ляшских ружей, а нам так и от канчука экономского деваться некуда!
— С завтрашнего дня эконом ваш не будет больше размахивать канчуком, а взмахнёт всеми четырьмя, да и поминай как звали! — сказал Палей.
— Ой, дай-то, Боже! — сказал мужик, перекрестясь.
— Ведь ты слыхал уже, что мы идём куколь из пшеницы выбирать? — примолвил Палён.
— Да, да! Ляхов и жидов резать!.. Помогай Боже, помогай Боже! — сказал мужик, крестясь и кланяясь.
— Только смотри ж... ни гугу! — сказал Палей. — Никому ни словечка, что видал меня с моими детками!
— Хоть бы меня на крыже раскряжовали, хоть бы век горилки не пить, хоть бы жиду служить, хоть бы быть прокляту, не скажу и отцу родному! — отвечал мужик. — Ступай, батько, куколь из пшеницы выбирать! Бог помочь! Счастливый путь!
Палей махнул нагайкой, улыбнулся и поехал вперёд по дороге, ведущей к Днепру. Влево видна была вдали колокольня. Палей снова своротил с дороги и целиком поехал к холмам, покрытым лесом. Через час он въехал на холм, и величественный Днепр открылся его взорам. Бодрый старик соскочил с лошади и, обернувшись к своим казакам, сказал:
— Здесь, детки, отдохните и покормите коней. Огней не разводить и держаться в куче. Иванчук! Расставь часовых вокруг. Москаленко! Размести коней по десяткам, да смотри, всё ли в порядке. Грицко! Подай горилки и сала!
Палей бросился под дерево, набил снова трубку и стал вырубать огонь, мурлыча украинскую песню.
Иванчук был тот самый старый есаул, который спасся бегством из Батурина, когда его уведомили, что Огневик захвачен в гетманском дворце. Зная хорошо характер Мазепы, Иванчук был уверен, что ему не миновать участи Огневика; а потому, для уведомления Палея о случившемся, заблагорассудил отправиться к нему немедленно, не ожидая окончания переговоров. Москаленко, молодой казак, ехавший рядом с Иванчуком, был сотник в вольнице Палеевой. Только один Палей знал его настоящее прозвание, которое молодой сотник скрывал пред всеми. По месту его родины, по Москве, Палей прозвал его Москаленкой. Он был сын одного из стрелецких старшин, казнённых за буйное сопротивление воле Петра Великого. Двое старых стрельцов, успев спастись бегством из Москвы, взяли с собой сына своего начальника, юного Лаврентия, и чрез Польшу пришли в Запорожье, где Лаврентий приучился к военному ремеслу, не забыв грамоты и некоторых сведений в истории и географии, приобретённых им в родительском доме, от старого монаха Заиконоспасского монастыря. На двадцатом году от рождения, прельстясь славою Палея, Лаврентий упросил Кошевого атамана запорожцев, Гордеенку, отпустить его в службу к вождю Украинской вольницы и уже три года служил при нём, отличаясь храбростью, расторопностью и пламенной привязанностью к Палею, который любил его за сие, как родное дитя, почти так, как Огневика.
Иванчук вскоре возвратился, и Палей позвал его и Москаленка позавтракать с собою.
Грицко разостлал ковёр на траве, поставил деревянную, обшитую кожей, баклагу с водкой и кошель, в котором были сухари и свиное сало, любимая пища украинцев. Палей перекрестился, выпил порядочный глоток водки, вынул из-за пояса кинжал и отрезал кусок сала, взял сухарь и, зачесав пальцами длинные свои усы, стал завтракать, подвинув кошель к своим собеседникам, которые присели возле ковра. Между тем казаки подвешивали коням торбы с овсом.
Невзирая на то, что дружина Палеева называлась вольницей, она рабски повиновалась воле своего начальника. Во время похода Палей запретил казакам возить с собой водку и вобщее предаваться пьянству, и сколь ни склонны были к сему его подчинённые, но не смели преступить запрещения, зная, что жестокое наказание постигнет виновного. С жадностью поглядывали казаки на баклагу, стоявшую пред Палеем, и, казалось, поглощали её взорами.
— Грицко! — сказал Палей. — Дай по доброй чарке горилки деткам!
Грицко снял две большие баклаги с вьючной лошади, вынул из мешка медную чарку величиной с пивной стакан и, перевесив баклаги через оба плеча, пошёл к толпе и стал потчевать усатых деток Палеевых, которые как будто пробудились от запаха водки и стали прыгать и подшучивать вокруг Грицка.
Позавтракав, Палей обтёр усы рукавом своего кунтуша, помолился, снова закурил трубку и велел подозвать к себе жида, который во всё это время стоял ни живой ни мёртвый под деревом, поглядывая вокруг себя исподлобья. Жид, подошед к Палею, бросился ему в ноги и не мог ничего сказать от страха, а только завопил жалобно: «Ай вей, ай вей!»
— Пан Дульский подослал тебя узнать, что я делаю и можно ли напасть на меня врасплох, в Белой Церкви, Жаль мне, что ты не получил обещанных тебе им пятидесяти червонцев, потому что я сам повезу к нему вести, которые он поручил тебе собрать об нас, своих добрых приятелях! Но как ты не станешь с нами есть свинины, воевать не умеешь, а плутовать хоть бы рад, да мы не хотим, то мне нечего делать с тобой, и я решился отправить тебя на приволье, где у тебя будет рыбы вдоволь, хоть не ешь, а воды столько, что ты можешь наделить всех шинкарей, которые разводят ею горилку. Детки, в Днепр иуду!
Стоявшие вблизи казаки, которые, закусывая, слушали с приметным удовольствием речь своего вождя, бросились на жида, как волки на паршивую овцу, отогнанную от стада, и с хохотом и приговорками потащили его к реке.
— О вей! — закричал жид. — Ясневельможный пане, выслушай!.. Я тебе скажу большое дело... важное дело... весьма тайное дело... Только помилуй... пожалей жены и сирот!
— Я не пан и даже не шляхтич, а простой казак запорожский, — сказал Палей, — однако ж выслушать тебя готов. Постойте, детки! Ну говори, что ты знаешь важного.
— А если скажу, го помилуешь ли меня? — сказал жид, дрожа и плача. — Я бедный жидок и должен был сделать, что велит пан. У меня бедная жена и четверо бедных деток... они помрут без меня с голоду... Прости! Помилуй! - жид снова бросился в ноги Палею и зарыдал.
— Так это-то твоё важное и великое дело! — возразил Палей. — Жизнь твоя, жена твоя и дети важны для тебя, а не для меня. Из твоих малых жидёнков будут такие же большие жиды-плуты, как и ты, а ведь кому тонуть, того не повесят! Один конец... в воду его!
Казаки снова потащили жида к реке.
— Ясневельможный пане! — возопил жид. — Ты не выслушал меня... я не успел сказать тебе важного дела... Постой... выслушай!
— Подайте его сюда, — сказал Палей. — Ну говоря, что ли?
— А помилуешь ли меня, — возразил жид, трепеща от ужаса, — оставишь ли мне жизнь?.. Я ничего не прошу, только не убивай, не бросай меня в воду!
— Что ты, проклятый иуда, торговаться со мною хочешь, как в корчме, что ли! — воскликнул Палей грозно. — Говори, или я заставлю тебя говорить вот этим! — примолвил он, потрясая нагайкой.
— Изволь, ясневельможный пане, я скажу тебе всю правду, — отвечал жид, морщась и закрыв глаза при виде нагайки. — К нашему пану и князю Дульскому приехала его родственница из Варшавы, княгиня Дульская, у которой первый муж был князь Вишневский. Сказывают, что пан гетман Мазепа хочет жениться на ней, и это слышал я от гайдука пани княгини, а гайдуку сказывала первая служанка пани княгини. Вот ровно неделя, в прошлый шабаш, приехал из Батурина к нашему пану ксенз иезуит и привёз, много бумаг, а пан наш да ещё другие паны целую ночь, читали эти бумаги, радовались, пили, поздравляли княгиню и отправили нашего конюшего к новому королю... Так видно, что тут дело пребольшое, когда пан гетман Мазепа пишет к панам, которые держатся за новым королём, а новый король неприятель московского царя, которому служит паи гетман Мазепа... Ну вот это дело важное!.. Помилуй меня, бедного жидка, ясневельможный пане! Сжалься над моими бедными детками, над моею женою! — жид снова зарыдал и бросился в ноги Палею. Казаки с трудом оттащили его на сторону.
Палей задумался. Помолчав несколько, он взглянул на Иванчука и сказал:
— Проклятые жиды, как они смышлёны! Смотри, пожалуй, как этот иуда догадался! Прибывший к Дульскому иезуит, верно, патер Заленский, о котором ты говорил мне, Иванчук. Про любовную связь Мазепы с Дульского я давно уже слышал. А эта переписка, прибытие Дульской в эту сторону, вооружение приверженцев Станислава на Украинской границе, всё это мне что-то весьма подозрительно! Узнаем скоро всю правду! Ну, жид, если нечего более говорить — так ступай на шабаш, в Днепр!
Казаки снова ухватились за жида, но Москаленко тронулся его жалким положением и сказал Палею:
— Батько! Прости этого несчастного, помилуй отца семейства, ради важности сообщённых им новостей...
Палей одним грозным взглядом пресёк речь молодого человека.
— Я никогда не прощаю и никогда не милую изменников и шпионов! Понимаешь ли, неженка! Что тут общего между жидом и его новостями? Это то же, если б я, купив коня, берег слепня, который впился в него... В воду его, детки!
Казаки подхватили жида на руки, завязали ему рот кушаком и понесли на берег.
— Раз... два... три! — прокричал один из казаков... Плеск раздался в воде, и жид, брошенный с размаху в реку, канул на дно, как камень.
— Вечный шабаш! — закричали казаки. Гул повторил их хохот.
Между тем Палей сидел в задумчивости, не обращая внимания на происходившее вокруг него, курил свою короткую трубку и поглаживал усы.
— Послушай, Иванчук! — сказал он наконец, уставив на него быстрый взгляд — Я что-то выдумал, и если дело удастся мне, то проклятый Мазепа съест гриб!.. — Он остановился, посмотрел неподвижными глазами на Иванчука и снова задумался. Трубка его перестала куриться, но он сосал чубук и шевелил губами, будто пуская дым.
— Слушаю, — сказал Иванчук. Палей молчал и не переменял положения.
— А что же ты выдумал, батько? — примолвил Иванчук, взял за руку Палея и пожав её сильно.
— Что бишь я сказал? Да, да! Вот что я выдумал! — сказал Палей. — Лукавый Мазепа замышляет что-то недоброе! Научившись у иезуитов хитростей, а у Дорошенки измены, Мазепа, этот латинский змей, не пропустит теперешнего случая, чтоб не воспользоваться враждою четырёх царей. Служит он Петру, а в дружбе с польскими приверженцами Станислава, которого сажает на престол шведский король. Я хочу вывести приятеля на чистую воду! Ты Иванчук, с полуторой сотней молодцов выступи в поле, покажись в окрестностях замка пана Тульского, вымани в погоню за собой шляхту, которая собралась у него, а с Москаленкой и с остальными пятьюдесятью удальцами, ударю ночью на замок, возьму его, захвачу невесту или любовницу Мазепы, Дульскую, захвачу иезуита, возьму их бумаги и заставлю и патера, и бабу признаться во всём. Дульскую выменяю тотчас на моего Огневика, а иезуита с бумагами, если в них есть что важного, отправлю к царю, а если нет, то на осину патера — и делу конец!.. Как ты думаешь об этом?
— Дело хорошее, — отвечал Иванчук, сняв шапку и пригладив свою чуприну, — дело хорошее, только слишком опасное. Пан Дульский укрепил дом свой валом и пушками; народу у него вдвое больше нашего, так мы можем наткнуться на беду, а всё это, право, не стоит того, чтоб ты, батько, шёл почти на верную смерть!..
— На верную смерть! — воскликнул Палей. — Верно то, что каждый должен умереть — а где и как, это, брат, у всякого на роду написано, а знать нам не дано. Ты говоришь, что дело не стоит того, чтоб подвергаться опасности! Не так бы ты запел, когда бы вместо Огневика сидел теперь в тюрьме, в цепях! Тебе, видно, дорога только твоя седая чуприна, Иванчук! — примолвил Палей гневно. — Все вы помышляете только о себе...
— Помилуй, батько! — возразил Иванчук. — Я совсем не думал об Огневике, говоря это. Я думал о тебе, про твою дорогую для нас жизнь, полагая, что иезуит и бумаги Мазепины не стоят того...
— Чёрт побери всех иезуитов и всю вашу бестолковую грамоту, которую я ненавижу насмерть! — сказал Палей, ударив своею трубкой о земле. — Всё это дело постороннее, а главное — мой Огневик, мой Огневик, которого я люблю более, нежели родное детище! Будь он свободен, а я, пожалуй, отдам Мазепе и иезуита его, и любовниц, и бумаги, и всех приятелей его, польских панов, нанизав их на верёвку, как сушёную тарань! Ты мало знаешь Огневика, Москаленко! Послушай, я тебе расскажу, как мне дал его Бог. Когда я был ещё в Запорожье, лет двадцать пять перед этим, мы ходили однажды на промысел в Польшу, чтоб проучить панов за то, что они перевешали с полсотни наших казаков, поймав их на ярмарке, где они немножко пошалили, и, кажется, зажгли какое-то грязное жидовское местечко, верно, для просушки. Похозяйничав порядочно в панских дворах, мы послали добычу вперёд, а сами возвращались в Запорожье, малыми ватагами, чтоб ляхи не знали, за кем гнаться. Переправившись с моей ватагой чрез Буг, я наехал на место, где ночевали наши передовые. Это было на рассвете. Корчма догорала. Между дымящимися головнями было несколько жидовских трупов и полусгоревший берлин какого-то проезжего пана, который, на беду свою, попал на ночлег в эту корчму. Вокруг всё было дико и пусто, только под лесом выла собака. Я слез с лошади закурить трубку, и вдруг мне послышался крик ребёнка. Я послал казаков отыскать его, и они под лесом нашли ребёнка, над которым выла собака. На ребёнке была тонкая рубашка, золотой образ Богоматери и шёлковый кафтанчик. Ему было не более году от роду, и он чуть был жив от холода и голода. Казаки хотели для забавы бросить мальчика в огонь, чтоб полюбоваться, как будет жариться ляшенок, но он так жалобно кричал и протягивал ко мне ручонки, что я не дал его на потеху казакам и завернул в свой кобеняк, накормил саламатой и привёз с собой в Запорожье. Казаки смеялись над моей добычей, но мне не хотелось уже расстаться с мальчиком. Я отвёз его на хутор, к жене, и велел вскармливать вместе с моими детьми. Я окрестил его в русскую веру и прозвал Огневиком, в память того, что я нашёл его при огне и спас от огня. Когда мальчик подрос, я сам выучил его казачьему делу, и он был со мной в нескольких набегах на Крым и на ляховщину и отличился храбростью в таких летах, когда другие едва в силах пасти табуны. Наконец я раздумал, что мне со временем будет нужен грамотный человек, и решился отдать era сперва в Киевскую школу, а после в Винницу, к иезуитам, чтоб они научили его польскому и латинскому письму, Иванчук скажет тебе, что ни у царя, ни у королей нет такого писаки, как мой Огневик. А на коне с саблей и с пикой ты видал его сам. Я надеялся скоро... Но что тут говорить! Злодей Мазепа как будто оторвал половину моего сердца, отняв у меня Огневика! Во что бы ни стало, а я выручу его из Мазепиных клещей! Если яге он убьёт его, то вот этим кулаком я пробью грудь нечестивому и исторгну у него внутренности, вместе со злобною душою! Этот предатель не стоит того, чтоб на нём марать клинок моей сабли!.. — Глаза Палея налились кровью, краска выступила на бледном лице, уста дрожали, и кулаки сжимались: он был в сильном припадке гнева.
— Он не посмеет убить Огневика, — сказал Иванчук в успокоение Палея.
— Не посмеет! — возразил Палей. — Не посмел бы он явно, так как не смеет напасть на меня — но Мазепино оружие: яд и кинжал! Откладывать нечего и надобно торопиться освободить Огневика.
— Я готов на всё, что прикажешь! — сказал Иванчук.
— Дело мы поведём отважно, и притом осторожно, — примолвил Палей. — Как только ты увидишь за собой погоню, Иванчук, го веди её к Днепру, и, переправясь в лесном месте, остановись. Ляхи не посмеют идти за тобой на русскую сторону, а ты между тем перейди опять на этот берег и другою дорогой поспешай ко мне, на выручку, так, чтоб ляхи не заметили твоего похода. Я нападу ночью на замок пана Дульского и... что будет, то увидим завтра, на рассвете! Недаром русские говорят: утро вечера мудренее!
Заметив, что лошади уже съели корм, Палей встал со своего места и сказал:
— Детки! Напоите коней, осмотрите ружья и вперёд! Пора на работу!
Казаки бросились к лошадям.
Через час казацкая ватага уже шла по дороге, в устройстве и в боевом порядке, а малый отряд, при котором был сам Палей, на рысях прошёл степью в сторону и скрылся в лесу.
ГЛАВА VI
Но не раскаяньем душа его пота:
отмщеньем, зло вою терзается она.
Озеров (в Фингале).Молодость и крепкое сложение Огневика преодолели недуг, а врачебные пособия и попечения Наталии ускорили возврат здоровья. Чрез две недели после пытки Огневик уже был вне всякой опасности и чувствовал только небольшую слабость.
Наталия, по собственной воле, а Ломтиковская, по приказанию гетмана, пи день, пи ночь не отходили от постели больного во время опасности. Но теперь, когда он оправился, Мазепа приставил к нему своих комнатных служителей, а Наталии позволено было навещать больного только в известные часы, всегда, однако ж, в присутствии Ломтиковской, для соблюдения приличия, как сказал гетман своей питомице.
Такое положение мучило любовников. Неизвестность их будущей участи и принуждение омрачали радостные минуты свидания. Истинная любовь не многоречива, но она ищет уединения, и не только речи, а даже нежные взгляды, самое безмолвие приятнее без докучливых свидетелей. Огневик и Наталия не могли не догадываться, что поверенная гетмана приставлена к ним в качестве стражи и лазутчицы, и потому присутствие её было им несносно. Усердные попечения Ломтиковской о больном, оказываемое ею сострадание к участи любовников, нежность обхождения её с Наталией, вид добродушия во всех речах и поступках и даже жалобы на суровость гетмана несколько раз увлекали Наталию к откровенности; но Огневик, воспитанный в чувствах недоверчивости к Мазепе, видел во всём его окружающем измену и предательство и удерживал Наталию взглядами и намёками от ропота и душевного излияния. Ломтиковская не смела ни о чём расспрашивать их, а они не имели охоты рассказывать, и потому время свидания проходило почти в безмолвии, прерываемом изредка краткими речами, которых сила и выражение понятны были только любовникам.
Наконец комнатный служитель объявил Огневику, что гетман желает переговорить с ним наедине. Наталия и Ломтиковская удалились немедленно, и чрез несколько времени вошёл гетман в комнату больного.
— Не беспокойся, любезный Богдан! — сказал Мазепа Огневику, который сидел на постели, и, при входе гетмана, встал и поклонился ему.
— Сядь или приляг, если чувствуешь слабость, — примолвил Мазепа, приближаясь к кровати. — Спокойствие тебе нужно: оно главное для тебя лекарство.
Огневик сел по-прежнему на кровати, и Мазепа поместился на стуле, у изголовья.
— Я почти столько же страдал, как и ты, — сказал Мазепа, — от мысли, что я причиною твоего недуга, любезный Богдан! Но ты человек умный, и порассудив, вероятно, простишь меня. Мы были в неприязненных отношениях друг к другу, и я, окружённый изменою и враждою тайною и явною, не столько для собственной безопасности, сколько для блага общего должен был прибегнуть к крайности с человеком, которого не знал и который навлёк на себя справедливое моё подозрение... Отдаю это дело на твой собственный суд!..
— Я истребил из памяти всё прошлое, — сказал Огневик, — и от будущего зависит мой образ мыслей и моя повинность к вам, ясновельможный гетман! Как подчинённый Палея, я должен был служить ему верно; но если вы, ясновельможный гетман, исполните своё обещание и отдадите мне руку своей питомицы, я оставлю службу Палея, и хотя никогда не стану действовать противу пользе и выгоде моего благодетеля, но во всех других случаях буду вам служить верою и правдою, не жалея ни жизни, ни трудов.
— Откровенность твоя оправдывает любовь мою к тебе, любезный Богдан! — возразил Мазепа. — Нет, я не хочу, чтоб ты изменил своему благодетелю, и твоя к нему верность служит мне порукою в будущей твоей ко мне преданности и в счастии моей питомицы. Напротив того, я желаю, чтоб ты, питомец Палея, был примирителем между нами и служил верно нам обоим. Он любит тебя как сына, я люблю Наталию как родную дочь; итак, пусть же союз ваш, наших детей, будет неразрывною цепью нашей дружбы! Ты говоришь, Богдан, что он послал тебя ко мне с предложением мира и покорности. Не хочу покорности, хочу мира и дружбы искренней, верной, такой дружбы, какой я ему дам доводы. Тебя же избираю я с моей стороны в посредники нашей мировой. Пусть Палей поклянётся защищать со своей вольницей права Малороссии, противу кого бы то ни было, без оглядки ни на царя московского, ни на короля польского — и я весь его!.. Я, со своей стороны, поклянусь: отдать ему и в вечное владение все занимаемые им земли и не только защищать его от каждого, но исходатайствовать у Польской Республики уступку забранных им земель, за малое вознаграждение. Палей будет владеть, независимо от меня, полком Хвастовским, Винницею и Белою Церковью; может именоваться гетманом, если ему это угодно, и только в случае общей опасности, угрожающей Малороссии и Украйне, должен ополчиться и вступить с своим войском под моё начальство.
Мазепа перестал говорить и смотрел пристально на Огневика, который слушал внимательно, потупя взоры, и погружен был в размышления. Помолчав несколько, он поднял глаза и сказал:
— Но что скажет об этом царь московский?
Он не должен знать об этом, — возразил Мазепа. — Видишь ли, любезный Богдан, какую доверенность, оказываю я тебе, открывая важнейшую мою тайну! Слушай меня! Я верен царю московскому и намерен остаться верным до гроба. Но царь Пётр замыслил преобразовать Россию, по образцу прочих европейских государств, заводит флоты, устраивает регулярное войско, сооружает крепости, и хочет, чтоб целая Россия управлялась одинаково. Малороссия и Украина, оставаясь при своих правах и привилегиях, составляет почти независимое владение внутри самой России, и тем опаснее для неё, что примыкает к двум враждебным ей народам, полякам и татарам. На основании наших привилегий царь не может даже содержать своего войска в нашей земле, ниже строить крепостей. Власть гетмана, по силе привилегий, почти независима от государевой! Такой порядок не может существовать, если Россия будет устроена по образцу просвещённых европейских государств. Всё единоверцы и все соплеменники должны слиться с Россиею, как ручьи с разлившимся океаном, а все противники России должны погибнуть, если не успеют удержать в берегах сие море. Что будет после меня, то в воле Божией; но если при жизни моей царь московский захочет уничтожить гетманщину и казачину, я решился защищать до последнего издыхания права, вверенные мне народом. Не для своих выгод жертвую я спокойствием моим, но для блага любезной нашей Украины! Мне нечего желать более и нечего надеяться! Царь московский дал мне всё, что только царь может дать подданному, но я и самую благодарность приношу в жертву общей пользе, пренебрегая людским мнением. Недолго мне остаётся жить на свете! Пусть, при жизни моей, народ выберет себе другого гетмана, если найдёт достойнее меня. Мазепа умрёт спокойно и счастливо в уверенности, что сохранил своей родине её права и вольности! Вот мысль, которая занимает меня денно и нощно; вот одно чувство, заставляющее ещё биться это охладевающее сердце! Любовь к отечеству, желание народного блага управляют всеми моими помыслами и всеми желаниями! Для них я всем жертвую: здоровьем, спокойствием и самою славою! Но меня не понимают, меня ложно судят, на меня клевещут, потому что я не смею ни пред кем открыться! В твою высокую душу изливаю мою тайну и все мои чувствования! Будь сыном моим, будь подпорою моей старости, поборником прав любезной нашей родины и склони Палея к принятию участия в общем деле! Клянусь, что в этом сердце одна истина, одна чистая любовь к отечеству!.. — Мазепа распростёр объятия: слёзы катились градом по его лицу. Огневик бросился ему на шею.
В то время в Малороссии и в Украйне существовал свой особенный, местный патриотизм, своя народность и свои понятия о правлении. Казаки ненавидели поляков. Лях и папист почитались бранными словами, но и слово москаль не означало ласки. Малороссияне и украинцы не любили русских. С поляками разделяла казаков ненависть за веру и за прежнее господство, а с русскими соперничество. Все благомыслящие, все умные малороссияне желали пламенно, чтоб Малороссия и Украина были в подданстве России, но не было между ними тогда ни одного, который бы желал, чтоб Малороссия и Украйна слились воедино с Великороссиею. В то время Украйна и Малороссия имели весьма важные и основательные причины не желать сего тесного соединения, ибо в то время Россия была не то, что она ныне! Пётр Великий только что начал тогда свои преобразования, а до него Россия была азиатским государством. Бояре и воеводы, высылаемые в области, для управления ими, немилосердно грабили и угнетали народ, по примеру татарских баскаков, и закон молчал пред сильными любимцами царскими! Одним словом, малороссиянам и украинцам тогда нечего было завидовать русским. Впоследствии уравнение Малороссии с Великороссиею делалось благодеянием для первой — но в то время это было бы бедою, ибо нынешнее величие, сила, могущество и просвещение России существовали тогда только в сердце и в уме Петра Великого.
Итак, неудивительно, что умный Огневик воспламенился речами Мазепы, ибо он был в душе украинец и выгоды своей родины предпочитал всему в мире. Но когда первый восторг прошёл, Огневик вспомнил о коварстве Мазепы и усомнился в истине слышанного. Хитрый Мазепа заметил внезапное охлаждение Огневика и ожидал, что он скажет.
— Доверенность за доверенность! — сказал Огневик. — Сомневаюсь, что Палей поверил той опасности, которая, по вашим словам, ясневельможный гетман, угрожает Украйне. Долговременная вражда между вами породила недоверчивость...
— Понимаю! — прервал Мазепа. — Ты хочешь доказательств. Они есть у меня на бумаге. Я покажу Палею переписку мою с князем Меншиковым, с графом Головкиным, с бароном Шафировым и даже с самим царём, и он удостоверится в истине сказанного мною. Вверить сих бумаг я не могу никому, но готов их показать Палею. Пусть он назначит место для свидания со мною. На твоё слово я прибуду туда безоружный, один, без стражи! Какое же более хочешь доказательство моей искренности? Для мира с Палеем, для блага родины — предаюсь в руки врага моего, если Палей хочет быть моим врагом!
— Нет, он не будет вашим врагом, если уверится в вашей искренности; если убедится, что вы столь преданы нашей общей матери, Украйне! Я ручаюсь вам за него, ясневельможный гетман! Палей истинный казак и для казацкой вольности пожертвует всем, и дружбою, и любовью, и враждою. С радостью беру на себя ваше поручение и завтра же отправляюсь в путь!
— Дай мне руку, друг мой, сын мой! — сказал Мазепа, с радостью во взорах и на устах. — Ты будешь основным камнем счастия нашей родины и моего собственного счастья, нераздельного с её благом! Я стар и бездетен. Я хотел усыновить мою питомицу, с тем чтоб передать избранному мною мужу её всё моё достояние и даже все заслуги мои в войске. Я имею сильных друзей, и если чрез их посредство голос мой будет услышан войском, если воля моя найдёт путь к сердцу моих добрых старшин, я сам назначу наследника в гетманы, назначу при жизни моей... Обойми меня ещё раз, сын мой!
Огневик был растроган ласкою, добросердечием и великодушием Мазепы и никак не мог сомневаться ни в его желании примириться с Палем, ни в любви к отечеству, когда гетман отдавал себя в залог своей искренности. Любовь к Наталии вопияла также в сердце Огневика в пользу её благодетеля, когда Огневик удостоверился, что Мазепа любит её только отеческою любовью, а не воспитывал, как твердило людское мнение, для развратных своих наслаждений. Огневик с чувством обнял Мазепу и в эту минуту готов был жертвовать жизнью на его слово.
— Теперь поговорим о твоём деле, любезный Богдан! — сказал Мазепа. — Клевета и зависть, эти шипы и славы и счастья, изъязвили меня. Каждую мысль мою, каждое слово моё, каждый мой поступок завистливые люди толкуют в дурную сторону. Прощаю ли я врагов моих и доносчиков — я малодушен! Караю ли их — жесток! Избегаю ли умом и осторожностью измены и тайных сетей — я коварен! Удерживаю ли в повиновении закону старшин — я деспот! Вот суждения обо мне! Я всё знаю и молчу, предоставляя всё Богу и потомству. Не скажу, что я был беспорочен, бесстрастен, безгрешен! Я человек! Но я человек не злой и не коварный, каким хотят представить меня враги, а может быть, слишком простодушный для нашего века и слишком снисходительный! Вот вреднейшие мои пороки! Вся моя беда в том, что я не пью ночи напролёт с моими старшинами, как Зиновий Хмельницкий, и не обсуждаю дел на площади, в толпе пьяной черни, или за ковшом с мёдом, в светлице, как бывало прежде меня. Многим несносно, что я работаю один за всех и для всех, не теряя времени на пустые толки с пустыми головами. Глупцам кажется, что всё должно быть так, как было при Хмельницком и при Дорошенке, а хитрецам этого хочется. Но умный человек должен жить по поре, по времени, а ныне русские не те люди, что были за десять лет перед сим! С другими людьми я должен иначе вести себя. Но меня не понимают здесь и бранят, клевещут, ненавидят! Узнают и раскаются! Таким образом клевета выдумала, будто Наталию воспитал я из гнусных видов сладострастия и берегу для любовных утех! Будь проклят тот язык, который первый вымолвил сию подлую ложь! Порази гром ту голову, в которой родилась сия злодейская мысль! Наталия не могла ничего рассказать тебе о своём происхождении. Она знает только, что она сирота, которую я взял к себе, ещё в колыбели, но не знает ни родителей своих, ни причины, которая заставила меня быть ей вторым отцом. Слушай! Когда я был в Польше, в моей молодости, любовная связь с женою одного вельможи, при котором я служил в звании конюшего, подвергла жизнь мою опасности. Озлобленный вельможа поставил в засаду гайдуков своих и велел схватить меня, когда я пойду на свидание с его женою. Он хотел лишить меня жизни в жесточайших мучениях, и уже всё приготовлено было к моей казни. Один бедный шляхтич, служивший со мною при дворе вельможи, Иван Милостинский, по особенной ко мне привязанности, уведомил меня о предстоящей опасности и помог мне спастись бегством. Я бежал в Запорожье и записался в казаки. Приобрев доверенность гетмана Дорошенки, я призвал шляхтича, чтоб разделить со мною моё счастье. Судьбе угодно было, чтоб он в другой раз спас мне жизнь, в одном татарском набеге. Израненный, он не мог продолжать службы, удалился в Киев, женился, и Наталия — дочь его. Мать её умерла в родах, а мой избавитель слёг в могилу в год после рождения своей дочери. Я взял сироту к себе и послал в Варшаву, к сестре управителя моего, Быстрицкого, чтоб воспитать её в польских нравах, как пристойно благорождённой девице. По окончании её воспитания, я велел привезти её сюда, чтоб найти ей мужа, достойного той блистательной участи, какую я готовлю для дочери моего истинного друга, которому я дважды обязан жизнью. Заботы мои кончены! Наталия сама выбрала себе жениха, и я благодарю Бога, что выбор её пал на человека, который достоин всей любви моей и уважения. Теперь скажи мне, Богдан, как ты узнал её?
— В прошлом году польские вельможи предложили Палею именем Республики отложиться от России, обещая ему гетманство в Заднеприи, место в Сенате, богатые вотчины и жалованье войску. Палей, верный в преданности своей к России и в ненависти к Польше, не поколебился лестными обещаниями врагов своих, но, желая узнать причины, побуждающие вельмож к сему поступку, выслал меня в Варшаву, будто для тайных переговоров, а в самом деле, чтоб узнать настоящее положение дел. Он предуведомил о сём царя Московского. Я жил в Варшаве около осьми месяцев. В первые дни моего пребывания я увидел Наталию в русской церкви и с первого взгляда полюбил её. Никогда я прежде не думал и не верил, чтоб женщина могла приковать к себе моё сердце, овладеть моею волею, воцариться в душе моей и подчинить себе все мои помыслы и ощущения. Так сталось, однако же! Тщетно старался я забыть её. Образ красавицы беспрерывно мечтался мне и днём и ночью, и я, в намерении избегать встречи с ней, невольно искал её всюду. Чрез всезнающих жидов, всесветных лазутчиков, я узнал, что она воспитывается на ваш счёт в Польше и по окончании воспитания должна возвратиться к вам, в Малороссию. Я поверил, вместе с другими, что вы, ясновельможный гетман, готовите Наталию в. любовницы себе, и вознамерился спасти её от срама. Я нашёл случай познакомиться с шурином Быстрицкого, чрез наших варшавских приятелей, и приобрёл его дружбу и доверенность его жены. Они разделяли общее заблуждение насчёт отношений ваших к Наталии и не противились моей любви...
Мазепа прервал речь Огневика и, посмотрев на него, с видом простодушия, сказал:
— Меня обвиняют в недоверчивости к людям, а между тем все меня обманывают! Сестра Быстрицкого и муж её, облагодетельствованные мною, исторгнутые из бедности, изменили мне при первом случае!.. И сама Наталья!..
— Наталия ни в чём не виновна, — отвечал с жаром Огневик. — Она всегда питала к вам чувство нежной дочери, всегда вспоминала с благоговением о своём благодетеле...
— Пусть будет так! — возразил Мазепа. — Продолжай!
— Я любил нежно, пламенно Наталию и был так счастлив, что приобрёл любовь её. Я помню, как своё имя, день и час, в который мы сознались друг другу во взаимной любви, но не помню ни одного слова из всего того, что я сказал Наталии, а из се ответа одно люблю — врезалось навеки в сердце моём и в памяти. Мы поклялись...
— Довольно, довольно, — сказал Мазепа, насупив брови и стараясь улыбнуться, — я знаю, что говорится в подобных случаях! Клятвы... верность!.. Мне удивительно, однако же, как вам не пришло в голову обвенчаться без моей воли и без моего ведома! Только этого недостаёт в этой повести!
— Признаться, я хотел жениться и увезти Наталию в Белую Церковь, но несчастный случай воспрепятствовал мне исполнить сие намерение. Князь Вишневский, прибыв в это время в Варшаву, из своих поместьев, зная любовь и доверенность ко мне Палея, вознамерился захватить меня и удержать заложником, до возвращения Палеем завоёванных нами земель княжеских и до удовлетворения за добычу, взятую в поместьях князя. Паны Рады, не предвидя успеха в переговорах своих со мною, согласились предать меня, и я, предуведомленный заблаговременно, должен был бежать тайно из Варшавы и скрытно пробираться на Украйну. Я не хотел подвергать Наталию опасности моего бегства и пожертвовал собственным счастьем... Вскоре после моего бегства из Варшавы, вы, ясневельможный гетман, велели Наталии ехать в Батурин, и я, узнав об этом, решился воспользоваться данным мне от Палея поручением, чтоб окончить моё намерение...
— То есть увезти Наталью из моего дома, не правда ли? — примолвил Мазепа, устремив проницательный взор на Огневика и стараясь скрыть внутреннее волнение.
— Я не хочу обманывать вас, ясневельможный гетман! Не надеясь, чтоб вы отдали Наталию неизвестному вам человеку, бедняку, казаку без роду и племени, и притом верному другу врага вашего, — я хотел увезти её и обвенчаться с нею, с благословения благодетеля моего...
— Молодецки! — сказал Мазепа, скрывая гнев и злобу под улыбкой мнимого простодушия и весёлости. — Но этого нельзя было исполнить, не имея в доме моём сообщников, которые из дружбы к тебе или к Палею согласились бы помогать тебе. Иначе невозможно было подумать...
— Нет, клянусь вам всем святым, что я ни на кого не надеялся, как только на любовь Наталии, на саблю мою и на быстроту коня моего. Кроме Наталии и надзирательницы её, я никого не знал и не знаю в вашем доме.
— Если это правда, то, признаюсь, удивительно мне, что такой умный человек, как ты, решился на такое безрассудное предприятие!
— Ясневельможный гетман! Ссылаюсь на вас самих! рассуждает ли любовь о предстоящих опасностях, когда сердце стремится к сердцу? Нам ли, сынам степей и воли, выросшим в опасностях, живущим для искания опасностей, дорожить жизнью тогда, когда жизнь представляется в будущем хуже татарского плена! Я даже и не помышлял об опасностях! Я думал об одной Наталии!
— Пусть будет и так! — сказал Мазепа, кивнув головой и махнув рукой. — Дело кончено! Наталья твоя! Поезжай к Палею, и после нашей мировой он будет твоим посажёным отцом. Я велю приготовить всё к твоему отъезду, а между тем ты простись со своей невестой и переговори с Орликом. Он даст тебе некоторые наставления. Ты найдёшь его в войсковой канцелярии, в нижнем жилье.
Мазепа пожал дружески руку Огневика и вышел из комнаты.
Едва Огневик успел одеться, в первый раз после болезни, в богатый полупольский наряд, присланный ему Мазепою, Наталия вошла в комнату. В третью комнату вошла в то же время Ломтиковская чрез особенный вход из коридора и села за пяльцы, затылком к Огневику, будто не примечая вошедшей Наталии. Огневик улыбнулся и сказал вполголоса:
— Гетман всё-таки не может никому верить вполне! Нечего делать. У каждого своего рода слабость! Наталия! — примолвил он нежно. — Всё нам благоприятствует. Гетман согласился на наше счастье, а я вижу грусть на лице твоём... даже слёзы!
— Ты едешь! — сказала она печально.
— Еду, друг мой, для утверждения нашего счастия и для блага нашей родины; еду, как посланец гетмана к моему вождю, с тем же предложением, с которым прибыл сюда от Палея. Старики хотят наконец помириться, и хотят этого искренно. Успех моего посольства несомнителен. Итак, утешься, милая Наталия: отсутствие моё не будет продолжительно, и я возвращусь к тебе, чтоб никогда более не расставаться. — Огневик по польскому обычаю поцеловал руку Натальи, и в это время Ломтиковская оглянулась. Взор её пылал, и движение походило на судорожное.
— Мне всё что-то страшно! — сказала Наталия тихим голосом, поглядывая с беспокойством на Ломтиковскую, в растворенную дверь. — Когда гетман объявил мне близкое наше соединение и назвал меня твоею невестою, эта женщина, на которую я тогда нечаянно взглянула, улыбнулась с такою выразительностью и бросила на меня такой ужасный взгляд, что кровь во мне охладела. Я чуть не упала без чувств от страха. Эта женщина пользуется доверенностью гетмана: она приставлена присматривать за нами и, верно знает, что-нибудь такое, что стараются пред нами скрывать. Любезный Богдан! Я не могу отдать тебе отчёта в том, что чувствую; но какая-то грусть, какое-то грозное предчувствие лежит у меня на сердце... Я боюсь нашей разлуки!..
— Ангел мой, друг мой, милая Наталия, успокойся! — сказал Огневик, взяв её за руку. — Я узнал гетмана совершенно и удостоверился, что он вовсе не таков, каким многие его почитают. Я верю его слову, милая Наталия; верю, что он отдаст мне твою руку, потому что если б он не был со мною искренен, то не поручал бы мне дела, от успеха которого зависит будущее его спокойствие, а может быть, и существование. Я предугадываю многое! Впрочем, что бы НИ было, — примолвил Огневик громко, так, чтоб Ломтиковская могла слышать его слова, — что бы ни замышляли противу нас, кроме Бога, не в силах разлучить нас с тобою, милая Наталия, если ты будешь столь лее тверда в своей воле, как теперь...
— Ужели ты сомневаешься? — возразила Наталья.
— Я не сомневался и не сомневаюсь в твоей ко мне любви, но хочу удостовериться в твоей решительности. Что до меня касается, то клянусь Богом и Украйною, что если кто-либо задумает воспротивиться соединению нашему, то, когда эта рука иссохнет прежде, чем омоется в крови злодея нашего, тысячи рук нашей удалой вольницы вооружатся за обиду их брата, тысячи сердец воспылают кровавою, непримиримою местью, и наш враг не укроется от смертного удара ни на ступенях царского престола, ни у алтаря живого Бога! Я не гетман, не воевода, поя человек свободный, и вся сила моя в душе моей и в руке, а сила эта выше всякой другой, когда человек не боится смерти. Не дорожу ни жизнью, ни смертью, дорожу одною твоею любовью, и кто захочет расторгнуть любовь нашу, тот отнимет у меня более, нежели жизнь... Будь спокойна, Наталия;
я буду осторожнее и скорее слягу в могилу, чем лишусь свободы, а пока я на воле, то не боюсь никого, кроме Бога!
— И я клянусь тебе, что скорее соглашусь на смерть, чем на разлуку с тобой! — сказала Наталия твёрдым голосом. — Я слабая женщина, но чувствую в себе столько мужества, что с радостью умру, но не отдам руки моей немилому человеку. Благодетель мой может располагать моею жизнью, но не сердцем. Я также вольная казачка и не признаю ничьей власти над душою моею! Я твоя!..
Наталия протянула руку, которую Огневик поцеловал с жаром. Ломтиковская встала быстро и поспешно вышла. Вдруг дверь отворилась из коридора в комнату Огневика. Вошёл служитель гетмана и, поклонясь низко Наталии, сказал:
— Ясневельможный гетман просит вас пожаловать к нему немедленно!
Наталия пожала руку Огневика, и, сказав: «Твоя навеки!» — вышла.
Огневик пошёл по приказанию Мазепы в канцелярию, для переговоров с Орликом.
ГЛАВА VII
Уже из давних лет замечено у всех,
Где лад, там и успех;
А от раздора всё на свете погибает.
Хемницер.В наше время едва можно поверить, чтоб такой образ правления, как был в прежней Польше, мог существовать между образованными народами! Избирательные короли, принимая бразды правления на условиях, предложенных избирателями, никогда не исполняли оных, не имея ни власти законодательной, ни силы во власти исполнительной. Паны содержали в рабстве народ и в подчинённости равную себе по правам, но бедную шляхту. Богатые властители земель были независимые владетели в своих помыслах, содержали своё надворное войско, не слушались законов, противились вооружённою рукою исполнению судейских приговоров, самоуправлялись со своими соседями и повиновались королю тогда только, когда надеялись получить милости, ибо наконец вся власть короля ограничивалась раздачею чинов, мест и казённых имуществ, или старосте. Сопротивление королевской воле не почиталось даже незаконным поступком, ибо, на основании уставов, подданные уволены были от присяги и повиновения, когда король нарушал законы, а нарушение сие каждый вымышлял и толковал сообразно своим видам и составлял конференцию, или союз вооружённой шляхты, противу власти королевской, будто бы для поддержания прав народа, а в самом деле для удовлетворения своему честолюбию и корыстолюбию. Посему-то не было в Польше ни порядка, ни благоустройства, ни безопасности. Беспоместная шляхта, вооружаемая панами для защиты границ и собственной безопасности, бродила толпами, грабя и утесняя городских и сельских жителей, бесчинствуя и прикрывая все свои пороки одною храбростью в боях с соседями: с русскими, с хищными татарами и с беспокойными казаками. Польша, имея весьма мало регулярного войска, походила на воинский стан, ибо каждый свободный житель её, то есть каждый шляхтич был всегда вооружён и готов к бою. Благосостояние каждого гражданина зависело от личной его храбрости или от числа его приверженцев. Потому-то богатые паны, ласковым обхождением и щедростью, привлекали к себе шляхту, а бедные, но предприимчивые люди составляли себе партию надеждою грабежа или славы. Всё в Польше кипело, бурлило, кричало и дралось. Никто не хотел признать преимуществ другого, и каждый стремился происками и силою к первенству и к приобретению влияния над большим числом избирателей и храбрецов. Уважение, питаемое к царственным родам Пиястов и Ягеллов, из коих долгое время избирались короли, удерживали польскую шляхту в некотором повиновении, пли, лучше сказать, в пристойных отношениях к трону. Но с прекращением Ягеллова племени и с избранием чужеземца на польский престол, буйство, нахальство, неповиновение и дух гайдамакства дошли до высочайшей степени. Спор Августа и Станислава Лещинского о короне польской, поддерживаемый с одной стороны Россиею, а с другой Швецией, открыл обширное поприще страстям, удальству, притязаниям, проискам и надеждам. Почти всё польское шляхетство было вооружено, поддерживая одну или другую сторону, сообразно своим видам, и междоусобная война в Польше, хотя и не пылала с жестокостью, но нарушала порядок и безопасность смиренных сограждан, разоряла страну, отвлекала каждого от полезных занятий и, что всего бедственнее, открывала вход в неё чужеземным войскам.
Пан Дульский, называясь князем, по происхождению своему от князей русских, владея богатыми поместьями в Галиции и на Украине и будучи родственником Станислава Лещинского, поддерживал его с жаром и напряжением всех своих средств. Зная, что гетман Мазепа, находясь в Минске с войском своим, влюбился в жену покойного его брата и даже предложил ей свою руку, пан Дульский вознамерился воспользоваться сим обстоятельством и завёл с Мазепою переговоры, вследствие коих стал собирать войско в своих украинских поместьях, и наконец сам прибыл в одно из них, укреплённое вроде замка. Здесь он ожидал своей невестки, а между тем посредством иезуитов сносился с Мазепою, который, по обычаю своему, вёл дело медленно, неясно, двусмысленно. Между тем пан Дульский жил роскошно в своём замке, угощал своих друзей и юношество из хороших фамилий, вооружавшихся под его хоругвию, позволяя бедной шляхте, составляющей дружину, пировать и бесчинствовать на счёт своих поселян и мещан, живших в принадлежавших ему городишках. Тогда военная сила в Польше измерялась не тысячами или десятками тысяч, но десятками и сотнями, ибо Польша, ведя вечную брань с Россиею, с Турциею и с татарами, не имевшими регулярного войска, противупоставляла сотни тысячам, и опытные польские наездники, искусные в военном ремесле, весьма часто торжествовали над превосходным числом своею храбростью и искусством. Тысяча всадников почиталась тогда в Польше сильным отрядом, небольшою армиею, ибо сия тысяча вольных воинов вела за собою несколько тысяч слуг, которые в нужде вооружались и сражались под начальством своих господ. Пан Дульский почитал себя чрезвычайно сильным, успев собрать уже до пяти сот вооружённой шляхты, в числе коих находилось много молодых людей из знатных и богатых родов.
Соседство Палея, непримиримого врага поляков, беспокоило пана Дульского. Он вознамерился испытать счастья и, собрав до тысячи воинов из шляхты и своих надворных казаков, напасть врасплох на Палея в Белой Церкви, где, как носился слух, хранились несметные сокровища. Для разведания о положении дел Дульский выслал жида в Белую Церковь, который, как известно, был пойман и, под ударами казачьих нагаек, высказал всё, что знал и о чём Догадывался. Палей, как мы уже видели, решился предупредить Дульского. С нетерпением ожидал паи Дульский возвращения своего лазутчика, как вдруг дали ему знать, что отряд вольницы Палеевой показался в нескольких милях от замка и разграбил одно из его поместий. Почти в то же время управитель его привёл во двор связанного мужика, который в пьяном виде грозил в корчме жидам и ляхам близкою гибелью и местью Палея. Это был тот самый мужик, которому Палей дал денег, встретясь с ним на пути. Несчастного стали пытать, и он в истязаниях признался, что видел самого Палея, говорил с ним и слышал из собственных уст его, что он идёт на замок его пана. Не умея в точности определить числа Палеевых воинов, мужик объявил, однако, же, что их едва будет вполовину противу воинов, собранных в поместье его пана, и тем не только успокоил Дульского, но даже породил в нём надежду разбить отряд Палея и захватить его самого в плен. Велев бросить мужика в погреб, Дульский немедленно собрал знатнейших из своих приверженцев для военного совета, а в том числе и иезуита Заленского, возвратившегося от Мазепы.
Когда ротмистры и прочие офицеры собрались в зале, пан Дульский рассказал им о прежнем намерении своём напасть на Белую Церковь, для отнятия у Палея награбленных в Польше сокровищ, объявив о появлении Палея в окрестностях со слабым отрядом и просил совета у своих друзей, что должно предпринять в сём случае.
— Сейчас наконь и в поле! — воскликнул молодой хорунжий Стадницкий. — Ударим на разбойников, разобьём их и прямо бросимся на Белую Церковь, нападём на город прежде, нежели там узнают о разбитии Палея — и всё наше!
Старый ротмистр Скаржинский улыбнулся, погладил седые усы свои и сказал:
— Не так легко это сделать, как сказать, пане хорунжий! Мы давнишние знакомые с Палеем. Этого старого волка не проведёшь и не скоро пробьёшь его шкуру. Глаз у него зорок, и зуб востёр! Не должно верить слухам, а надобно самим удостовериться в истине. Пошлём разъезды, а сами запрёмся в замке и будем ожидать последствий. Мне кажется, что Палей хочет уловить нас какою-нибудь военною хитростью. Это его дело! Впрочем, в каких бы ни был силах Палей, встреча с ним будет нам стоить дорого. У нас, по большей части, воины молодые, неопытные, не привыкшие к жестокому, продолжительному бою, к резне на ножах, а с Палеевой вольницей, составленной из самых отчаянных головорезов, или бей насмерть на месте, или вались на месте в могилу! Тут надобно старых солдат...
— Полноте, полноте! — сказал гордо хорунжий Стадницкий. — У вас всегда одно и то же на языке: всё одна похвальная песня старости! Храбрость не в седине, почтенный ротмистр, и — говоря не на ваш счёт — храбрость редко доживает до седин. Вы и несколько других известных воинов, вы составляете исключение из моего правила, а между тем я всё-таки верю, что на отчаянное дело лучше идти с молодыми, нежели со старыми воинами...
— Но зачем нам пускаться без нужды на отчаянное дело? — сказал хладнокровно ротмистр Скаржинский. — Мы собрались здесь не на войну противу Палея, и если бы он ускользнул от нас, то не только в этом не будет беды, а напротив того, по-моему, ещё лучше, потому что мы сохраним наших воинов на дело, от которого зависит судьба отечества и участь короля Станислава.
— Позвольте же доложить вам, — примолвил патер Заленский, — что польза отечества и короля Станислава требует непременно истребления разбойничьего гнезда Палеева и погибели этого злейшего из наших врагов. Пока он будет жив, нам нельзя надеяться никакой помощи в этих странах!
— Совершенная правда! — примолвил пан Дульский. — При полной доверенности моей к вам, ясневельможные и вельможные паны, я не могу открыть вам, до времени, всех таинств политики короля Станислава, но уверяю вас, что от погибели Палея почти зависит успех нашего дела и судьба нашего отечества. Нам должно решиться на отчаянное средство, чтоб извести этого разбойника и овладеть его сокровищами, которые дадут нам возможность вести войну с царём московским и с приверженцами Августа. Я думаю, что вы слишком далеко простираете своё благоразумие и предусмотрительность, пане ротмистр, представляя нам столь опасным и столь сомнительным открытый бой с Палеем! Если б у него вместо четырёхсот человек было четыре тысячи, то и тогда нам было бы стыдно страшиться этой сволочи! Разве ротмистр Лисовский считал свои дружины тысячами, когда доходил до Волги, пробиваясь сквозь стотысячные воинства? Разве гетман Тарновский, карая мятежных волохов, не был вдесятеро слабее их? Разве Калиновский, Корецкий, Потоцкий, Сапега, Вишневецкий не с сотнями поляков разбивали тысячи казаков! Разве в победе под Берестечком не приходилось но десяти казаков и татар на одного нашего воина? Нечай, Наливайко и Хмельницкий, право, не хуже, Палея, а мы никогда не сражались с ними в равном числе. Разве мы не те же поляки, пане ротмистр?
— Мы те же поляки, но неприятели наши не те люди, что были прежде, — отвечал ротмистр Скаржинский. — Прежняя сволочь, полувооружённые толпы мужиков, без всякого познания военного ремесла, предводительствуемые невеждами, которых наши всадники гоняли пред собою как стадо, эти мужики теперь стали опытными и искусными воинами и с дикою храбростью своею соединяют непримиримую к ним вражду, которая делает из них героев...
Толстый и румяный пан Дорошинский громко захохотал при сих словах.
— Только этого недоставало! — сказал он насмешливо. — Что дадите мне за этих героев, — примолвил ом, обращаясь к старому ротмистру, — я сейчас же выступлю с моею хоругвию, и завтра, если только Палей не бежал в свой разбойничий притон, завтра же обещаю вам дать по три живых и по три мёртвых героев ваших за каждого коня, которого вы поставите в мой эскадрон! Не хотите ли заключить торг? Стыдно, право, стыдно толковать с такою важностью, о появлении нескольких сот разбойников, как будто дело шло о нападении на Польшу всей турецкой и татарской силы! Пане Дульский! Объявляю вам решительно, если вы не согласитесь послать тотчас погоню за разбойниками, то я отделяюсь от вас с моею хоругвию и иду один противу Палея, а когда поймаю его, то, прежде чем повешу, приведу его к вам, на аркане, и заставлю его сказать пред всеми, что тот, кто боялся его, недостоин имени поляка!..
— Браво, браво! — закричали со всех сторон. — В поле, наконь и — смерть разбойникам!
— Кто осмеливается упоминать о боязни!.. — сказал в гневе ротмистр Скаржинский, ухватись за саблю.
Крик и шум заглушили слова ротмистра.
— На виселицу разбойников! На кол атамана! В огонь весь род его и племя! В поле, на конь! — раздавалось в толпе.
— Я не имел намерения обидеть вас, пане ротмистр, — сказал паи Дорошинский, — ибо уважаю ваши заслуги и ваши седины; но если вам угодно увериться, что я не знаю, что такое боязнь, то прошу покорно со мною, в чистое поле, противу Палея, или на средину двора, с саблею наголо. Или там, или здесь мы разрешим наши сомнения...
— Господа, господа! — сказал патер Заленский, став между противниками. — Неужели нам нельзя сойтись на совещание без того, чтоб не обошлось без ссоры и драки? Вот в чём состоит сила врагов наших! Наши раздоры и несогласия лучшие их союзники! Именем пролившего жизнь на кресте для любви и мира между людьми, — примолвил патер, взяв в руки крест, висевший на груди его, — именем Спасителя приглашаю вас к миру и согласию! — Сказав сие патер взял руку ротмистра и положил в руку пана Дорошинского.
— Итак, подайте венгерского! — воскликнул пан Дульский. — Пусть же льётся вино вместо крови и разогреет охлаждённую дружбу!
— Гей, венгерского! — закричал пан Дульский и захлопал в ладоши. Маршал двора его, стоявший за дверьми, побежал исполнить приказание.
— Святой отец! — сказал хорунжий Стадницкий иезуиту, — где нет спора, там нет и мира. Между людьми равными и свободными, как шляхта польская, нельзя требовать монашеской подчинённости и смирения, и тот плохой шляхтич, чья сабля не прыгала по лбу соседа или чей лоб не выдержал удара стали. Сеймики и пиры также война, и где бы нам приучиться к бою, если б мы жили тихо, как немцы или как отшельники? Напрасно вы помешали поединку пана ротмистра с паном Дорошинским, святой отец! Я отдал бы своего карего жеребца, чтоб посмотреть, кто кому скорее раскроит голову. Они оба искусные бойцы...
— Полно, пане хорунжий! — сказал пан Дульский. — Теперь и без поединков есть случай повеселиться с саблею в руке.
Между тем маршал явился с огромным бокалом в руках, а за ним служители внесли ящики с бутылками. Пан Дульский налил бокал и выпил душком до дна. Потом, палив снова, поднёс ротмистру, который, выпив с тою же приговоркою, передал бокал пану Дорошинскому. Бокал переходил таким же порядком, из рук в руки, пока несколько дюжин бутылок не опорожнились. Вдруг послышался трубный звук во дворе.
— Наконь! Виват! Да здравствует пан Дульский! — закричали разгорячённые вином собеседники.
— На первом сейме я подаю голос за пана Дульского! — воскликнул пан Дорошинский.
— И я также!.. и я также! — раздалось в толпе. — Он должен быть канцлером! Он должен быть гетманом коронным!.. Что за славное вино!.. А почему же ему не быть королём? — Вот что слышно было в толпе, между обниманиями и целованиями, пока воинская труба не пробудила в панах охоты к драке.
— Господа! — сказал пан Дульский. — Прошу выслушать меня! Всем нельзя выступать в поле. Бросим жребий, кому оставаться. — Пан Дульский взял шапку, которая висела на рукояти его сабли, снял с руки перстень с гербом и просил других последовать его примеру. Сабля, усы и перстень с гербом были в то время три необходимые принадлежности польского шляхтича. Каждый из присутствовавших бросил свой перстень в шапку.
— Я думаю, что четвёртой части наших воинов довольно для охранения замка, — сказал пан Дульский. — Из вас, господа, должны остаться, по крайней мере, человек десять или пятнадцать. Крепостная служба требует бдительности и строгого надзора, а не во гнев сказать, все мы лучше любим подраться в чистом поле, чем проводить бессонные ночи на страже. Итак, лучше, если будет более офицеров для очередования в службе. Притом же, нельзя оставить дам без кавалеров... Они соскучатся.
— Справедливо, справедливо! — закричали со всех сторон.
— Итак, я вношу предложение, чтоб пятнадцать человек из нас остались в замке. Почтенный патер Заленский, извольте вынуть пятнадцать перстней, один за другим. Чей перстень вынется, тот останется. Но прежде вы должны дать, господа, честное слово, что не станете противиться сему добровольному условию и что каждый из вас беспрекословно подчинится жребию.
— Даю честное слово! Verbum nubile! — закричали в толпе.
— Итак, извольте начинать, патер Заленский! — примолвил пан Дульский.
Геральдика составляла одно из важнейших познаний польского шляхетства, и каждый благовоспитанный человек знал наизусть все гербы известных фамилий в Польше, Патер Заленский, вынимая перстни, читал как по писанному и провозглашал имена. В числе четырнадцати вынувшихся перстней находились перстни самого пана Дульского, старого ротмистра Скаржинского и хорунжего Стадницкого. Все молчали, хотя многие морщились и изъявляли знаками своё нетерпение. Наконец патер, вынув пятнадцатый перстень, провозгласил громко:
— Пан ротмистр Дорошинский, подкоморий Брестский, воеводич Брацлавский!
— Протестую! — воскликнул пан Дорошинский.
— И я также! — сказал хорунжий Стадницкий.
— Протестую, не позволяю (nie pozvolam)! — закричало несколько панов.
— Veto! — примолвил пан Дорошинский. — Опровергаю конвенцию, потому что упущены формы, и определение воспоследовало без собирания голосов поодиночке!..
— A Verbum nobile, а честное слово? — сказал пан Дульский.
— Честь каждого есть неприкосновенная святыня, — сказал пан Дорошинский. — Прошу не упоминать об ней!
— Но вы заложили мне эту святыню, дав слово! — отвечал с насмешливою улыбкою пан Дульский.
— Пане подконюший! — воскликнул с гневом пан Дорошинский. — При всём уважении моём к вашему дому и вашей особе, я объявляю вам, что если вы хотите, чтоб мы оба остались в живых до вечера, будьте воздержаннее в речах! Я не позволю самому королю коснуться моей чести!
Из дружбы к вам, я собрал под фамильную хоругвь мою сто лучших наездников из нашего воеводства и решился поддерживать вас, вопреки желанию родственников моих, которые обещали мне староство и звание охмистра (гофмаршала) при дворе Августа. Но если вы не умеете уважать друзей своих, я отделяюсь от вас и приглашаю всех друзей моих соединиться со мною. Господа! Кто со мною, а кто с Дульским.
— Как? Вы оставляете нас во время опасности, перед неприятелем! — сказал ротмистр Скаржинский.
— Смеюсь над всеми вашими опасностями и сам иду на Палея, — сказал пан Дорошинский, подбоченясь одной рукой, а другою опершись на свою саблю.
В собрании поднялся такой шум и крик, что не можно было расслышать ни слова. Все говорили вместе, и никто не хотел слушать. Венгерское вино действовало сильно в головах и испарялось в буйных речах и угрозах.
Иезуит ускользнул из собрания в самом начале спора, и когда запальчивость спорящих дошла до того, что некоторые уже обнажили сабли и надели шапки, вдруг дверь из боковой комнаты отворилась и в залу вошла княгиня Дульская, невестка хозяина, с тремя его дочерьми и со свитою, состоявшею из двадцати девиц и замужних женщин, родственниц, поживальниц и собеседниц княгини, хозяйки и дочерей. Спорящие тотчас сняли шапки, вложили сабли в ножны и умолкли.
Княгиня Дульская сказала:
— Мы узнали, что вы, господа, спорите о том, кому идти в поле, а кому оставаться в замке. Давно ли защита слабых жён не почитается почётным поручением для польского рыцаря? Наши отцы и деды, не страшась никаких опасностей, брались за оружие единственно для доставления спокойствия жёнам, детям и возлюбленным своим и, пренебрегая смертью, выше всех наград поставляли пашу любовь, дружбу и благодарность. Предки наши не гонялись за славою, а слава сама следовала за ними повсюду, потому что цель всех их подвигов была истинно благородная, бескорыстная, рыцарская! Марина Мнишек вооружила для защиты своей цвет польского юношества, чуждого политических видов и повиновавшегося единственно силе её красоты. Украинскому разбойнику, какому-нибудь Палею, прилично жаждать крови и добычи, но для польского рыцаря, для вольного шляхтича Польской Республики зашита женщины должна быть священною обязанностью. Пане Дорошинский и пане Стадницкий! Я избираю вас в мои защитники и, надеясь на ваше мужество, прошу остаться с нами в замке! Мои подруги вверяют безопасность свою остальным тринадцати рыцарям, которых судьба назначила нам по жребию!
Паи Дорошинский пожал плечами, обтёр пот с лица, покрутил усы и, не говоря ни слова, подошёл к пани Дульской и поцеловал её руку. Хорунжий Стадницкий последовал его примеру, и все прочие офицеры, которым надлежало остаться в замке, сделали то же самое: каждый поцеловал, в безмолвии, руку избранной им красавице.
Дамы вышли, и спор прекратился. Пан Дульский проводил за ворота тех, которым надлежало выступить противу Палея, и возвратился в комнаты.
Дорошинский заперся в своей комнате. С горя и досады он лёг спать. Он решился не показываться в обществе. Но вечером, когда княгиня Дульская прислала просить его послушать сочинённой ею песни, он не мог воспротивиться повелению дамы и, нарядившись богато, пошёл в залу, где по вечерам собиралось всё общество.
От самих древнейших времён в Польше угождение женскому полу и даже прихотям красавиц почиталось обязанностью благовоспитанного дворянина. Женщины всегда владычествовали в Польше! Дорошинский, при всём буйстве своего характера, не мог противиться господствующему обычаю, ибо оскорблением красавицы он превратил бы всех своих друзей и приверженцев в непримиримых врагов. Притом же, будучи холостым, богатым, имея не более тридцати лет от рождения, почитая себя красавцем и пользуясь уважением шляхты в своём воеводстве, Дорошинский мог надеяться, что молодая и прекрасная вдова двух богатых и сильных родством панов, Вишневецкого и Дульского, не отринет руки его. Княгиня Дульская, с самого приезда в замок своего шурина старалась льстить Дорошннскому и всею силою своего кокетства ублажала его, чтоб, возбудив в нём надежду на любовь её, привязать его к партии короля Станислава. Княгиня поступала таким образом отдельно с каждым из панов, имеющих сильное влияние на умы своих соотчичей и пользующихся богатством. Но как Дорошинский был буйнее прочих и чрезвычайно своенравен, то княгиня, для удержания его в пределах повиновения, обходилась с ним с большею нежностью, нежели с другими, ведя сию игру так искусно, что ни в ком не возбуждала ревности, а, напротив того, посевала в сердце каждого равные надежды. Дорошинский, прибыв в залу, старался казаться холодным и ко всему равнодушным, но наряд его и ухватки изменяли ему. Дорошинскому досталось по наследству, от деда его, служившего в Испании, множество драгоценных вещей, из коих бриллиантовая запонка для застёгивания узкого воротничка на жупане, перстень и рукоять сабли стоили несколько тысяч червонных. Знавшим Дорошинского известно было, что он надевал сии драгоценные вещи только в необыкновенных! случаях, как будто для выказывания своего могущества; а потому, когда он явился в зале в светло-зелёном бархатном кунтуше, в алом атласном жупане, подпоясанный парчовым персидским кушаком, и в лучших своих алмазных украшениях, хитрая княгиня Дульская тотчас догадалась, что холодность Дорошинского притворная и что ом желает нравиться и обратить на себя внимание.
Когда всё общество собралось, княгиня Дульская села за арфу и запела думу своего собственного сочинения, в похвалу польских воинов, прославивших польское оружие в чужих и дальних странах. Она упомянула о знаменитом гетмане Тарновском, начальствовавшем войсками португальского короля Эммануила, в войне с маврами, и прославившегося победами и рыцарскими доблестями; о Завите Черном, отличнейшем рыцаре при дворе и в войске римского императора Сигизмунда, и, переходя быстро от древних времён к новым, воспела похвалу славному Христофору Арцишевскому, который, находясь в службе Голландской Республики, управлял завоёванною у португальцев Бразилиею, построил крепости Рио-Жанейро, Бахию и Пернамбуко и многократно побеждал испанцев, а наконец упомянула о деде Дорошинского, который, пользуясь особенною милостию испанского короля, Карла II, употреблял её на распространение католической веры и украшение храмов Божиих. Хотя всем известно было, что дед Дорошинского не отличился никаким геройским подвигом и был в милости испанского короля по связям своим с монахами, но воспоминание об нём, в числе знаменитых людей, льстило тщеславию Дорошинского и доказывало, что прелестная княгиня нарочно для него поместила сей куплет в свою патриотическую песню. Холодность Дорошинского растаяла. Он подсел к княгине и во весь вечер не отходил от неё, восхищаясь её любезностью.
Сам пан Дульский также имел надобность привязать к себе Дорошинского, ибо хотел занять у него денег на содержание вооружённой им шляхты. Под предлогом примирения Дульский вознамерился употчевать Дорошинского и за бокалом выманить у него письменное приказание его поверенному в Лемберге, который, как известно было Дульскому, получил значительные суммы из Голландского банка, принадлежащие его верителю.
Король Август II, известный телесною силою и страстью к чувственным наслаждениям, довёл до конца порчу нравов, начавшуюся в Польше при последних Ягеллонах. Прежде роскошь дворянина состояла в богатстве и доброте оружия и в красоте коней. После того богатые паны принесли, из чужих краёв, обычай украшать свои дома драгоценными обоями, зеркалами, мраморами и бронзами, уставлять столы множеством серебряной и золотой посуды и, по обычаю азиатцев, одеваться в парчу и драгоценные ткани. Наконец, при короле Августе качество и количество яств и вин заменили все прочие прихоти. Умение жить в свете и молодечестве поставлялись в том, чтоб поглощать как можно более вина. В этом искусстве король Август не имел себе равного, и как двор служит обыкновенно примером для подданных, то пьянство сделалось похвальным качеством, и в Польше всё пило, в подражание королю и его вельможам.
Пан Дорошинский был не из последних в модном искусстве опорожнять бокалы и даже выиграл несколько закладов, перепив отличнейших питоков при дворе. Он отличался ещё от обыкновенных пьяниц тем, что любил хорошее кушанье, и ел столь же много, как и пил. Итак, паи Дульский велел изготовить самый великолепный ужни и вынести лучшего вина из своего погреба, для угощения Дорошинского и малого числа оставшихся в замке офицеров.
В 10 часов вечера звук музыки, в столовой зале, подал гостям известительный знак. Служители отперли все двери настежь, и пан Дульский, подав руку своей невестке, попросил Дорошинского проводить жену его. Прочие паны и офицеры взяли под руки по одной и по две дамы и все пошли в столовую залу. Мужчины поместились между дамами, а Дорошинский занял почётное место между хозяйкою и первою гостьею, княгинею Дульской. Сам хозяин сел в середине, а в конце стола поместились ротмистры, хорунжие и отличнейшие товарищи надворной хоругви пана Дульского, также поверенный его, правитель замка, или кастелян, надворный капеллан, или домашний священник, и прочие письменные его слуги из шляхты. Патер Заленский сел по другую сторону хозяйки.
Стол уставлен был серебряными вазами, соусниками с крышками, паштетами, жаркими, пирожными и конфетами. Столовые вина Масляч и старый Францвейн находились в больших серебряных кувшинах, а старое венгерское, или так называемое виватное вино, в малых круглых бутылках, стояло в корзинах, на особом столе, под стражею пивничего. Любезность хозяйки и прочих дам, гостеприимство хозяина, вкусные яства и доброе вино возбуждали к веселию, и собеседники, пресыщаясь, не обращали внимания на сильную бурю, которая восстала с вечера и, в половине ужина, свирепствовала с величайшею жестокостью. Ветер ревел и потрясал окончины, град и дождь били в стёкла, громовые удары следовали один за другим, и молния страшно сверкала во мраке.
— Признаюсь откровенно, — сказал пан Дорошинский, — что я лучше соглашусь выдержать самое жестокое сражение с неприятелем, вдесятеро сильнейшим, нежели провести одну такую ночь под открытым небом! Мне весьма жаль наших товарищей, которые теперь должны блуждать по степени, отыскивая разбойников, и я вам обязан, прелестная княгиня, что, вместо того, чтоб мокнуть теперь на дожде, при свете молнии, я, при душистой влаге венгерского, наслаждаюсь светлыми взорами прекрасных наших собеседниц, — взорами, — примолвил он, взглянув нежно на княгиню, — которые хотя иногда опаснее молнии, но в самых мучениях услаждают сердце!
— Пусть это послужит вам уроком, — отвечала княгиня Дульская, — и убедит, что послушание воле дамы всегда щедро награждается.
— Если только требуется одного повиновения, чтоб заслужить вашу милость, то я готов, по одному вашему слову, сжечь все мои замки и броситься на сто пушек!.. — сказал Дорошинский, разгорячённый вином.
— Я от вас никогда не потребую такой отчаянной жертвы, — отвечала княгиня, улыбаясь. — Напротив того, я стану просить вас слушаться меня потому только, что желаю вам пользы, славы и счастья!
Дорошинский чуть мог усидеть на стуле, от радости. Он схватил бокал и закричал:
— Венгерского!
Дульский, который не спускал глаз со своего гостя, мигнул слуге, и тот подал ему огромный золотой бокал, в котором вмещалось полгарнца.
— Постойте, пане Дорошинский! Я вижу, чьё здоровье вы желаете пить. Но всё должно быть в порядке. Во-первых: за здоровье Станислава, нашего короля и пана милостивого! Виват! — Дульский выпил бокал душком при звуке музыки и литавров и, налив его, сам поднёс Дорошинскому, который, опорожнив его таким яге порядком, передал в руки соседа. Когда бокал обошёл вокруг стола и возвратился к хозяину, он снова налил его и провозгласил здоровье товарищей, находившихся в сие время в походе, в поисках Палея.
Заздравные тосты сменялись одни другими. Пили полные чаши за здоровье хозяина, хозяйки, гостей, дам, и наконец, дошло до того, что некоторые из собеседников едва уже могли держаться на стульях. Дамы, по просьбе Дульского, не вставали с мест своих, чтоб приохочивать гостей к питью и забавлять их. Попойка сопровождалась любовными объяснениями, нежностями и хвастовством об удальстве на охоте, в боях и поединках. В это время кастелян замка, который прежде встал из-за стола, вошёл в залу и объявил на ухо хозяину, что два надворные казака, воспользовавшись бурею, бежали из замка и увели с собою крестьянина, посаженного в темницу, того самого, который был допрашиван по поводу встречи его с Палеем.
Пан Дульский хотя пил менее других, однако ж не мог заниматься делами в это время, ибо ему надлежало наблюдать за порядком угощения и поддерживать весёлость общества.
— Чёрт с ними! — сказал он кастеляну. — Завтра пошли взять под стражу всю родню беглецов; вели забрать всё их имущество, весь скот и лошадей и каждый день прикажи сечь отца, мать, братьев и сестёр их, пока беглецы не воротятся сами.
Отдав сие приказание, пан Дульский поднял бокал и закричал:
— Здоровье дам!
Музыка заиграла туш, все гости вскочили с мест и, выпив до дна свои бокалы, воскликнули: «Виват!»
Но пан Дорошинский не довольствовался этим. Он стал на одно колено перед княгинею Дульскою и просил у неё позволения выпить за её здоровье из башмака её, по тогдашнему обычаю. Княгиня Дульская позволила ему снять башмак с ноги своей, и Дорошинский, наполнив его вином, выпил при громогласных восклицаниях толпы, при звуке музыки и литавров, и поцеловал красавицу в ногу...
Вдруг все окна в зале затряслись, раздался стук снаружи, стекла посыпались, окончины провалились в залу, и в окнах показались страшные лица. Великорослый старец, без шапки, с седыми усами и с седою чуприной, держа в одной руке саблю, а в другой пистолет, вскочив проворно в залу, остановился, осмотрелся и, оборотясь к своим, закричал:
— Прикладывайся!
Из окон высунулись дула ружей, устремлённые на собеседников.
— Палей! — воскликнул один из гостей.
При сём слове княгини Дульская упала в обморок. Другие дамы хотели бежать из комнаты. Мужчины вскочили с мест своих, и некоторые из них схватились за сабли. Музыканты, служители стояли как остолбенелые.
— Ни с места! — закричал грозный Палей. — Если кто только пошевелится, велю стрелять! Садись каждый по-прежнему — или смерть ослушнику!
В молчании все сели по своим местам, а между тем хозяйка, сама трепеща от страха, приводила в чувство княгиню Дульскую, при помощи нескольких женщин.
— Сюда, детки! — сказал Палей, оборотясь к своим. Казаки влезли в окна. Палей расставил их вокруг стола и возле дверей и велел держать ружья на прикладе. Все молчали. Страшно ревела буря, и ветер свистел в разбитые окна.
ГЛАВА VIII
Кто режет хладною рукой
Вдовицу с бедной сиротой,
Кому смешно детей стенанье.
Кто не прощает, не щадит;
Кого убийство веселит,
Как юношу любви свиданье.
А. Пушкин.Палей умышленно разглашал на походе о намерении своём напасть на пана Дульского. Не желая подвергать людей своих неминуемой гибели или крайней опасности при нападении на замок открытою силой, Палей вознамерился взять его хитростью. Все окрестные поселяне держали его сторону и доставили ему связи в самом замке, между надворными казаками пана Дульского, которые, служа по принуждению под хоругвию своего господина, ненавидели поляков, подобно всем украинцам, и душой привязаны были к вольным казакам, завидуя их участи. Разглашая о своём появлении в окрестностях замка, с малым числом вольницы, Палей знал, что выманит за собой погоню ретивых польских воинов и тем разделит их силы. Когда же всё сделалось по его предположению и большая часть бывшей в замке вооружённой шляхты погналась за отрядом есаула Иванчука, предполагая, что тут находится сам Палей, тогда приверженцы Палеевы в замке подвели его ночью к самым укреплениям. Смелый и предприимчивый наездник прежде заготовил лестницы и, пользуясь бурею и беспорядком в замке во время пиршества, перелез с двадцатью пятью отчаянными казаками через стену, вошёл в сад, подставил лестницы к окнам и появился посреди пира, к ужасу и удивлению собеседников. Между тем надворные казаки, изменившие своему барину, напали нечаянно на польскую стражу у ворот, отперли их и впустили Москаленка с остальною дружиной Палея. Поселяне пана Дульского, приставшие к Палею, в надежде грабежа и из жажды мщения, вооружённые косами и рогатинами, пошли вместе с Москаленком на двор замка и помогли ему перевязать воинов своего пана. В час времени замок был во власти Палея.
Палей, оковав ужасом собеседников, противу которых устремлены были заряженные ружья казаков, ожидал с нетерпением известия от Москаленка. Вдруг с шумом вбежал казак в залу и сказал:
— Всё готово, батько! Вражьи ляхи связаны, как поросята. Всё наше!
— О, я несчастный! — воскликнул пан Дульский, закрыв лицо руками.
— Скажи Москаленку, чтоб ждал моего приказания и чтоб никто из наших не смел отлучаться от своего места, — отвечал Палей. — Заприте ворота, поставьте везде часовых, возьмите у смотрителя замка все ключи и внесите сюда из погреба бочку пороха! — Казак вышел.
Страх собеседников дошёл до высочайшей степени. Они были ни живы ни мертвы.
— Пане гетмане! — сказал Дульский дрожащим голосом. — Судьба даровала тебе победу. Будь великодушен столько же, как ты храбр и счастлив! Пощади жизнь нашу! Сжалься над слабыми, безвинными женщинами! Возьми себе все мои сокровища... но отпусти нас!..
Все заговорили вдруг, прося о пощаде. Слова прерывались рыданиями и воплями женщин.
— Молчать! Никто ни слова! — закричал Палей грозно. Тишина снова водворилась в зале, и только глухие рыдания смешивались с воем бури.
— Сокровища, которые ты мне так щедро предлагаешь, пане Дульский, мои уже и без твоего согласия, — сказал Палей. — Они умножат казну Белоцерковскую, на которую ты лакомился! Понимаешь ли? Во всём прочем мы рассчитаемся по-братски с тобою и с твоими приятелями! У меня суд и расправа коротки. Мы не станем тягаться по судам и трибуналам. — Сказав сие, Палей приблизился к столу, взял бокал, налил вина, выпил и, обращаясь к дамам, сказал: — А которая из вас голубица приятеля моего Мазепы?
Все молчали.
— Пане Дульский, которая из них невестка твоя?
Княгиня Дульская, заливаясь слезами и едва переводя дух, встала со стула и поклонилась Палею, не говоря я и слова.
— А, это ты, моя чернобровка! — сказал Палей, подойдя к княгине и потрепав её по лицу. — Мы тебя возьмём с собою. У меня, на хуторе, есть славный парень, Мишка Ковшун. Он был лихой казак, пока ляшская пуля не перебила ему ноги. Теперь он пасёт мой табун. У него умерла невеста, так я отдам ему тебя. Право, тебе будет лучше с ним, чем со старым и дряхлым плутом Мазепою! Ты мне народишь с дюжину казачат!.. — Палей, говоря сие, гладил княгиню по голове и по лицу и улыбался насмешливо. Княгиня молчала и плакала.
— Нет, я более не в силах выдержать этого нахальства! — воскликнул Дорошинский. — Лучше сто смертей, чем поругание!.. — С сим словом Дорошинский выхватил из ножен саблю и бросился на Палея.
Раздался выстрел, и Дорошинский упал без чувств к ногам княгини.
— Довольно и одной смерти! — примолвил Палей, не трогаясь с места.
Тот самый казак, который выстрелил в Дорошинского, оттащил его за ноги на сторону и стал снимать с него дорогие вещи и одежду.
— Нет ли ещё охотников на казацкую пулю? — спросил Палей насмешливо.
Дверь снова отворилась, и человек с десять казаков внесли бочку с порохом. Палей велел поставить её в другой комнате. Отчаянье несчастных поляков, особенно женщин, уже не имело пределов. Женщины не могли более удержать стонов и рыданий. Дочери бросались на шею к матерям, подруги жалобно прощались, призывая Бога на помощь. Мужчины, будучи не в силах защищаться и не надеясь пощады, молились и в оцепенении ждали ужасной своей участи. Хмель давно выветрился из голов пировавших в веселии за час времени пред сим, а теперь осуждённых на мучительную смерть. Патер Заленский, полумёртвый от страха, не мог долее выдержать, и когда внесли бочку с порохом, он вскрикнул пронзительным голосом и упал без чувства со стула.
— Вынесите вражьего паписта на двор и привяжите к дереву, чтоб простыл, — сказал Палей. — Завтра из него будет славный обед воронам.
Казак схватил патера за ноги и потащил за двери, Дульский решился ещё раз попробовать, не удастся ли ему склонить Палея к помилованию:
— Пане гетмане! — сказал он. — Я не спорю, что всё, находящееся в замке, принадлежит тебе по праву сильного, Но у меня и у друзей моих есть имущества, есть деньги и драгоценности в других местах. Мы предлагаем тебе выкуп за себя, какой ты сам назначишь! Определи срок, и если в это время родные наши и друзья не представят тебе выкупа, — ты волен в нашей жизни. Кровь наша не принесёт тебе никакой выгоды, а только навлечёт на тебя мщение целой Польши. Пожертвуй местью выгодам своим и тронься слезами беззащитных, слабых жён! И у тебя есть жена и дети, и ты можешь быть в таком положении, что будешь умолять о пощаде! Пане гетмане, подумай о Боге, о душей своей, о вечной жизни!
Палей вместо ответа громко захохотал.
— Детки! — сказал он, обращаясь к своим казакам. — На свору поганых ляхов! Не троньте одного пана Дульского. Мы с ним ещё не рассчитались.
Каждый казак имел у пояса готовый аркан. Они бросились на поляков и стали вязать их. Сопротивление было бесполезно: на каждого поляка приходилось по нескольку казаков. Слуг, украинских уроженцев, не тронули. Казаки, связав полякам руки назад и спутав ноги, как лошадям на подножном корме, повалили каждого из них на землю. Тогда Палей подошёл к Дульскому, который, встав со стула и поджав руки, ожидал своей участи, и, ударив его по плечу, сказал:
— В последний раз хочу я испытать твой польский гонор (честь), которым вы, ляхи, так много похваляетесь. Ну-тка, во имя этого шляхетского гонора, пане Дульский, скажи мне откровенно, что бы ты сделал со мной, если б тебе удалось поймать меня?
Дульский, потупив взор и помолчав немного, поднял быстро голову и сказал:
— Не изменю чести ни за жизнь, ни за все блага жизни! Скажу тебе правду: если бы я поймал тебя, то немедленно повесил бы на воротах моего замка!
— Итак, и ты должен висеть на воротах замка, пане Дульский! — отвечал Палей хладнокровно.
Дульский не отвечал ни слова.
— Ты должен быть повешен, пане Дульский, по закону Моисееву, по праву возмездия, — повторил Палей.
— Делай что хочешь, твоя воля и твоя сила! — сказал Дульский, махнув рукою. — Не стану терять слов напрасно!
— Ты бы не пощадил меня, пане Дульский; но я люблю откровенность и за то, что ты смело сказал мне правду, помилую тебя, только с условием. Выслушай меня! Плут Мазепа задержал в Батурине моего любимого есаула, которого я сам воспитал и усыновил. Я знаю все ваши шашни! Знаю, что старый прелюбодей влюблён в твою невестку и что вы замышляете что-то недоброе противу Московского царя. Сделайте только, чтоб Мазепа отпустил есаула — и чёрт с вами! Дарую жизнь всем бабам и детям, тебе и всей твоей родне, а в противном случае, если Мазепа не захочет отпустить моего есаула — всех в петлю и на кол! Вот моё последнее слово! Пусть невестка твоя напишет к Мазепе, а я между тем возьму тебя и семью твою с собой в Белую Церковь и буду ждать его ответа!
— Хорошо, — сказал паи Дульский, — но что же станется с друзьями моими, с моими товарищами?
— Это не твоё дело, пане Дульский! — отвечал Палей. — Ты не можешь требовать, чтоб я не потешился за труды мои и не перевешал или не перерезал хоть с дюжину твоих ляхов. Ведь мне на старости нет уже другой прихоти и забавы, как только куколь из пшеницы выбирать, то есть жидов и ляхов резать! Не проси невозможного, пане Дульский, — а не то разрываю условия!
Один только патер Заленский знал, что сталось с Огневиком, но как его не было в комнате, то никто не мог известить Палея о том, что любимец его уже свободен. Нельзя было спорить с Палеем, и потому Дульский не решился противиться условию, надеясь, что Палей смягчится чрез несколько времени.
— Детки! — сказал Палей. — Перетащите всех ляхов в другую избу и привяжите к бочке пороху! не бойся, пане Дульский, я не подорву твоего дома без нужды. Это для того только делается, что, если бы твои приятели, которые гоняются теперь за мною в чистом поле, вздумали напасть на замок, пока я здесь, тогда бы я попросил их поплясать со мной по-казацки и вспрыгнуть вместе к небу. Палей ни у кого мс станет просить пощады и никому не сдастся! Понимаешь ли, пане Дульский! С твоими приятелями будет суд и расправа завтра, при солнечном свете. — Обратясь к женщинам, Палей сказал: — Вы, бабы, ступайте пока в погреб, посидите там тихомолком да помолитесь за меня Богу, а утро вечера мудренее! Ты же, голубушка, — примолвил он, обращаясь к княгине Дульской, — напиши-ка нежную грамотку к своему сизому коршуну и скажи ему, что если он тотчас же не отпустит с ответом ко мне есаула моего, Богдана Огневика, то я надену на твою белую шейку пеньковое ожерелье и убаюкаю тебя на двух столбах с перекладиной, а шурину твоему и всему роду его и племени починю горло вот этим шилом! — Палей ударил до своему кинжалу. — Мазепа знает, что я держу слово, и вы также узнаете это! Симашко! Возьми с собой четырёх удальцов и проводи баб в погреб. Петрусь Паливада! Ты парень грамотный, возьми с собой двух хлопцев да обыщи все норы и конуры в замке и, где найдёшь какую грамоту, неси сюда. Пан Дульский будет твоим проводником.
Казаки перетащили связанных поляков в другую комнату, а женщин увели в погреб. Дульский вышел, а Палей сел за стол и велел позвать Москаленка. Когда Москаленко пришёл, он пригласил его поужинать и велел своим занять порожние места за столом.
Из всех поляков, господ и слуг, только смотритель замка и ключник остались под стражей несвязанные; они должны были указывать, где что хранится.
— Смотри, Москаленко, ты головою отвечаешь мне за порядок и безопасность, — сказал Палей. — Всё ли исполнено по моему приказанию?
— Ни одна душа не ушла из замка, — отвечал Москаленко. — Везде расставлены часовые. Мужикам строго приказано не отходить ни на шаг от ворот. Остаётся только запрячь панских коней в брички да уложить добычу! Вокруг замка разъезжают десять казаков, чтоб не оплошать, если погоня за нами сюда воротится!
— Она не может воротиться до завтрашнего вечера, а тогда уже мы будем далеко! — отвечал Палей. — Опасности здесь нет никакой, а осторожность всё-таки не мешает. Ну, детки, ешьте вволю, а пейте в меру! Гей, пан смотритель замка, подавай-ка сюда поболее вина и кушанья, а после мы угостим тех, которые теперь на страже! Для мужиков чтоб было водки вдоволь! А на потеху отдайте им приказчика! Пусть позабавятся хлопцы!
Из кухни нанесли множество яств и стол уставили бутылками. Проголодавшиеся казаки принялись очищать блюда, и опорожнённые бутылки летели одна за другою в разбитые окна.
— Вражьи ляхи! — сказал старый урядник, утирая рукавом седые усы. — Всё у них не по-нашему. Нет ни сала, ни вареников, ни галушек, ни пампушек, а всё не то чтоб сладко, не то чтоб кисло... Сам чёрт не разберёт!
Вдруг раздались выстрелы на дворе. Казаки вскочили с мест, бросили на стол и на пол серебряные кружки и бокалы и ухватились за ружья, которые стояли возле стены. Палей не трогался с места. Все с беспокойством смотрели на него.
— К коням, детки! — сказал он хладнокровно. — А ты, Москаленко, останься со мною.
Казаки побежали опрометью из комнаты, и тогда Палей сказал:
— Если польская погоня воротилась так скоро, то, верно, Иванчуку не посчастливилось. Защищаться здесь будет бесполезно. Ты, Москаленко, попробуй счастья и пробейся чрез неприятеля, а я останусь здесь и взлечу на воздух вместе с ляхами, с ляшками и ляшенятами. Один конец! А Палея не видать им живого в своих руках и не ругаться над седою его чуприною! Ступай!
Москаленко бросился на шею Палею.
— Отец мой, благодетель мой! Послушай моего совета и брось своё отчаянное намерение! Пойдём на пробой! Ночь тёмная, враги не знают нашего числа. Ударим на них дружно и крепко, и они не посмеют гнаться за нами. Увидишь, что мы успеем спастись, а если умирать, то лучше всем вместе, в чистом поле...
— Ни слова! — сказал Палей. — Как я сказал, так быть должно. Я раздумал прежде, что должно делать. В темноте, в беспорядке я скорей могу попасться в плен... Нет, этого не будет! Прощай, хлопче! Коли тебе удастся увидеть жену мою и детей, скажи им, что я всех их благословляю, и отдай им вот этот отеческий поцелуй! — Палей поцеловал Москаленка в голову. — Все деньги мои и всё золото и серебро разделите на три части: одну часть жене моей и детям, а остальные вам, хлопцы, на равные части!.. Ах, как жаль, что мой Огневик пропал!.. Вам не устоять без меня, детки! Ступайте на Запорожье, к Косте Гордеенке, и служите у него... Но к Мазепе чтоб никто не смел идти... Это последняя моя воля! Ступай!..
— Батько! Пане гетман!.. — воскликнул Москаленко.
— Ни слова более! Ступай!.. Время дорого.
Москаленко со слезами на глазах выбежал из комнаты.
Палей взял свечку со стола, раскурил свою трубку и перешёл в комнату, где лежали связанные поляки вокруг бочки с порохом. Он выломал кинжалом одну доску из верхнего дна бочки и поставил на краю дна свечу.
— Ну, Панове ляхи, — сказал Палей, — я думал, что вам завтра должно висеть, ан пришлось вам плясать на воздухе. Подождём музыки!
В это время казаки ввели пана Дульского и принесли кучу бумаг.
— Сложите бумаги в угол, — сказал Палей, а пана привяжите к бочке, вместе с его приятелями!
Казаки немедленно исполнили приказание вождя.
— Не я виноват, пане Дульский, — сказал Палей, что не могу сдержать слова! Ты знаешь наше условие! Детки, ступайте к коням!
Казаки, не понимая ничего, вышли из комнаты. Палей сел на бочку с порохом, поставил свечу на пол и продолжал курить трубку, поглядывая то презрительно, то насмешливо на несчастных, внутренне приготовляющихся к ужасной смерти. Они также слышали выстрелы, слышали решение Палея и знали, что он не изменит своему слову. Некоторые из них громко молились, другие исповедовались друг другу в грехах.
Но выстрелы замолкли. Прошло с четверть часа, и всё было спокойно. Тишина не прерывалась ни криками, ни звуком оружия, ни конским топотом. Палей не понимал, что всё это значит. Он внимательно прислушивался.
Вдруг внизу лестницы послышался шум и говор. Палей взял свечу и, устремив взор к дверям:
— Всему конец! — сказал он и с нетерпением ждал, чтоб неприятели вошли в комнату, намереваясь в ту минуту поджечь порох. Моления умолкли: несчастные ожидали взрыва.
— Где он? Где батько? — раздалось на лестнице.
Сердце Палея вздрогнуло. Это был знакомый, милый ему голос.
— Батько! Где ты? — повторилось в соседней комнате.
— Здесь! — закричал Палей, поставил свечу на стол и кинулся к дверям. Огневик повис у него на шее.
— Это ты, мой Богдан, мой любезный сын! — воскликнул Палей, прижимая Огневика к сердцу. — Ну, теперь я умру спокойно! — сказал Палей, вздохнув протяжно, как будто камень свалился с его сердца. — Садись-ка да расскажи мне, каким образом ты избавился из когтей демоновских?
Между тем Огневик смотрел на несчастных связанных поляков, лежащих вокруг бочки с порохом почти без дыхания. Он взял Палея за руку, вывел в другую комнату и сказал:
— Ты посылал меня, батько, к гетману Мазепе с тем, чтоб я помирил тебя с ним. Ты обещался вступить под его начальство, не правда ли?
— Точно так! Я не отпираюсь от своего слова, — отвечал Палей. — Вы же сами решили, что нашей вольнице нельзя долго держаться и что одно средство остаётся нам, пристать или к войску Малороссийскому, или к Польше. Я лучше стану служить чёрту, чем ляхам, и так надобно было помириться с чёртовым братом, с Мазепою!
— Я помирил вас, батько, и помирил искренно, — сказал Огневик. — Но первым знаком дружбы с твоей стороны, батько, должно быть освобождение сих несчастных. — Огневик указал на связанных поляков.
— А это зачем?
— Затем, что если ты признаешь власть гетмана войска Малороссийского и Запорожского и хочешь быть приятелем пана Мазепы, то не должен делать набегов без его волн и обижать его приятелей. Пан Дульский друг Мазепы.
Палей стал разглаживать свои усы и задумался.
— Расскажи-ка мне прежде про нашу мировую! — сказал Палей.
— Клянусь тебе Богом, — возразил Огневик, — что мы с тобой, батько, не знали гетмана Мазепы, почитая его злым, бездушным и коварным. Я проник в сердце его...
— Постой! — сказал Палей, схватив Огневика за руку. — Он обманул, опутал тебя!
— Нет! Он не обманул меня, а открыл мне свою душу, свои горести и поверил мне свои опасения, своё жалкое положение на высоте. Мазепе так же нужна твоя дружба, как тебе его. Вместе вы будете сильны, чтоб оградить права и вольности Малороссии и Украйны, а поодиночке погибнете оба, жертвою силы и хитростей политики. Верь мне, батько, я твой душою и ни об чём не думаю, ничего не желаю, как твоей славы, твоего спокойствия и блага родины... — Затем Огневик рассказал Палею все свои похождения в Батурине, умолчав, однако же, какою хитростию он был обезоружен и ввержен в темницу, и, изложив потом подробно волю Мазепы и все его сомнения насчёт твёрдости казацких привилегий, присовокупил:
— Гетман Мазепа оставляет за тобой, батько, полк Хвастовскмй и все земли, забранные нами у поляков, обещая ходатайствовать об уступке оных тебе навсегда, за денежное вознаграждение; а от тебя требует только наружной подчинённости, желая действовать во всём с обоюдного вашего совета и согласия. Но пощади слабость его, батько! Старик влюблён смертельно в княгиню Дульскую и даже хочет на ней жениться. Пожертвуй своей победою общему благу! Вот первый случай доказать Мазепе, что примирение твоё искреннее и что ты чтишь его волю и даже угождаешь ему... Дай свободу твоим пленникам и откажись от добычи!
Палей снова задумался и, помолчав несколько, сказал:
— Мне, право, всё что-то не верится. Проклятый Мазепа обманул, обольстил тебя и завлёк в свои дьявольские сети! Ужели правда, что Москва хочет уничтожить казатчину и гетманщину? Лжёт, как собака, вражий сын!
— Помилуй, батько, — сказал Огневик, — да зачем же ты посылал меня к Мазепе, если не можешь и не хочешь верить ни клятвам его, ни обещаниям? Может ли он дать большее доказательство своей искренности, когда соглашается прибыть на свидание с тобою, безоружный, позволяя тебе явиться с вооружённою дружиной? Нет, батько! Если ты порассудишь, то убедишься, что Мазепе более нужна твоя дружба, нежели твоя погибель. В тебе он будет иметь сильную подпору, без тебя он будет всё в таком же положении, как и теперь.
— Бог с вами! — сказал Палей. — Пусть будет по-вашему! — Потом, обратясь к казакам, стоявшим у дверей залы, примолвил: — Развяжите пана Дульского и освободите баб из погреба!
— А других? — спросил Огневик.
— А какое дело Мазепе до других ляхов! — возразил Палей.
— Да ведь они друзья пана Дульского, приятеля Мазепы!
— Ну так что ж?
— Их также надобно освободить.
— А кого же мне придётся повесить? — спросил Палей простодушно.
— Теперь, батько, никого не надобно вешать. Мир заключён — и конец мести и войне!
— Чёрт вас всех побери! — проворчал Палей. — Не дадут и потешиться казацкой душе, своей проклятою политикой! Ну, хорошо, отпущу всех; но чтоб не даром пропал поход, так повешу одного ксенза! Жидам и ксензам не спущу, хоть бы пришлось провалиться сквозь землю!
При сём Огневик вспомнил о патере Заленском и спросил у казаков, где он.
— Мы привязали его к дереву, чтобы проветриться от страха, — отвечал казак.
— Батько! — сказал Огневик. — Патер Заленский друг и школьный товарищ гетмана Мазепы, мой учитель и спаситель моей жизни! Он уведомил Наталью о моём плане; он впустил её в подземелье, когда меня хотели пытать; он первый подал мне помощь в недуге... Если ты убьёшь его — клянусь тебе, что я с отчаянья брошусь в воду!
Палей обнял Огневика, поцеловал его в голову и в обе щеки, прижал к сердцу и сказал:
— Для этого радостного дня, в который я нашёл тебя, моё дитятко, всем дарую жизнь: и ляхам, и ксензу! Будь они прокляты! Не хочу видеть их радости и сейчас иду в поход... Ребята, наконь! Делай с ними что хочешь, — примолвил Палей, обращаясь к Огневику, и, махнув рукою, вышел с казаками.
Огневик вошёл в комнату, где лежали связанные поляки, и сказал им по-польски:
— Господа! Вы свободны! Обстоятельства переменились! Я сейчас только прибыл от гетмана Мазепы, который примирился с вождём моим, и полковник Палей отныне не будет враждовать с Польшей, без повеления гетманского. Это последний его набег. Но вас, господа, прошу дать мне честное шляхетское слово, что вы предадите забвению всё здесь случившееся и не станете тревожить нас при отступлении нашем восвояси!
— Мы даём честное слово! — закричали все в один голос.
— Который из вас, господа, пан Дульский? — спросил Огневик.
Дульский отозвался.
Огневик обнажил свою саблю и стал разрезывать верёвки, которыми перевязаны были поляки, начав с пана Дульского. Освобождённые поляки бросились обнимать Огневика, называя его своим избавителем, спасителем и обещая вечную благодарность.
— Пан гетман Мазепа прислал чрез меня поклон вам, ясневельможный пане! — сказал Огневик, обращаясь к Дульскому. — И велел доставить вам вот это письмо. — Огневик вынул пакет из-за пазухи и отдал Дульскому. — Я не знал, — примолвил Огневик, — что буду иметь удовольствие вручить вам лично письмо гетмана, но на пути моём из Батурина в Белую Церковь узнал, что вождь мой выступил на поиски в Польшу, а потому и поехал его отыскивать. Случайно встретился я с отрядом нашим, при переправе чрез Днепр, и прибыл сюда с ним, по счастью, в самую пору, чтоб избавить вас от смерти...
В это время вбежал патер Заленский и с рыданиями бросился на шею Огневику. Вскоре появились и женщины. Слёзы радости смешались. Обниманиям и поздравлениям не было конца. Поляки почитали себя воскресшими от смерти. Огневик наслаждался умилительным зрелищем. Когда несколько успокоились, то обратились к нему с новыми повторениями благодарности.
Вошёл казак в полном вооружении и сказал Огневику:
— Батько ждёт тебя за воротами. Хочешь ехать с нами, так ступай!
Огневик, простясь с освобождёнными им от смерти поляками и с дамами, вышел, сопровождаемый их благословениями. Конь его стоял у крыльца. Он поскакал к ватаге, которая ждала его за воротами. Палей ударил коня и поехал рысью. Казаки поскакали за ним.
— Проклятая ночь, ни зги не видно! — сказал Палей Москаленку. — Если б мы зажгли замок, то до свету не скитались бы в темнотище! Дорого ты мне стоишь, сынок! — примолвил Палей, обращаясь к Огневику. — Когда бы я мог догадаться, что ты так скоро прибудешь ко мне с Иванчуком, то заранее перевешал бы всех вражьих ляхов и сжёг бы их проклятое гнездо. Нечего делать! Сталось! Терпи, казак, атаманом будешь! Авось царь Московский поведёт нас на потеху в ляховщину!
ГЛАВА IX
Твоя ужасна дальновидность
И скрытый, мрачный твой совет.
Державин.Часы бегут, и дорого мне время —
Я здесь тебе назначила свиданье
Не для того, чтоб слушать нежны речи
Любовника.
А. Пушкин.Польша, без пограничных крепостей, имея весьма малое число регулярного войска (не более двенадцати тысяч), всегда была открыта для всех соседей. Только система политического равновесия, утверждённая в Европе Вестфальским миром, охраняла её слабое политическое существование. Но с тех пор, как соседние народы стали просвещаться, а вследствие этого и усиливаться, а иезуиты, завладев народным воспитанием в Польше, погрузили последующие царствованию Сигизмунда III поколения в невежество, она сделалась ничтожною в Европе. Настали времена, когда личная храбрость должна была уступить благоустройству, и гордая польская шляхта, предоставляющая одной себе право носить оружие, отдаляя от воинского звания поселян, не любя притом подчинённости и не соглашаясь на сеймах на умножение податей для заведения сильного войска, по примеру соседних держав, сия шляхта должна была терпеливо сносить разорения своих поместьев и всякого рода обиды от татар, казаков и воюющих между собою соседних держав. В это время русские шведы расхаживали свободно по Польше, занимали области и города, извлекали из оных продовольствие и управлялись везде, как в побеждённой стране, именуя себя, однако же, союзниками одного из двух спорящих о престоле польском королей.
Август воевал со шведами, предводительствуя своим саксонским войском и малым числом польских приверженцев. Небольшое войско Польской Республики сосредоточено было около двух столиц, Варшавы и Кракова, а прилежащие к России пограничные области оставались без защиты, в них хозяйничали русские военачальники, проходя чрез оные или занимая в них посты.
Пользуясь сим беспорядком, Палей, как мы уже выше сказали, овладел частью польской Украйны и утвердился в Белой Церкви, а Самусь хотя и поставлен был Польшею в гетманы войска Заднепровского, но, по примеру приятеля своего Палея, подчинился также России и также грабил Польшу, овладел городами Немировом, Богуславом, Корсунем, Бердичевом и Винницею, объявив притязание к казне Республики, за неуплату жалованья. Два одновременные короля польские не в силах были удержать буйных казацких старшин от своевольства. Август жаловался союзнику своему, русскому царю Петру, а Станислав Лещинский — Карлу XII и тайному другу своему, гетману Мазепе. Но Пётр, будучи занят войною на Севере, не мог водворить порядка в Украйне. Карл XII был далеко, а Мазепа опасался вмешиваться явно в польские дела, чтоб не извлечь на себя подозрения. Когда, наконец, Мазепа согласился помириться с Палеем, он назначил ему свидание в Берднчеве, принадлежащем по праву Польше, но платящем подать Самусю, из опасения грабежа. 12 июня бывает в сём городе ярмарка, на которую съезжается множество польских панов, казацких старшин, простых казаков, поселян и татар. Палей охотно согласился на приглашение гетмана явиться на ярмарку и сим убедился даже в искренности Мазепы, полагая, что если б он имел против него злой умысел, то не назначил бы ему свидания при многочисленном стечении народа, благоприятствующего в целой Украине Палею и ненавидящего Мазепу, как явного приверженца Польши. Палей приглашал с собою приятеля своего, Самуся, но он одержим был недугом в Виннице и не смог исполнить его желания.
Палей сперва намеревался взять с собою сильный отряд самых отчаянных казаков; но когда Мазепа пригласил его на ярмарку, то он почёл ненужною сию предосторожность. Его сопровождали только Огневик, Иванчук, Москаленко и человек десять казаков, для прислуги.
Мазепа имел другие виды, назначая ярмарочное время для свидания. Он хотел, не возбудив подозрения в своих врагах, переговорить с польскими панами, приверженцами Станислава, и увидеться с княгинею Дульскою.
Палей отправился верхом, как в поход, без обоза, без кухни. Он велел только уложить в чемодан самую богатую свою одежду и самое дорогое своё оружие. В том состояла вся роскошь Палея, который хотя владел несметными сокровищами, плодами его набегов, но вёл жизнь простого казака и любил блеск только в наряде. Пред отъездом он позвал Огневика в свою кладовую и велел ему насыпать в кожаную торбу червонцев без меры и счету.
— Береги это на дорогу, — сказал Палей, — и смотри, чтоб нам не было ни в чём недостатка.
Палей прибыл в Бердичев прежде Мазепы и остановился у приятеля своего, священника. За несколько дней до приезда гетмана пришёл его обоз, состоявший из нескольких карет, берлинов, бричек и колымаг. Для гетмана наняли лучший дом в городе, на главной площади. Комнаты убрали драгоценными персидскими коврами и шёлковыми тканями, в шкафах расставили за стёклами серебряную раззолоченную посуду. Множество слуг, по большей части из поляков, наполнили весь дом. Двенадцать человек сердюков содержали стражу у ворот и дверей дома. Двадцать четыре музыканта гетманского двора, хор певчих заняли два соседних дома. Целый город и все прибывшие на ярмарку с нетерпением и любопытством ожидали прибытия гетмана Мазепы, которого все боялись и уважали, как самого государя.
Наконец прибыл высокомерный гетман войска Малороссийского, при многочисленном стечении народа, встретившего его за городскими воротами и провожавшего его карету до самого его жилища. Все шли без шапок, в тишине. Бургомистр и чиновники магистрата поднесли ему хлеб-соль на пороге дома и приветствовали речью, как наместника русского царя. Православное духовенство явилось к нему с поздравлением. Одним словом, гетмана приняли в пограничном городе, как независимого владетеля, и тем же порядком, как принимались прежде венчанные главк.
В городе никто не заметил прибытия Палея. Но народ вскоре узнал о сём и толпился возле дома его, приветствуя его при каждом его появлении радостными восклицаниями. Палей велел купить несколько бочек водки и мёду, выкатить их на улицу для всенародного угощения, бросил в народ несколько сот талеров и, явившись сам к восхищенной толпе, запретил собираться впредь подле занимаемого им дома. Украинские крестьяне, казалось, ожили в присутствии Палея. Они бодро и смело расхаживали по улицам, не ломали шапок перед польскою шляхтой и даже придирались к служителям польских панов, чтоб завести драку. Между украинскими поселянами и казаками только было и речей, что о Палее. Поляки избегали встречи с ним, а жиды прятались, когда он проходил по улице.
С Мазепою прибыли Орлик, Войнаровский и полковник Чечел. Огневик немедленно отправился к Орлику объявить, что Палей ожидает приказаний ясневельможного гетмана.
Орлик ввёл тотчас Огневика к Мазепе.
Мазепа встретил Огневика с радостным лицом и с распростёртыми объятиями:
— Здорово, здорово, любезный Богдан! — сказал Мазепа, обняв Огневика и поцеловав его в лицо и в голову. — Спасибо за прислугу! Ну вот тебе за это грамотка от твоей невесты! — примолвил он, отдавая письмо. — Я хотел было взять Наталью с собой, но после порассудил, что ей неприлично быть здесь со мною. Зато я дал ей слово привезти тебя с собою в Батурин. Ты, верно, не откажешь мне в этом, Богдан! Не правда ли?
Огневик, вместо ответа, поцеловал руку гетмана.
— Ну что, здоров ли приятель мой, полковник Палей? — спросил Мазепа.
— Слава Богу, здоров и желает нетерпеливо представиться вашей ясневельможности!
— Я сам хочу как можно скорее обнять его. Но в первый раз мы должны увидеться только при двух свидетелях. Пусть в сумерки придёт полковник Палей с тобою, а при мне будет только мой Орлик.
Мазепа прибыл в Бердичев в полдень. Пообедав налегке, он заперся в своей комнате, сказав, что хочет отдохнуть после дороги. Но он не думал о сне и об успокоении. Душа его была в сильном волнении. Страсти буйствовали в ней, и он должен был употребить всю силу своего ума и всё могущество своего коварства, чтоб прикрыть ненависть свою к Палею видом искренней дружбы. Борьба сия стоила Мазепе большого усилия, и когда в сумерки он позвал к себе Орлика, тот испугался смертной бледности и унылого, померкшего взора гетмана.
— Вот настаёт решительная минута, любезный Орлик! — сказал Мазепа. — Я должен встретиться со смертельным врагом моим, изливавшим в течение тридцати лет по каплям отраву в моё сердце. Все клеветники мои, все враги мои находили пособие и совет у Палея, который посеял в моём войске недоверчивость и холодность ко мне. Теперь я должен прижимать его к сердцу! Я выдержу эту пытку, но ты, Орлик, будь осторожен... не измени ни взглядом, ни движением, ни словом...
— Я буду как камень, — отвечал Орлик.
— Крепись, Орлик! Не долго нам мучиться! Это последняя преграда на нашем поприще!..
Вошёл сторожевой казак, доложил, что пришёл полковник Палей, и удалился.
Мазепа невольно вздрогнул:
— Воды! Подай мне поскорее холодной воды.
Орлик налил ему большую кружку, Мазепа выпил душком, обтёр пот со лица, вздохнул тяжело и сказал Орлику:
— Введи его!
Когда Палей вошёл в комнату, Мазепа приподнялся с кресел и снова присел, как будто от изнеможения. Он хотел говорить, проворчал что-то невнятное и замолчал. Он пристально смотрел на Палея, хотел ласково улыбнуться, но губы его дрожали.
Палей, казалось, не замечал или не хотел заметить замешательства Мазепы. Переступи чрез порог, Палей низко поклонился и, не дождавшись приветствия Мазепы, сказал громким и твёрдым голосом:
— Повинную голову меч не сечёт! Прихожу к тебе, ясневельможный гетман, с покорностью, с надеждою на твою приязнь и в уверенности, что ты, подобно мне, забудешь всё прошлое. От твоего мирного слова старый Палей переродился! Буду служить верно царю Московскому под твоим началом, и в целом войске не будет полковника послушнее Палея. Господь пособил мне отнять у ляхов и татар несколько грошей, награбленных ими в родной нашей Украине, и укрепил руку мою на поражении неверных и недоверков. Казна моя и рука моя — твои, на пользу нашей родины! Отдаю тебе мою саблю, которая сорок лет упивалась вражескою кровью, и только однажды отнята была у меня ляшскою изменою, когда я был заточен в Мариенбургской крепости. Жду волн твоей, что прикажешь, то и будет со мною! — Палей снял саблю и вручил её Мазепе.
Между гем гетман пришёл в себя.
— Я не мог опомниться, старый друг мой, Семён, увидев тебя в первый раз, после тридцатилетней разлуки, — сказал Мазепа ласково, дружески, с видом откровенности и простодушия. — С тех пор, как мы жили с тобой по-братски, в одном курене, в Запорожье, с тех пор, как я перешёл в гетманщину — мы не встречались, а злые люди воспользовались нашею разлукою и посеяли между нами вражду. Дай мне руку, Семён! Эта звезда и эта голубая лента, которыми царь Московский прикрыл грудь мне, не изменили моей сердечной простоты, а гетманская булава не ослабила руки моей для дружеских объятий! Я всё тот же Иван для тебя, что был в запорожском курене. Возьми свою саблю, Семён, а я благодарю тебя, что ты позволил мне прикоснуться к оружию, прославившему Украину. Обойми меня, старый товарищ!
Старый Палей был тронут простотою и ласковостию приёма и охотно прижал к сердцу Мазепу, поверив его искренности.
— Садись-ка возле меня, пане полковник, — сказал Мазепа, — да извини моему калечеству. Ты в степях закалился на старость, а я ослабел в палатах: чуть передвигаю ноги!
— Была бы голова на плечах, — сказал Палей. — Разум твой прытче наших бегунов и твёрже булата. Крепких, храбрых и здоровых молодцов у нас довольно — была бы голова!
— Нет, пане полковник, теперь не те времена, что было при прежней гетманщине! Лучше б и безопаснее было для меня, если б разум погас в голове моей и любовь к родине замерла в сердце навеки! Теперь не хотят этого, пане полковник! Царь Московский хочет управлять везде одною своею волею и головою. Сердце и голова нужны были гетману в прежнюю гетманщину, когда гетман, как царь, трактовал с Москвою, с Польшею, с ханом, с султаном и с волохами, принимал и отправлял послов, вёл войну и заключал мир, управлял произвольно войсковыми маетностями и скарбом... Теперь гетман не более значит как урядник! Если мы проживём с тобою лет десяток, то увидим конец казачины так же, как видели конец стрельцов. Верь мне, пане полковник! к тому всё клонится. Царь уже не однажды намекал мне, что он не любит привилегированных войск и желает, чтоб Россия имела одно войско регулярное. Когда я однажды, за обеденным столом, за которым были все царские бояре и полковники, возразил царю и упомянул о привилегиях, то он при всех — ударил меня но щеке... По щеке гетмана Малороссии, представителя войска!..
Палей вздрогнул на стуле.
— Нет, пане гетман, не бывать тому с казаками, что было со стрельцами! — сказал он, покраснев от злости и ударив рукою по рукояти своей сабли. — Никто не дерзнёт уничтожить казатчину и Запорожье!.. — Палей хотел продолжать и вдруг остановился, как будто опомнившись, что должен быть осторожен в словах.
— Не дерзнёт, говоришь ты! — возразил Мазепа. — Московский царь обрил москалям бороду, которую они ценили как голову, уничтожил патриарха, в которого целая Русь верила как в полубога, поставил детей гордых бояр под ружье, уничтожил одним своим словом неистребимое местничество до того, что теперь первейшие бояре служат под начальством немецких пришельцев! Нет, пане полковник! Царь Пётр Алексеевич, имеет железную волю и притом ум необыкновенный и что захочет исполнить — то и будет исполнено! Никто не посмеет ему воспротивиться. Он ужасен в гневе и беспощаден в каре с ослушниками своей воли!
Мазепа замолчал и смотрел исподлобья на Палея, который волнуем был гневом и преодолевал себя, чтоб не промолвиться. Он то закусывал губы, то разглаживал усы свои и молчал, бросая вокруг страшные взгляды.
— Да, да, пане полковник, — примолвил Мазепа, — с царём Московским иметь дело не то что с польскими королями, которые после каждого казацкого бунта давали нам новые привилегии, подарки и обременяли нас ласками... У Московского царя чуть пикни, так и прощай голова!.. Скажи, смел ли бы король польский дать пощёчину гетману?..
— Нет, пане гетман! Уж если сказать по совести, так лучше московская пощёчина, чем ласки ляхов, папистов, недоверков! Дались мне знать эти ляшские ласки, и дорого заплатил я за них! Тебе дал царь Московский пощёчину!.. Но он возвысил тебя также превыше всех прежних гетманов, наградил истинно по-царски за твою службу!.. Вспомни, пане гетмане, что делали с нами ляхи! Разве не они засекли на смерть батогами сына Богдана Хмельницкого? Разве не они колесовали гетмана Острапицу, генерального обозного Сурмилу, полковников Недригайла, Боюна и Риндича? Разве не ляхи замучили, адскими муками, тридцать семь полковников и старшин? Кто сварил в котле храброго и простодушного Наливайка?.. Но что тут припоминать!.. Скажу коротко: по мне, так лучше сильная царская власть, чем ласки и коварство слабых польских королей... Не дай Бог, иметь снова дело с ляхами!
Мазепа значительно посмотрел на Орлика и после того, взяв за руку Палея, сказал:
— Похвальны чувства твои к Московскому престолу и буду свидетельствовать об них пред царём. Ты теперь имеешь нужду в этом, любезный мой пане полковник, ибо царь крепко гневается на тебя и на Самуся, по жалобе короля Августа и панов польских за го, что вы ослушались повеления царского и не удовлетворили панов Потоцкого и Яблоновского, забрав их замки и города. Я уже просил за тебя и ежедневно ожидаю ответа... надеюсь, благоприятного!..
Палей быстро поднял голову и устремил проницательный взор на Мазепу:
— Царь на меня гневается! — сказал он. — Но я писал к нему, что готов удовлетворить польских панов за занятые мною их поместья, если они рассчитаются со мною и удовлетворят за обиды и притеснения, сделанные братьям нашим... Царь ничего не отвечал, и я думаю, что дело кончено! Русский царь не то, что король польский! Я сказал уже тебе это, Мазепа. Русский царь не переговаривается и не переписывается со своими подданными, но повелевает, а повелений его должно слушаться беспрекословно и безусловно! Кто осмелится возразить ему или не исполнить его повеления, тот почитается бунтовщиком!
Палей вскочил со стула.
— Пане гетман! Я не бунтовщик противу царя Московского, но верный слуга его! — воскликнул он.
— И я говорю и думаю то же и писал к царю точно в том же смысле. Но в Москве не так думают, как в Варшаве и на Украине!
— Пане гетман! — сказал Палей твёрдым и решительным тоном. — Если его царское величество не признает моей верности, то я кланяюсь ему в ноги и пойду искать себе счастья по свету! Никогда рука моя не поднимется противу православного воинства; но у турецкого султана есть много врагов и без москалей... Пусть мне дадут на мой пай ляхов... я управлюсь с ними!
— Эдак нельзя поступать с царём Московским, пане полковник! — возразил Мазепа с улыбкою. — Из подданства царя Московского пс так легко выбиться, как из польского! Вспомни, что все мы царские холопи...
Палей едва мог владеть собою.
— Ясневельможный пане гетман! скажи мне, зачем ты меня призвал?.. На царский суд и расправу, что ли? — сказал он, устремив на Мазепу налитые кровью глаза.
— Гей, Семён, Семён! Ты всё тот же, что был в молодости! — сказал Мазепа ласково, взяв его за руку и принудив присесть возле себя. — Пламенная твоя кровь не простыла до сих пор, — примолвил он, улыбаясь. — Слушай терпеливо! Я признавал тебя как друга и как брата, чтоб открыть тебе во всей истине настоящее положение дел, опасность, угрожающую правам нашим волею царя, и предостеречь тебя самого. Впрочем, опасаться тебе пока нечего. До сих пор царь ко мне милостив: ни в чём мне не отказывает; а я твой заступник и предстатель у Московского престола. Но власть моя и милость непрочны! Я имею много завистников и врагов, которые могут лишить меня ни за что ни про что царской милости и царского доверия, и в один миг я буду ниже простого казака, по одному слову царскому! Теперь будь спокоен, старый мой друг и товарищ; я клянусь тебе на кресте, что, пока я жив, то по моей воле не спадёт волос с головы твоей! — Мазепа перекрестился, и Палей крепко пожал ему руку.
— Извини меня, Семён, что я попрошу тебя оставить меня отдохнуть после дороги, — примолвил Мазепа. — Я слаб и хил — живу духом, а не телом. Душа моя рада бы слиться с твоею навеки, но тело требует покоя. Завтра мы попируем, любезный Семён, а послезавтра поговорим подробнее о делах. Я тебе открою всё, что знаю, всё, что думаю, всё, чего надеюсь, всё, чего опасаюсь и чего желаю для блага нашей родины и собственной нашей безопасности, и даю тебе вперёд слово, что твой совет будет мне законом. Отныне да будут Палей и Мазепа одна душа и одна голова!
Мазепа простёр объятия и прижал к груди Палея. Он поклонился и вышел. Проходя по улицам, Палей не сказал Огневику ни слова. Возвратясь в своё жилище, снял с себя богатый кунтуш, повесил саблю на гвоздь, лёг на соломенную спою постель, прикрытую буркой, и закурил трубку. Потом, обрати взор на Огневика, который стоял в безмолвии у стола и читал полученное им чрез Мазепу письмо, сказал:
— Чёрт меня побери, если я что-нибудь понял из слов гетмана! Чего он от меня хочет? Чего он замышляет? Сам чёрт не догадается! На язык он то мёд, то яд. Каждый взгляд и каждое слово его то лесть, то угроза, а всё вместе, воля твоя, кажется, мне, обман и коварство!
— Полно, полно, батько! — возразил Огневик. — Ты всё-таки не можешь победить первого впечатления насчёт Мазепы! Что тут мудреного, что тут запутанного в речах его? Он хочет с тобой посоветоваться, как бы общими силами составить оплот для защиты прав Малороссии — вот и всё тут! Тебе он весьма кстати напомнил о немилости царской и сам же взялся исходатайствовать для тебя прощение. В речах его и в поступках я вижу одно искреннее желание иметь тебя другом и подпорою, а если что-нибудь кажется тебе в нём невнятным или двусмысленным, прости ему: он привык к скрытости, водясь с польскими панами и с знатными московскими боярами и будучи окружён врагами и лазутчиками! Что до меня касается, я верю его искренности и советую тебе, батько, быть спокойным! Мазепа не имеет желания обманывать нас, ибо это противно его собственной пользе!
— Дай Бог, чтоб это была правда, — сказал Палей. — Но мне всё что-то не верится, и всё что-то не хорошо на сердце, как будто перед недугом или после какого нечистого дела. Я не останусь здесь долее! Завтра пробуду, а послезавтра домой. Бог с ними! В леса, в степи наши! Для меня гетманщина, как церковь для татарина. Не хочу я знать никакой политики! Буду сидеть смирно в хате, а коли затронут меня — тогда не прогневайся!
Дали знать, что ужин готов, и Палей, выпив с гарнец крепкого бернардинского мёду, разогнал тоску и, забыв все сомнения, заснул спокойно на соломе, с трубкою в зубах.
Мазепа вздохнул свободно, когда Палей оставил его наедине с Орликом.
— О, какое мучение! — сказал гетман. — Какое адское мучение вытерпел я, принуждён будучи ласкать этого зверя, с которого я готов содрать кожу собственными моими зубами! Довольно долго он грыз сердце моё! Ты видел, как он расположен к Польше, без помощи которой нельзя никак даже начать нашего дела. Сей яд ненависти к Польше имеет источник в сердце Палея и заражает всю Украину. Должно решиться теперь на самое отчаянное средство, чтоб только избавиться от него.
— Должно одним ударом кончить всё, — сказал Орлик. — Я берусь пробить насквозь коварное сердце этого разбойника хотя бы всенародно, на городской площади!
— Пустое говоришь, Орлик! Вспомни, что на нас смотрят и Россия и Украина и что в мести моей не должно быть ниже тени личной вражды. Малороссия и Украйна обожают Палея, почитают его вторым Богданом Хмельницким, Россия чтит его и уважает за вред, нанесённый им врагам её, туркам, татарам и полякам; так умно ли будет, если и нынешних обстоятельствах мы навлечём на себя всеобщую ненависть? Не лучше ли устремить эту ненависть на царя Московского? А? Как ты думаешь? — промолвил Мазепа, смотря с улыбкою на Орлика. — Будь спокоен! Я всё это обдумал и устроил. Пусть царь Московский погубит Палея, — а я умываю руки!
— Хороню б было, если бы это так удалось. Но я боюсь, чтобы нам не упустить его из рук!
— Положись на меня, Орлик! Из моих тенёт этот зверь не выпутается!
Служитель доложил, что пришёл пан Дульский со своею невесткою. Мазепа вспрыгнул от радости с кресел, и, приняв бодрый вид, опираясь неприметно на свой костыль, пошёл навстречу гостям.
Они встретились в дверях.
Княгиня Елеонора Дульская, вдова по двух мужьях, имела около тридцати лет от рождения, но сохранила всю свежесть первой юности и слыла красавицею между прекраснейшими женщинами польского двора. Тёмно-голубые глаза её, осенённые длинными ресницами, имели необыкновенную прелесть, при бровях и волосах темно-каштанового цвета и необыкновенной белизне лица. Высокий рост и стройный стан придавали величие её физиономии, оживлённой приятною, но гордою улыбкой. Первый муж её, князь Вишневецкий, призвал нарочно живописца из Италии, чтоб написать картину, в которой она изображена была Дианою, на ловле. Можно было бы составить толстую книгу из стихов, написанных в Польше в похвалу прелестным ножкам княгини. При красоте своей она отличалась необыкновенным умом и ловкостью, и притом была чрезвычайно искусна в политических интригах, в которых женщины всегда играли важную роль в Польше. Красоту свою она употребляла, как талисман, для управления умами, при помощи всех тонкостей кокетства, но в сердце её господствовала одна страсть: честолюбие. Княгиня жила пышно, имела многочисленную прислугу и свою надворную хоругвь. Влияние княгини на общественные дела в Польше было весьма велико как по родственным её связям, так и по собственному её богатству, а более ещё по любви к ней нескольких из первых вельмож, искавших получить её руку и друг пред другом старавшихся угождать ей. Назначение родственника её, Станислава Лещинского, королём Польским придало ей новый блеск и силу, и когда началось междоусобие, княгиня Дульская решилась всеми зависящими от неё средствами помогать ему и была главною подпорою его партии.
Княгиня была тогда в Минске, когда гетман Мазепа с войском Малороссийским занял сей город. Любопытствуя видеть прославленную красавицу, Мазепа навестил княгиню и прельстился ею. Хитрая полька употребила всё очарование своего кокетства, чтобы вовлечь старого волокиту в свои сети, и наконец совершенно овладела его умом и сердцем. Она-то посеяла в нём первую мысль измены, убедив Мазепу в возможности отложиться от России и сделаться независимым владельцем, под покровительством Польши, Швеции и Турции. Успех борьбы Петра Великого с Карлом XII, признанным непобедимым, был тогда весьма сомнителен, а явное желание всех соседей России унизить, ослабить её и не впустить в семью европейских держав подавали Мазепе надежду, что они с удовольствием согласятся на основание нового, независимого владения в Южной России, которое, вместе с Польшею, будет служить Европе оплотом противу русских и противу татар. Дальновидность и проницательность Мазепы заглушены были двумя господствующими в душе его страстями, любовию и честолюбием, и он, увлекаясь мечтами, согласился на измену. Притом же Мазепа, имея сильных врагов при российском дворе между любимцами государя, боялся, рано или поздно, попасть в немилость у русского царя и лишиться своего сана, по одному слову царскому. Он так привык к власти, что опасность лишиться её тревожила его беспрестанно, а частые на него доносы и производимые по ним следствия увеличивали грозу. Княгиня воспользовалась всем, чтоб представить Мазепе настоящее его положение неверным и жалким, а будущее в блистательном виде, и наконец обстала отдать ему спою руку, коль скоро он объявит себя независимым.
Мы уже видели прежде, что семема коварства, брошенные в сердце Мазепы, созрели, но ум его ещё не был ослеплён до такой степени, чтоб жертвовать существенностью для одних надежд. Итак, Мазепа со своей стороны убеждал партию Станислава в Польше уговорить Карла XII поспешить вторжением в Украйну, а приверженцы Станислава старались выманить у Мазепы письменный договор, чтоб удостоверить короля шведского в сильной помощи при вторжении в Россию и заставить его скорее прибыть в Польшу, для утверждения нового короля на престоле. Нетерпеливая княгиня Дульская, не успев в сём деле чрез посланцев, сама прибыла в Украйну и, после счастливого избавления от Палея, назначила свидание Мазепе в Бердичеве. Мазепа, прибыв в город, тотчас послал верного своего Орлика к княгине просить о назначении тайного свидания, опасаясь явно навещать польских приверженцев Станислава в то время, когда они открылись и объявили себя врагами России. Княгиня, вместо ответа, сама нечаянно навестила Мазепу.
— Я никогда не ожидал такой особенной милости, прелестная княгиня, — сказал Мазепа, поцеловав руку своей гостьи и провожая её до софы. — Только опасение повредить делу, в котором вы принимаете участие, воспрепятствовало мне исполнить долг мой и расцеловать ножки ваши, ясневельможная пани, в вашем доме!
— Между нами, князь, не должно быть никаких расчётов в этикете, — возразила княгиня, сев на софу и умильно смотря на Мазепу, который стоял перед нею и не выпускал руки её из своих трепещущих рук. — Мы только для света чужие!.. — примолвила она, опустив глаза и приняв скромный вид.
Мазепа в восторге поцеловал снова руку княгини и, обратясь к пану Дульскому, пожал ему руку и обнял дружески.
— Надеюсь, — сказал Мазепа, — что препятствия, заставляющие нас скрывать дружбу нашу, скоро кончатся. Прошу садиться, князь, и поговорить о деле.
Они оба сели. Пан Дульский на софе, а Мазепа в креслах, напротив княгини.
— Препятствия могут возрасти, если мы станем медлить в устранении их, — возразила княгиня. — Если бы сердце моё не участвовало в этом деле и если б личное моё счастие не зависело от скорого окончания сей войны, то я вовсе не занималась бы вашею скучною политикой, — примолвила она, бросив нежный взгляд на Мазепу, который таял от любви и, казалось, ловил каждое слово, каждый взор прелестной гостьи. — Но наша медленность лишает меня покоя и углубляет разделяющую нас пропасть, — присовокупила Дул некая, — В нетерпении я сама ездила в Саксонию, к королю шведскому, и убеждала его вторгнуться как возможно скорее в Россию. Он отвечал мне решительно, что тогда будет уверен в успехе своего предприятия, когда вы, ясновельможный гетман, заготовите ему продовольствие и восстанете противу России.
— Продовольствие у меня готово, — отвечал Мазепа, — а восстать я не мог прежде, пока в Украйне был человек, который владел умами народа и мог своим влиянием перевесить мою власть. Я говорю о Палее. Теперь он здесь и скоро будет в моих руках!
— Пожалуйте, истребите поскорее этого разбойника! — сказала княгиня. — Я не могу вспомнить об нём без ужаса! — Она закрыла лицо руками и вздрогнула.
— Он дорого заплатит за причинённый вам страх и за оказанное им неуважение к той, пред которою цари должны преклонять колени, — примолвил Мазепа. — Что же касается до восстания моего, то я уже изложил причины, по коим не могу сего исполнить прежде приближения шведского короля к пределам нашим.
— Но король хотел бы иметь письменное уверение, — сказала княгиня, — и я прошу вас и заклинаю именем моей... дружбы к вам... исполнить желание короля! Другим средством мы не преодолеем его упрямства! — Княгиня слово дружба произнесла так нежно и с таким умильным взглядом, что оно означало более, нежели любовь.
— Княгиня! — сказал Мазепа нежным, но каким-то отчаянным голосом, смотря пристально ей в лицо и взяв её за руку. — Княгиня! знаете ли, что вы сим средством предаёте на волю вихрей жизнь мою, честь, имущество моё... славу и счастие! Но чтоб доказать вам мою любовь, и преданность... я согласен на всё, что вы прикажете!
Княгиня пожала руку Мазепы, которую он поцеловал с жаром.
— Теперь исчезли все мои сомнения! — воскликнула княгиня. — Теперь я счастлива, ибо уверена в любви вашей!
Мазепа едва мог удержать восторг свой. Все признаки болезни и телесной слабости в нём исчезли. Лицо его покрылось румянцем, глаза пылали, и он чуть не бросился на колени.
— За эту минуту я готов заплатить жизнью, — сказал Мазепа, целуя руки хитрой прелестницы. — Одна минута любви вашей стоит того, чтоб заплатить за неё веками мучений!
— Зачем эти века мучений! — возразила княгиня с приятной улыбкой. — В сердце моём живёт надежда на продолжительное счастье. — Она замолчала и взглянула значительно на пана Дульского, который сказал весёлым тоном, взяв за руку Мазепу:
— Ясневельможный пане гетмане! Вы будете иметь много времени наслаждаться любовию, только поспешите положить основание храма любви и силы вашей. Скажите; на что мы должны решиться и чем начать?
— Сегодня я отправлю к царю Московскому депешу, в которой извещу его, что прибыл нарочно сюда, для выведывания таинств политики у приверженцев врагов его, королей польского и шведского. Завтра у меня пир, на который я приглашаю всех польских панов и дам. Завтра же должна решиться участь Палея, а послезавтра я вручаю вам моё письменное обещание, если вам это непременно угодно. Но вы позволите мне, прелестная княгиня, предложить вам также небольшое условие, не холодный политический трактат, но коротенькую просьбу, написанную стрелою Амура на розовом листке! — Улыбающиеся уста старца дрожали, полусомкнутые глаза покрылись прозрачною влагою, на щеках выступил румянец...
Княгиня, взглянув на него, потупила взор, встала поспешно и сказала:
— Итак, до приятного свидания, князь! Помните только, что время дорого...
— То есть, оно дорого с вами, — примолвил Мазепа, подавая ей руку, чтоб проводить её.
Княгиня поблагодарила его, наклонением головы, за вежливость и сказала:
— Во всяком случае нам должно торопиться...
— Торопливость извинительна только в любви, прелестная княгиня, — возразил Мазепа, ведя её под руку в переднюю комнату, — но в войне и в политике она всегда бывает пагубна. Величайшая осторожность в приготовлениях и быстрота в исполнении — вот что доставляет верный успех. Положитесь на мою опытность, княгиня! — Поцеловав руку княгини в передней и обнявшись с паном Дульским, Мазепа возвратился в свою комнату и стал писать письма к царю и к приятелям своим, графу Головкину и барону Шафирову, намереваясь с рассветом отправить бумаги с нарочным, чтоб враги не предупредили его и не истолковали во вред ему поездки его в Бердичев и дружеских сношений с польскими панами.
Конец первой части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА X
Вечеронька на столе, а смерть за плечами.
Малор. песня.
...Не так привык я ненавидеть!
Мученья долгие врага желаю видеть,
…….
Упиться токами его горчайших слёз,
…….
И смертью медленной мою насытить злобу.
Озеров.Кармелитский монастырь в Бердичеве славился в целой Польше чудотворным образом Богоматери и несметными своими богатствами. Он был в то время укреплён валами, рвами и палисадами. Монахи содержали на свой счёт до трёх сот вооружённой шляхты, для защиты монастыря. Самусь, взяв Бердичев и наложив на него дань, не нападал на монастырь, щадя своих людей. Монахи, опасаясь измены и внезапного нападения, не позволяли никому из исповедующих православную веру, то есть казакам и поселянам, входить в крепость ни под каким предлогом.
Знатные польские паны, приезжая в город, обыкновенно останавливались и жили с своими семействами внутри монастыря, вознаграждая за сие монахов богатыми подарками.
В день открытия ярмарки католическая церковь праздновала память Св. Онуфрия. В монастыре было торжественное служение, на котором находились все польские паны со своими жёнами, детьми, офицерами, надворного своего войска и многочисленными слугами. Несколько тысяч католиков помещалось возле паперти церкви и вокруг оной. Несметное число народа, поселян и казаков стояли вне укреплений и толпились на площадях и улицах города, ожидая окончания католической божественной службы, ибо во время служения запрещено было открывать лавки и шинки и вообще заниматься торговлей. Любопытные с нетерпением ожидали процессии, или крестного хода. На обширном пространстве раздавался шум и говор, заглушаемый по временам колокольным звоном.
Выстрелили из пушки с монастырских укреплений. Настала тишина, и взоры всех обратились на зал. Внутри крепости раздалось громогласное и унылое пение нескольких тысяч голосов. Католики пели песнь Богородице, сочинённую св. Войцехом в первые времена христианства в Польше, которая, по примеру прочих католических держав, имеющих особенных своих покровителей в лике святых, признавала Богоматерь своею защитницей. Польские воины в старину пред начатием боя всегда пели сию песнь громогласно ввиду неприятеля и стремились в сечу, повторяя её. Во время войны и опасностей, угрожавших отечеству, песнь Богородице пели в церквах всенародно, по окончании литургии. Сия народная молитва воспламеняла мужество поляков воспоминаниями прежней славы и порождала в сердцах надежду на преодоление всех бедствий. Набожные верили, что песнь сия наводит ужас на врагов Польши и имеет чудотворную силу склонять победу на сторону поляков.
Пение за монастырскими стенами постепенно усиливалось, и вдруг показались хоругви и кресты на вершине вала. Процессия медленно подвигалась из-за ограды и растягивалась по валу. Шествие открывали монастырские воины, нёсшие церковные хоругви, знамёна польские и знамёна и бунчуки, отнятые польскими панами у неприятелей и посвящённые церкви. Потом шли послушники монастырские в белых долматиках со крестами и образами. За ними шли по два в ряд, также в белых долматиках, юноши и дети, воспитывающиеся в окрестных монастырях. Двенадцать гайдуков, в красных кунтушах с золотыми галунами, несли балдахин из алого бархата, украшенный золотыми галунами, кистями, бахромою и страусовыми перьями, под которым был чудотворный образ Богородицы, сияющий алмазами и цветными камнями. За балдахином шёл епархиальный епископ с аббатами Капитула и с высшим духовенством, за которыми следовали польские паны в богатой одежде, с обнажёнными саблями и дамы польские в лучших своих нарядах. За толпою сих почётных богомольцев тянулись длинные ряды монахов различных орденов: Кармелиты, Доминиканцы, Бенедиктины, Бернардины, Реформаты, Миссионеры, Францискане, в белых, чёрных, коричневых рясах. Шествие замыкали воины и слуги панов и вся мелкая шляхта со своими жёнами и детьми. На монастырской колокольне благовестили медленно, в один большой колокол, и чрез каждые пять минут налили из пушки с монастырского вала. Сие духовное торжество представляло величественное зрелище, и католики с гордостью смотрели, с вершины вала, на многочисленные толпы подвластного им народа украинского. Православные, невзирая на ненависть свою к папизму, сняли шапки пред образом Богородицы и пред знаменем Спасителя мира, в благоговейной тишине смотрели на процессию и крестились.
Изо всех православных только один Мазепа приглашён был настоятелем кармелитского монастыря к торжеству и к обеденному столу. Но он отказался, чтоб избегнуть нарекания в народе, и слушал в сие время обедню в православном соборе, в присутствии всех казацких старшин, находившихся на ярмарке.
Весь народ знал вражду Мазепы с Палеем, и потому все с удивлением смотрели на них, стоящих рядом в церкви, возле левого клироса. После обедни священник поднёс просфору гетману, и он, разломав её, отдал одну половину Палею и, поцеловав его в лицо, сказал громко, чтоб все окружающие могли его слышать:
— Христос Спаситель, разделяя апостолам благословенный хлеб, на последнем вечере, завещал им братство и любовь. С сим священным хлебом, долженствующим припоминать христианам завещание распятого за грехи ваши, отдаю тебе половину сердца моего и приглашаю тебя к любви и братству!
Палей крепко пожал руку Мазепе. В народе раздался шёпот. На всех лицах видны были радость и умиление. Все предвещали доброе от примирения двух знаменитых казацких вождей.
Вышед на паперть церкви, Мазепа подозвал к себе Палея и Огневика и сказал им тихо:
— Паны польские пируют сегодня в монастыре и не могут обедать у меня, итак, прошу ко мне на вечер, Семён!..
— Нельзя ли меня уволить, пане гетмане! — отвечал Палей. — Я люблю есть кашу с казаками, а биться с поляками. Не порадуются и паны моему соседству!
— Всё это я знаю и для того-то именно и хочу свести вас вместе, — возразил Мазепа. — Как друг мой, ты должен быть в милости у царя, Семён, а первый шаг к этому мировая с польскими панами, которых царь хочет привлечь на свою сторону и отвязать от партии Станислава.
— Да будет по-твоему! — сказал Палей, наморщив лоб. — Но всё-таки я. не отдам никому моей Белой Церкви! Уж воля твоя, пане гетмане, а из этого гнезда сам чёрт меня не выкурит!
— Об этом-то я и хлопочу, — примолвил Мазепа. — Верь мне, что Республика Польская откажется от Белой Церкви, по моему предстательству и по твоему обещанию не нападать более на Польшу. Я беру это дело на себя.
— Много благодарен, да только я не могу навсегда связать себе руки обещанием не нападать никогда на Польшу, — сказал Палей. — Пусть только осмелится польский пан отдать русскую церковь в аренду жиду или пусть только тронет пальцем священника за проповедование православия... я залью кровью Польшу!.. — Глаза Палея страшно засверкали. — Когда старый Палей не будет на страже, — примолвил он, — кто защитит бедного украинского мужика от угнетения? Пане гетмане! Ты кость от кости нашей, в тебе украинская кровь! Подумай о наших братьях и вспомни, что в Польше нет закона для защиты слабого...
— Я думаю об этом денно и нощно, любезный мой Семён, — отвечал Мазепа, смешавшись, — и для того-то призвал тебя, чтоб уладить все дружно и миролюбиво к защите и вольности целой Украины. Начать надобно притворную мировую с польскими панами.
— Не люблю я и не умею притворствовать, — возразил Палей, — но на этот раз уступлю вашей латинской премудрости, пане гетмане! Ничего не хочу, как только истребления угнетения в польской Украине и свободы православию, а для этого мне надобно денно и ночно сидеть с заряженным ружьём в Белой Церкви и неусыпно беречь моё кровное стадо от волков. Впрочем, делай что хочешь — приду к тебе на вечер, пане гетмане!
Мазепа снова обнял и поцеловал Палея.
— Ещё одна просьба! — сказал Мазепа. — Я полюбил твоего Богдана, как родного сына, и хочу ходатайствовать за него у тебя. Любезный Богдан! — примолвил гетман, обращаясь к Огневику, — я должен объявить тебе неприятное известие. Невеста твоя, Наталья, крепко заболела и прислала ко мне нарочного с просьбою, чтоб я отправил тебя к ней...
Огневик побледнел. Уста его трепетали.
— Еду, сейчас еду! — сказал он дрожащим голосом. Палей посмотрел на него с негодованием.
— Если б я вырастил тебя в курене Запорожском, — сказал он гневно, — а не отдавал проклятым ляхам в науку, то теперь не бегал бы ты за девками, как угорелый, а знал бы одно казацкое дело! Экое времечко! Казаки стали нежиться, как панычи! Не бывать добру!
— Пане полковнику! — возразил Мазепа. — Вспомни, что и мы были молоды, что и мы любили...
— Бей меня бес! — воскликнул Палей. — Если я когда-либо поворотил коня с дороги для бабы! Хороша баба на хуторе, чтоб шить сорочки да печь паленины, но чтоб гоняться за ней... трясца её матери!..
— Батько! Сжалься надо мной! — сказал Огневик. — Ты не знал любви, а потому не постигаешь и мучений моих. Я умру, если не увижу Натальи!.. Я обязан ей жизнию!..
— Не умирай, а ступай к ней... Я не держу тебя... — отвечал Палей и, отвернувшись, сошёл с паперти, забыв в гневе проститься с Мазепою.
— Твой вождь дик, как степной конь, — сказал Мазепа Огневику, — не возвращайся к нему, пока гнев его не простыл, а возьми коня с моей конюшни и ступай с Богом. Лети в Батурин, любезный сын, и спасай Наталию! Может быть, взор любви сильнее подействует, нежели все лекарства... Но повидайся прежде со мною, я дам тебе поручение...
Гетман сел в свой берлин и поехал домой, а Огневик побежал за ним опрометью, пробиваясь силою сквозь толпу народа. Прибыв в своё жилище, Мазепа нашёл уже Огневика в передней. Страшно было взглянуть на него. Сильное движение покрывало лицо его румянцем, но в глазах его была смерть, а на устах выражение скорби. Мазепа велел ему следовать за собою во внутренние комнаты.
Гетман взял со стола жестяной ящик, величиною с ладонь, замкнутый внутренним замком, и, подавая его Огневику, сказал:
— Отдай этот ящик начальнику артиллерии, полковнику Кенигсеку. Здесь находятся ключи от моей казны и от собственной моей аптеки и письмо к нему. Ключ от ящика хранится у него. Этот человек предан мне и не упустит ничего, чтоб спасти Наталию, если есть ещё возможность. Россыпай золото, созови всех наших врачей, делай что можешь... Спасай моё детище! — Мазепа о горестью прижал Огневика к груди, закрыл лицо своё платком и сказал прерывающимся голосом: — Ступай с Богом!
На дворе уже ожидал Огневика осёдланный конь. Он вспрыгнул на него и понёсся стрелою за город, по Батуринской дороге.
Между тем, по окончании божественной службы, подняли знамя на ратуше, в знак открытия ярмарки, и вдруг двери и окна лавок и домов, в которых сложены были товары, растворились. Народ толпился возле корчем, шинков и стоек под открытым небом, где продавали мёд и водку. Спустя несколько времени, во всех концах города, особенно на большой площади и прилежащих к ней улицах, раздались звуки сопелок, цимбалов, волынок и бандур. Весёлые песни смешивались с унылыми голосами старцев, распевающих духовные гимны о воскресении Лазаря, об Алексее Божьем человеке и т.п. В корчмах дрожали окна от топота дюжих казаков, пляшущих метелицу, горлицу и дудочку с украинскими красавицами. Запорожцы первенствовали на ярмарке. Одетые в богатые панские кунтуши, подпоясанные парчовыми и шёлковыми кушаками, награбленными в Польше, или в куртках и шароварах из драгоценных восточных тканей, полученных в добычу при набегах на Крым, блистающие богатым вооружением, но замаранные дёгтем, салом и смолою, они обращали на себя общее внимание и возбуждали уважение в народе. Запорожцы сыпали деньгами, потчевали всех и дарили ленты, бисер и платки красавицам, которые оставляли мужей и отцов, чтобы веселиться с щедрыми и удалыми пришельцами. Жиды ходили за ними толпами, в надежде продать им дорого свои товары или купить дёшево драгоценные вещи, полученные ими в добычу, во гремя набегов. Мелкая шляхта, находящаяся в услужении у панов, расхаживала гордо между народом, не обращая даже внимания на поклоны мужиков, принадлежащих их господам. Цыганы и татары разъезжали на конях, приглашая громким голосом покупщиков и запрашивая охотников в поле, где стояли табуны лошадей и стада рогатого скота. Когда солнце начало склоняться к западу, появились паны и дамы со множеством вооружённых слуг, которые очищали им путь к лавкам, где находились дорогие товары.
Палей сел на коня, закурил трубку и выехал на площадь полюбоваться на веселящийся народ. В конце площади, возле большой корчмы, он увидел толпу, из которой раздавались бранные восклицания и крик. Палей подъехал к толпе. Несколько жидов отнимали у мужика корову. Запорожцы вступились за мужика, а шляхта защищала жидов. Сила была на стороне поляков, потому что мужики не смели им противиться и оставались праздными зрителями.
— Что это значит? — спросил Палей.
— Защити и помилуй, батько! — сказал мужик сквозь слёзы. — Вот этот жид, Хацкель, наш арендарь. Он стал торговать у меня корову, а как я не хочу отдать ему за дешёвую цену, так он насильно отнимает у меня, будто за долг моего тестя. Не знаю, должен ли ему тесть мой. Он выслан в Овруч с панскими подводами... За что ж у меня отнимать мою корову! Меня бьют, чтоб я заплатил панский чинш... Откуда же мне взять!
— Вы себе рассчитаетесь с тестем, — возразил жид. — Ведь вы вместе пили мою горилку.
— Не тронь его коровы, жид, — сказал Палей, — и убирайся к чёрту!
— Пане Бартошевич! — сказал жид, державший корову за рога, обращаясь к дюжему, полупьяному шляхтичу, — пане Бартошевич! Два гарнца малинику, если защитишь меня!
Бартошевич выступил вперёд, надвинул шапку на ухо и, опершись на саблю, сказал Палею:
— А кто ты таков, что смеешь здесь распоряжаться! Знаешь ли ты разницу между казаком, холопом и польским шляхтичем?
Палей, не говоря ни слова, прискочил на коне к Бартошевичу, отвесил ему удар нагайкою по спине и в то же время хлестнул жида по голой шее. Бартошевич едва опомнился от удара, а жид, присев на пятках, завопил пронзительным голосом:
— Гвалт, гвалт! Бьют, резут!
— Только бьют ещё, — примолвил Палей и, обращаясь к запорожцам, сказал: — Хлопцы! Пособите бедному мужику отвести корову куда он хочет.
Между тем все жиды завопили:
— Гвалт, гвалт! бьют, резут! — Шляхта и казаки сбегались на крик со всех сторон.
Бартошевич, опомнившись, выхватил саблю и устремился на Палея, закричав яростно:
— Смерть холопу! За мной шляхта — братья!
Палей прискочил к Бартошевичу, ударил его из всей силы нагайкою по голове, и тот свалился, как сноп на землю.
— Разбой, убийство! — закричала шляхта.
— Хлопцы, бей собачьих детей! — воскликнул Палей, обращаясь к казакам и к мужикам. — Не бойтесь ничего: я с вами! — С сим словом он устремился на шляхту, размахивая нагайкой направо и налево, а толпа народа двинулась за ним с воплем. Шляхта, видя невозможность сопротивляться, подалась в тыл, защищаясь саблями от нападающих. Жиды прятались за шляхтичами и вопили громогласно. Палой то наскакивал на отступающих, то поворачивал коня назад, ободряя следующую за ним толпу, и бил по головам, нагайкою шляхту и жидов, не успевающих ускользнуть от него. Вся площадь пришла в движение. Паны польские, думая, что казаки взбунтовали противу них чернь, как то уже не раз случалось, поспешили в кармелитский монастырь, а другие заперлись в домах. Все спрашивали друг друга, что это значит, и никто не мог растолковать причины сего смятения. На площади раздавалось:
— Бей ляхов! Ура Палей! Здоров будь, Палей!
Имя Палея в устах народа возбудило ужас в панах. Некоторые из них бросились к Мазепе, прося защиты. Мазепа сам был встревожен сим происшествием и, когда выслушал панов и увидел из окна Палея на коне, сказал им:
— Будьте спокойны: я сейчас усмирю моего дикаря. Орлик! поди на площадь и скажи полковнику Палею, что я приказываю ему усмирить чернь и воротиться самому домой. — Подозвав к себе Орлика, Мазепа шепнул ему на ухо: — Не говори, ради Бога, что я приказываю, а скажи, что я прошу его покорно, как друга, не показываться до вечера на улице и приказать послушному ему народу, чтобы ом не обижал ни жидов, ни поляков. Скажи ему, что я требую этого в доказательство его дружбы.
Орлик с трудом пробился сквозь густые толпы к Палею, и когда пересказал ему, в самых ласковых и нежных выражениях, поручение гетмана, Палей опустил нагайку и, обратясь к народу, закричал громко:
— Молчать и слушать!
Вдруг настала тишина.
— Детки! — сказал Палей. — На сей день довольно! Приказываю вам, чтоб никто из вас не смел тронуть ни ляха, ни жида, а если они осмелятся обижать православных, помните, что старый Палей не дремлет. Дайте мне знать: я тотчас явлюсь на расправу!
— Ура, дай Бог здоровья батьке нашему! Ура, Палей! — раздалось на площади.
— Видишь ли, что я послушен пану гетману! — сказал Палей Орлику, поворотил коня и поехал домой. Толпы народа немедленно рассеялись, и вскоре всё приняло прежний весёлый и спокойный вид. Избитых жидов и раненых поляков перенесли в дома.
Настал вечер, и к Мазепе стали собираться паны польские с жёнами и дочерьми.
Супруга знаменитого Ионна Собесского, спасителя Вены и мстителя христианства, ловкая, прекрасная и хитрая француженка, Мария Казимира маркиза д`Аркиан (Arkuran) ввела в Польшу французские моды и обычаи, которые удержались в женском поле до нынешнего времени. Знатные дамы отбросили прежний полувенгерский полуазиатский наряд, спенцеры, короткие шубы с рукавами до локтей и короткие юбки и оделись в длинное круглое платье (robe-ronde) со шлейфами. Замужние женщины вместо высоких чепцов стали носить небольшие шляпки или корзины с цветами, наколотые на взбитых вверх и распудренных волосах, а девицы перестали заплетать волосы в косы, по-венгерски, а зачёсывали их вверх, оставляя длинные локоны, ниспадающие на плечи, и вместо тыльной косы собирали волосы в шиньон и слегка прикрывали их пудрою. Алмазы и цветные дорогие камни сделались необходимою принадлежностью наряда. Уже ни одна женщина не смела показаться в общество в цветных сафьянных, окованных серебром полусапожках. Прекрасные ножки полек обулись в шёлковые востроносые башмаки с высокими каблуками. Сверх польского танца мазурки и краковяка знатное юношество научилось танцевать менуэт и кадрили. Прежний воинственный тон, смелое и непринуждённое обхождение сохранилось только между стариками и в среднем дворянстве, но в обществе знатных дам требовалось утончённости нравов и гибкости ума, истощаемых на угождение тщеславию женского пола, равно как на уловление мужского самолюбия, требовалось со стороны дам подражания кокетству французского двора.
Мазепа, проведший юность в Польше и сохранивший связи с польскими панами, перенял их обычаи и даже на старости отличался ловкостью в обхождении с дамами и любезностью в беседе с ними. Он, по тогдашнему обычаю, сам принимал дам в передней и провожал их до дверей залы, где Орлик, в качестве церемониймейстера, указывал назначенные им места. Музыканты и певчие гетмана, одетые в бархатные алые кунтуши с золотыми галунами, помещались на устроенном нарочно для них возвышении, почти под потолком залы, и попеременно играли и пели польские танцы, марши и малороссийские песни.
Дом, который занимал Мазепа, был чрезвычайно обширен. Он был построен князем Радзивиллом в то время, когда некоторые члены его знаменитого рода приняли учение Кальвина и распространяли оное в Польше. Дом сей услужил тогда для помещения в нём нескольких проповедников для общей молитвы и для совещаний приверженцев секты. Когда род Радзивиллов возвратился к католицизму, в сём доме поместили вотчинное правление князя Радзивилла, и главный поверенный сего князя очистил дом для Мазепы, чтоб приобрести его покровительство. В доме не было достаточного количества мебели, но Мазепа велел обить бархатом простые скамьи, развесил богатые ковры по стенам, убрал несколько комнат тканями и таким образом дал сему дому вид свежести и великолепия. Находясь при войске, в Батурине, гетман почти всегда сказывался больным, чтоб избавиться от выступления в поход. Он точно имел почти ежедневно припадки подагры, но как недуг сей одолевает и оставляет человека быстро и внезапно, то Мазепа мог по произволу сказываться больным или здоровым, не возбуждая ни в ком подозрения в притворстве. В этот день на нём не было никакого признака слабости, и если бы не седина, то по приёмам и ловкости его можно б было принять за человека в цвете возраста. Он сам открыл бал польским, с княгинею Дульскою, после того прошёл по нескольку раз по зале с каждою из почётных дам и наконец, сев возле княгини, окружённой красавицами, стал занимать их разговорами, примешивая лесть красоте к весёлым рассказам и приятным шуткам, открывая притом своим прелестным собеседницам обширное поприще к выказанию их собственного ума в возражениях и в шуточных спорах, возбуждаемых искусно. Дамы были в восхищении от любезности гетмана. Между тем служители разносили сушёные нежные плоды и сласти, привозимые в Польшу из Греции и Малой Азии и продаваемые дорогою ценою, сладкие вина кипрские и итальянские и сахарные венские и варшавские конфеты.
Всякая беседа между поляками начинается толками о политике. Собравшиеся паны, разделившись на небольшие толпы, разговаривали между собою о происшествиях того времени, и каждый, сообразно своим видам, выхвалял или порицал короля Августа или Станислава Лещинского. Но когда разговор обратился на приключения того дня, всё единодушно восстали против Палея, удивляясь его дерзости и негодуя на царя московского, на Августа и на Станислава, которые позволяли ему своевольничать и вредить всем партиям без разбора друзей и врагов России или Швеции. Мазепа не отходил от дам и не мешался в политические разговоры панов, но с беспокойством и нетерпением поглядывал на все стороны и часто подзывал к себе Орлика, чтоб спросить, прибыл ли Палей. Наконец, когда гости уже устали от танцев, паны утомились в спорах политических, а прислуга ожидала приказания вносить кушанье в столовую залу, убранную со вкусом цветочными гирляндами, дверь с шумом отворилась, и вошёл Палей. Взоры всех поляков и полек обратились на него с любопытством, гневом и страхом. Радость выразилась на лице Мазепы.
Палей, против обыкновения своего, был одет в этот вечер по-казацки, а не по-польски. Он имел на себе голубую бархатную куртку, красные турецкие казимировые шаровары и жёлтые сапоги, окованные серебром. За парчовым золотым кушаком заткнут был кинжал, с рукоятью, осыпанною алмазами, при бедре сабля, в золотых ножнах, с драгоценными камнями. Запонка на воротнике его полужупана была алмазная, дорогой цены. Палей медленными шагами проходил чрез залу, ища взорами Мазепу, и, завидев его возле княгини, подошёл к нему, поклонился и хотел отойти, но Мазепа встал со своего места, взял его за руку, пожал дружески и сказал обычное приветствие:
— Просим веселиться, дорогой гость!
Палей, не говоря ни слова, снова поклонился, отошёл в сторону и стал возле стены. Во всех углах поднялся шёпот. Несколько молодых поляков, чтоб прикрыть общее смятение, подняли дам в мазурку. Палей смотрел на танцующих, поглаживал усы и не трогался с места.
Мазепа велел Орлику подавать скорей ужин, и когда доложили ему, что всё готово, он повёл княгиню Дульскую под руку в столовую залу при звуках музыки. Проходя мимо Палея, он остановился и шепнул ему на ухо:
— Ты, Семён, садись возле меня. Вспомним старую дружбу, как едали вместе из одного котла в запорожском курене!
Гости последовали попарно за хозяином и уселись за столом, каждый возле своей дамы. Мазепа сел возле княгини Дульской, по правую сторону, оставив порожнее место между собою и полковником Чечелом. Все уже сели, но Палей ещё стоял на пороге и поглядывал на всех таким взором, как орёл смотрит с высоты скалы на пир воронов. Мазепа с беспокойством искал его взорами и, завидев, закричал с нетерпением:
— Пане полковнику! Прошу ко мне! Для вас сбережено место!
Палей, не говоря ни слова, подошёл к Мазепе и сел возле него.
Чем более польские гости чувствовали принуждения в присутствии злейшего своего врага, которого одно имя распространяло ужас на целые области, тем более они старались прикрыть своё смятение шумными разговорами и притворною весёлостью. Но один Палей был безмолвен, почти ничего не ел и не пил, против своего обыкновения, и поглядывал исподлобья на польских панов и дам, показывая, однако же, вид, что не слушает их речей. Тщетно полковник Чечел старался завести с ним разговор. Он отвечал только да или нет или просто кивал головою и молчал. Мазепа угощал дам и, разговаривая с ними, несколько раз извинялся пред Палеем, что не может исключительно заняться им, но, часто обращаясь к нему, просил его кушать, пить и веселиться. Палей благодарил наклонением головы и всегда отвечал одно и то же:
— Благодарим! Всем довольны!
Орлик не садился за стол, но в качестве хозяина ходил кругом и упрашивал гостей пить, распоряжаясь притом разноскою лучших вин. Гости были послушны, и в конце ужина из всех поляков не было ни одного трезвого. Но сколько ни упрашивал Палея Орлик, тот никак не хотел осушать бокалов, а только прихлёбывал понемногу. Наконец, когда стали разносить сласти и закуски, начались тосты. Мазепа встал, поднял бокал и сказал:
— Прошу вас, дорогие гости, выпить за здравие всемилостивейшего моего государя, царя и личного моего благодетеля и милостивца, Петра Алексеевича!
Приверженцы короля Августа и казацкие старшины выпили и прокричали громогласно: «Виват!» Друзья Станислава Лещинского пили, но в безмолвии, и не трогались с места. То же самое повторилось и при питье за здоровье Августа. Как начальником партии Станислава в сём обществе был пан Дульский, то он упросил предварительно друзей своих, для сохранения приличия и для отклонения всякого подозрения от Мазепы, не провозглашать тостов Станиславу и не противиться, когда будут пить за здоровье его противников. В другом месте и в другое время заздравное вино смешалось бы с кровью приверженцев двух враждующих партий, но теперь одна партия уступала другой, в надежде приобрести преимущество сею жертвою.
Хотя Мазепа упросил всех своих друзей, панов польских, обходиться как можно осторожнее с Палеем и избегать всякой размолвки с ним, но вино преодолело осторожность и заставило забыть мудрые советы и данные обещания. Пан Задарновский, староста Красноставский, поглаживая лысую голову свою, испещрённую несколькими рубцами, следами сабельных ударов, полученных в кровавых спорах на сеймиках, и покручивая седые усы, долго смотрел в безмолвии на сидевшего насупротив его Палея, пыхтел и надувался, и наконец, обратясь к нему, сказал:
— Пане полковнику! Сколько вы заплатили за эту алмазную запонку, которая блестит на вашей шее? Этот крест над подковой есть герб моего покойного зятя, и мне помнится, что я видел эту вещь у него!
Вдруг шум умолк. Всех взоры обратились на Палея. Он отвечал хладнокровно:
— Запонка стоит мне одной свинцовой пули, а у кого ты видал запонку прежде, это твоё, а не моё дело!
— Следовательно, эту запонку, купленную пулею, можно выкупить верёвкою, — возразил пан Задарновский.
Дамы побледнели, мужчины пришли в смущение. Все ждали и опасались какого-нибудь насильственного поступка со стороны Палея. Но он пребыл спокоен и отвечал с прежним хладнокровием:
— Ещё я не перевешал на моих казацких арканах всех, кого следует повесить за дерзость, нахальство и тиранство; а когда у меня не станет верёвок, а ты доживёшь до той поры, то я приду к тебе поторговаться, пане староста!
Пан Задарновский вспыхнул и от злости не мог приискать слова для ответа. Но Мазепа вскочил с места и сказал с досадою, по-латыни:
— Вы изменяете своему слову, староста! Прошу вас покорно прекратить этот спор, для пользы вашей и вашего отечества и из дружбы и уважения ко мне. Ручаюсь вам честью, что вы получите удовлетворение, если только смолчите.
Староста закусил губы и замолчал.
— Вина! — закричал Мазепа. — Здоровье друга моего и верного помощника, пана полковника Палея! Виват!
Заиграли на трубах, ударили в бубны и литавры. Многие поляки, в угождение Мазепе, повторили виват, а слуги, казаки и музыканты от чистого сердца кричали из всей силы.
Орлик стоял позади Мазепы, он мигнул ему, и Орлик подозвал к себе немого татарина, который стоял в углу с двумя бутылками вина и с двумя золотыми бокалами. Орлик налил в каждый бокал из особой бутылки и сам поднёс бокалы на подносе Мазепе. Он оставил один бокал возле себя, а другой подал Палею и сказал ему:
— Обнимемся по-братски, старый друг Семён, как мы обнимались некогда в Запорожье, когда собирались на кровавую сечу, и выпьем теперь в память старого и на задаток будущему! — Не дав вымолвить слова Палею, Мазепа обнял его, поцеловал и потом, взяв свой бокал, выпил душком.
Палей выпил также свой бокал и, поставив его на столе вверх дном, сказал:
— Да очистятся так сердца наши, пане гетмане, от всякого прежнего нашего злоумышления друг противу друга, и да укрепятся любовию и согласием, для блага нашей родины и на пагубу всех врагов имени русского и православия! Аминь и Богу слава! — Мазепа не мог скрыть радости своей, видя, что Палей выпил до дна поднесённую ему чашу.
— Вина, вина! — закричал он, — почтенные гости и все друзья мои! Пейте, веселитесь! Играй, музыка! Сей день есть день моего блаженства, торжества, счастия!..
Некоторые поляки думали, что эта пламенная радость есть следствие успеха гетмана и любви к княгине Дульской. Палей верил, что это пламенное изъявление удовольствия относится к их примирению, а потому крепко пожал руку Мазепы. Орлик, стоя позади, улыбнулся и взглянул на патера Заленского, который сидел в конце стола и в знак, что понял взгляд Орлика, кивнул головою и по-прежнему потупил взоры.
Началась попойка, и дамы с молодыми мужчинами встали из-за стола и перешли в танцевальную залу. Мазепа не провожал княгини, но, шепнув ей что-то на ухо, остался возле Палея, не спускал с него глаз и старался удержать его за столом разговорами, ибо Палей решительно отказался пить с поляками.
Чрез несколько времени Палей начал зевать и глаза его стали смыкаться.
— Прощай, пане гетман! — сказал он. — Мне что-то нехорошо: в голове шумит, перед глазами будто туман; я в первый раз в жизни не могу преодолеть сна. Пойду домой!
— Ступай с Богом! — отвечал Мазепа и встал из-за стола вместе с ним, прося гостей подождать его возврата. Взяв за руку Палея, Мазепа сказал ему: — Зайди в мою комнату, я дам тебе на дом бумаги, которые завтра утром вели себе прочесть, — и, не ожидая ответа Палея, повёл его под руку в свою спальню. Вошед туда, Мазепа сказал: — Сядь-ка в мои большие кресла, а я вынесу тебе бумаги. — Мазепа вышел, а Палей кинувшись в кресла, немедленно захрапел. Голова его свалилась на грудь, и пена покрыла уста. Он вытянулся, хотел встать, но силы оставили его. Проворчав что-то невнятно, Палей перевалился на стуле и заснул.
Мазепа стоял за дверьми в другой комнате и смотрел 8 замочную щель. Когда Палей захрапел, он возвратился в свою спальню, подошёл к нему и, смотря ему в глаза, улыбался и дрожал. В глазах Мазепы сверкала радость тигра, готового упиться кровью беззащитной добычи. Он взял Палея за руку, потряс её сильно, но он не просыпался. После того Мазепа поднёс свечу к глазам спящего. Веки задрожали, но глаза не открывались. Мазепа дёрнул Палея за усы. Лицо сморщилось, но он не пробудился.
— Наконец ты в моих руках! — воскликнул Мазепа и поспешно вышел из комнаты, замкнув её ключом. Через несколько минут Мазепа возвратился с Орликом и с немым татарином, с клевретами своими, казаками Кондаченкой и Быевским и с кузнецом, призванным из кармелитского монастыря. Татарин нёс цепи. Спящего старца обезоружили, оковали по рукам и по ногам, завернули в плащ и вынесли на руках из дому. На дворе стояла телега с сеном, в одну лошадь. Палея положили на воз, прикрыли слегка сеном и свезли со двора через задние ворота. Орлик, завернувшись в плащ, пошёл за телегой с татарином и казаками, ведя перед собою кузнеца, сказав ему прежде, что если он осмелится промолвить слово кому-нибудь из встречных, то будет убит на месте. Телега, выехав на улицу, повернула к реке.
Мазепа, возвратясь к гостям, кивнул головою патеру Заленскому, и он, сидев до сих пор в задумчивости, быстро вскочил со стула, налил бокал и, воскликнув: «За здоровье ясневельможного гетмана и за упокой всех врагов его!» — выпил и передал пану Дульскому, который во весь голос прокричал виват, повторенный всеми собеседниками. Мазепа, оставив гостей за столом, перешёл к дамам, которые уже стали разъезжаться по домам. Провожая княгиню Дульскую на лестнице, он сказал: — Прелестная княгиня! Вепрь уж в яме!
— Благодарю вас, гетман! — отвечала княгиня. — Итак, завтра или, лучше сказать, сегодня, потому что теперь уж день, мы приступим к письменному условию? Не правда ли?..
— К двум условиям, — возразил Мазепа, устремив страстные взоры на княгиню, — к умственному и к сердечному!
Княгиня не отвечала ни слова.
Мазепа не возвращался в столовую. Он приказал извинить его перед гостями слабостью здоровья и пошёл в свою почивальню. Гости пили до упаду, и уже с рассветом некоторых из них вынесли, а других выпроводили под руки, к их берлинам и бричкам и развезли по домам. Мазепа не ложился спать, ожидая возвращения Орлика. Он пришёл со светом и сказал:
— Слава Богу! Всё кончено благополучно!
— Наконец удалось нам! — отвечал Мазепа. — Надеюсь, что и другое удастся. Ступай же отдыхать, мой любезный Орлик! Сегодня тебе ещё много работы!
Орлик вышел, а Мазепа бросился на постель и от усталости заснул.
ГЛАВА XI
Я дико по тюрьме бродил —
Но в ней покой ужасный был.
Лишь веял от стены сырой
Какой-то холод гробовой.
Жуковский.Огневик, волнуемый страхом, любовью, сгорая от нетерпения, скакал во всю конскую прыть по дороге в Батурин, несмотря на палящий зной и не обращая внимания на усталость коня. Проскакав вёрст двадцать пять, конь его пристал и едва передвигал ноги. Огневик должен был остановиться. Он своротил с дороги, привязал коня на аркане к дереву, в густой траве, и сам лёг отдыхать в тени, на берегу ручья. Солнце было высоко. Усталость, зной, а более беспокойство, борьба страстей истощили силы нетерпеливого любовника. Природа преодолела, и Огневик заснул крепким сном.
Когда он проснулся, солнце уже садилось. Он оглянулся, — нет лошади. Конец перерезанной верёвки у дерева не оставлял никакого сомнения, что лошадь украдена. Где искать? В которую сторону обратиться? Он был в отчаянии. Вдали, со стороны города, послышался за рощей скрип колёс. Он побежал туда. Несколько мужиков ехало с земледельческими орудиями на господский двор, из ближнего селения. Они сказали Огневику, что видели трёх цыган, скачущих верхами, и что один из них вёл, за поводья, казацкую лошадь. Цыганы, по словам мужиков, своротили с большой дороги и поехали лесом. Огневик рассудил, что гнаться за ними было бы бесполезно. Впереди, верстах в пятнадцати, было селение на большой дороге. Он решился дойти туда пешком, и там, купив лошадь, продолжать путь. Когда он пришёл в село, уже была ночь. Жида не было в корчме; он отправился на ярмарку, в Бердичев. Все спали в деревне. Надлежало подождать до утра. На рассвете Огневик объявил в деревне, что он заплатит, что захотят, за добрую лошадь с седлом; но как богатые хозяева были на ярмарке, то без них трудно было удовлетворить его желанию. Несколько мужиков побежали в табун, в пяти верстах за деревней, и пока они возвратились, прошло довольно времени. Наконец начался торг и проба лошадей. Огневик выбрал лошадь понадёжнее, заплатил за неё втридорога и едва к полудню мог отправиться в путь. К ночлегу он успел отъехать не более двадцати вёрст. Переночевав в корчме, он со светом выехал, намереваясь в этот день вознаградить потерянное время.
Едва он отъехал несколько вёрст за деревню, как послышал за собою крик и конский топот. Он оглянулся и в облаках пыли едва мог различить двух казаков, нёсшихся по дороге во всю конскую прыть Огневик вынул пистолеты из-за пояса и, взведя курки, остановился возле большой дороги. Всадники вскоре приблизились к нему, осадили коней, и один из них соскочил с седла. Это был Москаленко, любимец Палея.
— Куда ты? Зачем? — спросил его Огневик.
— За тобой, Богдан! Всё пропало — батько погиб!
— Как, что ты говоришь!
— Погиб! Злодей Мазепа погубил его!
Огневик побледнел «Предатель!» — сказал он про себя, слез с лошади, и, взяв за руку Москаленка, примолвил:
— Расскажи мне всё подробно. С погибелью моего благодетеля всё кончилось для меня на свете... Всё, любовь, надежда на счастье!.. Отомщу и умру!
— Дай обнять тебя, Богдан! — сказал Москаленко с жаром. — Я не обманулся в тебе. Иванчук подозревал тебя в измене, в тайных связях с Мазепою.
— Злодей! Я ему размозжу голову! — воскликнул в ярости Огневик.
— Его уже нет на свете, — возразил Москаленко, — он погиб жертвою своей преданности и верности к нашему вождю...
— Но расскажи же мне поскорее, как всё это сталось, — сказал Огневик, — я мучусь от нетерпения!
Москаленко сел в сухом рву, возле дороги. Огневик поместился насупротив, и первый из них начал свой рассказ;
— Ты знаешь, что батько был запрошен вчера Мазепою на вечерний пир. Нашему старику не хотелось идти туда. Какое-то предчувствие удерживало его; он опасался, чтоб польские паны не заставили его выйти из себя и забыть должное уважение к гетману и данное ему слово не ссориться с поляками. Мы упросили его не пить с ляхами и не мешаться в их речи. Он пошёл поздно и обещался возвратиться тотчас после ужина, приказав нам приготовиться на утро к отъезду в Белую Церковь. Целый вечер он был угрюм и несколько раз изъявлял своё неудовольствие противу тебя, за твою любовь к девице, близкой Мазепе. Мы оправдывали тебя как могли и как умели. Наконец батько пошёл к гетману. До свету ждали мы возвращения его, и, не дождавшись, хотели пойти за ним, в дом Мазепы, думая, что наш старик, выпил лишнюю чарку. На улице встретил нас нищий, бандурист, который сказал нам, чтоб мы воротились домой и что он нам объявит важную тайну. Мы заперлись в светлице, и нищий сказал нам:
— Я целый вчерашний день забавлял слуг гетмана моею игрой и песнями и остался на ночь у них в доме, чтоб поживиться крохами от панского пира. Наевшись и напившись досыта, я заснул в сенном сарае. Сегодня один молодой служитель гетманский разбудил меня и сказал:
— Украинец ли ты?
— Чистый украинец и верный православный, — отвечал я.
— Итак, ты должен любить старика Палея?
— Люблю его, как душу, как свет Божий, как веру мою!
— Так поди же к его людям и скажи им, что Палея нет уже на свете! — Я зарыдал. — Молчи и делай дело, — примолвил слуга гетманский, — а не то, если ты станешь реветь, как баба, я задушу тебя здесь как кошку... — Волею, неволею я отёр слёзы. Слуга примолвил: — Вчера, когда гости сидели за столом, а мы суетились, прислуживая им, пан писарь генеральный, который не садился за стол, взял тайком одну бутылку вина и вышел в пустые комнаты, оглядываясь, чтоб мы не заметили. Из любопытства я заглянул в замочную щель и увидел, что пан писарь всыпал в вино какой-то порошок из бумажки. Возвратясь в столовую избу, пан писарь отдал бутылку проклятому немому татарину и велел ему держать её и не двигаться с места. Я не спускал глаз с пана писаря и с татарина. Когда пан гетман потребовал вина, чтоб выпить вместе с Палеем, пан писарь поднёс ему вина из той самой бутылки, в которую всыпал порошок, а гетману налил из другой бутылки. Я не мог предостеречь нашего батьки! Всё сталось мигом! Со слезами на глазах и с горестью в сердце смотрел я на старика, догадываясь, что он проглотил смерть! Не обманулся я! Палей стал жаловаться на тяжесть в голове и вышел с гетманом в его почивальню. Двери за ними затворились, и я, приставив ухо к замку, услышал, что старик страшно захрапел, как будто его резали. Я не знал, что мне делать! Когда гости разъехались, сторожевой казак, бывший на дворе, сказал мне, что он видел, как что-то тяжёлое вынесли из покоев гетманских и свезли со двора. Нет сомнения, что это труп нашего батьки! Поди и расскажи это Палеевым людям; но помни, если изменишь мне, то изменишь Богу и Украйне!
Выслушав нищего, мы не знали, что начать. Горесть и гнев мешали нам рассуждать. Иванчук клялся убить Мазепу, если удостоверится в справедливости сказанного нищим. Наконец мы решились с Иванчуком идти к Мазепе и расспросить его самого о нашем вожде.
Долго мы ждали перед домом гетмана, пока ставни отворились. Площадь между тем наполнилась народом. Мы вошли в дом и просили сторожевого сотника доложить об нас к гетману. К нам вышел Орлик — расспросить о причине нашего прихода. Мы отвечали, что имеем дело к самому гетману, и Орлик удалился, оставив нас одних в сенях, посреди стражи. Мы ждали недолго. Орлик ввёл нас к гетману.
Он стоял посреди залы, опираясь на костыль, и был во всём своём убранстве, в шитом золотом кафтане, с голубою лентою чрез плечо, со звездою на груди. Несколько войсковых генеральных старшин и полковников стояли по обеим сторонам. Он взглянул на нас исподлобья и наморщил лоб.
— Чего вы хотите? — спросил он грозно.
— Мы пришли узнать от тебя, ясневельможный гетман, — сказал Иванчук, — что сталось с вождём нашим. Он не возвратился домой с твоего пиру, и мы думаем, что он захворал...
Мазепа не дал кончить Иванчуку:
— Прочти указ его царского величества, — сказал он Орлику.
Орлик прочёл указ царский, которым повелено гетману взять под стражу полковника Хвастовского и отправить к государю, как ослушника царской воли и государственного преступника, а на место его назначить другого полковника и всех казаков наших привесть наново к присяге.
— Слыхали ли вы? — сказал Мазепа.
Мы посмотрели дружна друга и не знали, что говорить и что делать. Не будучи в силах, однако ж, удержаться, я спросил:
— Жив ли наш батько?
— Тебе до этого нет дела, — сказал гневно Мазепа. — Конец вашим разбоям и своевольству! Чечел! Поди с этими людьми в дом, где жил преступник; забери бумаги и всё, что найдёшь там, а всех людей отправь под стражей в Батурин, для размещения по полкам. Ступайте...
Иванчук затрепетал, и я думал, что он бросится на Мазепу и убьёт его на месте; но он удержался, посмотрел на меня, пожал мне руку и вышел, не поклонясь гетману. Чечел не успел оглянуться, как Иванчук, сбежал уже с крыльца и скрылся в народной толпе. Я не отставал от него. Мы добежали до корчмы, где обыкновенно собираются запорожцы и все удальцы из крестьян. Иванчук закричал толпе, чтоб его выслушали.
— Знаете ли вы меня, хлопцы! — спросил Иванчук у народа.
— Как не знать тебя! — закричали со всех сторон. — Ты батькино око!
— Хорошо! А любите ли вы нашего батьку? — примолвил Иванчук.
— Как не любить родного батьки! Он только и бережёт нас от угнетения ляхов, ксензов и жидов! — закричали мужики.
— Итак, знайте, что мы остались сиротами, что уже нет нашего батьки!..
Крик, вопли и рыдания пресекли речь Иванчука. Он едва мог убедить народ выслушать его до конца.
— Не слезами, а кровью должны поминать нашего батьку, потому что он проливал за вас не слёзы, как баба, а собственную кровь. Гетман Мазепа умышляет с панами и ксензами погубить Украины и Малороссии и хочет отдать нас душою и телом ляхам и папистам. Зная, что батько не допустил бы до этого, он заманил его сюда бесовскими своими хитростями и сегодня, ночью, опоил у себя, за столом, какою-то отравою. Батько наш не выходил из дому гетманского и пропал без вести! Пойдём к предателю Мазепе и потребуем, чтоб он отдал нам батьку, живого или мёртвого; а я берусь отделить чёрную душу Мазепину от его гнилого тела... За мной, братцы, кому дорога православная наша вера и мать наша Украина!
Запорожцы выхватили сабли, народ вооружился кольями, оглоблями, купленными на ярмарке косами и топорами и с воплем ринулся за нами. Мы почти бегом прибыли к дому гетмана.
— Отдай нам нашего батьку! — кричал народ.
— Смерть ляхам, смерть папистам! — вопила толпа. Камни и грязь полетели в гетманские окна. Между тем Иванчук уговаривал отважнейших из запорожцев вломиться в дом и обыскать все углы, намереваясь в суматохе убить Мазепу.
Вдруг двери распахнулись настежь, и Мазепа вышел на крыльцо со своими старшинами и полковниками. Народ сильнее закричал:
— Отдай нам нашего батьку!
Мазепа дал знак рукою, чтоб его слушали. Крики умолкли. Увидев Иванчука впереди, Мазепа подозвал его. В надежде на народную помощь, Иванчук смело взошёл на ступени крыльца и, не снимая шапки, сказал:
— Отдай нам батьку нашего, если не хочешь, чтоб народ растерзал тебя на части...
— Ребята! — сказал Мазепа, обращаясь к запорожцам и к народу. — Я показывал этому человеку указ царский, которым мне велено взять под стражу полковника Хвастовского, Семёна Палея. Вам известно, что я, гетман, и он, полковник, и все мы, холопы царские, должны беспрекословно слушаться повелений нашего царя и государя. Если б я осмелился ослушаться царского указа, то подвергся бы казни, как изменник, и заслужил бы её, так как заслуживает и получает её каждый ослушник и бунтовщик, начиная с этого разбойника... — Не дав опомниться Иванчуку, Мазепа выхватил из-за кушака пистолет, выстрелил, и Иванчук упал навзничь с лестницы, залившись кровью. Народ с ужасом отступил назад.
— Смерть первому, кто осмелится противиться царской воле! — сказал Мазепа грозно.
Народ молчал, и толпы подавались назад. Тщетно я возбуждал народ броситься на общего нашего злодея. Меня не слушали! Мазепа твёрдостью своею и решительностью посеял страх в сердцах. Надейся, после этого, на народную любовь! При первом несчастий, при первой неудаче он оставит тебя... То же было и с родным моим отцом, в Москве, во время Стрелецкого бунта!..
Между тем в ближних улицах послышался конский топот и звук тяжёлых колёс. Хитрый Мазепа всё предусмотрел и всё устроил на свою пользу. Вскоре мы увидели несколько отрядов польских всадников в полном вооружении и четыре монастырские пушки, при зажжённых фитилях. Поляки поставили пушки возле гетманского дома и стали на страже.
Я побежал домой с моим верным Руденкой, сел на коня и хотел тотчас скакать в Белую Церковь. У ворот встретила меня женщина, хорошо одетая по-польски.
— Ты из вольницы Палеевой? — спросила она меня. Когда я отвечал утвердительно, она сказала мне: — Поспешай по Батуринской дороге, догони есаула Огневика и скажи ему, чтобы он воротился сюда, ибо та же самая участь, которая постигла Палея, ожидает его в Батурине. Скажи Богдану, что тебя послала к нему Мария Ивановна, которая хочет спасти его и помочь ему. Пусть он въедет ночью в город, никому не показывается, а спросит обо мне у жида Идзки, которого дом на углу, противу русского собора. Скажи Богдану, — примолвила она, — что он раскается в том, что оказывал ко мне недоверчивость, и уверится, что он не имел и не будет иметь вернейшего друга, как я. Спеши, Бог с тобою!
В отчаянном моём положении я хватился первого совета и поскакал за гобой. Чтоб ускорить наше возвращение, я приготовил во всех селениях подставных лошадей, и мы можем сей же ночи быть в Бердичеве, если ты рассудишь ввериться этой женщине...
— Едем! — сказал Огневик. — Так или так погибнуть, но я должен по крайней мере узнать, что сталось с моим благодетелем; жив ли он или в самом деле отправлен к царю. Пока есть надежда быть ему полезным, мы не должны пренебрегать никакими средствами. Ты, Руденко, ступай прямо в Белую Церковь и скажи есаулу Кожуху, чтоб он заперся в крепости, не сдавался Мазепе, не слушал ни угроз, ни увещаний и защищался до последней капли крови. Мы повоюем ещё с паном Мазепою! Если Палея нет на свете, то дух Палеев остался в нас! Довольно одной измены! Теперь надобно разведаться начистоту. Прощай, Руденко! Поезжай степями и лесами, что (бы) не попасться в руки Мазепиным людям. — Сказав сие, Огневик вскочил на коня и поскакал с Москаленкой в обратный путь.
В ночь они прибыли в Бердичев.
Огневик не рассудил въезжать в город. Он остановился на предместье, у жида. Осмотрев и зарядив наново пистолеты, Огневик и Москаленко, вооружённые, сверх того, кинжалом и саблею, пошли пешком в город, взяв в проводники жидёнка.
В городе все спали. Только запоздалые пьяницы и ярмарочные воры кое-где мелькали во мраке. В Польше в то время не знали полиции. Каждый гражданин должен был силою или хнтростию охранять сбою собственность, а о благочинии не было никакого попечения. Начальства и судилища руководствовались пагубным правилом: «Где нет жалобы, там нет и суда». Но как жаловаться нельзя было иначе, как с представлением явных улик в преступлении, а вольного человека никто не смел воздержать от разврата, кроме духовного его отца, правительство же не имело силы разыскивать, наблюдать и предупреждать зло, то Огневик крайне удивился необыкновенной тишине в городе, в ярмарочное время, и приписал сие, не без основания, ужасу, произведённому во всех сословиях свежими происшествиями и присутствием страшного гетмана Малороссийского, осмелившегося посягнуть на непобедимого Палея. Без всякого приключения Огневик и Москаленко дошли до дому жида Идзки, споткнувшись только несколько раз во мраке на пьяных шляхтичей и мужиков, спящих на улице.
В верхнем жилье виден был свет. Огневик постучался. Жилище каждого жида есть шинок и заезжий дом. Для жида, как известно, нет ничего заветного. Он всё готов продать из барышей, и самый богатейший из них всегда откажется за деньги от удобств жизни, от спокойствия под домашним кровом. Крепкие же напитки жид имеет в доме всегда, как заряды в крепости. Вино омрачает разум, следовательно, оно есть самое надёжное оружие в руках плута, живущего на счёт других. У дверей Идзкиных сторожила снутри христианская служанка. Долго стучался Огневик, пока успел разбудить её, и долго ждал, пока она вздула огонь.
— Чего вам надобно, пива, вина или мёду? — спросила спросонья служанка.
Огневик всунул ей талер в руку и сказал:
— Пей сама, если хочешь, а мы не за тем пришли сюда. Скажи-ка нам, есть ли здесь в доме жилица из Малороссии?
— А! Так это она ждёт вас! — возразила служанка и, приставив свечу к лицу Огневика, примолвила: — Ну нечего сказать, недаром ей так не терпится! Экой молодец!
— Итак, она здесь! Скажи же нам по правде, много ли здесь в доме малороссийских казаков? — спросил Огневик. — Я тебе дам вдвое более денег, сколько она дала тебе за го, чтоб ты не сказывала нам, что здесь есть казаки.
— Ей-ей, здесь нет ни души казацкой, — отвечала служанка, — хоть поклясться рада. При барыне одна только служанка, да кучер в конюшне, и тот так пьян, что хоть зубы выбери у него изо рта, не послышит.
— А не велела ли она тебе дать знать кому-нибудь, когда мы придём? — спросил Огневик.
— Ей-ей же, нет! — отвечала служанка.
— Ну, так проводи нас к ней, — сказал Огневик.
По узкой и крутой лестнице они взошли на чердак за служанкой, которая шла впереди со свечою. По первому стуку дверь отворилась, и Мария Ивановна Ломтиковская сама встретила жданного гостя, со свечкою. Видно было, что она и служанка её не раздевались.
— Добро пожаловать! — сказала Мария Ивановна, приятно улыбаясь.
Жидовская служанка хотела воротиться в нижнее жильё, но Огневик удержал её, ввёл в светёлку и запер двери.
— Пока я здесь, никто без меня отсюда не выйдет, — сказал он.
— Ни слова противу этого! — возразила Мария Ивановна. — Ты дорого заплатил гетману за уроки осторожности, и благоразумия и имеешь право не верить не только мне, но ни одной живой душе. Только жильё моё слишком тесно. В этой избушке, с перегородкой, нам нельзя говорить без свидетелей, а мне должно переговорить с тобой наедине. Пусть твой товарищ подождёт с этими женщинами за дверьми, на чердаке, пока мы переговорим с тобою.
— Хорошо! Москаленко, ты слышишь, чего она требует! Пожалуйста, брат, не стыдись посторожить баб. Впрочем, ты знаешь, что бабий язык иногда опаснее кинжала!
Москаленко, не говоря ни слова, вышел с двумя служанками.
Мария ввела Огневика в светёлку, и, указав на сундук, просила сесть, а сама села напротив, на кровати.
— Ты не доверяешь мне, Богдан! — сказала она, устремив на него пристальный взор. — Ты не доверяешь мне, а между тем прибыл сюда по одному моему слову! Если б я хотела твоей погибели, то не посылала бы за тобою в погоню. Ты тотчас увидишь, зла ли я тебе желаю или добра! Подай мне коробку, которую дал тебе гетман, отправляя в Батурин.
Огневик вынул из-за пазухи жестяную коробочку и подал Марии.
— Нет! Разломи её и посмотри, что в ней находится, — примолвила она, улыбаясь.
— А мне и в голову не пришло! — сказал он, срывая крышку с коробочки своим кинжалом. — Здесь нет ключей, о которых он говорил мне, а только одна бумага...
— Прочти её! — сказала Мария.
Огневик подошёл к столу, на котором стояла свеча, и прочёл следующие строки, писанные рукою Мазепы:
«Верному полковнику моему, Кенигсеку.
Когда ты получишь сие письмо, надеюсь, что бешеный Палей уже будет в моих руках. Я нарочно удалил отсюда первого клеврета его, чтоб облегчить дело, и послал его к тебе в Батурин под предлогом болезни Натальиной. Разбойничья дерзость до такой степени ослепила его, что он поверил, будто я выдам за него замуж мою Наталию! Теперь он не нужен мне более. Закуй его немедленно в железа и с надёжным прикрытием отправь в Воронеж к царскому коменданту, к которому я напишу сегодня же, чтоб он принял сего государственного преступника и отправил куда следует, для получения заслуженной казни. Будь здоров и жди меня с добрыми вестями.
Мазепа».
Огневик, читая сие письмо, то бледнел, то краснел. Голос его то дрожал, то яростно вырывался из груди, как порыв бури. Окончив чтение, он остался на месте, сжал письмо в руке и, бросив свирепый взор на Марию, сказал:
— Нет! Человек не может быть до такой степени зол и вероломен! Это воплощённый ад в одном лице!.. Мария! — продолжал он, смягчив голос. — Ты служишь этому демону... я всё знаю!
— Служила! — отвечала Мария хладнокровно. — А теперь проклинаю его столь же чистосердечно, как и ты.
— Ты спасла мне жизнь, Мария, послав за мною погоню... Но и Мазепа спас мне два раза жизнь, в Батурине, когда я был ему нужен! Ты начала как ангел; кто мне поручится, что ты не кончишь как... Мазепа!
Мария вскочила с кровати и, бросив проницательный взгляд на Огневика, положила руку на сердце и сказала:
— Здесь порука! У Мазепы вместо сердца камень, а в этой груди сердце, которое живёт и бьётся для дружбы... и любви!.. — Последние слова Мария вымолвила, понизив голос и потупя взор. Огневик молчал и пристально глядел на Марию. Она снова подняла глаза и примолвила: — Веришь ли ты мне или не веришь, но мы должны объясниться. Скажи мне, на что ты думаешь решиться, чего теперь желаешь?
— У меня одна мысль и одно желание: месть! — сказал Огневик, и лицо его приняло грозный вид. — Потерять отца друга и благодетеля, лишившись невесты и даже приюта, я жертвую ненавистную мне жизнью для наказания злодея Мазепа должен пасть от моей руки!..
— Но разве ты поможешь этим Палию?
— Я отомщу за него, и этого довольно! Палию теперь уже ничего более не надобно!
— Нет! Палию нужна твоя помощь, твоё заступление...
— Разве он жив? — воскликнул Огневик с нетерпением.
— Конечно, жив, — отвечала Мария. — Он теперь находится под стражею и завтра будет отправлен к царю московскому...
— Итак, есть надежда освободить его?
— Да, из рук царских, но не из когтей Мазепиных. Слушай меня! Орлик хотел лишить жизни Палия: отравить или зарезать его, но Мазепа воспротивился. «Скорая смерть не есть удовлетворительная месть, — сказал Мазепа, — потому что смерть прекращает все страдания и самую память об них. Пусть мой враг, который заставлял меня мучиться в течение двадцати лет, умрёт медленною смертью, в страданиях, в пытках, во мраке темницы. Палий стар и не выдержит терзаний и заключения. Если б я убил его, враги мои могли бы оклеветать меня перед царём. Я должен избегать этого. Друзья мои, Головкин и Шафиров, не выпустят Палия из рук... — Вот собственные слова Мазепы! Он выслал уже к царю обвинения противу Палия, приложив переписку его с польскими панами, перед поездкой твоею в Варшаву...
— Но царь извещён был, что Палий вступил в переговоры с панами для того только, чтоб узнать их намерения, — возразил Огневик.
— Противу этого Мазепа собрал целую книгу писем приверженцев Станислава, написанных здесь, вчера, в доме гетмана... Он всё обдумал к погибели своего врага!
— Но я взбунтую народ, отобью Палия на дороге, и после пусть царь нас рассудит! Но что я говорю?.. Я забылся... Мария! Ужели ты мне изменишь?
— Не изменю тебе, а помогу, в чём можно помочь. Верь или не верь, а кроме меня, никто не в состоянии помочь тебе. Но если хочешь быть полезен Палию, то должен мне повиноваться. Напрасно ты надеешься на народ! Это стадо. Народ страшен только малодушным, и свирепость его, как буря, безвредна скале. Душа Мазепы закалена в бедствиях и в народных возмущениях, а ум изощрён на хитрости. Он всё предвидел и всё приготовил для отвращения могущего случиться возмущения. Здесь более пятисот польских всадников и несколько пушек охраняют пленника. Все стоявшие на польской границе казацкие сотни расставлены теперь по киевской дороге, которою повезут Палия. Силою избавить его невозможно. Но есть другое средство. Пади к ногам царя, объяви ему истину и проси суда и следствия! Царь правосуден, и если убедится в несправедливости доноса Мазепы, то, без сомнения, возвратит свободу Палию. Я доставлю тебе средства к оправданию Палия и поручу сильным людям, окружающим царя!..
— Мария, ты сводишь меня с ума, расстраиваешь душу мою! Что я должен о тебе думать? Ты знаешь все тайные дела, почти все помышления Мазепы; знаешь, что он говорит сам-друг, что пишет наедине! Ты должна пользоваться величайшей его доверенностью, любовью, дружбою... и как же ты хочешь, чтоб я верил, что ты можешь пожертвовать всем для меня, чуждого тебе человека!..
— Богдан, ты дорог мне! Бог свидетель, что ты мне дорог! — воскликнула Мария. Глаза её сверкали необыкновенным пламенем, лицо горело. Огневик был в смущении: он не знал, что думать, что говорить.
Помолчав несколько, Мария успокоилась и сказала:
— Человек, который никому не верит, который живёт ложью и коварством, всегда окружён обманом и изменою, Мазепа всех людей, от царя до раба, почитает шахматами, нужными ему только для выиграния партии. Ему нет нужды в их уме и сердце! В его глазах всё это кость, и вся разница в форме и в месте, занимаемом на шахматной доске. Зато и все окружающие Мазепу служат ему, как работники мастеру, из насущного хлеба и ежедневной платы. Одно сердце имеет силу привлекать к себе сердца, а металлом и почестями можно оковать только ум и волю... Нет вернее людей у Мазепы, как Орлик и Войнаровский. Они в самом деле преданы его пользам потому, что с его пользами соединены их собственные; но Войнаровский обманывает его, любит и любим взаимно княгинею Дульскою, на которой старый развратник хочет жениться, а Орлик в моих руках, как Геркулес у Омфалы... Немой татарин также предан мне, и я всё знаю... и притом ненавижу Мазепу, как смерть, как ад... Если б он не был мне нужен... давно бы не было его на свете! Но я не знаю, кто будет после него гетманом, а мне нужно иметь силу и влияние в гетманщине...
Мария замолчала, опустила голову на грудь, задумалась и вдруг вскочила с постели, быстро подбежала к Огневику, взяла его за руку и, устремив на него свои пылающие взоры, сказала:
— Я открою перед тобой душу мою, Богдан! Поверю величайшую тайну и поручу тебе судьбу мою и целой Украины и Малороссии! Что ты на меня смотришь так недоверчиво! Не сомневайся! Судьба этого края вот здесь! — Мария ударила себя по голове. — Мне нужен только человек с душою адамантовою, с волею железною, с головою Мазепиной, с сердцем человеческим. Этот человек должен быть — ты!
Огневик не знал, что отвечать. Он смотрел в недоумении на Марию, которая, с разгоревшими щеками, с пламенными глазами, дрожала и казалась в восторженном состоянии, подобно провозвещательнице или волшебнице, совершающей чары. Мария присела на сундуке возле Огневика и сказала:
— Слушай меня! В Малороссии не знают роду моего и племени. Я жидовка... — Огневик невольно подался назад. — Ужели ты не свободен от детских предрассудков? — спросила Мария, — неужели и ты веришь, что одно племя лучше создано Богом, нежели другое?
— Нет., не то... но я удивляюсь, находя в тебе необыкновенный ум... — возразил Огневик в замешательстве. Мария презрительно улыбнулась:
— Так — я жидовка! Отец мой был богатый банкир в Лемберге. Матери я лишилась в детстве. Противу обыкновения нашего народа, отец мой не хотел жениться в другой раз, чтоб не наделить меня мачехою. Он был ко мне страстно привязан. Находясь в беспрерывных связях с значительными домами Германии и в Италии, отец мой принуждён был часто путешествовать. Ему ненавистно было невежество и заслуженное унижение польских жидов. Будучи сам человеком образованным и начитанным, он вознамерился воспитать меня по образцу дочерей богатейших христианских банкиров. Меня окружили учителями и придали для надзора итальянку, женщину высокого образования, жившую некогда в кругу вельмож. Отец мой хотел сделать меня способною вести банкирские дела, после его смерти, и назначил мне в женихи одного бедного голландского жида, также воспитанного по-европейски, обязав его условием, чтоб ом был подчинён моей воле по управлению делами. С детства я приобрела навык говорить правильно почти на всех европейских языках, преодолев трудность произношения, отличающую наше поколение. Не находя удовольствия в обществе моих грубых соплеменниц и не довольствуясь даже обществом польских и иностранных женщин, слишком легкомысленных, я проводила время в чтении и в беседах с отличнейшими учёными, которых отец мой приглашал к себе, нарочно для меня. Уже мне минуло 18 лет, но я не только не хотела идти замуж, но даже видеть моего жениха. Голова моя и сердце были наполнены мыслями и чувствами, несогласными с моим назначением! Я мечтала о величии, о славе. В это время Мазепа прибыл в Лемберг и остановился в нашем доме. Ом хотел видеть чудо, как тогда меня называли, увидел, поговорил и не мог расстаться. Вскоре между нами начались тайные беседы без ведома моего отца. Я находила удовольствие быть с ним. Он уж и тогда был немолод, но ум его, познания, любезность заставляли забывать его лета. Я не была никогда влюблена в него, но не могла противиться какой-то сверхъестественной силе, которою он сковал меня. Представив мне ничтожность моего настоящего и будущего существования, при моём уме и чувствованиях, Мазепа предложил мне бежать с ним, обещая на мне жениться. Мысль быть гетманшею меня соблазнила! Не стану распространять моего рассказа... одним словом, я согласилась оставить родительский дом, отречься от веры... Мазепа возвратился в Малороссию, а чрез месяц я бежала от отца и явилась в Батурин, к Мазепе, как заблудшая овца в волчье гнездо...
Из последствий ты догадываешься, что Мазепа обманул меня и сделал игралищем своего сладострастия... Между тем отец мой умер с горя, а родственники завладели моим имуществом, на которое я потеряла право, приняв христианскую веру. Оставшись бедною сиротою, без имени, без чести, я должна была выйти замуж за простого казака, для прикрытия моего бедственного положения. В душе моей пылала месть... Но я успела воздержать себя в надежде достичь со временем того, в чём однажды обманулась. Я вошла в связи с польскими жидами. Ты должен знать, Богдан, что миром управляет не сила, как думают непосвящённые в таинства политики, но хитрость, владеющая силою. Католическою Европою управляют жиды, духовенство и женщины, то есть деньги, предрассудки и страсти. Спи пружины соединяются между собою невидимо в чудной машине, движущей мир! Я знаю склад её, и в моих руках ключ. Сам Мазепа, мечтающий о власти... есть не что иное, как слабое орудие, приводимое в движение главными пружинами. Польские жиды, ксёндзы и женщины вознамерились сделать его независимым владетелем Украины, для своих выгод. Мазепа уже согласился отложиться от России и присоединиться к Карлу. Ожидают только его приближения. Я всё знаю, хотя гетман и скрывает передо мной умышляемую им измену. Тебе, Богдан, предстоит великий подвиг и великая слава, если захочешь исполнить мою волю. Ты умён, учен, смел и... красавец... Поезжай к царю московскому, открой ему измену Мазепы, которой я тебе дам доказательства, и предложи любимцам царским миллионы, кучи золота, если они уговорят царя сделать тебя гетманом. Я дам тебе деньги и письма к московским вельможам, с которыми нахожусь в связях. Ты не знаешь, что в самой России существует заговор противу царя. Русские бояре, оскорблённые предпочтением, оказываемым иностранцам, и величием любимцев Петра, вознесённым им из праха, соединились с духовенством, которое опасается лишиться церковных имуществ, потеряв уже всю прежнюю силу. Все фанатики, все раскольники, все приверженцы старины, полагающие спасение души и благо отечества в бороде и в покрое кафтана, только ждут знака, чтоб восстать противу нововведении. Они избрали сына царского, царевича Алексея, своим главою... Они боятся Мазепы и с радостью согласятся избрать в гетманы человека, им преданного. Главный заговорщик, Каким: он в милости у царя и в дружбе с вельможами, его любимцами... Я с ним в связях... Итак, от тебя зависит освободить Палия, отмстить Мазепе и сделаться гетманом!..
Огневик едва верил слышанному. Он смотрел с удивлением на чудную женщину и не мог собраться с духом, чтоб отвечать ей.
— Вот что гы можешь сделать, Богдан! — продолжала Мария. — Но от тебя требуется одной жертвы...
Мысль о гетманстве, о мщении, об освобождении Палия и о возможности соединиться с Натальей, эта мысль, как искра, зажгла сердце Огневика. Он чувствовал в себе душевную крепость и способность удержаться на высоте, которая представлялась ему в таких блистательных надеждах.
— Говори, Мария! Я ничего не устрашусь!
— Здесь дело не в страхе. Я не сомневаюсь в твоём мужестве. Но ты должен пожертвовать детскою твоею любовью к Наталье и жениться на мне!
Огневик вскочил с места и, став перед Марией, бросил на неё суровый взгляд.
Мария внезапно побледнела, уста её дрожали.
— Какой жертвы ты от меня требуешь! — сказал Огневик. — Неужели ты стерпишь, чтоб я принёс тебе в супружество сердце без любви? Довольствуйся моею дружбою, благодарностью... Я буду чтить тебя как божество, любить, как друга, повиноваться, как благодетельнице...
— Этого для меня мало! — сказала Мария. — Будь моим и люби себе Наталью, люби из-за меня! Я победила силою ума предрассудки общежития, но не могу победить страсти моей к тебе, Богдан! Я люблю тебя, люблю со всем бешенством, со всем исступлением страсти: мучусь, терзаюсь с той самой минуты, как увидела тебя, и пока руки мои не окрепнут, прижимая тебя к сердцу моему, пока я не вопьюсь в тебя моими устами, пока не задохнусь дыханием твоим, до тех пор адское пламя, жгущее меня, не утихнет... Богдан, сжалься надо мною.
Мария бросилась к ногам Огневика и дрожала всем телом.
— Успокойся, Мария! — сказал Огневик, подняв её и посадив на прежнее место. — Время ли, место ли теперь говорить о любви, когда в душе моей яд и мрак!..
Мария, казалось, не слушала слов его:
— Ты любишь Наталью! — сказала она. — Какою любовью может она заплатить тебе за твою страсть? В жилах всех европейских женщин течёт не кровь, а молоко, подслащённое изнеженностью. В моих жилах льётся пламя, а чтоб согреть, смягчить душу богатырскую, расплавить в роскоши тело, вмещающее в себе сердце мужественное, нужно пламя адское, а не молочная теплота! Во мне кипит целый ад, Богдан; но чрез этот ад проходят в рай наслаждений!.. Будь моим на один день... ты не оставишь меня никогда... ты забудешь Наталью!.. — Краска снова выступила на лице Марии, глаза снова засверкали. Грудь её сильно волновалась.
— Мария, ради Бога, успокойся! — сказал Огневик. — Я теперь в таком положении, что не в силах понимать речи твои, постигать твои чувства… Душа моя прильнула к целям друга моего и благодетеля, Палея, и холодна как железо... Доставь мне случай увидеться с ним хотя на минуту, умоляю тебя! После... быть может, я буду в силах чувствовать и понимать что-нибудь...
Мария задумалась. Потом, взглянув быстро на Огневика, сказала:
— Ты увидишь его! Я ни в чём не могу отказать тебе. Пойдём сейчас! Но помни, что или ты должен быть мой, или вместе погибнем!
Огневик не отвечал ни слова. Мария встала, подошла к столику, вынула из ящика кинжал, заткнула за пояс, взяла небольшую скляночку и, показав её Огневику, сказала с улыбкою:
— Это яд! — Скляночку она положила на грудь, за платье. Потом, накинув на плечи мантию, а на голову чёрное покрывало, примолвила: — Пойдём! Пусть товарищ твой подождёт нас здесь.
Огневик, надев на себя кобеняк и опустив видлогу на голову, вышел за Марией и сказал Москаленку:
— Жди меня здесь, а если до рассвета я не возвращусь, — ступай в Белую Церковь! Там должна быть наша общая могила, под развалинами наших стен!
Мария и Огневик в безмолвии шли по улицам Бердичева. Огневик не спрашивал Марии, куда она ведёт его. Он так поражён был всем случившимся с ним в сие короткое время, что, погруженный в мысли, не обращал внимания на внешние предметы, и тогда только пришёл в себя, когда они очутились у подъёмного моста, ведущего в монастырь кармелитский.
По сю сторону рва, к мостовому столбу прикреплён был конец цепи с кольцом. Мария дёрнула за кольцо; внутри каменных ворот раздался звук колокольчика, и из небольшого круглого окошка высунулась голова.
— Кто там? — спросил сторож.
— Нам нужно немедленно видеться с настоятелем монастыря, — сказала Мария. — Позови его.
— Подождите до утра; скоро настанет день, — возразил стороне. — Настоятель почивает но дневных трудах.
— Нам нельзя ждать ни минуты, — отвечала Мария, — дело важное, государственное, и ты отвечаешь головою, если промедлишь хотя одно мгновение!
— Итак, подождите!
Прошло около четверти часа в ожидании, и вдруг цепи заскрипели на колёсах, и узкая перекладина, с перилами для пешеходов, опустилась. Калитка отворилась в воротах, и Мария с Огневиком вошли во внутренность крепости. Несколько вооружённых шляхтичей сидели на скамьях, под воротами и спросонья поглядывали на вошедших. Придверник велел им следовать за собою. Взойдя на первый двор, они увидели на крыльце толстого высокого монаха, закрытого капюшоном. Страж подвёл их к нему. Это был сам настоятель.
— Кто вы таковы и что за важное дело имеете сообщить мне? — сказал гневно монах, зевая и потягиваясь. — Говорите скорей, мне некогда... — Сильная зевота с рёвом прекратила его речь.
Мария быстро взбежала на крыльцо, приблизилась к монаху и сказала ему на ухо:
— Здесь находится пленник Мазепы, Палий. Позвольте моему товарищу повидаться с ним и переговорить наедине,c четверть часа!..
Монах отступил на три шага, протёр глаза и уставил их на Марию.
— Кто ты такова и как смеешь просить об этом! В своём ли ты уме?
— Кто я такова, для вас это должно быть всё равно, преподобный отче, — отвечала Мария, — а что я не сумасшедшая, это может засвидетельствовать вам Рифка...
При сём имени монах встрепенулся и как будто проснулся.
— Говори тише, окаянная женщина! — проворчал он. — Если Рифка изменила мне, чёрт с ней; я более не хочу знать её, — примолвил настоятель. — Поди и скажи ей это. Я не смею никого допустить к Палию, без позволения гетмана. Ступай себе с Богом... — Монах хотел уйти, Мария остановила его за руку.
— Вы должны непременно исполнить моё желание, преподобный отче, если дорожите своею честью, местом и даже своим существованием, — сказала она тихо. — В моих руках находятся вещи, принесённые в дар монастырю Сапегою, которые вы подарили Рифке и объявили, что они украдены. Мне известно, что вы на деньги, определённые на подаяние неимущим, выстроили ей дом и содержите её из доходов монастырских вотчин. Сверх того, у меня в руках та бумага, которую вы подписали так неосторожно, в пылу страсти, за три года пред сим! Если вы не исполните моей просьбы, завтра же обвинительный акт с доказательствами будет послан к примасу королевства. При этом уведомляю вас для предосторожности, чтоб вы не погубили себя опрометчивостью, задумав покуситься на мою свободу, что все эти вещи и бумаги хранятся в третьих руках и что это третье лицо, не причастное нашей тайне, имеет приказание выслать бумаги к примасу, когда я не возвращусь через два часа. Пыткою же вы не выведаете от меня, у кого хранятся обвинительные акты, потому что вот яд, которым я в одно мгновение прекращу жизнь мою, если вы на что-либо покуситесь... Что бы вы ни затеяли, дело пойдёт своим чередом...
— Дьявол меня попутал, — шептал монах, ломая руки, — и вот он является мне олицетворённый в том же образе, в котором соблазнил меня! Чувствую, что я заслужил это наказание! Меа culpa, mea culpa, mea maxima culpa! — проворчал монах, ударяя себя в грудь. — Слушай, ты демон или женщина! Скажи мне, за что Рифка изменила мне? За что предала меня? Нечистое племя Иуды, порождение демонское! Так, поистине только женоотречение может доставить счастие и спокойствие на земле! Будьте вы прокляты, женщины, изменническое отродие Евино, игралище змеиное!
Монах бесновался, а Мария улыбалась.
— Успокойся, преподобный отче, — сказала она. — Рифка не изменила и не изменит вам. Я нечаянно открыла эту тайну, которая сохранится навеки, потому что я одна знаю её, и поклянусь вам, что никому не открою и не употреблю в другой раз в свою пользу.
— Делать нечего, пусть исполнится твоё желание! — сказал монах и, сошед с крыльца, дал знак рукою Огневику, чтоб он следовал за ним. — Останься здесь, — примолвил он, обращаясь к Марии, и пошёл с Огневиком к церкви.
На паперти церкви, где стояла стража, монах велел Огневику сложить оружие, сказав, что это необходимое условие, и клянясь, что он не подвергнется никакой опасности, Огневик не противился и вошёл в церковь безоружный.
Одна только лампада теплилась перед главным алтарём и бросала слабый свет на высокие своды и готические столпы. Монах провёл Огневика между рядами лавок, за перила, отделяющие священнодействующих от молельщиков в католических храмах, взял фонарь, стоявший у подножия жертвенника, зажёг в нём свечу и велел Огневику поднять дверь в помосте, ведущую в подземный склеп, где хоронят знатных и богатых католиков за большую плату.
— Возьми этот фонарь и спустись по лестнице. Направо, в углу, ты найдёшь того, кого желаешь видеть.
Вошед в подземелье, Огневик очутился посреди гробов, поставленных рядами, между которыми едва можно было пройти боком.
— Батько, где ты? — сказал Огневик громко.
— Здесь! — раздалось в углу. Огневик пошёл на голос.
В крепком, новом дубовом гробе лежал несчастный Палий на спине, окованный крепко по рукам и по ногам. Крыша на гробе была отодвинута настолько, чтоб узник мог дышать свободно. Огневик, взглянув на Палия, не мог удержаться и в первый раз в жизни зарыдал. Поставив фонарь, он бросил крышу с гроба и прижался лицом к лицу своего благодетеля, орошая его своими горючими слезами.
— Ты плачешь! — сказал Палий. — Итак, ты не изменил мне!
— Неужели ты мог подумать это, мой благодетель, мой отец? — возразил Огневик, рыдая.
— Думал и верил, потому что ты меня довёл до этого своими советами...
— Я был обманут, опутан, ослеплён любовию... — сказал Огневик, утирая слёзы.
— Постой! — сказал Палий, — Если ты не причастен к Мазепиным козням, то каким же образом ты попал сюда?
Огневик рассказал ему подробно всё случившееся с ним от самого выезда из Бердичева.
— Что ж ты думаешь делать? — спросил Палий.
— Пойду к царю, брошусь ему в ноги, открою измену Мазепы и буду просить твоего освобождения.
— Мазепа не допустит, чтоб царь судил меня, — сказал Палей. — Он хочет потешиться над моим телом и замучить меня до смерти. Если ты мне верен и благодарен за моё добро, исполни сейчас волю мою и убей меня! Вот всё, чего я требую от тебя, за мою любовь и попечения о тебе! Не дай злодеям ругаться над твоим батькою!
— Зачем ты хочешь лишать себя жизни? — возразил Огневик. — Мария знает все замыслы Мазепы и клянётся, что он не смеет и даже не хочет покуситься на жизнь твою, а лишь только передадут тебя русским властям, то спасение твоё верно. Царь любит правду, а я всем пожертвую, чтоб довести правду до ушей царских.
— Ничему не верю и ничего не надеюсь! Если ты верен мне и меня любишь — убей меня! — сказал Палий. — Неужели тебе не жалко смотреть на меня, лежащего заживо во гробе, во власти сатаны, и стоят ли несколько лет жизни, чтоб для них терпеть эти мучения!
— Если б я даже хотел исполнить твою волю, то у меня нет оружия, — сказал Огневик.
— А разве у тебя нет рук, — возразил Палий. — Задуши меня, и всему конец. При сих словах Палий силился протянуть шею.
— Нет, я не в силах выполнить это! — сказал Огневик отчаянным голосом. — Ещё б я мог, отворотясь, пустить пулю, но наложить на тебя руки — никогда! Не могу!..
— Баба! — примолвил Палий. — Я задушил бы родного отца, весь род мой и племя, если б только этим можно было избавить их от позора и мучений. Задуши меня, или я прокляну тебя!
— Делай что хочешь, но я не подниму на тебя рук, и потому даже, что надеюсь видеть тебя скоро свободным, в славе и силе, а общего нашего врага в уничижении и на плахе. Скрепи сердце, батько, вытерпи беду и живи для мести. Завтра повезут тебя в Киев, завтра я буду на пути к царю!
— Не хочешь убить меня, так убей, тотчас Мазепу! — сказал Палий.
— Это тебе повредит. Тогда не будет надежды на твоё освобождение. Злодей умрёт мучеником, а всю вину свалят на тебя!
— Какая нужда! Убей сперва меня, потом Мазепу, и делу конец! — сказал Палий.
— Конец этого дела должен быть во славу твою и к стыду изверга Мазепы. Он должен пасть от руки палача, а не от моей! — отвечал Огневик.
— Бог с тобой: делай что хочешь и оставь меня в покое. Вижу, что в тебе не украинская кровь!
— Я несу в жертву жизнь мою за тебя и за Украину! — возразил Огневик.
— А не можешь отнять жизни у человека, который, просит тебя об этом! Дитя, баба!
— Потому, что эта жизнь дорога мне и целой Украине...
— Довольно! Ступай с Богом, да смотри же, накажи деткам, чтоб они не поддавались Белой Церкви! Кто молодец, тот умри на стене, а кому охота жить, ступай в Запорожье. Поклонись жене, скажи моё благословение детям... Поблагодари хлопцев за верную службу... Протай!.. — Глаза Палия были красны, но он не мог пролить слёз. Он только вздохнул. — Мне тяжко с тобой, Богдан! Сердце ноет... Ступай, куда Бог ведёт тебя!
Огневик стал при гробе на колени и сказал:
— Благослови меня!
— Бог благословит тебя, дитя моё! — примолвил Палий. — Верю, что ты не изменил мне, и прощаю тебе неумышленную беду! Берегись баб! Вот видишь, к чему ведёт ваша глупая любовь! Прощай, Богдан, мне грустно смотреть на тебя! Можешь — освободи, а не можешь — отомсти!
— Клянусь! — сказал Огневик.
— Верю, — отвечал Палий.
Огневик ещё раз расцеловал Палия и вышел из подземелья. Взяв на паперти своё оружие, он возвратился на то место, где ожидала его Мария. Монах отвёл Марию на сторону и, взяв с неё клятву не открывать никому тайны, велел проводить! их за ворота. Когда они перешли мост, Мария остановилась и, взяв Огневика за руку, спросила:
— Доволен ли ты мною?
Огневик пожал ей руку.
— Начинает светать, — сказал он. — Я боюсь остаться в городе. На день скроюсь в лесу, а ночью буду у тебя, Мария! Теперь пойду на свой постоялый двор, а ты пришли ко мне товарища.
— Доволен ли ты мною? — повторила Мария.
— Благодарен, как нельзя более! — отвечал он.
— Уверился ли ты в моей силе? — примолвила она.
— Это сила ада или неба! — сказал Огневик.
— Сила ума, — возразила она, улыбаясь. — Жду тебя в полночь с освобождением Палия, с казнью Мазепы и с гетманскою булавою для тебя! Прощай!
Они расстались.
ГЛАВА ХII
Чрез горы проточил он воды
На блатах грады насадил
……
Хранил примерный суд.
Державин.В то время, когда случились описываемые здесь происшествия, то есть незадолго до вторжения Карла XII в Украину, Петербург только что зарождался, и никакой ум, никакое воображение не могли тогда предвидеть его нынешней красоты и величия. Распространение города началось после Полтавской битвы, но до низложения шведского могущества Пётр занимался более укреплением нового города, которого первое основание положено было на нынешней Петербугской стороне. Как бы волшебством возникла Петропавловская крепость, состоявшая тогда из одного кронверка, одного равелина и шести болверков с четырьмя воротами. Вал был земляной, и только Меншиковский болверк начинали строить каменный. Внутри крепости все здания были деревянные. Соборная Петропавловская церковь, низкое крестообразное здание о трёх шпилях, выкрашена была под мрамор. С одной стороны церкви построены были небольшие дома; оберкоменданта, генерал-поручика Романа Вилимовича Брюса, плац-майора полковника Чемезова, священников собора, цейхгауз, выкрашенный так же, как и церковь, под вид жёлтого мрамора, и большой караульный дом. Противу караульного дома находилась площадь, называемая плясовая, на которой стояла деревянная остроспинная лошадь, а рядом с нею вкопан был столп, обнесённый палисадом. От верха столпа висела цепь. Провинившихся солдат и мастеровых сажали на сию лошадь или приковывали руками к цепи на некоторое время. По другую сторону церкви были провиянтские магазины, гарнизонная канцелярия и главная аптека. Крепость прорезана была внутри каналом, в две с половиною сажени шириною. Сии первые строения были, так сказать, ядром новорождавшегося города.
Перед крепостью, за гласисом, стояла на том месте, где и ныне, деревянная церковь во имя Святыя Живоначальные Троицы. Площадь и пристань назывались Троичкими. На берегу на пристани стоял, как и ныне, домик, в котором жил Пётр Великий. Рядом выстроен был большой дом, называвшийся Посольский, в котором жил генерал-губернатор Петербургский, князь Меньшиков, а по другую сторону находился знаменитый питейный дом (или австерия), пред которым производились все торжества и сожигались фейерверки и куда государь заходил с приближёнными на рюмку водки, после обедни, в праздничные дни. По другую сторону стояли: деревянный гостиный двор и несколько частных домов, выстроенных в линию противу крепости. На другой стороне Невы находилось Адмиралтейство, обнесённое земляным валом, рвом и палисадами. Внутри Адмиралтейства были деревянные магазины и деревянная же башня со шпилем. Деревянная Исаакиевская церковь, только что начинала строиться, равно как и по Миллионной. Все как частные, так и казённые здания были или деревянные или мазанки (Fachwerk). На Васильевском острове были галерная верфь, укрепления, состоявшие под начальством капитана бомбардирской роты Василия Дмитриевича Корчмина, и французская казённая слобода для приезжих иностранных мастеров. На безымянном острове, против нынешнего Екатерингофа, построен был загородный дом, или подзорный дворец. Место, назначенное под город, было вымерено, и главные улицы означены были небольшими каналами по обеим сторонам, или сваями, в некотором расстоянии одна от другой В лесах сделаны просеки, из коих главная шла чрез густую берёзовую рощу в Московскую Ямскую слободу, населённую переселенцами из подмосковных ямщиков. Сия лесная дорога есть нынешний великолепный Невский проспект. При устье Фонтанки находилась старинная деревня Калинкина, а подалее, на взморье, деревня Матисова, населённые туземцами, ижорами, древними обитателями сего пустынного края. Несколько бревенчатых мостов на Фонтанке и на Мойке способствовали сообщению на Адмиралтейской стороне; но на Неве тогда мостов не было. Солдаты жили в слободах, построенных на Петербургской стороне, а матросы в нынешних Морских улицах, на Адмиралтейской стороне. Крестьяне, присылаемые по наряду на работу из соседних губерний, жили в шалашах, в лесах, в нынешней Литейной части. Они занимались рубкою лесов на просеках, очисткою болот, приготовлением кирпича, доставкою песка, извести, выжиганием угля. Частные люди строили домы наёмными работниками. По линиям, где надлежало быть улицам, лежали костры досок, брёвен и кучи песку. Везде рыли ямы и каналы для спуска воды. На обширном пространстве курились огни, при которых ночевали работники. Повсюду раздавались стук топоров, молотков, скрип и шипенье пил, ободрительные крики работающих, побудительные голоса начальников и заунылые звуки русских песен. Везде была деятельность, поспешность в труде, быстрота в движении, рачительность в исполнении, как будто невидимый дух повсюду присутствовал, за всем надзирал и поверял работу.
В прекрасное летнее утро стоял на берегу Невы, противу строившейся Исаакиевской церкви, запорожский казак и с любопытством смотрел на движущуюся картину деятельности проворного народа русского. Толпы рабочих, как муравьи, двигались в разных местах, поднимая и перевозя тяжести. Но чаще всего взор запорожца обращался на крепость и на домик царский, перед которым стоял расписанный и разукрашенный резьбою бот. В нескольких шагах от запорожца остановился старик с седою бородою, в русском летнем кафтане, в пуховой шляпе. Старик с удивлением осматривал, с головы до ног, запорожца, статного и красивого лицом, и любовался, как казалось, его нарядом. Наконец, как будто не могши преодолеть своё любопытство, старик подошёл к запорожцу, приподнял свою шляпу, поклонился и сказал:
— Видно, ваша милость прибыла сюда с царём из Польши и впервые видишь здешние чудеса?
— Правда, что я здесь в первый раз, и только со вчерашнего дня, — отвечал запорожец, — но я прибыл не с царём, а к царю.
— Так видно, какой мастер, — примолвил старик. — Наш царь-батюшка никакому гостю так не рад здесь, как мореходу да мастеру.
— Моё мастерство вот это, — сказал запорожец, ударив по своей сабле.
— И то хорошо, батюшка! — отвечал старик. — У всякого свой промысел!
— А когда можно увидеть царя? — спросил запорожец.
— Да он, батюшка, с утра до ночи, все на ногах. Не любит покоиться, кормилец! Ведь и сегодня со светом уже был на Васильевском острову, а теперь, видно, заехал домой, перекусить. А ты, чай, знаешь царя нашего?
— Никогда не видал!
— Уж этакого царя не бывало, да и не будет, не только на Руси, да и на целом белом свете, — примолвил старик. — Ростом великан, силой богатырь, лицом красавец, а умом так всех и бояр, и князей, и владык за пояс заткнёт. Всё, вишь, знает, всё умеет и во всяком мастерстве и в книжном деле искусен, только, как говорят, не умеет лаптей плесть. Уж я отжил мой век, а об таком царе и в сказках не слыхивал! Бывало, наши цари сидели себе, сердечные в тёплых хоромах, молились Богу да кушали хлеб-соль, на здоровье с князьями да боярами, которые судили и рядили в народе, как сами хотели. А ныне так не только что везде царское око и царское ухо, да и рука-то его повсюду с мечом, с топором и с молотком. В суде ом первый судья, на войне первый воин, во всяком ремесле первый мастер, когда б не... — старик остановился.
— Когда б не — что? — спросил запорожец.
Старик посмотрел исподлобья на него и сказал, понизив голос:
— Да ведь ты сам, отец родной, короткокафтанник и безбородый!
— Понимаю! — примолвил запорожец. — Русским не нравится то, что царь не любит бород и русского кафтана.
— И вестимо, батюшка! — сказал старик. — Ведь деды наши и отцы носили бороды и жили не хуже других, да и святых-то угодников Божьих пишут с бородами...
— Святость не в бороде, дедушка! — возразил запорожец. — Пишут святых так, как они были в жизни, но мы должны подражать им не в одежде и в стрижке и бритье волос и бороды, а в делах. Нарядись беззаконник как угодно, он всё-таки проклят, а праведный муж благословен во всякой одежде.
— Ото так! — сказал старик. — Да вишь, народ, одевшись в кургузое платье и обрив бороду, так и льнёт к немцам, а от них далеко ли до расколу, да до антихриста папы. Господи, воля твоя! — примолвил старик, крестясь и тяжело вздыхая. — Уж чего наши бояре не переняли у немцев! Пьют дьявольское зелье, табачище, заставляют своих жён плясать с нехристями всенародно; едят всякую нечисть, и раков, и телят, и зайцев, и Бог знает что. А язык-то наш так исковеркали, что иное слушаешь от русского, да не понимаешь. Да то ли это! Ведь эти поганые немцы мало того, что опутали царя, да ещё и подговорили его женить православного царевича Алексея Петровича на своей обливанке. Слышно, наплакался, бедненький! Этот — дай Бог ему здоровье — так тянет всё за стариной и куды как не любит немцев и всякой их новизны. За то и народ и, священство так и прильнули к нему душой...
Вдруг словоохотливый старик замолчал, как бы испугавшись, что высказал лишнее перед незнакомым человеком.
— Не бойся говорить правду, старинушка, — сказал запорожец. — У нас, на Украине, так же, как и на Руси, не любят немцев и всяких иноверцев, а до сих пор, слава Богу, у нас нет ни одного.
— У нас, батюшка, так они всем завладели, — отвечал старик. — И войско-то они водят, и кораблями правят, и всякими мастерствами заведывают. Нечего сказать, есть меж ними люди добрые и смирные и знают своё дело... да всё-таки, что немец, то не русской, что нехристь, то не православный.
— Уж что говорить! Куда им равняться с нами? «Далеко кулику до Петрова дня!» — возразил запорожец.
— А царь-то их, вишь, вельми жалует! — сказал старик. — Сказывают, что от них всё тяжкое и горькое, и корабельщина, и поголовщина, и дороги, и каналы, и война-то, которой и конца не видно, и гоненье на стрельцов и старообрядцев. Слышно, что и город-то строить на этом чухонском болоте затеяли они же, чтоб быть поближе к своим, да подальше от коренной Руси. А уж эта постройка города, чего будет стоить, Господи! Ведь что копнёшь заступом в землю, так бездонный провал! А кругом пустошь пустошью, и кроме мухоморов, думаю, ничто здесь не созреет. Но ведь царская воля-то словно Божье слово, а наш царь чего захочет, то и будет. Недавно забушевало под ним Ладожское озеро, так он как велел высечь его порядочно батогами, ан на другой раз и пошелохнуться не смело перед ним. Уж за то люблю царя, дай Бог ему здоровья, что у нас для всех равны суд и расправа. Будь крестьянин, будь князь, провинился, так уж же не потакнет ради роду и племени. Для верного же и усердного слуги, будь он простой плотник или солдат, всякая честь и награда... Вот, недалече поискать... Посмотри-ка на князя Меншикова. Ныне первый боярин из крестьянских детей. Вот что дело, то дело! Ведь коли сам царь служит и работает, так и всем должно... Да вот и он сам, наш батюшка! Вот сел в свой бот, с кем бишь, издали-то не видно... Видно, едет в Мпратейство (Адмиралтейство). Он ещё не был здесь сегодня. А можно ли мне пойти туда, посмотреть сблизка на царя? — спросил запорожец.
— А почему ж нет! К нему, батюшке, доступ волен каждому, во всякое время и в каждую пору! Я сам проведу тебя. Я подрядчик казённый, и мои люди работают там.
Старик с запорожцем вошли в Адмиралтейство. Старик пошёл к своим работникам, а запорожец стал за большим костром брёвен. Ботик приближался к берегу, и запорожец, подозвав к себе старика, спросил:
— Скажи, старинушка, который из них государь и кто таковы господа с ним?
— Царь сидит на руле, а на скамьях комендант крепости, Брюс, да вице-адмирал Крюйс, люди добрые, хоть из немцев. А вот этот молодец, денщик государя, Румянцев.
Бот пристал к берегу, и государь, проворно выскочив, пошёл к новостроящейся бригантине. Он превышал головою всех бывших в Адмиралтействе людей. На нём был светло-зелёный, длиннополый мундир с красным откидным воротником и красными обшлагами, камзол и исподнее платье из простого равентуха и козловые сапоги за колено. Подпоясан он был по камзолу лосиною портупеей, на которой висел, при бедре, кортик. Голова покрыта была небольшою треугольною шляпой. Чёрные волосы его висели по воротнику, небольшие усики придавали выразительность полному, смуглому его лицу, а глаза горели как алмазы. Он и имел в руках трость, знаменитую дубинку, которая перещупала хребет всех нерадивых, всех злоупотребителей сего славного царствования.
Поздоровавшись с работниками, Пётр Великий взобрался на новостроящуюся бригантину, обошёл повсюду от киля до шканцев и, спустившись на землю, пошёл к другому стапелю. Перед ним несколько работников силилось поднять бревно из костра. Пётр подошёл к ним, закричал: «Посторонись!» — и когда работники опустили бревно, Пётр упёрся в него плечом, двинул, и тяжёлое дерево слетело на землю как пёрышко. Государь улыбнулся и пошёл далее.
— По-каковски ты рубишь, неуч? — сказал государь плотнику, выхватив у него из рук топор и бросив на землю свою дубинку. — Топор держи плашмя к брусу, да не размахивайся, а надрубай бережно. Вот так! — Пётр стал сам тесать бревно, приговаривая: — Ведь это дорогой товар — дуб, испортить его легко в минуту, а пока он вырастет, надобно ждать веки! Гей, мастер!
Работники стали кликать корабельного мастера, который немедленно предстал пред государем.
— Не изволишь беречь лесу и не умеешь выбирать работников, — сказал ему государь. — Неужели у тебя нет лучших плотников для такой работы?
— Откуда взять, государь! — сказал мастер. — Рад-радёхонек, когда найдёшь человека, который смыслит поболее, как рубить дрова! Ведь у нас столько работы, государь, что и в Голландии не нашли бы довольное число хороших плотников...
— Учи, надсматривай! — возразил государь.
— Ведь не много таких переимчивых, как сардамский плотник, а что смотреть — то смотрю в оба, да за всеми не углядишь.
— Ну, ладно, кум! — сказал государь. — У тебя на всё готов ответ, а вот господин вице-адмирал говорит, что шхуна нашей работы тяжела на ходу и берёт много воды.
— Ведь вы сами изволили сделать чертёж, государь, чтоб попробовать. Я также предвидел, что дело не пойдёт на лад...
— Предвидел! — сказал государь грозно, стукнув дубинкою в землю и посмотрев гневно на мастера. — Ты предвидел, что дело не удастся — и не сказал мне ни слова!
— Я не смел... Я боялся огорчить вас, государь!
— Ты не смел, ты боялся огорчить меня! — примолвил государь. — Разве я огорчаюсь правдою? Разве ты не знаешь, что я благодарен, когда мне поправят мою ошибку, когда научат меня, чего я не знал, покажут, чего недосмотрел? Не сто раз повторял я вам всем, и генералам моим, и сенаторам, и мастерам: говорите мне правду смело и открыто. Я более ничего от вас не требую, как правды и рачения к должности. Гневаюсь я и наказываю за ложь и за обман, а не сержусь, хотя бы кто говорил и вздор от чистого сердца и с добрым намерением. Никак не могу управиться с моими людьми! — примолвил он, обращаясь к генералу Брюсу и вице-адмиралу Крюйсу, — никак не могу вбить в голову, что они служат не для моей потехи, а для пользы общей нашей матери, России. Не могу уверить их, что я для себя лично ничего не хочу, ничего не требую от них, кроме исполнения моей воли, которая имеет одну цель, благо отечества, а потому советников моих и помощников я избираю для того только, чтоб они говорили мне правду, по крайнему своему разумению! Дал бы мне Бог поболее таких людей, как князь Долгорукий! Вот этот так понял меня! Слушай, кум, — примолвил государь, обращаясь к мастеру, — на этот раз я тебя прощаю, веря, что ты молчал правду от глупости, а если в другой раз послышишь, что я приказываю тебе что-либо такое, в чём ты не видишь пользы, а ты не скажешь мне, что думаешь, то вот эта дубинка погуляет по твоей спине! Надеюсь, что ты за это сделаешь мне славную бригантину!
Мастер бросился в ноги государю.
— Встань! Я терпеть не могу этого. Кланяйся Богу, а перед царём стой прямо, смотри в глаза, говори правду и делай честно своё дело. — Государь отвернулся и пошёл в магазины, где лежало железо.
Старик подошёл к запорожцу и сказал ему:
— Коли тебе нужда до царя, так ступай за ним.
— Нет, теперь ещё не пора, — отвечал запорожец. — Мне только хотелось увидеть его, а между тем я в одно время и увидел, и узнал его коротко. Великий муж! Государь, который любит истину и помышляет единственно о благе отечества, есть образ Бога на земле. Надеюсь на его правосудие!
— Не угодно ли вашей милости пожаловать ко мне откушать моего хлеба-соли? — сказал старик. — Ты здесь чужой.
— Спасибо, старинушка! С радостью принимаю твоё приглашение, а после попрошу, чтоб ты проводил меня к боярину Кикину.
— Изволь! Ну пойдём ко мне.
Они вышли из Адмиралтейства, и старик повёл его в свой дом в Морскую слободу, возле новостроящейся церкви Исаакия Далматского.
В короткое правление царей Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича, во время слабого, колеблющегося троецарствия Иоанна, Фёдора и Петра Алексеевичей и пронырливое, кознестроительное управление царевны Софьи Алексеевны власть бояр, их самоуправство, своенравие и беззаконность достигли высочайшей степени. Хотя они не смели явно противиться воле царской, но если оная не согласовалась с их выгодами или честолюбием, они умели отклонять исполнение, под различными предлогами, и самую волю царя обуздывали кознями. Любимцы двора делали, что хотели, и правители областей и городов угнетали народ беспощадно. Партии боролись между собою у двора, чтоб доставить себе власть и ввергнуть в опалу противников. Для честолюбивцев и корыстолюбцев, за пожертвование совестью, открыты были неисчерпаемые рудники богатства и почестей. Вдруг появился герой на престоле, единственный Пётр, которого не знали и не постигали до тех пор, пока он не достиг единодержавия. Железною рукою взяв опущенные бразды правления, он удержал своеволие, разогнал козни, усмирил буйные страсти и всё подчинил своей воле, непреложной как судьба. Сея твёрдою волею своею, как архимедовым рычагом, Пётр выдвинул царство из тины невежества и варварства, выкатил его на солнце просвещения и помчал по тернистому пути образованности. С первого шагу Пётр поставил себя в противумыслие с целым своим народом. Каждая мера его, каждое начинание и учреждение явно разногласили с правами, обычаями, образом мыслей, понятиями, чувствованиями и предрассудками всех сословий тогдашнего русского народа. Петру невозможно было починивать и перестраивать. Ему надлежало сломить, разрушить до основания ветхое государственное здание, погрести под развалинами оного старинные предрассудки и из обломков создать новое, по европейскому образцу. Так он и сделал, преодолев препятствия и понеся труды, которые показались бы баснословными, ежели бы не были так близки к нам. Но ежели в странах просвященных и благоустроенных каждое нововведение, имеющее целью народное благо, находит сильных противников в людях, тучнеющих от злоупотреблений и закоренелых предрассудков, тем более Пётр должен был найти недовольных между русскими боярами и закоснелым в невежестве мелким дворянством, с которых он стряхнул лень, и, обуздывая их пороки, заставил действовать противу их воли на пользу отечества, оскорбляя притом их самолюбие возведением на высокие степени людей с дарованиями и с усердием, без оглядки на родство и связи. Особенно вооружало противу Петра всех русских и даже преданных ему людей предпочтение, оказываемое им чужестранцам, хотя многие чувствовали, что без их помощи государь не мог начать, а тем более совершить великого дела преобразования России. Но характерная черта русского народа есть уверенность в превосходстве своём перед иностранцами. Уверенность сия и ныне даже не может назваться справедливою, ибо дарование не есть привилегия одного племени, а в то время сия самонадеянность русских на собственные силы была столь же ложною, как и вредною, ибо большая часть вещей, о которых русские не имели никакого понятия, была на высокой степени совершенства у других народов. Суеверие называло каждого неправославного нехристем или обливанцем, а потому невеждам казалось делом богопротивным подчинять православных под их начальство. Приближённых государя оскорбляла необыкновенная вольность иностранцев в обхождении с ним и его чрезвычайная к ним снисходительность. Словом, все вымышляли и находили причины быть недовольными великим мужем, боготворимым потомством и уважаемым всем человечеством. Такова участь истинного величия души и гения! Горести, труды, неблагодарность и клевета в жизни — за гробом бессмертная слава. Не многие из русских тогдашнего времени понимали Петра, но героев везде и всегда не много, а избранные им сподвижники в точном смысле слова были герои. Великий Пётр пользовался умом каждого и чтил его, но доверял только уму, соединённому с праводушием. А потому-то умный Александр Кикин, казначей государев и член Адмиралтейства, хотя пользовался милостью царя, но не мог возбудить в нём доверенности, следовательно, не мог достигнуть тех степеней в государстве, как Меньшиков, Шереметев, Апраксин, Головин, Головкин, Долгорукие и другие.
Кикин хотя умом оправдывал все начинания Петра, но, мучимый завистью и честолюбием, скрытно держался стороны недовольных, которые в невежестве и фанатизме своём вопияли противу каждого нововведения и называли их беззакониями, смертными грехами, дьявольским наваждением. Слабодушный и слабоумный царевич Алексей Петрович уловлен был в сети фанатиками и безумными приверженцами грубой старины, а умные честолюбцы, в том числе и Кикин, тайно ободряли их ревность, надеясь со временем овладеть царевичем и управлять Россией, под его именем. Жизнь Петра почти ежедневно висела, так сказать, на волоске, потому что он не щадил её ни в боях, ни в трудах, едва не превышающих силы человеческие. Все знали отвращение царевича Алексея Петровича от нововведений и его связи со всеми противниками нового порядка вещей, и все были уверены, что если царевич Алексей вступит на престол, то любимцы и сподвижники Петра должны погибнуть вместе с возникающим преобразованием России. Умные и добросовестные люди страшились сей минуты: фанатики, невежды и обманувшиеся в надеждах честолюбцы с нетерпением ждали её, как начала своего благополучия. Между тем, пока Пётр жил и действовал, козни устраивались во мраке, порождались злые замыслы и клевета, и при помощи суеверия поставляли Петру препятствия и отвращали от него сердца народа. Главными действующими пружинами зла были епископ Ростовский, Досифей, владевший душою царевича Алексея, и генерал-майор Степан Богданович Глебов, господствовавший над сердцем его матери, Евдокии Фёдоровны, постриженной в старицы, под именем Елены, и находившейся в Суздальском Покровском монастыре. Вокруг их увивались толпы беспокойных, недовольных кознелюбцев.
Александр Кикин строил в сие время новые палаты, на набережной Невы, противу крепости, а сам жил в небольшом доме, на дворе. Вечером, когда работники распущены были с казённых и частных работ, старик повёл запорожца к дому Кикина и, указав оный, удалился, сказав:
— Держи ухо востро, брат казак! Этот боярин любит ловить рыбу в мутной воде...
Запорожец постучал у дверей, и его ввёл в светлицу дьяк. Кикин сидел возле стола, за бумагами. Он оборотился, бросил проницательный взор на запорожца, осмотрел его с головы до ног и сказал хладнокровно:
— Откуда и с чем?
— Мне нужно переговорить наедине с вашею милостью о важном деле, — отвечал запорожец, поклонясь в пояс.
— Подожди в сенях, — отвечал Кикин, подозвал дьяка и стал заниматься бумагами. Запорожец ждал около часа, наконец Кикин выпроводил дьяка на крыльцо, подождал, пока он не скрылся из виду, и, воротясь в сени, велел запорожцу следовать за собою в избу. Сев на прежнее место, Кикин устремил глаза на запорожца и сказал:
— Ну-тка, посмотрим, чего ты от меня хочешь?
— Я приехал к тебе с поклоном из Малороссии, от Марьи Ивановны Ломтиковской, — сказал запорожец.
Кикин улыбнулся и спросил:
— Что она нового затеяла?
— Она открыла мне положение здешних дел, — сказал запорожец, — и приказала сказать вам, что если царевичу нужна помощь в Малороссии и Украине, то он теперь имеет случай приобрести все сердца, исходатайствовав у царя, чрез друзей своих, прощение полковнику Палею, и выпросить позволение возвратиться ему восвояси. Вашей милости, вероятно, известно, какою любовью пользуется у народа Палей и как ненавидим Мазепа, который теперь замышляет измену противу России, что всем известно на Украйне, хотя и не может быть доказано бумагами. Если б друзьям царевича удалось поставить Палея в гетманы и низложить коварного Мазепу, сто тысяч воинов ополчились бы по слову царевича и весь войсковой скарб поступил бы в его распоряжение...
— Всё это насказала тебе эта баба! — возразил Кикин с лукавою улыбкой. — Легко сказка сказывается, да не легко дело делается. Царь, брат, не таков, как вы об нем думаете! Его не проведут ни сто Мазеп, ни двести Палеев! Все вы, братцы, малороссияне, хотя люди храбрые и умные, но превеликие ябедники! Хотелось вам свернуть шею Мазепе, а вы же укрепили его на гетманском месте вашими недоказанными доносами, вашим пустым ябедничеством. Палей сослан в Сибирь за ослушание царской воле и в угодность Мазепе, которого царь теперь ласкает, потому что имеет в нём нужду. Да, впрочем, он и заслужил милость царскую двадцатилетнею верною службой. По пустым просьбам царь не простит Палея и не захочет огорчить Мазепу. Это дело конченое: поезжай с этим к Марин Ивановне да скажи ей от меня, что с этой поры, как она изволила наболтать тебе всякого вздору о царевиче и обо мне, да ещё осмелилась подсылать ко мне неизвестного мне человека, я больше не хочу её знать, а если она ещё вздумает подсылать ко мне, то я скручу в бараний рог её посланца да и отдам царю, как изменника. Благодари Бога, что ты как-то мне приглянулся и что я отпускаю тебя цела и невредима. Но чтоб сей же ночи тебя не было в Петербурге! Прощай! С Богом!
Кикин отвернулся, и Огневик (ибо это был он) вышел, не сказав ни слова, огорчённый своею неудачею. Возвращаясь на постоялый двор, в Московской Ямской, где он остановился, Огневик стал рассуждать о своём предприятии и почувствовал всё своё неблагоразумие, что обратился к человеку, в котором он не был уверен. Услышав мельком от Марьи о существующем заговоре и удержав в памяти имена царевича Алексея Петровича и казначея Кикина, Огневик сперва верил, что, намекнув сему последнему об их тайне, он будет принят заговорщиками, как и их соучастник, и найдёт у них покровительство. Теперь он удостоверился, что поступил легкомысленно, не взяв от Марии писем к заговорщикам и доказательств измены Мазепиной. Но вспомнив при сём, какой жертвы требовала от него сия исступлённая женщина, Огневик наконец успокоил себя мыслию, что ему иначе нельзя было поступить, как отведать счастья, без содействия Марин, с которой он страшился войти в тесную дружбу. Огневик внутренно устыдился, вспомнив, что с самого выезда своего из Бердичева он впервые стал размышлять о подробностях своего предприятия и что, следуя долгу своему и совестя, повелевающим ему забыть всё, устремиться на помощь своему благодетелю, Палею, он действовал почти машинально, а внутренно занят был Натальей и только об ней одной думал во всю дорогу, только ей одной посвящал ощущения души своей. Будучи обречён Мазепою в жертву его мщения, Огневик не мог показаться в Малороссии и в Русской Украйне, следовательно, не имел никакой надежды свидеться с Натальей, а тем менее похитить её из Батурина. Всё его благополучие зависело от освобождения Палея, и, не надеясь более найти подпору в русских боярах, притом не зная никого, он решился написать челобитную от имени украинского народа и подать её лично царю.
Спросив бумаги и чернил у хозяина, Огневик заперся в своей светлице и занялся сочинением челобитной. Он изобразил яркими красками заслуги и подвиги Палея в его беспрерывной войне с татарами и поляками, врагами России; представил, что Палей со своею вольницею составлял как бы оплот России в тех странах и своим влиянием на умы удерживал в повиновении царю запорожцев, привлёк гетмана польской Украины, Самуся, на русскую сторону и заставлял гетмана Малороссии быть невольно верным царю, хотя во всём том крае известны сношения его с Польшей и ненависть к России. В неисполнении на леем царской воли он оправдывал его тем, что Палей хотел только рассчитаться с польскими панами во взаимном ущербе и после того возвратить им занятые поместья, и, наконец, убеждал царя не верить доносу Мазепы, который ненавидит Палея и желает его погибели для того только, что во время его пребывания на Украине Мазепе невозможно вовлечь народ в измену противу царя. Употребив всё школьное своё красноречие и всю силу своего чувства при составлении сей челобитной, Огневик, не раздеваясь, лёг отдыхать, намереваясь со светом идти к царскому дому и подать ему оную при выходе царя. Огневик проспал долее, нежели предполагал, и когда проснулся, солнце уже было высоко. Он нанял у хозяина лошадь с телегой и поехал к старику, подрядчику, с которым познакомился накануне. Старик уже возвратился из Адмиралтейства к завтраку и сказал ему, что государь был там с какими-то новоприбывшими немцами, показывал им работы и остался весьма доволен. Огневик открылся старику, что намерен подать государю челобитную.
— Смотри, будь осторожен, — сказал старик, — здесь объявлен всенародно указ государев, чтоб никто не осмеливался подавать ему челобитень, кроме как по делам государственным и на несправедливость судей. По всем прочим делам поведено подавать жалобы в Приказы, куда какая следует. Государь не любит, чтоб преступали его волю, и издал указ, в коем прописано, чтоб никто не отговаривался незнанием законов.
— Я жалуюсь на несправедливость судей! — возразил Огневик.
— Делай что хочешь, — примолвил старик, — моё дело сторона, а ты человек грамотный и знаешь более нас. Теперь государь дома; ступай на ту сторону и дождись, пока он выйдет.
Огневик изготовил также письмо к Наталье, в котором уведомлял её обо всём случившемся и извещал, что он решился пожертвовать собою для избавления своего благодетеля. Он увольнял её от данного ею обета, если его постигнет несчастие, смерть или ссылка, и просил только об одном — воспоминать иногда об нем. Письмо сне надписано было русскому священнику в Виннице, приятелю его.
— Ты обласкал меня, сироту, на чужой стороне, — сказал Огневик старику, пожимая его руку, — доверши доброе дело, и если я не ворочусь к тебе сегодня вечером, постарайся переслать это письмо.
— Будь уверен, что желанье твоё исполнится, — отвечал старик. — У меня много знакомых между слугами царскими, и я отошлю письмо с первым гонцом на Украйну.
Огневик обнял старика, простился с ним, отпустил телегу и пошёл к перевозу. Переехав через Неву, он остановился возле Троицкого питейного дома, чтоб расспросить о государе. Ему сказали, что государь с денщиком своим, Румянцевым, пошёл гулять и осматривать строящиеся частные дома в новой улице, которая шла от Троицкой церкви до острова, называемого Каменный. Огневику указали путь, и он пошёл отыскивать государя. Пройдя несколько десятков сажен, Огневик увидел толпу народа возле небольшого красивого домика. Он поспешил туда и вмешался в толпу. Государь с гневным лицом, с пылающими взорами держал за ворот толстого, дюжего, красноносого подьячего, который, стоя пред ним на коленях, трепетал всем телом и восклицал:
— Виноват, согрешил, грешный! Попутал лукавый!
Между тем государь, приговаривая: — Не воруй, не плутуй, не обманывай православных! — отсчитывал ему полновесные удары по спине своею дубинкою.
Огневик спросил одного порядочно одетого человека, что это значит и за что государь изволил прогневаться.
— Я сам был в гостях у именинника, вот у этого секретаря Удельной конторы, который теперь ёжится под благословенною царскою дубинкою, — отвечал порядочно одетый человек. — Государь изволил в прошлом году крестить у него сына и своеручно пожаловал рубль родильнице. Теперь, проходя мимо и увидев, чрез окно, толпу народа в горнице, государь зашёл к куму, который упросил его выкушать рюмку водки и закусить пирогом. Хозяйка, вся в жемчугах и в шёлку, вынесла на серебряном подносе штоф любимой государевой гданской золотой водки, а хозяин поднёс пирог на серебряном блюде. Государь помолился Богу, выкушал, поблагодарил хозяев и стал осматривать дом, небольшой, да туго набитый всяким добром. Стены как жар горят от позолоченных окладов; в шкафе, от полу до потолка, битком набито серебряной посуды; скатерти на столе голландские, ковры на полу персидские, занавесые у кровати шёлковые, с золотым — словом, у другого князя нет того, что у нашего приятеля. Осмотрев всё, государь обратился к хозяину и сказал:
— Я у тебя не видал этого добра в прошлом году на крестинах?
Хозяин смешался и отвечал:
— Вещи ещё не были привезены из Москвы…
— А много ли за тобой родового именья? — спросил государь.
— Покойный отец не оставил мне ничего, кроме своего благословения и наказа служить верой и правдою царю-батюшке.
— Видно, ты, куманёк, не дослушал наказа твоего отца, — примолвил государь. — А за женой много ли взял? — спросил царь.
— Не смею лгать: ничего, — отвечал секретарь.
— Откуда же привалила к тебе такая благодать? — сказал государь, смеясь и посматривая на нас. — Ни у адмиралов, ни у генералов моих нет столько всякого добра, как у тебя, куманёк, а кроме Данилыча никто не потчевает меня такою водкой. Сколько ты получаешь жалованья в год?
— Семьдесят три рубля двадцать две копейки с деньгой! — отвечал секретарь.
Мы все закусили губы.
— Так из каких же доходов ты накопил столько богатства?
— Трудовая копейка, ваше царское величество! Работаю день и ночь, чтоб поспешать окончанием дел; так дворяне, имеющие дела в Приказе, дарят меня за труды.
— А знаешь ли ты указ о лихоимстве?
— Православный государь, — сказал смело секретарь. — Я не продаю правосудия, не беру взяток с правого и виноватого и потому невинен в лихоимстве, а признаюсь чистосердечно, грешен во мздоимстве, получая плату от просителей сверх твоего царского жалованья.
— Итак, за искренность твою и за то, что не признаешь себя по совести виноватым в лихоимстве, я тебя не отрешу на этот раз от места, куманёк, а только дам отеческое наставление и напомню, что я плачу и награждаю чинами за то, чтоб все чиновники работали безвозмездно для моих подданных. Не можешь жить жалованьем, не служи, а пили дрова, коли чего лучшего не умеешь, но не криви душой противу присяги. Это до всех вас касается, господа! — сказал царь, оборотись к нам, и, взяв за ворот хозяина, примолвил: — Пойдём-ка со мною на улицу, чтобы не мешать празднику. — Вот теперь он даёт отеческое наставление своему куманьку!
Пока незнакомец рассказывал Огневику, государь перестал бить секретаря и, велев ему встать, сказал:
— Ступай-ка с Богом докушать своего пирога и допить штофик, да не забудь на радость, в день твоего ангела, прислать сто рублей в Морскую госпиталь. Когда деньги не будут доставлены к вечеру, я завтра опять заверну к тебе с отеческим наставлением. — Государь с улыбкой показал свою дубинку секретарю, который отряхивал и поворачивал плечами, охая и утирая пот с лица.
Государь пошёл к своему дому, а в толпе народа раздавался хохот и восклицания: «Спасибо царю-батюшке, что он бережёт нас от этих волков! Когда б то почаще эта дубинка плясала по спине приказных!» и т.п.
Огневик последовал за государем. На крыльце дома государева дожидались его с бумагами: граф Гаврило Иванович Головкин, барон Пётр Павлович Шафиров и Александр Кикин. Лишь только царь хотел войти в дом, Огневик громко сказал:
— Православный государь! Благоволи выслушать!
Кикин побледнел как полотно, узнав запорожца.
Пётр обернулся и, кажется, удивился, увидев казака в запорожской одежде.
— Кто ты таков? — спросил он.
— Бумага эта всё скажет вашему царскому величеству, — отвечал Огневик, представляя челобитную.
— Разве ты не знаешь, что я запретил мне подавать жалобы? — сказал государь гневно.
— Ты позволил, государь, жаловаться на несправедливость судей, и я жалуюсь на тебя — тебе, правосудному государю!
— Государь посмотрел пристально в лицо Огневику и, взяв от него бумагу, сказал:
— Хорошо, посмотрим, в чём ты меня обвиняешь!
По мере, как он читал бумагу, брови его хмурились и черты лица принимали грозный вид. Окончив чтение, царь отдал бумагу Головкину и, обратясь к Огневику, сказал;
— Ты клеплешь на меня! Палей сослан в Сибирь по суду и следствию, за ослушание моей воле, за неповиновение начальству и за самовольные набеги на именья моих польских союзников. Следствие произведено гетманом, а суд произнесён военною коллегиею. Ваши малороссийские ссоры и доносы друг на друга надоели мне. Я требую чинопочитания и послушания и не терплю никакого самоуправства. Палей хотя и был человек храбрый, но его дерзость и неповиновение достойны казни, а пример законной строгости должен быть над старшим, а не над младшим. Гетман писал ко мне и об тебе, голубчик! Знаю я, что ты за птица! Следовало бы мне и тебя сослать туда же, куда я припрятал Палея; но, снисходя к твоей молодости, я не хочу наказывать тебя, а помилую, в надежде, что ты на моём флоте заслужишь мою милость. Кикин! Отошли этого человека к господину вице-адмиралу Крюйсу, чтоб он написал его в матросы, в гребной флот!
— Государь! — воскликнул Огневик. — Мазепа тебя обманывает...
— Молчать! — сказал грозно государь, подняв палку. — Мазепа двадцать лет служит мне верно и нелицемерно, и сотни ваших доносов не могли уличить его ни в одной злой мысли противу меня! Какая будет награда за верную службу, если я по каждому злобному доносу стану обижать испытанных слуг моих подозрениями и следствиями? Знай, молодой сорванец, что надобно много заслуги и много доводов верности, чтоб заставить царя верить себе на слово!
Между тем Кикин приказал караульным взять Огневика и отправить в Адмиралтейство.
— Служи честно, дерись храбро, живи тихо, а я не забуду об тебе, — сказал царь Огневику. — Помни, что за Богом молитва, а за царём служба не пропадёт.
Огневик, видя, что дальнейшее его объяснение будет бесполезно, пошёл безмолвно к лодке. Он убедился, что доверенность царскую к Мазепе нелегко поколебать и столько же трудно склонить его в пользу Палея, ибо предубеждение противу одного основано было на доверенности к другому. Итак, Огневик решился ждать удобного случая к открытию истины, надеясь заслужить милость царскую своею службою, и внутренне благодарил Бога, что его не сослали в Сибирь или не заключили в темницу, ибо, будучи на свободе, он мог дать о себе известие Палею и Наталье.
ГЛАВА XIII
Зачем же судишь ты превратно?
За что ты губишь сироту?
Ф. Глинка.Всё сталось по желанию Мазепы. Опасный совместная его, Палей, исторгнут из среды любившего его народа и сослан в Сибирь. Белая Церковь сдалась изменою граждан сего города; сокровища Палеевы перешли в сундуки Мазепы, а храбрая дружина удалого наездника после упорной защиты истреблена и разогнана. Гетман Заднепровской Украины, Самусь, друг и товарищ Палея, лишённый подпоры и совета, отказался добровольно от своего звания, в которое он облечён был Иоанном Собесским, и подчинился Мазепе, довольствуясь чином полковника Богуславского полка. Кошевой атаман Запорожья, Горденко, вовлечён уже был в сети Мазепиной политики и повиновался воле гетмана Малороссии. Мазепа достиг того, чего гак давно жаждал: он владел наконец всей Малороссией и Украиной.
Прошло три года от пленения Палея, и народ уже начал охладевать в чувствах своей привязанности к нему. Таков народ везде и всегда! Он скоро забывает своих благотворителей и долго-долго помнит утеснителей и тиранов. Потомство платит долги предков.
Со времени истребления вольницы Палеевой Наталья томилась грустью, невзирая на советы и увещания Мазепы. Она знала участь, постигшую друга её, Огневика, и решилась остаться ему верною, если б судьба разлучила их даже на всю жизнь. Любовники переписывались между собою посредством жены священника, которая отправляла и получала письма чрез проезжих русских офицеров и гонцов, охотно исполнявших поручения, когда их просили именем несчастного. В последних письмах Огневик писал, что он уже обратил на себя внимание начальства, произведён в урядники, находится в Канцелярии вице-адмирала Крюйса и надеется, покровительством сего отличного мужа, получить скоро прощение и вступить в офицерском звании в полевые полки. В последнем письме Наталья умоляла его придумать средства к избавлению её от угрожающей беды, уведомляя, что гетман поговаривает о выдаче её замуж за какого-то поляка, которого она видела только один раз в Батурине и даже не знает его имени.
В сие самое время король шведский уже шёл чрез Польшу к русским пределам, и Малороссия с Украйною наводнены были злобными его манифестами, исполненными клеветы противу царя русского и приглашавшими его подданных к измене. Русский царь собирал силы, чтоб дать отпор непобедимому до того сопернику своему, и настоятельно требовал высылки к войску малороссийских полков. Сею мерою царь совершенно расстраивал предначертания Мазепы, который, собрав значительное количество продовольствия, хотел сосредоточить в Украйне лучшие свои полки, чтоб соединиться с Карлом. Желая убедить царя в своей верности, Мазепа посылал к нему то деньги, то коней на потребности войска, умоляя притом не лишить Украйны защиты и представляя опасность от крамольного духа старшин, будто бы неприязненных России. Он писал к царю и к его министрам, князю Меншикову, графу Головкину и барону Шафирову, что он не отвечает за верность украинского народа, если ему должно будет удалиться из своего местопребывания и если для удержания народа не будет достаточно числа войска. Для большего удостоверения в сих мнимых своих догадках Мазепа чрез наушников своих, подговорил нескольких сотников затеять возмущение в их сотнях, под предлогом неудовольствия, за высылку малороссийских войск из Украйны по приближении неприятеля. Уведомляя о сём царя, Мазепа был уверен, что Пётр убедится наконец его доводами и вверит ему защиту Украйны и наблюдения за внутренним её спокойствием. С нетерпением ожидал он ответа от царя.
Ночью прибыл гонец в Батурин и требовал, чтоб немедленно разбудили гетмана и впустили его к нему, потому что ему приказано было вручить бумаги лично и взять собственноручную расписку гетмана в получении. Мазепа велел тотчас призвать гонца, взял запечатанный пакет, поцеловал его, как святыню, и потом уже сорвал печать. Развернув бумагу и не видя на ней подписи царя, гетман обратился к гонцу с видом неудовольствия и сказал:
— Это не царский указ! Ты ввёл меня в заблуждение!
— Сиятельный князь! — возразил русский офицер. — Хотя этот указ не за подписью его царского величества, но дан из Военного Совета, действующего по воле царя, его именем.
Мазепа нахмурил брови и стал читать бумагу. По мере того, как он пробегал строки, лицо его изменялось и наконец покрылось смертною бледностью. Не говоря ни слова, он подошёл к столу, написал расписку и отдал её гонцу, сказал вполголоса: «С Богом!»
Лишь только гонец вышел из комнаты, Мазепа захлопал сильно в ладоши. Явился немой татарин.
— Орлика сюда! Скорей! — Татарин бросился опрометью за двери, но Мазепа снова захлопал в ладоши ещё сильнее, и татарин воротился. — Позови также иезуита и польского гостя! Да не торопись так: они подумают, что я испугался чего-нибудь. — Татарин вышел, и Мазепа сказал про себя: — Должно преодолеть себя и казаться спокойным. — Он подпёр руками голову и задумался.
В одно время вошли Орлик, патер Заленский (пребывавший в Батурине под именем врача) и поляк, называвшийся его племянником. Мазепа при входе их встал с кресел и, показывая полученные бумаги, сказал:
— Гроза разразилась!
В безмолвии ожидали объяснения призванные на совет клевреты гетмана.
— Теперь чувствую всю справедливость пословицы, — примолвил Мазепа. — Все вы ошиблись в расчёте, друзья мои, предполагая, что, представляя царю Украину, готовую возмутиться, когда выведут из неё малороссийские полки, я принужу его оставить меня здесь, с моим войском. Сталось иначе! Царь поручил рассмотрение сего дела новоучреждённому им Военному Совету, и вот повеление, которым предписывается мне выступить немедленно со всем войском моим для соединения с русскою армиею под Новгород-Северским, а князю Голицыну, Киевскому воеводе, приказано, оставив сильный гарнизон в Печерской крепости, расположиться с его русским ополчением внутри Украины. Болезнь моя уже не может служить предлогом к отсрочке, ибо приказано, в таком случае, вручить начальство над войском Наказному атаману! Итак, надобно теперь подумать, что станется с артиллериею и с съестными припасами, приготовленными мною для его величества короля шведского, когда мои города займёт Голицын? Каким образом я могу объявить войску о моих намерениях в российском стане?.. Беда свалилась как гром на голову!
Все молчали и смотрели в лицо гетману.
— Вы, пане Понятовский, — примолвил гетман, обращаясь к поляку, — вы, как брат ближнего человека и любимца его величества, должны поспешить теперь к королю и объяснить ему, в какое затруднительное положение ввела меня его медленность к вторжению в Украйну. Признаюсь, я даже не вижу средств, как избегнуть сетей, расставленных мне моими врагами! Бумага подписана жесточайшим гонителем моим, фельдмаршалом Шереметевым, а князь Меншиков, давно уже замышляющий водвариться вместо меня на гетманстве, сам едет в Чернигов, вероятно, для того, чтобы наблюдать за мною. Без сомнения, они уже успели поколебать доверенность царя ко мне! Теперь крайне опасно раздражать его замедлением в исполнении его воли... Вы, думаю, слыхали, каков он в гневе!
— Я согласен с вами, пане гетмане, что эта помеха не в пору и затруднит вас несколько; должен, однако же, признать, что не вижу в сём царском приказании неотвратимой опасности, и весьма далёк от того, чтоб думать, будто вы не в силах преодолеть всех затруднений, — возразил Понятовский. — Все эти препятствия и помешательства можно было вперёд предвидеть, — примолвил он, — и вы предвидели их, пане гетмане, и победили главные, успев укрепить свои города, собрать запасы и удержать при себе лучшее войско. Несколько лет сряду вы вели политическую войну с теми же людьми и за тот же предмет, и я твёрдо уверен, что ваш высокий ум и теперь восторжествует над затеями сих дикарей в европейской одежде...
— Мой ум, мой ум! — возразил Мазепа, покачав головой. — Русская пословица твердит: «Ум любит простор», — а мой ум ещё не на просторе, но в тенётах и только что теперь силится вырваться на свободу! Если вы предполагаете во мне ум, то должны знать при сем, что он мне столь же полезен ныне, как меч, зарытый в землю. Но не о том теперь дело! Вам кажется всё лёгким, потому что вы, господа поляки, не знаете русских! История перед вами: вникните в события и образумьтесь. Не сто раз вы имели политические сношения с русскими, а прошу вас указать мне на один случай, где бы удалось вам обмануть русских, хотя в желанье и не было у вас недостатка? Правда, вы имели часто перевес на вашей стороне, доставленный нам оружием, но успехом оружия располагает слепая фортуна, а ум торжествует и над самою фортуною, когда действует свободно, для собственных выгод. Вы почитаете русских дикими, варварами, потому что они отстали от вас в образованности. Но русский народ вообще одарён от природы необыкновенным умом, сметливостью и дальновидностью, которым уступают и образованность, и просвещение, и учёность. Таковы русские, и кто их не знает или не хочет знать, тот дорого заплатит за своё произвольное невежество. Что такое политика? Конная ярмарка! Каждый выводит на мену или на продажу своего коня. Умный и смышлёный простолюдин уедет с ярмарки на добром коне, а учёному и образованному, но легковерному и нетерпеливому, незнатоку-покупщику достанется кляча, на которой нельзя ни уйти, ни догнать! Так бывает и с политическими делами! Его величество король шведский также не знает русских, и я нетерпеливо желаю увидеться с ним, чтоб объясниться по этому предмету. Между тем уже ударил последний час моей стражи, и мне нельзя долее держаться в прежнем положении, Ещё испытаю последние силы: вышлю Наказного атамана с худшими казаками к войску русскому, а сам скажусь больным, недели на две, пока будет длиться переписка и пока его величество успеет приблизиться к нам на такое расстояние, чтоб я мог соединиться с ним в двое или трое суток. Орлик! Завтра же отправь лучших казаков из нового Белоцерковского и Богуславского полка в Гадячь и Ромны, для защиты замков, и вели собраться в Батурине всем сердюкам. Племянника моего, Войнаровского, завтра вышлю я с письмом к Меншикову... Вам, пане Понятовский, надобно поспешать к его величеству, как я уже сказал, и умолять, чтобы он не медлил, а вы, патер, поезжайте к Яблоновскому и Любомирскому и принудьте их тотчас вторгнуться в Киевское воеводство. Завтра распрощаемся, до радостного свидания в стане шведском. — После сих слов Мазепа пожелал им доброй ночи.
— Позвольте мне переговорить с вами наедине, несколько минут, — сказал Понятовский.
— Извольте! — отвечал Мазепа и дал знак Орлику и иезуиту, чтоб они удалились.
— Я хочу просить вас, чтоб вы позволили мне отправить секретаря моего к брату, а самому остаться здесь, — сказал Понятовский, потупя взор. — Любовь к Наталье, одобренная вами, лишает меня ума и всех способностей души на всякое дело... Я не могу помыслить о разлуке с нею, не получив её согласия на брак...
— Не сомневаюсь, что она будет согласна, — отвечал Мазепа. — Завтра я открою ей тайну, которая должна быть известна ей только в решительный день её жизни, в день брака, и уверен, что она не воспротивится тогда моей воле. Между тем завтрашний день вы можете остаться здесь и переговорить с нею. Я приготовлю её к этому свиданию!
Понятовский бросился целовать руку гетмана, который обнял его и, поцеловав в лицо, простился с ним.
На другое утро, лишь только Наталия успела одеться, Мазепа призвал её в свой кабинет. Он был важен и серьёзен и противу обыкновения не встретил её ласковым словом и улыбкою. Указав ей на кресла, противу себя, он дал знак, чтоб она села, и смотрел на неё пристально, не говоря ни слова. Сердце Наталии сильно билось.
— Я долготерпелив, Наталья! Три года скрывал я грусть в сердце, видя твою холодность со мною, принуждение в обхождении и все признаки ненависти. Безрассудная любовь к безродному бродяге...
Наталья прервала слова Мазепы:
— Прошу вас, ради Бога, ясневельможный гетман, не оскорбляйте памяти несчастного! Вы этим не перемените чувств моих...
— Прошу слушать, — возразил Мазепа с гневом. — Безрассудная любовь заглушила в душе твоей все чувства природы и обязанностей. Если б ты обязана была мне одним воспитанием, то и тогда надлежало бы тебе выбирать жениха не иначе, как с моего совета, или, лучше сказать, отдать руку тому, кого я тебе представлю в женихи; но ты обязана мне более, нежели воспитанием... Ты обязана мне жизнью!..
Мазепа остановился, и Наталья, думая, что гетман упрекает её в том, что призрел её сиротство, потупила глаза, покраснела и сказала:
— Я всегда благодарна вам за попечения ваши... За жизнь я обязана моим родителям и Богу, хранителю сирот... но... я должна сказать вам откровенно, — примолвила она, понизив голос, — что теперешняя жизнь моя не благо для меня, а бремя...
Мазепа, казалось, не расслушал последних слов её и продолжал:
— Ты говоришь о твоих родителях! Знаешь ли ты их?.. Это тайна, которую я скрывал от тебя и теперь только намерен открыть... Итак, знай, что ты... дочь моя!
— Я дочь ваша! — воскликнула Наталия, устремив на него быстрый взор и вскочив с места.
— Ты дочь моя, кровь от крови моей, плод любви моей! — Глаза Мазепы наполнились слезами, он распростёр объятия, и Наталия упала в них, рыдая.
— Успокойся, дочь моя! — сказал он, посадив возле себя Наталью. — И слушай! Сердечный союз мой с твоею матерью не мог быть благословен церковью. Я был тогда женат, а мать твоя слыла вдовою польского пана, погибшего в битве с татарами. Спустя три года после нашей связи, незадолго до смерти жены моей, явился муж твоей матери, из татарского плена. Мать твоя... умерла с горя... а... но я не беру на свою душу греха; не я причиной её смерти... Я имел твёрдое намерение жениться на ней... Судьба устроила иначе...
Наталья горько плакала, и Мазепа замолчал, чтоб дать время пройти первому впечатлению.
Когда сердце Натальи несколько облегчилось слезами, Мазепа продолжал:
— Гореваньем и плачем ты не исправишь и не переменишь прошлого. Что сталось, то сталось, и если в прошедшем могло бы быть лучше, зато настоящее с лихвою всё искупает...
— Счастье моё в ваших руках... — сказала робко Наталья.
— Оно в сердце отца твоего, который любит тебя более всего на свете и готовит тебе самую блистательную, самую завидную участь, — примолвил Мазепа, прижимая Наталью в своих объятиях. — Теперь рассуди, дитя моё, моя милая дочь! Мог ли я согласиться на брак твой с простым запорожцем, с казаком без роду и племени, с разбойником из шайки гнусного Палея? Через месяц, не далее, ты будешь объявлена пред целым светом дочерью удельного князя Северского... Ты должна всё знать. Я отлагаюсь от русского царя и приступаю к союзу Швеции и Польши противу России. Султан, хан, Швеция и Польша уже согласились признать меня независимым государем, и я, в преклонных моих летах, для тебя одной пустился на сей опасный подвиг, для того только, чтоб потомству твоему доставить престол!..
— Ах, батюшка! — сказала Наталья с тяжёлым вздохом. — Слава и почести могут иметь привлекательность для мужчины, но для женщины нужно только одно сердце. И в бедной хижине можно быть счастливым с милым, и на престоле льются слёзы!..
— Детские мечты, сказки, поэзия! — возразил Мазепа. — Когда ты будешь матерью, тогда будешь чувствовать иначе. То, что ты говоришь, есть отголосок эгоизма. Надобно уметь жертвовать собою для блага своего потомства...
— Но разве нельзя соединить собственного счастья с благом детей? — сказала Наталья. — Ты будешь государем, батюшка, и в твоей воле будет усыновить моего Богдана, как ты прежде говорил. Нет человека в мире, который более достоин был бы царского венца, как он...
Мазепа нахмурил брови.
— Любовь помрачает твой рассудок, дочь моя, — сказал он. — Чем прославился этот казак? К чему он способен? Кто захочет повиноваться безродному пришлецу, без имени? На чём могу я основываться, возвышая его над всеми моими сподвижниками, друзьями и помощниками? Красота телесная и искусство к уловлению невинного женского сердца не суть такие достоинства, которые дают право на управление народом. Я бы унизил себя, сокрушил бы собственную власть, если бы избрал в помощники и в преемники человека ничтожного, не имеющего никаких прав на уважение света...
— Вы не знаете Богдана, батюшка! Он способен ко всему...
— То есть он умеет нравиться женщинам, — возразил Мазепа. — Преодолей слабость свою, Наталия, и будь достойною дочерью основателя царства! Я представлю тебе в женихи Понятовского, брата друга шведского короля. Польский король Станислав обещал мне произвесть его в коронные канцлеры, немедленно по заключении мира. Вот какой нужен мне зять! Он будет печься в Польше о выгодах моего княжества, а брат его будет моим заступником у шведского престола, пока я успею утвердить новое государство на собственных его силах. Понятовский молод, красив, умён, образован, приятного нрава, в родстве и связях с первыми польскими фамилиями и силён покровительством непобедимого Карла. Он любит тебя пламенно. Его любовь к тебе есть дело самой судьбы. Он встретил тебя однажды в Варшаве, где-то на публичном гульбище. Он был тогда в обществе дам и не мог оставить их, чтоб следовать за тобою и узнать, кто ты такова. Но после он тщетно искал тебя всюду и, не встретив нигде, страдал, мучился, нося твой образ в сердце и памяти, пока случай не завёл его сюда по делам моим. Здесь он встретил тебя в саду и ожил душой... Узнав от меня, кто ты, он на коленях просил согласия на брак с тобою — и я обещал ему...
— Вы напрасно обещали за меня, батюшка! — сказала Наталия твёрдым голосом. — Я не вольна в своём слове... Я принадлежу сердцем Богдану!..
— Ты никогда не увидишь его! — сказал Мазепа грозно.
— В таком случае монашеская келья сокроет меня от всякой земной власти! — отвечала Наталья, встав со стула и посмотрев хладнокровно на Мазепу.
— Дочь моя! — сказал он нежно. — Ты теперь только нашла своего отца, и первое чувство, которое ты в нём возбуждаешь, есть горесть! Ужели ты хочешь, чтоб последнее слово отца к тебе было проклятие!
— Проклятие! — воскликнула Наталья. — Батюшка, и вы могли вымолвить это! — Слёзы брызнули из глаз её.
— Благословение не может пасть на упрямое дитя, которое, предавшись преступной страсти, навлекает бедствия на главу родителей... Быть может, участь моя зависит от этого брака!..
— А если б меня не было на свете, что б тогда было? — спросила Наталья твёрдым голосом, утёрши слёзы.
— Тогда бы... тогда бы Понятовский не узнал тебя, не полюбил, не получил твоего отказа и не мог бы сделаться врагом моим...
— Итак, меня не будет на свете! — сказала Наталья хладнокровно и обратилась к дверям.
— Дочь моя, Наталья, постой! — вскричал Мазепа.
Наталья остановилась.
Мазепа не знал, что Наталье известно местопребывание Огневика, и тем не менее он мог предполагать, что любовники переписываются.
— Что ты замышляешь, безрассудная! — сказал он жалостно, с нежным упрёком. — Знаешь ли ты, что сталось с Богданом? Где он? Ужели ты завещала верность хладному праху? Быть может, его уже нет в живых! Мне сказывали, что его сослали в Сибирь и что он пропал без вести... — Мазепа пристально смотрел на Наталью.
— Я верна живому и любящему меня, — отвечала Наталья. Она хотела что-то примолвить и внезапно замолчала.
Мазепа задумался на несколько минут. Подозрение возродилось в душе его, и он вдруг переменил обхождение своё с дочерью.
— Успокойся, дочь моя! Я не стану более принуждать тебя. Время просветит тебя и даст мне, может быть, силы перенесть это горе. Об одном умоляю тебя: береги себя! Не убивай отца своего грустью и отчаянием! Я решился всем пожертвовать для твоего спокойствия и счастия. — Наталья нежно обняла отца своего и заплакала, но не смела напоминать ему об Огневике. Мазепа возвратился к столу, взял пакет писем и, отдавая их Наталье, сказал:
— Вот всё, что мне осталось после твоей матери! Прочти их: ты увидишь, как она любила твоего отца!
Наталья вышла из комнаты, и Мазепа, сев на своё место, покачал печально головою и сказал про себя: «Железная, душа! Недалеко яблоко падает от яблони! Настоящая кровь моя! Нет, с ней нельзя ничего сделать силою! Испытаем другие средства».
Между тем Орлик чуть свет отправил из войсковой канцелярии гонцов во все полки с приказанием готовиться к немедленному выступлению в поход. Всё пришло в движение в Батурине. Казаки с радостью известились о предстоящих битвах и опасностях и собирались в круги, на площадях и возле шинков, толковать о будущем и воспоминать прошедшее. Насупротив гетманского дворца находилась обширная корчма, выкрашенная красною краскою, которую держал на откупе перекрёст из жидов, любимец гетмана, поставлявший по подряду все припасы на его кухню и исправлявший разные его поручения. Корчма разделена была на две половины. В одной были комнаты для приезжих и одна большая зала, где собирались офицеры играть в кости, толковать и пить виноградное вино и старые польские меды; малинник и вишняк, которыми производили торговлю монастыри католические. В другой половине, состоявшей из трёх обширных комнат, обставленных вокруг узкими столами и скамьями, толпились с утра до ночи сердюки и казаки, пить водку, мёд и пиво, есть сельди, курить табак и слушать или рассказывать новости. В праздничные дни молодые казаки плясали здесь с малороссийскими красавицами, при звуках гудков, сопелок и цимбалов. Вокруг корчмы теснились, во всякое время, нищие, калеки, странствующие певцы с бандурами. Перекрёст, отрёкшись от веры отцов своих, придерживался, однако ж, их обычая: он торговал всем, то есть покупал всё, что только мог купить за бесценок, продавал всё, что мог сбыть с большою выгодою, и, усыпив раз навсегда свою совесть, во всём искал одних барышей, обращаясь с людьми, как с товаром. Подобно всем бессовестным богачам и всем пролазам, покровительствуемым людьми сильными, перекрёст пользовался наружным уважением и был всеми внутренне ненавидим и презираем. Он имел от гетмана поручение собирать вести, доносить ему о духе войска и распространять слухи. Хитрый перекрёст хотя был всеми подозреваем в шпионстве, но он умел привлекать посетителей в свою корчму, сделавшись для всех необходимым. Он отпускал товары в долг казакам, пользующимся уважением и любовью товарищей, потчевал их и даже ссужал деньгами, вмешивался в их ссоры и в любовные дела и был предстателем пред начальниками за провинившихся. В беседах казацких он имел первый голос и слыл в народе всезнающим по связям его с гетманом и по частым отлучкам за границу. В этот день корчма была наполнена народом. Известие о походе, столь желанном и давно ожидаемом, привлекло в корчму множество народа, чтоб услышать новости, повидаться с приятелями и поговорить о делах. Казаки, сидя вокруг столов, пили, шумели, спорили и сообщали друг другу свои мысли и догадки. Перекрёст, с трубкою в зубах, расхаживал важно по комнатам, прислушивался к разговорам и отдавал приказания служанкам и шинкарям.
— Гей, любезный наш хозяин! — сказал седой урядник. — Вели-ка подать гарнец доброго мёду, чтоб распить его, на прощанье, с приятелем. Как воротимся из-под шведа, так заплатим тебе шведскою добычею.
— За то, что ты принесёшь из-под шведа, я не дам и полкварты простой горелки, — отвечал перекрёст, улыбнувшись насмешливо. — Смотри, береги только свою седую чуприну! Послушай-ка, что говорят о шведах московские солдаты!
— А что говорить москалям? Били их шведы, а потом они побили шведов, да ещё и город зачали строить на их земле, — возразил урядник.
— Правда, удалось москалям побить шведов там, где не было их короля, — примолвил перекрёст, — и где на одного шведа было по десяти русских...
— Брешешь, пане хозяин! — сказал с гневом урядник. — Я сам был при московском войске, когда мы побили шведов в Польше, под Калишем, с князем Меншиковым, в Чухонщине с Шереметевым и в самой шведской земле с Апраксиным. Мы были равны числом. А чтоб ты знал, как москали не боятся теперь шведа, так я расскажу тебе, что сделал Апраксин. Узнав, что шведов только восемь тысяч противу нас, он взял с собою столько же московского войска, хотя имел его втрое более, и пошёл навстречу шведу, напал, разбил в пух и воротился, не потеряв своих и десятой доли. Не веришь, так спроси у Грицка и Потапенки: они были тогда со мною. Да и пан есаул Кравченко скажет тебе, правду ли я говорю...
— Я не хочу спорить, что москалям удалось побить шведов раза два, три, да всё-таки стою на своём, что тогда не было с ними их короля, — возразил перекрёст.
— Ну, а что диво их король! — сказал урядник. — Побил он русских под Нарвой, да тогда и с русскими не было их царя, а начальствовал ими изменник, который продал московское войско, да и улизнул к шведам, со своими немцами! Эдак немудрено воевать! Уж московский-то царь — не шведу чета! Орел орлом! Как взглянет на человека, так дрожь пронимает, а что схватит в руки, всё трещит, будь сталь, будь камень... Сущий богатырь! Конь под ним так и вьётся, а как гаркнет перед войском, так, кажется, и мёртвый бы встрепенулся. Пусть бы король шведский встретился с самим царём, так ему небо с овчинку покажется! Как вспомню про старину, так царь московский, ни дать ни взять, наш Палей!..
— Сгинь ты, пропади со своим Палеем! — сказал перекрёст, плюнув и топнув ногою. — Вот нашёл кого сравнивать с царём!
— Я не сравниваю, — возразил урядник, — а так, пришло к слову! Состарился я на войне, а отроду не видывал таких молодцов на коне перед войском, как царь да наш Палей, с которым мы били и татар, и турок, и ляхов...
— Стыдно и грешно тебе, старик, вспоминать о Палее, — сказал перекрёст, — разве ты не знаешь, что он наказан за измену?
— А мне почему знать! — отвечал урядник. — Так было сказано, а правда ли, одному Богу известно.
— Не одному Богу, а целому свету известно, — примолвил перекрёст, — что Палей поступил против присяги, грабив польских панов против воли и вопреки приказаниям нашего милостивого пана гетмана...
Старый урядник громко захохотал.
— Ха, ха, ха! Так это, по-твоему, измена! — сказал он. — А который гетман, считая от Хмельницкого до нашего милостивого Ивана Степановича, не нагревал рук в Польше? Гё, ге, хозяин! Ты, видно, не считал подвод гетманского обоза, когда мы воротились из последнего похода в Польшу! Ведь для нашего брата, казака, Польша то же, что озеро; как захочется рыбки, так и закидывай уду!
В толпе раздался хохот и шум. Все казаки пристали к мнению урядника. Один дюжий казак перекричал всех и сказал громко:
— Как ляхи пановали на Украйне, так сосали из нас кровь, а теперь наша очередь! Коли бы гетман наш...
— Молчи ты, бестолковый! — примолвил другой казак, толкнув его под бок. — Ни слова про гетмана, коли не хочешь, чтоб завтра же услали тебя копать землю в Печерской крепости или строить корабли в Воронеже...
— Постойте вы, гоголи, придёт время, что вы будете со слезами поминать польское панованье! — возразил перекрёст. — Будет с вами то же, что с московскими стрельцами! Недаром в целом московском царстве говорят, что царь хочет переселить всех казаков по московским городам, а особенно в свой новый город, на шведской земле, при море, где шесть месяцев сряду такой мороз — что камни лопаются, три месяца холодный ветер — что дух занимает, а три месяца такое лето — что хуже нашей зимы. Вот там запоёте другую песню! Дай только царю московскому управиться со шведом, так он примется за вас!..
— Типун бы тебе на язык! — сказал старый урядник, — Я столько лет выходил по походам, вместе с москалями, а никогда ни словечка не слыхал об этом! Всё это сущая ложь и обман, а выдумывают и разглашают это сами же ляхи, — трясца их матери! Трудно лисице забыть о курятнике!
— Ха, ха, ха! Ляхам опять захотелось засунуть лапу на Украйну! — сказал дюжий казак. — Хорошее житье пчёлам, коли медведь пасечником!
— Хорошо жить пчёлам, когда они сами едят свой мёд, — возразил перекрёст, — а ещё лучше было бы украинцам, когда б ни лях, ни москаль не вмешивался в казацкие дела, как было при Хмельницком!
— Вот что правда, то правда! — сказал старый урядник. — Того-то и хотел старик Палей!
— Опять ты со своим Палеем! — подхватил с досадой перекрёст. — У нашего пана гетмана больше ума в мизинце, чем в целом запорожце!..
— Ум-то есть... да... что тут говорить! — сказал урядник. — Подавай-ка мёду!.. Пейте, братцы! Во славу и в память гетманщины и казатчины, каковы они были при отцах и дедах наших!..
— За здоровье нашего пана гетмана! — воскликнул один из сердюков, сидевших особо. — Такого гетмана не было и не будет; а кто не пьёт за его здоровье, тот подавись первым куском и захлебнись первым глотком! Ура!
Сердюки прокричали ура. Некоторые казаки пристали к ним, а старики, поднеся чарки и кружки к устам, прихлебнули и в молчании поглядывали друг на друга.
— Уж коли быть Украине такой, как она была прежде, при дедах наших, так не чрез кого другого, как чрез нашего пана гетмана, — сказал сердюк. — По правде сказать, так и нынешнее житье не лучше ляшской неволи. Служи казак на своём коне и в своей одежде, таскайся Бог знает куда, бейся, терпи нужду, да и воротись домой ни с чем, коли не пришлось костей сложить на чужой стороне. То ли дело, бывало, при старой гетманщине, когда казак шёл на войну, как на охоту, пригонял домой целые стада и табуны да приносил чересы с червонцами и серебро, расплавленное в ружейном дуле! Ведь кто и теперь богат, так от старины, а не от нынешнего житья!
— Правда, сущая правда! — повторили в толпе.
— По-моему, — продолжал сердюк, — так всю бы Польшу, по самую Варшаву, выжечь начисто, сделать из неё степь, ляхов перерезать, баб и ляшенят продать татарам, всё добро, разумеется, забрать на Украйну, а московскому царю поклониться и сказать: мы не пустим к тебе ни турок, ни татар, а ты избавь нас от кацапов.
Хохот и восклицания в толпе заглушили слова сердюка.
— Славно, дядя!
— Правда, правда! — кричали казаки, согретые вином.
— Этой правдой, сердюк, ты или сам попадёшь, или других втянешь в петлю, — сказал старый урядник. — Братцы! — примолвил он своим товарищам. — Пойдём прочь отсюда! Не бывать добру, коли сердюки вмешались в казацкое дело. А я знаю хорошо Кондаченку!
— А как ты меня знаешь? — воскликнул Кондаченко, вскочив со своего места и подбоченясь.
— Знаю, что у тебя язык как жёрнов: что подсыплют на него, то он и мелет, — возразил урядник, смотря смело в глаза Кондаченке. — Видно, хозяйский медок сладок, — примолвил ом насмешливо, — что твои речи так сходны с хозяйскими!
— Знаем и мы тебя, старая лисица! — отвечал Кондаченко, озлившись. — Туда дорога Черниговскому полку, куда и палеевцам! Каков поп, таков и приход!
— Как ты смеешь стращать и поносить Черниговский полк! — вскричал старый урядник, вскочив также из-за стола и схватив за ворот Кондаченку. — Наш пак полковник Полуботок, первый полковник в целом войске, и черниговцы более всех отслужили царю... Ваше сердюцкое дело воевать с бабами, за печью, да красть кур, а ты смеешь ещё брехать на черниговцев!..
Кондаченко, желая вырваться из рук урядника, толкнул его в грудь. На помощь уряднику бросились его товарищи, а к Кондаченке прискочили сердюки. Завязалась драка.
— Бей палачей-сердюков! — кричали казаки.
— Бей бунтовщиков, — вопили сердюки.
В корчму сбежались с площади сердюки и казаки. Сперва дрались кулаками, но вскоре засверкало оружие, и помост обагрился кровью.
Перекрёст побежал в гетманский дворец, чтоб уведомить о происшедшем и призвать стражу, а некоторые казаки бросились к полковнику Полуботку. Стража поспешила на место драки, разогнала народ и упорнейших отвела в войсковую тюрьму.
Полковник Полуботок давно уже заметил, что в войске распространяется дух буйства, внушаемый какою-то невидимою силой, но, зная нерасположение к себе Мазепы и всех его окружающих, довольствовался наблюдением порядка в своём полку, а не смел объявить гетману о своих опасениях. По мере приближения войска шведского к российским пределам возрастала дерзость поляков, находившихся в услужении у гетмана, и своеволие в речах, дотоле неслыханное, особенно заметно было между сердюками. Гетман, сказываясь почти всегда больным и редко показываясь в народе, не предпринимал никаких мер к пресечению сего зла, а приближённые к гетману старшины, казалось, не замечали происходившего. Верные долгу и присяге полковники и генеральные старшины хотя догадывались о кроющемся в войске злоумышлении и даже подозревали самого гетмана, но, опасаясь его мщения и зная неограниченную доверенность к нему царя, молчали и ждали последствий. Наконец, после драки, случившейся в корчме, и взятии под стражу казаков Черниговского полка, прибывших в Батурин с Полуботком, он, расспросив их о подробностях дела, решился воспользоваться сим случаем для объяснения с гетманом и после вечерни пошёл во дворец.
Полуботок не слишком надеялся, что гетман допустит его к себе, но вознамерился требовать личного объяснения для того более, чтоб сложить с себя всякую ответственность, если бы дошло до розыска. Он приготовил письменное донесение, чтоб вручить генеральному писарю, когда ему не позволено будет видеться с гетманом.
Сверх чаяния, Мазепа допустил к себе Полуботка и, сверх всякого ожидания, принял его отменно ласково. Гетман сидел в своих больших креслах, укутанный одеялами, и подушками. Только немой татарин находился при нём.
— Здравствуй, Павел Леонтьевич! — сказал Мазепа, протянув руку Полуботку. Полуботок не смел пожать руки гетмана, но поцеловал его в плечо и низко поклонился.
— Умираю, брат, умираю! — примолвил Мазепа жалобным голосом. — Много недовольных мною в войске между панами полковниками и старшинами, но совесть говорит мне, что по смерти моей они отдадут мне справедливость, и это одно убеждение облегчает мои страдания!
Полуботок молчал.
— Ты, некогда, любил меня, Павел Леонтьевич! — сказал Мазепа. — А с отцом твоим мы были старые приятели и искренние друзья. Злые люди разлучили нас, однако же ты, надеюсь, не помянешь меня лихом и не скажешь, чтоб я не исполнял слов вседневной молитвы: «И отпусти нам долги наши, яко и мы отпускаем должникам нашим»?
— Вы сущую правду изволите говорить, ясневельможный гетман! Злые люди оклеветали меня перед вами и лишили вашей милости и доверенности. Но я никогда не поминал и не помяну вас лихом, ибо хотя и безвинно был оклеветан, будто участвовал с Забеллою в составлении доноса противу вас, но, по вашей милости, освобождён от всякого преследования и даже получил обратно чин, место и отнятое на скарб именье...
— Так ты не забыл этого! — сказал Мазепа с коварною усмешкой. — Бог видит душу твою, Павел Леонтьевич! — примолвил он. — Но в то время меня убедили в твоём соучастии с Забеллою, и я простил тебя не потому, что почитал тебя безвинным, но по той причине, что всегда любил и люблю тебя, зная твой высокий ум, опытность в делах и любовь к родине, и уверен, что после меня ты один в состоянии поддержать права наши... А мне недолго уже быть на страже у сей святыни!.. — Мазепа опустил голову на грудь и, взглянув исподлобья на Полуботка, погрузился в думу.
— Я должен полагать себя счастливым, если вы, ясневельможный гетман, признаёте моё усердие к службе его царского величества и обратили внимание на малые мои способности. Сие-то самое усердие к службе и радение о спокойствии вашем привели меня теперь к вам, ясневельможный гетман. Не обвиняя никого из тех, кому вы поручаете исполнение своих предначертаний о благоденствии нашего отечества, я должен, по совести, сказать вам, что с некоторого времени, именно с тех пор, как вы начали так часто хворать, наблюдение за порядком значительно ослабело. Жиды и польские выходцы явно распространяют в войсковых землях универсалы короля шведского; по всем перекрёсткам поют песни, возбуждающие в казаках ненависть к нынешнему порядку вещей; в корчмах и на площадях толкуют Бог весть что... и никто не помышляет о прекращении сего зла, которое, при теперешних обстоятельствах, может иметь весьма пагубные последствия!
— Я в первый раз слышу об этом, — сказал простодушно гетман, — а что написано в этих универсалах, что говорится в песнях, что толкует народ?
Полуботок наморщил чело, взглянул с недоверчивостью на Мазепу и, не спуская с него глаз, отвечал:
— В универсалах возбуждают народ украинский к бунту противу царя русского, в песнях приглашают нас вооружиться за прежнюю независимость и отложиться от России, а народ толкует о старине, вспоминает прошлое своеволие и, сравнивая с нынешним положением нашего края, ропщет на настоящее...
Полуботок замолчал, заметив, что гетман что-то хочет сказать. Но Мазепа, устремив проницательный взор на Полуботка, не говорил ни слова и, отворив уста, казалось, не хотел спустить слов с языка.
Двое умнейших и вместе хитрейших людей в Малороссии, знаменитой издревле искусством и ловкостью своих сынов в скрывании настоящих замыслов под личиною простодушия, Мазепа и Полуботок, с взаимною недоверчивостью в сердце, сошедшись наедине, после долгого несогласия, единоборствовали теперь оружием своего ума. Мазепа хотел уловить Полуботка в свои сети, а Полуботок, догадавшись с первого слова, что Мазепа не чужд распространяемых в народе козней, желал удостовериться в этом, чтоб погубить его в собственных его тенётах. Мазепа, заметив, что нерешительность его в ответе не ушла от внимания Полуботка, вдруг хватился за ноги свои, обернулся в одеяла и застонал:
— Прости, Павел Леонтьевич, что я слушал тебя рассеянно. Сколько я ни крепился, но не могу выдержать жестокой боли!
Полуботок хотел удалиться, но Мазепа удержал его и просил присесть. Молчание продолжалось несколько минут, наконец Мазепа сказал:
— Кто подбрасывает универсалы шведского короля, разыскать трудно! Его царское величество воюет с одною половиною Польши, а с другою находится в союзе. Проезд чрез Украину и даже убежище в ней невозбранны приверженцам короля Августа, и нам невозможно читать в сердцах и обыскивать всех пришлецов. Под именем друзей Августа, быть может, сюда заходят враги его. Но что касается до возмутительных песен, то нет сомнения, что они составлены у нас и нашими земляками, ибо вряд ли поляк в состоянии постигнуть все таинства нашего языка и передать чувства нашего народа. По песням можно бы было добраться до источника сего замысла, если бы всё войско было вместе. Но теперь это невозможно! Не помнишь ли ты хоть одной из этих песен или хотя несколько стихов?
Полуботок, не говоря ни слова, вынул из-за пазухи бумагу и, подавая Мазепе, примолвил:
— Вот знаменитая песня, которую поют все слепцы, все бродящие по Украине музыканты и даже многие казаки!..
Мазепа взял бумагу и, взглянув на неё, улыбнулся и сказал:
— Эта песня давно мне известна! Её представили царю Искра и Кочубей при своём доносе и уверяли, что я сочинил её для посеяния в народе возмутительных правил!..
Полуботок не знал подробностей доноса Искры и Кочубея, а потому и не мог догадываться, что песня сия была уже представлена царю и приписываема Мазепе. Выпытывая слепцов и музыкантов, чрез своих приближённых, Полуботок нашёл след и узнал, что песня сия вышла из батуринской красной корчмы, от перекрёста, покровительствуемого Мазепою, а потому слова гетмана поразили Полуботка и почти объяснили то, о чём он прежде догадывался.
— А что, Павел Леонтьевич, песенка, право, хорошо сложена? — сказал Мазепа будто в шутку. — Как тебе нравятся, например, вот эти стихи: «Жалься Боже Украины, что не вкупе мает сыны. Еден живёт и с поганы, кличет сюда атаманы, идём матки ратовати, не даймо ей погибати! Другий ляхам за грош служит, по Украйне и той тужит. Третий Москве юже голдует, и ей верне услугует...»
Мазепа перестал читать и смотрел с простодушною улыбкою в глаза Полуботку, как будто ожидая ответа. Полуботок молчал и покручивал усы.
— Ну что ты скажешь об этих стихах, Павел Леонтьевич?
— Песня сложена складно, но здесь кстати вспомнить московскую пословицу: «Не всё то правда, что в песне говорится». Грешно и стыдно тем, которые живут с поганы и служат за гроши ляхам. Но долг, присяга и благо нашей родины повелевают нам служить Москве и служить ей верно, потому что Украина не может быть независимым царством, и если б, в наказание за грехи наши, Господь Бог отторгнул нас от единоверческой России, то мы впали бы или в турецкую, или в польскую неволю.
Мазепа покачал головою и сказал:
— Что ты это толкуешь, умная голова! Украйна не может быть независимою! А Молдавия, а Волошина разве лучше Украйны!
— Не дай Бог такой независимости, как независимость этих несчастных стран, сжатых между сильными и хищными соседями и обязанных беспрерывно то биться с ними, то служить им, то откупаться от беды! Мы народ русской крови и русской веры и наше счастие в соединении с Россией...
— Так зачем же ты так часто жалуешься и скорбишь на нарушение прав и привилегий, Павел Леонтьевич? Ведь в этом виновен не я, ваш гетман, верный сын Украйны... Понимаешь ли меня, Павел Леонтьевич, в этом виновен не я, Иван Мазепа, готовый пролить последнюю каплю крови за права и привилегии наши!
— Права и привилегии наши надобно беречь как зеницу ока, — сказал Полуботок с жаром. — За это я охотно положу свою голову!
— Ну, а в песне только этого от нас и требуют! — подхватил Мазепа с радостью.
— Ведь это то самое, только в стихах, что ты сказал мне пред этим, Павел Леонтьевич, и другой, слушая тебя, подумал бы, что ты сам сложил песню, — примолвил Мазепа, захохотав притворным смехом.
Полуботок, хотя чувствовал настоящий смысл гетманских слов, но притворился также, что принимает их в шутку.
— Правда, ясневельможный гетман, что права паши надобно защищать, не жалея жизни, и, не опасаясь преследования и опалы, говорить правду. Но я не понимаю, о каких врагах говорится в песне, с кем советуют сражаться и кого бить?
— А, ты не понимаешь этого в песне? — возразил Мазепа, посмотрев с лукавою усмешкой на Полуботка. — Мне кажется, что врагами называют тех, которые нарушают права наши...
— Теперь понимаю! — сказал Полуботок, погладив усы и опустив голову.
— Дай Бог, что Господь вразумил тебя, Павел Леонтьевич! — примолвил Мазепа, приняв важный вид. — На таких людях, как ты и как я, лежит тяжкая ответственность пред Богом за благо народа, над которым мы поставлены. Скажи мне, Павел Леонтьевич, хочешь ли ты искренно помириться со мной?
— Вы не можете сомневаться в этом, ясневельможный гетман!
— Дай же мне руку! — примолвил Мазепа, взяв за руку Полуботка и пожав её крепко. — Ты невзлюбил меня, воображая, что я по собственной воле нарушаю права наши. Я докажу тебе противное, только чур не выдавать! Помни слова песни: «Озметеся все за руки!» Только будь послушен, а не далее как чрез месяц ты будешь генералом, графом, если угодно тебе, и сам выберешь для себя маетности, какие захочешь!..
— У его царского величества есть люди, оказавшие ему более услуг, нежели я, и имеющие более прав на столь высокие милости! — отвечал Полуботок, кланяясь.
— Не в этом дело, братец! — возразил Мазепа, нахмурив брови. — Всё, чего только ты можешь желать, в твоей собственной воле. Только будь послушен мне и служи верно Украйне.
— Я никогда не был ослушником ваших приказаний и никогда не изменял пользам моего отечества...
— Это мы увидим! — сказал Мазепа и снова стал гладить свои ноги, будто чувствуя боль, а в самом деле для того только, чтоб пресечь разговор, которого продолжение он почитал излишним.
— Он хочет поговорить с вами, ясневельможный гетман, насчёт бывшей драки в красной корчме и о задержании казаков моего полка...
— Вели всех выпустить из тюрьмы. Это дело пустое, и теперь не та пора, чтоб заниматься разбирательством ссор между пьяными казаками...
— Но я думаю, что для прекращения подобных беспорядков не худо было бы выслать не только из Батурина, но даже из Украйны людей подозрительных, о которых идёт молва, будто они польские шпионы... — сказал Полуботок, не спуская глаз с гетмана.
— А кого же ты подозреваешь, Павел Леонтьевич? — спросил Мазепа.
— Более всех Марью Ломтиковскую, которая то сама отлучается в Польшу, то переписывается чрез нарочных.
— Мы сошлись в мыслях! Я тоже сильно подозреваю её и уже отдал приказание выслать её отсюда, — сказал Мазепа. — Прошу тебя, говори мне всегда откровенно, что ты думаешь: я всегда готов следовать твоим советам...
В это время вошёл слуга и доложил, что генеральный писарь просит позволения войти. Мазепа взял за руку Полуботка и, пожимая её, сказал:
— Озметеся все за руки! От сего часа я твой верный друг, Павел Леонтьевич, и докажу тебе это на деле, ибо убеждён, что никого нет в Украйне достойнее тебя занять моё место.
— Много милости! — прошептал Полуботок и, поклонившись низко, вышел за двери, убедившись совершенно, что Мазепа замышляет измену. Полуботок не прельстился пышными обещаниями Мазепы и притворною его дружбою и не увлёкся его ласкательствами. Не имея никаких ясных доказательств к уличению Мазепы в его замыслах, Полуботок не смел обнаруживать явно своих подозрений, а тем более доносить. Он решился немедленно отправиться в свой полк и ждать происшествий. Мазепа также не был уверен, чтоб он мог преклонить хитрого Полуботка на свою сторону сладкими речами и обещаниями, но ему хотелось испытать его и на всякий случай бросить в душу его искры честолюбия, раздражая в то же время главную страсть его, привязанность к правам отечества. Только Орлику и Войнаровскому открыл вполне свои замыслы. С другими старшинами войска он поступал так, как с Полуботком, действуя с каждым сходно его образу мыслей, способностей, надежд и желаний и представляя каждому свои замыслы под полупрозрачным покровом.
Орлик, отдав отчёт в своих распоряжениях касательно приготовлений к походу, сказал:
— Мне кажется, что теперь надлежало бы приласкать несколько полковников, прежде нежели вы заблагорассудите открыть им дело. Особенно надобно приласкать тех, которые преданы вам. Некоторые из них уже представляли, неоднократно, свои просьбы. Вот, например, преданный вам Чечел, уже около года как просил о пожаловании ему войсковой деревни, прилежащей к ранговой его маетности.
— Умный ты человек, Филипп, и я люблю тебя, как родного сына, а должен сказать тебе, что в некоторых делах, а именно в управлении машиной, составленною из голов и сердец человеческих, ты часто делаешь промахи. Знаешь ли ты, в чём состоит счастье человека? В надежде, любезный друг! Каждый человек скоро привыкает к тому, что имеет, и всегда стремится душою к тому, что представляет ему надежда. Правитель должен искусно пользоваться этою общею слабостью рода человеческого и, представляя каждому из слуг своих целый океан благ в будущем, изливать на всех, только по капельке, благодетельную росу, чтоб гортань не засохла вовсе от жажды. От того, кто желает и надеется, можно всего требовать и ожидать, а тот, кто получил желаемое, хочет отдыхать, как путник после трудного пути или работник после тяжкого труда. Благодарность — прекрасное чувство, но оно пламенно на словах, а весьма неповоротливо в деле. Одним словом, необходимое в настоящем и надежда в будущем, вот две пружины, которыми правитель может двигать сердца в свою пользу. Помни это, любезный мой Филипп, и удостоверься теперь, какую доверенность имею я к тебе и какую участь тебе готовлю, открывая правила, стоившие мне долгих размышлений и опытов. Итак, льсти старшинам и полковникам и обещай им всё, чего они желают и надеются, давая притом чувствовать, что одна помеха к исполнению есть воля царя.
Орлик не отвечал ни слова и, казалось, рассуждал о слышанном.
— Здесь ли Мария? — спросил гетман, по некотором молчании.
— Насчёт этой женщины я хотел бы также представить вам некоторые замечания, — возразил Орлик. — Вы хотели отправить её в Петербург, вероятно, с важным поручением. Можно ли надеяться на женщину?.. — Орлику, находившемуся в любовных связях с Марией Ивановной Ломтикотзской, не хотелось с ней расстаться, а потому он вознамерился отклонить предназначенное ей путешествие возбуждением подозрения в гетмане.
— Будь спокоен! — сказал гетман. — Поручение её не касается нашего общественного дела... Позови её, а сам останься в канцелярии и изготовь подорожный лист для неё и подарки для моих приятелей в Петербурге.
Орлик вышел, и через несколько минут явилась Мария. Мазепа приветливо улыбнулся и, покачав головою, сказал:
— Чудная ты женщина, Мария! Вместо того, чтоб стареть, ты всё становишься прекраснее. Я, право, боюсь, чтоб в Петербурге ты не вскружила всех голов...
— Тем лучше будет для вас, — отвечала Мария шутливо. — Я заставлю их преклониться пред вами.
— Спасибо и за доброе желание, — сказал Мазепа, — а что я не сомневаюсь в твоей дружбе, — примолвил он, взяв её за руку, — это я докажу тебе теперь. Дело, которое я поручаю тебе ныне, составляет величайшую для меня важность. Орлик уже сказал тебе, что Наталия — дочь моя. Неопытность и злые советы вовлекли её в постыдную страсть к этому бродяге, которого я лелеял в моём доме, к палеевскому казаку Огневику. Он теперь находится в Кронштадте, на Галерном флоте... Мария... друг мой... избавь меня навеки от этого человека!
Холодный трепет пробежал по всем жилам Марии. Мазепа заметил её смущение.
— Ты побледнела, Мария! Что это значит?
— Я не знаю, чего вы от меня требуете... Не понимаю вас! — отвечала она с Притворным хладнокровием. — Начало вашей речи смутило меня...
— С твоею твёрдою душою стыдно смущаться! Неужели ты не в силах раздавить червя, убить змею? А враг наш хуже, чем змей, и ничтожнее, чем червь!..
— Итак, вы поручаете мне убить Огневика? — сказала Мария, едва преодолевая внутреннее движение.
— А разве ты не в состоянии выполнить это поручение, для счастия, для спокойствия твоего друга, твоего любовника? Мария! Вот лист белой бумаги, подписанный мною. Пиши сама, чего требуешь за свой великодушный подвиг. Я на всё согласен.
Мария подошла к столу, взяла бумагу и изодрала её в куски, сказав:
— Вы обижаете меня! На что я решаюсь из дружбы, того не сделаю за миллионы!
Мазепа бросился ей на шею и прижал её к сердцу, восклицая:
— Друг мой, моя добрая, моя милая Мария! Никогда не забуду тебя, никогда не оставлю тебя! Отныне я твой — как был в первый день нашей любви.
Сняв с руки своей драгоценный перстень, Мазепа надел его на палец Марии, примолвив: — Да послужит он символом сочетания душ наших!
Мария, притворяясь тронутою внезапным порывом прежней любви гетмана, рада была, что могла прикрыть мнимою чувствительностью смятение, произведённое в ней сею ужасною доверенностью и гнусным поручением. Мазепа отпер шкаф, вынул небольшую серебряную коробочку и, подавая её Марии, сказал:
— Здесь сокрыта — смерть!
Протянув руку, Мазепа замолчал и смотрел в глаза Марии.
— Учить учёного, только портить, — примолвил Мазепа, — тебе легко будет сойтись с моим злодеем и попотчевать его от меня — этим лакомством. Действуй по уму своему и по обстоятельствам.
Мария, не говоря ни слова, взяла коробочку с ядом.
— Теперь прощай и ступай с Богом! — сказал Мазепа, обняв Марию и поцеловав её. — Помни, что отныне — я снова повергаюсь к ногам твоим!.. Орлик выдаст тебе деньги и бумаги!
Мария вышла, но она была в таком положении, что должна была отдохнуть и успокоиться с полчаса, в саду, прежде нежели осмелилась показаться в люди. Орлик удивился, увидев её. Она была бледна и расстроена. Тщетно он расспрашивал её: она не открыла Орлику тайны своего поручения и в ту же ночь отправилась в путь.
ГЛАВА XIV
О юность, ты никак лукавству непричастна!
Там состраданье зришь, где опытность несчастна,
Пронырство признает в сердечной глубине.
Озеров.За сухопутными укреплениями Кронштадта, со стороны так называемой косы, стоял на берегу молодой русский матрос и смотрел в задумчивости на волны, разбивающиеся с шумом об камни. Солнце уже закатилось. Вдали раздавались клики работников, кончивших тяжкие дневные труды в гаванях.
Матрос воспоминал о плодоносных полях своей родины, о милых сердцу и тяжко вздохнул, взглянув на угрюмые берега Финского залива. Слёзы навернулись у него при мысли о своём одиночестве. Плески чуждых волн и порыв северного злобного ветра, казалось, расколыхали душу его; грустные ощущения сменялись одни другими.
Вдруг кто-то ударил его по плечу. Он оглянулся и отступил в изумлении.
Здравствуй, Богдан! Неужели ты так одичал здесь, что боишься друга твоего, Марии!
— Не боюсь, но не могу опомниться от удивления! Каким образом ты очутилась здесь? — спросил Огневик, смотря с недоверчивостью на Марию Ивановну Ломтиковскую, которая с улыбкою на устах протянула к нему руку.
— Что нового на Украйне?.. — спросил боязливо Огневик и остановился, не смея продолжать расспросов, ибо мысль его и чувства прикованы были к одной только душе в целой Украйне и он боялся напоминать об этом Марии.
— Скоро, очень скоро из Украйны будут расходиться вести на целый мир, а теперь всё идёт там по-старому. Наталья жива и велела тебе кланяться...
— Ты видела Наталью, ты говорила с ней обо мне, Мария! Правда ли это?
— Бог свидетель! — возразила Мария, подняв руку и сложив три пальца.
Огневик, как исступлённый, бросился к Марии и прижал её к сердцу. Она повисла у него на шее.
Он скоро пришёл в себя и потихоньку оттолкнул от себя Марию, которая, обхватив его, не хотела выпустить из своих объятий.
— Это не мои поцелуи, Богдан! — сказала она с тяжким вздохом, отступая от него. — Они принадлежат счастливице, Наталье. Но я уж сказала тебе, что я не завистлива... Пойдём со мной!.. Здесь не место объясняться, а мне нужно о многом переговорить с тобою. Я не без дела прибыла сюда из Украины! — Сказав сие, она взяла Огневика за руку и повела его в город. Он не сопротивлялся и шёл в безмолвии, погруженный в мысли, даже не замечая, что рука Марии дрожала в его руке.
Прибыв в Кронштадт накануне, Мария остановилась у русского купца, недавно переселившегося в сей порт из Вологды. Она наняла вышку в новопостроенном деревянном домике. В сенях встретил их казак из сотни мужа Марии, взятый ею для прислуги. Огневик, увидев наряд своей родины, чуть не прослезился. Сердце в нём сильно забилось. Тысячи мыслей вспыхнули в голове его, тысячи ощущений взволновали душу. Со времени службы своей на флоте он никогда не ощущал сильнейшего отвращения к новому своему состоянию. Душа его в один миг перелетела на крыльях воображения в поля Украйны, в толпы вольных сынов её... Вне Украйны целый мир казался ему тюрьмою, каждый наряд, кроме казачьего, — цепями.
В первой комнате накрыт был стол на два прибора. Холодное жаркое, ветчина и пирожное стояли на столе. На краю стоял поднос с бутылкою, оплетённою в тростник, и с двумя серебряными кубками.
— Видишь ли, что я ждала дорогого гостя, — сказала Мария весело. — Долго-долго стояла я у дверей твоей канцелярии и наконец, когда ты вышел, мне вдруг пришла в голову мысль узнать, где и как ты проводишь время после трудов. Я пошла за тобой. Бедный Богдан! Ты беседуешь с морем, глухим к страданиям сердца; проводишь время между камнями, столь же бесчувственными и холодными, как здешние люди! Я встретила тебя улыбкою, но если б ты мог заглянуть в мою душу, ты бы увидел в ней грусть и сожаление... — Говоря сие, Мария провела Огневика в другую светлячку и просила его присесть, а сама возвратилась в комнату, где накрыт был стол, и заперла за собою двери. Огневик, погруженный в мысли, ничего не видел и не слышал и повиновался Марии, как младенец.
Чрез несколько минут Мария отперла двери и сказала:
— Милости просим! Прежде подкрепим силы, а после приступим к делу, требующему отсутствия всех помышлений о земном. Вот вино, похищенное Мазепою в Белой Церкви, из погребов друга и воспитателя твоего Палея! Выпьем за здоровье его и Натальи!
Вино уже было налито, прежде нежели Огневик вошёл в комнату. Он принял кубок из рук Марии и, покачав головою, сказал:
— Не вином, а кровью должен я поминать моего благодетеля и мою невесту. Злодей Мазепа погубил всех нас!
— Мера злодейств его ещё не преисполнилась, — примолвила Мария. — Пей и тогда узнаешь более!
Они чокнулись кубками и выпили до дна.
Когда Огневик поставил пустой кубок на стол, Мария взяла его за руку и, подведя к образу, сказала:
— Молись, Богдан, за душу свою!
Огневик с удивлением смотрел в глаза Марин, не понимая, что это значит.
— Молись, Богдан! — примолвила она повелительно.
— Мария! — сказал Богдан гордо. — Во всякое время я готов молиться, но не по приказанию, а по собственной воле. Если ты хочешь объявить мне что-нибудь, говори прямо, без всяких предварений. Я не намерен быть ничьим игралищем...
Сказав сие, Огневик перекрестился перед иконою, висевшей в углу, и, взяв свой картуз, пошёл к дверям, сказав хладнокровно:
— Прощай, Мария Ивановна!
Она схватила его за руку, воскликнув:
— Постой, несчастный! — Не дав ему опомниться, она потащила его в другую комнату и, указав на стул, сказала важно: — Садись и слушай!
Несколько минут продолжалось молчание, наконец Мария сказала:
— Этот стакан вина прислал тебе Мазепа! — Она пристально смотрела в глаза Огневику.
— Будь он проклят! — возразил с негодованием Огневик, порываясь с места.
— Слушай терпеливо! — продолжала Мария. — Этот стакан вина прислал тебе Мазепа, а в стакане вина — смерть!
— Что ты говоришь, несчастная! — воскликнул Огневик, схватя Марию за руку.
— Я просила тебя, чтобы ты слушал терпеливо, — возразила она хладнокровно. — Мазепа выслал нарочно меня к тебе вот с этим лакомством! — Мария, при сих словах, вынула из кармана серебряную коробочку, данную ей гетманом при её отъезде, и, показав её Огневику, продолжала: — Здесь хранится жесточайший яд, которым он велел мне опоить тебя, подозревая, что Наталья знает, что ты жив, и, питая надежду увидеться с тобою, не хочет по воле гетмана выйти замуж за пана Понятовского, брата и любимца шведского короля. Твоею смертью Мазепа хочет заставить Наталью повиноваться себе...
— И ты?.. — Огневик не мог продолжать. Бесстрастная душа его в первый раз поколебалась от ужаса и негодования.
— Ия взялась исполнить поручение гетмана, — примолвила хладнокровно Мария. — Ты знаешь, что презренная любовь превращается в ненависть, а ненависть требует мщения.
— Видно, жизнь столько же наскучила тебе, как и мне, — сказал Огневик, с притворным равнодушием скрывая ярость свою. — Приготовься к смерти, в свою очередь... Мы умрём вместе! — Он медленно поднялся с места и хотел идти к дверям, чтоб запереть их.
Мария остановила его и сказала с улыбкою:
— Умрём, только не теперь! — Она посадила его на прежнее место и, смотря на него нежно, сказала: — Ужели ты мог подумать, Богдан, чтоб я решилась покуситься на жизнь твою? Я бы отдала сто жизней за твою и теперь жертвую собою для спасения тебя. В эту минуту я хотела только испытать чувства твои ко мне... — примолвила она печально, опустив голову, — но вижу, что ты меня ненавидишь, когда мог подумать, что я в состоянии лишить тебя жизни!
— Но ты сама заговорила о мщении... Ты сама ввела меня в заблуждение, Мария!
— Неужели ты не видишь, не чувствуешь любви моей к тебе! Неблагодарный! Я вся любовь, вся страсть! За один нежный твой взгляд, за один поцелуй я готова в ад... Сия-то любовь к тебе заставила меня принять предложение Мазепы, из опасения, чтоб он не подослал кого другого. Но теперь мне уже нельзя воротиться на Украину, точно, так же, как и тебе невозможно нигде избежать подосланных убийц... Мы должны бежать вместе, скрыться вместе от мщения сильного злодея!
— Я избавлю от него землю!.. Пойду и убью его!.. — сказал Огневик решительно.
— А что станет с Натальей? — спросила Мария.
— Прости, Мария, но я, имея столько доказательств твоей дружбы, не хочу тебя обманывать. Убив Мазепу — я женюсь на Наталье!..
— Нет, ты этого не сделаешь, да и Наталья не согласится быть женою убийцы её отца. Ты не знаешь, что Наталья родная дочь Мазепы...
— Она дочь этого изверга! О, я несчастный! — воскликнул Огневик, закрыв руками лицо.
— Успокойся, Богдан, и если хочешь счастья, вверься мне. Я спасу тебя от мщения Мазепы, отмщу за тебя и соединю тебя с Натальей!
— Ты можешь это сделать?
— Сделаю, если ты будешь мне послушен. Поклянись повиноваться мне во всём беспрекословно, и я клянусь тебе Богом и душою моею, что чрез четыре месяца ты будешь мужем Натальи...
— Если так, то клянусь быть послушным твоей воле!
— Дай мне руку, Богдан! Завтра ты должен отправиться со мною в Польшу...
— Как, бежать из службы! — воскликнул Богдан. — Понимаешь ли ты всю важность этого преступления, Мария!
— Ты бежишь не к неприятелю и не от войны. Слушай, Богдан! Если ты станешь проситься на Украину, тебя не отпустят, и мы ничего не сделаем. Брось платье своё в воду, напиши письмо к твоему покровителю, адмиралу Крюйсу: что отчаянье заставило тебя лишить себя жизни — и ступай со мною. У меня уже готовы паспорта от Вольского посла, для свободного пропуска слуг его. Я наряжусь по-мужски, и мы, в польском платье, поедем завтра же в Польшу, а оттуда проберёмся на Украйну. В Батурине я скрою тебя у себя в доме... Увижусь с Натальей, посоветую ей бежать с тобой за Днепр и доставлю вам средства спастись. Между тем возгорится война в самой Украине, и тебе откроется поприще верною службою к царю загладить бегство твоё с флота... Именем Палея мы соберём дружину и явно восстанем против изменника, ибо я знаю наверное, что Мазепа изменит царю при вторжении Карла в Украйну...
Радость вспыхнула на лице Огневика.
— Я твой, Мария! — сказал он весело, пожав ей руку. — Делай со мною, что хочешь!
— Сама Наталья позволила бы тебе уступить мне, на время, частичку твоего сердца, которое я сохраню для неё и отдам в целости, навеки. Богдан!.. Ты сказал, что ты мой! Будь моим до приезда в Украйну, до тех пор, пока не будешь принадлежать навсегда Наталье... С сей минуты здесь твоё жилище... ты не выйдешь отсюда прежде, как завтра утром, чтоб прямо отправиться в путь. У меня есть для тебя платье, поддельные волосы, всё, что нужно, чтоб не быть узнанным... Ночью мы переговорим и посоветуемся...
Огневик прижал Марию к сердцу.
— Ты истинный друг мой! — сказал он. — Я остаюсь с тобою!
Твёрдая душа Марии не могла выдержать избытка радости. Мария повисла на шее Богдана, впилась в него в полном смысле слова и, сказав тихим-тихим и прерывающимся голосом:
— Ты мой... Пусть теперь умру!.. — лишилась чувств.
Мазепа, не смея ослушаться повеления Военного Совета, исполнил его двусмысленно, то есть выслал казаков к войску русскому, но один только Миргородский полк, оставив при себе лучших людей. Сам же переехал в замок свой, Бахмач, вблизи Батурина, и велел разгласить вести о своей смертельной болезни. Орлик управлял войском, получая приказания от гетмана, Мазепа выслал Войнаровского к князю Меншикову, находившемуся в окрестностях Чернигова, для уверения сего вельможи в своей преданности и объяснений о причинах замедления в высылке войска, поручив сему любимому племяннику выведать о состоянии дел и узнать, нет ли на него каких доносов от людей, ему неприязненных.
Между тем Батуринский гарнизон был усилен, Гадяч и Ромны приведены в оборонительное состояние, и войско Малороссийское было готово к выступлению в поход и к бою, по первому приказанию. В сие время прибыла тайно в замок Бахмач княгиня Дульская с двумя только служителями, в сопровождении влюблённого в Наталью пана Понятовского, который после объяснения с Мазепой ездил к шведскому королю и возвратился с ответом Карла XII и с повторением своей просьбы о браке с Натальей. Вернейшие сердюки содержали стражу в Бахмаче, и никто не смел явиться в замок без особенного позволения гетмана. Ключи не только от ворот, но и от подъёмных мостов хранились у Мазепы.
Хитрая княгиня Дульская умела отклонить в Бердичеве предложение Мазепы вступить с ним в тайный брак. Но Мазепу нельзя было обмануть. Обольстив незадолго пред сим простодушную дочь генерального судьи Василия Кочубея, крестницу свою, Матрёну, Мазепа из тщеславия, сего врождённого чувства каждого волокиты, хотя и верил ещё, что мог внушать привязанность к себе на шестьдесят втором году своего возраста, но не был так прост, чтоб мог надеяться возбудить страсть в кокетке, в женщине уже опытной в любви. А потому при всей страсти своей к княгине он знал, что её привязывают к нему расчёты честолюбия, и решился воспользоваться страстью для удовлетворения своей страсти. Предугадывая, что только дело необыкновенной важности, сопряжённое с личными выгодами княгини, могло принудить её прибыть к нему тайно, в столь грозное и опасное время, он переменил своё обхождение с нею и, быв всегда самым нежным, самым пламенным и угодливым любовником, решился теперь показаться холодным и сим средством заставить пронырливую польку сложить пред ним оружие своей хитрости.
Не ушла от проницательности княгиня сия внезапная перемена, но женщина видит глубже в сердце, нежели мужчина, и княгиня в несколько дней заметила, из взглядов Мазепы, что холодность его с нею исходит из головы, « не из сердца. То же дружелюбие было между ними, но Мазепа старался казаться важным, задумчивым и не говорил, как прежде, о любви, хотя они имели частые случаи быть наедине, потому что Наталья, сказываясь больною, не выходила из своей комнаты. Понятовский проводил время один, в мечтаниях, а из приближённых гетмана не было при нём ни одного. Мазепа до того простёр своё мнимое равнодушие, что, приняв княгиню со всею любезностью гостеприимного хозяина, он даже не спросил её о причине сего внезапного и тайного посещения. Так прошло три дня.
На четвёртый день княгиня, получив письмо из Польши, чрез нарочного, не могла более откладывать объяснения с гетманом и решилась на последнее испытание его любви.
Тёплый осенний день вызвал в сад Мазепу. Он прогуливался медленно, в уединённой аллее. Княгиня обошла кругом сад, чтоб встретиться с ним.
— Если б не ваш бодрый и здоровый вид, то я в самом деле поверила бы слухам о вашей болезни, — сказала княгиня. — Никогда я не видала вас столь угрюмым, столь печальным... таким холодным, — примолвила она, понизив голос и потупив глаза. — Здесь, в собственном вашем доке, вы кажетесь мне совсем другим человеком!..
— Радость есть выражение счастия, а пламя гаснет, когда на него льют холодную воду. Вам лучше можно знать, нежели кому другому, могу ли я называться счастливым и могло ли чьё-либо сердце выдержать более холодности, до собственного оледенения, как моё бедное сердце, измученное безнадёжною любовью!
Княгиня молчала и смотрела пристально на Мазепу. Они сели на близстоящую скамью.
— Вы, кажется, не понимаете слов моих, княгиня! - примолвил Мазепа, со значительной улыбкой.
— Напротив того, очень понимаю, что упрёки ваши относятся ко мне; но как я не заслужила их, то и не знаю, что отвечать. Знаю только, что если кто вознамерится изгнать любовь из сердца, то призывает на помощь софизмы и, скажу более, несправедливые обвинения...
— Итак, вы меня же обвиняете! — сказал Мазепа с досадою. — Меня, который по одному вашему слову подписал свой смертный приговор, утвердив подписью союз с врагами моего государя! Большей жертвы не мог я вам принесть, ибо вследствие сего договора, вверяю ветрам и волнам политической бури жизнь мою, честь и достояние! Я всё исполнил, что обещал, а где же ваши для меня жертвы! Вы умели отклонить предложение моё сочетаться тайно браком со мною в Бердичеве, и до сих пор нежная моя любовь была вознаграждаема тем только, чем может пользоваться каждый, желающий вам доброго утра! Кроме милостливого вашего позволения целовать прекрасную Башу ручку, княгиня, я не пользовался никакими преимуществами пред последним из ваших холопов!
— Вы обижаете себя и меня, князь, подобными упрёками! Приглашала я вас и уговаривала вступить в союз с Карлом для собственного вашего блага, для доставления вам независимого княжения и славы и вручила вам всё, что невеста может отдать жениху перед венцом — сердце...
— Вы мне отдали сердце, княгиня! — сказал Мазепа нежно, взяв её за руку и смотря на неё пожирающими взглядами. — Вы мне отдали сердце, — примолвил он и, притянув её к себе, прижал к груди и страстно поцеловал. Она слабо противилась и, потупя взор, безмолвствовала.
Наконец княгиня, как будто оправясь от смущения, сказала:
— Вы упрекали меня, любезный князь, что я отклонила предложение ваше жениться на мне тайно, в Бердичеве. Я не отклонила вашего предложения, а только силою рассудка преодолела собственное желание. Вы знаете, что многие наши магнаты предлагают мне руку и сердце. Отказать им я не смею теперь, потому что отказом вооружила бы их противу себя и лишила партию нашу сильнейшей подпоры, а вверить тайну брака нашего не смею никому, опасаясь измены. Патер Заленский, которого вы хотели употребить в сём деле, более всех мне подозрителен. Образчик его верности вы уже видели в Батурине, когда вы захватили разбойника из шайки Палеевой!..
— Ваша правда, что иезуиту нельзя ни в чём верить; но разве для вас не довольно одного обряда, по правилам нашей греческой церкви?
— Вам известны правила нашей веры: вне римско-католической церкви нет спасения, следовательно, никакой иноверческий обряд не может быть признан законным и священным... На что эти богословские прения теперь, когда чрез несколько недель мы можем обвенчаться явно, в присутствии двух королей! Дело уже в конце...
— В начале только, любезная княгиня, в начале! — примолвил Мазепа с горькою улыбкой.
— Говоря, что дело близко конца, я разумею только соединение ваше с Карлом, хотя и не сомневаюсь в полном и скором успехе войны, ибо король Станислав, мой родственник, получил достоверное известие, что в самой Россия уже созрел заговор, имеющий целью возведение на престол Алексея, сына царя Петра, и что русские ждут только, чтоб вы показали пример...
— А! Вы и это уже знаете! А кто вам сообщил это известие? — спросил Мазепа. — Я сам только третьего дня получил оное.
— Какая-то женщина, мне вовсе незнакомая, которая находится с давнего времени в связях с родственником моим, королём Станиславом...
— Проклятая жидовка! — проворчал про себя Мазепа я потом, обратясь к княгине, сказал нежно: — Зачем нам смешивать любовь с политикой? Быть может, первая пуля на поле брани сокрушит мои надежды и ожидания... Княгиня! Если страсть моя стоит награды, вознеситесь превыше всех предрассудков... — Он замолчал и, обняв одной рукою княгиню, а другою пожимая её руку, страстно смотрел ей в глаза и трепещущими устами ловил её уста. Княгиня, при всём кокетстве своём и при всём самоотвержении в политических интригах, едва могла скрыть отвращение своё к ласкам сладострастного старца, который, забывшись совершенно, тянул её к себе, бормоча что-то невнятное.
Внезапно вскочила она с места, вывернувшись из объятий Мазепы, как выскользает угрь из рук рыболова.
Мазепа устремил на княгиню мутные глаза и, простирая к ней трепещущие руки, воскликнул отчаянным, глухим, прерывающимся голосом:
— Любовь... или смерть!
Ничто не может быть омерзительнее старца или старухи в любовном исступлении. Дрожь проняла княгиню при виде Мазепы, преданного гнусной чувственности; но она победила своё отвращение к нему и сказала нежно:
— Любовь!.. Но любовь священная, законная...
Мазепа не дал ей продолжать, схватил свой костыль, быстро вскочил с места и, не говоря ни слова, пошёл в противоположную сторону. Княгиня возвратилась в комнаты.
Княгине Дульской надобны были деньги для вооружения новоизбранного ею отряда в Польше и для изготовления съестных припасов для шведской армии. Она уже истощила свою казну, и богатые магнаты, к которым она прибегнула с просьбою пособить ей, или сами нуждались в деньгах в сне трудное время, или, будучи влюблены в княгиню, предлагали ей сокровища свои не иначе, как с рукою и сердцем. Не решаясь лишиться свободы и обманывая всех женихов своих обещаниями, княгиня решилась отнестись к Мазепе и надеялась на верный успех при личных переговорах. Но бесстыдные притязания любострастного старца заставили её отказаться от своих выгод, и она вознамерилась немедленно оставить его и возвратиться в Польшу. Она уже достигла главной цели, убедив Мазепу подписать условия со шведским и польским королями, и хотя она для этого только и притворялась согласною вступить с ним в брак, но ожидала восстания гетмана с войском противу России, чтоб переменить своё обхождение с ним и обнаружить свои истинные чувствования. Раздумав обо всём основательно, княгиня вознамерилась, однако ж, примириться с Мазепою, но ещё не решилась, каким образом приступить к этому, не подвергая себя прежней опасности.
Мазепа чрезвычайно досадовал, что упустил столь привлекательную добычу, и на остаток дня заперся также в своих комнатах, не показываясь своим гостям.
Развратники не верят в женскую добродетель, и Мазепа в этом случае был прав, не веря, чтоб одно целомудрие было причиною упорства княгини к удовлетворению его желаний. Самолюбие не допускало его подозревать в княгине отвращения к нему, и потому он заключил, что, вероятно, склонность к кому-нибудь другому господствовала в сердце княгини. Он стал подозревать её в связях с Понятовским, полагая, что не столько красота Натальи заставляет сего честолюбца искать руки её, сколько надежда на богатое приданое и значение в независимом войске Малороссийском. В это самое время он увидел из окна княгиню, вышедшую в сад, вместе с Понятовским; они направили шаги в самую тёмную аллею. Мазепа не предполагал, чтоб они в сию минуту совещались, каким образом выманить у него деньги для вспомоществования их партии, и, мучимый ревностью, думал, что они заняты любовными разговорами.
Мазепа не мог уснуть ночью. Кровь в нём сильно волновалась. Ревность и оскорблённое самолюбие терзали его. Вдруг свет блеснул в саду. Мазепа поспешно встал с постели, приблизился к окну и увидел, что свет из окон дома отражается на деревьях; он поспешно оделся и вышел в сад.
Гетманский дом в замке Бахмаче построен был в виде правильного четырёхугольника. Пространство между четырьмя фасадами здания разделялось коридорами на три небольшие двора. Сие два поперечные коридора соединяли между собою два главные фасада. На среднем глухом дворе возвышалась башня, в которой находились архивы и кладовые. В одном конце дома были гостиные комнаты, в середине, со стороны сада, приёмная, — а в другом конце жили сам гетман и его приближённые. Дом был каменный в одно жильё. Службы и казармы построены были по сторонам, между домом и валом, не соединяясь, однако ж, с главным зданием. Замок построен был на краю оврага и обнесён земляным валом, двойным частоколом и глубоким рвом. На всех углах вала стояли часовые. Ворота были одни только и охранялись сильною и верною стражею сердюков, получающих двойное жалованье. Весь гарнизон замка состоял из любимцев гетмана, самых заслуженных казаков, испытанной храбрости и преданности.
Свет отразился из окон приёмных комнат.
Только в Бахмаче Мазепа почитал себя в безопасности, будучи уверен, что чужому человеку, особенно злоумышленнику, невозможно пробраться в замок. Из комнат его был особенный выход в сад, в густую липовую аллею, примыкающую к самой стене.
Вышед в сад, Мазепа остановился на изгибе аллеи и вперил взор в окна главного фасада; но свет не показывался более. Он терялся в догадках, кто мог войти в сие время в приёмные, комнаты, которые всегда были пусты, кроме торжественных дней, когда гетман приглашал гостей попировать с собою по-приятельски. Сия часть дома отделялась от жилых комнат с трёх сторон сенями и коридорами, и двери всегда были заперты. Мазепа не сомневался, что княгиня назначила любовное свидание Понятовскому в сих комнатах, чтоб избежать всякого подозрения, ибо они жили в противоположных концах дома и у всех наружных дверей стояли часовые. Подобрать ключи не трудное дело для любовников, думал Мазепа. Он ждал с нетерпением появления света, и вдруг огонь снова блеснул в окне. Женщина, которой ни лица, ни одежды он не мог рассмотреть, подошла к окну и с двумя свечами и тихо махнула ими накрест три раза. Нельзя было более сомневаться, что это условный знак. Мазепа едва мог воздержаться от досады и нетерпения. Свет в окне снова исчез. Все предметы скрылись во мраке, и вдруг на валу, между кустами, при спуске в сад, также блеснул свет. Мазепа затрепетал от злости. Вымышляя самые колкие упрёки будущему своему зятю, Понятовскому, Мазепа потихоньку пошёл аллеей к кустам, чтоб поймать счастливого своего соперника и заставить его признаться во всём, а после того отправиться к княгине и, побранив её в качестве жениха, кончить... усладительным примирением...
Осенний ветер колебал деревья; листья с шумом слетали с них и клубились с шорохом по дорожкам сада. Мазепа подошёл к самым кустам и увидел двух человек, которые, завернувшись в плащи, сидели на земле. Они были обращены к нему спиною, а фонарь прикрыт был плащом. Пользуясь шумом ветра и шорохом листьев, Мазепа подкрался незаметно к сидящим и ударил одного из них по плечу, воскликнул грозно:
— А что вы здесь делаете в эту пору?
Человек, которого Мазепа ударил по плечу, быстро вскочил с земли и приставил фонарь к его лицу. Мазепа задрожал и в ужасе отступил несколько шагов, едва держась на ногах.
Это был Огневик!..
— Ни с места и ни слова! — сказал Огневик, шёпотом, — Или вот этим кинжалом пригвозжу тебя навеки к земле!..
Мазепа что-то хотел говорить, но Огневик, устремив на него кинжал, примолвил:
— Молчи, или смерть!
Гетман повиновался. Холодный пот выступил на нём; в голове его шумело, и трепет объял его, как в лихорадке. Он чувствовал приближение последней своей минуты я не ждал пощады от человека, которого он столь жестоко оскорбил, обманул, предал и хотел, наконец, лишить жизни. Огневик, держа в одной руке кинжал, а в другой фонарь, с какою-то зверскою радостью смотрел на смертельного врага своего, которого судьба предала ему на жертву, и наслаждался приметным страхом его.
— Предатель, убийца, изменник! — сказал Огневик, трепеща от злобы и улыбаясь, или, лучше сказать, шевеля судорожно губами, чтоб показаться равнодушным и хладнокровным. — Тебе удалось погубить Палея, но с ним ты не погубил всех его мстителей. Ни клеветою, ни ядом ты не мог оковать той руки, от которой, по закону мздовоздания, ты должен получить награду за твои злодеяния. Ничто не спасло бы тебя, если б, по какому-то расчёту ада, покровительствующего тебе, ты не был отцом моей Наталии, ибо чрез несколько минут она будет в моих объятиях и я, прокляв тебя навеки, скроюсь от тебя с нею... Она немедленно явится здесь, а пока ты мой пленник!
Когда Мазепа услышал от Огневика, что жизнь его в безопасности, он мгновенно пришёл в себя, и, пока враг его говорил, он уже обдумал и рассчитал все средства, чтоб не только выпутаться из беды, но и расстроить все предначертания Огневика.
— Я не мешал тебе говорить, позволь же, для собственного твоего спасения, и мне сказать тебе пару слов, — сказал Мазепа хладнокровно, насмешливо улыбаясь. — Ты можешь убить меня одним ударом, в этом не спорю; но уверяю тебя, что пользы от этого не будет тебе. Не я твой пленник, а ты мой! Гнусная жидовка, проклятая Мария изменила тебе и освободила тебя из Кронштадта для того только, чтоб живого предать мне... — При сих словах Огневик побледнел и почувствовал опасность своего положения. Мазепа продолжал: — Она уведомила меня, что доставит тебе сегодня вход в замок, будто для похищения Наталии, и я расставил везде моих сердюков, чтоб схватить тебя, по первому моему свисту. Сад этот и все окрестности наполнены моими воинами! Одно безопасное место есть то, где ты прошёл... Чувствую, что я поступил неосторожно и не кстати погорячился, вознамерившись поймать тебя своими руками... Ты точно мог бы убить меня, если б хотел. Но ты поступил со мною великодушно, и я не хочу оставаться у тебя в долгу. Ступай отсель цел и невредим! Бог с тобой! Не берусь провести тебя в ворота замка, ибо не ручаюсь за моих сердюков. Они, может быть, не послушаются меня в этом случае и убьют тебя... Впрочем, я должен ещё сказать тебе, что сам Бог вразумил тебя воздержаться от убийства, ибо тогда бы и ты и Наталия пали непременно под ударами моих верных слуг... Богдан! слушай последние слова мои: я тебя прощаю, и если чрез месяц ты, собрав дружину, присоединишься ко мне, когда я выступлю в поход, то награда тебе за первое отличие — рука Натальи... Не хочу более противиться... Мне самому наскучили её слёзы!..
Мазепа, до свидания с Огневиком, почитал его погибшим, поверив письму Марии, с приложением свидетельства от флотского начальства, что Огневик бросился в воду с отчаянья и утонул. Возвратясь на Украйну, Мария рассказала Мазепе, будто она отравила Огневика и бросила тело в воду, а письмо от него к адмиралу сочинила сама, подделавшись под его почерк, Мазепа поверил ей, а ещё более поверил свидетельству начальства и подарил ей богатое ожерелье, обещав дать, после войны, вотчину. Одно только смущало и удивляло Мазепу, а именно, что Наталия выслушала хладнокровно известие о смерти своего любовника, объявив в то же время, что она решилась наконец отрешись от всего земного, и что если б Богдан был даже жив, то всё бы просилась в монастырь. Но хладнокровие Наталии происходило от того, что она знала обо всём случившемся с Огневиком, кроме любовной жертвы, принесённой им из благодарности, и надеялась вскоре соединиться со своим возлюбленным. Огневик, прибыв в Украйну, скрывался на хуторе Марии. Она-то устроила всё к похищению Наталии, дала ей знать и указала Огневику путь к валу, на который взобрался отчаянный любовник при помощи верёвочных лестниц с крюками по концам. Место сие, при крутизне оврага, почитаемое непроходимым, было, однако ж, оберегаемо часовым, которого Мария успела подговорить к измене и бегству. Мария не думала никогда изменять Огневику и ждала его нетерпеливо на хуторе, с тремя осёдланными лошадьми. Всё, что в сию опасную минуту сказал Мазепа Огневику, было не что иное, как вымышленная им сказка, основанная на предположениях, догадках и лжи. Увидев Огневика, он не сомневался, что Мария вступила с ним в заговор и что она же доставила ему средства войти в замок, и потому искусною ложью решился освободиться от одного врага и в то же время оклеветать другого.
Огневик не отвечал ни слова, но скрежетал зубами со злости и с отчаянья. Товарищ его тянул его за руку к залу, шепча ему на ухо:
— Воспользуемся случаем, пока изверг не раздумал! На свободе придумаем что-нибудь лучшее. Была бы голова на плечах, а Наталия будет наша!..
Вдруг послышался шорох и шаги бегущего человека.
— Спасайся, Богдан! Вот бегут сердюки! Они, верно, слышали шум и боятся за меня... Ещё минута, и я не в силах буду даровать тебе жизнь...
Товарищ Огневика насильно увлёк его за вал, и они быстро покатились вниз...
Мазепа с улыбкой смотрел им вслед, приговаривая про себя: «Не уйдёшь от меня, голубчик, и с твоею ведьмою! Я вас отправлю вместе!» Едва он успел повернуться, кто-то с разбегу чуть не сшиб его с ног. Он схватил за руку... Это была Наталия!
— Поздно, милая! — сказал Мазепа... Она ахнула и упала без чувств на землю.
С великим трудом Мазепа дотащил несчастную дочь свою до дому, разбудил немого татарина, спавшего всегда в ближней комнате; возле его спальни, и с помощью его привёл её в чувство.
— Поди, дочь моя, и успокойся, но не гневайся, на меня за то, что я приму меры предосторожности, чтоб воспрепятствовать тебе к вторичному покушению обесславить себя и меня бегством.
Мазепа взял связку ключей, велел татарину светить и повёл Наталью чрез все комнаты, в башню. Вошед в одну обширную и хорошо убранную комнату, возле архива, где незадолго пред сим жил один из его секретарей, Мазепа указал на софу и сказал:
— Отдохни здесь, милая дочь! Завтра мы переговорим с тобою! — Замкнув дери снаружи железным запором и двумя замками, Мазепа возвратился в свою комнату.
Он не успел ещё раздеться, как сторожевой урядник от ворот постучался в двери. Мазепа вышел к нему. Урядник доложил, что генеральный писарь Орлик с племянником его, Войнаровским, прискакали верхом из Батурина и требуют, чтоб их немедленно впустили в замок и разбудили гетмана.
Сердце Мазепы сильно забилось.
— Впусти их и скажи, что жду их в моей почивальне.
Выслав Войнаровского к князю Меншикову для шпионства и обмана, Мазепа велел ему оставаться до тех пор в русском лагере, пока сам он не выступит в поход и не перейдёт чрез реку Сожу. Мазепа предчувствовал, что внезапное возвращение Войнаровского не означает добра. С нетерпением ожидал он его появления.
Вскоре Орлик и Войнаровский предстали пред Мазепою, и он, взглянув на них, убедился, что не обманулся в своём предчувствии. Орлик и Войнаровский не могли скрыть своего страха и горести. Войнаровский поцеловал руку дяди и сказал печально:
— Дурные вести!
— Не торопись, племянник, и отвечай основательно и хладнокровно на мои вопросы. Что ты услышал дурного?
— Замысел наш, отложиться от России, известен князю Меншикову, — отвечал Войнаровский.
— Каким же образом он объявил тебе об этом?
— Он мне ничего не объявил, но я узнал это от приближённых его, моих приятелей.
— А что же сказал сам князь, отпуская тебя в обратный путь?
— Он мне не мог ничего сказать, потому что я не видал его перед моим отъездом.
— Как? Ты уехал не простившись с ним!..
— Меня предостерегли, что князь намерен задержать меня и пытать. Я тайно бежал из русского лагеря.
— Так уж дошло до того, что хотят пытать родного моего племянника!.. Кто же надоумил князя?
— Русский генерал Инфлант поймал под Стародубом поляка Улишина, посланного к вам Понятовским с письмами и словесным поручением. Несчастного пытали на огне, под виселицей, и он сознался, что слышал от Понятовского, что вы присоединяетесь к шведам. Письма Понятовского к вам также объясняют многое. После этого князь Меншиков велел взять под стражу и пытать Войта Шептаковского, Алексея Опоченка, приятеля управителя ваших вотчин, Быстрицкого, которого бегство к шведам также известно в русском лагере. Опоченко не вытерпел истязаний и сознался, что Быстрицкий в проезд свой к шведам был у него, объявил ему, что едет к неприятелю по вашему поручению и что вы ждёте только вторжения Карла в Украйну, чтоб восстать противу царя Московского. Во всех этих дознаниях князь Меншиков хотел удостовериться моими показаниями, и уже определено было исторгнуть из меня истину огнём и железом. Князь послал к царю нарочного с донесением обо всём случившемся и с просьбою о позволении взять вас немедленно под стражу... — Войнаровский замолчал, и Мазепа, который слушал его хладнокровно, сложив крестом на груди руки в устремив на него неподвижный взор, сказал:
— А ты безрассудным своим бегством подверг меня бóльшему подозрению, нежели незначащий чиновник и польский шпион своими показаниями!
— Неужели мне надлежало ждать, пока меня станут пытать?
— А почему ж нет? Регулы и Курции шли бесстрашно на верную погибель и мучения для славы и чести отечества, а мы не можем выдержать пытки!.. Где же та римская добродетель, которою ты похвалялся? Осталась в школе, вместе с учебною книгою!.. — Мазепа насмешливо улыбнулся. — Да, племянник! Если бы ты выдержал пытку и не сознался, то опровергнул бы все доносы и подозрения...
— Я не предполагал, признаюсь, чтоб вы требовали от меня такой жертвы, — сказал Войнаровский с досадою.
— Я от тебя ничего не требую, любезный племянник, но этого требовало от тебя твоё отечество, для независимости которого мы идём ныне на смерть; требовали твоя слава и твоё будущее величие, зависящее от успеха нашего предприятия! Но упрёки не у места! Сталось, Орлик! Надобно будет упросить русского полковника Протасьева, чтоб он съездил к князю Меншикову и попросил от моего имени извинения за безрассудный отъезд моего племянника... К царю и Головкину я сам напишу.
— Протасьев не откажет вам, — отвечал Орлик. — Вы умели привязать его к себе...
— Золотою нитью, — примолвил Мазепа, стараясь улыбнуться и своим хладнокровием, при столь ужасной вести, ободрить унывших своих клевретов. Но видя, что лица их не проясняются, Мазепа сам принял угрюмый вид, сел, опустил голову на грудь и задумался.
Прошло около четверти часа, и никто из них не промолвил слова; вдруг Мазепа быстро вскочил с кресел и, обратясь к Орлику, спросил:
— А сколько у нас, в Батурине, отборных казаков, кроме сердюков, готовых к походу?
— Около пяти тысяч, — отвечал Орлик.
— Довольно на первый случай. Завтра, наконь и в поход! Я сам веду их за Десну, — сказал Мазепа. Взор его пламенел.
— Завтра! Вы сами, дядюшка! Зачем такая поспешность... За Десною русское войско...
— Побереги советы для себя, племянник! Я знаю хорошо, что делаю... — Мазепа захлопал в ладоши. Явился татарин. — Вели подать мне моего коня! — сказал Мазепа. — Господа! Я тотчас еду с вами в Батурин и на рассвете в поход!
— Дядюшка, позвольте мне остаться и проводить княгиню до польской границы, — сказал Войнаровский умоляющим голосом. — Теперь опасно женщине возвращаться этою дорогою...
— Предоставь мне позаботиться о безопасности княгини, — возразил Мазепа с лукавою усмешкой. — Между тем прошу присесть, мои паны! Я сейчас переоденусь, вооружусь и — наконь. Не должно прерывать сон моих гостем. Завтра я пришлю сюда мои распоряжения.
Пока Мазепа одевался и вооружался, подвели коней к крыльцу, и он отправился в путь, сопровождаемый Орликом, Войнаровским и неотступными своими слугами, немым татарином и казаками, Кондаченкой и Быевским.
ГЛАВА XV
И наведу на тя убивающа мужа и секиру его.
Прор. Иеремии, глава 21, стих 7.Увянет жизнью молодою,
Недолго наслаждаться ей.
А. Пушкин.Отборное войско, назначенное к выступлению в поход вместе с гетманом, уже собралось за городом. Отцы и матери, жёны и дети, любовницы и невесты толпились на сборном месте. Генеральные старшины и полковники ждали гетмана на паперти собора, чтоб отслужить молебен. Уже было около полудня. Войнаровский сказал старшинам, что гетман занят письменными делами.
И в самом деле Мазепа писал письма к государю, к графу Головкину, к барону Шафирову и к князю Меньшикову, уведомляя их о своём выступлении в поход и уверяя в своей преданности к священной особе царя русского и в непоколебимой своей верности к престолу. Между тем в ту же ночь отправлен был гонец к шведскому королю с известием, что уже войско Малороссийское двинулось на соединение с ним Когда все письма были готовы, Мазепа отдал их Орлику для отправления и призвал к себе немого татарина и казака Кондаченку.
— Верные мои слуги! — сказал Мазепа, положив руку на плечо Кондаченки и погладив по голове татарина. — Я знаю вашу преданность ко мне, а потому хочу поручить вам дело, от исполнения которого зависит спокойствие моей жизни…
— Что прикажешь, отец наш! За тебя готов в огонь я в воду! — сказал Кондаченко.
Татарин положил правую руку на сердце, а левою провёл себя по горлу, давая сим знать, что готов жертвовать своею жизнью.
— Надобно спровадить с этого света две души... — примолвил Мазепа.
— Изволь! Кому прикажешь перерезать горло?.. — воскликнул Кондаченко, схватившись за саблю.
Татарин зверски улыбнулся и топнул ногою.
— Тот самый палеевский разбойник, который был уже в наших руках и отправлен мною в ссылку, бежал из царской службы и бродит по окрестностям. Он сей ночи ворвался даже в Бахмач... Надобно отыскать его и убить, как бешеную собаку...
— Давно б пора! — отвечал Кондаченко.
Татарин махнул рукой.
— Злодея этого освободила и привела сюда изменница Мария Ломтиковская, — продолжал Мазепа. — Это сущая ведьма... От неё нельзя ничего скрыть и нельзя ей ничего поверить... Надобно непременно убить её...
— Жалеть нечего! — примолвил Кондаченко.
Татарин покачал головою и вытаращил глаза.
— Тебе кажется удивительным, что я хочу убить Марию, — сказал Мазепа, обращаясь к татарину. — Она изменила мне, продала меня врагам моим!
— Петля каналье! — воскликнул Кондаченко.
Татарин кивнул головою и снова провёл пальцем по горлу.
— Тебе, Кондаченко, я отдаю всё имущество Марии, — сказал Мазепа, — а ты, — примолвил он, обращаясь к татарину, — бери у меня, что хочешь... Казна моя не заперта для тебя.
Кондаченко бросился в ноги гетману, а татарин только кивнул головой.
— Эту бумагу отдай есаулу Кованьке в Бахмаче, — сказал Мазепа, подавая бумагу Кондаченко. — Польские гости мои так испугались моего внезапного отъезда, что бежали в ту же ночь из замка, не дождавшись свидания со мною. Ему бы не следовало и не следует ни впускать, ни выпускать никого без моего приказания. Подтверди ему это! Вот ключ от той комнаты, где я запер Наталью, — примолвил он, отдавая ключ татарину. — Ты знаешь где. Второпях я забыл отдать ключ Кованьке. Поспешайте же в Бахмач. Ведь Наталья взаперти осталась без пищи, а ты знаешь, что в эту половину дома никто не зайдёт, и хоть бы она раскричалась, то никто не услышит... Когда исправите своё дело, спешите ко мне, где б я ни был. Я иду за Десну... Прощайте... Вот вам деньги!.. — Мазепа дал им кису с червонцами, и они, поклонясь, вышли.
Огневик, спустись с валу, опомнился от замешательства, в которое привела его мнимая опасность.
— Мы дурно сделали, что не убили злодея, — сказал Огневик товарищу своему, — пока он жив, я не могу быть счастливым! Вся адская сила в его руках!..
— После рассудим! — отвечал Москаленко. — Теперь, надобно спасаться... Я не верю великодушию Мазепы и опасаюсь погони...
Они влезли на берег оврага, по приготовленной ими верёвочной лестнице, подмяли её, вскочили на коней своих, с которыми ждал их казак, и поскакали в лес.
Возвращаясь в Украйну, Огневик случайно встретился с Москаленкой в пограничном польском местечке и узнал от старого своего товарища подробности о взятии Белой Церкви изменой и о бегстве семьи Палеевой, с несколькими десятками казаков, в Польшу. Москаленко, услышав от Огневика о намерении его похитить Наталью, взялся помогать ему, отыскал старых казаков палеевских, рассеянных по окрестностям, и собрал ватагу из тридцати человек, готовых на самое отчаянное дело. Мария отправилась одна в Батурин, и когда устроила всё к побегу Наталии и переговорила с нею, то дала знать Огневику, и он, пробираясь по ночам непроходимыми местами со своей ватагой, прибыл в окрестности Батурина и расположился в лесу, неподалёку от Бахмача. В эту ночь Мария ждала его на своём хуторе, где собралась и ватага, чтоб вместе с Натальей бежать в Польшу.
Проскакав несколько вёрст по узкой тропинке, они выехали на поляну и завидели огонь на хуторе. Огневик придержал своего коня и сказал Москаленке:
— Ты слышал, друг мой, что говорил Мазепа: Мария изменила нам, предала... Она должна получить воздаяние...
— Высечь бабу порядком, чтоб помнила казацкую дружбу, — отвечал Москаленко.
— Нет, друг, этим она от меня не отделается! Она заслужила смерть.
— Неужели ты решишься убить женщину! — воскликнул Москаленко с удивлением.
— Я убью не женщину, но ядовитую змею, которой жало грозит не только мне, но и Наталье. Ты знаешь, любезный друг и брат, какая необходимость заставляет меня решиться на это отчаянное средство? Ад внушил Марии любовь ко мне, на пагубу мою! Не будучи в состоянии погасить во мне любовь к Наталье, она решилась погубить меня и, вероятно, погубит также и Наталью. Доказательства измены её ясны и неоспоримы...
— Делай, что хочешь! — сказал Москаленко.
Собака подняла лай на хуторе, и у ворот встретили их казаки. Мария выбежала на крыльцо с пуком зажжённой лучины и, не видя Натальи, спросила Огневика: «А где ж она?».
Огневик, не приветствуя Марии и не отвечая ни слова, вошёл в избу и, не снимая шапки, сел на скамью. Казаки остались на дворе с Москаленкой; одна Мария последовала за Огневиком. Она стояла перед ним, смотрела на него с удивлением и беспокойством и наконец спросила его:
— Что с тобой случилось, Богдан? Где Наталья?
— Искусство твоё в предательстве не спасёт тебя теперь от заслуженной тобою кары, изменница! — сказал Огневик грозно. — Я говорил с самим Мазепою, и он всё открыл мне... — Огневик смотрел пристально в глаза Марии, но она была спокойна и, покачав головой, горько улыбнулась.
— Ты встретился с Мазепою! — сказала она. — Видно, он не мог ни убить тебя, ни захватить в неволю, когда довольствовался одним обманом!
— Замолчи и готовься к смерти, — закричал в бешенстве Огневик, вскочив с места. — Довольно был я игралищем ваших козней! На колени и читай последнюю молитву! — Огневик выхватил саблю.
— Несчастный! Неудача и любовь ослепили твой рассудок, а гнев заглушил голос совести. Ты поверил общему нашему злодею и обвиняешь меня... Меня! Зачем было мне подвергаться опасности и трудам, чтоб предать тебя Мазепе, когда жизнь твоя была уже в моих руках в Кронштадте, а свободою твоею я могла располагать в Кармелитском монастыре, в Бердичеве? Но если смерть моя может доставить тебе утешение, убей меня! — Мария при сих словах бросилась на колени и обнажила грудь. — Рази, пробей сердце, в которое ты влил вечную отраву! Жизнь моя — тяжкое бремя, пытка! Освободи меня от мучений... О! убей меня, убей!.. Мне сладко будет умереть от руки твоей!.. Ты будешь плакать по мне, Богдан, будешь сожалеть об мне!.. Ты полюбишь меня за гробом, когда истина откроется... Убей меня!..
Огневик, занёсший уже саблю, чтоб поразить Марию, остановился. Но она ухватилась за его колени и пронзительным голосом вопияла:
— Сжалься надо мною и убей меня! Милый Богдан, не смущайся, не робей... Я прошу у тебя смерти, как милости, как награды за любовь мою!..
Жалость проникла в сердце Огневика. Он вспомнил всё, что Мария для него сделала, и её отчаянье, её необыкновенное мужество в последний час, её самоотвержение заставили его усомниться в истине его подозрений. Он вложил саблю в ножны и сказал ласково:
— Встань, Мария, — объяснимся!
Мария рыдала. Твёрдая душа её размягчилась. Почти бесчувственною Огневик поднял её с пола и посадил на скамью. Долго она не могла прийти в себя; наконец, когда выплакалась и несколько поуспокоилась, сказал с упрёком:
— И ты мог подозревать меня в измене! И ты мог поверить Мазепе!
— Да рассудит между нами Бог! — возразил Огневик, — Быть может, ты невинна, Мария, но на моём месте ты сама стала бы подозревать...
— Нет, я не стала бы подозревать того, кто дал мне столь сильное доказательство любви, преданности, самоотвержения!..
— Довольно, Мария! Выслушай и после рассуди...
Огневик рассказал ей всё, случившееся с ним в Бахмаче. Мария задумалась.
— Нет! — сказала она после долгого молчания. — Нет, случай, а не измена свёл тебя с Мазепою. Из чужих людей один только сердюк, стоявший на часах над оврагом, знал нашу тайну, и этот сердюк здесь; он бежал от мести гетмана, следовательно, изменить было некому. Притом же, верь мне, Богдан, что если б Мазепа был в состоянии задержать тебя, то он не выпустил бы тебя из рук!..
При сих словах Марии Огневик почувствовал, что он слишком поспешно поверил словам Мазепы и слишком торопливо последовал совету своего товарища, представлявшего ему опасность неизбежною.
— Весьма вероятно, — примолвила Мария, — что гетман, мучимый бессонницею или поспешая на любовное свидание с княгинею, забрёл один в сад и случайно наткнулся на тебя... Хладнокровие и присутствие духа даровало ему преимущество над тобою, Богдан! Я думаю, что он был в твоей власти, а не ты в его.
— Быть может! — сказал Огневик с досадою. — Но теперь одна смерть заставит меня отказаться от исполнения моего предприятия... Во что бы то ни стало — Наталья будет моя...
В сие время служитель Марии вошёл в избу и подал ей бумагу, сказав, что она прислана с нарочным из Батурина.
Мария поспешно прочла и сказала Огневику:
— Гетман прибыл в Батурин и сего же утра выступает в поход... Что-нибудь необыкновенное заставило его решиться на это быстрое выступление...
— Тем лучше для меня! — воскликнул Огневик. — Завтра псе я попробую напасть врасплох на Бахмач и силою вырвать Наталью из заключения...
— Об этом поговорим с тобою после. Теперь поди и отдохни, Богдан. Я обдумаю дело и скажу тебе моё мнение...
Через несколько времени все покоились на хуторе. Только Огневик и Мария бодрствовали. Мария заперлась в своей комнате, а Огневик расхаживал по двору, в задумчивости. Утренние лучи солнца застали его в сём положении, и он, возвратясь в избу, бросился на лавку и уснул от изнеможения.
Мазепа выступил из Батурина с пятью тысячами войска, пошёл к Десне, рассылая повсюду приказания вооружаться и присоединяться к его отряду. Но приказания его исполнялись неохотно, и он, остановись лагерем при местечке Семёновке между Новгородом Северским и Стародубом и простояв с неделю, едва собрал до десяти тысяч воинов. Здесь Мазепа получил известие от шведского короля, что он ожидает его с нетерпением, в Горках, местечке, лежащем при реке Проне, в Польше, в Могилёвском воеводстве, неподалёку от русской границы, и что всякую медленность со стороны Мазепы примет за доказательство его измены и неустойки в слове. Подозреваемый русским царём и шведским королём, Мазепа должен был наконец открыться и действовать. Он желал и страшился этой решительной минуты. Ночь была тихая, но мрачная.
Это было 25 октября: костры ярко пылали в лагере; казаки, сидя вокруг огней, готовили ужин и разговаривали между собою весело о будущих битвах, шумели, пели. Мазепа сидел у окна в уединённой рыбачьей хижине, стоявшей над рекой, на возвышении, и, подпёрши голову рукою, смотрел на лагерь. В избе не было огня.
Шум в лагере начал утихать мало-помалу; огни угасали; только часовые перекликались унылым голосом. Мазепа, не раздеваясь, прилёг на походную постель и уснул.
Верный Орлик находился неотлучно при гетмане и в эту ночь спал в сенях рыбачьей хижины, на ящиках с важнейшими бумагами, с войсковыми клейнодами и с червонцами, которые везли за войском на двадцати вьючных лошадях. Орлик не мог сомкнуть глаз. Грустные мысли и какое-то зловещее чувство терзали его сердце. Сколько ни старался он облагородить предстоящую измену лжемудрствованиями, тайный упрёк совести разрушал хитросплетения ума. Страшно было подумать, что он завтра нарушит присягу, данную законному царю, что должен будет проливать кровь одноверцев и соплеменников и служить орудием чужеземцам к угнетению однокровных. Не имея твёрдости отстать от Мазепы, он молил Бога, чтоб он внушил ему мысль отказаться от измены и направить путь в царский лагерь. Ещё не ушло время. Никто в войске не знал о намерении гетмана, хотя уже приближалась последняя минута... Орлик мечтал и раздумывал, переворачиваясь с одного бока на другой; вдруг в избе гетманской раздался пронзительный крик. Орлик вскочил с постели... За воплем последовал глухой стон... Орлик схватил саблю и бросился к гетману, полагая наверное, что убийцы ворвались в гетманскую избу через окно или через крышу. Быстро отворил двери Орлик и остановился. Только тяжкое дыхание гетмана извещало, что в избе есть живая душа.
— Пане гетмане! что с вами сталось? — спросил Орлик.
Нет ответа.
— Пане гетмане! Иван Степанович! — закричал Орлик.
Глухой стон раздался во мраке.
Орлик выбежал из избы, взял свой фонарь, зажёг свечу у огня, разведённого стражею перед крыльцом, и возвратился к гетману.
Мазепа лежал на полу. Пот градом лился с лица его, глаза были полуоткрыты, уста посинелые, смертная бледность покрывала лицо. Он взглянул мутными глазами на Орлика, тяжко вздохнул и сказал слабым голосом:
— Подними меня.
Орлик поднял его, положил на постель, зажёг свечи на столе и с беспокойством смотрел на него, ожидая последствий. Гетман молчал и сидел на постели, склонив голову на грудь, потупив глаза и сложив руки на груди.
— Не прикажете ли позвать лекаря, пане гетмане? Вы, кажется, нездоровы.
Гетман покачал головою и молчал.
— Что с вами сделалось, скажите, ради Бога! Ненужно ли пустить кровь!.. Я побегу за лекарем!
— Я здоров... Ужасный сон!.. Садись, Орлик... я расскажу тебе!..
Орлик содрогнулся. Его самого мучили предчувствия и тяжкие, страшные сны.
Мазепа молчал и тяжело вздыхал.
Несколько времени продолжалось обоюдное молчание. Наконец Мазепа сказал:
— Я не верю в сны, Орлик! Они не что иное, как игра воображения... Но я видел страшный сон!.. Ты знаешь, что я в юношеских летах проживал в Польше и, находясь при дворе одного знатного пана, любил жену его и был любим взаимно. Спасаясь от мести раздражённого мужа, я бежал в Запорожье. Супруги после того примирились, но любовь наша с прекрасною полькою продолжалась. Она ездила на богомолье в монастыри, лежащие на границе, и я видался с нею. Залогом тайной любви нашей был сын... Муж снова стал подозревать, и моя любовница решилась бежать ко мне, с младенцем... Она бежала от мужа, но не являлась ко мне... И она и младенец пропали без вести! Вероятно, мстительный муж убил их. Прошло около тридцати лет... Я был женат после этого, имел детей, овдовел, осиротел, искал отрады в любви, любил многих, был счастлив в любви... Но первая любовь и привязанность к первому детищу моему не истребились из памяти моей!.. Часто, часто вижу я в мечтах и во сне мою возлюбленную с младенцем на руках, прижимающихся к моему сердцу... Это самые сладостные и самые горькие минуты моей жизни, Орлик!.. В эту ночь я также видел их... но в ужасном положении... Ты знаешь, что Наталья прижита мною уже после смерти жены моей... Я люблю Наталью всей душою, но первое детище моё, живущее в одном воображении, в мечтах — мне милее её... Не понимаю этого чувства и не могу тебе объяснить его. Кажется, это кара небесная! В эту ночь я видел их обоих!.. Мне чудилось, будто я стою на краю пропасти. С правой стороны стоит возле меня моя возлюбленная, с младенцем на руках, а с левой Наталья.
Вдруг земля стала осыпаться под нашими ногами. Я хотел бежать, но какая-то невидимая сила удерживала меня. Наталья покатилась в пропасть и в падении ухватилась за колени мои. В эту самую минуту моя возлюбленная отдала мне на руки младенца — и исчезла. Спасай детей твоих!.. — раздался пронзительный голос... Невольно, как будто судорожным движением я оттолкнул Наталью, и она ринулась в пропасть. И вдруг младенец, которого я держал на груди моей, обхватил ручонками вокруг моей шеи и стал душить меня... Я хочу оторваться... Наконец хочу бросить ребёнка... но нет... он впился в меня, он душит меня... я упал... и мы все погрузились в бездонную пучину... Внизу были дым и пламя. Раздались хохот, свист, змеиное шипенье... ударил гром... Я проснулся и очутился на полу, без сил, без языка, в поту... В это время явился ты!
— Страшный сон! — сказал Орлик. — Но кажется мне, что ом ничего не предвещает, а есть только следствие ваших помышлений и слабости телесной. Вы изнурили себя походом, пане гетмане... Я три ночи сряду видел сны гораздо ужаснее! Мне грезились пытка, палачи, кнут, плаха…
— Вздор, пустяки! — примолвил гетман. — Сны твои остаток робости, следствия страха, при исполнении нашего предприятия, которое если б не удалось, то повело бы нас на плаху. Но вот уже мы стоим на рубеже... Один переход — и мы в шведском лагере!..
— Но кроме меня и Войнаровского никто не знает ещё ваших замыслов, пане гетмане. В целом войске только мы одни согласны перейти к шведам. Что будет, если другие не согласятся... Если захотят выдать нас царю?
— Будет то самое, что было бы, если б мы на месте стали подговаривать старшин и казаков пристать к нам и если б один из тысячи задумал нам изменить. Разница в том, что теперь нам легче будет, при слабой помощи, избегнуть предательства и бежать к шведам, нежели в то время, когда Карл был далеко, а вокруг нас русские войска. Теперь, в случае неудачи, я беру на себя одного всю ответственность и не подвергну друзей моих несчастью, за привязанность и доверенность ко мне. Не удастся — и один глоток яду покроет всё мраком! Я довольно жил, друг Орлик, довольно наслаждался жизнью, чтоб жалеть её! Я играю в кости. Смерть или корона!..
Мазепа замолчал, и Орлик стоял перед ним, опустив голову, волнуемый различными противоположными мыслями и чувствами, не смея ему противоречить и не изъявляя своего согласия. Между тем начало светать.
— Вели войску приготовиться к выступлению в поход, по верному трубному звуку; а как всё будет готово, то пускай паны старшины и полковники прибудут ко мне, в нарядной одежде.
Орлик, не отвечая ни слова, вышел из избы и велел трубачам трубить зорю, а к полковникам и старшинам разослал вестовых с приказанием гетмана.
Через два часа войско стояло в боевом порядке, а старшины и полковники собрались перед жилищем гетмана. Вынесли бунчук, большое знамя войсковое и серебряные литавры. Орлик дал знак, чтоб старшины и полковники сели на коней. Вышел гетман в богатом польском кунтуше с голубою лентою чрез плечо и звездою ордена Белого Орла, с булавою в руке. Два есаула подвели ему коня, а третий поддерживал стремя. Бодро вскочил на коня Мазепа и, приветствовав собрание, поехал шагом к войску, предшествуемый литаврщиком, бунчужным и хорунжим, со знаменем. Прочие старшины и полковники ехали с тылу.
Войско приветствовало гетмана радостными возгласами, думая, что его поведут немедленно в бой, противу шведов. Мазепа остановился на середине и велел всем полкам, вытянутым в одну линию, составить круг. Орлик объявил, что гетман хочет говорить с войском. Настала тишина. Мазепа произнёс следующую речь:
— Товарищи! Мы стоим теперь над двумя безднами, готовыми поглотить пас, если не минуем их, избрав путь надёжный. Воюющие государи до того ожесточены друг против друга, что падёт держава побеждённая. Важное сие событие последует в нашем отечестве, пред глазами нашими. Гроза наступает. Подумаем о самих себе! Когда король шведский, всегда победоносный, уважаемый, наводящий трепет на всю Европу, одержит верх и разрушит царство русское, мы поступим в рабство поляков, и оковы, которыми угрожает нам любимец короля Станислав Лещинский, будут тягостнее тех, кон носили предки наши! Если допустим царя московского сделаться победителем, чего должно ожидать нам, когда он не уважил в лице моём представителя вашего и поднял на меня свою руку? Товарищи! Из видимых зол изберём легчайшее. Уже я положил начало благосостоянию нашему. Король шведский принял Малороссию под своё покровительство. Оружие решит участь государей. Станем охранять нашу собственную независимость. В шведах мы имеем не только друзей и союзников, но благодетелей. Они ниспосланы нам самим Богом! Позаботимся о пользах своих, предупредим опасность. Этого требует от нас потомство. Страшимся его проклятий!
Мазепа, кончил речь, и молчание в войске не прерывалось. Старшины посматривали друг на друга с недоверчивостью, и каждый полагал, что он один только непричастен открытой тайне, а потому не смел изъявить своего образа мыслей. Простые казаки и низшие офицеры думали, что все старшины и полковники, прибывшие торжественно о гетманом, согласны с ним, а потому готовы были беспрекословно повиноваться общей воле своих начальников. На сне внезапное впечатление рассчитывал гетман — и не ошибся. Когда Орлик и несколько приверженцев возгласили ура гетману, всё войско повторило сей возглас, и когда Мазепа поворотил коня на дорогу к Горкам, и воскликнув:
«За мной, братцы!» — устремился вскачь к польской границе — все поскакали за ним.
И Черниговский полковник Полуботок был при гетмане. Внезапность сего события поразила его, и быстрота в исполнении гнусного замысла отнята все средства к противодействию. Но когда, перешед границу русскую, гетман поехал тихим шагом, тогда Полуботок вдруг своротил с дороги и закричал:
— Стой! Ко мне, братья черниговцы!
Всё войско остановилось. Мазепа с изумлением и не доверчивостью устремил взор на Полуботка, который, обратясь к войску, сказал:
— Что вы делаете, безрассудные! Лукавый попутал вас устами клятвопреступника, и вы, не размыслив о судьбе жён и детей ваших, забыв душу свою — стремитесь на общую погибель! Если сердца ваши так закрепли в измене, что вы не хотите слушать гласа истины и совести — пролейте кровь мою! Не хочу пережить бесславия Малороссии и прошу у вас смерти. Но прежде, нежели убьёте меня, выслушайте! Только один царь православный на целом свете, и вы, православные, изменяете вашему царю, и вы, поверив прельщению дьявольскому, идёте служить папистам и лютерам противу главы и защитника нашей церкви, противу единокровного царя и братий наших по вере и по происхождению! Сия измена и предательство хуже Иудиной, ибо Иуда, предав Христа Спасителя, не проливал сам крови его, а вы присоединяетесь к врагам помазанника Божия, царя православного, и должны будете, вместе с иноверцами, проливать кровь братий ваших, предводимых самим царём! Не один стыд в потомстве и проклятие церкви ожидают вас, но и гибель отечества нашего будет следствием вашей гнусной измены! Хотя бы шведский король и остался победителем, но всё-таки он не покорит целой России и не останется в ней навсегда. Он должен будет возвратиться в своё ледяное царство, и тогда Польша овладеет Украйной, если русский царь не будет в силах или не захочет защитить нас. Помните, что, поддаваясь шведу, мы поддаёмся Польше. Нет, друзья и братья, не изменять должны мы русскому царю, чтоб выбиться из его подданства, но служить ему верою и правдою и умолять его, чтоб он не лишал нас своей державной защиты и не исключал из верноподданства, ибо Малороссия может быть счастливою только под державою царя православного и единоплеменного. Братья и друзья! Кто верен Богу, совести и Родине — за мной — к царю!
При сих словах Полуботок ударил коня и устремился я обратный путь. Множество казаков последовало за ним, с шумом и криком.
— Ударим на них, истребим упорнейших и заставим других возвратиться! — сказал Войнаровский, обращаясь к гетману.
— Нет, племянник! Я не хочу начинать дела пролитием братней крови, междоусобием! — сказал Мазепа. — Пусть себе они идут к царю! Универсалы мои возвратят всех их под моё гетманское знамя! Вперёд!
Войско разделилось почти на две равные части. Одна половина поскакала в тыл, другая — с Мазепою, в шведский лагерь.
На другой день, по выступлении Мазепы из Батурина, Огневик с ватагой своей, состоящей из пятидесяти неустрашимых казаков палеевских, приблизился к Бахмачу и остановился в лесу. На совещании с Марией он решился воспользоваться первыми сутками после отсутствия гетмана и всех старшин из столицы войска, пока успеют привести всё в прежний порядок, расстроенный внезапным походом гетмана. Начальство над Батуриной вверено было полковнику Чечелу, а в замке Бахмач оставался по-прежнему есаул Кованько, с сотнею сердюков. Огневик вознамерился напасть на замок в ту же ночь, а между тем Мария отправилась в Батурин. Она выдумала следующее средство к овладению замком. Один из чиновников войсковой канцелярии был ей предан совершенно. Он должен был написать приказание Кованьке, от имени гетмана, принять десять конных казаков для рассылок. Канцелярист умел подделывать почерк Мазепы, а Мария имела у себя подложную войсковую печать. Лишь только бы Кованько отворил ворота в Бахмач, для пропуска посланных будто бы гетманом казаков, они долженствовали броситься на стражу и в сие время ватага Огневика ворвалась бы в замок и овладела им. Мария отправилась в Батурин со светом и должна была присоединиться к ватаге вскоре после полудня.
Мария поехала в Батурин в небольшой тележке, запряжённой в одну лошадь, управляемою мальчиком лет двенадцати. Она не отыскала преданного ей канцеляриста, который, пользуясь отсутствием войскового писаря, в то же утро отправился со знакомыми, за город. Не дождавшись возвращения его до вечера и зная, что подозрительный Огневик станет беспокоиться в её отсутствие, Мария решила ехать к нему, объявить о случившемся и отложить исполнение предприятия до следующего дня.
Немой татарин видел её в городе и скрытно следил за нею. Когда она выехала за городские ворота но дороге к Бахмачу, татарин вскочил на коня, вооружился и поскакал вслед за нею.
При въезде в лес он догнал се.
Мария ужаснулась. Хотя немой татарин долгое время служил ей в тайных делах и даже изменял для неё своему господину, но внезапное появление его в это время, когда она полагала, что он в походе с гетманом, привело её в трепет, и какое-то мрачное предчувствие сжало её сердце. Татарин, опередив телегу, дал знак чтоб она остановилась.
Мария исполнила его желание. Татарин слез с коня, привязал его к дереву и с язвительной улыбкою на устах, устремив быстрый взгляд на Марию, приблизился тихими шагами к телеге, остановился, отступил шаг назад, захохотал злобно и быстро, с размаху, как тигр, вскочил на телегу, одной рукой схватил за горло Марию, а другою мальчика, спрыгнул с ними на землю, обнажил ятаган, и, едва Мария успела испустить пронзительный вопль, он уже отрезал ей голову и пробил грудь малолетнему её слуге. Татарин, совершив сие двойное убийство, в мгновение ока поднял за волосы голову Марии, полюбовался своею добычею и положил голову в кожаный мешок, бывший при седле.
Увязывая мешок, он заметил, что подпруги при седле его ослабли и одна из них лопнула. Он стал пересёдлывать лошадь.
Вдруг послышался конский топот, и, прежде нежели татарин успел отскочить в чащу леса, четыре всадника прискакали на место убийства.
Это был Огневик с тремя товарищами. Не дождавшись Марии и сгорая нетерпением, он поехал ей навстречу, послышал пронзительный вопль, полетел стрелой, но не поспел спасти её.
Огневик узнал татарина, наскочил на него, взмахнул саблей, и татарин, избегая удара, упал на колени и, простирая руки, просил помилования взорами и знаками. Товарищи Огневика прискочили туда же, повалили на землю трусливого злодея и сели на руках и на ногах его.
Огневик слез с коня и подошёл к трупу несчастной. С ужасом и сожалением он стоял над обезглавленным телом, истекающим кровью, и слёзы катились по лицу его. Он догадывался, что сие убийство есть месть Мазепы за избавление его от яда.
— Друзья! — сказал он казакам. — Делать нечего — злодеяние совершилось, по крайней мере преступник не избегнет казни. Повесьте его на дереве!
Казаки отвязали аркан от седла, сделали петлю и. накинув на шею татарину, хотели вязать ему руки.
Он страшно завизжал, выхватил из-за пазухи ключ (тот самый, который дал ему Мазепа при отъезде, чтоб отпереть тюрьму Натальи в Бахмаче) и, показывая этот ключ Огневику делал быстрые движения руками, прикладывал их к сердцу, силился что-то произнесть; показывал на дорогу в Бахмач... Но его не понимали ни казаки, ни Огневик.
— Это, верно, ключ от казны гетманской, — сказал один казак.
Татарин сделал отрицательный знак, указывая на Огневика и прикладывал руку к сердцу... но его не понимали.
Огневик подошёл к нему, выхватил ключ и закричал грозно:
— В петлю злодея!
В минуту татарин уже висел на суку, и один из казаков, чтоб скорее кончить дело, схватил висельника за ноги и дёрнул изо всей силы.
Тело Марии и несчастного слуги её зарыли в яме под деревом, на котором повесили убийцу, и Огневик с грустью в сердце поскакал к своей ватаге.
В тот же вечер двое горожан, возвращаясь в Батурин с ближнего хутора, увидели татарина, висящего на дереве, над свежею могилою, и дали знать об этом полковнику Чечелу.
Весть о сём разнеслась по всему городу, и все радовались погибели ненавистного татарина, страшась за другую жертву, ибо каждое семейство имело отсутствующего члена. Когда на другое утро Чечел выслал отряд казаков, чтоб предать земле тело татарина и узнать, кто лежит в свежей могиле, множество жителей поспешило на место злодейства. Все поражены были ужасом, отрыв тело Марии и её слуги и найдя отрезанную голову в кожаном мешке. Как Мария слыла в народе чародейкою, а татарин был не христианин, то легковерный народ приписал убийство дьяволу и не хотел поставить креста на могиле.
Один Кондаченко разгадал истинную причину этого события и сообщил свои подозрения полковнику Чечелу, объявив о поручении, данном гетманом, умертвить Марию и Огневика, скитающегося в окрестностях Бахмача. О Наталье Кондаченко вовсе не помышлял. Чечел и Кондаченко не сомневались, что убийство Марии есть дело татарина и, наверное, полагали, что он погиб от руки Огневика. Догадки сии подтвердились полученным в тот же день известием от поселян, видевших толпу запорожцев, укрывшихся в лесу. Чечел послал Кованько приказание быть осторожным в Бахмаче и, не имея конных казаков, не мог послать погони за запорожцами, он запер городские ворота и расставил кругом крепкие караулы Огневик, узнав, что пребывание его в окрестностях дошло до сведения властей, удалился в степи, но направлению к Белой Церкви.
Прошло восемь дней от убийства Марии, и вдруг в Батурин прискакал гонец от гетмана с известием, что он поддался с войском под покровительство короля шведского. Полковнику Чечелу приказано было защищать Батурин от русских до последней капли крови и распространить в народе универсалы гетмана и короля шведского, в которых изложены были причины и пользы соединения со шведами и обещаны новые вольности и права народу Малороссийскому. Универсалы уже были напечатаны прежде и хранились в одном шкафу войсковой канцелярии. Гетман писал к Чечелу, что он надеется на его верность и потому производит его в генералы и отдаёт в вечное владение все вотчины полковника Полуботка, которого назвал в письме изменником и отступником от народа малороссийского.
Ужасное смятение возникло в народе при получении этого известия и при чтении универсалов. Буйные люди рады были случаю к ниспровержению порядка и ослушанию властям; смиренные, честные, богобоязливые устрашились клятвопреступления и измены, предвидя гибель отечества. Жители Малороссии разделились на партии, неприязненные одна другой. Одни утверждали: что гетман благ есть; другие говорили; что он льстит и обманывает народ. От споров дошло до драк, и прежде нежели универсалы русского царя проникли в Малороссию, уже все благомыслящие люди приняли его сторону.
Полковник Чечел, есаул Кованько и сердюки прибыли верными гетману. Батурин и Бахмач снабжены были всеми средствами к защите. Чечел выгнал из города всех подозрительных горожан и решился сопротивляться русскому войску до последней крайности, если оно обратится к Батурину.
Огневик, пользуясь случаем, вышел с ватагою своей из мест, где укрывался, и, приглашая всех сынов Украины быть верными русскому царю и громить изменников, собрал в несколько дней дружину в несколько тысяч человек. Он подступил к Бахмачу, требуя именем царским сдачи замка и приглашая казаков соединиться с ним под хоругвь Палея, которого скорый возврат он возвещал всем верным украинцам и малороссиянам. В самом деле, при первом известии об измене Мазепы, Огневик написал прошение к царю, от имени всей Украины, о помиловании Палея и послал его чрез Киев, в главную квартиру, не сомневаясь в правосудии царя и в успехе своего предприятия.
Есаул Кованько отвергнул предложение Огневика, но в числе его подчинённых было много приверженцев Палея, гнушавшихся изменою. Они отперли ночью ворота замка, опустили подъёмный мост и впустили в замок Огневика с его дружиной.
Кованько с преданными гетману казаками заперся в доме и отстреливался до утра. Тогда Огневик с саблею в руке устремился на приступ, со старыми палеевцами, и чрез несколько минут дом был взят, большая часть упорствующих казаков перебита, и Кованько, израненный, попал в плен.
Огневик не велел употреблять огнестрельного оружия при штурме дома, опасаясь, чтоб в перестрелке не подвергнуть Наталью опасности. Овладев домом, он велел привесть пред себя Кованьку и спросил:
— Где Наталья, дочь гетмана?
Кованько смотрел ему в глаза с удивлением и спросил:
— А разве она здесь?
— А где же она может быть? — воскликнул с нетерпением Огневик. — Разве ты отправил её куда-нибудь, по выезде отсюда гетмана?
— Я не видал её с того времени, — отвечал простодушно Кованько. — Здесь оставалась княгиня Дульская и какой-то польский пан; но они, узнав, что гетман уехал ночью в Батурин, тотчас бежали в Польшу, а о Наталье я вовсе не слыхал, где она девалась, и думал, до сих пор, что гетман выслал её в ту же ночь из Бахмача...
— Нет, я знаю, что он не увёз её с собою!.. — сказал Огневик, едва удерживая своё нетерпение.
— Ну, так после гетманского отъезда ни одна душа кроме пани Дульской и польского пана, не выходила из Бахмача. Это верно, как Бог на небе!
— Лжёшь!.. Говори правду!.. Признайся, где она... или я тебя растерзаю на части!.. — завопил Огневик в бешенстве, ухватя за волосы Кованьку и потрясая саблею.
— Бей, режь на части! Твоя воля и твоя сила!.. — сказал хладнокровно Кованько, — но я не знаю, где Наталья, и готов присягнуть на этом!
— Братцы, берите топоры и ломы, разбивайте все двери, обыщите все углы в доме! — сказал Огневик, обращаясь к своей дружине. — Всё ваше, что найдёте здесь, откройте только убежище Натальи... Она должна быть здесь!..
Во всех концах дома раздался стук и треск, шум и вопли: двери слетали с крюков, шкафы и сундуки распадались на части, драгоценные вещи, серебро, оружие, одежды расхищались, ломались, раздирались буйными хищниками, которые дрались между собою за добычу... Огневик ничего не видел и не слышал: он перебегал из комнаты в комнату, искал Натальи и кликал её громогласно.
Толпа остановилась перед железной дверью, ведущей в башню.
— Здесь казна гетманская! — закричал один казак, и топоры застучали. Но дверь противилась всем усилиям. Стали ломать стену, чтоб вынуть крюки, на которых укреплена была дверь, но стена в сём месте складена была из дикого камня, на котором ломались орудия. В это время подошёл к двери Огневик с Москаленко: «Здесь должна быть казна гетманская, итак, попробуем ключа, который мы отняли у татарина. Я сохранил его в надежде побывать в Бахмаче — и так и сталось...
С этими словами Москаленко добыл ключ из сумы, вложил в замок, повернул, и дверь со скрипом отворилась. Жадная грабежа толпа с воплями бросилась стремглав в двери... и вдруг, как будто встретив под ногами пропасть, быстро подалась назад, толкая стоящих позади. Водворилась тишина. На всех лицах изображался ужас... Некоторые казаки закрыли лицо руками, другие крестились.
— Пустите меня! — сказал Огневик. Толпа раздалась, и он вошёл в дверь.
Если б сердце его пробили раскалённым железом, если б кровь его превратилась в пожирающее пламя, он не ощущал бы больших мучений, какие произвело в нём зрелище, открывшееся его взорам, при вступлении в дверь. На полу лежал иссохший труп, с открытыми глазами, с отверстыми устами, на которых видна была запёкшаяся кровь... На лице остались следы ужасных судорог... Руки были изглоданы... Это были несомненные признаки голодной смерти... В сём обезображенном трупе Огневик узнал — Наталью!..
Несколько минут Огневик стоял неподвижно, как оглушённый громом. Страшно было взглянуть на него! Лицо его покрылось сперва смертною бледностью, взор померк, он задрожал, и вдруг глаза его налились кровью, щёки запылали, из груди излетел глухой стон, и он бросился на труп, схватил его в объятия и стремглав побежал из комнаты. Никто не смел остановить его. Выбежав на двор, с драгоценною ношею, он закричал:
— Коня! Моего коня!
Казак подвёл ему коня. Огневик завернул труп в свой кобеняк, перевалил его чрез седло, вскочил на коня и понёсся из замка во всю конскую прыть.
ГЛАВА XVI
...Нет! В твой век
Уж не бунтует кровь; она покорна
Рассудка воле; виден ли ж рассудок
В такой замене? Ты имеешь смысл —
Имея мысли — но он спит сном мёртвым.
Здесь и безумство истину бы зрело,
И никогда не меркнул столь разум,
Чтоб в выборе подобном заблужденью
Причастным быть мог. О! Какой же демон
Тебя так злобно, дивно ослепил?
Шекспиров Гамлет (перевод М. Вронченко).Восемь человек казаков ехали верхом по лесу, без дороги, наудачу, с трудом пробираясь между деревьями. Двое из них были изранены и едва держались на лошади. Усталые кони чуть передвигали ноги. Поднявшись на кургане, един из казаков завидел вдали воду.
— Ура, братцы! Мы спасены! — закричал он громко, — Река, река!
Казаки перекрестились.
— Река доведёт нас непременно до какого-нибудь села, — сказал один из казаков, — а как солнце ещё высоко, то, может быть, мы попадём на ночлег в живое место.
— А если село занято шведами или изменниками запорожцами? — возразил другой казак.
— Ну так мы поедем в другое село, — примолвил первый казак. — Важное дело в том, чтоб попасть на дорогу к жилым местам и выбиться из этого проклятого леса, а ведь река — та же дорога. Это, верно, Сула, потому что как мы бросились в лес, то Ромны оставались у нас направо, а мы ехали всё прямо.
— Дай-то Бог, чтоб это была Сула!
Это было в начале весны 1709 года. Вода в реке поднялась высоко и ускоряла её течение. Нельзя было помышлять о переправе, а потому казаки, утолив жажду, отдохнув и напоив коней, поехали вдоль берега, по течению реки. Солнце уже начинало садиться, но казаки не нашли ещё ни дороги, ни даже стези. Они уже намеревались провести ночь в лесу, как вдруг, вдали на берегу реки, показался дым. С радостью поспешили казаки в то место.
Выбравшись на поляну, они увидели, что дым выходил из землянки, вырытой на скате крутого берега. Казаки подъехали к землянке и стали громко звать хозяина. Вышли два человека. Один из них был старец, в ветхой монашеской рясе, с чётками в руке, в чёрной скуфье, подбитой лисьим мехом; другой в цвете лет, но бледный, исхудалый, с чёрною бородою, в изношенной казацкой одежде. Начальник прибывших казаков, пристально всматривался в младшего отшельника и вдруг, бросив поводья, сплеснул руками и громко воскликнул:
— Так! Я не ошибаюсь! Это Богдан! Это наш Огневик!..
Отшельник поднял глаза, потом опустил голову на грудь, как будто припоминая что-нибудь, и наконец протянув руку к начальнику казаков, сказал:
— Здравствуй, Москаленко! Я не думал увидеться с тобою в здешней жизни. Какими судьбами занесло тебя в эту пустыню?
— Я тебе расскажу это после, — отвечал Москаленко, соскочив с лошади и бросившись обнимать Огневика. — Слава Богу, что я нашёл тебя! — примолвил Москаленко. — У меня есть для тебя добрые вести!
— Я не жду и не надеюсь добрых вестей в здешнем мире, — отвечал Огневик. — Я умер для света!..
— Пустое, брат! — возразил Москаленко. — Ты волен отказаться от света во всякую пору, но не можешь отказаться от отечества, когда оно в опасности, когда чужеплеменник раздирает и язвит его железом и пламенем, когда угрожает ему рабством... Огневик! Отечество — вот первая святыня, драгоценнее души и жизни, а наша святая Русь теперь в опасности, наша Русь призывает сынов своих к оружию... Нет, Богдан! Бог и царь, вера и закон повелевают тебе возвратиться под знамёна нашего прежнего военачальника, нашего батьки, старика Палея...
— Как! Палей жив, Палей возвращён!.. Слава Богу! Теперь я умру спокойно!.. — воскликнул Огневик.
— Так, Палей снова на коне, Палей в прежней славе! Но и Палей, и все наши удальцы то и дело что вспоминают о тебе... Я тебе расскажу обо всём подробнее, только, ради Бога, накорми нас и призри моих раненых... Но я от радости и позабыл о хозяине... Благослови, святой отец! — Москаленко подошёл к старику схимнику и поцеловал его руку. Старец осенил его крестом.
— Милости просим! — сказал Огневик. — Но вы у нас ничего не найдёте, разве немного рыбы и муки...
— Чего же более! — вскричал один из казаков. — Коли есть мука, так будут галушки. Без того нам пришлось бы глодать кору или жевать мох в этом проклятом лесу...
Казаки слезли с коней, привязали их к деревьям и стали разводить огонь и делать для себя шалаш. Схимник пригласил раненых и Москаленку в свою землянку, сам перевязал раны страждущих и отдал Москаленке весь запас свой, мешок муки и лукошко сушёной рыбы. В землянке подложили дров на очаге и один из казаков стал варить пищу, между тем как другие искали корму для коней. Тщетно Москаленко старался возбудить любопытство в Огневике и заставить его самого рассказать свои приключения, со времени взятия Бахмача. Огневик не расспрашивал его ни о войне, ни о старых товарищах и не хотел отвечать на вопросы. Он был угрюм и грустен, сидел на обломке дерева, потупя глаза, и, казалось, не замечал происходящего вокруг него. Вопросы Москаленка как будто тревожили его. Казалось, что Огневик в уединении своём отвык от человеческих речей. Когда поставили ужин и казаки собрались в землянку, Огневик вышел и углубился в лес.
После ужина казаки вышли из землянки, и в ней остались только схимник и Москаленко.
— Давно ли находится здесь мой товарищ? — спросил Москаленко.
— Более года.
— Кажется, что пустыня не исцелила души его?..
— Я исцелил тело его, а душу исцелит вера. Теперь, благодаря Бога, он уже помнит себя и может молиться. Но я встретил его в ужасном положении, — примолвил старец, — и до сих пор не знаю, кто он, откуда и что за труп привёз он сюда. Я почитал его преступником и не хотел растравлять сердечных ран его расспросами, а старался только пролить утешение в его душу...
— Нет, он не преступник, — возразил Москаленко, — а несчастный. Он жертва чужого преступления. — При сём Москаленко рассказал старцу про любовь Огневика к Наталье и про несчастную её кончину.
Старец прослезился и погрузился в думу.
— Ужасно действие, но ещё ужаснее последствия необузданных страстей, — сказал старец. — Я видел это на друге твоём. По прошлой осени, я бродил однажды по лесу, — примолвил старец, — собирая целительные травы, и, утомясь, сел отдыхать под деревом. Внезапно ветер переменился и меня обдало сильным запахом гнилости. Желая исследовать причину, я пошёл противу ветра и — набрёл на ужасное явление, на поляне лежал издыхающий конь и возле него сидел, на камне, человек с всклоченными волосами, с зверским взглядом, бледный, изнурённый... Он держал на коленях полусогнивший труп женщины... это был друг твой!
С трепетом приблизился я к нему, решившись, хотя бы с. опасностью жизни, исполнить христианский долг и помочь несчастному. Он был в беспамятстве, в онемении чувств. Дико смотрел ом на меня — и не видал ничего перед собою, кроме трупа; он не слыхал речей моих и тогда только опомнился, когда я хотел вырвать труп из его объятий. Страшным, пронзительным голосом завопил он тогда, сжимая труп, и наконец упал без чувств... Я воспользовался этим временем, чтоб зарыть в землю мёртвое тело... и с великим трудом перетащил несчастного в мою землянку. К ночи открылась в нём сильная горячка.
Болезнь его была трудная, и бред, в минуты исступления, ужасен!.. Он беспрестанно видел перед собою кровь, убийства, пожары, терзания... вопил о мести и грыз себя, воображая, что раздирает врагов своих. Много мне стоило труда беречь его от самоубийства! Учась смолоду врачеванию недугов, я истощил все мои познания и средства, чтоб исцелить несчастного, и Господь благословил труд мой. Но грусть налегла на его сердце, и только одна вера и молитва поддерживают его существование. Он почти безмолвен и проводит всё время на могиле погребённой мною женщины. Я всегда сожалел об нём и молился за него, во теперь, узнав, что он чист душою, вдвое более скорблю о несчастном. Всё от Бога — помолимся Ему! — Старец стал молиться, Москаленко клал земные поклоны.
Помолившись Богу, Москаленко просил старца проводить его на могилу Наталии. Они вышли в лес, и, пройдя с полверсты, старец указал ему Огневика, стоящего неподвижно между кучею камней. Москаленко пошёл туда один.
Oгневик находился в забвении. Он смотрел на безоблачное небо, на ясный месяц и поворачивал голову на все стороны, как будто ища на небе образа своей Наталии. Слёзы текли по лицу его, но на устах была улыбка — улыбка, выражающая не радость сердца, но надежду и тихую грусть, питающуюся мечтами. Он не приметил приближения Москаленки, который, став рядом с ним, усердно молился.
Наконец Огневик увидел своего товарища и как будто внезапно проснулся. Воспоминания ожили в душе его: он громко зарыдал и бросился в объятия Москаленки.
Долго они стояли в безмолвии друг против друга, и наконец Огневик, указав рукою на камни, сказал тихо:
— Она здесь!
— А убийца её и твой гонитель ещё жив и упивается кровью наших собратий, — отвечал Москаленко с сильным чувством. — Тебе, Богдан, воину и вольному сыну степей, постыдно лить слёзы на могиле жертвы злодейства, когда должно мстить за неё, за себя и за благодетеля твоего, Палея, мстить, вместе с нами, за оскорблённое отечество...
Огневик воспламенился словами Москаленки. Это были первые слова мести, услышанные им со времени смерти Натальи.
— Месть и смерть!.. — воскликнул он.
— Смерть, казнь и позор Иуде-Мазепе! — сказал с жаром Москаленко. — Нет греха убить его, как нет греха убить дикого зверя. Мазепа предан церковью анафеме, проклят из рода в род... Палей завещал тебе мщение в подземелье Кармелитского монастыря, смерть Наталии требует очистительной жертвы. Кровь за кровь — казнь за казнь!
— Кровь за кровь! — возопил с бешенством Огневик. — Иду с тобою, — примолвил он, схватив за руку Москаленко. — Казнь за казнь! Смерть злодею!
Москаленко прижал его к сердцу.
Огневик был в сильном волнении. Вырвавшись ил объятий Москаленки, он бросился на колени и, воздев руки к небу, сказал громко:
— На этом священном для меня месте, где я вскоре надеялся слечь, клянусь отмстить за всё зло, нанесённое мне Мазепою, и собственными руками умертвить чадоубийцу — предателя, изменника отечеству...
— Аминь! — сказал Москаленко.
Огневик встал и с видом спокойствия возвратился к землянке. Они шли в безмолвии. Пришед на берег, Огневик сел рядом с Москалей кой на камнях и, помолчав несколько, сказал:
— Ты верно любопытствуешь знать, как я зашёл сюда? Я сам не знаю! Схватив в объятия труп Натальи, я поскакал... Сердце моё рвалось от бешенства и злости, в голове кружились чёрные мысли. Я хотел убить Мазепу, себя... кипел местью противу всего человеческого рода... Помню только, что я отрубил саблею косу Натальи и обвил вокруг моей шеи... Помню, что конь пал подо мною... И наконец я проснулся — в землянке отшельника. — Огневик замолчал и задумался. Слёзы навернулись у него на глазах, и он продолжал: — Мне тяжко будет расставаться с могилою Наталии! Я решился было провести здесь остаток жизни, в посте и молитве. Ты заставил меня переменить моё намерение. Возвращаюсь в свет, ненавистный мне... еду с тобою! Но расскажи мне, что делается между людьми, что сталось с Украиной, с Палеем, с царём... Где неприятель? Я а это время не жил, никого не видал, ничего не слыхал!
Москаленко начал свой рассказ:
— После того, как ты оставил нас в Бахмаче, ватага наша присоединилась к войску царскому. В это время дело шло о выборе гетмана, на место Мазепы. Мнения в войске и между старшинами были не согласны. Народ хотел Палея, а старшины намеревались выбрать Полуботка. Но царь не захотел ни того, ни другого. Оба они казались опасными. О Полуботке царь сказал: «Он слишком хитёр и может сделать то же, что Мазепа». Царь приказал выбрать Скоропадского, полковника Стародубовского, человека доброго, но слабодушного, с умом ограниченным. Войском Малороссийским управляют воеводы, русские, а гетман поставлен только для вида. Много недовольных между старшинами, и все опасаются, чтобы пророчество Мазепы не сбылось, то есть, чтоб после войны не было с нами того же, что сталось со стрельцами.
Царь получил письмо твоё и тотчас приказал уволить Палея. Ему возвращён Хвастовский полк. Цепи не охладили его крови, и ссылка не усыпила в нём отваги. Сильна душа его — но тело ослабело в страданиях. Уже он не тот бодрый и неутомимый воин, который в старости превосходил нас, молодых, в искусстве владеть конём и саблею. С трудом держится он на коне, но не престаёт помышлять о благе войска. Он хочет подать царю челобитную о нуждах нашего края и просить его о восстановлении древних привилегий. Ты крайне нужен ему.
Вторжение шведов в Украину и измена Мазепы сначала поразили страхом всех — кроме царя! Кажется, он ждал Карла в России, приказав войскам своим уходить перед шведами из Польши и сражаться только при крайней необходимости. Никогда король шведский не был так силён, как в то время, когда выступал из Саксонии, с намерением свергнуть царя с Московского престола. С ним было сорок тысяч опытных воинов, из коих каждый привык сражаться противу десятерых врагов — и побеждать. Шведский генерал Левенгаупт шёл за ним с двадцатью тысячами войска и бесчисленными запасами. Мазепа обещал шведскому королю тридцать тысяч казаков и всю Сечь Запорожскую. Карл XII шёл в Россию, как на пиршество, и думал, что вся трудность при завоевании русского царства состоит в непроходимых путях и больших расстояниях. Жаждая русской крови, король шведский с быстротою тигра спешил за отступающими русскими отрядами и в самое неблагоприятное время, осенью, углубился в леса и болота литовские. Голод, труды, болезни и русские штыки на каждом шагу уменьшали число шведов, и когда король пришёл на Десну, то, как мы после узнали, войско его уже находилось в крайности, быв принуждено бросить в лесах и болотах большую часть пушек, обозов и съестных и боевых припасов. Король надеялся на Мазепу. Он явился не как сильный союзник, а как беглец, ищущий убежища и зашиты от угрожающей ему казни. Запасы, снаряды, оружие и казна, приготовленные Мазепою для шведов, достались русским. Батурин, Ромны, Гадячь, Белая Церковь взяты русскими приступом и приверженцы изменника побиты без пощады. Настала зима, какой не запомнят старики, и шведы дошли до крайности. Помощь и обозы с казною и припасами, которые вёл Левенгаупт, достались также русским, и едва несколько тысяч шведов спаслись. Отряд Левенгаупта разбит наголову! С Польшей пресечено всякое сообщение. Мазепины козни кое-как додерживали шведов, но когда они стали грабить поселяй, то и последние приверженцы Мазепы от него отступились. Народ, в свою очередь восстал противу грабителей и бьёт их, где только может. Без всякой пользы шведы переходили с места на место и проливали кровь, чтоб овладеть пустыми городами и сёлами, а между тем русское войско укреплялось и устраивалось. По несчастью, Мазепе удалось недавно склонить к бунту кошевого атамана запорожцев Гордеенку. Слух об этом пронёсся в нашем войске, но царь не хотел верить. Меня послали с малым отрядом в тыл шведской армии, чтоб разведать об этом основательно. Нечаянно напала на меня сильная ватага запорожцев. Они требовали, чтоб я сдался, но мы пробились сквозь них и рассеялись в лесу, условившись, чтоб каждый поспешал своим путём к войску и уведомил об измене запорожцев. Таким образом я попал сюда!..
Шведский король осаждает теперь Полтаву, где хранятся запасы русского войска. Если он возьмёт город, то дела его поправятся; если же город устоит до тех пор, пока царь успеет подойти на помощь, то будет решительная битва... Надеюсь, что мы ещё поспеем на этот пир!
На другой день Огневик взял коня и оружие одного тяжело раненного казака, не могшего продолжать путь, и отправился с Москаленкой к русскому войску.
Шведский лагерь под Полтавою находился на западе от города и прикрывался редутами. В первой линии расположена была отборная шведская пехота, а по обоим крылам конница. В средине возвышалась ставка королевская. В некотором расстоянии за первой линией находился резерв из финских стрелков и эстлянских гренадер. За резервом, в полуверсте, помещался обоз, состоявший из крестьянских телег с военными тяжестями и с малым количеством съестных и боевых запасов. Обоз был прикрыт отрядом Мазепы. За обозом расположен был арьергард, из нескольких тысяч пехоты и войска Запорожскою, присоединившегося к шведам незадолго пред сим.
С падением могущества Мазепы исчез страх, которым окованы были сердца и уста его подчинённых. Из числа оставшихся при нём до сей поры старшин и полковников не было ни одного, который бы пожертвовал собою из любви и преданности к гетману. Одних увлекло честолюбие, других корыстолюбие, третьих ложно понимаемая любовь к родине, некоторых привычка повиноваться беспрекословно ужасному для всех гетману. Страх казни и надежда на гений шведского короля удерживали сих несчастных, преступных или заблудших от возвращения к долгу и присяге. Но все они, постигая важность принесённой ими жертвы, почитали Мазепу своим должником и хотя повиновались его приказаниям по делам службы, но обращались с ним почти так же, как со своим равным, позволяя себе говорить резкие истины и намёками упрекать в общем бедствии. Даже покорный, раболепный Орлик уже осмеливался иногда спорить со своим благодетелем и возражать ему. Низшие офицеры и казаки, которых осталось при гетмане не более полуторы тысячи, хотя терпеливее сносили всякого рода недостатки, нежели начальники, но, заразясь примером запорожцев, слабо соблюдали военную подчинённость, чувствуя, что они всё делают не по долгу, а по собственной воле. Отряд Мазепы походил более на толпу бродяг, нежели на войско.
Мазепа огорчался сим расположением умов, но сносил всё терпеливо, будучи уверен, что с возрождением его могущества возобновятся в его подчинённых прежние чувствования и что с успехом оружия шведского вся Малороссия и Украина пристанут к нему и охотно подчинятся его власти. Мазепа не отчаивался, хотя дела короля шведского и приняли неблагоприятный оборот. От взятия Полтавы зависела участь предстоящей кампании, ибо в сём городе находилось несметное число всякого рода запасов, в которых шведское войско терпело совершенный недостаток, а потому и не могло действовать наступательно. Многие опытные мужи, из приближённых Карла, верили, что после взятия Полтавы откроется путь в Москву, где ожидает их славный и полезный мир. Они не знали вовсе ни Петра, ни России! Плохо знал их и сам Мазепа, хотя и не разделял вполне надежд Карла и его приближённых.
В лагере приготовлялись праздновать день рождения шведского короля, 8 июня. Носились слухи, что в сей день объявлен будет приступ к городу, чтоб овладеть оным до прибытия царя, приближавшегося с сильным войском. Но накануне король шведский, получив известие, что партия русских фуражиров показалась в тылу лагеря, отправился противу их с конным полком, чтоб удостовериться лично, к какому отряду принадлежит эта партия, ибо слышно было, что царь с войском уже недалеко и спешит на выручку осаждённого города.
Уже было около полудня, но король ещё не возвращался из разъезда. Между тем казацкие старшины завтракали в ставке прилуцкого полковника Горленки, которому удалось достать хлеба и водки, почитавшихся тогда редкостями в шведском лагере.
— Выпей ещё чарочку, пане писарь! — сказал хозяин. — В Батурине я бы попотчевал тебя чем-нибудь получше, а здесь прошу не прогневаться...
— Батурин!.. Не вспоминай о Батурине всуе, — возразил Орлик с тяжким вздохом. — Развалины его священны для казака: они облиты чистой казацкой кровью.
— Жалки не те, которые пали с оружием в руках, — сказал полковник Покотило, — а мы, мы, изгнанники, осуждённые на казнь, отринутые отечеством и церковью, в нужде, в бедствии, между иноплеменниками, терзающими нашу родину!..
— Перестань, псаломщик! — сказал с досадою Герциг. — Твоим жалобам нет ни конца, ни меры! Всё одна песня на голос Иеремии... Кто нас отринул? Те, которые почитают нас изменниками своему царю и которых мы почитаем изменниками отечеству! Ещё мы в чистом поле, ещё владеем оружием — и дело наше ещё не решено. Войско Малороссийское там, где хоругвь, где клейноды войсковые, где сам гетман и где хартии наши... Здесь только может быть суд и расправа между нами...
— Сказка, красная сказка, пане Герциг! — возразил Чуйкевич. — Правая сторона та, на которой сила. Паши хартии, наши войсковые клейноды разлетятся в прах от пушечных выстрелов, если король шведский не останется победителем... А обманывать нам друг друга не для чего. Успех Карла — дело сомнительное!
— Вот что правда, то правда, — примолвил Покотило. — Славны бубны за горами! Короля шведского представляли нам каким-то полубогом, а воинов его героями, неким чудом, людьми неуязвимыми, железными! Ну вот мы познакомились с ними покороче! Правда, нет равного Карлу — в упрямстве, а шведы хотя храбры — но смертны, и так же, как и мы, грешные, не могут жить на пище Св. Антония и не глотают русских пуль, а валятся от них, как и мы, негерои!.. Вместо того, чтоб идти в Польшу, мы проголодали и продрогли всю зиму здесь, чтоб иметь удовольствие драться с русскими на наших пепелищах, за обгорелые головни, а теперь вот уже шесть недель стоим под Полтавой да ждём, пока попутный ветер не занесёт к нам из города запаху жареного...
— Срам подумать, что у короля сорок тысяч войска, а в Полтаве едва ли и пять тысяч русских!.. — примолвил Горленко.
— Нечего дивиться, что мы попали впросак, поверив мудрости гетманской, — сказал Забелла, — но вот диво, как-то наш мудрый пан гетман попал сам в эту западню! Кажется, он до сих пор не ошибался в расчётах, какому святому и перед каким праздником должно ставить свечу и класть поклоны.
Раздался в толпе хохот.
— Уж правду сказать, что наш гетман жестоко ошибся в своём расчёте, — сказал Жураковский, — Мне, право, стыдно за него, когда подумаю, чем он был и что он теперь! Ведь нас было тысяч до пяти, как мы перешли к шведам, а теперь нет и полуторы тысячи. Апостол и Галаган подали пример, так с тех пор, при всяком случае, казаки наши перебегают десятками в московский лагерь и скоро некому будет сторожить войсковые клейноды. Что толку, что вы, пане генеральный писарь, день и ночь пишете с гетманом универсалы и приглашаете всех присоединиться к нам! Вас не слушают ни казаки, ни украинские поселяне и вместо того, чтоб помогать нам, бьют шведов, где только удаётся поймать их...
— А кто виноват? Зачем шведы грабят наших? — примолвил Забелла.
— Нужда заставляет брать насильно, когда не хотят даже продавать съестных припасов, — возразил Герциг. — Ведь мы просим и платим...
— Итак, вот лучшее доказательство, что народ малороссийский и украинский не хочет быть заодно с нами и верен царю, — сказал Забелла. — Не испытав броду, не суйся в воду.
— А у меня на уме всё гетман, — примолвил Жураковский. — Господи, поля твоя, до чего он дожил! Выл царьком, а теперь попал в обозные...
Забелла захохотал. Орлик сурово посмотрел на него, но не промолвил слова. Во всё время он сидел в углу палатки, наморщив чело и насупив брови, слушал, но казался бесчувственным.
— Да, правда, не много чести нажили мы здесь, — примолвил Покотило. — Эти проклятые шведы смотрят на нас, как на своих холопей, и я не забуду, что мне сказал недавно шведский капитан, когда я упрекнул его, что он не снял шляпы перед гетманом. Любят измену, но не уважают изменников, отвечал мне швед...
— Кто осмеливается говорить об измене! — воскликнул Орлик грозным голосом, быстро вскочив с места и поглядывая на всех гневно.
— Шведы!.. — отвечал Покотило с лукавою улыбкой.
В сию минуту вбежал казак и позвал Орлика к гетману Он вышел, бросив грозный взгляд на целое собрание.
Убедясь в непоколебимой верности народа малороссийского к русскому царю и не доверяя счастью Карла XII, Орлик потерял надежду на успех замыслов Мазепы и с тех пор сделался угрюм и задумчив. Тайная грусть снедала его. Он не нарушал уважения и подчинённости к гетману, но уже не верил словам его, как прорицаниям. Мазепа ласкал его по-прежнему, но замечал в нём перемену, не доверял ему и даже подозревал в намерении оставить его и перейти на сторону русского царя.
Когда Орлик вошёл в палатку, Мазепа сидел за своим письменным столиком.
— Садись, любезный Филипп! — сказал Мазепа, указывая на складной стул, стоявший возле стола.
Орлик сел, не промолвив слова.
— Надобно, чтоб ты выбрал человек десять надёжных казаков, — сказал Мазепа. — Вот я сочинил универсал, который надобно переписать и разбросать по городам… Я прочту тебе...
Орлик горько улыбнулся.
— Я знаю, что вы не напишете дурно, — отвечал он, — да что пользы в этих универсалах! Ведь мы более сотни универсалов, различного содержания, пустили в ход, и никого не убедили пристать к нам! Только напрасно подвергнем опасности рассыльщиков наших или, что ещё хуже, дадим им случай бежать от нас... Нас и так весьма немного!..
Мазепа положил на стол бумагу, которую держал в руке, посмотрел пристально на Орлика, покачал головою, нахмурил брови и не отвечал ни слова.
Несколько минут продолжалось молчание.
— Орлик, ты не тот, что был прежде! — сказал Мазепа, смотря пристально на него.
Орлик молчал и потупил глаза.
— Ты не тот, что был прежде, — примолвил Мазепа, — ты забыл, Филипп, мою отеческую любовь к тебе, мою дружбу, мою доверенность... мои попечения о твоей юности, о твоём возвышении...
— Я ничего не забыл, — отвечал Орлик поспешно, — и предан вам по-прежнему...
— Ты предан мне по-прежнему! Верю! — сказал Мазепа, горько улыбнувшись, — но если ты не изменился в чувствах ко мне, то отчего же ты переменился в речах, в поступках, даже в нраве? Ужели и ты упал духом?..
— Признаюсь, пане гетмане, что я не могу утишить голоса, вопиющего из глубины души моей!.. Этот голос беспрестанно твердит мне, что мы погубили себя и отечество...
— Этот голос есть глагол малодушия, отголосок себялюбия, — возразил Мазепа.
— Не упрекайте меня, ясневельможный гетмане, в малодушии! Не один я упал духом. Послушали бы вы, что говорят наши старшины, что толкуют казаки! С потерею надежды все мы лишились прежнего нашего могущества... Все поколебались!..
— А я остался твёрд и непоколебим, — сказал Мазепа, подняв голову и перевалившись в креслах, посмотрев на Орлика гордо и погладив усы свои.
— Первая буря лишила вас мужества, и вы упали духом от града, а я презираю громы и молнии, — сказал Мазепа. — Вы осмеливаетесь роптать и плачете о рабстве, страшась изгнания... Малодушные!.. И вы дерзаете помышлять о независимости!.. Теперь вижу, что эта пища не по вашим силам и что я должен был поступать с вами не как муж с мужами, а как лекарь с больными, как нянька с ребёнком! В нескладном вашем ропоте вам бы надлежало вспомнить обо мне, сравнить участь нашу и тогда, может быть, рассудок просветил бы вас и вы устыдились бы своего малодушия... Подумал ли хотя один из вас о том, что я вытерпел без ропота, без жалоб, противупоставляя ударам судьбы мужество, о которое должны сокрушиться наконец её орудия! Вспомни, что была Малороссия при прежних гетманах. Я украсил, укрепил и населил город, ввёл порядок в управлении войсковым имуществом, обогатил казну, защитил слабого от сильного, учредил школы, просветил целое поколение — и народ забыл всё это, оставил меня, предал в ту самую пору, когда я требовал содействия его для увековечения моих трудов, для его блага! Я обогатил духовенство, построил храмы Божии, украсил их — и духовенство прокляло меня, тогда как я вооружался на защиту их достояния! Собранные неусыпными трудами моими сокровища — расхищены, домы мои ограблены, вотчины у меня отняты, и имя моё, которое в течение двадцати лет произносимо было с уважением в целой России, — предано посрамлению, лик мой пригвождён к виселице!.. Мало этого!.. Неумолимая судьба не удовольствовалась этими сердечными язвами; она хотела испытать меня в самом сильном чувстве — и лишила меня последней отрасли... Дочь моя, моя Наталья, единственная радость моя в жизни, погибла в муках, от моей ошибки, от забвения, которое должно приписать какому-то чуду — и я не умер от горести... я даже не пролил слёз перед вами... не показал вам грустного лица, сокрыл отчаянье во глубине души моей — и молчал! Вы похваляетесь вашим мужеством в боях и не стыдитесь унывать в бедствии. Но истинное мужество, сущее геройство, есть бодрость в несчастии, ибо меч и пуля уязвляют только тело, а несчастие поражает душу... Я устоял противу бури и надеюсь, что она превратится в попутный ветер. Ещё не всё погибло — когда я жив! Правда, что король шведский опрометчив, упрям, самонадеян — но он герой на поле брани и своим гением может склонить победу на свою сторону, а от одной решительной победы зависит участь этой войны, ибо тогда откроются нам сообщения с Польшей и Швецией, и мы воскреснем... Если же царь одержит победу, то и тогда не всё погибло для вас! Кто бы ни царствовал в Польше, на что бы ни решились Порта и Крым в сей войне, они никогда не могут благоприятствовать возвышению России, и если я предложу им основать гетманщину, новое казацкое войско в Польской Украйне и в степи Запорожской, чтоб противопоставить оплот русскому могуществу, — они с радостью согласятся. Я имею друзей в Молдавии и в Валахии и сохранил ещё столько денег, чтоб склонить визиря на избрание меня в господари одного из сих княжеств... Я открыл пред тобою душу мою, Орлик, ибо уверен, что ты мне предан... Итак, мужайся, перестань скорбеть и надейся на эту голову!
Орлик, не говоря ни слова, поцеловал руку Мазепы, который, представляя самолюбивые замыслы спои под покровом любви к отечеству и исчислив страдания свои, возбудил жалость в душе своего приверженца, а надеждами на будущее — воскресил в нём увядшее мужество.
— Если б все наши старшины могли понимать вас!.. — сказал Орлик.
— Пусть они не чуждаются меня, пусть приходят ко мне для излияния своих горестей и сомнений, и я успокою их. Тебе, Орлик, поручаю сблизить меня с ними. Мы здесь не в Батурине. Вход ко мне не возбранён друзьям моим...
Вошёл полковник Герциг и сказал:
— Король возвратился из разъезда. Он разбил русскую партию и привёл пленных. От них узнали мы, что сам царь пришёл к Полтаве с войском, которое простирается до семидесяти тысяч человек!..
— До семидесяти тысяч! — воскликнул Мазепа. — Что ж король?
— Рад-радёхонек! — отвечал Герциг, пожимая плечами. — Он прислал к вам старого нашего приятеля, немца Л ей стен а, который был у нас в плену и по вашему ходатайству помещён в царском войске. Он передался к вам добровольно и хочет переговорить с вами...
— Где он? Позовите его! — сказал Мазепа с нетерпением. — А вы, друзья мои, оставьте меня наедине с немцем!
Орлик и Герциг вышли из палатки и впустили перемётчика, который был в русском офицерском мундире, со шпагою.
Мазепа встал с кресел, распростёр объятья и, прижав к груди Лейстена, сказал:
— Приветствую тебя, верный друг мой, и благодарю за верную службу!
— Служба моя кончилась! — отвечал Лейстен. — Я делал всё, что мог, уведомлял вас при каждом случае обо всём, что мог узнать, и теперь должен был явиться к вам лично...
— Обещанное тебе награждение готово, любезный друг, — сказал Мазепа, прервав речь Лейстена. — Хотя русские ограбили меня, но у меня ещё есть столько, чтобы поделиться с друзьями моими.
— Не в том дело, господин гетман! — возразил Лейстен. — Я пришёл к вам с вестью, которую не мог никому поверить. Жизнь ваша в величайшей опасности: противу вас составлен заговор...
Мазепа побледнел. Посинелые уста его дрожали: он неподвижно смотрел на Лейстена и, не говоря ни слова, присел в креслах, как будто ослабев.
— Слушаю! — сказан гетман дрожащим голосом.
— Вы знаете, что Палий возвращён из Сибири, — проделывал Лейстен. — Он теперь так слаб и дряхл, что едва держится на коне и уже не может предводительствовать казаками, которые чтут его, как полубога. Но при нём находится дружина, из отборных казаков его прежней вольницы, которою начальствует тот самый есаул, которого вы пытали в Батурине и который был сослан...
— Огневик! — сказал Мазепа с жаром. — Но я слыхал, что он погиб?
Он недавно явился в царском лагере, и царь, по ходатайству Палия, простил его. Огневик заставил дружину Палия поклясться, не жалея жизни, искать вас в первом сражении и во что бы то ни стало — убить!..
— Разбойники! — сказал про себя Мазепа и притом примолвил громко: — Благодаря твоей дружбе им не удастся это. Скажи же мне, что замышляет царь?
— Он знает о состоянии войска шведского и решился напасть на нашего короля...
Мазепа только пожал плечами и, помолчав несколько, сказал:
— Поместись, друг мой, в палатке Орлика. Мы после переговорим с тобой, а теперь я должен идти к королю и поздравить его с днём рождения.
Мазепа вышел из ставки вместе с перемётчиком и отправился в шведский лагерь, велев одному из сторожевых казаков следовать за собою.
Карл, возвратясь из разъезда, ещё не слезал с коня и осматривал лагерь. Он остановился возле толпы своих солдат, которые шумели и спорили между собою.
— Что это такое? — спросил Карл.
Один из солдат выступил из толпы и, подавая королю кусок чёрного, чёрствого хлеба из мякины и отрубей, сказал:
— Вот что нам роздали на праздник! Трое суток мы голодали, а на четвёртые не можем раскусить и разжевать этого лакомства...
Солдаты обступили короля и смотрели на него с любопытством, ожидая нетерпеливо, что он скажет. Голод и нужда сделали сварливыми, недоверчивыми и беспокойными сих неустрашимых воинов, которые преодолели столько трудов единственно из угождения своему венчанному полководцу и из любви к нему.
Король взял кусок хлеба, разломал его и стал спокойно есть. Отдавая остальное солдату, король сказал хладнокровно:
— Хлеб нехорош, но есть его можно, особенно когда нет лучшего.
Солдаты посмотрели друг на друга и молчали. Король удалился, и они без ропота принялись за пищу, которая прежде казалась им противною. Между тем король возвратился к своей палатке, где ожидали его генералы. Приняв поздравления, он слез с лошади и, ступив на ногу, захромал. Камердинер бросился к нему и, увидев кровь на сапоге, закричал:
— Вы ранены, ваше величество!
Все пришли в беспокойство.
— Кажется, что так! — отвечал король, обращаясь с улыбкою к фельдмаршалу графу Рейншильду. — Когда я преследовал русскую партию, — примолвил король, — два казака несколько раз врезывались в средину нашего эскадрона, как будто ища кого-то...
— Верно, меня! — сказал про себя Мазепа.
— Один из них, высокого роста, черноволосый, сильный, гонялся за моими казаками, заглядывая каждому в лицо, как будто желая узнать знакомого...
— Это Огневик! — прошептал Мазепа.
— Другой, молодой, ловкий казак, привязался ко мне, как слепень, и несколько раз чуть не задел меня саблей, Я наскочил на него и, кажется, пробил его насквозь моею шпагою. Но в это мгновение черноволосый казак выстрелил в меня — и, по счастью, попал — только в ногу... Я думаю, что это пустая рана!..
Король вошёл в ставку, сел на походную кровать и велел снять сапог. Нога так распухла, что камердинер не мог исполнить желания короля. Он жестоко страдал, но не жаловался и старался казаться спокойным. В это время фельдмаршал граф Рейншильд и государственный министр граф Пипер вошли с тремя врачами.
Доктора разрезали сапог и, осмотрев рану, объявили, что кость в пятке раздроблена. Двое из них утверждали, что для предупреждения неминуемого воспаления и антонова огня надобно отрезать ногу. Третий доктор молчал, Король, обратясь к нему, спросил:
— Твоё мнение, Нейман?
— Я думаю, государь, — отвечал доктор, — что, сделав разрезы вокруг раны, можно спасти вас... Только я должен предуведомить ваше величество, что операция будет болезненна...
Король улыбнулся.
— Режь, братец, смело и начинай тотчас! — сказал он.
Доктор принялся за операцию, во время которой король даже не поморщился и сам поддерживал ногу обеими руками. После перевязки король прилёг на подушки и, отдохнув с полчаса, велел позвать Мазепу.
Граф Пипер ввёл его.
— Господин гетман! — сказал король. — Вы слышали, что царь хочет атаковать нас?
— Слышал, ваше величество!
— Мы предупредим его, — примолвил король. — Нападающий имеет такое же преимущество пред атакуемым, как конный перед пешим или как сытый перед голодным. Говорят, что царь почти втрое, сильнее меня! Не беда! Под Нарвой он был сильнее меня ровнёхонько всемеро! Победу доставляет не физическая, но нравственная сила, и моё имя стоит, по крайней мере, половины русского войска... Мы атакуем царя...
— Государь! Я уже докладывал вам несколько раз, что русские теперь не те, что были под Нарвою... — возразил Мазепа.
Король не дал ему продолжать и сказал:
— Правда, что они искуснее теперь бегают от меня, чем прежде. Но наконец я поймал их!
— Они отступали перед вами, пока чувствовали, что не в силах вам противиться, — отвечал Мазепа, — но теперь, когда нападают, то, верно, надеются на свои силы и мужество.
— Нет, не чувство силы и мужества заставляет Петра решиться на это, но зависть... Моя слава горька ему! В Москве я решу паше соперничество!.. — Король покраснел от гнева.
— Но успех был бы вернее, если б мы не отступили теперь в Польшу, дали солдатам нашим отдохнуть, укрепиться, а между тем усилили бы наше войско...
Король быстро поднялся с кровати:
— Как! Мне бежать от московского царя! Никогда! Нет, он не увидит никогда моего арьергарда иначе, как пленный или как проситель... — Король был в гневе.
— Всякое внутреннее движение вредно вашему здоровью, — сказал доктор.
— Пустое! Мне вредно одно бездействие, — возразил король. — Пушечный гром излечит меня скорее твоих пластырей, — промолвил он, улыбаясь. — У нас пет пушек, — сказал он, обратясь к Рейншильду, — но у нас есть штыки, и мы возьмём пушки у русских... Господин гетман! Вы будете начальствовать всею иррегулярною конницей...
— Прошу вас, государь, уволить меня от деятельного участия в предстоящем сражении, — сказал Мазепа, низко поклонясь королю.
— Это что значит? Это я впервые в жизни моей слышу от воина! — сказал король.
— Государь! — отвечал Мазепа. — Царь провозгласил меня изменником и предателем отечества, итак, если я буду сражаться противу моих единоземцев, противу казаков, находящихся в его войске, то подам повод к новой клевете и возбужу к себе ненависть народную. Напротив того, когда после одержанной вами победы я скажу народу малороссийскому, что руки мои не обагрялись кровью даже неприязненных мне земляков, тогда они скорее поверят, что я приглашаю их подчиниться вашему величеству для их собственного блага...
— Пусть будет по-вашему! — отвечал король и, обратясь к Пиперу, примолвил: — Напиши от меня письма к королю Станиславу и к сестре моей в Швецию и уведомь их, что я легко ранен. Пожалуй, враги мои готовы разгласить о моей смерти, а уж верно, объявят калекой! Скажи, при сём случае, что мы с царём стоим противу друга, оба с сильным желанием сразиться, и что я атакую его. Не забудь этого! Именно не он на меня нападает, а я нападаю на него! Прибавь, что под Полтавой должна решиться участь царства Московского и что первое известие, которое в Европе получат от меня, будет весьма кратко: или Пётр уже не царь Московский — или Карл погиб с войском! Господа, прощайте, я хочу уснуть!
ГЛАВА XVII
И грянул бой, Полтавский бой!
А. ПушкинИ что ж осталось? Испытать, что властно
Раскаянье? — Чего оно не властно!
Что властно там, где нет его в душе?
Шекспиров Гамлет (перев. М. Вронченко).Идут, находят воздаянья,
Кипят и казни, и беды...
И нет уж более средины!
Ф. ГлинкаВ Европе не знали в точности о положении дел Карла XII после вторжения его в Россию и, привыкнув, в течение девяти лет, слышать только о победах его и необыкновенных подвигах, ожидали известия о разбитии царских войск и даже о свержении с престола царя. Письма, полученные сестрою Карла XII и Станиславом Лещинским из-под Полтавы, ещё более возбудили всеобщее нетерпенье, когда узнали, что два противника уже стоят друг против друга и что Карл намерен напасть на царя русского. Вдруг разнеслась весть о Полтавской битве и об ужасных её последствиях для славы и для могущества Швеции, и, невзирая на торжественное объявление истины в манифестах Петра Великого, даже враги Карла XII, унижавшие все его подвиги, не могли поверить столь внезапной перемене его счастья. Наконец, самые недоверчивые убедились, что царь русский говорит правду, извещая своих союзников, что войско шведское, вторгнувшееся в Россию, уже не существует, что часть его побита, а избегшие смерти воины взяты в плен с оружием, знамёнами и всеми воинскими снарядами и тяжестями и что раненый король шведский с малым числом слуг, приверженцев и казаков спасся бегством в Турцию и находится в Бендерах.
Истребив врагов на земле русской, царь выслал большую часть своего войска к северу, а казаков распустил по домам. Множество раненых русских офицеров находилось в сие время в Кременчуге, где жил врач, прославившийся своим искусством.
Москаленко также лечился в сём городе от ран. Однажды, когда он расхаживал медленно по своей светёлке, внезапно и неожиданно вошёл к нему Огневик. Друзья обнялись, и Огневик, вынув из-за пазухи пакет, сказал:
— Ты скрывал передо мною своё происхождение, но вот эта бумага открыла мне твою тайну. Поздравляю тебя, сын стрелецкого головы Чернова, с царскою милостью, с возвращением родительских вотчин и наименованием в капитаны, в драгунский полк князя Меншикова! Вот тебе указ царский!
Осчастливленный изгнанник перекрестился, приложил к устам указ царский и, со слезами, прижал к сердцу вестника радости.
— Один только Палей знал мою тайну, итак, я обязан...
— Благости царя и великодушию Палея, — подхватил Огневик. — Царь, отпуская Палея в Белую Церковь, велел просить у себя всего, чего он желает — Палей испросил твоё помилование.
— Благородная душа! — сказал Чернов. — Палей дал мне более, нежели жизнь, — он возвратил мне отечество... Никогда не забуду я его благодеяния. О, если б я мог чем-нибудь доказать ему мою любовь!
— Можешь!.. — сказал Огневик. — Вспомни, что ты говорил мне на могиле Натальи. Требую твоего содействия!
— Вот тебе рука моя!.. Я готов на всё... Говори, что должно делать!
Огневик пожал руку своего друга и сказал:
— Теперь не пора. Хочу знать только, можешь ли ты ехать со мною?
— Могу! Раны мои закрылись; воздух и движение возвратят силы... Ах, если б я был здоров до Полтавского сражения!
— Да, брат, жалей, что не был в этом деле! — отвечал Огневик. — Никогда на русской земле не было столько славы и такого торжества! Мы часто бивали врагов, но теперь побили учителей наших, победили непобедимых а одною победою решили участь нескольких царств!..
— Расскажи мне, где был ты, что делал Палей, каким образом царь успел одним ударом уничтожить всё войско шведское! Я слыхал много об этой чудной битве, но хотел бы узнать от тебя...
— Ты сам бывал в боях, — отвечал Огневик, — и знаешь, что никакой рассказ не может изобразить в точности сражения. В бою кипит сердце и душа забывает о земле, а после сражения действует холодный ум. Рассказ о битве есть то же, что изображение пожара на холсте: свет без блеска и теплоты. Но если тебе непременно хочется послушать меня, то я расскажу тебе, что сам видел и что слышал от старшин, бывших в этом сражении!
Перейдя за Ворсклу, русская пехота стала окапываться. В средине было 12 полков под начальством Репнина и Шереметева. По обоим крылам было по 11 пехотных полков. Правым крылом начальствовали Голицын и Вейсбах, левым Алларт и Беллинг. Конницею, на правом крыле, начальствовал Боур, на левом — князь Меншиков. Пять полков с генералом Гинтером стояли в резерве. Палей с дружиной был при Меншикове.
Царь ждал только прибытия Калмыцкой Орды, чтоб ударить на шведов.
Государь держал совет, на который приглашён был и наш Палей. Некоторые генералы, горя нетерпением сразиться и надеясь на верную победу, стали горячиться и похваляться. Царь был важен и спокоен. Он напомнил хвастливым и нетерпеливым доказанное уже опытом, что не число войска доставляет победу и что не должно никогда презирать никакого неприятеля, а тем более шведов, которых должно уважать, как учителей наших. Генералов увещевал он не надеяться на свои силы, а, исполняя долг, уповать на одного Бога и от него ждать победы. Определено было завязать дело в день апостолов Петра и Павла.
Король шведский предупредил царя двумя днями. На рассвете шведы выступили из своего лагеря и бросились на русские шанцы, во многих местах ещё не конченные; царь ободрил воинов речью, в которой сказал нам, чтоб мы помнили, что сражаемся не за Петра, но за государство, Богом Петру вручённое, за род свой, за отечество, за православную нашу веру и церковь и что мы не должны смущаться славою неприятеля, будто бы непобедимого, которого мы сами уже неоднократно поражали. Наконец, подтвердил приказ не уступать места неприятелю и драться до последней капли крови. Все обещали умереть или победить.
В этом сражении царь в первый раз сам начальствовал войском. Он не хотел ни на кого возложить ответственности в деле, от которого зависела честь и слава России и твёрдость его престола. В мундире Преображенского полка, с весёлым лицом, он скакал по фрунту, на турецком коне, с обнажённою саблею, и отдавал приказания. Войско приветствовало его радостным ура! Он казался нам выше смертных! Победа была в его взорах.
Русские подвезли пушки к шанцам и начали стрельбу. Но, невзирая на сильный картечный огонь, шведская пехота овладела недоконченными шанцами, а конница их принудила нашу податься в тыл. Победа, верная Карлу столь долгое время, перед прощанием с ним навеки, обернулась к нему лицом — в последний раз!
Князь Меншиков выстроил снова конницу и бросился на шведов. Более двух часов мы бились с ними с переменным счастием. Под князем убито две лошади. Шведы дрались, как львы. Палей, едва держась на коне, не хотел оставить поля битвы и понуждал наших продраться сквозь шведскую линию. Мы, как говорится, резались на ножах; наконец шведы дрогнули и начали отступать. Мы, как отчаянные, бросились на них, с воплями обратили их в бегство, гнали до самых траншей полтавских и там, отрезав их и поставив между двух огней, принудили положить оружие. Это был первый наш успех: он ободрил войско.
Между тем оба войска выстроились в линиях и сошлись на пушечный выстрел. Паши пушки загремели и страшно били в стеснённый фрунт неприятеля. У шведов едва было несколько пушчонок. Карл приказал своим ударить в штыки, надеясь неслыханною дерзостью изумить наших неопытных воинов и отнять наши пушки. Часть русской пехоты дрогнула и побежала в тыл. Вдруг явился сам царь с Преображенским полком! Явился он, как Бог брани. Одним взором остановил бегущих, бросился на шведов с преображенцами, все последовали за ним, и шведы побежали с поля.
Земля дрожала от грома пушек; ружейные пули свистели, как ветер на всём пространстве; ядра рыли землю, и вдруг, по слову царскому, раздалось восклицание: «Вперёд! Ура!» Всё русское войско двинулось в одно мгновение. Наша конница, на обоих крылах, бросилась опрометью на шведов, пехота с барабанным боем ударила в штыки, и пошла резня! Шведы стояли крепко, защищались до последней крайности, около двух часов сряду, но не могли отбить нас. Мы разорвали их фрунт, разбили твёрдые ряды на малые толпы и уже били их, как овец, или заставляли бросать оружие и просить пощады. Всё, что могло бежать, побежало с поля битвы. Большая часть шведских генералов, видя невозможность спастись, — отдались в плен.
Оба государя во всё время боя находились в первых рядах, под ядрами и пулями. Три пули попали безвредно в нашего царя. Раненый король осыпан был ядрами, которые убили несколько человек возле его качалки и под ним лошадь, когда он садился на неё, чтоб спасаться от плена. Царь провозгласил победу... Радостные восклицания наших раздавались по обширному полю...
С дружиною нашею я бросился за бегущими шведами и врезался в средину их, надеясь догнать Мазепу, которого безуспешно искал в битве. От казаков его, захваченных мною в плен, узнал я, что этот хитрец бежал при самом начале сражения... Лошади наши были измучены, и мы должны были остановиться. Злодей ускользнул на сей раз от моего мщения!..
Огневик кончил рассказ, облокотился на стол, закрыл лицо руками — и погрузился в думу.
Несколько минут продолжалось молчание.
— Чего ты требуешь от меня, друг мой! — сказал Чернов, взяв за руку Огневика и крепко пожав её. — Скажи! Я готов с тобой в огонь и в воду!..
— Я был безумен, что хотел приковать тебя к моей горькой участи, — сказал Огневик. — Нет, друг мой! Ступай в Москву, где у тебя есть родные, где ты найдёшь дружбу и... любовь... Ещё всё перед тобою, а передо мной одна могила! Где мне преклонить голову, безродному, бесприютному? Вольница Палеева не существует, и он сам уже одной ногой в гробу. С ним разорвётся последний узел, привязывающий меня к земле. Не хочу жить ни в Запорожье, которое превратилось в разбойничий притон, ни в гетманщине, где одни происки, родство и низкопоклонство доставляют отличие... В Москве и в Петербурге душе моей будет тесно и душно, а сердцу холодно... Взросши и возмужав в степях, я гнушаюсь искательством и раболепством. При Палее я привык не только говорить всё, что думаю, но даже думать вслух, а в городах этого не любят!.. Не хочу нищенствовать перед людьми!.. И что могут дать мне люди? Они не дадут мне спокойствия, которое я потерял навеки, не дадут счастья, которое я вкусил в любви... В любви!.. О, друг мой, эта любовь сожгла моё сердце, выветрила душу... Я теперь труп, тело без души и без сердца... Одно чувство поддерживает жизнь мою — месть!.. Крови жажду я, крови!..
Лицо Огневика пылало, глаза искрились. Он вскочил с места, пожал руку Чернова и бросился к дверям.
— Нет, я не оставлю тебя! — воскликнул Чернов, удерживая его. — Не люби меня — но и не презирай! Я достоин разделять с тобой твоё горе и опасности!..
Огневик бросился в объятия своего друга. Через час они уже скакали к Днепру, на лихих конях.
Сколь ни тверда была душа Мазепы, но не могла выдержать столь сильных ударов судьбы. Все надежды обманули его, ни одно желание не исполнилось, все сладостные ощущения сердца превратились в болезненные язвы. Он мужался наружно, но страдал и унывал внутренно, и когда наконец царь Пётр потребовал от Порты изъятия Мазепы из покровительства, а в переговорах о мире с Карлом XII поставил непременным условием выдачу изменника, тогда участь Паткуля, истерзанного мстительным Карлом, представилась его воображению, и страх преодолел все его силы. Мазепа заболел телом и душою. Почти два месяца он находился при дверях гроба; наконец усилия искусного королевского медика Неймана исцелили телесный недуг, а уверения короля, что не выдаст его за царство, — успокоили, хотя и не уврачевали души. Во второй половине сентября Мазепа уже находился вне опасности, хотя не вставал ещё с постели. Ом жил в Варнице, неподалёку от Бендер, в доме греческого купца. Предполагая, что все дела и слона его будут известны в Малороссии, и зная, что набожность почитается там матерью всех добродетелей, Мазепа велел строить, в Варнице, русскую церковь и призвал с Афонской горы несколько монахов, между коими находился один русский.
Карл XII был принят турецким правительством с честью и великолепием. Султан, визирь и паши наделили его богатыми палатками, конями, драгоценным оружием. Король шведский расположился лагерем между Бендерами и Варницею, имея при себе около тысячи восьмисот человек шведов, поляков и казаков, спасшихся от Полтавского поражения и присоединившихся к нему уже за пределами России. Все министры, все генералы Карла XII были в плену у русских. Любимец его, Понятовский, исправлял политические его дела и находился в сие время в Константинополе, для убеждения Порты объявить войну России. Карл XII с нетерпением ожидал успеха происков своего любимца и предавался сладостной надежде отомстить Петру Великому. Любимцы короля разделяли его надежду.
Карл оказывал тем большее уважение к Мазепе, чем более ненависти изъявлял к нему Пётр Великий, и почти ежедневно навешал больного, сообщая ему новости, получаемые из Константинополя, — поддерживая дух его блистательными мечтами. Недоверчивый Мазепа сам увлёкся, наконец, надеждою на помощь Порты и, когда оправился от болезни, стал замышлять снова о достижении своей цели — отторжения Малороссии и Украйны от России. Однажды после беседы с королём он призвал к себе, для совещания, Орлика и Войнаровского. В первый раз после Полтавской битвы они увидели его с весёлым лицом и с улыбкою на устах. Он сидел в постели и казался бодр и здоров.
— Садитесь, друзья мои! — сказал Мазепа, приветствуя их рукою.
Они сели. Мазепа продолжал:
— Я сказывал тебе. Орлик, что ещё дело не решено между мною и царём Московским. Он велел духовенству предать меня проклятию, приказал влачить по грязи моё изображение и сжечь его рукою палача... Он отнял у меня нажитые трудами поместья и сокровища и обещает триста тысяч ефимков Муфтию, чтоб он убедил султана выдать меня царю, для позорной казни!.. На всё это я буду отвечать царю в Москве... Что вы удивляетесь?.. Да, в Москве! Понятовский приобрёл милость матери султана и наконец успел убедить верховного визиря в пользе войны с Россиею. Порта даёт нам двести тысяч отборного войска, которым будет начальствовать наш северный лев, наш Ахиллес!.. Счастье изменило ему, но для того только, чтоб научить своего любимца благоразумию. Герой пребудет героем! Швеция вооружается и ударит на царя от севера. В Польше умы в волнении. Тебя, племянник, я хочу выслать в Польшу, с важным поручением. Партия Станислава упала духом, но и король Август не много имеет приверженцев. Дружба его с царём Московским не правится шляхте, а присутствие саксонских войск в Польше ожесточает народ. Ты должен войти в сношения с обеими партиями и представить им, сколь опасно для Польши торжество и возвеличение России, имеющей притязания на многие области, принадлежащие ныне Польше. Карл доказал, что он не ищет ни завоеваний, ни уничтожения польских прав, ибо, завладев всею Польшею, он довольствовался только низвержением с престола враждебного ему короля. Итак, со стороны Швеции Польше опасаться нечего; но сильная Россия пожелает возвратить прежние уделы русских князей, так как отняла у Швеции Ингрию, бывшую некогда Новгородской областью. Сильный берёт своё где может и как может... Таким образом Белоруссия, часть Литвы, Волынь, Подолия, Украйна будут русскими... Припомни полякам слова мудрого их короля Иоанна Казимира, когда он, слагая венец, предсказал им, на Сейме, отторжение от Полыни областей и даже раздел королевства между соседями... Польские вельможи делают всё возможное, чтоб оправдать предсказания Иоанна Казимира! Убеди их, что теперь представляется единственный и последний случай нанести удар России!.. Пусть они вооружатся и вторгнутся в сердце России, в одно время с нами... Король обещает Польше Смоленск, Киев, княжество Северское... Сверх того, я с Малороссией и Украйной буду вассалом Польши, Карл даёт тебе полномочия, я дам моё благословение — и деньги. Ты молод, ловок и красив — ищи в женщинах... Дульская изменила мне в любви...
Войнаровский покраснел и потупил глаза. Мазепа, не показывая виду, что заметил это, продолжал:
— Но я прощаю ей и её любовникам и требую верности только в связях политических. Возбуди в ней прежнюю ревность к делу короля Станислава, а между тем старайся познакомиться с графинею Кенигсмарк, любовницею Августа, и приобресть её доверенность... хотя бы любовью!.. — Мазепа улыбнулся и замолчал. Отдохнув несколько и собравшись с мыслями, он сказал: — Рели Август будет так умён, что воспользуется счастливыми обстоятельствами, восторжествует над своим совместником и овладеет престолом, старайся соединить обе партии под знамёнами сильнейшего и, найдя доступ к королю, убеди его, сколь опасны для него дружба и покровительство царя Московского. Уверь его, что если он ополчится на Россию, то Карл забудет старую вражду, выхлопочет для Станислава какую-нибудь немецкую область или отдаст ему свою Померанию, а короля Августа усилит на польском престоле... Я не могу предписать тебе правил поведения... Всё зависит от местных обстоятельств, но помни, что в Польше всё можно сделать посредством женщин, ксензов и — денег и что даже самые деньги приобретаются там посредством тех же женщин и ксензов. О патере Заленском я не имел никакого известия... Но все иезуиты вылиты в одну форму. Обещай им власть — и они будут помогать тебе... Теперь ступай к королю за бумагами — и обойми меня. Орлик выдаст тебе на первый случай десять тысяч червонцев...
Войнаровский подошёл к постели Мазепы, обнял его и сказал:
— Но если меня выдадут царю?
— Безопасность твоя зависит от твоего ума и осторожности. Явно тебя не выдадут, а от предательства прячься под женскою душегрейкою или под рясою ксендзовскою. Волка бояться, в лес не ходить! И мы здесь не за валами! Верь мне, что ты будешь безопаснее в Польше, нежели мы, под покровом Высокой Порты... Прощай!
Мазепа благословил Войнаровского, и он вышел, не говоря более ни слова. Ему соскучилось в Бендерах, и он рад был избавиться от несносной ссылки. Любовь прелестной княгини Дульской ожидала его в Польше.
— Любезный Орлик! — сказал Мазепа. — Я обещал дать взаймы королю семьсот тысяч талеров. Казна наша истощается, и нам надобно приискать верного человека, чтоб послать за деньгами, которые я зарыл в овраге, близ Бахмача. Есть у меня деньги и в Печерской Лавре, но я опасаюсь, чтоб монахи не выдали их царю, страшась его гнева...
— Я, право, не знаю, на кого положиться в этом важном деле. Все наши старшины только из страха казни последовали за нами... На их верность я не могу надеяться. Надёжнее всех братья Герциги.
— Но не можно ли тебе самому попытаться, Орлик?
— Об этом надобно подумать... У меня было много приятелей в Украине, но теперь опасно полагаться на неизменность дружбы...
— Поди же, порассуди, а завтра скажешь мне, что ты выдумал...
Орлик вышел, и Мазепа, утруждённый разговорами, обессиленный напряжением духа, — заснул.
Когда он проснулся, уже было темно. Сон не укрепил и не успокоил его. Кровь в нём волновалась, мечты растревожили его и навлекли мрачные думы. Он кликнул сторожевого казака и послал его за русским монахом.
Чрез полчаса явился монах. Это был человек лет пятидесяти, высокого роста, смуглый, бледный, черноволосый, сухощавый. Глаза его блестели, как уголья, из-под густых бровей. На челе изображались ум и следы сильных страданий. Мазепа просил монаха присесть у изголовья своей постели.
— Мы не кончили, третьего дня, нашего разговора, святой отец... — сказал Мазепа, потупя глаза.
— Моя беседа тяжела для твоего сердца, духовный мой сын, — возразил монах, — побереги себя! Ты слаб ещё, и всякое душевное напряжение тебе вредно...
— Нет, отец мой, твоя беседа для меня усладительна! Ах, если б ты мог проникнуть в мою душу! Ты бы пожалел обо мне...
— Я сожалею — и молюсь!..
— Молись, святой отец, молись за меня! — сказал Мазепа, и слёзы покатились из глаз его. — Он утёр их неприметно, склонил голову на грудь и задумался.
Монах молчал, перебирая чётки.
— Итак, ты, святой отец, всё-таки думаешь, что мой поступок есть измена и клятвопреступление? — сказал Мазепа, тяжело вздохнув.
— Зачем ты в другой раз вопрошаешь меня об этом, сын мой! По обету моему я должен говорить истину пред царём и пред рабом, и если слова мои не приносят ни пользы, ни утешения — я должен молчать.
— Говори, говори смело правду или то, что ты почитаешь правдой! С нами нет свидетеля, и посредник между нами — Бог!.. Если... я чему не верю, убеди меня, докажи.
— Истина немногословна и не знает излучистых путей красноречия, сын мой! Я не привык к спорам и диспутам. Говорю прямо, что думаю...
— Ты знаешь историю, отче мой, итак, вспомни, что я не первый вздумал отложиться от царя, основать особое царство... И эти основатели царств были почтенны, прославлены, благословляемы...
— Людьми, а не Богом! — возразил монах строгим голосом. — Успех прикрыл злодейство, лесть украсила измену, и низость изрекла хвалу... Но истина осталась истиною, и испещрённые людскою хвалою хартии не скрыли зла ни пред Богом, ни пред людьми праведными... Сквозь сотни веков проклятие раздаётся над памятью цареубийц, изменников!..
Монах, увлечённый негодованием, почувствовал, что слишком неосторожно коснулся душевной раны своего духовного сына, и замолчал.
— Проклятие! — воскликнул Мазепа. — Проклятие! Итак, ты веришь в действительность проклятия? И меня прокляли!.. — Мазепа закрыл руками глаза и упал на подушки.
Монах молчал.
Мазепа быстро поднялся, присел, устремив на монаха пылающий взор, и сказал:
— Неужели проклятие, произнесённое надо мною церковью, вознесётся к престолу Всевышнего?..
— Всевышний милосерд... Но глаголы церкви священны и непреложны. Благословение или проклятие есть только сума, в которой дела человеческие переносятся к подножию престола Высшего Судьи. Церковь судит не по прихотям человеческим, но по закону Божию, водворённому на земле Искупителем греха первородного. Ты сам знаешь, что гласит Евангелие! В нём заповедана верность и послушание властям, от Бога установленным, соблюдение обязанностей подданного — и терпение. Кесарей и помазанников Божиих судит сам Бог. Ты говорил мне, что царь хотел нарушить право народа, над которым он же поручил тебе власть. Если б и так сталось, то одна несправедливость не оправдывает другой, а в противном случае на земле не было бы ни закона, ни порядка, ни чести, которых один конец на небеси, — и сии узы — присяга, пред лицом живого Бога, на знамени нашего Искупителя, на развёрнутой книге божественной мудрости. Так, сын мой, нарушение присяги есть разрыв души с небом, а сей разрыв ведёт за собой — проклятие!
Мазепа трепетал всем телом. Монах замолчал и снова принялся перебирать чётки.
— Отец мой! — сказал Мазепа сквозь слёзы, голосом трогательным, исходящим из глубины души. — Если страдания земные могут искупить грехи, то надеюсь на благость Всевышнего! Тяжёлый крест влачил я среди славы и величия! Стрелы гнева Господня разили меня в самое сердце... Я хотел любить, искал любви в чувствах родительских, сыновних, супружеских... и в тайном сочетании сердец — находил отраву для моей души, или мертвящий холод, или пожирающее пламя... Всё, к чему я ни прикасался сердцем, гибло, оставляя тяжкую память моей собственной вины. Ты не знаешь любви, святой отец!..
Монах тяжело вздохнул.
— Ты не можешь постигнуть, что такое родительское чувство! — примолвил Мазепа.
Монах утёр слёзы рукавом.
— И все любившие меня женщины погибли мучительною смертью… И дети мои... в ранней могиле!.. Одна надежда, последняя капля крови моей на земле... дочь моя, моя Наталья, ангел телом и душою, умерла в ужасных муках, может быть, проклиная меня... умерла от оплошности моей, от непостижимого забвения, омрачившего мой рассудок по воле самого Провидения!.. — Мазепа залился слезами, повторяя: — Дети мои! Дети мои! Кровь моя!..
Монах растрогался. Он также плакал.
Чрез несколько минут Мазепа поднял голову и сказал:
— Нет, святой отец, в аде нет таких мучений, какие я вытерпел на земле, и я надеюсь, что правосудный Небесный Судья сжалится надо мною и даст мне на земле силу и власть, чтоб делать добро и, повелевая народом, излить на него счастье, которого я не знал в жизни...
Монах принял строгий вид и, смотря грозно на Мазепу, возразил:
— Демон честолюбия снова глаголет устами твоими, из которых должно изливаться одно раскаяние! Сын мой! Ты ищешь спокойствия душевного, желаешь примириться с Небом, Господь помиловал разбойника, но помиловал его на кресте, а не в лесу; помиловал в раскаянии, а не в преступных замыслах...
— Я не могу отступиться от начатого мною дела, святой отец! Я не принадлежу себе, а принадлежу тем людям, которые вверили мне свою участь... И теперь ли мне помышлять об отречении от власти, когда мы находимся, так сказать, накануне новой борьбы, которая непременно должна кончиться торжеством нашим и омовением имени моего от позора и поношения?..
— Ты всё помышляешь о земном, сын мой!
— Мы все сыны земли, отче мой! — отвечал Мазепа, покачивая головою.
— Итак, не жди и не требуй от меня утешения, — сказал монах, вставая с места. — Но ударит роковой час, и ты, заглянув в пустоту гроба, познаешь пустоту замыслов твоих! Говорю тебе в последний раз: велик Господь в благости своей и страшен в каре!..
Монах пошёл к дверям. Тщетно Мазепа звал его — он не возвращался. Мазепа слышал, что монах, переступая через порог, повторял про себя псалом: «Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обинулся есть. Вознесися судяй земли, воздаждь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся...»
За углом дома стоял казак, завернувшись в кобеняк и насунув видлогу на голову. Он, казалось, ждал, пока выйдет монах, ибо лишь только он удалился, казак скорыми шагами побежал к крыльцу. Сторожевые казаки остановили его. Он показал кипу бумаг и сказал грозно: «От короля!», оттолкнул сторожевых, быстро вспрыгнул на крыльцо, пробежал чрез сени, где дремало двое слуг Мазепы, и, пробираясь на цыпочках чрез все комнаты, отворил двери в почивальню, вошёл в неё и тотчас запер дверь.
Мазепа сидел на постели, поджав руки и опусти голову. Он взглянул на вошедшего казака — и обомлел от ужаса. Хотел кричать — и не мог. Казак вынул кинжал из-за пояса и, грозя Мазепе, сказал тихо:
— Ни словечка!
Мазепа перекрестился и закрыл глаза.
Казак приблизился к постели и, смотря с зверскою улыбкою в лицо Мазепы, утешался его страхом. Наконец взял его за руку, потряс её и сказал насмешливо:
— Не стыдись, приятель, и посмотри на меня! Я не палач, явившийся казнить тебя за измену царю и отечеству, а твой наречённый зять, пришедший с тобой рассчитаться...
Мазепа открыл глаза. Он дрожал всем телом и шевелил устами, как будто силясь произнести что-то. Голос его замер от страха.
— Я принёс тебе поклон от друга твоего, Палея, которого ты, как Иуда, предал лобзанием на казнь. Я принёс тебе весточку с гроба зарезанной, по твоему приказанию, Марии, которую ты обольстил, унизил, отравив душу её коварством и безбожием... Наконец я принёс тебе на память останки твоей любимой дочери! — Казак отстегнул кафтан и снял с шеи женскую косу, примолвив: — Это волосы убитой тобою Натальи!..
При сих словах Мазепа, казалось, ожил. Он протянул обе руки, чтоб схватить драгоценные останки несчастной своей дочери, и, смотря дико на казака, лепетал:
— Дай мне, дай! Я только раз прижму к сердцу!.. — Уста его дрожали... По холодному лицу катились горячие слёзы.
Огневик утешался страданием и страхом своего врага. Он не позволил Мазепе прикоснуться к волосам Натальи и с адскою улыбкою на устах, изображающею жажду и наслаждение мести, сказал:
— Прижать к сердцу! Ужели у тебя есть сердце? Ка, ха, ха! А я думал, что вместо сердца у тебя в груди камень, обвитый змеёю! Но постой, я ещё не дошёл до расчёта! Знаешь ли ты это?
Огневик вынул из-за пазухи небольшую серебряную коробочку и поднёс её к глазам Мазепы. Тот взглянул и содрогнулся.
— Ты не довольствовался тем, что истязал тело моё в пытке, растерзал сердце разлукою с Натальей, что предал меня на казнь клеветою — ты хотел ещё лишить меня жизни... и подослал ко мне, с этим лакомством, женщину, низверженную тобою в пропасть разврата и злодеяний... — Произнося сие, Огневик усиливался усмехнуться, между тем как во взорах его пылала злоба и губы судорожно кривлялись. На столе стояло прохладительное питье. Он налил его в стакан, высыпал в него порошок из серебряной коробочки и, поднося Мазепе, сказал:
— Я бы презрел тебя, как гада, лишённого жала, если б одно личное оскорбление возбуждало во мне ненависть к тебе. Но я узнал, что ты снова строишь козни на погибель несчастного отечества, что ты разослал своих лазутчиков по Украине, возбуждая народ к мятежу, и торгуешься с врагами России, чтоб предать нас снова польскому игу!.. Несчастие не образумило тебя и проклятие церкви довершило в тебе сатанинские начала... Ты один опаснее для отечества, нежели десять таких врагов, как Карл... Из твоего коварного ума излилась вся клевета на великого царя русского; ты отравил сердца верных малороссиян изменою... Всему должен быть конец... Пей!..
— Прости, помилуй! — воскликнул Мазепа, задыхаясь, дрожащим голосом.
— Пей... или я растерзаю тебя на части, — сказал Огневик, скрежеща зубами, замахнувшись кинжалом и устремив на Мазепу дикий, блуждающий взор.
— Я откажусь от мира, постригусь в монахи... — примолвил Мазепа умоляющим голосом, сложив руки на груди. — Не лиши покаяния!..
— Монастырская келья не сокроет твоих козней, и я уже научен тобою, как должен верить твоим обетам и клятвам. В последний раз говорю: пей!
Мазепа взял стакан дрожащею рукою, перекрестился и, сказав: «Господи, да будет воля твоя!» — выпил яд[7].
Дрожь пробежала по всем жилам Огневика... Он отворотился. Мазепа прилёг на подушки, закрыл глаза и молчал. Огневик хотел выйти, но какая-то невидимая сила приковывала его к ложу несчастного злодея.
Над изголовьем постели висел образ, пред которым теплилась лампада. Мазепа вдруг открыл глаза и, взглянув равнодушно на своего убийцу, сказал:
— Дай мне образ! Я хочу приложиться.
Огневику надлежало бы стать на кровать, чтоб снять со стены образ. Он расстегнул кафтан, сорвал с груди свой образ и, подавая его Мазепе, сказал:
— Молись и кайся!
Мазепа перекрестился, поднёс образ к устам и вдруг поднялся, устремив на Огневика пламенный взор, и сказал дрожащим голосом:
— Откуда ты взял этот образ?
— Какая тебе до него нужда! Теперь не время объясняться. Молись и кайся!
— Ради Бога, скажи, откуда ты взял этот образ! — завопил Мазепа жалостно. — Не откажи в последней просьбе умирающему!..
Огневик невольно содрогнулся:
— Этот образ был на мне, когда Палей нашёл меня, бесприютного младенца, на развалинах сожжённой гостиницы, в которой запорожцы убили моих родителей... Этот образ родительское благословение!..
— Несчастный, что ты сделал! — воскликнул Мазепа пронзительным голосом. — Ты убил — своего отца!..
— Ты отец мой!.. Ложь и обман!
— Я уже не имею нужды ни лгать, ни обманывать, — сказал Мазепа, смотря жалостно на своего убийцу и простирая к нему объятия, — Прощаю тебя и благословляю, сын мой! Не ты, а я виновен во всём! Боже! Познаю перст гнева твоего! Чаша преисполнилась! Обними меня, сын мой! Не откажи в последней радости несчастному отцу! Судьбе угодно было, чтоб я прижал тебя к моему сердцу только при твоём рождении — и при моей смерти... Приблизься!!! Обойми меня!..
Слёзы текли ручьём из глаз Мазепы, который сидел на кровати с распростёртыми объятиями и смотрел нежно на своего сына. Огневик стоял, как громом поражённый, — и отвращал взор от жертвы своей мести. Наконец он бросился на грудь Мазепы и зарыдал...
Вдруг Богдан вырвался из объятий отца своего и, как будто опомнившись, сказал:
— Пойду за врачом... Может быть, ещё есть средство спасти тебя...
— Напрасно, — сказал Мазепа с горькою улыбкою, удерживая за руку сына. — Я знаю свойство этого яда! Никакая человеческая мудрость не уничтожит его действия... Всё кончено!..
— Боже! — воскликнул Богдан, устремив глаза в небо и подняв руки, — Чем я заслужил такую ужасную казнь!.. Наталия была сестра моя... Жертва моей мести — мой отец!
— Сын мой! Я навлёк казнь на всё моё семейство... Я один преступник! Вы очистительные жертвы! Для вас небо... для меня ад и проклятие в потомстве...
Богдан бросился на колени подле постели и стал молиться...
— Ты несчастный залог первой и единственной любви моей, — сказал Мазепа сквозь слёзы. — Ты сын той женщины, которая презрела величие, богатство, самую честь и узы супружества для меня, бедного скитальца, слуги её мужа! Палей, вероятно, рассказывал тебе, что заставило меня бежать из Польши в Запорожье... Я укрылся от мести раздражённого мужа? и мать твоя должна была соединиться со мною... Она уже была на пути — не тех пор я ничего не слыхал об вас... Целую жизнь я плакал по тебе... мечтал об тебе, видел тебя во сне, любил не существующего для меня — и наконец нашёл., при гробе моём! — Мазепа не мог продолжать... Рыдания заглушали его голос.
— Теперь ты позволишь мне прижать к сердцу останки сестры твоей... нашей Натальи!
Богдан отдал ему волосы несчастной, и Мазепа покрыл их поцелуями и прижал к груди.
— Нет, я не в силах долее выдержать! — воскликнул Богдан, всхлипывая и почти задыхаясь. — Прощай! — При сих словах Богдан обнял Мазепу и бросился, стремглав, за двери...
— Сын мой! Сын мой!.. Дай мне обнять тебя... Позволь умереть на груди твоей!.. — Но Богдан уже не слыхал его. Он быстро пробежал по всем комнатам, разбудил слуг, дремавших в сенях, и сказал им, чтоб они поспешили к своему господину, соскочил с крыльца и скрылся во мраке.
Лишь только служители показались в дверях, Мазепа закричал:
— Духовника, скорей, скорей... Умираю!
В доме сделалась тревога. Все засуетились. Чрез несколько минут вошёл монах. Мазепе доложили, что Орлик просит повидаться с ним, но умирающий не велел никого впускать и заперся с духовником.
— Отче мой! Свершилась казнь Божия за мои преступления, казнь ужаснее всякой, какую ты мог предсказать, казнь, какой не подвергался ни один злодей, даже сам Иуда Христопродавец! Исповедуюсь, каюсь!..
Монах взглянул на Мазепу и ужаснулся. Уже яд начал действовать. Судороги кривляли лицо его, покрытое синевою, пена била клубом изо рта. Он то сжимался, то вытягивался. Кости трещали в суставах.
— Несчастный! — сказал монах. — Не наложил ли ты рук на себя? Самоубийство... смертный грех!..
— Не, я не убил себя! — сказал Мазепа прерывающимся голосом, — Только в одном этом грехе я не повинен... Но прими мою исповедь... Я грешен противу всех десяти заповедей от первой до последней... В мечтах суетного мудрствования я даже отвергал бытие Бога и истину искупления... Я играл клятвами... Не щадил крови человеческой... Ругался над добродетелью и целомудрием... Я изменник!..
Судороги усилились. Монах покрыл умирающею простынёю и стал молиться перед образом.
Орлик не послушался приказания Мазепы, силою ворвался в его почивальню.
— Благодетель, второй отец мой! — воскликнул Орлик я бросился обнимать страдальца.
Монах читал отходную молитву, не обращая внимания на окружающие его предметы:
— «Владыко Господи Вседержителю, отче Господа нашего Иисусу Христа, иже всем человеком хотяй снастися и в разум истины прийти; не хотяй смерти грешному, но обращения и живота, молимся и милися ти жеем; душу раба твоего Ивана от всякая узы разреши и от всякая клятвы свободи, остави прегрешения ему, егде от юности, ведомая и неведомая, в деле и в слове, и чисто исповеданная или забвением или стыдом утаённая...»
— Каюсь!.. — сказал Мазепа охриплым голосом. Монах продолжал молитву:
— «Ты бо един еси разрешали связанные и исправляяй сокрушённые, надежда нечаемых, могий оставляю грехи всякому человеку, на тя упование имеющему...»
Мазепа снова прервал слова молитвы.
— Увы! Я лишён надежды и упования... Грехи мои превзошли меру близости Господней!..
Монах продолжал читать молитву:
— «Человеколюбивый Господи! Повели, да отпустится от уз плотских и греховных и прими в мире душу раба сего Ивана...»
Вдруг Орлик зарыдал громко. Мазепа как будто проснулся и, остановив блуждающий взор на Орлике, сказал глухим, охрипшим голосом:
— Кайся, Филипп, кайся! Ужасна казнь изменникам и клятвопреступникам!.. — И вдруг быстро поднялся, простёр руки и страшно завопил: — Родина моя!.. Сын мой... Иду к тебе!.. — Затрепетал, упал навзничь и испустил последний вздох...
Монах, который в это время продолжал читать молитву, тихим голосом произнёс:
— Аминь!..
.........
На третий день, когда собирались хоронить Мазепу, найдено было тело казака, выброшенное волнами на берег, Орлик узнал в утопленнике — Огневика.
Николай Максимович СЕМЕНТОВСКИЙ КОЧУБЕЙ
I
Утренний туман покрыл седой пеленой спящую Диканьку; казалось: море разлилось во все стороны беспредельно. Кое-где лишь виднелись зелёные вершины столетних дубов, выступавшие из седого тумана, казавшиеся чёрными утёсами; да блестел среди этого моря золотой крест Диканской церкви. Солнце ещё не всходило, и восток только что начал румяниться.
В будинках Генерального писаря Василия Леонтиевича Кочубея все спали, не спал только он, да жена его, Любовь Фёдоровна; они сидели вдвоём у растворенного в сад окна, и печаль ясно выражалась на их лицах. Долго сидели они молча; потом Любовь Фёдоровна поправила белый платок, которым была повязана её голова, и сказала:
— Почём знать, может быть, первая пуля попадёт в его сердце, ты этого не знаешь... да может, и умрёт не сегодня-завтра: в походе не на лежанке сидеть, — ну да что и говорить: будь умный, так и добудешь, а ворон ловить начнёшь, так сам на себя пеняй! Тогда, сделай милость, и не показывайся мне на глаза, иди себе куда хочешь, живи себе как вздумаешь! Лучше одно горе перенести, чем весь свой век терпеть и посмешищем быть для других.
— Любовь Фёдоровна, Любовь Фёдоровна! — укоризненно сказал Кочубей, покачав головой, — что ты говоришь, подумай сама, тебе хочется, чтоб сейчас булава, бунчуки и всё у ног твоих лежало!.. Любонько, Любонько!.. Когда Бог не даст, человек ничего не сделает!..
— « Я тебе не татарским языком говорю, как начнёшь ловить ворон, так Бог и ничего во век не даст!
— А! — воскликнул Кочубей, вскочив с кресла и махнув рукой, — что говорить! Ты знаешь, я бы последний кусок хлеба отдал, лишь бы булава в моих руках была!» Ты сама знаешь, да что и говорить!..
— Я тебе говорю на всякий случай, чтоб знал своё дело!
— Да разве я не знаю?
— Да, случается!
— Когда же?
— Было, да прошло, что б не было только вперёд. Прошу тебя и заклинаю, Василий, не надейся ни на кого, сам ухитряйся да умудряйся, не жалей ни золота, ничего другого, побратайся со всеми полковниками, со всеми обозными, есаулами, угощай казаков, ласкай гетмана, — вот и вся — мудрость!
— Добре, добре!
— То-то, смотри же! Пора, солнце всходит, я приготовила тебе на дорогу всего, и в бричку надобно укладывать?..
— Да, пора!
— Пойду, разбужу людей.
Любовь Фёдоровна ушла; Василий Леонтиевич встал перед иконами и начал молиться; молитва его была кратка, тороплива, но горяча; он не хотел, чтобы Любовь Фёдоровна видела его молящимся, и, поспешно перекрестясь несколько раз, сделал земной поклон и опять сел на своё место. В ту же минуту в спальню вошла Любовь Фёдоровна.
— Давно всё готово, коней повели до воды, и сейчас будут запрягать.
— Слава Господу.
— Я тебе на дорогу приказала положить в бричку святой воды, херувимского ладана, просфиру святую и кусок дарника, сделаешься нездоров, — в дороге всё может случиться — вот и напьёшься святой воды, съешь кусочек святого, и Бог тебя помилует...
— Спасибо, Любонько!
Василий Леонтиевич поцеловал её руки, а Любовь Фёдоровна поцеловала его в голову.
В спальню вошла девочка и сказала, что коней запрягли.
— Скажи, чтоб принесли Мотрёньку, — велела ей Любовь Фёдоровна.
Девка ушла.
Василий Леонтиевич встал, помолился и приложился ко всем иконам, Любовь Фёдоровна сделала то же; они прошли в другие комнаты, везде помолились и приложились к иконам; и потом все собрались в гостиную и сели, воцарилось молчание. Василий Леонтиевич встал, а за ним и все, он три раза перекрестился и, обратясь к жене, перекрестил её, жена перекрестила Василия Леонтиевича, и они попрощались. Потом Василий Леонтиевич благословил спавшую на руках у мамки малютку Мотрёньку, крестницу Ивана Степановича Мазепы, поцеловал её, простился со всеми, принял от Любови Фёдоровны хлеб-соль, вышел на рундук, ещё раз поцеловался с женою и сел в кибитку.
Любовь Фёдоровна перекрестила едущих. Бричка покатила по улице между маленькими низенькими хатами... и скоро скрылись вдали.
II
Степь, беспредельная как дума и гладкая как море, покрытая опаленою знойным солнцем травою, простиралась во все стороны, и далеко-далеко, казалось, сходилась с голубым небом, на котором не было ни одного облачка. Солнце стояло среди неба и рассыпало палящие лучи свои. Тысячи кузнечиков, не умолкая, пронзительно кричали в сухой траве, а перепёлка сидела под тенью шелковистого ковыля с раскрытым клювом, от зноя и жажды.
В степи, на курганах стояли казачьи пикеты: по три и более казаков с длинными пиками; иные из них, не двигаясь с места, смотрели вдаль, на дымку испарений, исходивших от земли, и были уверены в истине поверия отцов своих, утверждавших, что это Св. Пётр пасёт своё духовное стадо; иные же разъезжали то в одну, то в другую сторону, высматривая, не покажется ли где ненавистный татарин.
Среди этой безграничной степи раскинут был казачий табор; полосатые, пурпурные, жёлтые, зелёные, белые шатры, — военная добыча казаков прежних лет, отнятая ими у турков и поляков, — были кое-как наскоро поставлены на воткнутые в землю пики. Вокруг шатров стояли рядами несколько тысяч возов, тяжело нагруженных разными военными и съестными припасами; возы эти служили в степи казакам и крепостными стенами.
Изнурённое невыносимым зноем войско отдыхало, дожидая вечерней зари, чтобы вновь двинуться в глубь Крымских степей и наказать неугомонных татар.
В одном месте, несколько сот казаков, спрятав головы в тень, под возы, беспечно спали; в другом, под навесом, толпились вокруг седого старца бандуриста, который играл на бандуре, пел про старые годы, про Наливайка, спалённого поляками, про Богдана и Чаплинского; в третьем, курили люльки и слушали сказки, в четвёртом... да не перечесть, что делали несколько десятков тысяч храбрых казаков.
Шум, крик, ржание жаждущих коней, звуки литавр и бубен не умолкали ни на минуту.
Направо, от табора в четверти мили, виднелись два вершника; они ездили в ту и в другую сторону, то приближались к табору, то скрывались за горизонтом.
Сторожевые казаки не обращали на них внимания; то наши! — говорили они между собою и были спокойны.
Поездив по степи, вершники приблизились мало-помалу к табору; их легко можно было рассмотреть: один из них был лет сорока двух, роста среднего, лицом смугл и сухощав, большие чёрные сросшиеся брови, нависшая над узкими, также чёрными, ярко горевшими глазами, делали выражение лица его суровым, гордым и вместе с тем проницательным; повисшие чёрные с проседью усы прикрывали чуть усмехающиеся уста. Казак был виден и красив собою; на нём был жупан светло-зелёной шёлковой материи, вышитый на груди золотыми снурками; палевые шёлковые шаровары так широки и длинны, что не только закрывали красные его чёботы, на высоких серебряных каблуках; но когда он стоял на земле, казалось, что он одет в женскую юбку; по застёгнутому стану повязан широкий розового бархата пояс, с вышитым золотом гербом гетманщины, на поясе турецкая сабля с рукояткой, осыпанной драгоценными камнями; за поясом два пистолета, оправленные серебром; конь у него белый арабский.
Другой казак роста немного повыше среднего, лицо хоть и полное, но бледное; чёрные большие глаза, нос прямой, усы чёрные, из-под бархатной красной шапки, опушённой соболем, виднелись как смоль чёрные волосы, закрывавшие почти до самых бровей широкий его лоб. Шёлковый стального цвета жупан, также обшитый золотым снурком; розового цвета шаровары и, как у первого казака, красного сафьяна сапоги с серебряными подковками; через плечо на золотой цепи висел кинжал; на зелёном бархатном поясе золотая сабля с длинного золотою кистью; конь у него был вороной.
— Так, мой наимилейший кум, так! — сказал казак, сидевший на белом коне.
Василий Леонтиевич поморщился, приподнял правой рукой шапку, а левой почесал затылок и сказал:
— Когда так, так и так!
— Да таки-так!
— Да всё что-то не так! А нечего делать, надобно кончать, когда начали.
— Пора, кум, давно пора кончать, кипит да кипит вода, скоро и вся выбежит, если не отставишь от огня горшок.
— Да когда же кончать?
— Да завтра, если не сегодня, а лучше сегодня!
— Завтра!..
— Всё завтра да завтра... чего будем ожидать? Полковники согласны, Голицын его не любит, казаки, — что нам!.. это не те годы, когда всякий кричал, кого хотел; теперь не то: кого мы захотели, тот и гетман!..
— Всё лучше подождать до поры до времени.
— Ждать да ждать, и умрём, так всё будем ждать; нет видно, Василий Леонтиевич, не хочешь ты сам себе добра, видно для тебя тяжка булава! А жаль, ты истинным батькой был бы для всех казаков; не хочешь сам носить булаву, так кого изберёшь, тому и отдашь.
— Пане кум, не говори этого; ты в славе у московских воевод и бояр, тебя уважают цари; а я — писарь; мне не дадут булаву; и если не тебе, так кому другому, а всё не мне!
— Кому другому? Мне или тебе! Я не возьму. Цари хотят, чтобы я жил в Москве; скажу тебе, как наилюбезнейшему наиближайшему другу, я не хотел бы ехать в Московщину, да что ж будешь делать, знаешь, кум, не хочет коза на торг, так силою поведут; нет, кум, ни кого не выберут кроме тебя.
— Кум, тяжко, тяжко, крепко тяжко слушать мне слова твои, что я не хочу сам себе добра, что я гетмана уважаю!.. Нет, кум, нет, не такая думка в голове моей: двадцать лет служил я ему, и что ж за это? До генерального писаря дослужился, — очень много, не вмещу всего и в мешек! — нет, я докажу тебе, что и сам сумею держать в руках булаву, раз её держал нечестивый чабан Самуйлович. Пусть паны полковники говорят, что я живу жиночим умом, что жена управляет мною, пусть говорят, что хотят, а я докажу, враг наш Самуйлович не будет гетманствовать, не будет!..
— Докажи, кум, докажи! И я твой товарищ и брат!
— Гетман пугало, что на горохе стоит; голова черепок, а не разумный человек!
— Так, кум, так, твоя правда!
— Знаю, что так!
— Куй же железо, пока оно красно!
— Будем ковать! Поедем до Дмитрия Григориевича, вот го голова!
— Поедем!
Мазепа и Кочубей поехали к табору. Подстрекаемый, с одной стороны, безотвязными докуками жены, умной, но властолюбивой; а с другой медоточивыми словами хитрого Мазепы, добрый, лихой, но неустойчивый в своём характере, истый казак Кочубей, страстный охотник, как и многие из украинцев, позываться и доносить; наперекор внутренним обличениям своего сердца, свыкся наконец с обольстительною мыслию — быть гетманом, и решился, по наущениям Мазепы, действовать против Самуйловича. Простота не рассчитала, к чему приведёт её коварство!
Под одним пунцовым с белыми полосами шатром, на турецком ковре, сидело в кружок пять человек полковников; они были почти все без жупанов в одних только шальварах, из красной, синей и зелёной нанки, повязанных кушаками, длинные концы которых с правого бока спускались до самых колен, перед ними лежал небольшой плоский бочонок; а на белой хустке с вышитыми красным шёлком петушками, стояли небольшие серебряные чарки. По углам шатра сложены были собольи и лисьи шубы, покрытые бархатом; несколько жупанов, ружей, пистолетов, две или три сабли, столько же шапок, опушённых мехом, и разная другая одежда.
Смуглое лицо, нос как у коршуна, чёрные подбритые и подстриженные в кружок волосы, узкие глаза и длинные повисшие усы отличали одного из полковников, который время от времени пускал дым изо рта, куря люльку, и поправлял табак маленьким медным гвоздём, висевшим на ремешке, привязанном к коротенькому чубуку. Сидевший напротив него полковник, будто для противоположности с первым, был чрезвычайно красен лицом — волосы на голове белые, а усы и густые нависшие на глаза брови чёрные. Полковник этот украдкою часто посматривал на прочих и в раздумье качал головою; остальные, склонив головы на руки, сидели задумавшись.
За шатром слышалась песенка казака, стоявшего на страже у полковничьего шатра, — он пел про Саву Чалого.
Ой, чим мини вас, панове, Чим вас привитати? Даровав мени Господь сына, Буду в кумы брати. Ой мы не того до тебя пришли, Щоб до тебе кумовати; А мы с того до тебя пришли, Щобы тебе разчитаты.Полковники долго прислушивались к грустной песенке, потом краснолицый спросил полковника смуглого лицом.
— Что ж ты это всё думаешь, Дмитрий Григорьевич?
— Ничего!
— Как ничего?
— Да так-таки — ничего!
— Нет, не ничего!
— Что ж думать, пане Лизогуб?
— Если б воля наша, чего бы мы не сделали, паны полковники! — сказал старик полковник, у которого седые как лунь волосы только оставались на висках, — так, паны полковники, правду я сказал?
— Так-таки-так, пане Солонино.
— Эге, что так?
— Да таки-так!
— Вот чего захотел полковник Солонино, волн! Воли захотел, да и не добро оно! — усмехаясь, сказал также седой полковник, у которого на носу и на левой щеке был рубец от турецких сабель, Степан Забела, и покрутил свои длинные седые усы, — воли захотел! — повторил он громче прежнего, скидывая с себя малинового цвета обшитый золотыми снурками, суконный жупан, — лови в степи ветра: поймаешь его за чуприну, пане Солонино — добудешь и волю; а пока добудешь, кури люльку до вечера, а там будет тебе воля на всю ночь с полком в Крым поспешать к зичливым приятелям твоим татарам.
— Тяжко, крепко тяжко, да что ж делать, паны полковники! — сказал Дмитрий Григорьевич Раич.
— Что делать будем? — спросил пан Лизогуб. — Бродить по степям, пока ветер не навеет татарву, а навеет, так уже известно вам, паны полковники, что делать с татарвою; а не знаете что, — так спросите московского великого пана Голицына, — он недалеко от нас, — и научит, так что и чуприна будет мокра, да в другой раз за то и носа не покажешь ему; а не то, спроси у гетмана, и то человек разумный, только жалко, — не своим умом живёт, а московским!..
— Гей! Гей! Да молчи, пане Лизогуб, пусть им обоим лиха година, на что ты беду накликаешь на свою седую голову, посмотри на меня: я все молчу, да жду лучшего, делай ты так, и добре будет!
— Молчать, все молчать, пане Степан, нет, не такое время пришло, чтоб молча сидели и слова не сказали, когда кто прийдёт до нас, да скажет: «Клади, пане полковник, голову под секиру, я отрублю её ни за то ни за сё, а так, чтобы не было у тебя её на плечах! — Нет, пане Солонино, ты первый противиться будешь этому, сам первый не положишь голову под секиру, всякому воля своя дорога, всякий бережёт и голову, и жизнь, и добро своё!
— Обождите немного, неделю-другую походим по степям, враг принесёт татарву, повеселеет сердце, посватаются саблюки наши с татарскими головами, и горе забудем!
— Что ты говоришь, пане Раич, до конца света скоро дойдём, а всё проклятой татарвы не будет! — сказал Солонина.
— Нет, пане Раич, видно татары знают, где раки-то зимуют! Не видать, кажется, нам их, как не видать своего затылка; это не богдановские годы, не Виговский гетманует, не полезут теперь до нас: не одни наши гарматы страшны им, и московских боятся; пронюхали, что и москали просятся в гости до них; а москали, правду сказать, не паши братики-казаки, что пальнёт с рушници да с пистоля, кольнёт списом, махнёт саблюкою — да и поминай, как звали! И собаками не найдёшь казака в степи, так улепетнёт в гетманщину до жены да до детей. Нет, паны полковники, минулось, что было, не воротятся старые годы, не будем и мы молодыми. Ох-ох-ох!.. Покрути свои седые усы, погладь чуприну, когда голова не лыса, посмотри, остра ли твоя сабля, цела ли рушница, да и не думай больше ни о чём, перекрестись вставая и ложась, что голова твоя на плечах; а что будет завтра, о том и не думай, а о жене и детях не вспоминай, словно бы их у тебя никогда и не было! — сказал Лизогуб.
— А всё кто виноват, паны полковники?.. Подумайте сами, кто всему причиною? Старый гетман! Правду так правду резать: гетман всему виною, Генеральная старшина всё знает и подтверждает, а мы, так как воды в рот набрали.
— Твоя правда, Дмитрий Григорьевич, гетман всему причиною, а всё от чего? — от того что слушает москалив, водится с москалями, одних москалив как чёрт болото знает; а мы ему что? — посмотрит на нас, махнёт рукою, вот и всё наше, мы ему не паны-браты.
— Так-так, пане Лизогуб, крепко гетман наш набрался московского духа; старый уже, пора ему и в домовину, — а всё ещё не туда смотрит, пора ему и в... Да что ж делать, хоть бы одумался!
— Одуматься! Пане Забело, одуматься гетману; ты слышал, что рассказывал пан Кочубей, что подтвердил и пан есаул Мазепа, слышал?
— Да, слышал!
— Ну то-то, так не говори, враг знает чего?
— Слово твоё правдивое, пане Раич, правду говорят и паны старшина: есаул и писарь; ну писарь, хоть себе и так, лёгонький на язык, любит и прибавить, такая его уже натура; а Иван Степанович у нас голова, не гетманской чета, нет; да и у московских царей таких людей немного найдётся, человек письменный, всякаго мудраго проведёт, набожный, правдивый и ко всякому почтителен; за то и Бог его не оставит, меньше казакует, чем Кочубей, да уже Генеральный есаул, а погляди, чего добраго, десяток лёг не пройдёт, и булаву отдадут ему, это так!
— А что пан есаул говорил? — спросил Лизогуб.
— Что говорил? Говорил, что гетман такой думки, если бы и всё войско казачье пропало от жару или без воды, так жалеть не будет, а приехавши в Батурин, до всех икон по три свечки поставит и спокойно заживёт себе с женою и детьми.
— Добрый гетман, грех после этого сказать, что он не аспид! — сказал Раич.
— Когда б ему сто пуль в сердце, или сто стрел татарских в рот влетело! — сердито сказал Солонина.
— Молчите, паны дорогие; генеральные паны есаул и писарь до нас идут! — сказал Забела.
Полковники замолчали.
— Идут, так и придут, паны добрые; так, паны полковники?
— Так, пане Раич!
— Что будет, то будет, а будет что Бог даст! А я тем часом налью себе чарочку мёду, да за ваше здоровье, паны мои дорогие, хорошенько выпью; а когда захочете да не постыдитесь пить, так и вам всем налью!
Лизогуб взял бочонок и налил в свою, а потом и другие чарки мёду; поднял чарку и сказал:
— А ну-те, почестуемся!
Дмитрашко, Раич, Забела и Солонина взяли чарки.
— Будьте здоровы, пане полковники!
— Будь здоров, пане полковник!
— Ну, чокнемся, паны!
Чарки ударились бок об бок и в одно время полковники осушили их до дна. Потом все они встали с ковра, кто успел — надел жупан и прицепил саблю, кто не успел, и так оставался, ни мало не заботясь о своём одеянии.
— Добраго здоровья, мирнаго утешения, счастливаго пребывания, усердно вам желаю, паны полковники! — сказал Мазепа, кланяясь на обе стороны.
— И вам Господь Бог да пошлёт, вельможный есаул, многия милости, временные и вечныя блага! — отвечали полковники, и все кланялись есаулу в пояс.
Поклонившись несколько раз генеральному есаулу, полковник Раич обратился к Кочубею и сказал:
— Многия милости, покорнейше просим, пане писарь, пожалуйте! Здоровья и благоденствия щиро все желаем.
Василий Леонтиевич кланялся на все стороны; полковники также низко откланивались; и потом когда пан есаул сел на подложенную ему на ковре малинового бархата подушку, сел пан писарь, а за ним Раич, как хозяин, пригласил сесть и панов полковников.
Дмитрий Григорьевич громко позвал своего хлопца, и через несколько секунд вбежал под навес в красной куртке и в синих шальварах, с подстриженными выше ушей в кружок волосами, небольшой казачок.
— Хоменко, бегом мне принеси с обоза баклагу с венгерским!
Хоменко, выслушав приказание пана полковника, опрометью выбежал из-под шатра и побежал к обозу.
— О чём, паны полковники, беседовали? — ласково спросил Мазепа.
Некоторые из полковников тяжко вздохнули, другие язвительно улыбнулись, а полковник Лизогуб сказал:
— Про нашего гетмана, вельможный пане есаул!
— Эге, про гетмана! — сказал Забела и почесал затылок.
— Так-таки, вельможный пане, про нашего гетмана; что это он делает с нами, куда мы идём, зачем и для чего; миля или две до речки Московки, а там Конския воды, а всё нет того, что нужно; а казачество, Боже мой, Боже, мрёт да мрёт каждый день от жару и от безводья, а кони, а мы-то все!.. что с этого всего будет?
— Что-нибудь да будет! — с лукавою усмешкою сказал Кочубей и искоса посмотрел на Мазепу.
— Может быть и твоя правда, кум, не знаю, — отвечал Мазепа.
— Да будет-то будет, да что будет? — спросил Забела.
— А что будет? Помрём все от жару, а волки соберутся, да нашим же мясом и поминать нас будут, а гетман поедет в Батурин.
Прочие полковники сидели задумавшись и тяжело вздыхали.
Хоменко задыхаясь, вбежал в шатёр и положил перед паном Раннем бочонок.
— Вот это лучше пить, паны старшина и полковники, чем горевать, давайте-ка сюда чарки!
Дмитрии Григорьевич собрал чарки в одно место, откупорил бочонок, наполнил и поднёс прежде всех пану есаулу, потом пану писарю, а потом пригласил разобрать чарки полковников.
— Добраго здоровья, пане полковник, от щираго сердца желаю тебе! — сказал есаул, и за ним кланяясь повторили это приветствие все прочие и осушили чарки.
— Ещё по чарке, ласковые паны!
Все хвалили вино и подали свои чарки; Дмитрий Григорьевич наполнил их вновь и просил гостей пить.
Все выпили.
— Ещё по чарке, паны мои добродийство!..
— Будет-будет, пане полковник, не донесём ног, будет стыдно, это не дома, а в таборе.
— Ничего, паны старшина и полковники, будьте ласковы, ещё по чарке, по одной чарке.
— Нет, будет!
— Будет!
— Ну, по чарке, так и по чарке! — сказал Лизогуб и первый подал свою чарку.
Снова чарки наполнились и снова осушили их до капли.
Дмитрий Григорьевич не приглашал уже гостей подать ему чарки, молча он старался украдкою наполнять их, полковники нехотя отклоняли его от этого просьбами, но Раич успел налить все чарки.
Разговор оживился, иные из полковников говорили между собою, другие вмешивались, и в шатре зашумело веселие.
Когда гостеприимный полковник Раич в седьмой раз наливал осушенные до дна чарки, общий разговор склонился на гетмана Самуйловича: все осуждали его поступки, один Мазепа молчал и когда обращались к нему с вопросом, двусмысленно отвечал:
— Так, паны полковники, так; да что ж делать?
— Что делать? — сказал Кочубей, осушая чарку, — разве мы дети, не знаем, что делать, когда нас всех хотят уморить! А донос в Москву? А на что от царей прислан Голицын? Ударим ему челом, вот и вся соломоновская мудрость.
Все были уже навеселе; но, услышав слова Кочубея, вдруг полковники замолчали; Мазепа окинул проницательным взором собрание.
— Как думаешь, пане есаул, справедлива речь моя?
— Не знаю, что сказать; всякое даяние благо и всяк дар совершён!
— Эге, что так! — воскликнул Кочубей, не разобрав слов Мазепы, — зачем же вы, пане полковники, молчите, когда я указал нам прямую дорогу?
— Донос! Гм... гм — донос, пане писарь, да что ж будем доносить?
— Как что доносить, пане Солонино? Что знаем, всё донесём, не будет у нас такого гетмана!
— А что знаем, пане писарь?
— Что знаем, пане полковник? Вот слушай меня, что знаем!
— А ну-те, пане писарь, послушаем, что скажете нам! — в одно слово сказали гости.
— Вы, паны полковники, разве не знаете, что гетман делает в ваших полках? Не при вас ли он приказывал казакам служить не Московским царям, а ему, разве не при вас это деялось?
Все молчали.
— Вы этого не видали и не слыхали?
— Да так, пане писарь, да всё оно что-то не так! — сказал Лизогуб.
— Не так! Ну, добро; а не продавал ли он за червонцы полковничьи уряды, не притеснял ли он Генеральных старшин, не ласкал ли он таких людей, которых и держать-то бы в Гетманщине совестно и грешно? Не грабил ли он всё, что хотел? А что скажете и на это, паны?
— Так, пане писарь, есть и правда: не только забирал, что хотел, гетман, отнимали силою и его сыны, что хотели, — сказал Мазепа.
— То-то, паны полковники, а указ царский: отпускать в Польшу хлеб, исполнял он? Татарам посылал продавать, мы всё знаем! Чего же ты, пане Дмитрий Григорьевич, сидишь, как сыч насупившись, не тебя ли гетман за святую правду хотел четвертовать, да Бог избавил от смерти; а ты ещё молчишь, ты лучше нас знаешь про его нечестивые дела!..
— Пане писарь, я раз попробовал, да и будет с меня! Делайте, что начали, а я от вас не отстану и первый скажу слово за нового гетмана.
— То-то, что новаго гетмана! — сказал Кочубей.
— Новаго!
— Новаго, да умнаго!
— Новаго, так и новаго! — с восторгом кричали все.
— Венгерского! — сказал Лизогуб и поспешно налил все чарки.
— Ну-те, паны, по чарке!
— Будьте здоровы! — сказали все и осушили чарки.
— Новаго, так и новаго! А старый пусть сидит с завязанными очами да болеет; недаром же говорил, что от этого похода и последнее его здоровье пропадёт, а всему виною князь Голицын, — лучше, говорит гетман, в Москве бы сидел, да Московский грани берег, а не в степь выступать.
— Когда новаго, так кого же? — спросил Солонина.
— Известно кого! Генеральнаго обознаго Борковскаго; он человек правдивый, добрый! Хоть и скряга, да не наше дело, гетманом щедрый будет, — сказал Забела.
— Не быть ему гетманом, — сказал Лизогуб.
— Отчего так?
— Да так!
— Кто ж будет?
— Кто будет, тот будет, только не Борковский!
— Ну, а Василий Леонтиевич, — сказал с усмешкою Раич и обеими руками погладил свою чуприну.
Кочубей встал, низко поклонился Раичу, а потом всем полковникам, сказал, что есть ещё постарше его, и благодарил за предложенную честь.
— Ну когда не хочешь, пане писарь, и просить не будем! — сказал Лизогуб.
— Найдётся и без меня достойный; хоть бы и Иван Степанович!
Мазепа низко кланялся и говорил, что честь эта для него очень велика, что он не заслужил ещё любви панов полковников; но сам их всех без души любит, готов голову отдать за всякого. И до этого будучи совершенно трезв, начал притворяться, будто бы хмелён.
— Я... я правдою служу Богу милосердому; известно, люблю вас, паны мои полковники, крепко люблю, люблю, как родных братьев, а что будет дальше, то Бог даст; а пока жив буду, не перестану уважать и любить всех вас щирым сердцем; дайте же мне всякаго из вас обнять и до своего сердца прижать, дайте, мои благодетели! — Мазепа обнимал и целовал каждого и плакал, — Теперь венгерского, запьём наше товарищество и щиру дружбу! — Мазепа налил чарку и, подняв её вверх, сказал восторженно:
— Паны мои полковники, будьте по век ваш счастливы и благополучны!
— Мы все тебя любим, пане есаул, все любим щиро, — сказал Солонина, и все вместе осушили чарки.
— Все любим! — подтвердил Лизогуб.
— И поважаем! — прибавил Раич.
— Спасибо, паны полковники, спасибо! Ну, теперь и в свои шатры пора, ляжем отдохнём немного; а там зайдёт солнце, загорятся зирочки, вот мы, смотря на них, пойдём дальше; а теперь пора, ляжем, пане куме, и у тебя, и у меня крепко шумит в голове, пойдём.
— Пора, пора, пойдём, пане есаул!
Мазепа и Кочубей поклонились гостям и шатаясь ушли.
— Ну, пане Раич, я, как ты хочешь себе, а окутаюсь твоею шубою, да здесь и засну, до шатра моего далеко, не дойду.
— Добре сделаешь, пане полковник Лизогуб и вы, паны, ложитесь: у меня всем вам и шуб, и всего достанет.
— Так-и-так; а ну, паны, до гурту! Да и заснём; знаете пословицу: в гурти и каша естся, — сказал Забела и лёг, окутавшись собольего шубою, покрытою алым бархатом; примеру его последовали все полковники и сам пан Раич лёг вместе с ними и уснул.
III
В полдень погода переменилась: солнце сделалось гак красно, как будто бы кровью налилось, голубой безоблачный свод неба покрылся серым туманом, повеял ветерок и разнёс в воздухе удушливый запах дыма.
— Не быть добру, — сказал Кочубей Самуйловичу, стоя за ним, облокотясь на высокую спинку стула, на котором, повязав белым платком глаза, сидел гетман, у входа в персидский шатёр, подаренный ему султаном.
Выслушав слова Кочубея, Самуйлович долго молчал, лотом покачал головою и сказал:
— Горе мне, великое горе на старости лет моих, при остальных днях жизни моей! Кому знать лучше, как не тебе, Василий Леонтиевич, сердце и душу мою; знаешь, что против царей наших никогда я не помышлял неправедно, рано и вечер молился за них Богу милосердному, просил Господа, чтоб наша отчизна была достойна милостей царских! А теперь сердце мне говорит: не ждать веселия и добра; есть люди, я знаю, они идут против меня, хотят моего несчастия, желают смерти моей; я всё знаю, но молчу и горюю! Воеводы и боярин видят, как я живу, да что ж, когда может быть им нужно другаго гетмана! Болею, очи мои помрачились, а я пошёл с верными казаками в степь; и что теперь ожидает нас? Впереди и позади огонь и смерть, верная смерть!.. Татары запалили степь; за нами пепелище — зола да земля, нигде ни травки, ни былинки — горе, тяжкое горе! А назад пойти — меня же обвинят... Рассуди сам, Василий Леонтиевич, виною ли я в том! Не боюсь, когда скажут, что я всему злу причиною; пусть говорят, что хотят, совесть у меня чистая, в сердце не было и нет грешных помыслов — не боюсь! Есть у меня надежда, крепкая и верная надежда — сам Бог заступится за меня, Василий Леонтиевич, сам Господь сохранит и помилует! Воля вольная врагам моим, что хотят, то пусть и делают!
Самуйлович склонил голову на грудь.
— Ясновельможный гетмане, проклятый тот человек, который посягнёт на твою жизнь! Ты у нас родной отец всякому; кто тебя не любит, скажи сам, и кто посягнёт на жизнь твою? Нет, гетман, того аспида на куски разорвали бы мы!.. Кому ты не делал добра — всякому казаку! А зло — никому, и кто ж тот, который задумал тебя обижать?!
— Так, пане Кочубей, всё так; а есть и у меня враги, да ещё и немало их; они когда-то были моими приятелями, и я их любил; но теперь совсем не то.
— Проклятые те люди, гетман!
— Не проклинай их, пане писарь, Господь с ними, не проклинай; ты сам человек письменный, ты знаешь и сам, и в церкви не раз слышал Евангелие, что Господь Бог простил распинавшим его, Иисус Христос молился за них, так и нам указал поступать.
— Бог сам проклянёт таких людей, проклянёт и детей их!
— Василий Леонтиевич, на всё воля Божия, сам Он, милосердный, всё посылает: и смерть, и живот — и надо мною свершится Его воля святая... Я старец дряхлый, пень трухлявый, насилу хожу, почти ничего не вижу, пора мне в могилу, там покойно! Одно только мучит, крепко мучит меня, не даст мне ни днём, ни ночью покоя: мне бы хотелось, чтоб вы, старшины, полковники, казаки и все, выбрали ещё до смерти моей себе другого гетмана, чтоб видел я, будете ли вы счастливы? Когда будете, покойно сердце и душа моя будут — тогда хоть и в домовину...
Кочубей молчал, гетман читал про себя молитву, и время от времени тяжело вздыхал.
В это время небосклон покрылся множеством летевших птиц; многие из них от зноя и смрада, наполнявшего воздух, падали на землю бездыханные; по степи бежали зайцы, волки, дикие кабаны, лисицы, дикие лошади и другие звери; все они были так утомлены, что допускали ловить себя и беспрепятственно отдавались в руки казаков; но по казаческому поверью, грешно было ловить бежавших зверей и брать падавших птиц.
— Звери бегут стаями, а небо покрыто птицами, — сказал Кочубей гетману и тяжко вздохнул.
— Близко пожар! Пошли казаков вперёд миль за пять, не добудут ли языка, не разведают ли, как далеко от нас горит степь и в какой стороне.
Кочубей ушёл исполнить приказание гетмана, а между тем два сердюка подняли ослабевшего старца, взявши под руки, и ввели его в шатёр.
Через час войско начало собираться в поход, вмиг сняли шатры, убрали всё в обоз, казаки оседлали лошадей, громко заиграли в трубы, ударили в литавры и бубны, стройные рати полков в минуту построились и двинулись вперёд к переправе через речку Московку.
Багровое солнце скатилось на запад, с утра голубое небо, покрывшееся в полдень серым туманом, теперь час от часу покрывалось заревом, краснело-краснело и вечером превратилось в пламенное море, по которому густые огненные клубы чёрного дыма катились, как разъярённые морские волны, кругом во все стороны; где прежде, казалось, золотая степь сходилась с сапфирным небом, разлился страшный адский огонь; в воздухе шумел порывистый ветер.
Казаки шли на отдалённый ещё огонь и дым; само войско приняло огненный вид. Гарь и удушливый дым становились чувствительны, а полки всё двигались вперёд.
От добытых языков татарских узнали, что степь горит на пространстве двухсот вёрст. Гетман не верил пленным и не хотел согласиться с мнением полковников, желавших не идти далее и отступить назад.
Самуйлович полагал, что войско успеет приблизиться к реке и будет вне всякой опасности, тем более, что в стороне за Московкою в шести милях горела степь.
За полночь передовые полки увидели на той стороне реки необозримые волны огня, перевивавшиеся беспрестанно с густыми чёрными клубами дыма; это видели они уже не зарево, но самый пожар. По степи лежали там и сям рассеянные табуны диких лошадей, вепри, волки и другие звери, нередко преграждавшие путь казакам; звери были мертвы или при последнем издыхании.
С каждой минутой, с каждым шагом казаков вперёд жар усиливался, изнемождённые воины, удушаемые дымом, падали на землю десятками, — каждый думал лишь о себе, — и падшим не подавали помощи, оставляя их на произвол судьбы, сами спешили всё ближе и ближе к пламенному морю, желая приблизиться к реке.
Огненные полосы лились вслед одна за другою, или перегоняли одна другую, или сливались вместе, увеличивались как морские валы и потом, достигнув огромной скирды сена, приготовленного за несколько дней для полков, вмиг, как тайфун на море, подымались к небу огненным винтом и грозили, казалось, погибелью целому свету. Раскалённые брызги горевшего сена, размётываемого во все стороны порывами ветра, летали по огненному воздуху и, падая на чёрную обгорелую землю, долго ещё дымились.
Несколько раз казаки, возмущаемые недовольными на гетмана, готовились воротиться назад; даже иные полковники оставили полки свои и ехали сзади. Гетман заметил это и, забыв дряхлость, старость и болезнь, с повязанною головою, сел на коня и, поддерживаемый казаками, поехал впереди всего войска. Ободрённые казаки забыли отчаяние и спешили за Самуиловичем.
Казалось, самая стихия, увидев пред собою старца-гетмана, не желая противостоять ему, начала утихать; волны огня уменьшались, дым разлился поверх огненных потоков и на несколько мгновений скрыл небо и землю непроницаемым мраком; войско остановилось среди тьмы, дожидаясь проблеска огня. Вдруг забушевал порывистый вихрь, раздался страшный треск, и с новою силою, с новою неизобразимой яростью, со всех сторон покатились огненные валы и устремились прямо на казаков.
— Мы погибли! — сказал Мазепа, окутанный с ног до головы в белый плащ, гетману, ехавшему по правую его сторону.
— Молись, не погибнем! — с христианской твёрдостью отвечал гетман.
— Пропали мы, пропали, гетман! Через тебя пропали! — закричал не своим голосом Кочубей, ехавший рука об руку с Мазепою, и сколько доставало силы у коня его, поскакал назад; примеру Кочубея последовали некоторые из полковников и других чинов, увлёкшихся или трусостью, или неправедною местью против гетмана.
— С коней! — закричал гетман и первый бодро соскочил с коня. — Молитесь, казаки, Богу милосердному! Да спасёт и помилует, молитесь! — с воодушевлением и верою воскликнул Самуйлович, повергся на колени и громко начал читать молитву.
Вслед за гетманом всё войско в благоговении молилось.
Ветер призатих, сердца молившихся оживали надеждою... но вот, с новою яростью загудело, зашумело: страшные порывы взметали столбы огней, ломали, сокрушали их, бушевали новыми волнами; всем уже казалось, что вот-вот эти волны подкатятся под ноги казачьих коней, и через мгновение необозримые ряды воинов потопятся непреодолимым стремлением пылающего моря.
— Светопреставление!.. Мы пропали! — ревели отчаянные вопли по рядам.
— Господи помилуй! — громогласно и умилённо воскликнул гетман.
— Господи помилуй! — единодушно повторило за ним всё войско.
Вдруг всё затихло... изумлённые озирались — и не верили глазам своим.
— Владычице!.. Милосердная Заступница!.. Господи, слава тебе!.. — слышались повсюду радостные восклицания. Последний страх был напрасен: то было гудение и свист ветра, внезапно переменившего направление. Пламя и дым быстро повернули в степь; от силы нового жестокого ветра огненные волны с яростью, одна за другою, отхлынули назад и помчались по направлению бури.
Воздух освежился, изнемождённые казаки, с каждым мгновением ожидавшие гибельной смерти, радостно вздохнули, увидев, что опасность миновала.
Не вставая с колен, восторженный старец поднял дряхлеющие руки вверх и, возведя глаза, исполненные радостных слёз, громогласно произносил отрывистые речи благодарственного псалма: «Благослови душе моя Господа!.. и вся внутренняя моя Имя Святое Его...» Войско последовало его примеру. Голос старца мало-помалу ослабевал Измождённый гетман, наконец, сел на траву; но лицо его сняло величием праведника. Он повёл глазами кругом себя; все столпились к нему, многие бросились к ногам его, приносили повинную, клялись в своём ропоте и малодушии, ублажали его веру и упование.
— Близь, Господь, сокрушённых сердцем и смиренных духом спасеть! — величественно проговорил гетман, придавая вес каждому слову, когда восторг окружавших позатих. — Вы испугались смерти! А разве, идя на войну, мы не на смерть идём!.. Господь гордым противится, смиренным же даёт благодать. За нашу гордость, неповиновение и крамолы, Господь страхом смерти обличил наш грех, и покарал малодушием. За наше смирение и покаяние помиловал нас. Вразумитесь этим случаем, дети; не гетмана бойтесь, а Бога! Не творите козней и крамол против власти праведной и законной, не ходите на совет нечестивых, на пути крамольников не стойте — и Господь вас сохранит и помилует.
Все слушали, поникнув взорами.
— На коней... и назад! — скомандовал гетман, когда, по его приказанию, его подняли, и он осмотрел ещё пылавшую вдали окрестность. Раскалённая земля невдалеке от войска пылала ещё в разных местах и поэтому гетман решил, отступив назад, дать отдых казакам.
Противники гетмана торжествовали, они уже забыли недавний урок Божий. Дух крамолы отогнал от них Духа Божия, святые укоры гетмана остриём вонзились в зачерствелые сердца их, и озлобляли на новые крамолы.
Два дня после этого шли казаки назад; и кроме серого неба, покрытого дымом, да пепла, развеваемого ветром, да трупов погибших людей и зверей, ничего не встречали более.
Между тем продолжительный поход в степи истощил все запасы, взятые казаками в дорогу, и недостаток в пище начал быть ощутимым.
Но вот пришли полки к речке Анчакрак, переправились через неё и, соединясь с московскими полками, остановились.
Собрался военный совет из боярина, воевод московских, гетмана, старшин и полковников казачьих войск; долго рассуждали о том: идти ли вперёд или воротиться назад? — мнения были несогласны. Гетман, а за ним и воеводы говорили, что пожара другого не может быть, травы нет на степи, которая могла бы гореть; а пойдёт дождь, подрастёт молодая, тогда для лошадей будет корм, и они благополучно дойдут. Старшины и полковники гетманские противоречили этому и требовали непременно воротиться назад. Боярин согласился с мнением есаула Мазепы, который первый подал мысль воротиться — и решили отступить войскам до реки Коломана.
В тот же день московское войско пошло в обратный путь, а казаки пока что отдыхали на месте.
Вечером, когда кровавое солнце заходило за кровавый же запад, у изломанного пушечного станка столпились паны полковники.
Григорий Дмитриевич кричал, что он докажет, будто бы сам гетман посоветовал крымскому хану зажечь степь.
— Твоя правда, пане полковник, — сказал Кочубей, — всё он один делает, никого к совету не призывает!
— А Генеральной старшине какая от него честь! Больше от гнева и непохвальных его слов мучатся, нежели покойно живут, — сказал Мазепа и, заложив руки за спину, начал ходить перед полковниками, то в одну, то в другую сторону.
— Паны полковники, донос писать, так и писать, — сказал Кочубей.
— Жалко старика, доживал бы он своего веку, да и только! — сказал Лизогуб.
— Пане Лизогуб, когда дела не знаешь, так сидел бы молча, а не пустое городил… а может быть, гетман насыпал тебе десять шапок червонцов, что ты так ласков до него! — сказал Кочубей.
— Да нет, то я так сказал!..
— Ну, когда так, то лучше слушай нас, так, паны?
— Так, так!
— Справедлива речь!
— Так-таки, так!
— Ну, писать, или как, говорите, паны полковники?
— Да хоть и писать!
— Ну, писать, так и писать!
— Что ж писать будем? Говорите, со мною есть папира и каламарь; всё есть, я человек с запасом. Садитесь, паны, возле меня, в кружок — да без всякаго стыда говорите, что писать! — сказал Кочубей, разворотил лист бумаги, вынул из кармана чернильницу, перо и приготовился писать.
— Ну, говорите!
— Пиши, пане писарь, что Самуйлович — зичливый приятель татарам, а враг смертный полякам! — сказал Мазепа.
— Добре, напишу! — Кочубей записал.
— Пиши, пане, что гетман говорил: Москва за свои гроши купила себе лихо! — сказал Забела.
— От-се пиши, пане, се крепко добре! — сказал Дмитрий Григорьевич.
— Пиши, пане писарь, да не оглядайся! — сказал Лизогуб.
— Говорил: Брюховецкий добре сделал, что изменил, — и он то же сделает.
— И се добре, пане Забелог.
— Григорий, сын гетмана, дядьки, братья, племянники, да... и все родичи при гетмане часто говорили дерзкие речи о царях; а Самуйлович не только свою родню не удерживал от того, да и сам частенько им потакал, — сказал Мазепа, и потом, обратясь к полковникам, прибавил, — старый поп Иван, приятель гетманский, на все штуки молодец, и даром что на голове десять волосин осталось, а враг его не проведёт, — гетман его одного слушает.
— Да есть у гетмана, и не один поп Иван — приятель.
— Да поп лучший из всех, пане Лизогуб, — сказал Мазепа.
— Так, пане есаул, так!
— Ещё что, думайте; а что не вздумает, после сам я всё добавлю, перепишу на другую папиру, да все и подпишемся!
— Не любит московских бояр и воевод; и дочку свою хотел выдать за поляка князя Четвертинскаго, а не за русскаго воеводу, известно вам, паны полковники?
— Известно, пане есаулу! — сказал Солонина.
— Всему свету известно, не только одним нам, — сказал Раич.
— Знаем! — отвечал Забела.
— Всё знаем! — подтвердил Лизогуб.
— Будет, довольно с него; сам после допишешь, что вспомнишь, да принесёшь до нас, мы и подпишем и потолкуем, когда и как подать папиру.
— Когда и как, пане Лизогуб! Известно уже кому и когда; да не хлопочи, это не наше дело, есть у нас на это есаул, так, пане есаул? Тебе следует челобитную нашу отдать боярину, и просить от всех нас, чтобы отослал в Москву до царей.
— Да хоть и так, немного хлопот; боярин сам давно хотел, чтоб другой был у нас гетман; а теперь и рад будет; есть повинная голова, которая спалила степь, так напишет и в Москву.
— Ну, и добре!
— Да как добре!
— Пойдём же теперь до меня, да запьём беду нашу венгерским, всё будет повеселее, когда зашумит в голове. Пойдём, пане куме, — сказал Мазепа, обратился к полковникам, взял под руку Раича и Кочубея и пошёл вперёд.
— Что за ласковый пан, наш есаул, ей-ей, и в свете не найти добрейшего!
— А ты, пане Лизогуб, только сегодня и разгадал нашего пана! — сказал Солонина. — Еге... ге... ну так! А сколько десятков лет живёшь вместе?
— Да ну тебя, пане Солонино!..
— Добрая душа! Грех сказать; по-моему, так я б и булаву ему отдал, — говорил Лизогуб.
— Да таки-так!..
Полковники, Мазепа и Кочубей вошли в шатёр.
С этого дня в полках появились явные возмутители. Они разглашали, что гетман тайно посылал приятелей своих, казаков, жечь степь; говорили, что он давно готовился изменить царям и побрататься с турецким султаном, и если бы удалось, так и теперь предал бы всех казаков проклятой татарве. Ропот, как прилив морской, разлился по всему табору; днём и ночью густые толпы казаков стояли у палатки князя Голицына, кричали и требовали, чтобы старый гетман был закован в кандалы и отправлен в Москву или чтобы немедленно казнили его в таборе. Лизогуб, Раич, Забела и Кочубей уговаривали казаков на площадях, превозносили гетмана похвалами, говорили, что он дряхл, стар и хоть для одного этого оставить его в спокойствии; и в то же время собирали зачинщиков у своих шатров, поили их водкой, мёдом и пивом, и научали их, чтобы они неотступно требовали перемены гетмана.
Но большая часть достойных богобоязненных казаков беспредельно любивших своего «старого батьку», слышать не хотели о наветах, которые на его счёт разносились по войску; не имея средств опровергнуть клеветы дельными уликами, они напоминали другим все дела и поступки прошлой праведной жизни гетмана; его ласку, любовь и правосудие ко всем.
— Да что и говорить, — прибавляли они восторженно, — грешнаго человека не послушает Господь! А кто богочтец, того послушает!.. Испеклись бы позавчера наши грешные души в пекле, а грешные тела — в степи, когда б не его вера, да молитва святая!.. Не так ещё покарает Бог Иуду-предателя, Даоана и Авирона, крамольников и наветников... Итак, уже старому немного жить... взмилуйтеся, братики, над своими душами... не побивайте своего роднаго батька...
Такие увещания образумливали даже самых буйных, но только на время. Явятся поджигатели, и снова забеснуются и проклинают гетмана, и требуют нового.
Мазепа с утра до вечера сидел в палатке князя Голицына и утешал его в скуке, уговаривал, чтобы боярин не беспокоился неудачею похода; что вся вина падёт на Самуиловича. Боярин любил Мазепу и был внимателен к его увещаниям.
Последние два дня Мазепа, сказавшись больным, не является уже к гетману, хотя Самуйлович неоднократно посылал за ним. В свою очередь, Кочубей всевозможными средствами старался угождать гетману; он ещё надеялся, что Мазепа будет отозван в Москву, и булава достанется ему. Вместе с этим Генеральный писарь ласкался к Самуйловичу и жаловался ему на казаков, которые, как он говорил, от радости, что возвращаются в Гетманщину, покупают в ближних корчмах водку и, напившись допьяна, никого не слушают, бунтуют и требуют смерти гетмана, старшин и полковников; и дружески советовал Самуиловичу перейти поближе к Московскому войску, для большой безопасности.
— Господь просвещение моё и Спаситель мой, — кого убоюся! — твёрдым голосом проговорил старец, перекрестился и, молитвенно поникнув головою, замолчал. Кочубей вышел: грозны для него были твёрдость Самуйловича я слова чтений Евангелия; душно ему было в этом воздухе, проникнутом, казалось, невинностью и благовонием.
Гетман сидел безвыходно в своём шатре, день и ночь слушал Евангелие, которое читал или любимый его духовник, священник Иоанн, или, иногда, сын гетмана Яков. Перед постелью на небольшом столике лежал перламутровый крест с частицами св. мощей — дар гетману одного иеромонаха, бывшего на поклонении у гроба Господня; и небольшая, в золотом окладе икона Почаевской Божией Матери. С этими святынями гетман всегда выступал в поход.
В ту минуту, когда Кочубей вошёл в шатёр, гетман лежал в постеле и внимательно слушал тихое чтение отца Иоанна; небольшая лампадка стояла на столике перед книгою и разливала тусклый свет...
Кочубей доложил, что никакие меры не действуют для удержания казаков от бунта, и спросил, что делать прикажет гетман.
Самуйлович перекрестился и сказал:
— Господи, да мимо меня идёт сия чаша! — И, обратясь к Кочубею, сказал: — Проси тех, которые возмутили, чтоб они успокоили их, попросили бы и от меня, если помнят стараго своего гетмана! Вижу, Василий Леонтиевич, что скоро меня не будет среди вас!..
— Гетман, живи для нашего счастия!
— Жить мне, когда уже продавщик получил золото от купившего мою жизнь!..
Кочубей смутился, услыша слова Самуиловича, и долго ничего не мог отвечать.
Отец Иоанн продолжал читать Евангелие. Гетман не глядел в лицо Кочубею.
— Кто же, Пуда, продал жизнь твою, гетман?
— Сам ты знаешь лучше, нежели я! Несть тайно, еже не будет яве, — скоро всё откроется, скоро и Бог всех нас рассудит! А суд Божий, не человеческий! О, страшен грешникам суд небесный! — он ждёт многих, многих ждёт. Тогда золото не поможет... не укроятся пред Судьёю небесным никакие грехи...
Кочубей не знал, что отвечать; и украдкою, стараясь, чтоб не заметил его гетман, вышел вон из шатра.
Донос на гетмана был уже подан Мазепою Голицыну, а от него с гонцом отправлен в Москву, вместе с собственным его обвинением гетмана, на которого он слагал всю неудачу Крымского похода.
Войска двинулись к речке Орчику, потом перешли луга, приблизились к широкому, быстро текущему Коломаку и остановились табором на одну милю от полкового города Полтавы.
Гетман, страшась, чтобы казаки не причинили ему какого-либо вреда, остановился по левую сторону Коломака, а табор казачий устроил на правом берегу.
Самуйлович никого уже не принимал к себе под предлогом тяжкой болезни.
Рано утром 21 июля, 1687, больной гетман, как будто бы предчувствуя, что скоро должен идти на страдание, сказал:
— Отче Иван, слушай меня последний раз: прежде всего прошу тебя, помолись Господу Богу, чтоб он удостоил меня приобщиться Святых Своих Тайн; почему знать, может, враги мои и скоро уже начнут тащить сети, которые они расставили мне... и... после этого прошу тебя, немедленно поезжай в святой Киев, или куда сам заблагорассудишь! Не приимёшь совета моего — погибнешь: перваго тебя возьмут и будут пытать; скажут, ты всё должен знать, что делал гетман; и не зная, что отвечать, ты погибнешь. Поезжай в Киев, в святую Лавру, и исполни давнишний обет твой, надеть чёрную ризу и молись, молись, отец Иван, за грешную душу мою, молись рано и вечер, да спасусь... Что же, отец Иван, скажи мне, утешь меня, согласен ли ехать в Киев?..
— Прийму благодетельный совет твой, гетман, и поеду.
— Сегодня же, сегодня я прощусь с тобою! Душа моя радуется, что послушал меня... и теперь я спокойно умру: есть кому молиться за меня Господу милосердному!.. Ну, иди же в церковь, и я за тобою прийду.
В этот день гетман исповедывался и приобщился св. Ганн, потом, пообедав с отцом Иоанном, побеседовал с ним о суете мира сего, о жизни вечной, и, обняв его со слезами, простился на вечную разлуку.
В тот же день к вечеру чрез селение Коломак отец Иоанн выехал в Киев. Вскоре после выезда его. боярин Василий Васильевич получил царский указ на посланный донос от старшин и полковников; никто не знал, что содержал в себе этот указ!
Мазепа по обыкновению с утра до вечера был неразлучен с князем Голицыным, но и от него никто и ничего не мог узнать.
Между тем Кочубей боролся сам с собою, и хотя он ещё надеялся быть гетманом, полагаясь на слова Мазепы, уверившего его, что он будет отозван в Москву; со всем тем, тревожная совесть часто преследовала его неотразимою мыслию: «Ох, тяжко! Ну, да если я задаром сгубил невинного старца, а булава достанется другому!» — Кочубей вздрагивал, вскакивал с места и старался успокоить совесть, и надеждою, что Любонька его будет утешена, возбудить своё мужество; и поэтому распространял между полковниками слух, будто бы в указе сказано, чтобы Голицын озаботился избранием и гетманы верного и достойного; и что таковым назван Кочубей и ещё некоторые из полковников, а Самуйловича за измену казнить.
Полковники и казаки зашумели и требовали, чтобы новый гетман был избран вольными голосами, по вековечному праву, существовавшему в Гетманщине, и что они не жалуют ни Борковского, ни Кочубея; лучше изберут простого казака, какого сами захотят; говорили, что Кочубей сам возвёл на гетмана никогда не бывалые преступления, первый подал голос написать донос и, написав, не прочитал ни полковнику Гамалее, ни Борковскому, а упросил их подписать.
— Не будет того, чтобы Кочубею отдал гетманскую булаву, хотя крепко-накрепко жена его, Любовь Фёдоровна, наказала ему быть гетманом, — не такая голова у Кочубея. Любовь Фёдоровна, другое дело, жена умная, любит пановать, да жалко не растут у неё ни усы, ни борода, ни чуприна: а то, пожалуй, выбрали бы её и в гетманы! — сказал, усмехаясь, Забела.
— Лучше пусть уши и нос Любовь Фёдоровна отгрызёт своему Василию, нежели быть ему гетманом! — сказал Дмитий Раич.
Кочубей не догадывался об этом и по-прежнему старался всеми мерами угождать Голицыну и Мазепе.
— Слушай, пане мой милый, слушай, Василий Леонтиевич, — сказал Мазепа, когда вошёл Кочубей десятый раз на одном часу в палатку князя Голицына. — Сию минуту распорядись тайно поставить стражу вокруг гетманского шатра, пора посадить старую ворону в клетку, не запоёт ли соловьём!
— Пора, давно пора, — с радостною улыбкою повторил Кочубей.
— Вокруг всего стана также поставить пикеты, чтобы кто из табора не дал знать сыну гетмана Григорию, что батько его попался в расправу, да чтобы кто-нибудь из гетманских приятелей не ушёл от нас, особенно прикажи смотреть за попом Иваном и за слугами гетмана.
— Так-так, вельможный есаул... всё сделаю; пора, давно пора уже его на виселицу; тот проклятый поп всему виною, не раз он и на нас наговаривал гетману, — сам завяжу петлю на его шее, — сказал Кочубей и поспешно ушёл.
IV
На дворе ночь; тёмно-голубое, безоблачное небо покрылось миллионами ярко горевших звёзд, было тихо в таборе, казаки спали; в селении Коломак слышался лай собак, в поле громко кричал перепел.
В Коломаке в церкви Благовещения начался благовест, к заутрени! Гетман услышал звон колокола, собрал последние силы и, поддерживаемый слугами, пошёл в церковь.
В шатре оставался сын его Яков и продолжал читать Евангелие, страдания Спасителя, которое он читал вслух для отца. Было далеко за полночь, в шатёр гетмана вошли солдаты Новгородского полка, предводимые Кочубеем.
— Где отец твой? — грозно закричал Кочубей.
— Нет его; а ты, Иуда, зачем? — спросил Яков Кочубея; выбежал из шатра и опрометью побежал к церкви, чтобы предостеречь отца.
— Ловите проклятое гетманское отродье, ловите!
Шагах в двадцати от шатра схватили Якова, посадили на лошадь и вместе с ним поехали в церковь.
Перед растворенными царскими вратами седой священник читал дрожащим голосом Евангелие от Матфея, беседу Иисуса Христа с учениками. Тускло теплилась лампада пред образом тайной Вечери, висевшим над царскими вратами, да две свечи горели у местных образов.
У иконы Божией Матери, стоя на коленях и склонив повязанную белым платком голову на железную решётку, находившуюся подле алтаря, слушал гетман чтение, по его просьбе происходившее.
В то время, когда Кочубей и солдаты вошли в притвор церкви, священник произносил:
— Имже бо судом судите, судят вам: и в ню осе меру мерите, возмерится вам...
Кочубей ясно слышал эти слова, и непонятное, невыразимо тяжкое чувство стеснило его сердце, он возвёл глаза свои к иконе тайной Вечери, но свет помрачился, туман разлился перед ним и всё в глазах его исчезло, он даже ничего не слышал; хотел было молиться, но уста не растворились; хотел перекреститься — рука не подымалась.
Кончилось чтение, но поразившие его слова не умолкали для него. Ему слышалось, как их громко произносили во храме нечеловеческим слабым голосом. В таком состоянии находился Кочубей несколько мгновений; потом всё предстало пред ним в прежнем виде, тоска отлегла от сердца и взор его обратился к гетману.
Между тем начинало светать; звёзды одна за другою исчезали с небосклона; прохладный утренний ветерок пролетал в церковь сквозь растворенные окна. Кончилась заутреня. Казак-слуга подошёл к гетману, подал ему серебряную булаву, на которую опирался старик, Самуйлович тихими шагами выходил из церкви; у входа Кочубей остановил его и сказал:
— Ясновельможный гетмане, боярин князь Василий Васильевич прислал просить тебя к себе!
— Это ты, Кочубей, — кротко сказал гетман.
— Я. Самуйлович!
— Дай же мне последний раз перекреститься в церкви.
Гетман стал на колени, сделал три земных поклона.
В сердце Кочубея опять громко послышались слова Евангелия, Кочубей смутился и не знал, что ему делать.
— Ну, вези меня куда нужно! — сказал гетман, и вышел из церкви.
Его посадили в простую бричку, запряжённую парою; управлял которой рыжий еврей.
Сын гетмана Яков ехал верхом по правую сторону отца и тяжело вздыхал.
— Не тоскуй, Яков! Богу угодно так, не тоскуй! — сказал гетман спокойным голосом.
Яков молчал.
— Куда везут меня?
— К боярину! — отвечал один из солдат.
Во всю дорогу гетман более ничего не говорил.
Бричка, в которой сидел гетман, и провожавшие его приблизились к Московскому лагерю и, проехав его, остановились, не доезжая белой с голубыми полосами княжеской палатки, вокруг которой толпилось несколько тысяч казаков и московских воинов; в шатре шумели и громко спорили старшины и полковники.
Казаки, издали увидевшие бричку, в которой везли гетмана, опрометью побежали к нему и с сожалением спрашивали: «За что батька нашего посадили в бричку, за что его хотят судить?» Были многие в числе этих казаков, которые подавали мысль силою освободить гетмана; но гетман строго запретил им, и никто не смел приступиться к исполнению этого намерения; были и такие, которые, напившись у полковничьих шатров водки и пива, кричали и требовали казни гетмана, не зная сами, за что и для чего.
Опираясь левою рукою на булаву, а правою на сына Якова, старик гетман с завязанными белым платком глазами вошёл в палатку князя Голицына. Было ещё довольно сумрачно, но все могли заметить бледное лицо страдальца, на котором, впрочем, ясно выражалось душевное спокойствие. Гетман поклонился и встал у стола напротив князя Голицына, сидевшего в охабене алого бархата, в высокой собольей шапке; на груди его блестела золотая гривна; перед ним лежали бумаги, и самая верхняя — с огромною красною печатью. По обеим сторонам боярина сидели старшины, полковники, воеводы и знатные казаки; у входа в палатку стояли стражи.
В палатке, как по мановению волшебного жезла, вмиг воцарилось молчание.
— Гетман, сын его Яков и шесть человек слуг взяты под стражу, а поп Иван и некоторые из слуг неизвестно где скрылись! — сказал Кочубей.
— Попа и слуг поймать, особенно попа, он сам изменник! — сказал Мазепа.
Голицын и все прочие молчали.
— Иван Самуилович! Ты обвинён в измене Московским царям! — сказал Голицын.
— Кто меня обвинил в измене царям? — спокойно спросил гетман и старался приподнять повязки на глазах.
— Старшины, полковники и казаки.
— Вот-то, боярин, самые честные люди!
— Ты изменник — всем известно, и ещё притворяешься! — сказал Кочубей.
— Кочубей, это ты говоришь? А давно ли уверял, что ты мой приятель и слуга? Так и вместе со мною изменник! Как же это будет?..
— Изменник, что говоришь! Не ты ли приказал палить степь? Не по твоим ли хитростям мы не дошли до Перекопа? Думал, что хитростей твоих никто не разгадает? Полагал, что беда надет на боярина и на нас, а ты себе спокойно будешь гетманствовать, да дружбу вести с проклятыми татарами и турками? Злополучная голова твоя, не так Бог дал; теперь отвечай, а мы послушаем тебя! — сказал Кочубей.
— Ты правду сказал, что Бог не так дал. Он один видит, один и знает, кто из людей, по Его благодати, праведен, и кто, по ослеплению своего сердца грешный.
— О, ты праведник! — закричал Раич и ударил концом сабли своей несколько раз об ножку стола.
Гетман молчал.
Голицын встал с кресла, снял обеими руками шапку, положил её перед собою, взял со стола царский указ, приосанился и прочёл его вслух.
— Боярин, старшина и полковники! — начал Самуилович. — Вам нужна моя седая голова? Вот она, — он наклонил голову, — я перед вами, делайте, что задумали, исполняйте своё желание; говорить же мне, что я не изменял Московским царям, что степь запалили татары, что я верою и правдою служил Богу милосердному и царям, всё равно, этого вам не нужно. Прошу одного — ради верной службы моей казачеству, ради любви моей к вам, паны полковники, — вы знали меня, и сами любили меня, — одного прошу, паны мои добродии, пощадите жену и детей моих; о своей пощаде не прошу, сего не можно переменить; да и лучше погибну один я — а не все вы; теперь останется одна семья сиротами, и тогда осталось бы двадцать; больше нечего мне говорить вам; десяток лет — другой пройдёт, и все мы, которые теперь в шатре, будем на том свете; и всех нас рассудит праведный Судия; а пока то будет, простите меня, когда обидел кого, и Бог простит вас!.. Теперь, что положили, что порешили — делайте, больше ни слова не скажу.
Полковники начали кричать и поносить Самуиловича. Кочубей возводил на него небывалые преступления Мазепа молчал и время от времени только наклонялся к Голицыну и что-то тихо говорил ему на ухо.
Гетман безмолвно стоял.
— И ты, проклятое создание, — закричал Раич, обратясь к Якову Самуйловичу, — и ты заодно с своим батьком, и тебе, и твоему другому брату одна будет честь!..
— Добре, пане!
— Ещё и добре! Эге, щенок! — и обнажив саблю, Раич замахнулся, намереваясь ударить по голове гетмана, но Голицын мановением руки остановил вышедшего из границ полковника Раича.
— Казнить! Четвертовать!
— Казнить!
— Гетмана казнить!.. Казнить! — повторяли прочие полковники.
Казаки, стоявшие у палатки, одни кричали и требовали казни гетмана, а тысячи молчали и с горестию ожидали конца участи любимого гетмана.
— Подай мне булаву твою, Самуилович, — сказал Голицын.
— Вот она, боярин; отдай же её тому, у кого совесть перед смертию будет так же покойна, как теперь у меня, и Гетманщина будет счастлива, и казаки будут благословлять тебя, и верою и правдою будут служить царям Московским... а выберешь из предателей своего гетмана — предадут и тебя, и казачину, и Москву. Таков праведный суд Божий. Простите меня, боярин, и вы, старшина, полковники и честное казачество… бойтесь Бога и любите друг друга. Вот вам предсмертная заповедь вашего батьки и гетмана. — Самуйлович прослезился, перекрестил предстоявших. — Господь Бог да благословит всех вас...
Голос Самуиловича прервался; он возвёл глаза к небу я, поцеловав крест, вырезанный на булаве, почтительно подал её Голицыну.
Голицын принял булаву и, взяв Самуиловича под руку, вывел его из палатки. Казаки, преданные гетману, порывались приблизиться к руке его; но стража не допустила к нему многочисленную толпу.
Гетман и сын его сели в приготовленную телегу, с ними поместился русский есаул, и их окружил конвой.
Когда всё уже было готово, Самуйлович привстал с своего места, оборотился к казакам и почти сквозь слёзы сказал:
— Дети мои, дети, прощайте! Не поминайте лихом! Ни вы меня, ни я вас не увижу более в этом свете.
Он снял шапку, три раза перекрестился и — телега покатилась по Московской дороге.
V
Это деялось, вечной памяти, в 1687 году, 25 июля.
Среди обширной равнины, пролегавшей по берегу реки Коломака, в то время широкой и быстрой, а ныне почти иссякшей. С раннего утра начали стекаться казаки и народ, съехавшийся нарочно к этому дню, для избрания нового гетмана. Среди казаков, в красных, голубых, светло-зелёных куртках, среди обшитых мехом бархатных и суконных, высоких и низких, шапок, среди длинных чёрных и седых усов, виднелись бритые головы лицарей из-за Порогов, с длинными оселедцами, закрученными за ухо; виднелись и чёрные очи Марусь, Ганн, Ульян, с лентами и цветами на головах, в байковых и шёлковых кофточках, в червонных и мережаных, запасках и плахтах; виднелись и бледные старухи с длинными и широкими белыми на головах намитками, в червонных чёботах на высоких каблуках; кой-где слышались тоненькие голоски девчат, которые, опустив чёрные очи в землю, улыбаясь, отвечали на остроты запорожца, стоявшего перед ними, опершись одной рукой на саблю, а другою взявшись под бок; слышались жалобы стариков, разговаривавших между собою про старые годы, они хвалили прошедшее и порицали настоящее; были здесь и евреи в чёрных кафтанах с рыжими пейсами, спускавшимися из-под чёрных бархатных ермолок; сгорбившись, они бегали между народом, стараясь попасть в средину; были и поляки в своих кунтушах, и, взявшись за руки, постукивая саблями, да крутя усы, важно прохаживались по площади. За толпами народа сидели в разных местах старухи и перед ними были навалены горы арбузов и дынь; в решетах и кадках краснели вишни, сливы, яблоки, раки, лежала варёная рыба, маковники, вокруг летали роями мухи, а у ног торговок, под тенью, лежали свернувшись собаки, лакомясь запахом рыбы и варёного мяса; и здесь было много занимательных сцен: толпились казаки и казачки, сидели слепые бандуристы, прославляли казачьи победы и просили милостыни; сидели и лежали с опалёнными руками и ногами некогда храбрые гайдамаки, попавшиеся в руки поляков, которые умели платить степным лицарям за их наезды...
Когда солнце взошло высоко, пришли стрельцы и выборное войско Московских полков и запили место, назначенное для избрания, обступив его со всех четырёх сторон, среди площади, которую окружило войско, и вмиг раскинули пёструю, с золотыми цветами, дорогую палатку, внесли в неё образа и всё, что следовало, из походной казачьей церкви. Саженях в пяти против входа в походную церковь, поставили небольшой стол и покрыли его дорогим персидским ковром; вокруг стола разместили длинные скамьи, а для боярина и знатных чинов принесли походные кресла, обшитые золотою парчёю.
Священники, находившиеся при войске и из ближних мест, и монахи Кресто-Воздвиженского Полтавского монастыря собрались в походную церковь и облачились. В это время раздался пушечный выстрел и через несколько минут к церкви подошло 800 казаков, 1200 пеших воинов и обступили вокруг церковь и стол.
Раздался второй выстрел, и священники с иконами, крестами, хоругвями вышли из церкви и приблизились к топ стороне, откуда должны были ехать боярин и все чины.
Раздался третий выстрел — народ засуетился, с нетерпением ожидая начала избрания. И вот, заиграли в трубы, ударили в барабаны, расписанные золотом и красками, били в позолоченные литавры и звонкие бубны, и вдали увидели едущих Московских воевод. Среди их на белом арабском жеребце ехал боярин Василий Васильевич Голицын, он держал в левой руке гетманскую булаву; рядом с ним ехали воеводы Новгородского полка, по правую руку на вороном коне Алексей Семёнович Шейн, он осенял боярина знаменем Большого полка, с изображением Нерукотворного Образа. Знамя это было в Казанском походе с царём Иоанном Васильевичем. По левую — ехал князь Данило Семёнович Борятинский, он осенял Голицына пурпурным Новгородского полка знаменем; впереди боярина воеводы везли знамёна тех полков, к которым они принадлежали.
В свите боярина ехал князь Константин Осипович Щербатов, Аггей Шепелев, Емельян Украинцев, Венедикт Змиев, князь Владимир Дмитриевич Долгорукий, Пётр Сидоров, Леонтий Неплюев, Борис Петрович Шереметев, знатные лица полков Низовых, Белгородских, Рязанских, Новгородских и Большого полка.
За боярином в отдалении ехали Малороссийские чины, го сторонам — полковники, в средине — Генеральная старшина. Полковники держали в руках свои перначи, Генеральный есаул вёз большой золотой бунчук, а судья и писарь меньшие бунчуки.
Ветер развевал пурпурные и золотые знамёна, и лучи солнца горели на золотой булаве и бунчуках.
Тихо приблизился боярин к площади, все окружавшие его и сам он сошли с коней, и, подойдя ко кресту, пошли за духовенством в церковь.
Отошла Литургия и начался молебен; когда возгласили многолетие царям, на площади казаки стреляли из ружей. По окончании молебствия Голицын вышел на площадь, поклонился на все стороны народу, подошёл к столу, положил гетманские клейноды и сел на приготовленное для него кресло; но правую и левую стороны уселись московские воеводы, старшины, за ними полковники и потом прочие знатные чины.
Шум и говор среди народа прекратился; воцарилось безмолвие. Голицын встал с кресла, важно снял шапку, поднял вверх гетманскую булаву, так что всякий из стоявших легко мог её видеть, и громко сказал:
— Великие цари-Государи повелели мне объявить вам, верные и храбрые казаки, чтобы вы избрали среди себя новаго гетмана; Самуйловича же за измену и всякие неправды отставить! Кому вы желаете вручить сию булаву?..
Шум разлился в народе, но ни один голос не произносил имени избираемого.
Голицын выше поднял булаву и громче спросил:
— Кому желаете вручить булаву?
— Борковскому! — раздался голос с левой стороны, и повторился двумя или тремя с правой. — Воркоаскаго! Борковскаго!
Налево закричали вдруг десятка два голосов:
Григорию Самуиловичу, Григорию!
Вокруг столика, среди полковников, послышалось довольно громко:
— Тс-с-с-с, тс-с-с-с!
— Ивану Степановичу! — сказал кто-то, почти у самого столика.
— Ивану Степановичу? — спросил Голицын.
— Ивану Степановичу!
— Да! Мазепе!
— Нет, Борковскому!
— Григорию Самуйловичу!
— Мазепе!
— Борковскому!.. Борковскому!.. — кричали в разных углах.
— Кочубею! — произнёс кто-то пискливым голоском.
Полковники захохотали, а за ними и близстоявшие казаки.
— Борковскому! Борковскому!
— Мазепу! — тихо произнёс один из полковников.
— Ну Мазепу, так и — Мазепу! — сказал Голицын.
— Борковскаго! Борковскаго! Борковскаго!..
— Ивана Степановича? Так, паны полковники, Мазепу?
— Да хоть и так!
— Да, таки-так!
Мазепа стоял у стола, беспрестанно кланялся в пояс Голицыну, старшинам и народу.
Голицын подозвал Мазепу и, подавая булаву, сказал:
— Генеральные старшины, полковники и верные казаки единодушно желают, чтобы ты был у них гетманом!
По существовавшему обычаю, Мазепа начал отказываться и благодарил за честь; но Голицын вручил ему булаву и прибавил:
— Служи, гетман, верою и правдою Богу, царю и храброму казачеству!
В народе поднялся страшный шум и крик — смельчаки поминутно произносили имя Борковского, а некоторые Гамалея; войско, окружавшее площадь искоса посматривало на шумевших, ожидая, не потешатся ли их сабли на казачьих головах. Голицын, будто ничего не видя и не слыша, занимался Мазепой.
Мазепа принял булаву и поклонился на все четыре стороны.
Тотчас же новый гетман присягнул в верности царям; а за ним присягнули в верности ему старшины, полковники и прочие чины.
Народ долго ещё шумел, волновался, многие были недовольны избранием Мазепы.
С площади все чины поехали к Голицыну и окончили у него этот день банкетом.
Полковник Солонина и Лизогуб ехали вместе и разговаривали:
— Вот, пане Солонино, и воля твоя, теперь делай, что хочешь... вот правда, так правда, что мы за свои гроши купили себе лихо.
— Да похоже на то, пане Лизогубе!
— Да чтобы враг душу мою взял, если я не правду говорю.
— Что ж делать...
— А кто?.. — спросил Солонина, покачавши головою.
— Да кто!
— Сами!
— Да-таки все не без греха.
— А всё Кочубей... он больше всех...
— Да и новобранец не дурен: всех обошёл.
— Да и судья...
— Да и тот-таки...
— А жаль старика…
— Жаль! Добрый батько был...
— Променяли голубя на ястреба...
— Повыклюет же он им слепые очи...
— Чтоб всем им сто ворогов за пазуху.
— Да хоть и двести вместе.
— От-то ещё лучше!
— Да-таки так!
— Да хоть и так!
Так-то вот оно и сплошь и рядом на белом свете, после всякой человеческой неправды: и близок локоть, да не укусишь!..
Надо было видеть бедного Кочубея на банкете у Голицына: стыд, страх, досада, обманутые надежды, укоры совести поминутно сменялись на лице его: он ничего не мог есть, вино не забирало его; напрасно Мазепа торжествующим голосом взывал к нему: «Куме, а куме». Куму легче бы вынести сто ударов татарской нагайки-дротянки, чем один торжествующий взгляд Мазепы. Кочубею чудилось, что все присутствующие перемигиваются и перешёптываются на его счёт. Оно так и было. Он сидел, как на ножах. Стремглав умчался с банкета, когда все встали. Дорогого и дома преследовали его два грозных призрака: Самуйлович, благословлявший всех, и Любовь Фёдоровна, ужасная Любовь Фёдоровна!!!
VI
В 1666 году, когда в Переяславле вспыхнул мятеж против гетмана Брюховецкого, казаки напали на укрепление, зажгли город в разных местах и начали резню. Пользуясь этим случаем, казаки Петра Дорошенка, ворвались в Переяславль и начали грабить, что хотели. Жители принуждены были спасаться бегством, особенно женщины, которым в таких случаях не было никакой пощады: с бесчестием лишались они жизни, и всегда самым позорным образом.
Когда запылал Переяславский замок, жёны и дочери знатных казаков, проводимые отчаянными жидами, уходили из города, платя им за спасение своё, за провоз в Канев, Трактемиров или Киев несметную сумму. Нередко убегавшие и их проводники попадались в руки казаков, и тогда не было уже никакого помилования — как одним, так и другим.
В числе женщин, спасавшихся бегством из Переяславля, была дочь знаменитого казака Карненка, родственника, по жене, несчастному Самуйловичу. Отец Анны был в день её побега убит, а мать подмята на копья и сожжена на огне.
Анну спас любимый ею казак, который препоручил её старому своему знакомцу Поселю, за провоз её в Киев, тот вперёд взял две пригоршни червонцев.
Ночью под заревом страшного пожара переправились они через огненную Альту, а потом, проехав широкий Трубеж, скрылись в непроходимом лесу, и, пробираясь среди чащи деревьев, держали в ту сторону, где пролегала дорога к Днепру. Утром увидели они очерчивавшиеся на небосклоне синею полосою Днепровские горы, и чуть-чуть видневшийся на высоте их Трактемиров.
Анна решила, приехав в Киев, осуществить давнишнюю свою мысль: остаться на всю жизнь в одном из тамошних монастырей; дорогою она мечтала о той непорочной, святой радости, которой будет наслаждаться, живя в тихих безмятежных стенах обители, и во всякое время — посещая Святую Лавру и её пещеры.
На третий день они выехали из Борнсноли. Перед ними чёрною непроницаемою стеною тянулся сосновый лес; по двум другим сторонам жёлтый песок, как жёлтое море, терялся в голубом небе — и больше ничего; ни один предмет не повстречался им, который мог бы развлечь внимание. Медленно двигалась бричка по глубокому песку, и это ещё более увеличивало нетерпение их, скорее увидеть святой град.
Но вот над лесом, на голубом небе загорелась яркая звёздочка и скрылась за вершиною сосны; вот опять она горит, и лучи её как будто рассыпаются на крест. Так, нет сомнения, видна Святая Лавра! Это сияет святой крест. И поспешно, по обычаю малороссиян, путницы выскочили из брички, пали ниц на землю и начали молиться.
Поздно вечером, когда выехали они из лесу, открылся перед глазами их во всей красоте великий святой град, построенный на горах, и несчётное число золотых глав храмов, блестевших, как солнце; а кресты сияли, словно звёзды. Направо узнали они церковь Рождества Богородицы, в то время деревянную и весьма небольшую, налево Золотоверхий Михайловский монастырь, а выше всех Святую Лавру. Направо у подошвы горы, казалось, простирался в самый Днепр многолюдный Подол.
Днепр широкою голубою лентою опоясывал Киевские горы, и далеко-далеко скрывался налево в густоте садов, среди которых белел Киево-Михайловский Выдубецкий монастырь; а направо за лесом мачт не видно было конца Киева.
Приехав в Киев, путницы остановились на Подоле, в низкой и ветхой хижине еврея, промышлявшего обрезыванием червонцев. До утра надобно было им остаться в этой хижине, хотя крайне этого не хотелось, но Иосель уговорил и обещал завтра сам отыскать им комнату поближе к Лавре. Нечего делать, надобно было согласиться, — и усталые с дороги, они бросились на постель, сладкий сон смежил глаза. А между тем Иосель рассудил, что лучше иметь у себя четыре, чем две пригоршни червонцов, и в ту же ночь продал всех трёх малороссиянок польским панам; и в то время, когда невинные жертвы беспечно спали, приехали гайдуки, разобрали несчастных и повезли к своим ясновельможным, которых в то время весьма много съехалось в Киев, по случаю предполагавшегося заключения вечного мира России с Польшею.
Анна была хороша собою. Смуглая, чёрные пламенные очи, лоб и нос — одна прелестная линия, под алыми губками — два ряда жемчужных зубов.
Граф Замбеуш, которому она досталась, окружил Анну роскошью и блеском. В первое время она в доме его была, не то что невольница, а как законная жена, для которой он ничего не жалел, что имел или что мог иметь; исполнял все её требования, старался предупреждать малейшие желания. Будучи набожною, Анна требовала от графа, чтобы он подольше остался в Киеве, если уже судьба назначала ей навсегда расстаться с этими местами. Граф и это исполнил: он дал слово целый год прожить в Киеве; это утешало душевно страждущую Анну.
Одно только мучило набожную пленницу: она не могла посещать храмы и тайно молиться без бдительных аргусов — двух пажей графа, постоянно следивших за каждым её шагом; все были твёрдо уверены, что при нервом удобном случае Анна пренебрежёт роскошью и блеском, окружавшими её, и уйдёт от графа.
Ревностный — или лучше, безрассудный папист, граф требовал, чтобы Анна приняла родное ему исповедание. Однажды он решительно сказал ей, что в таком только случае и может быть она его законною женой. С этого времени поселилась между ними вечная и непримиримая ненависть. Граф мог требовать этого от неё, ибо со дня её заточения проходил уже десятый месяц, и Анна придумывала все средства, чтобы будущее дитя её было окрещено в православном исповедании. Граф не подозревал этой мысли; конечно, он видел состояние пленницы, но всё прочее было сокрыто от него, между тем чрез посредство приближённых к ней малороссиянок, Анна, сказавшись заблаговременно больною, слегла в постель, и потом, когда родила дочь, тайно, в то время, когда граф уехал с своими приятелями в окрестности Киева, она пригласила русского священника; и дочь её, наречённая Юлиею, была окрещена в православном исповедании. По возвращении своём граф узнал об этом, и в тот же день, торжественно, за городом на вершине одной из самых высоких Киевских гор, повесил трёх своих гайдуков и четырёх женщин, находившихся при Анне; он пытался было удушить даже новорождённую, но крики и моления отчаянной матери укротили остервеневшего графа, не знавшего предела своей мести.
VII
Верстах в пяти от города стоял высокий замок, на вершине довольно покатой горы, с трёх сторон опоясанной не широкой, но чрезвычайно прозрачной рекой, по берегам её прекрасными кущами росли, смотрясь в воду, перемешанные друг с другом, белоствольные плакучие берёзы, липы, широколиственные клёны и вековые дубы, а под тенью их, как яркий зелёный бархат, росла молодая травка; местами по реке порос зелёными кругами камыш, между которым спокойно плавали дикие утки, или воткнув длинную серую шею, кричал водяной бугай и прерывал безмолвие окрестностей. Жёлтая песчаная гора, кое-где поросшая ползучим кустарником, оканчивалась острою вершиною, на которой чернел поросший мохом и даже кустарником, кое-где разрушенный временем замок. В нём смешались все стили, и вместе с этим не было ни одного настоящего, верного, правильного: безобразное соединялось с самым строгим и изящным вкусом, богатство украшений с жалкой простотою, удобность с неудобством; но по преимуществу можно было назвать замок этот готическим: высокие башенки с узкими, длинными окнами, свинцовые крыши, оканчивавшиеся острыми шпилями, на которых неумолкаемо скрипели флюгера, — лепились одна подле другой, на каждой стороне замка. Средняя башня, самая большая, возвышалась над прочими и оканчивалась чрезвычайно длинным шпилем, согнутым бурею в правую сторону; к концу его прикреплён был вырезанный из жести петух, также согнутый. Вокруг, ниже башен, устроена терраса; на ней некогда стояли часовые, оберегавшие замок от незваных гостей. Сверх этого широкая и высокая каменная стена с бойницами со всех сторон окружала замок; на стене стояли пушки; подъезд был с одной стороны, где устроен был подъёмный мост, переброшенный через глубокую пропасть, на дне которой с ужасною быстротою мчалась по камням река, и росли в несколько обхватов деревья, казавшиеся, если смотреть на них с моста, небольшими кустарниками.
Замок принадлежал польскому графу Йозефу Замбеушу, потомку некогда страшного по своим бесчеловечным поступкам, графа Яна Замбеуша.
Граф Йозеф Замбеуш, лет под пятьдесят, плотный краснощёкий мужчина: рыжие волосы и такие же усы, лицо покрыто морщинами, но всё ещё полное и здоровое, он более всего любил женщин, но был страстный охотник, и охоту предпочитал всему на свете. Прекрасное ружье, умная, хорошо выученная собака были драгоценнейшие сокровища для него в мире, и за них он готов был отдать даже свою собственную душу; а червонцы давал всегда пригоршнями, не считая их. Он был страшный эгоист и хвастун. Жена его давно умерла, от неё он имел сына, служившего в королевской гвардии.
В этот-то замок граф приехал с Анной и Юлией, и со дня приезда для несчастной Анны настало время горьчайшего страдания, время непрестанных слёз и чёрной печали, и вместе с этим, время самого упоительного её наслаждения: запершись в комнате с малюткою-дочерью, она все свои мечты, все надежды, радости, утешения сосредоточивала в одной Юлии, она воображала её прелестною невестою, выходящею замуж за знатного вельможу, но непременно за православного. Потом представляла Юлию матерью, окружённою детьми, а себя старушкой, ласкающей их. Часто мысли её вдруг менялись, и она как будто видела перед собою Юлию в чёрной монашеской рясе с чётками в руках; несказанно радовалась она тогда, искрение молилась Господу, чтобы он даровал Юлии это блаженство, и, схватив её, целовала, прижимала к сердцу и осеняла с молитвою крестным знамением. Страдалица-мать полагала, что дочь молитвами своими искупит и её невольный грех, её вечный ропот на свою неволю и горькую участь. В таких сладких мечтах время мчалось, как только мчится быстро время, и незаметно золотое лето сменялось румяною осенью, осень белою зимою, а зима зелёною весною — и пятнадцатая весна наступила для её дочери.
Юлия расцвела, как малороссийская роза.
Густые, светлые шелковистые волосы её, по тогдашнему обыкновению в Польше, были перевиты сзади в виде корзинки зелёными листьями плюща и барвинком; белое нежное лицо оттенялось румянцем, едва заметным на щеках; прямой носик, маленькие коралловые губки скрывали ряды перламутровых зубов, чёрные глаза, осенённые чёрными же длинными ресницами, по большей части были опущены в землю — знак скромности и сознание собственного достоинства; рост её был немного выше среднего. Вот, по возможности, верное изображение прелестной наружности Юлии; но душа и сердце её были ещё прелестнее: Юлия наследовала во всей полноте преданность своей матери к Богу.
В самом начале граф Замбеуш не обращал никакого внимания на Юлию, она была для него какое-то позорное отвратительное существо, на которое он не мог смотреть без явного негодования и презрения. Он любил её мать в цветущие годы её молодости, как вообще подобные люди любят женщин привлекательных наружностью, которые служат предметом страстного упоения и разнообразия жизни для человека, погрязнувшего в тине чувственности, смотрящего на мир с своей точки, с точки порочного наслаждения.
Притом, в замке графа, как и прежде, это было даже при жизни законной его жены, жили десятки женщин, похищенных в полках гетманщины, привезённых из Кракова, купленных дорогою ценою у татар.
На воспитание Юлии он ещё менее обращал внимания, и это невнимание послужило величайшую пользу для неё: семена, посеянные матерью в сердце её, возросли и если ещё не приносили плодов, то, по крайней мере, роскошно цвели.
Постоянные игры, тысячи новых ежедневных забав, служивших для увеселения не только живших в замке, но и дальних его окрестностей; танцы, блестящие балы, на которых собиралась лучшая польская молодёжь, охота, в которой принимали участие даже женщины самых знатнейших фамилий, не прельщали Юлию: она удалялась от всего этого, считала себя отверженною всем миром, всеми людьми, и жаждала, искрение жаждала уединения с матерью, и молитвы; искала единственно в Спасителе любви, и — нашла.
В самом деле: дочь преступления! Это прежде всего поражало сердце её; дочь с презрением оставленной и забытой малороссиянки, беспредельно разделённой верой и нравом со всеми людьми, её окружавшими; дочь, не получившая того воспитания и образования, которым так резко отличались от неё все прочие девицы; наконец, не только не любимая отцом, но отверженная им... могла ли она быть с прочими, могла ли она увлечься и наслаждаться суетностью, забыв прямое назначение своё — терпеть, молиться и страдать. Нет, она видела преданность своей матери к Богу, она затвердила от неё, что счастливые часы только те, когда сердце стремится к Господу-Искупителю, и когда даже все мысли, а не только дела, согласны с святыми Евангельскими заповедями, — и так поступала по её указанию, и была счастлива.
Смирение, прежде всего прочего, как и следовало быть, утвердилось в душе Юлии, а с ним вместе и христианское отвержение самой себя. Но это всё было так, что она и сама не замечала этого в себе: часто думая о себе, она считала себя ничтожнейшим существом, жалкою девочкою; а все прочие люди казались ей с достоинствами, недоступными для неё. Но вместе с тем эти достоинства не восхищали её, не очаровывали, не увлекали к подражанию, но казались тяжкими и постылыми. Удалённая от суеты света и людей, хотя она и жила среди всего этого, с утра до вечера под руководством матери, она приучилась читать и усваивать себе Евангелие, и чрез это, чудесный мир, мир, не достигаемый для многих, может быть, и не воображаемый многими, открылся перед ней; и не только с радостью, но с явным презрением и ужасом Юлия уклонялась от суеты; поэтому нередко служила она предметом насмешек и даже брани для прочих; но это ещё более увеличивало её святое отчуждение.
VIII
У ворот графского сада, прилегавшего к замку, стоял, опершись на палку, седой старик нищий; под левою рукою была у него небольшая котомка, в которую он складывал куски хлеба, в правой — длинная палка; одеяние его было рубищем, он низко кланялся всякому прохожему: кто давал милостыню, за того молился, крестясь; кто проходил, не подавая ему, он и тех благословлял; в замке графа мало было подававших ему, никто не обращал на него внимания, однако же старик несколько часов кряду, иногда и целый день просиживал у ворот.
В этот раз нищий только что пришёл, положил котомку и палку на землю, а сам сел на скамью, вдруг из ближней аллеи показалась в чёрном платье с перламутровым крестиком на груди девушка; она перебежала мостик, перекинутый через довольно широкий ручеёк, извивавшийся по саду, подошла к нищему, и с ним вместе возвратилась в сад; потом через тенистую просадь поспешно прошли они и скрылись в лесу, соединённом с садом. Час, а может, и более, не возвращались ни девушка, ни старик; потом вдруг, как молодая серна, девушка перебежала в другом конце сада две аллеи и, испугавшись попавшегося навстречу ей чрезмерно толстого седого пана Кржембицкого, приехавшего к графу в гости, бросилась в другую сторону и, перебежав куртину, скрылась в замке. Кржембицкий сперва преследовал девушку, но, видя, что не догонит её, остановился и жадным взором смотрел ей вслед. Чрез несколько минут Кржембицкий вошёл в залу, названную графом королевскою, в память того, что некогда Стефан Баторий, проезжая через Ровно, остановился в этом замке.
Зала эта была очень велика, по сторонам свод поддерживали двадцать четыре колонны, с позолоченными капителями; три ряда окон, из коих первые из разноцветных стёкол, преимущественно голубого и розового цвета, ярко освещали всю внутренность. По стенам, разрисованным арабесками, стояли мраморные бюсты предков графа, а между ними вылепленные из алебастра, раскрашенные и раззолоченные гербы фамилии Замбеуша; у одной стены, прямо против главного входа, поставлена под бархатным навесом, обшитым золотою бахромою — колоссальная статуя Стефана Баторня; на пьедестале было вырезано: «1573 год» и латинская надпись, гласившая, что в этот год Баторий пожаловал прадеду Замбеуша большое количество земли и денег, за храбрость и знатность фамилии; последние слова, это было заметно, вырезаны позже: быть может, это было сделано по приказанию графа Йозефа? ибо надпись очень сообразна с его характером.
За статуею, по левую и правую сторону навеса, висели ружья, сабли, пистолеты, кинжалы, железная булава и два небольших древка, одно наверху с полумесяцем, а другое — с рыбой. Это были трофеи предков графа, отнятые у врагов. Граф Йозеф, с правой стороны, подле древка с полумесяцем, которое, может быть, некогда служило турецкому или татарскому полчищу знаменем, повесил огромную голову медведя, искусно сохранённую, и ружье, которым он убил этого лесного князя; под головою на стене, вырезал на латинском языке надпись: «Убивать медведей, волков и лисиц столько же трудно и славно, как побеждать турков, татар и казаков»...
Железные стулья с вычурными высокими узористыми спинками стояли у стен вокруг залы; чёрные кожаные подушки их по бокам были обиты медными гвоздями 0 круглыми шляпками. Двери и подоконные доски — с выпуклыми резными изображениями различных битв, пиршеств, охоты, победителями или торжествующими героями представлены предки графа, это легко можно узнать по сходству лиц резных изображений с бюстами.
В растворенные двери залы виднелись другие комнаты. также богато убранные.
Граф Замбуеш сидел у окна и курил файку: коротенький чёрный мундштучок с пенковою трубкою, оправленною в серебро. На нём был малинового бархата кунтуш, на голове — небольшая турецкая феска.
В залу вошёл Кржембицкий, короткий приятель графа, у которого пан жил несколько недель сряду.
— Что то за красавица у тебя, граф! — сказал пан Кржембицкий.
— То есть, не понимаю?
— Я говорю, что то за красавица твоя панна Юлия, диявол возьми меня, если я видел лучше и милее её девицу на свете.
— Где ты её видел?
— Сейчас в саду, как маленькая птичка, с цветка на цветок перепрыгивала.
— А то пан Кржембицкий, ещё я не знал, что у тебя горячее сердце; о то не худо и под старость!
— Этому лучший пример ты сам, граф!
Граф, довольный ответом Кржембицкого, захохотал во всё горло.
— Ну, я отдам тебе Юлию, что ты мне дашь?
— Если бы ты, граф Замбеуш, был диявол, я бы тебе и души своей не пожалел за Юлию, а как ты знатный граф и известный в целой Польше охотник, то я не знаю, что тебе дать!
— Я готов помириться с тобою на паре добрых борзых, пане Кржембицкий! — граф захохотал.
— И две пары достану первейших гончих.
— Сейчас явится сюда Юлия, посмотрим-ка, пане Кржембицкий, как бьётся у тебя сердце!
Граф захлопал в ладоши и в залу вбежал небольшой молоденький негр с отрезанными ушами и носом; он был весь одет в красном.
— Сейчас чтоб была здесь папка Юлия!
Негр исчез.
— Я не терплю проклятой девчонки казацкой веры... и с матерью с утра до вечера читает да читает святые книги; я добре диявольское племя мучил и всё делал, но нет, ничто не помогает; мать из гетманщины, то от детей добра не будет.
— Ты, граф, не любишь казаков, а они храбрые воины.
— С бабами, первейший народ в мире по храбрости, а с поляками на войне то первейшие трусы, и я с моими охотниками и собаками целую гетманщину завоюю, диявол возьми меня, — правда!..
— Правда, граф, но в таком только случае, когда я буду полковником в твоём войске; а без меня ты завоюешь одних баб, казаки будут догонять тебя и, разбивши собачье войско твоё, отнимут добычу, и ты ни с чем возвратишься в замок!..
— Пожалуй, я дам тебе чин генерала в моём собачьем войске!
— О то добре, пане, целый свет завоюем!
Негр явился в комнату Юлии; она с матерью о чём-то разговаривала.
Вся комната их была уставлена образами; и перед образом Пречистой Девы горела лампада; в углу стоял аналой, на нём лежал раскрытый молитвенник.
— Панна Юлия, тотчас иди к графу, он в зале!
— Зачем это, не увидал ли он меня, когда я была в саду? — спросила Юлия и сначала покраснела, потом побледнела и не знала, что ей делать. Наскоро поправила она рассыпавшиеся волосы, перевила их свежими зелёными листьями барвинка и побежала вслед за негром.
— Ну, что скажешь, пан Кржембицкий? — спросил граф, когда Юлия, потупив глаза, остановилась перед ним.
— Что ж мне сказать: панна Юлия так хороша собой, что нет лучше её в мире.
На глазах Юлии навернулись слёзы.
— Прочь, прочь, проклятое адское существо, прочь отсюда, чтобы и духа твоего не было слышно; а то сейчас вот на том дереве повешу! — закричал Замбеуш и застучал ногами об пол.
Юлия опрометью убежала.
— Не могу равнодушно смотреть, пане Кржембицкий, на это диявольское существо, когда вспомню, как она воспитана матерью: живая до Бога лезет; диявол возьми, — пару добрых собак достань, и бери её; а не то так я затравлю её собаками, а мать непременно повешу.
На другой день утром мать и дочь выбежали в сад и, осмотревшись во все стороны, поспешно побежали по просади к воротам, у которых по обыкновению стоял старик-нищий; увидев бегущих, старик поднял котомку, взял палку и пошёл в сад вместе с Анною и Юлиего; перебежав через лужайку, они скрылись в лесу; и часа через два, не ранее, возвратились домой. На следующее утро то же самое; нередко старик-нищий приходил и вечером, и всегда мать и Юлия встречали его, подавали ему милостыню. Графские гайдуки, а более всего женщины, стали замечать эти встречи, подозревали Юлию и мать её в каких-то тайных замыслах; но то были одни неверные догадки, и только.
Две невольницы графа видели, прогуливаясь утром в саду, когда нищий пошёл вместе с Юлией в лес, сел с нею на пригорке и долго, долго говорил ей что-то с жаром, указывая часто на небо, и прикладывая руку к сердцу.
Были и такие, в числе женщин, подсматривавших за Юлией, которые доказывали, что старик — отец Юлии; некоторые говорили, что это колдун, который гадает Юлии о будущей судьбе её, и сами желали сблизиться с ним. Было много толков, но истины не было нисколько. Между тем женские языки нередко лепетали графу о таком отношении Юлии и её матери к старику, и граф приказал строго присматривать за ними и узнать, что за человек нищий.
Прошло несколько дней, старик не показывался ни у ворот, ни в лесу, Юлия и мать её не выходили в сад; и все вновь решили, что нищий был действительно бедняк, что он получил милостыню, и собрав хлеба и денег, ушёл в другой замок. Но в это же самое время негр начал беспрестанно скрываться из замка и всегда перебегал через сад и лес. Начали подозревать негра, и в самом деле он часто бегал в комнату Юлии, это донесли графу.
Замбеуш позвал негра, начал расспрашивать его о старике нищем, о Юлии и матери её, но все его объяснения ничего не объяснили. Граф предоставил решение этого вопроса времени и обстоятельствам; но подтвердил вновь строго смотреть всем — за Юлиею и её матерью.
Вечером Анна и Юлия сидели в саду под берёзой; обе они были чрезвычайно грустны.
Долго молчала Юлия, подперев голову левою рукою, и, потом вздохнув, сказала:
— Мамо, мамо! Пошлёт ли Бог нам счастливый день, когда мы будем молиться в Лавре... как бы я молилась... Мамо-мамо, скоро ли будем в пещерах!
— Молись Богу милосердному, молись, моя доню, молись серденько! — говорила мать, прижимая к груди дочь — Бог даст и будем в Киеве — тогда сама поведу тебя и в ближние и в дальные пещеры, — будем в Софийском, отслужим молебен Варваре Великомученице, и перстень тебе куплю. Молись только Богу!
— Ох, мамо-мамо! Когда б ты знала, как болит моё серденько, и сама не знаю отчего, — ты знаешь, я Богу молюсь, а всё так тяжко, так тяжко, боюсь чего-то, — и сама не знаю чего!
— То так, моя доню, нечистый мутит нашу душу, хочет искусить нас; положи Матери Божией десять поклонов, когда будешь ложиться спать и — пошлёт она тебе радость и утешение.
— Отчего я тогда не могла молиться, как была в Киеве, отчего мне не было тогда хоть пять лет, я бы, мамо, осталась в Киеве, и ты б не покинула меня; мы жили бы в Божием граде!..
— Молчи, доню, да молись!..
— Молюсь и буду молиться, мамо!.. А завтра, когда наши поедут на охоту, я пойду к нему...
— Пойди, доню, от меня поклонись, скажи, что скоро, скоро Бог вынесет нас отсюда!
Они встали и пошли в замок. Из кустов, соседних с деревом, под которым сидели мать и дочь, выбежали две графские любовницы, и, хохоча, побежали в замок.
IX
Граф Йозеф Замбеуш с коротенькою файкой с зубах, заложив красные жилистые руки в широкие полосатые шальвары, без кунтуша, в рубахе красного цвета, ходил по широкому псарному двору, бранил псарей на чём свет стоит, и обещал по сто пуль вогнать в лоб каждого, который осмелится хотя пальцем тронуть его собаку.
Псари, стременные и прочие чины охотничьей кавалерии Замбеуша, приготовляли всё к отъезду в поле.
Три месяца прошло, как граф не полевал: всегда как только собирался, что-нибудь да помешает ему; и Замбеуш рассказывал всем, как чрезвычайное происшествие, что он так долго не был на охоте.
— За три месяца мыши полевой не убить!.. А?! Что скажет всякий, кто знает меня?! А?!.. Граф Замбеуш с ума сошёл — три месяца не был на охоте, — подумает каждый охотник! Да так оно и есть... Что же мне делать, когда нет ни одного порядочного стрелка, который бы попал в слона в пяти шагах, а не то что в лисицу или волка; что ж мне делать? Я стыжусь сказать это моим соседям... Как, скажут они, граф Замбеуш, первый охотник в Волынии, а нет у него стрелков! А, дьявол возьми, это истинная правда!..
Граф докурил трубку, вынул её изо рта, закрутил рыжие усы свои и, одной рукой помахивая чубучном, а другою лаская борзую, выходил из псарни; навстречу ему неожиданно шёл граф Жаба — Кржевецкий, приятель Замбеуша, сходный с ним и характером, и наружностию. Жаба был пониже ростом Замбеуша.
Замбеуш рассчитывал, что сын его женится на старшей дочери Жабы, и поэтому-то дружба их была тесная.
— Я к тебе, граф Йозеф, прямо от пана Любецкаго: что за собака добрая у него Пулкан; знаешь, граф Йозеф, во всей Польше нет подобной, то первая из первых собак во всём крае! А чёрт знает проклятаго пана Любецкаго, откуда он выкарабкал это сокровище, или он душу свою продал дияволу за Пулкана! — это просто сокровище, а не собака, и жены не нужно вернее и умнее Пулкана; ну просто, я без ума, граф, от этой собаки!
— Да что ты говоришь, граф Жаба, я знаю Пулкана; ну, добрая собака, да уж, не то, что ты говоришь, в целом крае не отыскать; у меня Подстрелит и Коханка такие же собаки; а я тебе, граф Жаба, скажу, что Коханки ни за что в мире не отдам, для меня не может быть ничего милее в жизни, чем Коханка; ей же, Богу милосердному известно, что я говорю тебе правду!
— Знаком ли с тобою пан Любецкий:
— А то диявол возьмёт душу его, чтобы я знался с Любецким: его предки камни клали, когда прадед мой строил замок, а я чтоб дружбу с ним заводил, — чёрт косматый его возьмёт!..
— Но то, граф, не дело говоришь, паи Любецкий бедный человек, но древней шляхетной фамилии!
— Когда род Пулкана шляхетный, то и пан Любецкий шляхтич — ибо он сам собачей породы, это я наверно знаю, то истина!
— Он славный охотник; прошлую зиму сам четырёх вепрей убил, а волков и лисиц без счета.
— Всё пустое говоришь, граф Жаба, я не убил двух вепрей, а чтобы поганый холоп убил четырёх!.. Не говори этого, ты лучше дай мне пистолет, пули и скажи: на, граф Замбеуш, заряди пистолет и выстрели себе в лоб, то я скорее соглашусь это сделать, нежели слушать такой вздор; ты безжалостно мучишь меня, граф Жаба.
— Ты, граф Замбеуш, вели гербы свои на дверях и на кунтушах войска твоего почистить, а то что-то достоинства твои не всем ясно видны!
— До гербов моих никому нет дела, я сам знаю мои достоинства!
— Но другим-то они не ясно видны! — сказал раздосадованный Жаба.
— В гербе моём нет пресмыкающихся, которые скачут; там голова шляхетнаго оленя с рогами.
— Осла с большими ушами! — с досадою сказал довольно громко граф Жаба, поняв колкую насмешку Замбеуша, относившуюся к его фамилии, поспешно ушёл из псарни, сел в свою одноколку и поскакал, не сказав ни слова графу Замбеушу.
Граф Йозеф послал вслед графу Жабе тысячу проклятий и чертовщин, и, рассерженный, ушёл в замок. Не прошло получаса, как в окно Замбеуш увидел, что по дороге к замку тащится целый обоз жидовских брик, обтянутых белою холстиной: по мере приближения фургонов Замбеуш заметил, что за каждою брикою привязаны своры собак; это так несказанно обрадовало его, что он приказал немедленно готовиться к выезду на охоту. Вышел на крыльцо и здесь от радости свистел, прыгал, пел песни, от нетерпения махал рукою, давая знать едущим, чтобы они скорее приближались.
И вот, на широкий двор въехало несколько бричек, запряжённых по четыре тощих коней, управляемых несчастными хилыми возницами, которые немилосердно хлыстали длинными бичами по бокам изнурённых животных.
Собаки лаяли и визжали, эта суматоха была приятна графу. В бриках, свернувшись, лежали усталые и заболевшие в дороге собаки и наложены были цельте горы всяких охотничьих припасов. Когда первая бричка подъехала к каменному столбу, к которому обыкновенно привязывали вершники лошадей, с фургона поспешно выскочил мужчина лет тридцати пяти, одетый в охотничью куртку, синего цвета, в широких красных шальварах с белыми серебряными лампасами, и вооружённый, в полном смысле слова, с. ног до головы: при нём были две сабли, три или более разной величины кинжала, пистолет, патроны в красном сафьянном патронташе висели через плечо, и десятки цепочек вились по груди и по бокам. Гость был брюнетом, длинные чёрные усы, огромные густые бакенбарды делали лицо его странным и вместе с этим очень интересным.
Закрутив усы, поправив сабли и пристукнув правою ногою так сильно, что едва от сапога не отлетела шпора, гость подошёл к графу.
Начались поклоны, а потом дружеские объятия и горячие целованья. Гость был Любецкий, которого за час тому граф называл холопом, дияволом и прочее.
— Я слышал, что по всей Польше, граф, славишься своею охотою; вот я приехал к тебе с моими сворами: не угодно ли будет твоему графскому достоинству посмотреть, какова и у меня охота. Граф Жаба-Кржевецкий был у меня сегодня, и взял с меня честное слово, что я заеду сегодня к тебе; вот я и заехал, не поедешь ли, граф, со мною на охоту.
Граф, прельщённый огромным числом собак, которые как нарочно были от первой до последней превосходны во всех статьях, не знал меры восхищению; он тысячу раз обнимал и целовал Любецкого, называл старым другом и приказал позвать к себе пана Кржембицкого.
Явился пан Кржембицкий.
— Вот, пан Кржембицкий, украдь или отвоюй у пана Любецкого пару собак, то я тебе отдам, что ты просил у меня, — с веселостию сказал Замбеуш.
— Добре, бардзо добре граф, достану; я давнишний друг и приятель Любецкаго, мы помиримся с ним, а собаки будут твои!..
Любецкий смеялся.
— Не думаю, чтобы твой Пулкан был лучше моей Коханки, пан Любецкий!
— Попробуем!
— Через час будем на охоте.
— Добре!
В это самое время нищий показался у ворот замка, а вслед за ним Анна; это не ускользнуло от взора графа. Дав знать рукою двум стоявшим подле него стрелкам, чтобы схватили Анну, Замбеуш, рассерженный, вбежал в комнату Юлии, которая в эту минуту, стоя на коленях в углу перед образом, молилась. Граф ударил её два раза кулаком по голове, и девушка без чувств упала наземь. Кровь полилась у неё изо рта; Замбеуш выбежал навстречу к стрелкам, которые вели Анну, и приказал связать её.
Из милосердия одна старуха, прислуживавшая Анне и Юлии, подняла несчастную жертву ненависти графа, умыла ей лицо и положила в постель. Юлия скоро пришла в чувство. Женщина сказала Юлии, что мать её связанная — в подземелье. Это не поразило Юлию, выросшую посреди таких ужасов и жестокостей, и привыкшую с детства ещё смотреть на всё в воле Божией и сердечно предаваться ей; у Юлии ещё достало столько твёрдости и присутствия духа, что она наскоро надела чёрное платье и вышла на крыльцо в ту самую минуту, когда псарня готовилась тронуться в путь.
На крыльце стоял граф в коротеньком бархатном полукафтанье алого цвета. Он и другие не заметили Юлии.
Вокруг графа Замбеуша толпились пан Кржембицкий, пан Любецкий, пан Цапля-Жидомор, пан Загреба и ещё несколько шляхтичей и восторженно хлопотали о своём псарном походе. Замбеушу подвели турецкого белого жеребца, он вскочил на него, отъехал несколько шагов вперёд и затрубил, давая знать, чтобы всё двинулось.
Одних охотников в свите Замбеуша было более двухсот, собак несчётное множество. За всадниками тащилось несколько фургонов, и в одном из них лежала связанная полумёртвая несчастная Анна, а в предпоследнем фургоне связанные в железной клетке два волка и лисица. Юлия поклонилась матери, благословила её в слезах, упав на колени, провожала её глазами, пока можно было видеть. Сердце её разрывалось. Когда уже все уехали, незаметно подошёл к ней старец, что-то сказал ей, и они поспешно вышли за ворота замка, и скоро скрылись из вида.
Среди разноцветной толпы резко отличался граф на белом скакуне; он быстро мчался впереди всех или осаживал коня, и, оставаясь сзади, с заметным нетерпением окидывал взором многолюдный охотничий стан.
По правую сторону его ехал негр, через плечо у него висела серебряная бутыль, наполненная водкой, которую граф пил для большей отваги во время охоты и потчивал отличившихся охотников.
Граф был, однако, скучен и сердит; впрочем это нисколько не препятствовало веселию, крикам и шуму прочих ехавших.
Долго гарцевали они по зелёной высокой траве.
Вдали навстречу графу показался в повозке несчастный рыжий еврей; увидев скачущую перед собой кавалькаду, он хотел своротить с дороги; но при повороте сломилася в телеге ось, и он должен был остаться на месте; подъехал рассерженный граф, выстрелил из пистолета в коня и убил его, еврея приказал связать и положить в бричку. Приказание его тотчас было исполнено.
Приблизились к леску. Граф дал знак, чтобы выпустили одного из двух волков; развязали зверя, приготовили Пулкана и Коханку. Вырвавшийся на свободу волк побежал вдаль, за ним два соперника, Коханка и Пулкан: весь стан занимала мысль: кто выиграет, чья лучше собака?
Граф, горя нетерпением, кричит, трубит, скачет вперёд. Пан Любецкий — тоже; охотники рассыпались по полю в разные стороны, поднялась тревога...
Вот Пулкан отстаёт, волка догоняет Коханка. Граф кричит от восторга; но миг — увёртливый волк своротил в сторону, Пулкан устремился вслед за ним стрелой, и волк не успел ещё сделать несколько скачков, как был уже под Пулканом, Коханка далеко отстала от него и даже не побежала разделить добычу с своим соперником.
Остервенелый граф подозвал к себе Коханку, приказал взять её на цепь и, подъехав к лесу, на первом дереве повесил еврея, собаку и свою несчастную прежнюю любимицу Анну. Спокойно, как будто бы он сделал обыкновенное дело, не заслуживающее внимания, поехал он вперёд; за ним двинулись все прочие.
Отъехав несколько вёрст, он послал негра в замок известить Юлию о смерти её матери и приказал повешенных не снимать с дерева.
Негр приехал; но при всём старании отыскать Юлию не смог; её не было в замке; он бросился в сад, нет её; побежал в лес — то же самое; вихрем помчался он в поле по дороге, куда граф направил свой поезд, и через полчаса настиг охотников, выезжавших из леса. Негр сказал графу, что Юлия ушла. В тот же миг граф возвратился к замку и разослал во все стороны верховых, отыскать и схватить Юлию; за её голову обещал тысячу червонцев. Понеслись всадники во все стороны, граф стоял на лошади недалеко от замка, потом тихою рысью поехал к синевшему вдали городу. Он придумывал казнь для бежавшей, и всё, что только ни приходило на мысль, казалось ему слабым и ничтожным.
Тихо подъехал он к развалинам. Покрытые серым мохом и поросшие местами кустарником, эти развалины огромного здания, некогда бывшей Иезуитской Академии, стояли на горе, направо при въезде в город. Величественность оставшихся степ, стройность и красота уцелевших колонн, мраморные украшения капителей, портики, архитравы, фризы были так изящно сделаны, что невольно заставляют сожалеть о богатых развалинах; и своими обломками эти остатки великолепного здания так заняли и привлекли графа, что он всё ближе и ближе подъезжал к ним; его привлекла огромная терраса и внутренность нескольких комнат.
Взор его обратился к фундаменту, он искал удобного места пройти в середину развалин, и вдруг, у разрушенного портика увидел сидящего на упавшей колонне старца нищего, которого нередко видал в замке; он ускорил бег коня; но не успел ещё сделать и двух шагов вперёд, как Юлия, услышавшая топот, подбежала к старцу, торопливо положила свою руку на его плечо и указала ему на едущего графа. Старик поспешно встал, взял Юлию за руку, и почти неся её на руках, скрылся в развалинах. В ту же минуту и граф остановился у лежавшей колонны, соскочил с лошади, побежал по следам старика вовнутрь, но не увидел ни Юлии, ни старика. Не прошло и пяти минут, вся свита графская окружила развалины.
Сначала граф приказал искать Юлию и старика вокруг развалин, все бросились осматривать уголки, колонны, куски камней, упавших с высоты здания, но все старания были напрасны.
Приказав охотникам окружить здание, граф с приближёнными вошёл в первый этаж. Перед ним открылась пространная площадь, замкнутая высокими стенами, в нишах кое-где оставались изломанные статуи или разбитые лежали на земле; в амбразурах окон свинцовые переплёты, и по ним вилась зелёная повилика; над головой графа висел свод, украшенный лепными арабесками; он каждую минуту угрожал падением; выше свода белел освещённый солнцем второй ряд комнат, ярко раскрашенных фресками; потолка не было, а сквозь отверстия виднелся третий ярус, покрытый поросшим по стенам кустарником.
За огромною залою в первом этаже, в обе стороны открывались две другие залы, немного менее первой, и правая из них вверху оканчивалась куполом, вокруг которого лепные изображения апостолов и евангелистов свидетельствовали, что зала была некогда церковью. На уцелевшей стене осталось лепное колоссальное распятие, оно обозначало место престола.
По левую руку одна комната следовала за другою, все они были с готическими узкими окнами.
Осмотрев внимательно все углы и все комнаты, и не найдя Юлин и старика, по разрушенной террасе граф и прочие взбежали во второй ярус, прошли длинный ряд живописно разрисованных комнат, и по каменной винтовой лестнице взошли на третий этаж, осмотрели каждую колонну, поддерживавшую потолок, поднимали упавшие карнизы, но всё было напрасно.
Внизу кто-то из охотников закричал, что нашёл железные двери. Граф и все прочие поспешили сойти вниз, к железной двери, находившейся в огромной зале, у стены. Заметно было, что дверь не была хорошо притворена, и что Юлия и старик непременно скрылись за нею.
Недалеко от двери Кржембицкий поднял котомку с кусками хлеба и переломленную палку старика; доказательства были ясны: все определили, что через несколько минут Юлия и старик будут в руках графа.
Со скрипом отворилась железная дверь, и из-под мрачного подземелья пахнул удушливый ветер. Никто не решился войти в него первый. Ступеней лестницы было не видно, и поэтому зажгли огонь, привязали к зажжённой походной лампе графа длинный снурок, спустили лампу в подземелье, но, опустившись аршина на два, лампа остановилась на чём-то каменном, огонь осветил несколько ступеней. Кржембицкий первый ступил на лестницу и, придерживаясь кое-как за ступени винтовой лестницы, начал сходить вниз; за ним последовал граф, пан Цапля, пан Затреба и ещё человек до десяти охотников. Зажгли два фонаря, принесённые от соседних жителей, и несколько свечей; глубоко вниз извивалась крутая лестница, по которой сходили отважные охотники, и наконец привела она их в огромное подземелье, куда ни один луч света не мог проникнуть. Подняли огонь над головами, желая увидеть пределы подземелья, но не видели; поставив одного охотника у лестницы, Кржембицкий пошёл прямо вперёд, за ним все прочие; шагов пятьдесят они сделали по ровному месту, вдруг Замбеушу что-то круглое попалось под ногу; он нагнулся и поднял, то был человеческий череп; он со страхом бросил его... Охотники шли далее, и вот неожиданно пан Кржембицкий ударился лбом об сырую стену и ощупью нашёл длинный проход, довольно узкий... Вошли в проход, он был чрезмерно длинен; наконец, прошли него, вошли в пещеру, и перед ними виднелись какие-то предметы; всмотревшись, увидели: по одну сторону стоят сгнившие гробы; из-под разломанных крышек выставляются ноги мертвеца в странной обуви; там видна с украшениями голова, там лежат рядом несколько скелетов, и между ними совершенно целые трупы, почерневшие от времени; по другой стороне два или три железных гроба, и из-под крышки одного высунулся кусок багряной материи, далее железная крышка с горбами, и отрубленная рука, под ногами сотни трупов, тысячи черепов, рук, ног, голов, костей. Граф поднял одну голову: в темя её были вбиты три гвоздя — причина смерти страдальца; поднял другую, и на черепе был железный обруч, кости черепа во многих местах треснули.
Вначале все были храбры; но увидев вокруг себя этот мир жесточайшей пытки и зверства, как сами ни были зачерствелы в жестокости и зверстве, — струсили! Не знали, куда идти, и вместо того, чтобы поворотить налево, поворотили направо и снова начали опускаться вниз, в другое подземелье в подземельи.
Некоторые советовали воротиться, другие не только советовали, но молили, теряли всякое присутствие духа. Между тем передние сошли уже в глубокий погреб и прежде всего поразил их гигантского роста сидящий у стены, прикованный цепью за шею, скелет; чуть видневшаяся на каменной стене надпись определяла, что это — казак Завита. Кржембицкий и Цапля сделали несколько шагов вперёд, где стояла открытая гробница, в ней лежал круль, — как гласила надпись на гробе; но какой круль именно — не известно; подле круля с железною короною на голове, стоял на коленях, припавши к его руке, другой труп, совершенно высохший. В одном углу лежали несколько женских неповреждённых трупов, и один из них рассечён от головы пополам; в другом — три младенца.
Как ни увлекало любопытство, но ужас и трепет до такой степени обуяли всех, что забыли и цель своих поисков, и только спешили назад: беспрестанный треск и хлопанье костей под ногами, эхом раздававшиеся в подземелье, заглушали отрывистые слова, которыми каждый старался ободрить себя.
— Что это? — спрашивали они друг друга, когда уже близко были к выходу.
— А это была Академия отцев иезуитов, — сказал кто-то.
— Эге! От-то кости и трупы проклятых недоверков, схизматиков, казацких, галицких и литовских русинов.
— Было же трудов и подвигов святым отцам иезуитам над этими погибшими поганцами, во время Унии...
— Помянет пан-Буг несказанные труды и ноты их во славу Бога и Его святейшаго наместника, отца нашего Папы! — сказал Цапля, набожно перекрестился и приклонился.
Все также перекрестились.
— Жаль, что теперь не те времена и отцы иезуиты поутомились! — прибавил Замбеуш, — всех бы схизматиков-казаков, москалей сюда, — рай бы Божий воцарился на земле, очищенной от такой адской скверны!
Все подкрепляли его слова своими благожеланиями ближнему своему. Так благоговейно сокращали они свой тяжкий путь.
С трудом нашли они выход из первой пещеры в коридор, медленно двигаясь вперёд: кости замедляли шаги; но вот вдали трепетной звездой блеснула лампа охотника, стоявшего у лестницы, и быстро приблизились они к ней, взобрались наверх, и отрадно вдохнули в себя воздух. Граф не сомневался, что Юлия и старик спрятались в подземелья — приказал запереть дверь и наложить на неё упавшие колонны; приказание его было тотчас исполнено.
— Пусть здесь она погибнет; достойнее смерти для неё я не знаю... страшно и одну минуту оставаться под этими сводами. Да, умрут они здесь.
Ровно две недели после этого стояла стража у железных дверей, и действительно Юлия и старец с этого времени не показывались в замке; и слуха о них не было.
X
Тихая ночь Украины рассыпала по сапфирному небу миллионы звёзд, одна другой ярче, одна другой краше; полный месяц с вечным изображением — Каин убивает Авеля, катился по небу и купался в тихом и светлом, как зеркало Сейме; ярко лучи его горели на серебряном куполе церкви Святой Троицы, стоявшей на площади Батурина, и золотились на кресте церкви Св. Николая, поставленном на полумесяце.
Батурин спал не безмятежно: не такие были годы, чтобы спать спокойно. Казак в горе ложился и не знал, встанет ли он завтра, будет ли голова его на плечах. Слово, сказанное без всякого намерения или даже и не сказанное, достаточной было причиною, чтобы голова храброго казака, старого бандуриста, несчастной невинной девицы была всенародно отсечена на площади палачом, и тело брошено на съедение псам.
Было тяжкое время, одна неудовлетворённая просьба негодного компанейского казака или нечестивого сердюка лишали каждого жизни. Горе, чёрное было горе казаку, попавшемуся в руки этих демонов, — мазепинских телохранителей... Их все боялись, зато и они, в свою очередь, были отвержены всеми.
Кровь верных казаков часто лилась во всех городах гетманщины; а в Батурине, столице Мазепы, лилась она ручьём; колодку, на которой рубили головы, не успевали уносить с Троицкой площади; палачи не успевали обмывать руки свои, покрытые кровью, на секире ручьи крови не иссякали. Уже и старшина, и полковники не смели, как прежде бывало, сходиться в гурте и тарабарить до рассвета о делах гетмана. Теперь, если и случайно встретятся двое, то наперёд кругом себя оглянутся. — «А що? — спрашивает один полушёпотом. — «Эге!» — отвечает другой, взглянув на небо или пожимая плечами. — «Прощай, братику». — «Прошай!» Горе, тяжкое юре было в гетманщине. Но наставало и ещё худшее.
Со всех сторон в Батурин съезжались в бричках и в польских фургонах паны, казаки и знатные люди. В господах, хатах и будинках горели свечи и каганцы; у растворенных окон сидели краснощёкие и черноокие панночки, мечтая о предстоящем празднестве, о котором год от года трубит народ во всех городах, сёлах и деревнях Украины и Польши; празднество это было день именин гетмана Мазепы.
Недалеко от церкви Спаса стоял длинный одноэтажный дом с чрезвычайно высокою крышей, искусно покрытою свинцовыми листами; навес над небольшим рундуком поддерживали четыре каменные колонны; широкий двор окружён был довольно красивою решёткой с каменными столбами, среди двора по сторонам стояли два каменных столба с железными кольцами; за эти кольца приезжавшие к гетману вершники привязывали коней. По другой стороне дома густой сад, расположенный по горе, кончался плакучими берёзами и высокими стройными тополями, на берегу прозрачного Сейма.
Часу в десятом вечера на двор дома въехала запряжённая тройкою вороных коней плетёная широкая и длинная бричка; у подошедших двух жолнеров приехавший спросил:
— Где Иван Степанович?
— Тут! — отвечал один из них.
— Ну, слава милосердому Богу! — сказал путник, перекрестился, проворно соскочил с брички, и несмотря на старость лет, скорыми шагами пошёл в дом.
Два небольших негра, одетых в красные жупаны, в белых чалмах на голове, отворили перед ним дверь, и путник вошёл в пространную комнату.
На вызолоченных и обитых розовою шёлковою матернею мягких диванах, в разных позах дремали казачки, молодые негры и две прехорошенькие белокурые девочки, одетые по-турецки; на драгоценном, выложенном мозаикою позолоченном столе, в высоких серебряных подсвечниках горели свечи; в огромных синих вазах стояли свежие цветы; по стенам висели портреты царя Иоанна и Петра Алексеевичей, Алексея Семёновича Шейна, князя Голицына, графа Головкина — царских министров; а на противоположной стене портреты полковников, некоторых гетманов, в стороне на простенке, между двумя круглыми зеркалами, в золотых рамках портреты польского короля Стефана Батория и двух польских женщин, чрезвычайно обворожительной наружности; одна из них была изображена как будто бы подающая смотрящему на неё откушенное ею яблоко, а другая — сама себя целует в правое плечо; внизу под этим портретом была латинская надпись, но рама прикрывала её. На окнах пёстрые турецкой материи шторы с огромными кистями.
Вдоль стен тянулись позолоченные с высокими спинками стулья. За этой комнатой ряд других, не менее богато убранных.
Пройдя коридор, гость приблизился к гетманской спальне; два солдата стояли на часах у дверей, опросили приблизившегося, и через некоторое время подросток-негр отворил перед ним дверь.
На столе, покрытом красным сукном, вышитым шёлком и золотом цветами, стояло несколько свечей в высоких подсвечниках.
На столе лежали кучи бумаг и книг на польском, немецком и латинском языках; перед столиком висел портрет монахини, старухи чрезвычайно бледной лицом; на левой стороне — Анны Степановны Обыдовской; на правой — какой-то миловидной польки, в углу этого портрета был нарисован герб с королевскою короною.
Направо, у стены стояла кровать, покрытая шёлковым алым одеялом; стена была обита персидским ковром, и на нём развешаны драгоценные сабли, пистолеты, кинжалы и несколько ружей. В углу висел образ Иоанна Крестителя и перед ним горела серебряная лампадка; пониже образа на красной ленте висел золотой крест, величиною в четверть аршина, внутри его сохранялись частицы Святых Мощей.
Гетман сидел в длинном широком кунтуше, на богатом позолоченном кресле, обитом лиловым бархатом, и читал какую-то латинскую книгу.
Когда вошёл к нему приехавший, он поспешно встал и бросился в объятия гостя.
Они друг друга крепко прижимали и целовали.
— Здравствуй, мой дорогой куме, здравствуй, мой приятель, брате мой — Василий Леонтиевич!!!
— Господи Боже, хвала и слава тебе, что привёл меня, грешного, видеть здраваго и благоденствующаго ясневельможнаго моего гетмана! Сердце радуется, уста не выразят того, что на душе; молюсь и духом веселюсь!..
— Ну, кум дорогой, кум, радость моя, садись! Садись, ты устал! Откуда Бог принёс? Вот две недели не видел тебя, где ты пропадал, мой родич, дорогой куме?
— Да ездил по деревням, которые ты по милости своей, ясневельможный, пожаловал мне.
— Ну добре; а что ж, всё как следует?
— Да так, слава Господу, всё добре. Поспешал сегодня до тебе, куме, чтобы завтра веселиться в Бахмаче на твоих именинах — первейшая радость, утешение сердца моего, когда ты будешь жив и благополучен!
— Спасибо, спасибо, куме; ты для меня дороже родного брата, ты один сердца моего утешитель, сам люблю тебя, как никого в свете не любил; не буду тебе больше говорить сего: кто крепко любит, тот не рассказует про то.
Кочубей обнял и со слезами поцеловал Мазепу.
— Пусть свет на чём хочет, на том и стоит, а я живу, и одного тебя почитаю, одного тебя люблю и поважаю; а всё остальное провались в землю! Завсегда звикл мою, к великой милости твоей, заховати найзичливейшую приязнь, с которою и в домовину лягу; учиню тебе чинючи: что в каких хуторах и деревнях ни ездил, везде недобрии люди слухи черныя на тебе, куме, доказуют, и ни добра, а зла твоей гетманской душе желают, и всё то зачинается от полковников и знатных чинов казацкого войска; да и попы и чернецы не в стороне от сего, а и сами подтверждают и зло кохают.
— Болит моё сердце, болеет и душа! Господи, Господи, наказуешь ты мене, для тяжкаго испытания!..
— Приехал я под Ирклеев, Хруль, арендатор, прийшел до мене по вечерней заре и начал говорить: «В город Золотоношу черница прийшла и неизвестный поп старец, из-под святаго Киева-града Божьяго; и старым людям, и казакам хвалилася, что в Киеве святом слышала людей польских пашквилующих на твою гетманскую славу, и на твоё гетманство, и сами они писание скверное читали; черница молода, лет шесть-на-десять», — я поважаючи кума ясневельможнаго, черницу под караул взять повелев, в Бахмач привести, а попа стареца допытать: откуда и кто он. Но поп, как учинилось, на Запороги через Ирклеевский курень отъехал; полагаю, нелишне, чтобы ты, ясневельможный куме, и от себя послал за черницею; чтоб без помехи приставили её в Бахмач, и буде она виновна в чём — в пример казни перед народом.
— И черницы, и попы все на мою бедную невинную голову! Бог, да царь, да ты один, найзичливейший приятель, мой куме, любишь меня! Чтоб веселиться завтра, я с горя, тяжкаго горя крепко смеяться буду: и горе смеётся! Когда б только ты сего не знал, куме мой, куме. Ох! Ох! Ох! Тяжко, тяжко, когда горе смеётся, да что же делать!..
— Ясневельможный куме, плюнь на горе да веселись! Ничего не думай и — вся гетманщина засмеётся, как та дивчина, которая червону розу в косу вплетает!
— Ох! Так, да не так.
— Да так! Ну, ласце и приятельству твоему отдаюсь я: поеду до жены и детей — с дороги прямо к тебе!
— Прощай, куме; ты от мене, а слёзы в очи мои; другой бы веселился, а я целу ночь проплачу, горько проплачу; какая радость, когда вся гетманщина идёт против мене. Я, скажут, причиною, что голова летит за головою под секирою — а не подумают, не рассудят, что не я сужу, а есть кому и без гетманской головы судить. Теперь судья не то, что в стародавние годы; есть, кто пануе в гетманщине, а гетман, как сояшник старий, какой воробец ни прилетит, всякий клюёт его семя... Прощай, куме, поклонись жене, и поцелуй дочку мою, и завтра все — в Бахмач. Вы знаете, что праздник мой для вас одних, а ни для кого другого.
Кочубей обнял гетмана.
— Прощай, куме, прощай.
— Господь да сохранит тебя!
Кочубей ушёл; через пять минут после ухода его, тихими шагами вошёл в комнату гетмана мужчина средних лет в длинном чёрном платье, подпоясанный широким ремённым поясом, волосы на голове его подстрижены в кружок на груди висел большой серебряный крест.
— Будь здоров, Заленский.
Иезуит сказал приветствие на латинском языке, и в пояс поклонился гетману.
— Давно приехал?
— Сейчас!
— С Бахмача?
— С Бахмача!
— Благополучно?
— Слава Иисусу Христу! Все заняты приготовлением к завтрашнему празднику! Батурин наполнился приезжими; как я слышал, ни одной хаты нет без постояльцов; приехало много людей и панов с Польши.
— Не знаешь кто?
— Граф Потоцкий приехал, граф Забела, граф Четвертинский, граф Жаба-Кржевецкий, князь Збаражский, граф Замбуеш, князь Радзивил и много других.
— То все зичливые приятели, не забывают меня, спасибо!
— О, ясневельможный, тебя забыть, тебе всё покоряется: ты друг и приятель короля польского, любимец шведского и русскаго, недаром же все они присылают к тебе послов.
— Ну, правда твоя, Заленский, до какого только часу все они почитают меня искренним приятелем... вот и московский царь... Но знаешь ты меня лучше, может быть, чем кто другой... Ну вот, что хочу сказать тебе, Заленский, слушай: сейчас был у меня пан, который больше всего на свете боится жены своей, пан Кочубей; он уверен, что я его больше всего на свете люблю, счастлив дурень думкой!.. А Кочубей ещё счастливее и дурня... жаль только, что жена совсем его замучила; он говорил, что приехал с Ирклеева, был в Полтаве, в Диканьке, народ восстаёт против меня! Слушай же, найди мне человек с десять верных и добрых компанейцов и послать их в города, переодев простыми казаками, да наказать, чтоб за всеми зорко примечади, а паче всего за полковниками и попами. Вот, может быть, и поп Иван найдётся; всё будет пожива катови, а казакам и народу диво да любо глядеть, как голова от шеи отскочит. Завтра казнить Соломона; и распусти слух, что сам царь повелел немедленно, как только получится указ, казнить Соломона; от-то лучше, будут говорить, хотя завтра и праздник и мои именины, а я-таки всё исполняю царский указ: не дремлет, дескать, гетман, скажут; да и сами спать не захотят...
— Так это святая правда! — сказал иезуит.
— Завтра же разослать компанейцов и выслать по дороге к Ирклееву из Желдатскаго баталиона казаков, навстречу чернице, которую пан Кочубей приказал привести в Бахмач. Черница про нечестивыя письма спевала в Ирклееве, не знаю, заспевает ли на встряске?
— Заспевает!..
— Ия твоей думки; ну а компанейцам прикажи, всякого казака, который слово пикнет про меня, хватать да ночью везть в Батурин; чёрт побери, ещё им мало! Так поставим на всякой улице по три виселицы, да по десяти колодок на площадях, пусть каты тешатся, — какая нам нужда; да хоть и народ сумует, зато мы с тобою будем смеяться.
— С проклятыми казаками так и следует делать!
— Прощай!
Иезуит поклонился и вышел.
Между тем Кочубей приехал в свой дом. Любовь Фёдоровна сидела на кресле в спальне, и, сложив три розовых пальчика рученки Мотрёньки, стоявшей перед образом на коленях, учила её креститься и читать Отче наш; в эту минуту Василий Леонтиевич скорыми шагами вошёл в комнату и закричал:
— Здравствуй, Любонька, здравствуй, сердце моё!
Любовь Фёдоровна, не ожидая прихода мужа, испугалась крика, вмиг оборотила голову к Василию Леонтиевичу и сказала:
— А ну, Господь с тобою, чего ты так кричишь? Рад, что приехал, вишь, давно не виделся, соскучил! Ну, здравствуй, тихо бы сказал, а то на всё горло кричит, как гетман на сердюка... Я тебе не гетманская покличка, не в поле, не с полковниками, где венгерское дерёт ваши горла... Ну, здравствуй!
Любовь Фёдоровна поцеловала мужа.
— Всё благополучно?
— Слава Богу! — тихо отвечал Кочубей.
— Садись, а я Мотрёньку поучу молиться Богу, Ну, читай же, моя галочко: Отче наш...
— Оце нас... мамо, спать хочется!..
— Ну, дай я тебя перекрещу, и беги ложись спать!
Любовь Фёдоровна перекрестила Мотрёньку.
— Иди ко мне, Мотрёнька, иди, серденько! — сказал Василий Леонтиевич.
Мотрёнька подошла к отцу. Он приподнял её, поцеловал в уста, глазки, перекрестил и сказал:
— Иди с Богом, да роста велика!
Любовь Фёдоровна отворила дверь и Мотрёнька, потирая ручонкой глазки, убежала.
— Где был ты в эти две недели?
— Был везде!
— Везде, — ты мне говори прямо, где был, а не везде? ты знаешь... я не люблю слушать, когда враг знает, что городишь.
— Был в Диканьке, в Полтаве, в Хороле, в Лубнах, в Ирклееве.
— Ну так бы и говорил!
— А теперь заезжал до гетмана, сказал ему, что слышал по дороге, как казаки и народ отзываются про дела его. Да черницу одну под караул посадить велел, и об этом известил ясневельможного.
— Опять за своё, опять!.. Когда я выучу тебя, чтоб ты слушал меня! Скажи, Василий, сделай Божескую милость, что тебе с того, что ты гетману всякое слово доносишь? Что он, обзолотит твою голову, отдаст тебе булаву, что Он сделает тебе? Слушай, ты знаешь не одну, может быть, отрубили голову из-за тебя... Бог не простат этого ни тебе, ни ему; кайся да молись! — ну скажи мне, для чего черницу-то велел ты взять?
— Пашквилует на гетмана.
— Да что за дело тебе до этого!
— Да гетман кум наш!
— А я твоя жинка, ты слушай меня, а не гетмана! — закричала рассерженная Любовь Фёдоровна, — грей, грей змею за пазухой, она тебе даст мёду!..
— Да что слушать тебя, ты мешаешься не в своё дело!
— Не в своё дело!.. Вот как добро после этого будет!.. Василий, ты запропастил свою душу; не таков ты был, когда не знался с гетманом! Я и сама обманулась; думала, что ты будешь гетманом, а не Мазепа — да нет, опеклась!.. Проклятая тварь! Снюхался с московскими панами, да и булаву взял!.. Постой же, когда ты сам для себя не хочешь стараться, так я постараюсь за тебя и — будет в наших руках булава... обожди немного: недолго наживёт Мазепа, — казаки скоро спровадят его на тот свет Недаром же говорил Иван Сибилев в ратуши, что когда ратные люди соберутся, то гетману будет конец, и выберут другого...
— А Иван Степанович, чем не гетман!
— Гетман!!. Тебе бы, а не ему след гетманствовать!.. Стыдился бы говорить ещё!.. Не сумел держать коня, когда повод был в руках!.. Пожалей меня и детей, когда себя не жалеешь... а лучше слушай, что я тебе говорю, да так и делай. Вот чего я хочу!
— Да разве я не слушаю тебя!
— Знаю, как слушаешь!
— Как хочешь, так и делай.
— Спрашивать тебя не стану!
— Да ты такая!
— То-то что такая! Людей с гетманом не гублю, а хочу, чтоб ты был счастлив... Пойди-ка лучше да ударь десять поклонов перед иконами, да помолись, чтоб Господь Бог простил грехи твои, что несчастную черницу представил гетману; да и спать пора, завтра всё одно ехать в Бахмач...
— Господь Бог да простит меня...
— Нет, нет, нет... десять поклонов ударь… не будет убытка!.. Ударь! Ударь!.. Спина не сломится!
— Да буду молиться!..
— Десять поклонов, как себе хочешь... А ну же, давай, и я с тобой вместе молиться буду, становись!..
Любовь Фёдоровна стала пред образом на колени, но для неё стал Василий Леонтиевич. Любовь Фёдоровна громко читала молитвы...
Долго молились они оба, потом Любовь Фёдоровна, окончив молитву, встала и сказала:
— Ну, ударь же десять поклонов, да кайся!
Василий Леонтиевич ударил десять поклонов, приговаривая: «Боже, милостив буди мне, грешному!» — встал, поцеловал жену и благословил её, жена благословила мужа.
Через полчаса в доме Кочубея было везде темно, двери заперты и все спали глубоким сном.
XI
Ещё на небе горела утренняя звёздочка и только что начинал краснеть восток, а по улицам Батурина ходили уже головы и десятники, стуча в деревянную доску деревянным молотком, давали знать народу, что на Троицкой площади приготовляется, ради дня именин гетмана, кровавый банкет.
— А что, опять банкет будет? — спросил старик, высунув нос в круглое окно своей хаты!
— Иди на площадь, там увидишь!
— Да нет; будут попы служить молебен, сегодня праздник гетманский! — сказала жена старику.
— У нас теперь, что неделя, то и гетманский праздник...
— Я тебе говорю, что гетманский праздник, сегодня Иван-Купала, вчера девчата через огонь скакали, сама видела, как марену рубили и ставили, а сестра Феська, что у гетмана живёт, и купало наряжала любистиком, мареною, с шавлиею барвинком квичали, и я свою ленту красную на марену отдала.
— Да недаром же десятник сказал, чтоб собирался народ на Троицкую площадь; пойдём, посмотрим, а может быть, в самом деле, как вечной памяти бывало за Самуйловичем, что десять бочек горелки, да но десяти мёду и пива выкатят, да и чествуют народ; а пирогов с капустою, да паляниц, — а, Боже, твоя воля! — сколько тогда раздавали народу.
— Может быть, и теперь будет так!
— Ну пойдём!
Только вышел старик со старухой из хаты, — и во всех церквах Батурина зазвонили на раннюю обедню.
— Ну так и есть, что Иван Степанович для всех батуринцов приготовил банкет: выпьем по чарке за его здоровье... во все дзвоны звонят, не беда, слава Господу милосердому; теперь молятся по всей Украине за спасение его души, так и мы выпьем, чем почестуют, да и доброе слово скажем, так жинко?
— Сам знаешь, что так!
— Так-таки, так!
На Николаевской площади со всех батурннских и окольных селений священники с хоругвями, крестами и иконами служили молебен собором и с коленопреклонением о здравии гетмана Ивана Степановича, не много было здесь простого народа, большею частию молились гости, приехавшие на праздник к Мазепе; зато вся Троицкая площадь, как поле маком, была покрыта народом.
Посредине Троицкой площади, на помощённых досках лежала простая деревянная колодка, с секирою стоял кат-москаль, в красной рубашке. Подмостки окружали сердюки, компанейцы и желдаты, а за ними стояли музыканты.
Когда отслужили молебен, приехал Мазепа, с ним был Кочубей, два польских пана и два казачьих полковника. Они были все веселы, а гетман, часто отирал слёзы, которые текли по щекам его.
Привезли в повозке скованного чернеца, расковали, кат снял с него одежду; помолился чернец, поклонился на все четыре стороны, ударил три поклона и благодушно положил голову на колодку...
— Бенкетует! Чтобы так бенкетовала его лихая година! — говорил народ, и сколько ни было здесь тысяч, все они в душе проклинали гетмана... а гетман, притворившись плачущим, с радостию поехал в Бахмач.
XII
В двух милях от Батурина, в селе Бахмаче стоял гетманский замок Гончаровка; в два этажа большой каменный дом, за ним сад, окружённый каменною оградою. У ворот и везде, где следовало, стояли часовые; а перед самым домом на широком дворе построилась компания надворной хоругви, в жёлтых жупанах, батальон желдатской — в красных, а сердюки в голубых; перед войском стояла музыка. По другую сторону толпы народа и некоторые из приехавших гостей. Всё это ожидало гетмана из Батурина.
И вот заклубилась по дороге пыль, и скоро гетман подъехал к крыльцу; заиграли в трубы, ударили в бубны, литавры, а стоявшие у самого крыльца евреи — представители своего народа, поднесли гетману на серебряном блюде пряники, варенья и плоды, заиграли на цимбалах, скрипках и бубнах, поздравили гетмана с праздником. У самых дверей архимандрит, сопровождаемый духовенством, поднёс гетману просфиру, зёрна пшеницы, елей и вино, гетман подошёл под благословение, принял святой дар, поблагодарил архимандрита и пригласил войти в залу.
Два гайдука, одетые в красные жупаны с золотыми выкладками, отворили двери в залу, и в эту же минуту на хорах заиграла прекрасная стройная духовая музыка, присланная Мазепе в дар от княгини Дульской.
Важно вошёл гетман в залу; все собравшиеся встретили его низкими поклонами.
Мазепа в этот день был в шёлковом жупане серебряного цвета, подпоясанный золотым поясом, сабля его бы ла драгоценная. Сказав несколько ласковых слов знатнейшим из панов, гетман вошёл в ту комнату, где чинно в ряд на креслах и длинном во всю стену диване сидели женщины; прежде всех Мазепа поклонился сидевшей против дверей, довольно дородной, невысокой брюнетке средних лет, приятной наружности; женщина эта приподнялась немного, и поклонилась; гетман подошёл к ней — Любовь Фёдоровна протянула руку, Мазепа её поцеловал.
— С именинами поздравляю; счастлив тебя Господь! — сказала она довольно гордо. Гетман низко кланялся, потом поцеловал руки ещё двум или трём женщинам и уселся подле Любови Фёдоровны: она, усмехаясь, погрозила ему пальцем, гетман наклонил к ней ухо и она что-то сказала ему.
— Исполнил царский указ, его воля... переступить не смею...
— Всё-таки не в такой день!..
— Кума моя милая... не в моей воле!..
— Всё не хорошо!..
— Сам знаю!..
Любовь Фёдоровна покачала головою и умолкла, потом погладила по голове дочь свою Мотрёньку, стоявшую подле неё, которая пристально смотрела на крестного отца своего.
— Иди ко мне, дочко моя, моё серденько, — сказал Мазепа, поднял Мотрёньку, посадил к себе на колени, и поцеловал её в уста...
— Ну, что ты сегодня делала, в куколки играла?
— Я в церкви за тебя Богу молилась!..
— Умница, за это я тебе дам родзинок, вишень, всего, чего захочешь!
— Дай мне вот это! — сказала Мотрёнька, перебирая золотые снурки на груди гетмана, которыми был вышит его кафтан, присланный от царя.
— Этого нельзя!
— Нет, можно!
— Нельзя!
— Ну, я тебя за усы! — и Мотрёнька начала тормошить Мазепу за поседевшие его усы.
— Это царь дал, доню, этого тебе нельзя дать!
— Ну тебе и так царь даст! — сказала она, и ручонкой своей, играя, ударила его по щеке. — Гетман покраснел. В эту минуту в голове его мелькнула мысль; что если бы в самом деле царь схватил его за усы и ударил по щеке!.. Но мысль его перебил вошедший в залу граф Потоцкий с графом Замбеушем, а вслед за этим, в зале зашумели. Гетман поспешно встал и пошёл на встречу приехавшим из Польши ко дню его именин, графине Марьяне Потоцкой, Жозефине Четвертинской, Люции Збаражской, Ангелике Вавиловой и по крайней мере ещё сорока женщинам и девицам, шедшим вслед за графинями, приехавшими также из других мест: Подолии, Волыни и Киева.
Собралось всех женщин до двухсот, а мужчин и не перечесть, — во всяком случае более трёхсот знатных. Не только сам замок, но и все флигеля были наполнены панами и панянками. В саду были нарочно к этому дню раскинуты дорогие шатры и всё ещё было тесно. В самом замке комнаты были отведены одним женщинам, более почётным и преимущественно приехавшим из Польши…
Когда все съехались, в большой зале и в других комнатах столы покрыли белыми шёлковыми скатертями, поставили тарелки, разрисованные синенькими полосками и звёздочками, серебряные чарки, такие же вилки, ножи, серебряные фляги с венгерским, бутылки с медами, водками и другими напитками, и когда всё прочее приготовили, на огромном серебряном подносе внесли четыре гайдука отварного осётра и поставили на главном столе против женщин, которые благосклонно смотрели на книши, пирожки-затворники, пирожки с сыром, колбасы, начиненного поросёнка, приливную рыбу, маринированную дичь, все хвалили и заранее наслаждались приятностию блюд, прельщались искусною позолотою и раскраскою шишек и коржиков, подаваемых на стол, по обычаю казаков — в день именин.
Гетман отрезал несколько кусков осетрины и книша, пригласил женщин кушать, и положив на тарелку один кусок рыбы, поднёс графине Потоцкой, прекрасной собою блондинке, с чёрными глазами и ямками на розовых щеках. Графиня привстала и улыбаясь, сказала гетману приветствие на польском языке. Гетман отвечал ей тем же; потом он взял ещё несколько кусков и поднёс Кочубеевой, графине Збаражской, Четвертинской, Искриной, и другим.
Графиня Марьяна Потоцкая подошла к Мазепе, который резал у стола пирог, попросила его, чтобы оставил свою работу и пригласила сесть подле себя. Мазепа с особенным удовольствием повиновался.
— Что, гетман, прикажешь пожелать тебе для твоих именин?
— Чтобы я помолодел! — усмехаясь, сказал Мазепа.
— Ох, не хочу этого желать; гетман так красив и мил собою, что если бы пожелать ему молодых лет, значило бы пожелать худшаго! — говорила графиня, приятно улыбаясь.
— Нет, гетман, нет; то не добро будет, когда ты помолодеешь; все тебя любят теперь, а тогда всё перестану!! — сказала Четвертинская.
Гетман кланялся и, улыбаясь, благодарил обеих.
— Нет, гетман, лучше я пожелаю, скорее видеть тебя в наших краях! — сказала Збаражская, также очаровательная брюнетка, и ещё весьма молодая. Пламенные глаза её были покрыты страстною влагою.
Мазепа также страстно посмотрел на неё, тихонько вздохнул, поклонился и замолчал.
Перед завтраком гайдуки подносили на серебряных подносах водки в графинчиках, которых на каждом подносе поставлено было не менее двенадцати. Гетман шёл вслед за подносившими, и останавливаясь пред каждым паном, приглашал: — «Паны, добродийство, просим всенижайше горёлочки прикушать — и, указывая на графинчики, приговаривал:
— От обомленья, от воздыханья, от спотыкания, от перхоты, от сухоты, от жалю и туги, от всякой недуги, от боязни, от приязни… от се чиста, се душиста, се нерцивка, се гвоздикивка, се полынна, а се тминна.
В зале завтракали духовенство и все прочие мужчины, приехавшие к гетману с поздравлением.
Музыка играла польские и малороссийские песни во всё продолжение закуски. За завтраком венгерское, дедовский мёд, вишнёвка, малиновка, рябиновка и другия наливки рекой лились. Несмотря на то, что три часа назад тому на Троицкой площади был кровавый пир, веселье в замке гетмана шумело; и даже те, которым бы следовало оплакивать безвинно казнённого, забыли прошлое; таков уже наш свет и таковы люди всех веков и народов, если они не отрешились своего «Я» и блюдут его благосостояние...
На дворе перед замком Мазепа угощал свою придворную гвардию, своих верных телохранителей, сам ходил по рядам их, старшим из казаков наливал чарки мёду и угощал.
Вслед за завтраком начался и обед. Гетман пригласил гостей сесть за столы, все уселись, и гайдуки поставили перед гостями огромные чаши с борщом, гости сами наполняли тарелки.
В гостиной вместо гайдуков услуживали молоденькие негры с отрезанными ушами, носами и языками; у гетмана таких негров было до двадцати пяти; они были ирисланы ему в подарок от турецкого султана. Негры, как и все слуги гетмана, были во всём красном с золотыми снурками. Граф Потоцкий, Кочубей, Борковский, Искра, граф Замбеуш, граф Четвертинский, граф Жаба — Кржевецкий, князь Радзивилл и некоторые из полковников и других старшин сидели в гостиной за особенным столом, а сам гетман сидел с женщинами и веселил всё общество.
Кушаньям не было счета, начиная от борща, вареников с сыром, мандрикок, дошли наконец до блюд польской кухни. Кончилось подаванье кушаньев, но гости долго ещё, по обычаю, не вставали из-за столов и разговаривая смеялись, шутили и были все необыкновенно веселы; начались тосты, пили столетний мёд: здоровье гетмана прежде всех, потом здоровье всей гетманщины, третий тост — здоровье генеральной старшины, четвёртый — здоровье полковников и всего казачества. Гетман налил себе мёду в чарку, поднял её вверх и, обратясь к женщинам, сказал: «Один пью за ваше здоровье — выпью не венгерского, а мёду, мёд слаще, будьте здоровы!» За гетманом пили здоровье женщин все прочие паны.
Почти в четыре часа встали из-за стола. Женщины ушли в сад, а мужчины, кто куда вздумал — духовенство уехало в Батурин, не дожидая вечернего банкета.
Начало темнеть, в замке всё приготовлено было к танцам; женщины переодевались, мужчины тоже надевали ярких цветов жупаны. На столах в гостиной поставили десерт: повидло, орехи в патоке, груши в мёду с гвоздичками, родзинки, цельники мёда, кавуны, дыни, яблоки, груши, вишни, малину, клубнику и все прочие плоды, которыми изобилует благословенная Малороссия. Два гайдука, один из числа присланных Мазепе от друга его Станислава Лещинского, а другой Демьян, любимый слуга Мазепы, надели вместо жупанов, куртки и белые шальвары, и принесли в зал огромные турбаны. На хорах музыка заиграла польскую — и зала в минуту наполнилась гость ми.
Вошёл Мазепа и остановился подле панов генеральной старшины и полковников.
— Не из Польши ли сей гайдучище?
— Из Польши!
— Посмотрим, как танцует вприсядку; Демьяна знаю, тот славно танцует, — сказал толстый, невысокий ростом брюнет; это был пан Искра, служивший тогда в Полтавском полку.
— Ну, пане Искро, они оба за тебя не справятся! — сказал писарь Скоропадский.
— Да может быть и так!
— Да таки-так!
— Вот, Искро, коли любишь нас, задай жару после сих дурней!
— Постойте, поглядим на сих молодцов!
Среди залы образовалось пространство. Гости теснились у стен.
Демьян и польский гайдук взяли турбаны, моргнули друг на друга, закрутили усы, пристукнули ногами, Демьян заиграл и оба разом пустились вприсядку, припевая:
На-в-городи постернак, постернак; Чи яж тоби не казак, не казак, Чи я ж тебе не люблю, не люблю, Чи я ж тобе червичкив не куплю. Куплю, куплю, чорнобрива, Куплю, куплю того дива, Буду сердце ходить, Буду сердце любить, Ой гопь, гопака Полюбила казака...Все паны и пани были в восхищении и выхваляли ловкость Демьяна, черноусого казака, ростом почти в сажень и чрезвычайно красивого.
За пляскою гайдуков начались польские танцы: стали в танок, взявшись по паре за руки, музыканты на цимбалах, бубне, скрипках и басе заиграли «Журавля», и начался танец, подобный польскому; танцевали все, даже и графини, чинно, не разговаривая.
Кончился «Журавель», все уселись по местам и началось угощенье. Гетман женщинам подносил повидло, пастилу, орехи в мёду, орешки масляные, родзинки. А гайдуки подносили панам добродиям наливки и мёд; женщины соромились, и гетман должен бы перед каждого стоять несколько минут и упрашивать попробовать хотя чего-нибудь... Графиня Потоцкая и княгиня Збаражская любовались скромностию малороссийских панн.
Когда порядком зашумело в головах панов от ежеминутных потчиваний, отчего никто не смел ни под каким предлогом отказываться, гетман вошёл в залу и спросил:
— А что, паны добродии, не танцуете! Пане Искро, ты охотник до танцев; стыдно, ей же, стыдно!
— А ну, пане, танцевать! — сказал Кочубей, взявши Искру за руку, желая всегда и во всём угождать Мазепе.
— Ну-ну, я не прочь, пане Кочубею, ну-метелицы!..
— Метелицы! Метелицы! — сказал гетман, и пошёл в гостиную, приглашать панн.
— Метелицы, так и метелицы, — повторяли панны.
— Ей вы, игрецы, метелицы!
— Ей-же-ей, не вытерплю: вот так-таки сами ноги и танцуют! А ну-те, пании, пании, скорее! А ну-те, где твоя пани, Кочубей? Я с твоею потанцую!
— Вот идёт!
Искра подхватил Любовь Фёдоровну, другие паны разобрали панн, стали в кружок и начали припевать:
Ой на дворе метелица. Чóму стáрый не жéнится? Бо не час, не пóра Бо ще старá не вмирá.Кружились то в одну, то в другую сторону.
Польские графини и графы, и кто умел из малороссиян, танцевали после метелицы краковяк и мазуречку. Сам гетман с графинею Потоцкого стоял в первой паре; он ловкостию своею удивлял всех, никто из присутствовавших не танцевал лучше его.
Мазепа, как будто бы для доказательства своей ловкости, то каблуком ударит об пол и три раза оборотится на одной ноге, то станет на колено и поворотит панну вокруг себя, то пустит её вперёд и, ловко подскочив, ударит каблук об каблук, поворотится, схватит панну за руку и поплывёт с нею по зале.
Гайдуки не переставали угощать ни панн, ни панов. Всё веселилось не притворно; кончилась и мазуречка, и многие графини оставили бал; иные из панов хотели танцевать, другие затягивали песни. Музыканты заиграли песню «У соседа хата бела», и в один голос все запели.
— Всё весёлую, да весёлую, а нет того, чтоб и сердце заплакало! — сказал Кочубей, и вместе с ним, многие полковники запросили, чтоб заиграли что-нибудь заунывное, и заиграли:
Он, не ходи, Грицю, да на вечерницу, Бо на вечернице девки чаровницы...Спели сумуючи эту песню паны и пании.
— Всё ещё не такая; другой, да лучшей!
— Казацкой! — сказал Искра.
Заиграли казацкой:
Ой по пид горою. По пид зелёною.Запели паны в один голос, да и заплакали крупными слезами, не зная, от чего и для чего: такая уж была натура у. старосветских панов.
Кончился банкет. Не многие из панов могли идти, хмель подкосил всем ноги и развязал языки: говорили много, но не проговаривались, к досаде гетмана.
Рано утром гетман лежал ещё в постели; вошёл Заленский в спальню и сказал:
— Привезли черницу, я приказал посадить её в мурованную комнату.
— Добре сделал; знаешь, Заленский, я думаю, что именно это та самая черница, что в Киев принесла пашквиль: я догадался, когда Кочубей сказал мне об ней. О добре, добре, казнили чернеца, казнить и черницу, славная парочка будет на том свете! Заленский, думка у меня такая, лучше черницу четвертовать, да один кусок в местечко Печерское отправить, чтоб повесили на шесть, другой в Батурине останется, третий в Конотоп, а четвёртый в Роме или хоть и в Полтаву, чтоб все намотали себе на ус, а у кого нет усов, то чтоб памятовали так.
— Правда твоя, ясневельможный.
— Привести сюда черницу, я сам допрошу.
Заленский исчез, а гетман вышел в другой покой, соседний со спальней, где обыкновенно он тайно принимал посланцев от королей и вёл секретную переписку. Сел в кресло, перед ним лежали булава и бунчук, на лице его изображался страшный гнев. Через несколько минут тихо отворилась небольшая дверь комнаты и Заленский ввёл в покой, на железной цепи, юную девицу.
Сначала сердито посмотрел на неё гетман, но поражённый её красотою, растерялся и долгое время не мог спросить её, о чём хотел.
— Кто ты? — произнёс он, спустя минуты две.
Девица молчала.
— Не страшись и праведно отвечай!
— Ты мене погубишь, если я скажу тебе кто я!
— Не погублю!
— Слушай, гетман: матери моей нет более на свете; а она была всё моё сокровище; пойду и я к ней, — это лучше, нежели мучиться так, как мучусь я на этом свете. Прикажи казнить меня; но кто я, не открою тебе, и ты не спрашивай.
— Я заставлю!
— Нет!
— Навстряску! Живую на огне сожгу!
— Что хочешь делай!
— Ты пашквиль принесла в Киев и подала игуменье Фроловскаго монастыря?
— В Киеве я была, Господь милосердный удостоил меня молиться в Святой Лавре и во всех монастырях; мо пашквиля никакого я не отдавала.
— Погибнешь, говори истину!
— Я истину сказала!
— Ты черница?
— Послушница!
— Из какого монастыря?
— Из Фроловскаго.
— А зачем в Ирклееве была?
— От такого же, как и ты, бежала — от родного отца скрылась: убить хотел!
— Кто ты, что ты, я не знаю; но сердце моё полюбило тебя за прямоту души твоей!.. Мне тебя жаль!..
— Лучше не любить, и не жалеть... я ничего не знаю, ничего не ведаю, перед людьми безгрешна, Матерь Божия видит! Пусти меня! И раз ты праведный гетман, огради от всякой беды; я буду молиться в монастыре за спасение души твоей!
— Галочко моя, не быть тебе в монастыре! Забудь монастырь да признайся лучше в вине своей, так счастлива будешь!
Послушница опустила глаза в землю и ничего не отвечала.
— Молчишь, и отвечать не хочешь? Приготовляйся же, завтра будут тебя четвертовать!
— Слава Господу Богу, слава Пречистой Матери! — говорила девица крестясь — и светлая радость сияла на лице её.
— Сковать по рукам и по ногам, и в подземелье; а завтра на встряску и четвертовать, слышал, Заленский?
— Слышу, ясневельможный!
— Ну, отведи её и сию минуту прийди ко мне!
Иезуит и девица ушли. Мазепа ходил по комнате в глубоком раздумье.
Через несколько минут воротился иезуит.
— Пилою по суставам будем пилить, так, ясневельможный? — и — во всём сознается!
Гетман покачал головою.
— Нет, Заленский, гарной дивчины жаль, как маковка червона; посади её в мурованый покой, сними цепь и спроси, что она хочет. Сейчас же пойди к ней!
Заленский досадливо поморщился и исчез. Гетман продолжал ходить с одного конца комнаты в другой. Опять явился Заленский и сказал, что послушница просит оставить в покое икону, крест, лампаду и принести Евангелие.
— Исполнить всё, что хочет, останься с, нею и хитро проведай, откуда она, услужи мне в этом.
— Слушаю!
— Ну ступай, а вечером я опять её буду допрашивать!
Вечером вновь предстала пленница пред гетманом.
— Что спросишь, гетман? — с необыкновенной твёрдостию сказала пленница.
Мазепа и в этот раз не нашёлся, что отвечать.
— Спрашивай же во имя Господа Бога, и я во имя Пресвятой Девы Марии буду отвечать!
— Откуда ты, кто ты?
— С одного мира с тобой! Я великая грешница и молю Господа, чтобы даровал мне принести покаяние во грехах!
Она перекрестилась.
— Ты из Польши?
— Жила на Волыни.
— Ты пашквиль принесла во Фроловский монастырь?
— Мучения мне не страшны: они даруют жизнь вечную; а греха боюсь: я бы сказала, если бы принесла пашквиль; но ничего я не знаю и не ведаю.
— Заленский, выйди!
Заленский ушёл.
— Слушай, я не буду мучить тебя, если бы ты и величайшая преступница была... Ты красавица такая, зачем тебе в монастырь идти!
— Господи Боже милосердный, заступи и сохрани меня!
— Что тебе так страшны слова мои? Я полюбил тебя!..
— Избави меня, Господи, от всякия мирския злыя пещи и отврати козни диявольския!..
— Девчино, девчино! Знаем вас, не первая и не последняя!
Сказал Мазепа и махнул рукою.
— Я буду содержать тебя, как царицу в замке, ты будешь моею коханкою!
Пленница крестилась.
— Это всё ничего, ничего, моя галочка, день-другой, а после привыкнешь, и дело на лад пойдёт; и волк рвётся первый день с цепи, а потом смирно лежит!..
Пленница стояла, опустив глаза перед гетманом, продолжала читать про себя молитву и крестилась.
— Слушай, я буду тебя любить; скажи мне, кто ты, какого рода и как имя твоё?
— Неправды не скажу: смертнаго греха не хочу принять на душу, истины не открою, как ты себе хочешь!
Казни меня, прошу тебя, казни, я умру и Царствия небесна го достигну!
— Жаль же мне тебя, коханочка моя, серденько моя, галочка моя!
Гетман хотел обнять её, девица увернулась. Величественно-грозный вид беззащитной чистоты сердечной на минуту остановил старого сластолюбца.
— Перестань, гетман!.. Христом Богом заклинаю тебя, не прикасайся ко мне; я Богу дала обет чистоты; не погуби души своей... разорит того сам Господь, кто дом его растлит.
Борьба невольного чувства страха, обиженного самолюбия, пыла страсти выражалась на лице Мазепы; удержанный на мгновение, Мазепа заминался в словах, отзывавшихся стыдом, лаской и досадой.
— Знаю, ты притворяешься!.. Эге, галочка, не поможет... сюда ступай, сюда, полно тебе притворяться благочестивою!
Одной рукой Мазепа схватил девицу за плечо, другою сорвал с головы её небольшую бархатную шапочку, и шёлковые светлые волосы волною покатились но её плечам. Девица защищалась.
— Четвертовать, аспида, четвертовать!
Глаза Мазепы запылали страстью; схватив правою рукою за её платье, силился разорвать его ворот; кричал, что в ту же минуту будет четвертовать и — готов был пасть к ногам её.
— Прикажи четвертовать, но не порочь меня; не губи себя, гетман! Ты гетман и — позор сам делаешь, как проклятый враг человеков... пока жива, не дам наругаться... Гетман, пощади меня, пощади меня! Прикажи четвертовать, но не порочь...
Устыжённый Мазепа, видя безуспешность своего замысла, со злостью оттолкнул её от себя.
— Завтра четвертовать!
— Сегодня лучше, меньше буду мучиться! — спокойно сказала девица, поправляя платье и надевая на голову шапочку.
— Не надевай, скоро опять сбросим.
— Тогда то и будет.
— Слушай, девчино! — говорил Мазепа, скрывая свою досаду и стыд, — я от тебя ничего не хочу; не хочу даже знать, кто ты; я буду тебя кохать, буду тебя до моего сердца прижимать, ты будешь у меня в золоте ходить, будешь пановать, не огорчай только меня... полюби, моя серденько, прижми меня до сердца своего, дай поцеловать карие очи твои, белое лице твоё... коханочко моя, голубочко моя... не думай, чтоб я в самом деле хотел тебя мучить!
— Мучь, аспид-искуситель, убей!.. Лучше я умру, а не отдамся в диявольские руки твои, не погибну от греха!.. Пречистая Матерь Божия спасёт меня!..
— Побери тебя нечистый! В самом деле ты думаешь, что я... я только хотел узнать тебя... постой, моя зозуленько, не так закукуешь.
Гетман захлопал в ладоши, в комнату вбежал негр.
— Заленскаго сюда!
Негр в один миг, как тень, исчез.
— Постой, зозуленько, не так закукуешь! — говорил гетман, и губы его тряслись от ярости.
— Бог меня спасёт, — с христианскою твёрдостью сказала девица, перекрестилась и замолчала; она вся погрузилась в молитву. Вошёл Заленский.
— Сейчас её навстряску!.. В котёл с кипятком, и когда останется жива — в тело вбивать гвозди, начавши с ног до головы.
— Добре, — сказал иезуит.
— Ну, веди её... я сейчас прийду в подвал.
Заленский и девица ушли, вслед за ними вышел и гетман.
XIII
С ужасом и недоумением взираем мы на прошедшие времена жестокосердия людей в недрах христианства, когда, с одной стороны, дух насилия, жестокости, так полно выразившийся в инквизиции, разливался с Римского Запада по всему лицу земли, и проникал жизнь народов, думы и убеждения людей, ложился в основу их систем правосудия, правления и нравоисправления; в то же время, с другой стороны, дух любви Божественной управлял и мыслями, и сердцами, и всею жизнью душ, искренно и самоотверженно служивших Богу Искупителю. Во имя того же Бога Любви столько любви и столько злобы!
И что всего поразительнее: те и другие с полною уверенностью и спокойствием приступали к престолу Божию, словно они одинаково совершали дела Богоугодные. Человек, пылающий властолюбием, жестокостью, ненавистью, простирал свои руки, облитые кровью братий, виновных или невинных, к тому Богу, который всем и всё прощает, и кровь свою пролил за всех грешников; и набожный злодей злодеяния свои пересчитывал пред лицом Его, как великие заслуги и подвиги во славу Его.
В подвал замка, в довольно просторную комнату, со сводами, Заленский привёл несчастную черницу, которая с такою искреннею готовностью предпочла мучения и смерть греху. Вместе с иезуитом пришёл гайдук гетмана Демьян, ещё один гайдук, и негр. Среди комнаты висели железные цепи, вдетые в железные кольца, в середине потолка; на этих цепях подымали страдальцев на встряску, Иезуит устроил их в последнее время по лучшей системе. В одном углу подвала стоял котёл с кипятком, и лежали другие орудия для истязания жертв.
Гетман пришёл и сел в железное кресло, которое также раскаливали и сажали в него пытаемых. В это время девица казалась не земною: необыкновенное спокойствие души, бодрость, отсутствие малейшей боязни и страха.
— Дай Богу помолиться, гетман!
— Молись!
Девица трогательно читала молитву вслух.
Гетман пожирал её глазами. На лицах Демьяна и Заленского играла радостная улыбка. Но слова молящейся стали доходить до сердца Мазепы и смущать его, он закричал:
— Ну, полно молиться, Бог простит тебе грехи.
Девица кончила молитву и сама подошла к цепям.
Демьян схватил её ногу и начал надевать кольцо.
— Постой, я сама надену скорее! — и поспешно надела она кольцо на ногу, потом на левую и на правую руку. Заленский радостно потянул цепи вверх, несчастная повисла в воздухе, упираясь правою ногою в пол.
Гетман сделал знак, чтобы помедлили надевать кольцо.
— Ну, наденьте же кольцо на ногу! — спокойно сказала она.
— Подай сюда прутья, Заленский, раскалились ли они?
Заленский вынул добела раскалённые прутья.
Посмотри! — сказал Мазепа, показывая несчастной раскалённые прутья.
Девица радостно улыбнулась.
— Добре?
— Да!..
— Ну, тебе это не страшно; так лучше в кипяток, снимайте!
Демьян и Заленский сняли кольца с рук и ног, гетман взял её за руку и подвёл к котлу, в котором белым ключом кипела вода.
— Хочешь купаться!
Девица перекрестилась и готовилась прыгнуть в котёл.
— Голубка моя! — воскликнул удивлённый гетман, удерживая её, и страстно впился губами в плечи девицы. Потом, взглянув на окружающих, оставил её и проходя подле смеющегося Демьяна, слегка ударил его по плечу, и сказал:
— Одень её и до меня приведи. — Демьян смеялся, хорошо постигая сердце Мазепы.
— Чего ты смеёшься, гайдучье племя?
— Ничего, не бойся, это не нашего поля ягода!..
— Не нашего? Ну да постой!
Гетман ушёл.
Через полчаса опять несчастная девица стояла перед Мазепою.
— Ну что ж ты меня не мучил?
— Тебя ли мне мучить, я буду тебя как душу свою любить, червона роза!
— Души у тебя давно нет; иезуитам ты её продал, да неверам, християнская ли душа та, которая только и знает, что вешать, да головы рубить праведным людям?.. Стыдись, гетман, побойся Бога, не вечно будешь жить на свете; вспомни, что и тебя положат в домовину; хоть ты теперь и ясневельможный пан, а ведь заодно все будем лежать в земле, как лежат уже те, которым ты отрубил головы; ты забыл, что умрёшь! Помни, да хорошо помни; и над тобою насыплют могилу, тогда каяться поздно: после смерти нет покаяния! Одумайся, гетман!.. Одумайся, и спаси свою душу!
Никогда ещё гетману не приходилось встречать людей, подобных ей. Много перебывало в его руках озлобленно-бесстрашных, которые, заливаясь проклятиями, испускали дыхание, не дрогнув ни в одной из жесточайших пыток. Нот тут бесстрашие бесплотных и — немощь девицы, жажда страданий, слово любви на устах, во взорах кротость и нежность, красота телесная, и видимая сила Божия во всех действиях, — зачерствелая душа гетмана смутилась. Когда девица заговорила ему о покаянии, он походил на человека, внезапно пробуждённого в мрачном подземелье: ничего не видит, не понимает: шум, его разбудивший, смутно отзывается в ушах, нестройные мысли снуют в голове его. В таком состоянии был Мазепа, взволнованный безуспешною борьбою с слабою девушкой, уничтоженный бесполезными угрозами пытки; смягчённый, можно сказать, расплавленный, присутствием красоты, столь властной над людьми, подобно ему растленными — и в то же время невольно уступивший ужасу часа смертного, о котором с такою любовью, с такой силою и мольбою говорили ему.
Гетман задумался, неподвижный взор его устремлён был на девицу.
— Что ж думаешь? Время каяться, гетман! Гетман, Божий суд — страшный Суд: не за себя одного отдашь Богу ответ, а и за всех, которыми управляешь!
Гетман молчал.
— Церкви Божии разоряешь; чернецам, которые за тебя молили Господа, ты головы рубишь; невинных горько обижаешь; всем дал знать себя, одному тебе чтобы было хорошо жить на свете; поживёшь десяток лет или два; а там, когда дадут за все дела твои восковой крест в руки, чтоб ты отнёс его Господу Христу и похвалился, как гетманствовал во имя Его — не знаю, будет ли там житье такое тебе, как здесь!!.
— Кто ты? Скажи мне, кто ты? — спросил гетман, очнувшись от задумчивости.
— Ты видишь, кто я такая; я та, которая говорит тебе правду!
— Господи Боже, что это стоит перед мной?
— Если бы ты чаще вспоминал имя Господне, в сердце твоём меньше было бы зла.
— Чего ты хочешь от меня?
— Чего ты от меня хочешь? Пусти меня.
— Не пущу. Я тебя буду кохать, ты у меня будешь в золоте ходить; слушай, ты будешь счастлива!
— Одумайся, гетман, что ты говоришь? И ты хочешь сделать меня счастливою, когда сам несчастнейший в свете человек? Ты душегубец, ты безбожник, и после этого — где твоё счастие?..
Помолчав немного, гетман сказал кротко:
— Теперь, может быть, я и такой, в твоих глазах, но я не безбожник... я одну тебя буду любить!.. Ты гарна!.. Крепко гарна!..
— Люби Бога, делай добро и будет с тебя!
— Буду любить и тебя... я люблю Бога, и делаю добро. Скажи мне, что хочешь ты от меня! Знай, что в Бахмаче ты и умрёшь, разве я прежде тебя умру, тогда ты вольна на все четыре стороны; а до того я тебя буду кохать, вот моё всё счастие, ты будешь жить как гетманша, я перед тобою золото рассыплю.
— Пусти меня в монастырь, откуда взял меня, недобрый человек; я за спасение души твоей буду молить Бога!
— Живи и молись со мною вместе, вот тебе комната, — сказал гетман, растворив! дверь в соседнюю комнату, в которой окна были переплетены железною решёткою.
Эта комната была подле спальни гетмана.
Поселилась несчастная. Она проводила почти целые сутки в безмолвии, молитве и строжайшем посте; спала, и то самое краткое время, сидя на полу под образами. Напрасно гетман старался прельстить её роскошью одежд, мягкостью постели, сладостью кушаньев и напитков. Она ни к чему не прикасалась, стараясь только противостоять греховным помыслам Мазепы и побеждать его страсти.
По желанию заключённой гетман украсил покой её дорогими образами, подарил ей в роскошном переплёте Евангелие, молитвенник и драгоценных камней чётки. В первое время он почти беспрестанно вертелся в её комнате.
Эти дни были тяжки для неё. Мазепа неотступно требовал её любви; она в его присутствии молилась вслух о его обращении и исправлении. Вначале Мазепа не мог выносить этой молитвы и уходил с угрозами; снова приходил с кротостью: она ему твердила о молитве, и о том, как должен гетман вести себя. Мазепа слушал и через неделю реже напоминал уже ей о своей пламенной страсти, и часто вошедши к ней в комнату, в то время, когда она читала Евангелие, садился напротив неё и с необыкновенным вниманием вслушивался в чтение; часто случалось так, что она вдруг умолкала, и тогда гетман начинал умолять, чтобы она продолжала. Он говорил, что душа его веселится, и он вкушает непостижимую радость и восторг, когда слушает её чтение Евангелия.
— Благодари Бога, гетман, благодари! — говорила она с веселием, Царство Божие недалече or тебя; крестись!
И гетман крестился.
— Утром приходи, вместе будем молиться! Слышишь, приходи!
Гетман повиновался, и каждое утро являлся к ней: как ученик к учителю на молитву; и кто поверит, гордый Мазепа начал смиряться духом. Сначала тут был и коварный умысел с его стороны: «покориться ей, чтоб после покорить её, и будто бы умилённый от её слов, он начинал медоточивыми словами и вольными движениями ласкать её, но тут же встречал искренно-строгие, величественные запрещения, и незаметно, более и более поддавался невольному уважению к ней, которое, наконец, совсем его обуздало.
Так проходили дни за днями. Гетман смотрел уже на заключённую не теми глазами, которыми он смотрел вначале; он уверился в твёрдой преданности её к Богу, ясно начал замечать на себе благотворное влияние её присутствия, и незаметно привык во всём ей повиноваться и угождать её желаниям. Он не спрашивал более, кто она такая, слушал её, и в душе его зарождалось чувство любви духовной.
Однажды он вошёл в её комнату, девица ела просфиру с водою.
— Долго ли ты будешь так поститься?
— Благодагню Божией, всегда А ты не только не постишься, да и не постничаешь, и посты презираешь? А вся гетманщина их верно соблюдает: в среду и пятницу никто не есть скоромнаго, как ты; вот и пример подаёшь: ты полагаешь, что малороссияне не смотрят на это? Они тебя хуже всякаго считают; и евреи, говорят они, исполняют закон; а гетман так нет!
— Отныне я в среду и пятницу постничаю!
— Телом постничай, душою постись!
— Душою и телом!
— Смотри же! Не лги пред Богом, страшно покарает. Ну, становись, будем молиться.
Мазепа становился перед образом, девица возле него. Она громко читала молитву, и гетман молился действительно с сокрушённым сердцем.
Прошёл год со дня пребывания девицы в Бахмаче, и народ начал поговаривать, что в гетманском замке живёт благословенная душа, что все счастливы, во всём не только довольство, но видимое изобилие, все здоровы и веселы; сам гетман стал необыкновенно добродушен и ласков, чего в прежнее время вовсе не замечали. На Троицкой площади в Батурине не стояла уже виселица, и не лежала окровавленная колодка на подмостках; народ начал забывать казни; бунты, бывшие до этого, прекратились. Сам гетман уже не призывал Заленского, но и не отсылал его; хитрый иезуит не на шутку боялся, чтобы верная добыча не ускользнула из рук его. Он нарочно выдумывал опасности и приезжал стращать ими гетмана. Вначале гетман легко поддавался внушениям иезуита; но, посоветовавшись с девицею, он всякий раз меры жестокости заменял мерами кротости, и сам видел на опыте, что это лучше и надёжнее. Иезуит стал терять свою важность в глазах Мазепы: он принимал его реже, беседовал с ним холоднее; после решительно тяготился им; наконец сказал ему, что он сам его позовёт, и он уже больше не принимал его. Иезуит от отчаяния даже Богу молился, чтоб Он обратил сердце Мазепы от погибели и помог бы ему, Заленскому, извести врагиню Царства Иисусова — девицу!!!
Пролетел ещё год. Девица по-прежнему каждое утро молилась вместе с гетманом. Мазепа по средам и пятницам постничал, в субботу стоял на всеночной и нередко сам пел на клиросе, а в воскресенье в замковской церкви всегда читал Апостола.
— Слушай, гетман, ты много исполнял моих просьб; исполни ещё несколько: года два назад ты обещал рассыпать передо мною кучи золота: отдай теперь это золото на церкви и монастыри, раздавай и нищим; знаешь, тыне молод: пора тебе собирать богатство для жизни на том свете. Послушай меня, гетман, и увидишь, Бог осчастливит тебя и здесь.
Щедрою рукою посылал гетман вклады в Киев, в Лавру, во Фроловский монастырь, в Полтавский женский и мужской, в Переяславль и другие города, в Батурине заложили две церкви, в Ромнах, Лубнах, Золотоноше, Хороле, Прилуках, Чернигове и Нежине. В Батурине не было ни одной церкви, в которой бы Мазепа не оправил иконы в серебряные и вызолоченные оклады.
Гетман и девица наезжали в Киев, на поклонение святым угодникам. Там от неизвестного положил он богатые вклады для вечного поминовения всех умерщвлённых в его гетманство. Поддерживал Академию.
Духовенство примирилось с Мазепою. Малороссия отдыхала, также примирилась с гетманом и благословляла его. В часы искушений Мазепа строил великие будущие замыслы на такой любви народной.
XIV
Под навесом дома, на крыльце, обращённом в сад, на широком мягком тюфяке и подушках отдыхала в тени, после обеда, Любовь Фёдоровна; перед нею на тарелках с голубыми полосками лежали: ярко-красный разрезанный сочный кавун, душистая золотая дыня и цельник, белого, как снег, ароматного мёда.
У ног Кочубеевой сидела Мотрёнька, в одной руке держала кусок кавуна и ела, а в другой, довольно длинную липовую ветвь, которою отгоняла докучливых мух, садившихся на мать. Любовь Фёдоровна то закрывала сонные глаза, то немного открыв их, сквозь ресницы смотрела на серенькую любимую свою кошечку, которая играла в смородинном кусте с птичкой.
— Мамо, я побегу, возьму у кошечки птичку?
— Сиди, не бегай, пусть играет, смотри, как играет кошечка.
— Она задушит птичку; я, мамо, отниму у неё!
— Сиди, я говорю! Что тебе так жалко птички!..
Кошка придавила лапкой птичку, прыгнула на неё, птичка, разинув клюв, лежала на земле неживая.
— Жаль птички, мамо!
— Сиди, и мух отгоняй.
Кошка схватила птичку и убежала с него в сад.
Мотрёнька чуть не заплакала, прижалась к матери чёрною головкою и закрыла плутовские глазки.
Под навес вошёл Василий Леонтиевич, куря люльку.
— Вот здесь и не жарко, холодок, тень и мух меньше! — сказал он, садясь у ног Любови Фёдоровны...
— Где ты был сегодня целое утро?
— В Бахмаче у гетмана; в замке служили молебен и святили воду, гетман стоял на коленях и усердно молился.
— Ну, а коханка его была?
— Была!
— И лицо закрыто?
— Закрыто!
— Чем?
— Чёрным покрывалом; и сама вся в чёрном!
— Говорят люди, что она ни перед гетманом, ни перед кем не открывает лица?
— Ни перед кем.
— Как бы мне её увидеть?
— Тебе можно, перед женщинами она всегда без покрывала.
— Поеду к гетману, поеду завтра, заставлю, чтобы повёл меня к ней!
— Гетман крепко переменился: стал богомольный; то и дело, приказывает строить церкви, сам нанимает мастеров, сам пишет в Киев, чтоб присылали образа; а прежде, как не было этой женщины, что он творил!
— Не хвали, сделай милость, своего гетмана, а то перехвалишь, давно обещал тебя сделать наказным, а Самуся сделал; после этого и гетман правдивый?! — Василий, Василий, сердце у меня не болело б, если бы он справедливо поступал для нас; с другими, что хотел, пусть бы то и делал, честил бы только меня с тобою; так нет, ты служишь ему верою и правдою, а всё ведь никаких заслуг. Скажи мне, Василий, сделай милость, скажи по правде, думаешь ли ты когда-нибудь гетманствовать?..
Любовь Фёдоровна вперила в Кочубея чёрные свои глаза, и казалось хотела проникнуть во все, сокровенные мысли его сердца.
— Как Бог даст, Любонько!
— Как Бог даст!.. Так и бестолковый сумеет отвечать! Горе мне с тобою, да и только; не слушал ты меня в прежние годы, а давно бы Любоньку твою ясневельможною титуловали, давно бив твоих руках блестела булава... а теперь, вот и знай, судья да и судья, и будет с тебя... Ох! Ох! Ох!.. Василий, Василий, жалко мне и тебя, и себя, и детей наших!..
— Е-е-е! Любонько, чего ты ещё хочешь, скажи пожалуста? Кто с таким достатком, как мы, у кого всегда и хлеб и соль для добрых и честных людей ведётся... тебя и меня без гетманства все поважают... тебя и так все любят. Цур и век тому гетманству, — пусть оно Ивану Степановичу! Благодарен милосердному Богу, я и так всем доволен.
— Доволен! И гетманства не хочешь?
— Да!.. Да...
Кочубей покривился, почесал затылок и скоро договорил:
— Да... хоть и так, что и в гетманы не хочу! Которому гетману на добро пошло гетманство, и добром кончилось? Того сменили, того срубили, того извели, того сослали — хоть бы Самуйлович, то ли был не гетман и батько добрый! Как сыну родному добро мне делал... вот, по твоей милости... ох-ох-ох!
Любонька ощетинилась. Кочубей присел и замолчал, чуя грозу.
— Брешешь, Василий, как собака брешешь!
— Не брешу!
— Всё ты мне Самуиловичем своим колешь глаза... я этого не терплю... ну, что твой Самуйлович! Дурный был, так Бог и покарал его, тебе же я добра хотела... сам же всему виноват, да меня и попрекаешь... добро!.. Теперь я и не знаю, что после этого сказать... так после этого ты не муж мне, а я тебе не жена! — сердито сказала Любовь Фёдоровна.
— От чего так?
— От того так, что... ты не хочешь того, чего я хочу!
— Смешное дело!
— Тебе всё смешное!..
— Да как же ты хочешь, Любонько, чтоб я был гетманом, когда у нас есть гетман, ну, рассуди своею головою, что говоришь!
— Что ты кричишь, оглашённый, ну что ты кричишь!
У гетмана выучился! О... я не люблю этого… у меня держи ухо востро!..
— Да я, Любонько, не кричу!..
— Ну... ну... ну!.. Ты слушай, что я говорю, да на ус себе мотай!..
— Да слушаю!
— То-то!..
— Ты, Любонько, всё сердишься да сердишься!..
— Ну чего ты до гетмана ездишь каждый день, скажи мне Бога ради?..
— Да как же мне не ездить, когда я Генеральный судья!
— Если бы у тебя доставало в голове, заставил бы всех до себя ездить, и принимал бы гостей, как принимает гетман, или хоть и московские паны... а то все рассказывают, что Кочубей богатый да богатый пан!.. Не в том дело, моё серденько, и чумак богат и знатен... нет, ты заставь, чтоб все говорили о тебе, как о великом пане, знатном воеводе, — вот это другое дело, тогда послышат и в Москве, станут выбирать гетмана — и Кочубея вспомнят... Мазепа твой недолго погетманует, помяни моё слово: пока у него ведьма живёт, до тех пор он и счастлив; а пропадёт она, всё по-старому пойдёт, тогда не удержаться голове его на плечах... вот, и отдадут тебе булаву.
— Нет, Любонько, то не ведьма... а благочестивая душа!
— Знаю я этих благочестивых!.. Что лицо своё хусткою закрывает? Это ещё не благочестие, а с гетманом в одной комнате спит, где же благочестие?..
— Рассказывать всё можно, а доказать, так и не докажут! Присмотрись — увидишь, как гетман переменился с того часа, как она стала жить в Бахмаче; довольно того сказать, что гетман держит все посты и три раза в год говеет, а мы с тобою два раза, вот оно, и ничего кажется, а далеко отстали от гетмана; он везде строит церкви, а мы третий год собираемся свою поновить, да вот всё не соберёмся... вот наше благочестие!.. Спаси и помилуй, Господи.
— А ну тебя, иди отсюда и не мешай мне с Мотрёнькою отдыхать!
— То-то!..
Кочубей ушёл в сад и пройдя две излучистые просади, поворотил налево, вошёл в беседку, обвитую ярко-зелёным хмелем, и прилёг на дерновую скамью. Тысячи мыслей теснились в его голове, воспоминания о минувшем навели на душу его чёрную тоску. Живо представился ему Самуйлович — Кочубей вскочил; и, сидя на скамье, склонил голову, подпёр её руками, долго думал, тяжело вздыхал. Сердечная мука его выражалась отрывистыми речами с самим собой.
— Боже мой! Боже!.. Горе мне на сём свете... страшный сон я видел... уж не умру ли я?.. Я должен умереть! Да, я умру и скоро, положат меня в домовину... насыплют и надо мною высокую могилу... ох!.. Господи Боже мой!..
Лицо его приняло страшное выражение, сердце сильно трепетало в груди, он привстал и перекрестился.
— Умру... и что будет на том свете?.. Я страшный грешник... надо покаяться, пока живу ещё!..
Благая мысль покаяния недолго удержалась в душе его. Условия покаяния ужаснули его: вмиг представилась ему необходимость оставить всякий путь неправды и суеты и жить праведно; подеять все подвиги и труды покаяния, отречься от самого себя, подражать святым, — дыхание у него спёрло, холод пробежал по жилам, — ещё миг: и уже в глазах его играло сияние гетманской булавы, — кругом его паны, графы, бояре, — вот он беседует с королями — всё перед ним благоговеет — Любонька его всех принимает как царица, а сама такая важная! И говорит: «Мой Василий Леонтьевич — гетман, друг московского царя?»
Он начал успокаиваться, и мысли его остановились на славе гетмана.
— Да, если бы и я был гетманом... и я был бы в славе и почестях у царя и бояр. Даст Бог, Мазепа пойдёт на тот свет, и булава его будет в моих руках...
В беседку вбежала Мотрёнька; ей было тогда двенадцать лет: но уже необыкновенная красота лица её поражала всякого; мать и отец были от неё без ума.
Каждый день, а иногда и несколько раз на дню, мать сама расчёсывала чёрные, как смоль, густые волосы на голове Мотрёньки, приглаживала прелестные, тонкие дуги её соболиных тёмных бровей, целовала карие её очи, розовые губки, любовалась ею и не могла налюбоваться.
Мотрёнька и Василий Леонтьевич вышли из беседки в дом к приехавшим гостям, и дорогою разговаривали:
— Хотя бы ты, доню моя, моё сокровище, была гетманшею и то бы моё счастие!
— Гетманшею, пано?
— Да, серденько моё, гетманшей, я бы ручку твою целовал!
— Буду, пано, буду?.. Дай я тебя поцелую?
Мотрёнька бросилась на шею отца, обняла его своими ручонками и поцеловала.
— Твоя сестра Анюта счастлива, пошли Господь тебе ещё большаго!..
— Я люблю тебя, пано!
— Добре, душко!
Утром на другой день Любовь Фёдоровна вошла в комнату Мотрёньки, которая беспечно спала, — перекрестила её три раза, поцеловала глазки, губки и сказала:
— Вставай скорее, Мотрёнька, поедем в Бахмач к крестному отцу твоему.
Мотрёнька быстро приподнялась, перекрестилась, и в ту же минуту начала одеваться. Для неё не было радостнее того дня, в который она ездила к крестному отцу в Бахмачь, или когда сам Мазепа приезжал в дом её отца Иван Степанович любил свою крестницу, как доброе, послушное и умное дитя, любил и потому, что Мотрёнька была привлекательной наружности. Всякий раз, когда Мазепа приезжал к Кочубею, привозил крестнице разные лакомства, игрушки и другие подарки, когда же привозили её в Бахмач, Иван Степанович ничего уже не жалел для неё и нередко делал ей весьма значительные подарки. И поэтому-то Василий Леонтиевич и Любовь Фёдоровна считали себе за непременный долг, всякий раз, когда ездили в Бахмач и в Батурин, к гетману, привозить и Мотрёньку.
На этот раз Любовь Фёдоровна принарядила дочь в новую шёлковую кофточку, надела червонную плахточку, шёлковую с золотыми цветами юбку, повязала голову широкою и. длинною голубою лентой, в косу вплела до десяти разноцветных ленточек; сама Любовь Фёдоровна оделась в польское платье, — она позволяла себе, как знатная панн, изменять народный свой костюм; села в кибитку, взяла пшеничный хлеб и поехала с дочерью в Бахмач, поспешая застать обедню; однако же как ни спешили, а всё приехали после херувимской.
Вошли в церковь, гетман стоял у клироса и пел вместе с другими.
Налево у стены на коленях стояла девица, одетая в длинное простое бедное одеяние черницы; лицо под покрывалом; сложив на груди руки, она смотрела на образ Пречистой, и крупные слёзы катились по её щекам.
Любовь Фёдоровна внимательно смотрела на неё, ловила минуту — не отпахнётся ли покрывало, и думала:
— Фарисейка! Перед Богом, так и закрылась, чтобы видели все: «Воть-де я какая святая!» и чтобы ещё более привлечь к себе гетмана... гляди, ещё вздыхает... кажется, и плачет... утирается... не верю твоим слезам и твоим чувствам — недаром живёшь в Бахмаче!.. Сквозь покрывало вижу, какая ты красивая...
А девица истово молилась.
Кончилась обедня. Священник поднёс гетману просфиру: Мазепа, приложась ко кресту, принял святой хлеб. За ним приложилась к образам Любовь Фёдоровна, Мотрёнька потом, выждав других, и девица, — сдвинула уголок своего покрывала и, приложившись ко всем образам, подошла ко кресту и тотчас же опять закрыла лицо своё.
Иван Степанович, по обыкновению, принял дорогую куму с распростёртыми объятиями, крестницу свою несколько раз поцеловал.
Гетман пригласил всех бывших в церкви к себе перекусить. Любовь Фёдоровна более уже не видела девицы в церкви: та прежде всех вышла; несколько раз порывалась она спросить гетмана, что это за таинственное существо? Но никак не решалась, боясь рассердить Ивана Степановича.
Иван Степанович, взяв за ручку Мотрёньку, повёл её в комнату девицы.
— Посмотри, вот моя крестница; какая хорошенькая!
Девица, перекрестив Мотрёньку, поцеловала её, усадила подле себя и начала её расспрашивать: умеет ли она молиться Богу, читает ли священные книги, любит ли отца и мать? Делала ей наставления, вразумительно рассказывая, что будет за исполнение всех обязанностей христианских и что будет с грешниками.
Мотрёнька слушала её с величайшим вниманием; беседа девицы так понравилась ей, что она готова была остаться с нею целый день: она полюбила её; с первого раза они дружески расстались, девица на память подарила Мотрёньке кипарисовый крестик, привезённый ею из Киевской Лавры. Мотрёнька была в большом восторге.
В гостиной в то же время Любовь Фёдоровна говорила гетману о своей к нему любви и дружбе. Иван Степанович слушал её и в свою очередь доказывал, что нет в целой гетманщине люден, которых бы он так высоко уважал и так искренно любил, как Василия Леонтиевича, Любовь Фёдоровну и всё их семейство.
— Вы родные мои, как мне вас не любить; да ещё люди добрые, каких больше нет и не было у меня! Любовь Фёдоровна, мать моя родная, как мне тебя не любить, благодетельницу мою. Я тогда только и рад, и весел, когда сижу и говорю с тобою или с Василием Леонтиевичем.
— Иван Степанович, я не буду говорить тебе, как я и Василий Леонтиевич любим тебя, ты сам знаешь!
— Знаю, моя благодетельница, ей-же ей, знаю!
Отобедав у гетмана, Любовь Фёдоровна с Мотрёнькою уехали; вслед за ними разъехались и прочие гости. Черница во всё время не выходила.
— Гетман на языке, как на цынбалах, играет, а в душе его сам косматый сидит, — сказала Любовь Фёдоровна Василию Леонтьевичу, возвратясь из Бахмача, — целый день всё одно да одно твердил, что любит нас больше всех на свете, что мы ему самые ближайшие родичи, что он никого другого и знать не хочет, и, Господи Боже, воля твоя святая, чего ещё не турчал он... Да и я ему то же самое, а что на сердце у него и у меня! Что, как бы он да посмотрел в сердце моё!.. Того же и стоит гетман!.. Хотя, Господи прости, он и родич наш!..
— Нет, Любовь Фёдоровна, грех сказать, он любит нас; а Мотрёньку, так сама знаешь — родную дочку свою не любил бы так, как любит её.
— Это так, она его крестная дочь, а сестра её за племянником гетманским — чего же хочешь больше!
— Да оно так!
— То-то, что так! Черница, что живёт у гетмана, подарила Мотрёньке кипарисовый крестик, благословила её и научала, говорит Мотрёнька, Богу молиться.
— Видишь, это не какая-нибудь, знаешь, такая... что хоть бы и не знать!..
— Да так! Но для чего же она живёт в Бахмаче?
— Не знаем; на то воля гетманская!
— Полюбила Мотрёньку!..
— Спасибо ей!
— Да, спасибо! Просила, чтоб Мотрёнька приезжала к ней.
— В праздник и поедет, что ж; она её на добро учит.
— Так, так!..
И часто Мотрёнька ездила в Бахмачь с матерью и с Василием Леонтиевичем или даже — с самим гетманом, который, приезжая к куму своему, выпрашивал у него крестную свою дочь погостить в замке его на неделю и более.
Бывало, сядет Мотрёнька рядом со стариком гетманом в берлин и — дитя ещё, а старается уже придать лицу своему важность; она понимала уже гордиться тем, что поедет с гетманом в берлине, когда никто другой не удостаивался этой чести; и Василий Леонтиевич, стоя на крыльце и провожая гетмана, смотрел на дочь свою, радостно улыбался, замечая серьёзное лицо её, и думал про себя:
— Недалеко яблочко откатится от яблони! Молоденькая ещё, а уже все страсти матери... лихо с тебя будет... ну, да расти здоровая!..
И покатит берлин в Бахмачь, и всю дорогу Иван Степанович, по праву крестного отца, то и дело любуется, глядя на милое дитя, целует Мотрёньку в глазки, в ямочки розовых щёчек и прелестные губки, — и не нацелуется. Целовало и дитя старого седого старика, и незаметно для обоих мелькали грани да вехи, и берлин неожиданно подъезжал к высокому рундуку Бахмачского замка, и во всё время пребывания Мотрёньки в замке играет музыка, танцуют гайдуки, поют девчата, и гетман сердечно бывал весел и доволен сам собой. Утром Мотрёнька сидит в комнатах девицы, и гетман с ними же, девица читает Евангелие, они внимательно слушают. Мазепа тяжко вздыхает и часто крестится, — эта набожность его была непритворная.
Мотрёнька полюбила девицу, она во все продолжение пребывания своего в замке сидела с нею: часто, слушая музыку, глядя на танцы, Мотрёнька скажет, бывало:
— Тато, мне скучно здесь... пойду к ней?..
Приходило время уезжать Мотрёньке из замка, и не радостно садилась она в бричку; веселее, конечно, было ей, когда сам гетман отвозил её, в чём он никогда и не отказывал ей, если была только возможность исполнить её желание.
Одним вечером Мотрёнька уехала домой в Батурин, и гетман, простившись с нею в грустном раздумье, вышел в сад и сел под тенью трёх ясеней, из одного корня выросших. Деревья эти стояли у самого берега светлого Сейма. По голубому небу катилась луна и ярко светила. Иван Степанович, склонив голову на руку, начал прислушиваться к песенке, которую наигрывал вдали на свирели пастух. По Сейму скользили, одна вслед за другою, душегубки, рыбаки закидывали сети. Вдруг на одной из лодок он увидел сидящего монаха; это удивило его и привлекло внимание, он смотрит на лодку — лодка всё ближе и ближе приближается к саду, к тому месту, где постоянно причаливал гетманский челнок. Душегубку, в которой сидел монах, была уже у самого берега; Мазепа мог даже несколько рассмотреть черты лица инока; ему показалось, будто он где-то видел такого; но не мог вспомнить, кто именно и из какого монастыря был этот отшельник. Между тем гребец, не приставая к берегу, исподволь поворотил душегубку, проплыл поперёк реки — и скрылся в камышах.
Долго сидел Мазепа у берега, разгадывая, кто такой был монах, зачем и куда он поворотил.
На другое утро по обыкновению Мазепа пришёл к девице.
— Вчера я сидел в саду и видел, какой-то монах катался, что ли, в душегубке, но, не приставая к берегу, проехал мимо.
— Ты этого монаха видел?
— Видел, светло было.
— Молодой или старик?
— Старик, борода длинная и белая!
— Не знаком тебе?
— Кажется, где-то я видел его, не помню.
Гетман чрез минуту вышел из комнаты.
XV
Солнце зашло за синие горы; сумрак спускался на землю, вечерний ветерок разнёс запах медунки и других цветов; пастух, играя на сопелке, гнал с поля стадо, жницы возвращались в хаты, торопясь топить печки да вечерю и обед на завтра варить; обедают во время жатвы до восхода солнца, когда же старательной хозяйке успеть приготовить всё для обеда: не один же сварит борщ с капустою и салом! В огороде растёт пшеничка, а в хиже есть творог и сметана, и пшеничку можно сварить, и вареники приготовить.
Пришли в хаты, подпалили в печках, запылала солома, и дым жёлто-серыми густыми клубами заклубился из высоких плетёных труб, украшенных сверху вырезанными из дерева петушками. В Батурине повеселело: на улицах поднялся шум и гомон, где-негде бандурист заиграет на бандуре, и вокруг его соберутся девчата, начнут смеяться, запоют, их обступят хлопцы да парубки, вот и весело. А там под хатами соберётся громада, старые люди: деды да батьки поседают на колодки, обопрутся на длинные палки и начнут вспоминать про славные дела храбрых казаков запорожских, хвалить минувшие годы, и спокойно дымятся под носами их коротенькие люльки. Вот так бывало когда-то в Батурине, в столице гетманской.
У Генерального судьи Василия Леонтиевича Кочубея славный сад был в Батурине: берёзы, клёны, липы, яворы, дубы в три охвата, вязы, калина, бузок... и не перечесть всех названий деревьев, которые росли в саду; а цветов: розы, зинзивера, ноготок, пивонии, зирочек и всяких других, — девчат батуринских всех можно бы заквечать, и сад ещё был бы полон цветов.
Часто знатное казачество гуляло в саду Генерального судьи; он всем позволял гулять в саду, да Любовь Фёдоровна не такая была пани: сроду сердита, не любила простых людей, хоть и сама была не крепко письменна, да зато горделивая, — что же делать, и Василию Леонтиевичу доставалось от неё, часто бедный приглаживал свою чуприну, всё терпел, сердечный; другой раз и жаль было его, человек смирный, добрый, пан знатный и богатый, а что лучше всего, набожный: как только услышит, что благовестит в церкви, надевает жупан, берёт палку, шапку, да скорее и поспешает: не успеет ещё и ктитор прийти, а Василий Леонтиевич ставит свечи перед святыми иконами да кладёт земные поклоны; любили ж и его паны-отцы: кончится служба, смотришь, отец Гавриил или замковской Помпий сам несёт ему на серебряном блюдце великую, великую просфиру. Василий Леонтиевич возьмёт её, перекрестится, приложится к кресту и потом чинно выходит из церкви: казачество, в белых свитках, в червовых чоботах, подпоясанное красными поясами, кланяется низко Генеральному судье; все казаки знали его, да как же и не знать пана доброго, богатого, и после пана гетмана старшего в гетманщине; да к тому же ещё, часто бывало говорили люди, что после Ивана Степановича никому другому не приходится отдавать булаву, как Кочубею, да и сам пан под весёлый час проговаривался.
«Кому, кому, — думали казаки, — была бы тогда утеха, а Любовь Фёдоровна не знала бы, что и делать от радости; горда пани — себе на роду — хочется быть гетманшею, может статься и будет; что же, не диво: полюбят московские паны, так и всё, что захотела, то и сделают, — за примером далеко ходить не надобно: в Батурине есть мурованные будинки, а в будинках живёт Иван Степанович. Нехай ему легко сгадается».
Так рассуждали казаки, сидевшие под хатами; а в этот час Василий Леонтиевич и Любовь Фёдоровна сидели вдвоём на рундуке, который выходил на двор, и смотрели на возращавшийся с поля народ.
— Ох... Боже мой, Боже!..
— Чего тебе так тяжко, сердце моё!
— Так, душко!
— Скажи, серденько моё, чего в самом деле ты сумуешь?
— Ох... Боже мой, Боже, как же сердце моё не будет болеть, когда нашему нечестивому гетману с Москвы шубы за шубами, жупаны за жупанами шлют, да все шубы соболиныя, да с диаментовыми гудзяками, алым аксамитом покрытый; все говорят, что он такой теперь боярин, как был Голицын: голубая лента на жупане и цепь золотая с орлами, а титулов, Боже, Боже — и всё-то православный царь ему надавал.
— Царь, говорят, любит его больше всех в своём царстве; а если б знал царь, кого он любит!..
— Так, Любонько, за это и Бог не прогневается, когда мы будем говорить, что гетман не такой, чтобы любил его царь. Громада толкует, что Мазепа на беду всем снюхался с королём шведским и Станиславом Польским.
— Вот ещё, что запели! Я первый раз от тебя, Василью, это слышу.
— Так, так, моё серденько; я и сам не верил, да в Полтавщине был твой родич Искра, говорил мне об этом, был в тот час и поп Святайло, и тот подтвердил, сами они слышали от казака; мне поп Святайло сказал и прозвание того казака, да вот, дурная память, из головы вон... постой, вспомню... как, бишь, зовут этого казака... Петро Яценко, так-так, Петро Яценко, перекресть, богатый арендатор, и в Ахтырке есть у него аренды. Вот он и говорил, что часто казаки приходят в корчму, под весёлый час, напившись горелки, и начнут говорить про гетмана; один, что он слышал, будто гетман польскому королю хочет отдать гетманщину, другой шведскому — кому б то ни было, а всё он изменит православному Московскому царю.
— Молчи, Василию, до времени, да старайся всё проведывать потихоньку; а будет случай, так царю донесём.
— Ох, страшно, Любонько, Бог с ним совсем, ты разве не знаешь, что прав не прав казак, даже и чернец, а всем, кто слово сказал, что гетман недоброе думает, головы отрубливали да вешали тело на виселицах, а головы на шесты... давно разве это было?!
— Вешали и головы отрубливали тем, которые не умели как донести; будет время, я сама всё сделаю, ты только слушай меня.
— Добре, Любонько!
— То-то, добре! Ты, Василию, не забудь, что после Мазепы непременно булава должна быть в твоих руках; с этою думкою вставай и ложись спать, да Богу молись!
— Добре, Любонько!
— Будешь, говорю тебе, гетманом, хотя бы ты сам не захотел этого, так я есть у тебя, мне нужно, чтобы ты был гетманом, вот и всё!
— Добре, Любонько!
— Когда ты ездил до гетмана в Гончаровку, приезжал сын судьи Чуйкевич, и что ты себе хочешь, всё трётся да мнётся подле Мотрёньки; она-то и знать его не хочет, видеть его не может, а он так как индык перед индычкою... смех да и только; Мотрёнька знает: как будет батько гетманом, так не Чуйкевич женихом будет!.. О, моя дочка любит славу... люблю и я её за это, люблю.
— Мотрёнька, дочка моя, нечего сказать, славу любит; я сидел в шатре: Мотрёнька, да старшая дочка Искры, да Осипова, взявшись за руки, ходили по саду и рассказывают: Мотрёнька говорит: «Я бы ничего в свете не хотела, если б была за гетманом, тогда бы меня все поважали, в сребре да золоте ходила бы я, каждый Божий день червонный золотом шитыя черевички надевала бы, а намиста, Боже твоя воля! Какого б тогда не было у меня намиста; а что всего лучше, все знали бы меня в гетманщине, знали б и во всём свете: говорили бы: Мотрёнька жинка гетманская; короли ручку у меня целовали бы!» — а Искрина да Осипова все подтверждают ей, вот такия-то девчата! Да и ожидай от них добра: впереди матери невод закидают!!!
— Хорошо делают: умные девчата, знают своё добро!
— Ты, Любонько, говорила, что Чуйкевич подле Мотрёньки увивается?
— Я ж тебе говорю, как индык перед индычкою, бедная Мотрёнька места от него не найдёт.
— И дочка не скажет ему, что в огороде у нас Гарбузов растёт вволю.
— Да видишь ли, Чуйкевич ничего не говорит об весильи, а то давно бы в бричке его и не один и не два лежали бы гарбуза, да ещё с шишками, настоящих волошских!
— Правду сказать, если бы всем женихам Мотрёнькиным давать гарбузы, так в огороде у нас давно бы ни одного не осталось.
— Слова твои на правду похожи!
— Подумай, сколько уже женихов было, и всем то гарбуз, то политично откажем, и одни с гарбузами, другие с носами возвращались домой.
— Так когда-то было и со мною, пока я не вышла за тебя! — сказала Любовь Фёдоровна и покачала головою. — Ох, лета мои молодые, лета мои молодые, не воротитесь вы никогда! А как згадаю, когда молода была, так сердце надвое разрывается!
— Эх, Любонько, что прошло, то минулось!
— Знаю песню эту и без тебя, Василий! Когда бы Господь хоть на старости лет порадовал, чтоб булава была в наших руках!
— Не состарилась, Любонько, Господь Бог пошлёт ещё радость!
— Дай Господи! Да раз уже Мазепа задумал подружиться с поляками, шведами да татарами, то не будет долго гетманом!
— И я такой думки. Где Мотрёнька, целый вечер не видал её?
— Сидит где-нибудь под деревом в саду и поёт; с того часа, как Чуйкевич начал волочиться за нею, она как переродилась: с утра до вечера сумует да сумует.
— Так, так.
— Пойду, посмотрю, что она делает!
Любовь Фёдоровна вошла в сад и, переходя из просади в просадь, остановилась у самого спуска горы, где протекал прозрачный Сейм; полный месяц катился над рекою и, купаясь в волнах, осребрял их своим лучом. Послышалась песенка, Любовь Фёдоровна начала вслушиваться, ей показалось, что кто-то поёт у самого берега; тихо спустилась она к реке и видит: Мотрёнька стоит у самого берега, берёт посребренную месяцем воду на гребёнку, чешет против месяца свою чёрную густую косу и что-то тихо говорит.
Любовь Фёдоровна поняла, что делает Мотрёнька, и внимательно прислушалась к её словам.
Мотрёнька произнесла имя Ивана.
— Ага, вот как наши знают! — сказала Любовь Фёдоровна про себя, тихо взошла на гору и, пришедши к Василию Леонтиевичу, спросила:
— Знаешь, где Мотрёнька и что она делает?
— Не знаю!
— Против месяца, у берега косу чешет; полюбила Ивана, какого же — Ивана?
— Да это всё выдумки девичьи.
— Нет, Василий, не выдумки, не говори этого; ты не знаешь, она брала гребёнкою воду, в которой месяц купался, расчёсывала косу, — и как раз полюбит её тот, кого она любит; а кого не любит она, тому и свет будет не мил!
— А, Любонько! Не знаю! Не моё дело!
— Кто же тот Иван, у нас и гетман Иван, не он ли, чего добраго! — усмехаясь, говорила Кочубеева.
— Уж начала звонить!
— Чего звонить! Ты знаешь, Василий, что Мотрёнька Мазепу любит, если правду сказать, так больше, чем тебя! Ты ей родной батько, а Мазепа только крестный!
— То нам так кажется!
— Нет, не кажется!
Пусть здоровая будет, пусть любит кого любит! Будь он добрый, умный, достаточный человек, так и рушники подаём.
— Пора б уже, слава Богу, восемнадцатый год наступает; да десять, когда не больше, женихов с гарбузами отправила!
— Всё воля Его Святая!
— Поздно уже, пойдём, спать пора.
Василий Леонтиевич и Любовь Фёдоровна ушли.
XVI
Ходит по саду одна-одинёшенька Мотрёнька и жалостно поёт. Сядет под берёзою, склонит прелестную головку на белую ручку, смотрит на сорванную, только что распустившуюся розу и жалеет, что завянет она не на родной ветке; вздыхает, а сердце её плачет, горько плачет; невесело ей на свете и горя она не знает, слёзы льются из чёрных очей... пусть льются, сердцу легче, — ни мать, ни отец не увидят их, — не увидит их никто из людей, да и не засмеются...
Не сирота Мотрёнька, есть у неё отец и мать, знатные люди, — да что, они не помогут в её горе, сердце болит без милого: на что тогда и счастье, на что и самая жизнь, без милого всё могила.
Но где её милый, в какой стороне, не москвич ли белолицый со светлыми усами? — не потому ли Мотрёнька тоскует, что уехал он в Московщину, не ляха ли полюбила, что в красном аксамитовом кунтуше часто приезжал до гетмана? Видно, ляха! Ибо идёт Мотрёнька к гетману и радостно смеётся, надеется увидеть коханого... Но ляха не Иваном зовут; где же Иван, которого она полюбила? Ни отец, ни мать и никто не знает; а Мотрёнька всё горюет да горюет.
Три дня бедняжка сидела в саду, да тихонько, чтобы никто не видал слёз, плакала; три дня сильно тосковала;
встанет рано, помолится Богу, поцелует руку у матери и отца, тихонько отворит двери в сад, да была такая! И нет; мать спрашивает, где Мотрёнька? Из одной комнаты в другую пойдёт — нет дочери.
— В сад ушли панночка! — ответит девка, услуживавшая Мотрёньке.
— Плакать! Пусть плачет: как и я была молодою, плакала и я; пусть плачет, сердцу легче будет! — скажет Любовь Фёдоровна, сядет на диван, поджав под себя ноги, вяжет чулок, сидит молча и думает: как она будет угашать гостей на Мотрёнькиной свадьбе.
А Мотрёнька в саду, то песенку весёлую запоёт, то вдруг горько заплачет, то печально запоёт и засмеётся, но горько засмеётся.
— Когда бы я знала, когда бы я видела того Ивана, сама бы привела в церковь и поставила бы с дочкой в парочке, только б Мотрёнька моя не тосковала... жаль дочки, да что ж делать, не знаю я Ивана… а спросить не хочу, не скажет, сама я знаю; и ещё больше затоскует...
— А я знаю, какого она полюбила Ивана! — сказал Василий Леонтьевич.
— А какого, скажи, когда знаешь?
— Москалика!
— Так и есть; горе ж моё, горе, да тяжкое горе! Горе отдать за него Мотрёньку: повезёт, недобрый, в далёкий край, не повидят её больше мои старые очи, не прижму её к своему сердцу... горе, тяжкое горе! А подсунуть москалику гарбузец, затоскует моя дочка не так, как теперь тоскует; когда б знала, что москалика полюбит, лучше б в Батурине не жила; когда б знала, что будет так горевать, лучше б маленькою заховала. Кого бы ни полюбила, рада б отдать дочку, не за москалика!..
— Полюбила, да и разлюбит!
— Ты не знаешь девичьего сердца! — вздохнув, сказала Любовь Фёдоровна, и только было хотела пойти к Мотрёньке, как гайдук вошёл в двери и сказал, что приехал гетман.
— Вот тебе и снег на голову... и не ждали и не думали!
Василий Леонтьевич побежал надеть жупан, Любовь Фёдоровна вышла встречать кума.
— Здравствуй, добродейная моя кума, здравствуй, радости моей радость! Душа веселится, сердце несказанно торжествует, когда очи мои видят тебя, Любовь Фёдоровна!
Мазепа несколько раз с жаром поцеловал руку Любови Фёдоровны.
— Кум, дорогой кум, давно ты не был у нас, забыл нас, своих родичей; грех, ей-ей же грех... не люблю тебя за это!
— Мать моя родная, ей же-ей царские дела, ни день ни ночь покоя нет!
— Зачем же ты не бережёшь своё здоровье, ведь тебе не молодеть; а посмотри на голову, чуприну снег присыпал... куме, куме, бросил бы ты все дела да знал бы одного себя, есть у тебя и без московских приятели ещё повернее и получше...
— Всех, кума моя добрая, надобно любить: и врагов любите ваших, сказал Господь!..
— Да-ну, куме мой, брось ты врагов! На что их вспоминать, слава Богу милосердному, есть не враги; об них слово доброе сказать не в тягость.
Жупан Василия Леонтьевича лежал в шатре, разбитом в саду, он пошёл в сад — смотрит, Мотрёнька сидит задумавшись.
— Мотрёнька, крестный отец твой приехал, как тебе не стыдно сидеть да печалиться!.. Вот, постой, я всё расскажу гетману! — сказал нежно любящий свою дочь Василий Леонтьевич.
Мотрёнька побежала в дом, умылась, причесала голову; радость, как солнце из-за туч, просияла на обворожительном её личике, и она, как светлая звёздочка, вошла в комнату, где сидел гетман.
— Здравствуй, доню!
— Здравствуй, батьку!
Сказала, опустила пламенные очи в землю и, как маков цвет, покраснела, подошла к руке крестного отца, поцеловала её; Мазепа поцеловал крестницу в уста и посадил её подле себя.
Вошёл Василий Леонтьевич.
Гетман и судья поздравствовались, обнялись, поцеловались и сели.
— Буду жаловаться тебе, ясновельможный, на дочку твою.
— За что?
— Да смех сказать, — говорил Василий Леонтиевич, смотря на Мотрёньку, которая сидела как мёртвая, и поминутно то краснела, то бледнела.
— Ну, что? Говори, пожалуйста, куме; я как крестный отец, да ещё гетман, так не посмотрю, что она родная твоя дочь, а за что будет — пусть не прогневается... в Гончаровке у меня, сами знаете, сад густой, — смеясь говорил Иван Степанович, и украдкою страстно посматривал на Мотрёньку.
— Спроси, сделай милость, куме, какому она Ивану песни поёт! — сказала Любовь Фёдоровна. Мотрёнька как мёртвая побледнела.
— Ага, а что — дочко, ты думала, что мать ничего не знает? — сказал Василий Леонтьевич.
— Ну, доню, скажи мне правду, какому Ивану песни поёшь?
Мотрёнька молчала.
— Скажи, доню, или ты уже сердишься на меня и не хочешь отвечать!
— Никакому.
— Ей-ей неправда, доню, неправда; я сама слышала и видела, как ты и косу против месяца чесала!
Мотрёнька подняла свои чёрные глаза, посмотрела на мать, опять опустила их и ни слова не сказала.
— В москалика влюбилась, — сказала Любовь Фёдоровна.
— В москалика, в москалика, — подтвердил Кочубей.
— Нехай, доню, лихо москаликам, есть у нас свои Иваны, черноусые да красивые, люби, дочко, своих лучше.
— И я то же самое говорила ей — да вот беда, москалик приглянулся!
Мазепа засмеялся, взял Мотрёньку за голову, приклонил к себе и поцеловал её в уста.
— Я сам найду жениха, знатного воеводу или боярина!
Мотрёнька встала, едва могла удержаться, чтоб не заплакать, и ушла в другую комнату.
Недолго посидел гетман и уехал, прося Василия Леонтьевича и Любовь Фёдоровну посещать и не забывать его.
Гетман со двора, а Чуйкевич на двор. Мотрёнька увидела приехавшего и сильнее прежнего задумалась.
Гостя, как и всех гостей, Василий Леонтьевич принял радушно, Любовь Фёдоровна также была рада приезжему.
Позвали Мотрёньку, Чуйкевич в первые минуты смутился, потом пришёл в себя и завязался довольно весёлый разговор.
Любовь Фёдоровна говорила — как летом скучно в Батурине, нет ни свадеб, ни банкетов, негде повеселиться, а молодым потанцевать.
Чуйкевич утверждал, что скоро будет банкет у гетмана, Мазепа получил от царя шубы, соболи, аксамит, четыре села и пять деревень, в которых четыре тысячи девяносто пять душ и тысяча восемьсот семьдесят дворов. Знаем про милость царя-государя к нашему ясновельможному гетману, знаем и поздравляли Ивана Степановича, а когда будет банкет, так и повеселимся! — сказал Кочубей.
— За что ж подарил царь Ивану Степановичу столько сел и деревень? — спросила Любовь Фёдоровна.
— Чтоб не ходил на войну против шведов; царь бережёт нашего гетмана; кому не известно, как он любит его, хотя правду сказать, Иван Степанович... да что ж будешь делать... — Чуйкевич замолчал.
— Ну, ну, что же Иван Степанович? — спросила Любовь Фёдоровна.
— Да так, ничего! говорил Чуйкевич.
— Вот так, испугался! То-то все вы думкою богаты, а на деле так за стену прячутся, знаем вас!..
— Иван Степанович благодетель наш! — сказал Кочубей.
— Благодетель, истинный благодетель, я сам говорю!
Час был двенадцатый, в большой комнате приготовляли стол для обеда, Любовь Фёдоровна также засуетилась. Чуйкевич подойдёт к Мотрёньке, скажет ей два-три слова; Мотрёнька отворотится от него, пересядет на другое место; Чуйкевич тоже покраснеет и опять начнёт разговаривать с Любовью Фёдоровною.
— Что в такие жаркие дни делаете вы, Любовь Фёдоровна?
— Всё думаю, за кого бы дочку мою отдать замуж, да не придумаю; пора уже, слава Богу, восемнадцатый год; скорее из дома, меньше хлопот!
— Вот, женихов нет! — сказал Василий Леонтьевич.
Чуйкевич вздохнул, покраснел и, чтобы не заметили его смущений, начал закручивать усы.
Кочубей вышел из комнаты.
— Любовь Фёдоровна, мать моя, я давно хотел сказать... да всё не смею, — начал Чуйкевич, севши подле Кочубеевой, и поцеловал её руку, — да всё не смею, хоть сердце крепко, крепко болит... Ох!.. — он тяжело вздохнул.
— От чего у тебя сердце болит?
— Болит, крепко болит, Любовь Фёдоровна...
— Вот ещё, выдумал! Казак, посмотреть на него любо, а рассказывает, что сердце болит; пусть болит у дивчат, а не у вашего брата! Недаром же стыдно говорить тебе об этом!..
— А что, не от Мотрёнька ли болит сердце его? — спросил Василий Леонтьевич, войдя в комнату.
— Да — так, вы угадали, — пробормотал Чуйкевич.
— От Мотрёньки? — спросила Любовь Фёдоровна.
— Да разве не слышала, он сказал, что от Мотрёньки.
— Мотрёнька, что это значит!
— Не знаю!
— Давно ты полюбил Мотрёньку?
— Давно, Любовь Фёдоровна, мать моя родная!
— Ну что ж ты опустила очи-то свои в землю, дочко? Не сегодня, так завтра, а всё надобно замуж; целый век не сидеть в доме отца и матери, такое дело!
Так, так! — сказал Василий Леонтьевич довольно серьёзно.
— Вот жених сыскался, о чём же ещё думать.
— Воля ваша! — отвечала Мотрёнька, понимая мысли отца и матери.
Чуйкевич был невыразимо восхищен.
— Пойдём обедать, борщ на столе прохолонет! — сказала Кочубеева.
Все вошли в другую комнату, где был накрыт стол, и сели обедать.
— Ну когда так, надобно рушники готовить!
— А ты и не наготовила ещё? — спросил Василий Леонтьевич.
«Да кто же знал, что Господь Бог так скоро пошлёт жениха.
Приняли борщ, подали другие кушанья, разговор не прекращался ни на минуту; когда подали жаркое, Любовь Фёдоровна мигнула стоявшему подле неё гайдуку Ивану Иванову, гайдук усмехнулся, поняв знак Кочубеевой, и тотчас ушёл.
— Когда же ты думаешь, сынок, за рушниками-то приехать?
— Когда скажете!
— Это твоё дело.
— Да хоть через неделю.
В эту минуту Иван поставил на стол огромный печёный гарбуз.
— Вот так ещё, и гарбуз на закуску! — сказала Любовь Фёдоровна. — Кто же это постарался: я не приказывала печь гарбуза; это ты, Мотрёнька?
Мотрёнька смеялась и, закрывая лицо платком, сказала:
— Нет, не я, не знаю!
— Сегодня бы гарбуза не следовало подавать, да когда уже на столе, так нечего делать, будем есть.
Чуйкевич покраснел и догадался, для чего подан гарбуз, и, когда поднесли ему кусок на тарелке, не захотел есть.
— Жаль, что ты, сынок, не хочешь есть, а гарбуз сладкий; я страх как люблю печёные гарбузы.
Встали из-за стола, Чуйкевич взял шапку и, сколько его ни удерживали на вечер, уехал.
Целый день Любовь Фёдоровна, Василий Леонтьевич и Мотрёнька смеялись над Чуйкевичем.
— Скажи мне, сделай милость, кого же ты любишь, дочко моя?
— Никого, мамо!
— Неправда, не верю!
— Никого!
— Ивана, я знаю, да какого Ивана?
— Ни Ивана, ни Петра и никого!
— А плачешь отчего да печалишься!
— Так!
— Всё так!
— Пусть плачет и печалится; пройдёт всё! — сказал Василий Леонтьевич.
— Пусть плачет, я не пеняю, но говорю ей только одно: не забудет советы мои, счастлива будет; обождёт год-два, Бог подаст, в наших руках будет булава, тогда не Чуйкевич станет свататься, гетманская дочь, не судьи!
Мотрёнька ушла.
— Молода ещё, ничего не понимает! — сказал Кочубей.
— Известно, дивчина! Ей лишь бы скорее замуж, вот и всё!..
— Пусть обождёт, дождётся своего!..
XVII
Был двенадцатый час ночи; в Бахмачском замке все уже спали; тускло горели свечи в спальне гетмана. Иван Степанович сидел задумавшись в своей комнате; он велел позвать Заленского; его тревожило положение Польши, которой он был предан душой и телом; перед ним на столе лежал лист бумаги и на нём начерчена дума его сочинения:
Все покою щире прагнуть, А не в один гуж все тягнуть, Той направо, той налево, А все братья — то-то диво...Тихо растворилась дверь комнаты, гетман поспешно перевернул лист со стихами и торопливо оглянулся, за спиною его стоял Заленский в чёрном длинном плаще, сложив крест-накрест на груди тощие руки.
— Здравствуй, Заленский, один приехал или с Орликом?
— Один!
— Добре сделал! Ну садись, потолкуем ещё с тобой о давнишнем нашем деле.
Заленский сел.
— Вот, я написал думу, слушай.
Гетман взял лист и прочёл думу.
— Как тебе кажется, ясно всем будет?
— Понятно и убедительно, ясновельможный!
— Твоё дело стараться распустить её в народе, простым казакам, сердюкам и всем приверженным ко мне сказать: будто бы это я сам сочинил, а между тем, Заленский, пора нам, давно пора приниматься за дело; что пользы мне оставаться в подданстве московском, когда я сам могу быть царём... Справедливо, обстоятельства теперь не хороши, но переменятся, и всё дело на лад пойдёт, прежде всего надобно приготовить народ, особенно запорожцев; я думаю разослать в города и сёла верных сердюков и научить, чтобы они из-под руки говорили народу: что-де царь хочет запорожцев уничтожить, а когда будут сопротивляться, так всем отрубить головы; сказал-де, царь не терпит их и называет разбойниками, а не храбрыми лицарями. То же самое распространить и в гетманщине.
— Добре, дюже добре, — с полным участием, распахнутою душою сказал иезуит, — только же и трудно: дурный, дурный Хмельницкий! Всё дело испортил; взявши гетманщину в руки, не ссорься он с нами, дружись с королём польским, и только слово скажи: «я король русский!» — и был бы король русский! Побратался бы с королём польским: поделили бы землю: Москву бы Богдану в королевство Русское, а Ливонию, Литву, Пруссию, Венгрию, Молдавию, Турцию и Крым — королю польскому. Вдвоём они целый свет завоевали бы святейшему отцу нашему Папе; недоверки и схизматики русские грецкие и лютеровские и не почуяли бы, как пали бы к святейшим стопам, и было бы едино стадо и един пастырь, царство божие в боголюбезном Риме и во всей вселенной...
— Спасибо, Заленский! Королевство русское пошло бы в руки королевским детям, а мы с тобой и остались бы навеки: я — королевским казаком, ты — каким-нибудь сельским ксёндзом... Нет, господа иезуиты, неискусно вы за дело взялись... да и Унию не так бы я повёл: с Богданом nu уж чересчур пересолили. На его месте, я бы тоже пристал к Москве, а то, тут вы, святые отцы, да жиды, да польские паны, да короли, да турки, да татары, да москали — гетманщина чисто в пекле кругом! Пока-то дошло бы дело до королевства, всю бы испекли, как гарбуз; народ тогда и слышать не хотел о римской вере; не умели вы взяться, всех озлобили... У меня теперь другое дело... Нет, Заленский, не поддайся Богдан Москве, не справиться бы Украине, не гетманствовать бы и Мазепе, не беседовать бы с тобой о королевстве! Теперь гетманщина окрепла, побогатела, сама царство крепкое — сама потягается с Москвою: только бы не изменили ко мне своей дружбы короли польский и шведский, мои благодетели, да вы, отцы святые, так теперь мы лучше обделаем дела. Наше дело поджигать смуты бояр, стрельцов и народа; бояры за бороды да за жупаны готовы на всё, царь озлобил всех: во мне видят они посланника небесного, защитника их вековых обычаев и дедовских правов: дочек из теремов повыводил, жёнам лица открыл на сором снявши хустки, которыми они закрывались, как проклятая татарва да турковня; да ещё и курить тютюн всех заставляет, а на асамблеях танцевать!.. Ну, из Киевской Академии мы пустим в Москву ваших дельцов, иезуитских питомцев; царевич тоже поможет нам... Нет, Заленский, ты ещё худо понимаешь историю. Богдан добре посеял! Пора косить да жать. Москва уснула на гетманщине, как на смертном одре своём: только бы до поры до времени не пробудилась, тогда увидишь сам...
— Великий разум твой, ясновельможнейший; во всём воинстве святейшаго отца нашего нет тебе равнаго!..
— То-то же!.. Когда приготовим свой народ, нам нечего бояться; на всякий час я готов буду отдаться шведскому королю, а когда я буду королём, ты мой первый министр; сам для себя старайся, — видишь, Заленский, душа моя перед тобою открыта. Царю писать буду, что я его вернейший раб и нижайший слуга. Царь пусть шлёт нам дары, а мы все будем мотать на ус да ждать лучшаго времени, прийдёт погодка, вот тогда и покажем, что у нас было на уме и на сердце; одумается царь, да поздно будет; мертваго из гроба не вынимают, а до того времени, я преданнейший его гетман, униженный раб. Слава Богу милосердому, донести, думаю, некому, всех настращали, да, если бы и доносители явились, так дела не знают... Царь так уверился во мне, что тотчас головы доносчиков полетят на плаху. Чтоб не было приметно для народа, укреплять Белую Церковь, свозить туда в подвалы сколько можно более пороха и всяких снарядов; стараться, чтобы города полковые были слабо содержимы, пусть царь заботится укреплять Киев, не великая беда — Киев легко взять соединёнными силами, да шведы одни разгромят его в пух. Так, Заленский?..
— Так, ясновельможный! Истинно так!..
Не быть гетманщине под властью царя!.. Разве полковникам, старшине да и всем радостно слышать от Москалёв, что мы мужики, что мы рабы, — кому это сладко!?., Нет, Заленский, не быть гетманщине в верности и подданстве у Московского царя. Слушай, я тебе скажу, как он раз обидел меня: я был в Москве, обедали мы у Меншикова, царь обедал с нами, ты не видал, как мы до этого дружно жили; бывало, он поставит мне свою пригоршню, я налью её полную вина и выпью, потом подставлю ему свою, он также нальёт и выпьет, мы обоймём друг друга и крепко поцелуемся; ну-да и это не дело! Вот слушай, сидели мы за обедом у князя Меншикова, царь долго говорил о делах своих, хвалил тех из бояр, которые с радушием перенимают всё у немцев, шьют кафтаны на немецкий лад и бреют бороды... Не всем такие по сердцу были слова царёвы; Пётр видел и кипел от досады, а приятели, то а дело, поджигали, потом обратился ко мне и сказал: «Пора мне и до вас, казаков, добраться!..»
— Нет, царь, обожди, не пришёл ещё час тревожить гетманщину, — сказал я, покрутивши усы, го есть, знай наших. Пётр ещё больше рассердился, и как бы ты думал, мой зичливый приятель Заленский, что он сделал?
— Что ж, ясновельможный, мог сделать тебе царь!
— А вот что, как своего последнего гайдука схватил меня за усы, и закричал: «Пора мне за вас приняться!» — и ударил меня по щеке... меня ударил, Заленский!.. Слышал?.. Меня ударил по щеке царь! Мазепа сказал это сквозь слёзы и всем телом затрясся, глаза его пылали, потом он вмиг побледнел.
Заленский сдвинул плечи, обратился к образу, перекрестился и сказал: «Иисус Христос, помилуй нас!»
— Да, вот тебе, наша дружба до чего дошла!
— Ясновельможный, ясновельможный, святейшая глава римского христианства не потерпела бы этого, если бы в гетманщине было святое владычество её.
Мазепа тяжело вздохнул, покрутил свои усы и продолжал:
— Не думай, Заленский, чтобы именно с того часа я понял царя и замыслил отложиться от него — нет: в тот самый час, как Василий Васильевич Голицын отдал мне булаву, я взял её и задумал отстать от Московского царя; и вот, до сей минуты тешусь этою мыслию, сплю ли я, сижу и говорю с тобою, или с народом, или в таборе, или в Москве, или где бы я ни был, всё думаю об одном: отстать от Петра. Разве и я не могу быть другим Петром, разве гетманщина теперь не может быть царством, а я царём?.. Разве не достанет казацких сабель, чтобы забрать и Москалёв... всё может быть, — ты знаешь, у нас под боком ляхи, не любят Московского царства, шведа разозлили насмерть, татарин от перваго дня света Божьего воевал с Московиею и не забыл азовских походов, чего же ты ещё больше хочешь, чего мне думы думать!?..
— О, пошли Иисус Христос тебе царство, тогда от Рима через твою Московию проложим дорогу и в Швецию? Тогда истинное христианство, предстательством святейшаго Папы у апостолов Петра и Павла, прольётся по всему свету!
Мазепа, довольный словами Заленского, улыбнулся, слегка ударил его по плечу и продолжал:
— Так пошли, Господь, силу и единодушие казакам и всем дружелюбным с нами королевствам!.. Ты, Заленский, знаешь, что Польша передо мною, как былинка, гнётся, а Карлу я больше, нежели родич, перед Карлом вся Европа трепещет! Дульская отдаст мне свою руку и обещает княжество, но мало этого, Карл поможет на седую голову мою надеть корону... Ты знаешь, с нами и Франция заодно, а когда Франция, так и ещё найдутся другие короли, — говорю, — Европа страшится Карла, и что же после такой силы один — царь.
— Ничего, одной саблей, во славу святейшего отца можно взять Московию!..
— Так слушай же, настал час, пора приготовлять гетманщину, пусть в народе ходит слух, что я затеваю доброе дело: умные сами захотят этого, научат безумных, и всё пойдёт на лад, прощай.
Иезуит поклонился и ушёл.
Мазепа взял перо, бумагу и начал писать письмо к царю: «Не только в Сечи Запорожской, в полках городовых и охотнических, но и в людях, самых ближних ко мне, не нахожу ни верности искренней, ни желания сердечнаго быть в подданстве у Вашего Царского Величества, как я точно сие вижу и ведаю; для чего и принуждён обходиться с ними ласково, обходительно, не употребляя отнюдь строгости и наказания». Прочитав и исправив, гетман спрятал письмо и ушёл.
XVIII
Солнце показалось из-за синих гор, и утренний туман, покрывавший Батурино, как волны на море, — заклубился; громко защебетали по садам тысячами голосов птички, проснулись батуринцы; на улицах собирались с дворов коровы, и пастух, наигрывая на свирели, погнал стадо в поле; зашумели казаки, собираясь ехать на работы, и заскрипели возы под высоко наложенными снопами золотистого ячменя и колосистого жита. Горожанки с кошницами в зелёных с красными мушками байковых кофтах, спешили на базар; заблаговестили к ранней обедне, и в растворенные двери церквей проходящий народ видел горевшие свечи перед местными образами, останавливался у дверей храма и, с благоговением молясь, крестился.
В этот час девица, жившая в гетманском замке несколько лет, и смирявшая характер властолюбивого Мазепы, сидела у окна, обращённого в сад, поминутно крестилась и, казалось, была чрезвычайно неспокойна духом, гетман ещё спал. В Гончаровке было тихо; гайдуки и стража, вставшие рано, вновь беспечно дремали, одни у дверей, другие сидя на креслах, диванах и где попало; двери были все отворены и в комнаты был свободный вход и выход.
Долго сидела девица, потом вдруг встала с кресла, побежала в другую комнату и остановилась у дверей; через несколько секунд в комнату вошёл старец монах; в левой руке он держал небольшую медную тарелку, прикрытую чёрным воздушном, с вышитым посредине серебряным крестом, а под мышкою была у него книга для записывания подаяний на монастырь. Перекрестившись на иконы, монах обратился к девице и благословил её, девица поцеловала его руку.
— Благодари милосерднаго Бога, всё готово для твоего пути, собирайся — да благословит тебя Творён и сохранит Пречистая Царица Небесная от всякого зла и напасти!
Девица перекрестилась.
— Где же гетман, он обещал дать вклад в Печерский монастырь?
— Спит ещё!
— Пусть спит, я обожду; мне надобно видеть его сегодня, я больше не приду сюда, и чтобы отклонить всякое подозрение в побеге твоём, скажу ему, что сегодня же иду обратно в Киев. А ты через три дня вечером, как я тебе и говорил, выйдешь в сад к берегу, сядешь в челнок, казак привезёт тебя в деревню, оттуда поедешь с Богом, и никто тебя не узнает.
Девица молчала.
— Я и теперь приехал из деревни в челноке и хоть сейчас садись, всё готово, но лучше не спешить.
В это самое время внизу, у входа в дом, раздался чей-то громкий, знакомый голос. Девица затрепетала, отшельник также смутился, но перекрестясь, ободрился и сказал.
— Успокойся, Господь с тобою!
В комнату, где сидела девица и подле неё отшельник, вошёл, побрякивая саблей, в красном бархатном кунтуше, граф Жаба-Кржевеикий, приехавший полчаса назад с Волыни; увидев сидевших, он в первое мгновение остолбенел, побледнел и чуть-чуть не повалился на пол.
Девица всплеснула руками, бросилась перед образом на колени, едва успела оградить себя крестным знаменем и упала на пол почти без чувств.
— Юлия, ты ли это? — севшим голосом произнёс граф, уста его опять онемели, а взор неподвижно остановился на девице.
— Это ты, старик нищий, ты её сохранил?
— Я!.. Отвечал покойно старец, поднял Юлию и повёл её в другую комнату. Граф хотел идти вслед за ними, но тяжёлая дверь затворилась, старик запер дверь, вынул ключ, тихо свёл полуживую девицу с лестницы, ободрил её молитвой, и быстрыми шагами они вошли в сад и скрылись в густоте кустов.
Запертый в комнате, граф пытался отворить дверь, но усилия его были тщетны: он довольно громко просил слуг отпереть дверь, но всё спало беспечно и никто не слышал его просьб. Наконец, он застучал, требуя, чтобы отперли дверь, гайдуки в страхе проснулись, искали ключи и не находили; проснулся гетман. Пока шли эти сборы да суеты, времени много ушло; наконец, отперли дверь, граф бросился в объятия гетмана, поздравляя его с получением ордена, Белого орла, присланного от Польского короля Августа Второго. Граф Жаба-Кржевецкий вручил сам орден и грамоту. Мазепа был в неописуемом восторге и не знал, что ему делать; он, ежеминутно обнимая, целовал Кржевецкого, подтверждал клятвенно перед образом, что никому в свете не предан так, как предан Августу, потом разломил печать, вынул грамоту и громко прочёл. Она была писана на латинском языке. Прочитав рескрипт, гетман прослезился, поцеловал три раза грамоту и, обратясь к иконам, ударил три земных поклона.
Чрез полчаса, а может, более, когда гетман несколько успокоился, граф сказал ему.
— Ясновельможный гетман, от нетерпения обрадовать тебя я нарочно как можно раньше поспешил в твой замок, тихо вошёл, желая неожиданно предстать пред тобой, и когда вошёл в тот покой, там сидела в чёрном платье девица и чернец; девица мне знакомая, смею спросить: каким случаем попала она в твой замок?
— А, вижу, девица понравилась графу; но пусть сердце не кохает, она хуже всякой черницы, лице своё от всех закрывает, а нашего брата, как дьяволов, боится, скоро будет десять лет, а я ничего не добился от неё, — сказал, усмехаясь, гетман.
— Го, верно, ты не знаешь, кто она?
— То-то и дело, не знаю; каждый день я её спрашивал, и всё одно да одно — не скажу.
— Она дочь графа Замбеуша от казачки, родственницы Самуйловича, которую граф повесил на одном дереве вместе с собакою и жидом; а её хотел убить, но нищий старик, которого я также сейчас видел здесь, вместе с нею, спас её в подземелье, откуда они, вероятно, бежали.
Гетман со вниманием слушал Жабу-Кржевецкого и с любопытством расспрашивал об Юлии и нищем.
— Ты сам расспроси её, ясневельможный, она должна всё сказать...
— Да, теперь уже не скроет ничего от меня!
— Какая она красавица, и ты в самом деле…
— Ничего, ничего! — прервал его Мазепа. — Это строгая девица, хоть голову ей отсеки, для неё лучше, нежели поцеловать нашего брата.
— То редкая в мире красавица; не отпускай её в монастырь, а старайся лучше, чтобы она полюбила тебя, да от графа Замбеуша береги, а то, право, придёт к тебе, и если залучит в свои руки, на куски разорвёт, он поклялся это сделать. Граф рассказал всё, что произошло. Мазепа задумался.
Долго после этого говорили граф и гетман о Польше, о короле Августе I, Карле XII и царе Петре; потом разговор перешёл на Юлию. Граф просил гетмана, чтобы он приказал позвать её. Гетман хотел исполнить желание графа, приказал негру позвать Юлию, а сам любовался орденом, надевая его на себя; негр исчез и через несколько минут снова явился и жестами давал знать, что Юлию он не отыскал. Гетман не верил и приказал снова искать, но все старания были напрасны. Гетман искал сам, но нигде не было Юлии.
Тысяча предположений роилась в голове Мазепы, одно другого невозможнее: он не думал, чтобы Юлия бежала; десять лет она жила в Гончаровке, всегда почти имела случай бежать, но не пользовалась случаем; нет, она утопилась в Сейме, она испугалась графа Жабы-Кржевецкого и где-нибудь скрылась.
Как бы то ни было, но Юлии, научившей Мазепу благочестию, не было уже в замке. Полетели во все стороны вершники, искали, расспрашивали о бежавшей, но никто не видел, никто не знал, кого искали и о ком спрашивали.
Скрылась, как называли её гетманцы, благословенная душа! И с того часа характер гетмана изменился: на третий день после этого происшествия Мазепа повесил одиннадцать своих гайдуков и нескольких негров; гайдуков повесил, заложив железные крючки в рот за небо, а негров, привязав одних за левую, а других за правую руку или за одну из ног.
Граф Жаба-Кржевецкий, похваливший все эти распоряжения гетмана, скоро после этого уехал обратно, дела Польши призывали его в своё отечество.
XIX
Ладья, да ещё утлая ладья, застигнутая бурей среди моря, по воле порывов ветра бросается то в одну, то в другую сторону, то опять несётся вдаль, когда на мгновение утихнет разъярённая стихия, как будто бы для того, чтобы с новой непреодолимой силой покатить страшные седые валы и разбить ладью — живое подобие души Мазепы после того, как пропала Юлия.
Кто не испытал подобного лишения, тот не поймёт и состояния духа гетмана. В первые дни сердце старика ныло, грусть съедала его мысли, его радость, его самого, потом, от чрезмерного сожаления об утрате любимого предмета, им овладело отчаяние; с этим вместе рождавшиеся в воображении его новые планы казались возможными для того, чтобы возвратить утерянное, а с ним минувшую радость, и спокойно наслаждаться испытанным счастием. И вот гетман придумал, как отыскать бежавшую: он разослал во все стороны гонцов из приближённых к себе сердюков и компанейцев; отправил тайно для разведывания несколько десятков жидов, всегда готовых услужить ясневельможному; сам Заленский уехал в Киев, чтобы предупредить приезд старца и девицы, полагая, что она бежала с ним в святой город. Ждёт гетман, разослав посланцев, ждёт и не дождётся: тоска сильнее омрачает его сердце и душу, не даёт ему ни днём, ни ночью покоя, отняла у него и сладкий сон. Посетит ли его на минуту какое-то усыпление тоски, и он смотрит в окно, или сядет на лошадь, помчится в степь и высматривает, не покажутся ля где-нибудь знакомые всадники и с ними его прелестное существо... но дорога чёрною змеёю вьётся по полю, сливается вдали с синею далью, и не видно никого едущего по ней. Гетман вздохнёт, поворотит вороного коня и быстро помчится обратно, сядет в замке, задумается и никого не принимает к себе. Придёт ли от полковника вершник или от пана Кочубея, увидит его гетман в окно, смотрит на него и думает, не вестник ли радости? Но нет, не он! Вздохнёт Мазепа, и грусть, как разозлённая змея, сильнее прежнего начнёт травить сердце его ядом.
Не молод был гетман — а вот какое пламенное сердце было у него: он мог ещё любить, но не любил уже так, как любят юноши: чисто, пламенно, бескорыстно.
Через несколько дней посланцы один за другим возвращались без успеха; а через неделю собрались все, приехал и Заленский из Киева; но беглецов не было. В народе разнеслась молва, что девица, жившая в Гончаровке у гетмана, утонула; миль за пять от Батурина волны выбросили почти истлевший женский труп: этого достаточно было для уверения гетмана и всех прочих в истине носившихся слухов.
Однажды, когда гетман был крайне скучен, приехал к нему сын Генерального судьи Чуйкевича.
Мазепа давно знал намерение Чуйкевича жениться на Мотроне Кочубеевой.
— Приехал к тебе, ясневельможный гетман, помоги в моём горе, ты один в целом свете можешь осчастливить меня.
— Ну, что же, ты знаешь, пан Чуйкевич, что я больше всего люблю помогать и делать доброе для других, когда только сил к этому достаёт у меня.
— На этот раз, ясневельможный, достанет, одно слово твоё — и я первый счастливец в мире.
— Чего же ты хочешь от меня?
— А вот чего: гетман, сердце моё любит дочь Кочубея Мотрёньку, твою крестницу, я хотел свататься, а мне подвезли гарбуза.
— Ха! Ха! Ха!.. Гарбуза?.. И славного гарбуза?.. — спросил Мазепа, радуясь этому случаю. — Ну я скажу тебе, пан Чуйкевич, если бы не ты говорил, что Кочубеевы дали тебе гарбуз, никому другому не поверил бы я!..
— Ясневельможный, я приехал к тебе просить о моём счастии...
— Так, пан Чуйкевич, так; но что ж буду я делать, ты сам скажи, научи меня, что делать, и я исполню твою просьбу.
— Слово скажи за меня Любови Фёдоровне, вот и всё, и Мотрёнька моя.
— Добре, скажу, как только поеду, я на всё готов, лишь бы ты и отец твой были счастливы; вы знаете, как я вас люблю!
Чуйкевич низко кланялся.
— А скажи по истинной правде, болит твоё сердце за Мотрёнькою?
— Болит, крепко болит.
— Гарна ж, правду сказать, дочка моя, не одно твоё болит сердце от неё...
Чуйкевич вздохнул, Мазепа тоже.
— Положись на меня да молись Богу, так и счастлив будешь.
— Осчастливь, ясневельможный, Христом Богом молю тебя!
— Добре, добре!..
Обнадеженный Чуйкевич уехал от гетмана, мечтая о будущем счастии. Мазепа, в свою очередь, представляя себе красоту Матроны, подумал: может ли Чуйкевич любить Мотрёньку так, как я её любил, если бы она была моя жена... не быть ей за Чуйкевичем, — дочка моя славолюбива, как и мать её, а Чуйкевич что ей за пара?..
Мазепа покрутил усы, пригладил поседелую чуприну и подумал: «Гарна, крепко гарна! Прижал бы я тебя до своего сердца... да боюсь, чтоб люди не знали! А любил бы я тебя, как никто в мире не любил бы... ничего, что у меня седая чуприна, да сердце молодо и горячо!..»
После побега Юлии Заленский получил большую силу и влияние на гетмана, какого он даже не имел в прежние годы; теперь ректор Винницкий стал министром, искренним другом и братом Ивана Степановича. Заленскому хотелось казнить полковников Палия и Самуся, воевавших в Княжестве Литовском, за православную веру — князь Радзивилл отнимал у православных церкви, монастыри и отдавал униатам: мучения в это время поборников православия были велики: униаты, как и в стародавние годы, откупали церкви, не дозволяли крестить детей, погребать умерших, совершать браки и отправлять другие утешения церкви.
Храбрость и успехи Палия и Самуся были не по душе иезуиту: он каждый день просил Мазепу обвинить их и казнить. Мазепа слушал его, писал царю доносы, клеветал на обоих, особенно же на Палия, у которого было большое богатство в Белой Церкви. Приехавши в Бердичев, Мазепа пригласил к себе полковника Палия на банкет, напоил его до бесчувствия; сонного заковал в кандалы и кинул в подземелье, в страшную тюрьму, потом измученный лихой полковник отправлен был в Москву, оттуда в Сибирь.
Белая Церковь со всеми сокровищами досталась сребролюбивому гетману.
Вслед за этим начались вновь казни и пытки; зверство Мазепы, укротившееся присутствием Юлии в Гончаровке, раскрылось с новою силою и ярости го, кровь невинных полилась широкими ручьями в городах и селениях гетманщины, ропщущий народ, как бурное море, зашумел. Гетману было не до народа, в уме его давно зрела мысль об отложении гетманщины от Московского царя, поэтому он не вслушивался в ропот, слагал все беды на царя и занимался осуществлением тайной своей мечты.
Заленский то и дело ездил то в Польшу, то в Швецию, то в Крым.
Народ узнавал это и заговорил, что Мазепа недоброе замышляет; но голос гетманцев не слышен был царю: Петра все уверили, что это одни козни недоброжелателей гетмана, и царь беспредельно верил в непоколебимую верность Мазепы.
Мазепа думал об измене и думал о женщинах — два предмета, которые никогда не оставляли его. Сердце Мазепы не могло жить без любви порочной. Чуйкевич приездом и просьбою своею навёл гетмана на мысль, самому искать любви своей крестной дочери. Старик воспламенился и начал мечтать о красоте Мотрёньки.
Куда ни поедет, что ни делает, везде преследует его очаровательный образ крестницы пламенное воображение Мазепы ещё более распаляло его сердце движениями горячей любви.
Демьян, гайдук гетмана, был в Батурине, заезжал к Кочубею нарочно, по приказанию гетмана, узнать о здоровье его семейства. Приехав обратно в Бахмач донёс Мазепе, что Василий Леонтьевич и Любовь Фёдоровна здоровы, а Матрона Васильевна с какою-то родственницею уехала утром в Диканьку. Услышав это, Мазепа хотел было в ту же минуту сам ехать вслед за нею и как будто нечаянно встретиться ей на дороге; но рассудив, что такой поступок легко может испортить всё дело, послал нарочного гонца с письмом:
«Моё серденько, мой квете рожаный!
Сердечно на то болею, что недалеко от мене едешь, а я не могу очей твоих и личка беленького видеть; чрез сие письменно кланяюся и все члены целую любезно».
Прежде этого ещё Мазепа часто говорил Мотрёньке, что ей следует быть гетманшей, или в Москве или Польше графиней или княгиней.
Мысль эта утвердилась в сердце честолюбивой девицы и ни на минуту не оставляла Мотрёньку, подобно как не оставляла она и её гордую мать. Мотрёнька готова была на все жертвы, лишь бы только осуществилось предсказание крестного отца. Проходили годы, эта мысль усиливалась, возрастала в сердце её, и, наконец, когда Мотрёнька расцвела, как украинская роза, мечта быть женою графа, князя или гетмана, что казалось удобнее и лестнее всего, убивала её и отравляла прекрасные дни светлой и счастливой её юности. Мотрёнька часто видела польских графинь: блеск и жизнь их прельстили её, очаровали её пылкое воображение, распалили её самолюбие, и она бессознательно предалась на волю своего страшного влечения, не могла противостоять ему, и что же? Переменилась так, что отец и мать не могли узнать её: румянец, до этого игравший на щеках, увял, как увядает от зноя роза; бледность и постоянная задумчивость заменили весёлую улыбку и привлекательную беспечность, выражавшуюся в её прекрасных очах.
И в то же время Мотрёнька была покорна, послушна, внимательна ко всем; и казалось, что в сердце её не только нет гордости, но оно совершенно её не знает. Вот как всегда притаиваются в душе человека бунтующие страсти, чтобы в своё время с новым порывом и непреоборимою силою восстать против всех святых чувств сердца и поглотить их в своей чёрной толще и потом безнаказанно начать Господствовать в душе честолюбца.
Мотрёнька получила письмо Мазепы по приезде своём в Диканьку; с первых дней жизни своей она знала, что Мазепа любит её — сомнениям в юном сердце не было места, и потому письмо Ивана Степановича несказанно обрадовало её, десять раз она читала и перечитывала его, прятала и, опять вынув, читала в сотый раз, и на опечаленном лице появлялась улыбка. — Мотрёнька ездила в Полтаву к родственнику своему полтавскому полковнику Искре, заезжала к любимому отцом и матерью её священнику церкви Спаса, Ивану Святайле, была и у других знакомых, и везде весёлость не покидала её. Возвратившись в Диканьку, Мотрёнька приискивала средство увидеться с крестным отцом: заехать к нему на обратном пути в Батурин — не по дороге; да при том отец и мать с некоторого времени перестали отпускать её к гетману, под предлогом, что она невеста и стыдно ей ездить одной в Гончаровку. Хотя это ещё более опечалило Мотрёньку, но она умела скрыть от отца и матери горькое состояние своего влюблённого сердца; много мыслей промелькнуло в голове её, и, наконец, она решилась заехать к крестному отцу на обратном пути в Батурин. С этой минуты часы казались ей днями, а дни месяцами: томительно было для неё ожидание той минуты, когда пред глазами её будет гетман. Мечты, сладкие мечты успокаивали её на несколько мгновений, и потом, когда она переходила к действительности, ей было ещё тягостнее: грусть сильнее язвила душу, и тоска, словно чёрная змея, свернувшись около сердца, сжимала его.
Между тем время летело быстро вперёд и вперёд, не спрашиваясь никого, как лететь; и день выезда Мотрёньки из Диканьки в Батурин настал.
Мотрёнька пела, шутила, играла и веселилась в дороге, ей скучно было только то, что бричка медленно подвигалась, но мысли девичьи были уже в замке Мазепы.
Кончалась дальняя дорога, и утром на третий день Мотрёнька увидела перед собою вдали синевшиеся горы и чёрный лес, направо ярко-зелёные камыши, росшие по берегу Сейма, налево белые хаты Гончаровки; в стороне от них — высокий белый замок Мазепы; сердце затрепетало; девушка дрожала не от страха и не от радости, да и сама она не знала от чего; кровь ударила ей в лицо: Мотрёнька покраснела, мысли смешались, и она не знала, поворотить ли в Батурин или ехать налево в Бахмач? Рассудок громко говорил, чтобы она поворотила в Батурин; тщеславное сердце опровергало рассудок; Мотрёнька приняла совет сердца, и бричка покатилась по излучистой дороге в Бахмач. Вот она уже во дворе гетманском... вот мгновение и — Мотрёнька в замке: она боялась взглянуть на окна — ей страшно встретить взор гетмана, ей страшен и сам он... вот уже она раскаивается, зачем не поехала в Батурин — и в эту же минуту бричка останавливается у крыльца, Мотрёнька проворно вскочила на рундук и опрометью побежала в дом.
Вышедшие навстречу гайдуки проводили её в покой гетмана.
Иван Степанович читал письмо Дульской, полученное им за несколько минут до приезда крестницы, он был очень весел. Неожиданный приезд сначала приятно изумил его, потом он пришёл в восторг: обнял её, целовал в голову, в уста, в очи, усадил подле себя, взял её ручку, поцеловал, приложил к своему сердцу, долго глядел в пламенные очи её и потом нежно спросил:
— Доню, любишь ли ты меня?
Доня покраснела, опустила чёрные глазки в землю и молчала.
— Доню, скажи мне, любишь ли ты меня, скажи по истинной правде?
— Не знаю! — тихо прошептала Мотрёнька.
— А я тебя люблю, и знаю, что люблю. Моё серденько, мой квете рожаный, как мне тебя не любить! Серденько моё, серденько, люблю тебя, щиро люблю, за что ж ты меня не любишь?
— Разве я говорю, что тебя не люблю!..
— Ты сказала, что не знаешь!
Мотрёнька молчала.
— Чего ты скучна и невесела, доню?
— Так!
— Всё так да так; когда ты любишь меня, скажи мне, чего так сумуешь?
— Не знаю!
— Скажи, доню; ты знаешь меня, я всё сделаю для тебя.
— Боюсь, чтоб не было мне за то, что приехала к тебе! Матушка не хочет, чтобы я приезжала одна в Бахмачь.
— Плюнь на это, доню, и не печалься: кто будет знать, что ты заезжала ко мне. Я скажу твоим людям, чтоб и пикнуть не смели, когда будут спрашивать их заезжала ли ты ко мне. Отец и мать и знать не будут; добре, доню, сделала, что заехала; я знаю, со мною веселее тебе, нежели с твоими старыми... так, доню?..
— Так! — тихо отвечала Мотрёнька.
— Ты же, ты любишь меня?
— Люблю!
— Ну, поцелуй же меня!
Мазепа поправил свои длинные седые усы и жарко поцеловал Мотрёньку.
— Добре бы нам, доню, было, если бы мы не разлучались с тобою, как голубь с голубкою! Ты меня любишь, я люблю тебя, чего ж больше, какого ещё счастия искать нам в свете! Ах, доню, доню, не один тот любит, у кого усы и голова чёрная, — у меня, как у старого орла, белая голова и усы седые, а сердце горячее; молодой, десять раз полюбит и сто разлюбит, а я так нет: когда ты была дитя, я любил тебя, и пока жив — не перестану любить!.. Доню, ты плачешь! Стыдно, доню, плакать!..
— Я не плачу! — отирая слёзы, отвечала Мотрёнька.
— Нет, плачешь; отчего же ты плачешь?
— Так!
— Когда бы, доню, я знал, что ты любишь так меня, как я люблю тебя, тогда бы я счастливейший был в свете человек; доню, не хотел бы и гетмановать, если бы ты была со мною неразлучна.
— Нет, гетмануй.
— Ты хочешь разве, чтобы я старую голову свою прикрывал гетманской шапкой, тебе не нравится седина моя? — усмехаясь, сказал Мазепа. — О сердце моё, я кохаю тебя, душко моя, кветка моя червонная! Говорю тебе, для меня ничего нет милейшаго в свете, как ты, моя милая доню, цветок мой роженый...
Мазепа задумался. Мотрёнька пристально смотрела а его лицо; казалось, она проникала чёрными глазами, отуманенными влагою, в сокровенные думы гетмана. Мазепа покачал головою и отрывисто сказал:
— Слушай, доню, я скажу тебе великую тайну...
Он повернулся к ней.
— Я давно... давно уже...
Он недоговорил и отворотил лицо своё в сторону.
— Что же давно?
— Давно уже... люблю тебя, доню.
— Нет, ты мне что-то другое хотел сказать!
— Ничего другого.
— Нет — скажи, таточку.
— Что же я тебе скажу?
— Скажи, что хотел сказать… какую великую тайну?..
— Да не знаю, доню, что сказать!
Мазепа поцеловал её в голову.
— От тебя не уйдёт твоё! Скажи только, скажи ещё раз, верно ли ты любишь меня?
— Верно!
— Дай же мне свой перстень.
— На!
Мотрёнька сняла с руки небольшое колечко с бирюзою и подала Мазепе. Гетман поцеловал пальчик Мотрёньки, на котором было надето кольцо, и вышел. Мотрёнька встала со своего места, подошла к круглому зеркалу в позолоченных рамах, висевшему на стене, посмотрела в него, поправила волосы и, разглядывая пылавшие щёки свои, подумала, «как пристало мне быть гетманшею!» — улыбнулась и поспешно отошла в сторону, чтобы гетман не заметил её движения.
В комнату вошёл Мазепа.
— Вот тебе, доню, на память диаментовый перстень; но клянись, что будешь любить меня.
— Клянусь!
— Вечно будешь любить?
— Вечно.
— Дай ручку, сам я надену на память тебе перстень.
Мотрёнька подала руку, Мазепа надел на палец её драгоценный бриллиантовый перстень.
— Обними же меня и поцелуй.
Мотрёнька обняла и поцеловала старика гетмана.
— Прощай, боюсь сидеть дольше, поеду домой!
— Прощай, доню, не хотелось бы с тобою разлучаться... да что же делать, настанет час, когда никто уже не разлучит нас.
Через несколько дней по возвращении Мотрёньки в Батурин Любовь Фёдоровна проведала, что Мотрёнька заезжала к Мазепе.
— Доню, хорош собою твой крестный отец? — насмешливо и со злобою спросила Любовь Фёдоровна Мотрёньку.
— Хорош! Добрый тато, — спокойно отвечала Мотрёнька.
— Не даром же ты заезжаешь в Бахмачь!
Мотрёнька покраснела и смутилась.
— Ты думала, что я ничего не знаю; нет, дочко, только ты так думаешь, а мне всё известно!
— Да что же, мамо, я была у него... ведь он не жених мой, а крестный отец.
— А почему знать, может, и женихом будет! Вы что-то недаром друг с другом воркуете.
— Нет, мамо!
— Да так, доню!
— Нет, не так!
— Как ты себе там хочешь, а с этого часа я йога твоя не будет в доме Мазепы.
— От чего так, мамо?
— Так!
Любовь Фёдоровна рассердившись ушла. Мотрёнька села, склонила голову на руку и задумалась; тысячи мыслей одна за одною сменялись в голове её; наконец она посмотрела на небо, усеянное маленькими облачками, и подумала:
— Счастливое облачко, оно теперь висит над головою гетмана, видит его... а я, я здесь одна сижу и горюю, зачем я не птичка, зачем у меня нет крыльев, тогда бы я полетела в его сад, села бы на куст против окон и запела бы, сладко запела, заслушался бы он, а я смотрела бы на него... пристально смотрела, зачем я не птичка... зачем не облачко!..
Дни улетали, Мотрёнька по-прежнему была задумчива и грустна; целые дни проводила она в саду; иногда пела песни, нарочно для неё сочинённые Мазепою, пела и боялась, чтобы не услышала её мать: она стала скрывать свои чувства и свои мысли от неё! В сердце её, прежде ещё зародившееся чувство, недостойное прекрасной души её, возросло быстро — чувство самолюбия; и с каждым часом, с каждым днём нежная любовь её к матери угасала; её советы для неё были крайне неприятны и ещё более раздражали пылавшее сердце. Отец безгранично любил дочь и часто уговаривал Любовь Фёдоровну, чтобы она была нежнее к своей дочери; но Любовь Фёдоровна начинала тогда кричать, сердилась на отца и на дочь. Василий Леонтиевич скорее уходил в сад, Мотрёнька следовала за ним и они друг друга успокаивали. Мотрёнька любила отца более нежели мать: конечно, самолюбие не может мириться с чужим самолюбием.
Не было случая видеться Мотрёньке с Мазепою: а сердце её сильно болело; неизвестность, как чёрная немочь, томила её. Гетман, в свою очередь, страдал, не получая никакого известия от крестной дочери. Вот он схватил бумагу и написал.
— «Моя сердечне-коханая Мотрёнько!
Поклон мой отдаю вашей милости, моё серденько; а при поклоне посылаю вашей милости гостинца: книжечку и обручик диаментовый; прошу это покорнейше принять, а мне в любви своей не отменно хранить; даст Бог, что лучшее ещё подарю, а за тем целую уста коралловые, ручки беленькие и всю тебя, любезная, коханая».
Письмо и подарки были доставлены Мотрёньке карликом, привёзшим вместе с этим к её отцу гетманские универсалы.
«Отвечать или нет? — спрашивала сама себя Мотрёнька. — Напишу к гетману, и, не дай Бог, письмо моё попадётся в руки матери, что тогда делать мне, несчастной? Нет, лучше так скажу карлику, прикажу ему передать на словах поклон гетману и попросить, чтоб приехал к нам; а не придёт, так, может быть, найду случай, сама как-нибудь приеду к нему, только не в Бахмачь, а в Батурин, когда гетман приедет в город».
Побежала в сад, спустилась по горе, и через калитку выбежала к плотине, которой должен был проезжать карлик.
Вот он стоит с нею, и Мотрёнька, с беспокойством оглядываясь кругом, передаёт ему свои мысли; — кончила и, как лёгкая серна, убежала от него и скрылась в зелёных кустах сада.
Не пройдёт дня, чтобы мать не упрекала дочь в любви к гетману; и если бы ещё упрекала наедине, и притом с ласкою и материнскою нежностью советовала бы дочери беречься хищника, который как раз заклюёт непорочную голубку, представляла бы ей весь ужас положения, в которое она может быть ввергнута чрез любовь к гетману... Но Любовь Фёдоровна была не такая: брань, крики, угрозы, проклятия — поминутно преследовали Мотрёньку; и в добром нежном сердце дочери сильно поколебалась святая любовь к матери: она именно начала стремиться к тому, что мать запрещала ей. Конечно, прежде была явная грусть, на которую и Любовь Фёдоровна смотрела равнодушно и оправдывала, говоря: «пусть плачет и горюет, и я плакала, когда была молода и моё сердце любило»... Теперь Мотрёнька не грустила более при матери — она хотела казаться весёлою и успевала в этом; между тем отец, тихонько пробравшись в сад, в поздний час вечера, сядет недалеко от берега на пригорке и начнёт вслушиваться в грустные песни дочери; песни эти прельщали старика — он слушал и вспоминал минувшие годы, когда был с гетманами на войне... и сладки ему были эти воспоминания.
— Доню моя, доню, ты скучаешь, ты так печально пела, я слушал тебя, и сердце моё плакало! — говорил Василий Леонтиевич, подойдя к Мотрёньке, сидевшей под деревом на том месте, где сквозь ветви синела даль и в ней скрывался Бахмач. Бывало, поцелует её в голову, Мотрёнька поцелует руку отца; он сядет подле неё и просит спеть ещё какую-нибудь песенку, и Мотрёнька грустно запоёт, запоёт и заплачет, — призадумается и Василий Леонтиевич, не зная и не постигая смысла песней дочери, и тоже прослезится.
Мазепа хорошо постигал сердце женщин; победа над каждою из них для него не была трудна: он в этом деле был даже более, нежели гетман на войне. Мазепа ходил по комнате скорыми шагами, закинув руки за спину, в стороне от него стоял иезуит Заленский и говорил о доблестях короля шведского, о доброте короля польского, и представлял стеснительное положение гетманщины. Мазепа не слушал его и время от времени оборачивался к нему с отрывистым: «что?» — и, не расслышав Заленского, отвечал: «Да, правда, правда!», — а в уме своём придумывал верные средства, как привесть в исполнение давным-давно задуманное.
Но многое ему мешало, мешал и Генеральный судья Кочубей. Зная, что жена управляет мужем и что Любовь Фёдоровна тайный враг его, — Мазепа всем сердцем желал погубить семейство Кочубея, обдумал план, план, достойный его адской злости, и старался привесть его в исполнение. Он знал, что Кочубеевы, чрез его погибель, домогаются гетманства; рассчитал на самолюбие дочери и матери, погибель отца, и поэтому решил продолжать свою, впрочем, не притворную, любовь к Мотрёньке, стараясь этим путём узнавать задушевные тайны Кочубеевых, и поджигать мать, которая с некоторого времени смотрела на привязанность Мотрёньки к Мазепе, как на начало позорной любви: она не догадывалась, что сама стремилась в сети, искусно расставленные для неё коварным Мазепою.
— Слушай, Заленский, я хочу послать сегодня вечером в сад Кочубея с письмецом до Мотрёньки... как ты думаешь, кого бы послать?
— Мелашку, о то пройдоха... то такая, что кpiй Боже!
— Мелашку — черноокую?
— Да!
— Ну добре, позови её сюда.
Заленский исчез, и через пять минут в комнату гетмана вошла Мелашка в белой суконной свитке с красным манисгом и дукатами на шее, с повязанною на голове розовою лентой и в красных сафьяновых сапогах. Мелашка в пояс три раза поклонилась гетману.
— Мелашка, ты гарная дивчина, я знаю; слушай, по вечерней зореньке пойди в сад Насилия Леонтиевича и отдай так, чтоб никто не видел, это письмечко Мотрёньке.
— Добре!
— Ну я тебе, как отдашь, куплю красную шёлковую ленту.
— Спасибо! — Мелашка поклонилась в пояс.
— Ну, иди же.
Мелашка ушла. Гетман скоро лёг в постель.
Вечером Мотрёнька, по обыкновению, гуляла в саду, и едва только успела сесть на пригорке против реки, из тёмного калинового куста тихонько вышла Мелашка, подошла к испугавшейся Мотрёньке и подала ей письмо Мазепы; проворно схватила его Мотрёнька, развернула и, приказав Мелашке спрятаться в кусте, начала читать:
«Моё сердечне коханье!
Прошу и очень прошу раз со мною увидеться для устного разговора, когда меня любишь; не забывай же; помни слова свои: что любить обещала и мне ручку свою беленькую дала. И повторяю, и сто раз прошу, назначь на одну минуту, когда будем видеться для общего добра нашего, на которое сама же прежде этого соизволила; а пока это будет, пришли, намисто с шеи своей, прошу».
Прочла Мотрёнька это письмо, и в уме её родилась мысль, что оно подложное и едва ли это не дело её матери.
— Кто писал ко мне письмо это, так его, вот так! — сказала Мотрёнька, разорвала письмо на две части и бросила в куст.
Мелашка ушла, Мотрёнька поспешно взяла куски письма, сложила их вместе, несколько раз прочла его и потом осторожно сложила его и спрятала.
Мазепа, опечаленный такою излишнею осторожностью Мотрёньки, схватил лоскуток бумаги и написал.
«Моё сердечко!
Уже ты меня иссушила красным своим личиком и своими обещаниями.
Посылаю теперь до вашей милости Мелашку, чтобы о всём поговорила с вашею милостию; не стерегись её ни в чём, ибо есть верная вашей милости во всём.
Прошу и крепко по нужде вашу милость, моё сердце спросивши, прошу, не откладывай своего обещания».
— Завтра буду в полдень, к гетману! — сказала Мотрёнька Мелашке, прочитав письмо Мазепы. Мелашка ушла.
На другой день Любовь Фёдоровна уехала вёрст за десять от Батурина. Василий Леонтиевич также выехал. Мотрёнька, под предлогом посещения знакомых подруг, тайно пробралась в дом гетмана.
Мазепа сидел в своей парадной зале, вокруг него толпились негры, карлики, казачки; по углам и у дверей стояли рослые гайдуки; на персидском диване рядом с гетманом сидел Винницкий ректор иезуит Заленский.
Гетман был страшно печален, гнев и слабость попеременно проявлялись в сумрачном его взоре, он смотрел на яркое отражение от солнца цветных стёкол, игравших по стенам и на полу.
— Горе, Заленский, чёрное горе! — сказал Мазепа по латыни, и тяжело вздохнул.
— Ясновельможный, будет весело, когда закипит война за славу народа; будет весело, когда запылает кровавая месть за ясневельможную честь твою; думы чёрные твои улетят, когда прискачет к нам в гетманщину непобедимый друг твой Карл и привезёт тебе корону!
— Ох... ох... ох!.. Ты на словах, как на бандуре, играешь.
— Песня хороша, ясневельможный, потому и хорошо играю.
— Хмель хорош, да похмелье может выйти горькое.
— Э, ясневельможный, тебе ли ещё говорить о похмелье?.. Ты, перед которым дрожат Польша и Москва, Крым и Царьград! Ты друг и приятель шведов.
— Всё так, да сердце болит!..
В эту минуту в комнату вбежала Мотрёнька; от утомления упала на диван подле гетмана и склонила голову на его плечо.
Мазепа поцеловал её в голову, в уста, потом долго смотрел на неё с непонятным душевным состраданием; в чёрных очах Мотрёньки горела пламенная страсть; Мазепа сделал знак рукой, и все окружавшие его, как тени, один за другим исчезли.
— Ты скучаешь, ты не рад мне... ты меня не любишь?
— Долю, доню, я скучаю от того, что ты забываешь меня; когда тебя нет со мною, я печалюсь; когда ты как птичка прилетишь ко мне, я опять печалюсь, что через минуту, через две тебя не будет со мною! — жалобно проговорил Мазепа.
Мотрёнька опустила глаза в землю.
— Как мне видеться с тобою, когда мать сердится и упрекает меня, что я люблю тебя, говорит, что она проклянёт меня, отречётся от меня — где тогда в свете приклоню я несчастную голову… что тогда будет со мною в том свете!
— Недолго, доню, такую песню мати твоя будет петь.
— Недолго?.. Ещё хуже, да от чего так!
— От того так, доню, что...
Мазепа опять смутился и недоговорил речи.
Мотрёнька по-детски прижалась к гетману, радостно посмотрела ему в глаза и с улыбкой сказала, обняв его:
— Я всё знаю, тату, не скрывайся от меня, — поверь всею душою твоей, я не враг тебе... а будешь не доверять мне, и я не стану верить тебе... я слышала уже про твои думки...
— Слышала?.. Что ты слышала? — с удивлением спросил гетман.
— Слышала; и ты сам намекал, и я догадалась.
Гетман смотрел на крестницу с сожалением и удивлением.
Мазепа хорошо изучил сердце крестницы своей, он разгадал её любовь, её славолюбивое сердце, и поэтому-то уверен был, что для свершения его замыслов нужно время, старался распалять страсть, которая самовластно управляла юным сердцем Мотрёньки. Старику не нужно было учиться разгадывать сердце девицы; с молодости привык побеждать и не знал неудачи; правда, был пример, но то необыкновенная женщина, самоотверженная, умная, воспитанная в страхе Божием, привыкшая побеждать себя во всём, дышать одной молитвой, презирать всё земное.
В самом деле, казалось, легко было Мазепе владеть умом и сердцем Мотрёньки: она сама готова была жертвовать жизнью для Мазепы, она, конечно, готова будет соединиться с ним неразрывными узами брака, она будет его женою; однако же как ни верным казалось это предположение, но оно далеко было несбыточно: любовь Мотрёньки было чувство кипучее, и с первого взгляда казалось пламенной любовью; а в самой вещи, это — рассчитанная, холодная страсть. Эта любовь — любовь рассудка, а не любовь сердца: это любовь и не любовь, это даже противоядие того яда, которым отравляется чувственное, не очищенное духовным воспитанием сердце женщины. Сама Мотрёнька, ослеплённая тщеславием, не умела хорошо понять своего увлечения: внимая сердцу, она не понимала, что оно побеждено гордым её рассудком, который воспламенил её любовью к славе; она ошибалась, полагая, что влюблена в Ивана Степановича: сердце её просто принадлежит гетману. Так-то сильны и обманчивы обаяния эгоизма.
Седины гетмана нравились ей из-под гетманской шапки с страусовыми перьями; её увлекали медоточивые слова Мазепы, потому только, что они выходили из уст гетмана; она любила быть с ним вместе и желала никогда не разлучаться: ибо это давало сладкую пищу её тщеславию, так сытно вскормленному примером и наставлениями матери... Мотрёнька плачет, вздыхает, горько смеётся, задумывается — и всё по одной и той же причине. Пламенное воображение её вечно занято: оно представляет ей гетмана, торжественно принимающего шведских, польских, турецких и татарских послов, и она подле него сидит: ей отдают честь, какую следует отдавать жене гетмана, её окружают девицы, жёны знатных лиц, пред нею всё преклоняется, тысячи уст хвалят, превозносят её величие, красоту, и она одним мановением руки мечтает располагать судьбою целой гетманщины. В золоте, в блеске гетман ездит по рядам войск; за ним следует пёстрая многочисленная свита его; Мотрёнька сидит в замке у окна, любуется войсками и думает: «Это ездит повелитель стольких тысяч народа, и моё одно слово повелевает им!». — Сладки ей эти мечты, тешат они женское самолюбие, питают и ростят демонскую страсть тщеславия.
Так мечтала Мотрёнька и, приезжая к гетману, требовала от него неотступно откровенности во всём — она мельком слышала уже от отца и матери про его замыслы, и сама домогалась быть в них советницей и участницей. Мазепа не устоял против её просьбы; да и собственная душа его, переполненная надеждами и опасениями, её волновавшими, требовала участия: ехидное участие Заленского лишь пуще леденило его; он жаждал участия от сердца любящего, преданного, — и вот находит его со своей крестницей.
— Слушай, моё сердце, я всё тебе скажу. Давно хотел обнять тебя, доню; ты знаешь, сколько раз я посылал за тобою — всё тебе нельзя было видеться со мною; и вот теперь счастливые очи мои увидели тебя; слушай, доню: ты знаешь, как сердце моё любит тебя — никого на свете не любил я так, как люблю тебя — живу тобою, для тебя я задумал страшное дело... — Мазепа огляделся по сторонам, — хочу, чтоб ты была не женою гетмана, а славною королевою! Так доню, моя милая, ты родилась царствовать и будешь царицею... тогда мать твоя, которая безбожно мучит тебя, в ногах твоих будет лежать, я сам перед тобою преклоню седую голову, сам первый буду повиноваться тебе. — Но до этого дай мне беленькую ручку свою, что будешь моею женою... дай, доню моя, для твоего и моего счастия... укрепи меня в любви своей; скажи, что будешь моею, и я стану кончать то, что давно затеял, — всё уже готово... я жду только одного твоего слова: докажи, что любишь меня, и я — король! На голове твоей засияет корона!.. Дай мне ручку свою! Скажи, будешь моей женой?..
— Я... дочь твоя!..
— То совсем другое дело, — сказал Мазепа и засыпал её иезуитскими софизмами: — закон — для казака, воля — для короля: короли пишут законы, короли и переменяют их, когда это полезно, паны разрешают всякие узы, всякий грех... есть у тебя отец, он и останется отцом... Я буду тебе король и раб: согласна, скажи одно слово и — всё кончено!
— Согласна...
— Доню, подумай хорошенько, раз ты именно согласна, доню, моя милая, с твоим согласием ты должна уже, как настоящая королева, стать превыше всего... ни чего и никого не жалеть; у тебя уже не должно быть никого родного, кроме меня одного... мать и отец твои с этой минуты не мать и не отец тебе; согласна или нет, подумай, Мотрёнька, подумай и помни, что тебя ожидает диаментовая королевская корона — не будет во всём свете равной тебе!
— Согласна, — тихо прошептала Мотрёнька.
— Согласна?.. Ну дай же мне в верность беленькую ручку!
Мотрёнька подала ему руку.
— Слушай, Мотя, моя милая Мотя, ты уже не доня моя теперь, ты — моя Мотя!.. Я во всём откроюсь перед тобою, как уже перед моею царицей; суди поэтому, как я люблю тебя: говорю тебе, я задумал великое дело! Ты сама видела и знаешь, что Польша, Швеция, Турция и Крым любят меня, и все меня боятся. Король шведский верный друг мой, Московский царь — мой враг; Мотя, моя милая! Со мною заодно Швеция и Польша, заодно будут Турция и Крым, соберутся войска в гетманщину со всех сторон, закипит война, сам поведу полки в Московщину; там все, кто враг Петру, — зичливые приятели и верные други и приятели Мазепы; а ты сама знаешь, сколько у Петра врагов — все то наши: сами все руками отдадут — сам возьму рушницу и буду впереди всех — завоюем Москву... и тогда короли наложат на эту седину корону! Вот что я затеял.
— Я поеду в Москву? Я буду видеть, когда тебя сделают царём — поеду я с тобой?
— Пожалуй; ну слушай же: тогда в моих руках будет Москва и гетманщина, и буду я царём великим и сильным, Польша будет у ног моих — Крым мы завоюем о Карлом, Турция сама нам поддастся, не ей воевать тогда с нами, и будет два царства великих — шведское и моё... и ты будешь моею царицей, Мотя моя милая, ты будешь моей царицей!
Он целовал её, Мотрёнька восторженно улыбалась.
— Скоро ли это будет! Ты сидишь в Батурине и не едешь на войну. Поезжай, и я поеду с тобой... я не останусь здесь.
— Но как же я возьму тебя? Сам я скоро поеду.
— Как меня ты возьмёшь? Требуй у отца и матери, чтоб они отпустили меня, ты гетман и крестный мой отец — могут ли они отказать тебе... а не то я тайно поеду с тобой.
— Тайно — нехорошо: надо просить, а если откажут?
— Нет!
— Ну, я буду просить — нарочно приеду к ним, и завтра же.
— И хорошо. Когда ты будешь царём, венчаться мы будем в Москве? — спросила Мотрёнька и внимательно смотрела на него своими прекрасными глазами. — Матушка мне говорила, что в Москве жить страшно: там живут одни москали.
— В Москве! В Москве! Пусть Москва меня венчает!..
— А жить где будешь?
— В Москве и здесь!
— По-царски будем жить!.. Скорей же! А то от нетерпения я не дождусь — умру от тоски.
Через некоторое время, Мотрёнька, исполненная сладких мечтаний, сидела уже в своей комнатке; вслед за нею вскоре возвратились мать и отец.
Услышав, что в другой комнате Любовь Фёдоровна говорила Василию Леонтиевичу о чём-то с большим жаром и часто упоминала имя гетмана, Мотрёнька тихонько подошла к притворенной двери, приложила своё раскалённое ушко к скважине и начала вслушиваться в разговор.
— Теперь всем, просто всем известно, что он хочет изменить царю. Заленский то и дело, говорят, ездит в Польшу; от шведского короля каждый день приезжают в Гончаровку послы, к крымскому хану и на Запорота отослали двух сердюков, и говорят, скоро поедет а Орлик; пора, Василий, пора царю писать донос!
— Ещё не пора, душко, обожди немного, нет у нас помощников!
— Пора, я тебе говорю!
— Ей-ей не пора; дай разгореться пожару да обдумать дело!
— Горит уже и так по всей гетманщине, что долго думать!
— Нет ещё, тлеет, а не горит.
— Да когда же будет пора? Ах, Василий, Василий, дождусь ли я радостного дня, когда ты будешь гетманом, а я гетманшей — когда заблестит в твоих руках золотая булава?..
— Любонько, Богу молись. Он всё даст, и скоро даст!
— Терпения не стает...
— Больше терпела, меньше терпеть.
— Когда бы твои слова да была правда!
— Правда, правда!..
— Тогда Мазепу в Москву — и голову отрубить... на куски разорвать, чтоб не жил на этом свете.
— Ему этого ожидать!
— Так и следует изменнику!
— Таки-так!
В беспамятстве отскочила Мотрёнька от дверей, убежала в сад, прилегла в шатре на диване и долго не могла прийти в себя; так сильно поразил её слышанный разговор отца и матери.
«Что делать мне теперь... они узнали о тайном замысле гетмана — собираются погубить его. Мать требует, чтобы отец написал донос на гетмана... О, это ужасно — это бесчеловечно, они не знают, что дочь их живёт для гетмана, что он — все её мысли, её заветные мечты, надежда, её радость... не знают, какой гибельный удар и для кого они готовят...»
Мотрёнька склонила голову на стенку дивана и впала в бесчувственное состояние; снова очнулась, и опять страшно закипела её кровь, сердце сильно забилось, и она не понимала себя; придумывала средства, как предупредить наступающее горе, и всё, что ни представлялось рассудку её, казалось слабым, недействительным; открыть ли эту затею Мазепе, любимому Мазепе? Но это было бы предательство родной матери; умолчать? Значит, погибнуть самой вместе с гетманом; просить ли мать, чтоб оставила задуманный ею план?.. Но мать отвергнет просьбы дочери, отречётся — проклянёт её. Мотрёнька хорошо знала гордый характер матери, и поэтому решила молчать обо всём слышанном, но торопить гетмана, чтобы скорее приводил в исполнение задуманный им план. Не дожидаясь дня, когда все улеглись спать, полетела к нему.
Было поздно, гетман спал; торопливо перебежала она чрез сад и прямо на крыльцо. Орлик, по настоянию Мотрёньки, ввёл её в покои гетмана; но не дерзая тревожить уснувшего Мазепу, предоставил на волю самой Мотрёньки разбудить его. Смелою рукою отворила она дверь спальни, вошла, приблизилась к постели, схватила гетмана за руку, наклонилась к нему и спросила: «Ты спишь?».
Мазепа вздрогнул.
— Кто это?
— Я, твоя дочь, Мотрёнька!
— Мотрёнька, Мотрёнька!..
— Я, да, это я!..
— Зачем в такое время?
— Не спрашивай, но слушай!.. Ты любишь меня? Любишь ли ты меня — ну скажи мне, любишь ли ты меня?
Удивлённый гетман спросонья молчал.
— Ты молчишь, ты не узнаешь меня, ты не любишь меня!
— Мотрёнька, доню моя... милая Мотя, что с тобою? Откуда ты прибежала? Теперь ночь, а ты ко мне пришла.
— Пришла... да, пришла... я тебя люблю.
— Доню, я сам тебя люблю... но что с тобою?
— Слушай, я узнала то, что сказать тебе не могу... но ради Господа Бога, если хочешь жить на свете, если хочешь быть счастливым, спаси себя и меня... ты задумал начать войну против царя — ты говорил, что всё уже готово, начинай же скорее, не дай опомниться твоим врагам, спеши победить московского царя — скорее надень на свою голову корону, и я с тобою буду счастлива, назло... послушайся меня и спасайся!
Она упала перед ним на колени.
Мазепа ласкал её.
— Какая причина, что ты меня так торопишь начинать войну? Разве отец...
— Причину узнаешь после; а теперь не отвергни моей просьбы, не отвергни, тату, и себя спаси... и меня. Прощай, я убегу; меня могут спохватиться дома... тайно прибежала я к тебе — прощай!
Она поцеловала его в лоб, потом в руку и, как птичка, выпорхнула из его спальни. Гетман не успел и опомниться.
Мазепа думал, что это сон, а не действительность; он не мог постигнуть такого странного поступка крестницы; но, будучи всегда осторожен, тотчас сел за стол, написал письмо к шведскому королю и в ту же ночь отправил его с каким-то нищим, жившим в его замке; а на другой день сделал все распоряжения, чтобы казаки были в готовности к выступлению в поход.
Мысль, не больна ли Мотрёнька, не в жару ли она прибегала к нему, так занимала его, что на другой день после всего этого он поехал к Василию Леонтиевичу.
Любовь Фёдоровна, по обыкновению, вышла на крыльцо и с ласкою и радостию встретила гетмана. Василий Леонтиевич тоже. Мотрёньки не было.
— А где же моя крестница — где дочка моя? — был первый вопрос Мазепы.
— Известно где, — отвечала Любовь Фёдоровна, — лукавый мутит её душу. Вот скоро год, как она и день и ночь тоскует, плачет, ноет в горе — и сама не властна над своим сердцем, и теперь сама на себя не походит... горе мне, кум, с дочкою моею, тяжкое горе!.. Год назад тому в дом наш заезжали женихи, сватали её — я и рушники приготовила, сундуки наложила приданым и отказала всем; приехал Чуйкевич свататься, и тому гарбуза поднесли, да и ты отсоветовал за Чуйкевича выдать её — а вот теперь горе мне с него, не знаю, что делать!
— Что делать, кумо моя, что делать, вот я тебя научу, что делать.
— Пойдём же в эту комнату, ясневельможный куме.
Мазепа, Василий Леонтиевич и Любовь Фёдоровна сели в диванной. Любовь Фёдоровна и Мазепа на диван, а Василий Леонтиевич на стуле у дверей.
— Научи, сделай Божескую милость, что делать мне с Мотрёнькою!
— Что делать, что делать, слушай, кума, скоро уже, скоро новое солнце взойдёт над гетманщиною, скоро рассветёт новый день — великий день, больше будет добрых людей, тогда и жених найдётся Мотрёньке. Когда ты любишь меня, отдай мне твою дочку.
— Как, куме!.. За тебя замуж, что ты это Господь с тобою!.. Вот как!.. Я давно знала твои думки! Нет, пане гетман, пока я жива, не допущу дочку до такого нечестивого дела... нет, Иван Степанович, не бывать этому, говорю тебе, не бывать... слышишь, Василий, что затеял гетман? Такой песни мы ещё не слыхивали; я давно уже замечала…
Василий Леонтиевич сидел ни жив ни мёртв, вперив глаза в землю. Любовь Фёдоровна никому не давала слова сказать, никого не слушала. Её давно уже мучили подозрения и догадки насчёт гетманских шашней с Мотрёнькою. Давно выжидала она случая разгромить за это гетмана, да всё как-то удерживала политика; а тут подозрительное сердце её так уже наболело, её догадки приняли такой вид достоверности, невыносимой для матери, что едва лишь Мазепа заикнулся: «отдай мне Мотрёньку» — Любови Фёдоровне во всём ужасе представилась картина позора и несчастия, которую гетман приготовил для её семьи. Напрасно Мазепа старался оправдаться в её глазах — львица, у которой, отнимали дитя, была неукротима.
— Господь с тобою, кума моя, что это ты говоришь! Кто сказал тебе, что я собираюсь свататься к твоей и моей дочке? Господь с тобою, Любовь Фёдоровна, что это ты!
— Ты мне не говори этого, куме, сделай милость, ты мне не говори, — я знаю все твои думки... знаю всё... о, не на такую напали! Не через тебя ли дочка наша страдает? Не ты ли смутил её сердце? Гетман, гетман, стыдился бы ты сам, боялся бы ты Бога! Ты стоишь уже одною ногою в домовине, а другую — подпирает нечистый; ты хочешь погубить цветок, мой рожаный, — ты отец её, за твоим племянником была родная её сестра — не грех ли тебе и помышлять жениться на Мотрёньке?.. Ты думал, я не знаю, что и теперь приехал к нам просить отдать за тебя её. Господи Боже, зачем ты не принял дочки моей, когда она была дитятею; я не знала бы такого горя, какое узнала теперь!..
Любовь Фёдоровна посмотрела на икону, сложила руки на груди, опустила голову и задумалась.
Василий Леонтиевич всё сидел молча, смотрел на жену и поминутно то бледнел, то краснел.
— Слушай, кума моя, — начал Мазепа, возвысив голос, — слушай меня! — Он взял её за руку. — Как ты себе хочешь, но мне кажется, ты не в своей памяти, ты не здорова!
Любовь Фёдоровна рванулась, вскочила с дивана, пристукнула ногою об пол и сердито закричала:
— Кто, я, я не в памяти! Ах, ты гетман нечестивый, что ты задумал! Ты хочешь дочь нашу, свою крестницу, совратить — старый... — она не договорила: сыч!
Мазепа смеялся и, обратясь к Василию Леонтиевичу, спросил:
— Сделай милость, скажи мне, куме, что сталось с твоею женою? Всегда была ласкова, а теперь Бог её знает, что это она говорит, что делает?..
— Нет, гетман, нет: от меня ничто не утаится, я всё знаю, что ты делаешь в замке. Знаю все думки твои!..
— И добре делаешь!.. Вот только какой ты ещё думки не знала, слушай, я скажу тебе.
— Всё знаю и слушать не хочу, ты лучше не мути души моей.
— Любовь Фёдоровна, я вижу, ты сегодня левою ногою ступила на пол, как вставала с постели, — оттого ты и на себя не походишь: я своей крестнице, а твоей дочке, ничего дурного не желаю... я хотел просить тебя, чтоб ты отпустила её со мною в Киев; скоро еду я в Польшу, говорят, шведский король идёт на нас войною.
— По твоей же милости!..
Мазепа не нашёлся, что отвечать на эти слова. Василий Леонтиевич спрыгнул со стула и чуть не закричал: «Зачем ты проговорилась!» От внимания Мазепы не укрылись эти движения, он продолжал, заминаясь: «Слушай же... вот я хотел её взять с собою и посватать в Польше за знатного пана или даже и графа... у нас в гетманщине нет для неё достойных женихов, ты сама это знаешь... вот зачем я и приехал к тебе и чего хотел просить, а тебе недобрый нашептал на ухо чёрные думы — о, пусть Бог милует меня от такого злодеяния, какое ты взводишь на меня!..
В это время Мотрёнька стояла в другой комнате у дверей и слушала разговор матери и гетмана; сердце её уж подлинно обливалось кровию; она не могла превозмочь себя и вошла в диванную.
— Ты зачем сюда, бесстыдница!.. Чего тебе нужно здесь: молодого жениха своего не видала? О, проклятое творение... иди отсюда, чтобы очи мои не видели тебя — ступай же отсюда, говорю тебе, ступай сию минуту!
— Мамо, мамо, за что ты проклинаешь меня?
— О, ты невинна — проклятая душа твоя, позор роду нашему!.. — громко закричала Любовь Фёдоровна, подбежала к Мотрёньке и хотела вытолкать её из, комнаты.
Мотрёнька пала перед нею на колени.
— Мамо, мамо, помилуй меня — не проклинай меня! Что я сделала тебе, скажи сама, в чём я виновна... Мамо, помилуй меня!..
— О, ты ни в чём невинна!.. Ты не хочешь быть гетманшей! Ты ничего не задумала! Нет — ты праведница!— кричала разъярённая Любовь Фёдоровна и отталкивала от себя рыдавшую дочь.
— Пощади её, Любовь Фёдоровна, пощади, за что ты мучишь её — на твоей душе страшный грех.
— Грех! Я её сгублю, проклятую, с этого света... я её отравлю, повешу с собакою на один сук.
— Уйди отсюда, Мотрёнька, уйди, радость моя! — тихо сказал Василий Леонтиевич, взял дочь свою за руки, вывел её в другую комнату, притворил дверь, отёр своей рукой её слёзы и, плача сам, прижал её к сердцу и горячо поцеловал её в очи.
— Иди, доню, в сад, да не горюй: мать пересердится, гетман поедет в Польшу — и ты будешь счастлива; ты знаешь, как я тебя люблю.
Полуживая вышла несчастная Мотрёнька в сад.
— Вот и другой пара тебе! — сказала Любовь Фёдоровна, указывая пальцем на Василия Леонтиевича. — Я учу дочку, чтобы она доброю была..., а он гладит её по головке, — будет после этого добро!
— Ты сегодня, в самом деле, Любонько, сердита.
— Да молчи, говорю тебе! Ты разве не знаешь меня! О, я сейчас примусь за тебя — недолго будешь у меня… ворчать себе под нос.
Гетман взял шапку, поцеловал руку Любови Фёдоровны и сказал: «Не сердись, кумо; ты и на меня, Бог знает, что думаешь, и Василия Леонтиевича обижаешь, и дочку навек сделаешь несчастною... ей-ей, страшный грех! Знаешь, проклятие твоё страшное!.. Не допусти себя до этого; я всё перенесу от тебя, я кум твой — известно, люблю тебя и знаю, что ты-таки сердита, мы... помиримся!»
Мазепа уехал. Рассерженная Любовь Фёдоровна пошла в сад, отыскала Мотрёньку и на чём свет стоит начала её проклинать.
Недостало слёз у Мотрёньки; бледная сидела она молча, не слышала уже проклятий разъярённой матери; не понимала себя и того, что с нею делается, от сильной боли в сердце и голове. Одно только она живо чувствовала: что мать разгадала её тайный замысел; совесть нещадно представляла ей, что она — преступница без оправдания.
Василий Леонтиевич ушёл в свою писарню, затворил дверь, Любовь Фёдоровна схватила его за чуприну, добре Любовь Фёдоровна, возвратясь из сада, сильно застучала кулаками в его дверь и закричала:
— Отопри, дьявол, отопри сию минуту!..
Василий Леонтиевич вздрогнул, притаился в углу и молчал.
— Отопри, говорю тебе, а не то двери разобью!..
Василий Леонтиевич молчал. Любовь Фёдоровна посмотрела в замочную скважину, увидела присевшего в углу мужа и с новою силою застучала в дверь, и закричала громче прежнего.
— Аспид! В углу спрятался — не спрячешься от меня нигде, отопри... говорю тебе!!!
Нечего делать, с трепетом Василий Леонтиевич отпер дверь, Любовь Фёдоровна схватила его за чуприну, добре-таки потормошила и сказала: «Вот тебе за твою любовь ко мне... заодно с гетманом, постой ты у меня!..»
Василий Леонтиевич поцеловал руку Любови Фёдоровне и с покорностью произнёс:
— Спасибо, Любонько, за науку, дай Бог тебе счастия и здоровья!
С этого времени жестокий характер Любови Фёдоровны превзошёл всякую меру: укротить его не было средств, да и некому было: более всего страдала от неё Мотрёнька, которая, правда, от этих потрясений действительно стала приходить в чувство: видела бездну, в которую хотела было ринуться, готова была даже раскаяться и поступать согласно с желаниями матери; но вместе с этим не могла угодить ей ничем; что ни день, то ей приходилось хуже, — и в сердце дочери, некогда так беспредельно любившей свою мать, расцвели полным цветом злоба и ненависть: несчастная дочь поклялась оставить дом отца и скрыться от матери.
Прежние мечты её снова стали возвращаться и как бы узаконились невозможностью быть ей иначе; любимой мыслию Мотрёньки было — обдумывать, как бы скорее привести в исполнение свою мечту, как бы счастливее исполнилась она; но не было возможности ускользнуть ей от взоров матери, которая, казалось, всё предугадывала и стерегла дочь как нельзя строже; и подумать нельзя было уйти к гетману — она писала к нему:
«Мой свет ясный, мой сокол милый!
Где теперь летаешь ты, голубчик милый, что делаешь теперь? Ты забыл меня, ты разлюбил меня: а я плачу, а я горюю; скажи мне, соколу ясный, скоро ли буду с тобою, скоро ли выведешь меня из проклятой тюрьмы на свет Божий? Возьми меня к себе, беспечно буду жить я в дому твоём...».
Полетело письмо чрез девушку, преданную Мотрёньке, и скоро было в руках гетмана, жившего тогда в загородном доме, в четверти мили от Батурина.
Гетман не переменился в отношении своём к Мотрёньке; препятствия лишь пуще раздражали его. Он написал к ней в ответ на её письмо:
«Моё сердце милое!
Сама знаешь, как я сердечно и безумно люблю вашу милость; ещё никого на свете не любил так; было б моё счастие и радость, пусть бы ехала да жила у меня, только ж я не знаю, какой конец с того может быть, особенно при такой злости и заедливости твоих подлых родственников. Прошу, моя любезная, не изменяйся ни в чём, как уже неоднократно слово своё и рученьку мне дала; а я взаимно пока жить буду, тебя не забуду».
Любовь Фёдоровна ездила по своим родственникам и знакомым и везде распространяла слухи, желая повредить Мазепе во мнении о нём посполитства: что-де «безбожный гетман сам приезжал к нам свататься на крестной дочери своей» — называла его всякими позорными именами. Конечно, все паны слушали с ужасом, многие верили рассказам Кочубеевой; другие, зная характер её, сомневались в слышанном; а были и такие, которые решительно утверждали, что гетман действительно приезжал свататься на Мотрёньке; но Любовь Фёдоровна отсрочила-де до того времени, пока Мазепа не будет королём, а муж её гетманом; иные прибавляли, что Любовь Фёдоровна сама давно уже старалась свести старика Мазепу с юною дочерью своей, в том предположении, чтобы после Ивана Степановича никому другому не досталась булава, а только Василию Леонтиевичу. Короче, для человеческой доброты и братолюбия необъятное тут поприще открыла сама Любовь Фёдоровна.
Через несколько дней Любовь Фёдоровна, обдумав свой довольно неприличный поступок против гетмана, поехала к нему: не с извинением, нет, это было не в её духе, но для доказательства своей любви к нему. Мазепа хорошо понимал и знал сердце Кочубеевой, и поэтому принимал её как близкую родную. В этот раз он должен был удвоить своё притворное расположение и выказывать любовь, которой и искры не было в его сердце, дабы совершенно примириться с нею и отклонить всякое подозрение, что он действительно хочет изменить Московскому царю. Но не поверила Кочубеева словам гетмана, не изменила мысли, что гетман хочет совратить её дочь, и поэтому-то не переставала мучить Мотрёньку.
Прошло более недели, Мотрёнька не получала от Ивана Степановича ни строчки, словно его не было в Батурине. Не не тревожила мысль, что гетман может её забыть, она знала, что он полюбил её с первого дня её рождения, и была твёрдо уверена, что эта любовь не мгновенный пламенный порыв юношеской страсти, но крепкая любовь отца-крёстного, и сама его любила более родного отца; в сердце её преступная страсть тщеславия подавляла собою всякие другие движения девической любви. Она легко опомнилась было от своего увлечения при первых укоризнах матери; но беспощадное преследование её заставило увлечённую девушку снова заняться старым Мазепой как единственным своим защитником; но защитником, которого она уже стала и бояться.
Со своей стороны дряхлый старик любил дочь свою сильно, безгранично, даже пламенно; но никогда не дозволял себе забыться в своём обращении с нею; он утешался своею перепискою и свиданиями с Мотрёнькою, но неизвестность развязки его политических затей заслоняла собою всё другое — и после погромки в доме Кочубеевой он даже сам не знал, чем у них кончится дело с крестною дочкою: он ужасался неудачи своих затей церковной грозы, злился на Кочубеевых и отдыхал только за будущею индульгенциею папскою. За всем этим Мазепа чрезвычайно тревожился мыслию об участи крестницы, не спал покойно, был задумчив и грустен, не зная, в каком положении находится несчастная Мотрёнька. Он собрался ехать в Киев, хотелось ему увидеть Мотрёньку, узнать, примирилась ли сколько-нибудь с нею мать. Поехать самому было неловко; легко могло случиться, что опять приехал бы в такой час, как и в прошлый раз, и Любовь Фёдоровна по-прежнему обошлась бы с ним не очень гостеприимно; рассудив хорошенько, Мазепа вынул прекрасные драгоценные серьги и написал к Мотрёньке.
«Моё серденько!
Не имею известия о положении вашей милости, перестали ли вашу милость мучить и катовать уже; теперь уезжаю на неделю в одно место, посылаю вашей милости отъездного (гостинца) через карла, которое прошу милостиво принять, а меня в неотменной любви своей сохранять».
Письмо это и серьги Мазепа передал карлику, приказав ему вручить Мотрёньке так, чтобы никто не видел; карлик хорошо исполнил послание гетмана, тайно вечером виделся с Мотрёнькою в саду, отдал ей подарок и письмо, Мотрёнька прочла письмо и сказала карлику, чтобы гетман до отъезда своего непременно бы свиделся с нею, что она сообщит ему весьма важное дело.
— Непременно скажи гетману, чтоб увиделся со мною, крепко скажи ему, наказывала я через тебя, чтобы приехал к нам, или хоть сам тайно, да где-нибудь увиделся со мною; скажи ему, что я несчастная и меня день и ночь мучат.
Карлик уехал. Мотрёнька, по обыкновению, раз десять читала и перечитывала письмо гетмана и потом в страшном волнении мыслей легла в постель, заранее восхищалась будущею встречею с гетманом. Сон бежал от неё, и только к свету, уже истомлённая, она смежила на несколько минут глаза.
Прошёл день, от гетмана — ни слуху, ни духу. Мотрёнька с утра до позднего вечера ожидает его: сидит у окна и смотрит на Батуринскую дорогу, не едет ли кто... нет, ожидания напрасны; с тоскою и чёрною скорбию поздно легла она в постель, всё ещё мечтала о предстоящей встрече, и вновь наступила ночь, месяц совершил обычный путь свой, зашёл за синие горы, зарумянился восток, засияло солнце, запели птички, зажужжали пчёлки, собирая мёд с пёстрых ароматных цветов, опять сидела Мотрёнька у окна и ожидала гостя, и по-прежнему Батуринская дорога чёрною змиею вилась по зелёному полю и вместе с ним сливалась с голубым небом — а едущих путников не было.
Рано утром на третий день, когда Мотрёнька ещё лежала в постели, лелея свою любимую мечту, пришла к ней служанка, подала записку от гетмана и сказала, что её принесла ночью Мелашка.
Мотрёнька развернула записку и прочла:
«Моё Серденько!
Тяжко болею на тое, що сам не могу с вашею милостию обширне поговорити: що за отраду вашей милости в теперешней печали учинить могу? Чего ваша милость по мне потребуешь, скажи всё этой девке в остатку, когда они, проклятые твои родные, тебя отрекаются, — иди в монастырь, а я знаю, что на той час с вашею милостию буду делать; и повторяю пишу, извести меня ваша милость».
Неприятно было Мотрёньке получить письмо и не видеть самого гетмана; поспешно отправила она Мелашку обратно, приказала ей передать гетману, что она ждёт его самого, и до тех пор, пока не увидится с ним, будет ещё сильнее болеть её сердце.
Прошло несколько дней, ответа не было, а потом она узнала, что гетман выехал из Батурина.
XX
Тихо скатилось солнце за синевшие вдали горы, и золотой запад мало-помалу потухал; на прозрачном голубом небе загорелись одна за другою ясные звёздочки, молодой месяц тонким золотым серпом обрисовался над чёрною старою кровлею дома Генерального судьи; сладостный сумрак покрывал окрестность; маленький ветерок, дышавший ароматом степных цветов, тихо перелетал с куста на куст и пробуждал дремлющие листки и ветки серебристых тополей.
Любовь Фёдоровна сидела у растворенного окна в сад, прислушивалась к какому-то странному крику — словно то был плач младенца; время от времени вздрагивала, бледнела, в испуге крестилась и творила про себя молитву.
В комнату вошёл Василий Леонтьевич.
— Сядь и слушай, Василий.
— А что там?
— Слушай, говорю тебе, радуйся нашему горю!
Василий Леонтьевич повиновался жене, сел подле неё на стуле и начал вслушиваться.
— Сыч? — спросил он, наклони голову.
— Сыч!
— Точно, сыч!
— Сыч, разве не слышишь, и уже третью неделю кричит в саду перед домом; горе нам, Василий, тяжкое горе, придётся кого-нибудь схоронить!
— Господь с тобой, Любонько: покричит да и перестанет.
— Нет, Василий, недаром кричит: накричит он нам лихую годину; говорю тебе, кто-нибудь да ляжет в могилу; хоть бы и легло, да не доброе!..
— Слава Богу все здоровы! — сказал Василий Леонтьевич, покачав головою.
— Все здоровы сегодня, а завтра и умереть можно — такое дело; а как знать, может, и я умру, и за тебя не поручусь, не поручусь и за Мотрёньку; да уж по мне, если бы в самом деле Бог принял душу Мотрёньки, меньше бы печали было в этом свете! Ей-же-ей, уже так далась она мне, знать, что Господь Бог один знает!
— Любонько, что она тебе сделала?..
— Что сделала, идёт против меня — наперекор всего; не слушает слов моих, что ж это за добрая дочка, Господь с нею!
— Е-е-е... душко, не бойсь, не станет посереди дороги твоей, не будет гетманшею: Иван Степанович любит не как свою крестницу; ты, враг знает, что вытолковала... ей-ей, смех мне с тобою, душко моя милая, да и только. Мотрёнька — дочка, как и у всех добрых людей водятся дочки...
— Не говори мне этого, я лучше тебя знаю, что задумала Мотрёнька... Слушай, сын всё кричит, ой, право же, целую ночь спать не буду от страха. Ты, Василий, приказал бы его согнать или просто из рушницы убить.
— Как хочешь, так и скажу, чтобы сделали.
— Убить, Василий, сей час пошли убить проклятого сыча!
Василий Леонтьевич пошёл отдать приказание убить сыча; а в эту же минуту в комнату, как тень бледная, вошла Мотрёнька.
— Наплакалась уже за гетманом — о, убоище! Для горя и печали родила я тебя... знала бы, что такою будешь, маленькую бы закопала в землю!
Мотрёнька тихонько вздохнула и молча села в углу.
— Чтобы ты мне не смела показываться, когда приедут гости! Посмотри в зеркало: ты сама на себя не похожа. Вот как проклятые мысли иссушили тебя, одурили несчастную твою голову. Гетманствовать задумала! Обожди немного, дочко, есть ещё кому прежде тебя погетманствовать... ты ещё молода, крепко молода, отец твой знатный человек, да и тот боится Бога, не сразу хватается за булаву; а ты, так куда, вот так и лезешь на шею крестному отцу: «Возьми меня за себя замуж да возьми!». Да ты бы стыдилась и думать об этом, а не только делать. Мазепа твой крестный отец, что ты задумала, глупая голова твоя! Неужели в злополучной голове твоей и столько нет ума обдумать, что он не может быть твоим мужем! Ах, головонько моя бедная, и не жалела бы я, если бы ты ещё дитя была... а то смотри на себя!
Мотрёнька молчала: она привыкла равнодушно слушать слова и нарекания матери.
— Молчишь, проклятая душа твоя; молчи, молчи — я скоро на веки вечныя зажму рот твой!
Мотрёнька встала, подошла к матери, желая поцеловагь се руку и уйти спать; со злобою оттолкнула мать несчастную дочь, и Мотрёнька со слезами на глазах и скрытою скорбию в душе пошла в свою комнату, стала на колени перед образом и пламенно молилась. О, если б она молилась не за себя, а против себя!.. А то она молилась, чтоб Господь помог её грешным замыслам!.. Праведно слово: «Прóсите — и не приемлете: за не зле прóсите, до во сластех ваших иждивете!» Ох-ох-ох! Так-то а сплошь у нас на белом свете: молимся за своё Я, чтоб здравствовало и полнело: а того и не берём себе в толк, что Я-то наше и должно быть пропято на смерть; что в этом-то и блаженство, и назначение человека.
На другой день она подробно передала состояние своей души и обхождение с нею матери Мелашке, которая каждый день по возвращении гетмана в Батурин являлась к ней узнавать о здоровье. На третий день Мотрёнька получила от Мазепы следующее письмо:
«Моя сердечко коханая!
Сильно опечалился, услышавши, что эта палачка не перестаёт вашу милость мучить, что и вчера тебя терзала; я сам не знаю, что с этою змиею делать? Вот моя беда, что с вашею милостию свободнаго не имею часу о всём переговорить; больше от огорченья не могу писать; только, что бы ни было, я, пока жив, буду тебя сердечно любить и желать всего добра не перестану, и второй раз пишу не перестану, на зло моим и твоим врагам!»
Печаль и тоска так усилились в душе несчастной дочери Кочубея, что она готова была отчаяться на все: мысль скрыться с глаз матери была теперь любимою её мыслею; открыть это отцу и просить помощи его в горе Мотрёнька не решалась, видя, что мать помыкает также и отцом, как и ею; и поэтому все свои надежды сосредоточила она в гетмане. Злое обхождение с нею матери послужило отчасти к тому, что она перестала уже мечтать о гетманстве и желала только где-нибудь приклонить спокойно голову и не слышать ежеминутных проклятий родной матери. Уйти в монастырь, как писал Мазепа, — но в какой, ведь это также нелегко; и, подумав хорошенько, она решила ожидать встречи с гетманом.
Василий Леонтьевич был занят своим сычом; он никаким средством не мог убить его или выгнать из сада: осторожный зловестник, увидя подходящих к дереву, на котором постоянно пел свою предвозвестную печальную песнь, слетал и садился на другое дерево; а ночью, когда уже все покоились мёртвым сном, перелетал с дерева на дом, садился на трубе и продолжал кричать до утренней зари.
Любовь Фёдоровна заключила, что в образе сыча является нечистая сила — домовой, и беды не избежать, разве только выехать со всем семейством в Диканьку или Ретик или в другую деревню.
Психологи не разгадали ещё тайны «предчувствий и предзнаменований», а факт их свидетельствуется историей всех веков и народов. Не властен ли Владыка всей твари велеть одной из них напомнить о Себе другим? Когда человек не слушает внутреннего голоса: «Покайся! Смерть и суд — у двери!» — вся тварь становится проповедником и напоминает заблудшему грешнику: «Покайся! Близь есть — у двери!» — С любовию, смиренно и покорно встречают таких предвозвестников вера и самоотвержение; с трепетом, с ненавистью бежит от них суеверие своекорыстного Я: в отчаянии оно думает — истреблением провозвестника избежать неизбежности покаяния или погибели: «Убей его!.. Выедем из этого дома... уедем в Диканьку!— а между тем предзнаменование, какое бы то ни было, откуда бы оно ни было, не прейдет, потому что грешнику не миновать расчёта за свои грехи, куда бы он ни скрылся, за какую бы твердыню суеверия своего ни спрятался.
Есть и должны быть «знамения времён»: общие — для народов, частные — для каждого в его жизни; для того, чтоб мудрыя девы не засыпали, блюли свои светильники и всегда готовились на радостную встречу благотворной воли Всеправителя; а юродивыя — чтобы опомнились, покаялись и последовали бы за мудрыми в волю Божию.
Есть и суеверный приметы! Собака твоя завыла, курица петухом запела, левой ногой ступил, соль просыпалась, переносица зачесалась, зловещий зверь перебежал дорогу, ворон над головой прокаркал, тринадцатый пришёл к обеду — суеверно ли ты веришь этим предвестникам или, святою верою одушевляемый, проходишь мимо всего этого спокойно, — знай: всё то, что ты верою принимаешь за предзнаменование, не беду тебе предвещает, а спасение: только покайся, вступи в волю Божию, и с миром и любовию дай событиям идти, как им Всеправитель назначил; а не покаешься — беды не минуют грешника, для его пробуждения; но всё-таки не от воя собаки — покойник или пожар, если б и случилось, а от воли Божией: покойник и пожар может и не быть, а покаяние — всегда пригодно, а слёзы сокрушения зальют всякий греховный пожар души. Не бей же собаку за то, что выла, не гони из дому тринадцатого, который шёл к тебе совсем не для смерти чьей-либо, а бей своё зачерственне, гони своё неверие, нераскаяние, иначе ни в какой Диканьке не спрячешься or беды... Не потому, будто бы сыч накричал её, а потому, что ты — грешник нераскаянный.
Василий Леонтьевич был не рад такой мысли Любови Фёдоровны, он не мог выехать из Батурина по своей должности; а оставить его одного, без своего надзора, Любовь Фёдоровна не решалась: «Ты как маленькое дитя, на тебя мне нельзя положиться, всего наделаешь... горе мне с тобою; будем же сидеть здесь да слушать проклятого сыча!»
Василий Леонтьевич молчал и едва-едва переводил дух, когда Любовь Фёдоровна делала ему подобные замечания, относившиеся к слабому, или, лучше сказать, чрезмерно доброму сердцу. Любови Фёдоровне было досадно, что Василий Леонтьевич молчит, когда она делает ему наставления; а когда он начинает оправдываться, она же кричит: «Зачем оправдываешься!» Часто сама не знала, чего она хотела; уж такое было у неё сердце.
Серпообразный золотой месяц стал уже полным месяцем и ярко светил, плавая среди перламутровых туч, рисовавшихся на сапфирном небе.
В один вечер Любовь Фёдоровна вошла в сад и с трепетом приблизилась к той просади, на которой кричал сыч; она взяла небольшую палку и бросила в него, сыч слетел и сел у самого окна комнаты Василия Леонтьевича. Любовь Фёдоровна в испуге, словно вслед за нею стремятся тысячи смертей, побежала к дому и, вбежав на крыльцо, вздохнула и едва могла перекреститься: руки и ноги её дрожали, по всему телу выступил холодный пот. Но чего испугалась она? Своей греховности, нечистоты своей, хотя и не сознавала этого. Вошла в комнату, приказала покрепче запереть ставни и зажечь лампадку пред образами, осмотрела все углы в комнате, помолилась о спасении своего Я и в страхе легла в постель; сон не мог одолеть её — чёрные мысли, тягостные, непонятная печаль язвили её сердце.
Василий Леонтьевич сидел один-одинёхонек в своей писарне: у стены стоял длинный простой деревянный стол, окрашенный чёрною краскою, в углу над столом горела огромная лампада пред иконою Небесной Владычицы, на столе против Кочубея стоял чёрного дерева крест с резным слоновой кости распятием — дар Генеральному судье одного польского графа, который несколько лет назад сватался к Мотрёньке и получил отказ.
Перед распятием горела свеча; вдоль стен стояло до десяти стульев, чёрного цвета, деревянных, точёных, с высокими спинками, в противоположном углу — дубовый шкап, в котором за стеклянными дверцами виднелись стеклянные медведи с бочками, наполненными рябиновкою, сливянкою и вишнёвкою; большая бутыль с водкою, настоянною на стручковом перце; перечница из дерева и такая же солонка; в углу серебряные две чарки с надписью на одной: «Пийте, братцы, пока пьётся, як помрём, так всё минётся». На голубенькой тарелке лежал кусок чёрствого бублика и книша.
Василий Леонтьевич обыкновенно всех приходивших, и простых казаков, и посполитых людей, угощал наливками, и по обыкновению всегда сам пил с ними.
Небольшое окно с круглыми стёклами было растворено, золотой месяц смотрел в писарню и, казалось, наблюдал, что делается в душе Василия Леонтьевича, лучи его светлою полосою падали на стол. Свеча так нагорела, что свет месяца победил свет её. Кочубей, облокотись на правую руку, сидел в глубокой задумчивости: казалось, он прислушивался к заунывной песне сыча, который то отлетит от окна, то чрезвычайно близко сядет к нему: никогда ещё не надоедал он своим криком так сильно, как в этот вечер.
Терпение Василия Леонтьевича начало истощаться: он решил пойти узнать, спит ли жена; и если не спит, взять ружье, из окна присмотреться, где сидит докучливая птица, и убить её; но едва только Василий Леонтиевич встал со стула и сделал один шаг к дверям, как сыч слетел с дерева, сел на окно и громко закричал. Василий Леонтьевич испугался, затрепетал всем телом и остолбенел от ужаса; прокричав несколько раз, сыч слетел с окна в сад Василий Леонтиевич возвратился к своему месту, подумал: «Помолюсь и пойду спать!» — с этой мыслию стал он пред образом молиться: вдруг сыч влетел в комнату, облетел несколько раз вокруг неё, громко прокричал раза три, чуть не задел Василия Леонтьевича по голове крылом и вылетел в сад; свеча от его полёта потухла.
От страха Кочубей не кончил молитвы, выбежал из писарни, приказав встретившемуся слуге потушить лампаду и затворить окно, сам поспешно разделся, от страха закутал голову в одеяло и закрыл глаза.
В эту же ночь по берегу прозрачного Сейма, по дороге из Бахмача ехал верхом видный собою казак; ясный месяц освещал его смуглое лицо, и луч месяца ярко блестел в чёрных очах казака; тёмные большие усы придавали ему грозный вид, на плечах его была накинута серая бурка, при свете месяца казавшаяся почти чёрною. Бодрый статный конь бежал небольшой рысью, казак не понуждал его, казалось, он наслаждался прекрасным тихим вечером, любовался то золотыми волнами Сейма, купавшими месяц, то всматривался в сумрачную даль и прельщался мерцавшим в поле огоньком, разложенным пастухами; от скуки казак напевал сквозь зубы песенку, направо от него чернелся лес, а за ним начинался сад Кочубея; казак сюда ехал, покрутил усы и, подъехав к лесу, запел:
Ой, кто в лесе, озовися? Да выкрешем огню, да запалим люльки, Не журися...— Не журися!.. — крикнул казак во всё горло, и голос его громко отозвался в тишине леса. Потом он вынул из кармана люльку, тютюн, кремень и кресало. Набил люльку, закурил её, и тонкой стрункой заклубился дым.
Начался сад Василия Леонтьевича, обсаженный высокими пирамидальными тополями. «Кто-то плачет в саду, не Мотрёнька ли, дочка Кочубеева? Чего добраго, не диковинка, мать такая, что и на ночь выгонит дочку... несчастное дитя!.. Что за несчастное? Дурная девочка, давно уже, если б захотела, приехала к Ивану Степановичу и спокойно себе жила бы у него, — никто б не знал, где и делась; разве у нас этого не случалось: ого-го... что и вспоминать: сказано, глупая голова! Ну, да сама на себя пусть и жалеет!.. Да что за чёрт, кричит?»
Казак начал вслушиваться: плачущий голос то умолкнет, то опять протяжно раздастся среди сада и повторится в лесу. Казак не трус, а всё-таки страшно, свистнул от страха и для храбрости — плач послышался сильнее; свистнул сильнее; свистнул другой раз, да уже слабее первою раза, трусость взяла своё. Сыч закричал громче.
«А... проклятый птах, вот кто плачет — сыч! Тьфу ты, проклятый, — казак перекрестился. — А я так уже и думал, что мавка где-нибудь на берегу потешается, да меня поджидает, чтоб залоскотать, да в воду до себя потащить... Господи, помилуй!..»
Казак опять перекрестился, сильнее прежнего поторопил коня. Подъехал к калитке сада, соскочил с лошади, привязал её к частоколу, тихо отворил калитку и вошёл в сад. Осторожно приближался он к дому, пробираясь между кустами акации и сирени, и вышел к окнам комнаты Могренькиной, легонько постучал в ставень и отошёл; на дворе, послышавши чужого, залаяли Серко и Рябко, прибежали в сад; но Дмитрий был им не чужой, он приласкал их, и собаки замахали хвостами, увиваясь подле гайдука, присевшего за тёмным кустом сирени.
Сыч утих, над рекою свистал пастушок, а далеко в сумрачном поле за рекою по временам громко кричал перепел. Золотой месяц плыл по чистому тёмному сапфиру неба, что-то белое мелькнуло у самого крыльца дома, Дмитро начал всматриваться, белый образ движется, и всё ближе и ближе к нему.
«Это она, это панночка Мотрёнька», — подумал Дмитро, вскочил со своего места, подошёл к Мотрёньке, поцеловал у неё руку, отдал письмо от гетмана и сказал:
— Гетман приказал вам кланяться и спросить, как поживаете: здоровы ли вы, не скучаете ли? Жалеет, что вы его совсем забыли, не отвечаете на письма; нарочно теперь я привёз Генеральному судье письма, да и к вам зашёл. Спит батюшка? Крепко нужные универсалы от гетмана.
— Что гетман спрашивает: он добре знает моё горе, сколь раз Христом Богом молила я позволения жить в его замке: ни отец, ни мать не знали бы, где я делась, подумали б, что я утонула с горя; а я спокойно бы жила себе да жила.
— Гетман не знал, верно, что ваша милость желаем, а то давно бы уже у него жили.
— Горе мне, Дмитрию, тяжкое горе, не увидит уже меня ни гетман и никто в этом свете: я говорю тебе правду, гетман сам причиною: не жить мне больше не белом свете, я тебе истину говорю.
— Господь Бог да сохранит вашу милость.
Мотрёнька вздохнула и склонила голову на грудь.
— Не горюйте, ваша милость, Бог даст счастие!
— Нет, Дмитрию, нет, не жить мне больше, на том свете покойнее будет, другой матери там не будет, такой, как у меня.
— Да Ивану Степановичу как только скажу я, что паша милость хотите ехать к нему, так с радостию пришлёт меня за вами.
— Возьми меня с собою; где Иван Степанович теперь живёт?
— В Гончаровке... Да как же мне вас взять, когда я верхом приехал? Разве ваша милость полагаете, если бы я приехал в повозке, не взял бы вас... Я знаю, за то, что привёз бы вас в Гончаровку, у меня полная шапка была бы карбованцев.
— Возьми, Дмитро, меня, когда хочешь, чтобы я осталась в живых, а то сама себя отравлю...
— Ваша милость, как же я вас возьму?
— Как хочешь, вдвоём поедем; ты сядешь на коня и меня возьмёшь к себе: теперь славный час, все спят, как убитые, никто и не догадается, куда я делась.
— Как хочете, ваша милость, пожалуй, поедем.
— Едем! — сказала радостным голосом Мотрёнька, прикрыла голову беленьким шейным платочком, завязала его под шейку, взяла за руку Дмитрия и торопливо выбежала с ним чрез калитку из сада. Дмитрий сел на лошадь, взял к себе на руки Мотрёньку, прикрыл её своею серою буркою, ударил коня нагайкой и помчался в сумрачную даль с бесценною ношею, и только слышен был топот конских копыт; но и он скоро замер в степной дали.
Заря румянила восток; холодный утренний ветерок освежал вершника, быстро приближавшегося к гетманскому дому; конь весь покрыт был пеною и так изнеможён, что, казалось, через минуту должен пасть; но казак, несмотря на это, ещё сильнее торопил его; и вот вдали засинели горы и сливались с голубым небом, кое-где зеленелись лески, и белелись хуторки; по сторонам дороги, по которой ехал путник, цвела душистая греча, и казалось, всё поле было покрыто снегом; в стороне чернел высокий дом гетмана, и забелела вокруг него каменная ограда; за домом, ещё выше, была видна старая деревянная церковь.
Дмитрий подъехал к дому со стороны сада, осторожно опустил Мотрёньку на землю, слез сам, оставил коня, и быстрыми шагами поспешили оба в густоту сада... Через минуту Мотрёнька стояла пред удивлённым гетманом.
— Откуда ты взялась, доню, как ты приехала ко мне?
— С Дмитром, на коне!
— Дочко моя милая, любонько, моя голубко сизая, ты и сама не знаешь, что может быть от этого!..
— Никто не знает, куда я делась: ты меня скрой в своём доме, и я счастливо буду жить.
— Дочко моя милая, любонько, моя голубко сизая, не можно сделать этого, — люди узнают: что тогда на свете делать мне с тобою? Злые языки скажут, что я сам ночью украл тебя из отцовского дома и живу с тобою как с беззаконницею, доню моя, доню, тяжкое горе ожидает меня с тобою!
— Я буду жить с тобою!
— Какая ж ты, доню: разве я тебя не люблю? Так не теперь же это всё, не спеши ты: и меня, и себя погубишь; не можно, доню, всего сделать, что ты хочешь; потерпи немного, я надену, говорю тебе, на твою голову золотую корону, ты будешь у меня царицею... Но всё-таки не теперь; послушай меня, доню, послушай, дочко моя милая, совета моего: поезжай назад, да скорее, чтобы не догадались мать и отец, где ты была; а я, как только можно будет, сам за тобою приеду, и таки уж выпрошу тебя у матери и отца, и возьму с собою — ты слышала, что мать говорила мне: она в самом деле полагает, что я приезжал свататься на тебе.
— Ты меня хочешь совсем замучить.
— Кто хочет, доню, я счастия тебе желаю!
Мазепа обнял Мотрёньку и заплакал.
— Ты, галочко моя ясная, сама знаешь, как я тебя безумно люблю... ты знаешь, что я сам умираю без тебя, да что ж делать, доню моя милая. Эй, хлопче, скажи, чтоб духом, мигом запрягли турецкого коня и пару гнедых в бричку! Поезжай, доню моя милая, поезжай, квете мой рожаный; терпи горе: а там и счастье придёт.
Мотрёнька плакала и не отвечала на слова гетмана.
Запрягли лошадей. С громким плачем бросилась Мотрёнька на шею Мазепы, сказала: прощай, прощай, ты меня не любишь!.. — выбежала на крыльцо, села в кибитку и закрыла платком свои пламенные очи.
Кибитка быстро умчалась.
XXI
Напуганный вечерними криками и полётами сыча Василий Леонтьевич рано встал поутру, долго, задумавшись, ходил он по саду, куря люльку, потом, желая рассказать всё бывшее с ним вчера Мотрёньке, пошёл в дом и спросил у встретившейся девушки:
— Спит Мотрёнька?
Девушка громко заплакала.
— Чего ты, дурная, плачешь! Пани спит, а она голосит на всё горло, дурище!
— Как мне не голосить, когда панночка не знаю куда делась.
— Где ж она? — с беспокойством и волнением спросил Кочубей.
— Не знаю; вчера легли спать и затворили дверь, сегодня я встала рано, рано вошла к ним в комнату, гляжу на постель — и нет панночки.
Кочубей догадался, всплеснул руками, хватился за голову и сказал: «Бедная голова моя, бедная... несчастный отец я на этом свете... ах, горе мне, горе!..»
Он побежал в сад и послал служанку также посмотреть, нет ли Мотрёньки в саду. Все кусты пересмотрели — нет панночки. На крыльцо вышла только что проснувшаяся Любовь Фёдоровна.
— Чего это так рано шатаетесь в саду... эй, вы, злодейки! И ты, старый, туда! — сердито закричала Любовь Фёдоровна, увидев в саду бегавших девок и Василия Леонтьевича и полагая, что девки, пользуясь её сном, лакомятся в саду малиной, клубникой и смородиной.
Кочубей обмер от страха: он не знал, открыть ли жене побег Мотрёньки или ещё до времени умолчать, надеясь, что, может быть, она сидит где-нибудь в саду; но потом подумал, если отыщут её, если в самом деле она убежала, тогда великое горе будет и ему, — решился Любови Фёдоровне открыть несчастие.
— Недаром, моя душко, сыч кричал в саду! — сказал Василий Леонтьевич, целуя руку жены.
— А что?
— Мотрёнька неизвестно куда делась!
— Вот тебе и радость! Куда делась, известно, куда её душу проклятый тянул — она теперь у гетмана, — разве ты думаешь, где она... да и не ищите, пусть пропадёт!..
Нежный отец в беспамятстве бросался то в одну сторону сада, то в другую, то бегал с криком отчаяния в дом, звал к себе дочь, называя её по имени; но всё было напрасно, Мотрёнька не являлась; изнеможённый, Василий Леонтьевич от душевного страдания в саду свалился с ног, его внесли в комнату и положили в постель.
Любовь Фёдоровна в каком-то неестественном расположении духа ходила из комнаты в комнату. Потом вошла в комнату Василия Леонтьевича, посмотрела на его бледное лицо и сказала:
— Куда ж-таки так жаль дочки, умирает без неё, есть кого жалеть, — ну уж отец, Господи, прости меня грешную, я женщина, баба, а всё-таки по пустякам не доведу себя до такого положения!..
Обратясь к слугам, приказала подать холодной воды и полотенце. Слуга принёс в кружке воду и полотенце с вышитыми красною бумагою орлами. Любовь Фёдоровна помочила полотенце, положила его на голову Василия Леонтьевича, приказала не беспокоить его, притворила в комнате дверь и вышла в сад с тою мыслию, не отыщет ли Мотрёньку, и заранее придумывая для неё наказание. Обошла сад кругом и вышла чрез калитку к реке; вдали мчалась бричка, запряжённая тройкою коней. — Не она ли? — подумала Любовь Фёдоровна и решила дожидаться приближения брички.
Через несколько минут бричка остановилась у самой калитки, из неё поспешно выпрыгнула Мотрёнька, не видя матери, хотела бежать в сад: Любовь Фёдоровна схватила её за руку, сильно сжала и сказала:
— Здравствуй, дочко, откуда нечистый принёс?
Изумлённая Мотрёнька, бледная как полотно, стояла перед матерью и ни слова не отвечала.
— У гетмана ночевала... Ну поздравляю, дочко, какой же поп венчал вас? Или правда, на что ещё вас венчать, — косматый давно уж с тобою повенчал гетмана!.. Добре, дочко, добре! Скажи ж мне, хорошо ли спалось? И зачем так рано приехала: было бы лучше, прямо от гетмана да в болото к нечистым, а не до нас... Ну как же ты думаешь, что теперь будешь делать и что мне с тобою делать?
Мотрёнька молчала.
— Пойдём же, доню, я научу тебя, как следует жить тебе замужем, ты знаешь, наука в лес нейдёт.
Мать потащила за собой несчастную дочь, привела её в свою спальню, сняла со стены нагайку, которую Василий Леонтьевич брал всегда с собою в поход, и заперла за собою дверь: через несколько минут раздалась по всему дому брань озлобленной матери.
Очувствовавшись, Василий Леонтьевич услышал крик, кое-как поднялся с постели, дотащился к спальне и начал стучать. Любовь Фёдоровна не отпирала — Кочубей высадил дверь: глазам его предстала отвратительная картина: Любовь Фёдоровна держала за растрёпанную косу Мотрёньку, лежавшую без чувств, и немилосердно, по чём попало, била её нагайкою, со злостью читая ей наставления.
Василий Леонтиевич выхватил из рук жены нагайку и отвёл её в сторону. Любовь Фёдоровна схватила мужа за чуприну и порядочно потормошила. Муж молчал.
Через несколько дней слуги разнесли самые кудрявые сплетни; все слышавшие это, в свою очередь, передавали другим с разными прибаутками, одни говорили, что Мазепа до этого ещё предлагал Мотрёньке, через гайдука своего Демьяна, три тысячи червонцев; другие подтверждали, что гетман предлагал десять тысяч; многие, не сообразив, откуда могло быть это известно, беспрекословно верили всем несообразным сплетням и приезжали из любопытства к Любови Фёдоровне, расспрашивали её о постигшем её несчастии.
Любовь Фёдоровна не только не думала молчать о своём злостном умысле, напротив, чтобы обвинить гетмана пред лицом всего народа, подтверждала носившиеся слухи, ею же распространённые, плакала пред гостями; приходила в отчаяние и спрашивала у всех совета, что ей делать. Наконец, сама говорила многим искренним приятелям, что пешком пойдёт в Москву к царю, упадёт ему в ноги и будет жаловаться на беззаконного гетмана.
Василий Леонтиевич по слабому и легковерному характеру уверился, бездоказательно, в истине слов жены, и душевные страдания его до такой степени усилились, что он, казалось, потеряет рассудок. Несколько ночей кряду не спал, ни на минуту не находил покоя: воображение его представляло гетмана, дочь и жену в страшных образах; наконец он заболел горячкою.
Всем стало известно это позорное происшествие, разукрашенное всеми цветами злословия. Гетман, занятый делами и окружённый стражею, живя роскошно, как немногие жили и польские короли, ничего этого не знал: до слуха Мазепы нескоро донеслась весть о выдуманном на него Любовью Фёдоровною преступлении; впрочем, он знал, что Мотрёнька не ускользнула от глаз матери.
Ожидая около месяца письма от Мотрёньки и не дождавшись его, Иван Степанович послал к Мотрёньке Мелашку. Как ни было трудно увидеться Мотрёньке с Мелашкою, однако же она увиделась с нею: чрез Мелашку Мотрёнька успела передать гетману несколько слов, которыми выразила свою досаду, зачем гетман отправил её обратно от себя, а не удержал в замке. Мазепа, услышав это, написал в своё оправдание к Мотрёньке:
«Моё серденько!
Зажурился, почувши от девки такое слово, же ваша милость за зле на мене маешь, иже вашу милость при собе не задержалем, але одослал до дому; уважь сама, щоб с того выросло.
Пёршая: щоб твои родичи по всём свете разголосиля: же взяв у нас дочку у ночи кгвалтом и держит у себе место нодложницы.
Другая причина: же державши вашу милость у себе, я бым не могл жадною мерою витриматн (никаким способом удержаться), да и ваша милость также; муселибисмо (принуждены бы были мы) из собою жити так, як малженство кажет, а потом пришло бы неблагословление до церкви и клятка, же бы нам с собою не жити. Где ж бы я на тот час подел и мне б же чрез то вашу милость жаль, щоб есь на-потом на мене не плакала».
Уверив сторонних и мужа в действительности преступления, свершённого гетманом, Любовь Фёдоровна настоятельно требовала от Василия Леонтиевича, чтобы он написал к Мазепе пасквильное письмо; долго не соглашался Василий Леонтиевич с желанием жены, наконец, то убеждениями, то угрозами, то надеждою на блистательную будущность она вынудила-таки у него согласие.
Василий Леонтиевич не предвидел, к чему всё это клонится — не догадывался, что честолюбивая жена его, исполнение давно задуманного плана своего решила основать на погибели дочери, безрассудно оклеветать её пред целым светом. И в самом деле, Любовь Фёдоровна так хитро и так лукаво умела вести свои замыслы, что немногие ещё вполне успели понять её характер, и вся вина пала на безвинную дочь, на Мазепу и частью на Кочубея; а главная виновница осталась в стороне.
Василий Леонтиевич занимался в писарне; перед ним сидела Любовь Фёдоровна и слушала его письмо к гетману.
«Ясневельможный, милостивый гетман, мой вельце милостивый Пане и Великий добродию.
Зная мудрое слово, что лучше смерть, нежели жизнь горькая, я рад бы и умереть, не дождавшись такого злейшаго поношения, после котораго я хуже пса издохшаго. Горько тоскует и болит сердце моё: быть в числе тех, которые дочь продали за корысть, достойны за это посрамления, изгнания и смертной казни. Горе мне несчастному! Надеялся ли я, при моих немалых заслугах в войске, при моём святом благочестии, понесть на себя такую укоризну? Того ли я дослуживался? Кому другому случилось ли это из служащих при мне людей чиновных и нечиновных? О, горе мне несчастному, ото всех заплёванному, к такому злому концу приведённому! Моё будущее утешение в дочери изменилось в смуту, радость в плач, весёлость в сетование. Я один из тех, кому сладко о смерти вспоминать. Желал бы я спросить тех, которые в гробах уже лежат, которые были в жизни несчастливцами, были ли у ник горести, какова горесть сердца моего? Омрачился снег очей моих! Окружил меня стыд! Не могу прямо глядеть на лица людския, срам и поношение покрыли меня! Я плачу день и ночь с моею бедною женой. И прежнее здоровье моё от сокрушения исчезло; от чего не могу бывать у Вашей Вельможности, в чём до стоп ног Вашей Вельможности рабско кланяюсь, всепокорнейше прошу себе милостиваго рассмотрительного разрешения на всё изъяснённое».
Получив письмо это, Мазепа понял, по какой причине, с какою целью было оно написано и кто вынудил к этому Генерального судью, и поэтому тотчас же написал ответ:
«Пане Кочубей!
Доносишь нам о каком-то своём сердечном сожалении; следовало бы тебе строже обходиться с твоею гордою велеречивою женою, которую, как вижу, не умеешь или не можешь держать в своих руках и доказать, что одинаковый мундштук на коня и лошицу кладут; она-то, а не кто другой, печали твоей причиною, если какая в этот час в доме твоём обретается. Уходила Святая Великомученица Варвара пред отцом своим Диоскором не в дом гетманский, а в скверное место между овчарнями, в расселины каменныя, страха ради смертнаго. Не можешь, правду сказать, никогда свободен быть от печали; ты очень нездоров; опять ты из сердца своего не можешь изринуть бунтовницкого духа, который, как разумею, не так сроден тебе, как от подучения жены своей имеешь; а если он зародился в тебе от презрения к Богу, тогда ты сам устроил погибель всему дому своему, то ни на кого не нарекай, не плачь, только на свою и жены проклятую заносчивость, гордость и высокоумие. В течение шестнадцати лет прощалось и проходило без внимания, великим вашим, смерти стоющим, поступкам; однако, как вижу, ни снисхождение моё, ни доброхотливость не могли исправить; а что намекаешь в пашквильном письме о каком-то блуде, того я не знаю и не разумею, разве сам блудишь, когда слушаешь своей жены: ибо посполитные люди говорят: «Где хвост правит, там голова бредит».
XXII
В окованном серебром и позолоченном немецком берлине, внутри обитом золотою парчою с собольею опушкою и запряжённом в простяж шестью вороными жеребцами, головы которых были украшены страусовыми перьями, живописно склонёнными в стороны, ехал гетман в старую деревянную Андреевскую церковь. Это было в храмовой праздник этой церкви; впереди гетмана скакали верхами жолнеры и жёлдаты; за ними ехал верхом на сером коне полковник и рядом с ним генеральный бунчужный, окружённый компанейцами. Полковник вёз знамя войска Запорожского, государей царей и великих князей Иоанна и Петра Алексеевича и царевны Софии Алексеевны, — треугольное с изображением на обеих сторонах Российского герба, под коим крест из звёзд и образ Спасителя с надписью: «Царь Царём и Господь Господем». По бокам креста также молитвенные надписи, а внизу: 1688 года 6-го Января, дано их Царскаго Величества верному подданному войска Запорожскаго обоих сторон Днепра гетману Ивану Степановичу Мазепе. В руках Генерального бунчужного был золотой бунчук. Потом был берлин гетмана, окружённый надворною гвардиею, за берлином казаки и народ.
В этот день Иван Степанович был в Андреевской лепте, в светло-зелёном бархатном кафтане, опушённом чёрными соболями с бриллиантовыми пуговицами и золотыми снурками; кафтан этот подарен был гетману царём; в руках держал он большую булаву, осыпанную драгоценными камнями. Мазепа, встреченный духовенством у входа в церковь, стал по левую сторону царских дверей на обычном своём месте: его окружали Генеральная старшина, приехавшие к тому дню полковники и другие чины и посполитство.
Василий Леонтиевич, приехавший раньше гетмана, стоял в отдалении от всех; на бледном болезненном лице его ясно выражалась сердечная грусть.
Отслушав обедню, приложившись к св. кресту и принявши от архимандрита просфиру, Иван Степанович оборотился к Генеральной старшине, поздравил их с праздником, пригласил к себе на обед, потом подошёл к молившемуся Кочубею, взял его за руку, вышел с ним из церкви, посадил с собою в берлин и приказал ехать домой.
— Василий Леонтьевич, ты меня и знать не хочешь! Слушай, верный товарищ мой, друже, родичу милый, можно ли тому поверить, что горделивая жена твоя выдумала на меня — ты видишь меня — слава Богу милосердному, седьмой десяток лет живу на свете — старик уже, нет зубов — кашу ем, ходить не в силах... и чтоб я свою крестницу, мою коханую дочку так опорочил — не смех ли это, скажи сам, Василий Леонтьевич, по чистой совести? А?.. Что ж ты задумался — рассуди сам: не выдумка ли это твоей Любоньки! Так, Василий Леонтьевич, ты плачешь, поверив несправедливым словам своей жены; плачу же и я, жалея тебя. Горе мне! Ты был у меня во всех делах верное моё око, правая моя рука, — забыл ты меня, и Бог забудет тебя! Я пред тобою невинен — клянусь всеми киевскими угодниками, клянусь самим Господом, я невинен; не клялся бы я так и не говорил бы тебе об этом, если бы не жалел несчастной твоей дочери и не любил бы тебя; ты знаешь меня — такие дела я оставлял без уважения; но теперь у меня болит сердце и душа тоскует.
— Как мне не горевать, ясневельможный, когда дочь моя ночевала в твоём доме.
— Слушай, Василий Леонтьевич, ты, я вижу, не разобрал дела и поверил жене; слушай же, мне пред тобою неправды не говорить: ты знаешь, что святые от отцов своих укрывались — так и Мотрёнька: бежала от злобной матери: приехала она ко мне рано утром, — ты хоть её расспроси под клятвою, пред образом, — сама она упросила гайдука моего Дмитра взять её и привезть ко мне, не была у меня и минуты; я расспросил всё и отправил её к тебе.
Кочубей тяжело вздохнул и сказал:
— Не знаю, как это будет!..
— Так будет, Василий Леонтьевич! Выдумкам жены будем верить и погибнем!
— Не знаю, что и сказать!
— Так знай же, куме, что твоя дочка чиста и непорочна, я готов пред Богом присягнуть!
— Не знаю, что сказала бы Любонька, услышавши твои слова, ясневельможный!
— Что ты мне с своею горделивою Любонькою — она погубила родную свою дочку; грех, тяжкий грех на её душе; Бог рассудит всех нас.
— Так и я говорю!.
— Да так, так!
Берлин остановился у крыльца.
Скоро съехались гости. Между тем накрыли столы, поставили наливки, водки, принесли разные закуски, и гости принялись за завтрак, перешёптываясь между собою о том, что Кочубей приехал до гетмана; а до этого более трёх месяцев не бывал он в доме гетмана, что Любовь Фёдоровна на верёвке его держала всё время.
— Было б ему ещё десять лет сидеть, не ездить до гетмана и верить глупым словам жены — прости, Господи! — сказал генеральный бунчужный.
— Смех и только.
— Да просто курам смех! — говорили гости, украдкою посматривали на печального Кочубея, выдумывая на его счёт разные остроты, и от всего сердца хохотали.
Возвратившись домой, Кочубей рассказал Любови Фёдоровне встречу и обхождение с ним гетмана и присовокупил:
— Бог его знает, а как и на мою думку, так Иван Степанович безгрешный против нас; а мы только с тобою опечалились и дочку нашу огорчили.
— Что ты мне говоришь, безумец ты, разве у меня глаз, головы и ушей нет, разве я глухая и слепая, что ничего не слышала, не видела и не знала!..
Василий Леонтьевич замолчал.
— Ты не рассуждай, а слушай, что говорю, то и делай!
— Слушаю, душко!
— То-то!
Прошло несколько месяцев, благонамеренные люди заговорили, что всему злу и несчастию Мотрёньки причиною злая мать; утверждали, что старик гетман вовсе ни в чём не виновен против Кочубеевых, Мотрёньку любил как крестную дочь. Были в числе этих благонамеренных, которые открыто по дружбе представляли Кочубею всю несообразность и невозможность подозрений. Василий Леонтьевич рад бы увериться в справедливости представленных обстоятельств, но он боялся и думать несогласно с мнением жены, хотя ясно видел в этом разе явную её несправедливость; но так надобно было, так приказала Любовь Фёдоровна, и думать иначе нельзя!..
Чрез неделю Мазепа приехал в дом Кочубея, и, против ожидания, Любовь Фёдоровна приняла его чрезвычайно ласково, Василий Леонтьевич душевно радовался этому — Любовь Фёдоровна даже искренно просила у гетмана прощения в своём негодовании на него, говоря, что злые люди всему причиною, что если бы она не слушала поганых языков, так ничего бы и не было подобного.
Иван Степанович не старался доказывать и утверждать справедливость слов Кочубеевой; истина, видимая для всех, была на его стороне. Распивши несколько бутылок дедовского мёда, Мазепа и Василий Леонтьевич уехали вместе в Бахмач по войсковым делам, Любовь Фёдоровна и Мотрёнька остались одни.
Чрез два дня после выезда Кочубея в Бахмачь, в полдень, когда Любовь Фёдоровна сидела на крыльце и выторговывала два десятка золотых карасей, принесённых знакомым рыболовом, но дороге вдали заклубилась пыль.
— Эй, хлопцы, обедать приготовляйте, пан едет — скорей же мне!
Слуги засуетились и начали готовить для обеда стол.
Любовь Фёдоровна, закончив торг за караси, вошла в комнаты, и в ту же минуту бричка, дребезжа и стуча, подкатила к крыльцу, и против ожидания из брички вышел не Василий Леонтьевич, а Чуйкевич, прежний жених Мотрёньки; увидев его, Любовь Фёдоровна обратилась к Мотрёньке, стоявшей у окна, и сказала:
— Твой жених приехал; ей-же-ей, если бы посватал теперь, перекрестившись обеими руками, отдала бы тебя за него.
Мотрёнька надула нижнюю губку и тихонько ушла.
Чуйкевич вошёл в комнату.
— Слухом слыхать в очи видать, с какого царства, с какого государства прилетел, ты мой ясный сокол! Сколько лет, сколько зим не видала я тебя, моего сизого голубчика; и не стыдно ж тебе забывать нас, забывать меня, когда я любила тебя как сына родного!
Чуйкевич поцеловал одну, потом и другую руку Любовь Фёдоровны и сказал.
— Мати моя родная, три месяца с постели не вставал, и едва только немного оправился, в ту ж минуту сел в бричку и прилетел к вам!
— Бедный сын мой был не здоров — что ж у тебя болело?
— Ох, ох, ох!.. Известно, что, мати моя, — сердце болело!..
— От чего ж-таки сердце болело?..
— Ох! Разве и не знаете, от чего моё сердце болит?!
— Да от чего ж, право, не знаю, — ты когда-то говорил, что любишь дочку мою; и она тебя любит, разве ты уже другую полюбил?..
— Никого не полюбил и никого не любил, кроме дочки вашей.
— Вот и горазд, — чего ж тужить.
— Тужить? Как же мне не тужить... Если бы я знал…
— Да ты так, Василию, прямо скажи мне, — ты знаешь, я не люблю никаких рацемоний: любишь Мотрёньку? Хочешь жениться на ней? — Скажи мне, как родной своей матери, и верь мне, всё сделаю, как захочешь — я тебя сама люблю, как родного сына!
Чуйкевич поклонился и поцеловал руку, потом опять поклонился в пояс и сказал:
— Да если бы ваша милость была...
— Ну добре, что ж дальше?
— Да хоть и так!
— Что ж так?
— Да хоть бы и отдали за меня вашу дочку!
— Ну и добре, сыну; чего ж ты ещё стыдился сказать мне, — ты знаешь, без меня сделать этого нельзя, хочешь, чтоб я была мать твоя и скрываешься от меня. Ну, сыну, Господь Бог благословит тебя! Посиди здесь, я позову Мотрёньку, пока что, мы теперь одни, Василия Леонтьевича нет дома — поехал в Бахмач, так мы и без него порешим дело.
Любовь Фёдоровна вышла.
Чуйкевич, приехав с той мыслью, чтобы вторично просить руки Мотрёньки, и полагая, что по-прежнему получит отказ, заранее уже страдал: до него долетали сплетни насчёт Мазепы; но, будучи благоразумен, Чуйкевич счёл слухи эти за гнусные наветы, и не верил никому и ничему; но рассчитывал, что эти сплетни сделают Кочубеевых сговорчивее — и не ошибся.
Вошла Любовь Фёдоровна, ведя за руку Мотрёньку.
Чуйкевич остолбенел, увидев свою невесту: в глазах его она совершенно переменялась.
— Господи Боже, кого я вижу! — воскликнул он. — Что с тобою, Мотрона Васильевна! Ты из мёртвых воскресла… ты была больна — так ужасно похудела. — Господь с тобою!..
— Это в другое время расскажешь ей, сыну, а теперь, вот твоя невеста: люби и жалуй её, и я тебя буду любить и жаловать; поцелуйтесь... ну, ну, полно стыдиться, при мне можно поцеловаться; поцелуйтесь!
Чуйкевич обнял и поцеловал Мотрёньку.
— Слушай, Василий, ты же не откладывай день за день ни сватанья, ни венчанья; а скажи, когда со старостами приедешь за рушниками и когда свадьбу назначишь? По-моему, так нечего откладывать — я бы повезла вас в церковь, поставила бы хорошенько в парочке, да и сказала бы:
— Венчай, батюшка, детей моих. Перевенчала бы вас, привезла бы вас к себе, отгуляла свадьбу, да и с Богом — на все четыре стороны!
— Да хоть и гак!
— Когда ж свадьба, назначь сама.
— Да хоть и после зелёных святок.
— Ну и добре!
В ту минуту, когда Любовь Фёдоровна условливалась с Чуйкевичем о дне свадьбы, Василий Леонтьевич, возвратившийся с Бахмача, тихо вошёл в комнату: нечаянное его появление порадовало жену.
— Поздравляю тебя с новым сыном, Василию! — радостно сказала Любовь Фёдоровна.
Василий Леонтьевич понял, в чём дело, и, поздоровавшись с Чуйкевичем, поблагодарил жену за поздравление.
Любовь Фёдоровна продолжала:
— Добрый сын мой! — она наклонила к себе голову Чуйкевича, погладила её и поцеловала. — Добрый мой сын, скоро за рушниками приедет к нам... Ну, Василий, благодари Господа Бога — отдаю я Мотрёньку замуж, как ты думаешь?
— Как мне ещё думать, Любонько, когда ты согласна, так и я, как ты скажешь, думаю.
— И горазд; ну, дети мои милыя, поцелуйтесь лее ещё раз.
Мотрёнька, бледная, сидела молча, очи её тускло блистали, уста были покрыты мёртвою синевою и выражали болезненную улыбку. Чуйкевич подошёл к ней, взял за руку и поцеловал. Любовь Фёдоровна, видимо, торжествовала, Чуйкевич тоже; по выражению лица Кочубея трудно было узнать состояние его души.
Дом Василия Леонтьевича наполнился Гальками, Домахами, Стехами, Приськами; все они пели песни, шили и вышивали приданое для своей милой панночки; но панночка, к общему сожалению, слегла в постель.
— Изурочили, сглазили злые люди из зависти нашу панночку, — говорили девки, и умолкли их песни. Любовь Фёдоровна собрала со всего Батурина шептух и знахарей; знахари и шептухи, подкуривши страждущую пухом из перин, наговорённою шелухою с луку, змеиною чешуёю, купали её в тёплой воде, в которую, когда она кипела, бросали чёрных живых куриц, делая над ними разные заклинания; ставили больную против месяца, шептали, умывая её лицо водою, освещённою месяцем, — выливали каждый день переполох... но всё это не помогало; послали в Полтавщину за прославленным там шептуном Ильёю; приехал старик, посмотрел на Мотрёньку, покачал седою головою и сказал.
— А что ж, пани, — отгоню злую беду от вашей дочки, только скажите наперёд, сколько порешили дать мне за труды мои карбованцов?..
— Пять!
— Добре!
Старик принялся купать больную, и после третьей ванны Мотрёнька, которая между тем, во время болезни и знахарских истязаний, почувствовала облегчение; всякий раз, когда она выходила из ванны, пот градом катился с неё, к удивлению всех; через неделю она встала с постели и прохаживалась по комнате. Илья за шептанье и лечение получил пять целковых да два мешка пшеницы и с радостью уехал обратно в Полтавщину.
Веселее запели девицы, радуясь выздоровлению панночки, в доме Кочубея вдруг псе оживилось, сам Василий Леонтьевич, казалось, реже задумывался, иногда начинал даже шутить и смеяться.
Любовь Фёдоровна — нечего и говорить, от восторга с утра до вечера суетилась, заботясь скорее кончать приготовляемое приданое.
Через месяц всё было готово: три высоких и длинных сундука, окованные железом, вмещали в себе приданое Мотрёньки; день на день из Полтавщины ожидали пана Искру, из Ахтырки полковника Осипова да полковников Лубенского, Переяславского, Прилукского и некоторых своих родственников.
Мало-помалу съехались жданные гости, и дом Василия Леонтиевича наполнился, как кошница наполняется золотым зерном пшеницы.
Был май на исходе. Любовь Фёдоровна целый день смотрела в окно, ожидая жениха, но его всё не было; часу в четвёртом послала нарочного вершника за две мили вперёд высматривать ожидаемого гостя, но через час и вершник возвратился, Кочубеева начала скучать, в голове её родилась мысль, что Чуйкевич не сдержит своего слова и не приедет за рушниками; с этою беспокойною мыслью легла она в постель и целую ночь не могла уснуть; наутро то же самое: ждала целый день, и всё нет как нет дорогого гостя.
Мотрёнька — эта живая тень мертвеца — в дни предшествовавшие сильно грустила; теперь, казалось, на лице её хотя на мгновение, а всё же пролетала радостная улыбка, в свою очередь, она душевно радовалась неприезду Чуйкевича — она его не только не любила, но, одним словом, ненавидела: в последнее время её очень занимала мысль навсегда оставить свет и поселиться в тихом уединённом монастыре.
Вечером, когда Любовь Фёдоровна и забыла о жданном госте, к крыльцу подкатились две брички; из одной выпрыгнул Чуйкевич, а из другой два старика.
Любовь Фёдоровна тогда уже увидела приехавших, когда гости вошли в комнату.
Жених был одет в жупань светло-зелёного сукна, подпоясан красным шёлковым поясом; а старосты, старики, — тёмного цвета; все при саблях в смушевых сивых шапках и в красных сафьянных сапогах, шитых золотом, с серебряными каблуками. Помолившись к святым иконам и поклонившись на все четыре стороны, жених пошёл вперёд, а за ним старосты. Любовь Фёдоровна и Василий Леонтиевич ласково приняли гостей и усадили на диван.
Начался разговор. Кочубей говорил о войсковых делах, Любовь Фёдоровна рассказывала о своём хозяйстве — хвалила сама себя. Чуйкевич, опустив глаза в землю, молча сидел против Мотрёньки, также безмолствовавшей.
— Знаем, знаем вашу милость, хозяйство у вас, нечего и говорить, дал бы Бог и детям вашим такое, так и счастливы будут, — сказал един из старост.
— Дай Боже!
— Мы слышали от людей, да и сами знаем, что в вашем хозяйстве в зелёном садике есть тонкая да высокая берёзонька, зелёная берёзонька; а в нашем саду есть высокий дубок, — чи не можно те-е-те, як его... гм, гм?. — спросил другой староста, покручивая усы.
— Гм... гм... от чего ж и не можно, всё на свете можно.
— Вот и добре, добродийко! Таки-так, что берёза и дубок в одном саду расти будут? — спросил другой староста и пригладил чуприпу.
— Да хоть и так, я согласна.
— А вы, наш добродий и благодетель наш Генеральный судья, как вы скажете мудрым словом своим? — спросил староста, у которого чёрные усы были в четверть аршина длиною.
— Да я так и скажу, как сказала вам моя пани; ся берёзка: что знает пани добродинка, пусть то и делает, её воля вольная!..
— Разумное слово!
— Разумное, нечего сказать!
— Эге, что так! Ну что ж будете делать, паны старосты? — спросила Кочубеева.
— A-так, пани добродийко, чи не можно, чтоб рушниками перевязать вашу зелёную берёзку, да нашего прямого дубка, — так-таки скажите в одно слово?
— Ох вы, мудрые да умные паны старосты, а как моя берёзка да ваши руки перевяжет, что тогда скажете-с? — с весёлостью спросила Любовь Фёдоровна.
— А что скажем-с, — с самодовольствием отвечал староста, — будем в пояс кланяться вам, да и нашего дубка заставим поклониться!
— Ну, когда на то пошло, принеси ж ты, моя зелёная берёзка, моя дочко Мотрёнько, шёлковую хустку да отдай её зелёному дубику.
Встала Мотрёнька, вышла в другую комнату и через несколько минут с заплаканными глазами вынесла на серебряном подносе шёлковый платок розового цвета и поднесла его Чуйкевичу. Чуйкевич взял платок и на место его положил десять червонцев.
— А принеси ж теперь, дочко, орляные рушники.
Пошла Мотрёнька в другую комнату и опять воротилась, неся на том же серебряном подносе два длинные, тонкого холста утиральника, с вышитыми по концам красным шёлком орлами. Поднесла одному старосте, староста взял рушник и на место его положил пять червонцев; поднесла другому — и другой то лее сделал.
— А-ну, пане добродию Кондрате, перевяжи ж меня рушником!
— Добре, пане добродию Иване; перевяжи и ты меня.
Старосты друг другу повязали через плечи рушники, взяли за руку жениха и невесту и подвели к отцу и матери, прося их благословить своих детей.
Сделавши три земные поклона, Чуйкевич и Мотрёнька стали на колена перед родителями и наклонили головы.
Василий Леонтиевич благословил детей иконою Спасителя и Божией Матери, потом благословила Любовь Фёдоровна и матерински наставляла их любить друг друга, жить в мире и согласии.
После этого началось чествованье старост: пили за здравие помолвленных, за здоровье отца и матери и всех добрых людей.
Поздно вечером старосты и молодой уехали, дав слово назавтра приехать к обеду.
Мотрёнька пошла страдать в свою комнату, Любовь Фёдоровна занялась приготовлением к свадьбе, которую положили сыграть не откладывая. Василий Леонтиевич сидел в своей комнате и обдумывал предстоявшую поездку к Мазепе, просить его гетманского позволения выдать дочь за Чуйкевича и вместе с этим пригласить его и на свадьбу.
На другой день рано утром Кочубей сел в берлин и поехал в Гончаровку к гетману; когда вошёл Василий Леонтиевич в писарню гетмана, Мазепа писал письмо на польском языке, за спиною его стояли Заленский и какой-то видный собою поляк.
Мазепа по обыкновению принял Василия Леонтиевича с распростёртыми объятиями; казалось, между ними не только никогда не существовала вражда, но и не могла быть. Заленский и поляк вышли.
— Приехал до твоей милости, ясневельможный добродию, гетмане Иване Степановичу, просить разрешения: я посватал Мотрёньку за пана Чуйкевича, будь ласков, на свадьбу покорнейше просим: не откажи нам в чести.
— Как хочешь, добродий, Василий Леонтиевич, как хочешь, мой наймилейший, найлюбезнейший куме, так и делай; а когда попросишь моего совета, так скажу тебе, что скоро, скоро гетманщина будет под иною властью благою, законною; тогда найдётся другой жених для Мотрёньки из знатных шляхтичей, который будет вам доброю подпорою! Вот тебе, куме мой милый, совет мой!..
Кочубей молчал.
Мазепа говорил ему о притеснениях, какие делает гетманщине Московский царь, и хвалил короля Польского, страшился шведов и боялся нашествия Карла на гетманщину. Василий Леонтиевич удивлялся откровенности гетмана; но не догадывался, что чем Мазепа был откровеннее на словах, тем скрытнее на деле, чем неосторожнее в обхождении, тем злее и хитрее была его душа.
Мазепа уклонился от обещания быть на свадьбе, просил только помедлить. Кочубей возвратился домой; слышанное слово до слова передал Любови Фёдоровне.
— Ну, Василий, как ты себе хочешь, а я боюсь, чтоб гетман опять не наделал нам беды; и потому-то завтра же, с благословением Божиим перевенчаем детей, да и свадьбу отгуляем; у меня всё готово.
— Как хочешь, душко.
— Так будет, как я тебе говорю.
— Когда так, так и так!
В этот же день Любовь Фёдоровна распорядилась устроить всё к венцу дочери.
Вечером дружки собрались к Мотрёньке, пели печальные и радостные песни, а на другой день, к удивлению всех, Мотрёнька стояла рядом с Чуйкевичем, и отец Игнатий с отцом Петром перевенчали их. Загремели в доме Кочубея скрипки, басы, литавры, бубны и цимбалы; старики и молодые танцевали казачка, метелицы, журавля; пели, и веселие шумною рекою лилось в дом... а сыч по-прежнему кричал в саду.
XXIII
Любовь Фёдоровна ставила в церкви пред образом Божией Матери толстую и высокую свечу и думала:
— Благодарю Тебя, Владычица Небесная, за неизречённыя милости Твои, благодарю, Царице души моей, что сподобила меня выдать Мотрёньку замуж, — и вслед за молитвою, лукавый помысл разыгрался во всю пустоту тщеславной души. Любовь Фёдоровна мечтала: теперь не помешает она мне в давно затеянном деле, не станет среди дороги, не опередит меня. Гетман злится на нас, пусть злится, потерплю с месяц, а там сумею, что сделать, не долго остаётся держать тебе, изменник, булаву! Отдадут её Василию, буду и я гетманшей, тогда даю обещание — икону Матери Божией обложить серебряною шатою, на Спасителя — позолоченный венец сделаю и куплю ко всем иконам ставники. Гетман теперь нас и знать уже не хочет: как же, вишь, против согласия его выдали дочку! Жаль, что не отдали её за какого-нибудь нечестивого ляха, друга гетманского, — куда ж как хорошо! Но вот моё горе, Чуйкевич каждый день у гетмана, проклятый Мазепа приманил его к себе... ну, ничего, всё ничего, я своё выполню.
Поставила свечу, перекрестилась, стала на своём месте, слушает молитвы, крестится и всё не перестаёт обдумывать, как бы удобнее устроить погибель гетману.
Мазепа действительно негодовал на Кочубея за скорую свадьбу дочери, на которой он не был; честолюбие старика возгорелось, и он принял сухо Василия Леонтиевича, приехавшего к нему чрез несколько дней после свадьбы.
Чуйкевич, как и отец его, в прежнее время не любил гетмана; любя же безумно Мотрёньку, он повиновался её желаниям, исполнял все её требования, и поэтому-то, на другой день, к досаде Любови Фёдоровны, Чуйкевич с Мотрёнькою поехали к Мазепе. Радость, что видит Мотрёньку; печаль, что она выдана против его желания, так слились в сердце старика, что нельзя было постичь состояние его духа; если, чему именно радовался он вслух, так это собственно тому, что Мотрёнька теперь избегнет истязаний злой матери.
Поблагословивши молодых, гетман одарил их деньгами и богатыми вещами и взял с Чуйкевича честное казачье слово, что часто будет заезжать к нему с Мотрёнькою. По отъезде их Мазепа несколько дней был чрезвычайно грустен и задумчив.
Недели две или три после свадьбы Любовь Фёдоровна сидела вдвоём с женою полтавского полковника Искры — чрезвычайно красивой собою малороссиянки; будучи оставлена Мазепой, некогда великим другом её, она сделалась его отъявленным врагом. Об чём-то горячо разговаривали; дверь комнаты, для предосторожности от нежданного гостя, была заперта.
— Вот, сестрица моя милая, я тебе сейчас покажу, прочитай, сделай милость, я с нетерпением ждала тебя и никому не давала читать; а Василий ни за что не сказал бы мне, что пишет гетман; да я, признаться тебе, просто украла это письмо у него, он и не знает и не догадывается; сказано, беспечная голова!..
— Ну, добре, сестрице.
Искрина развернула письмо, посмотрела на подпись и громко её прочла:
— Иван Мазепа... так сестрица, гетман писал письмо!
— Ну, что ж пишет, читай!
— А вот, слушай!
Искрина прочла письмо Мазепы, писанное в ответ на письмо Кочубея, в котором Василий Леонтиевич упрекал гетмана касательно Мотрёньки.
Любовь Фёдоровна, услышав мнение о ней Мазепы, что она гордая, заносчивая, злобная, что она одна причиной печали и несчастия Кочубея, так рассердилась и пришла в такое бешенство, что не помнила слов своих, не знала, что делала; она стала перед образом, перекрестилась и с криком произнесла:
— Господи Боже, и ты, Пречистая Матерь Божия, накажи изверга дьявола Мазепу, да постигнуть его со всем его домом все казни египецкия! — и потом подошла к столу, ударила кулаком по нему и закричала громче прежнего:
— Докажу тебе, сестрица, докажу, что проклятый гетман недолго будет гетманствовать, вспомнишь ты через год мои слова и тогда скажешь, правду я тебе говорила!
Искрина поджигала Кочубееву.
После выезда Искриной Любовь Фёдоровна с большим нетерпением ожидала возвращения Василия Леонтиевича, который был в Батурине; к вечеру он возвратился.
— Что слышал, Василий, про гетмана, какой он думки? Мне Искрина говорила, Мазепа непременно хочет, чтобы гетманщина была за поляками!
— Слышал и я это, все говорят так, да кто знает, что думает сам гетман; может быть, одни слухи. Правду сказать, не нашим неразумным головам понять его: он человек великаго и хитраго разума.
— Слухи! У тебя всё одни слухи... кому ж он говорил, тебе или кому другому, когда ты ездил к нему перед, свадьбою Мотрёньки, чтобы ты обождал выдавать её замуж, что будем за поляками, так для неё сыщется жених из знатных шляхтичей!
— Так, Любонько, так; да послушай меня, что ещё я от него слышал!
— А что?
— Месяца три тому назад, когда я был у него один, он позвал меня к себе в спальню, запер дверь, да и говорит:
— Знаешь, куме, мать Вишневецких, княгиня Дульская, когда мы будем за поляками, сделает меня князем Черниговским; а казацкому войску даст великия вольности и выгоды; вот тогда-то, куме мой милый, роскошь и житье нам будет; это верно, — говорил гетман, — как Бог свят верно, Станислав близкий родственник Дульской.
— Когда ж это Дульская говорила ему?
— Когда Мазепа был в селе Дульской, в Белой Кринице, он тогда крестил с нею сына князя Януша Вишневецкаго.
— Вот какой гетман… а царь, Господи Боже твоя воля, как любит его царь!
— Да, Любонько, и за здоровье Дульской не раз уже пили мы венгерское за обедом у гетмана; пили и тогда, когда приехал к нему боярин Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, и сказал, что Синицкий побил войска царския. Гетман, нет чтоб печалиться, так смеялся, да винцо попивал за здоровье Дульской, — всего бывало!
— Василий, милый мой Василий, послушай добраго слова моего, послушайся меня последний раз, и увидишь, когда в руках наших не будет гетманская булава!
— Что ж, Любонько, разве я когда-нибудь не слушал тебя!
— Да всё оно так, но послушай совета моего в этот раз... послушаешь?
— Послушаю.
— Пошлём донос царю на гетмана, пошлём тайно!
Василий Леонтиевич покачал головою и спросил:
— Как же это будет, что из этого выйдет?
— Что выйдет, Василий, выйдет то, что ты будешь гетманом, а я гетманшею!
— Нет, что-то не так, Любонько!
— Тебе всё не так — рассудишь ли ты что-нибудь своим разумом, голова твоя бедная!
— Да что ж мы донесём!
— Что донесём? Ты слушай меня!..
Кочубей вздохнул.
— Тяжко, когда в уме на полушку нить разума!.. Не вздыхай, а слушай меня.
Кочубей отвернулся от жены.
— Ты и слушать меня не хочешь?!..
— Не век же мне жить жиночим умом!
— Ах ты... жиночим умом не жить ему! Да где ж у тебя свой разум, когда не слушаешь, что я тебе говорю!
Любовь Фёдоровна застучала об пол ногою и громко сказала.
— Ты слушай, что я приказываю тебе, а своего ничего не выдумывай, умник ты!..
— Да я, Любонько, слушаю тебя, Господь с тобою, откуда взяла ты, что я не слушаю тебя!
— Так и слушай, что я говорю, тебе: на гетмана пошлём донос дарю, гетмана в кандалы, а тебе булаву.
— Добро, Любонько.
— То-то, что добре! Разве мы не правду донесём дарю, когда скажем, что Мазепа снюхался с королём Лещинским и хочет отдать ему гетманщину; что Заленской, проклятый иезуит, тайно привозит к нему письма из Польши; что когда в Батурине проезжал Александр Васильевич Кикин, Мазепа думал, что едет сам царь, так чтоб убить царя — поставил в тайных местах вокруг Бахмача триста сердюков с заряженными рушницами, отдав приказание им по знаку стрелять в того, на кого он покажет. Ого-го, я всё знаю, Василий, и ты того не знаешь, что я знаю; не бойсь, помолись Богу, да и за дело: ты не простой казак, гетман не повесит, в тюрьму не посадит тебя... нечего страшиться, а донесём о его предательских делах — и будешь гетманствовать!
— Добре, Любонько, я на тебя надеюсь, на тебя полагаюсь, ты всё сделаешь, как сама задумала такое великое дело... сама решай; у тебя, правду сказать, голова умная, а я человек слабый: сам знаю, что ж, Богу так угодно было… ты у меня розумная пани.
— Сам знаешь это, ну и слушай меня; исполняй волю мою и булаву возьмёшь, когда всё кончим это твоё дело, а обдумывать моё!
— Добре, Любонько, ей ей-же добре!..
— То-то что добре!
С этого часа Любовь Фёдоровна не переставала каждый день тревожить Кочубея, чтобы он написал донос на гетмана. Василий Леонтьевич, по обычаю, уступал, соглашался, не отказывался исполнить, а сам день за день откладывал настояние жены до лучшего и счастливейшего часа, как выражался он.
Между тем Мазепа узнал, что царь поехал в Киев, поспешил и сам за ним, назначив по себе Наказным гетманом Генерального судью Василия Леонтиевича Кочубея, к неописанной радости и торжеству Любови Фёдоровны.
— Теперь всё достигну, — подумала Любовь Фёдоровна и, поздравляя мужа с Наказным гетманством, прибавила:
— Василий, нужно так сделать, чтобы с этого часа булава навсегда уже осталась в твоих руках; не получит её обратно проклятый Мазепа; сам Господь за нас, чего же нам медлить, — донос царю, Мазепу в кандалы, а ты из наказного да настоящим гетманом, — хитрость не велика!..
— В самом деле! — подумал Кочубей: лукавый тут и его осетил блеском булавы, — жена дело говорит: хорошо если бы не отдавать назад булаву Мазепе! — и согласился на её затеи.
Как послать донос и через кого, вот была задача для Кочубея и для жены его; но случай представился, и притом, как думала она, редкий случай, посланный самим Богом для наказания нечестивого Мазепы.
День был не так жаркий, как вообще бывают в Малороссии июльские дни. В шестом часу вечера, верстах в двух от Батурина, у земляной могилы, находившейся подле самой дороги, отдыхали усталые от пути два чернеца и любовались прекрасным видом Батурина и его окрестностей. По чёрной извилистой дороге ехал вершник, и казалось, всё отдалялся от Батурина к черневшемуся лесу; но вдруг остановил коня, и как будто заметив что-то в стороне, где сидели чернецы, начал приближаться к ним.
— Он к нам едет, отче Никаноре?
— Кажись, к нам, брате Трифилию!
— К нам, отче!
Вершник действительно приблизился к монахам, сняв перед ними шапку, поклонился и спросил:
— Отпочиваете, батюшки?
— Отдыхаем, брате!
— А не можно спросить, откуда?
— Из монастыря!
— А из какого?
— Из Севскаго Спаскаго.
— А, знаю; когда-то и я с панами был в вашем монастыре.
— С какими панами? — спросил Трифилий.
— Ас Наказным гетманом Василием Леонтиевичем Кочубеем и женою его, Любовь Фёдоровною; тогда ещё панночка наша не была за паном Чуйкевичем, да ещё жива была и покойная, Царство ей небесное, Анна Васильевна, знаете, что за Обидовским была.
Черновцы смотрели друг на друга в недоумении.
— Что ж, разве не знаете панов моих, они были в монастыре?.. Да Кочубея кто не знает! — Наказный гетман; он как приедет в какой монастырь, так со всеми чернецами заведёт дружбу, страх как любит чернецов; и грех сказать, набожный пан, вы не заходили к нему?
— Нет! — отвечал Никанор.
— Жаль; а он бы и на монастырь дал, и вы бы славно отдохнули в будынках; его первая радость разговаривать с чернецами; он, батюшки, пан добрый, милостивый и любит всяких: богомольцев, а вас паче всех.
— Ну, когда так, отведи нас, брате, к твоему пану; подаст что на монастырь — Господь душу его спасёт!
— Добре, батюшка!
Казак слез с лошади, взял её за повод и, разговаривая, пошёл вместе с монахами в Батурин.
Василий Леонтиевич и Любовь Фёдоровна были дома, Иван ввёл чернецов в комнату Василия Леонтиевича.
Наказный гетман только что подписал поданные ему Генеральным писарем универсалы; радостно встретил он нежданных гостей, подошёл под благословение монаха Никанора и, усадив в кресла, спросил:
— ОI куда и куда Бог несёт?
— Из святого Богоспасаемаго града Киева в свой монастырь!
— Ходили Богу молиться в Киев?..
— Так, гетмане, ходили Господу милосердному молиться.
— А что слышали в Киеве про шведов, в Киеве ли царь?
— В Киеве, а шведы, по слухам, близко от святаго города.
— Горе, тяжкое горе гетманщине!
— Господь Бог заступит: за грехи покарает, за милость свою нас сохранит и помилует, вера в Бога всякаго врага побеждает!
Вошла Любовь Фёдоровна, монахи встали, поклонились; Любовь Фёдоровна поцеловала руки обоих иноков, они её поблагословили.
— Молимся Господу, да сохранит нас, да покроет нас Царица небесная покровом своим святым!..
— Так, ясневельможный гетмане, сила человеческая не страшна, когда мы будем веру иметь в сердцах наших.
Любовь Фёдоровна внутренне возрадовалась, услышавши, что чернецы называют мужа её ясневельможным гетманом.
— О чём говорите?
— Просим у Господа защиты от врагов, приближающихся к гетманщине.
Мазепа в Киеве?.. Вы, батюшки, в Киев идёте?
— Из Киева, Мазепа в Киев, — отвечал Никанор.
— И царь в Киев! — добавил Трифилий.
— Кто ж другой причиною, как не Мазепа, что шведы приближаются к гетманщине, он же тайно писал к Карлу... вот и накликал гостей; царь ничего не знает про дела гетмана.
Чернецы молчали.
— Ты бы, Любонько, приказала приготовить вечерю для отца Никанора и отца Трифилия: они устали от пути.
Любовь Фёдоровна немедленно вышла сделать распоряжение об ужине для дорогих гостей; а Василий Леонтиевич поговорил ещё с ними о войсках и крепости Киевской, ввёл их в свою писарню, попросил их остаться у него, поужинать и переночевать; путники благодарили за Ласки Кочубея и его жену.
— Василий, сам Бог послал нам чернецов, чтоб мы открыли им измену Мазепы; говорю тебе, сам Бог послал их, нечего опасаться, завтра мы переговорим с ними!
— Сам Бог послал их, ты праведно говоришь, Любонько, но чернецы идут не в Киев, а возвращаются в свой монастырь, донос через них нельзя послать царю.
— Слушай меня, и всё будет хорошо.
— Я слушаю тебя, Любонько!
— То-то. Отец Никанор разве не может пойти в Москву, поклониться Московской святыне; а между тем, всё, что мы откроем ему про Мазепу, передаст боярину Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину, никому и в голову не придёт мысль, что мы чрез чернеца известим царя про намерение гетмана изменить ему: сам хорошенько подумай, Василий, если уже мы положились донести, то кому другому вернее поручить это важное дело, как не чернецу Никанору: поручить можно казаку или своему гайдуку, — скажешь ты, — и сам себя погубишь, — разве ты не знаешь, сколько тайных людей по всем местам, которые всякую малость доносят Мазепе, а иезуит Заленский с своею братнею... да наши же стены скажут про нашу затею гетману, если мы поверим донос кому-нибудь из своих.
— Твоя правда, Любонько, мудрое твоё слово.
— Когда ж мудрее, так завтра всё откроем чернецу Никанору.
— Добре, ей же-ей, добре!
На завтра иеромонах Никанор и монах Трифилий отслушали обедню в домовой церкви Василия Леонтиевича и, отобедав вместе с семейством Кочубея, собрались в путь. Любовь Фёдоровна подарила им по холсту и по два орляных полотенца, а Василий Леонтиевич дал два рубля в монастырь для поминания его.
— Знаю, что дни мои изочтены! — сказал Василий Леонтиевич и, словно предчувствуя это, просил их но смерти поминать его и молиться о прощении грехов; кроме двух рублей на монастырь он Никанору подарил ещё ефимок.
Помолившись к образам и поблагодарив за хлеб-соль и за милости, путники взяли свои посохи, и Трифилий отворил уже двери... Любовь Фёдоровна сказала:
— Останьтесь, сделайте милость, переночуйте у нас, святые старцы; всё равно, днём раньше или позже прийдите в монастырь, ни беды, ни греха в этом нет; а когда вы в нашем доме, так, видимо, в нём пребывать благодать Божия, останьтесь переночевать.
Склонившись неотступными просьбами Любови Фёдоровны, отшельники решили остаться в доме Кочубея до утра. Любовь Фёдоровна очень возрадовалась.
Рано утром на другой день Любовь Фёдоровна вошла в сад и, походив немного по просадям, увидела, что Василий Леонтиевич, сидя в шатре, задумался, подошла к нему и сказала:
— Пора начинать, когда задумали; я целую ночь не спала, всё об этом думала: прикажу позвать отца Никанора, здесь никто нас не увидит, не услышит и не догадается, в саду нет ни души, да ещё и рано:
— Позвать так позвать, время по-пустому нечего терять.
— Останься здесь, а я пойду и прикажу позвать отца Никанора.
Любовь Фёдоровна ушла, Василий Леонтиевич перекрестился и довольно громко произнёс: «Господи, помоги!..»
В эту минуту пришло ему на мысль, что когда-то этак же точно собирался он доносить и на Самуйловича: но в это мгновение в шатёр вошли отец Никанор и Любовь Фёдоровна.
Приняв благословение иеромонаха, Василий Леонтиевич просил его сесть поближе к себе.
Любовь Фёдоровна вышла из шатра, обошла его вокруг, осматривая, не скрылся ли кто подле, не подслушал бы их речи; но не было никого. Осмотрев всё, она вошла в шатёр и села против мужа.
— Откуда ты родом, отче Никаноре?
— С Чернигова!
— С Чернигова?
— С самого Чернигова.
— А до поступления в монашество какую должность правил?
— С малых лет при церкве; отец мой был попом в Нежине в замковской церкве.
— А... а... а... добре, крепко добре;
— Отче Никаноре, мы просили тебя вчера остаться переночевать у нас, желая открыть тебе великую тайну! — сказала Любовь Фёдоровна.
— Тайну?
— Да, отче Никаноре, мы тебе откроем тайну, вот икона Богородицы, присягни перед нею, что не пронесёшь никому ни одного слова из того, что услышишь! — продолжала Кочубеева.
— Да, отче Никаноре, тайна великая, и когда поклянёшься, что не пронесёшь, откроем её тебе! — сказал Кочубей.
— Клятва такая — от лукаваго, грех, паны мои ясневельможные по сану отца духовнаго, я дал обет служить слову истины и блюсти тайну совести ближних моих. Ей, и вашу тайну соблюду, Господу споспешествующу… Да нужно ли и знать-то мне мирския тайны...
— Нужно! Нужно! Мы откроем тебе про нечестивыя дела бездельника, развратника и безбожника гетмана Мазепы, — сказала Любовь Фёдоровна.
— За что вы так честите своего гетмана, он человек набожный: года три назад богатый вклад прислал в наш монастырь... колокольня от его щедрот построена.
— Как его не бранить, когда он погубил дочь нашу, а свою крестницу: сватался на ней, мы ему отказали, — как можно было ему жениться на ней, да притом ещё и седой старик; она моя, галочка, была тогда настоящее дитя; после того, как мы отказали ему, он приманил её к себе... диявол!
— Господи, помилуй! — сказал монах, вздохнув от глубины души. — Клеветник древний диавол не утомляется сеять плевелы... кто может знать... помолимся о согрешении ближняго... несть греха побеждающаго милосердие неизеледимое...
— Что ты, что ты, отче Никаноре, — перебила его Кочубеева и начала передавать ему всё, что хотела сказать.
— Не избежит он страшного суда Божия! — сказала, наконец, Любовь Фёдоровна и, взяв за руку отца Никанора, вышла с ним из шатра в сад и, переходя из одной просади в другую, говорила:
— Бездельник и беззаконник, задумал нас погубить; в прошлом году был у нас на именинах мужа моего, пенял, отчего мы не выдали за него Мотрёньку, а отдали за Чуйкевича, что он и Чуйкевич — великая разница; а я ему сказала: да не коварничай, куме, не только ты развратил дочку нашу, но и наши головы хочешь отрубить; ты обвиняешь нас, что мы ведём тайную переписку с Крымом — не скроется от нас ничего, сам покойный писарь твой известил нас, он сказал нам и письмо писал до мужа моего, что ты сам за Василия Леонтиевича написал подложное письмо. «Гетман как будто ничего не знал этого и сказал: полно вам небывальщину говорить». — Если б царь из Киева приехал в Батурин, я бы всё сама ему рассказала; теперь видишь сам, честный отец, Мазепа изменник; страшно сказать, что задумал он: родину предать шведам да полякам; веру православную — иезуитам с Папою; царство Московское покорить себе; монахов побрать в солдаты; во всём мире насадить латинское нечестие... страх! Ужас!.. Да нет, не пройдёт ему всё это даром!
— Бог грешника рано или поздно накажет! А православную церковь Божию и врата адова не одолеют... но пора в дорогу, солнце высоко взошло.
Василий Леонтиевич, сидевший всё время в шатре, вышел в сад и, видя, что иеромонах благословляет жену его и собирается в путь, простился с ним и сказал:
— Проси, отче Никаноре, своего отца-архимандрита приехать к нам; я обещаю дать знатный вклад на монастырь, только чтоб отец-архимандрит немедленно приехал ко мне.
— Передам ему слова твои; Господь Бог да сохранит вас! — сказал отец Никанор, помолился и ушёл.
Любовь Фёдоровна проводила путников со двора.
Прошло три недели, нет ни слуху ни духу ни от отца Никанора, ни от его архимандрита: Любовь Фёдоровна, радовавшаяся вначале, что так успешно начали дело, теперь начала печалиться; ещё более расстраивали её чёрные предположения Василия Леонтиевича, который хотел уверить жену и сам был уверен, что отец Никанор вместо того, чтобы донести на Мазепу царю, отправился обратно в Киев и донёс всё слышанное от них самому гетману. — А может быть, — говорил Кочубей, — Мазепа узнал через кого другого про наши замыслы; это не диковина, Мазепа знает, что и под землёю делается: проклятые иезуиты всё разведают и донесут; вот Мазепа и приказал схватить Никанора; может, несчастный чернец сидит в это время в тюрьме; — так говорил Василий Леонтиевич жене, сидя вечером по обыкновению на крыльце дома своего.
— Что ты, что ты, Василий, опять задурил... счастье само к тебе ломится, а ты его гонишь прочь... с тех пор, как ты наказный гетман и решился идти против Мазепы, сыч совсем улетел.
Кочубей вздохнул и сказал: а может, и сам Господь отступился от нас за наши злые начинания... Кочубеева только что хотела прикрикнуть на мужа, как вдруг откуда ни взялся стоит перед ними отец Никанор, кланяется, желает им много, лет здравствовать и подаёт письмо и просфору от отца архимандрита, который писал, что не имеет времени сам приехать в Батурин, а посылает надёжного своего брата Никанора.
Радость Кочубеевых была великая: тотчас Любовь Фёдоровна ввела монаха в комнату, приказала подать ужин и сама приготовила для него мягкую постель.
Рано поутру слуга Кочубея вошёл в комнату отца Никанора и сказал ему, что Василий Леонтиевич просит его приходить к нему без всякой обсылки, когда только узнает, что у него никого нет, но, приходя в его комнаты, чтобы запирал за собою дверь.
К полудню отец Никанор из своей комнаты, находившейся в отдельном от дома строении, пришёл к Кочубею и запер за собою дверь.
— Никого не было на крыльце, когда ты входил ко мне?
— Никого!
— А запер дверь?
— Запер!
— Добре! — сказал Василий Леонтиевич и осмотрел все покои, нет ли кого стороннего.
— Ну, отче Никаноре, мы прошлый раз говорили тебе про замысел Мазепы, вот скоро месяц и всё ближе и ближе к тому часу, когда он совершит задуманное, близка погибель гетманщины, если мы не предупредим её.
— Господи, помилуй! — проговорил отец Никанор, — всё упование наше на Заступницу Небесную... что тут может человек против такой силы страшной...
В это время Любовь Фёдоровна из дому принесла, деревянный кипарисный крест с частицами св. мощей, в середине его находившимися, и, подавая его отцу Никанору, сказала:
— Господь Бог страдал за нас на кресте, так и нам надобно умереть за церковь святую и за великого государя! Помолимся перед сим крестом святым все трое — в хранении великой тайны и в споспешествовании друг другу для открытия измены Мазепы царю.
Все трое помолились перед крестом, ударили но три земных поклона и поцеловали крест.
— Слушай же, отче Никаноре, ты знаешь, что Мазепа замыслил предать гетманщину... Тебе, отче Никаноре, надобно ехать в Москву и об этом донести боярину Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину.
Отец Никанор перекрестился и сказал:
— Вы возлагаете на меня трудное поручение; дело моё небывалое; но когда дело идёт о защите Церкви Православной, а с нею и целого гетманского народа, то что я!.. Буди воля Спасителя и Пречистой Его Матери, — приемлю на себя исполнение вашего важного поручения.
— Приехавши в Москву, скажи, отче, боярину, чтобы Мазепу схватить в Киеве, а то, пожалуй, он всё узнает и первых нас убьёт! — сказала Любовь Фёдоровна.
Долго ещё говорили они про замыслы Мазепы, потом Кочубей сказал.
— Вот же тебе, отче Никаноре, на дорогу семь золотых червонных и двенадцать ефимков на наем подвод, да поспешай, и минутою не медли.
Распрощавшись, отец Никанор в тот же день пошёл пешком в Москву.
XXIV
Когда приближается час страшной бури, когда горизонт покрыт чёрными тучами, море, не волнуясь заранее, уже стонет, словно предвидя, что сладкое спокойствие его будет нарушено; потом закипит оно седыми валами и помчит их один на другой для погибели кораблей!..
То же самое бывает и среди народа, когда приближается какое-нибудь общее несчастие: заранее народ предчувствует грозящую беду, голод, мор, войну... Непонятное, страшное предчувствие, чёрная печаль и ужас распространились в гетманщине в 1708 году. Чуть только скроется солнце за синеющиеся вдали горы, — на небе взойдёт длинная метла, и яркий хвост её закроет треть горизонта. С неизобразимым ужасом смотрели гетманцы на это небесное знамение, и сердца их были в треволнении; старики говорили, что в гетманство Вигозского, перед его изменой в 1668 году явилась подобная комета и стояла на небе, до тех пор, пока он не погиб. Это ещё более устрашало гетманцев, и носившиеся слухи о тайных сношениях гетмана с ляхами и шведами, и о намерении его поддаться ляхскому королю, получили большую вероятность.
Вскоре после явления кометы распространился в Батурине и других городах слух, что по гетманщине ночью ходят три женщины, одетые одна в чёрное, другая в белое платье, а третья совершенно нагая, — косы распущены, проходя города, они останавливаются на площадях, плачут и стонут несколько ночей кряду, потом идут в другое место и по пути заходят в ближние селения. Некоторые из разумных стариков утверждали, что одна из женщин, голод, другая смерть, а третья война; и что, когда они обойдут всю гетманщину, начнётся война, потом смерть, а потом, известно, после войны бывает голод. Носилось ещё бесчисленное множество других слухов и рассказов, были такие люди, которые всему верили; были и не верившие ничему, но за всем этим вся гетманщина, видимо, горевала; у времени, как и у людей, есть свой голос и своя весть.
Началась весна, зазеленели поля, но земледельцы без радости и веселья смотрели на них, казалось, они не думали о жатве; запели звонкие жаворонки в полях, взвиваясь к лазурному небу, но не слышно было весёлых песен чернооких девчат; громко щёлкали голосистые соловьи в тёмных кустах калины и сирени, но не пели хором молодые Грици и Маруси...
Народ заговорил, что войны не миновать, гетман сам затеял её, согласись с ляхами и шведами победить Московского царя; слухи не были частные, но общие всем гетманцам, незлонамеренные люди помогали распространять их: все ясно видели причину и понимали последние распоряжения гетмана; но вместе с этим никто не смел утверждать твёрдо своего предположения, ибо не было улик твёрдых, на которых можно было бы утвердительно доказать истину народной молвы.
Мазепа был в Киеве, он начал чаше жаловаться на нездоровье, по несколько дней не выходил на воздух и даже перед выездом царя из Киева, гетман прощался с ним, не вставая с постели; Пётр с непритворною грустью расстался с Мазепою, сожалея о его немощи.
— Не дай, Бог, если он умрёт, твёрдой подпоры лишусь я! — так думал царь, и не догадывался, какого змия ласкал на груди своей.
По приезде в Москву, царь, получив донос на Мазепу от Кочубея, посланный с чернецом Никанором, и расспросив монаха, понял, что к доносу подвинула Кочубея жена его, взведшая на старика небывалые преступления и замыслы. Пётр признал Кочубея за мстительного клеветника и легкомысленного человека; что он, кроме жены, подучен ещё врагами России, которые подсылали зажигателен и разбрасывали возмутительные письма.
Занятый войной со шведами, царь отложил до времени расследование ложнаго доноса и поехал в Польшу.
Ждёт да ждёт Кочубей ответа из Москвы на донос его, но нет ни слуху, ни духу. Любовь Фёдоровна сердится, бранит Василия Леонтиевича, зачем он не послал с чернецом одного из своих слуг, который мог бы писать из Москвы, а от чернеца какого ждать письма, он поехал себе по монастырям, а не в Москву, и где-нибудь сидит да молится Богу, а мы его напрасно жди да жди. Нет, как ты хочешь, Василий, а послушай совета моего: поедем в Полтаву, поживём в Диканьке и в Ретике, да переговорим с нашим батькою Святайлом, он посоветует нам всё доброе; как ты думаешь об этом?
— А что ж долго думать, ехать, так и ехать.
На другой же день Василий Леонтиевич и Любовь Фёдоровна выехали в Диканьку, оттуда и в хутор Ретик, где духовник Василия Леонтиевича, Спасовской церкви священник Святайло отслужил в доме Кочубея молебен о здравии болевшей дочери его Мотрёньки, которая в это время была с мужем в Киеве при гетмане.
Во время молебна Любовь Фёдоровна горько плакала:
— Чего плачете, пани добродийко? — спросил Святайло, жену Кочубея, после молебна.
— Я плачу об измене гетмана, предающего Украину, Отечество наше полякам, а церкви Божии унии.
— Я присягал Богу и царю верою и правдою служить, и когда не донесу государю об измене Мазепы, то постигнет меня гнев Божий, но горе моё, как и через кого донести!..
— Как донести, пошли, пане добродию, донос через царского духовника протопопа Благовещенского, а для этого можно послать в Москву свояка моего Петра Янценка.
Василий Леонтиевич задумался и потом сказал.
— Благо глаголешь, отче, истинно благо!
— Благо, ей же ей, благо! — подтвердила Любовь Фёдоровна:
— Вот ещё что попрошу я тебя, отец Иван — не откажи мне помочь в этом деле.
— Приказывай, мой вельце милостивый добродию!
— Съезди в Киев и переговори об этом с родичем моим полтавским полковником Искрою, скажи ему, чтобы присматривал за поступками гетмана, и что делаться будет в войске.
— Поеду, когда велишь.
— Сделай божескую милость, отец Иван!
— С радостию!
Священник Святайло дня через два выехал в Киев. Кочубей занялся обдумыванием доноса, в котором решился подробно изложить царю все изменнические дела гетмана.
Приехал в Полтаву полковник Искра и на другой день после него возвратился отец Иван; оба они приехали к Кочубею, который от радости не знал, как принимать дорогих гостей. Жена Кочубея также была в восторге.
Сели они вчетвером в спальне Кочубеевой, заперли дверь, и долго-долго говорили о слухах, носившихся в народе, насчёт распоряжений гетмана касательно войск и крепостей; и наконец, когда все были убеждены в необходимости доноса, Любовь Фёдоровна сказала:
— Да прочитай, Василий, что мы с тобою написали, может быть пан полковник ещё что добавит, или отец Иван, что придумает, знаешь пословицу: голова умна, а две ещё умнее!..
Пожалуй!
Василий Леонтиевич вынул из кармана бумагу и начал читать донос на Мазепу, в котором он обвинил гетмана в сношениях его с ляхами, в дружбе с Карлом XII, в намерении его жениться на княгине Дульской; упоминал, будто бы, гетман ему говорил, что Карл из Польши пойдёт в Москву, с непременным намерением низложить царя и на место его возвести другого, так как учинил он в Польше; а под Киев подступит король Лещинский, и тогда Мазепа казацкие полки соединить с войском короля Станислава. Мазепа-де советовал дочь его Матрону не выдавать за Чуйкевича, а когда, сказал гетман, будем за поляками, тогда найдётся дочери твоей лучший жених из шляхтичей польских, который сделает ему счастие; ибо хотя по доброй воле полякам мы и не поддалися бы, да они нас завоюют и будем, конечно, под ними!» — и много-много других вымышленных и отчасти справедливых обвинений было в его доносе.
Искра, выслушав донос, задумался, покачал головою, и сказал:
— Как ты себе хочешь, пане Кочубей, как ни думай, а в доносе твоём недостаёт того, что нужно; и не знаю, что мне делать на свете… а правду сказать, я рад бы, если бы ты меня не мешал в это дело!
— Что ты, что ты, пане добродию полковник!?.
— Господь с тобою, пане Искро! — сказала Любовь Фёдоровна.
— Как-так, мой сердечный товарищ, ты хочешь отстать от нас? Полковник, подумай хорошенько… а какую печаль причинил тебе Мазепа, жену у тебя отвоевал, знаешь, или ты забыл уже?.. Пане Искро, доброе черезчур у тебя сердце, только жаль не для Мазепы должно быть оно добрым.
— Всё так, добродию пане Кочубее, всё так, да что-то оно не так, как следует!..
— Отчего не так, ну, скажи, сделай милость?
— Правду сказать, так Любовь Фёдоровна рассердится на меня!
— О, ей-же-ей, не разсержусь.
— Ну добре, знаешь, мой добрый товарищ, в твоём писании правды мало!
— Правды мало?!..
— Эге!
— Да-да; всё неправда, выдумки, одни выдумки, ей-же-ей, выдумки, пане полковник! — сказала жена Кочубея.
— Нет, пане полковник, святая правда написана.
— Пусть и по-вашему будет.
— Ну так ты отстанешь от нас?
— Да не то что отстану, не то что пристану, — отвечал Искра, почёсывая затылок, правою рукою.
— Воля вольному, спасённому рай! — сказала Любовь Фёдоровна.
— Нет ты наш, наш, по век наш! — сказал Василий Леонтиевич, обнял Искру и поцеловал его.
— Я был всегда ваш, Василий Леонтиевич.
Искра скоро после этого уехал в Полтаву.
Любовь Фёдоровна настояла, чтобы отец Иван съездил в Полтаву и ночью же приехал обратно со свояком своим Петром Янценком, которого решили немедленно отправить с доносом в Москву к царскому духовнику, поручи ему передать всё самому царю.
Святайло повиновался, ночью Янценко был уже в Ретике, а в пять часов утра скакал верхом по московской дороге.
По совету жены, Василий Леонтиевич упросил полковника Искру поехать к Ахтырскому полковнику Фёдору Осипову, с открытием доноса своего на Мазепу; Искра употреблял все средства, чтобы отклонить себя от этого дела, и поэтому сам не поехал к Осипову, а послал от себя отца Святайлу, который до отъезда в Ахтырку заехал в Диканьку и передал Любови Фёдоровне поручение Искры.
— Поезжай, отец Иван, сделай милость, поезжай, и так скажи Ахтырскому полковнику: что ты прислан от полтавского полковника Искры, который хочет открыть ему тайну великой важности, и чтобы для этого он повидался с ним тайно, и если можно ему выехать из Ахтырки в хутор полковника Искры, куда поехал теперь сам Искра, то что бы немедленно сел в бричку и выехал.
Осипов, услышав всё от любимого им духовника Ивана Святайла, в тот же день выехал в хутор Искры для свидания с полтавским полковником и открытия тайны. Приехав в хутор, он расспросил Искру о тайне, о предприятии его и Генерального судьи Кочубея.
Искра зная, что Осипов отъявленный враг Мазепы, в будучи сам также одним из числа оскорблённых гетманом, решился наконец не отставать от общего дела и, почесав чуприну, усадил подле себя Осипова и начал говорить:
— Добродию, пане родичу и друже мой, слушай: я Генеральный судья Кочубей удостоверились, что гетман Мазепа, забыв страх Божий, присягу свою и все милости к нему государевы, по согласию с королём польским Лещинским и с литовским коронным гетманом Вишневицким, имеет злодейское намерение великого государя убить или предать в руки неприятелей; вследствие чего Мазепа приказал, узнавши, что едет к нему в Батурин Александр Кикин, вообразил, что под именем его едет сам государь, и будто бы для чести монаршей, поставил многое число верных своих желнеров и бывших у него в службе короля Лещинскаго слуг, с заряженными ружьями, приказав им, как только государь на двор въедет, сделать по нём залпом выстрел, но когда гетман узнал, что едет подлинно Кикин, то и распустил желнеров...
Осипов выслушал слова Искры и написал всё слышанное, тотчас послал письмо к Киевскому губернатору, князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, которое заключил следующими словами: «Советуют царскому величеству оба, Кочубей и Искра, чтобы вельможность ваша, город Киев и себя накрепко от злобы Мазепиной остерегали, и когда будет он, клятвопреступник, в Киеве, то его задержать и не допуская до Белой Церкви, послать в оную несколько пехотных полков немедля; а буде из Киева он с полками выпустит, или полки его упредят в Белую Церковь, и тогда уже ему нечего учинить, кроме что всякой беды от него надеяться, для того, что с ним будет великая сила обеих сторон Днепра и польская: а как есть народ гибкий, и уже от него гетмана под именем царского величества весьма оскорблённый, не только гольтепа, кои тому рады, но и лучшие волю его исполнять готовы. Они же всё сие царскому величеству донося, милости просят, чтобы сне верное их донесение до времени у его царского величества было укрыто, для того, что некто из ближних его государевых секретарей, также и светлейшего князя Александра Даниловича, Мазепе о всём царственном поведении доносят, то и о сём если уведают, тотчас дадут ему знать».
Вместе с этим Осипов отправил такого же содержания письмо в Москву со своим писарем к царевичу.
Кочубей старался скрыть все действия свои от зорких глаз Мазепы — и ошибся: действительно, не было тайны, не только в гетманщине, но в Москве, Польше и Швеции, которой бы не знал Мазепа; недаром при нём безотлучна жила целая иезуитская академия, ректором которой, был Заленский.
Проведавши через иезуитов о затее Кочубея, Мазепа нисколько не смутился; содержание доноса — ему было доставлено из Москвы, действия гетмана, описанные в доносе, были представлены не в истинном свете: не то помышлял Мазепа, что на него взводили, и не так действовал, как думали о нём; и потому-то он был насчёт этого покоен духом; но в наказание доносчиков и для примера другим, решился привести в исполнение давно задуманное желание — погубить Кочубея и истребить весь его род; и тогда же из Хвастовки написал к царю письмо, которое так начал:
«Хотя бы мне ради глубокой старости, и обстоящих отовсюду болезней и печалей, приближающемуся до врат смертных, не надлежало так ревностно изпразднения чести моей жалети, и Ваше Царское Величество Всемилостивейшаго моего Государя, публичными о общей и государственной пользе, особенно в сие время военными делами отягащенного, беспокоить: обаче, желая усердно всеми моими внутренними и внешними силами, паче всякаго временнаго счастия и самого жития, дабы и по смерти моей не осталось в устах людских мерзкая проклятаго изменческаго имени о мне память; но да буду образ непоколебимой к Вашему Царскому Величеству верности...»
Действительно, Кочубей и Искра были правы, что царские министры в великой дружбе с гетманом и закроют всю истину доноса. Бояре и приближённые к царю были даже в заговоре с Мазепою — это всё наделало бритье бород, уничтожение теремов, возвеличение немцев, немецкие кафтаны, обычаи, табак и асамблеи. Головкин от которого зависело всё дело, был искреннейший друг Мазепы: и как не быть другом такого человека, который более двадцати лет с непоколебимою верностью служил московским царям, притом Мазепа богат и щедр на подарки, Мазепа не такой гетман, как были в стародавние годы гетманы, более предводители казаков на войне против турок и татар, нежели политики, и люди, от которых зависели бы дела королевств и Московского царства. Иван Степанович — знаменитое лицо: он не враг Карла XII, не подчинённый польскому королю, друг Лещинского, мудрый советодатель русского царя и гетман, славный гетман Украины и войска Запорожского. Иван Степанович — Князь Римской империи, второй кавалер ордена Андрея Первозванного[8], как же после всего этого не дружить было с ним министрам московского царя. В такой силе был Мазепа в эти для гетманщины несчастные дни.
Кочубей чрезвычайно изменился в характере: прежде весёлый, отчасти беззаботный, любивший всегда быть в обществе казаков, которым нередко рассказывал про походы свои под Чудновым, часто вспоминал прежние годы, когда был он в Валахии, в Адрианополе, описывал берега Дуная, Днепровский Лиман, Очаков, когда ходил Азов будовать, Акерман и другие города; а теперь — удалялся общества людей, старался быть постоянно наедине, приметно начал тосковать и сделался чрезвычайно молчалив. В первое время, когда был послан донос в Москву, Любовь Фёдоровна развлекала мужа, представляя ему в будущем славу и величие, когда кончится дело, и Мазепа будет сидеть в кандалах, а Василий Леонтиевич с гетманскою булавою и бунчуком — в Мазепином замке.
— Человек располагает, а Бог управляет! — постоянный был ответ Кочубея на преждевременные радости и утешения его жены. Приедет в Диканьку отец Иван, войдёт в комнату к Василию Леонтиевичу, старается завести с ним разговор, Кочубей отрывисто отвечает на вопросы отца Ивана, вздыхает, крестится и говорит, что он великий грешник.
— Нет греха, котораго Бог не простит, раскаяние спасает грешника!
— Так, отец Иван, но писано в Евангелии: какою мерою мерите, возмерится и вам! — не думая, сказал Кочубей, и уже через несколько мгновений, вспомнил, что слова эти в памяти его запечатлелись с того времени, когда пришёл он в церковь в Коломак, арестовать, вечной памяти, добродетельного гетмана Самуйловича: и странно, подумал он, до этого дня никогда в голову не приходили мне эти слова... не помню, вспоминал ли я про покойного Самуйловича, как повёз его из церкви к Голицыну, и безвинно обвинял его перед боярином, а теперь когда и без этого воспоминания тяжко сердцу, новая печаль впивается в душу. Ох, Более мой, Боже, как болит душа!..
Чёрная, невообразимая печаль вытиснула в эту минуту слёзы из очей Генерального судьи.
— Господь с тобою, Василий Леонтиевич, — не печалься, Бог обрадует тебя, и скоро, я в этом порукою.
Василий Леонтиевич поспешно встал с кресла, прошёлся по комнате несколько раз, и потом с сердечною болью, сказал:
— Успею или погибну, что-нибудь да одно!..
— Успеешь, успеешь, молись!
— Нет, душа болит, не то сердце говорит, чтоб я успел победить великаго и сильнаго врага моего!.. Знаешь, отец Иван, я тебе разскажу сказку, а присказку доскажут люди тогда, когда уже меня не будет на этом свете.
Отец Иван, с грустью посмотрел на Кочубея, поправил рассыпавшиеся по плечам волосы, сел подле Василия Леонтиевича и спросил:
— Сказку?
— Да, сказка короткая: как теперь ты у меня, духовный отец, был у покойного несчастного гетмана Самуйловича любимый поп, также вот, как и тебя зовут Иваном, и его звали Иваном, любил его крепко покойный Самуилович; перед концом его гетманства поп Иван неотступно был при нём, читал, не переставая, Евангелие и утешал душею страдавшего Самуйловича, ибо он заранее знал своё горе, а горю его причиною я, а лучше скажу не я... да всё равно, что и я, — Любовь Фёдоровна довела меня до того, что я послушавшись проклятого Мазепу, написал донос на Самуйловича, — да, отче Иван, ты с удивлением смотришь на меня, я перед тобою исповедываюсь: слушай, я расскажу тебе тяжкий грех, который мучит меня... Мазепа издавна был ласковая собака: пока даёшь ей мяса, — и добра; а покажи прут, так на шею вспрыгнуть готова. Мазепа прельстил меня обещанием, что я буду гетманом, написал я донос, подписали паны полковники, всех я неправдою умел задобрить, заковали Самуйловича, отослали в Москву, а Голицын на шею всем нам посадил изверга Мазепу; вот и загетманствовал! Ты знаешь, нечего другой раз рассказывать, что он исполнил предсказание Самуйловича: предал царя, благодетелей, друзей и казаков, он же оклеветал и своего благодетеля Голицына, погубил всех, которые были с ним в дружбе, остался один я из всех их, — не сдобровать же и мне...
— Что же попу Самуйловичу сталось?
— Что сталось, благодарение Богу милосердному, благочестивый человек, скрылся.
— Скрылся? — с любопытством и удивлением спросил Святайло.
— Скрылся!..
— А... а... а...! Вот как... ну, Слава Богу.
— Слава Богу, одним меньше погубил; он тогда же уехал в Киев, как слух пронёсся от иезуита Заленского. Мазепа что ни делал, сколько ни обещал червонцев тому, кто поставит попа Ивана, но ничего не помогло. Года через два, рассказывали люди, будто бы он, постригся в монахи в Киеве и скоро после того умер; не знаю, так ли это, но с тех пор Мазепа забыл о нём. — Ну, погубили мы Самуйловича ни за то, ни за сё, — приходится теперь и мне беда, на свою голову донёс я на Мазепу, чрез котораго погибнул старый гетман; видно Мазепа для всех нас самым Богом посажен гетманствовать, чтоб за грехи и неправды наши получить достойную награду. Вот тебе сказка, а присказку, когда умру, доскажут люди: суд человеческий, — суд Божий!
Что день, то Кочубей становился мрачнее и мрачнее; иногда он так сильно задумывался, что Любовь Фёдоровна несколько минут тормошила его как уснувшего, чтобы он пришёл в себя.
— О чём ты думаешь?
— О Самуйловиче, гетман приказывает к нему ехать, — говорил иногда не помня сам себя Кочубей.
— Господь с тобою... Самуилович давно в земле лежит. С чего ты взял, что он тебя зовёт, перекрестись!..
Любовь Фёдоровна кропила мужа святою водою, крестила его, когда он впадал в задумчивость и наконец, видя горестное его положение, сама начала грустить: написала в Киев к дочери Мотрёньке письмо, требуя поспешного её приезда; полагая, что присутствие любимой дочери утешит и развеселит отца.
Получил Василий Леонтиевич письмо от Мазепы с приглашением приехать к нему по войсковым делам и посоветоваться. Кочубея бросило в жар и в холод. Он не отвечал и не поехал; но ежеминутно ожидал известия из Москвы, и дождался.
Это было в полдень. Василий Леонтиевич только что хотел ехать в Полтаву, вышел на крыльцо и видит, вдали по дороге к его дому едет бричка; полагая, что едут гости, он возвратился в комнаты, встал у окна и смотрит на приближающуюся бричку. Вот она близь двора, вот на двор въехала, сердце его страшно затрепетало: бричка остановилась у крыльца, из неё вышел полковник Искра, и офицер Московской службы; с козел встал, сидевший вместе с кучером, возвратившийся из Москвы перекрёст Янценко.
— Здоров, пане Генеральный судья! — радостно сказал, подпрыгивая и взявшись в боки, всегда весёлый полковник Искра, — видишь ли, как я к тебе поспешал с паном Дубянским; прости, что так приехал одетый по дорожному в старый жупан; слава Богу милосердому, вот гостей привёз к тебе из Москвы, да ещё с крепко славными вестями.
— Ну, слава Богу милосердному!.. А то я, правду сказать, крепко было задумался думою, что так долго нет тебя, казаче! — сказал Кочубей, обратясь к Янценку, потрепал его по плечу и погладил чуприну.
Казак поцеловал руку Генерального судьи.
— Ну пойдём же до Любови Фёдоровны, порадуем и её бедную, а то крепко запечалилась; милости прошу дорогих гостей, пожалуйте.
Все вошли в другую комнату; офицер остался в первой.
Любовь Фёдоровна, увидев входящего и смеющегося Искру, бросилась к нему навстречу, и сказала:
— Вот, говорила, лёгок на помине; сию минуту вспомнила его, уже и вижу.
— Здравствуйте, пани моя милая, радость вам и гостей привёз.
— Какую радость? Спасибо тебе!
— Радость и вместе разлуку.
— Да так, пани моя милая, царь ласковое слово пишет до нас чрез графа Головкина и просит приехать к нему.
— Казака нашего Янценку царь щедро наградил.
— Ну, слава Богу! Ехать так и ехать; это такое дело, воля царская — воля святая.
— Мы и поедем, Любонько, что ж и говорить.
Янценко отдал Василию Леонтиевичу письмо от Головкина, в котором тот писал, чтобы его милость Кочубей как можно скорее поспешал в ближние места к Смоленску, где бы Головкин мог с ним повидаться, поговорить и посоветоваться о том, как упредить это злое начинание, и кого избрать на место особы подозрительной. Потому, что если бы готовой особы на место известной, притом как сменять его, не было, то могло бы произойти краю Малориссийскому раззорение и пролитие невинной крови, что весьма при таких переменах обыкновенно. Государь имеет донесение об этом деле и от других особ, верных и знатных.
Посланный офицер гвардии отправлен к Кочубею будто бы по прошению Янценка, чтобы он безопасно препроводил Кочубея и Искру, в Смоленск; для этого ему дан был вид и нарядили его в польское платье, и он, писал Головкин, ни для кого не будет подозрителен, но тайны он не знает, и ваша милость с ним на этот счёт не извольте говорить: Его Величество никому, кроме меня, об этом деле не объявил; оно содержится в высшем секрете!
Царь же писал к Мазепе, что он донос Кочубея и Искры приписывает неприятельской факции и просил гетмана: не иметь о том ни малейшей печали и сомнения; уверял, что клеветникам его никакая вера не дастся; что они вместе с научителями, воспримут по делам своим достойную казнь. Головкин в письме к Мазепе сказал святую истину, вполне подтвердившуюся над Кочубеем, оклеветавшим Самуиловича:
«Вы должны сами рассудить, что у клеветников обычай на добрых и верных клеветать. Это болезнь их, которая на их же главы падёт».
Через три дня после приезда Янценко, к Василию Леонтиевичу приехали полковники Искра и Осипов, сотник Кованько, племянник Искры, собравшиеся в дальний путь.
Долго боролся Василий Леонтиевич сам с собою, выехать ли ему в Смоленск или остаться в Диканьке, сказавшись больным; но рассудив, что Мазепа может тайно схватить его и казнить, решился ехать, и на четвёртый день по возвращении Янценка рано встал он, и сел с Любовью Фёдоровною у того самого окна, у которого сидел с нею назад тому двадцать лет, когда выезжал он в первый Крымский поход, — ещё вечной памяти, при гетмане Самуйловиче; в комнате этой, как и во всём доме, всё было по-прежнему без всякой перемены: как и в минувшие годы, тот же образ, та же лампада, те же стулья, тот же стол, всё то же.
— Любонько! Помнишь ли ты, как мы вдвоём с тобою сидели у этого оконца, двадцать лет назад — тогда я был молодец — и ты не баба; а теперь, что мы с тобою... тогда самому мне хотелось булаву взять в свои руки, а теперь, так правду сказать, хоть бы и так покойно умереть.
— Ты мне не говори, Василий, этого; целое море переплыл, а у берега хочешь утонуть! Поезжай к царю, и, чтоб ты мне непременно привёз булаву; а без этого и не возвращайся ко мне, оставайся себе в Москве или где хочешь.
— Ох, тяжко, крепко тяжко что-то, моя милая Любонько!
— Будет легко и радостно, как враг знает, чего не будешь думать, да скажешь безбоязненно всю правду царю, и он отдаст тебе булаву. Не забудь ты мне показать царю письма Мазепы к Мотрёньке, и скажи, как старый ястреб заклевал голубку нашу.
Кочубей сидел задумавшись.
Любовь Фёдоровна встала, погладила старика по голове, поцеловала в небольшую лысину, и сказала: пора в путь, соколе мой ясный.
— Пора, пора!
— Пойду прикажу укладывать в бричку.
Любовь Фёдоровна ушла.
Василий Леонтиевич вспомнил, как он выезжал в Крым, встал со стула, упал на колени и начал горячо молиться перед св. образами, пред которыми двадцать лет назад молился.
Сердце его сильно трепетало, дух смутился — Кочубей чувствовал, словно последний час его жизни близок.
— Всё готово, паны полковники встали, офицер тоже и все ожидают тебя.
— Ну, прощай, Любонько.
— Прощай, Василий.
Старики крепко обнялись, горячо поцеловались и оба крупными слезами заплакали.
— Чего плачешь, Любонько, не стыдно тебе! Ты не дитя!
— Чего ты плачешь, Василий, и ты не хлопец!
— Да я так, у меня душа болит!
— И я так, у меня сердце неспокойно!
Ещё раз обнялись, ещё раз поцеловались и слёзы помутили их глаза...
— Прощай!
— Прощай!
— Ещё раз, Прощай, моя голубко!
— Прощай, прощай, моё сердце!
Вышли в другие комнаты, сели все и, по обычаю, замолчали; Василий Леонтиевич не вытерпел, прервал молчание и сказал обратясь к жене:
— Помнишь ли, как ехал я в Крым, в этой же комнате, вот на том месте, — он указал место рукою, — прощался я с Мотрёнькою, маленькая она ещё была; а теперь, моё сердце милое, что с нею теперь? Что делает душка моя милая... Горячие слёзы опять покатились из очей его.
Все встали, помолились на образа, ещё раз Василий Леонтиевич обнялся с женою, ещё раз заплакала Любовь Фёдоровна, перекрестила мужа, Василий Леонтиевич перекрестил жену, вышел вместе с прочими на крыльцо, сел в бричку, и четвёрка дюжих коней понесла его в далёкий путь.
Любовь. Фёдоровна благословила едущих и долго смотрела вслед экипажей, пока они не скрылись за синею далью.
XXV
Белая Церковь утопала в роскошных зелёных садах и живописных лесках; в одном месте плакучими ветвями сплелись белостволые берёзы и между ними вырос широколиственный клён, в другом, десятка два густых лип и серебристый тополь, или, согнувшись в сторону, прокрадывается чёрно-зелёная сосна; там четырёхстолетний дуб и ясень, как два брата, растут вместе; здесь несколько раин гордятся одна перед другою стройностью и красотою; между лесками кое-где белеются хаты с высокими плетёными трубами, прикрытыми деревянными крышками. Выше всего господствует свинцовая крыша гетманского замка, а за ним очерчивается на голубом небе золотой купол и крест церкви Белоцерковской.
День был жаркий; в полдень в гетманском замке всё дремало от праздности и лени; солдаты, стоявшие на часах вокруг замка, дремали, опершись на длинные копья; три компанейца, одетые в оранжевые жупаны с вылетами, безпечно склонив головы на базы колонн, спали на широком крыльце замка; в огромной зале, где Мазепа принимал царя Петра, окна были растворены и на мягких креслах, развалившись, спали карлики, в других комнатах никого не было; в спальне отдыхал сам гетман на широкой, чёрного дерева кровати, с перламутровыми и резными из слоновой кости украшениями. Кровать эта была подарена Мазепе княгинею Дульскою. Покрытый ярко-розового цвета одеялом, бледный лицом, Мазепа лежал в постели, перед ним небольшой негр держал книгу, а другой по знаку гетмана переворачивал её листы; в голове и у ног Мазепы стояло по два негра с длинными из павлиньих перьев опахалами и отгоняли мух, а на кровати против него в глубокой задумчивости сидела Мотрёнька.
Гетман читал латинскую книгу.
Матрона Васильевна вздохнула, подпёрла левою рукою голову и пристально смотрела в лицо Мазепы.
— Ты всё, доню, печалишься, пора перестать, живёшь не в Батурине, где твоя добрая мать так нежила тебя.
— Знаешь, тату, я поеду в Полтаву, в Диканьку, отец собирается ехать в дальний путь и матушка пишет, чтобы я приехала попрощаться с ним; не знаю, отчего сердце моё болит?!.
— Все твои выдумки; меньше бы думала о родичах, была бы счастливее!
— О родичах!.. Я думаю об отце.
— А знаешь, доню, правду тебе скажу: если бы я был на твоём месте и у меня была бы такая мать и отец, как твои, так хоть головы пусть отрубят им, махнул бы рукою и только.
Мазепа украдкою посмотрел на Матрону Васильевну, желая разгадать её мысли:
— Сделай милость, тату, ты мне этого не говори, не утешишь меня...
— Доню моя, теперь не такое время, чтоб ехать тебе в Полтаву: ты и твои муж присягнули мне, что куда я, туда и вы; и видишь сама, я старец — и не сейчас, так к вечеру умру, всё моё богатство тебе завещаю, не оставь только меня; с отцом и матерью увидишься ещё, ты молода, закрой сначала мои очи!..
Мотрёнька прослезилась, закрыла глаза рукой и ушла.
Гетман вслед её махнул рукою и закричал:
— Орлика!
Орлик, вошёл в спальню.
— Послать племянника моего Трощинскаго и десять сердюков в Диканьку, схватить Кочубея, Искру и Опаской Полтавской церкви попа Ивана Святайла и тайно их сюда привезть.
Орлик исчез.
Но было уже поздно, — когда приехали сердюки в Диканьку, несчастного Кочубея и Искру пытали в Витебске.
Любовь Фёдоровна узнав, что приехал Трощинский схватить её и мужа, укрылась в церкви, желая лучше умереть близь алтаря. Сердюки насильно вывели её из церкви.
— За тем ли прислал тебя Мазепа с таким войском, чтоб разорить имение человека, верно служившего войску Запорожскому?
— За тем, чтобы взять тебя, ядовитую змею, и засадить в подземелье, в тюрьму, чтоб там погибла! — отвечал Трощинский и приказал схватить Кочубееву; привезя её в Батурин, бросил в подземелье Бахмачского замка.
Между тем Кочубей, обнадеженный успехом своего доноса, не мог дождаться конца поездки. Он хотел бы ту же минуту явиться перед царём, раскрыть ему общие подозрения всей гетманщины на замысел Мазепы. Вот уже он убедил царя... Царь обнимает его... Предлагает ему выбор награды... Спрашивает, кого же вместо Мазепы, и не дождавшись ответа Кочубеева, прямо поздравляет его гетманом; советуется с ним, как бы ловчее заманить и схватить Мазепу... Кочубей изощряется в средствах: одно другого хитрее и успешнее... Вот уже он в гетманщине; вот уже Мазепа в его руках, валяется в ногах, умоляет — дух занялся у Кочубея от радости!..
На тысячу ладов разнообразились такие мечтания в голове Кочубея во всю дорогу. В таком же настроении Кочубей выходил на крыльцо дома, где жили в Витебске бояре граф Головкин и Шафиров, которым поручено было обследовать дело. Бодро и смело хотел он из приёмной идти во внутренние покои, как вдруг его останавливают, и вместе со всеми спутниками заковывают в цепи и отдают под стражу.
Несчастный Кочубей, стремглав свалился с гетманской высоты царского друга, в самую пропасть государственного преступника! Не успел он ещё опомниться от своего ужасного падения, не успел он ещё придти в себя и задать вопрос: что это значит!.. За что?.. От чего?.. Как уже их ввели в покой, приготовленный для пытки. Грозные бояре сидели перед ним в судейском величии своём, окружённые исполнителями своих приказаний, и палачами, радостно разглядывавшими свои жертвы.
Шафиров, злобствуя на Кочубея, за то, что он известил Киевского губернатора о связях с Мазепой царских министров, которые передают ему все государственные тайны — повёл допрос как ему нужно было!
В одно мгновение завеса, скрывавшая доселе истину от глаз Кочубея, свалилась!.. Заповеди Спасителя внезапно представились сокрушённому Кочубею в ярком свете; преступления жизни и службы, словно всемогущею рукою собранные в одну картину, живо рисовались его взору, и во главе их — Самуйлович, благословляющий своего предателя Кочубея; чувство вечной кары Божией, достойно им заслуженной, с силою молнии пробежало по его сознанию. Он всем существом своим содрогнулся. Страх человеческий пробудил в нём страх Божий; страх Божий подавил в нём страх человеческий. Кочубей, не слышал теперь горьких укоризн во лжесвидетельстве, которыми бояре начали свой допрос. Несколько раз они повторяли своё понуждение: «Говори же!.. Отвечай!.. Ты клеветал на Мазепу?»
Кочубей ничего этого не слышал: он не мог отвести свой слух от внутреннего существа своего, оглашаемого неумолкаемыми воплями совести, раскрывшей перед ним греховность, коварство, и грехи всей его жизни. Переполненный чувством сокрушения и сознания свой виновности пред Богом, Кочубей, как бы в ответ на вопросы внутреннего судии, воскликнул:
— Праведен ты еси, Господи!.. И праведны все пути Твои, грех мой меня попутал, уловился в собственной моей сети!..
— Так ты винишся?... Ты сознаешься во лживости своих доносов? — спросили оба боярина в один голос. — Пиши! — сказал Шафиров дьяку. — Кочубей сознался, что он по факциям неприятельским взнёс донос...
— Нет, ясновельможные бояре, государи мои милостивые! Доношу я теперь его величеству сущую правду, — Мазепа точно изменяет его величеству, готовит великую беду и скорбь... Это я правду говорю... Хоть и не верите, так сами увидите.
— Так ты ещё запираться! — вскричал разъярённый Шафиров, — а вот сейчас... мы доберёмся! Эй, палач, живо, говорят вам...
Палачи затормошили Кочубея. Между тем судьи подозвали трепетавшего всем телом Искру.
— Ну, пане, — как тебя, — Искра, смотри же, не запираться, правду сущую говорить! По чьему наущению ты доносишь? — Кротко, но важно спросил его граф Головкин.
Искра хотел было что-то говорить, язык не слушался его, произносил несвязные полуслова. Искра поглядывал, то на судей, то на Кочубея; а сам был бледный, как полотно.
— Говори, пане Искро, как перед Богом, конец наш пришёл! — сказал Кочубей, между тем, как палачи продолжали около него свои приготовления, в которые заботливо вмешивался Шафиров.
— Молчать! — грозно закричал Шафиров на Кочубея. — Знай себя и отвечай, когда тебя спрашивают! Ну, говори же, — сказал он, обратясь к Искре, — по чьему наущению ты доносишь?
— Спросите Кочубея, он заставил, он принуждал меня вмешаться в это дело. Я бы и рукой махнул, видел не видел, слышать не слышал.
— Так и ты стоишь на том, что было чему рукой махнуть? Так было что видеть, слышать? — спросил Головкин.
— A-а! Кочубея спросите! Пытать его, — закричал Шафиров.
Искре дали десять ударов кнутом. — Искра сделал показание, какое угодно было судьям. Дьяк записал. Кочубей стоял подле Искры, видел муки его, слышал его показание и вполне разгадал участь, их ожидающую.
— Ну, пане Кочубей, твоя очередь: Искра тебя велел спрашивать, говори же правду, по чьему наущению ты доносишь на верного слугу царского, добродетельного и великого своего гетмана, уж не хотелось ли вам его низвергнуть, и кому-нибудь самому из вас на его место, говори же правду, а не то — видишь! — Головкин указал ему на палачей.
— Я сказал вам, честнейшие бояре: грех меня попутал. Не потаю пред вами, как пред Господом, — лукавый помысел был: думалось и булаву получить, коли Мазепу свергну, а всё-таки сущая то правда, что Мазепа — предатель, готовит царю великую беду...
Бояре велели читать вслух его донос, требовали на каждую статью доказательств.
— Теперь я вижу, донос верен, измена есть, а доказать нечем, — писалось и то, чего бы и не следовало писать, грех меня попутал.
— А когда нечем доказать, значит, ты клеветал?
— Так ты облыжно клеветал? Гетман и не думал изменять?
— Гетман, точно, изменил.
— Пытать его! Что с этим упрямым старичишкой делать?
— Ну что? Винишься теперь? — спросил Шафиров.
— Дьяче! — несвязно проговорил Кочубей. — Пиши, как там оно вам треба, а я подпишу. Конец мой приходит, суд Божий гремит надо мной! До чего я дожил!
Кочубей, в изнеможении, повалился на пол.
Мазепа не удовольствовался наказанием Кочубея и Искры, которое претерпели они в Витебске, и писал к царю: «что он отягощён неизглаголаниою и не описанною царскою милостию и благодарствуя благодарствует, и до конца жизни своей не перестанет благодарствовать за премилостивое защищение невинности его, и за непопущение врагам возрадоваться о нём. А понеже, — писал Мазепа, — ныне с праведного розыску, который по Указу Вашего Царского Величества чинен был, показалось явственнее, что тые мои враждебные наветники, Кочубей и Искра, клеветали на мя неправду, и в сеть, юже мне сокрыша, сами впадоша, уловлении во лжи и злобе своей; того ради покорив с доземным поклонением за таковую Вашего Царскаго Пресветлаго Величества милость и крайне милосердствующее о мне Монаршее призрение прошу, дабы по премощному Вашего Царского Величества Указу и милостивому обнадёживанию, тые мои лжеклеветники, Кочубей и Искра, были до меня присланы для окончания розыскного дела, и чтобы над ними справедливость такая, какую Вы, Великий Государь, по богомудрому своему рассмотрению учинить повелите, всенародне в войске совершилася, дабы, видя то прочие, не дерзали больше неправедных на мя соплетати и вымышляти наносов и наветов».
Сковали Искру и Кочубея, по рукам и ногам, и из тюрьмы посадили в простые телеги; и измученных страдальцев товарищ Смоленского губернатора, стольник Иван Вельяминович Зернов, привёз в Киев.
Со дня пытки, пребывание в сырых тюрьмах, езда по всякой непогоде и зною в простой телеге, стыд, посрамление, терзание совести, побои, неожиданность внезапного бедствия, привели Кочубея в жестокое лихорадочное воспалительное состояние. Голова его горела, он временами терял память и рассудок; дорогою в Киев он беспрестанно бредил. Вельяминову иногда говорил, что везёт Самуиловича к князю Голицыну.
— Боюсь, — говорил Кочубей, — чтобы казаки, данные гетману, не напали на меня; тогда убьют меня, освободят Самуйловича, дети мои и весь дом осиротеют без меня…
Вельяминов видел душевные и телесные муки несчастного Кочубея и не притворно соболезновал.
Искра постоянно, во всю дорогу не говорил ни слова; а перед въездом в Киев ночью, бывшие до этого, чёрные как смоль, волосы его, совершенно поседели; лицо почернело и покрылось морщинами, так что сам товарищ губернатор не узнал его, когда привёз в Киев.
Это было 12 июля 1708 года...
В страшном подземелье сидели скованные Кочубей и Искра. В этом подземелье, под сводом горел небольшой фонарь, и мёртвый тусклый свет разливал на черно-серые стены тюрьмы. Искру, как беспамятного, положили на солому, Кочубея приковали к стене за руки и за ноги; утомлённый неизобразимыми муками, ясно выражавшимися на страшном лице его, Кочубей некоторое время был как бы в исступлении; потом мало-помалу стал приходить в себя; но не понимая, где находится, окинул взором подземелье, посмотрел на цепи, которыми был прикован, склонил голову на болезненную грудь, задумался и потом вдруг страшно задрожал, простёр руки сколько дозволяли цепи, и закричал: «Любонько, Мотрёнько, Анюта... вас ли я вижу!»... Ему представилось, что он возвратился в Батурин в своё семейство. В то время Орлик, с двумя казаками, нёсшими фонари, вошли в подземелье осмотреть узников. Кочубей, громко говорил:
— Садитесь, все садитесь, здесь вокруг меня... Дай я тебя прижму, дочко моя, Мотрёнько моя, квете мой рожаной!..
Он только звенел цепями. Орлик в немом удивлении остановился перед Кочубеем, с усмешкою смотрел на его муки и любовался страданиями.
— Все сели, всем достало места?.. Ну, слушайте, я вам расскажу, что видел, что слышал в походе в Крыму... Там всё огонь, огонь, степь горела на тридцать миль, казаки гибли, а мы с Мазепою радовались, да венгерским радость запивали, с полковниками донос писали, — не будет Самуйлович гетманом, не будет!..
В это время в Святой Лавре заблаговестили ко всеночной. Кочубей услышал глухой звон, долетавший в подземелье через небольшое отверстие, проделанное в своде, хотел перекреститься, но цепи не пустили; повёл головою в обе стороны и тихо сказал:
— Звонят, звонят!.. Он задумался. Потом, прислушиваясь к умиравшему звуку, отдававшемуся в узких переходах подземелья, продолжал бормотать: за человеком человек умирает... сегодня по гетману Самуиловичу звонят, а завтра, может быть, и я умру, позвонят и по моей душе, положат в домовину, очи мои засыплют землёю, через год и памяти не будет... из люльки да в домовину — дорога не дальняя, да случается по дороге много дива дивнаго... сегодня я такой, а завтра совсем другим буду, сегодня одна думка и воля, а завтра другая, — такой ли я когда-то был: Самуйлович крепко меня любил... я же его и погубил...
Он умолк, и через некоторое время, память его прояснилась, он тяжело вздохнул несколько раз, склонился головой к стене, и заговорил сам с собой: «Человек, человек — несчастный ты в мире: воля, слава, и золото губят тебя; коварство, зависть, с тобою как сёстры родные живут... и я задумал гетманствовать, и погубил себя! — как пёс, когда-то лизал я ноги знатным, просил у них казацкой славы, и выпросил, да не себе; а Самуйлович всё, погиб, и душа моя погибла... Мазепа золото разсыпал перед Голицыным — и булава в его руки перешла; золото разсыпал и неистово закричал он, — и чего люди не сделают за золото! Честь, совесть и душу продают за золото; дай золота, и купишь ворогов себе, а не себе, так кому захочешь, хоть отцу родному, — отцу родному... что ж — и батько тот же червонец: отдай его врагам и дадут тебе, чего захочешь: и Самуйловича мы продали; а как правду-тo сказать, он батьком нашим был! О... о если бы теперь золото моё сюда принести!..»
Сказав это, громко кричал Кочубей: «Купил бы я всех вас! И гетмана купил бы; кровь его и душу купил бы... а там, что будет? Все умрём, вечным сном заснём и никто не разбудит...»
— Я разбужу тебя, проклятый доносчик! Где золото твоё, говори? — закричал Орлик.
— Кто это здесь?.. А, это ты, Орлик, так я в Батурине, в руках Мазепы? — слабым, болезненным голосом сказал Кочубей.
— Ну, ябеда, я тебя на встряску, говори, где твои червонцы и ефимки?..
— Возьми всё себе... теперь мне ничего не нужно... Орлик, Орлик! Зачем тебе золото? Видишь Кочубея?.. Что ему теперь золото!.. А ты с гетманом разве безсмертные?.. Золото и вас доведёт сюда же! Скажи, где я, в Батурине, в Полтаве, где я?..
— Ты здесь! Не спрашивай больше нечего, и говори мне теперь не проповеди твои, а просто, где золото твоё?
— Червонцы в Диканьке, возьмите их себе; а когда люди добрые будете, отдайте на церковь и монастырь хоть малую часть, за упокой души моей!..
— В Диканьке — где ты их спрятал, говори?
— В подвале дома, в глиняных горшках, в землю зарыты; найдёшь четыре тысячи червонцев и две тысячи талеров! Вот тебе и всё теперь; дай мне покой, мне легче стало!
Орлик исчез, обрадованный признанием узника.
Кочубей опять впал в исступление и повалился на землю. Глаза его, освещённые тусклым огнём фонаря, ярко блестели; не спав несколько ночей сряду, и выбившись из сил, он смежил глаза; тревожная дрёма успокоила его; и грезится ему, что он подъезжает к шатру гетмана Самуйловича, чтобы схватить его; но нет гетмана в шатре, он со стражею едет в церковь; ночь, тихая, звёзды ярко горят на синем небе, вдали кричит перепел, среди ночного безмолвия громко звенит благовестный колокол в церкве Коломака; вот он подъезжает к ней, входит в притвор и потом в саму церковь, свечи ярко горят перед местными иконами, лампада теплится пред образом тайной вечери, в алтаре темно, у иконы Божьей Матери, стоя на коленях и склонив повязанную белым платком голову на железную решётку, подле алтаря, молился Самуилович, а среди церкви седой священник, дрожащим голосом читает Евангелие, и слышит Кочубей:
«Имже бо судом судите, судят сам: а вшо оке мтьру мтьрите, возмтьрится вам».
Вдруг в глазах Кочубея всё исчезло, туман наполнил церковь; он задрожал: громовой, голос нестерпимо для него произносит слово Евангелия и Кочубей трепещет. Но вот мало-помалу туман развеялся и видит Кочубей: по правую сторону у алтаря стоит он сам, и молится, а позади его Мазепа, Орлик, Заленский, казаки; он хотел пройти мимо их, но нет дверей, он подошёл к царским дверям, ударил перед престолом три земных поклона, и из алтаря вышел к нему отец Иван, духовник Самуиловича с святою чашею и сказал: примирись с Богом и людьми; покайся - твои муки кончаются.
Это глубоко поразило Кочубея, он проснулся: тихая радость оживила его душу; он открыл глаза и — видит: действительно перед ним стоит престарелый священник, в руке его чаша примирения грешника с небом. Кочубей всматривается в черты лица инока.
— Мир тебе, сын мой, и благодать от Господа нашего Иисуса Христа, искупившаго нас своею кровию!.. Узнаешь ли меня?
— Отец Иван, ты ли это?
— Да; грешный иермонах Иосиф, это я, — духовнив добродетельнаго Самуйловича.
— Господи, помилуй меня беззаконника! — говоря это Кочубей хотел пасть к ногам старца, но цепи не допустили; он склонился головою.
— Прозрел ли ты, сын мой, пути Божии?
— Вижу, отче, все беззакония мои, исповедую все грехи мои, поручаю душу мою в руки Божии.
— А знаешь ли ты, что тебя ожидает?
Кочубей опустил голову на грудь.
— Да; дни твои изочтены, скоро повезут вас на смертную казнь.
Кочубей заплакал; возвёл глаза к небу и после некогорого молчания, содрогнувшись, сказал:
— Ох тяжко мне, грешнику!.. Праведные с веселием идут на смерть... а меня ужас смертный объемлет... Помолись о мне, отче! Я погибший грешник...
Отец Иосиф начал последование к покаянию и ко святому причащению. Уничижённый Кочубей, как истомлённый жаждою — воду, впивал в себя слова молитв. Лишённый всякой земной опоры — всем существом своим он потружался в милосердие Божие, не мог насытиться молитвой, сердце его изливалось в слезах умиления и сокрушения. Приступив наконец к самой исповеди, он со всею заботливостью отыскивал и малейшие прегрешения жизни своей, весь повергался в бездну милосердия Божия. Уста его не в силах были выразить радость и восторг его духовный, после принятия святых тайн. Дребезжавший голос его только и мог произносить: слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!.. Слава тебе, Боже!.. Он целовал свои цепи, благословлял свою темницу, беспрестанно порывался преклониться долу, молился за своих губителей.
— Перекрести меня, отче; не могу креста положить.
— Ты весь на кресте споем, сын мой, благословляй Господа, — сказал отец Иосиф, осеняя его крестным знамением.
Между тем, ещё до начала молитвы, отец Иосиф старался призвать и Искру к молитве; тот не спал, глядел вокруг, но ничего не видел, ничего не отвечал.
— Молись вместе с нами, пане Искро.
И действительно, пока шло последование и потом исповедь Кочубея, Искра лежал, по-видимому, без памяти; но когда Кочубей дошёл до сокрушения о том, что он и других увлёк, заговором своим в погибель, Искра привстал и сказал:
— За мои грехи и беззакония покарал меня Господь, — не ты, пане Кочубей, сам я себя погубил... Кончив исповедь Кочубея, отец Иосиф обратился к Искре, и начал исповедывать его вопросами. Тот хотя и бессвязно, но сокрушённо каялся, и в памяти принял Святые Тайны.
— Как ангел Божий явился ты к нам, погибшим, отче Иосифе! Судил же Господь, чтобы ты привёл ко спасению того, который искал твоей погибели... в ню же мтьру мтьрите, возмтьрится вам!.. Произнёс Кочубей, это были последние его слова.
XXVI
Багровая заря покрыла восток, прохладный утренний ветерок перелетал между кустами в лесах и струил серебрянные чешуйчатые волны, и колебал отражения зелёного тростника, смотревшегося в воду. Розово-золотистый луч зари отразился на стеблях и листьях камыша, на ярко-зелёных вершинах деревьев, на цветах в каплях росы, пал на фиолетовые горы Днепра, далеко видневшиеся и озарил ущелья их; пал на поля, покрытые волнистыми хлебами — и всё зарумянил и всё озолотил.
В местечке Борщаговке, на площади, где вчера старухи, казацкие жёны, продавали бублики, огурцы, арбузы, яблоки, вишни, там 14 июля, до восхода солнца поставили деревянные подмостки, и Батуринский кат, нарочно приехавший в Борщаговку по приказанию гетмана, положил ту самую колодку, на которой он отрубил голову Григорию Самуйловичу, монаху Соломону и ещё десятку-двум казакам и другим людям. Народ со всех улиц Борщаговки стекался на площадь, не зная для кого приготовляется всё это.
Взошло солнце и на площадь приехали гетманские сердюки и обступили со всех сторон возвышение; за ними пришли пешие казаки и московская пехота, и также заняли свои места, часу в восьмом начали собираться бывшие при гетмане старшины, полковники и посполитые люди.
Прискакал на коне Гамалея, а за ним генеральный обозный Ломиковский. Шум и крик народа умолкли, на возвышение взошёл высокий и дюжий палач, он играл перед народом огромною секирою, народ бранил и проклинал его, палач смеялся.
Вдали на телеге везли двух скованных узников; народ бросился навстречу к телеге, желая узнать, кто такие несчастные; но не могли удовлетворить своему любопытству; один из них без чувств лежал на телеге, закрытый белым покрывалом, а другой хотя и сидел, но лицо его также было закрыто.
Гетман смотрел из окна своего замка, который одною стороною выходил на площадь. С ним была Мотрёнька, не зная, почему ей казалось, что большое стечение народа и такое площадное торжество может быть только при казни её отца: сердце не обманывало её, она смотрела на площадь, дрожала всем телом и была безмолвна. Гетман смеялся её женской слабости и заставлял до конца остаться у окна, говоря, что казнят москаля. Матрона Васильевна не могла смотреть на это торжество, отошла от окна, в другой комнате села и душевно молилась об отце и матери.
Чуйкевича не было тогда в Борщаговке, он был в Польше, по делам гетмана.
Заиграли в трубы, ударили в литавры и бубны и палач повлёк на возвышение Кочубея, разорвал покрывало на лице, и обнажил его шею.
Кочубей обратился к народу. Казаки узнали его, Кочубей хотел что-то сказать народу, но в тот же миг, по грозному знаку Ломиковского, бубны, литавры, трубы загремели громче прежнего.
Генеральный обозный дал знак, чтобы народ умолк. Стольник Иван Вельяминов-Зернов громко прочёл данный ему Головкиным приговор.
Народ с ропотом выслушал обвинение Кочубея и Искры; иные явно дерзали говорить, что они доносили праведно, но их никто не слушал. Кочубей спокойно выслушал приговор, преклонил колена, палач положил седую обнажённую голову на плаху... музыка загремела!..
Через час после казни, какой-то монах просил, чтобы тела дозволено было погрести; и так как чела казнённых всегда дозволяли хоронить народу по желанию, где захотят, то трупы Искры и Кочубея были отданы сострадательному отшельнику: они оба в одном гробе преданы земле в Киево-Печерской Лавре при входе в трапезу. Мазепа не знал об этом. Через год или более, над могилой несчастных страдальцев положен был камень с надписью:
Кто еси мимо грядый о нас не ведущий, Елицы зде естесмо положены сущи, Понеже нам страсть и смерть повеле молчат и, Сей камень возопиет о нас ти вешати. И за правду и верность к Монарсе нашу, Страдания и смерти испыймо чашу. Злуданием Мазепы, всевечно правы, Посеченны заставшие топором во главы: Почиваем в сём месте Матери Владычне,Подающий всем своим рабом живот вечный.
XXVII
«Недаром, — заговорили казаки, — Господь посылает звезду с хвостом, недаром идут слухи, что в гетманщине по ночам ходят три сестры: смерть, голод и война; истину рассказывали и полтавцы, что в Ворскле под водою слышали звон колоколов и погребальное пение, — швед наступает войною на гетманщину, и чёрная печаль, как бурное море, закипела по всей Украйне, как губительная язва, разнеслась по православному русскому царству. Царь московский враждует с королём шведским, не хотят они друг другу подать руки, не хотят примириться; один — гордый победами, другой славен мудростью и крепкою верою в Бога; один хочет все царства разгромить, всех царей пленить, другой жаждет смирить строптивого шведа, прогнать его за пределы родной страны и утвердить своё царство.
Враждуют царь и король, а нечестивые ляхи, татары и изменники православному царю, тешатся сладкими замыслами, богатеют чудными думками; а крупными слезами плачут матери и жёны в гетманщине, думают чёрные думы несчастные невесты.
Шведский король вперёд раздаёт чины и награды своим вельможам: Шпарру выдал патент, назначив его московским губернатором; и в Берлине Шпарр на икру у подскарбия короны Польской Пребендовского, хвалился всем наградой, превозносит Карла XII, и заранее жалеет, что мудрый царь московский наголову разбит будет, и царство его разделится на княжества. Карл и квартиры могучему войску своему назначает в Москве: да как ему и не назначать — он король непобедимый: ему ли не управиться с неокреплою в бранях русскою силою? Русское царство богато верою в Бога, но слабо ещё силою человеческою, — а в битвах, мол, всё решает мощная длань и твёрдая грудь воина; в час битвы, когда длинные копья вонзаются в груди, когда пули впиваются в сердца — не молиться-де войску, не думать о вере целой армии, — так мыслит победитель датчан, саксонцев, поляков, так мечтал низвергнувший Августа II и надевший на Лещинского корону Польши, так думал король, приведший в трепет всю Европу.
«Есть у меня, — со своей стороны думал царь православный, — есть у меня дело правое, милость Божия, да верный помощник и советодатель, есть крепкий охранитель благословенной гетманщины, друг и добрый слуга Иван Степанович Мазепа; правда, скорбь и муки иссушили его, беспредельно преданного мне, но Бог укрепит силы его, и выступит он с храброю ратью своею, с славными рыцарями запорожскими, казаками-молодцами».
Гетман, получив от царя письмо, чтоб выступал в поход, заболел и с постели не встаёт. Тяжко пчёлам в улье без царицы-матки, сумуют и казаки, как быть им на войне без храброго гетмана: с веку вечного не случалось, чтоб казаки одни без батьки в поход выступали. Горе, тяжкое горе, враг ближе и ближе подвигает войско своё к славной гетманщине. Да и не век же думы думати, хоть и без гетмана, а надобно же казакам в поход идти. И потянулась мошная казацкая сила к светлому широкому Днепру, не раз уже поившему храброе казачество славою, не раз уже и красневшему вражескою кровью.
Весело в поход выступать, когда сердца воинов исполнены крепкой веры в Бога; не страшно рати смотреть на чёрное небо, занавешенное стаями кровожадных воронов, соколов и орлов; не ужасают казаков и бесчисленные стаи серых алчных волков, бегающих за ними; вороны будут клевать очи убитых врагов, алчные волки будут терзать вражьи сердца, а милосердный Бог спасёт и помилует православное казачество.
Но вот горе: слух, разнёсся, что гетман Мазепа тайно польских послов принимает, сам пишет к шведскому королю. Как чайки по Днепру шныряют за рыбой, так проклятые иезуиты, шпионы Мазепы и шведов, рыщут по гетманщине, всякие слухи добывают и доносят королю и гетману. Не устрашает их пытка огнём, которою пытали польского шляхтича Улишина, посланного от Понятовского к Мазепе донести о приближении к гетманщине Карла, и о желании его знать от гетмана, скоро ли он присоединится к нему с казаками.
Кто проникнет в сокровенные мысли Мазепы; он скрытен от всех, не такое наступило время, чтоб быть откровенным; не вымолит у него признания и крестная дочь его, первое на старости лет утешение его, не вымолит и Матрона Васильевна, дочь несчастного Кочубея, жена Чуйкевича; она день целый проводит с гетманом, сама грустит, сердце вещует ей тяжкое горе, словно отец её казнён и мать в тюрьме, а она не знает этого. Мазепа скрывает от неё, скрывает и муж, сделавшийся другом Мазепы.
Рано утром, в один день зазвонили в Стародубе, громко заиграли в звонкие трубы, забрякали в голосные литавры, взбежали казаки пушкари и пищальники на валы, задымились фитили; зарядили рушницы, обнажили острые сабли, стоят — и смотрят в синюю даль. Взвивается серая пыль и ярко блестят ружья от солнца, и хлобышат развевался ветром красные знамёна шведские. Стали стародубцы твёрдою стеною, не дадут они взять своего города нечестивым шведам.
Да чего страшиться стародубцам, сам гетман с отборными казаками поспешает к ним; Бог поднял его на ноги от болезни; киевский митрополит Иоасаф Краковский соборовал его маслом и — гетман выступил в поход.
Поспешили казаки с гетманом и пришли к Десне под Новгород-Северск.
Стало благословляться на свет Божий, кровавая заря поведала свет дневной, гетман вышел из персидского шатра своего, сердюки подвели ему дорогого коня вороного, вложил он старую ногу свою в серебряное стремя, сел на коня, бледный и седой — не тот Мазепа, что, когда-то, за вечной памяти при Самуйловиче, гарцевал по степи, поспешая в Крымский поход. Теперь сел старик и трясётся; хотел что-то сказать, поднял руку, — рука опустилась, губы охололи и не растворялись; кивнул головою, поднял ещё раз руку и едва вымолвил, указывая на шведов:
— Козаки молодцы, храбрые рыцари, скорее за мною, а то погибнем: и за нами беда, и перед нами беда! Гайда, сыны мои любезные, послушайте седаго батька вашего, за мною. Гайда!.. Пришпорил коня, и конь, как стрела, помчался к шведам; тут-то очи всем открылись; и немногие казаки последовали за ним; потянулся и обоз, а в обозе крестная дочка Мазепы; куда гетман и Чуйкевич, туда и она, несчастная.
Вот и верный гетман, вот и подпора и надежда православного царя, вот и радость и спасение Украины!
Изменил Мазепа Богу, царю и казакам, изменил на свою погибель. 29 октября явился Мазепа к Карлу, обедал с ним и после обеда положил к ногам Карла свою гетманскую булаву и бунчук, простился с королём, сел на коня; заиграли в честь его шведские трубы и литавры, изменник поехал в свой шатёр, поставленный уже среди шведского войска.
Услышал царь про измену Мазепы и — проклял его; и церковь утвердила слово царское; в один голос слились все звуки колоколов гетманщины, в одно слово соединились сотни тысяч голосов гетманцев и православного русского войска; и промчалось по всей гетманщине имя Мазепы в притчу злобы, коварства, нечестия и предательства, до сего дня.
Столицу гетмана, Батурин, защищаемый сердюками, взял князь Меншиков, разорил гнездо изменника, и Батурин сжёг.
Война продолжалась, шведские войска подступили к Полтаве и начали осаду города.
Полтава — не была твердыня, несокрушимая крепость: десять верных казаков вверх на копьях подняли бы всю её, будь это вражеская крепость; но Полтава тверда была верой в Бога, и шведское войско не могло взять её. Несколько раз сам Карл нападал с многочисленным войском на ветхие хатки, построенные на горе и обнесённые частоколом; саппами сквозь валик из полисад подкапывался — и наши абшит давали шведам, писал царь в своём журнале.
Приехал царь, и осаждённым письма посылал в пустых бомбах. Полтавцы благодарили Бога, что царь прибыл к армии и скоро обещает освободить их от неволи и козней вражьих, и также в бомбах послали к нему письмо, через которое уведомили, что у них пороха почитай за нтьт.
Царь видел, что быть большой битве и не медлил распоряжениями к ней: 26 июня собрал он в шатёр свой всех знатных военных генералов, советовался с ними о битве и составил план. Кончился совет, он вышел из шатра, — докладывают, что привели пойманного польского перемётчика, который сказал, что на утро другого дня Карл хочет начать битву.
— На зачинающаго Бог! — произнёс Пётр и повелел готовиться к битве.
В полночь царь скакал по рядам своего войска, в эту минуту он был твёрд, величествен, страшен: глаза его горели, высокое открытое чело исполнено глубокой думы; казалось, это летал по рядам богатырь, посланный с неба для наказания и погибели могущественного, доселе непобедимого короля шведов.
Быстро пронёсшись по рядам, царь объехал батареи, осмотрел пушки, стал среди войска, обратился лицом к монастырю, снял шапку и начал молиться, за ним молилось всё воинство.
Ночь была светлая, тихая, месяц купался в прозрачных волнах Ворсклы, и малейший ветерок не смел нарушить спокойствие природы.
Раненый в ногу пулею, Карл в одноколке разъезжал по рядам и в полночь построил войско своё в боевом порядке. В начале второго часа пушечный выстрел со стороны шведской возвестил начало битвы, и отголосок её далеко, далеко пронёсся в грядущие веки, возвестил начало славы России и падение северного Александра.
Были страшные годы в гетманщине, были кровавые битвы, воевали казаки при Богдане, при Брюховецком, при Виговском и при Самуйловиче, но не бывало ещё в ней битвы Полтавской. Заревели пушки и — Ворскловые горы тысячи раз откликались эхом; засвистали пули и градом посыпались на ратников; сабли загремели о сабли, затрещали длинные копья, начался пир смерти, полилось вино кровавое, дым скрыл небо и землю — застонала земля.
Шведы везде уступали войскам православным. Сам царь летал по рядам, и с ним летал ангел брани и победы; три пули ударились в него, но не смели умертвить Богом хранимого. Шереметев, Меншиков, Репнин, Боур, Брюс, распоряжались каждый отдельными войсками, Пётр распоряжался всеми.
В полдень битва возобновилась с новою силою: тяжёлою стеною двинулась шведская кавалерия на русские войска; грянул картечный град и стена вражья зашаталась и разделилась на две части: победа явно преклонилась на сторону царя; полтора часа обе армии дрались, как львы в пустыни, но русские везде превозмогали.
Пушечное ядро выбило Карла из носилок и он, далеко отброшенный, лежал без чувствий; его положили на древки от знамён, через несколько минут он пришёл в себя, закричал: «Шведы, шведы!» — приближённые, полагавшие до этого, что король убит, услышав голос его, столпились у его изголовья; Карл настаивал, чтобы его посадили на коня; лишённый последних сил, он всё ещё хотел присутствовать в битве среди воинов. Понятовский исполнил желание Карла, посадил его на лошадь и поддерживая его, кое-как пробрался с ним к обозу; там Карл сел в карету одного из своих генералов и охраняемый несколькими драбантами поехал в Переволочную.
Жребий был решён, явною помощью Божьего Пётр Великий приготовил его шведам, учителям своим, многолетними усилиями и бедственными до этого войнами.
И вот как созрели плоды его благословенного ума, его великих соображений; при помощи Божьей, удача или неудача здесь не имели места; несмотря на не состоявшуюся помощь Мазепы, всё было заранее обдумано и долженствовало в этой битве исполниться так, а не иначе, и всё это совершилось под непосредственным наблюдением царя; «и непобедимые господа шведы скоро хребет показали» — писал Пётр в своём журнале.
Шведская армия была истреблена: двадцать тысяч воинов пало на пространстве трёх украинских миль вокруг Полтавы; на одном поле битвы легло десять тысяч.
Оставя на волю судеб разбитую свою армию, Карл переправился через Переволочную. Мазепа с Заленским, Орликом и с весьма небольшим числом приближённых сердюков и компанейцов также переправился через Днепр, бросив недалеко от Полтавы любимую свою крестную дочь Мотрёньку, и — захватил два бочонка червонцев; из них двести сорок тысяч немецких талеров ссудил Карлу. Домогался всего — и разом всё потерял!
Печаль о своём падении так поразила Мазепу, что он прибыв к Днепру, получил удар паралича; а приехав в Бендеры, Мазепа почувствовал приближение своей кончины, потребовал у Заленского свою шкатулку, вынул из неё бумаги и сжёг их, сказав:
— Нехай один я буду несчастлив, а не многие, о которых вороги мои, может, и не мыслили или и мыслить не смели: злая доля всё переиначила для неведомого конца.
Лишённый животворных утешений, оставленный почти всеми казаками, он таял и, видимо, разрушался: одр его окружали досада, скорбь, ропот и укоры то обманутого величия, то не сбывшихся громадных надежд всех его окружавших.
Ночью на 22 сентября второй удар паралича убил его; 24-го хоронили; впереди шли музыканты, играя марш погребальный; за ними шведский генерал нёс гетманскую булаву; шесть белых коней везли на дрогах гроб, окружённый казаками, которые шли с обнажёнными саблями; далее шведское войско с опущенными в землю знамёнами и опрокинутыми ружьями; его погребли в Варнице, близ Бендер.
XXVIII
По дороге из Решетиловки в Полтаву, недалеко от Полтавской могилы, сидя согнувшись на возе, запряжённом двумя дюжими волами, ехал старик гетманец; позади его сидела женщина, лет двадцати двух в изорванном клетчатом платье и в серой суконной свитке, волосы её были растрёпаны и прикрыты ветхим полотняным платком; она была чрезвычайно бледна, на груди вместо мониста висел кипарисный киевский крестик.
Старик, указывая рукою на могилу, говорил:
— Тут, моё серденько, настоящее пекло было, двести гармат не переставая жарили целый день; дальше, у леса сам царь стоял на коне; а вот, далеко, чуть мреет могилка — видишь, голубко?..
— Вижу!..
— У той могилки стоял мазепинский обоз, а с ним была его крестница, дочка покойного Василия Леонтиевича Кучубея, дай Бог ему Царство небесное, добрый был пан! Что ж, злодей бросил несчастную крестную дочку свою и, — говорили казаки, — она, сердце моё коханое, В самую баталию была с ним; как подстерёг аспид, что царь победит шведа, дал маха до Переволочной; она — бедная за ним следом: он же в берлин шестернёю, а она пешком, и рассудила б несчастная, где уже догнать ей; так нет, задыхавшись, а всё бежала, пока не выбилась из сил и упала средь дороги. Казаки шли из-под Полтавы после баталии, подняли её да в село привели и отдали, не знаю, какой-то казачке. Говорили люди, что она жила у той казачки целый месяц, пока и духу стало не слышно шведскаго. Казачка хотела отвезти её в Диканьку; царь, вишь, Кочубеевой все деревни а сёла отдал, какими владел покойный Кочубей; да она, моё сердце, уж не захотела ехать до матери; злая мать, всему горю причиною, сплела на дочку враг знает что, сказала людям, что она с проклятым Мазепою зналась, а по век сего не было. Бог же наказал её... Правда, Мазепа страх любил крестницу свою, да не так, как Любовь Фёдоровна растолковала...
— И долго жила тая, как она, — Матрона, с казачкою?
— А так сдаётся, около полгода; да что уже в такой жизни; прежде в каких будинках тешилась, моё серденько! А туг досталось в простой хате пропадать, да таки-так, что пропадать: узнала, что батькови голову отрубили; она с туги да печали заболела, пролежала недель шесть, а потом хоть и встала, так что ж, — смерть ходит по селу, а не красивая молодица; а когда-то красавица была Мотрёнька: очи чёрные, так хоть как и у тебя, такая ж коса, брови чёрные, сама бела, кровь с молоком; теперь ходит, и сама себя не знает; говорили мне люди, что сельский голова принуждал её ехать с ним в Диканьку; так нет ни за что. «Я, — говорила сердечная, — дождусь пана Чуйкевича, своего мужа». А Чуйкевич за измену царю, давно в Сибири пропадал; жалко, не был я тогда в селе; а то бы мы с головою все как-нибудь да управились бы с нею, и отвезли бы её к матери; теперь всё не то: и Любовь Фёдоровна переменилась, говорят, куда — стала такая тихая, да добрая, из церкви не выходит; и дочка одна осталась от всех родичей, любила бы её.
В это время воз въехал в Полтаву, и поворотив налево мимо церкви Спаса, через Королевские ворота, спустился ниже Монастырской горы к Ворскле. Старик и женщина поспешали в Пушкаревку. Они хотели застать вечерню: на другой день был храмовой праздник в монастыре.
Дорогою, когда старик рассказывал про несчастья Матроны, сострадательная женщина заплакала.
— Вот так, какая ж ты плаксивая, по чужому горю плачешь, видно своего нет у тебя!..
— Есть и своё горе!.. Да и чужое горе-то, — горькое.
— Да, правду сказать, горю несчастной Мотрёньки можно поплакать, не грех будет, сердечная вытерпела много на своём веку.
Вдали за лесом заблистал золотой крест монастырской церкви и зачернел купол, а между деревьями забелелись стены зданий.
— Слава Боту милосердому, приехал в Пушкаревку и до монастыря недалеко.
— Слава Богу!
— Гей цобе, цобе, серый да белый, — закричал старик, погоняя волов коротеньким батожком; волы прибавили шагу, и скоро остановились у деревянной ограды монастыря.
— Ну, дедушка, как бы нам увидеться с игуменью и поговорить с нею: люди говорили, она святою жизнию живёт.
— Так и след жить игуменье; у меня есть в монастыре знакомая монахиня, старица Ефросиния: когда не пошла на богомолье в Киев, так зайдём к ней в келью и расспросим.
— А где старица Ефросиния? — спросил старик, обратясь к одной послушнице, стоявшей подле торговок. Послушница низко поклонилась старику, указала на келью Ефросинии и сказала:
— В келии, она недавно пришла из Киева с богомольцами и с тамошним старцем иеромонахом. Седенький, преседенький!.. Увидите, сегодня вечерню будет служить, и завтра — обедню. Простите Христа ради.
Ну спасибо тебе, пойдём же к ней; постой, только волов привяжу к дереву.
Старик привязал к дереву волов, надел вместо серой свитки белую суконную, повязался красным поясом, потёр чёботы дёгтем, расчесал чуприну, поправил длинные повисшие усы и бодро с женщиной вошёл в ограду монастыря.
Старица обрадовалась гостям, усадила их на деревянные стулья и завела разговор о монастыре Полтавском, о победе царя над шведами.
Старик спросил, можно ли им быть в келии игуменьи.
— Можно, матушка всех по християнски принимает, псе ждёт кого-нибудь из Батурина, не придёт ли кто; она, пока не пошла в монастырь, сама жила в Батурине, да видно это сказка: не такой жизни теперь, чтобы жила она в Батурине, да ещё за Мазепу; известно, в Батурине все жили паны, и где там уже постническая жизнь паша.
— Я сама была когда-то в Батурине, — сказала до этого молчавшая путница старику…
— В Батурине была? Отчего же ты мне не рассказала ничего про Мазепу, и про вечной памяти Василия Леонтиевича!..
— Так ты меня не расспрашивал.
— Ну, как будем ехать назад, не забудь рассказать мне про Батурин!
— Добре!
— Когда ж можно быть в келье игуменьи?
— После вечерни!
— А вечерня скоро?
— Минут через пять будут клепать. Да вот уже и клепают, пойдём!
Старица Ефросиния встала, перекрестилась, сделала три земных поклона и вышла вместе с гостями в церковь.
Старик и женщина стали на правой стороне подле дверей церковных, желая заранее увидеть игуменью.
И вот вошли все монахини одна за другою и стали на своих местах.
Женщина устремила взор на иконостас и любовалась золотою резьбою по голубому полю. Старик толкнул её и сказал:
— Видишь, длинная ряска, вот пошла игуменья!
Игуменья подошла к алтарю, помолилась и, обратясь к народу, поклонилась на три стороны; монахини поклонились ей в пояс. Служил престарелый иеромонах.
Началась вечерня, монахини сами пели; народа в церкви было много.
По окончании вечерни старица Ефросиния спросила игуменью, можно ли придти к ней старику, приехавшему из Решетиловки с женою.
— Можно! Милости просим, — был ответ игуменьи.
Старик и женщина вошли вслед за игуменьею в её келью: небольшая комната, деревянный стол, за ним простой деревянный диванчик, покрытый ковриком, на столе в стакане мёд, на тарелке просфира, а подле мёду бублик, усыпанный маком; у стены четыре деревянных стула; на стенах лик Аоанасия, патриарха Константинопольского, коего мощи почивают в Дубенском монастыре.
Усадив гостей, игуменья Иулиания спросила, откуда Бог принёс их.
Старик отвечал: — Из-под Решетиловки, матушка.
— Давно выехали?
— Третьего дня вечером!
— А сколько миль?
— Четыре!
— Недолго ехали.
— Слава Богу милосердному.
— Не знаю, что теперь делается в Решетиловке, поправляется ли она после шведа?
— Помаленьку!
— Как-то Батурин, говорят, князь Меншиков до основания разорил его, не бывал ли ты, старик, в Батурине?
— Нет, не бывал.
— Я сама когда-то жила в Батурине, хотелось бы знать про этот город, особенно потому, что за Мазепу все церкви починены были, да две состроены каменные, — не дай Бог, если Меншиков разорил церкви!
— Бог сохранил храмы свои, сгорели только хаты да будинки!
— Я была в Батурине, когда Мазепа был ещё человек, как человек; знала набожного Василия Леонтиевича, знала его жену и дочек, Анну, что за Обидовским была, и меньшую Мотрёньку: всё это в прах развеялось! Жаль покойного Кочубея, теперь сама за него молюсь Богу. Любовь Фёдоровна не по нём была; Анна умерла к горю старика, Мотрёнька его утешала, да и ту, как слышала я после выезда из Батурина, мать ненавидела, а жаль, доброе и умное дитя было, я страх любила её; помню, раз привёз её отец до гетмана, и она пришла ко мне: что за доброе, что за умное дитя... я посадила её подле себя, читала ей слово Божие, она прилежно слушала, я сняла с себя кипарисный крест, который привезла из Киева, и благословила её тем крестом. Где-то она теперь, бедная, Ты ничего не слыхал?..
Женщина раскрыла свою шею, показала кипарисный крест, висевший у неё, и сказала:
— Не этот ли крестик?
Игуменья взяла крест в руки, потом с удивлением посмотрела на Женщину, перекрестилась, поцеловала крест, минуты две смотрела на женщину и сказала:
— Тот самый крест, которым я благословляла... да это ты... это ты, Мотрёнька? Твои чёрные очи, твои губы, твоё лицо — горе иссушило тебя!..
Женщина лежала у ног игуменьи, рыдая; растроганная игуменья подняла её и, держа её в своих объятиях, тоже плакала.
— Да, это твой крест, это я, Мотрёнька! — и она, упав пред игуменьею на колени, сказала:
— Прийми меня в монастырь, я хочу дни свои посвятить Богу, я ничего больше не желаю.
Игуменья снова обняла Мотрёньку.
— Помнишь ли ты, дочь моя, Юлию, которая жила в замке Мазепы?
— Помню, помню, ты благословила меня крестом на счастливую жизнь, не откажи теперь в счастии, пусть пребудет благословение твоё на мне.
— Господь наш Иисус Христос и Пречистая Матерь Его благословит тебя на путь спасения.
Игуменья благословила Мотрёньку, и тотчас же вышла; воротясь, она сказала:
— Я сейчас послала за отцом Иосифом. Он принял предсмертное покаяние твоего доброго отца, Василия Леонтиевича, и принёс тебе от него родительское благословение; искал тебя, да нигде не нашёл... как же рад будет святой старец!.. Нарочно для тебя и для матери твоей предпринял дальний путь в Диканьку; да и сюда в Полтаву поспешал к нам на праздник повидаться и навсегда проститься со мной, — говорит: «Больше уж не приведёт мне Господь видеть вас», — как милосердный Господь чудно устроил всё к нашему утешению! Владычице Небесная!..
Через неделю с лишком после этого, среди зелёного поля по дороге, легонько торопя волов, ехал обратно в Решетиловку старик и думал: «Я и не знал, кого вёз с собою в монастырь; сказано: на всё воля Господня. Я ей рассказываю про Кочубееву дочку, а она-то и была, сама Матрёна Васильевна!.. Не захотела, серденько, славы и богатства матери земной — Небесной Матери пошла служить...».
Кануло в вечность столетие, исчезло всё минувшее, быстротекущая река времени в своём течении унесла и все думки и все дела человеческие, от глаз наших, но не от глаз Божьих; потопила их в неизмеримой глубине, в пропасти общего земного забвения; и от всего минувшего ещё не поглощены две могилы.
Одна из них в Киеве, по правую сторону Святой Лавры, при входе в трапезу, покрыта чугунною доскою.
Как будто бы в подтверждение собственных слов Кочубея, сказанных духовнику своему Святайлу, народ указывает на могилу двух страдальцев, как на громко вопиющую притчу, святая истина которой — в словах Евангелия, слышанных Кочубеем, когда он вошёл в церковь, чтобы схватить невинного старца гетмана Самуйловича и предать его в руки врагов.
Другая, среди Полтавского поля, покрытая зеленью; в ней спят непробудным сном тысяча четыреста павших в битве православных воинов, жизнью которых куплено величие, могущество и благоденствие отечества нашего, и здесь же, на полях Полтавских, погребены козни вражеских народов; и с того часа жизнь мирная, жизнь благотворная разлилась по Малой России. Теперь невидимо ангел славы витает над могильным крестом, водружённым рукою могучего царя, и всюду слышимою трубою гласит в грядущие веки вечную славу Бога, благоволившего так чудно прославить смирение Петра, уничтожить гордые начинания и в конец разрушить неправедный совет Карла, Станислава и Мазепы, в котором нельзя не видеть явное орудие иезуитов; они его воспитали, направили, искусно довели до гетманской булавы и — до плачевной могилы.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Диканька — деревня, принадлежавшая Василию Леонтиевичу, находится в 22 верстах от Полтавы. Грамотою, данною 2 августа 1709 года государем Петром Великим, Кочубеевой, которая после взятия Батурина была освобождена из подземелья, куда ввергнул её Мазепа; возвращены ей все деревни и всё имение, принадлежавшее Василию Леонтиевичу.
2. Кочубей был главным действователем к погибели несчастного благочестивого гетмана Самуйловича, к этому его побудили; высокомерная жена, собственное честолюбие, и, наконец, хитрый и злобный Мазепа, сделавший из Кочубея орудие для собственного своего возвышения; это подтверждает Георгий Конисский. Голиков, Бантыш-Каменский, Маркевич, который говорит: «Деревни, полученные за труды при следствии о гетмане Самуйловиче, не пошли впрок Кочубею: выкупается кровью пролитая кровь. Он скрепил своим подписью донос на Самуйловича, получив за следствие деревни и чины, слёзы страдальцев, вопли семейства изгнанников, клятвы, присланные из Сибири, — убили его». Маркевич выписал это из кратких записок о Василие Леонтиевиче, составленных прямым потомком Кочубея. Родной дед его Ив. Андреевич Маркевич, был женат на Елисавете Васильевне Кочубеевой, родной правнучке Василия Леонтиевича.
Байер в своих древних Азовских и Крымских известиях довольно подробно описал первый Крымский поход, он говорит, что Кочубей и Мазепа первые подали мысль написать донос на Самуйловича, и неудачу Крымского похода отнести к его тайным изменническим замыслам. Впоследствии, когда донос был уважен и Голицын получил повеление свергнуть гетмана и отослать в Москву, Кочубей, с одним из полковников Московских войск, ночью арестовал гетмана в церкви а привёл его в княжескую палатку.
3. Батурин, бывшая столица Мазепы, доселе ещё указывают старожилы место, на котором стоял замок Мазепы; каменный мост, построенный гетманом, существует и в настоящее время; ещё не изменились прежние названия мест, хуторов, лесов и урочищ.
4. Казаки по примеру татар и турок, когда отправлялись в поход, всегда запасались кожухами и шубами; в знойные дни, особенно среди степи, они надевали их на опашку и этим средством умеряли невыносимый жар: мех не пропускал сквозь себя солнечных лучей.
5. Переяславль, уездный город Полтавской губернии, столица бывшего некогда Переяславльского княжения; земляная насыпь, ограничивавшая это княжение и поныне не изгладилась. В Малороссии существует поверье, что вал этот насыпал Козма и Дамиян с помощью двенадцатиглавого змея.
6. В Малороссии и в настоящее время в обыкновении: приехавшему просить руки дочери, если невеста или её родители не согласны и а брак, — класть в экипаж жениха гарбуз (тыкву), или угощать его тем же за столом.
7. Существует поверье между женщинами Украины, что если расчесать против месяца косу и проговорить какие-то слова, упомянув при том имя возлюбленного, то возлюбленный непременно влюбится в девицу и женится на ней; поверие это существует в Киевской и Черниговской губерниях.
8. Дума Мазепы вполне помещена в 3 части Истории Малой России Бантыша Каменского, в 1 издании, стр. 196.
9. В этой повести письма Мазепы к Матроне Васильевне помещены с переменою весьма немногих, не понятных для читателей, слов; письмо же, в котором так ясно доказывается, что Мазепа не только не свершил злодеяния, приписываемого ему писателями и романистами, но даже и Матрону от этого остерёг, и поместил в подлиннике, как лучшее, вернейшее и истинное тому доказательство.
Подлинные письма Мазепы, числом одиннадцать, напечатаны во втором издании истории Малой России, Бантыша Каменского и в истории Маркевича в 4 томе, стр. 220.
10. Предание говорит, что гетман Мазепа возненавидел Палия за несогласие хвастовского полковника восстать против царя; «Палий, Палий, — говорит гетман, — не изменишь ли ты мне?» — «За что ж я тебе, гетман Мазепа, стану изменять, когда ты будешь благое творить?» — «Я думаю, Палий, Москву уничтожить и сам хочу в столице царём царствовать». — «Скорей ты будешь, гетман Мазепа, у столба стоять, нежели царствовать!». Маркевич, т. 2, стр. 378.
11. Подать донос на Мазепу понудила Василия Леонтиевича жена его. Маркевич говорит, стр. 395, т. 2:
«По всему видно, что Кочубея к доносу на Мазепу принудила жена; он изведал участь, которую испытывает почти каждый муж, когда жена его, не в доме и семье, а в делах хозяйственных и государственных хочет распоряжаться.
Государь, получив донос, тотчас же со слов Никанора заключил, что Кочубея подвинула личная злоба за дочь; что Кочубей клеветник мстительный и легкомысленный».
Это же единогласно утверждают и прочие историки; и в самом деле, донос Кочубея и прочих присоединившихся к нему был кроме того что бездоказательный, но бессмысленный, нелепый. Смотри. Деяния Петра Великого, часть 11, стр. 29 и далее Голикова, издание второе, 1839 года.
12. Статьи доноса Кочубея на Мазепу подробно напечатаны у Голикова, стр. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 и 59.
13. Речь Кочубея, сказанная перед допросом его и заранее сочинённая им, помещена в 4 томе истории М. Р. Маркевича, стр. 175.
14. Допрос Кочубея и дальнейшее производство его дела и, наконец, казнь, довольно подробно изображены Голиковым в II томе, стр. 59 и далее.
15. Королевскими воротами в Полтавской крепости называлось то место, на которое Карл XII чаще всего атаковал; оно находится прямо против церкви Спаса и каменного столба, поставленного на месте бывшего дома, в котором жил комендант Келин, и где он угощал обедом царя.
16. Монастырь женский, находившийся в 4 верстах от Полтавы, в пригородной слободе Пушкарёвке, существовал тридцать лет назад; деревянная ветхая церковь долго ещё оставалась; и в ней до 1828 года отправлялось служение; недалеко от этой церкви погребена Матрона Васильевна Чуйкевичева, урождённая Кочубеева; но самая могила её неизвестна.
Примечания
1
Пришёл, увидел, победил (лат.).
(обратно)2
Князь Запорожья (лат.)
(обратно)3
Чины в малороссийском войске сохранились те же, что были в старинном Польском Войске и в Республике. (См. о сём Историю Малороссии, соч. Бантьпиа-Каменского).
(обратно)4
То есть, обнаруживая ненависть, мы лишаем себя средств отмстить.
(обратно)5
Род шинели.
(обратно)6
Капюшон.
(обратно)7
История не сохранила сведений, какой смертью окончил жизнь Мазепа. Русские писатели утверждают, что он принял яд; некоторые иностранцы говорят, что он умер от болезни.
(обратно)8
Первым кавалером ордена Св. Апостола Андрея Первозванного, учреждённого 22 января 1700 года, был граф Фёдор Алексеевич Головин, вторым Иван Степанович Мазепа, третьим Пётр Борисович Шереметев, четвёртым сам державный учредитель его — царь Пётр.
(обратно)



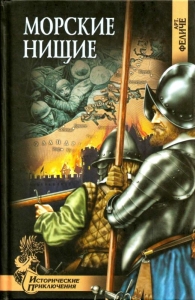

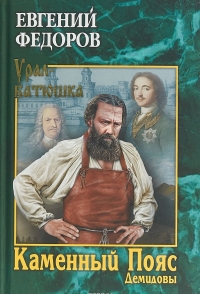
Комментарии к книге «Кочубей», Даниил Лукич Мордовцев
Всего 0 комментариев