ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ 1924 г.
Поздно. Может быть, и не так поздно, но она очень устала. Да еще к обычной усталости примешивалось чувство тоски. Ей не хотелось расставаться с Москвой. Она привыкла к этому городу, ее жизнь тесно связана с ним. Отсюда уезжала она за границу, бежала из тюрьмы и теперь вот опять покидает Москву. Но это необходимо.
Она обвела комнату глазами. Большие окна. За ними совсем темно. Иней на стеклах напоминает елочные украшения. На улице холодно. Январь в этом году жестокий. Все морозы и морозы. В комнате натоплено, а ее начинает знобить. Она вся сжалась в своем жестком кресле. Когда она впервые пришла сюда, за столом ее ждало позолоченное кресло, обитое малиновым штофом. Она приказала его вынести. «Это не для работы», — сказала она.
Кресло украшало одну из гостиных богатого купеческого особняка. Просторно жили его хозяева. Гостиные, спальни, громадная столовая… Теперь здесь разместился Замоскворецкий районный комитет РКП (б), а в столовой устроен зал для заседаний.
Купеческое Замоскворечье она больше знает по литературе. Сколько комедий Островского пересмотрела в Малом театре! Кажется, не пропустила ни одной…
Зато хорошо знает Землячка другую Москву — Москву рабочих окраин. Рогожская застава, Пресня, Шаболовка, завод Гужона, Прохоровская мануфактура, Бутырский трамвайный парк — вот где она была частым гостем, вот где ее знали, уважали и, кажется, даже любили.
А теперь приходится с ними проститься. Ей не хочется уезжать из Москвы. Но — надо. Надо. Еще в декабре она знала, что ей придется покинуть Москву. Знала, куда придется поехать. В Ростов-на-Дону. Ей сказали, что там она нужнее. Не все еще там утряслось после гражданской войны. Почти три года как кончилась война, а в донских станицах до сих пор неспокойно.
В комнате тепло, О ней заботятся. Даже когда не хватало дров, печь в этой комнате всегда была хорошо натоплена. Она сердилась, негодовала, говорила, что она не лучше других, но ее не слушались.
Тепло, а ее знобит. Неужели она простудилась? Она поежилась. Прислушалась. Тихо. Все разошлись? Не может быть. Не так еще поздно. Такая тишина наступает обычно позже, когда она задерживается здесь до глубокой ночи. Она у себя в кабинете да дежурный милиционер в вестибюле у входа…
Землячка достала часы, маленькие золотые часики, давным-давно еще подаренные ей матерью. Она носит их в нагрудном кармашке английской блузки, прицепив изнутри большой английской булавкой. Ей немного неловко перед товарищами: эти часики — роскошь, но других у нее нет.
Только девять часов. Совсем еще не поздно. Может быть, разошлись из-за мороза? В последние дни так холодно, что люди торопятся пораньше вернуться домой…
И вдруг тишину прорезал тревожный, нетерпеливый телефонный звонок.
— Товарищ Землячка у себя?
Она сразу узнала — Дзержинский! Но на этот раз голос его звучит как-то необычно.
— Это я, Феликс Эдмундович, — ответила она и пошутила: — Как это вы меня не узнали?
— Розалия Самойловна… — Голос Дзержинского прервался.
Она поняла, ему почему-то трудно говорить.
— Владимир Ильич… — Он замолчал. — Владимир Ильич скончался два часа назад в Горках… — Дзержинский овладел собой. — Час назад туда выехало Политбюро. А вы — приезжайте ко мне.
Землячка слышала каждое слово и отвечала так, как и следовало отвечать, и в то же время у нее потемнело в глазах. В комнате горит свет, и — темно. Она не знала, долго ли это длилось — мгновение, минуту, вечность… Казалось, у нее остановилось сердце.
Вся жизнь ее поколения связана с этим человеком. Именно он — он был тем источником разума, света, движения, который вдохновлял большевиков.
Она взяла себя в руки. Сейчас нужны ясность мысли и сила воли, без чего невозможно вынести такое испытание. Нужно мобилизовать все свои силы, действовать отчетливо и разумно.
У двери она на секунду задержалась, мельком взглянула в небольшое зеркало, поправила волосы — губы вздрагивали, она стиснула зубы — держись, держись, именно сейчас нельзя позволить себе распуститься! — и вышла в приемную.
Ее помощники находились на месте.
Вскинула на переносицу пенсне, посмотрела строго.
— Товарищи, только что звонил Феликс Эдмундович. Мы потеряли… — Спазма сдавила горло. — Два часа назад скончался Владимир Ильич. Прошу вас… — Она знала, все понимают без слов, и пыталась скрыть горе за деловыми распоряжениями. — Поезжайте на Павелецкий вокзал, пойдите в депо, пусть подготовят паровоз, который в прошлом году рабочие подарили партийной организации депо. Предупредите типографию, будут срочные материалы.
Голос не дрожал, она говорила скупо, отрывисто, непререкаемо, как и всегда в решительные моменты, за что многие, кто плохо ее знал, считали Землячку очень сухим человеком.
Она стояла посреди комнаты. Медлила. Вспоминала, не забыла ли чего.
— Вы уходите, Розалия Самойловна?
Все знали, что домой Землячка ходит пешком.
Все же кто-то спросил:
— На конный двор не позвонить?
— Нет, нет, — отозвалась Землячка. — Я доберусь…
Перечить ей не полагалось.
Ветерок с присвистом несся по заснеженной Полянке. Возле райкома горел фонарь, единственный на всю улицу. Мороз сразу дал себя чувствовать. Землячка поежилась, спустилась по ступенькам с крыльца, сделала несколько шагов, все же добираться пешком до Лубянки не очень-то хотелось.
На углу, сгорбившись, неподвижно сидел на козлах санок извозчик.
— Извозчик! — негромко позвала Землячка.
Тот встрепенулся, дернул вожжами.
— Пожалте. Куды надоть?
— На Лубянку.
Села в санки, запахнула полость.
— Побыстрей, — сказала она. — Тороплюсь.
— Эх, барыня, куды нам торопиться? — наставительно отвечал извозчик, стегнув, однако, лошаденку вожжами. — Трог-гай!…
Она опять ушла в свои мысли, возвращаясь к человеку, которого только что лишилась, — лишилась она, лишились партия, страна, Россия, весь мир…
За долгие годы совместной борьбы, бесконечных тревог и жестоких испытаний она убедилась, какой это великий человек!
Она знала многих революционеров, сама была революционеркой. Но она убеждена, что такого, как Ленин, не существовало. Такие люди рождаются раз в столетие, а может быть, и не каждое столетие. Мало кто понимал свою эпоху, как он. И не только понимал, но и опережал свое время.
Посвистывал ветер, извозчик подгонял лошаденку, а Землячка все думала, думала, вспоминала…
Познакомилась она с Лениным в 1901 году, когда работала агентом «Искры» и была вызвана к нему для отчета. После первой же встречи ее жизненный путь определился бесповоротно — она стала его ученицей, последовательницей и соратницей. Делу, которое он возглавил, она отдала всю свою жизнь, навсегда связав себя с партией, созданной и руководимой Лениным.
Она стала активной деятельницей этой партии. Не было на протяжении двух десятилетий съезда, в котором Землячка не принимала бы участия. Она бывала у Ленина в Мюнхене, в Женеве, в Париже, по его поручению участвовала в организации съездов в Лондоне и Стокгольме, под его непосредственным руководством работала в Петербурге и Москве…
На партийном учете Владимир Ильич Ульянов-Ленин состоит в Замоскворецкой районной организации, и вот теперь… теперь… придется… Ульянова-Ленина… снимать с партийного учета!
Но все должно идти по предначертанному им пути. Гении умирают слишком рано. И только лишь после их ухода в полной мере постигается их значение.
Ее толкнуло, и она очнулась. Санки стояли посреди Лубянской площади.
— Куды? — спрашивал извозчик.
— Я же говорила, в ГПУ, — нетерпеливо сказала Землячка.
— Ох ты, господи! — Извозчик кивнул на темный многоэтажный дом. — Успеешь еще туды!…
Он опять задергал вожжами, направляя лошадь к громадному молчаливому зданию, в котором еще не так давно размещалось страховое общество «Россия».
Землячка предъявила удостоверение, миновала часового, поднялась, и ее тотчас пропустили в кабинет Дзержинского.
В кабинете горела лишь настольная лампа, и по стенам бежали зеленые тени. На стульях, расставленных вдоль стены, сидели чекисты в одинаковых темных гимнастерках.
Дзержинский стоял за столом, отдавал какие-то распоряжения.
Он был бледен. Узкое изможденное лицо, высокий лоб, горящие глаза и бородка клинышком…
Дзержинский увидел Землячку, вышел из-за стола, и тень тоже двинулась за ним по стене. Протянул руку, пожал. Хотел что-то произнести — и не смог. Землячка тоже была не в силах заговорить.
Тень прошла по лицу Дзержинского, и он быстро сказал:
— Сейчас едем в ЦК.
Все встали, ждали, не скажет ли еще что Дзержинский.
— Действуйте, — добавил он. — Пусть каждый будет на своем месте.
И распахнул дверь, пропуская Землячку вперед.
В секретариате ЦК собрались все члены комиссии: Лашевич, Муралов, Ворошилов, Молотов, Зеленский, Енукидзе и Бонч-Бруевич.
— Что ж, товарищи… — Дзержинский подавил волнение, следовало говорить о множестве всяких мелочей, которые приходилось загодя учесть и предусмотреть. — Отправление поезда в Горки в шесть часов. Поезд поведет паровоз, почетным машинистом которого числился Владимир Ильич. Пропуска печатаются, надо определить, кому их выдать, составить списки. Необходимо поехать в Дом союзов, подготовить зал… — Он повернулся к Землячке: — А вам, Розалия Самойловна, нужно оповестить свой район — заводы, фабрики… Владимир Ильич состоял ведь в вашей районной организации.
Землячка возвращается в райком. За окном ночь, тишина, холод. В комнате светло и тепло. Но плечи ее сводит озноб, гнетет невозвратимая потеря.
Первая ночь без Ленина. Гораздо легче было жить, сознавая, что он есть на свете. Не одной ей. Тысячам. Миллионам.
Воспоминания, воспоминания…
Она помнит его речи: и те, что слышала, и те, что читала. Встречи. Он встает перед ее глазами, отзывчивый и внимательный, а иногда гневный и взволнованный. Мудрость мыслителя сочеталась в нем с эмоциональностью поэта. Он был требовательным человеком в дружбе, не прощал ни измен, ни малодушия. Друзей терял тяжело и всегда глубоко переживал эти потери.
Как же можно перенести утрату такого друга и учителя, как Ленин? А надо. Иначе не будешь достойна его. Много оставил он начатых великих дел…
Ушел… Теперь работать надо еще больше, еще лучше. Работать так, словно в любой момент он может потребовать у тебя отчета.
Год за годом перебирает она в памяти. Встречи. Письма. Разговоры… Вехи собственной жизни.
1894-1903 гг.
Серьезная девочка
Иногда Землячку спрашивали, как она, девушка из буржуазной семьи, стала революционеркой? Кто повел ее, юную гимназистку с вьющимися черными волосами и серыми любопытными глазами, к вершинам передовой научной мысли?
Родилась она в 1876 году. Дед ее не был бедняком, а отец стал богачом. Он был предприимчивый человек, ее отец, Самуил Маркович Залкинд. Владел в Киеве отличным доходным домом, а его галантерейный магазин считался одним из самых лучших и больших в городе.
Он хотел вывести детей в люди и вывел — они учились, выучились и стали инженерами и адвокатами. Получили широкое образование, но, увы, мыслили не совсем так, как хотелось отцу. Благо своей родной страны они видели в революции. Все дети Самуила Марковича Залкинда побывали в царских тюрьмах, и то и дело купец первой гильдии Залкинд мчался к властям предержащим со своими деньгами и вносил залог, беря на поруки то одного, то другого сына.
Но всех больше в семье любили Розочку. Она была самая способная, самая нетерпеливая, самая проницательная и, даже братья признавали это, самая умная. Роза была на редкость серьезная девочка. Запоем читала все, что попадалось под руку. Но романы увлекали ее меньше, чем серьезные научные книги. Толстой, Тургенев?… Писатели, конечно, отличные, но Анна Каренина вызывала у нее снисходительное сожаление, а Лизу Калитину она даже осуждала. «Шла бы ты, голубушка, не в монастырь, а в революцию, там тебе, с твоей принципиальностью, самое место…» Роза с интересом читала исторические труды. А от истории перешла к социологии. Трезвый научный анализ явлений жизни она предпочитала поэтическим эмоциям.
Как-то она увидела у знакомого студента объемистую книгу. «Капитал. Критика политической экономии. Сочинение Карла Маркса». Взяла, полистала. Это был перевод с немецкого.
— Вы не могли бы достать мне это сочинение в подлиннике? — спросила она владельца книги. С иностранными авторами она предпочитала знакомиться без посредничества переводчиков.
В первых же главах своего сочинения, рассуждая о товаре и деньгах и прослеживая процессы обмена, Маркс утверждал, что законы товарной природы проявляются в инстинкте товаровладельцев. Они приравнивают свои товары друг к другу как стоимости, и постепенно из всех товаров выделяется один, в котором все другие товары выражают свои стоимости, — именно этот товар и становится деньгами.
Рассуждая затем о деньгах, на которые разменивается весь экономический и моральный уклад общества, Маркс цитировал бичующие стихи Софокла:
Ведь нет у смертных ничего на свете,
Что хуже денег. Города они
Крушат, из дому выгоняют граждан,
И учат благородные сердца
Бесстыдные поступки совершать,
И указуют людям, как злодейства
Творить, толкая их к делам безбожным…
Искусство помогло Розе понять Маркса, а его блистательная эрудиция и неумолимая логика покорили ее.
Она читала вдумчиво, медленно, упорно. Для нее открылся целый мир. Было ей тогда семнадцать лет!
Отец как-то поинтересовался, что это за книжку читает воспитанница Киево-Подольской женской гимназии. Оказалось, сочинение некоего Карла Маркса «Капитал».
— Хочешь разбогатеть? — пошутил отец.
А годом позже узнал, что его Роза ходит по разным мастерским и разъясняет рабочим сочинение этого господина Маркса! Он пожаловался сыновьям.
— Наша Роза социалистка, — объяснили они ему
Самуил Маркович вздохнул — знал, переубеждать дочь бесполезно, характер у девушки железный.
В 1894 году Роза окончила гимназию и, на радость родителям, решила поступить в один из иностранных университетов — в русские университеты дорога женщинам была заказана.
Еще будучи гимназисткой, она побывала с родителями за границей, жила с ними в Монтре и Наугейме, путешествовала по Германии, Швейцарии, Франции. Решив продолжать образование, остановила свой выбор на Лионе, поступила в Лионский университет и в течение года слушала курс медицинских наук. Годом позже заболела и на некоторое время вернулась домой.
Роза не искала, подобно своим гимназическим подругам, счастья в удачном замужестве, ей хотелось посвятить свою жизнь бедным людям. Она видела, как тяжело живется рабочим в Киеве. Она понимала, что существующий в России строй изжил себя. Она искала. Искала применения своим силам. Для молодой девушки из буржуазной семьи сделать окончательный выбор было не так-то просто. Один ее брат примыкал к народникам. Их идеалы Роза считала скорее трогательными, чем реалистичными. Ни индивидуальный террор, ни хождение в народ не могли принести желаемых результатов. Надуманная романтика ее не увлекала.
Тот же знакомый студент дал ей почитать брошюру «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?». Студент предупредил девушку — узнай об этом полиция, могут произойти неприятности. Издание нелегальное, напечатана брошюра была на гектографе, и на обложке значилось, что издана она провинциальной группой социал-демократов. Студент шепнул, что брошюра эта написана руководителем петербургских марксистов — неким Владимиром Ульяновым.
Автор брошюры утверждал, что разрозненную экономическую войну рабочих нужно превратить в организованную борьбу против капиталистического угнетения и что воевать надо не против личностей, не против отдельных эксплуататоров, а против всего класса буржуазии. Автор четко и ясно определял стоящие перед социал-демократами задачи. И поставленная автором цель, и предложенные им средства к ее достижению вполне убедили Розу в правильности избранного автором пути. Роза Залкинд откинула все сомнения и в 1896 году вступила в Киевскую социал-демократическую организацию.
Отец и мать предпочли бы, конечно, видеть Розу обеспеченным человеком и счастливой матерью семейства, но… Девочка решила изменить порядки в стране, в которой она родилась и жила. Что поделаешь, значит, такая у нее судьба!
Так началась ее активная революционная деятельность: пропагандистская работа и вовлечение рабочих в социал-демократическое движение, в сознательную классовую борьбу. Розалия Самойловна Залкинд стала профессиональной революционеркой.
Первая встреча
Год спустя Землячку арестовали.
В донесениях агентов Киевского охранного отделения указывалось, что дочь купца первой гильдии Розалия Залкинд читает рабочим лекции о революционном движении и что она в квартире акушерки Сишинской собственноручно вышивала красное знамя для первомайской демонстрации.
И вот «не имеющая определенных занятий» дочь купца Залкинда привлечена к дознанию в качестве обвиняемой…
На этот раз уйти от тюрьмы ей не удалось. Тюрьму сменила ссылка в Сибирь. В ссылке Землячка вышла замуж, приобрела еще одну фамилию — Берлин. Но вспоминать о своем замужестве она не любила. Из ссылки она бежала одна, муж остался в Сибири и вскоре умер. Вспоминая об этих годах, она сама не очень хорошо понимала причину своего замужества: то ли это была симпатия к соратнику по борьбе, то ли ей хотелось поддержать более слабого товарища. Брак длился недолго, никому не принес радости и не оставил в ее жизни заметного следа.
За три года, которые Землячке пришлось провести в тюрьме и ссылке, революционное движение в России обрело новое качество: в декабре 1900 года вышел первый номер «Искры», политической газеты русских революционных марксистов.
Вдохновителем, организатором и руководителем «Искры» был Владимир Ильич Ленин.
«Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов, — писал Ленин в передовой статье, напечатанной в первом номере „Искры“. — Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, к которой потянется все, что есть в России живого и честного».
Созданию такой партии и была посвящена «Искра». Вокруг «Искры» сложилась крепкая организация профессиональных революционеров — в суровой обстановке подполья, в борьбе с многочисленными врагами работали самоотверженные и преданные делу пролетариата многочисленные агенты «Искры».
«Надо подготовлять людей, посвящающих революции не одни только свободные вечера, а всю свою жизнь…» — писал в той же статье Ленин.
И Роза Залкинд стала деятельным агентом «Искры».
Бежав из ссылки, Землячка приехала в Екатеринослав. Находиться в бездействии она не могла, попыталась установить связи с Киевом — и привлекла внимание полиции. Жандармы принялись выяснять — кто она на самом деле? Последовал обмен телеграммами между Иркутском и Екатеринославом, Екатеринославом и Киевом…
Но Землячка не собиралась возвращаться в Сибирь — она заметила слежку и поспешила Екатеринослав покинуть.
И тотчас во многие города понеслась телеграмма охранного отделения: «Скрылась подлежащая аресту учительница Трелина Зинаида Ильинична, приметы — немного выше среднего роста, брюнетка, лицо худощавое, бледная, носит пенсне, белые стекла в стальной оправе, волосы на голове закладывает пучком, глаза серые».
Землячка решила вернуться в Киев — она хорошо знала этот город, и скрываться в нем ей было легче, чем где бы то ни было.
В Киеве она сразу принялась восстанавливать свои прежние революционные связи. И хотя отсутствовала она свыше трех лет, киевские рабочие запомнили тоненькую сероглазую девушку, которая знакомила их с учением Маркса.
Наружность свою она изменить не могла, фамилию же меняла часто, этого требовала конспирация, однако из всех кличек и прозвищ лишь одно осталось при ней навсегда.
— Землячка, Землячка пришла, — сразу же распространился слух среди рабочих «Арсенала», стоило ей появиться среди них с очередным номером «Искры».
Но не задержалась она и в Киеве, вскоре пришлось перебраться в Полтаву, где находилась небольшая группа поднадзорных социал-демократов, а оттуда по указанию редакции «Искры» направиться в Одессу и в качестве агента «Искры» возглавить тамошних искровцев.
Одесская группа вела большую работу: распространяла социал-демократическую литературу, руководила забастовками и стачками и все шире вовлекала рабочих в революционное движение.
Из Одессы Землячку и вызвали за границу для доклада о ходе борьбы за «Искру».
В своих воспоминаниях Землячка впоследствии писала, что впервые встретилась с Лениным не то в Цюрихе, не то в Берне. На самом деле познакомилась она с Лениным в Мюнхене. Просто ей изменила память, поскольку она не один раз встречалась с Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной в Швейцарии.
Но впервые все же встретилась в Мюнхене, в 1901 году.
Сколько ей было тогда лет? Двадцать пять? И много, и мало. Совсем молодая женщина — и опытная революционерка.
В семейном альбоме сохранилась ее фотография тех лет. Продолговатое лицо, гладко причесанные, чуть вьющиеся волосы, четко очерченные брови, небольшие умные глаза, прямой правильный нос, очень красивые, словно нарисованные губы, и то, что выделяло ее из множества обычных барышень: высокий мужской лоб и чересчур уж пытливый взгляд.
Землячка приехала в Мюнхен, остановилась в гостинице. Вела себя как беспечная и любознательная туристка. Сразу по приезде отправилась разыскивать Ленина.
Делать это надо было с умом, не дай бог привлечь внимание немецкой полиции или тем более агентов русской охранки, которые толклись везде, где проживали русские политические эмигранты.
Она вышла из гостиницы, наняла извозчика, доехала до Старой пинакотеки, пробыла там минут пятнадцать — на сей раз ей было не до Кранаха и Дюрера; опять наняла извозчика, остановилась у большого универсального магазина, вошла и затерялась в толпе; вышла и снова наняла извозчика, доехала до Швабинга, расплатилась… Конспирировать и скрываться от полиции она научилась в России.
Адрес вызубрен наизусть еще в Одессе: хранить записку с адресом Ленина слишком рискованно.
Оглянулась еще раз… Нет, никто не обращал внимания на нарядную неторопливо шедшую по улице барышню.
Вот он, один из многочисленных, только что отстроенных больших домов. Тот самый? Да, тот самый. Вот и квартира.
Она постучалась. Дверь открыла миловидная женщина.
— Вам кого?
— Я из Одессы.
— Вы — Залкинд?
Это оказалась жена Ленина, Надежда Константиновна. О ней Землячка была достаточно наслышана.
Она ввела гостью в маленькую, сияющую удивительной чистотой кухоньку.
— Владимир Ильич сейчас выйдет.
Но он уже был тут, протягивал гостье руку, улыбался.
— Очень рад!
Молодой, невысокий, коренастый мужчина. Она сразу почувствовала, что это необыкновенный человек. Она читала его статьи, именно его статьи давали направление революционной работе, которую вели социал-демократы в России. Он был признанным лидером молодой российской социал-демократии. Но ее поразило другое. Вот он посмотрел на нее, заговорил… Ее поразила необыкновенная мягкость в обращении и внимательность к новому человеку. Казалось, он видел ее насквозь, но всматривался как-то особенно деликатно, вызывая полное к себе доверие.
— Рассказывайте, рассказывайте, — поторопил ее Ленин и стал спрашивать о работе социал-демократических организаций на Юге.
Его вопросы свидетельствовали, что он хорошо знает Россию. Расспрашивая о положении рабочих, об их настроениях, о промышленных предприятиях Киева, Екатеринослава, Одессы, называл такие мастерские и фабрики, какие не были известны Землячке. Можно было подумать, будто не Землячка, а он сам постоянно жил в этих городах.
Внезапно он оборвал расспросы.
— Наденька, напоила бы ты нас чаем. А мы пока еще побеседуем.
Устроил незаметный и необидный экзамен, расспрашивал, что читала, интересовался, как разбирается в политической экономии и философии, как понимает Гегеля, Канта, Маркса…
Человек робкого десятка давно бы уже запросил пощады, но Землячка, кажется, выдерживала экзамен. Она очень хорошо поняла — окажись она не тем человеком, каких он собирает и объединяет вокруг себя, окажись слабее и мельче требований, какие Ленин предъявляет к своим соратникам, он сразу утратит к ней интерес.
Потом втроем пили чай, шутили, вспоминали Россию. Надежда Константиновна мыла посуду, а Владимир Ильич перетирал чашки.
— Что ж, Розалия Самойловна, рады видеть вас у себя, — сказал он в заключение. — Пойду, извините — работа, а вы беседуйте.
Надежда Константиновна в свою очередь устроила гостье экзамен по всяким организационным делам — как налажена в Одессе связь, как распространяется партийная литература, откуда берутся средства; техникой партийной работы ведала при Ленине Крупская, и Землячка подробно доложила ей, как живет и работает партийная организация в Одессе.
Вторая встреча
Землячка вернулась из Мюнхена в Одессу. Ее приезд заставил сторонников «Искры» четче определить свои позиции — мандат на Второй съезд Российской социал-демократической рабочей партии, отданный было стороннице Мартова, передали Землячке как наиболее твердой представительнице «Искры».
Положение искровцев в Одессе было прочным, и Землячке поручили перебраться в Екатеринослав. Там было тревожно и неблагополучно. Комитеты для руководства работой екатеринославские социал-демократы выбирали чуть ли не каждый месяц — один провал следовал за другим.
Местом встреч и заседаний в Екатеринославе служила квартира зубного врача Батушанского. Очень уж удобны были для конспираторов квартиры дантистов. Зубная боль — отличный предлог для посещения, можно приходить изо дня в день, и можно прийти один раз, так появлялись и исчезали связные, а члены местной организации встречались там постоянно. Сиди себе в приемной, держи перед собой газету и говори о чем нужно.
Но у Землячки был уже опыт по части таких явок — встречаться удобно, но такие квартиры могли легко привлечь к себе внимание охранки. Ее настораживало, что провалы и аресты чаще всего происходили после посещения квартиры Батушанского. Провал за провалом, арест за арестом, а самого Батушанского жандармы ни разу не потревожили. Это настораживало.
Землячка предпочитала устраивать заседания комитета на свежем воздухе — где-нибудь за городом, в саду, даже на привокзальной площади. Но не всегда это было возможно — приходилось все-таки пользоваться иногда злосчастной квартирой.
Однажды она шла к Батушанскому на заседание комитета. Шла и по привычке оглядывалась — то остановится у витрины магазина, то читает на углу дощечку с названием улицы — хвост за нею как будто не тянется.
По дороге ее нагнал Фоменко, молодой рабочий, недавно вступивший в партию.
— Розалия Самойловна, у меня к вам письмо от товарища Игната. Сказал, чтобы прочли не откладывая, — обратился он к Землячке.
Достал пачку папирос и вытянул из нее листок папиросной бумаги.
— Нехорошо, — упрекнула его Землячка. — Записку надо хранить так, чтобы в случае чего сразу проглотить.
Она развернула листок — наивная это была записка, обо всем говорилось иносказательно, условными словами, однако расшифровать подлинный смысл было нетрудно. Во избежание провала Землячке предписывалось без промедления выехать за границу.
— А где товарищ Игнат? — поинтересовалась Землячка.
— Я встречусь с ним позже, — уклончиво ответил Фоменко.
— Тогда я иду, — сказала Землячка. — Извинитесь за меня перед товарищами.
— А как же заседание? — удивился Фоменко.
— Батушанскому скажите, зайду к нему завтра, — сказала Землячка. — Предстоит более важная встреча.
На самом деле никакой встречи не предвиделось, завтра она будет уже далеко. Педантизм у нее был в крови, она соблюдала дисциплину сама и требовала того же от других.
Ближайшим же поездом, через два часа, она выехала в Одессу. В Одессе получила заранее приготовленный паспорт и спустя день переехала границу. Деньги были, отец не отказывал в помощи, а она не стеснялась эту помощь принимать — в партийной кассе всегда ощущался недостаток в деньгах, — и без особых приключений добралась вскоре до Женевы.
Чистенький, аккуратный город на берегу озера.
Ей так не терпелось добраться поскорее до цели своего путешествия, что она взяла у вокзала извозчика.
Вот и пригород, поселок Сешерон, небольшой двухэтажный домик.
С улицы она попадает в просторную кухню с каменным полом. Навстречу ей идет Надежда Константиновна. Очень вежливая и в то же время несколько рассеянная — сейчас у нее столько дел, что ей трудно делить между всеми свое внимание.
Во второй раз Землячка в гостях у Ленина.
— Розалия Самойловна? — Крупская сразу узнает посетительницу. — Как добрались?
Она пожимает гостье руку.
— Отлично, паспорт у меня хороший, — отвечает Землячка. — Я бы задержалась в Екатеринославе, но получила записку…
— Да, да, — подтверждает Крупская. — Мы боялись за вас, очень уж ненадежен Батушанский.
Удивительно! Здесь, в Женеве, в такой дали от России, знают о Батушанском и знают, по-видимому, больше, чем известно о нем в Екатеринославе.
— Рассказывайте, что в Екатеринославе, в Одессе? — расспрашивает Надежда Константиновна. — Как отношения с бундовцами?
В кухне многочисленное общество. Одних Землячка видит впервые, других знает хорошо. Дементьевы, Шотман, Книпович, ростовчане Гусев и Локерман…
— У нас тут такая толчея, — говорит Надежда Константиновна.
К ним подошел Красиков, он же Игнат, он же Панкрат, он же Шпилька, у него тысяча псевдонимов — он опередил Землячку, появился в Женеве раньше ее.
— Настоящий притон контрабандистов, — пошутил он. — Видите, что за мебель?
Стульев не хватало, сидели на ящиках из-под книг, но это никого не стесняло и не смущало, чувствовали все себя свободно и непринужденно.
Не было только хозяина квартиры — того, к кому все они собрались.
Землячка понимает, что все здесь так же, как и она сама, делегаты предстоящего съезда.
Хоть и не полагалось, она все-таки спросила Надежду Константиновну:
— А где?…
Та подняла палец, указывая на потолок.
— Наверху. Занят. Вы встретитесь с ним позже. А пока будем устраиваться, отведу вас на квартиру к Вере Ивановне.
Это и доверие и честь — пользоваться гостеприимством Веры Ивановны Засулич.
Знаменитая революционерка, землеволка, человек исключительной смелости; ее покушение на петербургского генерал-губернатора Трепова навсегда запечатлено в летописях русской революции.
Вера Ивановна приветливо встретила свою квартирантку.
— Милости просим, я рада, ведь вы с родины, а я так скучаю по России.
Вера Ивановна очень одинока, ей уже за пятьдесят, семьи у нее нет, живет она в небольшой комнате, напоминающей скорее обиталище старого холостяка: накрытая кое-как постель, стол, заваленный газетами, книгами и бумагами, пыль, окурки.
— Хозяева внесут вторую кровать, и чувствуйте себя как дома.
Но Землячке как-то не по себе, очень уж коробит ее неряшливость этого жилища.
Она усмехнулась про себя, вспомнив юмористический рассказ Надежды Константиновны о том, как фантастически питалась Вера Ивановна: жарит на керосинке мясо, отстригает кусочки ножницами и ест.
— Когда я жила в Англии, — рассказывала сама Вера Ивановна, — вздумали меня английские дамы разговорами занимать: «Вы сколько времени мясо жарите?» — «Как придется, — отвечаю, — если есть хочется, минут десять жарю, а не хочется есть — часа три». Ну, они и отстали.
Внесли кровать, Землячка распаковала чемодан, разложила привычные вещи и… привела в недоумение Засулич.
— Что это у вас?
— Несессер.
— Вы пользуетесь такими предметами?
Вера Ивановна пожала плечами. Вслух не сказала, что следить за своей внешностью — значит отнимать время у революции, но Землячка поняла намек, однако не осмелилась сослаться на Пушкина, Вера Ивановна была выше всяких замечаний.
Землячка все готова простить Вере Ивановне за интерес к России, в каждом ее вопросе звучала тоска по родине.
— Рассказывайте, — непрестанно твердила Засулич. — Хочу хоть вашими глазами посмотреть на русского мужика.
Но едва гостья вздумала взяться за уборку комнаты, хозяйка тут же ее осадила:
— Нет, нет, это уж вы оставьте.
Она так и не разрешила убрать комнату.
Но это были мелочи, все значительное и важное происходило в доме, где квартировали Ульяновы.
Владимир Ильич встретился с Землячкой на следующий день после ее приезда, расспросил об Одессе, о Екатеринославе, похвалил за то, что она не стала медлить с отъездом: собрал у себя в кухне всех приехавших товарищей и попросил подробнее осветить положение на местах.
А спустя несколько дней Землячка слушала тезисы Ленина по национальному вопросу, которые он прочел перед делегатами предстоящего съезда.
В тех городах, где Землячке приходилось работать, у искровцев часто происходили столкновения с бундовцами. И те и другие спорили часто по мелочам, личные обиды нередко заслоняли существо разногласий. А вот Ленин сразу же отсеял шелуху мелких взаимных обвинений, доказал, что суть заключалась не в частных разногласиях; он требовал подняться над узкими национальными интересами и почувствовать себя подлинными интернационалистами.
Землячка сидела за столиком кафе, рядом с ней сидели Гусев и Красиков и тоже во все глаза смотрели на Ленина. Было что-то удивительное в этом человеке. Говорил он очень быстро, но это не мешало улавливать каждое его слово. Он не старался говорить популярно и считал, что слушатели подготовлены не меньше его, но все, что он говорил, было ясно и продуманно, и каждая его фраза напоминала точную математическую формулу.
Ему немногим более тридцати лет, он еще молод, всем своим обликом походит на обычного русского интеллигента, но достаточно побыть некоторое время возле него, вдуматься в то, что он говорит, как начинаешь чувствовать, какой это необыкновенный человек. Землячка не встречала еще такой целеустремленности. Он как бы расчленяет действительность на ее составные части и собирает вновь, и тогда все непонятное предстает в ясном свете.
И вдруг она ловит себя на мысли о том, что обаяние этого человека непреодолимо. Этот огромный лоб, проницательные глаза, мягкий овал лица, убежденность, воля — и необыкновенная деликатность…
Едва он заканчивает реферат, она начинает аплодировать. Совсем как на спектаклях, когда родители возили ее в театр в награду за успехи в школе. Она ловит себя на этом. «Как школьница, — мысленно говорит она себе. — Точно какому-нибудь артисту…» Опускает руки и видит, что Красиков и Гусев аплодируют с не меньшим увлечением.
В этот приезд ей недолго удалось побыть возле Ленина. Не проходит и недели, как в квартире Засулич появляется Дмитрий Ильич, младший брат Владимира Ильича.
— Я за вами, — говорит он. — Меня послала Надежда Константиновна.
Землячка торопится к Ульяновым. Там Владимир Ильич, Надежда Константиновна и Сергей Иванович Гусев.
— Мы посылаем вас с Сергеем Ивановичем в Брюссель, — говорит ей Владимир Ильич. — Съезд на носу, вам двоим поручается организовать помещение, питание, жилье. Учтите, народу будет много, думаю, человек пятьдесят.
По сравнению с Первым съездом это действительно много; в Первом съезде РСДРП, собравшемся в Минске в 1898 году, участвовало всего девять представителей социал-демократических организаций.
Ленин заботливо наставлял Землячку и Гусева, они получили все необходимые указания, деньги и в тот же день выехали в Брюссель.
Возникновение партии
Сегодня торжественный день… Все ли это понимают, кто находится сейчас в просторном помещении старого мучного склада?
Не так-то просто было найти этот склад! Помогли бельгийские социалисты. Не слишком удобно и далеко от гостиницы, зато никому в голову не придет, что здесь заседает съезд Российской социал-демократической рабочей партии. В этом помещении легко разместятся сотни человек, так что пятьдесят семь делегатов кажутся малозаметной горсткой.
Землячка видит, с каким удовольствием смотрит Гусев на дело своих рук, вместе с нею он расставлял скамейки, устанавливал стол, втаскивал стулья, мастерил из ящиков трибуну… Немало хлопот, но теперь все позади.
На трибуне Плеханов. Он произносит вступительную речь.
Пахнет мучной пылью, по полу бежит розовый луч, окно возле трибуны завешено красной материей. Солнечно, просторно, торжественно. Все волнуются, Землячка это чувствует по себе, даже Владимир Ильич волнуется, он весь устремлен к Плеханову, повернулся к нему и, приложив левую руку к уху, внимательно и напряженно слушает.
— Товарищи! — На мгновенье Плеханов смолкает, ему сдавливает горло. — Организационный комитет поручил мне открыть Второй очередной съезд РСДРП.
В голосе Плеханова звучит подлинный пафос, он волнуется не меньше, чем все остальные участники съезда, и говорит с таким подъемом, точно выступает перед громадной толпой.
— Я объясняю себе эту великую честь, — продолжает Плеханов, — только тем, что в моем лице Организационный комитет хотел выразить свое товарищеское сочувствие той группе ветеранов русской социал-демократии, которая ровно двадцать лет тому назад, в июле 1883 года, впервые начала пропаганду социал-демократических идей в русской революционной литературе. За это товарищеское сочувствие я от лица всех этих ветеранов приношу Организационному комитету искреннюю товарищескую благодарность. Мне хочется верить, что по крайней мере некоторым из нас суждено еще долгое время сражаться под красным знаменем, рука об руку с новыми, молодыми, все более и более многочисленными борцами.
Положение дел настолько благоприятно теперь для нашей партии, что каждый из нас, российских социал-демократов, может воскликнуть и, может быть, не раз уже восклицал словами рыцаря-гуманиста: «Весело жить в такое время!» Ну, а когда весело жить, тогда и охоты нет переходить, по выражению Герцена, в минерально-химическое царство, тогда хочется жить, чтобы продолжать борьбу; в этом и заключается весь смысл нашей жизни…
С минуту Плеханов молчит, он дает своим слушателям время поглубже осознать, что составляет для революционера смысл жизни.
— Двадцать лет тому назад мы были ничто, теперь мы уже большая общественная сила, — я говорю это, конечно, имея в виду русский масштаб. Но сила обязывает. Мы сильны, но наша сила создана благоприятным для нас положением, это стихийная сила положения. — Плеханов опять замолкает на секунду, из всего сказанного он хочет сделать основной теоретический вывод. — Мы должны дать этой стихийной силе сознательное выражение в нашей программе, в нашей тактике, в нашей организации. — Последнюю фразу Плеханов произносит особенно выразительно: «стихийной силе сознательное выражение».
Плеханов смотрит через головы присутствующих — Землячка отводит глаза от Плеханова и смотрит на Ленина; Владимир Ильич тоже весь устремлен вперед, тоже смотрит куда-то вдаль, но один видит одно, а другой другое, взгляд Ленина устремлен в иные дали; Землячка еще полностью не улавливает противоречивой сути этих двух людей, но где-то в глубине себя ощущает, что этот съезд действительно составит эпоху в истории партии.
По существу, это первый представительный съезд российских социал-демократов, именно сейчас закладываются основы партии, которая поведет пролетариат на борьбу за переустройство мира.
По лицу Ленина видно, с каким удовлетворением слушает он Плеханова.
Да и все, решительно все сейчас в приподнятом настроении. Споры и разногласия начнутся позже, завтра, но сегодня… сегодня, кажется, все понимают, что именно они, участники этого съезда, делают историю.
Все споры еще впереди, по существу предшествовавших съезду разногласий не высказывались еще ни Плеханов, ни Ленин, ни Мартов; но то, что именно здесь, именно сегодня начинается спор, в котором родится истина, Землячка понимает великолепно.
В едином порыве, без голосования, Плеханова избирают председателем съезда и затем записками, тайным голосованием, выбирают двух заместителей.
Ленин и Красиков занимают места за столом президиума.
Споры начнутся завтра, а сегодня у всех слишком приподнятое настроение, слишком большое для всех торжество этот съезд!
Потому-то с таким оживлением все идут после первого заседания в «Золотой петух» — так называется гостиница, в которой расположились делегаты, — и по случаю торжества кое-кто позволил себе пропустить по рюмочке, а Гусев дал целый концерт, он пел для товарищей одну оперную арию за другой.
Разногласия начались на втором заседании. Ленин выступил с предложением о порядке дня. Он находил нужным прежде всего обсудить вопрос о Бунде — по существу, это был вопрос об основных принципах организации партии.
Началась работа; казалось, все было сделано для того, чтобы съезд проходил в полной тайне.
Каково же было удивление Землячки, когда при выходе ее остановил полицейский.
— Простите, сударыня, но я хотел бы спросить, чем это вы там занимаетесь на этом складе?
Землячка растерялась.
— Мы готовим… готовим любительский спектакль.
— Благодарю.
Полицейский откланялся…
Землячка сообщила о разговоре с полицейским Гусеву, и тот тоже не придал полицейскому любопытству серьезного значения.
Не прошло, однако, недели, как Землячку и Гусева пригласили в полицейский участок — прислали в гостиницу полицейского, который с безупречной вежливостью вручил им голубые повестки.
Пришлось пойти, чтобы отвести от себя подозрения.
Но выяснилось, что полиция отлично осведомлена о том, что происходит в заарендованном брюссельском лабазе.
— Двадцать четыре часа… В двадцать четыре часа предлагается выехать из Бельгии, — было безапелляционно предложено Гусеву и Землячке. — Мы не хотим портить свои отношения с Россией. Вполне возможно, что на съезде вы ограничиваетесь одними теоретическими дискуссиями, однако агенты русского правительства утверждают, будто вы готовитесь взорвать…
Полицейский комиссар поводил в воздухе руками, так и не уточнив, что именно собираются взорвать русские революционеры.
Оставалось лишь подчиниться.
«Со съездом переконспирировали, — вспоминала впоследствии Надежда Константиновна. — Своим вторжением мы поразили не только крыс, но и полисменов».
В Брюсселе уже ходили рассказы о русских революционерах, собирающихся на какие-то тайные совещания.
Пришлось срочно перебазироваться — местом для продолжения съезда избрали Лондон. Объявили на несколько дней перерыв, уложили чемоданы и отправились в страну туманного Альбиона.
Прибыли в Остенде, погрузились на пароход.
Землячка ехала вместе с Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной.
Владимир Ильич был в отличном расположении духа. В конце концов не так уж важно, где заседать. Важно, что съезд собрался и будет продолжаться и что большинство искровцев были твердыми и последовательными сторонниками Ленина.
Вскоре после отплытия спустились в кают-компанию, поужинали.
Смеркалось. На море начиналось волнение. Пароход покачивало. Сперва никто не обращал на это внимания, но постепенно пассажиры стали расходиться по каютам. Пароход был старинной постройки, отдельные каюты предоставлялись лишь пассажирам первого класса, а для пассажиров второго класса предназначалась одна общая каюта для дам и одна — для мужчин. Делегаты съезда путешествовали во втором классе, партийные деньги требовалось экономить. Качка усиливалась. Надежда Константиновна побледнела, и Землячка тоже чувствовала легкое головокружение. Они поднялись из-за стола.
— Мы пойдем, Володя, — сказала Надежда Константиновна. — Я хочу лечь…
— А я еще погуляю немножко, Наденька, — сказал Владимир Ильич. — Какая отличная погода!
Однако погода была далеко не такая отличная, как казалось Владимиру Ильичу. Качало все сильнее и сильнее. Крупская и Землячка лежали на своих диванах, и им становилось все хуже и хуже, морская болезнь давала себя знать.
В дверь заглянул Владимир Ильич.
— Ну как?
— Лучше не спрашивай, — простонала Надежда Константиновна. — Ты иди, иди. Не гляди на нас…
— Может быть, чем-нибудь помочь?
Надежда Константиновна только замахала рукой.
Дамы остались в каюте, а Владимир Ильич, нахлобучив кепку, упрямо вышагивал по палубе, его не брала никакая морская болезнь.
Вскоре он появился в каюте вновь, принес на блюдечке нарезанный лимон.
— Говорят, очень помогает.
Но дамы в изнеможении не могли поднять головы.
А Ленин бодрствовал до поздней ночи, то заглядывая в каюту и осведомляясь о самочувствии своих спутниц, то возвращаясь обратно на палубу. Он уверенно и быстро ходил взад-вперед, останавливая иногда матросов и вступая с ними в разговоры. Он оставался верен себе. Никакой вялости, никакого проявления слабости. Всегда любознательный, живой, подвижный, всегда устремленный вперед, идущий навстречу всем бурям и ветрам.
Он ходил, не обращая внимания на качку, а когда Красиков отыскал его на палубе и соболезнующе сказал, что Владимир Ильич только крепится и лучше бы ему тоже лечь, как это сделали все остальные, Ленин страшно рассердился и попросил не укладывать его в постель, потому что чувствует он себя совершенно превосходно.
— Превосходно, батенька! — задиристо произнес Ленин. — Понимаете, я чувствую себя совершенно превосходно.
Он чувствовал себя победителем и эту бодрость духа сохранял в Лондоне в течение всего съезда.
Ленина не пугала угроза неминуемого раскола. Борьба искровцев и антиискровцев становилась все ожесточеннее, нервы Ленина были напряжены до крайности, и все же он со всеми был неизменно тактичен и вежлив и, председательствуя, сохранял полное беспристрастие.
Помимо Ленина, среди участников съезда заметно выделялись еще два человека.
На одного Землячка взирала с почтением. На него все взирали с почтением. Все знали, что это — ума палата. Знал это и он сам.
Плеханов. Крупнейший марксист, выдающийся теоретик, знаменитый критик народничества, создатель группы «Освобождение труда». Никто ему не осмеливался возражать. Но Землячке помогал ее врожденный скептицизм. Уж очень барствен, привык быть первым, привык повелевать и несет в себе эту барственность как отличительную особенность. До обыкновенных людей еле снисходит.
Он давно уже уехал из России, и, надо полагать, скучает о ней.
Умен, умен, представителен, даже великолепен, но холоден и отчужден от всех.
Второй понятнее и ближе Землячке. Тоже умен, и к тому же в отличие от Плеханова темпераментен и эмоционален. Но нет в нем твердости и аккуратности, которые так ценны в работниках умственного труда. Бедствующий российский интеллигент. Так и хочется позвать и получше его накормить. Это Мартов. Юлий Осипович Цедербаум, видный деятель социал-демократического движения, один из редакторов «Искры».
Бледное лицо, ввалившиеся щеки, жидкая бородка, небрежно вздетое на переносицу пенсне, изо всех карманов торчат газеты, брошюры, рукописи. Ходит сгорбившись, одно плечо выше другого. А начнет говорить — сразу чувствуются и ум, и знания. Но весь какой-то несобранный. Говорит хорошо, но где-то внутри сам не ощущает ни четкости, ни ясности…
Как проигрывает он в сравнении с Лениным! Один — опустившийся интеллигент, в нем есть даже что-то от героев Достоевского, а другой — интеллигент в лучшем смысле этого слова, собранный и внешне и внутренне, от него постоянно исходит нравственная сила убежденности и правоты.
Мартов не принимает его принципиальности. Сам Мартов — человек компромисса, его место не на баррикадах, а в парламенте.
В течение съезда он все дальше отходил от Ленина, и Владимира Ильича заметно это огорчало. Он часто подходил к Мартову, спорил с ним, заводил приватные разговоры, но разногласия были слишком существенны, и к концу съезда стало очевидно, что Мартову с большевиками не по пути.
Спорили на съезде много, но далеко не все понимали глубину этих споров.
Съезд был поворотным пунктом в международном рабочем движении. В Европе рабочие партии сложились в условиях сравнительно мирного развития капитализма, в России же рабочая партия складывалась в условиях назревания революции. Перед ней стояла задача подготовки масс для революции, и именно на этом съезде, в острой борьбе с различными проявлениями оппортунизма, партия большевиков определилась как ведущая революционная сила.
В дни съезда Ленин все свои духовные силы отдавал борьбе с оппортунистами, Надежда Константиновна рассказывала впоследствии, как нервничал Владимир Ильич, почти не ел, не спал…
Съезд положил начало целой эпохе. Именно в эти дни возникла партия нового типа, которой суждено было повести пролетариат в бой против самодержавия и капитализма.
Не успел закончиться съезд, как Ленин повез искровцев на Хайгетское кладбище.
— Мы обязательно должны там побывать.
Лондон жил обычной суетливой и шумной жизнью. Субботний день шел к концу, наступал уик-энд. Оживленно торговали магазины. Тысячи лондонцев торопились за город. Из парков доносились всплески музыки.
За оградой кладбища Владимир Ильич сразу же свернул влево и пошел мимо мраморных дев и белокрылых ангелов, уверенно указывая дорогу.
Повсюду синели, желтели, лиловели цветы: бархатистые анютины глазки, маргаритки всех колеров, холодные белые лилии.
Ленин еще раз свернул у развилки и остановился возле скромной могильной плиты. Тут он обернулся, и к нему подошла Надежда Константиновна. Она подала ему цветы. Несколько прелестных палевых роз. На лепестках еще дрожали капли росы.
Землячка никогда еще не видела Ленина таким… таким… она искала слово… просветленным, подумалось ей.
Лицо Ленина выражало сосредоточенное внимание. Простым и быстрым жестом он положил розы на край плиты. И тут же обернулся к тем, кто пришел вместе с ним.
Он смотрел на своих товарищей по борьбе и молчал. Молчала Надежда Константиновна. Молчала Землячка. Молчали все. Все они находились в пути. Позади книги, рабочие кружки, стачки, забастовки, а впереди…
Впереди — революция. Пролетарская социалистическая революция!
Ленин еще раз посмотрел на скромную могильную плиту, потом прищурил глаза и слегка улыбнулся.
— Ничего, — задумчиво произнес он, — придет время, и рабочие всех стран поставят Марксу памятник, достойный его гения.
И так же решительно, как шел сюда, повернулся и пошел к выходу.
Кафе «Националь»
В своей памяти Землячка нередко возвращалась к одному разговору, состоявшемуся в Лондоне.
После одного из заседаний к ней подошли Гольдблат и Абрамсон, два делегата от Бунда, еврейского социал-демократического союза, возникшего в конце прошлого столетия в западных губерниях России. Очень вежливые и обходительные люди, один быстро воспламеняющийся и в моменты волнения крикливый, другой сдержанный и даже чуть играющий в «мудреца».
— Розалия Самойловна, хотелось бы с вами поговорить, — обратился к ней Гольдблат. — Не уделите ли вы нам сколько-нибудь времени?
Землячка насторожилась. Обходительны-то они обходительны, но после дебатов на съезде она утратила к ним всякую симпатию — они выступали вразрез с той точкой зрения, какую поддерживала и отстаивала Землячка, их речи дышали национализмом, а он претил Землячке еще с гимназических лет.
О чем… О чем они хотят с ней говорить? Неужели хотят вступить в какие-нибудь переговоры с Лениным и выбрали ее в посредницы?
— Хорошо, — согласилась Землячка. — Пойдем сейчас по домам и по дороге поговорим.
— Нет, нет, это слишком важный вопрос, — вмешался Абрамсон. — Хочется побеседовать в более непринужденной обстановке…
Он как бы размышлял — где бы им побеседовать, хотя на самом деле, как потом поняла Землячка, место для встречи было выбрано ее собеседниками еще до того, как они к ней подошли.
Но тут Гольдблат сделал вид, будто его осенила блестящая идея:
— Позвольте пригласить вас в какое-нибудь кафе?
Пригласи ее каждый из двух этих людей в отдельности, она могла бы приписать приглашение обычной любезности, но двое… Нет, у них на нее какие-то виды. Впрочем, она ничего не имела против разговора, вдруг они одумались и ищут пути к примирению. Землячка улыбнулась:
— Какими вы стали европейцами.
Вышли на улицу. Землячка плохо ориентировалась в Лондоне и вопросительно взглянула на своих кавалеров.
— Не беспокойтесь, — галантно объявил Гольдблат. — Мы повезем вас туда, где вам наверняка понравится.
Было еще не поздно, стоял отличный, а для Лондона даже сверхотличный летний день, текла толпа возвращающихся с работы служащих, плавно катились омнибусы, и Землячка сделала шаг к остановке.
— Нет, нет, — остановил ее Гольдблат и слегка придержал за локоть.
Он остановил проезжавший кеб.
— Прошу вас.
Кебмен неторопливо понукал лошадь, экипаж мягко покачивался на рессорах, и Гольдблат расспрашивал Землячку, как ей нравится Лондон, как она в нем устроилась, скоро ли собирается в Россию… И ни одного вопроса по существу разногласий, которые их волновали на съезде!
Вскоре они попали в район, отличающийся от центральных лондонских магистралей: небольшие дома, грязь на улицах, сотни маленьких лавочек и магазинчиков, и синагоги, синагоги, небольшие, приземистые, с шестиконечными звездами.
— Уайтчепль, — сказал Гольдблат. — Мы почти уже приехали.
Они находились в той части Лондона, которая была заселена преимущественно еврейскими выходцами из России, жившими здесь своей обособленной жизнью.
Кеб остановился перед невзрачным двухэтажным зданием. Над дверью висела вывеска, на синем фоне желтели буквы еврейского алфавита.
— "Националь", — нараспев прочел Гольдблат и сказал по-еврейски: — Настоящий кошерный ресторан.
Они очутились в тесном помещении: десятка полтора столиков, расшатанные стулья, в глубине стойка, несмотря на день, освещенная керосиновой лампой.
Землячка растерянно огляделась: куда она попала? Из гигантского цивилизованного города ее перенесли в грязную еврейскую корчму.
Да и посетители были под стать обстановке: пожилые евреи в допотопных засаленных сюртуках, молодые люди в клетчатых пиджаках и клетчатых жилетах, а двое стариков с длинными седыми бородами сидели даже в ермолках.
К вошедшим подошла девушка с большими черными глазами, высокой прической и локонами, спускавшимися ей на виски. Она вполне могла бы служить натурщицей художнику, рисующему картины на библейские сюжеты.
Она спросила что-то по-еврейски и тут же указала на столик в глубине столовой — их, оказывается, ждали.
Не успели они сесть, как появился заранее заказанный обед: кисло-сладкое мясо, фаршированная рыба, гусиные шейки, рубленая селедка — все те традиционные блюда еврейской кухни, которыми угощали Розочку, когда она ездила с родителями в гости к своей менее просвещенной родне.
Не без торжественности Гольдблат и Абрамсон ухаживали за своей дамой, они как бы вернулись в мир, который был им ближе и дороже, чем вся Европа.
И черноокая эта девушка, и услужливый старик за стойкой, который, по-видимому, был ее отцом, и все эти памятные с детства блюда, и даже свет керосиновой лампы не могли не затронуть каких-то струн в сердце Розочки Залкинд — старая, уютная, но в общем-то печальная жизнь. Нет, не такой жизни хотела она народу, дочерью которого была. Нет, не хотела она, чтобы хоть кто-нибудь из ее соотечественников оставался в черте оседлости, даже выдуманной ими самими.
А здесь было ясно, что черта эта существует!
— Я слушаю, — обратилась она к своим сотрапезникам. — О чем же вы хотели со мной говорить?
— Ну как, Розалия Самойловна? — вопросом на вопрос ответил Гольдблат и повел рукой вокруг себя. — Разве все это ничего не говорит вашему сердцу?
И Землячка сразу поняла, о чем будет разговор.
— Говорит, — подтвердила она. — И говорит очень-очень многое.
— Неужели все это вас не трогает? — подчеркнуто повторил Гольдблат. — Мы здесь дома, дома!
Нет, Землячка не чувствовала себя в этой харчевне дома, все здесь чуждо ей, да и вообще никому не нужно.
— Все это очень трогательно, — заметила она, — но я полагаю, что привезли вы меня сюда не для того, чтобы угостить гусиными шейками?
— Вы еврейка, Розалия Самойловна, — строго произнес Абрамсон. — А Ленин пренебрегает интересами евреев или не понимает их.
— Мы почему решили поговорить с вами? — вмешался Гольдблат. — Мы не хотим терять таких людей, как вы.
— Все евреи, — перебил его Абрамсон, — должны группироваться вокруг Бунда.
Землячка задумчиво провела пальцем по столу.
— Это старая песня, — сказала она. — Может быть, не надо возвращаться к пройденному?
— Нет, надо, — возразил Абрамсон. — Евреи должны найти общий язык между собой, чтобы как-то противостоять русским националистам. Вот, например, Мартов считает, что еврейский рабочий класс является достаточно внушительной силой, чтобы не быть лишь придатком к общерусскому революционному движению.
— Это Мартов вам так сказал? — удивилась Землячка.
— Да, мы говорили с ним, — подтвердил Гольдблат, — и он обещал нам свою поддержку.
— Против русского национализма? — переспросила Землячка не без иронии.
— Но не будете же вы отрицать, что мы совершенно особая нация, мало чем связанная с другим населением России? — в свою очередь возразил Абрамсон.
Она уже представляла себе дальнейший ход разговора и подумала, не оборвать ли его, не подняться ли и просто уйти, но решила договорить все до конца.
— Ленин возражает против всякой самостоятельности Бунда, — сказал Абрамсон. — Он хочет, чтобы мы стали лишь послушным придатком русской социал-демократической партии.
Нет, Землячка не хотела терять для революции даже этих людей, несмотря на все их заблуждения; в ней заговорило ее пропагандистское призвание, она должна, должна их переубедить.
— Вы или не понимаете, или сознательно искажаете Ленина, — сказала Землячка мягко, как говорят терпеливые учителя с упрямыми учениками. — Как вы думаете, есть у еврейских рабочих интересы, отличные от интересов русских рабочих?
— Конечно! — воскликнул Гольдблат. — У нас свой язык, и даже территориально мы живем обособленными колониями.
— А вы знаете, — вдруг спросила его Землячка, — язык, которым написана библия?
— Древнееврейского языка я не знаю, — важно ответил Абрамсон. — Но…
— Так вы что же, жаргон считаете еврейским языком? — насмешливо воскликнула Землячка. — Еврейский язык — это язык библии, а вам, с вашими теориями, остается только разработать теорию особой национальности русских евреев, языком которой является жаргон, а территорией — черта оседлости!
Абрамсон уставился на Землячку сверкающими глазами.
— Значит, вы отрицаете национальные особенности еврейства?
— Да не я, не я — это отвергает современная наука, — пыталась Землячка втолковать ленинские мысли своим собеседникам. — Вы же читали Каутского. Немецкие и французские евреи не похожи на евреев польских и русских. Развитие политической свободы всегда шло рука об руку с политической эмансипацией евреев, с переходом их от жаргона к языку того народа, среди которого они живут, и процессом их ассимиляции с окружающим населением.
Абрамсон ожесточенно ковырял рыбу вилкой, и взгляд его становился все злее и злее.
— Значит, вы отказываетесь от своей нации?
— Да я не отказываюсь!! — воскликнула Землячка. — Но не национальная принадлежность определяет мою политическую позицию. Когда я сижу на нашем съезде, я думаю не о том, что я еврейка, а о том, что я революционерка, социалистка. У нас у всех общая цель…
— Какая же? — выкрикнул Гольдблат.
— Социальная революция, — наставительно ответила Землячка. — Только одни реакционные силы стараются закрепить национальную обособленность еврейства. Враждебность к евреям может быть устранена, когда они сольются со всей массой населения, и это единственное, поймите, единственное возможное разрешение еврейского вопроса.
Нет, зря они угощали эту особу своим заранее заказанным обедом — это понимали сейчас и Гольдблат, и Абрамсон. Она оторвалась от еврейства, она растворилась в русской среде и совершенно не чувствовала себя еврейкой!
— Мы напрасно привезли вас сюда, — сердито произнес Абрамсон. — Вы утратили вкус даже к еврейской национальной кухне.
— О, почему же! — кротко возразила Землячка. — Все очень вкусно. Но я предпочту видеть нашу официантку в университете, а этих стариков — вымытыми, выбритыми и в более приличной одежде.
Абрамсон даже отодвинулся от стола.
— Значит, вам безразлично, кошерную курицу вы едите или нет?
— Послушайте, господа! — воскликнула Землячка с нескрываемым удивлением. — Вы же называете себя марксистами, материалистами, атеистами! Имеет ли значение, по какому ритуалу зарезана ваша курица?
Она видела, ее собеседники откровенно на нее сердятся. Они казались ей детьми, а себя она рядом с ними чувствовала взрослой. Педагогические наклонности побуждали ее помочь этим людям разобраться в своих ошибках, но она не обольщалась — вряд ли это удастся, думала она…
Национальная ограниченность — страшная болезнь, она уведет этих людей в лагерь врагов пролетарской революции, и с ними Землячке предстоит долгая и упорная борьба.
Рассказ о съезде
Давно ли брела она теплым августовским вечером по мрачным, запорошенным копотью тесным переулкам Восточного Лондона, выбираясь из Уайтчепля после не очень-то веселого обеда с двумя сердитыми и крикливыми бундовцами?…
И вот она уже в России, вот уже осень, брызжет ранний осенний дождик, и ей уже не до отвлеченных талмудистских споров — человек для субботы или суббота для человека.
Впереди — работа, одна лишь работа, тяжелая, неприметная и безмерно необходимая.
Местом пребывания Землячки намечен пока что Петербург, но по пути предстояло еще заехать в Москву, рассказать московским товарищам о только что состоявшемся съезде.
Она остановилась на Солянке, у фельдшерицы Полозовой. Та служила в Воспитательном доме и имела при нем казенную квартиру. В Воспитательном доме сотни сотрудников, всегда большое оживление, среди общей сутолоки легко избежать ненужного внимания. И хотя формально Полозова в партии не состояла и числилась лишь в «сочувствующих», она выполняла немало серьезных поручений, которые давали ей знакомые революционеры.
Сразу по приезде Землячка зашла в Московский комитет, явку ей дала сама Надежда Константиновна.
— Я только что со съезда.
— А мы ждем вас.
Договорились, что Землячка выступит у Гужона, в мастерских Московско-Казанской железной дороги и в типографии Кушнерева.
— Там есть проверенные большевики и немало сочувствующих.
Ближе к вечеру в квартиру Полозовой постучался незнакомый парень. Румяный, скуластый, со щелками вместо глаз. Лет двадцать, не больше.
— Скажите, у вас есть тюрьмометр? — спросил он с порога.
Было условлено: пришедший спросит термометр, а ему ответят, что могут измерить температуру. Однако парень не удержался, сострил — любил, должно быть, шутить по любому поводу.
— Если у вас поднялась температура, можем измерить, — точно ответила Полозова.
— А ведь здорово — тюрьмометр? — повторил парень и одиноко хохотнул, огорченный, что не оценили его остроумия.
Землячка не собиралась тратить время на пустые разговоры, сразу перешла к делу.
— Вы откуда? — деловито спросила она.
— Мы-то? — Парень так и не ответил на вопрос. — Мы за вами.
— Я спрашиваю, где вы работаете? — настойчиво повторила Землячка. — Куда мы пойдем?
— Несущественно, — по-прежнему уклонился парень от ответа. — Поручено доставить вас, ясно? На Казанку, промежду прочим.
В Московском комитете Землячке сказали, что от железнодорожников за ней придет провожатый, на которого она вполне может положиться, доставит куда надо и выручит в случае чего.
— Как зовут-то вас? — спросила она, чуть шевельнув улыбкой свои тонкие губы.
— Катей зовут, — сказал парень, хитро поглядев на собеседницу. — Так сподручнее. Катька пришла, Катька вызывает — девка и девка, никому ничего в голову не взбредет.
Молод-молод, одобрительно подумала Землячка, а конспирировать научился — и согласно кивнула:
— Катя так Катя.
Надела шляпку, купленную в Париже, ватерпруф, приобретенный в Лондоне, посмотрела в окно — стекло мутное, влажное — взяла зонтик.
— Что ж, я готова. Извините, два слова по хозяйству.
Парень деликатно отвернулся — и не говорил лишнего, и слышать лишнего не хотел.
Землячка отвела Полозову в сторону.
— Если постучится кто подозрительный — сверток у меня под подушкой, сразу в печь, и уж потом открывайте.
Под подушкой находилось самое важное, что было сейчас при ней, из-за этого она остановилась в Москве и с этим же собиралась в Петербург. Именно этот сверток и придавал ей уверенность, с какой шла она сейчас на Казанку.
В свертке были прокламации, брошюры и, самое главное, ее собственные записи о Втором съезде. Землячке предстояло много раз говорить и перед членами партии, и перед беспартийными рабочими о значении прошедшего съезда, и мысленно она всегда обращалась к зашифрованным ею для себя ленинским выступлениям.
Накануне Землячка выступала с докладом о съезде на заводе Гужона, одном из самых крупных машиностроительных заводов Москвы.
Шла она на завод от Рогожской заставы и все почему-то вспоминала однофамильца здешнего заводчика, известного скульптора XVI века. Она видела в Париже его знаменитые фонтаны. Кто знает, быть может, знаменитый Жан Гужон — один из предков московского капиталиста Юлия Петровича Гужона?
Вчера она говорила с рабочими о борьбе с эксплуататором Гужоном. А сегодня будет говорить о владельце Казанской железной дороги фон Меке.
Землячка и ее спутник вышли на Солянку.
— Хорошо бы извозчика, — посоветовал провожатый. — Спокойнее.
На всей улице стоял один-разъединственный извозчик. Опытным взглядом Землячка окинула улицу, слежки как будто не было. Ее провожатый быстро сторговался с извозчиком, и они сели в пролетку.
У Казанского вокзала смешались с толпой.
В конце перрона парень свернул к пакгаузам. Землячка еле поспевала за ним. Пошли через железнодорожные пути. Миновали водокачку.
Возле будки парень остановился.
— Пришли.
Перед дверью стоял стрелочник, пожилой мужичок с рыжей бородкой, держал в руке зажженный фонарь, за стеклом колебалось пламя свечи.
— Здорово, Василий Ефимович, — поздоровался с ним парень. — Собрались?
— Собрались, собрались, — скороговоркой ответил стрелочник. — Заходите, коль пришли в гости, я посторожу, будьте в надеже.
В будке тесно, накурено, вдоль стен на двух скамейках, а то и просто на корточках расположилось человек пятнадцать в спецовках, в куртках, в брезентовых пальто. В тусклом свете керосиновой лампы все собравшиеся казались Землячке на одно лицо.
— Здравствуйте, товарищи.
С нею нестройно поздоровались.
Приведший Землячку парень наклонился к черноусому железнодорожнику в форменном пальто с медными пуговицами и что-то шепнул.
— Здесь вся наша организация, — пояснил гостье черноусый. — Одиннадцать партийных и четверо беспартийных, но за них мы ручаемся.
Собравшиеся сгрудились еще теснее, откуда-то из угла выдвинули табуретку, и черноусый пригласил гостью сесть.
— Милости просим, товарищ…
Он запнулся, партийную кличку пришедшей ему сообщили заранее, но он постеснялся произнести ее вслух.
— Демон, — назвалась Землячка.
Это была одна из ее кличек. Другую, более популярную, сохраняли в тайне — она была известна полиции, и работники Московского комитета не хотели, чтобы полиция проведала о том, что Землячка появилась в Москве.
— Так вот, товарищи, — открыл собрание черноусый железнодорожник, который, видимо, был руководителем организации. — К нам прибыл товарищ Демон. Он… — председатель поправился: — Она… — и опять запнулся: слова как-то не сочетались. — В общем, товарищ Демон лично принимала участие во Втором съезде нашей партии и расскажет о задачах, какие стоят сейчас перед русским рабочим классом.
Собравшиеся с интересом вглядывались в докладчика, уж очень не вязался такой странный псевдоним с обликом этой женщины, гораздо более походившей на учительницу, чем на демона; они видели ее впервые и не могли знать, что в характере Землячки было все-таки нечто демоническое.
— Приступайте, — сказал черноусый. — Товарищи сильно интересуются.
И Землячка стала рассказывать.
Следовало сказать обо всем том, чем съезд обогатил партию, чем способствовал развитию русского революционного движения, о множестве вопросов — о программе и уставе, об экономической борьбе, об отношениях с Бундом.
Может быть, впервые многие задумались над научными формулировками политики партии, и только такой выдающийся мыслитель, каким предстал на этом съезде Ленин, был способен с предельной ясностью и точностью определить принципы построения партии и предстоящую борьбу за диктатуру пролетариата, за союз рабочих и крестьян, за равноправие наций…
Она увлеклась и, перебирая в памяти события летних дней, принялась рассказывать о своей поездке из Женевы в Брюссель, о подъеме, какой царил среди делегатов в Брюсселе, о переезде по морю в Англию и о Лондоне, где участники съезда разделились на большевиков и меньшевиков.
Землячке стали вдруг задавать вопросы не только о спорах искровцев с экономистами, но и о том, как живут люди в Лондоне, что это за город и чем он отличается от Москвы.
Сказалась извечная любознательность простых рабочих людей, и Землячка заговорила о лондонских улицах, магазинах, ресторанчиках, рассказала о поездке с Лениным на Хайгетское кладбище, стала вдруг рассказывать не только о том, что говорил Ленин, но и какой он сам — как говорил, как выступал, как волновался, переубеждая своих собеседников, и как прост он в обращении с людьми.
И именно потому, что эта женщина так охотно делилась своими личными впечатлениями и переживаниями, рабочие Казанки почувствовали в ней своего человека.
На улице давно стемнело, за окном вспыхивал то красный, то зеленый огонь семафора, гудели за стеной паровозы, а беседа в тесной железнодорожной будке все никак не могла закончиться.
— Ну, а если коротко, — перебил Землячку молодой парень в широком, не по плечу брезентовом плаще. — Если коротко, как бы вы пояснили, в чем суть, самая что ни на есть суть вот этого, значит, прошедшего съезда?
И все сразу замолчали, ожидая, что скажет им эта женщина, которая сама была на съезде.
Землячка задумалась… Что сказать? Как бы яснее и выразительнее сформулировать ответ?
Она мысленно обратилась к своим записям, которые лежали сейчас под подушкой в квартире Полозовой. Чуть повысив голос, она постаралась как можно точнее передать ленинские слова.
— В чем суть, спрашиваете? Русским революционерам пришлось пройти немалый путь, чтобы эту суть понять. На этом съезде образовалась русская революционная марксистская партия. Вот это — основное. И теперь нам, русским социал-демократам… — она с минуту помолчала и повторила ленинскую формулировку, повышая голос на подчеркнутых самим Лениным словах: — «Русской социал-демократии приходится пережить последний трудный переход к партийности от кружковщины, к сознанию революционного долга от обывательщины, к дисциплине от действования путем сплетен и кружковых давлений». — На секунду она остановилась и повторила еще раз: — Да, партийность, сознание революционного долга и дисциплина — вот три кита, на которые будет опираться теперь наша партийная революционная работа.
— Ну, а если уж совсем коротко, в чем самая существенная разница между большевиками и меньшевиками? — еще раз настойчиво спросил все тот же дотошный паренек.
— Совсем коротко? — переспросила Землячка, как бы вглядываясь в самое себя, перебрала в памяти все обстоятельства прошедшего съезда и всем своим существом ощутила эту разницу. — Меньшевики — это приспособление к обстоятельствам, соглашение с буржуазией и мир любою ценой, а большевики — революция, борьба и диктатура пролетариата.
ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ 1924 г.
Она не заметила, как кто-то внес и положил на стол пачку газет, — у нее вошло в привычку начинать утро с «Правды».
Развернула газету. О постигшем страну несчастье еще ни слова. Не успели…
Лишь во второй половине дня принесли только что отпечатанное «Правительственное сообщение»:
"Вчера, 21-го января, в 6 часов 50 мин. вечера, в Горках близ Москвы скоропостижно скончался Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Ничто не указывало на близость смертельного исхода. За последнее время в состоянии здоровья Владимира Ильича наступило значительное улучшение. Все заставляло думать, что его здоровье будет и дальше восстанавливаться. Совершенно неожиданно вчера в состоянии здоровья Владимира Ильича наступило резкое ухудшение. Несколько часов спустя Владимира Ильича не стало.
Заседающий в Москве Всероссийский Съезд Советов и открывающийся в ближайшие дни Всесоюзный Съезд примут необходимые решения для обеспечения дальнейшей непрерывной работы Советского Правительства. Самый тяжелый удар, постигший трудящихся Советского Союза, как и всего мира, со времени завоевания власти рабочими и крестьянами России, глубоко потрясет каждого рабочего и каждого крестьянина не только в нашей республике, но и во всех странах. Широчайшие массы трудящихся всего мира будут оплакивать величайшего своего вождя. Его больше нет среди нас, но его дело останется незыблемым. Выражающее волю трудящихся масс Советское Правительство продолжит работу Владимира Ильича, идя дальше по намеченному им пути. Советская власть стоит твердо на своем посту, на страже завоеваний пролетарской революции".
Она прочла сообщение раз, другой, третий…
Листовка с «Правительственным сообщением» расклеена сейчас по всем московским улицам… Вся Москва знает уже о несчастье. Но рабочий класс вытерпит, вынесет, выдержит и это горе. Владимир Ильич беспредельно верил в силу рабочего класса. На рабочий класс и будет опираться партия, выполняя заветы Ленина.
Землячке хочется быть сейчас на людях, быть с людьми, чувствовать их поддержку, их помощь… Но сегодня ее что-то мало беспокоили посетители. В обычные дни всегда полно народу, приходят и по общественным делам, и по личным… Неужто у всех опустились руки?
Надо посмотреть, что делается в райкоме. Землячка не любила засиживаться у себя в кабинете. Она часто заходила то в один отдел, то в другой, беседовала с инструкторами, вмешивалась в разговоры, всегда была доступна людям.
Она прошлась по комнатам. Против обыкновения, никто ее ни о чем не спрашивал. Все шло заведенным порядком.
В орготделе ее внимание привлекли два посетителя. Двое пожилых мужчин. Очень схожие друг с другом. Худощавые, плохо выбритые, с запавшими голубыми глазами. Один — в жеребковой куртке, другой — в суконной черной шинели.
С ними разговаривал Финогенов, инструктор отдела. Молодой коммунист, он еще недавно работал в райкоме комсомола. Он привлек к себе внимание Землячки своей напористостью. Она не раз вступала с ним в разговоры, он нравился ей своей отрешенностью от всяких личных дел, и она забрала его на работу в райком партии. Но сейчас он что-то слишком уж сердито посматривает на двух этих посетителей.
— Позже, товарищи, позже, — втолковывал он что-то своим собеседникам. — Сейчас не до этого…
Но посетителям явно не хотелось уходить, они упрямо домогались чего-то от Финогенова.
Землячка подошла.
— Что тут у вас, товарищ Финогенов?
— Вот… — Он пожал плечами. — Товарищи, конечно, с делом, я их понимаю, вопрос серьезный, только придется погодить. Вся страна в горе, а они заявления принесли, желают вступить в партию. Я объяснил: пообвыкнется все — пусть и приходят тогда.
— Дайте-ка, — Землячка протянула руку.
Оказывается, Финогенов вернул уже им заявления.
Посетители снова достали свои бумажки из карманов. Написано на листках, вырванных из школьных тетрадок.
Один из посетителей — трамвайщик, слесарь из депо, другой — михельсоновец.
Заявления похожи одно на другое:
— "В связи со смертью нашего вождя В.И.Ленина прошу принять меня…"
Рабочий класс есть рабочий класс.
Землячка прочитала заявления, резко повернулась к Финогенову, положила заявления на стол и коротко сказала:
— Обзвоните все партийные организации района. Такие заявления рассматривать немедленно.
Она и не представляла в ту минуту, сколько таких заявлений поступит в райком в ближайшие же дни.
1903-1905 гг.
Обыкновенное зеркало
Каждому революционеру постоянно сопутствовала угроза тюрьмы и каторги. Но такова участь революционера — рисковать собой ради великого дела.
Землячка обосновалась в Питере, частенько выезжая оттуда по поручению Центрального и Петербургского комитетов партии в различные города России. Она твердо стояла на ленинских позициях, уважение к ней росло, и в октябре 1903 года Землячку кооптировали в ЦК — доверие партии обязывало ее работать еще напряженнее.
Не прошло и года после Второго съезда, как появилась знаменитая ленинская книга «Шаг вперед, два шага назад». Она сопутствовала Землячке во всех ее поездках.
Ленин призывал партию к единству, но к единству на принципиальной основе: партия не дискуссионный клуб, а боевая организация единомышленников.
После съезда раскол произошел среди самих искровцев. Началась ожесточенная борьба между большевиками и меньшевиками. Дезорганизаторская работа меньшевиков подрывала единство действий рабочего класса, а революционная обстановка в стране требовала сплочения сил.
Надо было действовать.
В августе 1904 года близ Женевы собрались девятнадцать единомышленников Ленина, и Землячка была в их числе.
Работой совещания руководил Ленин.
Совещание приняло написанное Владимиром Ильичем обращение «К партии», провозгласившее необходимость созыва Третьего съезда РСДРП, который обуздает меньшевиков и изберет новое руководство. Необходимо было довести обращение до сведения всех партийных организаций в России и провести выборы делегатов.
С этим обращением Землячка поспешила на родину.
Охранное отделение знало о совещании большевиков в Швейцарии и понимало, что большевистские агенты устремятся из Женевы в Россию.
По всей границе шла усиленная слежка. Осматривались поезда и пароходы, велось наблюдение за контрабандистами, принимались все меры к тому, чтобы перехватить инструкции и воззвания, которые могли быть посланы из-за границы.
Землячка ехала поездом, она выглядела молодой обеспеченной дамой, возвращающейся после заграничного вояжа домой.
На пограничной станции в ее купе постучали.
Несколько жандармов, таможенники, и с ними две женщины для «личного обыска».
— Простите, сударыня…
Вели себя жандармы и таможенники пристойно, но осматривали пассажиров тщательно, в чемоданах и саквояжах перебирали каждую принадлежность туалета.
Однако дама больше всего, кажется, была недовольна тем, что не успела привести себя в порядок. Все смотрелась в зеркало и прихорашивалась. То поправляла прическу, то пудрилась.
В белье никаких бумаг, книги в картонных обложках, ничего не вклеишь, чемодан без двойного дна…
Землячка отодвинула зеркало к окну.
— Ну как, господа?
— Все в порядке, сударыня…
Она переехала границу без осложнений, как тщательно ни осматривали ее вещи полицейские.
Их внимание не привлекло разве что только зеркало — взятое в дорогу обыкновенное зеркало из толстого стекла, укрепленное четырьмя винтиками на деревянной дощечке. Такие зеркала обычно стоят на комодах. Это зеркало спустя несколько десятков лет украсило стенд московского Музея Революции как одна из реликвий опасной подпольной деятельности.
Полицейским было невдомек, что между дощечкой и стеклом находится ленинское обращение «К партии», предназначенное для распространения в России.
Землячка в целости и сохранности доставила его в Москву, и в тот же день оно было передано в подпольную типографию Московского комитета.
Невидная работа
Поклонников революционной романтики мало что могло привлечь в такой деятельности: ни таинственных заговоров, ни эффектных покушений, ни головоломных побегов. Все совещания да совещания, ездит Землячка из города в город, ходит по малознакомым квартирам, встречается с малознакомыми людьми и все убеждает их в правильности того, что изложено в книге Н.Ленина «Шаг вперед, два шага назад»…
А ведь по сути речь шла о судьбе России, о судьбе революции.
Много лет спустя Землячка писала о тринадцати комитетах, которые ей удалось объездить за три месяца. Московский, Рижский, Петербургский, Тверской, Тульский, Бакинский, Батумский, Тифлисский, Кутаисский, Екатеринбургский, Пермский, Ярославский, Вятский…
Перечисляя города, которые пришлось посетить за время бесконечных разъездов, и комитеты, в заседаниях которых приходилось участвовать, она не упомянула Самару — вероятно, запамятовала.
Но товарищам по партии запомнился приезд Землячки в Самару.
Она приехала под вечер. В памяти у товарищей не сохранилось, в каком обличье появилась Землячка на вокзале — то ли в обличье сухой чопорной дамы, то ли простолюдинки, повязанной скромным платочком.
Она умела скрываться от полиции. Об этом свидетельствует хотя бы то, что, посетив за три месяца полтора десятка подпольных организаций, она не только не попалась в руки охранки, но даже не привлекла к себе внимания, после ее посещений не произошло ни одного провала.
У нее была хорошая явка, но она все же покружила по городу, прежде чем явилась на квартиру к Григорию Иннокентьевичу Крамольникову.
— Ох, до чего кстати, Розалия Самойловна, — обрадовался тот. — Ждем не дождемся!
— Товарищ Осипов, — поправила Землячка.
Такова была на этот раз ее партийная кличка.
— Не совладать с меньшевиками, — пожаловался Крамольников. — Берут верх. Бьемся, бьемся, не можем переубедить. Почти весь комитет на стороне меньшевиков.
— Об этом еще поговорим, — бесстрастно отозвалась Землячка. — Лучше скажите, где я буду ночевать?
— Хозяйка хорошая, — заверил Крамольников. — Сейчас отведу.
Он повел ее глухими переулками на квартиру.
— Первая богомолка на весь район, — объяснил по дороге. — Полиция к ней не заглядывает, она вне подозрений, только уж и вы…
— Григорий Иннокентьевич! — воскликнула не без юмора Землячка. — Неужели вы думаете, что я способна бросить тень на свою репутацию?
— Я к тому, — объяснил Крамольников, — что на квартиру к вам приходить нельзя никому.
— Не беспокойтесь, — заверила Землячка. — Мы с хозяйкой споемся.
У Крамольникова был для Землячки сюрприз:
— Вы знаете, что в Самаре товарищ Цхакая?
Землячка с любопытством обернулась:
— Как он сюда…
— Проездом.
Михаил Григорьевич Цхакая был видный партийный деятель. Он стал социал-демократом почти одновременно с Землячкой, вместе с нею работал в Екатеринославе, создавая первые социал-демократические организации, а с 1903 года руководил Кавказским комитетом.
У Землячки с ним добрые отношения, к тому же она собиралась на Кавказ.
— Как же нам увидеться?
— На заседании комитета, — посоветовал Крамольников. — А когда собраться?
— Чем скорее, тем лучше, — отвечала Землячка. — Задерживаться в Самаре я не хочу.
— Завтра утром? — предложил Крамольников.
— Отлично, — согласилась Землячка.
— Вот я и пришлю за вами Михаила Григорьевича.
Он довел ее до квартиры. Хозяйка осмотрела Землячку пытливым взором и осталась довольна строгим видом постоялицы.
— Живите сколько хотите. Григорий Иннокентьевич — рекомендатель солидный. Только гостей попрошу не водить.
Крамольников еще раз заверил хозяйку: гости к постоялице ходить не будут, приехала она по поводу наследства, наведет нужные справки — и уедет.
В узкой комнате высокая постель с грудой подушек, в углу теплится лампадка, на стенах лубочные картинки назидательного содержания — вполне подходящее помещение для большевистского эмиссара.
Землячка утонула в пуховиках и сразу заснула.
Ее разбудило легкое постукивание. Она подняла голову, взглянула на часы. Всего пять утра! Сперва она не разобрала, где стучат. Дребезжало стекло. Она приподняла занавеску. Чернобородый мужчина делал ей выразительные знаки. Она даже испугалась и лишь секунду спустя сообразила, что это Цхакая.
Он погрозил ей пальцем — тише! — хотя она не произнесла ни слова.
Опустила занавеску, быстро натянула платье, приоткрыла раму.
— Михаил Григорьевич, до чего ж вы обросли!
Все обращались к Цхакая по имени, но Землячка не могла привыкнуть к такой манере и всегда называла кавказских товарищей по имени-отчеству. Удивилась же она тому, что со времени последнего свидания Цхакая отпустил пышную бороду.
— Конспирация, — объяснил он, хотя с бородой был гораздо приметнее.
Землячка прислушалась — за стеной тишина, хозяйка, должно быть, спит.
— За вами, — сказал Цхакая. — Выходите.
Землячка показала на часы.
— Пять часов!
— Вот именно, — подтвердил Цхакая. — Не хочу, чтобы меня видела ваша хозяйка, к тому же нам за город.
Самарцы сошлись на свое собрание в пригородной роще — летом тут происходили многолюдные гуляния, но сейчас в роще никого.
Сентябрь, листья на березах тронуты желтизной, с Волги слышны гудки пароходов, в воздухе носятся нити паутины.
На опушке, прислонившись к пеньку, сидел парень в розовой косоворотке и бренчал на балалайке.
Он издали еще приметил приближающуюся пару.
— Огонька не найдется? — обратился он к мужчине. — Курить больно охота!
— Свои надо иметь, — без промедления отозвался тот. — На всех не напасешься!
Парень улыбнулся и балалайкой указал себе за спину.
— Проходите, товарищи.
Это был сторожевой пост.
Человек тридцать расположились на лужайке, на траве расстелена газета, и на бумажной этой скатерти расставлены бутылки с пивом и тарелки с жареной рыбой и ветчиной.
Навстречу поднялся Крамольников.
— Товарищ Осипов, — представил он Землячку. — Приехала к нам по поручению Бюро комитетов большинства.
Собравшиеся хмуро посматривали на гостью.
«Товарищ Осипов» слегка поклонилась, обвела всех взглядом, еще раз поклонилась и неуверенно оглянулась — хорошо бы присесть, а присесть, кроме как на траву, некуда, но тут кто-то подкатил небольшую чурку, кто-то развернул и накинул на чурку носовой платок, и «товарищ Осипов», слегка вздернув юбку, осторожно опустилась на предназначенное ей место.
Она раскрыла сумочку и извлекла зеркало, несколько громоздкое для дамской сумочки.
— Мой тайник.
Привычным движением просунула между стеклом и дощечкой шпильку и вытолкнула тонкую бумажку.
— Мой мандат, товарищи.
Кто-то потянулся за мандатом, прочел.
— Мы бы предпочли мандат от ЦК или от «Искры». Так бы лучше…
ЦК к тому времени состоял из примиренцев, а редакция «Искры» находилась в руках меньшевиков.
— Я представляю большинство, — твердо сказала Землячка. — Позвольте доложить…
Ее прервали, засыпали вопросами, вопросы все были с подковырками, занозистые, из меньшевистского арсенала.
Землячка заговорила о внутренней борьбе в партии, о конфликте кружковщины и партийности, требованиях партийной дисциплины, о выходе из кризиса, о созыве Третьего съезда.
Она услышала много обидных слов. Почти все члены Самарского комитета настроены были против съезда, правомочность Бюро комитетов большинства подвергли сомнению.
Она предложила продолжить обсуждение вопроса о съезде на следующий день.
Собрание Самарской организации продолжалось три дня, и все эти три дня переубеждала Землячка самарцев — неприятных вопросов задано было множество, но в конце концов самарцы постановили послать на Третий съезд делегата и отдали мандат большевику Крамольникову.
На третий день с ней уже не спорили, а рассказывали о трудностях и просили советов — как распределить силы, как развернуть работу…
И Землячка, вспоминая беседы с Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной и в Мюнхене, и в Женеве, и в Лондоне, делилась опытом партийной работы.
— Мы должны довести революционную организацию, дисциплину и конспиративную технику до высшей степени совершенства, — наставляла она. — Необходимо, чтобы отдельные члены партии или отдельные группы членов специализировались на отдельных сторонах партийной работы, одни — на воспроизведении литературы, другие — на перевозке из-за границы, третьи — на развозке по России, четвертые — на разноске в городах, пятые — на устройстве конспиративных квартир, шестые — на сборе денег, седьмые — на организации доставки корреспонденции и всех сведений о движении, восьмые — на ведении сношений…
Это последнее заседание больше походило на занятие по изучению техники конспиративной работы.
— Такая специализация требует, — заключила Землячка, — гораздо больше выдержки, гораздо больше уменья сосредоточиться на скромной, невидной, черной работе, гораздо больше истинного героизма, чем обыкновенная кружковая работа.
День рождения
И так изо дня в день: вокзалы, поезда, вагоны, тусклые свечи в фонарях, случайные попутчики, фальшивые разговоры — всегда фальшивые, потому что никогда нельзя быть тем, кто есть ты на самом деле, — извозчики, гостиницы, постоялые дворы, чьи-то квартиры, то чистые, то грязные, чужие диваны, кушетки, кресла, два-три дня в незнакомом городе, встречи, явки, переговоры — и снова в путь, опять поезд, вагон, и мелькающие за окном вагона водокачки, дома и деревья, уносящиеся прочь, назад, в темноту…
Ей постоянно приходится менять свое обличье. То она гувернантка, едущая на новое место. То жена чиновника, получившего повышение по службе, то вдова…
Однажды ей пришлось назваться даже невестой.
Какой-то дотошный господин слишком уж пристально вглядывался в нее. Сосед по вагону. Она ехала во втором классе. Сравнительно молодой и любезный господин с каштановыми бачками и в такого же цвета, как и волосы, каштановом пальто и каштановой шляпе принялся настойчиво интересоваться своей попутчицей: и кто она, и куда едет, и по каким надобностям. И расспрашивал как-то очень уж профессионально. Впрочем, своей профессии он не скрывал.
— Товарищ прокурора Похвистнев, — сразу же представился он попутчице. — Ваше присутствие, сударыня, избавляет меня от дорожной скуки. Простите, но не встречались ли мы в Петербурге?
К счастью, не встречались, подумала Землячка и неожиданно для самой себя ответила:
— Возможно. — И назвала фамилию сенатора, промелькнувшую как-то в газете. — Вы не бываете у фон Нордстремов?
— У фон Нордстремов? — уважительно переспросил товарищ прокурора.
— Это мой дядя, — пояснила Землячка и скромно добавила: — Двоюродный дядя…
— О!… — еще уважительнее воскликнул товарищ прокурора и тем более заинтересовался попутчицей.
— Осмелюсь поинтересоваться — куда и к кому?
Ох, как опасно ответить невпопад! Назовешь город, а окажется, что прокурор едет туда же. Предложит свои услуги… Соседи по вагону прислушивались к их разговору. Актерство несвойственно было Землячке, но какому подпольщику не приходится актерствовать, и часто от умения перевоплощаться зависит не только удача в деле, но и сама жизнь. На нее снизошло вдохновение. Она запнулась, соображая, что бы соврать. Заминку тоже следовало оправдать.
— Невеста… — произнесла она вдруг, смутилась и бессвязно продолжила: — Семейные обстоятельства. Моему жениху… — И замолчала. Все всем стало понятно, и в том числе, разумеется, товарищу прокурора Похвистневу. Семейные обстоятельства привели молодую женщину в этот вагон. Но кто станет рассказывать случайным попутчикам о своих семейных обстоятельствах?… И кто позволит себе о них расспрашивать?
Землячка благополучно доехала до Ярославля, окруженная вниманием попутчиков.
— Желаю счастья, сударыня, кланяйтесь своему жениху, — сказал при расставании товарищ прокурора, стоя на ступеньках вагона и подавая своей попутчице легкий ее саквояж.
Сам он следовал дальше.
Землячка вышла на перрон.
Ее не должны были встречать, но отсутствие встречающих могло вызвать подозрение у тех, кто остался в вагоне. Она оглянулась и направилась к стоявшим поодаль респектабельному господину и нарядной даме.
Что им сказать? Что им сказать, чтобы они не выразили удивления, а, наоборот, заговорили с ней, как со старой знакомой?
— Извините, — быстро проговорила Землячка, подходя к ним. — Меня преследует какой-то настойчивый господин, у вокзала ждет экипаж, я вас очень прошу, не откажите проводить до экипажа.
И случайные прохожие, к которым обратилась Землячка, не отказали незнакомой даме в любезности, господин предложил ей руку, а сама Землячка тем временем оживленно говорила его спутнице о неприятностях, которые подстерегают даму в пути.
Экипажа у вокзала не оказалось. «Должно быть, опоздала телеграмма», — пробормотала Землячка, поблагодарила своих спасителей и наняла извозчика. "Мытная улица, кондитерская «Жорж Борман» — то была явка, где после обмена паролями она должна была получить «хороший» адрес. В кондитерской Землячка спросила Леночку, одну из продавщиц: «У вас есть шоколад „Миньон“?» Леночка испытующе смотрит на покупательницу: «У нас есть „Миньон“ из Москвы, от Эйнема». — «Свешайте, дорогая, полфунта». Леночка подает покупательнице сверток и вполголоса произносит: «Пименовский переулок, дом Воскобойникова, спросите Алексея Павловича».
С шоколадом и саквояжем Землячка выходит на улицу. Снова нанимает извозчика.
Пименовский переулок находится на рабочей окраине города. Прохожих там мало, но все же они есть. Женщины в платочках и с кошелками, мужчины в картузах и куртках. Нарядная дама, разыскивающая дом Воскобойникова, не может не привлечь внимания.
Извозчик вопросительно оглядывается.
— Все, все, голубчик, мне никто тут не нужен, — ласково объясняет дама. — Воспоминания детства. Я жила тут когда-то. Когда еще была девочкой. Я тут от поезда до поезда. Захотелось посмотреть на эти места. А знакомых здесь у меня нет. Теперь обратно, на вокзал.
Такие дамочки попадались извозчику не раз — мотаются, мотаются по городу, а потом, смотришь, никуда им не надо.
На вокзал, так на вокзал.
Землячка расплачивается с извозчиком — не слишком щедро, но и не слишком скупо, чтобы не запомнил, так, обычная пассажирка.
Она проходит в «дамскую комнату», запирается, и через несколько минут из двери выходит уже не нарядная дама, а скромная мещанка.
Вместо шляпы с гирляндой из блеклых фиалок на голове ее серый ситцевый платок. Саквояж, который она небрежно и утомленно внесла в комнату, она выносит уверенно и привычно, только теперь этот купленный в Берлине элегантный саквояж как-то обвис в ее руке и похож на старую домашнюю сумку. Да и накидка обвисла, точно она с чужого плеча.
Идет она медленно, и тот, кто взялся бы ее преследовать, должен был бы ползти, как черепаха. Но прохожим не до нее, все ее обгоняют.
Землячка уверенно сворачивает в Пименовский переулок. Она не спрашивает встречных прохожих, где здесь дом Воскобойникова, идет по одной стороне, потом по другой, покуда ей не попадается на глаза дощечка с надписью «Собств. дом Н.И.Воскобойникова».
Землячка дергает железную ручку в калитке. Неторопливые шаги, калитка распахивается. Мужчина лет сорока, в неподпоясанной косоворотке, светлые усы, голубые глаза, пытливо смотрит на Землячку.
— Мне нужен хозяин этого дома.
— А я и есть хозяин.
— Я от Леночки.
— От какой Леночки?
— Из кондитерской…
Он с любопытством еще раз оглядывает Землячку.
Хозяин ведет ее в «залу», так в мещанских жилищах называют самую парадную, часто единственную прилично обставленную комнату в доме.
Стол, покрытый суконной скатертью, горка с посудой, гнутые венские стулья, фикусы перед окнами, ряднинная дорожка через всю комнату.
Хозяин чувствует себя несколько скованно. Он знает, что в город должен приехать представитель БКБ, Бюро комитетов большинства, органа, созданного по инициативе тех провинциальных комитетов, где большевики не утратили своего влияния.
Он выжидательно молчит.
Землячка протягивает саквояж хозяину дома.
— Положите куда-нибудь. Давайте знакомиться. Вас как по имени-отчеству?
— Николай Иванович.
— Николай Иванович Воскобойников, — отчетливо произносит Землячка. — Работаете на лесопильном заводе?
Хозяин дома утвердительно кивает.
— Большевик?
Воскобойников улыбается.
— Да уж никак не объединенец.
Улыбается ему и Землячка. Перед нею один из тех ярославских большевиков — Землячка слышала о нем еще в Петербурге, — на кого можно здесь опереться.
— Землячка, — называет она себя. — Я сейчас предъявлю вам свои полномочия.
Воскобойников с интересом вскидывает глаза на Землячку, он тоже, видимо, слышал о ней, но не делает никаких протестующих жестов — мол, я и так вам доверяю, мол, излишние формальности ни к чему — установленный порядок должен быть соблюден.
Землячка извлекает из кармана своей пелерины большое дамское портмоне из серой замши, достает перламутровую пудреницу, нажимает кнопочку и подает Воскобойникову листок папиросной бумаги — свой мандат, скрепленный печатью Петербургского комитета Российской социал-демократической рабочей партии.
Дорого бы заплатили в охранке за оттиск этой печати!
Воскобойников внимательно изучает бумагу.
— Слышал я о вас, — говорит он, возвращая документ. — У нас в Ярославле твердое мнение за съезд.
Землячка довольна, что Воскобойников имеет о ней хоть какое-то представление, но на всякий случай предупреждает:
— Вот что, Николай Иванович, для членов комитета я — Землячка, но для остальных — Зинаида Ильинична Трелина. Береженого, как говорится, бог бережет.
Хозяин распахивает дверь в соседнюю комнату.
— Располагайтесь.
— Когда же вы думаете собраться?
— Сегодня отдохнете, а соберемся завтра к вечерку, после работы, раньше не успеем оповестить.
— А у вас тут…
— У нас тут чисто, — подтверждает Воскобойников. — Полиция не заглядывает сюда, нет причин. Все же на улицу советую не показываться — соседи, да и мало ли что, лишний интерес ни вам, ни нам ни к чему.
Почти два дня проводит Землячка в семье Воскобойникова.
Жена приезжую не расспрашивает ни о чем, зато дети засыпают ее вопросами — кто она, откуда, зачем приехала. Землячка отвечает, что она учительница, едет на работу в деревню, старшей девочке помогает решить задачи, младшим рассказывает сказки Андерсена.
На второй день к вечеру в доме Воскобойниковых поднимается суета. Хозяйка вместе с пришедшей к ней женщиной жарит пирожки и котлеты, нарезает и раскладывает по тарелкам колбасу, селедку, огурцы, накрывает в зале стол; вернувшийся домой хозяин достает рюмки, откупоривает бутылки с водкой и пивом…
Не слишком-то одобрительно смотрит гостья на все эти приготовления. Дело слишком серьезное для того, чтобы сочетать его с застольем.
— Это по какому же поводу? — осторожно спрашивает Землячка у хозяйки, указывая на стол.
— А Коленькино рожденье, — радостно откликается хозяйка. — Завсегда отмечаем.
Ответ хороший, но Землячка улучает минуту и негромко осведомляется у хозяина:
— Сегодня у вас действительно день рождения?
— Какое там! — Воскобойников усмехается. — Товарищи соберутся по тому самому делу, по какому вы и приехали.
Землячка укоризненно покачивает головой.
— Тогда зачем все это? Неужели вы так всегда обставляете свои собрания?
— Зачем? — возражает Воскобойников. — Мы и в мастерских собираемся, и на бережку, и даже возле церкви, но сегодня случай особый, не хотим вас казать посторонним, да и не ровен час зайдет кто — такая хорошая видимость.
И все-таки Землячке не по сердцу докладывать о проблемах, волнующих партию, за столом, уставленным бутылками.
Один за одним начинают сходиться гости.
Собирается человек двадцать, и среди них только две женщины. Приезжую знакомят со всеми. Куркин. Славцов. Прохоров. Кое о ком она слышала в Петербурге. Учительница Крапивина — одна из лучших пропагандисток в ярославской организации. Савельев недавно вернулся из ссылки. Тихонов…
В комнате становится тесно.
— За стол, друзья, за стол, — приглашает гостей хозяин. — Накладывайте. Что бог послал… — Он указывает Землячке место рядом с собой. — Зинаида Ильинична… — Разливает по рюмкам водку. — По одной, для бодрости…
Приезжая смотрит не слишком одобрительно.
Однако Воскобойников не замечает или не хочет замечать взгляда Землячки, он выпивает свою рюмку, закусывает огурцом и стучит вилкой по тарелке.
— Так вот, товарищи, к нам приехал представитель Бюро комитетов большинства, избранного на Северной конференции, а попросту представитель товарища Ленина… — Он сразу становится строгим, наклоняется через стол, отбирает у кого-то бутылку. — Внимание, товарищи, дело сурьезное. Хоть я и хозяин, с ужином придется повременить.
Землячка встает.
— Позвольте мне прочесть вам письмо товарища Ленина. — Она достает из кармана сложенный листок, расправляет его.
— А вы сидя, сидя, Зинаида Ильинична, — советует Воскобойников. — Ужин есть ужин, заглянет кто ненароком в окно, а тут речи говорят.
Сидя так сидя. Должно быть, Воскобойников прав. Землячка садится и читает «Письмо к товарищам», изданное отдельной листовкой и посвященное выходу газеты «Вперед». Потом она рассказывает о дезорганизаторской деятельности меньшевиков, знакомит с решениями Северной конференции. Говорит о значении и важности предстоящего съезда.
Разговор шел начистоту. В Ярославле многие были в курсе дела, а тем, кто был еще недостаточно подкован политически, — тем найти правильный путь помогало пролетарское классовое чутье.
Всех, кто колебался и повторял доводы меньшевистской «Искры», разубедили, созыв съезда одобрили и постановили делегировать на съезд большевика.
Застолье не помешало, и когда после всех разговоров и споров кто-то запел:
Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно…
— и все дружно подхватили песню, Землячка, вполне удовлетворенная результатами сегодняшнего собрания, с усталой улыбкой наклонилась к Воскобойникову и сама попросила:
— А что, Николай Иванович, придется отметить успех! Налейте-ка и мне полстакана пива…
Драгоценные письма
Объехав провинцию, Землячка вернулась в Петербург. Надо было достать для партии денег — об этом ей не раз напоминали из-за границы, проследить за транспортировкой литературы в Россию и, наконец, организовать отъезд делегатов на Третий съезд.
В Петербурге Землячка жила на птичьих правах. Фамилия не своя, имя-отчество тоже, но она к этому привыкла и даже не слишком волновалась — паспорт у нее был хороший.
На квартиру тоже нельзя жаловаться, квартира вне подозрений. Ее рекомендовала сама Мария Петровна Голубева, а уж Мария Петровна по части конспирации считалась великим докой.
Уже полгода как Землячка поселилась у Савичевых. Сам Петр Евгеньевич Савичев служил в частном банке помощником бухгалтера, жена его Нина Васильевна вела домашнее хозяйство, двое детей учились в гимназии — Леночка в пятом классе, Вася во втором.
Савичевы снимали квартиру в одном из доходных домов по Садовой, однако плата за обучение детей в гимназии пробивала в семейном бюджете такую брешь, что одну из комнат приходилось сдавать.
И хотя себя Савичев в революционерах не числил, но среди его знакомых было два или три большевика, он знал об этом и при случае сказал одному из них:
— На баррикады я уже едва ли пойду, однако понимаю, что происходит в России, и если понадобится моя скромная помощь…
Вот его и попросили приютить работника партии — не безвозмездно, за квартиру будут платить, но квартирант должен быть уверен, что не только никто в семье Савичевых не станет им интересоваться, но что его будут даже оберегать от чужого любопытства, если оно вдруг обнаружится.
— У Савичевых вам будет спокойно и безопасно, — сказала Мария Петровна. — На бесчестный поступок эти люди не пойдут.
И в самом деле полгода Землячка жила у них спокойно, делами ее они не интересовались, а когда она внезапно исчезала на неделю-другую из Петербурга, вопросов ей никто не задавал.
Для всех, кто спросил бы о квартирантке Савичевых, имелась вполне убедительная версия: Надежда Яковлевна — так она теперь звалась — работает секретарем у адвоката Малянтовича и нередко сопровождает его в поездках по провинции. Видный присяжный поверенный Малянтович, известный своими либеральными воззрениями, согласился в случае чего подтвердить, что Надежда Яковлевна — да, действительно, служит у него в секретарях.
А ведь за одну только осень Землячка объездила множество городов. Рига, Тверь, Москва, Тула, Ярославль, Вятка, Пермь, Екатеринбург, Баку, Тифлис, Кутаис, Батум.
Десятки поездок, сотни встреч. Непонятно, как только она справляется со всей своей работой!
И все время идет как бы по лезвию ножа…
Вчера дома Землячка зашла в столовую Савичевых, взять из буфета чашку, видит — у окна Леночка с книгой, так зачиталась, что даже не заметила квартирантку.
Землячка поинтересовалась:
— Чем это вы так увлеклись, Леночка?
Девушка с трудом оторвалась от книги:
— Читаю «Квентина Дорварда» и завидую, в какое интересное время жили люди. Приключения, опасности, тайны…
— А сейчас, думаете, жизнь скучнее?
— Какое может быть сравнение!
Землячка покачала головой, взяла чашку, ушла к себе.
Что она могла сказать Леночке? Что жизнь в двадцатом веке такая же беспокойная, как в пятнадцатом?
Во владениях Людовика Одиннадцатого смельчаков подстерегали ловушки, западни, капканы; малейшая неосторожность — и не уйти от ножа или секача.
Во владениях Николая Второго людей подстерегают не меньшие опасности. Утрать бдительность на мгновение и сразу очутишься в тюрьме или на каторге.
А ведь просто невозможно все время находиться в нервном напряжении — сдают иногда нервы, любой человек нуждается в отдыхе, тишине и покое.
Впрочем, что касается тишины, тишиной она на сегодняшний вечер обеспечена. Сидит она за столом, перед ней чашка чаю, сборник «Знания» с новой повестью Горького…
Ей и вправду надо отдохнуть. Всего два дня как она отправила в Женеву отчет о своих поездках и резолюции нескольких комитетов — все они высказались за съезд. Скольких же трудов стоило разгромить сторонников ЦК, захваченного меньшевиками!
Вечер. Тишина. Чай давно остыл. И к книге не прикоснулась. Все мысли ее — о предстоящем съезде.
В передней звонок.
— Надежда Яковлевна, — слышит она голос Нины Васильевны. — Вас тут спрашивают.
Кто бы это мог быть?
В голосе Нины Васильевны не заметно волнения. Землячка тоже не позволит себе его обнаружить.
— Вас просят сюда…
— Заходите.
Возле вешалки — девчушка лет шестнадцати, в драповом пальто, в шерстяном рыжем платке, завязанном на спине узлом.
Девчушка вскидывает на Землячку ясные голубые глаза.
— Надежда Яковлевна?
— А ты откуда знаешь меня?
— Да уж знаю, — говорит девчушка. — Я от Марии Петровны, наказывала она вам завтра к ней чай пить, день ангела у ихней племянницы, часам к пяти, беспременно.
Землячка улыбается.
— Буду.
Ночью Землячке не спится.
Что заставило Голубеву вызвать ее к себе? Чей-нибудь провал? Новые козни меньшевиков?…
Она рада бы пойти к Голубевой с утра, но у конспирации свои непреложные законы, и точность — один из главных. Пять часов — это не четыре и не шесть, а именно пять — ни поторопиться нельзя, ни опоздать.
Днем у Землячки две встречи: с рабочими на Обуховском заводе, надо получить от них корреспонденцию о положении дел на заводе для новой газеты, которая должна вот-вот выйти в Женеве под редакцией Ленина, и с товарищами из Баку, поделиться с ними своим опытом транспортировки литературы из-за границы.
Спокойно, не торопясь, сделала все, что наметила, и отправилась на Монетную. К пяти.
Малая Монетная, девять-а, квартира Голубевой.
Одна из самых засекреченных и самых верных большевистских квартир, не квартира — крепость, старательно оберегаемая Петербургским комитетом от всех случайных и недостаточно проверенных посетителей.
Мария Петровна заметный человек в Петербургской организации.
Квартира ее — заповедное место, только самые проверенные большевики знают этот адрес, — забегая вперед, скажем, что она пользовалась таким доверием партии, что именно у нее находилась в 1906 году штаб-квартира Ленина.
Поэтому Землячка не сомневалась, что только дело чрезвычайной важности могло заставить Марию Петровну вызвать ее к себе.
Как требовала предосторожность, Землячка прошлась вдоль всей Монетной, сперва по одной, а потом по другой стороне улицы. Как будто все спокойно.
Но вот и пять… Землячка вошла в подъезд, позвонила. Дверь открыла сама Мария Петровна.
— Заходите, Розалия Самойловна. Раздевайтесь.
— Ко мне вчера приходила девушка от вас, — начала было Землячка. — Где это вы нашли такую?
Голубева ответила неопределенно:
— Знакомая.
— А не опасно?
— Если посылаю, значит, не опасно, — уверенно произнесла Голубева. — Наши будущие кадры.
Землячка вошла в столовую. Стол накрыт, кипит самовар. На скатерти — вазочки с вареньем, с печеньем. Все, как следует быть.
— Зачем я вам, Мария Петровна?
— Чай пить.
— А все-таки?
— Важное дело, конечно.
Однако в голосе Голубевой Землячка не уловила тревоги, наоборот, в голосе ее звучала улыбка.
— Не томите же…
— Еще не все собрались.
— А вы еще кого-нибудь ждете?
— Сейчас появятся — Рахметов и Папаша.
Рахметов — это Александр Александрович Богданов, а Папаша — Максим Максимович Литвинов. В эти дни их с Землячкой объединяет подготовка к съезду, все трое — убежденные сторонники Ленина.
Но если все трое приглашены на этот час к Голубевой…
— Что все-таки случилось?
А вот и Богданов с Литвиновым.
До чего же разные люди! Богданов врывается в комнату, точно ждут его здесь враги, и он собрался их сокрушить, а Литвинов входит небрежно, не спеша, будто случайно сюда попал и, если что не так, извинится и тут же уйдет обратно.
Оба, как и Землячка, видимо, удивлены приглашением Голубевой.
— Чаю? — не без лукавства предлагает хозяйка.
Литвинов вежливо наклоняет голову.
— С удовольствием.
А Богданов, наоборот, еле сдерживается.
— При чем тут чай? Говорите: в чем дело?
Однако Голубева медлит — гости вынуждены усесться — потом разливает чай, придвигает чашки.
Все трое вопросительно смотрят на хозяйку.
— Письмо, — произносит наконец Голубева. — Из Парижа. Сейчас принесу.
Выходит из комнаты и тотчас возвращается, в руке конверт.
Негромко и чуть торжественно читает:
— "От Ленина личное Рахметову, Землячке, папаше".
Она отдает конверт Богданову, тот нетерпеливо достает письмо, развертывает, и так же нетерпеливо встают со своих мест Землячка и Литвинов, подходят к Богданову и втроем склоняются над письмом.
Письмо от Ленина!
Как важно, как важно знать его мнение, познакомиться с его оценкой текущих событий…
"3.XII.04.
Дорогой друг! Я получил известия о приезде М.Н. (сам не видал его) и заключил из них, что дела у нас совсем неладны. Получается опять какой-то разброд между русскими и заграничными большевиками. А я по опыту 3-х лет знаю, что такой разброд чреват дьявольским вредом для дела. Разброд этот я усматриваю вот в чем: 1) затягивают приезд Рахметова; 2) переносят центр тяжести с здешнего органа на другое, на съезд русский OK etc.; 3) попустительствуют или даже поддерживают какие-то сделки ЦК с литературной группой большинства и чуть ли не идиотские предприятия русского органа. Если мои сведения об этом разброде верны, то я должен сказать, что злейший враг большинства не придумал бы ничего худшего. Задерживать отъезд Рахметова прямо непростительная глупость, доходящая до предательства, ибо болтовня страшно растет, и мы рискуем потерять необходимую здесь величину из-за ребячески глупых планов чего-то сейчас же смастерить в России. Оттягивать заграничный орган большинства (для которого недостает только денег) еще более непростительно. В этом органе теперь вся суть, без него мы идем к верной, бесславной смерти. Во что бы то ни стало, ценой чего угодно надо достать деньжонок, хоть пару тысяч что ли, и начать немедленно, иначе мы режем сами себя. Возлагать все надежды на съезд могут только безнадежные глупцы, ибо ясно, что Совет сорвет всякий съезд, сорвет еще до созыва. Поймите меня хорошенько, ради бога: я не предлагаю бросить агитации за съезд, отказаться от этого лозунга, но только ребята могут ограничиваться теперь этим, не видя, что суть в силе. Пусть резолюции о съезде сыпятся по-прежнему (почему-то объезд М.Н. не дал ни одного повторения резолюции, это очень и очень жаль), но не в этом гвоздь, неужели можно не видеть этого? ОК или бюро большинства необходимо, но без органа это будет жалкий нуль, одна комедия, мыльный пузырь, который лопнет с 1-ым провалом. Во что бы то ни стало орган и деньги, деньги сюда, зарежьте кого хотите, но давайте денег. Организационный комитет или бюро большинства должно дать нам полномочия на орган (поскорее, поскорее) и объезжать комитеты, но если бы ОК вздумал сначала поднять «положительную работу» и отложить пока орган, то нас зарезал бы именно такой идиотский Организационный комитет. Наконец, издавать что-либо в России, входить хоть в какие ни на есть сделки с поганой сволочью из ЦК значит уже прямо предательствовать. Что ЦК хочет разделить и раздробить русских и заграничных большевиков, это ясно, это его давний план, и только самые желторотые глупцы могли бы попасться на эту удочку. Затевать орган в России при помощи ЦК — безумие, прямое безумие или предательство, так выходит и так выйдет по объективной логике событий, потому что устроители органа или популярного органа окажутся неминуемо одураченными всякой паскудной гнидой вроде Центрального Комитета. Я это прямо предсказываю и заранее махаю рукой совершенно на таких людей.
Повторяю: в первую голову должен идти орган, орган и орган, деньги на орган; расход денег на иное есть верх неразумия теперь. Рахметова надо немедленно вытащить сюда, немедля. Объезжать комитеты надо прежде всего для корреспонденции (это непростительно и позорно, что до сих пор мы не имеем корреспонденции!! это прямо позор и зарез дела!!), а вся агитация на съезд должна быть лишь попутным делом. С ЦК все комитеты большинства должны немедленно порвать фактически, перенося все сношения на ОК или бюро большинства; этот ОК должен немедленно выпустить печатное извещение о своем образовании, немедленно и обязательно опубликовать это.
Если мы не устраним этого начинающегося разброда большинства, если мы не столкуемся об этом и письменно и (главное) свидание с Рахметовым, тогда мы все здесь прямо махнем рукой и бросим все дело. Если хотите работать вместе, то надо идти в ногу и сговариваться, действовать по сговору (а не вопреки сговора и не без сговора), а это прямо позор и безобразие: поехали за деньгами для органа, а занялись черт знает какими говенными делами.
Я выступаю на днях печатно против ЦК еще решительнее. Если мы не порвем с ЦК и с Советом, то мы будем достойны лишь того, чтобы нам все плевали в рожу.
Жду ответа и приезда Рахметова".
В три пары глаз прочитывают они письмо и снова возвращаются к нему. Ленин сердится, да какой там сердится — ругается!
Литвинов испытующе смотрит на Богданова:
— Так как же, Александр Александрович?
Богданов краснеет от волнения.
— Надо ехать.
— Вот то-то!
Письмо мало радует, Ленин упрекает всех троих в том, что они отвлеклись от основной поставленной перед ними задачи.
Литвинов опять смотрит на Богданова.
— А вообще?
— Надо подумать, — сумрачно отвечает Богданов. — Пусть каждый все обдумает, а завтра соберемся и посоветуемся.
Землячка смотрит на своих товарищей… И на них и на себя она смотрит как бы со стороны. Состоят они в одной партии, объединены одним делом, стремятся к одной цели, а какие же они разные люди…
По возрасту они все — сверстники. Только Голубева старше, четыре с половиной десятка у нее уже за плечами и тридцать лет из них посвящены опасной конспиративной работе. Убеждения у нее твердые, она стойкая большевичка, техник великолепный. Вот и сегодня — получила письмо, собрала всех, кого оно касается, и все сделает, чтобы выполнить полученные указания…
Самой Землячке столько же лет, сколько Литвинову — двадцать восемь, Богданову тридцать один, да и Ленину всего тридцать четыре…
Но вот поди ж ты! Насколько Ленин мудрее. Его партийная кличка говорит о многом: «Старик». Он старше всех их. Не по возрасту, а по силе авторитета… Учитель! Для Землячки Ленин — учитель, и поэтому его упреки и замечания она воспринимает особенно болезненно.
Землячка пытливо вглядывается в своих собеседников: как они приняли письмо Ленина?
Богданов размышляет и готов вступить в спор, Литвинов сразу же прикидывает, какие практические выводы надо сделать.
— До завтра? — спрашивает Богданов.
Землячка согласно кивает.
— Пожалуй, утро вечера мудренее.
Первым уходит Литвинов.
Богданов останавливается возле Землячки.
— Пошли?
Голубева придерживает Землячку за локоть.
— Я еще побуду немного.
Ушел и Богданов.
Голубева ласково улыбается.
— У меня для вас есть еще… Письмо. Лично вам.
Землячка умеет себя сдерживать, но тут почувствовала, что волнуется, а ей очень не хочется, чтобы Голубева это заметила.
— Давайте, — сказала она и спрятала письмо в рукав кофточки. — Прочту дома.
Ей не хотелось читать письмо даже в присутствии Голубевой — лично ей, значит, и читать его она будет лично.
Ночью, одна у себя в комнате, читает она и перечитывает ленинское письмо.
"Землячке от Старика
10.XII.04.
Только что вернулся с рефератной поездки и получил Ваше письмо No 1. С Русалкой говорил. Получили ли мое ругательное письмо (посланное и папаше и Сысойке)? Что касается состава ОК, то я, конечно, принимаю общее решение. По-моему, необходимо не тянуть в дело Рядового, а немедленно выслать его сюда. Затем обязательно организовать особую группу (или дополнить ОК) для хронического объезда комитетов и поддержки всех сношений между ними. Сношения у нас с комитетами и с Россией вообще крайне еще недостаточны, и надо все усилия приложить для развития корреспондентской и простой товарищеской переписки. Почему не связываете нас с Северным комитетом? с московскими типографщиками (очень важно!)? с Ряховским? с Тулой? с Нижним? сделайте это немедленно. Далее, почему комитеты не посылают нам повторительных резолюций о съезде? это необходимо. Я побаиваюсь сильно, что Вы слишком оптимистичны насчет съезда и насчет ЦК: из брошюры «Совет против партии» (вышла уже) вы увидите, что они идут на все и вся, на проделки черт знает какие из желания сорвать съезд. По-моему, это прямая ошибка, что ОК не выпускает печатного извещения. Во-1-х, извещение необходимо, чтобы противопоставить наш открытый способ действия тайной организации меньшинства. Иначе ЦК непременно поймает вас, воспользуется ультиматумами Сысойки и заявит о вашей «тайной» организации: это будет позор для большинства, и всецело виноваты будете в этом позоре вы. Во-2-х, печатное извещение необходимо, чтобы известить массу партийных работников о новом центре. Никакими письмами никогда вы не достигнете этого даже приблизительно. В-3-х, заявление о сплочении комитетов большинства будет иметь громадное нравственное значение для успокоения и ободрения унывающего (особенно здесь за границей) большинства. Этим неглижировать было бы величайшей политической ошибкой. И поэтому паки и паки настаиваю, чтобы тотчас после северной конференции бюро большинства (или ОК большинства комитетов) выпустило печатное заявление с ссылкой на согласие и прямое поручение комитетов Одесского, Екатеринославского, Николаевского, 4 кавказских, Рижского, СПБ., Московского, Тверского, Северного и т.д. (может быть, Тульского + Нижегородского), т.е. 12— 14 комитетов. Делу борьбы за съезд это не только не повредит, а громадно поможет. Ответьте мне немедленно, согласны ли или нет. Насчет земской кампании усиленно рекомендую издать в России немедленно и открыто (без глупого заголовка «для членов партии») и мою брошюру и письмо редакции «Искры». Может быть, напишу и еще брошюрку, но полемику с «Искрой» обязательно переиздать. Наконец, особенно важное и спешное: могу ли я подписать здешний манифест о новом органе именем организационного комитета комитетов большинства (или лучше Бюро Комитетов Большинства)? Могу ли я здесь выступать от имени бюро? назвать бюро издателем нового органа и устроителем редакционной группы? Это крайне и крайне необходимо и спешно. Отвечайте немедленно, повидавшись с Рядовым, которому скажите и повторите, что он должен ехать тотчас, немедленно, без отлагательства, если не хочет провалить себя и страшно повредить делу. Болтают невероятно везде за границей: я сам слышал, будучи на рефератах в Париже, Цюрихе и т.д. Последнее предостережение: либо удирать сюда тотчас, либо губить себя и на год отбрасывать назад все наше дело. Я здесь никаких ультиматумов о съезде никому предъявлять не берусь и не буду, ибо это вызовет лишь насмешки и издевки; ломать комедии незачем. Вдесятеро чище и лучше будет наша позиция, если мы открыто выступаем с бюро большинства и открыто выступаем за съезд, а не с какими-то закулисными глупенькими переговорами, которые в лучшем случае послужат только для проволочки дела и для новых интриг со стороны Глебовых, Конягиных, Никитичей и прочих гадов. Здесь все большинство мечется, мучается и жаждет органа, требует его повсюду. Издавать нельзя без прямого поручения бюро, а издавать надо. С деньгами принимаем все меры и надеемся достать: доставайте и вы. Ради бога, давайте скорее полномочие издавать от имени бюро и печатайте листок о нем в России".
Рахметов, Рядовой, Сысойка — это все псевдонимы Богданова, постороннему не понять, о ком идет речь.
Ленин высказывает недовольство, сердится, упрекает, но его откровенность нельзя не ценить.
Следует хорошо обо всем подумать.
Спустя четыре дня, 13 декабря, Землячка пишет ему пространный ответ:
"Ваше письмо от 3.XII и 10.XII я получила…
Разброд, который вы констатируете, сильно преувеличен. Мы расходимся в деталях.
Вы говорите: «поехали в Россию за деньгами и занялись черт знает чем…» Я не отношу эту фразу к себе. Неужели завоевание 15 комитетов — это черт знает что? Я спросила бы тогда, что вы сделали бы. без этих 15 комитетов? Повторяю, я не отношу эту фразу к себе. С первой минуты по приезде в Россию и до последней минуты (на конференции) северных комитетов я указывала на необходимость идейной подготовки к съезду, при развитии плана действий бюро и литературной группы на первый план выдвигая необходимость создать орган к съезду. К съезду я не стану относиться оптимистически до того момента, как нам удастся соединить действительно партию под одним идейным руководством. При объезде я очень энергично связывала с вами комитеты и частных лиц, всячески поясняя им необходимость посылки вам корреспонденции и возможно большего ознакомления вас с положением дел. Отсутствие живой переписки между вами и ими для меня необъяснимо. Чтобы закончить с этим, скажу вот что: 1) вопрос об органе являлся и является для меня вопросом наибольшей важности; 2) но предполагаю, что разделение труда необходимо (за 4 мес. мне пришлось почти одной вынести колоссальную работу, и естественно предположить, что одно физическое лицо не может разорваться на 10 частей), я взяла на себя ту часть работы по устройству органа, которую следовало выполнить при объезде комитетов: я готовила комитеты для поддержки органа (я просила бы вас просмотреть резолюции о литературной группе Ленина). Все остальное, я полагала, делалось вами. Больших денежных связей у меня сейчас нет. Всякие поступления по мелочам, денежные взносы я направляла к вам, о чем вам своевременно сообщала. Что касается комитетов, то они с ЦК порывают.
За исключением папаши, все мы, близкие друзья ваши, так смотрим на этот вопрос.
…Вы знаете, что я всегда отстаивала влияние заграницы на Россию (и в этом я солидарна со всеми близкими друзьями, в России сейчас живущими, за исключением папаши, с которым у нас вообще обнаружились некоторые разногласия). Но для проведения ваших планов (всегда ваших — моих), я буду всегда с вами, в этом пора уже перестать сомневаться. Но я прошу только об одном: посчитаться несколько с моим знанием русских комитетов…
Конференция северных комитетов предлагает кооптировать Алексея. Я считаю его одним из лучших кандидатов. Насколько успела узнать его (знаю его с марта), он вполне надежный человек. Но все же мало проверенный. Это меня несколько смущает, но я считаю необходимым на кооптацию его согласиться. Авдей, по всей видимости, провалился. Проверить это окончательно не удалось. Но мы мало сомневаемся в этом. Большая потеря! Освобождена Лиза, она совсем не в курсе дела и совсем одичала, но, несомненно, встанет на нашу позицию. Где Аркадий? Агитационную работу необходимо устроить (необходимо немедленно отправить в Саратов, Тулу, Урал — всюду просят). Могу только сама поехать, послать некого. Из кого устроить группу? Из имеющихся никто не подходит. Я умоляю всем святым для нас, чтобы Л-ов и Г-ов выезжали немедленно.
Тогда разделим работу, иначе я окончательно свалюсь. Теперь мне приходится выносить такую колоссальную работу, для которой не хватит никаких физических сил, несмотря ни на какой подъем нервов. Если Л-ов и Г-ов не выедут немедленно, вы рискуете очень многим. Я жду их во что бы то ни стало. Пусть займут денег: я верну немедленно. За границей им делать, на мой взгляд, нечего.
Уже несколько позднее из разных источников узнала, что сюда приехала для сбора денег на орган девица. Мне казалось невероятным, чтобы вы, прежде всего, не направили ее к нам. Вчера Мышь случайно узнала от Н.И., что ею получено письмо от вас, в котором вы уведомляете о выпуске первого No «Вперед». Письмо это она отказалась нам показать, заявив, что оно «лично» ей. Кроме того, она рассказала, что сюда приехало лицо для сбора денег на орган, что она его видала, познакомила его кое с кем. На вопрос Мыши, не свела ли она его с Землячкой, она ответила, что «они, верно, где-нибудь столкнутся». Я хотела бы избежать таких случайных столкновений. Я считаю этот факт присылки без уведомления нас бестактным. Вы не понимаете, в какое нелепое положение нас ставите. Если это желание действовать помимо нас явилось результатом вашего предположения о нашем неверном образе действий (вы думаете, что я и друзья агитировали здесь против органа), то я на это скажу, что считаю такую тактику в высшей степени вредной для дела. С другой стороны, заявляю вам, что при первом же требовании (как только пришлете Л. и Г.) я устраняюсь. Это тем более просто, что мне необходим хоть одномесячный отдых. Не дробите и так малые силы. Что касается Н.И., то о ней следующее: на днях ей был в комитете поставлен вопрос, пойдет ли она с нами на раскол, который является сейчас неизбежным, она ответила, что считает раскол вредным, и поэтому из комитета вышла. Поведение ее сейчас таково, что для нас стал несомненным ее переход к ЦК. Я нахожу в высшей степени бессмысленным адресование писем «лично» к ней. Я вошла неофициально в комитет, дела здесь крайне скверны".
Прямота и откровенность Ленина обязывают Землячку отвечать с такой же откровенностью и прямотой, она разговаривает с Лениным, как на духу, со всей искренностью высказывает свои обиды, свое негодование.
И в тот же день Ленин тоже отправляет Землячке письмо:
"13.XII.
Получили 2-ое письмо. 1-ое не дошло. Поздравляем с успешным началом похода на Букву и просим довести до конца. Орган налажен, думаем выпустить в январе. (Деньги нужны страшно. Примите немедленно все меры, чтобы выслать хоть 1-2 тысячи рублей, иначе мы висим в воздухе и действуем совсем на авось). Ответьте немедленно: 1) когда увидите Букву и когда надеетесь окончательно выяснить дело, 2) сколько именно в месяц обещал давать Буква? 3) говорили ли Вы Букве про Сысойку и что именно? 4) какой характер должно было иметь свидание Буквы с Чарушниковым (разговор ли с Сысойкой? общее знакомство? или передача суммы?)? состоялось ли это свидание и когда Вы узнаете про результаты?"
Не проходит недели, как Землячка посылает Ленину еще одно письмо, где лаконично сообщает о самых насущных делах.
"19.XII. Дорогие друзья! Мои письма вы получили. На днях виделась с Рахметовым. Оба мы требуем, чтобы Лядов и Гусев немедленно ехали сюда: они совершенно необходимы здесь. Я прошу их немедленно по получении этого письма выехать. Вы не представляете себе, каким -критическим является сейчас положение в России. Меньшинства наехало в Россию видимо-невидимо. ЦК-у удалось восстановить против нас многих. Нет сил для борьбы и закрепления позиций. Отовсюду требуют людей. Необходимо немедленно поехать по комитетам. Ехать некому. Я забросила бюро и ушла в местную работу, здесь дела из рук вон плохи… Нужны люди. Повсюду просят. Работать не с кем. Все переутомлены и разъехались на отдых: Мышь, Ирина, Бур (он едет к вам и все подробно расскажет вам).
Если немедленно не выедут Лядов и Гусев, мы потеряем, если не все, то многое. Всего лучшего. Пишите".
И спустя неделю посылает еще одно письмо, посвященное только делам, только делам…
Она вся под впечатлением встреч с Горьким — с Беллетристом, как называет она его в письме. Землячка ездила к нему в Сестрорецк. Не очень-то приятно просить денег, даже когда просишь не для себя, а для партии. Поэтому ехала она без большой охоты.
Зимою Сестрорецк мало оживлен — приморский курортный городок на берегу Финского залива. Широкие аллеи. Заснеженные сосны. Редкие прохожие. Зимняя тишина.
Она разыскала дом, еще из сада увидела в окне высокую сутуловатую фигуру Горького — он был предупрежден о приезде Землячки и, вероятно, ждал ее у окна.
Как только она вошла, от ее скованности не осталось следа.
В просторной комнате светло, солнечно, за стеклами искрятся сугробы, и сам Горький на редкость прост и как-то удивительно изнутри светел. Пряча под усами мягкую улыбку, он с интересом рассматривает свою гостью, о которой много и хорошо наслышан.
Серьезно и с полным доверием посвящает он Землячку в свои дела, передает деньги — и немалые деньги, потом принимается убеждать ее в том, что съезд партии нужно созывать в России, что Ленину необходимо вернуться на родину…
Обратно в Питер Землячка возвращалась в чудесном настроении, которое всегда остается после встречи с хорошим и умным человеком.
С таким же хорошим настроением писала она и свое письмо.
"26.XII. Дорогие друзья! Очень много беседовала в эти дни с нашим беллетристом, от которого получала деньги. Он окончательно перешел к нам и очень заботится о нашем благополучии. Он просит осведомить вас о следующем: 1) в прошлом году он вошел в соглашение с Парвусом, который взял на себя через посредство издательской фирмы Мархлевского издавать на немецком языке его произведения и ставить на берлинской сцене его пьесы. В течение года он должен был прислать беллетристу 50 000 марок. Денег этих беллетрист не получал, и когда потребовал отчет, то получил в высшей степени нелепые превратные отчеты. Объясняет он «отсутствием воли» и всякими другими глупостями. Беллетрист начинает против него процесс, просит осведомить об этом вас и через вас Германскую социал-демократию. В свою очередь, он напишет об этом Бебелю; 2) он настойчиво просит Старика переехать в Россию, берется самолично этим заняться. Просим ответить ему немедленно. Я нахожу очень важным, чтобы Старик ответил ему в форме личного письма; 3) он считает необходимым устроить съезд в России и берется устроить. Нужно, чтобы Старик завязал с ним личную переписку. Он заявил мне, что относится к нему как к единственному политическому вождю и это отношение я стараюсь здесь использовать. Укрепите это настроение личной перепиской с ним.
Ваши последние письма я получила и страшно обрадовалась им. Наконец-то радостное настроение и у вас наступило.
Дела у нас идут хорошо, побольше бы только людей для активной работы. Лучшие литературные силы и материальные средства мы оттянули у ЦК. Здесь дела в таком положении: меньшинство с разрешения ЦК устраивает собрание, и энергично, стараясь отобрать у нас связи. Сразу это удалось им, теперь связи возвращаются к нам. ЦК через организованное меньшинство передает литературу отколовшимся от нас районам. Сейчас здесь сил мало для взятия районов. Лучшие литературные силы Петербурга сосредоточены сейчас у нас. Техника крепко в наших руках. Наводним листками СПБург На днях удалось сманить к себе старого транспортера ЦК. Он многое внес нам по части транспорта и техники. Деньги тоже будут. Дайте встать на ноги. Скорее только людей! Здесь они необходимы. Вчера позвала Валентина в комитетское собрание для вручения ему резолюции о недоверии. Прижали его окончательно к стене. Плел по обыкновению чушь и разводил ее водой. По комитетам необходимо снова поехать, сделаем это по приезде Лядова и Гусева. Саратов, Тула и Урал просят приехать с документами. На Урал едет теперь один человек, с которым посылаю документы. Необходимо устроить поскорее конференцию восточных комитетов; сделаем это сейчас по приезде сюда людей. Всем вам мой горячий привет. М-цу мой привет. Ждем сюда подкрепления: из Нижнего, Северного и Риги приедут на днях лишние там люди. Освобождена Абсолют, со дня на день ждем освобождения Рубена".
В тот же день, 26 декабря, когда Землячка сообщала Ленину о встрече с Беллетристом, Ленин, в свою очередь, посылает Землячке хоть и деловое, но, можно сказать даже, ликующее письмо — со дня на день должен появиться на свет первый номер новой газеты большевиков.
"26.XII.04.
Дорогой друг! Получил Ваше полномочие. На днях выступаю печатно по Вашему делу. На днях получил также протоколы северной конференции. Ура! Вы работали великолепно, и Вас (вместе с папашей, мышью и другими) можно поздравить с громадным успехом. Такая конференция — труднейшее дело при русских условиях, удалась она, видимо, отлично. Значение ее громадно; как раз кстати приходится с нашим анонсом о нашей газете («Вперед»). Анонс вышел уже. Первый No выйдет в начале января нового стиля. Теперь задача такова: 1) как можно скорее выступить в России с печатным листком о Бюро Комитетов Большинства. Ради бога не откладывайте этого ни на неделю. Это важно черт знает как.
2) Объехать еще раз комитеты юга (и Волги) и усиленно преподать важность всякой поддержки «Впереда».
Транспорт будет, пока есть папаша. Пусть он примет энергичнейшие меры к передаче своего наследства на случай провала.
Рахметова высылайте скорее из опасных мест на место его назначения. Скорее!
Когда будут деньги, пошлем много людей.
О питерском позоре (срыв демонстрации меньшинством) печатаем в No 1 «Вперед».
Скорее извещение публичное о бюро и непременно с перечнем всех 13-ти комитетов. Скорее и скорее и скорее! Тогда и деньги будут.
Жму крепко руку всем друзьям.
Ваш Ленин"
Наступает 1905 год, насыщенный многими историческими событиями: падение Порт-Артура, окончание русско-японской войны, начало революции в России, расстрел рабочей демонстрации Девятого января, Третий съезд партии, нарастание революционного движения, возвращение в Россию Ленина…
Но все это — впереди, а пока что повседневная кропотливая работа по сплочению партии.
Землячка переутомилась, она чувствует, что ее покидают последние силы…
Новогодняя ночь. В квартире Савичевых оживление. Нина Васильевна и Леночка накрывают на стол. В передней раздеваются гости.
А Землячка лежит с мигренью, голова раскалывается; ей нет еще тридцати, а ощущение такое, будто она совсем уже состарилась.
До нее доносится смех. Леночка приоткрывает дверь.
— Надежда Яковлевна, мама и папа просят вас к столу.
— Не могу, Леночка, я что-то совсем расклеилась.
За ней приходит Нина Васильевна.
— Надежда Яковлевна, вы нас обижаете: новогодняя ночь, а вы одна.
— Право, нет сил.
Тогда приходит сам Петр Евгеньевич.
— Как хотите, хоть через силу…
Приходится идти, нельзя обидеть хозяев, чего доброго еще подумают, что капризничает.
К ней хорошо относятся в этой семье — приветливо встречают, усаживают рядом с хозяином, и усилием воли она пытается скрыть головную боль.
Петр Евгеньевич придвигает к ней бокал.
— Нет, нет, — решительно отказывается Землячка. — Ланинской воды, как детям.
Весь вечер она не подает вида, как ей трудно, разговаривает с соседями по столу, пытается даже шутить, расплачиваться придется после.
Утром она просит вызвать врача.
— Нервное истощение, — констатирует тот. — Полный покой, отказ от всякой работы…
В третий день нового года Землячка пишет Ленину короткое сообщение о делах, жалуется на плохое состояние здоровья и требует приезда Лядова.
Пишет она о себе в третьем лице — революционеры часто прибегали к такой форме в деловых письмах да и легче взывать к жалости, говоря о себе как бы со стороны.
"Дорогие друзья! Землячка просит сообщить вам, что резолюции конференции северных комитетов могут быть вам напечатаны, все, за исключением той, в которой говорится относительно бюро и реорганизации его в организационный комитет. Эта последняя резолюция по желанию конференции может быть опубликована (во «Вперед») только после печатного открытого выступления бюро, т.е. после 9-го января. Об этом выступлении будет вам в свое время сообщено. Далее Землячка настоятельно просит Русалку во что бы то ни стало и немедленно ехать в Петербург.
Пишущая это письмо прибавляет лично от себя, что здоровье Землячки внушает самые серьезные опасения, со дня на день можно ожидать, что она окончательно и надолго сляжет. Поймите же наконец, что вы совершаете преступление, рискуя не только ее здоровьем, но и жизнью, и это совсем не слова. Если Русалка сейчас же не приедет сюда и не снимет с Землячки большую часть ее работы, то это будет самой возмутительной и ничем не оправдываемой жестокостью. Из местных этой работы некому передать. Убедительно прошу отнестись к этому самым серьезным образом".
Ей становится все хуже.
Нарушая конспирацию, товарищи из Петербургского комитета приходят к ней на дом.
Землячка — член Бюро комитетов большинства и принадлежит к числу немногих работников партии, кто во всех подробностях осведомлен о ходе подготовки к съезду.
Сведения поступают тревожные, меньшевики укрепляют позиции, надо усилить борьбу…
Через три дня Землячка отправляет Ленину еще одно письмо. Она не скрывает своего отчаяния, жалуется, зовет, просит…
«Дорогие мои! Не могу не поделиться с вами своим ужасным настроением. Давно уже не переживала такого отчаяния. Мы рискуем потерять один город за другим благодаря отсутствию людей. Получаю ежедневно кучу писем из разных мест, умоляют прислать людей большевиков. Сейчас получила нелепое письмо из Екатеринослава, они пишут, что если не вышлем сейчас людей и денег, мы потеряем Екатеринослав. А людей нет: один за другим уходят на отдых, а новых не прибывает. Меньшевики между тем повсюду укрепили свои позиции. Их ничего не стоит согнать с их мест, были бы только люди. Бюро из себя представляет фикцию, поскольку все мы заняты местными делами (здесь их по горло и работа налаживается. Питер останется за нами). А тут еще хворость моя Уже третий день не могу подняться. Непосильная работа сказалась на этот раз, кажется, уже окончательно, и я навряд ли встану. Ради бога людей скорее. Русалку умоляю немедленно выехать. Она должна немедленно меня заменить. Мне приходится лежа и в полубессознательном состоянии отдавать распоряжения. Это, конечно, не работа. Да и этому каждую минуту может наступить конец. Горячий привет. Обнимаю вас всех».
Силы Землячки на пределе, со дня на день она может окончательно выйти из строя…
Ее знобит с утра.
Осторожный стук в дверь.
Леночка вернулась из гимназии и спешит узнать, не нужно ли ей чего.
— Спасибо, Леночка, мне ничего не нужно.
— Вам тут цветы принесли, Надежда Яковлевна!
— Какие цветы?
— Не знаю. Посыльный из магазина. С букетом.
— Хорошо, я сейчас встану.
Землячка накидывает халатик, выходит в переднюю.
Там полутемно, и, действительно, кто-то протягивает ей букет.
— От кого?
— Из магазина.
Боже мой, да это же Коля… Коля Андреев! Отличный паренек. Рабочий, сирота. Его отец работал на Путиловском заводе, а теперь он кормит мать. Он еще не состоит в партии, но это только дело времени. Выполняет он множество партийных поручений. Тщательно и осторожно. Его давно уже можно принять, но сам он застенчив, а те, кто его знает, не торопятся с оформлением.
Придется разобраться, что это за цветы.
— Зайдите ко мне…
Она пропускает посыльного к себе в комнату, кладет на стол цветы — золотистые и желтые хризантемы — и плотно закрывает дверь.
— Что это за цветы, Коля?
Она уже не чувствует недомогания, появление Коли означает какую-то опасность, и внутренне она сразу мобилизовалась.
— Что-нибудь случилось?
— Не знаю. — Коля пожал плечами — он и в самом деле ничего не знает. — Послали меня. Из комитета. Человек приехал. У него к вам поручение.
— А цветы при чем?
— Сказали — иди, да так, чтобы комар носа не подточил. Я посоветовался — под каким предлогом? Кто-то сказал: будто посыльный, купи цветов и дуй.
— А деньги откуда?
Коля даже обиделся:
— Я же зарабатываю!
Землячка улыбнулась цветам.
— Ну спасибо. Так кому я нужна?
— Приехал из Швейцарии и говорит, что у него к вам поручение.
Упоминание Швейцарии взволновало Землячку.
— Что за поручение?
— Говорит, скажет вам лично.
Из расспросов выяснилось, что человек этот социал-демократ, рижанин, в комитет явился, соблюдая все правила конспирации, пароль ему известен, лишних вопросов не задает; он назначил Землячке свидание завтра, в двенадцать.
— Где?
— У Казанского собора. Будет ждать у ограды.
— Не хватает только пойти в собор!
— А он так и сказал — в соборе всего безопаснее.
— А он что, знает меня?
— Должно быть, нет, велел сказать, что будет на нем картуз из серого каракуля, а через плечо бинокль.
— А как же он меня узнает?
— Вы подойдете к нему и спросите: «Это вы привезли мне духи из Парижа?», он ответит: «А какие духи вы ждете?», а вы скажете… — Коля запнулся. — Извините, названия не запомнил. — Он извлек из кармана клочок бумаги. — Я тут записал. «Виолет де парм», — четко прочел он. — Извините, не мог наизусть.
Удивительное дело: чувствовала она себя совсем больной, да не то что чувствовала, она действительно больна, но вот возникла необходимость встретиться с кем-то, и сразу она взяла себя в руки.
Она пришла на условленное место за полчаса — никогда она не пренебрегала мерами предосторожности. Прошлась, осмотрелась…
Господин в каракулевом картузе с биноклем появился ровно в двенадцать.
Землячка еще раз посмотрела во все стороны — как будто нигде никаких лишних глаз.
Подошла.
— Вы привезли мне духи из Парижа?
— А какие духи вы ждете?
— "Violette de Parme".
Он протягивает ей руку.
— Товарищ Землячка?
О том, что она Землячка, он не должен бы знать.
— Я вас слушаю, — уклончиво отвечает она.
— Биркманис, — представляется он и еще раз настойчиво спрашивает: — Товарищ Землячка?
— Допустим…
— Я бы хотел в этом убедиться.
А как убедить? Паспорт у нее на другое имя.
— Я затрудняюсь…
— Вам должны быть известны имена латвийских социал-демократов.
— Да, — соглашается она. — Егер. Берзиньш…
— Этого достаточно. — На губах Биркманиса вежливая улыбка. — Пройдемтесь.
Они медленно идут вдоль великолепной ограды, созданной знаменитым архитектором Воронихиным.
Биркманис сворачивает к собору, поднимается по ступенькам, снимает картуз, входит в храм.
Землячка вынуждена следовать за ним.
Пока все, что он сказал, вполне убедительно.
— Извините, что я вас задерживаю, — вежливо произносит Биркманис, — но подарок, который мне поручено вам передать, очень дорог…
И он подает Землячке… Да, духи, те самые духи, о которых она его только что спрашивала, — блещущий лаком футляр лиловой кожи, внутри на лиловом атласе лежит флакон дорогих парижских духов.
— Это очень хорошие духи, — говорит Биркманис. — Когда вы будете приходить домой, я вам советую немножко поднимать подкладку, там вы будете находить еще один сюрприз. А теперь я пойду, я сегодня же возвращаюсь в Ригу. Желаю успеха.
Он слегка кланяется и не спеша удаляется, будто они совсем незнакомы.
Землячка смотрит ему вслед.
Вроде бы никто не видел, как он передал ей этот парижский подарок.
И тоже не спеша — так надо, так полагается — возвращается к себе домой.
— Куда это вы ходили, Надежда Яковлевна, ведь вы больны? — с упреком спрашивает ее в передней Леночка.
— К врачу.
Она запирается у себя в комнате, кладет на стол коробочку, отставляет в сторону флакон, осматривает футляр. Атлас нигде не поврежден, все в полном порядке.
Однако у нее опыт по этой части. С помощью небольших ножничек для ногтей отдирает обтянутый атласом картон. А если содрать шелк с картона? И вот он — листок! Тот единственный листок, который — и настроение, и выздоровление, и вдохновение…
"Получил Ваше сердитое письмо и спешу ответить. Напрасно Вы обиделись. Если я ругался, то, ей-богу, любя и притом с оговоркой: если верны сведения Лядова. Вашу громадную работу по завоеванию 15 комитетов и организации трех конференций мы ценим чрезвычайно, как Вы видели из предыдущего письма по поводу северной конференции. Без Вас мы не делали и не делаем ни шагу. Поехавшая в Питер девица обещала использовать ее личные связи для добычи денег, а Н.И. мы писали для Вас, а вовсе не помимо Вас (надпись: «личное» делалась исключительно против врагов). Недоразумение насчет писем к Н.И. разъясним ей тотчас же. Н.И., конечно, к черту.
За присылку адресов комитетам большущее спасибо. Присылайте, пожалуйста, еще. Гусева отправили, Лядов едет, когда будут деньги.
Лядов немного неверно изложил дело об органе в России, и я прошу извинить меня, если погорячился и обидел Вас.
Насчет открытого выступления бюро не стану больше спорить. Две недели, конечно, пустяки. Поверьте, что считаться с мнением России я намерен вполне и во всем безусловно и прошу Вас об одном серьезно: извещайте меня, христа ради, почаще об этом мнении. Если я виноват, что поддаюсь настроению заграничных большевиков, то виноват без вины, ибо Россия дьявольски мало и редко пишет. Выбору северной конференции подчиняюсь вполне и, ей-богу, охотно. Старайтесь достать денег и напишите, что не сердитесь.
Весь ваш Ленин".
История сохранила пять писем Ленина, адресованных Землячке.
Все эти письма написаны в течение месяца и они — лучшее свидетельство тому, что Землячка находилась в самом центре борьбы за единство партии и созыв Третьего съезда.
Но помимо советов и указаний по работе в этих письмах проявилось и личное отношение Ленина к адресату. Как всегда, он все понял и все извинил — к товарищам по партии он относился с величайшим вниманием и добротой — он точно почувствовал, как нуждается в его поддержке Землячка.
Драгоценны все письма Ленина, но это — последнее — ей дороже всех остальных, тепло этого письма будет согревать Землячку в течение всей ее жизни.
Она снова ощущает прилив сил, она в строю, впереди борьба, не время поддаваться унынию.
Дорога в Лондон
Землячка никому не говорила, что съезд состоится в Лондоне; для конспирации везде называла Петербург.
Сложен был путь делегатов, непросто добирались они от одного условного места до другого. Большинство делегатов было уверено, что Петербург — конечная цель путешествия. Но, увы, это было только начало Им предстояло перейти границу и только в Берлине получить направление в Лондон.
Г.И.Крамольников рассказывает в своих записках, как он ехал на Третий съезд.
Он имел адрес, по которому следовало явиться в Петербурге: Николаевская улица, дом No 33, квартира зубного врача Лаврентьевой. Такова была явка для делегатов съезда.
Крамольников поднялся по лестнице, позвонил. Дверь, как потом выяснилось, открыла сама Лаврентьева.
— Мы объединяемся в партию, — произнес Крамольников.
Это был пароль.
— Долой бонапартизм, — ответила Лаврентьева, и это был отзыв.
После такого обмена условными фразами Лаврентьева впустила Крамольникова в переднюю и дала новый адрес: Малая Монетная, дом 9а, квартира Марии Петровны Голубевой.
Землячка упоминает ее в своих письмах.
В 1904 году Голубева работала в Организационном комитете по созыву Третьего съезда, а в октябрьские дни 1905 года в ее квартире находился штаб Петербургского комитета, хранились револьверы и бомбы. Позднее Мария Петровна руководила подпольной типографией.
Голубева приняла Крамольникова, но и это был далеко не конец, Крамольников получил еще один адрес.
Только на третьей квартире Крамольников нашел представителя БКБ и встретился там с делегатом Северного комитета Романовым.
Представитель Бюро выдал Крамольникову и Романову на дорогу семьдесят пять рублей и приказал ехать в Ригу, дал новую явку, где они должны были представиться некоему Папаше — Максиму Максимовичу Литвинову.
Литвинов, непревзойденный мастер конспирации, подробно разъяснил, как перебраться через границу.
Да, все было как в детективном романе: ночь, граница, контрабандисты…
— Только я вас очень прошу, товарищи, не портите мне границы, — предупредил их Литвинов. — Не переплачивайте лишних денег, через границу приходится переправлять десятки людей.
Крамольников обиделся, а Романов так даже рассердился:
— Мы же профессиональные революционеры, неужели не знаем цену партийным деньгам?
В ответ Литвинов рассмеялся:
— Не сердитесь на скромного «техника», я тоже забочусь о партийной кассе. Больше восьми рублей с человека мы не можем платить контрабандистам, иначе они совсем разорят ЦК.
Границу перешли ночью, очутились в Германии. Не так страшно, как казалось, но все-таки страшновато.
На границе получили новую явку — в Берлин.
Пароль для Берлина был ироничен:
— От русского папы Льва Тринадцатого.
Позже папу Льва Тринадцатого упомянул Ленин в своей работе «Две тактики социал-демократии в демократической революции». Этот папа, умерший в 1903 году, пытался использовать влияние католической церкви против социализма, и в целях борьбы с рабочим революционным движением поощрял создание католических профсоюзов.
И только из Берлина делегаты получали уже направление в Лондон.
Сама Землячка ехала в Лондон, минуя транзитные пункты: она входила в число тех работников партии, которым с самого начала было известно место проведения съезда.
Лондон был для нее обжитым уже городом, во второй раз она ехала туда так же уверенно, как ездила в Саратов или Баку, знала, где остановиться, где пообедать и как с наибольшим смыслом использовать выпавшее на ее долю свободное время. Она не нуждалась в гиде и за несколько свободных дней до открытия съезда успела побывать и в Британском музее, и в Национальной галерее.
Но едва съезд начался, как он поглотил все ее внимание.
Третий съезд открылся в Лондоне 12 апреля 1905 года. В нем участвовало тридцать восемь делегатов от двадцати одного комитета крупных промышленных центров России.
Это был съезд большинства, меньшевики отказались от участия в нем, поэтому на съезде не велось лишних споров и ненужных дискуссий.
И, пожалуй, съезд этот больше всего был дорог Землячке тем, что провозгласил курс на вооруженное восстание.
Ленин, живший долгое время вдали от России, ощущал нарастание революции с еще большей остротой, чем приехавшие из России товарищи. Он высмеивал боявшихся революции меньшевиков.
Землячка наслаждалась, слушая острые высказывания Ленина. У нее самой был острый ум, характеру ее была свойственна беспощадность, а выступления Ленина не оставляли места для компромиссов.
В эти дни отчетливо проявилась одна из характерных особенностей Землячки: она не стремилась на первые роли, с достоинством выполняя обязанности практика и организатора партийной работы.
За Лениным шел весь съезд.
Съезд рассмотрел коренные вопросы развития революции, определил насущные задачи пролетариата и принял революционные решения.
Две недели напряженной творческой работы!
На Третий съезд Землячку делегировал Петербургский комитет, и ей было с чем вернуться в Питер — голосуя за предложение Ленина, она выполняла волю пославшего ее питерского пролетариата.
Съезд принял ленинское определение движущих сил революции и определил стратегию и тактику партии.
«Долгая и упорная борьба за съезд в РСДРП наконец закончилась. Третий съезд состоялся… — писал Ленин в „Пролетарии“. — Россия приближается к развязке вековой борьбы всех прогрессивных народных сил против самодержавия. Никто уже не сомневается теперь в том, что самое энергичное участие в этой борьбе примет пролетариат и что именно его участие в борьбе решит исход революции в России».
СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ 1924 г.
Землячка за всю ночь не прилегла. В райкоме работали так, словно это не ночь, а день. Звонили по предприятиям, определяли порядок шествия.
Под утро привезли пакет. В нем лежали два пропуска на имя Землячки — «На право свободного прохода и проезда 23 января на Павелецкий вокзал» и «В поезд специального назначения» и еще несколько пропусков, подписанных Дзержинским; право вписать в них фамилии предоставлялось Землячке по своему усмотрению.
Поезд должен отправиться ровно в шесть…
До рассвета еще далеко, ночь еще стелется над Москвой. Тихо и в залах, и на перроне, вокзал полон людей, но разговаривают все вполголоса. На перроне выстроились курсанты, их ночью отобрали на Лефортовских военных курсах. Самых лучших.
Держится мороз, воздух бел от холода, курсанты стоят в парадном обмундировании, не шелохнутся.
Землячка прошла к поезду.
Громадный паровоз, окрашенный алой краской, стоит под парами, ждет назначенного часа.
Года еще не прошло, как железнодорожники своими силами отремонтировали этот паровоз. Выпущенный с Путиловского завода в 1910 году, он водил скорые поезда, и, как это часто случается, его заездили до последней степени, списали и загнали в тупик. А тут исполнялось шестилетие партийной организации дороги, и беспартийные рабочие решили в нерабочее время отремонтировать и подарить партии паровоз. Они так на нем и написали: «От беспартийных — коммунистам». Года еще не прошло, как на собрании в клубе «Красное знамя» рабочие сделали этот подарок коммунистам и тогда же избрали Ленина почетным машинистом.
Землячка поздоровалась с машинистом, медленно пошла вдоль поезда, вошла в вагон.
Тихо и сумрачно. В фонарях над дверями горят свечи. Все здесь ей хорошо знакомы. Товарищи по подполью, по фронту. Члены ЦК, наркомы…
Никто не разговаривает. Молчат, уставившись в пол окаменелыми взглядами.
Кто-то потеснился, освобождая ей место.
Вагон вздрогнул. Лязгнули буфера. Поезд тронулся. Мимо окон проплыли станционные фонари.
И снова ночь, темень, чернота. Молчание. Невыносимое молчание. Все думают об одном.
Вот и пришел час, когда приходится с ним проститься…
Замерзший полустанок среди бескрайней снежной равнины. Совсем еще темно, но в небе уже бегут белесые сполохи. Близок рассвет, и мороз перед рассветом становится все неистовее.
Поезд медленно подползает к дощатому перрону.
Платформа Герасимовская.
Приехавшие выходят из вагонов и медленно бредут через холодный станционный зал. Еще совсем темно. Ночь.
На площади перед станцией видимо-невидимо розвальней, в которые впряжены низкорослые лохматые лошаденки. Со всех окрестных деревень съехались крестьяне отвезти приезжих в Горки.
Кто забирается в сани, а кто пешком понуро бредет вслед за розвальнями.
Их много — тут и партийные работники, и делегаты съезда Советов, и ответственные сотрудники наркоматов.
Поскрипывают по снегу сани, стелется над дорогой поземка.
Землячка пытается идти широким размашистым солдатским шагом, но вскоре устает, сбивается с ритма и начинает по-женски быстро и часто переступать. Она не бывала в Горках и не знает, долго ли еще идти, а подсесть к кому-нибудь в сани не хочется, не хочет обнаружить перед людьми свою слабость.
Черная громада леса. Предрассветная тьма. Белесые сугробы по сторонам. Вот блеснул и пропал огонек ленинского дома. Сверкнуло и скрылось за поворотом. Опять сверкнуло…
Усадьба на лесистом холме. Обоз подползает к воротам. Окруженный забором парк, сторожевая будка, деревья.
Бесшумно, словно боясь кого-то разбудить, все заходят во двор.
Небо лиловеет, и точно сказочный дворец стоит среди серебряного леса высокий белый дом с колоннами.
Последняя обитель Ленина.
Легко отворяется застекленная дверь, и Землячка вместе с другими входит в дом. Веет домашним теплом, и не верится, не верится…
Просторный зал. Разрисованные морозом стекла. Еще не разобранная елка. В бусах, в свечах…
Еще совсем недавно он собрал из деревни ребятишек на елку и все просил взрослых не мешать им веселиться.
Круглая лестница наверх.
Никто не решается первым шагнуть на эти ступени… Все стоят в нерешительности. И не садится никто.
Стулья. Диваны… На них сидел Владимир Ильич. Столы. Столики… За ними работал. Кресло на колесах, в котором его возили. На стенах охотничьи ружья. Из которых стрелял…
Ковры стерегут тишину.
Как трудно подниматься по этой лестнице!
Шаг. Шаг. Еще шаг. Еще…
Полутемная проходная. На диване неподвижная Надежда Константиновна. Как резки запавшие черты ее лица!
Крупская молчит. И Землячка молчит. Здесь невозможны слова. Она молча пожимает Надежде Константиновне руку, и та отвечает ей слабым движением.
К Крупской подходит какой-то рабочий. Землячка знает его, но не может вспомнить фамилии. Один из тех, с кем не раз беседовал Ленин, один из тех, кто составляет костяк партии. Говорит Надежде Константиновне соболезнующие слова. И она отвечает. Просто, вежливо, внятно, короткими словами.
В углу дивана кто-то кутается в пальто. Глаза покраснели, опухли от слез…
Никто не решается сразу пройти дальше. Туда, где…
Вот он. В суконной темно-зеленой тужурке. Совсем не изменился. Лицо спокойно. Верхняя губа со щетинкой усов чуть приподнята. Вот-вот улыбнется. Это непередаваемое выражение его лица, понятное лишь тем, кто сам видел его детски лукавую усмешку! Кажется, он сейчас встанет.
Молча стоят соратники Ленина.
И снова собрались все внизу. Уместились на диванчиках, в креслах. Кутаются в шинели, пальто. Всё люди в возрасте. Стискивают пальцы рук и, перебивая друг друга, вспоминают то одну, то другую подробность, относящуюся к их встречам с Лениным. Это все очень важные люди в Правительстве, руководители больших государственных учреждений. Но сейчас они рассказывают друг другу о каких-то трепетно живых пустяках. О ленинских шутках. О его жизнерадостности. О переписке с ним. О его шахматном самолюбии…
То входит, то выходит Мария Ильинична. Надежда Константиновна — та все сидит наверху, неподалеку от Ленина. А Мария Ильинична все ходит, ходит. Ходит прямой, твердой походкой по этажам и комнатам осиротевшего дома.
Рассвело. Давно уже рассвело. Зимний морозный день. Солнце искрится сквозь заиндевелые окна. Снаружи доносится слабый гул человеческих голосов.
— Пора!
Ленин отправляется в свой последний путь.
Светло и тихо.
Красный гроб плывет по лестнице.
1924 год. 23 января. 10 часов утра.
Гроб с телом Ленина выносят из дома.
Выносят, опускают на землю.
Весь двор запружен народом. Запружен двор, запружена дорога, сотни людей стоят у обочин вдоль леса, черной лентой растянулись люди по всему пути от усадьбы до полустанка.
Нет никого, кто не ощущает беспредельности потери. Все окрестные деревни пришли сюда. Мужики, бабы, дети, старики, старухи…
Гроб стоит на земле.
Минута невыразимой тоски.
Падают с неба пушистые снежинки. Падают на открытый лоб Ильича, на тужурку. Голова Ленина покоится на небольшой красной подушке.
Надо закрывать гроб.
Еще минута…
Гроб накрывают стеклянной крышкой.
Из глубины двора доносится одинокое женское рыдание. И как-то легче становится от мысли, что можно заплакать.
И вдруг Землячка замечает, что у нее самой катятся по лицу слезы. Она судорожно перебирает пальцами в кармане, находит крохотный кружевной платочек, подносит к глазам.
Нельзя плакать. Нельзя плакать. Спокойствие. Но слезы катятся сами собой. Спокойствие, спокойствие.
Гроб поднимают на руки, несут.
Последний путь…
Путь в вечность.
Нестройной группой движется когорта большевиков по лесной аллее. Толпа крестьян теснит ее по бокам.
Идти трудно, тесно. Толпа теснит. Всем хочется заглянуть в лицо Ленину, проститься. Кто-то вскрикивает.
Только Надежда Константиновна не плачет, окаменела в своем горе.
Вот она, последняя дорога Ленина… Вот она, широкая проселочная дорога, тянущаяся через бесконечное снежное поле. Поле, поле, бескрайнее снежное поле, бескрайняя снежная скатерть…
Впереди старик в рыжем армяке едет в розвальнях, устилает дорогу еловыми ветками.
Повсюду толпы крестьян. Опираются на палки старики. Стоят, провожают Ленина взглядами. Женщины плачут. Впрочем, плачут не одни женщины. Повсюду снуют ребятишки, забегают вперед, кулаками вытирают глаза. И никто не крестится. Знают, не верил Ленин в бога, и пусть уж все будет по-ленински. Это тоже дань уважения — во всем быть с ним согласными.
Россия провожает вождя международной и русской революции! До чего же чувствуется над этой снежной пустыней ее тысячеверстный размах, ее суровая стихия…
Иногда от толпы отделяются несколько человек, приближаются к гробу, в руках у них венки из сосновых ветвей. Первые венки на гроб Ленина. Потом их будет много, бесконечное множество. Из багровых роз, из пальмовых ветвей, из белых лилий и лавра, но эти лесные венки навсегда останутся в памяти тех, кто провожал Ленина по заснеженной подмосковной дороге.
Медленно шагают большевики, несут свое горе…
Желтеет вдали домик станции.
Вот и конец пути. Сейчас гроб с Лениным поставят в вагон, поезд двинется…
Остановки в Расторгуеве и Бирюлеве. Траурные митинги.
Поезд прибывает на Павелецкий вокзал в час дня. Под звуки траурного марша из вагона выносят гроб. Траурный кортеж направляется на вокзальную площадь.
Соратники Ленина на руках несут гроб, проходят мимо приготовленного лафета и направляются к Зацепскому валу.
Впереди гроба — знамена, оркестр, позади — Надежда Константиновна и Мария Ильинична, почетный караул, члены ЦК, воинские части, делегации заводов и фабрик, колонны районных организаций.
Пятницкая. Чугунный мост. «Балчуг».
Процессия подходит к Москворецкому мосту. Раздается шум пропеллеров, низко пролетает эскадрилья самолетов, над головами парят сброшенные с самолетов листовки.
Те же листовки глядят со всех стен.
Обращение ЦК. К партии. Ко всем трудящимся.
1905-1908 гг.
Восстание
В ноябре 1905 года Владимир Ильич Ленин приехал из-за границы в Петербург.
В революционных кругах быстро распространилась весть: Ленин в России!
В одних эта весть вселяла надежду, веру, бодрость, других смущала, пугала…
К этому времени Ленин стал признанным вождем революционных марксистов, руководителем партии русского революционного пролетариата.
Россия находилась в состоянии революционного брожения, и как только обстоятельства потребовали присутствия Ленина на родине, он поторопился домой.
В Москве революционная ситуация назревала с каждым днем. Землячка находилась в самой гуще событий. В этот тревожный незабываемый год она была секретарем Московского комитета партии.
Само присутствие Ленина в России стало уже огромной поддержкой; сознание, что он рядом, вселяло в большевиков уверенность в своих силах.
Через несколько дней после приезда Ленина в Петербург, оттуда вернулся в Москву Мартын Николаевич Лядов, один из руководителей Московского комитета.
Встретились Землячка с Лядовым на одной из конспиративных квартир, у знакомого врача. За стеной шумели дети, кто-то бренчал на пианино, врач принимал очередного пациента, а двое посетителей — господин в пенсне, с бородкой, чем-то похожий на Чехова, и весьма строгого вида дама — обсуждали в гостиной возможности вооруженного восстания.
— Ну как?
— Виделся. Разговаривал. Просил передать вам привет.
— Когда? Где? Что говорит?
Законные были вопросы — Московский комитет нуждался в ленинских указаниях, а Землячка была секретарем комитета.
— Владимир Ильич сразу, в день приезда, встретился со мной, Красиным и двумя товарищами. На одной из тех квартир, откуда начинался путь в Лондон для делегатов Третьего съезда!
— А «Мадонна» по-прежнему украшает столовую?
Собеседники улыбнулись: в течение нескольких лет литография со знаменитой картины Мурильо «Мадонна с младенцем» служила для перевозки «Искры» в Россию; между картиной и картоном отлично умещалось несколько экземпляров напечатанной на тонкой бумаге «Искры».
— Привез небольшой презент…
Лядов подал Землячке пачку газет.
— "Новая жизнь". Две части его статьи «О реорганизации партии». От десятого и от пятнадцатого ноября. Будет еще третья.
Землячка тут же принялась читать — ведь это были первые ленинские статьи, написанные им по приезде.
— Ну, что?
— Все правильно, — тоном победительницы отозвалась Землячка. — Наша партия застоялась в подполье… Хотя… — Она вернулась к началу статьи. — Хотя… конспиративный аппарат партии должен быть сохранен!
То, о чем писал Ленин, было до очевидности ясно, опять он с обычными лаконизмом и выразительностью определял тактику партии.
Землячка начала читать вторую часть статьи.
Неожиданно она засмеялась.
Лядов удивленно спросил:
— Чему это вы?
— А как же! — Землячка прочла: — «…пора позаботиться также о том, чтобы создавать местные хозяйственные, так сказать, опорные пункты рабочих социал-демократических организаций в виде содержимых членами партии столовых, чайных, пивных, библиотек, читален, тиров…»
— Что же тут смешного? — заинтересовался Лядов.
— А вы обратили внимание на примечание к этому слову?
— Обратил. Но…
— Ленин, изволите ли видеть, не знает тождественного слова в русском языке и делает следующую сноску… — Она опять прочла: «Я не знаю соответственного русского слова и называю „тиром“ помещение для стрельбы в цель, где есть запас всякого оружия, и всякий желающий за маленькую плату приходит и стреляет в цель из револьверов и ружей. В России объявлена свобода собраний и союзов. Граждане вправе собраться и для ученья стрельбе, опасности от этого никому быть не может. В любом европейском большом городе вы встретите открытые для всех тиры — в подвальных квартирах, иногда за городом и т.п. А рабочим учиться стрелять, учиться обращаться с оружием весьма-весьма не лишне. Разумеется, серьезно и широко взяться за это дело мы сможем лишь тогда, когда будет обеспечена свобода союзов и можно будет тягать к суду полицейских негодяев, которые посмели бы закрывать такие учреждения».
— И все-таки не понимаю, почему это вызывает у вас смех?
— Но ведь это инструкция, инструкция! — возбужденно воскликнула Землячка. — В легальной газете! И радуюсь я тому, что мы этой инструкции уже следуем. В подвалах Высшего технического училища который день студенты и рабочие обучаются стрельбе. Устроены настоящие тиры. Висят зайцы, утки, прочие мишени.
Теперь улыбнулся и Лядов.
— В таком случае — поздравляю.
Они опять заговорили о вооруженном восстании и предстоящей конференции московских большевиков, созываемой в училище Фидлера.
С этой встречи началась деятельная подготовка и к конференции, и к восстанию — присутствие Ленина в России вдохновляло большевиков.
Конференция не обманула их надежд.
«Объявить в Москве со среды 7 декабря, с 12 часов дня, всеобщую политическую стачку и стремиться перевести ее в вооруженное восстание…» — решили московские большевики.
В «пятерку» по руководству восстанием вошли Землячка и Лядов, требовалось оправдать доверие и рабочих и Ленина, от слов пора было переходить к делу.
Восстание захватывало всю пролетарскую Москву. То тут, то там вспыхивали митинги.
В одной из аудиторий Высшего технического училища рабочие и студенты собрались обсудить вопрос о вооруженной борьбе.
В целях конспирации собрание велось при одной стеариновой свече.
Выступала Землячка:
— Рабочим учиться стрелять, учиться обращаться с оружием весьма-весьма нелишне…
Внезапно в аудитории появились казачий офицер и солдаты.
— Разрешите вас пригласить…
Свеча тут же погасла!
Расходились в темноте.
С митингов рабочие шли на баррикады.
Пресня. Шаболовка. Рогожская застава.
Землячке некогда было вздохнуть. Она писала листовки, следила за их печатанием, снабжала рабочих оружием, появлялась на баррикадах, участвовала в уличных боях.
На улицах Москвы были воздвигнуты тысячи баррикад.
Самоотверженно сражались московские рабочие, но опыта вооруженной борьбы не было, оружия не хватало, связь с войсками была недостаточна…
А капитулянтская позиция меньшевиков и эсеров способствовала поражению.
18 декабря Московский комитет призвал рабочих прекратить вооруженную борьбу.
«Геройский пролетариат Москвы показал возможность активной борьбы и втянул в нее массу таких слоев городского населения, которые до сих пор считались политически равнодушными, если не реакционными. А московские события были лишь одним из самых рельефных выражений „течения“, прорвавшегося во всех концах России. Новая форма выступления стояла перед такими гигантскими задачами, которые, разумеется, не могли быть решены сразу. Но эти задачи поставлены теперь перед всем народом ясно и отчетливо, движение поднято выше, уплотнено, закалено. Этого приобретения ничто не в силах отнять у революции».
Арест
Она торопится к дантисту, и ей в самом деле начинает казаться, что у нее болит зуб…
Вот она входит в знакомый Кисловский переулок. Никто не идет за ней? Останавливается. Оглядывается. Никого. Да, собственно говоря, чем она может привлечь к себе внимание? Она же идет к дантисту.
Знакомое парадное. Открывает дверь, входит и тут же отступает в сторону. Ждет. Нет, никого. Медленно поднимается на третий этаж. «Зубной врач Калантарова». Нажимает кнопку звонка. Дверь распахивается. Горничная ее узнает — она бывала тут не один раз.
— Пожалуйте.
Навстречу ей из приемной выходит одна из пациенток Калантаровой.
Очень хорошенькая эта пациентка — черные вьющиеся волосы, задорное личико.
— Ждем только вас, Розалия Самойловна, — говорит она. — Все собрались.
— А вы куда, Ольга Сергеевна? — осведомляется пришедшая.
На самом деле Ольгу Сергеевну зовут Елизаветой Абрамовной Леви. Землячка знает ее настоящее имя. Но хозяйка квартиры Калантарова знает ее как Ольгу Сергеевну, да и не все участники военной организации знают настоящее имя Лизочки Леви.
— За документами, — объясняет Ольга Сергеевна. — Не рискнула сразу захватить. Мало ли что. Списки сочувствующих офицеров, расположение воинских частей…
Лизочка Леви — секретарь военной организации. Осторожна и предусмотрительна. Уже несколько раз удавалось ей избежать неминуемых, казалось бы, провалов.
Землячка входит в приемную.
Стулья, обитые зеленым плюшем, круглый стол под зеленой плюшевой скатертью, на столе журналы, чтоб пациентам не было скучно.
И вот они, пациенты Калантаровой! Емельян Михайлович Ярославский. Сергей Сергеевич Дрейер. Впрочем, здесь его зовут Семеном Семеновичем. Костин, рабочий Курских железнодорожных мастерских. Штабс-капитан Клопов… Руководители военной организации большевиков.
Сразу же после Декабрьского восстания Московский комитет создал военную организацию. Опыт первой русской революции показал, к чему может привести недооценка армии. Для ведения революционной работы среди солдат и офицеров выделяют самых надежных пропагандистов, и в их числе Землячку и Ярославского.
— А мы уж беспокоились, что вас долго нет, — обращается Ярославский к Землячке. — Вот Клопов рассказывает, уходят солдаты из-под влияния эсеров…
Землячка согласно кивает в ответ, в этом тоже ее заслуга — она часто встречается с солдатами из различных частей Московского гарнизона. Опытный пропагандист, она изо дня в день втолковывает солдатам, что террором революции не сделаешь, армия, не опирающаяся на народ, — слабая сила, истреблением отдельных представителей царского правительства ничего не добьешься, нужно изменить социальный строй.
— Все в сборе, — продолжает Ярославский. — Конференцию военной организации считаю открытой. Обменяемся пока мнениями о том, как углубить нашу работу среди солдат, а тем временем Ольга Сергеевна принесет списки участников…
Но тут в передней новый звонок.
— Кто бы это? — удивляется Ярославский. — Не могла Ольга Сергеевна так быстро обернуться!
Торопливо пробежала через гостиную горничная.
Костин прислушался.
В передней кто-то переговаривался.
— Кого еще там принесла нелегкая? Неужто в самом деле какой-то страждущий?
Клопов и Ярославский схватили со стола журналы, Костин прижал руку к щеке, Дрейер со скучающим лицом подошел к окну.
Конференция сразу превратилась в сборище незнакомых друг с другом пациентов.
— Как долго, — недовольно заметил Дрейер, имея в виду горничную.
Вероятно, ей не удавалось выпроводить непрошеного посетителя.
Но оказался он, увы, совсем не тем лицом, которое можно выпроводить.
Дверь отворилась, и перед участниками конференции предстал… жандармский ротмистр.
— Господа, вынужден прервать вашу беседу, — не без иронии объявил он. — Прошу всех оставаться на своих местах.
Из кабинета выглянула Калантарова, выразила на своем лице удивление.
— Господин офицер… Что это значит?
— Ничего такого, сударыня, — не без галантности ответил ротмистр, — что могло бы вас удивить. — Он театрально развел руками. — Господин Ярославский вот уже несколько дней пользуется нашим неотступным вниманием… — Не поворачивая головы, он крикнул: — Заходите!
Жандармы появились тотчас же. По всей видимости, они ожидали сопротивления, поэтому их было более чем достаточно.
— Сударыня… — Ротмистр щелкнул шпорами перед Землячкой. — Если не ошибаюсь, госпожа Берлин?
— Ошибаетесь, — холодно возразила Землячка. — Я лечусь здесь, и фамилия моя вовсе не Берлин.
— Простите, тогда, может быть, вы назовете себя?
— Я не обязана называться, но если вы интересуетесь — Осмоловская.
— Отлично, госпожа Осмоловская, — весело сказал ротмистр. — Мы разберемся в этом, но пока что попрошу следовать с нами, в тюрьме, я надеюсь, вы вспомните свою настоящую фамилию.
Опять не глядя на своих помощников, приказал:
— Проводите эту даму.
Ротмистр улыбнулся, он был в отличном настроении.
— А этих господ придется обыскать, — сказал он, кивая на мужчин.
Землячка пошла к выходу. Не спеша надела в передней пальто, посмотрелась в зеркало, спустилась в сопровождении двух жандармов по лестнице. У парадного их ждала полицейская карета, впрочем, перед домом стояла не одна, а целых три кареты. Землячка посмотрела вдоль переулка — по противоположной стороне неторопливо шла Лизочка Леви.
«Как удачно, что она задержалась, — подумала Землячка — Появись жандармы получасом позже, какие ценные документы попали бы к ним в руки!»
— Пожалуйте, — поторопил ее один из жандармов.
Землячка стала на подножку кареты, жандарм вежливо ее подсадил, дверца захлопнулась, солдат на козлах крикнул, лошади понеслись, и карета промчалась мимо Лизочки, старавшейся не спешить, чтоб не привлечь к себе внимания.
Полиция
Сущевская полицейская часть.
— Выходите!
Она выходит из кареты и останавливается перед тяжелой дверью.
Ее вводят через караульное помещение во двор.
В глубине — тюремный корпус с зарешеченными окнами. Узкий темный коридор, обитая железом дверь с глазком для наблюдения.
Дежурный надзиратель отпирает замок.
— Прошу.
В камере какая-то женщина…
Обычная тюремная камера. Голые стены, сводчатый потолок, окно с решеткой, пол из каменных плит, две железные койки.
Землячка входит, и дверь захлопывается.
Кого послала ей судьба делить одиночество? Боже мой, да ведь она ее знает! Это Генкина, мать Ольги Генкиной, зверски убитой в прошлом году черносотенцами в Иваново-Вознесенске.
Землячка встречалась и с Ольгой и с ее матерью. Ольга была невестой Ярославского, они собирались пожениться — и вдруг такая страшная, такая безжалостная смерть…
Мать Ольги не была ни членом партии, ни революционеркой, не очень-то разбиралась в революционных делах, просто была матерью своей дочери. Но после гибели Ольги сказала, что будет помогать революционерам. В память дочери. Не позволила горю сломить себя. «Я ничего не понимаю в ваших теориях, — говорила она, — но я буду помогать товарищам моей дочери всем, чем смогу». И она действительно оказывала революционерам множество услуг: налаживала явки, носила передачи, доставала деньги.
Землячка подошла к ней.
— Розочка!
— Т-с-с… — Землячка отрицательно помотала головой. — Не называйте меня.
— Когда? — спросила Генкина.
— Только что.
— Что-нибудь серьезное?
— Да.
Генкина прижала к себе Землячку.
— А вас за что? — спросила она Генкину.
— Да ни за что, — ответила та. — Взяли у меня на квартире одного человека, я сказала, что даже не знаю его. Выпустят через несколько дней.
Они заговорили о тюрьме. Пожилая добрая женщина, не искушенная в революционных делах, и профессиональная революционерка, не имеющая права говорить о своей работе.
Землячка расспрашивала свою соседку по камере о порядках, установленных в Сущевской части, о надзирателях, о передачах.
— А какой здесь врач? — поинтересовалась Землячка.
— Приличный человек, — сказала Генкина. — До ареста я передавала сюда через него письма.
К помощи врачей Землячка прибегала в затруднительных случаях не один раз; большей частью это оказывались порядочные люди, по характеру своей профессии они видят немало человеческого горя и неплохо разбираются, кто прав и кто не прав в этом мире, — поэтому-то для нее так важен был ответ Генкиной.
Она и вправду чувствовала, что ее лихорадит. Быть может, тому виной ее нервное состояние, а быть может, снова давал себя знать туберкулез, который она нажила еще в Киевской тюрьме.
Она подошла к двери, постучала, глазок тут же приоткрылся.
— Вам чего?
— Доктора, — попросила Землячка. — Голова болит, кашляю, простудилась.
В Сущевской части содержались только подследственные, поэтому режим в ней был мягче и к просьбам заключенных относились снисходительнее, чем в обычных тюрьмах.
Надзиратель загромыхал замком, приоткрыл дверь.
— Это вам доктора?
— Мне.
— Можно, — сказал надзиратель. — Они у нас тут же при части во дворе квартируют. Иногда к нам очень даже приличных господ привозят…
Он бросил пытливый взгляд на Землячку, покачал головой и опять загромыхал замком.
Врач не заставил себя ждать. Это был сухонький старичок, привыкший за время своей службы при полиции ко всяким оказиям.
— Чем могу служить?
— Боюсь, обострился туберкулезный процесс, — пожаловалась Землячка. — Нельзя ли пригласить ко мне моего врача, я оплачу визит…
В те времена дамы были стеснительны сверх меры, многие из них стеснялись раздеваться перед врачами-мужчинами, врачи нередко осматривали своих пациенток в присутствии мужей и выслушивали через рубашку, так что просьба Землячки прозвучала вполне естественно.
Перед доктором находилась очень приличная дама, она не просила его ни о чем предосудительном.
— Какого же врача вы желаете?
— Марию Николаевну Успенскую.
Землячка назвала не того врача, какой ей был нужен, она действовала осмотрительно. Мария Николаевна Успенская достаточно известный врач и добрый человек. Она не связана с большевиками, и репутация ее безупречна. Должна быть безупречна с точки зрения полиции. Раз или два Землячка встречалась с ней и могла рассчитывать, что та выполнит просьбу.
Успенская появилась под вечер в сопровождении полицейского врача, и тот, не желая стеснять даму при осмотре, деликатно остался в коридоре.
Успенская помнила Землячку в лицо — ее запоминали все, кто с нею встречался, — хотя вряд ли помнила фамилию, под которой Землячка была ей представлена.
Она напрягла память.
— Мы с вами встречались…
— Совершенно верно, у Лидии Михайловны.
— Я могу быть вам чем-нибудь полезна?
— Иначе я не стала бы вас беспокоить.
— Вы больны? Или у вас… еще что-нибудь?
— Вы не ошиблись, я хочу попросить вас сегодня же отыскать Лидию Михайловну и передать, чтобы она завтра повидалась со мной.
Лидия Михайловна Катенина тоже врач, но кроме того она личный друг Землячки, член партии.
Успенская больше не расспрашивала, она догадывалась, что Катенина связана с революционным движением.
Выслушала больную, выстукала, выписала рецепты, отдала их полицейскому врачу, ушла…
Весь вечер Генкина рассказывала Землячке о своей Оле, интересовалась Ярославским — не слышала ли чего Землячка о нем, где он сейчас, что с ним.
Землячка призналась, что была арестована вместе с Ярославским.
Генкина взволновалась.
— Так он, вероятно, тоже здесь?
— Вероятно.
— А вы умеете перестукиваться?
Землячка научилась перестукиваться еще в Киевской тюрьме, но, увы, одна стена молчала, а с другой стороны ответили бессмысленным непонятным стуком. Приходилось придумывать что-то другое.
Поздно вечером Землячку вызвали на допрос. Допрашивал все тот же жандармский ротмистр, который арестовал ее.
— Советую не отягощать своего положения бессмысленным запирательством, — начал он допрос стереотипной фразой. — Нам все известно. Известно, что вы являетесь одним из руководителей военной большевистской организации, известно, что в квартире Калантаровой была назначена конференция…
Да, он знал многое, без провокатора тут дело не обошлось, но Землячка решила ни в чем не сознаваться, не выдавать ни себя, ни товарищей.
— Госпожа Берлин, ведь нам все известно!
— Но я не Берлин, а Осмоловская.
— Смешно!
Ротмистр извлек из стола фотографию.
— Вот снимок, поступивший к нам из Киевского охранного отделения.
Да, это ее снимок, трудно отрицать очевидное, но она отрицает, чувство юмора не покидало ее никогда.
— Случайное сходство.
— До такой степени?
— Вы видели снимки Собинова?
— Артиста?
— Так вот, к примеру, вы и Собинов — совершеннейшие двойники.
Ротмистр польщен, он не так красив, как Собинов, но оспаривать это утверждение не хочет.
— Вы можете упорствовать, госпожа Берлин, но скамьи подсудимых по делу военной организации вам не избежать.
Это первый, предварительный, поверхностный допрос, настоящие допросы начнутся после перевода в тюрьму.
Ночью Землячка раздумывала о том, что им, арестованным большевикам, предпринять. Бежать! Связаться с другими арестованными и бежать!
За себя она не боялась, она слова ни о чем не проронит, ее больше тревожит судьба товарищей. После разгрома Декабрьского восстания каждый человек на счету, и еще больше ее тревожит судьба военной организации. Начнутся допросы, примутся копаться во всех подробностях, доберутся до солдат, с таким трудом вовлеченных в движение, до офицеров…
Под утро она попыталась заснуть, чувство самодисциплины развивалось у нее год от году, оно присуще профессиональным революционерам: надо есть, спать, избегать болезней, чтобы сохранить силы, всегда быть готовым к борьбе.
Ее разбудила Генкина.
— Розочка, у вас есть рубль?
Только что принесли чаю и хлеба, и надзиратель распахнул дверь, чтобы проветрить камеру.
Фамилия его Овчинников, по словам Генкиной, он один из самых добродушных надзирателей.
Рубль сослужил свою службу. Да, шестерых мужчин привезли в часть вскоре после появления Землячки, они помещены вместе в угловой камере, им можно отнести записку и передать от них ответ. Землячка набросала несколько строк и уже через четверть часа получила ответ Ярославского.
Минут через двадцать надзиратель пришел за Землячкой.
— Что ж вы не сказали, барышня, что там ваш жених? Выходите. Выпущу его на минуту в коридор, будто веду в туалет.
Умению за две-три минуты сказать самое существенное, не тратить времени на пустые слова, ее тоже научил тюремный опыт. Она не знала, кто назвался ее женихом, но им оказался Ярославский. Бежать? Да, бежать. Обязательно до того, как их переведут в тюрьму. Надо обеспечить себе помощь с воли. Достать денег…
Надзиратель подошел к ним.
— Пора. Вот-вот появится начальство. — Он деликатно отвернулся. — Да поцелуйтесь, я не буду смотреть…
Но они так и не поцеловались.
Побег
Теперь следовало ждать появления Катениной — в том, что Успенская ее разыщет, Землячка не сомневалась, а уж Катенина наверняка что-нибудь да предпримет.
Около полудня Генкину и Землячку повели на прогулку.
Двор, просторный и скучный, тянулся куда-то в глубину — там стояли флигели, где квартировали служащие полицейского участка.
У входа в караульное помещение сидел городовой. Надзиратель вывел своих подопечных и тоже подсел к городовому. По двору сновали служащие.
— Разговаривать запрещается, — сказал надзиратель. — Вы гуляйте, гуляйте.
Землячка медленно прохаживалась вдоль стены по двору, вымощенному каменными плитами. Так она ходила минут десять, когда из караулки окликнули городового, тот подошел к двери, кто-то что-то ему сказал — и вдруг из-за двери показалась Катенина.
— К вам с передачей, — позвал городовой Землячку.
Милая Лидия Михайловна!
— Я тут принесла тебе котлет, печенья, — быстро произнесла Катенина, обращаясь к Землячке на «ты», хотя в обычной жизни они обращались друг к другу на «вы». — Может быть, тебе нужно что-нибудь из белья? — Она оглянулась на городового. — Ты знаешь, у меня такие неприятности с мужем… — Это уже специально для городового. — Он меня так ревнует…
Она понизила голос, повлекла Землячку в сторону — случайные слушатели должны думать, что далее последует рассказ о каких-то интимных делах.
Они стояли в стороне, и Катенина возбужденно и непрерывно что-то говорила и говорила, сама не слушая себя, а Землячка шепотом, как бы утешая Катенину, давала ей свои указания:
— Мы должны бежать. В самые ближайшие дни. Пока нас не перевели в тюрьму. Нужны деньги, пилки, план окружающей местности. Надо подготовить надежные квартиры. Для меня принесите платье. Понаряднее. Шляпу, вуаль, перчатки. Полагаюсь на вас, Лидия Михайловна. Вы сумеете это организовать.
— Да, да, да, я ему все скажу, — отвечала Катенина, время от времени повышая голос, чтобы ее слышали во дворе. — Он не посмеет… Эти безумные подозрения…
Все шло как нельзя лучше, приятельницы расстались, вполне довольные друг другом, как, впрочем, довольны были и городовой, и надзиратель, получившие свои чаевые.
Землячка знала — на Лидию Михайловну можно положиться, она верный член партии.
Землячка трудно сходилась с людьми, не заводила с ними личных отношений — дело, дело, она признавала лишь деловые связи — Катенина одна из немногих, для кого открыто сердце Землячки, и Катенина знала, какое это сердце, и не было, кажется, жертвы, какой бы она не принесла, чтобы облегчить положение своего строгого друга.
Землячка понимала и ценила это.
«Спасибо, родная, за всю вашу ласку, — писала она в начале этого трудного года Лидии Михайловне, — за все хорошее, что вы всегда даете мне».
В тот же день Катенина пошла по дворам, расположенным по соседству с Сущевской частью. В одном из дворов нарвалась даже на неприятность.
Она стояла и посматривала на забор — высокий ли, легко ли через него перелезть, и тут какая-то женщина вынырнула из-под развешанного на веревках белья.
— Вам кого, барышня?
Катенина растерялась.
— Лучинкины здесь живут? — выпалили она первую пришедшую на ум фамилию.
Женщина подозрительно ее оглядела.
— Нету у нас таких… Шляются тут, прости, господи, всякие, а потом, смотришь, и пропало белье.
Пришлось Катениной уйти, так и не рассмотрев хорошенько забора.
Нет, не женское это дело — бродить по дворам!
Она пошла к Терехову — для того, чтобы снять план какой-либо местности, он подходил более всего: он не только член РСДРП, большевик, активный участник подполья и вооруженного восстания, но и студент Межевого института.
— Павел Григорьевич, нужно снять план местности, примыкающей к Сущевской части, — попросила она его. — Есть такое поручение. Сказать от кого?
— Не надо, — ответил Терехов. — Я вам вполне доверяю, Лидия Михайловна.
Он тут же ушел из дому и меньше чем за сутки обследовал всю Селезневку, а на другой день Ярославский уже нашел этот план в коробке с мармеладом.
Побег наметили на пасху, это самые удобные дни — много пьяных, много бесцельно шатающихся прохожих, да и в самом участке полицейские тоже не обделят себя водкой.
Арестованных должны перевести в тюрьму, но пока шло оформление перевода, прокуратура решила не тянуть — очень уж соблазнительно было для служителей Фемиды поскорее посадить на скамью подсудимых руководителей военной большевистской организации, дело должно было окончиться каторжными приговорами.
Поэтому следствие по делу военной организации большевиков началось, когда арестованные еще сидели в Сущевской полицейской части.
Подследственных то и дело вызывали на допросы — Ярославского, Клопова, Землячку…
Ротмистр Миронов допрашивал ее по нескольку часов кряду; он бывал и вежлив, и резок, и перемены в его обращении не производили впечатления на подследственную Берлин, она оставалась верна себе и, вопреки очевидным фактам, упрямо утверждала, что она — Осмоловская.
В интересах арестованных было затягивать следствие — чем больше проволочек, тем больше времени для подготовки побега.
Однако следовало поторопиться: из Сущевской полицейской части вырваться трудно, а из тюрьмы и совсем невозможно.
Записки, а иногда встречи с товарищами позволяли Землячке быть в курсе того, что происходило в мужской камере, а там деятельно готовились к побегу.
Были подготовлены квартиры, найдены деньги, изготовлены паспорта. Терехов еще раз обследовал прилегающую к полицейскому участку местность. Катенина собиралась печь куличи.
В предпраздничные дни в полицейскую часть поступало много передач для арестованных, это не только не возбранялось, но и поощрялось. Арестанты побогаче щедро делились полученными яствами с надзирателями и городовыми, а победнее не осмеливались протестовать, когда тюремные служащие отбирали что-нибудь из их передач для себя. Поэтому на пасху разрешалось передавать даже спиртные напитки.
— Лидия Михайловна, голубчик, побольше вина, — наказывала Землячка Катениной. — Сердобольные купцы навезут для арестантов и еды, и выпивки, но добавить никогда не мешает. Перед пасхой тюрьма при части завалена передачами, осматривают и проверяют не слишком строго, особенно если делятся.
Пасхальную ночь праздновали в тюрьме не менее шумно, чем на воле. Хватало и водки, и вина. Еще с вечера надзиратели собирались небольшими компаниями, готовились разговляться прямо на посту, в тюрьме.
Ночью в камеру к Землячке заглянул надзиратель Овчинников.
— Барышня! — позвал он ее. — С вами женишок ваш желает похристосоваться.
Он был навеселе и потому особенно добродушен.
Землячка вышла в коридор, там уже стоял Ярославский.
— Отойдите в уголок, только ненадолго, — сказал Овчинников. — А я посторожу.
Тускло светила лампочка, от стен пахло масляной краской, из-за окон наплывал благовест.
— Розалия Самойловна, побег намечен на первый день пасхи, — быстро сказал Ярославский. — Самый разгул, в тюрьме все перепьются, и в городе пьяных видимо-невидимо, как-нибудь уж постараемся устроить, чтоб вас выпустили из камеры.
— Нет, я не побегу с вами, — решительно отказалась Землячка. — Присутствие женщины привлечет к вам внимание, да и стеснять буду я вас при побеге.
— Но мы не можем вас оставить, — запротестовал Ярославский. — Тем более что суд состоится, даже если вы одна окажетесь на скамье подсудимых.
— Я уйду, у меня тоже все подготовлено, — уверенно сказала Землячка. — Но вместе с вами уходить мне не следует.
Ярославский пожал плечами. Землячка всегда категорична, ее невозможно переубедить, если она приняла решение. Он только еще раз предупредил:
— Но помните, уйти вам необходимо, этого требуют интересы всей организации.
— Я все знаю, — согласилась Землячка. — Однако поймите, я не вписываюсь в ваш ансамбль.
Тут их сторож позвякал ключами — в коридоре пусто, никто не появлялся, но самому Овчинникову хотелось поскорее присоединиться к собутыльникам.
— Прощайте же…
Ярославский наклонился к Землячке — надо же сделать вид, что христосуются, и они разошлись.
Землячка вернулась в камеру.
— Ну как? — поинтересовалась Генкина. — Что-нибудь получается?
— Узнаем завтра, — уклончиво сказала Землячка. — Может быть, и получится…
Она не стала больше ничего объяснять, и Генкина не расспрашивала. За несколько дней совместного пребывания в камере она уже изучила этот характер. Землячка никогда не говорит больше того, что хотела сказать.
Ночью, спустя сутки, женщины услышали в коридоре шум — метались и кричали надзиратели, началась суматоха.
В тюрьме обнаружили побег.
Все тот же Овчинников рассказал Землячке, как это произошло, а о подробностях она узнала позже от непосредственных участников побега.
Помимо политических, в камере сидело много разной публики, какие-то личности без определенных занятий, уголовные преступники, дожидавшиеся перевода в тюрьму, и просто забранные на улице бродяги.
Еды в камеру нанесли под пасху в изобилии, передачи получили чуть ли не все заключенные. Тут были и пасхи, и куличи, и крашеные яйца, жареное мясо, колбасы, всякие прочие закуски, да вдобавок попало несколько бутылок вина.
Получили передачи и Ярославский с товарищами; те, кто их передавал, позаботились о том, чтобы послать побольше крепких напитков, а Ярославский и его товарищи не проявляли большого беспокойства, когда бутылки эти до них не доходили.
В воскресенье рано утром штабс-капитан Клопов вместе с Ярославским и Костиным склонился над присланным ему из дому куличом, осторожно разрезал и извлек из него десяток пилок. Затем участники военной организации перебрались к окнам и принялись пилить оконные решетки.
Увы! Пилки оказались слишком тонки, не брали тюремное железо, побег приходилось отложить.
Но тут Ярославскому пришла спасительная мысль. Он обратился за помощью к уголовникам: надо быстро и аккуратно продолбить стену, выходящую во двор соседнего дома.
— Платим полсотни!
Пятьдесят рублей по тем временам считались большими деньгами, и уголовники соблазнились, тем более что обратившиеся к ним заключенные — простые симпатичные парни.
Повыломали у коек ножки и принялись за работу. Кто пел песни, чтоб заглушить шум, кто просто кричал. Тюрьма по случаю праздника была полна посетителей. В городе гремели колокола. К вечеру в стене замерцал пролом.
У надзирателей попойка, им не до арестантов, уголовники тоже пьяны, да и кому придет в голову, что кто-то станет долбить стену.
В темноте Ярославский, Дрейер, Клопов и Костин, а вместе с ними восемь уголовников выбрались наружу и покинули тюрьму под пасхальный звон колоколов.
Ночь, незнакомый двор, откуда-то доносятся песни…
— Теперь нам в разные стороны, — сказал кто-то из уголовников.
Они сразу исчезли в темноте.
У Клопова в кармане план местности, но какой тут план, когда тьма, хоть глаз выколи!
Попытались осмотреться. Забор. Поленница дров. Больше ощупью перебрались по поленнице в следующий двор. Какие-то сараюшки. За углом галдят. Перелезли в чей-то сад. Кусты, деревья. Опять уперлись в забор. Еще какой-то сад…
Так и лазили через заборы, пока не запутались.
И вдруг окрик:
— Вы что это по чужим садам шныряете?
Но Ярославский не растерялся:
— Христос воскресе из мертвых…
Запел, притворился пьяным, принялся обнимать товарищей. Те тоже догадались, что лучше всего притвориться пьяными — мало ли куда можно забрести с пьяных глаз!
— Отец! — заплетающимся языком позвал Костин незнакомца, плохо различая его в темноте.
— Пошли вы!…
Во мраке ночи послышались сердитые рассуждения о пропойцах. Но в конце концов ночной незнакомец указал им калитку.
Беглецы очутились на улице и сразу разошлись по указанным адресам.
Ярославский отправился к знакомой фельдшерице Машинской, у нее не раз уже скрывались большевики, жившие по фальшивым паспортам.
Дошел до Бутырок, постучал в дверь.
— Фаина Васильевна!
— Кто там?
— Христос воскресе!
— Не может быть…
— Уверяю вас!
Дверь распахнулась.
— Емельян Михайлович!
— Как видите.
Пролом в стене стражи порядка заметили лишь на рассвете. Поднялась суматоха, однако продолжалась она недолго — нетрезвые надзиратели побоялись испортить начальству праздничное настроение, отложили доклад о побеге на «после праздника», и к утру все в тюрьме постепенно угомонилось.
А Землячке еще предстояло осуществить свою первоапрельскую шутку.
Она даже заснула под утро, нашла силы взять себя в руки.
Часов в восемь поднялась, умылась, надела принесенное Катениной платье, принарядилась по случаю пасхи.
Генкина вопросительно взглянула на соседку.
— Да, — односложно ответила та.
По сравнению с Землячкой Генкина нервничала гораздо больше, хотя бежать предстояло не ей.
И вот в коридоре загромыхали…
Разносят чай!
Отворилась дверь, вошел надзиратель с медным чайником в руках, на этот раз не Овчинников, а Потапов, человек малоразговорчивый, сумрачный.
— Кипяточек, — произносит он приветливо ради праздника.
Ни хлеба, ни сахара не принес, во всех камерах полно всякой снеди.
Обитательницы камеры наполняют кружки.
Потапов идет к двери разносить кипяток дальше.
— Я вас прошу, пока вы в коридоре, оставьте дверь открытой, — обращается к нему Землячка равнодушным голосом. — Такая духота, пусть проветрится.
Потапов не отвечает, выходит в коридор, но дверь не закрывает. Слышно, как заходит в соседнюю камеру.
Землячка с лихорадочной быстротой надевает шляпку, опускает на лицо вуаль, натягивает перчатки, подходит к двери…
Вот Потапов зашел еще в одну камеру.
Теперь действовать со всей возможной быстротой!
— С богом, — шепчет позади нее Генкина.
Землячка не слышит ее, быстро пробегает на цыпочках по коридору и скрывается за углом. Потапов не услышал! Она приближается к дежурной комнате. Оттуда несутся мужские голоса. Тут же, направо, против дежурки, дверь во двор. Мимо, мимо! Она подходит к двери… Не заперта. Удача! Выходит во двор, не спеша прикрывает дверь. Идет по двору… Только не торопиться! Навстречу городовой. Он не обращает на нее внимания. Медленно. Не торопись… Теперь самое страшное. Она входит в караульное помещение, дверь из которого ведет на улицу. Неторопливо приближается к выходной двери… Самообладание! Еще раз самообладание!
— Откуда это такая барышня? — слышит она за своей спиной.
— Да должно, от нашего доктора.
Она выходит на крыльцо.
У дверей дежурит городовой.
— Позовите, пожалуйста, извозчика, — обращается она к городовому.
— Извозчик! — кричит городовой.
На ее счастье извозчик неподалеку. Он подъезжает к крыльцу, и Землячка садится в пролетку.
— Благодарю, — небрежно бросает она городовому и затем громко приказывает: — На Тверскую, в гостиницу «Луч»!
Она называет правильный адрес. Прежде всего — именно туда! Там живет хорошая знакомая Катениной актриса Ратнева. В этой гостинице обитают лица свободных профессий. Журналисты, актеры, художники, а то так и коммивояжеры, и даже шулера. К ним ходит множество посетителей, двери гостиницы не закрываются круглые сутки. Но это-то и устраивает Землячку, ей нужно сбить со следа полицию.
Она останавливает извозчика у подъезда гостиницы, щедро расплачивается, чтобы расположить к себе извозчика — в случае расспросов он, может быть, и не захочет ее вспомнить…
Дверь гостиницы хлопает не переставая.
Землячка поднялась в номер Ратневой, передала привет от Катениной, посидела, вышла, прошлась по улице, снова вернулась, снова вышла; так в течение часа то входила, то выходила, чтобы служащие гостиницы не смогли бы сказать, ушла она или нет, а она ушла, наняла на углу извозчика, доехала до Каменного моста, расплатилась, перешла мост, наняла другого извозчика, поехала в Замоскворечье, в Медведниковскую больницу, к доктору Бекетову, пробыла у него до вечера, а когда стемнело, поехала на Ярославский вокзал, отправилась в Щелково, к фельдшерице Васильевой…
Васильеву она тотчас послала в Москву — та умела конспирировать, но Землячка предупредила, что на этот раз конспирировать придется особенно тщательно, посылала она Васильеву ни больше, ни меньше как в Московский комитет сообщить, что она удачно ушла из тюрьмы и ждет новых указаний.
Васильева выполнила поручение с отменной точностью: добралась до Москвы, нашла нужного человека, дождалась, пока тот в свою очередь сходил по известному ему адресу, получила ответ и благополучно вернулась домой.
В Щелково Землячке надлежало прожить несколько дней, пока ее не известят, что делать дальше.
Васильева старалась всячески занять свою гостью, принесла кипу романов Данилевского, выпросила у соседки на несколько дней швейную машинку, предложила даже сыграть в подкидного дурака, но гостья не хотела ни читать, ни шить, ни играть в карты.
— Не беспокойтесь, голубчик, — сказала она гостеприимной хозяйке. — Я хочу спать, спать, только спать, нервы у меня не в порядке, и самое лучшее для меня — выспаться.
Она действительно старалась как можно больше спать — еще неизвестно, что ждет ее впереди.
Лишь через неделю приехал из Москвы к Васильевой незнакомый студент, привез роскошное издание лермонтовского «Демона», попросил передать книгу доктору Осипову и тут же отправился обратно.
— Что там такое? — поинтересовалась Землячка, когда студент покинул квартиру Васильевой.
Землячка даже не показалась ему, так и просидела в спальне, пока студент разговаривал с хозяйкой.
— Да вот, привез книжку для доктора Осипова, — неуверенно произнесла Васильева, догадываясь, что слова студента имеют какой-то тайный смысл.
— Давайте…
«Демон» служит ключом одного из принятых в Московском комитете шифров, а Осиповым была сама Землячка.
В книжке записка совершенно невинного содержания — на взгляд любого непосвященного человека.
Землячке предписывалось немедленно выехать в Петербург и включиться в работу Петербургского комитета большевиков; после провала военной организации Москва Землячке была заказана.
В тот же вечер она собралась в дорогу. В записке рекомендовалось ехать, минуя московские вокзалы. Она так и сделала. На извозчиках добралась до Николаевской дороги, купила билет на проходящий поезд и на следующий день была уже в Петербурге.
Тюрьма
Начался один из самых тяжелых периодов в жизни Розалии Самойловны Землячки.
После поражения Декабрьского восстания революция пошла на убыль. Правда, то в одном, то в другом городе вспыхивало сопротивление рабочих — народные массы отступали с боями. Но все-таки отступали. Все силы бросила контрреволюция на разгром рабочего движения. Чтобы «обуздать» пролетариат, капиталисты, в тесном единении с правительством, усилили полицейский произвол.
Землячку кооптировали в состав Петербургского комитета. Сложно и трудно было в то время работать в подполье. Рабочий класс придавлен, интеллигенция разочарована, колеблющиеся элементы бегут от революции. Лишь одни большевики не теряли присутствия духа. «…Преследования страшны только отживающим классам, — писал Ленин в годы наибольшего упадка массовой борьбы, — а пролетариат увеличивается в числе и сплоченности тем быстрее, чем быстрее успехи господ капиталистов».
Снова жизнь в нелегальных условиях, но ни на один час не прерывает Землячка своих связей с рабочими Петербурга, хотя работать становится все трудней и трудней.
Однако среди трудностей и опасностей бывали светлые дни, когда и Землячка, и ее товарищи по работе ощущали новый приток сил.
Это были дни общения с Владимиром Ильичем, встречи с ним, работа под его руководством.
Ленин вернулся в Россию 7 ноября 1905 года и в течение всего 1906 года непосредственно руководил социал-демократическими организациями в Петербурге и нередко выступал перед питерскими рабочими.
В начале 1906 года развернулась подготовка к Четвертому съезду РСДРП. Петербургский комитет избрал своим представителем на съезд Ленина.
Съезд состоялся в Стокгольме, и в продолжение всего апреля Землячка с нетерпением ждала вестей из Швеции.
Между Лениным и оппортунистами развернулась ожесточенная борьба, и хотя большевиков на съезде было меньше, чем меньшевиков, железная логика Ленина настолько подавляла противников, что при утверждении устава партии принята была ленинская формулировка о демократическом централизме, навсегда определившая основные принципы организационного построения коммунистической партии.
Из Стокгольма Ленин вернулся в последних числах апреля, и 9 мая Землячка на партийном собрании слушала его доклад об итогах Четвертого съезда.
Теперь она и сама могла выступать перед рабочими и знакомить их с резолюциями, вносившимися на обсуждение съезда и меньшевиками, и Лениным.
А наступление реакции все усиливается. Меньшевики проповедуют коалицию с кадетами. У Землячки начинают сдавать нервы. Непереносимо изо дня в день сталкиваться с холопством интеллигентского мещанства.
В письмах к Лидии Михайловне Катениной, старому и верному другу, которая к тому времени переехала работать в Чухлому, у Землячки нет-нет да и прорываются трагические нотки.
"Трудно всегда все скрывать глубоко в себе.
Здесь по-прежнему омерзительно-скверно обстоят дела. Пожалуй, еще хуже, чем при вас. У меня настроение какое-то зловещее, не могу подобрать другого слова…
Выход — начать беспощадную борьбу за самое дорогое мне в жизни…"
Так пишет она в ноябре 1906 года, а месяцем позже совсем приходит в отчаяние:
"Дорогая моя! Я послала вам письмо в Чухлому.
Чувствую я себя отвратительно, но говорить об этом сейчас не хочется. Не знаю, что с собой делать сейчас, — отдыхать я решила по одному тому, что физическое состояние просто не позволяет ни о чем другом думать. Чувствую себя серьезно и тяжело больной, но по обыкновению перемогаюсь…
Существую сейчас вне пространства и времени.
Я стала совершенно бесстыдной в отношении денег, я обираю вас безбожно. Но я получила ряд ужасных писем от своей племянницы, которая вышла замуж за человека, осужденного на десять лет каторги, едет за ним и не имеет, конечно, вместе с мужем ни гроша… Она в совершенно безвыходном положении, и я последние деньги ваши отослала почти непроизвольно…"
С семьей Землячка не могла поддерживать связи, она находилась в подполье и боялась себя обнаружить: все родственники Розалии Самойловны были у полиции на примете.
Спад революции влиял на активность многих работников партии, в организации чувствовались демобилизационные настроения, и Землячка приходила все в более и более мрачное состояние, ее мучили дурные предчувствия.
В начале октября, в Териоках, небольшом финском городке, расположенном на берегу Балтийского моря, в пятидесяти километрах от Петербурга, собралась конференция питерской организации РСДРП.
Ленин принимал в ней деятельное участие. Землячка с интересом слушала его выступления и с новым зарядом бодрости вернулась в Петербург.
Но тучи над ней сгущались.
Тусклым ноябрьским днем 1907 года Петербургский комитет большевиков, собравшийся на строго засекреченной конспиративной квартире, был неожиданно арестован.
Землячка очутилась в одной из общих женских камер Литовского замка. Из тюрьмы она пишет Катениной письмо за письмом.
«Моя неспособность уживаться с людьми не передается через толстые тюремные стены. Страдаю я очень от публики тюремной. Что это за ужас, ужас! В лучшем случае две трети мещанки, а остальные… Сколько борьбы из-за шпионок, провокаторов, заведомых черносотенок и сифилитичек…»
Однако Землячка пытается взять себя в руки, и вот железная революционерка сидит и вышивает шарфики!
«Кроме того, передала для вас два шарфика, собственноручно мною вышитых, — пишет она той же Катениной. — Один для вас, другой для Наталки».
Наталка — это Наталия Георгиевна Раскина, по мужу Соболева, врач по профессии, активный работник петербургского большевистского подполья, секретарь подпольного Нарвского комитета.
А следствие идет своим ходом…
«И если все эти годы не удастся сократить, стоит ли жить? — обращается Землячка к Катениной. — Простите, что заныла. Больше никогда не буду. Сейчас у меня сдерживаемая тоска вылилась. Ведь перед публикой здесь никогда не изливаюсь. Наоборот, поражаю хорошим настроением, и было бы странно, если бы поведение мое было иное…»
Она пыталась договориться со своими товарищами по Петербургскому комитету, арестованными вместе с ней, о поведении на суде.
«Хотела бы, чтобы день суда, — писала она, — не был позорным пятном в моей жизни…»
Большинство товарищей, проходивших с Землячкой по процессу, не хотели признаваться в принадлежности к партии, но Землячка, считая каторгу неизбежной, предлагала открыто объявить себя членами партии и уйти с суда с гордо поднятой головой.
«Сегодня получила повестку в суд, — сообщает она Катениной. — Состав суда — председатель Крашенинников (гроза!) и Камышинский прокурор. Все пророчат каторгу…»
Она просит передать для нее в тюрьму приличное черное платье, достать хотя бы на один день, она хочет хорошо выглядеть на суде.
В мае 1908 года состоялся суд. Подсудимых защищали знаменитые адвокаты — Бобрищев-Пушкин, Грузенберг, Левенсон.
Процесс привлек к себе внимание, и суд не решился пойти на крайние меры.
Землячка была осуждена на полтора года заключения в крепости и отбывала свое наказание все в том же Литовском замке.
Она борется за то, чтобы ее перевели из общей камеры в одиночку.
В августе просьбу удовлетворяют.
Условия ее существования ухудшились, камера темная, тесная, сырая, «стены совершенно мокрые, сырость такая, что простыни совсем сырые, ложишься и костями своими ощущаешь сырость». Но Землячка довольна: «Измоталась я в общих камерах».
Теперь она одна и может отдаться своим мыслям, читать книги, думать о будущем.
«Какие перспективы намечаются в жизни партии? — спрашивает она в письме из тюрьмы. — Каковы новые тактические лозунги, или тактика отброшена и осталась одна пропаганда?»
В Литовском замке она заболевает цингой и ревматизмом, который не оставляет ее уже всю жизнь.
«Болят ноги, ломота в ногах, ночью готова прыгать от боли, — жалуется она Катениной. — Не могу стоять на ногах, они опухают и становятся как бревна, просыпаюсь от отвратительного ощущения во рту — полон рот крови…»
В ноябре Землячка посылает Катениной свое последнее письмо из тюрьмы.
— "К моему выходу съедутся все братья…"
В конце 1908 года она покидает тюрьму, встречается с родными и возвращается к прежней деятельности.
ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ 1924 г.
Вот уже четвертый день, как Ленин ушел из жизни.
Мысль об этом не оставляет Землячку. Однако жизнь не позволяет сосредоточиться на том, что ее так волнует, жизнь идет своим чередом.
В эти дни особенно заметна повседневная сутолока, но не отмахнуться от нее, не отмахнуться!
За окном зимний морозный день, снег, солнышко, белизна. Сквозь стекла доносится неумолчный щебет, точно вступили в оживленную перекличку воробьи. Но то не воробьи — Землячка подходит к окну — толпа ребятишек мчится посреди мостовой, то ли в школу бегут, то ли из школы, а может, они даже ходили в Дом союзов, хотя из-за морозов детей туда водить запрещено.
Да, жизнь идет, а Ленина нет…
Секретари партийных организаций несут пачки заявлений: рабочие вступают в РКП (б).
Этим заявлениям Землячка ведет особый учет, люди стихийно идут в партию, движение рабочих можно только приветствовать, хотя каждую кандидатуру надо в отдельности рассмотреть и взвесить — способен ли человек стать коммунистом.
Землячка интересуется, как обстоит дело в других районах, и ей досадно, что Красная Пресня опережает Замоскворечье.
Но вот на какие-то минуты она остается одна, и снова мысль устремляется в Колонный зал, где на высоком постаменте, утопая в цветах, лежит тот, кто вдохновляет сотни и тысячи таких партийных работников, как Землячка, возможно совестливее и тщательнее решать вопросы, с какими устремляется в райкомы и парткомы бесконечное множество разных людей.
Около Дома союзов стоят необозримые очереди, сотни тысяч людей прощаются со своим Ильичем, и здесь, в своем кабинете, она тоже думает о нем, прощается и никак не может проститься.
Так тянется день.
Вспыхивает электрический свет. Она не заметила, кто повернул выключатель. За окном смеркается. Ранние белесые зимние сумерки. Похоже, похолодало еще сильнее. Она видит, как несется по улице ветерок. Начинается вечерняя поземка. Закрутится снежок среди мостовой и понесется дальше. Холодно. Грустно.
Неслышно входит ее верная помощница Олечка, ставит на стол стакан чаю.
— Розалия Самойловна!… — В голосе Олечки упрек.
— Ах да, — покорно отвечает Землячка.
Ей не хочется разговаривать, и Олечка понимает ее и также неслышно выходит.
Ни пить, ни есть ей тоже не хочется.
Может она подумать о самом главном, что не дает ей покоя все эти дни. О самом главном. О нем.
Четверть века живет она мыслями, делом, теплом этого человека. Четверть века… Какие необыкновенные четверть века!
Никто из тех, кто когда-либо общался с ним, не забудет его.
Человека нет. Но как историческая личность он будет существовать вечно. Во всей мировой истории не было деятеля таких масштабов, как Ленин.
Но прежде всего он вспоминается ей как человек. Как живой человек. Человек, с которым она здоровалась за руку, разговаривала, спорила, пила за одним столом чай, дышала одним воздухом…
Она видела его еще совсем недавно. Вчера она пешком прошла все пять верст за гробом.
Но вспоминается он почему-то совсем молодым, таким, каким она видела его в Швейцарии.
Все хорошо знают, как выглядел Ленин. Огромный лоб, небольшие внимательные глаза, широкий прямой нос, чуть скуласт, рыжеватые усы, бородка… Но все это внешнее, не передающее характерные его особенности.
Землячка восстанавливает в памяти облик Ленина.
Умен. Удивительно умен! Проницателен. Лицо выражает волю и сдержанность. Но в то же время во всем его облике необычайная нежность. Нежность и одухотворенность. Очень внимательный и мягкий человек…
Мягкий? Никогда он особой мягкостью не отличался. Не отличался и снисходительностью. Но зла в нем не было. За всю свою жизнь он не совершил ни одного злого поступка. Суров? Строг? Да. Но злым не был. К людям он относился нежно. Такого человека ей уже никогда не встретить.
Великий человек, а люди чувствовали себя с ним, как с равным, — с такой простотой, человечностью и обходительностью обращался он с ними. Перед ним невозможно было умничать, невозможно лицемерить, он понимал человека с полуслова, его нельзя было обмануть, перед ним нельзя было притворяться, и если он мог помочь человеку, он всегда помогал.
Если представить себе книгу, в которой будет описана жизнь Ленина, может быть, одними из самых блестящих, считала Землячка, будут страницы, посвященные деятельности Ленина на Десятом съезде партии.
Взаимоотношения пролетариата и крестьянства, развитие социалистической экономики, единство партии…
Доклад Ленина о продналоге! Необыкновенная глубина научного анализа, железные формулы, неопровержимые законы политического и экономического развития, и вместе с тем все предельно просто, ясно и даже популярно.
"Если кто-либо из коммунистов мечтал, что в три года можно переделать экономическую базу, экономические корни мелкого земледелия, то он, конечно, был фантазер. И — нечего греха таить — таких фантазеров в нашей среде было немало. И ничего тут нет особенно худого. Откуда же было в такой стране начать социалистическую революцию без фантазеров? Практика, разумеется, показала, какую огромнейшую роль могут играть всевозможного рода опыты и начинания в области коллективного ведения земледельческого хозяйства. Но практика показала, что эти опыты, как таковые, сыграли и отрицательную роль, когда люди, полные самых добрых намерений и желаний, шли в деревню устраивать коммуны, коллективы, не умея хозяйничать, потому что коллективного опыта у них не было…
Вы прекрасно знаете, сколько было таких примеров. Повторяю, что это неудивительно, ибо дело переработки мелкого земледельца, переработки всей его психологии и навыков есть дело, требующее поколений. Решить этот вопрос по отношению к мелкому земледельцу, оздоровить, так сказать, всю его психологию может только материальная база, техника, применение тракторов и машин в земледелии в массовом масштабе, электрификация в массовом масштабе. Вот что в корне и с громадной быстротой переделало бы мелкого земледельца. Если я говорю, что нужны поколения, это не значит, что нужны столетия. Вы прекрасно понимаете, что достать тракторы, машины и электрифицировать громадную страну — такое дело может, во всяком случае, исчисляться не менее чем десятилетиями".
Произнося это, Ленин заглядывал вперед на десятки лет.
О единстве партии, этой основе основ партийной жизни, Ленин говорил чуть ли не в каждом выступлении…
«Диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества. Сила привычки миллионов и десятков миллионов — самая страшная сила. Без партии, железной и закаленной в борьбе, без партии, пользующейся доверием всего честного в данном классе, без партии, умеющей следить за настроением массы и влиять на него, вести успешно такую борьбу невозможно».
Высказаться с такой простотой и смелостью мог только вождь могущественной партии, пользующейся в ней непререкаемым авторитетом!
Землячка помнила чествование Владимира Ильича в связи с его пятидесятилетием, устроенное Московским комитетом.
Почти все выступавшие на заседании ораторы считали необходимым отметить скромность великого человека. Скромность Ленина… Нет, речь идет не о той обывательской скромности, синонимом которой, если верить словарям, считаются умеренность, смиренность, невзыскательность, кротость.
Подходит ли хоть один из этих эпитетов к Ленину?
Скромность Ленина — это простота гения, простота была ему так же присуща, как и величие, это было естественное состояние его духа.
Четверть века провела она вблизи Ленина, и только сейчас Ленин начинает вставать перед ней во весь рост.
Она всегда признавала его вождем партии и, следовательно, своим вождем, потому что ее собственная жизнь вся без остатка отдана партии, но только сейчас, ощущая всю боль утраты, она понимает, насколько больше она могла бы получить от него, если бы видела его таким, каким он сейчас встает перед ней…
Землячка поднялась, прошлась по комнате. Подошла к окну. На улице совсем темно. Поздний вечер. Только слышно, как ветер несется над снежными сугробами. И мороз становится, должно быть, все крепче. Редкие прохожие не идут, а бегут по тротуару…
И опять она задумалась о нем.
Многие выдающиеся государственные деятели уходили из жизни, и вместе с их смертью кончалась их политика, их предначертания, их направление. На смену умершему появлялся новый руководитель, и возникало новое направление, новая программа. Впервые в мировой истории все будет иначе. Ленин умер, и — Ленин жив. Программа развития страны определена им на многие десятилетия вперед. Он по-прежнему будет вести народ. Его идеология неотменяема, ее жизненность неоспорима. Он будет сопутствовать Землячке в течение всей ее последующей жизни, будет сопутствовать всем большевикам, будет сопутствовать молодежи во всех ее дерзких устремлениях к будущему.
Свет его истины освещает дорогу грядущим поколениям.
1909-1917 гг.
В Париже
Землячка вышла из тюрьмы. Издерганная, больная… Увиделась с родными. Трое братьев ее приехали в Петербург, ждали сестру, звали к себе, ей нужно было лечиться, отдохнуть, прийти в себя.
Но отдыхать не пришлось. ЦК направил ее в Баку, и она тотчас выезжает на место новой работы.
Громадный город на юге России. Город нефтяников, нефтяных королей и нефтяных пролетариев. Уже в начале столетия Баку стал крупнейшим центром революционного движения в Закавказье. Политические выступления бакинских рабочих заняли заметное место в истории революционного движения в России.
Весь 1909 год Землячка среди бакинских рабочих. Становится секретарем Бакинской большевистской организации. Много внимания отдает массовой работе. Она руководит кружками, организует стачки и забастовки, участвует в политических демонстрациях…
Ее снова полностью захватывает тревожная и опасная деятельность подпольщика-революционера.
Летом 1909 года в Баку нелегально возвращается Сталин, только что бежавший из Сольвычегодской ссылки.
Был он неразговорчив, никогда не спешил выступать, и сперва Землячке казалось, что этот приземистый грузин мало чем отличается от остальных работников Бакинского комитета. Но постепенно она начала выделять Сталина в ряду других большевиков. Сдержан и молчалив, но только до тех пор, пока никто не оспаривает его высказываний; он с такой убежденностью отстаивал свое мнение, что даже противники редко осмеливались ему перечить.
Вместе со Сталиным Землячка активно выступает против соглашателей, пытающихся увести рабочих от классовой борьбы.
В конце 1909 года Землячке грозит провал. Обстановка такова, что еще несколько дней — и опять арест, следствие, тюрьма…
Надо уходить… Партийное руководство предлагает ей выехать за границу.
Землячка выбирает Париж. Она знает французский язык, бывала во Франции, ей нравится эта страна, ее привлекает Парижский университет — можно восполнить пробелы в своем образовании, но самое главное — в Париже Ленин!
Это — главный ее университет, университет всей ее жизни.
Издание газеты «Пролетарий» перенесено в Париж, и Ленин и Крупская переехали в столицу Франции. Одним из доводов за переезд Ленина в Париж было и то обстоятельство, что в большом городе легче избежать слежки.
Он верен себе, всему находит свое определение, видит и лицевую, и оборотную сторону каждого явления.
«Париж — город очень неудобный для жизни при скромных средствах и очень утомительный, — писал он как-то сестре. — Но побывать ненадолго, навестить, прокатиться — нет лучше и веселее города».
Париж для него и мил, и утомителен, в парижанина он не превратится, здесь он только проездом и с тихой улицы на окраине Парижа неустанно всматривается в родные дали.
Русские большевики здесь только на перепутье, они и здесь дышат воздухом родной земли, и над крышами Парижа вьется горький дымок русских изб…
Владимир Ильич выступает с лекциями, рефератами, докладами, часто посещает собрания эмигрантов, руководит группирующимися вокруг него большевиками.
И вот Землячка в Париже. Который уже раз! Но ее не интересуют ни отель «Субиз», ни отель «Бельвю», ни церковь Сен Жерве, ни церковь Сен Сюльпис, во всем громадном городе ее интересует сейчас лишь улица Мари-Роз, куда она и устремляется по приезде.
Тихая улица на окраине Парижа. Четырех— и пятиэтажные спокойные каменные дома. Глухие каменные заборы и тенистые сады. Торцовая мостовая…
На этой улице в доме No 4 живут Ульяновы, куда они недавно переехали с улицы Бонье.
Встречей с Владимиром Ильичем будут возмещены все треволнения и огорчения последних лет…
Надежда Константиновна и Владимир Ильич встречают Землячку, как своего человека, да она и в самом деле свой человек — вот уже десять лет они не просто знакомы, а связаны общей борьбой.
Розалия Самойловна приходит под вечер — она знает, как занят Владимир Ильич, и боится оторвать его от работы.
— Как удачно! — встречает Надежда Константиновна гостью из России. — Владимир Ильич каждый день с утра работает в Национальной библиотеке, а после двух — милости просим. По вечерам у нас толчея непротолченная…
Владимир Ильич приветствует Землячку мягкой улыбкой.
— Ну, рассказывайте, что там у вас в Баку?
Не один вечер рассказывает Землячка о нефтяных промыслах, о балаханских рабочих, о деятельности большевиков.
Ленин со счастливыми глазами внимательно слушает, как бакинские большевики организуют стачку за стачкой, как повысился авторитет партийных работников, с каким интересом читается «Пролетарий». Он умел слушать, как никто!
Пройдет немного времени, и в январе 1911 года Землячка будет читать опубликованную в журнале «Мысль» ленинскую статью «О статистике стачек в России».
Не без гордости за Баку Землячка прочтет, что по числу стачек и участию в этих стачках рабочих Бакинская губерния стоит на одном из первых мест.
Теперь, в Париже, у Землячки есть возможность встречаться с Лениным, слышать его, учиться, и этой возможностью надо пользоваться!
Четыре года проводит Землячка за границей. Встречается с Лениным, слушает его лекции, занимается в Парижском университете, много читает и в течение всего этого времени поддерживает тесные связи с большевистскими организациями в России.
Жить трудно, многие политические эмигранты живут впроголодь; ложась спать, люди не знают, что они будут есть завтра. Деньгами, которые Землячка иногда получает от родных или зарабатывает уроками, приходится делиться с товарищами…
Множество людей, называвших себя революционерами, растратив свои силы в интеллигентских спорах, разочарованные и опустошенные, добровольно уходят от борьбы, и лишь одни большевики, сплоченные и ведомые Лениным, не утрачивают веры в победу пролетарской революции.
Переход границы
В мире становилось все тревожнее и тревожнее, однако большинство людей, не понимая еще, чем эта тревога вызвана, старались ее не замечать.
Париж шумел, как всегда. Толпы туристов заполняли Елисейские поля, светились огни ночных варьете и ресторанов, полуголые певички отплясывали канкан, пенилось шампанское и кружились осыпанные электрическими лампочками крылья Мулен Руж.
Но такое же лихорадочное оживление царило и в рабочих предместьях, люди шли на работу и днем, и ночью, фабрики оружия работали безостановочно, лились сталь и чугун, и хотя по всему городу плыл запах модных герленовских духов, немногие, еще очень немногие жители французской столицы ощущали проступающий сквозь аромат духов запах пороха.
Однако тревожный запах гари делался все сильней и сильней…
Нужно возвращаться на родину. Возвращаться всем, кто хоть сколько-нибудь понимал, какие события потрясут вскоре Европу.
«Надвигаются величайшей важности события, которые решат судьбу нашей родины», — утверждал Центральный Комитет РСДРП в своем «Извещении» о совещании партийных работников, состоявшемся в сентябре 1913 года в Поронине, где жил тогда Ленин.
И Землячка заторопилась домой. Ленин одобрил ее отъезд. Он считал, что всем партийным работникам, хорошо знающим практическую работу и связанным тесными узами с рабочим классом, в момент катаклизма следовало находиться среди рабочих масс.
О легальном возвращении не могло быть и речи. Царская полиция была достаточно осведомлена о госпоже Трелиной.
До Берлина Землячка ехала с комфортом. Как раз перед самым отъездом получила она из дому деньги, «подкрепление», как говаривал иногда ее отец, но даже личные свои деньги она не позволяла себе тратить впустую, она принадлежала партии, и ее деньги тоже принадлежали партии, а партийная касса никогда не была богата. Но на этот раз, в предвидении предстоящих лишений и мытарств, на которые ее обрекало подпольное существование, она отправилась в Берлин в экспрессе, купила билет в первом классе, что могла бы позволить себе только вполне обеспеченная дама.
Впрочем, интересы конспирации тоже этого требовали, она не знала, кем предстоит ей стать в Берлине — там она поступила в распоряжение агентов и контрагентов Папаши, которые обязаны были обеспечить ей благополучный переход границы. Полиция знала, что русские революционеры постоянно испытывали недостаток в средствах, и богатые, хорошо одетые барыни возбуждали меньше подозрений, нежели скромные и неуверенные из-за недостатка денег девицы. Может быть, лишь благодаря тому, что он всегда выглядел барином, избегал провалов Леонид Борисович Красин.
Сразу же по приезде в Берлин Землячка отправилась на Александерплац.
Неподалеку от этой площади находился зубоврачебный кабинет доктора Грюнемана.
Землячка легко нашла улицу, дом…
Вероятно, доктор Грюнеман имел неплохую практику, если мог снимать квартиру в таком респектабельном доме, лестницу украшала узорная чугунная решетка, а мраморные ступени покрывала ковровая дорожка. Землячка позвонила.
Горничная распахнула дверь.
— Могу я видеть доктора Грюнемана?
Обычная приемная солидного врача. Стулья по стенам, круглый стол с журналами, на стенах олеографии в позолоченных рамах.
— Одну минуту.
Девушка упорхнула, и в приемную вошел господин с черными усиками, в не слишком свежем костюме в мелкую коричневую клеточку — Землячка так и не поняла, то ли это сам доктор Грюнеман, то ли кто-то еще.
Господин с усиками бросил на пациентку небрежный взгляд и как бы между прочим спросил:
— Вы, кажется, записывались на среду?
— Это так, но я предпочла бы быть принятой во вторник, — заученно ответила Землячка.
— Вторник меня не устраивает, — сказал господин.
Что ж, пароль и отзыв, все сходилось, можно было переходить к делу.
Господин с усиками не хотел терять времени.
— Карточка у вас с собой? — без лишних слов спросил он.
Землячка раскрыла сумочку и подала свою фотографию, об этом ее предупредили еще в Париже.
Господин бросил на карточку беглый взгляд, еще раз взглянул на ее владелицу, деловито кивнул и небрежным жестом обвел рукой комнату.
— Придется подождать.
— Понимаю…
Он тут же удалился, и Землячка осталась одна. Она подошла к столу, взяла один из журналов, села.
Ее всегда удивляла эта немецкая педантичность. В России, приди она на нелегальную явку, обязательно задали бы какие-нибудь не относящиеся к делу вопросы, посочувствовали бы предстоящим трудностям, поинтересовались личностью нового знакомого…
А здесь даже намека нет на какую-то общность интересов — пароль, отзыв, фотокарточка, «подождите»…
Что ж, может быть, так и лучше.
Через полчаса незнакомый господин появился вновь.
— Получите, — только и сказал он, протягивая паспорт. — Проверьте. Вы теперь Шарлотта Магбург, уроженка Лифляндской губернии.
Землячка внимательно перелистала паспорт. Все точно: Шарлотта Магбург… Возраст, приметы, все совпадало. Остзейская немка, возвращающаяся из-за границы к себе домой. Отметки, визы… Все в порядке.
Господин с усиками разговаривал по-немецки, но русский текст в паспорте написан без единой ошибки.
— Благодарю. — Землячка положила паспорт в сумочку. — Я что-нибудь должна?
— Нет, нет, — поторопился прервать ее господин с усиками. — Все, что следует и кому следует, уже уплачено. Я лишь уполномочен предупредить вас. На последней станции перед границей вы будете выходить из вагона. Зайдите в буфет и спросите себе… ну, чашку кофе… или там сельтерской воды. Это на тот случай, если станет известно, что на пограничном пункте вас ожидает русская полиция. Если к вам никто не подойдет, можете спокойно следовать дальше. Но если к вам подойдет человек и заговорит по поводу лошадей, вам следует вполне ему довериться и следовать за ним. Тогда вам предстоит более опасный переход. В таком случае, еще до перехода границы, я покорнейше прошу уничтожить этот паспорт, чтобы как-нибудь не подвести здешнюю экспедицию…
— Отлично, — согласилась Землячка, не выражая каких-либо опасений. — А что должна я буду сказать тому, кто ко мне подойдет в буфете?
— О, предложите ему пива.
Господин с усиками еще раз педантично повторил свою инструкцию, внимательно следя, как посетительница повторяет вслед за ним его наставления.
— Sehr gut, очень хорошо, — наконец говорит он и распахивает дверь в переднюю. — Счастливого путешествия. Лорхен!
Горничная появляется, как по команде.
Землячка одевается, дает горничной несколько пфеннигов.
Та любезно улыбается.
— Danke schon, большое спасибо.
С этой минуты она — Шарлотта Магбург. Надолго ли?
Вечером Землячка снова села в поезд, с собой у нее только небольшой саквояж, любопытным попутчикам можно сказать, что ее чемоданы сданы в багаж.
Ночь она провела спокойно, подполье отучило ее нервничать попусту.
Как и следовало по инструкции, на станции перед границей Землячка вышла на перрон и прошла в вокзал.
Тесный станционный буфет радовал глаз своей чистотой. Свежие бутерброды, аккуратно разложенные по тарелкам, возбуждали аппетит. За одним из столиков два толстяка сосредоточенно пили кофе. Розовощекая кельнерша подошла узнать, не нужно ли чего даме. Землячка заказала кофе. Поезд на станции стоит четверть часа. Прошло пять минут. Никто к Землячке не подходил. Прошло еще пять минут. Землячка с облегчением вздохнула. Все в порядке, можно спокойно следовать дальше.
Тут в буфет кто-то заглянул. По всей видимости, рабочий. В куртке, покрытой пятнами масла или мазута, в грубых брезентовых брюках, заправленных в сапоги. Он поглядел на кельнершу, на двух толстяков и неторопливо подошел к Землячке.
— Вам не нужны лошади? — негромко спросил он.
— А вы не хотите выпить кружку пива? — сказала она в ответ.
— Не откажусь, — согласился человек в куртке. — Очень вам благодарен.
— Тогда поторопимся, — сказала Землячка. — Поезд уходит через несколько минут.
— Ну и пусть уходит, — сказал человек в куртке. — Нам торопиться некуда.
Он с аппетитом выпил кружку пива, обтер губы тыльной стороной ладони, взял ее саквояж и пошел к выходу.
Значит, меня все-таки ждут на границе, подумала Землячка и тоже направилась к выходу.
У станции стояла бричка, запряженная парой лошадей.
Человек в куртке подошел к бричке, неторопливо взобрался на козлы и не оборачиваясь, громко и деловито сказал:
— Садитесь.
Не успела Землячка сесть в бричку, как ее провожатый тряхнул вожжами.
Сколько раз уже приходилось ей вверять себя незнакомым людям, обменявшись с ними лишь одной-двумя условными фразами. Кто он, этот человек, который везет ее? Она привыкла распознавать людей по мало уловимым признакам, на которые менее искушенные люди не обратили бы внимания.
Рабочий?… Да, мастеровой, рабочий с какой-нибудь небольшой фабрики. Нет в нем той подтянутости, той выправки, какая свойственна промышленному пролетарию. Возможно, работает в какой-нибудь мастерской или даже в деревенской кузнице. Но несомненно рабочий человек, и он внушает Землячке доверие. И не немец, хотя находились они еще в Германии, а поляк, говорит по-немецки неплохо, но его выдает произношение.
Возница упорно молчал, лишь изредка односложным цоканьем подгоняя лошадей.
— Нам далеко? — не выдержала, спросила Землячка, чтобы хоть как-то нарушить молчание.
Возница отрицательно помотал головой.
— Не так чтобы…
Лошади неторопливо бежали по широкому шляху, а по сторонам пестрели низкие аккуратные домики под серыми шиферными крышами.
Неожиданно возница свернул в узкий проулок и, натянув вожжи, остановил лошадей возле одного из домов яркого канареечного цвета.
— Вот, — сказал возница, спрыгивая с козел. — Побудете здесь до вечера.
Он вошел в сени. Землячка послушно последовала за ним.
Они очутились в сиявшей чистотой кухоньке. Блестели на полках начищенные кастрюли, на стенах висели разрисованные тарелки. Даже стол на кухне был накрыт накрахмаленной синей скатертью. Тотчас навстречу им в кухню вошла молодая белокурая женщина с пышно взбитой прической.
— О, gnadige Frau, — быстро заговорила она по-немецки. — Мы ждем вас, будьте как дома, здесь вам придется находиться до вечера.
— Располагайтесь, пожалуйста, — подтвердил возница. — Здесь хорошие люди, не подведут. Мое дело доставить вас сюда, отсюда все пойдет уже заведенным порядком… Бывайте!
Он кивнул своей спутнице и пошел прочь, и уже через минуту Землячка услышала, как бричка отъезжает от дома.
— Будете завтракать или сначала отдыхать? — заботливо осведомилась хозяйка. — Я приготовлю кофе.
Через пятнадцать минут Землячка сидела за столом, перед ней стояли эмалированный белый кофейник, кувшин с молоком и посыпанные тмином булочки, а спустя полчаса она лежала уже в постели на белоснежных простынях и пыталась заснуть, хозяйка настоятельно советовала ей отдохнуть, потому что ночь будет не очень спокойной и гостье надо собраться с силами.
Собраться с силами… Сколько их осталось позади, таких дней и ночей, когда приходилось держать себя в напряжении, мобилизуя все физические и душевные силы, быть мужественной и сильной, готовой преодолеть любые опасности, и сколько их еще будет впереди…
Но она старалась об этом не думать. Следовало хорошенько выспаться, отдохнуть, чтобы никакая случайность… И она заснула. Чувство самодисциплины оказалось сильнее всего, спала крепко, но едва хозяйка притронулась к ее плечу, Землячка открыла глаза и спросила:
— Пора?
— О да, да. — Хозяйка ласково улыбнулась: — Все уже собрались.
— А кто это — все?
— Ну, люди… — уклончиво ответила хозяйка.
В комнате горела лампа, занавески на окнах задернуты, за стеклами царила тьма, а из-за двери доносились приглушенные голоса.
Землячка быстро встала, оделась, посмотрелась в зеркало, поправила прическу… Что ж, она готова. Двинулась было к двери.
— Одну минуту, — остановила ее хозяйка. — Лучше рассчитаться сейчас. Два раза кофе, булочки и масло — три марки и четыре за помещение, всего семь марок.
Землячка усмехнулась: оказывается, это чисто коммерческое предприятие, а она-то вообразила, что находится у людей, как-то связанных с революционным движением.
Землячка вышла в кухню, там находилось человек пятнадцать; возле каждого на полу лежал небольшой тюк, и, к ее удивлению, хотя она и привыкла ничему не удивляться, у двери со скучающим видом сидел самый доподлинный немецкий жандарм.
Землячка всмотрелась в людей, с которыми ей приходилось переходить границу, все это были типичные местечковые евреи в картузах и кургузых пальто, хотя, впрочем, те, кто помоложе, были выбриты, одеты в пиджаки и очень напоминали приказчиков галантерейных магазинов.
Жандарм посмотрел на вошедшую невидящими голубыми глазами и ничего не сказал.
Какой-то рыжий еврей поднялся с табуретки и сел прямо на пол, освобождая место для женщины.
Так вот кто ее спутники! Она еще раз посмотрела на разбросанные на полу тюки и поняла: самые обычные контрабандисты. Валансьенские кружева, изготовленные во Франкфурте, гаванские сигары, сделанные в Гамбурге, и французский коньяк, сфабрикованный не дальше Лейпцига… Тем лучше! Эти люди то и дело шныряют через границу, их знают все, и они знают всех.
Не успела Землячка очутиться в кухне, как они тотчас замолчали, вероятно, посторонним не следовало слышать их разговор. На какие-то минуты воцарилось молчание. Но тут в наружную дверь осторожно постучали. Видимо, это был условный стук, потому что жандарм тотчас приотворил дверь, и с улицы в кухню нырнул чернобородый еврей в буром брезентовом плаще.
Должно быть, его-то и дожидались.
Чернобородый и жандарм о чем-то пошептались, и жандарм тут же покинул помещение, власть перешла к чернобородому.
— Тихо, выходите, — скомандовал чернобородый, стоя у двери и выпуская всех по одному.
— Идите, идите, gnadige Frau, — поторопила хозяйка Землячку.
— Мадам, — в свою очередь позвал ее чернобородый. — Держитесь до меня, иначе вы можете попасть не на ту квартиру.
— Вы получите с меня сейчас? — спросила Землячка, ей хотелось задобрить своего провожатого.
— Потом, потом.
Все, кому предстояло перейти границу, толпились возле палисадника, дожидаясь чернобородого и его даму. Контрабандисты догадывались, кто она, — не в первый раз русские революционеры переходили с ними границу, — хотя они предпочитали проявлять к ней поменьше интереса.
Небо заволакивали тучи, в нескольких шагах ничего уже нельзя было разобрать, и Землячка не сразу заметила лошадь, запряженную в небольшую повозку.
Все тюки лежали уже в повозке, чернобородый потянул к себе саквояж Землячки.
— Я сама, — сказала Землячка.
— Еще успеете, — сказал чернобородый, отбирая у нее саквояж.
Сперва шли по дороге, повозки не было слышно, ее колеса, должно быть, были на резиновом ходу.
Шли недолго, может быть, с полчаса, дорога пошла под уклон, начались какие-то кусты…
Все кинулись к повозке разбирать свои вещи.
Кто-то загалдел, кто-то вполголоса вступил с кем-то в перебранку.
— Ша! Ша! — прикрикнул на них чернобородый. — Самоубийцы!
Вновь наступила тишина.
— Ложитесь, мадам.
Чернобородый пригнул Землячку к земле.
Все точно растворились во мраке. Землячка не столько видела, как ощущала, что ее спутники ползут, и она тоже ползла, продираясь через редкие кусты и вдавливаясь локтями и коленками в землю.
Движение сквозь кусты тоже продолжалось с полчаса.
— Ша, — негромко выдохнул чернобородый, и снова все стихло. — Вот мы уже и на границе, — прошептал чернобородый специально для Землячки. — Не вздыхайте, все в порядке уже.
Он встал и, не очень даже прячась, пошел вперед.
Землячка почему-то не опасалась предательства, настолько деловито и привычно вели себя контрабандисты.
И действительно минут через десять чернобородый снова возник из темноты, был он уже не один, а с ним рядом шел… да, солдат, обычный русский солдат с обычной, перекинутой через плечо винтовкой.
— Сколько вас? — спросил солдат деловым тоном. — Вставай, вставай…
Все встали.
Солдат пальцем пересчитал контрабандистов.
— Эта тоже с вами? — ткнул он пальцем в Землячку.
Поглядел куда-то в сторону, прислушался.
— Шешнадцать, — сказал он. — С каждого по рублю, да не задерживайтесь, а то еще втяпаешься тут с вами…
Рубли, должно быть, были приготовлены заранее, за Землячку рубль отдал чернобородый.
Солдат пересчитал деньги и отступил в сторону.
— А таперя беги, да побыстрей, а то на заставе заметят, начнут палить…
Впереди тянулась светлая пограничная полоса.
Тут уж не поползешь, все видно как на ладони.
Контрабандисты понеслись, как зайцы.
— Мадам! — крикнул чернобородый.
Землячка поняла, что ей тоже надо бежать. Размахивая саквояжем, она понеслась следом за другими.
Она не знала, бежит за ней чернобородый или не бежит, но отступать было поздно. Вперед, вперед…
Каблук на правом ботинке сдвинулся на сторону, но было не до каблука: солдат солдатом, однако поблизости где-то и другие солдаты, которые не получили «шешнадцати рублей»…
И вдруг она снова очутилась в темноте, и тут же возник чернобородый.
— Уже, — сказал он. — Можно уже садиться в поезд.
Он пошел вперед, возле них не было никого, контрабандистов и след простыл.
Опять они пробирались сквозь кусты, шли редкой низкорослой рощицей, прошли версты две и очутились в каком-то местечке, повсюду чернели приземистые неуклюжие домишки. Ни в одном окне ни проблеска.
Чернобородый постучал в чье-то неосвещенное окно.
— Хаим, Хаим, принимай гостей! — закричал он, нисколько не таясь, и тут же перешел на жаргон.
Должно быть, чернобородого слушали, потому что говорил он не переставая, хотя из дома никто и не показывался.
Наконец щеколда щелкнула, и другой, такой же чернобородый еврей показался на улице.
Первый чернобородый объяснил второму, что женщину, которую он привел, надо приютить до утра, а утром доставить на станцию.
И вслед за тем Землячка очутилась в кромешной тьме своего нового жилища, в темноте ей что-то постелили и предложили прилечь до утра.
Разбудили ее детские голоса. Она открыла глаза. Со всех сторон, из-за печки, и с печки, из-под грязных ситцевых занавесок глядели на нее кудрявые головенки. Сама она лежала на сложенном ватном одеяле, сшитом из разноцветных кусочков, приобретших за свое долгое существование серый унылый цвет.
Не старая еще, непричесанная еврейка с белым лицом и запавшими черными глазами подошла к своей квартирантке.
— Цыц! — прикрикнула она на детей, пытаясь выдавить на своем лице какое-то подобие улыбки. — Вам чаю или кофе?
Она поставила перед гостьей немытую чашку, достала из печки ухватом чугунок, налила в чашку какое-то пойло, которое не было ни чаем, ни кофе, и высыпала на стол несколько кусков сахару, которые сразу приковали к себе взоры всех ребятишек.
Да, это была уже Россия: грязь, нищета, голодные дети… И все-таки это была Россия, куда так стремилась Землячка из надоевшего ей Парижа.
Она с опасением посмотрела на придвинутую чашку и отказалась:
— Спасибо, я не проголодалась.
Через час хозяин дома довез ее в грязной и скрипучей бричке до железнодорожной станции, станцию эту Землячка видела впервые, но она ничем не отличалась от тысяч подобных станций: все те же деревянные диваны, затхлые запахи и грязный перрон…
А еще через час она ехала в поезде, сидела в вагоне второго класса у окна и смотрела на мелькавшие за окном поля, овраги и перелески.
Она была в России. В России, которой отдана вся ее жизнь.
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои…
Против течения
1 августа 1914 года Германия объявила России войну.
В сентябре Ленин знакомит живущих в Берне большевиков со своими тезисами о войне.
Тезисы пересылаются в Россию, их обсуждают, к ним присоединяются все большевистские партийные организации, и в ноябре 1914 года газета «Социал-Демократ» публикует написанный Лениным манифест ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия».
Развитие исторических событий нельзя было пустить на самотек, и сотни партийных работников изо дня в день разъясняли рабочим, что «превращение современной империалистической войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг».
Именно в эти дни и произошло решительное размежевание между истинными революционерами и оппортунистами.
2 ноября 1914 года большевистские депутаты Государственной думы созвали в Озерках близ Петрограда конференцию с участием представителей большевистских организаций. Конференция обсудила тезисы Ленина и манифест ЦК о войне и полностью их поддержала.
А 4 ноября полиция арестовала всех участников конференции — их выдали провокаторы. Депутатов-большевиков предали суду.
Депутаты Бадаев, Петровский, Муралов, Самойлов и Шагов обвинялись царским правительством в государственной измене, а обвинительным материалом послужили отобранные при аресте тезисы Ленина «Задачи революционной социал-демократии в европейской войне» и манифест ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия».
Депутаты-большевики использовали трибуну суда для того, чтобы открыто заявить о лозунгах партии против войны, и были приговорены к ссылке на вечное поселение в Енисейскую губернию.
О суде над депутатами-большевиками Землячка узнала в Москве из буржуазных газет.
И либеральный «День», и кадетская «Речь» писали о процессе, но очень уж однобоко, «Речь» так даже благодарила царский суд за то, что тот рассеял легенду, будто социал-демократические депутаты желали поражения царским войскам.
Правда содержалась в статье Ленина, напечатанной в «Социал-Демократе».
Землячка получила эту газету со странной оказией. Жила Землячка на Сретенке, в дешевых меблированных комнатах, по фальшивому паспорту, под чужой фамилией. Соседям по номерам она говорила, что закончила недавно курсы сестер милосердия и пытается устроиться в какой-нибудь полевой лазарет. Это выглядело достоверно, такое увлечение в те дни было свойственно многим дамам. Никто из товарищей по партии в номера к ней не приходил, для встреч существовали особые адреса и явки. И вдруг одним июньским утром к ней стучатся, открывается дверь и в номер входит экзальтированная пышная дама с таким же пышным кружевным зонтиком.
— Розалия Самойловна, голубушка!
С распростертыми руками дама бросается к Землячке.
— Простите…
— Не смущайтесь, голубушка, я знаю, вы на нелегальном положении, — восклицает дама. — Мы же ведь знакомы!
У Землячки профессиональная память на лица. Да, они встречались… В Женеве! Там Землячка общалась с Сонечкой Любимовой, киевлянкой, студенткой Цюрихского университета. Сонечка и познакомила ее с этой дамой. Жена московского адвоката. Либеральная дама, заигрывающая с революционерами.
— Вы мне так нужны, — продолжала щебетать дама. — У меня к вам поручение из Швейцарии.
— Но как вы меня нашли? — недоумевала Землячка. — Как нашли?
— Очень просто, — охотно объяснила дама. — Встречаю знакомого адвоката, господина Медема, он тоже революционер, раньше он скрывался под псевдонимом Гольдблат, спрашиваю его — не поможете ли вы мне отыскать Розалию Самойловну Берлин? А он говорит: вашу Розалию Самойловну наверняка зовут сейчас как-нибудь иначе, но если только она в Москве, ищите ее в меблированных комнатах или на Сретенке или на Божедомке, все нелегальные большевики там останавливаются. Вот я и отправилась сюда, не беспокойтесь, я не называла вашей фамилии, просто описала вашу наружность, такая симпатичная дама, говорю, в пенсне, и не очень любит разговаривать. Горничная сразу указала мне ваш номер…
Со стороны Гольдблата довольно подло наводить кого бы то ни было на след Землячки, хотя от бундовцев только того и жди.
— Давно вы из Швейцарии? — поинтересовалась Землячка. — И что за поручение?
— Ах, лучше не спрашивайте, — заахала дама. — Все так неожиданно! Путешествовала по Франции, а тут война. Я в Швейцарию, все-таки спокойнее, нейтральная страна. Прожила до весны, а тут деньги на исходе, вижу, пора собираться домой. А как? Вы себе представить не сможете! Через всю Италию до Бриндизи, оттуда в Афины, из Афин в Салоники, из Греции в Болгарию, Пловдив, Бухарест, Кишинев, Киев, и наконец я в Москве!
Землячка посочувствовала:
— Пришлось вам покружить!
— Если бы вы только знали, сколько я перенесла мытарств. А все война. То меня ругают, то приветствуют за то, что я русская… А перед отъездом из Женевы Сонечка спрашивает: вы не встретитесь с Розалией Самойловной? А как же, говорю, обязательно. Тогда у меня просьба, это она мне, передайте ей, пожалуйста, зонтик.
— Какой зонтик? — удивилась Землячка.
— Вот этот! — Дама потрясла своим зонтиком. — Сонечка ручалась, что вы обрадуетесь!
Дама совала зонтик в руки Землячке.
— А на что мне, собственно…
— А вы ручку, ручку отверните, — кудахтала дама. — Какая же вы неопытная! Вас ждет маленький сюрприз…
Дама тут же принялась откручивать ручку и, повернув затем книзу полую палку зонтика, вытряхнула несколько печатных листков.
На этот раз ахнула сама Землячка: оказывается, Сонечка прислала два номера «Социал-Демократа».
Землячка обласкала гостью, напоила чаем, звала почаще приходить в гости, но на другой же день переменила квартиру.
Землячка стала обладательницей целого богатства. Семь статей Ленина! Вот кто раскрыл всю механику царского суда, расправившегося с «внутренними врагами»!
Через несколько дней Землячка шла по Кузнецкому мосту. Неспокойная и настороженная. Она только что была на особо засекреченной явке, отдала печатать на гектографе ленинские статьи и шла, незаметно оглядываясь, проверяя, не увязался ли за нею шпик.
Остановилась перед витриной магазина Альшванга, делая вид, что рассматривает дорогое женское белье.
Как будто никого…
Свернула на Неглинную, увидела идущего навстречу нарядного господина в канотье.
Землячка рада была бы зайти в любые ворота… Поздно!
— Розалия Самойловна! — громко и нараспев воскликнул господин в канотье актерским баритоном.
Землячка заторопилась подойти к нему.
— Молчите…
Это был Гольдблат, как всегда самодовольный и еще более развязный, чем много лет назад в Лондоне.
— Пустяки, — непринужденно продолжал Гольдблат, не обращая внимания на предупреждение Землячки. — Бояться больше нечего, теперь все мы — русские патриоты!
— Думаю, что патриотизм мы понимаем по-разному, — негромко сказала Землячка. — И я вовсе не хочу попадать в руки врагов.
— Мнительность! — вызывающе ответил Гольдблат. — Каких это врагов имеете вы в виду?
— Голубые мундиры, — тихо произнесла Землячка. — Охранку.
— Бросьте! — пренебрежительно возразил Гольдблат. — У нас у всех теперь один враг — немцы!
— Вы желаете победы самодержавию? — переспросила Землячка, не веря своим ушам.
— Вот именно! — Гольдблат даже усмехнулся. — И, кстати, я уже не Гольдблат, а присяжный поверенный Медем, нам теперь псевдонимы ни к чему.
Землячка посмотрела на него с недоумением:
— Вы что же, простили самодержавию и погромы, и черту оседлости, и процентную норму?
— Не надо преувеличивать, — бодро сказал Гольдблат. — Прошлое не повторится, наш патриотизм будет оценен, и после войны мы получим…
— Что?
— Национально-культурную автономию!
Мимо лилась толпа, торопились подтянутые офицеры, шли с покупками дамы, важно вышагивали штатские люди в полувоенной форме, а Землячка и Гольдблат стояли перед входом в Петровский пассаж и продолжали свой спор.
— Если бы вы только знали, — с горечью произнесла Землячка, — сколько вреда вы приносите.
— Кому? — саркастически спросил Гольдблат.
— Всему революционному движению.
— Если вы так думаете, Розалия Самойловна, — независимо произнес Гольдблат, — тогда вам действительно лучше вернуться в Швейцарию к своему Ленину.
На этот раз усмехнулась Землячка:
— Боюсь, господин Медем, что не так уж далеко время, когда не мне придется ехать в Швейцарию, а Ленин переедет из Швейцарии в Россию…
Гольдблат испуганно оглянулся:
— Не смею задерживать.
Он притронулся двумя пальцами к шляпе и зашагал прочь от своей собеседницы.
— Одну минуту, — остановила его Землячка. — Надеюсь, никто не будет знать о нашей встрече?
— За кого вы меня принимаете? — обиженно процедил сквозь зубы Гольдблат. — Все-таки и вы и я — революционеры.
Но Землячка на всякий случай свернула в ближайший переулок, а потом и в другой — постаралась уйти поскорее и подальше.
«Да, все мы за революцию, — с горечью думала Землячка, — но только понимаем ее по-разному».
Все участники Второго съезда партии от Бунда — Абрамсон, Гольдблат, Либер, Айзенштадт и Коссовский, в свое время проклинавшие самодержавие за погромы и преследование евреев, стали вдруг на сторону царского правительства и принялись проповедовать войну до победного конца. А в те дни каждый случай ренегатства наносил жесточайший вред революции.
Однако история развивалась так, как предвидел Ленин, война и экономические трудности истощили народное терпение, самодержавие изжило себя.
27 февраля 1917 года произошла буржуазно-демократическая революция.
Ленин тяжело переносил разлуку с родиной.
Особенно тяжела для Владимира Ильича была вторая эмиграция. После поражения первой русской революции в стране свирепствовал черносотенный террор. Ленин вынужден был скрываться за границей.
При первой возможности Владимир Ильич возвращается в Россию.
3 апреля 1917 года Ленин приезжает в Петроград.
Площадь перед Финляндским вокзалом заполнена народом. Ленин с броневика произносит свою знаменитую речь, в которой приветствует участников революции и призывает их к борьбе за социалистическую революцию.
История не сохранила текста этой ленинской речи, однако все ее помнят, повторяют, пересказывают… Отголоски ее докатываются до Москвы, и речь эта становится программой дальнейшей деятельности большевиков.
7 апреля «Правда» публикует статью Ленина «О задачах пролетариата в данной революции» — знаменитые «Апрельские тезисы».
"…Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, — ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства.
…Никакой поддержки Временному правительству, разъяснение полной лживости всех его обещаний…"
Но не все согласны с Лениным. Ему возражают Каменев, Рыков, Пятаков, они отвергают возможность победы социализма в одной стране, отрицают право наций на самоопределение.
Однако представители всех организаций партии единодушно голосуют за ленинские резолюции и тем самым свидетельствуют о политической монолитности партии.
В июле состоялся Шестой съезд партии. Ленин отсутствовал на нем, скрываясь в эти дни по решению ЦК в Разливе, но по существу именно он руководил работой съезда.
Все решения съезда были нацелены на подготовку пролетариата и беднейшего крестьянства к вооруженному восстанию, к победе социалистической революции.
Но в самый разгар подготовки восстания в полуменьшевистской газете «Новая жизнь» Каменев от себя и от имени Зиновьева поместил интервью, в котором заявил о своем несогласии с решением ЦК о восстании.
Ленин тут же пишет в Центральный Комитет письмо:
"Уважающая себя партия не может терпеть штрейкбрехерства и штрейкбрехеров в своей среде. Это очевидно. А чем больше вдуматься в выступления Зиновьева и Каменева в непартийной прессе, тем более бесспорно становится, что их поступок представляет из себя полный состав штрейкбрехерства…
Мы не можем опровергнуть кляузной лжи Зиновьева и Каменева, не вредя еще больше делу. В том то и состоит безмерная подлость, настоящее изменничество обоих этих лиц, что они перед капиталистами выдали план стачечников, ибо, раз мы молчим в печати, всякий догадается, как стоит дело.
Каменев и Зиновьев выдали Родзянке и Керенскому решение ЦК своей партии о вооруженном восстании и о сокрытии от врага подготовки вооруженного восстания… Это факт. Никакими увертками нельзя опровергнуть этого факта".
Враги, осведомленные предателями, ждали революционного выступления в день открытия Второго съезда Советов, намеченного на 25 октября.
Восстание началось 24-го.
Годы войны Землячка провела в Москве.
В течение 1915-1916 годов она работала членом Московского бюро ЦК.
Быть большевиком в те годы было особенно опасно — всем, кто выступал против войны, в соответствии с законами военного времени грозила смертная казнь.
Чуть ли не каждое утро начиналось у Землячки с посещения заводов и фабрик, она руководила там работой партийных комитетов, проводила рабочие собрания, пропагандировала произведения Ленина.
После Февральской революции происходит легализация революционных партий, и Землячка становится секретарем Московского комитета, впервые действующего в легальных условиях.
Землячка участвует в работе Апрельской конференции, Шестого съезда партии, голосует за предложения Ленина.
Все ближе решительное столкновение пролетариата и буржуазии.
Подготавливая контрреволюционный переворот, буржуазия созывает в Москве представителей имущих классов на Государственное совещание.
ЦК РСДРП (большевиков) поручает Московскому комитету организовать однодневную забастовку протеста, и 12 августа, в день открытия Совещания, в Москве бастует около четырехсот тысяч рабочих. Землячка и другие руководители Московского комитета добиваются остановки всех крупных заводов Москвы.
Близятся решающие бои.
В начале осени Московский комитет назначает Землячку ответственным организатором Рогожского района.
В эти дни особенно ярко проявляется ее талант организатора рабочих масс. В районе нет фабрики и завода, где бы она не выступила. Она рассказывает рабочим о деятельности Ленина, о программе партии, о работе московской большевистской организации.
Много внимания уделяет она пропаганде в воинских частях. Она хорошо помнит, к чему в 1905 году привела недооценка работы среди солдат. Больше эта ошибка не должна повториться…
Она шла к цели, указанной Лениным, и он приблизился, с неумолимой закономерностью приблизился определенный Лениным переломный день истории человечества.
Обманчивая тишина
Странное, страшное даже ощущение. Землячка чувствовала, как что-то сдавливает ей сердце. Такое ощущение испытывают перед грозой люди с больным сердцем. Небо точно выцветает, не хватает воздуха, и человек томительно ждет грозового раската грома.
Революционное чутье ее не обманывало. Жизнь шла как будто бы своим чередом, выходили газеты различных направлений, Временное правительство незаметно стягивало в столицу войска, где-то за кулисами меньшевики сговаривались с буржуазией, и вдруг — очистительный удар грома!
Утро 25 октября 1917 года. Московский комитет большевистской партии. Обсуждается положение в городе.
Заседание ведет Лихачев. Только что он дал слово представителю Лефортовского района. Землячка видит, как к Лихачеву подходит юноша в солдатской гимнастерке. Дежурный телефонист. Наклоняется, что-то говорит, протягивает клочок бумаги.
Лихачев встает, поднимает руку.
— Товарищи, внимание! Телефонограмма от товарища Ногина из Петрограда…
Напряженно звучит голос Лихачева, и по одному его тону присутствующие догадываются, что сообщение сейчас последует чрезвычайное.
— "Сегодня ночью Военно-революционный комитет занял вокзалы, Государственный банк, телеграф, почту, — читает Лихачев. — Теперь занимает Зимний дворец. Временное правительство будет низложено. Сегодня в 5 часов открывается съезд Советов. Переворот прошел совершенно спокойно, ни единой капли крови не было пролито. Все войска на стороне Военно-революционного комитета".
Тут и говорить не о чем — все, к чему готовились в течение долгих лет, свершилось, теперь остается только действовать, промедление в выступлении подобно смерти.
Создан партийный боевой центр. Отправлены телеграммы в ближайшие города. Москва ждет подкреплений. Участники заседания расходятся по районам…
Вот когда принесла свои плоды работа Землячки в военной организации! Двенадцать лет прошло с того дня, как ее арестовали в Кисловском переулке. О чем шла тогда речь? Почему Декабрьское вооруженное восстание окончилось неудачей? Слабая связь с солдатскими массами, недооценка армии. Военные части не поддержали восстания. Учтите ошибки, охватите своим влиянием армию, учил Ленин. Казалось бы, что за работа! Объяснить солдатам причины обнищания деревни, найти честных офицеров, ненавидящих казенную муштру. Тут слово, там слово, только иногда слова бьют сильнее шрапнели!
После свержения царизма Землячка и в Московском комитете, и в Рогожском районе, куда ее направили, как тогда говорили, организовывать массы, не забывала о значении армии.
В Петрограде восстание. Москве нужно незамедлительно поддержать Питер. Расходясь по районам, партийные работники советовались — что делать, с чего начать. Землячка была опытной пропагандисткой, но недаром Владимир Ильич особо отметил ее организаторский талант — чего стоят все разговоры, если они не приводит к действиям.
— Выступить перед солдатами, разбудить их сознательность, — говорит кто-то.
— Время разговоров прошло, — возражала Землячка. — Не призывать, а действовать. На пороховых складах двести миллионов патронов. Их надо немедля забрать. Иначе рабочим нечем будет стрелять. Отправиться по фабрикам. По заводам. Создать отряды Красной гвардии…
В тот же день Московский комитет призвал рабочих, солдат, железнодорожников, служащих к установлению власти Советов.
Землячка отправилась на Алексеевскую улицу, в Рогожский Совет, там ее ждали Прямиков, Мальков, Калнин.
— По заводам, товарищи, создавать рабочие отряды!
Но еще до обращения Московского комитета слух о восстании в Питере достиг заводов и фабрик.
Началась открытая борьба за власть.
Отряды красногвардейцев вместе с революционно настроенными солдатами заняли почту и телеграф…
Восстание неизбежно. Это понимали все. Но единства в Московском комитете не было. Рабочие отряды стремились захватить все жизненно важные центры, а среди работников Московского комитета нашлись такие, кого заворожила фраза о том, что «переворот прошел совершенно спокойно» и что «ни единой капли крови не было пролито». Договориться, произвести переворот мирным путем, найти общий язык…
Только к вечеру был создан Военно-революционный комитет, и это промедление позволило силам контрреволюции, в свою очередь, образовать «Комитет общественной безопасности».
Лишь в ночь на 26 октября Военно-революционный комитет разослал приказ о приведении революционных сил в боевую готовность. Юнкера окружили Кремль, а вернувшийся из Питера Ногин вступил в переговоры с командующим Московским военным округом полковником Рябцевым.
Получив известие о наступлении генерала Краснова на Петроград, Рябцев требовал вывода из Кремля 56-го полка, возврата вывезенного из Арсенала оружия и ликвидации Военно-революционного комитета.
Ультиматум Рябцева был отвергнут.
Утром 28 октября Рябцев обманным путем добился снятия в Кремле всех постов и караулов, открытия Троицких и Боровицких ворот. Юнкера ворвались в Кремль, обезоружили оставленных там солдат и учинили над ними кровавую расправу.
Рабочие ответили всеобщей забастовкой, а юнкера заняли Китай-город и вновь захватили почтамт и телеграф.
Завязались ожесточенные уличные бои. На Тверском бульваре и на Сухаревской площади. На Остоженке и на Пречистенке. На Садовой и у Никитских ворот…
Землячка вместе с другими товарищами из Рогожского ревкома все время находилась в гуще рабочих. На заводах Гужона и Дангауэра вооруженные отряды рабочих готовились к выступлению. Железнодорожники установили контроль над всеми вокзалами, предотвратив прибытие войск, направленных в распоряжение Рябцева. На фабрике Остроумова работницы говорили, что если их мужья струсят, они сами пойдут гнать юнкеров…
В гостинице «Метрополь» юнкера расположились на верхних этажах и время от времени, заметив на улице скопления людей, обстреливали Неглинную.
1 ноября революционно настроенные войсковые части подвезли артиллерийские орудия прямо к Большому театру и весь день прямой наводкой били по «Метрополю».
Здание стояло окутанное дымом и пылью. Кирпичи, обломки железа, битое стекло сыпались на тротуар. Юнкера бежали.
К вечеру перестрелка стихла, и вновь наступила тишина.
В течение всего следующего дня красногвардейские отряды теснили юнкеров. После ожесточенных схваток были заняты Солянка, Старая и Лубянская площади, Никольская улица. Красногвардейцы ворвались в Китай-город.
Измучившись за длинный суматошный день, Землячка согласилась уйти домой на короткую передышку. Товарищи из Рогожского ревкома настаивали на том, чтобы она выспалась. Было очевидно, что утром бои возобновятся, и Землячка понимала, что без нескольких часов сна она дольше не выдержит.
Она добралась до дому и едва переступила порог квартиры, как почувствовала смертельную усталость. Хотелось лишь добраться до кровати и заснуть.
Но не успела она прилечь, как в квартиру позвонили.
Землячка приподнялась, прислушалась. Разговаривали Мария Самойловна и Наумов, он чего-то добивался, а та как-то неуверенно возражала, оберегала покой сестры, в последние дни Маня не один раз уже говорила сестре, что ей нужна передышка, нельзя доводить себя до такого изнеможения.
— Что такое? — крикнула Землячка.
— Розалия Самойловна! — также громко отозвался Наумов. — Я за вами
Землячка стояла уже в дверях.
Оказывается, за ней пришел не один Наумов: в передней, у дверей, стояли еще Иванов и какой-то незнакомый солдат, они молча переминались с ноги на ногу, не вмешивались в пререкания Наумова с Марией Самойловной.
— Я слушаю вас, товарищи, — прервала Землячка спор. — Что случилось?
— Беда, — ответил Наумов и неуверенно и как-то решительно в то же время. — А может, и еще хуже. Революцию предают.
Землячка почувствовала себя уже вполне собранной.
— Кто? Где?
Но она уже догадалась, в чем дело, она этого все время боялась и не верила, что это может случиться.
— Комитет договаривается с юнкерами, — лаконично объяснил Наумов. — Их собираются выпустить из Кремля.
Землячка все поняла. Вот уже три дня как ее тревожило опасение, что товарищи из Московского военно-революционного комитета пойдут на соглашение с юнкерами.
— Откуда вы об этом узнали?
— Идет заседание Военно-революционного комитета, я только что оттуда, — объяснил Наумов. — Меня не пустили на заседание. Знаете Наташу?… В канцелярии?
Землячка кивнула.
— Она и сказала. Смидович, да и другие говорят, что надо избежать кровопролития.
— Юнкеров хотят отпустить с оружием в руках, — добавил Иванов.
— А потом они всех нас перестреляют, — вмешался, наконец, в разговор незнакомый солдат.
Разговоры о том, что надо прийти к соглашению с юнкерами, возникали в Военно-революционном комитете постоянно. Разговоры о том, что преступно разжигать братоубийственную войну, что следует избежать ненужного размежевания, что народ един…
В Центральном Комитете партии тоже шли споры. Троцкий и Каменев не придавали Москве значения, они считали, что поднимать там восстание не нужно. Троцкий считал, что судьба революции решается в Петрограде, где находился он сам. Ленин не соглашался с ним. Он придавал большое значение Москве.
— Что делать, Розалия Самойловна? — спросил Наумов.
— Действовать без промедления, — коротко произнесла Землячка, произнесла именно то, чего ждали от нее и Наумов, и Иванов, и пришедший с ними незнакомый солдат. — Пусть Иванов и вот этот товарищ, — она указала на незнакомого солдата, — идут в казармы, Иванов найдет Будзынского, пусть он выводит свой полк, а я позвоню Костеловской и мы вместе нажмем на ревком…
В Будзынском Землячка была уверена. Студент-медик, он незадолго до войны вступил в партию, был мобилизован в армию, произведен в прапорщики, направлен на фронт, там его и арестовали за агитацию среди солдат против войны. Будзынского привезли в Москву, ему грозил военный суд, но с судом что-то медлили и в течение двух лет содержали в Лефортовской тюрьме.
Летом 1917 года Временное правительство объявило политическую амнистию, и Керенский провозгласил, что всем амнистированным офицерам оказывается честь вступить в армию.
Вот тогда-то, в августе 1917 года, Будзынский и пришел к Землячке в Московский комитет посоветоваться — как быть, вступать или не вступать в армию.
Землячка даже руками всплеснула.
— Вы еще колеблетесь! Такая прекрасная возможность попасть в солдатскую среду. Желаю успеха.
Будзынский попал в 55-й запасной пехотный полк и с тех пор стал частым посетителем Московского комитета.
Да, в Будзынском Землячка уверена.
Ну, а Мария Михайловна Костеловская — старый товарищ по партии. С первых дней Февральской революции Костеловская возглавляет в Москве Пресненский райком.
Прежде чем выйти из дому, Землячка позвонила Костеловской. В те дни дозвониться куда-нибудь было не так-то просто. И все-таки она дозвонилась.
Костеловской не оказалось ни дома, ни в райкоме.
— Где же искать Марию Михайловну?
— Если не ошибаюсь, — ответил в райкоме вежливый девичий голосок, — она или на Трехгорке или же вместе с рабочими Трехгорки отправилась в Московский Совет.
Землячка заторопилась вместе с Наумовым на Тверскую.
На улице кое-где слабо светятся уличные фонари. Тихо, как перед грозой. Безлюдье. Лишь изредка, как призрачная тень, мелькнет торопливый прохожий. Темно и таинственно в Александровском саду. Сереют неподвижные здания. Осталась позади темная глыба Манежа. Москва точно вымерла. Только на углах Тверской мерцают голубым призрачным светом газовые фонари…
Тихо. Нигде никого. Впрочем, обстрелять могут из любого подъезда. Бродячие патрули юнкеров переходят из дома в дом. Поди разбери, где они сейчас прячутся.
Торопится Землячка, торопится ее спутник.
Вот он, генерал-губернаторский дом. За окнами слабый свет — там не спят, там-то жизнь идет полным ходом.
Показали часовому у входа свои удостоверения и — вверх по лестнице.
Здесь опять пост.
— Заседание закрытое, товарищ…
Землячка помахала перед носом сурового молодого человека своим мандатом.
— Я член Московского комитета!
Еще один молодой человек преградил ей дорогу у самой двери в зал, где заседал Военно-революционный комитет.
Но не успела Землячка протянуть руку к двери, как услышала за своей спиной низкий грудной голос:
— А ну, деточка…
Так и есть, Мария Михайловна Костеловская собственной персоной.
Полная представительная дама, она важно проплыла и мимо Землячки, и мимо охранявшего вход молодого человека, толкнула дверь и вошла в зал, на ходу приглашая Землячку:
— Заходите, заходите, Розалия Самойловна.
В зале находились Ломов, Муралов, Усиевич, Владимирский, Розенгольц, Ведерников, Штернберг… Меньшевиков среди них уже не было; их поначалу ввели и состав ревкома, но вскоре они из него вышли.
«Тем лучше, — подумала Землячка, — значит, можно говорить начистоту».
Тускло мерцала под потолком хрустальная люстра. Члены ревкома расположились вдоль большого продолговатого стола, и тут же, опираясь на угол стола, сидел председатель Рогожского ревкома Прямиков.
Землячка с облегчением подумала, что вместе с Прямиковым им легче будет выступать от своего района.
На председательском месте, утонув в кресле, сидел Смидович, понурый, усталый и как будто даже испуганный. Не очень-то приветливо посмотрел он на вошедших.
— Ну что ж, товарищи, раз уж пришли… — негромко и как бы нехотя произнес Смидович и, мирясь с неизбежностью, не договорил фразы.
Между окон стояли и сидели на подоконниках представители районных ревкомов. Землячка сквозь сумрак вглядывалась в лица. Их было не так-то много, партийных работников, пришедших сюда со всей Москвы. Позади Прямикова стоял неподвижный Калнин, а чуть подальше, у окна, Мальков…
Все-таки здесь было на кого опереться!
Неспокойно на сердце у Землячки. Смидович боится решительных действий. Не зря же он вместе с Рыковым и Каменевым выступал в апреле на Всероссийской конференции партии против ленинского лозунга передачи власти Советам. Смидович считал ошибочной установку на переход к решительным действиям. Как заладил, так и твердит до сих пор, что сил мало, что солдаты не выступят, что передышка выгодна…
Землячка опровергла тогда на конференции Смидовича, письменно заявила от имени десяти делегатов-москвичей, что Смидович плохо осведомлен о настроении московских рабочих.
— Я все время среди рабочих, — говорила Землячка. — Ленинский лозунг получил полную поддержку на всех рабочих собраниях!
Какой-то товарищ в шинели железнодорожника, сидевший у самой двери, поднялся, выдвинув свой стул вперед.
— Садитесь, товарищ Землячка.
— Да, да, садитесь, — примирительно пригласил ее вслед за железнодорожником и Смидович. — Вы вовремя пришли, Розалия Самойловна, мы только что предоставили слово товарищу Прямикову, будем слушать доклад Рогожского района.
Прямиков оглянулся на Землячку, и тут же к ней приблизился Мальков.
— Рогожский ревком в полном составе, — без тени улыбки констатировал Владимирский.
— Мне много докладывать не придется, — сказал Прямиков. — У нас в районе узнали о подписании мирного договора с юнкерами. Нет, товарищи, так дело не пойдет. Рабочие нашего района поручили передать Военно-революционному комитету, что они не согласны на условия договора. Рабочие и солдаты не позволят выпустить из Кремля юнкеров в белых перчатках. Мы облекли вас доверием, а вы гарантируете юнкерам жизнь и свободу с оружием в руках? Нет, товарищи, вы должны подчиниться голосу тех, кого вы взялись вести…
Тут вмешалась Костеловская, протянула перед собой руку, впрочем, ни на кого прямо не указывая.
— Соглашатели развратили центр, — промолвила она с необычной для нее резкостью. — Я имею в виду соглашателей в нашей собственной среде. Хватит говорить о грядущем социализме, пора его творить. Если вы не измените позицию, вы будете сметены районами…
— Вы ничего не понимаете, — перебил ее Владимирский, дергая себя за бородку. — Вы не поняли самого главного, власть в наших руках, нам не страшны юнкера.
— А вы знаете, что делали юнкера с пленными рабочими? — закричал кто-то, отделившись от стены и выступая вперед. — Превратили «Прагу» в тюрьму. Били по щекам, издевались! Пришли в подвал и бросили арестованным груду обглоданных костей. Как собакам. Так и сказали: нате, собаки, жрите.
Тут к оратору, говорившему о поведении юнкеров, приблизился человек в военной форме, с темными полосами на плечах, оставшимися от снятых погон.
— Я офицер, из Городского района, — сказал человек в военной форме. — Кремлевский гарнизон должен быть предан военно-революционному суду. Вы все боитесь столкновения, боитесь применить оружие, а юнкера расстреливают солдат у Кремлевской стены. Слишком низко они себя ведут, чтобы с ними о чем-то договариваться!
Смидович карандашом постучал о стакан, тоненький дребезжащий звук остановил говорившего.
— Подождите, товарищ, так нельзя, — прервал его Смидович. — Не поддавайтесь страстям, мы должны мыслить государственно. Зачем нам лишнее кровопролитие? Меньшевики и объединенцы готовы вступить с нами в коалицию. Не надо обострять борьбу, мир с юнкерами уже подписан.
Землячка выпрямилась и встала прямо против Смидовича.
Вот когда пришло время проявить всю свою бескомпромиссность. Никогда в жизни не ощущала она так свою ответственность перед партией, как в эту ноябрьскую ночь. Ах, как обманчива ночная тишина! Громадный город распростерся за окнами. Ночь, тишина, мрак… Но город не спит. Это ощущают все, кто находится в зале. Город ждет. Ждут те, кто засел в Кремле, в Александровском училище, в «Праге», в подвалах и на чердаках многоэтажных каменных домов. Ждут проявления слабости, колебаний, уступок. Ждут рабочие. Ждут указаний своей партии. Ждут, когда большевики поведут московских пролетариев в последний и решительный бой.
У каждого человека наступает в жизни момент наивысшего подъема, когда он получает возможность проявить себя наиболее полно и совершенно…
Вспоминая впоследствии об этом заседании Московского ревкома, Землячка считала, что именно в эту ноябрьскую ночь ее жизнь достигла наивысшей кульминации. Долгие годы учения, книги, Чернышевский, Маркс, Ленин, страдания народа и осознание своей сопричастности с народом, революционная деятельность, признание Ленина вождем и бескомпромиссная борьба под его знаменем — все это должно было проявиться в решающий момент, все, все, что было до этого, сконденсировалось и выплеснулось в этот момент, вот когда она каждым своим нервом, каждой клеточкой своего мозга почувствовала себя большевичкой!
— Прошу слова, — сказала она, — Петр Гермогенович, я настаиваю, чтобы вы немедленно дали мне слово… Мы проигрываем в глазах масс и проиграем еще. Да, Петр Гермогенович, проигрываем! Я решительно выступаю против позиции Смидовича, Каменева и Рыкова, я против какой-либо коалиции с буржуазными организациями. В первую очередь мы проигрываем благодаря Смидовичу, и я считаю, что Смидовича надо расстрелять. Ваш договор — бумажонка! Где же власть Советов? Вы не в силах понять исторический момент. Вы забыли указание Ленина: нельзя играть с восстанием! Перед нами один выход — отменить эту бумажонку, а если комитет этого не понимает, то арестовать и весь комитет. Наши массы организованы, и мы выступим против юнкеров вопреки вашим указаниям!
Всклокоченный, бледный Розенгольц выскочил из-за стола, подбежал к Землячке со стиснутыми кулаками.
— Вас надо гнать отсюда! — заорал он на Землячку. — Такие люди, как вы, вредны! Я считаю недопустимым так говорить о Смидовиче. И еще недопустимее угрозы поднять массы против нашего комитета. Мы заключили мир…
Тогда вновь закричала Костеловская:
— Вы лучше послушайте рабочих…
— Мир заключен, а нас расстреливают! — выкрикнул представитель Трехгорки. — Юнкерские училища должны быть ликвидированы!
— Юнкера еще держатся и в «Праге», и в Александровском училище, — вмешался Ломов. — Их надо выбивать.
Землячка почувствовала, как кто-то дергает ее сзади за пальто. Она обернулась. Позади нее стоял Иванов. Он наклонился к ее уху, хотя никто, кроме Землячки, не мог бы понять, о чем идет речь.
— Будзынский вывел свой полк на улицу, — прошептал он, — а рабочие Замоскворечья прошли Замоскворецкий и Каменный мосты и окружают Кремль. Что будем делать?
— Вот что, товарищи, — Землячка напрягла голос. — Рогожский ревком вывел войска на улицу. Вы как хотите, а мы будем выполнять указание Ленина о вооруженной борьбе. Мы тоже идем к Кремлю. Приказу не стрелять район подчинится только в том случае, если юнкера не будут сопротивляться.
Она повернулась к двери. Иногда она сама не понимала, какая сила так властно ее влечет. Но она знала, что разговаривать больше невозможно, надо идти к рабочим, к солдатам, действовать, идти вместе с ними, не останавливаться ни перед пулями, ни перед штыками. Жертвы неизбежны, но бывают моменты, когда промедления в действиях не простят потом ни народ, ни твоя собственная совесть.
Она двинулась к двери своей обычной неторопливой уверенной походкой, не оглядываясь, не смотря ни на кого, была уверена, что и Прямиков, и Калнин, и Мальков тотчас последуют за ней.
Так оно и было.
— Подождите, Розалия Самойловна, — слышит она голос Костеловской. — Я тоже с вами.
Костеловская нагнала ее уже у дверей.
— Вы куда? — спрашивает Костеловская, спускаясь рядом с Землячкой по лестнице.
— К себе, на Рогожскую заставу, — на ходу отвечает Землячка. — Тысяча солдат ждет возле Астраханских казарм.
— Желаю удачи, — говорит Костеловская. — А мы пойдем вышибать юнкеров из «Праги».
Рогожский ревком в полном составе покинул заседание. Его работников мало интересовало, какая там будет принята резолюция. Землячка высказалась за всех. Будет резолюция или не будет, они идут гнать юнкеров из Кремля.
Землячка, Прямиков, Калнин, Мальков, Иванов к Наумов спускались по лестнице.
— Дорога каждая минута, — обратилась к ним Землячка. — Не знаю только, когда доберемся.
— Полетим, как на крыльях.
— Вы что сказали?
— Говорю, полетим, как на крыльях, — повторяет Иванов. Он забегает вперед и распахивает наружную дверь, пропуская Землячку.
— Прошу.
Перед подъездом поблескивает автомобиль.
— Откуда это? — удивился Наумов.
— Реквизировал.
Договорившись обо всем с Будзынским, Иванов спешил в Московский Совет доложить Землячке о выполненном поручении и где-то на Таганке увидел движущийся ему навстречу автомобиль.
К счастью, уходя из казармы, Иванов захватил винтовку на тот случай, если вдруг прямо с заседания придется идти в бой.
Он поднял винтовку с целью придать своему приказу более выразительный характер.
— Стой!
Шофер затормозил. Иванов открыл дверцу, заглянул в машину. Помимо шофера в ней находились господин в мохнатом пальто и две перепуганные дамы.
— Вылезайте, — приказал Иванов.
— Вы понимаете, что вы говорите? — грозно спросил господин. — Кто вы такой?
— Представитель ревкома, — отвечал Иванов. — Ваша машина конфискуется и поступает в распоряжение Рогожского ревкома.
— Да кто вам дал право…
— Революция, — отвечал Иванов и постучал прикладом винтовки по мостовой. — Вылезайте-ка лучше по-хорошему.
Он занял место рядом с шофером.
— Трогай, батюшка.
По дороге отобрал у шофера документы и предупредил, что, если тот вздумает удрать, его разыщут и предадут военному суду.
Землячка строго посмотрела на Иванова.
— На этот раз мы не объявим вам выговора за самоуправство.
Ноябрьская ночь
Землячка появилась перед солдатами как раз в тот момент, когда они потянулись было обратно в казармы.
Солдаты были наэлектризованы событиями последних дней и все же медлили сделать решительный шаг. Революционные события в Москве то нарастали, то шли на спад, слишком много всяких людей приходило в казармы, среди них были и большевики, и меньшевики, и эсеры, и даже монархисты. Солдаты рассказывали Будзынскому, как дня два назад в Астраханские казармы забрел под вечер какой-то полковник, не грозный и важный «отец-командир», который не вызвал бы в солдатах ничего, кроме озлобления, примись такой снова звать их на фронт, убеждать в необходимости довести войну до победного конца — такого они могли бы и прикончить, — а почти что дед с нерасчесанной седой мужицкой бородой, в потрепанной офицерской бекеше; он скромненько поднялся по лестнице, неуверенно заглянул в неуютную громадную спальню, сел на чью-то койку и принялся уговаривать солдат «не бросать на произвол судьбы матушку-царицу» — полковник был старенький, пьяненький, глупенький. «Она хоть и немка, — твердил он, — однако русская императрица и притом дама, а дамам полагается уступать…» Полковника вывели за ворота и с миром отпустили. Меньшевиков в третий или четвертый их приход проводили бранью и даже пинками, очень уж заносчиво и учено они разговаривали; слушали только большевиков и эсеров, и те и другие говорили с мужиками в шинелях на понятном языке, но эсеры говорили о крестьянстве как о чем-то целом и неделимом, деревня в их речах рисовалась каким-то патриархальным сообществом, а большевики не идеализировали деревню, находили в крестьянской жизни множество противоречий и призывали бедняков и середняков покончить с зависимостью от мироедов.
— За кем идти? — задавались вопросом солдаты.
Работники Рогожского ревкома часто посещали казармы, один агитатор сменял другого, и многие солдаты ждали лишь момента, чтобы присоединиться к рабочим.
Однако большой массе людей, для того чтобы решиться на какое-то действие, нужен толчок, нужно чтобы кто-то, кому эта масса верит и за кем готова следовать, повел людей…
Землячка вышла из машины и побежала через ворота на плац.
— Куда вы, товарищи?! — крикнула она, подзывая к себе солдат. — Поближе, поближе подходите.
Солдаты знали ее, в Астраханских казармах она бывала много раз, знали, что ее речи всегда правдивы.
— Поосторожнее, Розалия Самойловна, среди солдат хватает эсеров, — предупредил Наумов, но она его как будто не слышала.
Она стояла на перевернутом ящике, и по всему плацу разносился ее звенящий голос:
— Товарищи! Солдаты! Кремль окружают рабочие! Они ждут вашей помощи…
Вокруг Землячки собралась толпа, солдаты все подходили и подходили.
— Товарищи, пошли! — закричала Землячка. — На последний и решительный бой!
И вдруг по всему плацу прокатился густой неторопливый голос:
— Бой-то бой, это мы понимаем, а вот только за что, мил-женщина, бой?
А бой у Кремля уже начался, Землячка это знала, рабочие шли к Кремлю и с Пресни, и от Бутырок, и из-за Москвы-реки…
Времени на разговоры не оставалось, кто идет — пусть идет.
— Товарищи, дорогие, промедление смерти подобно! — воскликнула Землячка. — Спрашиваете — за что бой? Скажу лишь одно. За землю! Съезд Советов в Петрограде принял декрет. Вся земля — помещичья, монастырская, церковная, удельная переходит во владение волостных земельных комитетов. Нужна вам земля? Хотите ею владеть? Так идите и выбивайте из Кремля помещичьих сынков!
На мгновение на всем огромном плацу воцарилось глухое молчание. И разом нарушилось хриплым отрывистым выкриком:
— Ур-ра-а-а!…
Солдаты устремились к воротам, одни торопились прямо на улицу, другие забегали в казармы за винтовками.
Людей несло стремительно, шумно, как весенний паводок, который не удержать никакими силами.
Землячку тоже вынесло на улицу в общем потоке.
Внезапно возле нее возник Будзынский.
— Розалия Самойловна, так нельзя, — осуждающе сказал он. — Вы совсем затерялись, так и разминуться нетрудно.
Вместе с ним к Землячке подошло человек двадцать, один к одному, молодые парни в штатской одежде — внимательные задорные лица — и у каждого рука в кармане.
— Это на сегодня ваша личная гвардия, товарищ Землячка, — пояснил Будзынский. — Все из «Союза рабочей молодежи». Ни вы от них, ни они от вас никуда.
Он сделал еще шаг, стал совсем вплотную к Землячке и, приглушая голос, обеспокоенно спросил:
— А оружие у вас есть?
Землячка отрицательно покачала головой.
— Ну ничего, сейчас достанем, — произнес он озабоченно.
— Не надо. — Землячка еще раз отрицательно покачала головой и виновато сказала: — Я ведь не очень-то умею…
Будзынский снисходительно усмехнулся и тут же исчез, а Землячка сразу очутилась в центре подошедшей к ней группы.
Человеческий поток стремился к центру города, в него вливались все новые и новые группы рабочих, и вскоре солдаты растворились в массе штатских людей, стекавшихся со всех улиц и переулков Рогожского района.
Со всей Москвы рабочие спешили к Кремлю.
Стараясь не отстать, Землячка торопливо шагала по Солянке…
Ночь еще стояла в Москве, громады домов затаились во тьме, не подавая признаков жизни, и если и попадались где встречные прохожие, они тонули в бесконечном потоке людей.
Но даже этот непреодолимый поток не мог ни смять, ни оттеснить сумрачную очередь молчаливых женщин с кошелками и сумками в руках. Они цепочкой выстроились по тротуару возле булочной и ждали утра, когда можно будет выкупить полагающийся им по карточкам хлеб.
Революция совершалась и ради этих женщин, подумала Землячка, но им не было дела до революции, ради революции они не побегут к Кремлю, вот если бы там выдавались булки… Их тоже можно понять!
Толпа выплеснулась на Варварскую площадь, и вот она уже за стенами Китай-города, в нервной спешке люди растеклись и по Варварке, и по Ильинке, и по Никольской, людьми овладело нетерпение, рабочие отвергли соглашение с юнкерами и готовы к бою — овладеть Кремлем, изгнать защитников свергнутого режима…
Металлисты из Симоновской слободы, печатники из Замоскворечья, текстильщики Пресни заполнили Красную площадь.
Все на площади подравниваются, отряд к отряду, командиры становятся во главе колонн.
Одним дыханием дышит народ на площади.
Еще ночь, но вот-вот забрезжит заря. В предутренних сумерках черным-черны зеленые треугольники на куполах Василия Блаженного.
Единственная неповторимая ночь, последняя ночь перед восходом новой жизни.
Из-за стен Кремля доносятся выстрелы. Рабочие уже там, за древними этими стенами.
Может быть, именно ради этого мгновения и жила Землячка на земле.
Она испытывает полное слияние со всеми, кто рядом с ней, кто устремляется сейчас в Кремль, кто уже находится там, и ощущение юношеского весеннего восторга наполняет все ее существо.
Великое половодье! Теперь ни задержать его, ни изменить направление. Сейчас она только песчинка в бурном потоке. Как и отряд, в котором движется Землячка, сотни подобных отрядов сливаются в единое движение народа.
По двое, по трое выбегают юнкера из Спасских ворот и крадучись скрываются в тени храма Василия Блаженного.
Землячка торопится к Спасским воротам.
Вот выбежали еще три юнкера с винтовками, метнулись навстречу и сразу кинулись в сторону, скрылись за выступом ворот, им не проскочить уже мимо — и показались снова, уже без винтовок, побросали их, идут, неуверенно поднимая руки.
— Заберите их и отведите в Торговые ряды, там собирают пленных, — распоряжается Землячка. — Да смотрите, чтобы не убежали.
— А на что их? — спрашивает один из парней, шедших вместе с Землячкой. — Чего с ними возиться? Отпустить, и все тут. Они же сдались, винтовки побросали, пусть себе идут…
— Нет, — твердо говорит Землячка. — Отведите и сдайте, там разберутся.
Без большой охоты двое парней эскортируют пленных к Торговым рядам.
— Зря их забрали, только время тратить, — произносит кто-то еще не без упрека в сторону Землячки. — Такие же ребята, как и мы…
— Такие, да не такие, — говорит Землячка. — Не спешите карать, но и не спешите миловать. А винтовки хорошо бы подобрать. Пригодятся.
Часть спутников скрывается за выступом ворот.
— Подождем, — говорит Землячка остальным.
И почти сразу же до нее доносится срывающийся мальчишеский голос:
— Погодите!
Парень с белым от ужаса лицом подбегает к Землячке.
— Их перестрелять мало! — Он делает жест в ту сторону, куда увели юнкеров. — Вы посмотрите…
За выступом ворот на мокрых белых плитах лежит юноша, скорее даже мальчик лет шестнадцати, в черной суконной куртке — он пропорот штыками двух винтовок, третья валяется рядом…
Землячка бросает взгляд на своих спутников и тут же отворачивается.
— А вы — отпустить!
По торцовой мостовой бегут люди… За соборами еще стреляют. Над соборами брезжит рассвет, розовая полоса окрашивает небо. Какая-то женщина стоит на каменном постаменте рядом с Царь-колоколом и кричит всем проходящим:
— Товарищи! Власть у народа! Теперь народ…
Землячка идет мимо и думает, что жизнь ее прожита не зря, а впереди столько работы, что на нее понадобится еще десять жизней.
ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ 1924 г.
Несмотря на мороз, в райкоме полно посетителей…
Землячка почти не оставалась одна у себя в кабинете. К ней обращались с утра до ночи, все время приходилось кому-то что-то советовать, кого-то поддерживать, кого-то куда-то направлять. Она не принадлежала себе, а ей иногда хотелось остаться одной, собраться с мыслями, подумать, как и что делать дальше.
Умер Ленин…
Признанный вождь великой и могущественной партии. Враги надеялись, что его смерть поколеблет партию.
Но нельзя поколебать партию, созданную Лениным. С первых же шагов своей деятельности Ленин готовил и воспитывал партийные кадры. Твердость, верность революционному марксизму… Все те, кого он воспитал, станут теперь еще тверже, еще теснее сплотятся под знаменем Ленина.
На столе Землячки пачка газет. «Правда» за последние дни.
Землячка развернула последний номер «Правды». Почти весь он посвящен Ленину. Вся страна скорбит о его смерти.
И ею овладевает желание пойти туда, где находятся те, ради кого он жил, ради кого совершена Октябрьская революция, кому она сама отдает все свои силы. Сейчас место всех большевиков в народе.
Она надела пальто, шапку, повязала шарф.
Когда она спускалась по лестнице, кто-то спросил, не проводить ли ее. Она отказалась — «Нет, нет, я одна!».
Мороз стоял жестокий, но прохожих на улице было много, все шли в сторону «Балчуга», к Дому союзов.
Она миновала мосты, дошла до Красной площади, спустилась через проезд возле Исторического музея и увидела очередь, тянущуюся от Манежа к площади Свердлова.
Такие же молчаливые человеческие очереди медленно двигались по Тверской улице, вдоль Охотного ряда, по Большой Дмитровке. Тысячи людей со всех концов столицы непрерывно подходили к Дому союзов, вся Москва шла прощаться с Лениным.
И на Тверской, и на Дмитровке, и в Охотном ряду горели костры, и вокруг костров стояли и грелись люди.
Землячка медленно пошла по Моховой.
Ночь. Дымятся костры. Люди негромко переговариваются. Удивительная сосредоточенность.
Землячке хотелось встретить своих замоскворецких рабочих.
Она остановилась, спросила:
— Какая это организация?
— С Урала, — ответили ей. — Рабочие «Уралмеди».
Землячка удивилась:
— Сколько же вас?
— Двести человек.
Землячка прошла дальше.
— Какая организация?
— Завод «Мотор», с Серпуховского шоссе.
— Сколько вас?
— Семьсот.
Она прошла еще.
— А это какая организация?
— Нижегородская железная дорога. Завод железнодорожного оборудования…
Она шла и спрашивала — откуда, откуда? — и слышала все один и тот же ответ — Нижегородская железная дорога.
Она опять удивилась:
— Сколько же вас?
Оказалось, что с одной этой дороги прибыло четыре тысячи человек.
Вся страна прощается с Лениным!
Днем ей пришлось быть в Комиссии по организации похорон. Енукидзе в разговоре с ней сказал, что за три дня через Колонный зал прошло более полумиллиона человек, но Землячка как-то плохо представила себе эту отвлеченную цифру, а вот сейчас она реально видела, сколько народу устремилось в Дом союзов со всей страны.
А мороз пощипывал все жестче, все резче. При таком морозе даже одну эту Нижегородскую железную дорогу трудно переждать…
Землячка все никак не могла отыскать какую-нибудь свою, москворецкую организацию.
Ненадолго она задержалась возле питерских студентов. Петроградский университет прислал пятьсот человек, они мерзли, притоптывали, где-то в глубине колонны приглушенно пели «Вы жертвою пали…».
Землячка прошла еще и вдруг встретила михельсоновцев.
Рабочие завода Михельсона, того самого завода, где в августе 1918 года эсерка Каплан покушалась на жизнь Ленина.
Однако Землячка никого не узнавала — в очереди стояли молодые рабочие и работницы, недавно пришедшие на завод, зато они узнали Землячку, вероятно, не раз видели и слышали — она часто выступала на заводе.
— Товарищ Землячка, идемте с нами!
— Розалия Самойловна, не замерзли?
Они повели ее к костру.
Напротив церковки Параскевы-Пятницы полыхал костер.
— Эй, ребята! — крикнул кто-то из михельсоновцев. — Подкиньте дровишек!
И тут же откуда-то из очереди пробились двое ребят с вязанками дров за плечами.
— Откуда дрова? — удивилась Землячка.
— Принесли с собой, — объяснили ей. — В такие морозы одной казне московские улицы не отопить!
Кто-то засмеялся, на него цыкнули, и вдруг тут же кто-то заплакал.
— Ну вот еще! — послышался укоризненный женский голос. — Держитесь крепче, товарищи, Владимир Ильич не любил слез.
Говорила пожилая женщина. Землячка всмотрелась в нее, ей показалось, что она встречала ее на заводе, — старая работница и, кажется, член партии.
Строгое лицо, на вид лет пятьдесят, а может, и больше. Бывают такие лица: время высекло морщины, опустило уголки рта, слегка затуманило глаза и на этом остановилось.
Она все говорила, говорила, внятно и чуть нараспев, как говорят с детьми, когда пытаются их утешить.
— Чего плачете? — продолжала она. — Ильич не любил уныния, стыдно, товарищи. Большевики — народ закаленный.
Она долго рассуждала о том, что надо быть сильнее и бодрее, и Землячка запомнила эту женщину, запомнила, как пыталась она вдохнуть в окружающих бодрость.
А народ все шел и шел, очередь медленно продвигалась, и Землячка двигалась вместе со всеми, хотя могла бы пройти в Дом союзов по пропуску.
Какой-то мужичонка в овчинном полушубке, здорово, должно быть, перемерзший, — он все подпрыгивал и тер лицо руками в шерстяных варежках — шел в обратном направлении вдоль очереди и все с чем-то обращался к людям.
— Товарищи, — услышала Землячка, когда он поравнялся с ней. — Может, возьмете в компанию? Всех просю, и до того все безжалостные…
Он поправил на голове овчинную шапку и вопросительно помолчал, но в очереди тоже молчали, и мужик в который уже раз отбежал к ближнему костру.
— Холодные люди, — пожаловался он неизвестно кому. — Никакого сознания.
Возле костра стоял красноармеец.
— Постой, постой, отец, — обратился он к мужику. — Да ты никак и вчера здесь всю ночь болтался?
— Именно верно, — подтвердил мужик. — Были мы и вчерась, и позавчерась, и завтра придем…
— А что, вчера не допустили? — посочувствовал красноармеец.
— Зачем — не допустили? — обиделся мужик. — Вполне допустили, только доступу одна минута, а в одну минуту все в сердце не вместишь.
— Так несправедливо же, отец, — возразил красноармеец. — Проститься всем хочется, а ты будешь тут по десять раз…
Вокруг мужика уже столпились, прислушивались к разговору.
— Это мы понимаем, — тут же согласился мужик. — Только у меня особый случай.
— Какой такой особый? — спросил кто-то из толпы. — Такой же, как у всех.
— А вот и не такой, — обиделся мужик. — Вам он — правитель, радетель за вас, а мне товарищ Ленин личный знакомый.
Он снял варежки и протянул к костру руки, вспышка огня окрасила его полушубок в оранжевый цвет, и окружающие еще ближе подошли к мужику.
— А вы не смейтесь, потому как я в самом деле знакомый Ленину, — настойчиво повторил мужик, с охотой принимаясь рассказывать и как бы хвастаясь даже своим рассказом. — Три года назад из Брянска я приезжал насчет общественной мельницы. Ходил, ходил… Все как есть бесполезно. Ну, а у меня сын на фабрике у Бромлея работает. Вы, говорит, папаша, не отчаивайтесь. У нас через два дня в районе собрание, на том собрании будет товарищ Ленин, и не иначе, как надо вам, папаша, с ним там повстречаться.
Мужик принялся рассказывать, как он попал на собрание. Провел его сын, никаких строгостей при входе не было. Стал он у двери, через которую прошел Ленин, и ждал, когда Ленин пойдет обратно. «Товарищ Ульянов-Ленин, — кинулся ему наперерез, — послухайте, что скажу, потому как прислали меня мужики насчет общественной мельницы». И Ленин остановился, подал руку. «С превеликим моим удовольствием, — сказал, — особливо, ежели вы по общественному делу». Повел Ленин мужика в какую-то комнату, и вот в прокуренной комнатушке заводского клуба состоялся самый важный для мужика разговор. Ленин посмотрел бумаги, оставил у себя и долго еще беседовал, все выспрашивал, как живет народ, чем волнуется и какие имеет виды на будущее; потом взял и написал письмо.
— Какое письмо, насчет мельницы?
— Да не насчет мельницы, а насчет меня, насчет мельницы он свою указанию опосля прислал, — внушительно пояснил мужик. — Написал личное мне письмо, касаемо личного моего положения.
— Какого же положения?
— А моего, — опять повторил мужик и снисходительно посмотрел на слушателей.
— А что еще за личное дело было у тебя к Ленину?
— А не было никакого дела, — сказал мужик, — только он сам его нашел и написал записку, и я тую записку теперь завсегда ношу при себе.
— А ну покажь, покажь…
Мужик полез в карман, достал кисет, где давно уже не было табаку, а лежали немудрящие мужицкие бумаги, среди которых и находился заветный листок.
Это действительно была подлинная ленинская записка, написанная на бланке Председателя Совнаркома:
"В упр. д. Т-щи,
надо устроить ему
сапоги.
В. Ленин".
— Ну и как, устроили тебе сапоги? — спросил кто-то из очереди.
— Хитрый! — Мужик лукаво прищурился. — Ежели б устроили, забрали бы у меня письмо, сапогами не пробросаешься, взяли бы письмо для отчета. Сапоги мы уж как-нибудь сами справим, а ленинскую эту посланию я всю жизнь хранить буду и детям своим завещаю хранить.
И тут мужик вошел вместе со всеми в подъезд Дома союзов, а Землячка подумала, что она тоже сохранила бы такую записку, от нее исходило то великое тепло, которое ощущали все, кто хоть раз соприкоснулся с Лениным.
Землячка поднимается вместе со всеми по мраморной лестнице.
Глубокая ночь…
А народ идет и идет, нет конца человеческому потоку.
Белый Колонный зал. Сияют люстры. Красные и черные полотнища. Колышатся листья пальм. Бесчисленные венки. Оркестр играет Вагнера, чью музыку так любил Владимир Ильич.
На возвышении, в открытом гробу — Ленин.
У изголовья застыли Надежда Константиновна и Мария Ильинична.
В почетном карауле — незнакомые люди. Мужчины в поношенных пиджаках, женщины в стареньких кофточках…
Землячка всматривается в их лица. Нет, она их не знает. И знает. Это все те же люди, что стоят в бесконечной очереди к Дому союзов.
Коренастый широкоплечий Желтов, который следит за порядком в зале, вчера говорил:
— Мы отменили почетный караул для членов ВЦИКа и других ответственных товарищей. Заменили их рядовыми рабочими с фабрик и крестьянами из прибывших делегаций. Мы чаще видели Ильича, чем эти люди.
Землячка невольно замедляет шаг. На сердце тяжесть…
Впереди идет женщина в сером полушалке, которая требовала на улице, чтобы никто не предавался унынию.
Она идет еще медленнее, чем Землячка. Еле переступает. Вот поравнялась с возвышением и… медленно опускается на пол, теряет сознание.
Землячка напрягает все силы своей души. Держись, держись, говорит она себе, бери пример с этих двух женщин, что бессменно стоят у изголовья…
Колышутся листья пальм. Сияют люстры. Рыдает оркестр. А люди идут, идут, идут…
1918-1921 гг.
Дорогой гость
Немцы грабили Украину, японцы и американцы — Дальний Восток. Шла гражданская война. То тут, то там возникали контрреволюционные заговоры. Но самой большой опасностью был голод.
Тяжелое было лето. Ни топлива, ни сырья. Не хватало хлеба для рабочих. Но заводы и фабрики продолжали действовать. Рабочий класс приносил невиданные жертвы ради сохранения завоеваний революции. Несмотря на лишения, рабочие не покидали своих предприятий, да еще то и дело приходилось посылать людей на фронты — на военный фронт, сражаться с белогвардейцами, на продовольственный, — реквизировать у кулаков запрятанный ими хлеб.
19 июня 1918 года в Замоскворецком райкоме собрались представители всех предприятий. Обсуждался самый больной вопрос — о борьбе с голодом, о посылке продовольственных отрядов в деревню. Собрание вела Землячка.
Один за другим поднимались рабочие. О том, что необходимо экспроприировать хлеб у кулаков, спору не было. Выступления были деловые, конкретные. Говорили, как формировать отряды, кого включать в них, как вести себя в деревне, чтобы не возбуждать недовольства.
Прищурив глаза, Землячка испытующе всматривалась в ораторов. В подавляющем большинстве это были старые кадровые рабочие. Иных она знала со времен подполья, с другими познакомилась в дни Октябрьского восстания. Она то снимала, то надевала пенсне, за стеклами ее глаза приобретали металлический отблеск.
Человек двести находилось в зале. Спорили мало; Землячка отличалась и сдержанностью, и вежливостью, но очень уж походила на учительницу, не терпящую возражений.
Собрание длилось уже часа два, дотошно обсуждалась кандидатура каждого человека, намеченного для посылки в деревню.
В который раз сняла Землячка пенсне, давая отдых глазам, ее мучила усталость, она недосыпала, недоедала, несмотря на жару, ныли ноги, давал себя знать ревматизм, приобретенный в тюрьме. Близорукими глазами всматривалась она в глубь зала. Ее внимание привлек человек в заднем ряду.
Кто бы это мог быть?…
Она прищурилась. Кто-то очень знакомый.
Усталость как рукой согнало, она быстро надела пенсне и сразу узнала…
Да это же Владимир Ильич!
Землячка стремительно поднялась.
— Товарищи, к нам пришел дорогой гость!
Все разом обернулись по направлению ее взгляда и через секунду уже стояли и аплодировали.
— Владимир Ильич, просим, — сказала Землячка, указывая на стул рядом с собой. — Владимир Ильич!
Ленин тоже встал, помахал рукой — жест этот относился к аплодисментам: не нужно, мол, лишнее — и пошел вдоль стены.
— Здравствуйте, Розалия Самойловна. — Он пожал Землячке руку, повернулся к собранию, улыбнулся, поздоровался: — Здравствуйте, товарищи!
Ленин поднял руку, еще раз призывая к порядку, опустился на стул рядом с Землячкой и вполоборота повернулся к смолкшему было оратору:
— Извините, вас прервали. Продолжайте, пожалуйста.
И вот он уже сидит в своей любимой позе, приложив руку к уху, и слушает, слушает с напряженным вниманием, как всегда, когда его что-нибудь интересует.
Рабочие продолжали обсуждать, как формировать отряды.
Ленин придвинул к себе листок бумаги, что-то записал.
— Как фамилия, откуда? — шепотом спрашивает он Землячку.
— Иванов, михельсоновец.
— Возьмите его на заметку, — советует Владимир Ильич. — Мне думается, он годится в начальники продотряда.
Он интересуется фамилиями выступающих, советует Землячке обратить внимание то на одного, то на другого рабочего.
И каждый раз она соглашается с Лениным — кто-кто, а он разбирается в людях!
Постепенно ее все больше заражает напряженное ожидание, царящее в зале.
— Владимир Ильич, вы выступите? — спрашивает Землячка.
— Обязательно.
Ленин тут же встает, поднимая руку, чтобы предупредить новый взрыв аплодисментов, и сразу начинает говорить, экономя время и не дожидаясь формального объявления.
— Из моих объездов по московским рабочим кварталам я вынес твердое убеждение, что все рабочие массы проникнулись мыслью о необходимости создания продовольственных отрядов, — обращается он к своим слушателям. — «Недоверчиво» относятся лишь печатники, которые обычно живут лучше, чем остальные рабочие, за счет буржуазии, отравляющей бедноту своей газетной клеветой. Сознательное отношение широкой массы рабочих к такому основному вопросу русской революции, как борьба с голодом, позволяет мне думать, что социалистическая Россия благополучно изживет все временные неудачи и разруху старого режима. Даже если нам не удастся быстро покончить с чехословаками (что менее всего вероятно), то все же большие запасы хлеба, припрятанные кулаками в Воронежской, Орловской и Тамбовской губерниях, дадут нам возможность пережить последние два трудных месяца до нового урожая. Продовольственный вопрос — самый больной вопрос нашей революции. Все без исключения рабочие должны понять, что борьба за хлеб — это их дело.
Землячка внимательно слушает Владимира Ильича.
Ах эта удивительная его простота! Выхватить самое главное, самое существенное и сказать так, чтобы стало понятно и убедительно для каждого.
Он говорит, что борьба за хлеб — важнейший вопрос момента, надо бороться, но он не сомневается, что стране удастся пережить два предстоящих тяжелых месяца.
— Продовольственные отряды ставят своей задачей только помочь собрать у кулаков излишки хлеба, а не производить (как пытаются наши враги заранее запугать этим деревню) в ней какой-то грабеж всех и вся… За хлеб будут обязательно предоставлены мануфактура, нитки и предметы домашнего и сельскохозяйственного обихода.
Будет сделано так, чтобы к посылаемым в деревню отрядам не смогли пристать хулиганы и жулики, всегда стремящиеся половить рыбку в мутной водице. Лучше посылать туда поменьше людей, но чтобы они были подходящими для этого.
Правда, бывали случаи, когда в отряды проникали нестойкие, слабые духом рабочие, которых кулаки подкупали самогонкой. Но на это обращено внимание… О каждом рабочем, едущем с отрядом, необходимо иметь точные сведения о его прошлом. Необходимо справляться в заводском комитете, в профессиональном союзе, а также и в партийных ячейках — что представляет из себя человек, которому рабочий класс доверяет такое важное дело.
На многих заводах партийные товарищи не хотят принимать в отряд «беспартийных». Это — совершенно напрасно. «Беспартийный», но вполне честный, ни в чем плохом не замеченный, человек может быть весьма ценным товарищем в походе голодных за хлебом…
Все просто и понятно. Собрание заканчивается, однако рабочие долго не отпускают Владимира Ильича, обращаются к нему с вопросами, иногда важными, а иногда и пустяковыми, лишь бы задержать его, лишь бы поговорить с ним еще какое-то время.
«Тысяча и одна служба»
У секретаря райкома множество неотложных дел. Обеспечение промышленных предприятий сырьем и топливом. Снабжение населения продовольствием. Пропаганда политических знаний. И кроме того, в поле его зрения постоянно находится обычная будничная жизнь. Булочные должны выпекать хлеб, магазины, хоть и скупо, хоть и по карточкам, но торговать, дети учиться в школах, а врачи принимать больных… За всем надо уследить, кого уговорить, а кого и заставить.
Землячка не видела ни дня, ни ночи. В обед ее секретарь Олечка, худенькая девочка с русой косой, приносила ей несколько кусочков селедки с ломтем хлеба и стакан чаю, подслащенного сахарином. Впрочем, иногда обед подавался ночью, а иногда Землячка получала тарелку пшенной каши где-нибудь в рабочей столовой после очередного митинга.
Розалии Самойловне было не до себя, не до родных и друзей, и все-таки ее тревожила судьба одной приятельницы, связь с которой давно прервалась и восстановить которую мешала жизненная круговерть.
Как-то на совещании у Свидерского в Наркомпроде, при распределении промышленным центрам муки, только что привезенной с Украины, она встретилась с секретарем Костромского губкома.
Костроме что-то совсем мало выделили хлеба, и костромич жалобно просил добавить — говорил о тяжелом положении в городе, больше всего, конечно, о положении костромских текстильщиков, но попутно помянул и о том, как бедствуют учителя и врачи.
Тут Землячку осенило. Ведь Катенина живет в Костроме!
Лидия Михайловна Катенина. Верный, испытанный друг. Сколько раз она выручала Землячку!
Катенина хороший врач. Сперва работала в Москве, потом в Чухломе. Жилось ей несладко. Завидной должности она получить не могла, препятствовала ее близость к партии. Работала в фабричных больницах, в земстве. Но это не мешало ей аккуратно посылать Землячке денежные переводы.
— Вам труднее, чем мне, — говорила Катенина. — У меня хоть заработок постоянный, а у вас столько непредвиденных обстоятельств.
В жизни у Землячки было всего два-три человека, которым она могла открыться и признаться в том, что ей плохо. И кому же она писала письма в годы заключения в Литовском замке? Лидии Михайловне Катениной. Кто присылал Землячке передачи? Лидия Михайловна Катенина. К кому Землячка обратилась перед судом с просьбой достать приличное платье, потому что ей не хотелось выглядеть перед своими судьями ни жалкой, ни нищей? К Лидии Михайловне Катениной!
И та готова была все сделать для своего неразговорчивого и раздражительного друга.
А потом Землячка уехала за границу и потеряла Катенину из виду.
В годы войны подполье было особенно сурово, приходилось соблюдать жесточайшую конспирацию, Землячка не смела обнаружить себя. А затем — революция, ни минуты не могла уделить Землячка ни себе, ни своим близким.
— Скажите, — обратилась Землячка к костромичу. — Вы не знаете в Костроме врача Катенину?
Нет, костромич не знал.
— А узнать можете?
Не прошло и недели, как Землячка получила письмо. Действительно, Катенина проживает в Костроме. Работает в больнице. Живет неважно, одиноко.
Землячка не выносила протежирования, не искала его для себя и не оказывала другим, порядочна была до аскетизма, не позволяла себе ни малейших компромиссов с совестью. Но Лидии Михайловне она не могла не помочь, обязана была это сделать, на этот раз она собиралась использовать все свое влияние, чтобы помочь Катениной найти для нее интересную и хорошо оплачиваемую работу.
Она написала Катениной, предложила перебраться в Москву, обещала сделать все, что в ее силах…
Должно быть, Лидии Михайловне и в самом деле плохо жилось, потому что она сразу ответила согласием.
Землячка тотчас поехала к Семашко. К нему часто обращались со всякими частными просьбами, уж такое он возглавлял ведомство, которое призвано помогать множеству отдельных лиц: кому-то надо лечиться, кого-то устроить в больницу; к нему обращались тысячи врачей, но чтобы Землячка пришла просить за врача и вообще кого-то устраивать — это было удивительно!
А она просила:
— Николай Александрович, доктора Катенину я знаю еще со времен подполья, отличный врач и очень отзывчивый человек, она оказала много услуг нашей партии, и я прошу…
Это было даже более чем удивительно, что Землячка хлопочет об устройстве своей знакомой на хорошую работу.
Семашко обещал, рекомендация Землячки значила очень много.
Но хлопотать о квартире для Катениной Землячке не пришлось.
Партия направляла на фронт две с половиной тысячи коммунистов, и в их числе многих видных партийных работников. Землячка давно уже просилась на фронт, и просьба ее была удовлетворена.
«Вас ждет комната и тысяча и одна служба, — писала она Катениной перед отъездом на фронт. — Но меня вы уже не застанете. Выезжаю на фронт. Давно рвусь туда, и счастлива, что Исполком Московский нашел нужным делегировать меня».
Землячка занимала квартиру из трех комнат — одну она оставила за собой, другую предоставила сестре, третью предлагала Катениной.
«Здесь, вероятно, будут жить с вами моя сестра Мария Самойловна и ее муж, — писала она далее. — Надеюсь вернуться целой и невредимой, конечно, после победы».
А когда Катенина через несколько дней приехала в Москву, Землячка уже находилась на Северном фронте.
«Жаль, что оставила за собой комнату, вряд ли придется жить зимой в Москве, — месяц спустя писала Землячка в Москву из Котласа. — Пока фронт будет держаться, я с фронта не уеду».
Беспартийные коммунисты
Ранняя осень на Северной Двине. Еще только конец августа, а дождь моросит без перерыва. Землю развезло, размыло, грязные оползни протянулись до самой воды. Уныло все вокруг, укрыться бы от такой погоды под крышей. А люди стоят и лежат под мокрым, падающим на голову небом, на берегу неприветливой желто-серой реки и не знают, что делать: то ли идти назад, то ли тонуть тут, в этой непролазной грязи, в рыжей холодной этой воде…
Интервенты развивают наступление на Севере. Англичане, французы, американцы объединили свои силы, и часть из них стремится взять Вологду, а другие пробиваются к Вятке в расчете соединиться с Колчаком.
Второго августа пал Архангельск. Интервенты движутся вдоль железной дороги к Няндоме и по Северной Двине к Котласу.
Котласское направление приобретает особо важное значение, и красноармейские части тратят последние силы, пытаясь удержать Котлас.
Противник обстреливает Вологодский полк и с реки, и с берега. Рвутся артиллерийские снаряды, строчат пулеметы, льет проливной дождь, и сутки уже, как бойцы не получали пищи.
Нет возможности терпеть далее эту муку… Кто возьмется переломить подавленное настроение бойцов?
Два десятка людей в рваных шинелишках и в подбитых ветром пальтишках идут по колено в грязи в расположение Вологодского полка. Двадцать агитаторов, только что прибывших из Петрограда…
Так вот он каков, Котлас! Промокший деревянный городок, обстреливаемый английскими снарядами. Мутная волнующаяся Двина. Измотанные, растерянные красноармейцы… Смогут ли они, плохо вооруженные, голодные и раздетые, остановить наступление отлично экипированных, сытых интервентов?
Ведь в Котлас прибыли всего-навсего двадцать четыре молодых коммуниста, еще вчера работавших на заводах и фабриках Москвы и Петрограда.
И командует этими юношами неприметная женщина в кожаной куртке!
Плечом к плечу идут прибывшие по размытым дождем улицам.
Вот и река.
Нахохлившиеся солдаты пригибаются и от пуль, и от дождя. Они медленно бредут навстречу прибывшим…
Дрогнули? Отступают?…
— Как же быть, товарищ Землячка?
— К бойцам, к бойцам, — решительно говорит она. — Рассыпаться по всей линии, товарищи. Не стоять. Заставить людей понять…
Она не говорит, что надо людям понять, она уверена, коммунисты знают, что сказать дрогнувшим бойцам.
Нервным движением она поправляет на носу пенсне и бежит по лужам. Грязь течет за голенища сапог, но ей не до этого, она спешит к бойцам.
Истомленные серые лица, растерянные голубые глаза, пепельно-синие губы, сквозь которые не прорывается ни слова, ни вопроса, ни восклицания…
А ее единственное оружие — слово. Слово правды, которая сильнее всего на свете.
И все лица перед ней сливаются в одно лицо, в одни вопрошающие глаза.
— Кто вы такие?! — кричит Землячка, глядя в эти глаза.
Перед ней словно вырастает невысокий парень, в овчинной куртке, останавливается, вытягивается, он не спрашивает стоящую перед ним женщину, кто она и откуда, он понимает, что она начальство.
— Командир Зырянской добровольческой коммунистической роты, — рапортует он.
— Куда же вы? — спрашивает Землячка.
— Не знаю, — честно отвечает командир.
— Поворачивайте! — приказывает Землячка. — Неужто коммунисты побегут под английскими пулями?
— Никак нет, — отвечает командир и кричит своим: — Ребята, к берегу!
И бежит к реке, и все волнующееся и мятущееся возле него, насквозь промокшее воинство устремляется вниз, к плоту, качающемуся на волнах возле берега.
— Ведь это наша земля! Это наша земля! — кричит им вслед Землячка.
Она не знает, слышат ее или нет, но она видит, как бойцы Зырянской добровольческой роты взбираются на плот, отталкиваются от берега и плывут — плывут навстречу врагу.
А вечером на пристани, в прокуренной темной конторке, Землячка пишет рапорт о подвиге Зырянской коммунистической роты, спасшей положение на Котласском направлении Северного фронта.
Красная Армия оттесняет интервентов. Давно ли продвигались они на юг, а теперь отходят обратно на север.
Второго сентября в Великом Устюге открывается съезд коммунистов Северо-Двинской губернии.
Руководит съездом Землячка, она представляет на съезде командование Северного фронта.
Удивительный съезд! Такие съезды то тут, то там проходили по всей России. Съезд коммунистов, большинство участников которого еще не состояло в партии.
В Великий Устюг прибыло девяносто восемь делегатов, и из пятидесяти двух делегатов Усть-Сысольского уезда только девять официально состояли в партии, остальные числились сочувствующими; Яренский уезд прислал шесть человек, и все они еще не состояли в рядах партии… Беспартийные, которые считали себя коммунистами!
Участников съезда разместили в актовом зале бывшего епархиального училища, и тут же, рядом, в небольшом классе, устроилась Землячка.
Беседы делегатов с Землячкой продолжались с вечера до утра — чуть кончались заседания съезда, все сходились в общежитие, и вновь начиналось обсуждение животрепещущих вопросов.
Впереди еще битвы с Колчаком, Деникиным, Врангелем, а люди уже думали, как бы скорее наладить хозяйство страны, восстановить разрушенные заводы, распахать заброшенные земли…
— Мы победили на Северном фронте не силой наших штыков, их было слишком мало, — говорила Землячка, выступая на съезде. — Мы победили политической работой, которую вели коммунисты в Красной Армии, победили сознательностью масс, подъемом народа, который гнал впавшие в панику регулярные войска Европы и Америки. Чумазый, раздетый и разутый мужик Севера прогнал вооруженных до зубов англичан и французов!
По окончании съезда она пароходом отправилась по Вычегде в Яренск.
О приезде Землячки прослышали и друзья, и враги и собрались встречать ее на пристани.
Не успела она сойти в Яренске с парохода, как послышались угрозы:
— Вертайся, откуда приехала! Не хотим слушать большаков!
— Зачем же так? — спокойно возразила Землячка. — Поговорим по-хорошему, под крышей…
Толпа повалила в сарай, где обычно хранились привозимые по реке товары. Выкатили на середину бочки из-под рыбы, настелили поверх доски, соорудили помост.
Первым на помост поднялся председатель уездного исполкома, благообразный мужичок в синей суконной поддевке.
— Ни к чему нам все эти митинги, — степенно сказал он. — Мы, сыны тихого Севера, никому не позволим нарушать наш покой.
— Это кому ж — никому? — спросили из толпы.
— Ни англичанам, ни большакам, желаем находиться посередине!
— Не усидеть вам между двух стульев, — резко возразила Землячка. — Народ сделал свой выбор…
Она заговорила о мужиках Севера, напомнила о хозяйничанье интервентов в Архангельске и Мурманске.
— Яренские жители сами найдут правильный ответ на тихие речи!
Ночью председателя исполкома арестовали, а через несколько дней на уездном съезде Советов выбрали в исполком коммунистов…
Так она и металась всю осень тревожного восемнадцатого года по самым опасным участкам Котласского фронта и старинным северным бревенчатым городам.
«Левая банда»
В конце 1918 года особенно осложнилось положение на Южном фронте. Активизировалась контрреволюция, войска Антанты вторглись на Черноморское побережье, белоказаки принудили к отступлению Восьмую и Девятую армии, возникла угроза Воронежу, Тамбову, Саратову.
Партия посылала на фронт все больше и больше коммунистов, лучшие работники партии уходили в армию.
На Северном фронте Землячка находилась немногим более двух месяцев, в октябре 1918 года она получила новое назначение, ее направили на Южный фронт начальником политотдела Восьмой армии.
Она пришла в деморализованное и небоеспособное войсковое соединение. Армию приходилось сколачивать заново, следовало подобрать таких командиров и политических работников, которые смогли бы в каждого красноармейца вдохнуть мужество и понимание своего долга. Новые пополнения в части иногда состояли из дезертиров, задержанных в деревнях и вновь посылаемых на фронт. Их надо было переубедить и сделать сознательными солдатами. Снабжалась армия из рук вон плохо, не хватало продовольствия, но еще хуже обстояло дело с обмундированием. Не прекращалась антисоветская агитация, в полках вспыхивали восстания.
Все это необходимо было сломить!
Рабочий день Землячки продолжался до двадцати часов кряду, она не щадила себя и требовала того же от других.
Уже в январе Восьмая армия пошла в наступление. Бои следовали за боями. Сражались с переменным успехом, слишком силен был натиск белогвардейцев.
Вскоре после приезда Землячки восстал 112-й полк: красноармейцы отказались идти в атаку босиком…
Она тут же кинулась в полк. Перед нею предстали не солдаты, а сборище полураздетых, истощенных людей. Землячка готова была впасть в отчаяние. Что им сказать? Что им сказать, чтобы в душе их произошел перелом? Красивые слова и угрозы на них не действовали. Она сказала им правду. Все плохо: плохо им, плохо ей, нет ни одежды, ни обуви, но если победят Мамонтов, Деникин, Шкуро, будет еще хуже. Советской власти гибель грозила много раз, но она не погибла. И не погибнет. А если не погибнет, завтра будет легче, лучше. Она говорила с измученными и голодными красноармейцами так, как говорила бы сама с собой.
И они пошли. Пошли вперед. Матерились и шли. И она шла рядом с ними, увязая в грязи, под проливным дождем.
А сколько раз разговаривала она с дезертирами, и, смотришь, вчерашние дезертиры шли в бой, ничем не отличаясь от других бойцов.
Впрочем, ей приходилось отдавать и иные приказы. Приходилось расстреливать. Тех, кто звал назад. У кого не осталось в душе ничего святого. Об этом она не любила вспоминать.
Слово — могучая сила, говорят, словом можно сдвинуть горы, но она хорошо понимала, что словами людей не накормишь, слово не портянка, им ноги не обернешь.
На пути армии попался кожевенный завод. В чанах киснет кожа, пропадает по меньшей мере десять тысяч пар сапог.
Бросили на завод красноармейцев, нашли в поселке отбельщиков, красильщиков, сапожников — не было ни гроша, да вдруг алтын!
Но едва сапоги поступили на склад, как их тут же забрали… Приказ Реввоенсовета Южфронта!
Все время вмешивалась какая-то злая сила. Начальником снабжения работал Сапожников. Неизвестно когда ел, когда спал, сам ходил в чиненых-перечиненых сапогах, а для тех, кто шел в бой, доставал и сапоги, и валенки. «Отцом родным» называли его красноармейцы, слава о Сапожникове шла по всей армии.
И вдруг Реввоенсовет фронта откомандировывает Сапожникова «за нераспорядительность» в глубокий тыл. Присылают вместо него какого-то Кранца. Этот — не чета Сапожникову, молод, блестящ, умеет говорить, одет с иголочки, весь в коже, от фуражки до хромовых сапог. Заинтересовалась Землячка этим Кранцем. В Тринадцатой армии, оказывается, его разжаловали в красноармейцы за какие-то махинации, за пьянство, за трусость. Землячка позвонила в Реввоенсовет Южфронта. «Он исправится, — сказали ей, — человек талантливый, надо ему помочь развернуться». — «Это что — приказ?» — осведомилась Землячка. «Приказ!» Что ж, приказам приходится подчиняться.
А результат? Болтает Кранц языком без умолку, а со снабжением — из рук вон.
Началась зима. Свирепствует тиф. Непрерывные бои. Мучительные зимние переходы. Изнашивается одежда, рвется обувь. А Кранц и в ус не дует. Все обещает…
Бои не прекращаются. Комиссары ведут солдат в бой в рваной обуви. Чуть ли не босые идут красноармейцы в атаку — гонят белоказаков…
Политработники говорят одно, а шептуны другое. Шептунов тоже достаточно в армии. Среди командиров есть и бывшие офицеры, и эсеры. Особенно много говорят эсеры. Землячка знает, на кого они надеются.
И вот он — результат эсеровских речей. Запасная бригада поднимает мятеж. Арестовали всех коммунистов, объявили, что не пойдут на фронт.
Услышав о мятеже, она отправилась к мятежникам.
— Розалия Самойловна, вам нельзя этого делать, — останавливали ее. — Разорвут. Опять буча из-за сапог. Попадись им Кранц — растерзают. Говорят, продают наши сапоги на сторону…
— Ничего. — Розалия Самойловна хитро поджала губы. — Попробую проявить смелость, отправлюсь в стан противника и принесу голову Олоферна.
Она не позволяла себя сопровождать. Никому. Даже пистолет свой оставила, сунула в ящик стола и заперла на ключ.
Ее встретили почти так, как предсказывали в политотделе. Оскорблять не оскорбляли, но Кранца поминали через каждые два слова. Говорили об изменниках, находящихся в штабе армии.
Землячка отвечала, как всегда, она училась этому у Ленина: народу нужно говорить только правду. Народ все поймет, народ не прощает обмана.
— Бездельников я не оправдываю. Кранца мы снимем.
«Не прошло и трех часов…» — писала Землячка. В течение этих трех часов она разговаривала с мятежниками, била по эсерам ленинскими словами и в результате — «масса… разоружила шайку и освободила коммунистов».
Даже дезертиры, прибывшие накануне в бригаду, поддержали начальника политотдела.
В такой армии можно работать и сражаться!
В марте 1919 года Землячка провела неделю в Москве, участвовала в работе Восьмого съезда партии. На съезде Землячка примкнула к «военной оппозиции».
Ленин доказывал необходимость создания мощной регулярной рабоче-крестьянской армии, проникнутой сознанием строжайшей железной дисциплины.
Казалось бы, о чем спорить!
Однако споры возникли — споры жестокие, страстные…
Нарком по военным делам Троцкий хотел поставить армию вне политики, он пренебрежительно относился к политработникам, направленным партией в армию, и преклонялся перед военными специалистами, пришедшими из старой царской армии, не хотел видеть, что часть их, хоть и служит в Красной Армии, враждебно относится к Советской власти.
Бывшие «левые коммунисты», а вместе с ними и некоторые другие партийные работники, борясь против искривления Троцким военной политики партии, впали в другую крайность — стали защищать пережитки партизанщины, отрицали необходимость единоначалия, стояли за добровольческую армию, управляемую на коллективных началах. Эти ошибочные взгляды разделяла и Землячка. Она участвовала в спорах, с обычной прямотой выражала свое недовольство Троцким, но сама плохо представляла себе, какой же должна быть армия в Советском государстве.
Ленин не один раз выступал на съезде по военному вопросу, убеждал, доказывал и — убедил!
Съезд единогласно принял предложенное Лениным решение, направленное на укрепление армии.
«Мы пришли к единодушному решению по вопросу военному, — говорил Ленин при закрытии съезда. — Как ни велики казались вначале разногласия, как ни разноречивы были мнения многих товарищей, с полной откровенностью высказавшихся здесь о недостатках нашей военной политики, — нам чрезвычайно легко удалось в комиссии прийти к решению абсолютно единогласному, и мы уйдем с этого съезда уверенные, что наш главный защитник, Красная Армия, ради которой вся страна приносит такие неисчислимые жертвы, — что она во всех членах съезда, во всех членах партии встретит самых горячих, беззаветно преданных ей помощников, руководителей, друзей и сотрудников».
Землячка вернулась на фронт, но сразу по приезде над ее головой стали сгущаться тучи Реввоенсовет Южного фронта не жаловал Землячку. Не весь, конечно, но для Землячки не было секретом, кто именно недолюбливает ее в Реввоенсовете.
Член Военного совета фронта Смилга обозвал политработников Восьмой армии «левой бандой»…
И с каким удовольствием это выражение подхватили в штабных кругах Южфронта!
Еще бы, политработники и красноармейцы жили в Восьмой армии общей жизнью, укрывались в походах одной шинелью и суп ели из одного котелка. «Не отдаляться от массы, находиться в массе, жить интересами массы», — требовала Землячка от коммунистов.
Сама она не пользовалась никакими льготами и преимуществами и строго преследовала все попытки тех или иных работников армии улучшить свою жизнь за счет солдат.
Но этот демократизм претил кое-кому в Реввоенсовете фронта.
Землячка знала — кому. Прежде всего Сокольникову и Колегаеву. С Сокольниковым у нее старые счеты. Они начались еще до революции. Он вилял в дни Циммервальда, трусил выступать в поддержку Ленина, когда тот громил шовинистов на Циммервальдской конференции, колебался в дни Бреста, да и теперь тянет волынку с подавлением казацких восстаний, действует более чем нерешительно, а по мнению Землячки — даже преступно.
А что касается Колегаева, он хоть и отмежевался от эсеров, объявил себя «революционным коммунистом», но эсеровская закваска в нем так и бродит, как был, так и остался эсером.
Оба они знают, с какой настороженностью относится к ним Землячка, вот и мечут в нее громы и молнии, для них, конечно, лучше всего убрать ее из армии.
«Не дамское это дело — война, — передали как-то Землячке слова Сокольникова. — Ехала бы обратно в Москву руководить какими-нибудь прачечными и парикмахерскими».
Они давно убедили бы Троцкого отозвать ее из армии, да только Ленин держится иного мнения.
Хлеб и дети
В тот день политотдел расположился в Касторной. Большинство политработников находилось в воинских частях, на передовой линии фронта, да и сама Землячка часто выезжала на фронт, инструкции и циркуляры не могли подменить живого общения с людьми.
Канцелярия разместилась в школе. Временное обиталище на два-три дня. Восьмая армия отступала, сдерживая натиск деникинцев.
Сотрудники отдела сдвинули в большом классе парты, взгромоздили их одна на другую, из соседних классов втащили столы, поставили пишущие машинки, разложили папки с делами. Не прошло и часа, как походная канцелярия обрела свой обычный вид.
Начальнику отвели учительскую, приволокли откуда-то диван, два стула, окно занавесили неизвестно откуда взятой скатертью, создали «уют»; сама Землячка никогда не думала о себе, и те, кто наблюдал ее изо дня в день, жалели своего начальника и по мере возможности пытались облегчить ее существование.
Все последние дни Землячка особенно нервничала, она знала, что ее откомандировывают, Сокольников и Смилга добились своего, приказ есть приказ, приходилось подчиниться, и некому было сказать, с каким чувством острого сожаления покидает Землячка армию.
Шел восьмой час вечера, закат еще догорал, и августовский вечер дышал солнечным зноем. Землячка только что вернулась со станции. Политработники обнаружили на элеваторе большое количество зерна. Не оставлять же его деникинцам! Пришлось направить на станцию батальон пехоты, чтобы грузить зерно в вагоны. Это же хлеб, хлеб!
Землячка вошла в учительскую и распахнула окно. Пахло полынью, хлебом, пылью, доносились женские голоса, в палисаднике кто-то тренькал на балалайке, ничто не напоминало о войне.
В комнату без стука вошел Саша Якимов.
Он попал в армию по комсомольской мобилизации, хрупкий, нежный, розовощекий, хорошо, если ему было семнадцать лет, и Землячка пожалела его, оставила при политотделе, хотя сам он просил отправить его на передовую; в политотделе он был и писарем, и завхозом, и караульную службу нес наравне с другими красноармейцами.
— Ужинать будете, Розалия Самойловна? — спросил Саша и поставил на стол крынку с молоком.
Землячка до того устала, что не хотелось ни есть, ни разговаривать.
— Ты иди, иди, Саша, — отпустила она его, садясь на диван. — Спасибо. Я потом…
Лучше всего попытаться заснуть, забыться хоть на час-другой, но ей не до сна, не могла она примириться с тем, что ее отзывают из армии. Тут не в самолюбии дело — она сознавала, что нужна армии, что ее место на фронте, сознание этого не давало ей покоя… Надо писать, настаивать, требовать.
К кому она могла обратиться? Существовал лишь один адрес, только Центральному Комитету партии могла она сказать все, как есть.
Землячка села за стол, придвинула чернильницу, взяла ручку и принялась выкладывать на бумаге все, что знала о горестном и мужественном пути Восьмой армии.
Вспоминала и писала, задумывалась и писала, негодовала и писала…
И в тот момент, когда она принялась писать о перебоях в снабжении армии обмундированием, о том, как из армии отозвали старого большевика Сапожникова и прислали на его место болтуна и хвастуна Кранца, в дверь постучали, и перед Землячкой появился Кранц.
Легок на помине!
— Разрешите, товарищ начальник политотдела?
Как всегда подтянутый, в неизменном кожаном обмундировании: и фуражка, и куртка, и галифе, и сапоги — все сшито из мягкого отличного хрома, тщательно выбритый, он, вероятно, считает себя неотразимым.
— Откуда вы? — удивилась Землячка. — По-моему, вы должны эвакуировать Воронеж?
— Так точно, эвакуация идет полным ходом, — заверил ее Кранц. — Но я к вам.
— Ко мне?
— Лично к вам, — Кранц помедлил и прочувствованно произнес: — Розалия Самойловна!
Землячка прищурилась, она не любила, когда к ней обращались по имени-отчеству, это разрешалось только самым близким помощникам.
— Садитесь, — пригласила она своего посетителя и подчеркнуто официально сказала: — Не отвлекайтесь, я слушаю вас, товарищ Кранц.
Но он медлил, почему-то медлил начать разговор, ради которого явился.
— Не знаю, известно ли вам, но в штабе фронта подготовлен приказ о моем снятии, — решился он наконец высказаться. — Я бьюсь как рыба об лед, а на меня вешают всех собак.
Так вот с чем он пришел!
— Но ведь со снабжением у нас…
— Что со снабжением? — перебил ее Кранц. — Я одеваю, я обуваю, я всех кормлю, но никто этого не замечает!
— Вы одеваете командный состав, Кранц, — сухо возразила Землячка. — А следовало бы подумать о красноармейцах.
— Но зачем приказ? Все можно исправить!
— Подождите, Кранц, — остановила его Землячка. — Это я просила отстранить вас от работы.
Он не мог этого не знать. Землячка не раз жаловалась на Кранца, однако он делает вид, что ему об этом не известно.
— Вы же для всех нас в армии, как родная мать, — жалобно протянул Кранц. — Стоит вам замолвить слово, и все образуется.
Землячка это великолепно знает, у него в штабе фронта достаточно дружков — тому устроил куртку, тому сапоги, и достаточно Землячке пожалеть бездельника, как с помощью дружков он сухим выйдет из воды.
— Вас судить, судить надо, Кранц, — неумолимо произносит Землячка. — А вы хотите, чтобы вам было по-прежнему доверено снабжение армии.
— Дайте мне любое поручение, проверьте меня! — восклицает Кранц. — Вы увидите, на что я способен…
Землячка уже знает, на что способен Кранц, и ей совсем не хочется торговаться с этим навязчивым субъектом.
На выручку ей приходит непредвиденный случай.
За окном — хор детских голосов:
Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно,
Попроворней одевайтесь,
Смотрит солнышко в окно!
— Это еще что такое? — удивляется Землячка, высовываясь из окна.
На дороге перед школой стоят, дружно взявшись за руки, выстроенные попарно дети и знай себе поют, ни на что не обращая внимания. Все мал мала меньше, все одеты в серые холщовые костюмчики, и все, по-видимому, чувствуют себя весьма непринужденно.
Очень уж необычно появление этих детей в такое время на улице прифронтового поселка.
Дети же продолжают петь:
Человек, и зверь, и пташка,
Все берутся за дела,
С ношей тащится букашка,
За медком летит пчела…
За дверью слышно низкое цыганское контральто:
— Лишние церемонии ни к чему, цыпа моя…
Дверь распахивается и в комнату вплывает низенькая толстая женщина с багровым лицом и в длинном пальто, перешитом из солдатской шинели.
— Ну как? — тут же спрашивает она, указывая двойным своим подбородком за окно.
— Что — как? — не очень уверенно переспрашивает Землячка.
— Хорошо поют мои деточки?
— Отвратительно! — восклицает Землячка. — Откуда они взялись? Из какой-нибудь колонии? Почему очутились здесь? И что вам от меня нужно?
Но женщину все это обилие вопросов нисколько не смущает.
— Я к вам, как женщина к женщине, — говорит она в ответ.
Как женщина к женщине…
Так к Землячке не обращались никогда, меньше всего она склонна вспоминать, что она женщина, характер у нее мужской, должность мужская.
— Садитесь, — строго говорит Землячка. — Кто вы такая?
— Пузырева, — представляется незнакомка. — Директор Феодосийского приюта для сирот.
Землячка изумляется:
— Фе-о-до-сий-ско-го?…
— А что вы удивляетесь?
Конечно, можно бы и не удивляться, на войне чего только не бывает.
К концу империалистической войны на юге собралось много осиротевших детей, и несколько феодосийских филантропов создали для сирот приют. Средств было мало, приют был небольшой, но все-таки трем десяткам детей как-то облегчал жизнь. Началась гражданская война. Крым оккупировали белогвардейцы. В конце концов их внимание привлек и приют. Однажды перед Пузыревой появился офицер.
«Военное командование намерено эвакуировать детей русской национальности в Севастополь. Не исключено, что их эвакуируют даже за пределы Российской империи». — «А остальные?» — спросила Пузырева. «С остальными поступят по закону».
— А у меня всякие дети, и русские, и евреи, и татары, и караимы, — рассказывала Пузырева. — А что значит «по закону», мы уже знаем. Врангелевцам ничего не стоило, например, утопить караимов, как котят… Мы убежали.
— То есть как убежали? — опять изумилась Землячка.
— Уж очень жалко стало детей, уговорила нянечек, собрала кое-какие вещички и увела детей из города.
— Куда?
— Сперва во Владиславовку, потом в Старый Крым, оттуда в Джанкой…
— А потом?
— Потом добрались до Бердянска.
— Так и путешествуете?
— Так и путешествуем.
— А конечная цель?
— Добраться до Москвы, что ли. Я слыхала, Ленин очень хорошо относится к детям.
— И как же думаете добраться?
— Мир не без добрых людей.
Ответы Пузыревой обезоруживали Землячку, о своем путешествии с детьми она рассказывала с подкупающей наивностью.
Это была целая эпопея. Ночевки в чужих хатах, D сараях, под навесами. Сбор милостыни. Иногда оскорбления и угрозы, потому что бродячий этот приют мешал решительно всем. Так, кочуя от деревни к деревне, от поселка к поселку, от станции к станции и упорно стремясь на север, где поездом, а где и пешком, Пузырева добралась со своими детьми до Касторной.
— А где вы остановились?
— Нигде.
— Значит, весь приют у меня под окном?
— Весь.
— А где же ваши нянечки?
— Разбежались.
— А как же вы намереваетесь двигаться дальше?
— Как бог даст.
— Гм…
Не до приюта Землячке, решительно не до него!
— А ко мне зачем пришли?
— Как женщина к женщине. Услыхала на станции, что солдатами здесь командует женщина, и решила, что вы поймете меня. Говорят, вы в Красной Армии такая же авторитетная, как у Махно атаманша Маруся…
— Помолчите!
Только этого не хватало, чтоб ее сравнивали с какой-то бандиткой!
Кранц видел, Землячка сердится, и решил прийти ей на помощь.
— Разрешите мне?
— Что?
— Я отведу детей.
— Куда?
— Куда-нибудь.
Землячка уставилась на Кранца.
— Вы весь в этом ответе, Кранц. Куда-нибудь и как-нибудь. Дайте мне подумать. Это же дети, их нельзя как-нибудь…
Но времени на долгие раздумья не было.
— Саша! — позвала Землячка Якимова. — Пересчитай детей, и пусть в канцелярии выпишут мандат на имя Якимова и Кранца. Вы их будете сопровождать.
Кранц резко повернулся к Землячке.
— Товарищ начальник политотдела…
Но Землячка его не слушала.
— Якимова и Кранца, — повторила она. — И быстро возвращайся сюда…
Якимов исчез, он выполнял приказы без лишних слов.
— Но я не могу, — взмолился Кранц. — Я подчиняюсь штабу…
— Не тревожьтесь. Я позвоню в штаб, сообщу, что выполняете поручение политотдела. Поедете с детьми до первого большого города и постараетесь их устроить. Хоть до Тамбова, хоть до Рязани, а нет, так и до самой Москвы. И помните: за детей вы отвечаете головой.
Кранц то бледнел, то краснел, ехать с детьми для него нож острый, но и Землячке перечить не решался.
Он все-таки рискнул:
— Я не поеду…
— Тогда прямым ходом отправляйтесь в трибунал!
Саша Якимов стоял уже перед Землячкой, подал на подпись мандат.
— Сколько детей?
— Двадцать семь.
Она подписала, поднялась.
— Соберись, Саша, догонишь нас на улице. Товарищ Пузырева, пошли.
Не глядя на Кранца, вышла с Пузыревой на улицу, и тот после минутного колебания уныло потащился за ними.
Хор уже распался, дети сидели на травке, росшей по обочине дороги, играли в пятнашки, а самые маленькие пристраивались спать в канаве.
— Дети! — воскликнула Землячка и запнулась; она не знала, что им сказать, как с ними разговаривать, вот когда она почувствовала свою полную беспомощность. — Товарищ Пузырева… Организуйте их как-нибудь, не ночевать же им здесь.
Толстая женщина в солдатской шинели снова выступила на авансцену.
— Паршивцы! — крикнула Пузырева, сменив контральто на визгливый дискант. — Жрать хотите?
Дети тотчас окружили Пузыреву, точно стая воробьев слетелась на горсть зерна.
— Симочка! — позвала Пузырева.
Подошла девочка с клеенчатой сумкой, и Пузырева принялась доставать из этой сумки какие-то бурые оладьи и оделять ими детей.
Отношения между директоршей и ее воспитанниками были самые добросердечные.
— А теперь слушайте меня! — крикнула опять Пузырева, опустошив сумку и указывая на Землячку. — Сейчас мы отправимся с этой тетей на станцию, тетя отведет нам комнату, и вы ляжете спать…
Ребятишки взялись за руки и попарно зашагали к станции.
На станции заканчивалась погрузка зерна.
Землячка подозвала командира батальона и велела ему привести начальника станции.
— Отцепите один пустой вагон, — приказала она. — Погрузите детей и с ближайшим поездом отправьте на север, их будут сопровождать два политработника. Не оставлять же детей в районе предстоящих боев.
Ни начальник станции, ни комбат не спорили.
Казалось, Пузырева побагровела еще больше.
— Товарищ генерал! — воскликнула она, схватив за руку Землячку и снова переходя на контральто. — Теперь я вижу разницу… — она не сказала, между кем или чем. — Вы поняли меня! Как женщина женщину.
И опасаясь, как бы кто не раздумал или не отменил приказа, она быстро повела ребят к поезду.
— А вы подождите, — задержала Землячка Якимова и Кранца. — Слушай меня внимательно, Саша. Постарайтесь в Тамбове или в Рязани устроить детей — не сбыть с рук, а устроить, для того вы и политработники, понятно? А Кранца я обязываю обеспечивать детей в дороге питанием, это вполне в его силах. Ты, Саша, едешь за старшего, и если этот… — Она даже не посмотрела на Кранца. — Если этот вздумает улизнуть или поведет себя недостойно, сдай его в ближайшую комендатуру как дезертира. А чтобы ты мог выполнить приказ, я даю тебе… — Она сняла с ремня кобуру с браунингом и подала Якимову. — Вернешься — отдашь, а не встретимся, считай это моим подарком. — Решительно повернулась и зашагала прочь. Землячка не любила ни лишних слов, ни долгих проводов.
Поселок уже спал, нигде ни огонька, лишь сонно покачивались в палисадниках высокие мальвы и доносились издалека соловьиные трели.
А ведь еще несколько дней, и Касторная станет ареной жестоких боев, деникинцы рвутся к Воронежу и Курску — у Землячки сердце зашлось с досады, что ее не будет во время этих боев в армии.
Она дошла до школы, молча прошла через канцелярию. Работники политотдела устраивались на ночевку, лишь дежурный крутил ручку полевого телефона, пытаясь с кем-то соединиться.
На столе у нее стояла нетронутая крынка с молоком, принесенная под вечер Сашей Якимовым. Налила в кружку молока, выпила. Достала из папки исписанные листки, прочла начало своего обращения в ЦК, подумала и принялась — с болью, с мукой, с тревогой — дописывать свою докладную записку.
Докладная записка
"В Ц.К. Р.К.П. и в
Политотдел Реввоенсовета
Республики.
Неудачи в 8-й армии начались с конца апреля, этому способствовал ряд причин…
Зимние переходы, отсутствие снабжения и особенно обуви — были случаи, когда красноармейцы босыми делали переходы по льду, — непрерывные бои и заболевания сыпным тифом дали громадный процент выбывших из строя уже к концу марта. В армии из 1423 коммунистов, находившихся на партийном учете, осталось 227. Мы вопили о помощи. Выполняя боевые приказы, армия истекала кровью и из-за количественных потерь становилась небоеспособной. Фронт, обороняемый 1-й Московской рабочей дивизией, протянулся на 25 верст, а находилось на нем всего 27 бойцов.
И все же, при колоссальном напряжении сил, боевые приказы удавалось выполнять в точности.
Никакие просьбы о пополнении не помогали. Истекавшие кровью части теряли последних людей и доведены были до последней степени истощения.
Недавно 112-й полк, когда-то гордость нашей армии, самый смелый, самый боевой, отказался выполнить боевой приказ. Четверо суток шли солдаты босыми под проливным дождем — и это после шести месяцев непрерывных боев!
Но стоило сказать им несколько слов, как они снова бросились в атаку!
Из 380 человек, остававшихся в дивизии, уцелело 70, остальные были убитыми и ранеными, а всего в этом бою мы потеряли ранеными и убитыми 700 человек.
В самое последнее время нам стали посылать пополнения. Но что это были за пополнения? Сплошь дезертиры. Они немедленно, без какой-либо политической обработки, посылались в бой, потому что задерживать их не было возможности. Фронт требовал людей немедленно, и мы посылали часто совершенно негодные пополнения.
И нашим старым кадрам нужно было быть особенно крепкими, чтобы не разложиться от таких пополнений. Тяжелую атмосферу создали в особенности пополнения из разных украинских частей. Четыре полка, присланные из Украинской дивизии, были расформированы за полной негодностью, после того как они оголяли фронт. Бронепоезд «Углекоп» погиб по вине 37-го и 38-го пехотных полков Украинской дивизии. Внимание, которое уделялось маршевым ротам всю зиму, и громадная боевая и политическая подготовка их в нашем Запасном полку сошли на нет из-за той спешки, с какой приходилось бросать в бой новые пополнения.
Так обстояло дело с пополнением.
Со снабжением дело обстояло еще хуже.
Страдали не столько от отсутствия продовольствия, сколько от отсутствия обмундирования и, главным образом, сапог.
Вопль — одежды и накормите нас! — это общий вопль в армии, а мы ничего не делаем только потому, что не дают проявиться инициативе.
Характерен факт с нашей эвакуацией. Эвакуация у нас прошла блестяще — за исключением нескольких поломанных вагонов все вывезено, и сделано это было молниеносно.
Как высоко оценили мы двух работников, участвовавших в этом деле, — начальника военных сообщений нашей армии тов. Пигулина и комиссара при нем тов. Швена-Шияна! Эти беззаветно преданные люди и крупные специалисты работали день и ночь и добились полной эвакуации. А в день моего отъезда я узнаю, что получена телеграмма из Южфронта о немедленном их отстранении ввиду непланомерности, с которой проводилась эвакуация. Спрашивается, в чем же должна была выразиться планомерность — в оставлении у белоказаков половины эшелонов?
Больно вспоминать о подобных «отставках» — думается, что и здесь какой-нибудь бездельник шепнул что-то «по-дружески» другому, а в результате отстранены два ценнейших работника.
В политическом отношении была проделана громадная, сверхчеловеческая работа.
В начале января 8-я армия состояла из разрозненных, ничем не спаянных отрядов, а уже к концу января она стала политически крепкой, уверенной в своих силах армией. Мнение о ней, как о таковой, я неоднократно слышала от всех с ней соприкасавшихся людей и организаций, и на партийном съезде я тоже слышала много похвал, которые расточали по ее адресу многие товарищи.
Январь и начало февраля ушли главным образом на политическую обработку маршевых рот и формирующихся полков и на пересмотр и перераспределение комиссарского состава.
Со второй половины февраля появилась возможность главные силы политработников бросить в дивизии, в политотделе осталось всего несколько политработников. Все способные вести политическую работу посланы в массу.
В начале января мне лично пришлось арестовать десятка полтора коммунистов, и можно с уверенностью сказать, что с этого момента в 8-й армии не осталось ни одного не проверенного комиссара, ни одного коммуниста, который оказался бы трусом или шкурником.
Тщательный подбор политработников и беспощадная борьба с негодным элементом характеризуют работу политотдела 8-й армии особенно ярко.
Организацию пришлось делать гибкой, политработников приходилось распределять и перераспределять постоянно ввиду крайне недостаточного их количества. Непрерывные бои и сыпной тиф вырывали ежедневно по десятку человек, а пополнения поступали крайне скудно. За три с половиной месяца получено нами было от Южфронта всего 46 человек. Приходилось всячески изощряться, чтобы заменить выбывающих из строя. Из коммунистических ячеек брали нужных людей, спешно подготавливали, инструктировали и ставили на ответственные посты.
Комиссары 8-й армии могли быть слабы теоретически, могли делать организационные ошибки, но твердо помнили, что они должны умереть, но не покинуть поста, они знали при жизни лишь одно дело, за которое умирали. Мне удалось подобрать на ответственные посты старых членов партии, испытанных борцов, людей, которые работали круглые сутки, не зная отдыха. Измученные, больные, они оставались на посту и морально оказывали громадное влияние на армию. И Реввоенсовет 8-й армии был такой же: непрерывная работа день и ночь истощила наши силы, но сделала армию крепко спаянной братской семьей, не знавшей отдыха и не жалевшей жизни для дела. Коммунистические ячейки шли за своими руководителями. Командный состав подтягивался за коммунистами…"
Прервем на минуту чтение этого документа. Факты, имена, цифры… Проза войны!
И ведь это лишь один документ, выхваченный из того множества, что лежат в наших архивах и покрываются «пылью времени».
Конечно, он достаточно субъективен и написан под воздействием личных переживаний, Землячка пишет о злоключениях Восьмой армии часто вне связи с общим положением Южного фронта, говорит лишь об армии, за которую несла прямую ответственность, и понятно, что она горой встает за людей, на честь которых набрасывали тень…
Критики из вышестоящих штабов упрекали комиссаров Восьмой армии в том, что они политически малограмотны.
Могла ли Землячка стерпеть такое обвинение?
Ее рукой, когда она писала свою докладную записку, водили не только ее личная честь и совесть, но и честь тех, кого уже не было в живых и чьей кровью была полита каждая пядь пройденной земли.
Хацкевич…
Ни Сокольников, ни Колегаев, ни Смилга даже внимания не обратили на эту фамилию, а ведь Землячка писала о нем в своих донесениях.
Разве можно его забыть?
В ночь на 10 января 1919 года 1-й батальон Орловского полка 13-й дивизии получил приказ занять железнодорожную станцию.
Комиссаром этого батальона был — его уже нет! — Марк Артемьевич Хацкевич, сын белорусского крестьянина из-под Витебска, бывший судовой электрик Балтийского флота, член партии с марта 1917 года, один из организаторов Советской власти в Кронштадте.
Попал он в армию по партийной мобилизации.
Возможно, Хацкевич в чем-то и ошибался и не так-то уж твердо знал Маркса… Только стоит ли его в этом упрекать?
Командира батальона тяжело ранили, и Хацкевич сам повел батальон на штурм станции.
Врага выбили и станцию заняли.
Белогвардейцы повели контрнаступление. Силы противника вдесятеро превосходили силы батальона. Белогвардейцы прямой наводкой били из артиллерийских орудий, а у батальона и пулеметов-то было всего три или четыре.
Пришлось отойти. Шли отстреливаясь и нанося врагу потери.
Хацкевича ранили. Его подхватили два красноармейца. Повели, поддерживая под руки, а комиссар, истекая кровью, стрелял по врагу. Одного из красноармейцев тоже ранили.
Хацкевич остановился.
— Ребята, глупо погибать всем троим, — обратился он к красноармейцам. — Вы еще сгодитесь на то, чтобы отомстить врагу. Приказываю оставить меня. Спасайтесь. За меня не тревожтесь, живым я противнику не дамся.
Он повторил приказ.
Красноармейцы и помыслить не смели о нарушении приказа.
Казаки приближались.
Хацкевич подпустил их к себе на несколько шагов, приподнялся с земли, собрал последние силы, крикнул: «Коммунисты живыми не сдаются!» — и застрелился.
И про таких комиссаров говорят, что они политически неграмотны!
Пока Землячка жива, она не позволит чернить своих политработников.
Да что там комиссары! Рядовые красноармейцы и даже женщины, попадавшие в армию, показывали примеры высочайшей храбрости.
Как-то в конце восемнадцатого года пришла к командиру одной из рот пожилая крестьянка.
— Лапкова я, Евдокия, из-под Волновахи. Возьмете в солдаты?
Не сказала, что привело ее в Красную Армию, не хотела об том говорить. Понял только командир, что сильно кто-то ее обидел. Он колебался, брать или не брать, война — не женское дело. Но потом вспомнил, что начальник политотдела в армии женщина, и зачислил Лапкову красноармейцем.
Ходила Лапкова в бои, участвовала в атаках, сильная физически была женщина, а в промежутках между боями стирала однополчанам белье, чинила, штопала, ухаживала за ранеными и всегда умела подбодрить пригорюнившегося солдата.
3 февраля 1919 года под Первозвановкой командир роты послал перед боем разведку. Вызвалась идти в разведку и Евдокия Лапкова. Была она осторожна и умела удержать бойцов от проявления показной храбрости, потому-то командир роты и разрешил ей пойти. И как на грех напоролись разведчики на засаду. Рассыпались красноармейцы по кустам, отстреливаются. Заметили тут белогвардейцы среди них бабу, оттеснили Лапкову в сторону, окружили ее пять офицеров, кричат:
— Бросай винтовку, стерва!
Лапкова четверых в упор застрелила, и тут кончились у нее патроны, а оставшийся в живых штабс-капитан всадил в нее штык.
Вся рота плакала, узнав о ее смерти.
Так разве не оскорбляют память Лапковой разговоры о том, что бойцы 8-й армии деморализованы? Вечная тебе память, красноармеец Евдокия Лапкова!
"…Страдали мы невероятно от совершенного отсутствия газет. Сколько трудов было положено, чтобы добиться их получения, и как все оказалось безрезультатно!
Казалось, только предательская рука может умышленно лишать нас этого необходимого источника живой политической работы.
Махновщина не сыграла большой роли в нашей армии. Только в самое последнее время зараза эта стала переноситься и к нам, но борьба с ней в нашей армии оказалась нетрудной.
Начиная приблизительно с середины апреля на нашу армию стали обрушиваться с самыми тяжелыми обвинениями.
Кто-то с досужим языком пустил слух, слухи разрослись, и — клеймо на целой армии.
Все же, несмотря ни на что, когда разобрались, по общему сейчас признанию, армия наша и это пережила и является сейчас единственной сохранившейся армией на Южном фронте!
История нашей армии или, вернее, история с нашей армией должна многому научить и показать, что надо делать и чего делать не надо.
И только с этой стороны я хочу подойти к рассмотрению этого вопроса.
Пусть от всей этой истории с 8-й армией останется только один урок — как не надо, находясь за тридевять земель, доверять досужим языкам.
А за то, что политическая работа в армии велась самая интенсивная, самая энергичная, за то, что заведующий политотделом армии возглавлял не «левую банду», по выражению Смилги, а стойкую партийную организацию, говорит каждая пядь земли, по которой победоносно проходила наша армия, что подтверждает гибель каждого нашего комиссара — звезд они с неба, быть может, и не хватали, но все выполнили свой долг и честно умирали на своем боевом посту.
Армия наша не разложилась и достаточно крепка, об этом говорит то обстоятельство, что отступление наше вынужденное и ведется вполне планомерно, без какой-либо паники, и все, что у нас имеется, вывозится до последнего эшелона.
Тяжело мне оставлять 8-ю армию без всякого разумного на то повода и в такой момент, когда я чувствую всю необходимость оставаться в армии.
Бесконечно обидно за армию, что из нее вырвали тов. Якира, великолепного солдата и отличного оперативного работника.
Больно за всех политработников, за всех командиров, без малейшей тени осмысленности вырванных из нашей армии только потому, что они оказались неугодными тому или иному лицу из Южфронта.
Но еще больнее, кошмаром каким-то стоит передо мною тот факт, с какой легкостью вообще назначаются, перемещаются и распределяются люди только по внешним признакам, без обследования их работоспособности и полезности их на месте. Если бы вы знали, как тяжело это отражается на местах!
В отношении же себя я прошу только об одном: дайте мне возможность вернуться на Южный фронт, где я — знаю это твердо — наилучшим образом смогу отдать свои силы в качестве рядовой коммунистки. Только в массе, где сейчас нужнее всего люди, я буду себя хорошо чувствовать. Исходя из опыта моей работы на фронте в течение одиннадцати месяцев, я прошу только об этом: дайте мне возможность поработать в 13-й или 14-й армиях по борьбе с махновщиной. Бывший заведполитотделом армии 8
Р.Самойлова".
За чашкой чая
Добралась Землячка до Москвы сравнительно благополучно. Поезд, которым она ехала, считался поездом особого назначения, его не задерживали на станциях, снабжали топливом…
Она — дома. Но никогда не чувствовала она себя такой бездомной, как в этот раз. Сознание того, что она откомандирована из армии, что она не у дел, вызывало у нее такое чувство опустошенности, что она и дома чувствовала себя временной квартиранткой.
Она позвонила. Дверь открыла сестра. Землячка внесла в переднюю чемодан, сняла пальто, расцеловались.
— Ты в отпуск? — спросила сестра. — Надолго?
Землячка не знала, надолго ли приехала в Москву, но наперед решила, что в Москве все равно не останется, ее место на фронте, она будет на этом настаивать.
Сразу же по приезде села за докладную записку в ЦК. Там разберутся во всем. Она писала, переписывала, зачеркивала, рвала. Приходилось отчитываться за все время, что она провела в Восьмой армии. С Центральным Комитетом она бывала откровенна так же, как с собой. Что хорошо — то хорошо, а что плохо — то плохо.
— Что ты там пишешь? — поинтересовалась Мария Самойловна. — Письмо?
— Отчет, — объяснила Землячка. — Оправдываюсь.
— А есть в чем оправдываться? — спросила сестра.
— Есть, — убежденно сказала Землячка. — Всякому есть в чем оправдываться.
Утром она отнесла докладную в ЦК. Зашла в Учраспред. Спросила, что с ней думают делать.
— На этот раз вам несдобровать, — пошутили там, и кто-то провел над столом ладонью: — На вас вот такой ворох заявлений.
— Я согласна поехать рядовым комиссаром, хоть в батальон, хоть в роту, — попросила она. — Но только на фронт.
Вернулась домой. Никуда не хотелось идти. Не хотелось разговаривать.
Вечером пошла в консерваторию. В Малом зале концерт камерного оркестра. Землячка предъявила в кассу военное удостоверение, получила билет. Зал полон. Среди слушателей преимущественно молодежь. Мужчины в каких-то кургузых курточках, в серых пиджачках, женщины в перешитых платьях. В своей кожаной куртке Землячка бросалась в глаза, на нее обращали внимание. А ей хотелось быть незаметной. Она прошла к своему месту и так и не поднялась за весь вечер. Оркестр исполнял «Прощальную симфонию» Гайдна. Землячка плохо помнила, какие обстоятельства предшествовали сочинению симфонии. То ли князь Эстергази увольнял свой оркестр, и Гайдн сочинил напоследок эту музыку, пытаясь побудить князя Эстергази изменить решение, то ли Гайдн сам собрался уехать в Лондон и прощался с оркестром. Но музыка звучала печально и соответствовала настроению Землячки. Замолкают все инструменты, плачут лишь две скрипки…
Ночь она спала плохо. На третий день пребывания в Москве отправилась в Политотдел Республики. Она хотела вернуться на фронт.
— Не торопитесь, — ответили ей, — С вами еще следует разобраться.
Но Землячка не хотела, не могла ждать…
Под вечер она позвонила в Кремль, попросила соединить ее с квартирой Ленина.
К телефону подошла Надежда Константиновна.
Землячка назвалась.
— Я только что с фронта. Очень бы хотела повидаться с вами, Надежда Константиновна, и, конечно, если это возможно, с Владимиром Ильичем.
— Даже не знаю, что вам сказать, — ответила Надежда Константиновна. — Владимир Ильич так занят, сама его почти не вижу. Приходите. Может, что и получится.
Землячка торопливо шла по кремлевской торцовой мостовой. Шла к зданию Судебных установлений, в котором помещался Совнарком. Прошла мимо выкрашенного в розовую краску Чудова монастыря. Подошла к подъезду, предъявила часовому пропуск, по старой каменной лестнице поднялась на третий этаж. Позвонила. Ее провели в столовую.
Квадратный обеденный стол, буфет, старинные кабинетные часы, полдюжины стульев. Просто, как и всегда у Ленина.
Из соседней комнаты тотчас вышла Надежда Константиновна.
— Здравствуйте, Розалия Самойловна. Вот и хорошо, что пришли. Сколько ж мы не виделись? Сейчас будем пить чай.
Она угадала вопрос, который так и не произнесла Землячка.
— Обещал прийти. Если никто не задержит.
Они были старые знакомые, Землячка и Крупская. Много соли съедено вместе, но им не до воспоминаний, некогда оглядываться назад, столько у них дела.
Только начали чаевничать, как пришел Владимир Ильич.
Немногим меньше полугода не видела его Землячка, в последний раз она разговаривала с ним на Восьмом съезде партии, на котором присутствовала в числе делегатов от армии.
Ленин перемолвился с нею тогда лишь несколькими словами, поинтересовался делами на фронте, настроениями крестьян, политработой в армии, задал всего несколько вопросов, но, как всегда, спросил о самом главном.
Удастся ли побеседовать с ним сегодня?
— Отлично, — сказал, входя, Владимир Ильич. — Надежда Константиновна предупредила меня. Ну, рассказывайте, рассказывайте, как вы там свирепствуете… Наденька, ты нальешь мне?
Сел за стол, придвинул стакан с чаем, Надежда Константиновна положила перед ним бутерброд.
Ленин приветлив, внимателен, но он поразил Землячку своим видом, осунулся, почти не улыбается, должно быть, очень переутомился, с лица не сходит озабоченное выражение, впрочем, этому Землячка не удивлялась, деникинская армия катилась к Орлу, да и на других фронтах тревожно.
Он размешал в стакане сахар, отхлебнул чай.
— Ну, как вы там?
— Плохо, Владимир Ильич, — призналась Землячка, не желая играть в прятки и скрывать то, что у нее наболело. — Сняли меня. Откомандировали.
— Слышал, слышал, — ответил Ленин. — Говорят, у вас там какие-то заминки с эвакуацией, бунтуют солдаты.
Землячка взглянула на Ленина.
— А вы знаете, кто говорит?
— Сокольников? — спросил Владимир Ильич не без лукавства и еще раз переспросил: — Сокольников и Колегаев?
— Владимир Ильич, если бы вы видели наших красноармейцев, — не давая прямого ответа на вопрос, обратилась Землячка к Ленину. — Босые по льду ходили в атаки! Мы достали сапоги — их у нас отобрали. Был отличный начальник снабжения — вместо него прислали…
— Читал, читал, — перебил ее Ленин. — Об этом вы написали.
Землячка замолчала. Раз он знаком с ее докладной запиской, следовало подождать, что он скажет.
А он ничего не сказал, стал ее обо всем расспрашивать. Задавал лаконичные, короткие вопросы о самом существенном.
Снабжение армии оружием, дисциплина, запасы хлеба в городах и селах, через которые проходили части Восьмой армии, удастся ли вывезти хлеб, как поставлена агитация и в армии и среди населения, настроение крестьян…
Он расспрашивал, и в тон ему Землячка старалась так же коротко отвечать. По ходу разговора она опять помянула Сокольникова и Колегаева.
— Уж очень медлили при подавлении восстания казаков, — пожаловалась Землячка. — Боюсь, Колегаев со своей эсеровской жалостью к кулакам плохо влияет на Сокольникова.
— Известно, известно, — опять прервал ее Ленин, не высказывая своего мнения ни о Сокольникове, ни о Колегаеве, и придвинул к ней хлеб. — Вы кушайте, кушайте…
Потом взглянул на Надежду Константиновну — они поняли друг друга, время, отпущенное на ужин и гостью, видимо, подходило к концу.
— У вас еще что-нибудь ко мне, Розалия Самойловна? — спросил Ленин, отставляя стакан в сторону.
Но Землячка так и не решилась сказать, с чем она пришла к Ленину. У нее была всего одна просьба — послать ее обратно на фронт, на решающий участок, где сражались Тринадцатая и Четырнадцатая армии. У нее много недоброжелателей, она ни с кем не вступает в компромиссы. Ленин прочел уже ее записку, повторяться не стоит, не стоит отнимать у него время.
— Так вот, Розалия Самойловна, какие сейчас стоят перед нами задачи, — сказал Ленин. — Нам нужна могучая Красная Армия. Эту задачу можно решить только при строгой и сознательной дисциплине. Красная Армия не может быть крепкой без больших государственных запасов хлеба, мы должны взять у крестьян все излишки. Чтобы до конца уничтожить Колчака и Деникина, необходимо соблюдать строжайший революционный порядок. Вылавливать прячущихся помещиков и капиталистов во всех их прикрытиях, разоблачать их и карать беспощадно. Не забывать, что колчаковщине помогли родиться на свет меньшевики и эсеры. Пора научиться оценивать политические партии по делам их, а не по их словам. И, наконец, помочь крестьянам сделать выбор в пользу рабочего государства.
Все было ясно, как всегда, он вооружал свою собеседницу совершенно четкими указаниями, только где и когда она их применит?
Спросить сейчас об этом Ленина просто бестактно.
Тут Землячка заметила взгляд Надежды Константиновны и поднялась.
— Простите меня, Владимир Ильич, за мои женские слова, — сказала Землячка, прощаясь. — Достаточно на вас взглянуть, чтобы увидеть, как плохо вы себя бережете.
— И вы, и вы, Розалия Самойловна! — ответил Ленин и вдруг рассмеялся. — Таков уж наш удел!
И этот неожиданный смех наполнил Землячку уверенностью, что все будет хорошо, все будет как надо.
На другой день ее вызвали в Политотдел Республики и вручили предписание — она была назначена начальником политотдела Тринадцатой армии.
В тот же вечер Землячка снова выехала на фронт.
Будни войны
Будни войны… Кто не служил в действующей армии, тот плохо знает, что такое война. Это — не столько бои, атаки и перестрелки, сколько выматывающие душу переходы, случайные квартиры, кухни и лазареты, пекарни и ремонтные мастерские, хлеб, одежда, лекарства и бумажки, всевозможные деловые бумаги — приказы, отчеты, докладные…
Армии не обходятся без канцелярий, судьба сражений скрыта в бумажных папках, завязанных длинными узкими тесемками.
Поэтому, едва успев представиться командарму 13, она сразу принялась наводить порядок в политотделе.
Народу много, а толку мало, каждый действовал сам по себе, все занимались самодеятельностью.
Армия собиралась с силами и после тяжелых боев постепенно переходила в наступление. Ощущалась нехватка командиров — надо наступать, а командовать некому.
Землячка знакомилась с подчиненными: инструкторы, делопроизводители, помы, замы…
— Давно служите?
— С четырнадцатого года.
— Кем были в царской армии?
— Прапорщиком.
А в политотделе числится делопроизводителем!
Землячка звонила в штаб и через день лишалась делопроизводителя, направленного на передовые позиции командовать батальоном.
Инструктор по культработе стоял перед ней, вытянувшись по струнке.
— Вы чем заняты?
— Жду.
— Чего?
— Мячей.
— Каких мячей?!
— Для лапты. Такая народная игра, — почтительно докладывал инструктор. — Развивает глазомер, приучает быстро бегать и точно метать.
На него нельзя было даже сердиться.
— А что вы делали до того, как попали в политотдел?
— Командовал эскадроном.
— На старое место не хочется?
— Товарищ начпоарм, только об этом и мечтаю! Три рапорта подал по команде, а из штаба ни привета ни ответа.
Не прошло и дня, как ко взаимному удовлетворению Землячка распрощалась с инструктором.
Всех политработников разогнала по ротам, батальонам и полкам.
— Обойдемся пока без писанины.
Она интересовалась каждым коммунистом — что делал, что делает и что еще может делать, хотела быть уверенной в каждом комиссаре и чтобы каждый комиссар был уверен в ней. Она требовала от политработников умения так разговаривать с красноармейцами, чтобы люди с любым вопросом, с любой бедой обращались в политотдел.
Наступление развивалось успешно, у политработников было множество дел в прифронтовой полосе.
Население не сразу оправлялось от жестокостей белогвардейцев, люди были запуганы. Надо было внушить к себе доверие. Приходилось создавать ревкомы и вместе с ними отбирать у кулаков хлеб, открывать избы-читальни, снабжать школы дровами, проводить митинги, читать неграмотным газеты…
И участвовать в боях, вести в бой людей, и гнать, гнать противника все дальше, до самого Черного моря.
Не прошло и полутора месяцев после прибытия Землячки в Тринадцатую армию, как она рапортовала о переломе в работе политотдела.
"Я приступила к исполнению обязанностей 8 октября. Крайне хаотическое состояние, в котором я застала политотдел, я объясняю исключительно недостатком коммунистов и совершенно неправильным распределением их…
Делом этим ведал заведующий учетно-распределительным отделением, молодой товарищ, совершенно в людях не разбиравшийся и никакого учета не сумевший поставить. Коммунисты были использованы до крайности плохо.
В Орле я случайно набрела на знакомых коммунистов, мобилизованных при мне в Ярославской губ., в количестве 60 человек (почти все ответственные работники), они были откомандированы поармом в распоряжение Орловского губкомпартии. Откомандировал их в момент панического отступления помзавучстотделом, не зная, куда их девать. Случайно узнав о моем приезде, они пришли ко мне…
При помощи петроградских и московских коммунистов удалось укрепить дивизии, дать боеспособность частям, влив в них хорошо политически обработанные пополнения (в запасные части и особенно в запасной пехотный полк брошены для этой цели большие силы), но и в самом политотделе удалось подобрать работоспособную публику, которая подняла высоко престиж поарма, тесно связала его с дивизиями, сделала его действительно центром руководящим, политически соединяющим Реввоенсовет с массами красноармейцев. В поарм сейчас являются не только комиссары, но и красноармейцы со всеми своими наболевшими вопросами. Из частей ежедневно доносят о громадном переломе в настроении красноармейцев, о том громадном значении, которое имело вкрапление коммунистов в их среду…
Общее заключение о состоянии армии в настоящее время можно сделать на основании тех больших побед, которые они сейчас одерживают (взятие Орла, Щигров, Курска и участие в победах у Касторной). Состояние армии с каждым днем крепнет, и устойчивость ее в настоящий момент вполне надежна".
По сырой земле
Бог ты мой, что это были за солдаты!… Сброд!… Да еще какой! С бору по сосенке, один ужасней другого. Прямо в упор на Землячку смотрел парень — лицо в веснушках, нос вздернут, утонул весь в грязном брезентовом плаще, а на ногах галоши, привязанные пеньковыми бечевками. Рядом парень постарше, в рыжем армяке, подпоясан веревкой, а на ногах бурые от сырости чуни. А вот еще один — шинель не по росту, парусиновый картуз, потрескавшиеся лаковые штиблеты… Откуда он только их взял? И вот таких-то бойцов вести в бой против Деникина?!
Из штаба 70-го полка несколько раз уже звонили в политотдел:
— Пришло пополнение…
Землячка знала, что это за пополнение. По всем селам и деревням, всего несколько дней как оставленным отогнанной деникинской армией, шли поиски дезертиров. Их находили на огородах, в погребах, в закопченных деревенских баньках, в ригах и сараюшках, и с ходу, под конвоем двух-трех бойцов направляли в действующую Красную Армию, упорно преследовавшую отступающие деникинские части.
— Пришлите кого-нибудь из политотдела, — требовали из штаба полка. — Прибыл новый контингент.
Новым пополнениям следовало разъяснить, за что и для чего они должны сражаться.
Политработники сбивались с ног. Людей не хватало, да и не так уж много было в политотделе агитаторов, способных умно и терпеливо разъяснить неграмотным парням задачи Советской власти.
— Вы что ж, хотите, чтоб люди вновь разбежались? — угрожали из штаба полка. — Они тут топчутся, как слепые кутята.
Все агитаторы были в разгоне, и Землячка решила сама ехать в полк.
Их было человек триста, этих ребят, собранных из окрестных деревень. Они сидели и стояли на площади возле школы, положив на землю свои мешки и котомки, а на крыльце штабной писарь, сидя за партой, составлял списки вновь прибывших.
Вокруг площади выставлено оцепление, чтобы прибывшие снова не ушли в бега. Но что это за оцепление! Человек десять бойцов, мало чем отличающихся от тех, кого они охраняли: такие же не по росту шинели, такая же потрепанная обувь…
— А ну, стой, стой, не расходись! — покрикивали бойцы из оцепления, хотя никто и не думал расходиться.
«Боже мой, на что же они годятся? — с отчаянием подумала Землячка, глядя на эту разношерстную толпу. А ведь не сегодня завтра им идти в бой!»
Она решительно вступила в толпу. Кого-то отстранила рукой, кого-то отодвинула плечом, пробиваясь в гущу равнодушных и неразговорчивых парней.
— Так вот что, ребята, — сказала она. — Пора браться за ум, не маленькие…
— Докторша, — загудели кругом. — Свидетельствовать сейчас будут.
Галдеж усилился, стали даже выстраиваться в очередь.
— Молчать! — закричала Землячка. — Никакая я вам не докторша. Я — начальник политотдела!
Возле Землячки стояли командиры батальонов и рот.
— Распорядитесь принести табуретку, — негромко приказала Землячка.
Табуретка появилась, и Землячка тут же на нее взобралась.
— А теперь слушайте, и чтоб у меня не шуметь, — сказала она. — Садитесь!
Накануне прошел дождь, земля была сырая, но ее послушались, некоторые сели прямо на землю, большинство опустилось на корточки.
В небе клубились свинцовые облачка, дул резкий знобливый ветерок, все дышало осенней непогодой, и невысокая женщина в черной кожаной куртке с портупеей через плечо выглядела музой этой пронзительной военной осени.
— Вы-то сами понимаете, что делаете? — заговорила Землячка. — Мало ваши отцы работали на помещиков, и вам того захотелось? От кого прятались? От своей же собственной власти? Неужели непонятно, что землю, полученную крестьянами в результате революции, не так уж трудно потерять. Помещики еще не уничтожены, они лишь притаились и ждут не дождутся помощи от международного капитала. На какие деньги снаряжена армия Деникина? На деньги миллионеров и миллиардеров. И вы, дети трудящихся крестьян, собрались им помогать? Другое дело — кулаки, те, кто нанимал батраков, кто пускал деньги в рост и наживался за счет чужого груда. Тем, конечно, с нами не по пути. Но вам, трудящимся крестьянам, вам выгодно прийти на помощь русскому рабочему классу. Сейчас рабочий класс еще не может дать крестьянину товаров, забирает у крестьянина хлеб. Но рабочий класс берет хлеб в долг, и чем скорее мы разгромим войска капиталистов, тем скорее будет у нас вдоволь и хлеба, и ситца, и керосина, и даже сахара для детей.
Она говорила простые вещи, говорила то, что думала на самом деле, она пыталась как можно лучше передать своим слушателям все то, о чем говорил Ленин весной этого года на Восьмом съезде партии. Она не знала, насколько ей это удается, но сама тишина, которая воцарилась на площади, свидетельствовала, что ее слушают, и слушают очень внимательно.
Она только твердо знала, что нельзя останавливаться. Надо говорить, говорить, говорить. Все эти парни, которые сидели сейчас перед ней на земле, в течение многих дней и недель слышали только нелепые россказни и лживые небылицы, и всему этому надо было противопоставить одну голую правду, повторять, повторять, что-нибудь да и западет им в душу, что-нибудь останется же у них в голове!
Она не видела, как сквозь толпу к ней пробирался командир полка.
Бывший офицер, он не в одном бою доказал, что честно перешел на службу народу.
— Товарищ начальник политотдела…
— Потом!
— Товарищ начальник политотдела…
— Не мешайте!
Он все-таки вынудил Землячку прервать речь.
— Ну что вам? — раздраженно спросила Землячка. — Зачем вы мешаете мне говорить с людьми?
— Деникинцы только что бросили против нас два полка, — торопливо сказал командир полка. — У меня на всякий случай выдвинут батальон. Оттуда прискакал боец. Деникинцы развертывают атаку…
— Что же вы собираетесь делать?
— Идти навстречу, — уверенно сказал комполка. — Иначе нас сомнут.
Землячка головой указала на своих слушателей.
— А эти?
— Им тоже надо идти, — сказал комполка. — Выдать оружие и вести в бой. Если они побегут — нас сомнут.
— Тогда командуйте.
— Товарищи! — крикнул комполка. — Наступают деникинцы. Мы пойдем им сейчас навстречу. Встать! Построиться по шесть человек. Шагом марш! К церкви. Там получите винтовки…
И это было чудом и в общем-то не было чудом, потому что такие происшествия часто случались в те дни — дезертиры вновь превратились в красноармейцев, они уже строились, стояли шеренгами, и командиры рот распределяли их между собой.
— Товарищ начполит, за школой вас ожидает тарантас, — обратился комполка к Землячке. — Вы еще успеете вернуться в политотдел.
— Поговорила, а как идти в бой… — сказала Землячка, как бы думая вслух, и отрицательно покачала головой. — Если я сейчас вернусь, мои слова не будут ничего стоить. Я пойду с вами, товарищ комполка.
Она не ждала от него ни ответа, ни согласия, расстегнула кобуру, вытащила свой офицерский маузер и пошла вдоль только что построенных рядов.
На нее смотрели, она это чувствовала, прошла вперед и стала рядом с командиром роты.
— Пошли? — негромко спросила Землячка и, не оглядываясь, почувствовала, как люди позади нее тоже двинулись вперед.
Из-за леса показалась цепочка людей, движущаяся им навстречу.
Вспыхнули белые дымки… Защелкали выстрелы.
Землячка держала в вытянутой руке револьвер и пыталась нажать гашетку, но гашетка не слушалась. Землячка не умела стрелять, но револьвер не опускала.
— Ура-а-а! — закричал кто-то сзади.
Кто-то обогнал ее и побежал вперед.
Она шла и сама удивлялась, что не боится. Этот ее марш по колдобистой дороге и затем по скошенному жнивью был естественным продолжением ее речи, ей подумалось, что страшно, может быть, будет потом, после боя, если она уцелеет, но то, что она делала сейчас, было естественным и неизбежным выражением ее убеждений.
Она шла быстро, уверенно, как и следовало идти политработнику в атаке.
Но ходить по пашне, по сырой рыхлой земле, она не очень-то умела, почти все ее обогнали, красноармейцы бежали впереди, но она все шла и шла, теперь уже вслед за ними.
Неожиданно она заметила возле себя командира полка.
— Вот что, товарищ Землячка, — сказал он на ходу. — Оставьте нас, пожалуйста. Я не могу допустить, чтобы во время атаки убили начальника политотдела. Я поручаю вас товарищу Кузовлеву.
Он ушел вперед, а возле Землячки появился один из ротных командиров, державшихся поблизости во время ее речи. Он придержал Землячку за локоть.
— Оставьте меня, — сердито прошипела Землячка.
Но командир, которому она была поручена, сдавил ее руку и заставил остановиться.
— Ну, какой из вас боец? — увещевал он Землячку. — Вернитесь, честное слово, так лучше и для вас и для нас.
Но Землячка продолжала идти, спотыкаясь и отчетливо понимая, что надолго ее не хватит.
И командир не выдержал — было ему всего года двадцать два — двадцать три, он сам устал от опасной и беспокойной жизни, он дернул упрямую женщину за рукав и заорал:
— Чертова баба! Долго будешь ты путаться у меня под ногами?! Иди, садись в тарантас!
И вдруг до Землячки дошло, что она и в самом деле задерживает красноармейцев.
— Где ваш тарантас? — сердито спросила она.
— Да вон же, за школой, — обрадованно воскликнул командир. — Идите до тарантаса, освободите меня…
Это было самое разумное, что она могла сделать.
Красноармейцы впереди бежали все быстрее и быстрее. Ветер донес до нее их крик:
— Ура-а-а!
И то, что происходило сейчас впереди, было естественным завершением ее речи.
Три года провела Землячка на войне. Вела политработу, подбирала кадры, участвовала в боях.
Кому-то она мешала, с кем-то вступала в конфликты, ее пытались удалить, она сопротивлялась, и не ходи за ней слава безупречной коммунистки, не удалось бы ей остаться в армии до конца войны.
Ей не раз приходилось обращаться за помощью в ЦК и даже искать поддержки у самого Ленина.
Она принимала непосредственное участие в военных действиях против Колчака и Деникина.
Тут все было ясно, враг известен, два лагеря стояли лицом к лицу, и, в общем-то, все решало одно — за кем пойдет народ.
Страшнее были вражеские происки в тылу, заговоры и диверсии скрытого врага.
Первый и самый страшный удар, какой враг нанес рабочим и крестьянам России, было покушение на Владимира Ильича.
30 августа 1918 года эсерка Каплан пыталась застрелить Ленина.
Осенью 1919 года Зиновьев и Троцкий решили сдать Петроград Юденичу — Совет Обороны дал директиву удержать Петроград во что бы то ни стало и переходить к уличным боям только в том случае, если враг прорвется, а Троцкий и Зиновьев считали «более выгодным» вести борьбу на улицах города.
Понадобилось личное вмешательство Ленина, чтобы помешать осуществлению этого предательства. Много вражеских происков было разоблачено во время войны, и сколько, увы, после войны.
С яростным упорством добивались Сокольников и Смилга удаления из армии Землячки, требовавшей усиления борьбы с белоказаками.
«Я крайне обеспокоен замедлением операций против Донецкого бассейна и Ростова…» — телеграфировал Ленин 20 апреля 1919 года Сокольникову, недоумевая, почему командование Южного фронта медлит с разгромом белоказаков.
Да, кое-кому присутствие Землячки в армии было более чем нежелательно, Землячка для оппортунистов была как бельмо на глазу.
Но как бы то ни было, Землячка оставалась в рядах действующей армии вплоть до разгрома Врангеля, и ее боевые заслуги были отмечены Правительством.
«За заслуги в деле политического воспитания и повышения боеспособности частей Красной Армии» Розалию Самойловну Землячку наградили в 1921 году орденом Красного Знамени — она была первой женщиной, удостоенной такой награды.
СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ 1924 г.
26 января. Первое заседание Второго съезда Советов. Оно все посвящено Ленину.
Землячка подошла к Большому театру. Зимний сумрак ложился на землю. Уходили вверх гигантские колонны. Желтым светом светились над дверями лампочки. С обеих сторон тянулись делегаты и многочисленные гости съезда. Морозный воздух прорывался в вестибюль. Сияли зажженные люстры. У входа в партер военные курсанты проверяли мандаты.
Землячка прошла в первые ряды, отведенные москвичам. Села в кресло. До начала заседания оставалось еще с полчаса.
Малиновый бархат. Позолоченные лепные украшения. Хрустальные люстры.
Большой театр дорог каждому коммунисту, каждому советскому человеку…
Не один раз выступал в этом зале Владимир Ильич.
Она подумала об этом, и сердце ее похолодело, теперь уже никогда, никогда…
Разве возможно забыть декабрьский вечер 1920 года, когда делегаты Восьмого съезда Советов, вдохновленные гением Ленина, завороженно смотрели на гигантскую карту, на которой вспыхивали огни будущих электростанций.
Даже сам Ленин не мог предвидеть, с какой быстротой станут выполняться его предначертания.
Сегодня — особенный день. Сегодня впервые соберется штаб ленинской армии, чтобы выразить свою скорбь и свою любовь тому, кто вдохновенно и мудро вел корабль Октябрьской революции через все рифы и мели.
Зал заполнен до отказа. Руководители Правительства рассаживаются за длинным столом. Старейшие деятели партии, отважные революционеры, чьи характеры формировались в годы подполья, в постоянной борьбе с царизмом, в ожесточенных схватках с ренегатами и оппортунистами.
В продолжение четверти века встречалась Землячка с этими людьми, к ним она испытывает чувство глубокого уважения, но есть среди них и другие, ее давние противники; с одними она плечом к плечу боролась на баррикадах в дни Декабрьского вооруженного восстания, вместе с ними поднимала московский пролетариат в октябре 1917 года, а с иными и спорила, и боролась, когда они колебались, отступали и готовы были предать дело Ленина…
Но теперь, теперь, когда ушел всеми признанный вождь партии, большевикам надлежит сплотиться и вести народ по пути, указанному Лениным.
Григорий Иванович Петровский предоставляет слово Калинину.
Михаил Иванович поднимает руку, и в зале наступает напряженная тишина.
Немногим менее пяти лет прошло с того дня, когда Владимир Ильич рекомендовал избрать Калинина на пост Председателя ВЦИКа.
Ленин считал, что в лице Калинина найден человек, который соединил в себе жизненный опыт и знакомство с жизнью крестьянства; такая кандидатура, считал Ленин, поможет наладить отношения Советской власти со средним крестьянством.
И теперь этот человек выходит, чтобы перед делегатами съезда, перед всем советским народом, перед всем человечеством заявить, что политика Советской власти останется неизменной, что она и впредь будет следовать указаниям Ленина.
Голос Калинина дрожит, иногда он замолкает, по-мужицки сгребает бородку в горсть и точно одергивает ее книзу.
Он делает заявление для всего мира.
— Переходя к международному положению нашего Союза, я могу определенно заявить, что в этой области никаких изменений не произойдет, — отчетливо и негромко произносит Калинин. — У нас нет оснований изменять в основном нашу линию внешней политики. Мы решительно боремся за сохранение мира, поддерживая те народы, свободному существованию которых грозит опасность, употребляем со своей стороны значительные усилия для налаживания нормальных отношений с другими государствами, иногда даже идя на известные жертвы, разумеется, если эти жертвы окупятся.
Калинин опять притрагивается к бородке, секунду молчит и еще раз повторяет:
— Советское правительство, Коммунистическая партия могут жить в области внешней политики прямыми указаниями, сделанными Владимиром Ильичем…
Никаких эффектных фраз, зато все ясно и определенно.
Затем слово предоставляется Надежде Константиновне.
В течение долгих лет партия видела ее около Ленина. Его постоянный секретарь и помощник.
Она старалась не отходить от него во время болезни, но едва болезнь отпускала и Владимиру Ильичу становилось лучше, Надежду Константиновну видели в Главполитпросвете за письменным столом…
Давно ли она говорила: у нас все идет хорошо, Владимир Ильич ездил на охоту, меня не взял, хочет без нянюшки, шутит, хохочет…
А сегодня она встает и медленно движется, чтобы сказать свое слово о человеке, который был не только ее мужем, не только ее другом, но и вождем той партии, верным бойцом которой была Надежда Константиновна Крупская всю свою жизнь.
Всем своим сердцем Землячка устремляется сейчас к Надежде Константиновне.
— Товарищи, за эти дни, когда я стояла у гроба Владимира Ильича, я передумывала всю его жизнь, и вот что я хочу сказать вам. Сердце его билось горячей любовью ко всем трудящимся, ко всем угнетенным. Никогда этого не говорил он сам, да и я бы, вероятно, не сказала этого в другую, менее торжественную минуту. Я говорю об этом потому, что это чувство он получил в наследие от русского героического революционного движения. Это чувство заставило его страстно, горячо искать ответа на вопрос — каковы должны быть пути освобождения трудящихся? Ответы на свои вопросы он получил у Маркса. Не как книжник подошел он к Марксу. Он подошел к Марксу как человек, ищущий ответов на мучительные настоятельные вопросы. И он нашел там эти ответы. С ними пошел он к рабочим. Это были девяностые годы. Тогда он не мог говорить на митингах. Он пошел в Петроград в рабочие кружки. Пошел рассказывать то, что он сам узнал у Маркса, рассказать о тех ответах, которые он у него нашел. Пришел он к рабочим не как надменный учитель, а как товарищ. И он не только говорил и рассказывал, он внимательно слушал, что говорили ему рабочие…
Предельная простота, а говорит именно то, что нужно.
Взгляд Землячки скользит по лицам людей, сидящих в президиуме.
Если Владимир Ильич говорил, что почти невозможно найти замену Свердлову, то найти замену Ленину… Гении рождаются редко, а таких, как Ленин, еще не бывало.
Землячка всматривается в знакомые лица и на весах своей совести, своей партийной совести, взвешивает достоинства и недостатки каждого, кто находится сейчас на сцене. Трудно им будет без Ленина…
Выступают десятки людей. Клара Цеткин, Ворошилов, представители рабочих, ученых, молодежи. Все произносят взволнованные и прочувствованные слова, говорят о прозорливости, мужестве, человечности, величии Ленина.
На трибуне Сталин.
— Товарищи! — говорит он. — Мы, коммунисты, — люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы — те, которые составляют армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой армии…
И вот он перечисляет те основные заветы, которые партия принимает от Ленина:
«Держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Хранить единство нашей партии, как зеницу ока. Укреплять диктатуру пролетариата. Укреплять союз рабочих и крестьян. Укреплять и расширять союз республик…»
Говорит не торопясь, слегка приглушенным голосом, хотя старается говорить как можно отчетливее.
Слушают его с напряженным вниманием, до слушателей доходит каждое слово.
Он дает клятву от имени партии — партии, которая составляет армию Ленина.
— Не всякому дано быть членом такой партии, — говорит он. — Не всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии.
Землячка слушает Сталина с таким же напряжением, как и все вокруг, и верит, верит, что партия выполнит все заветы Ленина.
1921-1924 гг.
Вопросы и ответы
11 ноября 1920 года командующий войсками Южного фронта Фрунзе, стремясь избежать дальнейшего кровопролития, обратился по радио к Врангелю с предложением прекратить сопротивление.
Врангель не ответил на предложение Фрунзе и утаил его от своих войск.
В ночь с 11 на 12 ноября советские войска прорвали оборону врангелевцев на Перекопском перешейке и заставили белогвардейцев бежать к портам Крыма.
12 ноября советские войска заняли Севастополь.
16 ноября — Керчь.
Белогвардейцы оставили разграбленный и полуразрушенный Крым и бежали за границу.
20 ноября 1921 года Землячку демобилизуют из армии и тут же избирают секретарем Крымского областного бюро партии.
Надо налаживать жизнь…
Ох как все непросто в истерзанном Крыму! Трудно наводить порядок в разрушенном доме.
Вот каким предстал Крым перед вновь избранным секретарем обкома: взорванные дворцы и дачи, следы вандализма — убегающая буржуазия действует по принципу: если не себе, то и никому другому, — сожженные окраины, вытоптанные виноградники и вырубленные сады, разрушенные доки, в портах разграбленные пакгаузы и склады, повсюду развороченные тюки и ящики, остовы машин и броневиков, брошенных беглецами, а в горах и туннелях — ошметки белогвардейских частей и бандиты.
А главное — люди, измученные, изверившиеся, испуганные. Всем надо ответить, всем помочь…
К ней обращались поминутно. Приезжали, звонили по телефону, слали запросы по почте.
Из Симеиза просили совета:
— Виноградники поражены филоксерой. Что делать?
— А что такое филоксера?
Когда Землячка чего-нибудь не знала, она не стеснялась в этом признаться.
— Виноградная тля.
— Свяжитесь со мной завтра утром.
В течение дня Землячка выясняла, что рекомендует наука для борьбы с филоксерой, потом искала серу по всему Крыму — и нашла два вагона в Джанкое, приказала отпустить серы, сколько понадобится.
Запрашивали из Феодосии:
— Пограничники задержали ночью на рейде две турецкие фелюги — турки приняли на борт группу татарских националистов и русских белогвардейцев и собирались выйти в море. При обыске у беглецов отобраны золото и драгоценности.
В таких случаях консультаций Землячке не требовалось.
— Фелюги отпустить, сейчас нам конфликты с турками ни к чему, но до этого заглянуть в каждую щель, в каждую бочку, чтоб никто из врагов не улизнул, составить поименные списки и сдать беглецов в ЧК, ценности актировать и передать в государственный банк.
С такой «филоксерой» ей легче было бороться.
В Ливадии в царских подвалах обнаружили запасы старых вин.
— Пустить в продажу или уничтожить?
— Не торопитесь. Опечатайте подвалы, поставьте охрану, запрошу Москву, там решат.
Ялтинский совет предлагает:
— Разрешите пустить на слом разрушенные дворцы и дачи? Кирпичи и железо отдадим трудящимся, пускай ремонтируют свои халупы, а картины и мебель распределим по школам и учреждениям.
— Не разрешаю, — отвечала Землячка. — Дворцы и дачи мы восстановим, трудящиеся будут в них отдыхать, а картины в этих дворцах могут быть такие, что им самое место в музеях, — не раздавать, а взять на строжайший учет.
В Бахчисарае решили покончить с разведением лучших сортов табака:
— Табак — утеха буржуазии, пролетариат предпочитает махорку.
Но Землячка знала, какое значение для сельского хозяйства Крыма имеет табаководство.
— Пролетариат курил махорку потому, что у него средств не было на папиросы, так что вы не для буржуазии, а для пролетариата увеличивайте плантации табака.
Севастополь бил тревогу:
— Задержаны сотни беспризорных подростков. Все — воры и хулиганы. Временно разместили их в пакгаузах порта. Грозят все разнести, бунтуют, требуют, чтобы их распустили…
— Не воры и хулиганы, а жертвы гражданской войны, — поправляла Землячка, стараясь не повышать голоса. — Поймите: плохих детей нет, есть плохие опекуны. Я еду к вам.
Она без промедления ехала в Севастополь.
Пакгауз… Толпа грязных шелудивых мальчишек. Темные чумазые лица. Сверкающие большие глаза. Недоверчивые ненавидящие взгляды. Взрывчатка!
Встретили Землячку криками и бранью.
— Не будем здесь сидеть! Начальница! Гони хлеба! Пожжем мы тут все…
Визгливый голос прокричал частушку:
Комиссар залез на тополь,
Испугался и залез -
Мы разграбим Севастополь,
Подадимся в Херсонес!
У входа валялся ящик, она поднялась на него, прикрикнула:
— Молчать!
Что за сила заключалась в этой сердитой хрупкой женщине?
Мальчишки смолкли.
— Хлеб надо заработать! Объявляю вас трудовым ремонтным отрядом. Поедете от Севастополя специальным поездом, будете восстанавливать железнодорожный путь, а по приезде в Москву явитесь с моим письмом к товарищу Дзержинскому. А сейчас идем за хлебом.
Как и в армии, она не обернулась, а прямо пошла к выходу.
Рядом с ней находился работник Севастопольской военной комендатуры.
— Где тут ближайшая пекарня? — негромко спросила она. — Ведите нас.
Она привела горланящую беспорядочную толпу к пекарне и приказала выдать каждому по фунту хлеба.
Потом повела их обратно, в пакгауз, твердо сказала, что в поезд их посадят не позже, чем через день или два, каждый день будут выдавать по фунту хлеба. Пока поезд с ребятами не отошел от Севастополя, кое-кто убежал, но большинство все-таки поехало в Москву.
Потом был звонок из Москвы. Звонила Стасова, старая большевичка, до недавнего времени секретарь ЦК, работающая сейчас в Коминтерне.
— К вам просьба, Розалия Самойловна. В Москву приехал товарищ Мюллер. Из Германии. Гамбургский металлист, спартаковец, активист компартии. Приехал по делам и захворал. Врачи определили чахотку. Надо его подлечить, советуют Ялту. Посылаем к вам, возьмите его под свое наблюдение.
Свой день Землячка заканчивает как обычно, к вечеру она просит подать к подъезду «бенц», старый латаный-перелатаный автомобиль, брошенный в Севастополе бежавшим за море врангелевским генералом.
Что может быть красивее серпантинов Южного Крыма?
Крутые обрывы, густые леса, низкорослые сосны, растущие на скалистых выступах, непролазные кустарники. Леса и скалы. Красиво.
Но взгляд Землячки проникал дальше.
Садовники. Виноградари. Виноделы. Рыбаки. Чабаны. А на восточной оконечности полуострова — металлурги. Всех надо обеспечить работой, создать сносные условия жизни…
В Ялте Землячка велела шоферу везти ее в горсовет.
— Зданий в городе пустует много? — осведомилась она.
— Хороших — много. — Председатель усмехнулся. — Вся буржуазия утекла.
— Пойдем посмотрим, — предложила Землячка. — Тем временем пусть соберут всех врачей, какие есть в городе.
В сопровождении председателя горсовета она придирчиво осматривала дом за домом, пока не остановила выбор на большом благоустроенном особняке.
Затем она встретилась с врачами — это были частнопрактикующие врачи, среди них оказались и владельцы санаториев.
Держались они непринужденно, но впечатление это было обманчиво, все были в тревоге, ходили слухи, что большевики собираются отправить врачей в Сибирь бороться с эпидемией сыпного тифа.
Землячка уловила это настроение и с первых же слов постаралась его развеять.
— Приношу извинения… — Она не знала, можно ли назвать их товарищами, чего доброго, еще обидятся. — У нас просто нет времени встречаться с каждым из вас на дому. Но у нас к вам просьба. Советская власть намерена превратить Крым во Всероссийскую здравницу. От имени Советской власти приглашаю вас поступить на государственную службу. Без учителей и врачей невозможно наладить нормальную жизнь.
Под конец она сказала:
— В ближайшие дин в Ялту приедет немецкий коммунист товарищ Мюллер. Помещение мы уже нашли — дом миллионера Костанди. На первое время нужны хотя бы два врача — кто возьмется? Будут еще больные. Нуждаются в лечении бойцы Красной Армии, пришло письмо из Горловки, оттуда пришлют шахтеров.
Врачи успокоились: их уважительно просят вернуться к своим обязанностям.
В эту ночь возник один из первых советских санаториев на Южном берегу Крыма.
Было поздно, когда председатель горсовета проводил Землячку на набережную, в «Ореанду», лучшую ялтинскую гостиницу, — возвращаться ночью в Симферополь было небезопасно, в горах еще бродили остатки врангелевской армии.
— Если что понадобится, звоните, — предупредили ее. — Но одна в город не выходите. Мало ли чего…
Ужин ей принесли в номер, она поужинала и легла.
Но голоса за окном, шарканье прохожих не дают Землячке заснуть.
Она встает с кровати, подходит к окну, отдергивает тяжелую штору, распахивает пошире рамы.
Ночь вливается в комнату.
Нет, не о делах, которыми ей предстоит завтра заниматься, думает Землячка, все ее текущие заботы отходят в сторону, она дышит ароматом цветущих каштанов, вслушивается в неумолкаемый шум волн.
Одевается, выходит в коридор, спускается по лестнице.
По мостовой прогуливаются девушки, молодые люди бренчат на гитарах, кто-то хохочет на пляже, кто-то купается в темноте, жизнь идет своим чередом, и никому из этих гуляк нет деда ни до филоксеры, ни до бандитов, ни до выпечки хлеба, за которым завтра эти гуляки устремятся в булочные.
И сама Землячка просто дышит морским воздухом, смотрит на звезды и думает о том, как бы хорошо сейчас плыть на пароходе и слушать музыку.
Она медленно идет вдоль набережной, доходит до мола, всматривается в темноту.
Море во мраке ночи сливается с небом, и только огонь маяка дрожит в воде золотыми каплями.
Как ни хорошо здесь, но утром все-таки придется вернуться в Симферополь.
Лениво идет она обратно вдоль темных домов.
Но что это? Дом как дом, не освещено ни одно окно, дом спит. Но откуда-то из-под земли, из забранных решетками выемок в тротуаре, сделанных для проникновения света в подвальные окна, просачивается тусклый свет.
Что там может происходить в этом подвале? Бандиты или сектанты? Она решительно входит во двор. Разыскивает вход в подвал. Чугунные перильца. Ступеньки…
Землячка спускается. Одна. Она всегда отличалась редким бесстрашием. Бесстрашием и настойчивостью.
Годы подполья научили ее преодолевать в себе всякий страх, иначе она не могла бы ни переходить границу, ни доставлять оружие, ни печатать нелегальную литературу. Рукой она нащупывает железную скобу и рывком распахивает дверь.
Две свечи… Какие-то подростки. Сидят прямо на каменных плитах. Землячка всматривается. Перед ними разбросаны карты. Минуту и Землячка, и те, что сидят на полу, безмолвно рассматривают друг друга.
— Что за сборище? — нарушает молчание Землячка. — Кто разрешил вам здесь собираться?
Откуда это у нее? Оказывалась среди незнакомых людей, среди враждебных людей, и если видела, что надо вмешаться, без колебаний шла наперекор, и ей почему-то подчинялись.
Она так и не может решить — собрались ли здесь играть в карты или это только видимость. Она понимает, что отвести эту компанию в милицию ей не удастся, окажут сопротивление, а то еще и убьют.
— Немедленно по домам, — строго говорит она.
Неожиданно для самой Землячки все поднимаются, проходят мимо незнакомки, шаркают по лестнице.
Землячка выходит вслед за ними. Она ждет, когда они растворятся во мраке, и возвращается в гостиницу.
Ей уже ни до цветов, ни до звезд, ни до моря. Рано утром она выговаривает председателю горсовета за то, что на ночь город остается без надзора.
— Так у вас постоянно будут возникать всякие притоны; проверьте все пустующие подвалы, используйте их под склады, заприте, оберегайте общественный порядок…
И вот старый «бенц» мчит уже в Симферополь, и тысячи забот вновь обступают ее со всех сторон.
Единство
Год напряженной, сумасшедшей работы по восстановлению Крыма, и затем Землячку переводят в Москву, которую она так хорошо знает и которой отданы многие годы ее жизни.
Ее избирают секретарем Замоскворецкого районного комитета партии, одного из опорных пролетарских районов столицы, района, где на партийном учете состоит Ленин.
В течение двух лет Землячка не расстается со своим районом, много времени проводит в рабочей среде, часто выступает на фабриках и заводах.
У нее не проходит ощущение, что она на войне, как в том девятнадцатом году, когда Тринадцатая армия то отступала, то наступала. Следует постоянно быть начеку, предвидеть опасность и не дать врагу застать себя врасплох.
Еще не закончилась гражданская война, как фракционеры всех мастей повели наступление на Ленина.
В конце 1920 года троцкисты распространили брошюру своего честолюбивого шефа о задачах профсоюзов — нарушая общепринятые нормы партийной дисциплины. Троцкий вынес дискуссию за пределы Центрального Комитета на широкое обсуждение.
Пренебрегая единством партии, вопреки интересам страны, в атмосфере недовольства и колебаний крестьянства, оппортунисты решили взорвать партию изнутри.
Они хотели превратить профсоюзы в придаток государственного аппарата: профсоюзы, считали троцкисты, должны действовать на своих членов не средствами убеждения, а средствами принуждения, что в конечном счете, утверждал Ленин, привело бы, по существу, к ликвидации профсоюзов как массовой организации рабочего класса.
Ленин же, наоборот, говорил, что профсоюзы являются приводным ремнем от партии к массам; их первостепенная задача, утверждал Ленин и все стоявшие на той же позиции большевики, — воспитание масс, борьба за повышение производительности труда, укрепление производственной дисциплины; профсоюзы — это прежде всего школа коммунизма.
Началась дискуссия.
«Троцкий меня упрекал… — говорил Владимир Ильич, — что я срывал дискуссию. Это я зачислю себе в комплимент: я старался сорвать дискуссию в том виде, как она пошла, потому что такое выступление перед тяжелой весной было вредно».
Разруха в промышленности, недовольство крестьян, происки меньшевиков. Кронштадтский мятеж, надвигающийся голод — вот каковы были компоненты этой тяжелой весны, и справиться со всеми этими бедами могла только партия, сильная своим непоколебимым единством.
Затем в дискуссию включились Бухарин, Ларин, Сокольников, Сапронов, Шляпников, Игнатов, десятки уклонистов и фракционеров, и каждый сколачивал собственную группу и выступал с собственной «оригинальной» платформой.
На Десятый съезд Землячка была делегирована еще Крымской организацией.
Уже в момент регистрации ее поразила суета, которую затеяли оппозиционеры.
У столов, где депутаты оформляли документы, кружились какие-то личности. Въедливый интеллигент в пенсне и с кудрявой бородкой торжественно раздавал брошюру Троцкого, остроносенькая девица в красной косынке с милой улыбкой вручала брошюру Бухарина, а угрюмый парень в черной косоворотке, демонстративно одетый под рабочего, грубовато совал всем брошюру Коллонтай.
Землячка приняла все брошюры — что ж, с этим обилием мнений следовало ознакомиться — и пошла по кремлевским залам искать знакомых.
Со всех концов страны прибыло на съезд около тысячи делегатов.
Землячка внимательно присматривалась к участникам съезда. Рабочие, крестьяне, инженеры, учителя, солдаты, люди самых разнообразных профессий, разных национальностей, разной культуры, высокообразованные и почти неграмотные…
Но всех их объединял Ленин.
Землячка шла по залам и видела множество знакомых и незнакомых лиц.
Слонялись среди делегатов и авторы всяких хитроумных брошюр; с важным видом расхаживал Рязанов, в чем-то убеждал собеседников Ларин, от группы к группе переходили Шляпников и Коллонтай…
Землячку Коллонтай миновала, они недолюбливали друг друга, уж очень разные это были натуры, бесполезно было пытаться настроить Землячку против Ленина. Землячка не любила тратить слова попусту, а Александра Михайловна была по-женски словоохотлива и только легкомыслием можно было объяснить ее попытку обвинить Ленина!
В своей брошюре, выпущенной к съезду, Коллонтай писала, что русский пролетариат влачит в Советской России «позорно-жалкое существование», а в прениях по докладу Ленина заявила, что «его доклад мало кого удовлетворяет»!
Десятый съезд, один из важнейших съездов в истории партии, открылся 8 марта 1921 года.
Ленин сделал на съезде три доклада — о политической деятельности ЦК, о замене разверстки натуральным налогом и о единстве партии и анархо-синдикалистском уклоне, и каждый из этих докладов был политическим событием.
Пройдет много лет, и потомки оценят гениальную прозорливость Ленина, думала Землячка. Предлагая перейти к новой экономической политике, он заглядывал на многие десятилетия вперед.
Десятый съезд работал в течение девяти дней, из них Землячке особенно запомнилось четырнадцатое марта.
Оппозиция собиралась дать бой Ленину по вопросу о единстве партии и роли и значении профсоюзов…
Двенадцатое заседание съезда. Выступает Ленин… До него говорил Троцкий, как всегда звонко, фразисто и самонадеянно. Владимир Ильич не оставил от аргументов Троцкого камня на камне.
Съезд подавляющим большинством голосов принял ленинскую платформу.
Единство партии заботило большевиков превыше всего — единство партии предопределяло строительство социализма. Чтобы обеспечить единство, нужно было принять особые меры, требовалось особое решение.
Ленин решил собрать делегатов съезда, членов партии с дореволюционным стажем, на отдельное совещание.
Оно состоялось в одном из залов Кремля в перерыве между двенадцатым и тринадцатым заседаниями.
На совещании присутствовало около двухсот человек. Ленин произнес две речи — вводную и заключительную, стенограммы не велось, но известно, что Ленин предложил старейшим коммунистам обсудить проекты двух написанных им резолюций — «о единстве партии» и «о синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии».
Участники совещания единодушно поддержали Ленина.
Было решено седьмой параграф резолюции не публиковать. В нем говорилось, что «съезд дает ЦК полномочия применять в случаях нарушения дисциплины или возрождения или допущения фракционности все меры партийных взысканий вплоть до исключения из партии, а по отношению к членам ЦК перевод их в кандидаты и даже, как крайнюю меру, исключение из партии».
Это была крайняя мера, и Ленин выразил надежду, что применять этот пункт, хотя он и необходим, не придется.
Участники совещания запомнили, что Ленин сравнивал этот пункт с пулеметом, говоря, что против раскольников следует поставить пулеметы.
Всем было ясно — даже оппортунистам! — что Ленин и партия едины.
Делегаты расходились по домам, по гостиницам, по общежитиям.
Землячке тоже не терпелось поскорее очутиться в своей квартире, попасть в заботливые руки сестры, поужинать, лечь и еще раз подумать обо всем, что происходит на съезде…
Но подошли однополчане, политработники Тринадцатой армии, все были под впечатлением выступлений Владимира Ильича.
Наконец они расстались, и Землячка медленно пошла к выходу, она уже не в силах была торопиться.
Шла и думала о пулеметах. Ей понравилось это сравнение, на фронте она видела, какой урон противнику наносит пулеметный огонь, и такими партийными пулеметами она считала неотразимые высказывания Ленина.
Она шла через опустевшие залы Кремлевского дворца. Служители гасили люстры, искрились лишь хрустальные подвески настенных канделябров.
«Пора уже, пора, — подумала она и ускорила шаг. — Всегда я ухожу последней…»
Подошла к лестнице и увидела Калинина и Сталина.
Они оживленно разговаривали, но Сталин сразу заметил Землячку и поздоровался.
Она остановилась, пожала им руки.
— Ну как? — шутливо спросил Сталин. — Вы не собираетесь переходить в оппозицию?
— Как только они смеют?! — возмутилась Землячка. — Обвиняют партию в администрировании!
— А что им остается делать? — лукаво возразил Сталин. — Банкроты всегда обвиняют в своем банкротстве других.
Калинин засмеялся.
— Но это им мало помогает!
— А Троцкий?! — продолжала Землячка. — Блокируется со всеми, лишь бы против Ленина.
Сталин слегка прищурился.
— Ну, эта фигура ясная.
— Вы так думаете? — возразила Землячка. — А по-моему, совсем неясная.
— Почему же? Я вам скажу, кто он такой. — Сталин иронически пошевелил губами, усмехнулся и лаконично сказал: — Средневековый кустарь, возомнивший себя ибсеновским героем.
Кивнул, прощаясь, Землячке и пошел с Калининым дальше.
Два года как Землячка в Москве. Она часто бывает на предприятиях района. В разговорах ее обычно расспрашивают о Ленине. Она вспоминает Десятый съезд и пересказывает своим слушателям ленинские выступления. Идеи Десятого съезда служат ей в работе путеводной звездой.
Борьба за единство партии не прекращается, можно сказать, что оппортунизм как явление разгромлен Лениным, но то тут, то там подают голос всякие недобитки, и с ними предстоит еще долгая и сложная борьба. Землячка хорошо помнит ленинские слова о том, что партия — это не дискуссионный клуб.
Общение с Лениным — это ее богатство, и стоит спросить у нее что-либо о Ленине, как она сразу видит его перед собой…
В последний раз Землячка видит Владимира Ильича на Одиннадцатом съезде партии.
Четыре раза выступил он на съезде, и каждое его выступление поражало глубиной анализа, остротой мысли, дальновидностью.
Все тот же необыкновенный Ленин, каким она знает его вот уже двадцать второй год.
И все-таки он казался ей еще нежнее и одухотвореннее. Да, нежнее! Он был и строг, и жесток, и насмешлив. С оппозиционерами в своем докладе он расправился как-то походя, под всеобщее одобрение и смех съезда смел их, как сметают фигуры с шахматной доски после удачной партии. Да, это был прежний убежденный и неумолимый Ленин. И в то же время он весь как бы лучился нежностью. Землячка искала про себя подходящие слова. Отцовской нежностью. Все время ощущалась любовь Владимира Ильича к своей партии, к народу.
На этот раз она как-то особенно остро ощущала его человечность…
Он не подавал вида, что болен, а был болен. Об этом знали многие. Он сам и в письмах и в разговорах по телефону не раз уже говорил о своей болезни. И если говорил сам, значит, это было серьезно. Несмотря на это, он пришел на съезд партии и активно участвовал в его работе.
Его могучая воля и непоколебимый авторитет цементировали и сплачивали всех пятьсот делегатов съезда, представлявших свыше полумиллиона членов партии. И ответная волна любви шла от делегатов к Ленину.
А Розалии Самойловне почему-то вспомнился Второй съезд, пятьдесят его участников, мучной склад, окно, задрапированное красной материей, и за столом Владимир Ильич…
Какой же он все-таки человечный человек!
Год назад до Ленина дошли слухи о том, что могилы Плеханова и Засулич заброшены, и Владимир Ильич тут же написал в Петроград о том, что надо привести могилы в порядок и поторопиться с открытием памятника Плеханову.
В такое тревожное время, перегруженный государственными заботами, Владимир Ильич не забыл тех, с кем когда-то создавал революционную марксистскую партию.
Самой Землячке в апреле исполнится сорок шесть лет, всегда она отличалась сдержанностью и даже суровостью, но сегодня она разделяет волнение и страстность самых молодых участников съезда, когда, закрывая съезд, Ленин говорит о том, что нет в мире сил, которые могли бы повернуть историю вспять:
"Коренное и главное, что мы приобрели «нового» на этом съезде, — это живое доказательство неправоты наших врагов, которые не уставая твердили и твердят, что партия наша впадает в старчество, теряет гибкость ума и гибкость всего своего организма.
Нет. Этой гибкости мы не потеряли.
Когда надо было — по всему объективному положению вещей и в России и во всем мире — идти вперед, наступать на врага с беззаветной смелостью, быстротой, решительностью, мы так и наступали. Когда понадобится, сумеем это сделать еще раз и еще не раз.
Мы подняли этим нашу революцию на невиданную еще в мире высоту. Никакая сила в мире, сколько бы зла, бедствий и мучений она ни могла принести еще миллионам и сотням миллионов людей, основных завоеваний нашей революции не возьмет назад, ибо это уже теперь не «наши», а всемирно-исторические завоевания".
Заключительную речь на Одиннадцатом съезде Ленин произнес 2 апреля 1922 года.
А в мае болезнь Ленина обостряется, работать становится все труднее, и весь 1923 год проходит в напряженной борьбе с болезнью.
Но новый, 1924 год начался хорошо.
С наступлением солнечных зимних дней Владимир Ильич ездил в санях в лес в сопровождении охотников. Во время прогулок был оживлен и весел. На святки в Горках была устроена елка, позвали в гости деревенских детей, и Владимир Ильич присутствовал на празднике, был в хорошем настроении и заботился, чтобы детей ни в чем не стесняли…
Здоровье Владимира Ильича шло на поправку, и это было самое главное.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ 1924 г.
Когда Желтов, один из руководителей похоронной процессии, в разговоре с Землячкой сказал, что в наряд для поддержания порядка назначается всего пять милиционеров, Землячка не то что бы не поверила, но удивилась. Такое количество людей, желающих проститься с Лениным, бесконечные очереди, тысячи приезжих изо всех городов России — и всего пять милиционеров!
Может быть, ничто так не свидетельствовало о близости народа к Ленину и о влиянии Ленина на народ, как эта организованность, это чувство сознательной дисциплины, владевшее поголовно всеми, кто проходил через Колонный зал. Никого не нужно было призывать к порядку, каждый сам поддерживал дисциплину…
Поэтому, когда работники Замоскворецкого райкома собрались у Землячки и принялись совещаться о порядке шествия во время похорон, Землячка отклонила все предложения о посылке представителей райкома на предприятия.
— Люди не нуждаются в няньках, — сказала она. — Все знают, как себя вести…
Определили, каким предприятиям в какой колонне идти, и 25 января отослали заметку «Порядок шествия Замрайона на похоронах» для публикации.
Странное ощущение не покидало Землячку все эти дни. Находясь в райкоме или на заводах и фабриках Замоскворечья, мысленно она ни на секунду не покидала Колонного зала, в эти горькие дни хотелось быть поближе к Ленину, хотелось навсегда запечатлеть в памяти знакомые черты
Она испытывала чувство глубокого горя, понимая и видя, что такое же горе испытывают все, с кем бы она ни сталкивалась, было трудно, сиротливо, и хотелось как-то помочь друг другу.
Приближался день похорон. Последний день пребывания на земле Ленина-человека и первый день существования того огромного, бессмертного, великого и необходимого, что вмещается в одно слово — Ленин.
Полночь.
Наступило 27 января.
Доступ к гробу Владимира Ильича прекращается
Поздно ночью еще раз проходит перед гробом весь Съезд Советов, все делегаты, вся Россия.
7 часов 30 минут утра. В Колонном зале собираются руководители партии и члены Правительства. Оркестра нет. Вынесены знамена Часы глухо бьют восемь. В почетном карауле вместе с Калининым и Сталиным четверо представителей русского пролетариата — путиловец Кузнецов, обуховец Востряков, рабочий завода имени Ильича Никитин и железнодорожник Алексеев.
На хорах появляется оркестр Большого театра. Заполняется дипломатическая ложа.
8 часов 30 минут. Оркестр играет похоронный марш. В почетном карауле Дзержинский, Чичерин, Петровский…
Зал заполнен людьми. Звуки торжественной музыки наполняют зал. Оркестр играет Вагнера и Моцарта. В карауле Куйбышев, Орджоникидзе, Енукидзе…
Скоро 9 часов. Оркестр смолкает. Весь зал поет «Вы жертвою пали…». У гроба рядом с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной становятся Анна Ильинична Елизарова и Дмитрий Ильич Ульянов.
Тишина. Минута. Другая. Оркестр исполняет «Интернационал». Присутствующие поют гимн.
9 часов. Все выходят. В зале остаются семья и самые близкие соратники Ленина.
9 часов 20 минут. Из Дома союзов гроб выносят на Большую Дмитровку.
Перед Домом союзов выстроился военный караул. Вдоль площади Свердлова стоят многочисленные делегации с венками и знаменами. Прилегающие к Дому Союзов улицы заполнены народом.
Морозное январское утро. Жестокая стужа. В то утро термометр показывал 26 градусов мороза. В «Правде» объявление: «Ввиду сильных морозов участие детей в похоронном шествии за гробом В.И.Ульянова (Ленина) воспрещается». Но у многих провожающих на руках дети. Они запомнят этот день на всю жизнь. Эти дети будут продолжать дело, ради которого отдал жизнь Ленин.
Процессия медленно движется по направлению к Красной площади.
Впереди — венки и знамена. За ними — оркестр. В морозном воздухе плывет гроб. Следом идет семья Ленина, почетный караул, Центральный Комитет РКП (б), Исполком Коминтерна, делегаты Съезда Советов…
9 часов 30 минут. На Красную площадь с венками вступают представители прибывших на похороны делегаций.
9 часов 35 минут. Снова звучит похоронный марш.
9 часов 43 минуты. Процессия приближается к деревянному помосту, устанавливают гроб.
Начинается траурное шествие. Мимо помоста проходит кавалерийский эскорт. За ним крупной рысью проезжают артиллерийские упряжки. Притихшая Красная площадь, затаив дыхание, слушает «Обращение к трудящемуся человечеству», которое по поручению Съезда Советов оглашает делегат съезда Евдокимов. Звучит «Интернационал». Все обнажают головы Войска становятся на караул. На площади появляются первые рабочие колонны. Впереди — Замоскворечье За ним — Красная Пресня.
4 часа дня. Колонна Сокольнического района, шедшая в это время по площади, останавливается. Могильная тишина. Слышатся тихие рыдания.
По всей Советской стране на пять минут приостанавливается работа. Мир прощается с Лениным.
Члены Политбюро поднимают гроб и несут к деревянному мавзолею. Впереди знаменосцы. У входа в мавзолей скрещиваются знамена, гроб скрывается.
На площади раздаются ружейные залпы. Сверкнули выхваченные из ножен клинки сабель. Тяжело вздохнул пушечный залп. За Москвой-рекой, по окраинам столицы, заплакали гудки паровозов, сирены станций, трубы заводов и фабрик.
В мавзолее устанавливают гроб. У изголовья выстраивается почетный караул курсантов школы имени ВЦИКа.
Из десяти тысяч знамен, принесенных на Красную площадь, двум знаменам отдана честь склониться над гробом Ленина — знаменам Коминтерна и Центрального Комитета Российской Коммунистической партии.
И вдруг в последнюю минуту среди членов Политбюро замечают пожилого крестьянина в коричневом поношенном зипуне.
Как он попал в мавзолей? Как миновал караул?
Он протягивает Калинину маленький красный флаг, обшитый черными полосами, и пакет.
— Грамота, — тихо говорит он.
В конверте грамота от крестьян Саранского уезда: они посылают своего делегата возложить знамя на гроб Ленина — вот он и выполняет их наказ.
И рядом с двумя прославленными знаменами Калинин кладет на гроб знамя, присланное саранскими крестьянами.
Руководители партии выходят из мавзолея, поднимаются на помост.
Молчание. Кто-то плачет.
Площадь начинает петь. Вся площадь. Все, кто на ней находится.
Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу…
Долгое время никто не движется.
Но вот пошли Сокольники. За ними Хамовники…
Уже сумерки, а колонны все идут и идут…
А в это время в Питере, переименованном накануне в Ленинград, на Марсовом поле пылают пятьдесят три костра — по числу лет, прожитых Лениным.
1924 г. И ДАЛЬШЕ
Две кассеты
Прощаясь с Лениным, Землячка как бы растворилась в народной массе: была со всеми, была частью всех, сердце ее наполняла безмерная скорбь, и одна мысль пронизывала ее существо — до последнего своего часа продолжать его дело.
Однако слова Сергея Ивановича Гусева вернули Землячку к реальной действительности — надо было срочно ехать в район, к Кобозеву.
Мало кто знает, как в дни похорон Ленина был пойман за руку один из ловкачей, готовых самые святые чувства обращать в деньги. Землячка запомнила этот случай.
С Кобозевым она познакомилась год назад, уже около года секретарствовала она в это время в Замоскворецком районе. Особое значение она придавала подбору кадров, умело подобранные работники решали успех каждого дела. Присматриваться к людям, изучать их она научилась в подполье. Она помнила, как знакомился с нею Владимир Ильич. Он умел отстранять от дела сомнительных и ненужных людей. На фронте Землячка не один раз наблюдала, как поведение того или иного человека решало успех сражения. Случалось, настоящему коммунисту удавалось увлечь в бой самый деморализованный полк, а иной комиссар не находил общего языка с хорошей воинской частью. Поэтому у нее была привычка самой знакомиться с каждым коммунистом, становившимся на учет в райкоме. Не так уж трудно потратить на нового человека десяток минут, а представление о нем создается, одного тут же благословишь на работу, а с другим встретишься не один раз, иной чем-то насторожит, а другого приметишь, и становится он одним из тех, на кого уверенно опираешься в повседневной работе.
Так Кобозев, придя становиться на учет, появился в кабинете Землячки.
Он только что демобилизовался из армии. Настоящий политработник, убежденный коммунист, он не отсиживался в тылу, а принимал непосредственное участие в боях. Коммунист молодой, но закалку прошел неплохую: фронт, бои, тяжелые переходы…
Перед Землячкой лежало его личное дело. Анкета его была в порядке, и она не стала спрашивать его о том, на что он уже ответил в анкете. Она как-то вернулась мыслью в свое прошлое. Знает ли товарищ Кобозев, что разделило социал-демократов на Втором съезде? Он знал. А знает ли он, какую борьбу пришлось вести Ленину с «левыми коммунистами» при заключении Брестского мира? Это он тоже знал.
— Мы пошлем вас заниматься искусством, — сказала Землячка.
— Каким искусством? — испугался Кобозев.
— Искусством кино, — пояснила Землячка. — Знаете, как высоко оценивает кино Ленин? Мы пошлем вас директором кинофабрики.
На Житной улице находилась фабрика, принадлежавшая в прошлом крупному кинодельцу Ханжонкову. Туда требовалось послать крепкого коммуниста.
— Не справлюсь, — возразил Кобозев. — В этом деле я, извиняюсь, как свинья в апельсинах.
— Справитесь, — безапелляционно сказала Землячка. — Не боги горшки обжигают. После Октября некоторые большевики боялись идти в министры. А теперь ничего, управляют.
Так Кобозев стал директором кинофабрики.
Комиссия Дзержинского поручила Госкино заснять похороны Ленина на пленку.
Не успела Землячка вернуться из Горок в Москву, как в райком приехал Дзержинский.
— Едемте, Розалия Самойловна, на кинофабрику. Есть сигнал.
Дальнейший разговор происходил уже в кабинете Кобозева.
— Кто руководил съемкой в Горках?
— Оператор Левицкий.
— Пленка проявлена?
Землячка и Дзержинский первыми увидели кадры, на которых были запечатлены проводы Ленина из Горок.
Снова была боль, снова подступал комок к горлу, и нельзя было позволить себе заплакать, нельзя было поддаться чувствам.
— Товарищ Кобозев, вы какого мнения о Левицком? — поинтересовался Дзержинский.
— Как вам сказать… — Кобозев насторожился. — Ничего не замечал.
— Нет, нет, я не высказываю никаких подозрений в отношении Левицкого, — успокоил его Дзержинский. — Но хочу предупредить, надо проявить величайшую бдительность, чтобы отснятый материал не ускользнул за границу.
Кобозев не очень понимал, почему Дзержинский придает этому такое значение, похороны Ленина не тайна, ведь все снимается так, как происходит на самом деле…
Кобозев ничего не говорил, спрашивали его глаза, фабрикой он управлял неплохо, но искусством кино, увы, еще не овладел.
— Важно и что снять, и как снять, — пояснила Землячка. — Вы понимаете, товарищ Кобозев, что снимают сейчас ваши операторы? Все, что имеет отношение к Ленину… Да нет, вы сами понимаете!
— Одно и то же можно показать и так, и этак, — добавил Дзержинский. — Весь мир потрясен смертью Ленина. Крупнейшие деятели капиталистических государств отдают ему должное, и лишь эмигрантская сволочь выражает свою радость. Понимаете, что они могут сделать, если им в руки попадут эти драгоценные кадры?…
— "Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими", — процитировала Землячка.
Кобозев вопросительно взглянул на Землячку: откуда это?
— Из евангелия, — ответила она на его молчаливый вопрос. — По-моему, очень к месту.
Дзержинский и Землячка уехали, оставив Кобозева наэлектризованным.
— Мы вас предупредили, — сказал Дзержинский на прощанье.
На Красную площадь Кобозев направил Добржанского. Опытный оператор. Пожалуй, лучшего на фабрике не было.
— Как только закончатся похороны, сразу же возвращайтесь на фабрику, — предупредил его Кобозев. — Со всем отснятым материалом.
В пять часов пополудни Добржанский был уже на фабрике. Однако Землячка опередила его.
Разговаривал Кобозев, Землячка молчала.
— Ну как? — обратился он к Добржанскому.
— Отснял.
— Сколько метров?
— Сто двадцать.
— Давайте, — Кобозев протянул руку. — Будем проявлять.
Добржанский подал кассету.
— А сколько было кассет?
— Две.
— А где другая? — спросил Кобозев.
— Засветил, — сказал Добржанский.
— Дайте-ка ее сюда, — приказал Кобозев.
— Я же вам говорю, пленка засвечена, — сказал Добржанский, выкладывая на стол вторую кассету. — Смотрите… — Он хотел было открыть кассету.
— Ни в коем случае, — вмешалась Землячка, кладя руку на кассету. — Ни в коем случае.
Добржанский потянул кассету из-под руки Землячки, но тут Кобозев сообразил, что здесь что-то неблагополучно.
Он отмахнул руку Добржанского и придвинул обе кассеты к себе.
— Нет уж, не трогайте, — сказал Кобозев. — Засвечено так засвечено, но все-таки попытаемся проявить всю пленку.
Добржанский побледнел, ему стало не по себе.
— Вы свободны, — сказал Кобозев. — Ваша помощь в лаборатории не понадобится.
— Я подожду, — сказала Землячка Кобозеву. — А вы идите в лабораторию, пусть все делается при вас.
Кобозев ушел. Землячка ждала. «Нет, из него будет толк, — думала она о Кобозеве. — Кажется, сообразил, в чем дело».
Он действительно сообразил.
— Розалия Самойловна! — взволнованно сказал Кобозев, входя обратно в кабинет и едва ли не впервые называя Землячку по имени-отчеству. — Добржанский, оказывается, заснял не сто двадцать, а двести сорок метров, и неплохо заснял…
Землячка сняла трубку телефона, попросила соединить ее с Дзержинским.
— Феликс Эдмундович, — сказала она. — Все идет так, как мы и думали.
— Сейчас буду, — ответил Дзержинский.
Он не заставил себя ждать.
— Оператор предъявил одну кассету, — доложил Кобозев. — А на самом деле заснял две.
— А как же это выяснилось? — полюбопытствовал Дзержинский.
— Помог товарищ Гусев, — пояснила Землячка. — Подошел ко мне на площади, говорит, посмотрите, что-то киносъемщик очень уж суетится, крутил, крутил, поставил новую кассету, а первую запрятал, я видел ясно, не просто уложил в сумку, а запрятывал, очень было заметно. Ну, я и поспешила сюда.
— Выражаю вам благодарность… — Дзержинский тоже слегка улыбнулся. — А теперь и я кое-что объясню. Позавчера в Москву из Риги прибыл господин Дорсет. Кинооператор фирмы Пате. Эта знаменитая фирма поручила ему заснять похороны. Мы не дали разрешения. Снимать можно по-разному. Получив отказ, Дорсет установил контакты с Добржанским. Вчера они встретились, и, как это теперь очевидно, одна кассета предназначалась нам, а другая фирме Пате. Мы пока еще не знаем, что было обещано Добржанскому, но важно, что господин Дорсет уедет с пустыми руками.
Кобозев во все глаза смотрел на Дзержинского.
— К вам у нас никаких претензий, но это урок бдительности, — произнес Феликс Эдмундович и поднялся со стула. — А теперь покажите нам всю отснятую пленку.
Весна в Ростове
Куда ее только не бросает… Судьба — говорят в таких случаях. Но для нее судьба воплощена в образе Центрального Комитета. Куда только не посылала ее партия! Ей знакомы чуть ли не все крупные города Европы, а о России и говорить не приходится, свою страну она изъездила вдоль и поперек. От Минска до Екатеринбурга, от Риги до Батуми.
Месяца еще не прошло, как она покинула Москву. Два года проработала секретарем райкома в Замоскворечье. А теперь она в Ростове.
Ростов-на-Дону. Большой южный город. Крупный железнодорожный узел. Речной порт. Множество промышленных предприятий.
Теперь Землячка член Юго-Восточного бюро ЦК. Заведует организационным отделом.
Характер ее деятельности нигде не меняется. Ее задача сплачивать и вести людей на борьбу за дело партии. За дело партии, которая потеряла Ленина… Без него все значительно сложнее. Ленина нет, а дело его осталось.
В Москве еще зима, а здесь весна в полном разгаре. Вот-вот начнется навигация. Лед уже прошел. Дон торопливо катит к морю свои серо-зеленые волны. Снег давно уже сдуло с тротуаров. Начало марта. Дни бывают иногда такими жаркими, что люди появляются на улице без пальто. В станицах начался сев. Множество дел заполняет будни партийных работников.
Окно в кабинете Землячки открыто. С улицы доносится обычный городской шум. Голоса прохожих, шарканье ног, стук экипажей.
На столе перед Землячкой в стакане букетик подснежников. Она смотрит на скромные эти цветы и на мгновение отвлекается от своих дел, ее пронизывает ощущение расцветающего весеннего леса, и мысли ее в который pas возвращаются к Ленину.
Чуть больше месяца прошло, как его похоронили, но кажется, это произошло только вчера.
Землячка остро ощущает отсутствие Ленина. Это ощущение не оставит ее в течение всей последующей жизни.
Близок Тринадцатый съезд партии. Партии предстоит многое решить. Впереди негладкий путь, будут на нем и рытвины, и ухабы, кто-то споткнется, а кто-то сойдет с этого пути, и все-таки у народа только один путь — путь, указанный Лениным.
Сразу по приезде в Ростов Землячка принялась знакомиться с ростовскими предприятиями.
Она приходила в цехи к рабочим, посещала партийные собрания, встречалась с людьми. Прислушиваться к голосу масс — этому учил Ленин.
Совсем недавно ей пришлось быть на табачной фабрике Асмолова. Работницы, молодые, бойкие, языкастые, засыпали ее вопросами: что будет?
Однако Землячка не испытывает неуверенности.
Соберется Тринадцатый съезд, сказала она работницам. Страна наша будет расти, развиваться, будет повышаться благосостояние народа. Всего этого хотел Ленин, за это партия боролась под его руководством и будет бороться дальше.
Съезд будет решать вопрос о руководстве партии.
«Кто будет вместо Ленина?» — спрашивали ее табачницы. «У нас есть Центральный Комитет, — ответила Землячка. — Испытанные соратники Ленина, они коллективно постараются возместить тяжелую утрату».
Она вспоминает письмо Надежды Константиновны, написанное ею в ответ на многочисленные выражения сочувствия по поводу кончины Владимира Ильича:
"Товарищи рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки!
Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т.д. — всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Помните, как много еще нищеты, неустройства в нашей стране. Хотите почтить имя Владимира Ильича, — устраивайте ясли, детские сады, дома, школы, библиотеки, амбулатории, больницы, дома для инвалидов и т.д., и самое главное, — давайте во всем проводить в жизнь его заветы".
Землячка твердо верит в силу партии. Эта сила обнаружилась в дни ленинских похорон. Ленин еще находился в Колонном зале, когда в райком стали приходить рабочие. С заводов, с фабрик, из железнодорожных депо, из типографий, со всех предприятий района. Приходили и приносили заявления о приеме в партию. То же происходило во всех других районах Москвы. То же происходило в Ленинграде. В Минске. В Харькове. В Ростове-на-Дону. По всей Советской стране. Рабочие стремятся в партию, чтобы продолжать дело Ленина. В первую же неделю после смерти Ленина на Красной Пресне было подано свыше четырех тысяч заявлений о вступлении в партию. В Замоскворечье — около трех тысяч. Поток, который ничто не в силах остановить. В мастерских и цехах на собраниях беспартийные рабочие обсуждали кандидатуры тех, кто подал заявления. Одних рекомендовали, других отводили. Требования предъявляли самые высокие. Это было лучшее свидетельство единства партии и народа…
Для завтрашнего дня
Кончился май. Кончился XIII съезд партии.
Землячка возвращалась из ЦК. Вот уже четыре месяца, как она ростовчанка. На сегодняшний день донские дела ее интересуют больше, чем московские. И все-таки она всегда будет чувствовать себя москвичкой, такова волшебная власть этого необыкновенного города.
Для нее этот город, пожалуй, самая значительная часть ее партийной биографии. Все здесь близко, все знакомо, самые значительные силы ее души в продолжение многих лет отданы были Москве.
Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Съезды партии теперь собираются в Москве.
Тринадцатый… Первый съезд без Ленина.
Но у Землячки нет ощущения, что Ленин отсутствовал на этом съезде.
Это был ленинский съезд. Ни один оппозиционер, ни один уклонист не посмел поднять свой голос. Идеи Ленина пронизывали всю работу съезда.
Съезд дал директиву развернуть борьбу за металл, за подъем тяжелой промышленности, за увеличение производства средств производства. Дал указание усилить работу партии по кооперированию сельского населения, по борьбе с кулацкими элементами.
Каждая делегация была ознакомлена с ленинским «Письмом к съезду», называемым «Завещанием Ленина». Ленин писал в нем о мерах по усилению устойчивости партии и давал характеристику выдающимся деятелям ЦК.
Еще два-три дня, и Землячка покинет Москву. Надолго ли задержится она в Ростове?
Землячка шла вдоль Китайгородской стены.
Неисчерпаемые книжные развалы. Десятки букинистов торговали самой разнообразной литературой. Бесчисленные покупатели раскапывали книжные груды…
День был ясный, светлый, солнечный. Она свернула на Никольскую. Народу на ней множество. Бежали девушки в легких платьицах. С деловым видом торопился служилый люд. Лениво проезжали извозчики.
Красная площадь. Василий Блаженный. Мавзолей у Кремлевской стены.
Землячке вспомнился зимний морозный день, когда она стояла тут вместе со всеми…
Сейчас светит солнце, и вокруг множество оживленных, бодрых людей, и каждый делает свое дело, которое вливается в общее дело всей страны.
Ленин жив, он живет и продолжает жить вместе со всеми, во всей этой клокочущей и пенящейся вокруг жизни.
Люди будут приходить сюда вечно, думала Землячка, и Ленин будет постоянно заряжать революционной энергией миллионы и миллионы людей.
Она миновала Исторический музей, перешла Манежную площадь и пошла по Моховой, мимо университета.
Она любила и само это здание, и то, что в этом здании находилось, бурлило и жило трепетной и нестареющей жизнью. Она всегда любила молодежь, и молодежь тоже тянулась к ней, несмотря на ее строгую сдержанность.
— Розалия Самойловна! — закричал издалека кто-то, еще невидимый ей среди прохожих.
Она остановилась.
По тротуару, обгоняя юношей и девушек, стайками бродивших возле университета, к Землячке чуть не бегом приближался молодой человек.
— Розалия Самойловна! — сказал он, запыхавшись. — Никак не могу вас догнать…
Это был Соловьев, делегат Тринадцатого съезда, выбранный вместе с Землячкой на Восьмой Кубано-Черноморской партийной конференции. Молодой еще коммунист, но старательный работник.
— Слушаю вас, товарищ Соловьев, — как всегда суховато отозвалась Землячка.
Вместо ответа Соловьев повел головой в сторону университета и с неуверенной улыбкой взглянул на Землячку.
— Отпустили бы меня, Розалия Самойловна…
— Куда?
— Учиться, — уточнил Соловьев. — Маловато у меня знаний. Пошлите в университет. Давно хочу просить…
«Давно» — преувеличение, Соловьев лишь недавно демобилизован из армии, но адрес для своего обращения он избрал правильный: Землячка заведовала организационным отделом, и именно от ее решения в значительной степени зависела судьба любого партийного или советского работника в области.
Она пристально посмотрела на Соловьева и задумчиво покачала головой.
— Нет, товарищ Соловьев. Года через два, три…
— Но ведь учиться-то надо? — возразил Соловьев, хоть и не очень уверенно: он знал, что оспаривать решения Землячки безнадежно. — Поручили мне строить завод, а что я перед инженерами?
— Вы — коммунист, товарищ Соловьев, — с необычной мягкостью попыталась ему объяснить Землячка. — Это тоже кое-что значит. Вроде как комиссар при инженерах. А учиться… Не можем сразу послать всех, университет от вас не уйдет.
— Это я понимаю, — покорно согласился Соловьев и любовно посмотрел на здание, стоящее в глубине двора. — Годы только уходят…
Дымка грусти прошла по лицу Соловьева. Он понимал старую большевичку, отказывающую ему, молодому коммунисту, в самом, можно сказать, необходимом, понимал время, в которое он живет, когда интересы отдельной личности подавляются ради интересов всего общества, все это он понимал, но от этого ему не становилось легче.
И Землячка понимала Соловьева. Понимала его желание учиться, понимала его невысказанный протест против ее решения и его согласие жертвовать собой ради общего блага. Вот такими людьми и сильна партия. Такие люди не мыслят себя вне общества и всегда пожертвуют личными интересами ради интересов общества. Ей даже жалко стало Соловьева. При его упорстве и целеустремленности из него вышел бы хороший инженер. Но время тоже не ждет. Страна восстанавливается, надо строить, строить. Без передышки, без промедления…
Невольно она вернулась мыслями в прошлое. В молодости ей хотелось стать врачом. Ей хотелось быть полезной людям. Из нее получился бы неплохой врач. Но перед ней возникла более высокая цель. Не только самой подняться на какую-то ступень, но подняться вместе со всем обществом. Какая у нее специальность? Самая расплывчатая и самая всеобъемлющая: партийный работник. Партия всегда посылала ее туда, где наиболее трудно, наиболее опасно.
Она гордится этим. Ничто не может доставить большего удовлетворения, чем ощущение полной слитности с обществом, ради которого живешь и работаешь.
Неожиданно для самой себя она провела ладонью по руке Соловьева и не то чтобы смутилась, но сама удивилась непривычному для нее жесту, у нее не было детей, но ей подумалось, что Соловьев мог бы быть ее сыном.
— Я сама охотно пошла бы учиться, — вырвалось вдруг у нее. — Но не можем мы вас отпустить, не можем…
Она уже загнала куда-то глубоко внутрь себя этот внезапно нахлынувший на нее приступ сентиментальности.
— Ничего, товарищ Соловьев, перетерпим, — сказала она спокойнее и суше. — Вашим детям уже не придется ломать голову над такими проблемами.
Землячка стояла с Соловьевым на тротуаре прямо против тяжеловатого, приземистого здания, построенного еще в конце позапрошлого века, а видела иное здание, высокое и светлое, которое воздвигнут когда-нибудь на этом месте, видела иные масштабы и свершения, достойные нового стремительного века.
Мимо Землячки и Соловьева текли прохожие, перекликалась рядом молодежь, и, всматриваясь в оживленные лица москвичей, она заглядывала в будущее.
Каким-то оно будет?…
Завтра Землячка уедет в Ростов. Вместе с нею уедет Соловьев. Он будет строить завод, а она — подбирать людей, которые должны обеспечить успех строительства. Подбирать людей для других новостроек, подбирать работников для партийных комитетов. Будет руководить ими.
Если бы ее озарило предвидение, она увидела бы себя в Мотовилихе, куда ее вскоре пошлют на партийную работу, а потом в Москве, где ей долго придется работать в органах партийного и советского контроля, а позже стать одним из руководителей Советского правительства.
Для нее не так важно — работать ли в заводском центре Урала или в каком-либо сельском районе на Дону, занимать ли руководящий пост или находиться на низовой работе, главное в том, что, где бы она ни была и что бы ни делала, до последнего своего часа она будет жить и работать так, как учил Ленин. Его образ она пронесет в своем сердце через всю свою жизнь. Пройдут годы, а Ленин будет жить, жить и сопутствовать все новым и новым поколениям человечества.
И лишь одно не дано никому предвидеть — когда и при каких обстоятельствах оборвется его жизнь.
Землячка умерла спустя двадцать три года после смерти Ленина, в тот же день, что и он, 21 января…
Случайное совпадение? В общем-то, наверное…
Но в годовщину смерти дорогого нам человека воспоминание о нем приходит к нам с особою силой.
В сутолоке будней воспоминание стирается и затухает боль, но вот приходит день поминовения, день воспоминаний, и снова с нами близкий и дорогой человек.
Вспоминаешь, каким он был, как ходил, как говорил. Закрываешь глаза, и он приближается к тебе, и ты меришь его судом свою жизнь, ощущаешь, как он тебе нужен, и сердце сжимается в такой невыносимой боли, что невозможно выдержать…
Вероятно, так оно и случилось на самом деле.
ОТ АВТОРА
Заканчивая повесть о Землячке, пожалуй, стоит все-таки сказать, как возник ее замысел.
Несколько товарищей советовали мне написать о Землячке, причем одним из доводов служило то, что я был с нею знаком.
Однако сказать «знаком» было бы преувеличением, но видеть я ее действительно видел, так будет вернее.
Все же одно это обстоятельство вряд ли могло побудить меня писать о Землячке, любому литератору приходится в течение своей жизни встречаться со множеством выдающихся людей, но это не значит, что обо всех следует писать.
Каждый человек является носителем каких-то идей, правильнее даже — какой-то одной идеи, определяющей его жизненное кредо, и вот интерес к такой идее, созвучность твоему собственному мироощущению — гораздо большее основание к изучению чужой жизни, чем просто обычное знакомство.
Я встречал, точнее все-таки, видел Землячку раза три или четыре… впрочем, буду точен — четыре раза, и об этих встречах нужно коротко рассказать.
Первая встреча произошла в октябре 1919 года.
Это было время жестоких боев за Орел, Красная Армия переходила в наступление против Деникина.
Я только что вступил в комсомол, и волостная партийная организация послала меня с поручением в политотдел Тринадцатой армии.
Политотдел находился на станции Отрада, между Орлом и Мценском.
Я ждал появления начальника политотдела, и вот он появился. Это было незабываемое впечатление!
Начальником политотдела оказалась женщина в кожаной куртке и хромовых сапогах…
Мне приходилось видеть до революции строгих ученых дам — педагогов, врачей, искусствоведов, и вот передо мною была одна из них.
Начальнику политотдела доложили обо мне, она повернулась, хотя у меня до сих пор сохранилось ощущение, будто какая-то незримая сила сама поставила меня перед нею. Повернулась и… поднесла к своим близоруким глазам лорнет.
Да, лорнет!
Эта встреча описана мною в романе «Двадцатые годы», а первое слово, услышанное мною из ее уст, было «расстрелять».
Да, расстрелять!
Возможно, прежде чем это сказать, она говорила что-то еще, но до сих пор у меня в ушах звучит этот приговор.
Речь шла вот о чем. Старик-отец прятал в клуне или, сказать понятнее, в риге сына-дезертира, парня нашли, и обоих только что доставили в трибунал.
С Землячкой советовались, как с ними поступить.
Дезертиры в те дни были бедствием армии, им нельзя было давать потачки, и Землячка не могла, не имела права проявить мягкость.
Несколькими часами позже у меня с нею состоялся душевный разговор, но много воды утекло с той встречи до той поры, когда я понял, что эта черта ее характера именуется не жестокостью, а твердостью.
Снова я встретил Землячку спустя почти десять лет.
В декабре 1928 года на сессии ЦИК СССР обсуждался вопрос о мероприятиях по подъему урожайности. Докладчиком по этому вопросу выступал Я.А.Яковлев, редактор «Крестьянской газеты» и одновременно заместитель Г.К.Орджоникидзе, председателя ЦКК и наркома РКИ.
А я в эти годы служил в «Крестьянской газете» и по поручению Я.А.Яковлева писал отчет о сессии.
С Землячкой я столкнулся на лестнице Большого Кремлевского дворца.
Только что кончилось заседание, я выскочил из зала и мчался вниз, торопясь в редакцию. Бежал сломя голову, перепрыгивая через ступеньки, и вдруг опять незримая сила остановила меня. Навстречу мне поднималась сухонькая строгая дама в платье серо-жемчужного цвета.
Она возникла на одном из маршей беломраморной лестницы, и я сразу ее узнал, хотя с первой встречи миновало девять лет. Мне хотелось промчаться мимо, однако ноги мои налились свинцом. Я прижался к перилам. Я боялся ее, о строгости ее ходили легенды.
«Ну скорее, скорее, — мысленно подгонял я ее, — иди же, иди, поторопись в зал…»
Но она остановилась. Подняла руку и поманила к себе пальчиком. Так, как сделала бы это любая классная дама. Что оставалось делать? Медленно пошел я по широким ступеням лестницы навстречу своей безжалостной судьбе, принявшей на этот раз образ Розалии Самойловны Землячки.
На черном шнурке, струившемся вниз от ее шеи к поясу, покачивался лорнет в черепаховой оправе. Землячка близоруко прищурилась, подняла лорнет, приставила к глазам и внимательно на меня посмотрела.
Душа моя ушла в пятки.
Посмотрела, укоризненно покачала головой и, не произнеся ни слова, пошла своею дорогой.
Вся встреча длилась не более двух-трех минут, а вот подите ж, запомнилась на всю жизнь.
Розалию Самойловну здорово все побаивались, недаром Демьян Бедный посвятил Землячке такие стихи:
От канцелярщины и спячки Чтоб оградить себя вполне, Портрет товарища Землячки Повесь, приятель, на стене… Бродя потом по кабинету, Молись, что ты пока узнал Землячку только по портрету… В сто раз грозней оригинал!Землячка пошла дальше, но я уже перестал прыгать козлом и тоже степенно зашагал вниз.
Потом Землячка приехала как-то в редакцию «Крестьянской газеты», она интересовалась постановкой массовой работы, а так как в ту пору я заведовал отделом селькоров, мне пришлось давать ей объяснения.
«Крестьянская газета» многих своих селькоров направляла учиться в различные учебные заведения страны, часть их училась в Москве, и студенты эти долго не порывали связи с газетой и постоянно толклись в редакции.
Беседовали мы в кабинете заместителя Яковлева — С.Б.Урицкого.
Землячка поинтересовалась, есть ли сейчас кто-нибудь из селькоров в редакции, и я предложил, если она хочет, позвать в кабинет хоть десять, хоть двадцать человек.
Землячка согласилась, селькоры были призваны, она предложила Урицкому и мне покинуть кабинет — беседовать с селькорами она будет, мол, с глазу на глаз.
Как выяснилось, она интересовалась отношением редакции к селькорам, нет ли в редакции бюрократизма.
Но грозу пронесло, селькоры не подвели, не дали Землячке поводов для нахлобучки.
И в последний раз мне пришлось видеть Землячку в ЦКК на заседании партколлегии. Решалась судьба одного инженера Керченского металлургического завода.
Незадолго до этого «Комсомольская правда» опубликовала серию моих очерков об этом заводе, которые затем издала отдельной книжкой «Молодая гвардия».
Я был вызван на заседание партколлегии в качестве свидетеля.
Органы, не имевшие прямого отношения к заводу, выдвинули против инженера тяжелые обвинения, судьба инженера висела на волоске, стоял вопрос об исключении его из партии, после чего неизбежно должно было последовать возмездие юридическое.
Инженер заведовал на заводе агломерационным цехом. В своих очерках я отзывался о нем положительно, но почему меня вызвали на заседание — все же не понимал.
Началось заседание. Зачитали бумагу, которая очень походила на прокурорское обвинительное заключение. Ответчик оправдывался, но как-то вяло, по-видимому, он считал свою судьбу предрешенной. Землячка допрашивала. Резко, пристрастно, я бы сказал, даже зло.
На заседании присутствовали двое рабочих из Керчи, секретарь цеховой парторганизации и кто-то еще.
Землячка поинтересовалась их мнением и обратилась ко мне:
— А что вы можете сказать?
Я замялся, и вдруг она подняла со стола мою книжку.
— Можете что-нибудь добавить к тому, что здесь написано?
Я ответил, что высказал уже свое мнение в печати.
— Ну, то, что напечатано, мы уже прочли, — сказала Землячка. — Повторяться незачем.
Члены партколлегии стали высказываться.
И досталось же бедняге! Протирали его с песочком. Дошло дело до решения. И Землячка предложила… оставить его в партии.
— Это наш человек, от него еще будет польза, — сказала она. — Не позволим его добивать.
Вот и все.
Вот и все, что относится к моему непосредственному знакомству с Землячкой. Но все-таки это было кое-что, что побудило меня углубиться в изыскания и воссоздать образ этой коммунистки.
Насколько это удалось, судить не мне. Я хочу лишь сказать два слова о том, что меня привлекает в Землячке.
Она была суха и замкнута, и это понятно. Человек, можно сказать, совершенно лишенный личной жизни. Все без остатка отдано партии. Всю жизнь она подавляла в себе личные эмоции. Поэтому многие считали ее равнодушной, а некоторые даже недолюбливали.
Да и сам я думаю, что любить ее в том сентиментальном смысле, как это обычно понимается, будто и не за что.
Так почему же все-таки я сделал Землячку героиней своей повести? Я не оговорился. Она прожила героическую жизнь, хотя и не стремилась совершать героические поступки. Изо дня в день выполняла она свою будничную работу, но работа эта была работой Коммунистической партии, а будни — буднями Октябрьской революции.
Редко встречаются такие целеустремленные люди. Целенаправленность и верность Ленину — вот два ее достоинства. Вся ее жизнь связана с Лениным, и поэтому, рассказывая о Землячке, так часто приходится обращаться к Ленину. В этом ее сила, в этом пример, она по праву входит в когорту лучших ленинцев.


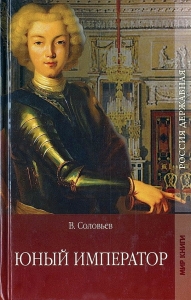
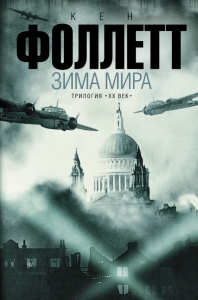
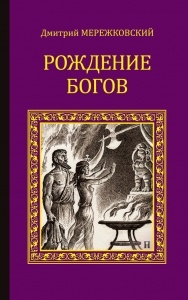
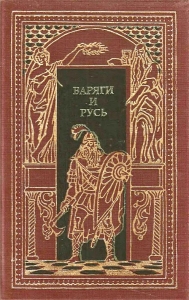

Комментарии к книге «Январские ночи», Лев Сергеевич Овалов
Всего 0 комментариев