Фаддей Венедиктович Булгарин Димитрий Самозванец
ПРЕДИСЛОВИЕ
Царь Иоанн Васильевич Грозный женился в седьмой [1] раз, без церковного разрешения, на дочери знатного сановника Федора Федоровича Нагого в 1580 или 1581 году. От сего брака родился в 1582 году сын Димитрий. При вступлении на престол Феодора Иоанновича царица Мария с родом своим и малолетним сыном была сослана в Углич по внушению любимца и шурина государева, боярина Бориса Федоровича Годунова. Царевич Димитрий убит в Угличе злодеями, Битяговским и Качаловым, в 1591 году, мая 15 дня. Современники обвиняли Бориса Годунова в составлении сего умысла, для очищения себе пути к престолу после бездетного и слабого Феодора Иоанновича. Участие Годунова в сем деле исторически не доказано, но нельзя не подозревать его, соображая все поступки, предшествовавшие и последовавшие сему событию. После следствия, произведенного в Угличе боярином князем Василием Ивановичем Шуйским, Клешниным, дьяком Вылузгиным и митрополитом Крутицким, обвинили царицу и братьев ее, Нагих, в небрежении при воспитании Царевича и в возбуждении угличан к мятежу. Нагих сослали, а царицу постригли в монахини под именем Марфы и заключили в монастырь святого Николая на Ваксе, на Белоозере, в том же 1591 году.
Современники думали, что тем сие дело и кончилось; но провидению угодно было испытать Россию бедствиями. Явился человек умный и смелый, назвался царевичем Димитрием Ивановичем, чудесно спасенным от убиения, и при помощи поляков, а еще более от ослепления россиян, овладел русским престолом. Кто таков был этот счастливый прошлец? Современные русские летописцы называют его Григорием Отрепьевым, сыном углицкого дворянина Богдана, беглым монахом и расст ригою. Многие иноземные современники верили, что он истинный Димитрий. Нет сомнения, что этот прошлец был самозванец и обманщик; но я, соображая все обстоятельства сего чудного происшествия, верю, что он не мог быть Гришкою Отрепьевым, и совершенно соглашаюсь с мнением митрополита Платона, изложенным в его сочинении "Краткая церковная история". Во второй части (изд. 1823 г.) на стр. 168, в главе LXVII, митрополит Платон пишет:
"Утверждая обще со всеми нашими писателями, что Гришка не был царевич Димитрий, но точный самозванец, отваживаюсь изъявить мое новое мнение, что сей первый самозванец не был и Гришка Отрепьев, дворянина галицкого сын, но некто подставной, от некоторых хитрых злодеев выдуманный и подставленный, чужестранный или россиянин, или, может быть, и самый Гришка Отрепьев, галицкого мелкого дворянина сын, но давно к тому от злоумышленников приготовленный и обработанный, а не тот, какого наши летописцы выдают; или и тот, но не таким образом все сие дело происходило, как они описывают, утверждая свое описание только на одних наружных и открывшихся обстоятельствах и не проницая во глубину сего злохитрого и огромного замысла".
Доказательства и догадки, представляемые преосвященным Платоном, столь ясны и правдоподобны, что нельзя с ним не согласиться. Всем известно и доказано, что самозванец был не только умный, но и ученый человек; знал основательно польский и латинский языки, историю и науку государственного управления, был искусен в военном деле и необыкновенно ловко управлял конем и владел оружием. Если верить русским летописцам, что он бежал из России и открылся в Польше в 1603 году, в Россию вторгнулся с малочисленною своею дружиной в 1604 году, то невероятно, чтоб в один год он изучился всему тому, что несообразно было с воспитанием бедного галицкого дворянина и познаниями русского монаха. Не только митрополит Платон, но и другие современные писатели верят, что явление самозванца было следствием великого замысла Иезуитского ордена, сильно действовавшего в то время в целой Европе к распространению римско-католической веры. Это мнение самое вероятное и основано на многих исторических доказательствах.
Сии-то сомнения насчет рождения самозванца, его воспитания и средств, употребленных им к овладению русским престолом, послужили основою моего романа. Завязка его – история. Все современные гласные происшествия изображены мною верно, и я позволял себе вводить вымыслы там только, где история молчит или представляет одни сомнения. Но и в этом случае я руководствовался преданиями и разными повествованиями о сей необыкновенной эпохе. Вымыслами я только связал истинные исторические события и раскрывал тайны, недоступные историкам. Читатели из приложенных ссылок увидят, где говорит история и где помещен вымысел.
Один отличный иностранный писатель определил исторический роман следующим образом: "Для исторического романа один закон: изображать историю в характерах; разумеется, что, если не будет взаимного согласия между лицами и духом времени, не будет и исторического романа". Мнение сие кажется мне совершенно справедливым, и я последовал ему. Все исторические лица старался я изобразить точно в таком виде, как их представляет история. Роман мой можно уподобить окну, в которое современник смотрит на Россию и Польшу при начале XVII века. Многие исторические лица видны чрез сие окно, но описаны они столько, сколько глаз историка мог их видеть, и по мере участия их в происшествии. Одни действовавшие особы списаны во весь рост, другие представлены в очерке, а некоторые в отдалении. Кто сколько действовал, настолько и вошел в роман. Оттого читатель и не вправе требовать, чтобы все лица, упомянутые в романе, были начертаны вполне. Характер иных развернулся после описанного здесь происшествия, другие вовсе не обнаружили характера, достойного описания, и действовали только косвенно [2]. Русский народ изображен также в действии, в таком виде, как он был и как участвовал в событии. В романе моем старался я вывести на сцену политическую и гражданскую жизнь того времени двух действовавших народов: русских и поляков.
Описывая действия, я не мог пренебречь местностями и представил образ жизни действовавших лиц, их нравы, обычаи, степень просвещения, одежду, вооружение, пиры и проч. и проч. Во всем следовал я истории самым строжайшим образом. Большая часть речей взята целиком из истории, а где недоставало к тому источников, там я заставлял лица говорить сообразно с их действием и действовать сообразно с речами, в истории сохранившимися. Сознаюсь, что много было мне труда! Я должен был перечитывать множество книг на разных языках, из коих некоторые писаны устарелым иноземным наречием, делать выписки, справки, заставлять переводить для себя шведские хроники [3] и т. п. Кажется мне, что все описания мои верны, или по крайней мере таковы, как изобразили их современники. Почту себя счастливым, если русская публика примет благосклонно труд мои и вознаградит вниманием усердное мое желание представить ей Россию в начале XVII века в настоящем ее виде.
Прошу не приписывать мне никаких мнений. Автор здесь в стороне, а говорят и действуют исторические лица. Я никого не заставлял действовать и говорить по моему произволу, но всегда основывался на преданиях или на вычислении вероятностей. Так было в самом деле, или иначе не могло быть, судя по прочему, – вот что руководствовало меня в изложении. Если кому не понравятся характеры, не моя вина. Они были таковы. Мильтона упрекали современники, что он в поэме «Потерянный рай» заставил дьявола хулить Бога. «Если б я заставил его в моей поэме петь хвалу Господу, – отвечал Мильтон, – тогда б не было ни дьявола, ни поэмы!»
Читатель должен помнить, что вся ученость тогдашних русских состояла в том, чтоб знать наизусть Священное Писание. Они любили, для выказания своей учености, вмешивать тексты в свои речи, а для выказания остроумия прибавляли пословицы. Поляки, напротив того, любили испещрять речи латинскими стихами или изречениями древних историков и моралистов. Это обыкновение я должен был соблюсти в моем романе.
Читатель найдет иногда в моем романе повторение одних и тех же мыслей в разных сословиях или в нескольких совещаниях. Это сделано мною умышленно, ибо я, для разгадки чудесных событий той эпохи, должен был представить в действии не только много лиц, но и разные сословия с их образом мыслей и мнениями. Если б я рассказывал, то мог бы избежать повторений, но я только представил верную картину того века и что где нашел, то и поместил. Частое повторение царского титула при сношениях послов я сохранил как самый ясный отпечаток того века. Это дает другой тон целому делу. Повторяю, что я не рассказываю от своего лица, как было: я только приподнял завесу, закрывавшую прошедшее. Смотрите, судите и не обвиняйте меня в чужих делах и речах! Я отвечаю только как художник. Представляя простой народ, я, однако ж, не хотел передать читателю всей грубости простонародного наречия, ибо почитаю это неприличным и даже незанимательным. На картинах фламандской школы изображаются увеселения и занятия простого народа: это приятно для взоров. Но если б кто захотел представить соблазнительные сцены и неприличия, то картина, при всем искусстве художника, была бы отвратительною. Самое верное изображение нравов должно подчинять правилам вкуса, эстетики, и я признаюсь, что грубая брань и жесткие выражения русского (и всякого) простого народа кажутся мне неприличными в книге. Просторечие старался я изобразить простомыслием и низшим тоном речи, а не грубыми поговорками. Приятно, если композитор в большое музыкальное сочинение введет народный напев; но он не должен вводить звуков непристойных песен. Пусть говорят что хотят мои критики, но я не стану никому подражать в этом случае, и думаю, что речи, введенные в книгу из питейных домов, не составляют верного изображения народа.
Я не хотел описывать подробностей жизни простолюдинов XVII века, ибо быт их мало изменился. Ныне русский крестьянин знает более вещей и слов, насмотрелся на большее число предметов; в некоторых местах многие из них переменили образ жизни, узнали чай, обулись в сапоги и живут в светлых избах. Но в существе простой народ не представляет исторической разницы с предками своими XVII века. Переменился двор, бояре, дворяне и купечество. Русские дворяне в начале XVII века, в сравнении с нынешними, кажутся людьми другой планеты. Образ жизни, одежда, взгляд на предметы, понятия, язык – все у них было другое. Вот почему и любопытно взглянуть на них в действии.
Быть может, найдутся люди, которые, судя по-нынешнему, найдут, что предки их были слишком непросвещенны. Правда, они были необразованны, но умны, сметливы и знали все, чего требовал от них дух времени и тогдашний порядок вещей. Нынешние политические и исторические идеи вовсе были чужды русским тогдашнего времени. Вся политическая добродетель состояла тогда в беспредельной, беспрекословной преданности к царю, к православной вере и к отечеству; премудрость – в точном исполнении царской воли. И вот разгадка тайны, почему у всех руки опустились, когда самозванец объявил, что он истинный царский сын, законный наследник престола! Некоторые историки, следуя современным летописцам, приписывают успех самозванца порочности тогдашних нравов. Это мнение кажется мне несправедливым. От сотворения мира все люди жалуются на испорченность нравов настоящего поколения, как то делали и летописцы наши XVI и XVII веков. Правда, возвышение Годунова, к обиде царского рода, возбудило негодование, зависть и несогласие между боярами, что и было также косвенною причиною успеха Лжедимитрия. Но главная причина была привязанность народа к царскому племени. Она сделала все чудеса! Итак, русский народ достоин похвалы, а не хулы за приверженность к тому, которого почитал государем законным.
У меня в романе Лжедимитрий не открывается никому в том, что он обманщик и самозванец. Его уличают другие. Иначе и быть не могло по натуре вещей, судя психологически. Если б он объявил кому-нибудь истину, то не нашел бы ни одного приверженца. Каждый русский отвергнул бы с негодованием лжеца, обманщика, прошлеца; даже злой человек не пристал бы к нему, предвидя невозможность успеха и явную опасность. Ни один поляк не пришел бы в Россию с обманщиком свергать с престола сильного и умного Годунова, особенно гордый Мнишех, Вишневецкий, первейшие вельможи сильного государства. Да и можно ли было отважиться на такое предприятие с несколькими стами воинов? Гордая Марина презрела бы подлого обманщика. Мне скажут: почему же поляки признавали Тушинского вора истинным царевичем? Почему гордая Марина согласилась быть женою явного бродяги? Отвечаю: поляки из мщения, за избиение своих в Москве, а Марина из ложного стыда и развившегося честолюбия, после царского венчания. Почувствовав сладость власти, утешаясь повиновением прежних своих подруг и равных, Марина не могла уже возвратиться в разряд польских шляхтенок и быть равною другим, когда муж ее объявлен был обманщиком. Вот истолкование этого удивительного попрания всякого стыда благовоспитанною женщиной! Что же касается до поляков, то они не уважали второго самозванца, явно бранили его, а князь Рожинский несколько раз хотел даже бить его. Но первому самозванцу верили по внушению иезуитов и короля, бывшего их орудием. Второго самозванца употребляли только как орудие к завоеванию России. Я убежден, что самозванец никак не мог никому признаться: он, как умный человек, знал хорошо, что одним сознанием разрушил бы очаровательное здание своего величия. Ничто так не отвращает сердец, как обман, а он имел много усердных приверженцев, людей умных и благородных. Не знающие нравов и обычаев описанной мною эпохи станут, может быть, упрекать меня, зачем я не ввел в роман любви, такой, как изображают ее иностранные романисты, почерпая предметы из истории средних веков. Введением любви в русский роман XVII века разрушается вся основа правдоподобности. Русские того времени не знали любви по нынешним об ней понятиям, не знали отвлеченных нежностей, женились и любили, как нынешние азиатцы. Брак был делом домашним, союзом между двумя родами, расчетом гражданской жизни. Все иностранцы и русские, описывающие тогдашнюю Россию, согласны в этом. У нас сохранились некоторые любовные песни; не думаю, чтоб они были весьма древние, а если в некоторых и говорится о любви, то всегда между простым народом, который имел гораздо более свободы в обращении с женским полом. Господин Успенский в весьма хорошем сочинении своем «Опыт повествования о древностях русских» (часть I, стр. 101), основываясь на Герберштейне, Бухау, Корбе, Майерберге, Петрее, Рейтенфельсе, Таннере, Лизеке и русских историках, говорит следующее: «До времен государя императора Петра Великого предки наши, следуя обыкновению восточных народов, жен своих содержали строго; дочерям не позволяли выходить из домов, и как те, так особливо и последние совершенно удалены были от собеседования с мужеским полом, кроме только ближних родственников, исключая однако ж из сего крестьян и бедных людей. От сего происходило, что вся честь женщины, а паче девицы, поставляема была в том, чтоб им не быть от сторонних людей видимыми, и женщина или девица невозвратно теряла доброе имя, если видел ее какой-нибудь мужчина, кроме отца, братьев или мужа. В XVI столетии знатные люди из русских жен и дочерей своих не только посторонним, но ниже ближайшим родственникам своим не показывали и в церковь тогда только выходить позволяли, когда надлежало приобщаться Святых Тайн, или иногда, в самые большие праздники».
Как же могли нежиться и изъясняться в любви боярские дочки в начале XVII века?! Известно, что Лжедимитрий был распутен и не дорожил честью женскою. Предание гласит, что он обманул в Польше какую-то девицу, которая преследовала его до конца жизни. Я вывел ее на сцену. В Польше любовь существовала тогда со всеми утонченностями, но между Мариною Мнишех и самозванцем была любовь точно такая, как представлена мною в романе.
Сочинение мое разделено на четыре части, по ходу происшествий, как сохранили их предания. Сперва самозванец появился в Москве при Годунове и пропал без вести. Потом предание гласит, что он странствовал неизвестно где, был у запорожцев и в Киеве. После появился он в Польше и открылся. Наконец вторгнулся в Россию, овладел престолом и был убит. Так разделено и сочинение мое. Кажется мне, что я дал новые формы моему русскому историческому роману, соединив драматическое действие с рассказами и вводными повествованиями. Повторяю: действующие лица у меня – Россия и Польша; завязка романа – история; соединение всех частей – вымысел.
Нравственная цель моего романа есть удостоверение, что все козни властолюбия, все усилия частных лиц к достижению верховных степеней косвенными путями всегда кончатся гибелью пронырливых и дерзких властолюбцев и бедствием отечества; что государство не может быть счастливо иначе, как под сению законной власти, и что величие и благоденствие России зависит от любви и доверенности нашей к престолу, от приверженности к вере и отечеству.
Мыза Карлова,
подле Дерпта.
18 августа 1829.
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Бесполезным считаю изъяснять публике причины того ожесточения, с которым преследуются все сочинения мои собратиями моими, русскими писателями. Покорный властям и закону в гражданском отношении, я в частной и литературной жизни моей не творю себе кумиров, не поклоняюсь и не служу им. Люблю правду и высказываю ее смело при всяком случае, печатно и изустно, а в литературе признаю господство не лиц, но изящного и им одним восхищаюсь. Не принадлежащего ни к одной партии литературной, меня преследуют все партии!
По словам моих противников, у меня нет ни малейшего дарования и все сочинения мои никуда не годятся! Это провозглашают они в обществах и печатают в журналах. Да позволено будет мне поусомниться в истине сих приговоров. Внимание беспристрастной русской публики к трудам моим, благосклонность иностранной и неподкупный суд чужеземных литераторов заставляют меня верить, что я не вовсе бездарный писатель и что сочинения мои имеют некоторое достоинство. Самое ожесточение моих противников служит тому доказательством.
Истощив все средства к лишению меня благосклонности публики, противники мои прибегнули к разным нелитературным средствам, из коих одно клонится к тому, чтоб возбудить противу меня народное самолюбие. Замысел великий – но на этот раз не удастся. Они провозглашают, что я в романе моем "Димитрий Самозванец" старался унизить русский национальный характер и возвысить поляков. Этим обвинением думают противники мои сделать меня ненавистным россиянам. Напрасные усилия! Если б даже и было в самом деле так, что в каком-либо сочинении один какой-нибудь народ превознесен был выше русских, то и это не означало бы нелюбви к России. Тацит любил Рим, но чистоту германских нравов представлял в образец римлянам, своим современникам, и не был за это почитаем дурным гражданином. В романах Вальтера Скотта единоземцы его не всегда играют блестящие роли; французы также не разгневались на него за то, что он представил эпоху Людовика XI в черных красках. Картина зависит от времени, в которое она пишется. Этому закону и я должен был повиноваться. Прошу читателя посмотреть, как историки представляют эпоху, которая вошла в состав моего романа, и как я изобразил ее; тогда он удостоверится в чистоте моих намерений.
Карамзин в "Истории Государства Российского" (том XI, стр. 120 и 121) говорит: "Если, как пишут очевидцы, не было ни правды, ни чести в людях; если долговременный голод не смирил, не исправил их, но еще умножил пороки между ими: распутство, корыстолюбие, лихоимство, бесчувствие к страданиям ближних; если и самое лучшее дворянство, и самое духовенство заражалось общею язвою разврата, слабея в усердии к отечеству от беззакония царя, уже вообще ненавистного, то нужны ли были иные, чудесные знамения для устрашения России?"
Историограф ссылается на современного писателя, келаря Троицкого монастыря Авраамия Палицына, который приводит почти невероятные примеры разврата нравов. Привожу слова сего героя-историка из сочинения его "Сказание о осаде Троицкого Сергиева монастыря от поляков и литвы и о бывших потом в России мятежах":
"В правлении же при сем велицем государе блаженней царе Феодоре Борис Годунов и инии мнози от вельмож, не токмо род его, но и блюдомии ими, многих человек в неволю к себе введше служити, инех же ласканием и дарми в домы своя притягнувше, и не от простых токмо ради нарочита рукоделия или какова хитра художества, но и от честнейших издавна многим имением и с селы и с вотчины, наипаче же избранных меченосцев и крепких в оружии, и светлы телесы, и красны образом и возрастом излишествующих. Мнози же и инии, начальствующим последствующе, в неволю порабощающе, с кого мощное и написание служивое силою и муками емлюще. Во время же великого глада сего озревшеся вси, яко немощно питати многую челядь, и начата рабов своих на волю отпущати; инии убо истинно, инии же лицемерством: истинствующие убо с написанием и с заутверждением руки своея, лицемерницы же не тако, но токмо из дому изгонит, и аще к кому прибегнет, той зле продаваем бываше, и мног снос и убытки платяху… Мнози же и того злее сотвориша: имущей чем препитати на много время домашних своих, но восхотевше много богатства собрати, и того ради челядь свою отпущающе… и гладом скончевающихся туне пре-зреша. Бяше же и се зло и лукаво во многих: лето убо все тружаются, в зиму же не имеют где и главы подклонити, и паки в лето в делех зле стражут у господей своих… Домы же великих боляр зле от царя Бориса распуженых и вси раби распущены быша; заповедь же о них везде положена бысть, еже не приимати тех опальных боляр слуг никому же. Инии же сами поминающе благодеяние господей своих и в негодовании на царя пребывающе, но времени ждуще, зле распыхахуся… а иже на коне обыкше и к воинскому делу искусни, сии к великому греху уклоняхуся: во грады бо вышереченныя украиныя отхождаху. И, аще и не вкупе, но боле двадесяти тысящь сицевых воров обретшеся по мнозе времени во осаде в сидении в Колуге и в Туле (уже в царствование Шуйского), кроме тамошних собравшихся старых воров".
"В объядение и пианство велико и в блуд впадохом, и в лихвы и в неправды, и во вся злая дела… Егда гладом наказа нас Господь, мы же не токмо еже к Нему обратитися, но и… злейшая впадохом, и не токмо простии, но и чин священьствующих".
После убиения первого самозванца разврат еще более усилился. В томе XII, на стр. 95 и 96, Карамзин говорит: "Злодейство уже казалось только легкомыслием; уже не мерзили сими обыкновенными беглецами, а шутили над ними, называя их перелетами. Разврат был столь ужасен, что родственники и ближние уговаривались между собою, кому оставаться в Москве, кому ехать в Тушино, чтобы пользоваться выгодами той и другой стороны, а в случае несчастия здесь и там иметь заступников. Вместе обедав и пировав (тогда еще пировали в Москве!), одни спешили к царю в Кремлевские палаты, другие к царику: так именовали второго Лжедимитрия. Взяв жалованье из казны московской, требовали иного и из тушинской – и получали! Купцы и дворяне за деньги снабдевали стан неприятельский яствами, солью, платьем и оружием, и не тайно: знали, видели и молчали; а кто доносил царю, именовался наушником".
Далее на стр. 124 и 125 Карамзин говорит, выписывая из Авраамия Палицына: "Россию терзали свои более, нежели иноплеменные: путеводителями, наставниками и хранителями ляхов были наши изменники, первые и последние в кровавых сечах: ляхи с оружием в руках только смотрели и смеялись безумному междоусобию. В лесах, в болотах непроходимых россияне указывали или готовили им путь и числом превосходным берегли их в опасностях, умирая за тех, которые обходились с ними, как с рабами" – и проч.
На стр. 325: "Но стан московский представлялся уже не Россиею вооруженною, а мятежным скопищем людей буйных, между коими честь и добродетель в слезах и в отчаянии укрывались!"
Вот как Карамзин, основываясь на современниках, изображает тогдашних думных бояр и царедворцев. Том XII, стр. 276: "Что же сделало так называемое правительство, Боярская Дума, сведав о сем движении, признаке души и жизни в государстве истерзанном?.. Донесла Сигизмунду на Ляпунова как на мятежника, требуя казни его брата и единомышленника Захария" и проч. Стр. 209: "Робкие в бедствиях, надменные в успехах, низкие душою, трепетав за себя более, нежели за отечество, и мысля, что все труднейшее уже сделано и что остальное легко и не превышает силы их собственного ума и мужества, ближние царедворцы в тайных думах немедленно начали внушать Василию, сколь юный князь Михаил для него опасен" и проч.
Довольно сих выписок, чтоб доказать, как изображают историки ту эпоху, в которой я поместил действие моего романа. Что же я сделал? По внутреннему убеждению старался оправдать россиян тогдашнего времени и нарушение клятвы Борису Годунову и сыну его, Феодору, приписывал не легкомыслию и развращению нравов, но любви к царской крови и уверенности, что самозванец – истинный царевич, сын Иоаннов. В целом сочинении у меня нет ни одного русского изменника, и самый Басманов представлен человеком, любящим отечество, но увлеченным обстоятельствами. Россияне, утомленные в царствование Иоанна Грозного, упадшие духом при Годунове, радовались появлению царевича, которому приписывали высокий ум и добродетели, и, по моему мнению, не только разногласие в мнениях, но одно чувство, любовь к отечеству, заставляло россиян переходить от одного владыки к другому. Когда обнаружилось, что называвшийся царевичем Димитрием есть самозванец, вельможи и народ оставили его и праведная казнь его постигла. Во всем этом деле нет ничего дурного, а сущая правда. Неужели меня можно упрекнуть тем, что я вывел на сцену некоторых злых людей? Это было бы смешно и странно! Добрые люди не так видны в народных смутах, как злые: они-то действуют, когда горит пламя раздоров! Требовать от писателя, чтоб он выдумывал небывалые исторические характеры для удовлетворения прихотям необразованных читателей, есть дело умов мелких. Описывая эпоху, я оправдывал массу народа, но должен был выставить частные характеры в их настоящем виде. Из хитрого, пронырливого князя Василия Ивановича Шуйского, из свирепого Семена Годунова я не мог сделать добродетельных вельмож! Каждое политическое тело имеет свое время здравия и недугов. Политический недуг есть разврат нравов и охлаждение в любви к отечеству. До этого доводят государство предварительные обстоятельства. Россия была в недуге при Годунове, и события, приготовившие ее к сему состоянию, изложены мною в речах Басманова (см. часть IV сего сочинения). Великие сильные характеры покоились тогда в летаргическом сне и восстали в 1611 и 1612 годах. Напротив того, Польша была в то время в полном цвете политического здравия, и, невзирая на слабодушие Сигизмунда, величайшие мужи Польши жили в эпоху его царствования. Должен ли я был утаить это и исказить историческую истину, чтоб льстить самолюбию слабых умов? Не думаю. Я еще для того должен был вывесть на сцену знаменитых мужей Польши, чтоб показать, что они противились внушениям иезуитов и что не вся Польша участвовала в деле самозванца. Напротив того, я полагаю делом недостойным писателя тешить народ игрушками воображений, когда представляется случай говорить истину. Основываясь на этом, я не пощадил Сигизмунда, его любимцев и иезуитов и изобразил их в настоящем Цвете, равно как и буйную польскую шляхту. Но я не должен был искажать блистательных польских характеров из угождения самолюбию мелких умов. Да и нужны ли нам эти болотные огни, грубые насмешки над иностранцами, презренное самохвальство, чтоб выставить в блистательном виде Россию? Разве она не искупила временного падения духа веками славы? Разве она не превзошла, не затмила своих соседей? Неужели и после этого надобно еще обращаться с русскою публикою, как с избалованным ребенком, превозносить слабости и недостатки даже в прадедах и унижать чужеземные добродетели? Если б я так думал, то никогда не взялся бы писать для русской публики, а писал бы на иностранном языке, для чужеземцев, выбирая предметы из истории иноплеменников. Но я люблю Россию, уважаю публику нашу и почитаю долгом моим писать истину. Кто лжет и льстит, тот не уважает ни себя, ни того, пред кем лжет и кому льстит.
Меня обвиняют еще в искажении исторических характеров. Другая несправедливость. За это я могу постоять столь же твердо. Некоторые противники (вероятно, слабо изучившие историю) непременно хотят, чтоб Годунов был героем. Он изображен у меня точно таким, как представили его Карамзин и все беспристрастные современники: умным, хитрым, коварным, самолюбивым, суеверным, мстительным, а притом слабодушным и робким в бедствии. Не хочу распространять сего предисловия длинными выписками, но прошу заглянуть в "Историю Государства Российского" Карамзина в томе X на стр. 12, 34, 35, 46, 75, 78, 79, 80, 116, 126, 135, 142, 157, 159, 208, 214, 227. В томе XI на стр. 12, 96 и последующие, также на стр. 117, 156, 177, 178. Те, которые хотят считать Годунова героем, пусть вникнут в историю – и заблуждение их рассеется. У Карамзина в т. XI на стр. 156 даже находится особая статья под заглавием "Робость Годунова"! Вместо того чтоб выступить в поле и сразить врага, Годунов посылал тайных убийц в Путивль, а сам молился пред иконами. Вот герой! Некоторые говорят, что Годунов у меня слишком откровенен. В чем же он признается? С кем откровенен? Разве он признался в убийстве Димитрия? – Нет. Разве он говорит о своей мести, злобе? – Нет. Он хочет истребить ненавистных ему бояр и даже своему сыну внушает, что это нужно для блага государства. Он только открывается в горести своей, в подозрениях – и кому же? Жене и сыну! Разве снотолкователю он сознался в своих преступлениях, в своих намерениях? – Нет. Он только рассказывает сон и в минуту слабости открывает душевные страдания свои, не объясняя однако ж причин. Напротив того, летописцы приводят гораздо разительнейшие черты его откровенности. В примечании 221 к т. X "Истории Государства Российского" Карамзина находится выписка из "Морозовского Летописца":
"Призвав к себе волхвов и волшебниц, и вопроси их: возможно ли вам сие дело усмотрети… могу ли я свое желание получити?.. Буду ли я царем? Врагоугодницы же ему сказаша: Истинно тебе поведаем, что получиши желание свое: будеши на царствии Московском, только – на нас не прогневайся… Он же им рече: О любимые мои гадатели! Отнюдь не убойтеся меня; ничего иного не получите, кроме чести и даров: только скажите мне правду. Они же рекоша ему: Не долго твоего царствия будет: только седьм лет. Он же рече им с радостию великою и лобызав их: Хотя бы седьм дней, только бы имя царское положити и желание свое совершити". – Вот откровенность! И в какое время? Когда все усилия бояр устремлены были на то, чтоб обвинить Годунова в честолюбивых замыслах. Спрашиваю теперь у моих противников: если б это сказание летописца и было несправедливо, то неужели романисту не должно пользоваться преданиями? Но я в этом случае поступил весьма осторожно и только в семейном кругу позволил изливаться душе Борисовой.
Для доказательства, что характер Годунова у меня верно списан, приведу только три места из Карамзина. В X томе "Истории Государства Российского" на стр. 77 сказано: "Чтобы явно не нарушить данного обещания, Годунов, лицемерно совестный, искал предлога мести, оправдываясь в уме своем злобою врагов непримиримых, законом безопасности собственной и государственной, всеми услугами, оказанными им России и еще замышляемыми им в ревности к ее пользе, – искал, и не усомнился прибегнуть к средству низкому, к ветхому орудию Иоаннова тиранства: ложным доносам". Если Борис научал составлять ложные доносы, то ему надлежало кому-нибудь открываться в своем умысле. Я даже и это покрыл завесою и заставил клеврета его составлять доносы без ведома Бориса Годунова.
На стр. 79: "Спаситель Пскова и нашей чести народной (князь Иван Петрович Шуйский), муж бессмертный в истории, коего великий подвиг описан современниками на разных языках европейских, ко славе русского имени, лаврами увенчанную главу свою предал срамной петле в душной темнице или яме!" – Не геройский ли это подвиг!
В томе XI, на стр. 156 и 157: "Но, смятенный ужасом, Борис не дерзал идти на встречу к Димитриевой тени: подозревал бояр и вручил им судьбу свою… велел строго людям ратным, всем без исключения, спешить в Брянск, а сам как бы укрывался в столице!" – Величайший признак малодушия!
Пусть поверят читатели, таков ли характер Годунова в моем романе. Люди, которые хотят унизить труд мой, видно, плохо знают историю!
Противники мои не постигли или не хотели постигнуть характера самозванца. Они так разжалобились над участию его, что упрекают меня, зачем я заставил его совершить убийства, которых они не могут доискаться в истории! История наполнена известиями о убийствах, совершенных Лжедимитрием: следовательно, он был человек, который не боялся проливать кровь. Вот главное: я не отступил от истории и не сделал его кровожадным из агнца смиренного. Кого он убил в романе, до этого нет дела критику, ибо по истории известно, что самозванец убивал противников. Характер Лжедимитрия у меня есть постепенное развитие души честолюбивой, которая не терпит никаких преград на предначертанном поприще. Все честолюбцы таковы: любовь, дружба – все приносится ими в жертву главному замыслу. Для этого именно представлено у меня убийство Калерии. Противники мои упрекают меня еще, зачем я представил самозванца ветреным и легкомысленным, непостоянным в любви и дружбе при высоком уме и твердой душе. Таков он был, и если б не ветреность его и не легкомыслие, то он не погиб бы так скоро. Это именно характеристическая черта его. Всем знающим историю известно, что в Туле наступил перелом в его нраве и что, достигнув высоты, голова его закружилась.
На другие упреки не хочу даже отвечать. Некоторые хотят, чтоб мой самозванец был нежным пастушком, и говорят, что это не роман, потому что самозванец то влюбляется, то оставляет любовниц, не женится ни на Ксении, ни на Калерии, как надлежало предполагать, не любит Марины и проч. Кажется, в романе объяснено, что при пылкости самозванца главная страсть в нем была не любовь и что он только искал в ней временного наслаждения, следуя буйным порывам пылкой своей души. Каждый хотел бы, чтоб я написал роман сообразно с его вкусом, а не с моими понятиями о характерах, и чтоб я вел происшествия по известной форме, т. е. напутал известных романических приключений и кончил, как кончаются все романы – веселым пирком и свадебкою! И комедии "Горе от ума" не называют некоторые комедиею, потому что она написана не по правилам, изложенным в курсах литературы. Можно ли упрекать автора, что он погрешил в плане и ходе романа? Этого не скажет ни один критик, понимающий свое дело. План и ход сочинения зависит совершенно от воли автора, и он не обязан отдавать в этом отчета. Что бы вышло, если бы для плана, т. е. для создания воображения, были правила? Тогда бы каждую книгу можно было разгадывать с первой страницы. План может не нравиться критику: это другое дело;– но в этом случае автор не виноват. Не находя обыкновенных романических, устарелых завязок в моем романе и часто встречая известные события исторические, изложенные мною с украшениями, некоторые противники мои говорят, что это не роман, а что-то историческое! Внутренне смеюсь и радуюсь этому оптическому обману! Ибо я именно хотел произвесть это впечатление! – Вальтера Скотта упрекают, что он пишет историю в романах, а романы в истории (qui'il fait l'istoire dans les romans, et les romans dans l'istoire). Всем угодить нельзя, а тем труднее угодить новым родом. Я никому не подражал, а хотел написать такой роман, в котором бы главные характеры и происшествия были справедливы и все так связывалось и перепутывалось вымыслом, чтоб читатель воображал себе, что он читает настоящую историю того времени или, лучше сказать, видит события тогдашние. По критикам и по толкам вижу, что я успел в своем намерении.
Нет ни одного лучшего романа Вальтера Скотта, где бы не было таких мест, которых бы каждый читатель, по своему вкусу, не находил скучными или длинными. В некоторых его романах, как, например, в "Карле Смелом", вводные повести о духах и проч. занимают чрезвычайно много места и отвлекают от главного предмета. Но все это прощено Вальтеру Скотту, прощены детские ошибки другим русским писателям, а мне не хотят простить ни одного вводного повествования, хотя у меня все они связаны с главным происшествием. У меня почитают важным недостатком то, что восхваляется в Вальтере Скотте, и несколько лишних страничек о древностях заставляют вопиять о педантизме! – Но что говорить об этом! Если б я даже сочинил такое творение, которое красотами своими затмило бы все, что есть в мире изящного, – собратия мои, русские литераторы, еще сильнее вооружились бы противу меня! На них я никогда не угожу. Некоторые из знаменитых поэтов, вооружившиеся с необыкновенным жаром в обществах противу "Выжигина", при объяснении личном должны были сознаться, что они вовсе не читали книги и бранят – так, по внутреннему чувству! Вот как меня судят! По счастью, это не вредит мне нисколько; доказательством тому служит сие второе издание романа, напечатанного в первом двумя заводами. Вот одно из главных моих преступлений пред писателями и вместе – опровержение несправедливого упрека нашей публике, будто роман, вмещающий в себе историю, политику и философию, есть для нее слишком сильная умственная пища. Если б меня не читали, не покупали моей книги и если б я хвалил беспрестанно тех, которые требуют от меня этого, а главное, если б я не был журналистом и был удален от поприща критик, если б я искал похвал, то меня превозносили бы приверженцы разных партий. Но я хочу остаться в нынешнем моем положении. Пусть ревнивые литераторы бранят меня – а публика читает. Это гораздо приятнее!
Ф. Булгарин.
15 марта 1830.
С.-Петербург.
ЧАСТЬ I
Что зло сдеях, свидетельствуйте ми и не жалюся.
Софийский временникГЛАВА I ВСТУПЛЕНИЕ
Совещательная беседа у польского посла, канцлера Льва Сапеги. Таинственный человек.
(1600 год, 12 ноября)
Огни давно уже погасли в домах московских жителей, но на Литовском подворье, в Царь-городе (1), еще не думали об успокоении. В комнате посла, благородного канцлера литовского, Льва Сапеги, собрались на совещание все члены посольства. За большим столом, покрытым зеленым сукном, сидели паны польские и литовские, в молчании ожидая речи канцлера. В другой комнате, возле стола с бумагами, находились два писаря посольства. Один из них занят был чтением бумаг, другой беспрестанно поглядывал на дверь и, приметив, что она не вовсе затворена, встал с своего места, подошел потихоньку к печи и стал внимательно прислушиваться к тому, что говорят в посольской комнате.
– Прошу садиться, князь, – сказал канцлер вошедшему в комнату молодому вельможе. – Мы только вас и поджидали.
– Извините, я снова перечитывал заключение Варшавского сейма и, соображая его с притязаниями Московского царя, вижу, что мы едва ли не понапрасну сюда прибыли, – отвечал князь Ярослав Друцкой-Сокольницкий, сев на своем месте.
– Еще дело не начато, а вы уже сомневаетесь в успехе, – возразил канцлер с кроткою улыбкой. – Правда, что здесь нам не доброжелательствуют: я примечаю, что царь хочет уклониться от заключения вечного мира с Польшею. Но, может быть, здравая политика и благо человечества восторжествуют над кознями врагов нашего отечества, смущающих царя Бориса злыми своими наущениями. Попробуем…
– Не думаю, чтобы мы имели успех, – сказал Станислав Варшицкий, кастелян варшавский. – Давно уже Россия не имела столь мудрого и вместе с тем столь хитрого правителя, как Борис Годунов, который не по праву рождения, но одним умом и коварством достиг царского престола. Этот хитрец слишком хорошо знает несчастное положение наших дел и не легко согласится на заключение мира. Король наш Сигизмунд не хочет уступить прав своих на шведский престол дяде своему, герцогу Карлу Зюдерманландскому, который основывает свои притязания на выборе Шведского сейма. Борис Годунов, также избранный в цари народом, должен поддерживать равные права своего соседа, если хочет, чтоб его собственные права почитались священными и ненарушимыми, вопреки наследственному порядку, который Борис ниспровергнул, удалив от избрания в цари бояр, кровных с царским родом. В герцоге Зюдерманландском Борис имеет верного союзника, который обещает ему уступить часть Ингрии и Карелии, если ему самому удастся удержать за собою Ливонию. С другой стороны, Михаил, князь Волошский, отринутый искатель короны польской, смущает Бориса своими коварными предложениями союза, заманивает в войну против Польши и, в случае вспоможения, обещает уступить ему целую Русь Польскую. Крым страшится могущества России, и Казы-Гирей принял мир, как благодеяние. Неприязненная Польше Австрия поныне не отказалась от своих притязаний и намерения возвесть на престол Ягеллов герцога Максимилиана: она не упустит случая ополчить Россию противу Польши. С Даниею Борис намерен вступить в тесный союз родства. Ливонии несносно католическое владычество. Итак, все отношения внешней политики России клонятся к тому, чтоб утвердить Бориса в неприязненном расположении к Польше, которая теперь ослаблена внутренними раздорами, внешнею войною с Швециею, непокорностью казаков, татарскими набегами, происками соседей, – и, скажу откровенно, нерешительностью нашего короля и несогласием дворянства.
– Все это отчасти справедливо, – возразил канцлер, – но вы смотрите на предметы с одной точки зрения и видите одну темную сторону. Правда, Польша не имеет союзников, ослаблена войною и раздорами и требует успокоения; но верьте мне, что и Россия не так сильна, чтоб могла начать борьбу из отдаленных выгод. Дела ее на востоке не столь благоприятны, чтоб она могла свободно действовать на западе. С Персиею Россия в несогласии за грузинского царевича Александра; с турецким султаном ни в войне, ни в мире, однако ж и не в дружбе. На крымскую приязнь нельзя полагаться. Что же касается до Швеции, то хотя Борис сам советовал герцогу Зюдерманландскому объявить себя королем, но он сделал это для того только, чтоб воспрепятствовать соединению Швеции с Польшею и чтоб одним ударом ослабить двух враждебных соседей, а не из любви к Карлу или ненависти к Сигизмунду. Вы видите, как медленно идут переговоры Боярской Думы с шведскими послами. Мне известно, что полномочные герцога Зюдерманландского, Карл Гендрихсон и Георгий Клаусон, также жалуются на упорство Бориса, как и мы. – Канцлер захлопал в ладоши, и дверь отворилась в другой комнате. – Господин Иваницкий, войдите сюда! – сказал громко Лев Сапега.
Писарь, стоявший в безмолвии возле печи, вошел в кабинет посла, поклонился всему собранию и остановился у дверей.
– Объявите всем, что вы знаете о шведском посольстве, – сказал канцлер.
– Говорят, что царь Борис требует уступки Нарвы и что жители Эстонии сами предлагают отложиться от Швеции и присоединиться к России, – сказал писарь.
– Можете удалиться, – сказал канцлер писарю, который немедленно вышел за двери и притворил их тихо. – Видите ли, господин кастелян, – продолжал канцлер, – что и союз Карла с Борисом не так искренен, как вы полагаете. Чрез этого молодого человека, чрез Иваницкого, я узнал много таких вещей, о которых никогда бы не мог догадаться. Он хотя польский дворянин, но греко-российского исповедания, получил первоначальное воспитание у чернецов и посредством их имеет здесь много связей. В его верности и расторопности я имел много случаев удостовериться. Вы знаете, господа, дела внешние, но не знаете внутреннего состояния России. Я не хочу объясняться о предметах, чуждых нашему делу, но, во всяком случае, должен сказать, что положение наше не так отчаянно, как многие из нас думают.
– Напрасно стараются уверить вас, вельможный канцлер, в слабости царя Московского, – сказал Илья Пельгржимовский, писарь Великого княжества Литовского (2). – Едва прошло два года, как целая Европа с удивлением слышала о невиданном доселе ополчении в полмиллиона воинов, которое царь Борис выставил по одному слуху о вооружении Крымского хана! Только одно усердие к царю и внутренняя крепость России могла сделать такое чудо!
– Прошлые времена, почтенный товарищ! – возразил канцлер. – С тех пор и сам царь Борис переменился, и многое изменилось в его царстве. Но что бы ни было впереди, а нам должно скрывать свое нетерпение и досаду и твердо шествовать к своей цели. Во что бы то ни стало мир должен быть заключен, ибо от этого зависит благо нашего отечества, которое требует спокойствия.
– Дурной мир дают даром, а хороший надобно добыть саблею, – сказал, покраснев, князь Друцкой-Сокольницкий. – С тех пор, как мы стали учиться скрывать нашу досаду и как, по примеру итальянских князьков, начали со всеми переговариваться, взвешивать каждое дело на весах утонченной политики, с тех пор соседи наши возгордились и перестали нас бояться. Переговариваться должно при громе пушек, говаривал покойный король наш, Стефан Баторий. Я также думаю, что только тот трактат прочен, который припечатан рукоятью меча победителя на пороге побежденного. Вы говорите, что Польша слаба и истощена. Нет! Слаб король Польский, истощена казна республики, утомлено войско коронное в войне за наследие Сигизмунда; но Польша будет сильна, когда станет сражаться за собственную честь и пользу. По-моему, так дожидаться здесь нечего, и если Борис еще будет томить нас спорами о царских титулах, откладывать со дня на день прием наш и медлить ответом на предложения, то нам должно сесть на коней и возвратиться в Варшаву. Если республика или король откажутся от войны и стерпят обиду, нанесенную Борисом, я сам пойду войною на Москву, подобно польскому дворянину Ласскому, который от своего лица воевал с Римским императором. Разошлю универсалы (3), соберу посполитое рушенье (4), составлю конфедерацию (5) и ударю на Бориса, который своею казною поплатится мне за военные издержки… Вы сами, вельможный канцлер, говорите, что Россия не так сильна, как многие полагают!
– Довольно сильна, однако ж, чтоб расстроить нас на долгое время, – отвечал канцлер, – если мы, не помирившись с Швециею, не успокоив Австрии и не наказав дерзкого Волошского князька, бросимся в войну, не обдумав средств к поддержанию ее. Любезный князь, вы слишком горячо принимаетесь за дело, которое требует величайшего терпения, соображений и хладнокровия. Вы знаете меня, господа, – знаете, что я никогда не уклонялся от войны, что я сам советовал воевать, когда была в том надобность, что я своими собственными средствами держался в Ливонии и принудил царя Ивана Васильевича уступить мне сию страну, купленную им кровью и золотом. Но теперь другое время, и я прошу вас, господа, быть осторожными в речах с москвитянами и иностранцами, не грозить и не жаловаться. Кажется, что я достоин вашей доверенности; итак, предоставьте мне исполнить поручение республики так, как я его обдумал, и, следуя моим советам, дайте мне доказательства того уважения, которое я стараюсь заслуживать. Чрез два дни назначена первая аудиенция у царя Бориса, на которой, сохраняя достоинство нашего народа, мы не должны раздражать москвитян излишнею гордостью и выказыванием нашего превосходства. Вы понимаете меня, господа!
– Делайте, что вам угодно, – сказал Иоанн Сапега, воеводич витебский, – но я согласен с князем Друцким-Сокольницким, что должно требовать решительно ответа на вопрос: мир или война!
– Мир или война! – воскликнули в один голос Михаил Фронцкевич, Иван Пашка, Петр Дунин и Иван Бо-руцкий.
– Господа! – возразил Андрей Воропай, судья оршанский, – зачем проливать напрасно драгоценную кровь польскую, зачем лишать отечество защитников для приобретения мира, который мы можем добыть нашим терпением и мудростью нашего канцлера! Нам надобно прежде помышлять о том, чтоб усилить наше регулярное войско, укрепить границы замками…
Князь Друцкой-Сокольницкий прервал речь Воропая и сказал:
– Замки не удержат смелого и не спасут трусливого. Рубежи отечества тогда только могут быть безопасны, когда кичливый сосед будет доведен до того, чтоб не смел переступить за черту, проведенную саблею по песку: трактат – бумага!
– Господа! – сказал канцлер, встав со своего места, – прошу вас покорно помнить мои советы и приготовиться к торжественной аудиенции. Маршал Боржеминский представит вам утвержденный мною церемониал. Желаю вам спокойной ночи!
* * *
Литовское подворье состояло из одного большого деревянного дома в два жилья и нескольких изб, построенных рядом на дворе, возле хозяйских зданий. Сии строения обнесены были высоким забором. Сам посол занимал только две комнаты, и в прочих помещались особы, 1составлявшие его свиту. В доме так было тесно, что два писаря посольства должны были довольствоваться небольшою светелкою на чердаке. Когда все паны разошлись по своим комнатам, канцлер велел писарям удалиться, сказав, чтоб они к утру приготовили нужные бумаги.
Вошедши в светелку, Иваницкий поставил на стол свечу, запер двери и, присев на кровати, сказал:
– Знаешь ли что, Бучинский? Ни посол, ни паны ничего здесь не сделают. Россия не боится Польши и не даст мира за дешевую цену. Наши говоруны кричат, толкуют, горячатся, а никто, кроме канцлера, не понимает дела. Но здесь и для его высокого ума нет простора. Послушай, Бучинский, истинный ли ты друг мой?
– Разве от самой юности я не доказывал тебе этого, разве ты имеешь причины сомневаться? Ты мне спас жизнь в Лемберге, а у меня, брат, хорошая память на долги.
– Итак, знай, что я один в состоянии дать прочный мир Польше.
– Ты! Полно шутить, Иваницкий!
– Нет, я не шучу, любезный друг!
При сих словах Иваницкий встал с своего места, подошел к Бучинскому, который стоял возле стола, и, положив ему руку на плечо, сказал:
– Бучинский, ты знаешь, что я бедный сирота, без роду, без племени, без состояния, сперва воспитанный, ради Христа, русскими чернецами, а после, из милосердия же, призренный отцами иезуитами и обученный в их школах вместе с тобою. Вот все, что тебе известно! Ты думаешь, что проник в душу мою, постигнул нрав мой и можешь предузнавать все мои желания, намерения. Ошибаешься, жестоко ошибаешься, друг моей юности! Ты вовсе не знаешь меня. Скажу тебе только, что мне не суждено пресмыкаться в толпе. Поприще мое на земле еще не начертано судьбою: участь моя еще сокрыта от людей. Я, как некий дух без образа, ношусь над бездною, и еще суд Божий не произнес гласно, должно ли мне погибнуть или вознестись превыше земного. Еще не решено, что меня ожидает: проклятия или благословения, поношение или слава! – Иваницкий подошел к окну; лицо его пылало, на глазах навернулись слезы.
Бучинский с беспокойством подошел к своему товарищу и, взяв его за руку, сказал:
– Друг мой, что с тобою сделалось? Не болен ли ты? Иваницкий горько улыбнулся.
– Никогда не имел я такой нужды быть здоровым душою и телом, – отвечал он, – и никогда не был так здоров и бодр, как ныне.
– Итак, объяснись! Что значат мрачные твои мечты, исполинские надежды, загадочные предприятия…
– Друг мой! Судьба вверила мне тайну, от которой зависит участь многих миллионов людей, прикованных к участи одного человека. Теперь я не имею права открыть эту тайну; она принадлежит не мне одному. Между тем, пришло время действовать. Прошу тебя, не изъявляй ни любопытства, ни удивления при всем, что ты увидишь, и оставь меня действовать свободно, не обременяя вопросами, не терзая подозрениями, не вредя изъявлением пред другими сомнения на мой счет. Я буду часто отлучаться, буду иногда казаться тебе странным, непонятным, подозрительным. Но клянусь тебе Богом и честью, что все мои поступки будут клониться ко благу Польши. При этом я должен тебе сказать, что и твое счастье сопряжено с успехом моего предприятия. Помни, Бучинский, что если Богу угодно будет благословить мое намерение, что если я буду велик, то и ты будешь счастлив моим величием. Я хранитель тайны, которая воскресит мертвых из гробов, подвигнет брата на брата, отца на сына, сына на отца; тайны, от которой тысячи погибнут и тысячи восторжествуют, которая прольет реки крови и рассыплет горы золота, одним словом, в душе моей погребена тайна, от которой изменятся на земле вера, законы, обычаи, поколеблются престолы!
– Иваницкий! Ты приводишь меня в ужас, – сказал Бучинский, пристально смотря в лицо своему другу. – Я опасаюсь, чтоб ты не связался с какими-нибудь обманщиками, чернокнижниками, которые, пользуясь пылкостью твоего воображения, будут стараться вовлечь тебя в какие-нибудь ужасные замыслы. Друг мой! Ты можешь заплатить жизнью и честью за свое легковерие.
– Что значит жизнь! – воскликнул Иваницкий. – Стоит ли хлопотать о жизни, когда судьба позволяет мне выбрать из своей урны все или ничего? Честь! какие нелепые понятия имеем мы о чести! Завтра будет названо честным, похвальным, славным то самое, что сегодня называется бесчестным, укорительным, постыдным. Друг мой! я с первого слова не скрывал перед тобою опасности моего положения, но эта опасность не коснется тебя, если ты сам того не пожелаешь. Что же до меня касается, я презираю жизнь, смерть и опасности и страшусь только неудачи. Что ты смотришь на меня так пристально? Успокойся. Друг твой не изменит ни чести, ни долгу; напротив того, он исполнит долг свой для чести. Будь терпелив, ты все узнаешь и не только не лишишь меня своего уважения, но будешь чтить более, нежели теперь. Повторяю: не могу тебе открыть тайны и снова прошу, чтоб ты этого от меня не требовал. Я тебе сказал уже, что я поверенный этой тайны – только поверенный, и что участь миллионов людей зависит от моей скромности.
– Бог с тобою, делай что хочешь! – сказал Бучинский. – Я опасаюсь одного, чтоб ты неумышленно не ввел в хлопоты нашего посольства и тем самым не повредил делам республики.
– На этот счет будь спокоен, – возразил Иваницкий. – Все обдумано, все устроено благоразумно. Теперь ты должен мне оказать первую услугу. Мне надобно сей час выйти со двора: проводи меня до калитки и запри ее за мною.
– Но ключ у маршала Боржеминского!
– У меня есть другой, – отвечал Иваницкий. – Пора, скоро ударит полночь, надобно одеваться.
Иваницкий выдвинул из-под кровати чемодан и вынул из него монашескую рясу и клобук. – Вот эта одежда спасет меня от всех опасностей, – сказал он. – Эта одежда отворит мне в Москве все входы и выходы и защитит лучше всякого панцыря.
Пока Иваницкий надевал рясу поверх своего платья, друг его, присев в углу, смотрел на него мрачно и с чувством сострадания. Иваницкий заткнул за пояс кинжал, положил в карманы крутицы, или малые пистолеты, потом, накинув на себя плащ, и надев шапку, вынул из-под изголовья своей постели моток бечевки, прикрепил к окну один конец, к которому привязана была гремушка, а другой конец с пулей выбросил за окно.
– Теперь проводи меня, друг! – сказал Иваницкий. – Этот конец бечевки я переброшу чрез забор, чтоб не стучась в ворота разбудить тебя, когда я возвращусь домой. До света я буду здесь. Мой ключ останется у тебя. Ну, пойдем же! Проводи меня.
Бучинский в безмолвии проводил Иваницкого до ворот и, взяв от него плащ и шапку, пожал руку и сказал ему грустно:
– Дай Бог счастливо! – Он притворил потихоньку калитку и поспешно возвратился в свою светелку.
ГЛАВА II
Первая искра междоусобия. Мститель, восставший из гроба.
Осторожно пробирался Иваницкий в темноте по мосткам. Скрип досок под его ногами и лай собак на соседних дворах прерывали тишину мрачной ночи. На конце улицы строился новый дом: здесь лежали кучи бревен и досок. Иваницкий, приблизившись к сему месту, свистнул три раза, и ему отвечали тем же. Вскоре показался из-за сруба человек, также в монашеском платье. Он быстрыми шагами приблизился к Иваницкому.
– Ты ли это, отец Леонид? – спросил Иваницкий.
– Долго заставил ты себя ждать, приятель, – отвечал монах, – воздух сыр, ветер пронзителен; я продрог от холоду. Наши также, верно, беспокоятся, поджидая до полуночи.
– Не моя вина, – сказал Иваницкий. – В посольстве было совещание, и я не мог отлучиться. Но еще до свету много времени, а мы с тобою, отец Леонид, в час сделаем более, нежели другие в сутки.
– Да, мы с тобою! Но не все наши приятели на нас похожи, – отвечал монах. – В эти седые головы не вобьешь толку и молотком. Но поспешим к Булгакову. Берегись: надобно перелезть чрез эти кучи лесу. Рогатки (6) мы не сдвинем с тобою вдвоем.
– Виданное ли дело, чтоб улицы загораживать на ночь рогатками! – воскликнул Иваницкий. – У людей это бывает тогда только, когда город в осаде неприятельской, а здесь, среди мира и тишины, между своими братьями!.. Но Борис Федорович осажден своею совестью на царском престоле и рад бы загородиться от ветра, чтоб он ему не дул в уши вестями из Углича.
– Потише, брат! – сказал Леонид. – Помни, что здесь ты не в Польше. У нас в самом деле кажется, что ветры имеют уши для подслушивания и язык для доносов.
– Скоро заткнем мы эти любопытные уши и укоротим болтливые языки! – сказал Иваницкий.
Леонид взял Иваницкого за руку и повел чрез бревна. Они скоро скрылись в темноте.
На углу Никитской улицы находился дом боярина Меньшого-Булгакова. В передней избе дубовый стол покрыт был узорчатою скатертью. На столе стояли две большие серебряные стопы с романеею, фляга с сладкою водкой, несколько серебряных ковшиков и чарок, солонка, и лежал белый, как снег, папошник. Перед образом теплились три лампады и освещали избу бледным светом. На скамьях и на лежанке сидели верные друзья и родственники боярина Меньшого-Булгакова: князь Иван Андреевич Татев, князь Григорий Петрович Шаховской, дворяне Алексей Романович Плещеев, Петр Хрущов, боярский сын Иван Борошин, дьяк Григорий Акинфиев и чернецы Пимен и Варлаам. Серебряные стопы оставались неприкосновенными и собеседники были погружены в задумчивость. Хозяин похаживал по комнате, с беспокойством прислушивался к дверям и окнам и наконец сказал:
– Не случилось ли какого несчастья с отцом Леонидом? В нынешнее время – добра не ждать! Он обещал открыть нам важную тайну, а мы, как дети, послушались и собрались, не подумав ни о головах, ни о животах наших. Извините, преподобные отцы Пимен и Варлаам, но в делах мирских нельзя твердо полагаться на вашу братью: вы телом и душою служите царю Борису Федоровичу.
– Как подабает каждому православному, каждому русскому, – сказал Пимен.
– Чему учим, тому и последуем, – примолвил Вар-лаам. – Но к чему твои сомнения, честный боярин? Отец Леонид человек верный, крепкий в слове и твердый в делах. Опасаться тебе нечего; я уверен, что Леонид собрал нас не на измену царю, не на грех перед Богом.
– Ныне казнят не за измену, а по одному подозрению в измене, – сказал князь Татев. – Если царь Борис Федорович узнает, что мы собрались выслушать дело, которого он не знает, то и довольно, чтоб попасть в опалу, а может быть, как говорит Булгаков, и заплатить головою за неуместное любопытство.
– Голове и без того не вековать на плечах! – сказал князь Шаховской, – а чему быть, того не миновать. Волка бояться, в лес не ходить.
– Тебе хорошо так говорить, князь Григорий! – сказал боярин Меньшой-Булгаков, – ты один, как перст, без отца, без матери, без семьи. Жизнь твоя собственный твой пенязь. Но на наших душах лежит ответ перед Богом и людьми за безвинных малюток, за жен, которые пойдут с сумою по миру!
– Не понимаю, отчего на вас напал такой незапный страх! – воскликнул дворянин Петр Хрущов. – Мы собрались к тебе, дядя, попировать – и дело с концом. До сих пор Борис Федорович не запретил нам есть и пить у родных и приятелей. Здоровье государя, Царя Бориса Федоровича!
Хрущов взял тяжелую стопу, выпил вина и подал ее хозяину, примолвив:
– Прочти, дядя, надпись на своей посудине: пей, не робей!
Булгаков перекрестился, выпил вина и, поставив стопу на стол, сказал:
– Не робел я в битвах с крымцами и литовцами, не оробею и теперь: но страшнее смерти опала царская, которая отнимает кусок хлеба у семьи и лишает чести пред соотчичами!
– Темная ночь принесла тебе черные мысли, Никита Петрович, – сказал Пимен. – Вот и я пью здоровье царя Бориса Федоровича. Да подаст ему Господь долгоденствие!
– Подай сюда стопу, отче Пимен, – сказал Варлаам, – и я провозглашу царское здравие.
Серебряные стопы с романеею обошли кругом при восклицаниях многолетия царю Борису и возвратились на стол пустыми.
В это время послышался стук у ворот. Собеседники вскочили с мест своих, хозяин побежал за двери. Чрез несколько минут он возвратился с двумя монахами. Один из них был отец Леонид, а другой Иваницкий в монашеской одежде.
– Простите мне, отцы и братья, что я неумышленно заставил долго ждать себя, – сказал Леонид, переступив чрез порог, перекрестясь сперва перед иконами и поклонившись на все стороны, – я должен был отыскать моего товарища, которого вы видите перед собою. Это инок Острожского монастыря на Украине, в вотчине Польского короля Сигизмунда, который позволяет православию процветать в своей державе. Если вы верите мне, отцы и братья, верьте брату Григорию, как самому мне: он русский верою и душою и любит мать нашу, Россию, более жизни, чтит ее первою после Бога и святых его угодников. Он вам поведает дело великое…
Иваницкий низко поклонился на все стороны и молчал.
– Отче Леонид! – воскликнул Варлаам, – ты пришел к нам с верою, любовью и надеждою, а некоторые из нас почитают тебя Иудою; думают, что ты или предашь нас подозрительности царской, или предложишь дело, противное верности нашей к царю…
– Этого никто не говорил! – возразил Булгаков.
– Малыми словами часто обнаруживаются великие замыслы, – промолвил Пимен. – Здесь не говорено этого слова в слово, что сказал Варлаам, но сомнение и недоверчивость уже давно подернули сердца, как туман покрывает воду перед восхождением солнца.
– Говорено было не об отце Леониде, – сказал Булгаков, – но вообще обо всех нас. И кому ныне можно вполне доверять!
– Тому, кто чтит Бога и любит отечество более жизни и всех благ мирских. Тому, кто верен долгу и присяге, – сказал Леонид. – Я пришел не смущать вас в верности к царскому роду, но утвердить в ней. Да погибнет всякий предатель царской крови, всякий злоумышленник противу власти, Богом установленной! Так, прежде нежели я открою вам тайну, которая возрадует сердце ваше, как возрадовало народ Божий избавление из неволи египетской и пленения вавилонского, вы должны мне дать клятву и утвердить ее крестным целованием, что каждый из вас не пожалеет ни крови, ни живота, ни роду, ни племени для утверждения на престоле Рюриковом роду царского и что в случае, если 6 у которого из вас недостало охоты или смелости на доброе дело, тот будет молчать о том, что услышит, и не откроет дела ни в пытке, ни от прельщения. Вы сомневались во мне, но я доверяю вам и требую от вас крестного целованья, единственно для спасения душ ваших, чтоб вы, по нескромности или по дьявольскому наваждению, не изменили делу святому и не подвергли себя мщению небесному.
– Но если это дело царское, то зачем он не избрал своих любимцев для хранения тайны, столь к нему близкой? – сказал князь Татев. – Тебе известно, отче Леонид, что мы все, собравшиеся здесь мирские люди, если не в явной опале, то, по крайней мере, не любимы Борисом Федоровичем и лишены наших мест и в войске, и в Думе. Если ты поверенный царский, то лучше бы сделал, когда б отыскал других людей на Москве, более любезных Борису Федоровичу. Я хотя не имею никакого злого умысла противу моего государя, но не хочу служить ему иначе, как по явному его повелению. Не желаю знать твоей тайны.
– Вот что дельно, то дельно, – примолвил князь Шаховской. – Если царю Борису Федоровичу угрожает какая беда тайная или если ему привиделось какое злосчастие, у него много ратных и думных людей и без нас.
– Зачем нам целовать крест в другой раз на верность? – примолвил Булгаков. – Мы уже раз присягали ему и служим и терпим, как умеем и как сможем.
– Высокие бояре! давно ли вы пили за здравие царя Бориса Федоровича? – сказал с улыбкою Пимен.
– И опять выпьем, если угодно; но на тайные службы для него не готовы, если не получим от него приказу, – возразил Хрущов.
– Я до сих пор молчал и слушал, – сказал дворянин Иван Борошин, – но теперь позвольте и мне объясниться. Отче Леонид! я знаю тебя давно, многократно слыхал от тебя речи, вовсе противные тому, что нам говоришь теперь. Буду откровенен: не однажды ты приводил меня в страх в наших тайных беседах твоими смелыми суждениями о средствах, употребленных царем Борисом Федоровичем к достижению престола, и о делах его царствования. Ныне ты являешься к нам для объявления важной тайны, с которою, по твоим словам, сопряжено благо России и наше собственное, и начинаешь увещанием быть верными и преданными царю Борису Федоровичу. Воля твоя, отче Леонид, но ты и мне даже кажешься подозрительным, особенно введением чужеземца и незнакомца в нашу беседу.
– Закон и совесть повелевают знать прежде о том, в чем должно целовать крест: человек отвечает пред Богом и людьми только за добрую свою волю, за дело обдуманное, – примолвил дьяк Акинфиев.
– Все ли вы высказали? – сказал Леонид, тихо улыбнувшись. – Если все, то позвольте и мне говорить в свою очередь. Я вам говорил о верности и преданности к царской крови: это долг каждого русского, каждого честного человека, желающего спасения душе своей; но уста мои не произнесли имени Бориса Федоровича. Не правда ли?
– Изъяснись, ради Бога, изъяснись! – воскликнул Булгаков.
– Целуйте крест на верность и молчание, тогда все узнаете, – сказал Леонид хладнокровно, вынул из-за пазухи распятие и поднял его вверх. Несколько минут продолжалось молчание.
– Поклянись прежде ты с своим приятелем, пришельцем, что ты не изменяешь нам, не кривишь душою и действуешь по правде и по совести, – сказал Булгаков.
– Клянусь именем Бога, в Троице Святой единого, что скорее пожелаю погибели душе моей, нежели помышлю изменить вам и вовлечь вас в измену, – сказал Леонид, – да поможет мне во всем Господь Бог, так как я искренен с вами.
Иваницкий повторил клятву и поцеловал крест после Леонида.
– Быть так! – воскликнул князь Шаховской. – Клянусь сохранить в тайне все, что здесь услышу и увижу, и если изменю клятве, да предаст меня Господь Бог на мучения временные и вечные! – Шаховской перекрестился и поцеловал крест.
– Куда ты, князь Григорий Петрович, туда и я: хоть в огонь, хоть в воду, – сказал Хрущов, произнес клятву и поцеловал крест.
– Не нам сомневаться в верности нашего брата, – сказал Пимен и также поцеловал крест с Варлаамом.
– Ты был мне друг, отче Леонид, – примолвил Борошин, – и клятва твоя рассеяла во мне все подозрения. Я твой.
Все целовали крест и все произнесли обет, кроме хозяина, князя Татева и дьяка Акинфиева. Булгаков сидел на скамье и смотрел пристально на князя Татева, который стоял в отдалении от толпы и, сложа руки на груди, спустя голову, погружен был в думу. Все собеседники снова замолчали и посматривали на двух бояр и умного дьяка, которые, казалось, хотели от них отложиться. Наконец князь Татев, как будто воспрянув от сна, приосанился, перекрестился, подошел в молчании к Леониду и, произнеся клятву, поцеловал крест.
– Любезный сват, Никита Петрович! – сказал князь Татев Булгакову, – вспомни, что ты нас созвал к себе в дом, в круг верных друзей: тебе ли оставаться за нами, когда мы все целовали крест на верность и молчание?
– Благослови Господи! – воскликнул Булгаков, встав с своего места, – но мне все кажется, что мы затеяли что-то недоброе и что я виноват, послушавшись тебя, отче Пимен. Но ворочаться поздно. Да исполнится святая воля твоя, Господи! – Булгаков перекрестился, произнес клятву и поцеловал крест. Дьяк Акинфиев сделал то же.
– Теперь дело решено! – сказал Леонид. – Молю Бога, да ниспошлет святому делу счастливый конец, подобный началу. Садитесь, отцы и братья; вы тотчас услышите тайну, которая хранилась на небе для блага земли русския, как питательная манна, оживившая народ Божий в пустыне. Но прежде прошу тебя, Иван Степанович, обойди вокруг окон и посмотри, нет ли где за углом подслушника царского. В нынешний век правда есть преступление, а жизнь наша нужна для славы и счастия отечества.
Дворянин Борошин вышел за двери по приглашению Леонида, а собеседники заняли места на скамьях. Леонид велел Иваницкому сесть в углу, и, когда Борошин возвратился в избу и также присел, Леонид выступил на середину и, обращаясь ко всему собранию, сказал:
– Отцы и братья! Клятва налагает вечное молчание на ваши уста и разверзает мои на правду. Буду говорить пред вами столь же нелицемерно и смело, как думаю в уединении, в стенах моей кельи. Знаю всех вас до единого, знаю сокровенные ваши помышления и потому должен быть откровенен: выслушайте терпеливо и после делайте, что вам угодно.
Верность к царям есть потребность души русской и обязанность высшая, нежели чад к родителю. Сказано бо есть в послании святого апостола Павла к римлянам: "Всяка душа властем предержащим да повинуется. Несть бо власть аще не от Бога" (7). Доколе россияне свято исполняли сию обязанность, благословение Божие покоило землю русскую по водворении в ней света истинной веры. Когда же Богу угодно было испытать Россию бедствиями, первою и видимою к тому причиною было междоусобие удельных князей, повлекшее предков наших к буйству, изменам, непослушанию. Иго татарское, язвы, голод и падение знаменитых городов были следствием наших преступлений. Восстало единодержавие в земле русской, и Россия снова оживилась и укрепилась.
Для испытания нашей верности и твердости Господь ниспослал нам двух грозных владык в лице двух Иоаннов, деда и внука: мы вытерпели грозу, и отечество наше расцвело и возвеличилось, как тучная нива после засухи, упитанная проливным дождем, ниспавшим во время бури. Могущественная Россия утешалась потомством Иоанновым, отраслями великого древа, осеняющего все престолы земные, которого корень начинается от римского кесаря Августа. С родом Рюриковым соединены были все славные предания наши, и в венце Мономаховом блистали, краше перлов и яхонтов, великие дела российских венценосцев. Сему славном) Рюрикову племени обязаны мы и святою нашею верою, и бытием России. Но Господь Бог, любя Россию, испытует ее как древле свой народ Израильский, чтоб сделать нас достойными приуготовляемой для нас славы и могущества. К самому корню древа кесарева прилег ядовитый змей, на пагубу юных отраслей. Царевич Димитрии Иоаннович в младенчестве являл величие Иоанново и кротость Феодорову: на него устремлен был первый удар злоумышления. России и целому миру известен гнусный умысел па погубление царственного отрока. Знает Россия, что у паря Феодора Иоанновича родился сын, который был подменен младенцем женского пола (8), и когда любовь россиян излилась на сию мнимую отрасль Рюрикова рода, она сокрылась в могиле, пожравшей прежде того истинного наследника Феодорова. О, россияне, отцы мои и братья! Горестно мне воспоминать пред вами сии бедствия нашего отечества, еще горестнее сознаваться, что в России нашлись изменники и душегубцы, посягнувшие на священную кровь, драгоценнейшую крови Авелевой! Утешаюсь одним: что первая причина сих злодейств – не русский родом, но свирепый татарин, питавшийся плотью христианскою с извергом Малютою Скуратовым, злым духом Иоанновым; что этот душегубец, этот Аман русского царства – Борис Федорович Годунов! (9)
Слушатели пришли в движение: некоторые вскочили с мест своих и схватились за шапки, другие стали креститься.
– Противу условия и вопреки присяге, отче Леонид! – воскликнул Булгаков. – С нами сила крестная! Ты ввергаешь нас в бесполезную погибель!
– Повторяю: выслушайте терпеливо и делайте что хотите, – возразил Леонид. – Господь Бог хранит Россию: он прикрыл небесным щитом своим благороднейший плод Рюрикова колена и пересадил его в землю соплеменную, чтоб Россия, образумившись, вкусила сладость наследственного самодержавия. Промысел Вышнего сохранил для нас радость, счастье и надежду: царевич Димитрий Иванович – жив!
Все слушатели пришли в ужас: страх и недоумение изобразились на лицах.
– Да воскреснет Бог и расточатся враги его! – воскликнул князь Татев, распростершись пред иконами. Помолившись, он встал с земли, подошел к Леониду и, положив ему руку на плечо, сказал:– Если лукавый говорит твоими устами для соблазна нас, грешных, будь ты, анафема, проклят! Если же язык твой произнес истину, тогда, как говорит Писание: "И будет тебе радость и веселие, и мнози в рождестве его возрадуются" (10).
Прочие собеседники пребывали в безмолвии и оцепенении, как громом пораженные. Леонид, возвысив голос, продолжал:
– Если я вам сказал неправду, да прилпнет язык к гортани моей, да погибнет тело мое на земле в горести и душа в вечных мучениях. Повторяю вам слова пророка Варуха: "Аще не послушаете в тайне, восплачется душа ваша от лица гордыни и плача восплачет. и изведут очи ваши слезы, яко сотрено есть стадо Господне (11).
Когда я удостоверюсь в истине, – сказал князь Татев, – тогда первый лягу костьми за моего законного государя.
– Ему принадлежат наши головы и животы! – сказал князь Шаховской.
– Смерть и гибель всякому противнику рода Рюрикова! – воскликнул Хрущов.
– Пусть он явится пред нами, и мы станем за него грудью! – сказал Борошин.
– Отче Леонид! – сказал Булгаков, – речь твоя, как червь, впилась в мое сердце. Верить – нажить беду, не верить – можно согрешить перед Богом и погубить душу свою!
– Почему же нам не верить крестному целованию брата Леонида? – возразил Пимен. – Уста его никогда не осквернялись ложью, и он давно уже отрекся от мирской славы и суеты для спасения души своей и моления за прегрешения мира сего. Что говорит, то говорит для добра нашего, чтобы, как сказано в Писании: "Освободишеся же от греха, поработитеся правде" (12).
– Каким же чудом спасся царевич от смерти, которую давно уже оплакала целая Россия? – спросил князь Татев. – Объясни нам все, чтоб правда утвердилась в сердцах наших, как вера в нетление праведных.
– Это расскажет вам товарищ мой, брат Григорий, – сказал Леонид. – Он слышал повесть злоключений от самого царевича (13) и пришел от него возвестить верным сынам России о чудесах Господних.
При сих словах Иваницкий, который во все это время сидел безмолвно, сложил руки на груди, встал с своего места, поклонился на все стороны и сказал:
– Так! Я посланник законного царя к его верным людям, к сынам избранным! Ежели грех и соблазн одолели землю русскую, я готов претерпеть смерть за истину, но да возвещу ее во услышание праведным! Внимайте.
Когда Борис Федорович Годунов, владея добрым, но слабым сердцем царя Феодора Иоанновича, умыслил известь его племя, то для совершения своего злодеяния, как вам известно, выслал вдовствующую царицу Марфу Федоровну с царевичем Димитрием и ближними их в город Углич. При царевиче находился тогда иноземный лекарь Симон. Борис чрез своих клевретов предлагал Симону золото и почести, чтоб он опоил юного царевича зелием. Господь Бог наделил сего иноземца мудростью и добродетелию. Он притворно согласился известь Царевича, чтоб тем предохранить его от всякой другой измены, и убедил кормилицу Димитрия Иоанновича, Ирину Жданову, также изъявить мнимое согласие на погубление царственного отрока для обоюдной предосторожности. Опасаясь жалоб царицы, нескромности и пылкости братьев ее, Нагих, Симон и Жданова сокрыли от них пагубный замысел на жизнь царевича. Между тем Борис Федорович Годунов, как лютый тигр алкая невинной крови и болея жизнию царевича, выслал в Углич злодеев, Битяговского и Качалова, чтоб они немедленно извели Димитрия – силою или хитростью. Изменники отправили вперед своих верных людей в Углич, чтоб высмотреть и выведать все касающееся до невинной жертвы и тем облегчить средства к ее погибели. Один из холопей Битяговского тронулся юностью и добросердечием царевича и, вняв голосу совести, открыл Симону близкое исполнение ужасного замысла. Мудрый Симон, зная ум и твердость своего питомца, приуготовил его к страшному событию. Он сказал ему, что злые люди составили замысел на жизнь его, что для избежания смерти и для отвращения от целой России греха цареубийства, нужны смелость, скромность и постоянство – и царственный отрок доказал, что он рожден для управления великою державою. Он удивил даже своего наставника решительностью и проницательностью зрелого мужа в летах отрочества и отвечал, что, поручая судьбу свою Богу, не устрашится убийц и смерти. Настала страшная минута исполнения богопротивного замысла. Прибыли в Углич Битяговский и Качалов с своими клевретами и по совету холопа, обратившегося на путь истинный, внушенного верным Симоном, положили умертвить царевича ночью. Во двор к царевичу приходил для детских игр иерейский сын Сенька, бедный сирота, призренный приходским священником. Сей отрок, одних лет и одного роста с царевичем, избран был Симоном для спасения кровью своею священной крови Рюриковой. Царевич, по наущению Симона продолжая игры до позднего вечера, велел сироте остаться у себя ночевать, поменялся с ним рубахою и положил его в одну постель с собою, не зная вовсе, для какой причины. Утружденный детскими забавами сирота вскоре погрузился в глубокий сон, но царевич, устрашенный рассказами доктора, не смыкал глаз. В полночь он услышал тихие шаги убийц, встал с постели и спрятался за печью. Два злодея с ножами вошли в почивальню, погасили лампаду, теплившуюся перед образом, будто устрашаясь лика Божиих угодников и, как плотоядные враны, устремились на добычу. Изверги перерезали горло несчастному сироте, поранили лицо и оставили нож в руках его, чтоб заставить думать, будто царевич сам умертвил себя в припадке сумасшествия. Димитрий Иванович в своем убежище слышал хрипение бедной жертвы, голоса убийц, едва не лишился чувств от ужаса и соболезнования, однако ж пребыл тверд слову, которое дал Симону, – молчал и оставался недвижим. Наутро вошли в почивальню царевича служители, чтоб разбудить его к обедне, и увидели кровь, стекшую с постели на пол. С воплями горести бросились они к постели и нашли убиенного отрока с обезображенным лицом в узорчатой рубашке царевича. Они приняли его за Димитрия. Вскоре вопли и плач раздались в палатах и достигли до смиренных жилищ углицких граждан. Несчастная мать лишилась чувств при первом воззрении на окровавленное тело, не узнав обмана, и убийца Битяговский, под предлогом жалости удалив всех ближних от зарезанного отрока, велел положить его немедленно в приготовленный накануне гроб и перенесть в церковь. Но глас Божий возгремел гласом народным – и верные граждане углицкие отмстили за кровь невинную избиением злодеев. Ужас и смятение возникли в городе и в палатах царицы. Верный Симон воспользовался замешательством, вывел на другую ночь царевича из сокровенного его убежища и, переодевшись странствующим купцом, вышел тайно из Углича и скрылся в лесу (14).
Благородный Симон знал все тайны несчастного Царевича. Он ведал, где хранится небольшой ящик с золотыми деньгами, которые покойный Иоанн подарил, по обычаю, на зубок новорожденному. Симон, пользуясь всеобщим смятением при вторжении народа в палаты царицыны, взял сей ящик, единственное наследие гонимого царевича. Он купил в ближнем селе лошадь с телегою и, не будучи никем узнан, ниже преследуем, достиг благополучно Киева. Удрученный трудами, летами и болезнью, Симон остановился в сем городе.
Известны всем последствия углицкого дела. Борис представил царю Феодору Иоанновичу, что царевич сам поднял на себя руки. Безмолвная Россия поверила тому, в чем желали ее уверить, ибо Борис Годунов один говорил с народом посредством грамот от имени царя, синклита и духовенства и никто не смел возвысить голоса вопреки его хитросплетениям. Внушению царицы и братьев ее, Нагих, приписали убийство злодеев, посягнувших на жизнь царевича, и представили их мучениками за правду. Верных граждан углицких сослали в ссылку или казнили смертью; ближних царевича и кормилицу Жданову тайно погубили, заставив прежде утвердить все, чего сами желали. Князь Василий Иванович Шуйский, гонимый Годуновым, нарочно был выслан на следствие в Углич. Борис, будучи уверен, что ему нельзя повредить у царя, и желая избавиться от опасного врага и соперника, испытывал князя Шуйского. Но хитрый князь Василий Иванович постигнул это и, зная, что было бы бесполезно доискиваться истины, представил дело в том виде, как угодно было сильному врагу, и сим мнимым раболепством купил себе милость душегубца. Борис думал, что все кончил благополучно, прикрыв свое злодеяние всеобщим молчанием. Язык можно оковать страхом, но мысль не боится насилия и, как нетленное зерно, рано или поздно приносит плод. Россия вскоре узнала о злодейском умысле царского любимца, вскоре увидела, к чему клонилось сие злодеяние, когда дерзкий потомок татарского мурзы воссел на русском престоле, в обиду родам княжеским, единокровным с племенем Рюриковым и ближним кровным покойного царя. Чувствует и сам Борис Федорович беззаконие своего владычества и мучит себя подозрениями, а добрых россиян ссылками, опалою и казнями, вопреки своей торжественной присяге при венчании на царство! Но Господь Бог, блюститель счастия России, сохранил мстителя во гробе, на котором Борис утвердил свой престол! Доктор Симон, чувствуя приближение своей кончины, вверил судьбу царевича одному странствующему иноку Острожской обители, пришедшему в Киев поклониться мощам святых угодников. Отшельник отец Иона был мудр и добродетелен. Он остался при Симоне до его кончины и, похоронив его честно, увел с собою юного царевича и представил настоятелю монастыря как безродного польского дворянина нашего закона. Иноки укрепили юношу в правилах православной веры и добродетели, поселили в нем охоту к книжному учению, и отец Иона, как первый попечитель сироты, отдал его в школу, где польское благородное юношество обучается всем наукам, насажденным на земле самим Богом для славы и величия человека. Я учился в сей школе вместе с ним, снискал его дружбу, и он в излиянии сердца открыл мне тайну своего происхождения. По совету отца Ионы, уже нисшедшего в могилу, я пришел в Россию, чтоб узнать, сохранилась ли в русских сердцах любовь к царскому роду, с которым сопряжены все знаменитые воспоминания России; чтоб разведать, найдет ли он верных слуг, если потребует у похитителя своего наследия и законного права – благодетельствовать отечеству. Вот вам, верные россияне, любезные мои единоверцы, знак, вверенный мне царевичем для убеждения вас в истине слов моих и законности моего поручения. Этот алмазный крест надет был на царевича при крещении князем Иваном Мстиславским. Между вами, вероятно, есть такие, которые помнят это событие. Крест сей делан в Москве немецким мастером Иоганом Стриком, жившим на Сретенке. На сем драгоценном кресте начертаны имена царевича, его крестного отца, год и число рождения, а на оболочке, в которую вделаны дорогие камни, вырезано имя художника. Смотрите, и если не верите, вопросите живых свидетелей. Крест сей есть грамота неба: подпись царевича ни к чему не служила бы, ибо вы ее не знаете.
Иваницкий при сих словах подал князю Татеву крест и отступил от собравшихся в толпу собеседников, наблюдая пристально все их движения.
Князь Татев долго и внимательно рассматривал крест, передал его Булгакову, который, взглянув на сию святыню, приложил ее к устам, перекрестился и сказал:
– Клянусь пред Богом и сим крестным целованием утверждаю обет: жить и умереть верным моему господину и государю Димитрию Иоанновичу!
Все единогласно повторили присягу и крестное целование. Булгаков продолжал:
– Я сам видел этот крест на царевиче пред отъездом его в Углич; видел, когда он принесен был к князю Мстиславскому немецким мастером, и с первого взгляда узнал его. Пусть погибну телом от мщения Бориса, но хочу жить душою в вечности и не изменю законному царю. Аминь.
– Теперь вы прозрели, почтенные князья и бояре! – сказал Леонид. – Итак, помните, что благо России, царевича и ваше – на конце языка вашего. Верность и молчание!
– И смерть изменнику! – воскликнул князь Шаховской.
– Смерть изменнику! – повторили все присутствующие.
– Не довольно молчать, надобно действовать, – сказал князь Татев, – не должно вверять никому тайны, но необходимо потребно разглашать под рукою о здравствовании царя законного и приготовлять народ к его пришествию.
– Справедливо, но теперь не время, – возразил Леонид, – нам известны некоторые обстоятельства, которые повелевают молчать до поры. Я скажу, когда надобно будет начать действовать…
– Воля ваша, – подхватил Булгаков, – но если князь Василий Иванович Шуйский не будет знать о избавлении царевича и если, узнав, не захочет нам содействовать, то мы ничего путного не сделаем. Один князь Василий Иванович силен между боярами, невзирая на немилость к нему Бориса; силен уважением синклита, духовенства и любовию именитого московского купечества и народа. Князь Василий производил следствие в Угличе и, верно, знает многое, что принужден теперь скрывать. Его свидетельство и содействие было бы важнее сильной рати!
– Так я думал и думаю, – отвечал Леонид. – Но предоставьте это дело времени и небу. Бог образумит князя Шуйского. Ручаюсь вам, что князь Василий будет первым поборником царевича Димитрия Иоанновича.
– Скоро начнет светать, а мне нельзя долее здесь оставаться, – сказал Иваницкий. – Простите, верные и избранные сыны отечества, первые слуги законного государя! До свидания! По первому призыву отца Леонида – явлюсь пред вами.
Все бросились обнимать Иваницкого, и Леонид взялся проводить его до дому.
– А мы останемся здесь до заутрени, – сказал Хрущов, – чтоб не подать подозрения, встретясь с недельными (15) на улице. Ныне должно опасаться своей тени; а особенно тому, кто вписан в черную книгу Бориса Федоровича, подобно нам, грешным. Приляжем на чем попало, и если слуги твои застанут нас здесь, то подумают, что водка и романея свалили нас с ног.
– Умно и осторожно! – примолвил Булгаков, – постойте-ка, я сыщу что-нибудь подостлать каждому под бока и в голову. Ради такой вести можно пролежать и целую жизнь труженически, на голой земле.
ГЛАВА III
Внутренность царских палат. Сновидения. Снотолкователь.
В девичьем тереме Кремлевских палат сидели красные девицы, подруги и прислужницы царевны Ксении Борисовны, и вышивали золотом и шелками узорчатые ширинки, повязки, фаты, стройно напевая заунывную песню. Царевна, сидя на дубовой скамье, покрытой богатым ковром персидским, низала жемчуг; у ног ее любимая ее карлица вощила шелк. Подруги поглядывали украдкою на царевну, чтоб угадать и немедленно исполнить ее желания. Но Ксения в задумчивости, казалось, ничего не видела и не слышала; часто драгоценная жемчужина долго оставалась в белых ее руках, пока она вздумает продолжать работу; часто взоры красавицы отвращались от рукоделья, и слабый вздох вылетал порою из девственной груди. Наконец царевна встала, отдала шелковый платок с жемчугом карлице и вышла из светлицы.
Няня царевны, Марья Даниловна, вдова думного дьяка Воронихина, была нездорова и не выходила из своей горницы. Невзирая на увещания самого царя, царицы, на просьбы своей питомицы, она не хотела следовать советам немецкого врача и принимать зелия, приготовленные руками иноверца, почитая это смертным грехом. Марья Даниловна сидела на своей высокой постели, обложившись подушками, и перебирала четки киевские. В углу комнаты стояла старая служанка, сложив руки накрест.
– Каково тебе, няня? – спросила царевна, вошедши в светлицу.
– Легче, гораздо легче, мое дитятко, милостию Божиею и заступлением его святых угодников. Поправь лампаду и подлей масла, Настасья, пред образом Николая Чудотворца! Разве ты не видишь, что светильня нагорела в поплавке? Ступай в сени и дожидайся, пока тебя кликнут. – Служанка, поправив лампаду, вышла, и няня осталась одна с царевною.
– Ах, нянюшка, зачем ты не хочешь принять зелия от немецкого доктора? Ведь он исцелил батюшку, и сам святейший патриарх не гнушается немецкими лекарствами.
– Вольному воля, а спасенному рай, мое дитятко: не государю и не патриарху отвечать за мою душу перед Богом. Да не кручинься обо мне, мое ненаглядное солнышко! Мне теперь гораздо лучше, и мой лекарь, чернец, которого ты третьего дня видела у меня, обещал, что я чрез неделю встану с постели. Ведь ты не сказывала никому, ни государю родителю, ни матери царице о посещении чернеца?
– Не говорила и не стану говорить, когда тебе неугодно.
– Спасибо, милая! Благослови тебя Господи. Да здорова ли ты сама, моя родимая? Ты что-то крепко бледна сего дня. Твою головушку слишком много мучат книжным учением, как будто, прости Господи, тебе быть дьяком!
– Ах, няня! если б ты знала, как весело книжное учение! Смотришь на бумагу и видишь все, что делалось и что делается в свете; взглянешь на расписной лист – и перед тобою вся земля с царствами, городами, реками, горами! Нет, нянюшка, книжное ученье для меня радость, а не скука.
– Все дьявольское прельщенье, мое дитятко, все сила нечистая! – сказала няня.
– Вчера братец Федор Борисович толковал мне из немецкой книги про одно большое немецкое государство, которое называется Франция. Там женщины наряжаются, как павы, в перья разноцветные и показываются в люди не только с открытым лицом, но и с открытою грудью и руками по локоть; пляшут под музыку, даже в царском дворце, вместе с мужчинами; гуляют с ними рука об руку; разъезжают одни в колымагах и рыдванах. Все это изображено росписью на листочках. Братец сказывал, что в этой земле жить очень весело.
– Не верь, моя голубушка, не верь! Все это наущение немецкое, которому поддались и родитель твой, и брат, спаси Господи душу их! Охти мне, грешной! Уж и тебе прочат в женихи немецкого князя, как будто на святой Руси не стало добрых молодцев. Не дай Бог мне дожить до этого соблазна!
– Какой же тут грех и соблазн, нянюшка, что князь Датской земли хочет жениться на мне, с соизволения и с благословением родителей и святейшего патриарха? Ведь и прежние царевны выходили замуж за чужеземцев и отпускаемы были в чужие далекие земли. Мой жених хочет креститься в русскую веру и остаться в России.
– Правда твоя, милая, отдавали русских княжен в замужество в чужие земли за иноверных королей, да не вышло из этого ничего доброго. Погибли с тоски, бедненькие, как пересаженные цветики, как осиротелые голубицы. Не видала православная Русь ни деток их, ни внуков. Твой жених обещает креститься в русскую веру; да разве у нас нет князей, рожденных в православии? По мне, так страшно верить и крещеным и некрещеным папистам.
– Да ведь мой жених не папист, а христианин учения Лютерова, как говорил батюшка.
– Все равно, милая. Все-таки раскольник, а не православный.
– Не правда ли, что он пригож, нянюшка? Сказывают, что он такой ласковый, такой умник, и притом храбр и искусен в военном деле. Он был на войнах и прославился во всех землях. – Царевна позвала служанку: – Настасья! сходи в мою почивальню и скажи карлице Даше, чтоб принесла сюда мой зеленый ларец и ключи. – Старая служанка вышла за двери, и царевна продолжала: – Дай, полюбуюсь при тебе, нянюшка, моим суженым! Братец сказывает, что образ его написан весьма искусно и похож на него, как две капли воды. Ах, нянюшка, я почти всю ночь не спала!
– Что с тобою было, дитятко? Спаси Господи и помилуй!
– Мне до полуночи виделся страшный сон. Казалось, будто бы мой суженый вел меня за руку к алтарю в Успенском соборе. Вокруг стояли бояре, духовенство и народ. Отец мой, матушка, брат и все ближние держались за руки и шли за мною; а тебя не было с нами, нянюшка. В церкви раздавалось божественное пение и было так светло от множества свеч, как среди бела дня. Вдруг загремел гром, заревел ветер, и церковь потряслась. Пение умолкло, свечи погасли, жених опустил мою руку и исчез. Одна только лампада пред образом Богоматери освещала храм. В ужасе и трепете я оглянулась, но не нашла ни родителей, ни брата. Бояре, духовенство и народ отворотились от меня и стали закрывать лица кто шапкою, кто полою платья, кто руками. Мне сделалось страшно! Хочу кричать и звать родителей, но голос замер; хочу бежать к народу – ноги с места не двигаются. Гром сильнее загремел, земля затряслась, расступилась, и показался гроб. Из него выскочил ужасный змей с венцом на голове, бросился на меня, обвился вокруг и хотел увлечь в могилу; но вдруг опять загремел гром, блеснула молния, и громовая стрела от образа Богоматери ударила в голову змея. Он пал мертвый к ногам моим; я очутилась на краю могилы в черной одежде… и проснулась!
– С нами сила крестная! – сказала няня, перекрестясь. – Молись, постись и принеси покаянье, мое дитятко? Этот сон не предвещает доброго! А укусил ли тебя змей?
– Нет, нянюшка, только сжал, а вреда не сделал.
– Тем хуже! – возразила няня. – Если б змей укусил тебя во сне, то значило бы, что лукавый хотел сделать зло, да не мог. Гром – страшные вести; церковные свечи – похороны; сладкое пение – плач; черная одежда пред алтарем – монастырское житье. Венчанный змей – никогда об этом не слыхивала! Уж не немецкий ли это князь?
– Неужели все сны сбываются, нянюшка? Братец говорил, что он вычитал в книге, что сон, так же как мысль, не предвещает ни доброго, ни худого. Вздумается и привидится, неведомо как и от чего, а всему причиною кровь и то, как что виделось наяву и слышалось от других. Братец мне много толковал, да, признаюсь, я не все поняла. Он говорил много всякой всячины, как будто какой доктор, а кончил смехом, примолвив, что снотолкователи велят верить снам наоборот; итак, мой страшный сон должен обратиться в радость.
– В каждом слове братца твоего, царевича Феодора Борисовича, все немечина да немечина! – воскликнула няня. – Не губи души своей, мой светик, и слушайся нас, старых людей. Господь Бог иногда карает детей за грехи родителей и праведных предостерегает снами и знамениями. Бывают сны от Бога, милая. Это стоит и в Писании. Отврати беду от себя или от ближних постом и молитвою. Слушай меня: ведь ты знаешь, что я люблю тебя более жизни. Ты чиста и непорочна, как агнец; Господь Бог услышит твою молитву.
У Царевны навернулись слезы на глазах. Она присела на кровати и закрыла лицо белым платком. В это время вошла Настасья, и за ней карлица Даша с ларчиком.
– Отврати взоры от земного и подумай о Боге, мое дитятко, – сказала Марья Даниловна царевне. – Вели отнести ларец на прежнее место. Что ты увидишь нового в образе твоего немецкого князя? Вот какое время! Когда нас отдавали замуж, мы не знали, не видывали женихов До свадьбы; а ныне сманивают и соблазняют царевен писаными образами, да хотят еще, чтоб они перед венцом подружились да слюбились с сужеными! Господи, воля твоя! Привелось дожить до преставления света!
– Даша! отнеси назад ларчик и скажи девицам, чтоб шли по домам и по своим светлицам, – сказала царевна карлице, – я хочу остаться одна в моем тереме: мне нездоровится. Только не сказывай об этом никому. – Карлица вышла в одну дверь, а Настасья в другую.
– Выкушай мятного настою, – сказала няня царевне, – это хорошо после бессонницы, а на ночь испей крещенской водицы. Пуще всего не думай о мирском и засни с молитвою. Увидишь, что отдохнешь спокойно и встанешь весела и здорова.
Царевна встала с постели и собиралась идти в свой терем.
– Куда, милая, так рано? – сказала Марья Даниловна, – еще теперь только начинает смеркаться. Посиди у меня. Скоро придет мой лекарь, чернец, он рассеет твою кручину. Слова его сладки, как мед, и ум озарен благодатью Божиею. Он также много выходил по чужим землям и видел много всяких диковинок: был в Иерусалиме, в не-мечине и во всех папских государствах; на Афонской горе изучился от греческих монахов лечению недугов и всякому знанию.
– Признаюсь, нянюшка, что мне страшно глядеть на этого чернеца. Он хотя и молод, но в лице его что-то суровое. Он так ужасно, так пристально смотрел на меня своими серыми глазами.
– Я не приметила ничего страшного, ни сурового в лице монаха, – возразила няня. – Куда как зорки ныне глаза у красных девиц! Уж ты знаешь, что у него серые глаза?
– И рыжие волосы, которых я также боюсь, по твоим же словам, – примолвила царевна.
– Не всякое лыко в строку, дитятко! Есть злые и добрые люди всякого цвета и волоса. В писаниях говорится о многих златовласых угодниках и поборниках веры. Впрочем, чего тебе бояться при мне, моя голубушка? Настасья, подай свечу!
Служанка поставила свечу на стол и едва успела запереть двери за собою, они вдруг отворились и вошел чернец с длинными четками в руках, с книгой под мышкою. Он остановился у порога, помолился пред иконами и поклонился царевне и ее няне.
– Подойди ближе, святой отец, – сказала Марья Даниловна, – и присядь на этой скамье. Царевна позволяет; не правда ли, моя родимая?
– Милости просим, – отвечала царевна, смотря на рукав своей ферязи.
Монах приблизился к кровати, сел на скамье, взял больную за руку и, смотря ей в глаза, сказал:
– Слава Богу! Он услышал грешные мои моления и возвратил тебе здоровье. Вот последнее лекарство: шесть порошков. Принимай с водою по одному утром натощак и ввечеру, ложась спать. Только не изволь кушать рыбного и берегись холода, как я прежде сказывал.
– Спасибо тебе, добрый отец Григорий! Я почти совсем здорова, только не могу крепко держаться на ногах.
– Все будет хорошо, только будь терпелива и поступай по моим советам, – отвечал монах.
– Святой отец! – сказала няня, – ты обучен книжной мудрости и проник в тайный смысл писаний, сокрытый для нас, грешных мирян. Скажи, должно ли верить снам?
– Как не верить тому, чему верили мудрецы и патриархи? – отвечал монах, посмотрев на царевну, которая побледнела, как полотно. – Особенно достойны примечания сны, видимые людьми, поставленными Богом выше других человеков. Невидимые силы действуют более на душу порочную или на существо добродетельное и невинное. Люди обыкновенные не подвержены влиянию случаев чрезвычайных; они бредут, как стадо, протоптанною стезею от колыбели до могилы.
– Царевна видела страшный сон, – сказала няня и принялась рассказывать его со всеми подробностями. Монах слушал со вниманием, пристально смотрел на царевну, которая сидела на кровати, потупив глаза, и когда няня довела повествование до того места, где венчанный змей является из гроба, монах не мог скрыть своего внутреннего движения и воскликнул:
– Судьба расторгает завесу!
Няня кончила рассказ и перекрестилась; монах опустил голову и сидел в безмолвии, как погруженный в глубоком сне; наконец он быстро поднялся со скамьи и, всплеснув руками, сказал жалобно:
– Небесный гром поразил венчанного змея! – Потом, помолчав немного, примолвил: – Но он был венчан – этого довольно!
Царевна, видя впечатление, произведенное рассказом сна в монахе, пришла в ужас и, не имея сил удержать внутреннее волнение, горько заплакала. Старуха испугалась и стала ласкать свою питомицу. Монах пришел в себя, принял хладнокровный вид и сказал:
– Страшен сон, да милостив Бог! Напрасно ты кручинишься, царевна! Сон твой предвещает тебе блистательную участь, славнейшую и завиднейшую участи целого твоего семейства. Будут вести страшные, наступит время дел великих, будет кровопролитие в земле православной, но ты, царевна, останешься невредимою. Ты будешь женою мощного владыки и в венце царском, в любви супружеской, в нежности материнской забудешь терновый путь, по которому достигнешь до последней ступени земного счастья и величия. Утешься, царевна, и верь мне; верь, что никакое зло не коснется тебя и что ни единая царевна не будет так возвеличена, как ты, Ксения Борисовна!
– Что же значит отсутствие родителей и ближних во время опасности? Что значит, что народ, бояре и духовенство отвернулись от меня? Что значит гроб, змей? – сказала царевна, взглянув на монаха.
– По закону естества дети переживают родителей; бояре и народ поворачиваются силою обстоятельств в разные стороны, как легкая хоругвь ветром; гроб означает различное, но для тебя из этого гроба возникнет величие. Змей, по толкованиям древних волхвов, значит премудрость, а венец – княжеское достоинство.
– Но что станется с моими родителями, с братом? Неужели я их переживу? – спросила царевна, всхлипывая.
– Сон твой, царевна, касается до одной тебя. Судьбы Вышнего неисповедимы, – отвечал монах. – Но ты вредишь своему здоровью напрасною, преждевременною кручиной, – примолвил он. – Позволь мне, как доктору, прикоснуться к твоей руке, чтоб узнать состояние твоей крови. – Не дожидаясь ответа, монах подошел к царевне и смело взял ее за руку, устремив проницательный взор на прекрасное ее лицо.
– Святой отец! – воскликнула царевна, – рука твоя – как огонь, и ты крепко жмешь мою руку. Оставь меня в покое!
Монах опустил руку царевны, краска выступила на бледном лице его. Он взял кувшин с водою, налил в хрустальную чашу, вынул из-за пазухи белый порошок, всыпал в воду и, подав царевне, сказал:
– Выпей это: кровь твоя успокоится, голова облегчится, и тяжесть спадет с сердца.
Царевна отвела тихонько рукою предлагаемую ей чашу и сказала:
– Спасибо! мне запрещено пить всякие зелья от чужих людей без ведома моей матери царицы.
– Выпей, дитятко! – сказала няня. – Неужели ты сомневаешься в искусстве отца Григория после того, что он сделал со мною? Я тебя люблю не менее твоей матери.
– Не стану ничего пить, – возразила царевна и встала с постели. Монах, не сказав ни слова, перекрестился и выпил приготовленное питье, которое было густо и бело, как молоко.
– В странствиях моих я видел много красавиц, – сказал монах, – но не видал такой ангельской красоты, как твоя, царевна Ксения Борисовна. – При сих словах царевна покраснела, а няня улыбнулась и весело посмотрела на свою питомицу. Монах продолжал: – В черных очах твоих изображается душа нежная, непорочная, чуждая всякого земного соблазна. Откуда же закралось в нее подозрение, отвращение от помощи, предлагаемой человеком, который пролил бы кровь свою для твоего здравия и счастья… предлагаемой… иноком!…– Он не мог долее говорить: смущение пресекло слова его.
– Не подозрение, но уважение к воле родительской заставляет меня отвергать всякий совет и помощь без их ведома. Впрочем, я совершенно здорова и не нуждаюсь в лекарствах, – сказала Ксения ласково. Монах молчал и горестно смотрел на царевну. Глубокий вздох вылетел из груди его.
– Не гневайся, отче Григорий, – сказала няня, – она еще дитя, и если обидела тебя, то без всякого умысла.
– Не гнев, но горесть терзает сердце мое, – отвечал монах.
– Прости, отче мой, если я невольно тебя огорчила! – примолвила царевна, взглянув ласково на монаха, у которого лицо пылало. Он хотел что-то сказать, раскрыл уста и остановился. Сильное смущение выражалось во всех его чертах. Наконец он возвратился на свое место, сел и, помолчав немного, сказал тихо и спокойно:
– Царевна! ты создана не огорчать, но радовать сердце. Да пребудет над тобою благословение Божие! Должно повиноваться воле родителей. Но различные страны, чрез которые я проходил, имеют различные обычаи, и во всех европейских государствах женский пол давно уже причислен к человеческому роду и признан одаренным от Бога волею и разумом, как пол мужской. Только в одной России сохраняется варварский обычай наших древних покорителей татар, обычай почитать женщину бессловесным существом, рабынею в доме родителей и супруга. В Англии царствовала королева Елисавета с такою же славою, как у нас Иоанн. Повсюду сама невеста выбирает себе жениха, и муж советуется с женою, как с другом, а не как с прислужницею. Сердцу и уму дана полная свобода…
Вдруг двери терема быстро растворились, и карлица Даша, вбежав опрометью, сказала вполголоса: "Государь! Государь!" Марья Даниловна испугалась; царевна не знала что делать, а монах, схватив книгу и четки, побежал к противоположным дверям, но в сию самую минуту царь Борис Федорович вошел в комнату. Монах остановился и поклонился до земли государю.
– Кто осмелился войти в царский дворец, в девичий терем без моего ведома? – сказал государь грозно, бросив гневный взгляд на монаха и на устрашенную няню.
– Прости, государь! – воскликнула Марья Даниловна, сложив поднятые вверх руки, – недуг одолел меня, и я, чтоб служить тебе верою и правдою, должна была призвать лекаря.
– > Я посылал к тебе несколько раз моего немецкого врача Фидлера, но ты не хотела слушать его советов и принимать от него зелия, – сказал государь, не трогаясь с места.
– Помилуй, отец государь! – сказала няня, – я скорее умру, чем соглашусь принять что-нибудь от иноверца. Оставь волю душе моей, она во всем другом предана тебе и твоему семейству.
– При всей твоей преданности, при всем усердии ты можешь повредить моей дочери внушением ей своей вздорной ненависти к чужеземцам, между которыми я имею верных и полезных слуг и даже… но об этом поговорим после.
– Я не мешаюсь не в свои дела, православный государь-батюшка, – сказала няня, – и научаю мою питомицу одному: быть послушною Богу и воле родительской.
– А сама для примера преступаешь мою волю, – возразил царь. – Ты знаешь, что я строжайше запретил, чтоб кто-либо входил во дворец без моего ведома.
– Без вины виновата, прости и помилуй! – воскликнула няня и залилась слезами.
– Кто ты таков, из какой обители? – спросил государь монаха.
– Я странствующий инок Острожского монастыря святого Василия, православный государь, – сказал монах. – По обету я ходил в Иерусалим поклониться гробу Спасителя и говеть на Афонской горе. Оттуда прошел в Киев и наконец захотел помолиться святым угодникам в первопрестольном граде, в столице православия, и зашел в Москву, где молюсь ежедневно с братьею о здравии и благоденствии твоем, великого государя.
– Давно ли ты в Москве и в первый ли раз? – спросил царь.
– В другой раз, и теперь проживаю здесь не более месяца, – отвечал монах.
– Кто ввел тебя в царские палаты?
– Я принес письмо и дары Марье Даниловне от киевского архимандрита Анастасия. Нашед ее в недуге, взялся вылечить и успел при помощи Господней.
– Где же ты научился лечению?
– В обители, в которую я был отдан в юности для обучения.
– Откуда ты родом? как тебя зовут? из какого ты звания?
– Зовут меня Григорием; я из русских дворян, роду Отрепьевых.
– Где ты проживаешь в Москве?
– Нам ли, грешным отшельникам, иметь постоянное убежище! Дни провожу по церквам, питаюсь иногда за монастырскою трапезою в Чудовом монастыре или подаяньем благочестивых людей; а ночую где Бог пошлет, то у своих братьев, то по дворам у добрых людей.
– Зачем же тебе сидеть с чужим человеком, дочь моя? – спросил царь Ксению, стараясь смягчить гневный голос.
– Государь-батюшка! Я… я пришла навестить няню; в это время пришел отец Григорий… я хотела уйти… после того он стал мне толковать сон… я осталась, – отвечала царевна прерывающимся голосом в сильном беспокойстве.
– Что такое, что такое! – сказал государь, возвысив голос, – толковать сон! Ты толкуешь сны, отче Григорий?
– Государь! Во время пребывания моего на Афонской горе один престарелый монах, знающий еврейские, арабские и халдейские письмена, открыл мне правила, которыми руководствовались древние патриархи и священники иудейские при толковании снов. Ручаться за истину не могу, но говорю, чему обучен.
– Ступай за мною, отче Григорий, – сказал государь ласково. – Ты, Марья, успокойся, я на тебя не гневаюсь и ради твоих лет и недуга прощаю первое упущение твоей обязанности. Только смотри, чтоб это было в первый и в последний раз.
Сказав сие, царь Борис Федорович вышел из комнаты, и монах последовал за ним, поклонясь няне и царевне. Затворив двери няниной светлицы, царь остановился и сказал монаху:
– Будь смелее и ничего не бойся. Я вижу, что ты человек умный и ученый, а я люблю таких людей, особенно в духовном звании. Мне хочется с тобою посоветоваться, пойдем в мою палату. Я награжу тебя своею милостью, если ты будешь со мною откровенен и скромен.
Монах низко поклонился и отвечал:
– Готов служить тебе, как могу и как умею. Государь прошел с монахом чрез терем и спустился по лестнице во внутренние свои покои. Вошед в свою рабочую палату, или кабинет, Борис Федорович запер двери, зажег у образной лампады две свечи, поставил их на стол и сел в большие дубовые кресла. Монах между тем жадными взорами осматривал комнату, в которой мудрый царь трудился над управлением обширного государства. Стены обиты были кожаными венецианскими обоями зеленого цвета с золотыми узорами. Вокруг стен стояли скамьи с красными бархатными подушками, обшитыми золотым галуном. Передний угол занят был образами в золотых окладах, с драгоценными камнями. В другом углу находился дубовый резной шкаф с книгами. Вдоль противоположной стены стоял длинный дубовый стол, на котором лежали кучи бумажных свитков. Небольшой стол, перед которым сидел царь, покрыт был зеленым бархатом с золотою бахромой и галунами; на столе лежало несколько книг, раскрытая Библия, оправленная в серебро, и писчая бумага; посредине стояла большая серебряная чернилица. Царь сидел в молчании и, положив руку на стол, рассеянно перевертывал листы в Библии, затрудняясь, чем начать разговор. Наконец он подозвал ближе монаха и сказал:
– Веришь ли ты в сны, отче Григорий (16)?
– Государь! Ты сам тверд в Писании и знаешь, что бывают сны от Бога. Я верю снам, когда при них внушается вера, когда сны как будто чрез светлый покров представляют будущее, опираясь на прошедшем. Бывают сны от Бога, государь!
Царь задумался и потом сказал:
– Справедливо, отче Григорий, справедливо! Как могуществен человек властью, от Бога ему врученного, и как слаб, оставленный своим собственным силам! Царства и рати движутся по одному мановению человека, ниспровергаются грады и твердыни, а бедное сердце не слушается разума! – примолвил уныло Борис Федорович и замолчал, потупив взоры. Монах стоял перед ним в безмолвии и пожирал его глазами. Лицо инока изменялось, и он нарочно утирался рукавом своей рясы, чтоб скрыть свое смущение. Царь Борис перебирал листы в Библии, молчал и посматривал то на монаха, то в книгу, а наконец сказал:
– Отче Григорий! ты как инок должен принимать слова мои в виде исповеди и как врач должен быть также скромен после совещания с больным. Кому же и верить, к кому прибегать мирянину в горести, если не к отшельникам как не к пастырям церкви? Мои врачи – иноземцы: они не могут принимать такого участия в недуге русского царя, как врач русский, как служитель православной церкви. Мне нужен врач! Я точно болен, и недуг мой – вот здесь! – Борис Федорович указал на сердце.
– Не знаю твоего недуга, государь, но клянусь, что каждое слово замрет в ушах моих и никогда не оживет на языке, – сказал монах. – В удостоверение тебя в неизменности моего обета целую крест с гроба Спасителя. – При сих словах монах приложился к кресту на четках. Борис Федорович пристально посмотрел на монаха и в задумчивости не сводил с него неподвижных глаз своих.
Мрачный взгляд царя Бориса привел в трепет монаха. Он хотел говорить и остановился; потупил взоры и дрожащею рукой перебирал четки. Несколько минут продолжалось молчание.
– Ты толкуешь сны, отче Григорий! – сказал протяжно царь Борис, не сводя глаз с монаха. – Я видел ужасный, страшный сон, который трое суток мучит, терзает меня, не дает покоя ни днем ни ночью. Я хотел бы не верить снам, отче Григорий.
Монах, приметив уныние государя, ободрился и отвечал:
– Каков сон, государь! Иным должно верить: они служат предостережением от великих несчастий.
– Ты прав, совершенно прав, отче Григорий. Я видел сон с субботы на воскресенье, на заре, перед тем временем, когда привык пробуждаться; сего дня третьи сутки…
– С субботы на воскресенье, на новом месяце: важный день! – примолвил монах. – Что ж ты видел, государь?
– Страшный сон, сон ужасный. Мне снилось, будто в один жаркий день, в июле месяце, я лег отдохнуть в верхнем жилье моих Кремлевских палат. Внезапный холод пробудил меня. Глухой шум поражает слух мой. Иду к окну и вижу, что снег покрыл землю выше кровель. Люди выгребаются из-под снега с воплями отчаяния, ветер ревет и холодным дыханием губит тысячи – но солнце ярко светит на небе. Тревога взволновала душу мою: бегу искать семью и нигде не нахожу. Нижнее жилье завалило снегом, твердым, как лед. Стужа проняла меня до костей. В отчаянье бросаюсь я в окно, смешиваюсь с толпою народа; вижу моих приближенных, царедворцев, жалостно спрашиваю: где жена моя, где мои дети? Меня не узнают или не хотят знать и дерзко отталкивают. Жалость замерла в душах. "Жгите чертоги царские, жгите храмы Божьи!" – вопиют со всех сторон; но при всем усилии невозможно развести огня! Вся природа потеряла живительную силу, всякая пища и питье, оледенев, превратились в камень. Люди стали бросаться на своих братии, как бешеные звери, и пожирать живьем друг друга. Подхожу к одной толпе и – о ужас! – вижу, что изверги сосут теплую кровь из жены и детей моих! Хочу броситься на злодеев – но седой старец удерживает меня за руку. "Поздно, Борис, все свершилось! – сказал он, – страшная наука для тебя, сильный земли! Видишь ли солнце: оно ясно светит на небе; оно не потухло, но утратило теплоту свою – и мир погиб! Горе рабам, если любовь к ним угаснет в сердце их господина; горе господину, если сердце его остынет…" Старец хотел продолжать, но вдруг пронзительный, болезненный вопль моего детища, моего милого Феодора, раздался в ушах моих; дыханье сперлось в груди моей, ум помрачился, я вскрикнул и – проснулся!
Царь Борис подпер рукою голову, облокотившись на стол, и задумался. Монах также молчал и внимательно наблюдал царя.
– Не правда ли, отче Григорий, что сон ужасный? – сказал царь, не переменяя своего положения.
– Ужасен и, если позволишь сказать, не предвещает доброго, – отвечал монах.
– Говори, говори все, что ты думаешь, – сказал царь, – не бойся ничего: думай вслух передо мною.
– Государь! великое бедствие угрожает роду твоему и более всех – тебе!
– А России? – спросил государь, прервав слова монаха.
– России! – сказал монах и задумался. – Россия, – продолжал он медленно, – также претерпит бедствие, но она нетленна и. как адамант в огне, очистится в смутах. Господь Бог не попустит, чтоб заглохла последняя гряда, на которую пересажено с востока животворное древо православия; он не разгонит последнего стада избранных агнцев, и не даст их на съедение лютым волкам. – Монах остановился и, помолчав, примолвил: – Но он может переменить вертоградаря, может вверить избранное стадо другому пастырю…
– Что ты говоришь? – воскликнул царь Борис громким и грозным голосом, – что ты смеешь произнесть в моем присутствии!
– Ты позволил мне думать вслух, государь! – отвечал монах. – Я так думаю, соображая все обстоятельства твоего сна.
– Переменить вертоградаря, переменить пастыря! – воскликнул Борис. – Зловещий вран! не думаешь ли ты, что у меня можно исторгнуть скипетр? что меня можно лишить венца Мономахова? Нет, нет, никто не дерзнет прикоснуться к ним – пока я жив!
– Государь! я вовсе не думаю о тебе; не пророчествую, но толкую сон по твоему велению. Все мы слепы и немощны пред Богом. Писание гласит: "Не хвалися в утрии, не веси бо, что родит находяй день" (17). Жизнь царя в руке Господней, как последнего из рабов его, – отвечал монах хладнокровно. По мере беспокойства Бориса монах ободрялся и становился смелее.
– Престол российский отдан Богом посредством воли народной роду моему и поколению, – сказал государь уныло тихим голосом.
– Всякий человек из земли создан и в землю обратится, – отвечал монах. – Прах и тлен слава мира сего. "Всем время, и время всякой вещи под небесем. Время раждатися и время умирати: время садити и время исторгати сажденное" (18).
– Я хочу, чтоб ты толковал мне значение каждого видения, а не делал своих заключений преждевременно, – сказал государь гневно, но тихо. – Что значит солнце, лишенное теплоты своей?
– Солнце – Царь естества, – отвечал монах. – Различные породы животных от человека до неприметного глазу насекомого, все растения от кедра ливанского до мелкой плесени, все ископаемые от алмаза до простой глины живут, прозябают или образуются в недрах земли теплотою солнца, душою вселенной. Нет теплоты – нет души, нет жизни! Государь! ты видел во сне старца, который истолковал тебе страшное видение. Этот старец – судьба твоя!
– Боже мой! – воскликнул Борис, – меня ли можно упрекать в холодности, в нелюбви к моему народу? Не я ли посвятил все дни мои попечению о благе России: отказался от всех земных радостей для тяжких трудов государственного управления? Все мои помышления клонятся к славе, к благоденствию России… Можно ли ко мне относить слова старца, виденного мною во сне? Подумай хорошенько, отче Григорий! Верно, роковые слова старца и самое видение имеют превратный смысел?
– "Мерила льстивыя мерзость пред Господем: вес же праведный приятен Ему", – сказано в притче Соломоновой (19), – отвечал монах. – Ты мне повелел говорить правду; не хочу лицемерить. Слушай и мужайся: "От плодов правды снесть благий" (20).
– Говори, говори, Бог с тобою! – воскликнул Борис, закрыв лицо руками.
– Не делами гласными, но любовью измеряет Господь сердце. Скажу тебе быль. В храм монастыря Афонского приходили ежегодно с дарами два грека. Один из них был богат и в милости у правителя области. Он предал неверным соседа своего, оклеветав его в злоумышлении пред престолом султана, и получил за сие знатную часть достояния погибшего безвинно единоверца. В златотканых одеждах, с гордостью входил предатель во храм, и слуги его, одетые богато, приносили драгоценные дары к удивлению всего народа, который, не зная ни источника богатства кичливого грека, ни цели его приношений, хвалил и прославлял его. Другой грек, в бедном одеянии, приносил на своих плечах в храм только десятую часть того, что ему оставалось лишнего от трудов его, а девять частей раздавал втайне бедным. На Страстной неделе, когда богатый грек, раздав пред храмом щедрую милостыню и украсив алтарь золотом и багряницею, гордо озираясь, приступил к святому причащению и отворотился от бедного грека, приносящего скудную свою десятину, архимандрит, в полном облачении, с святыми дарами в руках, произнес слова апостольские: "Ничто же бо покровенно есть, еже не открыется, и тайно, еже не уразумеется" (21). Потом, благословив убогого грека и причастив святых даров, обратился к богатому и сказал: "Очисти душу свою смирением и покаянием: кровь, невинно пролитая, вопиет к небу об отмщении. Богатство твое – гнилость, дары и милостыня – добыча ада, и не обратятся к небу, как жертва Каинова: "Убойтеся имущаго власть по убиении воврещи в дебрь огненную" (22). Господь смотрит на сердце, а не на руки, и судит по желанию, а не по исполнению. "Аще убо вы зли суще умеете даяния благо даяти чадам вашим" (23). Гордый даятель со стыдом вышел из храма, ибо он искал славы земныя, а не спасения души и покоя внутреннего.
– К чему клонится речь твоя и на кого ты метишь своею притчей? – сказал царь грозно.
– Судья твой – Бог, а не я, государь! – сказал монах, низко поклонясь. "Сердце царево в руце Божией". Он один ведает тайные твои дела и помышления, он один награждает и наказует царей. Я к тому рассказал быль, чтоб показать тебе, что кажущееся великим на земле, иногда бывает малым пред Богом. Мир видит дела твои, чтит тебя и превозносит. Благо тебе, если всякое дело проистекает из чистого источника. Не о тебе думал я, государь, рассказывая быль, но обо всех сынах земли, от мала до велика, от царя до нищего.
– Довольно, Бог с тобой! – сказал Борис. – Ты молод, но язык твой льстив и ум коварен. – Он вынул из столового ящика горсть ефимков и подал монаху. – Возьми это и ступай с Богом восвояси.
– Я доволен твоею милостью, государь, и не возьму денег, – отвечал монах.
– Возьми на украшение храма твоей обители, – сказал Борис и, завернув деньги в шелковый платок, отдал монаху. – Ступай за мною! – примолвил царь, отпер противуположные двери, вывел монаха в другую комнату и позвал служителя, которому велел проводить его на улицу.
* * *
Лишь только царь Борис Федорович возвратился в свою комнату, вошла туда царица с царевичем Феодором и дочерью Ксениею. Не могло утаиться от ближних беспокойство, смущение царя Бориса. Лицо его было бледно, глаза мутны, дыхание тяжело.
– Ты нездоров, государь, – сказала царица, – не лучше ли посоветоваться с лекарем?
– На мою болезнь нет лекарства, – отвечал Борис, – но это пройдет. Что день, то гнев, неудовольствие, досада! Ты знаешь, что мне невозможно обойтись без этого. Самые близкие ко мне люди не исполняют моих приказаний. – Царевна потупила взоры при сих словах родителя и покраснела. Борис продолжал, обращаясь к царице: – Твоя Марья Даниловна делает беспрестанно глупости: созывает в мои палаты разных бродяг; то не хочет лечиться, то лечится по-своему; внушает дочери моей ненависть к иностранцам. Я думаю выбрать из боярынь или княгинь какую-нибудь умную женщину… Мне наскучила эта старуха. – Борис опустил голову и замолчал.
– Помилуй, государь! – сказала царица, – ты убьешь бедную Марью, если удалишь ее от нашей дочери, которую она взлелеяла и вскормила на своих руках. Марья – вторая мать Ксении, они так любят друг друга! Неужели ты захочешь расстроить счастье твоего семейства? Марья принадлежит к семье нашей. – Царевна не могла удержать слез при мысли, что ей должно расстаться с доброю нянею, и горько заплакала.
– Успокойтесь, успокойтесь! – сказал Борис, тронувшись. – Пусть будет по-вашему, я только думаю так… но не хочу нарушать вашего счастья, если вы почитаете это счастьем. Боже всевидящий! чем я жертвовал, на что отваживался, что претерпел для вашего счастья, дети мои! Мне ли нарушать его? Обнимите меня! – Юный Феодор и Ксения бросились в объятия родителя. Глаза Бориса омочились слезами. Он замолчал и погрузился в думу.
– Мы пришли звать тебя на вечернюю молитву, – сказала царица. – Священник ждет в образной.
– Молитесь, молитесь, дети мои! – воскликнул Борис. – Ваш родитель имеет нужду в заступлении чистых душ. – Борис опомнился и продолжал: – Как царь я должен карать й миловать. Быть может, в числе обвиняемых и осуждаемых есть невинные, за которых я должен буду отвечать.
– Отвечать будут те, которые смущают тебя злыми изветами, которые скрывают правду пред твоим царским престолом, а не ты, творящий суд и правду по видимому и слышимому, – сказала царица.
– Молитесь, молитесь, дети, за царя и родителя! – воскликнул снова Борис. – Вы еще чисты и непорочны, как агнцы: Господь внимает праведным.
– Мы всегда молимся за родителей, – сказала Ксения.
– И не имеем другого желания, кроме твоего счастия, – примолвил Феодор.
– Милый друг мой Борис Федорович, пойдешь ли с нами в образную? – спросила царица.
– Нет, добрая моя Мария! ступай с Ксенией и, помолившись, отпусти священника, а после идите почивать с миром. Я останусь с Феодором. – Борис, сказав сие, простился с женою и благословил дочь. Когда они вышли из комнаты, Борис велел сыну сесть возле стола. Несколько времени продолжалось молчание. Наконец Борис сказал:
– Сын мой! я старею, недуги одолевают мое тело, внутренняя скорбь истощает душу. И цари – смертны! Я приготовил тебе наследие, которое мне и не мечталось, когда я был в твоих летах. Были времена грозные при Иоанне – я пережил их. Много было козней противу меня при Феодоре – я их избегнул и из раба сделался повелителем обширнейшего царства в мире. Господь дал мне тело крепкое, душу твердую и ум, способный понимать пользу и вред от дел человеческих; но я не получил такого воспитания, какое даю тебе. Под руководством иностранных наставников ты изучаешься всему, что нужно, чтоб быть мудрым правителем. Мудрость целого мира пред тобою: изучай умом, но избирай сердцем советы мудрецов. Люби народ свой; без этого ты можешь быть знаменитым, славным, но никогда не будешь счастливым, – Борис остановился.
– Родитель мой! – воскликнул юный царевич. – Зачем смущаешь себя черными мыслями? Тебе еще далеко до глубокой старости, и Господь сохранит тебя для нашего счастья, для счастья России. У кого мне лучше учиться царствовать, как не у тебя, государя, избранного сердцами народными, прославленного подданными и чтимого иноземными владыками?
– Ты находишься в других обстоятельствах, сын мой, – возразил Борис, – и потому тебе предлежит иной путь, нежели мне. Я избранный царь, а ты будешь царь наследственный: важное преимущество предо мною! Гордые бояре и князья рода Рюрикова, родственники и ближние угасшего царского племени, не могут никогда забыть, что я был им равный и даже низший по местничеству. Они неохотно мне повинуются и беспрерывно сплетают новые козни ко вреду моему. Если Господь допустит мне еще пожить несколько лет, я очищу вертоград царский от плевел крамолы, исторгну с корнем ядовитые зелия, виющиеся вокруг родословного моего дерева. Многие враждебные роды должны погибнуть для общей безопасности и спокойствия, и ты будешь царствовать над новым поколением, которое от колыбели привыкнет чтить тебя будущим своим владыкою, взирать на тебя, как на существо высшее, рожденное для власти. Повторяю: на твоей стороне важное преимущество, сын мой, ты найдешь все готовое, пойдешь путем очищенным…
– Ах, родитель мой! – воскликнул юный Феодор с слезами на глазах. – Стоит ли будущее мое величие тех жертв, которые ты приносишь для утверждения меня на престоле? Если между ними есть невинные?.. Несчастие безвинного может обратиться на мою голову.
– Безвинные!.. Дитя! – воскликнул Борис. – Кто тебе внушил эти мысли, эти рабские чувства? Для того ли отваживал я мое счастье, спокойствие и… словом, отваживал все, чтоб передать власть в руки малодушного? Безвинные жертвы! Разве это не вина – завидовать мне, быть неблагодарным? Честолюбивые бояре питают ко мне злобу и ненависть за то только, что я царь и что не каждый из них царем на моем месте; они почитают меня виновным за то именно, что я возвеличен судьбою не по рождению, но по заслуге. Неужели я должен почитать их правыми за то самое, за что они почитают меня виновным? Стыдись своей слабости, первородный сын родоначальника нового царского поколения! Кровь, пролиянная на войне, на защиту веры, престола и отечества, как целебный бальзам, оживляет и укрепляет силы государства. Я в войне среди мира для доставления тебе спокойного царствования; понимаешь ли, сын мой?
– Но где же твои враги, государь, где противоборники? – сказал Феодор. – Все беспрекословно повинуются твоей власти, от первого боярина до холопа; все по одному твоему мановению готовы положить за тебя свои головы. Родитель мой! я молод и неопытен, не смею ни давать тебе советов, ни излагать моего мнения. Но я читал в "Римской истории", что многие римские императоры напрасно терзались подозрениями и казнили людей праведных по наущению злых, которые изветами и ложными доносами хотели выслужиться, показать свое усердие для приобретения царских милостей и вместе для удовлетворения своему мщению. Таков был Сеян при Тиверии…
– Хорошо, что ты помнишь прочитанное; но зачем же ты забыл о заговорах подлинных, невымышленных, которые были составлены на жизнь многих римских императоров? – сказал Борис, горько улыбнувшись. – Сын мой! взятое силою должно быть и охраняемо силою. Сладко благотворить и миловать, но я принужден прибегать к казням и опале для доставления тебе и потомству твоему наслаждения делать добро. Мучусь, терзаюсь для счастья, величия моего рода! Сын мой, утешь меня! – Борис встал, и юный Феодор бросился в его объятия. Слезы их смешались.
– Благотвори, милуй, родитель мой! – воскликнул сквозь слезы растроганный Феодор. – Не хочу другого дара от тебя, кроме любви народной!
– Это твой удел, сын мой, – сказал Борис, сев на прежнее место, – тебе предоставляю милость, себе строгое правосудие и труд истреблять крамолу. Но если сердце твое будет говорить в пользу обвиненного – проси, я не откажу тебе в помиловании.
– Благодарю тебя, родитель мой! Ты делаешь меня богаче всех владык земных! – Феодор бросился к ногам государя и облобызал его руки. Борис поднял сына, прижал к сердцу и благословил.
– Ступай почивать и позови ко мне моего немого, чтоб раздел меня и положил в постель, – сказал Борис, – я две ночи мучусь бессонницею и сегодня так утружден, что надеюсь заснуть. – Феодор вышел, и Борис стал молиться перед образом.
ГЛАВА IV
Свидание двух заговорщиков. Подозрения. Прием польских послов в Грановитой палате.
Mонах из дворца пошел прямо к церкви Василия Блаженного на Лобном месте. Здесь, на паперти, дожидался его товарищ.
– Ну, слава Богу, наконец ты отделался благополучно! – воскликнул Леонид. – Я начинал уже беспокоиться о тебе. Ты слишком смело начинаешь, Иваницкий! Монашеская одежда не всегда может спасти тебя от предательства клевретов Бориса и его подозрительности.
– Первый шаг сделан, теперь робость скорее может погубить, а не спасти, – отвечал Иваницкий.
– Кто тебе говорит о робости? – возразил Леонид. – Благоразумие и робость не похожи друг на друга. Но излишняя смелость может испортить все дело, погубить тебя и всех нас…
– Что, всех вас? – воскликнул Иваницкий, прервав речь приятеля. – Везде вы о себе думаете! Что с вами станется? Неужели ты думаешь, что огонь и железо могут заставить меня изменить товарищам, открыть тайну? Не знаешь ты меня, Леонид! Я смолоду закалил себя на все труды и муки. Есть ли при тебе нож? Испытай: режь меня – увидишь, что испущу дух, но не подам голоса.
– Бог с тобой! – сказал Леонид. – Береги свое терпение на другой случай.
– Знаешь ли ты, с кем был я наедине, в Кремлевских палатах? – сказал Иваницкий.
– Разве ты ходил не к няне царевниной? – спросил Леонид.
– Ходил за зайцем, а видел волка, – примолвил Иваницкий. – Я беседовал наедине с царем Борисом!
– Шутишь! – воскликнул Леонид.
– Клянусь Богом, что говорю правду. Царь Борис застал меня у няни, где была и царевна. Сперва разгневался, но, узнав, что я толкую сны, призвал к себе и открыл передо мною душу свою!
– Видно, он догадался, что ты пришел за его душою. Что ж он говорил тебе? – спросил Леонид.
– Я целовал крест, чтоб молчать, – отвечал Иваницкий. – Скажу только, что в каменном сердце Бориса есть также трещины, слабые стороны, чрез которые можно сокрушить его силу душевную. Любезный друг! Царь Борис кажется твердым, непреклонным, выше судьбы; но надобно видеть сильных в минуты их слабости, чтоб знать их совершенно. Борис с летами упал духом: суеверие им овладело. Лютейший враг его и наш лучший помощник – собственная его совесть. Он мучится на престоле, как грешник в аде, и не устоит противу грозного испытания, когда законный наследник царства восстанет из гроба требовать от него отчета. Теперь я совершенно уверен в успехе. Сновидения Бориса и его дочери, виденные ими на одной неделе, – ужасные сновидения – открывают мне будущее.
– Давно ли ты принялся за ремесло вещуна и снотолкователя? – спросил с улыбкою Леонид.
– Не смейся, друг мой! Ты знаешь, что я далек от предрассудков и суеверия и не вовсе верю тому даже, чему надлежало бы верить, но… не постигаю сам причины, отчего сон Бориса привел меня самого в ужас. Удивительнее всего, что и царевна видела во сне ужасные мечты, весьма близкие к нашим замыслам. Должно быть в мире что-то сверхъестественное, чего мы не можем постигать нашим умом. – Иваницкий задумался и после краткого молчания воскликнул: – Ах, как мила царевна Ксения!
– Ты, как языческий жрец, восхваляешь жертву пред закланием, – сказал Леонид.
– Нет, друг мой, – сказал Иваницкий пламенно, – Ксения не погибнет! Она должна жить и быть счастливою. Я – защитник ее!
– Ты сам не знаешь, что говоришь, – отвечал Леонид. – Престол должен быть очищен для законного государя, а этого нельзя сделать, не истребив целого семейства Годуновых.
– Пусть погибнут все – кроме Ксении! – воскликнул Иваницкий.
– Счастливую участь ты хочешь приготовить ей, истребив весь род ее и племя! – сказал, улыбаясь, Леонид. – Воля твоя, а ты иногда бредишь, как во сне, – примолвил он. – Как можно думать, чтоб царевич Димитрий согласился оставить в величии или, по крайней мере, в живых дочь лютейшего врага своего, которая может своею рукою возбудить притязателя, мстителя? Кто осмелится предстательствовать за нее?
– Я! – отвечал Иваницкий гордо. – Она будет моею женой, и горе тому, кто помыслит препятствовать моему счастью! Видел ли ты ее?
– Нет. Но хотя бы она была краше всех красот земных – это не мое дело, – сказал хладнокровно Леонид. – Полагаю, что и тебе надлежало бы так думать. Не для волка растут красные яблоки!
– Любезный друг! – сказал Иваницкий. – Я два раза видел Ксению, Два раза говорил с нею и полюбил ее, полюбил, как никогда не думал, чтоб мог любить! Она должна быть моею! Я вдохну любовь в эти розовые уста, в эту нежную грудь: я научу ее жить новою жизнью! Она должна быть моею: отныне это вторая цель моей жизни!
– Иваницкий! в своем ли ты уме? Умерь пылкие твои страсти, подчини буйство юности рассудку. Слыханное ли дело, чтоб тебе, безродному, мечтать о царской дочери? И если даже мы успеем лишить ее звания царевны, то можно ли, для удовлетворения безрассудного желания, пренебрегать выгодами царя законного и царства? Так ли должен думать первый посланник царя Димитрия?
– Все в моей власти! – сказал, задумавшись, Иваницкий.
– Другой на моем месте мог бы подумать, что ты замышляешь измену, хочешь ценою предательства купить право на руку дочери Бориса! – сказал Леонид– Я этого не думаю, но во всяком случае опасаюсь, что твоя сумасбродная любовь может наделать хлопот царевичу Димитрию.
– Пожалуйста, не опасайся за Димитрия! – возразил Иваницкий. – Я не могу изменить ему, как душе своей, и мое желание – его воля. Верь, если ты друг мне.
– Я друг твой, но сын России и верноподданный царя Димитрия Иоанновича, хотя и не имел счастия поныне видеть его.
– Увидишь, узнаешь и полюбишь! – отвечал Иваницкий быстро. – Леонид! дружба ко мне будет так же щедро награждена Димитрием, как преданность к нему самому. Это верно, как Бог на небе!
– Верю и знаю, что ты пользуешься всею доверенностью царевича, – сказал Леонид, – но ты должен, друг мой, для собственного счастия и блага царевича следовать советам дружбы, умерять страсти пылкие, особенно в нынешних обстоятельствах, забыть все земное, кроме одного: нашего великого предприятия.
– Довольно, довольно! – воскликнул Иваницкий. – Прошу тебя, сокрой во глубине души все, что ты от меня слышал. Я сам постараюсь забыть… Но пора домой, завтра представление посла.
Два приятеля сошли с паперти и направили путь к Кремлевской стене. Там, в уединенном месте, под камнем, сохранялись епанча и шапка Иваницкого, спрятанные им накануне. Он снял с себя рясу и клобук, положил под камень, накинул епанчу на легкое полукафтанье, простился с Леонидом и скорыми шагами пошел на Литовское подворье. Противу обыкновения калитка была отворена. Бучинский встретил Иваницкого с беспокойным лицом.
– Канцлер два раза тебя спрашивал, – сказал Бучинский, – и, как кажется, весьма недоволен тобою. Маршал Боржеминский наблюдал за тобою и, приметив, что ты отлучаешься из дому по ночам без ведома канцлера, донес ему. Я не мог лгать в твое оправдание противу свидетельства маршала и сказал канцлеру, что ты точно отлучался несколько раз, но, как мне кажется, по любовной связи. Не знаю, хорошо ли я сделал, сказав это?
– Все равно, что б ты ни сказал, – отвечал хладнокровно Иваницкий, – потому что ты ничего не знаешь. Я сам буду говорить с канцлером.
– Предуведомляю тебя, что ты должен быть весьма осторожен в ответах. Я слышал, как канцлер говорил: "Если он отлучается для разведывания в пользу посольства, то зачем ему скрываться? Нет ли тут каких козней? Единоверчество легко может увлечь его к измене. Надобно принять свои меры". Он так говорил на твой счет, и я, как видишь, откровеннее тебя и имею к тебе более доверенности, пересказывая тебе слова канцлера, нежели ты ко мне.
– Спасибо, друг! Будь уверен, что ты не ошибаешься во мне. Все узнаешь, когда придет время. Что же касается до канцлера, то ни гнев, ни подозрения его мне не страшны!
– Он имеет над тобою власть и может требовать у тебя отчета в твоем поведении, – сказал Бучинский.
– Власть надо мною! – воскликнул Иваницкий. – Нет, я признаю над собою власть одного Бога и ему одному дам отчет в моих поступках!
– Эта вольность переходит за пределы прав и свободы нашего народа. "Служба тратит волю", твердит пословица. Ты в службе королевской, в службе Речи Посполитой, и, находясь при посольстве, зависишь от посла. Кажется, это ясно. Ведь ты не школьник, чтоб упрямиться! – сказал Бучинский.
– Из всего этого не следует, что посол должен наблюдать все мои поступки. Я делаю, что мне велят; делаю более, нежели сколько обязан, и служу Речи Посполитой гораздо более, нежели сам посол, – возразил Иваницкий. – Успокойся, друг мой! – примолвил он. – Увидишь, что канцлер усмирит свой гнев, когда переговорит со мною, и останется довольнее прежнего. Добрая ночь!
На другой день, лишь только Иваницкий открыл глаза, слуга посольский позвал его к канцлеру. Сапега был один в своей комнате. Он бросил на Иваницкого проницательный взгляд и сказал:
– Вы отлучаетесь по ночам из дому без моего ведома, господин Иваницкий! В нынешних обстоятельствах это должно возбудить подозрение к единоверцу неприязненного нам народа.
– Разве вы не знаете, вельможный канцлер, с какою целью я посещаю москвитян и пользуюсь знакомствами, заведенными мною здесь по поручению чернецов наших? Я вам в точности сообщал все слышанное мною о делах посольства, и не всегда ли вы удостоверялись в справедливости моих донесений?
– Я благодарен вам за это, и король не останется у вас в долгу за верную ему службу. Но зачем не объявлять мне об отлучках?
– Я не хотел напрасно утруждать вас. Впрочем, к чему бы это послужило? Если б я хотел изменить вам, мне бы лучше сделать это, отлучаясь с вашего позволения. Когда б я был вам неверен, тогда бы старался отвратить всякое подозрение и прикрыться вашим именем. Но я не говорил вам ничего потому, что совесть моя чиста и что я не хотел отдавать ежедневно отчета в моих неуспехах. Вот уже четверо суток, как я волочусь с одного пиршества на другое, из одной беседы в другую, чтоб узнать о намерении царя в рассуждении наших дел, и только случайно успел вчера выведать от одного чернеца, любимца патриархова.
– Что ж такое? – спросил Сапега нетерпеливо.
– Что с Швецией составлены мирные условия. Карл Зюдерманландский обещает уступить Борису Ливонию от Нарвы до Нейгаузена, оставляя за Швециею Нарву. В Ингерманландии уступает часть до устья Невы и требует, чтоб царь Борис помог Швеции войском и деньгами в войне с Сигизмундом и отказался от заключения мира с Польшею. Карл обещает притом уплатить долг и военные издержки после войны и отдает в залог город Юрьев-Ливонский.
– Неужели это правда? – спросил Сапега с беспокойством.
– Я говорю, что слышал. Вы увидите, что нас станут ласкать, а между тем откладывать окончание дела, пока не объявят войны. Впрочем, я буду извещать вас о ходе дел. Меня обещали познакомить с знаменитым думным дьяком Афанасьем Власьевым, заведывающим ныне Посольским приказом. Только прошу вас не стеснять меня в свободе отлучаться по произволу.
– Я прикажу, чтоб вас выпускали и впускали, когда вам заблагорассудится. Господин Иваницкий! вы молоды и своим усердием можете открыть себе путь к важным местам и милости королевской. Я буду ваш заступник и покровитель. Поныне я доволен вами; надеюсь, что и впредь вы не подадите повода к неудовольствию.
– Дела докажут лучше, нежели слова, мое усердие к службе и преданность к особе вельможного канцлера, – сказал Иваницкий, поклонясь низко.
– Теперь ступайте одеваться к аудиенции. Прошу вас прислушиваться, что будет говорить народ, а во дворце примечать, как будут внимать моей речи бояре. Я буду занят представлением, и потому мне невозможно наблюдать самому. Вы понимаете меня? Надобно постигнуть, какое впечатление произведет при дворе и в народе наше представление.
– Сделаю все, что вам угодно, по мере сил моих и способностей, – сказал Иваницкий. – А между тем прошу вас, вельможный канцлер, несколькими словами разогнать то подозрение, которое возбудило в вас и в членах посольства донесение маршала Боржеминского насчет моих отлучек. Даже друг мой Бучинский, пред которым я должен скрывать ваши поручения, оказывает мне недоверчивость и сомневается в чистоте моих намерений. Это больно!
– Будьте спокойны, я все улажу! – сказал канцлер и дал знак головою Иваницкому, чтоб он вышел.
Пока главный пристав царский, князь Григорий Елецкий, и два младшие пристава, Казаринов и Огарев, одевались в посольских комнатах в богатые одежды, присланные из царских кладовых (24), на посольском дворе собрались все паны и слуги, чтоб изготовиться к торжественному шествию. Паны с недоверчивостью поглядывали на Иваницкого, который, сложив руки на спине и потупив голову, медленно расхаживал в отдалении от прочих. Наконец вышел из комнат канцлер Сапега, велел выстроиться всем, как следовало к шествию, осмотрел ряды и, выступив на средину, подозвал к себе Иваницкого, взял его за руку и, обратясь к свите, сказал:
– Некоторые обстоятельства заставили многих сомневаться в искренности господина Иваницкого. Прошу вас, господа, положиться на мое слово и уверение и почитать его верным сыном Речи Посполитой Польской и усердным слугою королевским. Всякое сомнение и подозрение насчет его поведения есть обида ему и мне, ибо он во всем поступает не иначе, как по моему поручению. Кто обидит его, тот оскорбит меня.
Сказав сие, канцлер удалился в свои комнаты, а Иваницкий возвратился на свое место.
– Ну, видишь ли, что сказанное мною вчера сбылось! – шепнул Иваницкий Бучинскому.
– Ты демон, а не человек! – отвечал Бучинский. – Теперь верю, что я обманулся, когда думал, что знаю душу твою, судя по твоему прежнему со мною обращению. Поистине, ты – демон!
Иваницкий улыбнулся и насмешливо посмотрел на своего приятеля, примолвив:
– Да, брат! Ангел не много выиграет с людьми! Между тем на улице послышались звуки труб и бубнов и повелительные голоса начальников стрелецких дружин. Маршал Боржеминский приказал отворить ворота, и два боярина, окруженные толпою боярских детей, взъехали на конях на посольский двор. Послы польские встретили бояр на крыльце, ввели в приемную залу, и тогда один боявдн, сняв шапку, произнес следующую речь:
– Великий государь царь и великий князь Борис Федорович, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец и многих государств и земель восточных и западных и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, повелел спросить о здоровье вас, великих послов, своего брата и приятеля Сигизмунда, короля Польского и великого князя Литовского и иных земель государя.
Послы, выслушав слова боярина с открытыми головами, поблагодарили государя и отвечали, что они здоровы. Русский боярин снова сказал:
– Великий государь царь и великий князь Борис Федорович, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец и многих государств и земель восточных и западных и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, повелел явиться к нему вам, великим послам брата своего и приятеля Сигизмунда, короля Польского, великого князя Литовского и иных земель государя.
Слово повелел встревожило буйного князя Друцкого-Сокольницкого и других молодых панов, но канцлер Сапега значительным взглядом успокоил гордое юношество, а Станислав Варшицкий сказал им по-латыни: – Это принятый образ изъяснения при царском дворе, которому должно повиноваться.
Канцлер Сапега отвечал боярину:
– Благодарим государя за милость и готовы исполнить его волю.
Когда сей обряд кончился, бояре и послы надели шапки, и дружески обнялись. Вскоре явились приставы в бархатных кафтанах, шитых золотом и унизанных жемчугом, в высоких собольих шапках. Все вышли из комнат, сели на коней, и торжественное шествие двинулось.
Впереди ехал думный дьяк Афанасий Власьев, за ним польский дворянин Адам Лукашевич. Вслед шли пешком шестьдесят человек посольских слуг, по три в ряд. В первых четырех рядах слуги несли подарки на бархатных подушках, покрытых золотою парчой. В задних рядах вели двух коней под бархатными попонами. За слугами ехали верхом Иваницкий и Бучинский с верющею грамотою короля Польского, прежними мирными договорами России и Польши и начертанием нового договора. Грамоты сии находились в двух серебряных ящиках. Канцлер Сапега ехал между Варшицким и Пельгржимовским, а вокруг них бояре и пристава. За ними следовали верхом все паны польского посольства; шествие замыкали боярские дети, также на конях.
Поляки не уступали русским в богатстве одежды и конской сбруи. Русский народ с уважением смотрел на Льва Сапегу, мужа высокого, сухощавого, с седою короткою бородой. Голова его покрыта была малою бархатною шапочкой черного цвета с белым цаплиным пером, прикрепленным алмазною пряжкой. Он был в длинном кафтане из голубого атласа, а поверху имел соболью шубу, крытую алым бархатом, с короткими рукавами, которая развевалась, как плащ (25). Другие два посла одеты были, подобно ему, в кафтанах и шубах, а молодые люди в атласном испанском платье с бархатными плащами, в токах с страусовыми перьями или в венгерских полукафтаньях, шитых золотом и серебром, в бархатных шапках. Турецкие сбруи, украшенные золотом, серебром и цветными каменьями, привлекали взоры любопытных. Поляки сожалели, что обычай не позволял являться пред русского государя с оружием, ибо чрез это они не могли выказать лучшего своего убранства и любимой роскоши. Русские, напротив того, были вооружены ножами в золоченых ножнах и саблями. Кафтаны их вышиты были золотом, шапки опушены дорогими мехами. Высокие кованые серебром седла, золотые и шелковые узды отличались видом от польских. По обеим сторонам улицы, от самого Литовского подворья, стояли стрельцы в два ряда, с ружьями. Они были в коротких и узких кафтанах с отлогим высоким воротником, в высоких шапках бараньих, серых и черных. Каждая сотня отличалась особым цветом кушаков, каждая тысяча кафтанами. Стрелецкие головы, сотники и тысяцкие были в ферязях из тонкого сукна, с золотыми нашивками, в высоких собольих и бобровых шапках. Народ толпился на улицах, взлезал на крыши и на заборы, чтоб посмотреть на великолепное зрелище. Глухой шум раздавался в толпах, как бушевание ветра в густой дубраве. По временам слышны были в толпах болезненные крики от ударов приставов и недельных, разгонявших народ и очищавших путь посольству.
На Царской улице встретил послов постельник князь Федор Иванович Хворостинин-Ярославский с шестью царедворцами. Шествие остановилось. Бояре и послы сошли с коней, сняли шапки, и постельник спросил от имени государя о здоровье послов. Потом все сели на коней и продолжали путь до Кремля. На Красной площади и у Лобного места была такая теснота, что посольство с трудом добралось до Фроловских ворот. Здесь надлежало сойти с коней и снова снять шапки пред чудотворным образом Спаса. Прождав здесь около получаса, пока пристав и недельные успели очистить путь между толпами народа, послы и бояре снова сели на коней и въехали в Кремль. У Вознесенского собора послам объявили, что никто не смеет подъезжать на лошадях к царскому крыльцу, кроме самого государя и детей его (26). Послы отдали лошадей и пошли пешком. Польское юношество кипело гневом от сего уничижения народного достоинства, и только одно уважение к канцлеру Сапеге удерживало гордых польских витязей в пределах скромности и повиновения.
Слуги, исключая тех, которые несли подушки, остались у крыльца, а послы вошли в сени между рядами вооруженных людей.
Воины немецкой дружины, одетые богато, в желтых немецких полукафтаньях с серебряными галунами, в шлемах с белыми перьями, в блестящих нагрудниках, с ружьями и длинными мечами, стояли на одной стороне, а на другой боярские дети в красных ферязях с золотыми галунами, в высоких рысьих шапках, вооруженные длинными бердышами. На скамьях впереди воинов сидели бояре и прислужники царские в парчовых одеждах, в шапках. Здесь встретил послов печатник и ближний дьяк Василий Щелкалов и поздоровался с канцлером Литовским, как равный с равным; двери отперлись настежь, и Щелкалов ввел послов в царские палаты.
В конце огромной залы с расписанными стенами, под образом Богоматери находилось возвышение в несколько ступеней, обитое красным бархатом. На нем стоял золотой престол, на котором сидел царь Борис Федорович в Мономаховом венце, имея в правой руке золотой скипетр, украшенный драгоценными камнями. Государь (27) был в широком одеянии из золотой парчи, унизанном жемчугами, сияющем алмазами и цветными дорогими камнями, и в красных бархатных сапогах.
По правую сторону царя сидел в золотых креслах царевич Феодор в парчовой же одежде, с открытою головой. По левую сторону от престола, на высоком серебряном решетчатом столике, лежала золотая держава с крестом; на малом столике стояла золотая умывальница, накрытая белым полотенцем (28). Пол устлан был дорогими персидскими коврами. Вокруг стен на скамьях, поставленных в четыре уступа, застланных богатыми коврами, сидели бояре, окольничие и думные дворяне в парчовых одеждах, с обнаженными головами. На ступенях возвышения, на котором находился престол, стояли четыре рынды в белых атласных ферязях, в рысьих шапках, с серебряными бердышами на плечах. Свита посольская остановилась посреди залы с приставом, а послы Лев Сапега, Станислав Варшицкий и Илья Пельгржимовский подошли с Щелкаловым и думным дьяком Власьевым на десять шагов к престолу. Печатник Щелкалов, поклонясь в пояс государю, сказал:
– Божиею милостью царь Борис Феодорович, великий государь и самодержец всея Руси, Володимерский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверской, Болгарский, великий князь Новгорода Низовския земли, Смоленский, Рязанский, Волошский, Ржевский, Вельский, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Полоцкий, Удорский, Обдорский, Северский, Кондийский, отчинный государь Лифляндския земли, царь Казанский, Сибирский и Астраханский и царей Грузинских, Кабардинския земли и Черкасских и Горских князей, и иных многих земель и государств государь, обладатель и всея Северныя страны повелитель (29). Прибывшие сюда послы от великого государя, короля Польского, великого князя Литовского и иных, Сигизмунда Ивановича, бьют челом твоему царскому величеству и просят позволения изложить поручение своего государя!
Послы поклонились царю, как бы подтверждая слова оратора.
Царь дал знак Щелкалову наклонением головы, и он шепнул Сапеге, чтоб начать речь. Caпега сказал по-русски:
– Наияснейший и великий государь наш, Сигизмунд III, Божиею властью король Польский, великий князь Литовский, Русский, Прусский, Замойский, Мазовецкий, Киевский, Волынский, Подольский, Подлесский, Лифляндский и наследственный король Шведский, Готфский, Вандальский, князь Финляндский и иных, тебе, Божиею властию великому государю и великому князю Борису Феодоровичу всея Руси, Володимерскому, Московскому, Новгородскому, Казанскому, Астраханскому, Псковскому, Тверскому, Югорскому, Пермскому, Болгарскому и иных многих земель и княжеств государю и повелителю, велел поклониться и наведаться нам о твоем здоровье.
Наш великий государь Сигизмунд III, Божиею милостью король Польский, Шведский, великий князь Литовский, Финляндский, Лифляндский и иных тебе, великому государю, великому князю Борису Феодоровичу всея Руси велел сказать. Прислал ты к нам посланника своего, думного дворянина и ясельничего, наместника Можайского Михаилу Игнатьевича Татищева и дьяка Ивана Максимовича с уведомлением, что волею Бижиею великий государь и великий князь Феодор Иванович, потомок великих государей и великих князей Московских, отошел от мира сего, что тебя, великого государя и великого князя всея Руси, учинил Бог государем и великим князем Московским и что ты желаешь добра всему христианству. Зная также, что всемогущий Бог, царь царей, государь государей, держащий в своей святой деснице все государства, установляющий царей и князей, переносит достоинство и власть из рода в род по своему произволу, и тебя, государь Борис Феодорович, соблаговолил святою волею своею посадить на престоле Московском, и при сем, ведая твои благие желания и помышления, объявленные нам посланниками твоими Михаилом Татищевым и дьяком Иваном Максимовичем, мы тебя с сим великим государством поздравляем и желаем тебе в милости Божией и дружбе с нами счастливой жизни на многие лета!
Царь привстал и спросил:
– Здоров ли любезный брат мой Сигизмунд Иванович, Божиею милостию король Польский, великий князь Литовский и иных?
Сапега отвечал с поклоном, что король здоров, Божиею милостию. Засим Станислав Варшицкий и Илья Пельгржимовский повторили один за другим приветствие одинакого содержания с речью Сапеги. Тогда, по знаку государя, принесли небольшую скамью, покрытую ковром, для трех послов и поставили на правой стороне, перед скамьями русских бояр. Печатник Щелкалов и думный дьяк Власьев стали на ступенях трона, первый по правую, второй по левую сторону.
Когда послы сели, царь, обратившись к ним, спросил:
– Лев, Станислав, Илья! как поживаете, здоровы ли вы?
– Здоровы, милостию Божиею, и благодарим тебя, великого государя, за доброе к нам расположение, – отвечал Сапега. Царевич Феодор повторил вопрос отца своего и получил тот же ответ от второго посла, Варшицкого.
Между тем Борис Федорович обратил внимательный взор на свиту посольскую – и вдруг брови его нахмурились и на лице показалось некоторое смущение. Он велел Щелкалову поскорее принять верительные грамоты и подарки. Думные бояре, не спускавшие глаз с государя, шептали между собою, что царь, верно, почувствовал припадок своего недуга, боль в ногах.
Печатник Щелкалов принимал подарки и клал их на сторону, провозглашая имя каждого посла и дворянина посольства, приносящего дар. Подарки канцлера Льва Сапеги были истинно царские: он поднес царю ожерелье, осыпанное алмазами и дорогими цветными каменьями, с золотою цепью, и три огромные, серебряные, ярко вызолоченные кубка; царевичу – кораблик золотой, весьма искусной отделки, и два большие серебряные вызолоченные кубка. Кроме того, у крыльца стояли два коня отличной породы: один для царя, со всем прибором, с седлом и узденицею, окованными золотом, с чепраком, вышитым жемчугом, другой, для царевича, под красною бархатною попоною. Другие послы и дворяне свиты поднесли серебряные кубки, золотые часы и драгоценное оружие. Царь благосклонно принял подарки.
Канцлер повелел подать верительные грамоты. Из толпы польских дворян выступили на средину Бучинский и маршал Боржеминский, поклонились царю и, отдав ящики, возвратились на свое место. Канцлер Сапега удивился, что вместо Иваницкого подал верительную грамоту Боржеминский. Сапега искал глазами Иваницкого в толпе польских дворян и не видал его. Приличие не позволяло ему встать с своего места и спросить, куда девался Иваницкий; но это обстоятельство несколько его встревожило.
Послы надеялись, что их пригласят к царской трапезе, но Борис Федорович извинился нездоровьем и приказал угостить послов с царского стола в их доме. Печатнику Щелкалову поручено от государя заступить место хозяина. Послы, откланявшись, возвратились в свое подворье, сопровождаемые толпами народа и конною дружиною детей боярских.
На другое утро канцлер Сапега призвал в свою комнату Бучинского и сказал:
– Вы отданы мне родителем вашим на мое попечение, находитесь при мне уже несколько лет и могли узнать меня хорошо. Вы, без сомнения, уверены, что никакая личность, ни вражда, ни дружба, ни родство не уклоняли меня от единственной цели моей жизни – служить отечеству, и что одно желание быть ему полезным руководствует всеми моими поступками. Будьте откровенны со мною и отвечайте по совести на все мои вопросы.
– Благо моего отечества и пользу его предпочитаю я всему на свете, – отвечал Бучинский. – Это чувство возросло вместе со мною и вкоренено во мне родителем моим, который кровью своею запечатлел любовь свою к отечеству. В скрытности никогда меня не подозревали поныне, и кроме дел по службе, вверяемых мне вами, я не имею никаких тайн.
– Я вас не подозреваю ни в чем, – возразил Сапега, – но хочу расспросить о некоторых сомнительных обстоятельствах касательно вашего друга – Иваницкого.
– Вы сами запретили нам сомневаться насчет его честности, искренности, преданности к Польше, к королю, – сказал Бучинский.
– Это правда. Но… но его поведение иногда смущает меня самого. Его скрытность… однако ж приступим к делу. Ему поручено было несть ящик с договорами, отчего же он отдал его Боржеминскому? Отчего он вышел из приемной залы во время аудиенции, когда я именно велел ему наблюдать, смотреть, прислушиваться?
– Он сказал нам, что нездоров, что чувствует кружение в голове, – отвечал Бучинский, – и в самом деле, кровь полилась у него из носу. Возвратившись поспешно домой, он пролежал целый день в постели и даже сего дня страдает головною болью.
– Давно ли вы знаете Иваницкого? – спросил Сапега.
– Мы сперва учились вместе в первоначальной школе в Гаще, именье панов Гасских, а после в иезуитском коллегиуме в Львове. Иваницкому теперь около двадцати четырех лет от рождения; я знаю его с пятнадцатилетнего возраста, но расставался с ним несколько раз в течение этого времени.
– Знаете ли вы его родителей или кого-нибудь из родственников? – спросил Сапега.
– Нет. Иваницкий сказывал мне, что он сирота, что отец его дворянин польский, греко-российского исповедания, а мать полька. Дед его вышел из России и поселился сперва в Киеве, потом жил при дворе князей Острожских, в Остроге, а отец промышлял арендным содержанием разных частных и королевских имений в Польской Украине и скончался, не оставив ему никакого состояния. Он воспитывался сперва на счет чернецов греко-российского исповедания, а после иждивением общества иезуитов, которым один из предков его, по матери, отказал значительные имения. Из Гащи и из Львова он отлучался несколько раз в Киев, в Острог, в Туров и в другие места, где находятся монастыри чернецов, которых он называет своим семейством, своими родственниками. Окончив ученье, два года я не видал его и свиделся в Варшаве, при образовании посольства. Он сказал мне, что поручен вам ректором иезуитского коллегиума в Львове, где мы воспитывались, и принят вами в посольство в звание писаря и переводчика.
– Это правда, что он принят мною в посольство по усердному настоянию отцов иезуитов и по уверению их, что Иваницкий, будучи греческого исповедания, может быть мне полезен связями своими с чернецами. Правда также, что он оказал мне многие услуги, открыл много такого, чего бы мы не могли узнать в Москве без его пособия, но… кажется, он слишком подружился с русскими…
– Этого я не знаю вовсе, отвечал Бучинский. – Он никогда не говорил мне о своих дружеских связях в Москве, никогда не брал с собою к русским и не принимал ни одного из них в посольском доме.
– Какого он нрава? Какие в нем господствующие склонности? Вы могли приметить это, зная его с юности.
– На это я не могу отвечать вам удовлетворительно. Нрава он угрюмого, склонен к задумчивости, но души пылкой. Это огонь под ледяною корой. Впрочем, и нрав и характер его изменчивы, как море или как воздух. Иногда он хладнокровен ко всему, а иногда безделица приводит его в исступление. Положение души его зависит не от внешних обстоятельств, но кажется, будто душа его в произвольных своих порывах не знает никаких препятствий и действует вопреки внешним препонам. В училищах иногда он покорялся несправедливым требованиям младших надзирателей, даже из учеников; иногда же пренебрегал законными повелениями высшего начальства. Иногда возбуждал товарищей к веселости и наслаждениям и часто отказывал самым усильным просьбам разделять общие забавы. Он был открытый враг каждому, кто хотел снискать первенство пред другими, и кто не признавал его превосходства, тот подвергался его мести. Правда, он всегда был первым в науках, всегда защищал слабого от сильного, отдавал последний шеляг нуждающемуся, отличался буйною смелостью, был всегда непреклонен, непримирим во вражде, неизменен в приязни, и потому товарищи уважали его и боялись, но – не любили. Меня связала с ним благодарность. Однажды в Львове во время церковной процессии в греко-российском монастыре ученики иезуитского коллегиума, подстрекаемые наущениями некоторых молодых патеров, осмелились нарушить благочиние и уважение, должное святыне. Жители предместья и ученики греко-российского монастыря вознамерились отмстить нам за сию обиду. Они напали на нас во время загородной прогулки и, не отличая правого от виноватого, окружили и стали бить палками и бросать каменьями. Несколько молодых патеров и учеников были жестоко ранены. Мы защищались как могли, но должны были уступить числу и силе. Хотя я вовсе не участвовал в оскорблении святыни, но подвергся общей участи. Меня схватили двое мещан, бросили на землю и, может быть, убили бы в ярости – как вдруг появился Иваницкий, вооруженный дубиною. Прогуливаясь один под лесом, он увидел драку, сел на пасущуюся лошадь и без седла и узды прискакал к нам на помощь. Грозным голосом взывал он к своим единоверцам, побуждая их к прекращению драки. Многие послушались его, некоторые воспротивились, и он бросился один в толпу самых отчаянных и принудил их ударами устремиться на себя одного. С удивительным мужеством, как волк среди стада, он выдерживал неравную битву и, увидев меня на земле, издыхающего под ударами, отогнал от меня убийц и, став надо мною, защищался до тех пор, пока из города не подоспели к нам на помощь вооруженные люди. Тогда Иваницкий, взяв меня на плечи, отнес в мое жилище, не отходил от моей постели ни днем ни ночью, сам лечил меня и перевязывал раны и возвратил мне жизнь и здоровье. С этих пор я прилепился к нему душою и доныне не имел причины раскаиваться в моей привязанности. Он всегда помогал мне советами, и часто даже деньгами, возбудил охоту к учению, руководствовал в науках, старался поселить в душе моей твердость, бесстрашие; одним словом, будучи моложе меня двумя годами, был моим наставником. Я с своей стороны обуздывал излишнюю его пылкость в минуты стремительных порывов его души и моим хладнокровием несколько раз отвлекал от намерений, которые казались мне пагубными. Таким образом утвердилась наша дружба; я думал, что узнал его совершенно – но чем долее живу с ним, тем более удостоверяюсь, что характер его непостижим, изменчив, что нрав его не может сносить спокойствия и что душа его требует необыкновенной деятельности.
Сапега задумался и потом сказал:
– Какие же он имел намерения, которые казались вам пагубными?
– Это были мечты юности, которых не должно брать в важном смысле и выводить из того заключений, вредных характеру моего друга. Зачем открывать пустые намерения, сны юного воображения? Быть может, что это повредит Иваницкому в вашем мнении. Я не имею права открывать того, что было говорено в дружеских беседах.
– Прошу вас быть со мною откровенным; я даю вам честное слово, слово Льва Сапеги, что я стараюсь узнать все касающееся до вашего друга не ко вреду его, но к добру.
– Иногда Иваницкому приходила мысль отправиться в Турцию и, преобразовав народ введением просвещения, сделаться там значительным человеком, – отвечал Бучинский. – Иногда он замышлял свергнуть с престола Волошского господаря и своими подвигами принудить народ выбрать себя в господари! Иногда он думал отправиться в Запорожье, образовать из сей воинственной республики удельное княжество! Одним словом, все намерения его казались мне смешными, несбыточными, исполинскими, не по силам бедного сироты…
– Итак, честолюбие есть господствующая в нем страсть! – сказал Сапега.
– Кажется, так. Но это пройдет с летами. Воображение его слишком сильно, и если оно обратится на другой предмет, то…
– Во всяком случае, – возразил Сапега, – честолюбие и властолюбие – опасные страсти, особенно при столь предприимчивом характере, как у Иваницкого. Такой человек может быть весьма опасен в Польше, где своеволие дворянства служит пищею каждому честолюбцу и где власть королевская не имеет силы удержать в пределах страсти дерзостных искателей счастья. Если вы любите отечество, Бучинский, вы должны наблюдать своего друга и не только удерживать его в буйных помыслах, но советоваться с людьми опытными. Повторяю, такой человек может быть вреден отечеству.
– На этот счет не опасайтесь, вельможный канцлер: Иваницкий привержен к Польше и никогда не повредит ее выгодам. Даже в мечтах своих он всегда говорит, что первое его желание – быть полезным нашему отечеству.
– Не верьте! – возразил Сапега. – Честолюбцы часто вредят отечеству противу своей воли. Кто бросается к цели не по проложенному пути, тот невольно должен для очищения нового поприща вырывать деревья с корнем и ломать вековые утесы. Теперь возвратитесь в свою комнату и не открывайте никому, особенно Иваницкому, о нашем разговоре.
ГЛАВА V
Народные толки. Кружало царское. Торговые ряды. Красная площадь. Кликуша. Диво.
Над дверьми больших хором на Бальчуге привешена была зеленая елка. По обеим сторонам дверей, на улице, расставлены были столы, на которых разложено было съестное: вареные и жареные мяса, студень, кисель. В малых тележках лежал хлеб. Над горшками с пылающими угольями стояли железные сковороды с гречневиками, жирным сластеным и пирогами. Торговки громко приглашали прохожих отведать вкусной пищи. Народ толпился у дверей, и шум разносился далеко от хором, как от улья.
Молодой человек в серой сибирке, опоясанный красным кушаком, в высокой бараньей шапке, вошел в двери и тихими шагами прошел по всем избам, где за длинными узкими столами сидели на скамьях господские люди, крестьяне подмосковных деревень, мещане, стрельцы, иногородние торговцы. Хлебное вино, меды и пенное полпиво переходили из рук в руки в деревянных кружках с царскою печатью. Проворные подносчики в красных рубахах суетились вокруг столов, стараясь вскорости удовлетворять желанию каждого посетителя. Ловкие парни разносили на лотках московские калачи, сайки, паюсную икру, печеные яйца. Посетители Фидели особыми толпами и разговаривали между собою, потчеван друг друга. Молодой человек в серой сибирке сел на конце стола, спросил полкружки меду и стал прислушиваться к речам ближней толпы.
Стрелец. Ну что ж, кум! за тобой дело!
Мещанин. Да здесь, брат, не дождешься и не допросишься в трое суток одного глотка. (Кличет подносчиков.) Сенька, Прошка! оглохли, что ли? Ведь я прошу не ради Христа, а за родимые денежки. Дайте поскорее кружку вина, вот вам две деньги! Что приглядываешься? Не бойся, не заржавели! (Подносчик ставит кружку на стол; мещанин наливает вина в деревянный стакан и пьет.) Эх, брат, видно, твое винцо купалось в воде, да не просохло! а денежки-то чисты, как светлый месяц.
Подносчик. Не мое вино, не мои и деньги: все царское.
Стрелец. Да и мы не чьи, а царские. Только Бог высоко, царь далеко, а пока солнышко взойдет, так роса глаза выест. (Подносчик удаляется в молчании).
Господский человек. Бывало, то ли дело, когда всякий мог торговать вином! Всем было хорошо, а нам, господским людям, раздолье, а пуще как навезут запасов из деревень. Сами пили, что душе угодно, да и добрых людей потчевали.
Мещанин. Правда, в каждом доме, бывало, продавали вино, да какое вино, огонь! а за ведро платили, что теперь за кружку. Было времечко! (30)
Торговец. А теперь ищи по городу кружала, как мышьей норы в лавке.
Мещанин. Да и жди, пока попотчевают сытою вместо патоки. Кум, что ты пьешь! (Подает стакан стрельцу).
Стрелец. Старые люди говорят, что кружало – как молочный горшок. Сливки кушают бояре, молоко пьют приказные да приставы, а нам, крещеным, остается сыворотка.
Мещанин. Правда, теперь боярам не житье, а масленица. Дедушка сказывал, что при покойном царе Иване Васильевиче они были тихи и смирны, как ягнята, а теперь, как выбрали царя из своей братьи, так и вырастили рога, да и давай бодать. Пей, Петрушка! (Подает стакан господскому человеку).
Господский человек (выпив). Послушал бы ты, как они чванятся между собою! Мы-де выбрали царя, мы-де сами лучше, наши-то отцы и деды были старше!
Мещанин. Уж как Божие-то племя велось на царстве, так все были равны у царя-батюшки, а что убоже, то лучше. А теперь кто богаче да сильнее, тот краше и милее. Все бояре да бояре! У меня оттянул огород проклятый Семен Никитич Годунов, да меня же хотели выставить на правеже! Отец мой работал в хоромах у боярина Семена, да, вишь, не угодил ему. Приказчик отдал деньги отцу, а боярин потребовал назад; назвав плату долгом, потянул в приказ и взял огород. Отец помер, я опять в приказ, а там как накинутся все на меня, как на дикого зверя, что насилу вынес душу! Я хотел было повалиться в ноги царю, ждал до поста, пока он пойдет в церковь, дождался, да, как сквозь огонь, не добрался к нему сквозь бояр. Они как завидели у меня бумагу, так тотчас велели схватить да отвесть в тюрьму, и если б не Иоган-немец, то б насидеться мне в западне. Он пустил меня домой, дай Бог ему здоровье! Ах, окаянные! (Пьет).
Стрелец. Да, уж эти немецкие ратники у нас костью в горле! Статное ли дело – держать нехристей в царском дворце, окутав в золото и серебро, как диковинки. Уж бы лучше набрать сотни две русских волков да медведей да приковать их на цепь в сенях, чем позволить стеречь православного царя немецким бусурманам!
Пономарь (выпив, перекрестился). С нами сила крестная!
Стрелец (выпив, говорит горячо). Уж как будто немцы-то с неба звезды хватают! Недаром говорят: на отце воду важивали, а к сыну и с хомутом не ходи. Наши отцы щелкали немцев, как орехи, да ходили за всяким добром в немечину, как в свой короб, а теперь им же честь ни за что ни про что; они же чванятся, как холоп на воеводском стуле!
Господский человек. Господа сказывают, что царь-то не верит своим (понизив голос). Говорят, как слышно: выбрали-де одного, выберут и другого, а немцам – будь хоть черт, лишь бы яйца нес.
Пономарь (выпив). Где хвост начало, там голова мочало!
Мещанин (пьет). Правда твоя, сват. Залежался костыль царя Ивана Васильевича! Дать бы мне власть и силу, я бы поочистил сор в Москве белокаменной, а начал бы с боярских палат. Нечего сказать, царь милостив, да милость-то его проходит чрез боярское решето.
Стрелец. Напустили немцев на святую Русь, как козлов в огород, так не быть добру!
Мещанин. Дали волю боярам да дьякам, так и выходит, что царь хочет гладить, а они скребут православных. Быть беде за грехи наши!
Стрелец. Наведут нехристи на беду, как черт на болото!
Мещанин. Быть беде не от нехристей, а от православных. Знает, сват, сила правду, да не любит рассказывать.
Стрелец. Какая правда? Василич, ну-ка скажи, что у тебя на уме?
Торговец. Язык голову кормит, да он же и до побой доводит. Что промолчано, то как спрятано в запас.
Стрелец (подавая ему кружку). Пустое, пей, ешь, а правду режь!
Мещанин. Я вам скажу за него. Сват Василич проезжал чрез Углич прошлого лета. Там видели среди белого дня два солнца, а схимник Афанасий пришел из лесу в город – и прямо к воеводе. Тот его расспрашивать, чему быть, чего не миновать. Афанасий долго упрямился, не хотел отвечать и просил только, чтоб воевода приказал три дня кормить бедных из казны государевой, а владыке советовал три дня служить молебны во всех церквах. Наконец упросили старика растолковать чудо. "Быть великой беде на Руси, – сказал Афанасий – за то, что мы извели святое царское племя. Тяжко будет отвечать всем за невинную кровь, как за первородный грех. Будут в России два царя в одно время и кроволитие между христианами!" – Воевода испугался, схватил Афанасья, посадил в кибитку да и послал в Москву. Царь, слышно, сам говорил с стариком, молился с ним, честил в своих палатах и отправил назад. Афанасий сперва не хотел сказывать, что ему говорил царь, а после признался владыке, что царь сказал: "Быть двум царям – так быть, а от беды избавит Бог". После того он пожаловал киргизца Ураз-Магмета царем Касимовским – и делу конец. Старики однако ж говорят: сбылось одно, сбудется и другое.
Господский человек. Отцы ели клюкву, а у детей будет оскомина на зубах.
Торговец. Нечего грешить: два солнца видел я своими глазами (31), а прочее рассказывал мне приказчик воеводы и побожился, что правда.
Пономарь (пьет, потом оглядывается на все стороны и, перегнувшись чрез стол, говорит вполголоса). Нет, уж если говорить о чудесах, так я вам скажу чудо. Прошлого воскресенья, как запели многолетие царю у Вознесенья, вышел из церкви чернец, бросил нищим целую горсть денег и сказал: «Молитесь за здоровье царевича Димитрия Ивановича: он не умер в Угличе, а жив!» – Нищие бросились на деньги, а чернец скрылся. Один нищий пришел к игумену, показал ему три ефимка и рассказал, как бы ш дело. Игумен испугался, сказал архимандриту, нищих допросили в келье, а про чернеца нет ни слуху ни духу, как будто провалился сквозь землю!
(Все крестятся).
Стрелец. Вздор мелете, ребята! На Москве много праздных людей, врут, что попадет на язык, а кто слушает, так попадет в беду, как кур во щи. Вранье…
Молодой человек в серой сибирке встал, оглянулся на все стороны и, приметив, что у дверей толпа народу, остановился, бросил горсть серебра на стол и сказал:
– Чернец говорил правду. Пейте за здоровье Димитрия Ивановича! – Собеседники остолбенели от удивления и страха.
– Слово и дело! – воскликнул стрелец, вскочил с своего места, чтоб поймать молодого человека в серой сибирке, но он уже был за дверьми. Ужасное восклицание "слово и дело!" произвело всеобщую тревогу: одни бросились к дверям, другие вскочили на скамьи, спрашивая: что такое, где виноватый? Но стрелец, возвратившись к своим товарищам, сказал:
– Ушел! делать нечего, ребята, а надобно объявить.
Мещанин (на ухо стрельцу). Кум, наживешь себе беды, а дела не будет! Ушел, так и концы в воду! Деньги я подобрал; поделимся и скажем, что какой-то удалец бранил царя и убежал, как ты закричал «слово и дело!» Тебя погладят по головке, нас не тронут, а денежки останутся в мошне.
Стрелец. А другие что скажут?
Пономарь. То же самое. Заварим кашу, так самим и придется расхлебывать. Не водись, брат, с тюрьмой да с приказной избой! От запросов да вопросов недалеко до пытки. Ступай в приказ, а нас не мешай. Наше дело сторона. Мы ничего не слыхали и не видали.
* * *
Против Красной площади, от Никольской до Ильинской улицы, простирался ряд домов деревянных, с малым числом каменных, с навесами, под которыми были лавки с товарами русскими и иноземными. Под навесом небеленого каменного дома сидел на скамье московский гость Федор Никитич Конев. Длинная седая борода украшала его полное, румяное лицо; высокий рост и дородность внушали к нему уважение с первого взгляда. Он был в лисьей шубе, покрытой тонким синим сукном, на голове имел бобровую шапку с бархатным верхом. Снаружи, над дверьми лавки с серебряными товарами, был образ в дорогом окладе за железною решеткою, пред которым денно и нощно теплилась лампада в светлом фонаре; у входа на столе лежали куски хлеба, калачи, сайки и мелкие деньги на медном блюде. К лавке приходили ежедневно нищие, хворые и увечные за милостынею, которую раздавал добрый Федор Конев, наделяя притом советом и добрым словом. Все прохожие кланялись Федору Никитичу, и даже гордые бояре и царедворцы здоровались с ним приветливо. Сидельцы его и приказчики запрашивали в лавку покупателей и торговались с ними; но сам хозяин наблюдал только за порядком, приходя в лавку по нескольку раз в день, и занимался делами в своем жилье, в верхнем ярусе. Большая часть товаров Федора Никитича состояла в церковных сосудах, окладах, лампадах, крестах, которые покупали люди благочестивые, вкладчики в церкви по обетам и настоятели богатых монастырей, украшавшие храмы Божий из доходов монастырских или из пожертвований и сборов с частных людей. Все первейшие бояре и даже сам царь Борис Федорович пред избранием на престол кушали хлеб-соль у Федора Никитича, который пользовался большою доверенностию богатого купечества, уважением всего сословия и любовью черного народа. Каждый приходил в нужде к Федору Коневу просить помощи, совета или заступления у бояр и других царских чиновников, а особенно у князя Василия Ивановича Шуйского, который имел к нему полную доверенность. Богатство Конева было несметное. Он торговал с Литвою и Персиею, выписывал дорогие камни из Царя-града и выменивал иностранную монету золотую и серебряную на русские товары в Архангельске, во Пскове, в Новгороде и в Москве. В огромных амбарах на Москве-реке и на городах хранились воск, сало, пенька, деготь и железо, которые скупали его приказчики и зимним путем свозили в складочные места. Многие бояре занимали деньги у Федора Никитича, и сам царь не гнушался его подарками. Конев три раза был головою гостиной сотни и отказался от сего почетного звания по старости лет и для лучшего наблюдения за ходом своих собственных дел, сохранив влияние на дела общественные.
К лавке подошел мещанин средних лет в смуром кафтане, снял шапку, поклонился низко купцу и сказал:
– Челом бьем батюшке Федору Никитичу!
– Ну, как поживаешь, все ли подобру-поздорову, сосед? – промолвил в ответ купец, кивнув головою.
– Все не счастливится, отец родной, – сказал мещанин. – Вот было срядился ехать в Углич за товаром, да приключилась беда, так и остался дома без работы.
– Не гостил бы, брат, по кружалам, так не было бы и беды. Я слыхал, что ты сидел две недели в Приказе тайных дел и был допрашивай по "слову и делу".
– Грех да беда на кого не живет, – отвечал мещанин, тяжко вздохнув. – Ах, отец родной, страшно и вспомнить!
– Да как же вы выпустили-то молодца, который осмелился поносить святое царское имя? Видно, хмель подкосил вам ноги? Ведь вас было пятеро, а он один.
– Стрелец Петрушка Лукин и погнался было за ним, да он ушел в тесноте. К тому ж и дело-то было в сумерки, – сказал мещанин.
– Да из чего ж этот озорник вздумал бранить царя? Как пришло это к речи? Уж, верно, вы сами как-нибудь да связались в побранку с молодцем или стали стращать? – сказал купец.
– Нет, батюшка, мы говорили про себя и даже не видали его, а он сам вдруг взбеленился ни к селу, ни к городу, – отвечал мещанин.
– Что ж он говорил про царя? В чем упрекал его? – спросил купец.
– Виноват, грешный; прости батюшка, перед тобою не утаишь, – сказал мещанин. – От страху мы не сказали в приказе, что было говорено, да и спрашивали одного стрельца Петрушку, а нам только велено подтвердить допрос, и то однажды. Ох, родимой, страшно подумать, что сказал молодой парень в кружале; не то чтоб худое про царя, а дело великое.
– Поди-ка со мной наверх да расскажи все, как было, – сказал Федор Конев. – Не бойся, говори правду; ты знаешь, что я не доведу тебя до беды, а разве вытащу из беды, когда можно. – Мещанин низко поклонился купцу, и они пошли в верхнее жилье.
Чрез полчаса Федор Конев возвратился в лавку. Он был бледен, и на лице его приметно было смущение.
– Ну, ступай с Богом домой, – сказал он мещанину.
– Да ведь я пришел к тебе за своим делом, отец родной, – сказал мещанин, низко поклонясь. – Твои обозы пойдут к городу Архангельску по первому зимнему пути: не дашь ли мне местечка, кормилец? Придется жене и детям сидеть зиму голодом, если ты не пособишь. Ведь я уже служил тебе во обозных приказчиках, и ты всегда оставался доволен.
– Хорошо, хорошо, – отвечал купец, – теперь мне не досужно; приходи в другое время, в средине недели. Я дам тебе место.
Мещанин поклонился и пошел домой. Федор Конев сел на скамью и погрузился в думу.
В это время подошел к нему купец из Скорнячного ряда, Семен Ильич Тараканов, старинный Друг его и ровесник.
– Что призадумался, кум? – сказал Тараканов, ударив Конева по плечу. – Слыхал ли ты вести?
– Вести, какие? – спросил торопливо Конев.
– Говорят под рукою, будто царевич Димитрий Иванович не убит в Угличе, а цел и невредим.
– Господи, воля твоя! Что ты говоришь, кум? Знаешь ли, что за это можно поплатиться головою? – сказал Конев.
– Ведь не я его убивал, не я и воскрешал, – возразил Тараканов. – Сын мой, Мишка, твой крестник, ходил к празднику в Александровскую слободу; там он загулял с приятелями, и за чарою меду крылошанин Чудова монастыря Мисаил Повадин, тот самый, которого дядя торговал в Железном ряду, сказал им за тайну, что царевич Димитрий жив.
– Мисаил Повадин! знаю его, только нельзя ему много верить, – возразил Конев. – В мирянах он был человек распутный, а как видно, и теперь не к добру ходит к праздникам. Только это не его выдумка, а есть тут что-то мудреное. Мисаил Повадин! Как можно открыть такое важное дело этому человеку! Впрочем, один Бог знает, как дела делаются: и по заячьему следу доходят до медвежьей берлоги. Где же находится царевич – если он жив?
– Мисаил не сказал этого. Он говорит только, что слышал это от своей братьи, – отвечал Тараканов.
– Если весть эта дойдет до царя, то будет много беды. Не пропустят этого без розыска, а попасться в руки приказных – не оберешься хлопот! Я советовал бы тебе молчать, кум, да и сыну приказать, чтоб он держал язык за зубами, – сказал Конев.
– Да ведь Мисаил говорил не одному Мишке, а целой беседе за кружкою: так этого не утаишь, – возразил Тараканов.
– Правда твоя! Уж лучше выдать этого Мисаила; пусть его отвечает один за всех, – сказал Конев.
– Ну, а как он говорит правду, так подумай, кум, какой грех возьмем на душу, изменив царевичу законному! – возразил Тараканов.
– Какая тут измена, когда нам никто не поверял за тайну и никто не требовал крестного целования? – сказал Конев.
– Да ведь мы прежде целовали крест всему царскому роду и присягнули на верность Борису Федоровичу потому только, что царское племя извелось на Руси, – отвечал Тараканов. – А если царевич жив, так и мы его, а не Борисовы.
– Пустое мелешь, кум! И без царевича Димитрия были ближние роды боярские и княжеские к царскому престолу. Бориса Федоровича выбрали собором, патриарх благословил его, мы целовали крест, так и дело с концом, – сказал Конев.
– Нет, куманек. Я хоть и не силен в книжном деле, а слыхал с ребячества от умных людей, что царей избирать волен один Бог, а не мы, грешные, – отвечал Тараканов.
– Нет спору! Да ведь Господь Бог посадил Бориса Федоровича на царство, так наше дело сторона, – возразил Конев.
– Оно так! Да посмотрим, что будет, – сказал Тараканов. – Уж когда царевич в самом деле жив, так быть великой смуте!
– Да, если он подлинно жив, так не попадайся… но я дал бы дорого, чтоб не знать и не слыхать этих вестей, – сказал Конев.
– Правда, и меня мороз по коже подирает, как я подумаю об розысках, следствиях, расспросах, вопросах, пытках, как было в то время, когда разнеслись вести, что царевич не сам себя убил, а что извели его злодеи по приказу… Ну, уж обрадуются наши дьяки да подьячие! Ох, это крапивное семя!.. Они радуются всякому злому умыслу, как доброму урожаю. Беда православным – их товар, с которого они берут барыши. Недаром поп Никита говорит, что, если б царь прогневался на месяц, зачем не светло светит, то они и месяц на небе ободрали бы зубами, как липочку. Был я у них в руках, лукавый их побери! Вот от того моя кручина, чтоб вести не разнеслись да не пошли снова розыски да обыски! Тогда приказные нападут прямехонько на тех, кто побогаче да послабее, как голодные волки на жирных овец.
– Не бойся! Царь Борис Федорович страшится не нас, а своих бояр. От них-то, думаю я, и эти вести, и вся беда, – отвечал Конев.
– Да ведь царь-то не сам станет узнавать да спрашивать, – возразил Тараканов. – Подумай хорошенько, куманек, что делать? Ведь я пришел к тебе за советом, – сказал Тараканов.
– Утро вечера мудренее, – отвечал Конев. – Новое солнышко принесет новую мысль и совет.
В это время подошел к разговаривающим монах, перекрестился пред образом, поклонился купцам и, вынув из-под рясы кадильницу, подал Коневу и сказал:
– Архимандрит кланяется тебе, Федор Никитич, и посылает отцовское благословение. Вели починить это кадило на счет казны монастырской.
Конев принял кадило, отвечал поклоном и сказал:
– Здорово ли поживаешь, отче Леонид? Тебя давно не видать.
– Я отлучался из Москвы по делам монастырским, – отвечал монах.
– Вот то-то и беда, что ваша братья ищут более дел за стенами монастырскими, нежели в ограде! Не к тебе речь, отче Леонид, но чернецы вашего Чудова монастыря любят разглашать вести, которые иногда могут довести православных до соблазна, до греха и до беды!
Монах пристально посмотрел на обоих купцов и заметил смущение на лице Тараканова.
– Добрые чернецы не разглашают пустых вестей, – сказал Леонид, – а если пускают в народ вести, то справедливые, с соизволения Божиего.
– Слышишь ли, кум? – сказал Тараканов.
– Нет, отче Леонид, – возразил Конев. – Иногда и монашеские вести похожи на сказку. Например, если б кто тебе стал рассказывать, что умерший и погребенный восстал из могилы?
Леонид хотел что-то сказать, разинул рот и остановился. Потом, посмотрев проницательно на Конева, сказал:
– А давно ли ты, Федор Никитич, стал сомневаться в силе Господней, творящей чудеса по произволу?
– О, я не сомневаюсь в чудесах и знаю, что сам господь Бог наш, Иисус Христос, воскрешал из мертвых и запечатлел святую нашу веру своим воскресением; но здесь дело не о чудесах, а просто о делах человеческих… Как бы тебе сказать… Например, если б тебе сказали, что блаженной памяти царь Феодор Иванович, которого мы со слезами схоронили в могиле, воскрес или вовсе не умирал. Что бы ты сказал тогда?
– Что всякое дело возможно и что мудростию человеческою нельзя постигнуть промысла Всевышнего. "Мудрость бо человеческая буйство у Бога есть", как гласит Писание, – отвечал Леонид, смотря в лицо купцам, которые поглядывали друг на друга с беспокойством и смущением.
– Крылошанин вашего монастыря Мисаил Повадин ведет жизнь нетрезвую и часто болтает лишнее, – сказал Тараканов.
– К чему мне знать, а тебе говорить это? – отвечал Леонид. – Ни ты, ни я не старшие над братом Мисаилом; как поживет, так и будет отвечать пред Богом!
– Ну, уж воля твоя, отче Леонид, а я бы не стал верить, если б мне рассказал что мудреное брат Мисаил, – сказал Конев.
– Бездушен колокол, но благовестит во славу Божию волею честных и православных святителей. И бесы не отвергают истины – бытия Божия. Весть – слово, все равно, кто бы ни молвил. Истина переходит в народ иногда из скверных уст, как чистая вода источника из мутного болота. "Сего ради подобает нам лишше внимати слышанным, да не когда отпаднем", – сказал апостол Павел (32).
– Мы люди не ученые и не можем спорить с вами, книжниками, – сказал Конев. – Не хочешь ли подкрепить силы чем-нибудь, отче Леонид? Пойдем ко мне наверх.
– Спасибо! Мне некогда: я должен возвратиться в монастырь. – Леонид, сказав сие, откланялся купцам и пошел в обратный путь.
– Ну, что бы тебе порасспросить хорошенько отца Леонида, – сказал Тараканов, – видишь ли, что и он как будто намекал о чуде…
– Поди ты с Богом: я знаю отца Леонида! – отвечал Конев. – Нет хитрее, нет мудрее его в целой Московской епархии. С ним беда связаться на речах. Он, верно, сам выпытывал нас, чтоб выставить вперед. Но как бы ни было, а дело нешуточное. Мы завтра поговорим с тобою об этом, а теперь прощай: мне надобно за делом сходить в Царь-город.
* * *
Народ толпился на Красной площади, пользуясь праздничным днем и приятною погодой. Молодые люди лакомились орехами и пряниками, которые разносили на лотках мелкие торговцы; одни играли в свайку, другие в кружке распевали песни; иные слушали веселых рассказчиков и громким хохотом изъявляли свое удовольствие. Старики разговаривали между собою о делах, о торге, работах, подрядах. Пестрые толпы, как волны, переливались из одного конца площади в другой; шум и говор составляли один протяжный гул.
Вдруг толпы поколебались, и из всех концов площади народ устремился на средину. Пожилая женщина с растрепанными волосами, босоногая, покрытая поверх рубахи куском полотна, медленными шагами шла между народом, который раздавался перед нею и с боязнью посматривал на нее, забегая вперед. Женщина несколько раз останавливалась, осматривалась кругом и, пропев петухом, продолжала путь.
– Что такое? что за диво? – восклицали из толпы люди, немогшие видеть, что происходило в середине.
– Кликуша! – отвечали вполголоса близкие к женщине.
– Кликуша! – повторяли другие громче, и наконец на целой площади раздался клик: "Кликуша! Кликуша!" (33)
– Это Матрена, вдова ткача Никиты из Красного села, – сказал один пожилой человек своему соседу. – Ее испортил колдун года три перед сим. Она бросила дом и детей и летом бродит по лесам и болотам, а зимою по селениям и заходит иногда в город. В ней поселился бес, да такой злой, что никак нельзя его выгнать. Он корчит и мучает ее, прикидывается то петухом, то собакою, то поросенком и кричит из нее, лает и хрюкает днем и ночью. Иногда бедная Матрена приходит в бешенство и мечется в огонь и воду; иногда она пророчит. Сеньке Лопате, купцу в Шапочном ряду, предсказала смерть; дьяку Шуйскому – тюрьму и побои, а в Скородоме – пожар. Не подходи близко, сосед, чтоб не наткнуться на беду.
Сосед перекрестился и сказал:
– Чур меня, чур меня! С нами крестная сила!
– Да воскреснет Бог и расточатся врази его! – промолвил другой, слышавший разговор.
Кликуша остановилась, запрыгала на одном месте, залаяла собакою, потом присела, поджав ноги, закрылась полотном и. завопила ужасным голосом.
– Бес мучит ее! – воскликнул кто-то в толпе. – Уйдем, чтоб он. не вылез, – повторил другой. – Нет, он не сделает зла крещеному без воли Господней, а как придет судьба, так и под землею не укроешься, – примолвил третий. – Ну как она кинется на людей? – спросил первый. – Не бойся, она не бросается на крест, – отвечал другой. Вдруг кликуша сбросила с лица полотно, угрюмо посмотрела кругом и сказала:
– Что вы уставили на меня глаза? Вам любо, любо! Постойте, придет и на вас черный год! Запоет петухом и сам царь Борис Федорович, завизжите и вы поросятами, как ударит углицкий колокол!
Кликуша умолкла, и люди посматривали друг на друга с изумлением и стали перешептываться в толпе. Первый голос. Что это значит? Другой голос. А господь Бог ведает! Третий голос. Вздор мелет!
Четвертый голос. Что за углицкий колокол! Кликуша снова стала говорить:
– Ах, вы, окаянные! на кого вы подняли руки? Чью кровь пролили? Кого увенчали? Вы слепы и глухи. Вы не видите этой черной тучи над вашими головами. Посмотрите: вот она спускается все ниже и ниже: вот гремит гром, блестит молния! Ах, какой крик, какой шум! Вот из земли бьет дым столбом, вот пламя! – Кликуша замолчала на несколько минут и вдруг завизжала пронзительным голосом. Народ пришел в ужас. – Не пущу, не пущу! – закричала кликуша и запела: "Черти пляшут, черти скачут, черти веселятся!" Потом, приняв грозный вид, возопила: "Море, море, реки, озера кровавые! За каждую капельку углицкой крови заплатите реками крови. Ха, ха, ха! Войско, рать! Прощай, царь Борис Федорович, вечная память! Прощайте, добрые люди, ложитесь спать в сырую землю! Вот звонит углицкий колокол! Пора, пора, домой, в лес, в болото!" – Кликуша снова пропела петухом, завизжала и пустилась бежать в Замоскворечье. Народ расступился и не смел ее преследовать. Молчание водворилось в устрашенных толпах; все поглядывали с беспокойством друг на друга; никто не смел спрашивать, никто не смел толковать.
Внезапно раздался крик и шум на другом конце площади. "Лови, лови, бей, бей!" – послышалось со всех сторон. Три черные лисицы взбежали на площадь и, увиваясь между толпами народа, который бросал в них шапками и рукавицами, безвредно пробежали от рядов чрез Лобное место, чрез Красную площадь, устремились в ту сторону, куда ушла кликуша, и скрылись.
– Господи, воля твоя! – сказал, перекрестясь, седой старик, торговец из Рыбного ряда. – Уж впрямь чудеса! Среди бела дня, между народом, бегают дикие звери, как по темному лесу. Уж, видно, запустеть Москве белокаменной за тяжкие грехи наши! Недаром пророчила кликуша беду великую, недаром ей видится кровь и огонь! Охти мне, грешному!
– Полно, дедушка, тосковать по-пустому, – сказал молодой писец. – Кликуша эта просто бешеная баба, мелет вздор, что уши вянут! Привиделся ей Углич с колоколом, буря среди красного дня и огонь перед морозами! Морочит народ; а. как бы недельные приставы прислушали, то захлестали бы бабу так, что и черт из нее вылез бы, как ворона из старого гнезда. Что мудреного, что лисицы пробежали городом? Верно, кто-нибудь привез на продажу да выпустил ненарочно.
– Не греши, сынок, не греши! – сказал старик. – В кликуше сидит дьявол, а он не боится ни приставов, ни дьяков.
– Да оттого, что они родные братья! – воскликнул стрелец.
– Эй, не смейтесь вы, молодцы! – возразил старик, – не яйцам учить кур; не вам, молокососам, толковать нам, старикам, о чудесах. Знаете ли вы, что значит углицкая кровь, углицкий колокол? Не знаете или не помните. А где погубили-то царевича Димитрия Ивановича? Ведь царская кровь святая, и за нее придется отвечать всему народу православному, как евреям за кровь Спасителя. Не кликуша накликала это, а то же говорят люди письменные, святители, честные монахи, схимники. Невинная кровь вопиет на небо! Господи, прости и помилуй! – Старик перекрестился и замолчал.
– Послушай, дедушка! Если ты только об этом кручинишься, так успокойся. Скажу тебе за великую тайну, и тебе, братец Алеша, что царевич Димитрий Иванович не убит в Угличе, а жив и здоров, как мы.
– Царевич Димитрий жив! – воскликнули в один голос старик и молодой писец.
– Тише, тише! – возразил стрелец. – Мне сказал это десятник наш Петрушка Лукин. Он слышал это от какого-то молодца в кружале на Бальчуге. Этот молодец бросил им на стол кучу серебра, велев пить за здоровье царевича Димитрия. Десятник закричал было "слово и дело", но молодец скрылся, и Петрушка промолчал на допросе, что слышал, а сказал только, что пьяный удалец бранил царя. Какой-то чернец дал также деньги нищим, чтоб молились за здоровье царевича Димитрия, примолвив, что он жив и здоров. Вот видишь ли, что кликуша не лжет.
– Царевич жив! – сказал старик. – Господи, спаси его! Увидим ли мы его, родимого, наше красное солнышко?
– Уж когда жив, так, верно, он не оставит нас, своих деток, – отвечал писец. – Была бы весть справедлива.
– Кому выдумать такое диво! – воскливнул стрелец. – Не был бы жив – так и вестей бы не было об нем.
– А все-таки кликуша сказала правду, – возразил старик, – ведь и за него пролито много невинной крови в Угличе, а когда бы Бог привел его к нам, то уж не обошлось бы без великой беды. Что пришлось бы делать царю Борису Федоровичу?
– Уж это не наше дело, дедушка, – сказал писец, – кто как постелет, так и выспится.
– Где ж укрывается наш царевич, наша надежда? – спросил старик.
– Одному Богу ведомо! – отвечал стрелец.
– Конечно, Бог хранит его. Куда ему, бедному, приклонить голову? Отчину-то его, матушку Россию, прибрал царь Борис Федорович! – сказал старик.
– Поживем, увидим; только чур никому ни слова, а то и мне и вам – погибель! – сказал стрелец.
– Пора домой, народ расходится, – примолвил старик. – Смотри, как все перешептываются, как все приуныли. Кликуша напугала народ; да нельзя и не бояться наважденного дьяволом. Я думаю, что и эти лисицы – оборотни. Как бы им уйти посреди народа? Ох, детки, быть большой беде! Сердце-вещун говорит что-то недоброе. Зайти-ка к вечерне да помолиться за здоровье царевича Димитрия: да здравствует он многия лета!
ГЛАВА VI
Счастье честолюбцев. Царский шут. Слабость сильных. Донос. Льстец. Царская палка.
Отдохнув после обеда, царь Борис Федорович сидел у окна в своей палате и смотрел на обширную Москву, которой концы скрывались от глаз в синем тумане. Погруженный в думу, он не приметил, как царица вошла в комнату и села возле него.
– Борис, друг мой! что ты невесел? – сказала царица, положив руку на плечо своего супруга. Борис Федорович быстро оглянулся.
– Ах, это ты, Мария! Что у тебя за дело, чего ты хочешь? – спросил он.
– Неужели и жене приходить к тебе за делом, с просьбами, – возразила царица Мария Григорьевна, – я пришла посидеть с тобою, побеседовать. Мы теперь так редко видимся!
– Друг мой, – сказал Борис, – я теперь отец не одного моего семейства; целая Россия – моя семья. Для моего рода я все сделал, что может сделать человек на земле, для России я должен трудиться до конца жизни. Я добровольно взял на себя эту обязанность.
– Правда! Но какую награду получаешь ты за эти труды? – возразила царица. – Ты все становишься мрачнее, угрюмее. Тайная грусть снедает тебя и отравляет счастье всех твоих ближних. Сколько раз ты говорил мне с восторгом о своих великих надеждах, сколько раз ты описывал мне райское счастье венценосцев! Наконец ты достигнул того, чего желал: ты царь и самодержец Росии; но с тех пор, как ты возложил венец на свою голову, черные мысли поселились в ней, веселье исчезло из сердца – и мы не узнаем в царе Борисе ласкового, приветливого Годунова: все переменилось! Где же то счастье, за которым ты гонялся?
– Ты права, совершенно права, любезная Мария! – воскликнул царь. – Я думал, я верил, что величайшее блаженство на земле – власть, и, признаюсь, ошибся. Честь, жизнь, имение миллионов людей есть моя собственность; воля моя – закон; слово – приговор судьбы; но эта власть не делает меня счастливым! Власть была предметом всех моих желаний и помышлений, а теперь она же служит источником всех моих опасений и беспокойства. Страшно потерять то, что стоило стольких трудов! Ужасно владеть предметом зависти всех честолюбцев, всех дерзновенных! При царе Иване Васильевиче все мы не были уверены в одной минуте нашей жизни, но самая эта боязнь доставляла нам радости: мы наслаждались, подобно плавателю по бурным морям, который тешится, преодолевая опасности. Тогда я думал: как счастлив тот, которого все боятся и который не боится никого! Наконец, вот я тот самый, которого все страшатся – но и я, неустрашимый, познал боязнь! Кого боятся, того не могут любить. Кто все может отнять, того дары ненадежны. Против государя законного, рожденного на троне, бояре и народ могут роптать, могут его не любить; но как бы он ни был жесток и несправедлив, никто не может осмелиться мериться с ним правами на власть. Напротив того, меня, государя избранного, судят иначе. Любезный друг Мария! Верь мне, что яд и чародейство давно уже устремлены противу меня!
– Яд и чародейство, Боже мой! – воскликнула царица, закрыв лицо руками.
– Да, яд и чародейство! – продолжал Борис. – Многие боярские роды помышляют о завладении престолом, опираясь на право рождения. Многих я знаю, многие скрываются во мраке. Я должен жить в уединении, как заключенный в темнице, остерегаться каждого входящего ко мне и выходящего от меня и с каждым днем ожидать несчастья, – Борис Федорович замолчал и задумался.
– Я не знаю твоих врагов, не знаю их умыслов, – сказала Мария, – но уверена, что народ любит тебя и благословляет за твою щедрость, правосудие.
– Народ, народ! – воскликнул Борис. – Это стадо, которое ревет радостно на тучной пажити, но не защитит пастыря от волков. Знаю я народ! Божество его – сила! В чьих руках милость и кара, тот и прав перед народом. Сего дня он славит царя Бориса, а пускай завтра мятежный боярин возложит венец на главу свою и заключит Бориса в оковы – народ станет поклоняться сильному и забудет о слабом. Так было во все времена, у всех народов, Мария, где на престоле не было царской крови. Оттого-то вся моя забота и все мои старания, чтоб усвоить венец в роде моем. Внук мой уже не будет знать этих опасностей, когда целое поколение возрастет в повиновении роду Годунова. Но я и сын мой Феодор, мы еще не у пристани.
– Ты нам говоришь всегда одно и то же, Борис, – сказала царица, – неужели эта ужасная мысль не может истребиться из твоей мудрой головы? Одна возможность измены лишает тебя спокойствия. На земле столько бедствий, и если б все предвидеть и всего страшиться, то не было бы в жизни спокойной минуты. Так я думаю – по-женски.
– Я ничего не страшусь за себя, друг мой Мария, но боюсь всего за вас, – сказал царь. – Боюсь, чтоб не сокрушилось то здание, которое я воздвигнул на собственном счастии. – Борис задумался. Мария встала тихо и вышла из комнаты, тяжело вздохнув и взглянув умоляющим взором на образа святых угодников.
Чрез несколько времени вошел в комнату горбун в желтом кафтане с красными рукавами и воротником, обшитым вокруг серебряными галунами. Борода у горбуна была подстрижена, волосы зачесаны назад. Он остановился перед царем, и, не кланяясь, сказал:
– Здравствуй, кормилец!
– Зачем ты сюда пришел без спросу, Кирюшка? – спросил царь с гневом своего шута.
– Матушка царица сказала мне, что тебе сгрустнулось, так я пришел полечить тебя. Вчера твои повара больно поколотили меня; с горя я убежал на кружечный двор. Там добрые люди употчевали меня медом и вином; хмель выгнал грусть и кручину, спина зажила, и я пропел и проплясал до ночи, а сегодня весел и здоров, как ни в чем не бывал. Вот тебе лекарство; дай, кормилец, за это полтину.
– Это лекарство для дураков; поди, лечи свою братью и убирайся прочь! – сказал Борис.
– Постой, кормилец, не сердись, – возразил шут. – Ты царь и государь наш, ты можешь делать что хочешь и можешь приказывать что тебе угодно. Сотвори милость рабу твоему Кирюшке! – При сих словах шут повалился в ноги государю.
– Ну, чего ты хочешь? Говори скорее, – сказал царь.
– Вот, изволишь видеть, родимой, – отвечал шут, – я ничего не люблю столько на свете, как есть, пить и спать. Сделай так, чтоб я мог есть и пить не тогда, как нужно, а тогда, как вздумаю, и столько на один раз, сколько съедают и выпивают сто твоих рейтаров. Сотвори, чтоб я мог спать по месяцу сряду, да еще сделай так, чтоб мне не больно было, когда твои дармоеды станут тормошить меня.
– Ты дурак! – сказал Борис, улыбнувшись. – Ешь, пей и спи, сколько хочешь и когда хочешь, а прочее не в моей власти.
– Не в твоей власти! – возразил шут. – Плохо, кормилец! Ну, так сделай, чтоб я не старелся. Красные девицы называют уж меня старым чертом, хотя я и подстригаю бороду.
– Глупец! Ты просишь невозможного, – сказал царь, развеселившись. Шут почесал голову и сказал:
– Так сделай, по крайней мере, чтоб я смеялся, когда хочется плакать.
^– И этого не могу, – отвечал царь, улыбаясь.
– Так что же ты можешь, кормилец? – спросил шут, подбоченясь.
– Могу велеть тебя побить порядком и проморить голодом, чтоб ты не врал пустяков, – сказал царь весело.
– Можешь побить, а не можешь сделать, чтоб было не больно, когда бьют; можешь проморить голодом, а не можешь сделать, чтоб я ел и пил один за сотню, – сказал шут. – Невеликая же радость тебе, кормилец! Впрямь, я был дурак, что завидовал тебе, думая, что ты все можешь сделать, что захочешь! Твой сын Федька дал мне пять алтын: на, возьми, батько; может быть, тебе надобно более, нежели мне. Ты кормишь и поишь целые сотни дармоедов, а тебя никто не потчевает: я никого не кормлю, не пою, а меня же все потчевают даром. – Шут протянул руку с деньгами.
– Спасибо, Кирюшка! – сказал царь, смеясь, – мне не надобно денег.
– Так что ж тебе надобно? – спросил шут.
– Мне ничего не надобно: я все имею, чего пожелаю, – отвечал царь.
– Так, стало быть, тебе и желать нечего и радоваться нельзя, когда получишь, чего хотелось! – сказал шут, сложив руки крестом. – Дурак я был, что завидовал тебе, думая, что ты, сидя один, размышляешь, чего бы захотеть да как бы достать; а после веселишься, когда получишь!
Царь призадумался и сказал про себя: "Недаром умные люди делают глупости, когда и дураки умно рассуждают". Потом, обратясь к шуту, примолвил:
– А ты чего бы хотел?
– Новую пару платья, такую, как ты подарил Сеньке Годунову, который вдвое глупее меня. Он всегда сердится, хоть его никто не бьет, напротив, сам бьет других; а я смеюсь, хоть меня все щиплют, как опаренную курицу. Хочу иметь коня с сбруей, чтоб разъезжать по Москве, как твой немец доктор, который чванится тем, что ему больные показывают язык; а мне так высовывают язык и здоровые. Хочу, чтоб ты дал мне вотчину, как князю Ваське Шуйскому. Не мудрено сгибать ему прямую спину, когда и мой горб гнется дугою перед тобой. Хочу, чтоб ты пожаловал меня стольником, как князя Тимошку Трубецкого, за вранье. Я заслужил более, потому что вру тебе втрое больше. Вот видишь, что я лучше всех твоих жалованных и так хочу…
– Постой, довольно, довольно! Радуйся же теперь, что ты многого желаешь. Не получишь ничего! – сказал царь, принужденно улыбаясь.
– Так подари хоть полтиной! – сказал шут, протянув руку.
Царь взял со стола полтину и дал шуту.
– Выторговал, выторговал! – воскликнул Кирюшка, запрыгав по комнате. – Послушай, отец родной, не гневайся, а твои бояре умнее тебя. Я у них выучился мастерски просить, а у тебя не хочу учиться бестолково давать. За твою полтину повторю тебе сказку, которую я сказал за гривну Ваньке Мстиславскому. Жила-была дойная корова; все нагибались перед и и, чтоб доить молоко, а она думала, что ей кланяются. Вот и вся недолга! Мы, бедные, обираем вас, богатых; веселимся на ваш счет и платим вам поклонами. Вот и ты грустишь от того, что тебе нечего и не у кого просить и не перед кем кланяться. Прощай, кормилец, пойду протру глаза твоей полтине, она у тебя, чай, прислепла в темном углу.
Шут поклонился и вышел. Борис Федорович посмотрел ему вслед и сказал про себя: "Вот как правда пробивается сквозь грубую оболочку дурачества. Право, этот шут счастлив! Если б мне было не стыдно самого себя – я бы мог в тяжкие мои минуты позавидовать Кирюшке!"
Борис Федорович прошелся несколько раз по комнате, потом сел за свой письменный стол и стал перебирать бумаги. Сторожевой постельник вошел в дверь, низко поклонился царю и сказал:
– Боярин князь Василий Иванович Шуйский просит позволения бить челом тебе, великому государю, и переговорить о весьма важном деле, не терпящем отлагательства.
– Проведи его ко мне, – отвечал государь и продолжал перебирать бумаги.
Князь Василий Иванович вошел в палату, помолился, наклонился до земли царю и остановился возле дверей.
– Что скажешь, князь Василий? – спросил государь.
– Великий государь, – отвечал Шуйский, – в народе носится весть ужасная. Будучи предан тебе душою, я поспешил к тебе с донесением. Распространились слухи, что царевич Димитрий Иванович – жив!
– Жив! – воскликнул Борис, приподнявшись быстро со стула и побледнев, как полотно. Помолчав несколько, царь сказал: – Князь Василий! подумал ли ты о своей голове?
– Государь! я твой головою и животами, – отвечал Шуйский, – и без вины виноват, если усердие мое к извещению тебя о народных толках ты почитаешь виною. Но я готов целовать крест, что ни делом, ни волею не участвую в сем злом умысле и, услышав сегодня сию весть, тотчас поспешил к тебе, великому государю, чтоб действовать, как ты прикажешь.
Борис Федорович сел в кресла, принял спокойный вид и сказал:
– Расскажи мне подробно, как и от кого ты услышал эту нелепую весть.
Боярин отвечал:
– Именитый московский гость Федька Конев пришел ко мне и сказал: "Князь Василий Иванович! великая смута готовится Московскому государству. Мещанин Сенька Лукошин признался мне, что он был в царском кружале с стрелецким десятником Петрушкою Лукиным, углицким ямщиком Силкою Васильевым, пономарем Чудовского монастыря Леонтьем да дворовым человеком боярина Федора Никитича Романова Ванькою; там они говорили о всякой всячине, и пономарь Леонтий сказал им, что какой-то чернец дал горсть серебра нищим на паперти церкви Вознесенья и велел им молиться за царевича Димитрия Ивановича, примолвив, что он жив. Когда же стрелец Петрушка сказал, что это ложь, то какой-то молодой человек, сидевший на краю, бросил на стол горсть ефимков, примолвив: "Чернец сказал правду, царевич Димитрий жив; пейте за его здоровье!" Петрушка закричал "слово и дело", но молодой человек ускользнул в толпе, а Петрушка, убоясь розыска, не объявил в Тайной об этом, а сказал только, что какой-то пьяница бранил тебя, государя". Гость Тараканов признался также Федьке Коневу, что сын его был на празднике в Александровской слободе, запил с приятелями и что навеселе крылошанин Чудова монастыря Мисаил Повадин сказал им также, что царевич Димитрий жив. Но где скрывается этот мнимый Димитрий, того никто не объявил. Вот все, что я знаю, и целую крест на этом. Как желаю спасения душе своей, так говорю тебе истину, великий государь!
Борис Федорович слушал внимательно повествование Шуйского, и когда он умолк, царь все еще, казалось, слушал. Наконец он сказал:
– Присядь, князь Василий, и напиши мне все имена и все обстоятельства этого дела, так, как ты мне теперь сказал.
Борис встал, и, пока Шуйский писал, он прохаживался медленно по комнате.
– Готово, государь! – сказал князь Шуйский, встав со стула.
Государь остановился, посмотрел на Шуйского и сказал:
– Это злодейский умысел моих врагов, чтоб нарушить мое спокойствие, чтоб устрашить меня. Но если б земля разверзлась под моими ногами и небо обрушилось – погибну, но не устрашусь! Ты знаешь меня, князь Василий!
– Великий государь! – отвечал князь Шуйский, – нет сомнения, что это умысел твоих недоброжелателей. Открой нам их имена, и если б между ними был родной брат мои, я растерзаю его собственными руками в глазах твоих. Казнь и гибель изменникам!
– Нет, князь Василий, – сказал государь, – возлагая царский венец на главу мою, я клялся не проливать крови, наказывать преступников мерами исправительными, делиться с бедными последнею рубахою и собственностью моею награждать верную службу. Я сдержал клятву. Не хочу губить моих врагов: они мне не страшны при любви народной, при усердии верных моих бояр. Но хочу открыть источник злого умысла, чтоб пресечь его в самом начале для блага общего, для спокойствия России. Я не думаю о себе, князь Василий: мне дорого спокойствие России.
– Ты – Россия, государь! – отвечал князь Шуйский. – Что значит семья без отца? Без пастыря овцы не стадо. Одна твоя спокойная минута – годы счастья для России. Осмеливаюсь умолять тебя, государь, именем отечества истреби с корнем враждебные тебе роды. Повели, я сам буду первым исполнителем твоей воли! – При сих словах князь Шуйский бросился в ноги государю и снова воскликнул: – Умоляю тебя, позволь изгубить злодеев, которые осмеливаются восставать противу спокойствия нашего отца, нашего государя законного!
– Встань, князь Василий, – сказал государь, – похваляю тебя за усердие к престолу и благодарю за любовь ко мне, но не хочу прибегать к средствам жестоким; России надобно отдохнуть после ужасов Иоаннова царствования. Мои средства – кротость и любовь. Опасность не так велика, как ты думаешь. Это сказка, сплетенная злыми людьми и пересказываемая глупыми, праздными и легковерными. Поговорят и позабудут! Ты сам был на следствии в Угличе, ты знаешь лучше других, остался ли в живых царевич Димитрий.
– Великий государь! – сказал с жаром Шуйский, – я своими глазами видел окровавленное его тело, своими руками ощупал глубокую язву в горле, держал нож, смывал кровь…
– Довольно, довольно! – воскликнул Борис, побледнев и содрогнувшись. – Ты должен свидетельствовать в истине смерти царевича, если будет нужно.
– Головою моею отвечаю! – сказал князь Шуйский.
– Теперь ступай домой с Богом, князь Василий, – сказал государь, – и до времени не говори никому ни слова.
Шуйский поклонился царю до земли и вышел. Борис позвал сторожевого постельника.
– Пошли конного человека к боярину Семену Никитичу Годунову, чтоб он немедленно явился ко мне, – сказал государь. Когда постельник вышел, Борис Федорович стал на колени перед образом и начал усердно молиться и класть земные поклоны.
Семен Никитич Годунов, дальний свойственник царя Бориса Федоровича, имел звание боярина и окольничьего, но не занимал никакой особенной должности, а был употребляем государем в различных делах. У Бориса Федоровича не было вовсе любимцев; никто не пользовался особенною его доверенностью. Он осыпал многих бояр своими царскими милостями; казна его была для всех открыта, но сердце затворено. Он иначе не беседовал с боярами, как при свидетелях, и поодиночке допускал к себе только по делам людей должностных. Никто не мог похвалиться предпочтением при дворе, царскою дружбою, привязанностью. Борис щедро наградил прежних друзей своих, помогавших ему к возвышению, но не терпел их при себе; не хотел, чтоб они были свидетелями его величия и припоминали ему прежнее состояние. Самые ближние бояре и царедворцы знали и видели Бориса Федоровича только как государя и никогда не проникали в подробности частной его жизни, не знали Бориса как человека, не делили с ним ни радостей, ни печалей. Царь Борис казался всем выше смертного: являлся всегда в царском величии и с одинакою важностью в делах и на пиршествах. Только жена, сын и дочь проникали в глубину души Борисовой. Для них только пылала нежная любовь в сердце угрюмого царя. Пред ними только Борис не скрывал ни радостей своих, ни надежд, ни печалей, ни опасений. Из всех родственников своих и свойственников, которых судьба тесно соединена была с его участью, Борис более употреблял боярина Семена Никитича Годунова, не по особой к нему любви или доверенности, но по непреклонности и суровости его нрава и по точности, с какою он исполнял царские поручения. Боярин Семен Никитич был нелюбим боярами и народом за свою жестокость и гордость. Все, что делалось дурного, приписывали наущениям Семена Никитича; всякое крутое или жестокое исполнение воли царской почитали делом боярина, вопреки царскому желанию. Царь Борис Федорович в семейном своем кругу называл в шутку Семена Никитича своею палкою. На просьбы царевича Феодора удалить от важных дел боярина, ненавистного народу, Борис Федорович отвечал: «Он мне нужен как яма, куда сливается народная ненависть, не касаясь меня. Другие мои вельможи похищают у меня сокровище мое, любовь народную, а мой Семен Никитич копит его для меня и отдает с лихвою. Без зла нельзя обойтись для самого добра. И Господь Бог терпит дьяволов! Так пусть же Семен Никитич будет при мне земным сатаною, если меня называют земным Богом. Я держу его на привязи и спускаю тогда только, когда нужно злом истребить зло. Он мне самому гнусен – но пригоден. Немецкий доктор мой говорит, что лютейшим ядом излечивают тяжелые недуги». – Так говорил и так думал о боярине Семене Никитиче царь Борис, а в народе завидовали счастью боярина Семена Годунова, думая, что он пользуется любовью и доверенностью государя!
Боярин Семен Никитич немедленно явился к царю. На зверском лице его изображалось беспокойство, смешанное с любопытством. Он поклонился царю и в безмолвии ожидал повелений.
– На, прочти это! – сказал государь, подавая боярину бумагу, написанную князем Васильем Ивановичем Шуйским. Бледное, сухощавое, покрытое морщинами лицо боярина Семена Никитича покрылось багровыми пятнами. Впалые глаза засверкали, и тонкие, едва приметные синеватые губы скривились. Злобная улыбка показалась на устах, как молния пред громом. Бумага дрожала в его руке. Царь Борис отвратил взоры от своего поверенного: страшно было смотреть на него!
– Ну, что скажешь, Семен Никитич? – спросил государь, когда боярин прочел бумагу и вперил в него свои кровожадные взоры.
– Всем один конец, – отвечал боярин, – камень на шею да в воду, начиная с князя Василья. Все детки одной наседки.
– Ты с ума сошел, Семен! – воскликнул Борис. – Скажи, что ты в самом деле думаешь об этом?
– Другой мысли у меня нет, – сказал боярин, – как схоронить злые языки вместе с злою молвой.
– Это невозможно! – возразил Борис. – Ведь это молва народная. Виноват ли тот, кто слыхал? А может быть, таких наберется много, что слышали противу своей воли. Надобно сделать розыск и добраться до тех, которые распустили вести. В противном случае виноват и ты, что слышал от меня.
– Если б я услышал эту весть от другого, то на месте убил бы изменника, – отвечал боярин. – Так каждый должен был сделать, а кто не сделал – виноват!
– Помилуй, Семен, да ведь на это есть закон, – возразил государь. – Самоуправство гибельнее всех злоумышлении, потому что оно оправдывает злые умыслы.
– Злоумышление противу особы государя – вне закона, – отвечал боярин.
– Это правда, но надобно отыскать виновных, а не кидаться, как бешеному, на встречного и поперечного. Надобно порасспросить все лица, о которых упоминается в записке князя Василия, исключая самого князя.
– Позволь спросить, государь, а почему же не начать с князя Василия? – примолвил боярин.
– Потому, что он сам объявил все, что знает, – отвечал государь. – Я велю за ним тайно присматривать. Но трогать его ненадобно до поры до времени. Я не хочу тревожить бояр без нужды.
– Но это боярский умысел, – сказал Семен Никитич.
– И я так думаю, – отвечал Борис, – но надобно с точностью узнать, откуда именно вышли эти толки. Я надеюсь, что от твоего зоркого глаза не укроется истина.
– Я выжму признание из камня, – сказал боярин, – только дай мне волю, великий государь. Сего дня же всех в Сыскной приказ и в пытку!
– Не горячись, Семен! этим все испортишь, – сказал государь, – я не хочу этому делу придать важность, обратив на него внимание розыском, преследованием, заключением в темницы. Нет, надобно сделать все потихоньку, чтоб в Москве даже не знали, что мы производим следствие. Богатых купцов Конева и Тараканова должно под каким-нибудь предлогом выманить за город, отправить в дорогу, а в пути перехватить и привесть ночью в Москву. Стрельца выслать, будто с ссыльным, в дальний город; других людей надобно также как-нибудь схватить и припрятать, так, чтоб никак не догадались, что они взяты в Тайный сыскной приказ. Понимаешь меня, Семен? Тихо, чинно, без шуму, без соблазна! Более всего помни, что схваченным к допросу следует вперить: что я ничего не знаю об этом, что они заключены без моего ведома, одною твоею властью, по твоим подозрениям. Когда же доберемся до правды, виновных ты накажешь, а правых я помилую, пожурив тебя перед людьми за самоуправство и наградив тайком по-царски за верное исполнение моего поручения.
– Великий государь! надейся на меня, как на самого себя. Все сделаю, как хочешь и как велишь, – отвечал боярин.
– Как ты думаешь, Семен, неужели возможно, чтоб Димитрий-царевич в самом деле был жив? – спросил государь.
– Я знаю только, что он не должен быть жив! – отвечал боярин.
– Это так, – возразил Борис, – но я спрашиваю: неужели известие о его смерти в Угличе несправедливо; неужели он спасся… то есть, неужели он не умертвил сам себя?
– Качалова, Битяговского и Ждановой нет в живых, но столько людей видели труп царевича, хоронили его, скрепили свидетельство свое подписью и крестным целованием, что сомневаться не должно, – сказал боярин. – Впрочем, я стою на одном: сказано народу, что царевич погиб, так нет и не должно быть царевича Димитрия!
– Странное дело! – сказал государь. – Как могла родиться мысль, что царевич жив, после стольких лет всеобщей уверенности в его смерти? Злые люди разглашали разные вести о роде его смерти – это другое дело! Подозревать можно всякого. Но что он жив – это непостижимо! Неужели мог явиться человек столь дерзновенный, чтоб назвать себя царевичем? Нет! Это невозможно, совершенно невозможно, не правда ли?
– И я так думаю, что это одни слухи, – отвечал боярин. – Надобно быть безумным, чтоб подумать только назваться царевичем! Кто в здравом уме захочет добровольно подставить сердце под нож…
– Молчи ты с своими ножами! – сказал царь гневно. Потом, помолчав, продолжал:– Странно, непостижимо! как можно выдумать это? С чего они это взяли! – Борис, прошед несколько раз по комнате, сел в кресла, потупил глаза и сказал тихим голосом: – Я знаю, Семен, что ты не живешь с своею женою, что у тебя есть любовница…
– Виноват, государь, помилуй! – воскликнул боярин, бросившись к ногам Бориса.
– Не в том дело, не в том дело, Семен! – сказал государь. – Встань и выслушай до конца. Я знаю, что у тебя есть любовница, Федосья, которая, говорят, упражняется в чернокнижестве, предсказывает будущее, угадывает чужие тайны, если успеет дотронуться до человека; наводит недуги шепотом и лечит заговариванием, имеет какие-то талисманы, которые приносят счастье… Правда ли это?
– Великий государь! Правда, что Федосья гадает, предсказывает, но не может угадывать чужих тайн; не наводит недугов, не имеет талисманов. В этом клянусь тебе. У меня одно средство к узнанию тайны – пытка!
– Не бойся! ты думаешь, может быть, что я опасаюсь, чтоб она не узнала моих тайн. У меня перед тобою все открыто, любезный мой свойственник Семен Никитич; но я хотел бы, чтоб она поворожила мне, предсказала будущее, и, если можно, не зная, что ворожит для меня (34). Видела ли она меня когда?
– Видела, государь, и знает тебя давно, – отвечал боярин, – ничего не хочу скрывать перед тобою. Но ты можешь смело положиться на ее скромность.
– Хорошо, пусть будет по-твоему, – сказал царь. – Итак, предуведомь ее и завтра, как смеркнется, приходи ко мне; мы вместе тайком пойдем к ней. Где она живет?
– Через дом от меня, – сказал боярин.
– Теперь ступай, Семен, и начни сыскное дело, – сказал царь, – только, пожалуйста, без шуму. Помни, что птиц ловят тихомолком, а только на больших зверей нападают с криком и шумом.
Боярин поклонился и хотел выйти.
– Постой, постой, Семен! – воскликнул царь. – Из ума вон! Забыл главное. В Москве должен быть странствующий чернец Григорий, из роду, помнится, Отрепьевых. Справься об нем в Чудове монастыре; он там часто бывает. Этот Григорий, как он говорил, пришел сюда из Киева и был до того в Иерусалиме и на Афонской горе. Он среднего роста, рыжеват волосом, бел лицом, молод, лет двадцати двух или трех. Я подозреваю его в кознях. Схватить его и припрятать до окончания розыска и свести на очные ставки с теми лицами, которые поименованы в записке князя Василия. Только в монастыре не делать шуму, повторяю!
Боярин вышел, и Борис стал прохаживаться медленно по комнате. Сходство монаха Григория с польским дворянином, которого он приметил в свите посла во время представления, это сходство сильно поразило Бориса. Теперь это пришло ему на память. Глаз его был изучен читать на лицах, и, невзирая на разность одежды, разительное сходство монаха с поляком не укрылось от проницательных взоров Бориса. Черты лица дерзкого снотолкователя глубоко напечатлелись в сердце царя. Он раскаивался теперь, что не велел задержать снотолкователя; стал припоминать все слова, все иносказания монаха и еще более удостоверился, что чернец Григорий должен быть замешан в распускании вестей насчет Димитрия-царевича. Царь подозревал даже, что он – тот самый монах, который роздал нищим щедрую милостыню и велел им молиться за здравие Димитрия Иоанновича. Борис сел за письменный столик и, думая, что он еще не слишком настоятельно приказал боярину Семену Никитичу поймать чернеца Григория, написал письменное повеление:
"Боярин Семен Никитич! Во что бы ни стало должно поймать странствующего чернеца Григория Отрепьева. Противу него одного позволяю даже употребить явное насилие, ежели не будет других средств схватить его. Живой или мертвый, он должен быть в твоих руках. По моим соображениям, он должен быть виновнее всех. Писание сие возврати мне завтра, собственноручно, по старому обычаю. – Царь Борис".
Борис свернул письмо, запечатал, позвал сторожевого постельника и велел ему немедленно самому отдать в руки боярину Семену Годунову.
Царь Борис вознамерился расспросить на другой день пристава при послах польских о всех членах посольства и поразведать подробно о том молодом человеке, которого необыкновенное сходство с русским монахом встревожило его подозрительное сердце и посеяло черные мысли в его опытном уме. Между тем уже смерклось, и Борис пошел в терем к своей супруге.
ГЛАВА VII
Бегство из Москвы. Предатель. Убийство.
Еще не рассеялся мрак зимнего утра, но Леонид, при свете лампады, уже трудился в своей келье и переписывал хартию, данную ему Иваницким, о несчастиях Димитрия-царевича. Вдруг тихо постучались у дверей. Леонид спрятал рукопись за печь и отворил двери. Вошел давний его знакомый подьячий Андреян Тулупов; с беспокойством осмотрел комнату, выглянул в коридор и, взяв Леонида за руку, поспешно подвел его к окну и сказал:
– Да не покажется тебе странным, что я пришел к тебе в эту пору. Беда, беда великая нам угрожает! В городе разнеслись слухи о чудесном спасении царевича Димитрия, и весть о сем дошла до государя. Он повелел схватить всех, кто только повторял эту весть, всех, кто слышал, и злому боярину Семену Никитичу поручил сделать розыск. По несчастью, я слышал также о царевиче от крылошанина вашей обители Мисаила Повадина и, как верный россиянин, радовался перед другими спасению законного государя. Мисаила схватили под Москвою, и он показал на многих, а в том числе и на меня. Из вашей братьи велено взять тебя, отца Варлаама и какого-то странствующего чернеца Григория из роду Отрепьевых. Родственник мой, служащий в Тайном сыскном приказе, сказал мне, что нам не миновать пытки и что в наступающую ночь поберут всех нас в темницу. Я пришел к тебе предостеречь от угрожающей опасности и просить совета, что должно делать в этой беде.
Леонид во время сего повествования изменился в лице. Он подумал и сказал:
– Надобно бежать из Москвы, это одно средство к спасению. Мисаил изменил!.. Хотя я ни в чем не виноват, но боярин Семен Никитич привык искать жертв, а не истины. Надобно бежать!
– Знаешь ли ты этого отца Григория? – спросил подьячий. – Мисаил показал, что он твой приятель и проживал у тебя в келье. Надобно было бы предуведомить его об угрожающей ему опасности.
– Откуда у тебя такое сострадание к неизвестному тебе человеку, Андреян? – сказал Леонид. – Надобно думать прежде о себе, а там уже о других.
– Я оттого сострадаю к незнакомому мне человеку, что его велено поймать непременно, преимущественно пред другими, и даже назначили великую награду за его голову, – сказал подьячий. – Признаюсь тебе, что, если в самом деле правда, что царевич жив, то я душой за ним и хотел бы спасти преданного ему человека: он, верно, знает много кое-что о царевиче, когда об нем хлопочут более, нежели о других.
– Не бойся за отца Григория! – отвечал Леонид. – Он нелегко попадет в силки, и убежище его безопасно от поисков.
– Но все-таки лучше предуведомить, – возразил подьячий. – Пойдем, отче, и спасем доброго человека!
– Я не могу видеться с ним при чужих людях, – отвечал Леонид.
– Итак, спаси по крайней мере меня! – возразил подьячий жалобным голосом. – Я никогда не выезжал из Москвы и попаду в беду на первом ночлеге. Не знаю даже, куда бежать?
– Всякое место хорошо от казни и пытки, – сказал Леонид. – Если хочешь бежать с нами, достань себе монашескую рясу, запасись деньгами и ожидай в сумерки за Серпуховскою заставой, в роще, что направо от большой дороги. Я туда непременно явлюсь, быть может, с товарищем; свистну три раза – тогда выходи из лесу. Теперь ступай отсюда. Мне надобно в Москве исправить кое-какие дела.
Лишь только подьячий вышел, Леонид положил за пазуху свои бумаги, надел дорожную рясу, собрал все свои деньги и поспешил в келью к Варлааму, которого застал в постеле.
– Вставай, брат, бери посох и ступай за мною немедленно, – сказал Леонид.
– Куда, зачем? – спросил Варлаам, протирая глаза.
– Куда глаза глядят! – сказал Леонид. – Измена! Мисаил предал нас. Пытка и казнь нам угрожают!
Варлаам вскочил с постели и, смотря пристально на Леонида, долго не мог вымолвить слова.
– Измена! – воскликнул он наконец. – Что делать нам?
– Говорю тебе, бежать, и немедленно, – возразил Леонид. – Одевайся!
Чрез несколько минут Варлаам был одет. Леонид взял его за руку, и они вышли за монастырские ворота.
– Пойдем теперь к Иваницкому и уведомим его обо всем, – сказал Леонид. – Его ищут под другим именем, под именем отца Григория Отрепьева; но все надобно, чтоб он знал, что делается.
Едва Леонид успел вымолвить сии слова, как вдруг из-за угла монастырской стены предстал Иваницкий, в одежде русского купца.
– Мы к тебе! – воскликнули в один голос Леонид и Варлаам.
– А я к вам! – отвечал Иваницкий.
– Измена! – сказал Леонид. – Мы спасаемся бегством из Москвы… нас ищут…
– Все знаю, – сказал Иваницкий. – Но кто вас предуведомил об этом?
– Старый мой приятель, подьячий Андреян Тулупов, который также попал в нашу беду, – отвечал Леонид. – Он особенно беспокоился о тебе, то есть об отце Гри-горье Отрепьеве, сказав, что тебя велено схватить во что бы то ни стало.
– Обо мне беспокоился! – сказал Иваницкий. – Я поблагодарю его за это. Где он?
– Мы назначили свидание в роще, за Серпуховскою заставой, сего дня в сумерки.' Днем опасно пуститься в путь, и мы хотим прождать в Москве до вечера. Здесь, как в лесу, не скоро отыщут; мы укроемся до вечера у приятеля.
– Хорошо, но куда же вы намерены бежать? – спросил Иваницкий.
– Сами не знаем куда! – отвечали монахи.
– Подождите же меня, я буду вашим путеводителем, – сказал Иваницкий. – Мне нельзя долее оставаться в Москве. Царь Борис имеет смышленых лазутчиков, и, отделавшись от десяти, попадешься в руки одиннадцатому. Звание польского дворянина и переводчика литовского канцлера не спасет меня от мести Бориса. Для своего спокойствия он готов предательски извести не только целое посольство – целую Москву, Россию! Бегу с вами, пока прощайте; я буду в сумерки за Серпуховскою заставой; но пусть подьячий ждет нас в роще; а вы, друзья, подождите меня на постоялом дворе и не видайтесь с ним прежде. Я должен встретиться с ним прежде вас и между прочим поблагодарить его за память обо мне.
Монахи пошли в одну сторону, а Иваницкий возвратился на Литовское подворье, переоделся и, лишь только канцлер Сапега встал с постели, велел доложить о себе и вошел в кабинет посла.
– Вельможный канцлер! – сказал Иваницкий, – поручение мое кончено. Теперь вы можете предлагать какие угодно условия к миру; я вас уверяю, что царь Борис согласится. Я возбудил противу него неприятеля – мнение народное. Борис, из опасения внутренних беспокойств, согласится прекратить все внешние распри. Но мое положение становится здесь опасным: я еду в Польшу, сегодня же!
– Вам должно объясниться со мною подробнее, – отвечал Сапега. – За действия ваши отвечаю я пред королем и народом. Мне должно знать, на чем вы основываете свое предположение, что царь Борис согласится непременно на заключение мира. Что побуждает его к такой скорой перемене в мыслях и поступках и, наконец, какие средства вы употребили для успеха в столь важном деле?
– Вы не можете узнать от меня причины перемены Борисова намерения и моих средств, – отвечал Иваницкий хладнокровно. – Я не властен в чужих тайнах. Впрочем, зачем вам знать средства, когда следствия вам благоприятны? Я клянусь пред вами, Богом, честью, жизнью, всем, что мне священно в мире, что я действовал и действую в пользу Польши и ко вреду царя Бориса. Вам не долго ждать, чтоб увериться в истине слов моих. На первое ваше предложение об окончании переговоров царь согласится на мир. Чего же вам более? Вы за этим только сюда прибыли, того только желали и то только обещали королю и Сейму. Вы нашли трудности в исполнении своего намерения: я устранил их, привел вас к цели ваших желаний – и вы хотите непременно знать, какими средствами! Вельможный канцлер! я надеялся от вас более доверенности, более внимания к моим заслугам. Вам ручалось за меня целое Общество отцов иезуитов, ручалось за иноверца, зная меня. Чрез несколько дней истина слов моих подтвердится делом, а для того, чтоб вы были спокойны в течение нескольких дней, поручительство иезуитов довольно важно и должно оградить меня от всяких подозрений. Я бы мог отлучиться тайно, но я должен был вас предуведомить, что наступило время к начатию переговоров и что обстоятельства, мною устроенные, вам благоприятны. Я трудился для вас, для Польши и, не подвергая ни вас, ни Польши ни малейшему подозрению, приблизился к той черте, где начинается опасность для меня одного – невидимой пружине всех действий. Итак, уважьте мои заслуги, мое самоотвержение: не утруждайте себя и меня излишними расспросами, будьте спокойны, уверены в успехе своего дела – и прощайте. В Польше я буду иметь честь явиться к вам и припомню ваши обещания ходатайствовать за меня у короля и народа.
Канцлер Сапега спокойно слушал речь Иваницкого, то посматривал на него, то отпускал глаза и, казалось, не знал, на что решиться. Давно уже Иваницкий кончил речь, но Сапега все еще молчал. Наконец он встал со стула и, взяв за руку Иваницкого, сказал:
– Мне ничего не остается, как верить вам, и я охотно следую сей необходимости. Если сбудется то, что вы предсказываете, вы можете всю жизнь требовать от меня защиты и покровительства. Увидим! Удерживать вас я не могу, если вы почитаете себя в опасности, но в теперешнем случае не могу пособить вам. Каким образом вы надеетесь достигнуть польских пределов в стране подозрений, между народом, который не осмелится ослушаться приказаний своего государя?
– Это мое дело! – сказал Иваницкий. – Я ничего не требую от вас, кроме доброго расположения на будущее время и оправдания каким-нибудь вымыслом отлучки моей пред глазами посольства.
– Это я вам обещаю, – сказал Сапега, – на ваше место мы возьмем одного из молодых литовских купцов для пополнения числа свиты. Между тем позвольте предложить вам помощь: путеводителя, необходимого в странствии. – Сапега вынул из ящика кошелек с золотом и подал Иваницкому.
– Возьму заимообразно и благодарю вас, вельможный канцлер, за великодушие. Хотя я не нуждаюсь теперь в деньгах, но могут случиться непредвидимые обстоятельства, в которых спасение должно будет купить золотом. Прощайте!
Сапега обнял и поцеловал Иваницкого. Он пошел в свою каморку и, не застав Бучинского, написал к нему краткую записку, в которой уведомил о своем отъезде по делам службы и просил наблюдать за слугами, чтоб они не проговорились об его отлучке перед русскими приставами. Взяв свое оружие и небольшой узел, Иваницкий вышел из Литовского подворья, чтоб более туда не возвращаться.
* * *
Едва начало смеркаться, кибитка, запряженная парою лошадей, остановилась перед постоялым двором за Серпуховскою заставой. В избу вошел щеголеватый купчик в синей лисьей шубе, опоясанный шелковым кушаком, сбросил с себя верхнюю одежду, сел за стол, потребовал водки и закуски и стал разговаривать с словоохотным стариком, дедом хозяйским, который лежал на печи.
– A что, батюшка, правда ли, что везде являются чудеса и знамения и будто письменные люди толкуют, что быть преставлению света? – спросил старик.
– Так толкуют, а Господь ведает, правда ли, – отвечал купец, – Только чернецы стали богомольные и толпами идут к святым местам. Я думаю, и к вам часто заходят чернецы, верно, были и сего дня. Так ты бы, дедушка, порасспросил их. Они искусны в книжном деле.
– Перед твоим приходом были два чернеца, да такие угрюмые, что страшно и заговорить с ними. Они заказали селянку и хотели быть назад, так поговори ты с ними, родимый! – сказал старик.
– Так здесь уже были два чернеца? – спросил купец.
– Были, батюшка, и опять воротятся, – отвечал старик. – А видел ли ты сам чудеса, родимый? – спросил он. – Я стар и плохо вижу, так редко выхожу за ворота.
– О каких же чудесах рассказывали тебе, дедушка? – спросил купец.
– Говорят, что по два солнца вместе, по два месяца являются на небе; что перед солнечным восходом видят кровавые кресты на облаках, что родильницы родят мертвых младенцев или уродов; что дикие звери бегают по городам, как по лесу, говорят много кое-чего (35). Господи, святая твоя воля, дожили до конца света! Ведь здесь, батюшка, собирается всякий народ, так наслышишься всяких речей, а все толкуют что-то недоброе. – Старик, сказав сие, перекрестился и заохал.
– Все правда, сущая правда, дедушка! – сказал купец. – Молись Богу за нас, грешных.
В сие время два монаха вошли в избу. Они поздоровались с купцом, велели подать заказанный ужин и вышли все трое за ворота.
– Ну, братцы, все готово, дай Бог скорее в путь, – сказал Иваницкий. – Я еду в Стародуб купцом; вот у меня и вид от дьяка Ефимьева, а для вас я заготовил патриаршую грамоту и указ для осмотра патриарших имений в Малороссии. Только б удалиться от Москвы, а далее опасаться нечего. У меня целый день ничего не было во рту; перекусим, да и с Богом.
– А наш бедный подьячий Андреян? – спросил Леонид. – Ведь он предостерег нас, и я обещал взять его с собою. Он, верно, дожидается нас в роще. Ведь без нас он пропадет, не зная дороги, ни места.
– Он не поедет с нами, но я приготовил для него безопасное убежище, – сказал Иваницкий. – После ужина ты, Варлаам, ступай один в рощу, вызови подьячего; скажи, что отец Григорий здесь и хочет с ним повидаться наедине, вот в этом овраге. Только не говори, что я переодет купцом, слышишь ли?
– Хорошо, все сделаю по твоему приказу, – отвечал Варлаам, – только пойдем прежде за трапезу. Я ослаб от голода и жажды.
– Смотрите же, братцы, на постоялом дворе не подавайте виду, что меня знаете. Если б даже случилось, чтоб нечаянно напали на нас приставы и захотели взять, то, если нельзя будет сопротивляться, сдавайтесь, но не показывайте, что меня знаете. Я освобожу вас из ада, не только из тюрьмы Борисовой. Теперь я купеческий сын Сенька Прорехин, и меня не отыскивает боярин Семен Никитич. Вот вам бумаги ваши! Спрячь их пока в сапог, Аеонид; как выедем на большую дорогу, тогда они будут нужны. Теперь ступайте в избу, я приду после вас.
Хозяева постоялого двора по обыкновению не обращали никакого внимания на гостей, которые, сидя за одним столом, ели в молчании, как будто не примечая друг друга. Только старик с печи посматривал на гостей и досадовал, что купец не расспрашивает монахов о чудесах и о преставлении света. Старик то покашливал, то охал на печи, чтоб припомнить о себе купцу, но, видя, что он не примечает его знаков, сказал:
– Честной купец! как же толкуют книжники чудеса? Монахи посмотрели на него и на Иваницкого и продолжали ужинать.
– Теперь не до того, дедушка, – отвечал купец. – Поживешь годик, сам разгадаешь.
Между тем Варлаам, насытившись, встал и, дав знак товарищам, вышел. Иваницкий и Леонид расплатились с хозяевами и также вышли. Монах пошел пешком по большой дороге, а Иваницкий поехал малою рысью.
Ночь была темная, небо покрыто было облаками. Иваницкий своротил с дороги, привязал лошадей в кустах и дожидался Леонида на дороге.
– Стой при лошадях, брат! – сказал Иваницкий. – Я пришлю к тебе Варлаама, а сам переговорю наедине с подьячим. Будьте тверды и не трогайтесь с места, что б ни услышали. Я пойду в овраг.
– Что ты нового затеваешь? – спросил Леонид.
– Ничего, любезный друг! – сказал Иваницкий спокойно. – Я должен переговорить с подьячим; может быть, мы заспорим, зашумим, так я предостерегаю тебя, чтоб ты не беспокоился.
– Об чем вам спорить, об чем шуметь! – возразил Аеонид. – Теперь ли к тому время и место? Судьба соединяет нас одною горькою участью: не спор нужен, а мир и согласие.
– Аминь! – сказал Иваницкий.
Овраг находился в тридцати шагах от того места, где стояла повозка.
– Вот они идут! – воскликнул Иваницкий и поспешил в овраг. Варлаам вскоре соединился с Леонидом и сказал, что подьячий долго отговаривался и не хотел идти с ним, приглашая отца Григория к себе, но, наконец, согласился с тем, чтоб всем немедленно возвратиться в рощу.
– Блудлив, как кошка, а труслив, как заяц! – сказал Леонид.
Вдруг в овраге раздался пронзительный стон. Монахи вздрогнули.
– Посмотрим, что это значит? – воскликнул Леонид и бросился к оврагу. Варлаам последовал за ним. Они прибегают туда и видят подьячего, Андреяна Тулупова, распростертого на земле, облитого кровью. Иваницкий стоял над ним с пребольшим ножом и, упершись ногою в живот несчастного, готовился нанесть ему последний удар. Леонид схватил Иваницкого за руку и воскликнул:
– Что ты сделал, нечестивец?
– Убил предателя! – отвечал Иваницкий хладнокровно.
– Изъяснись, ради Бога, изъяснись! – сказал Варлаам.
– Это лазутчик, сыщик боярина Семена Никитича, – сказал Иваницкий. – Уже несколько дней, как я за ним наблюдаю. Он открыл тебе опасность для того только, чтоб узнать об моем убежище и поймать нас всех вместе. В роще находится десятка два вооруженных сыщиков, которые ждут, чтоб схватить нас. Мне все было известно, и я приготовил награду предателю. Говори, злодей, покайся! – завопил Иваницкий ужасным голосом.
– Виноват, простите! – сказал подьячий слабым голосом. – Отец Леонид! прими покаяние грешника и помолись за душу мою.
– Ты изготовил душе своей место в аду, – сказал Иваницкий, – и я только слепое орудие высшего промысла! – С сим словом Иваницкий вонзил нож во внутренность несчастного, и он испустил последнее дыхание. В эту минуту из-за облаков проглянула луна и осветила ужасное зрелище. Иваницкий стоял бледный, с ножом в руке, над окровавленным телом. Два монаха молились, отвратив взоры от убиенного и убийцы.
– Так погибнет всякий изменник, всякий предатель царевича Димитрия Ивановича! – сказал Иваницкий, возвысив голос. – Это первая жертва на земле русской за гнусный умысел цареубийства.
Сказав сие, Иваницкий бросил окровавленный нож на мертвое тело и тихими шагами вышел из оврага. Два монаха следовали за ним в молчании. Пришедши к повозке, Иваницкий вынул свой узел, переоделся с головы до ног и оставил в кустах окровавленную одежду.
– Садитесь! – сказал он онемевшим от ужаса монахам. Монахи сели в кибитку, Иваницкий взял вожжи и погнал во всю конскую прыть проселочным путем, с Серпуховской на Калужскую дорогу.
ЧАСТЬ II
Высота ли, высота поднебесная,
Глубота ль, глубота океан-море;
Широко раздолье по всей земле,
Глубоки омуты Днепровские.
Древние российские стихотворения, собранные Киршею ДаниловымГЛАВА I
Безуспешный поиск. Чародейство. Политика царя Бориса. Составление ложного доноса.
Сильная душа, подобно твердому металлу, нелегко принимает впечатления, но, получив однажды, удерживает навсегда. Царь Борис Федорович был выше своего века умом и познаниями в науке государственной и твердостью характера превосходил всех знаменитых россиян, своих современников; но он, наравне с другими, верил в чародейство, в предзнаменования и во влияние тел небесных на участь людей и целых народов. От детства он слышал рассказы о злых волшебниках, о предсказателях будущего и звездочетах, управлявших судьбою великих мужей древности и новых времен; в зрелом возрасте он читал в книгах о волхвах и оракулах и видел, что не только миряне, но и духовные верили сверхъестественным силам, стремящимся расстроивать порядок и согласие в нравственном и физическом мире. Общая вера порождает чудеса. Беспрестанно являлись люди, видевшие, слышавшие заклинания чародеев или испытавшие на себе их силу. Сами чародеи признавались в пытках и мучениях, что имеют связи с адом, а как пытка почиталась тогда единственным средством к открытию истины, то люди, не обращая внимания на причины, верили последствиям и собственное признание почитали выше всяких доводов. Кто не верил в то время в чародейство и астрологию, тот был почитаем нечестивым. Люди не осмеливались даже рассуждать о предметах, которые поселялись в их уме вместе со священными истинами и казались с ними неразлучными. В общем заблуждении века и великий ум Бориса утопал – подобно кормщику, погибающему вместе с кораблем во время бури.
Душевные волнения возбудили телесные страдания Борисовы: он томился подагрою, но и во время болезни питал желание увидеться как можно скорее с чародейкою Федосьею и узнать от нее будущую судьбу свою, которая обложилась тучами от снов и вестей. Уже Борис выздоравливал в марте месяце и мог прохаживаться с посохом по комнате. Вечером с субботы на воскресенье он велел позвать к себе боярина Семена Никитича Годунова.
– Я давно не видал тебя, Семен, – сказал государь. – Лекаря мои запретили мне заниматься делами, а особенно такими, которые бы могли меня обеспокоить. Ну, скажи теперь, что ты выведал об этом ложно воскресшем царевиче?
– Государь! – отвечал боярин. – Конь тянет по силам, а человек действует по мере власти. Ты позволил мне допросить только несколько человек из черного народа, которых сам назначил, а от них я ничего не мог выведать, кроме того, что тебе уже известно. Ясно, что первая весть вышла от чернецов; но те, на которых падало подозрение, бежали из Москвы прежде, нежели ты поручил мне исследовать это дело.
– Как! и чернец Григорий Отрепьев скрылся? – спросил государь с изумлением.
– Не только чернец Григорий, но И тот поляк, который похож на него лицом. Он называется Иваницким. В посольстве сказали, что он пропал без вести.
– Предчувствие мое не обмануло меня! – воскликнул царь Борис. – Этот Григорий, этот пришлец – зловещий дух, распространивший пагубную весть. Это его работа! Если б поймать его, то все бы открылось!
– Великий государь, следы заговора обширного и опасного явны и неоспоримы. Один из моих верных лазутчиков и сыщиков убит при поимке чернецов Леонида и Григория. Крылошанин Мисаил уже был пойман и везен в Москву, но освобожден на дороге толпою вооруженных людей. Не одни вести, но и вооруженная сила действует во мраке! (36) В простом народе нечего открыть: один повторяет, что слышал от другого, и эта таинственная нить исчезает в Чудове монастыре.
– Узнал ли ты, по крайней мере, кто таков этот Григорий? – спросил государь.
– По розыску подтверждается, что он сказывался сыном галичанина, стрелецкого сотника Богдана Отрепьева, зарезанного в Москве литвином. Молодой Отрепьев в мирянах назывался Юрием и служил в доме Романовых и князя Черкасского. Он вступил в монашество на четырнадцатом году от рождения и переходил беспрерывно из одного монастыря в другой: был в Суздале, в обители святого Евфимия, в галицкой Иоанна Предтечи и во многих других. В Чудове монастыре он был поставлен в иеродиаконы, находился некоторое время при святейшем патриархе Иове для письма. Но, любя жизнь вольную, странническую, оставил место, обещавшее ему возвышение, чтоб пуститься в бродяжничество (37). С точностью нельзя было узнать, где он проводил большую часть жизни, но известно, что он несколько раз ходил в Литву, а теперь, возвратясь в Москву, объявил, что посещал святые места в Иерусалиме и проживал на Афонской горе. Григорий весьма искусен в деле книжном и даже сочинял каноны святым. По объявлению знавших его, нрава он тихого, но души беспокойной, не довольной ни миром, ни отшельничеством. Во время пребывания своего по монастырям он упражнялся в чтении книг духовных, а более разных рукописей, которые он собирал со тщанием. У него находили писания на языке неизвестном, и многие говорят, что он предан волшебству (38). Впрочем, он удалялся от общества чернецов, и никто не может сообщить о нем больших подробностей. Известно только, что он человек ученый, смелый и красноречивый (39).
– Так, это его работа! – воскликнул снова царь Борис. – Не узнал ли ты чего о поляке, похожем лицом на Григория?
– Чрез маршала посольства узнал я, что этот Иваницкий – дворянин из Польской Украины, русской веры, и дан Льву Сапеге иезуитами при отправлении посольства из Варшавы. О роде и племени его никто ничего не знает.
Борис задумался.
– Никогда не прощу себе, что я отпустил свободно этого чернеца, застав в моих царских палатах, – сказал царь. – Как теперь вижу перед собою этого Григория, с пылающими взглядами, с дерзкою речью на языке. По счастью для него, по несчастью для меня, он встретился со мною в минуту моей слабости… болезни! Ты говоришь, что он проживал в доме Романовых, князя Черкасского?
– Точно так, государь! – отвечал боярин.
– Это еще более удостоверяет меня в той истине, что этот злодей, Григорий Отрепьев, есть первый распространитель вести о царевиче, главнейшее орудие заговорщиков. Если только есть заговор, то Романовы должны быть первые, а за ними князь Черкасский…
– И князья Шуйские, государь! – примолвил боярин.
– Первые Романовы! – продолжал государь. – Они, по родству своему с иссякшим родом Рюриковым, более всех думают иметь права к венцу царскому. Я помню, что говорено было по смерти царя Феодора Ивановича (40). За все это они должны заплатить мне дорого. Бывал ли теперь в доме Романовых и родственника их, князя Черкасского, чернец Григорий Отрепьев?
– Я чрез лазутчиков моих расспрашивал слуг их, но слуги объявили, что, хотя знают чернеца Григория Отрепьева, но не видали его в доме более двух лет.
– Ложь! – сказал государь. – Может быть, для избежания подозрений они виделись в другом месте. Статочное ли дело, чтоб старинный слуга дома не посетил своих прежних господ, возвратясь из дальнего пути?
– И я так думаю, государь, – примолвил боярин.
Царь Борис Федорович, который во время этого разговора сидел в креслах, опустил голову на грудь и задумался. Помолчав немного, он поднял голову, устремил неподвижные взоры на боярина, долго смотрел на него в безмолвии и наконец сказал:
– Итак, чернец Григорий – старинный слуга Романовых! Хорошо, надобно засыпать нору, так и змеи не будут вокруг ее ползать. Ступай домой, Семен! Послезавтра я буду у тебя, а между тем подумаю, что должно делать. Помни, что ты должен иметь своих верных людей в доме Романовых.
Боярин поклонился и хотел выйти, но царь остановил его:
– Постой, вот тебе на расходы! – Борис вынул из ящика слиток золота и отдал его боярину, который в безмолвии удалился.
Прошло двое суток, и здоровье царя Бориса укрепилось стараниями иностранных медиков. Желание узнать скорее будущую свою участь чародейством Федосьи придало ему новые силы. В понедельник вечером боярин Семен Годунов пришел тайно во дворец. Царь Борис, переодевшись, вышел с ним скрытым ходом из Кремлевских палат и пошел пешком к дому, где жила Федосья.
Напрасно думают знатные и богатые люди, что развратное житье и козни можно скрыть от народа неприступностью и гордостью и заставить молчать жестокостью. Не только в Москве, но и в дальних городах России знали, что свирепый любимец царский, боярин Семен Годунов, презрел юную и прекрасную супругу и предался сердцем жене одного из своих служителей, Федосье, которая управляла им по своей воле. Общая молва называла Федосью чародейкою. Несколько раз отчаянные люди, забыв страх Божий и руководствуясь одним мщением, покушались на жизнь боярина, но покушения оставались безуспешными. Боярин Семен Годунов знал все домашние тайны других бояр или, по крайней мере, говорил, что знает; при ненависти народной он пользовался милостью государя, который искал любви народа, но не хотел пожертвовать ей удалением от дел ненавистного боярина; все это приписывали чародейству Федосьи; столь же ненавидели ее, как и самого боярина, и явно проклинали гнусную чету.
Но презрение народное не заграждает пути честолюбцам к силе и власти. Люди, высокие рождением и саном, но низкие душою, тайно искали милости у любовницы сильного и злобного вельможи. Целые сундуки у Федосьи завалены были подарками, дорогими тканями, серебром и жемчугами. В делах тяжебных, в спорах местничества искали милостивого заступления хитрой рабыни, которая имела влияние на судей и на вельмож придворных. Обвиненные в угнетении народа, в грабительстве и взятках не знали другого прибежища, кроме Федосьи, и подарками снискивали ее покровительство. Судьи, в угождение боярину Семену Годунову, решали дела по воле Федосьи, которая становилась беспрестанно сильнее, приобретая несметные сокровища и наводя страх общею молвой о своем чародействе.
К царю Борису доходили вести о злоупотреблениях боярина Семена Годунова и о хищничестве его любовницы. Но, имея надобность в точном исполнителе своей воли и привыкнув к его раболепному повиновению, царь думал, что награждает его, снисходя к его проступкам, и доволен был внутренне что народ имел предмет ненависти. Царь Борис, как уже было сказано, ревновал только к любви народной и строго взыскивал лишь с тех бояр, которые старались снискивать благоволение общее. Притом же он не всему верил, что было говорено насчет боярина Семена Годунова, испытав на себе клевету, порожденную завистью. Что же касается до Федосьи, то, хотя, будучи сам примерным отцом семейства, он не мог одобрять поведения боярина, но не хотел явным соблазном расторгнуть сей постыдной связи, и притом, будучи суеверен, также страшился чародейства хитрой и злобной женщины.
Федосья, преданная корыстолюбию и не зная других радостей, кроме гнусного разврата и мести, прикрывала свои пороки усердием и преданностью к своему благодетелю. Боярин Семен Годунов, опасаясь отравы или порчи, не ел и не пил ничего наедине, что не было приготовлено руками его любовницы, и употреблял ее к выведыванию чужих тайн. Федосья имела связи со всеми старухами, промышляющими ворожбою, со всеми колдунами, покровительствовала их и награждала. Каждый слуга или чиновник, пришедший к ней с доносом и клеветою на своего господина или начальника, был уверен в милостивом приеме и в покровительстве. Повивальные бабки, лекарки, имевшие свободный доступ в домы бояр и знатнейших граждан, также были в связях с Федосьею. Она знала все, что делается и что говорится в Москве между друзьями и родственниками, и помогала боярину Семену Годунову в его розысках и допросах. Боярин наконец так привык смотреть на предметы глазами своей любовницы, что она сделалась для него необходимою, и он скорее бы решился расстаться со всеми родными, нежели со всезнающею Федосьей, которую он почитал благодетельствующею ему волшебницею.
Федосья с нетерпением ожидала прибытия государя и крайне беспокоилась, когда болезнь его воспрепятствовала сему свиданию, опасаясь, чтоб неприятели ее не воспротивились новому знакомству. Наконец боярин Семен Годунов уведомил ее, что сегодня вечером царь придет к ней на совещание. Федосья приготовилась к приему царя сообразно с понятием, какое имел об ней Борис Федорович.
В условленный час постучались у ворот дома, занимаемого Федосьею. Она сама отворила калитку и проводила государя в нетопленую баню. Боярин Семен Годунов остался в сенях, а царь вошел во внутренность, хотел перекреститься – и удержался, не видя нигде образов. Федосья остановилась у дверей, и когда государь сел на скамье, она поклонилась ему в пояс и ожидала в молчании его приказаний. В углу светилась лампада, и царь бросил взгляд на чародейку. Она ни в чертах лица, ни в одежде не имела ничего страшного и необыкновенного. Это была женщина лет сорока, полная, белокурая, со вздернутым носом. Серые глаза ее светились, как уголья. Она была одета в красный сарафан, на голове имела жемчужную повязку с красным бархатным верхом. Государь не ощутил никакого особенного впечатления при виде сей женщины, и это его ободрило.
– Я хотел узнать подругу моего верного слуги, – сказал Борис, – и сам пришел к тебе, Федосья. Я знаю, что ты предана моему роду, и за это благодарю тебя.
– Надежа-государь! – сказала Федосья, бросившись в ноги царю, – мы живем только и дышим твоею милостью и рады отдать за тебя жизнь нашу. Без тебя лютые враги, которых нажил Семен Никитич своею верною службою, растерзали бы его и меня за то, что мы денно и нощно печемся о твоей безопасности.
– Правда твоя, Федосья, у меня много врагов, которые рады были бы погубить всех моих верных слуг. Надобно быть осторожным, но ум человеческий не может всего предвидеть и открыть злоумышлении адских. Федосья! говорят, что ты искусна в тайной науке узнавать будущее. Скажи мне откровенно: что известно тебе о намерениях врагов моих, о будущей участи моего царского рода?
– Государь! я готова повиноваться тебе, – отвечала Федосья, – но можешь ли ты выдержать опыт? Ты должен молчать и смотреть на все хладнокровно, что бы ни происходило.
– Я затем и пришел сюда, – сказал государь. Федосья поклонилась в пояс и вышла.
Чрез четверть часа она возвратилась, но уже в другом виде. Белокурые ее волосы были распущены по плечам, вместо одежды на ней был саван. В правой руке она держала зажженную свечу зеленого воска, в левой несла небольшое корыто, прикрытое красным сукном. По савану она была опоясана черным кушаком, за которым был широкий большой нож. Федосья остановилась посредине бани, придвинула скамейку, поставила на ней корыто, задула лампаду и прикрепила к стене зеленую свечу. Воротясь к корыту, она отбросила сукно, и царь, приподнявшись со скамьи, увидел черную кошку, связанную по лапам, с окутанным рылом. Чародейка вынула нож, махнула им три раза по воздуху, очертила себя кругом по полу и вонзила острие во внутренность животного, громко воскликнув: "Шайтан! Шайтан! Шайтан!" – Зарезанное животное стало биться и визжать: чародейка в другой раз ударила в него ножом и распорола его внутренность. Потом она нагнулась над корытом и начала шептать тихим голосом. Оборотясь к царю, она подозвала его движением руки. Лишь только царь Борис подошел к корыту, из внутренности зарезанной кошки вспыхнуло синее пламя, выползло несколько змей и выпрыгнуло множество мелких лягушек. Борис ужаснулся. Чародейка взяла его за руку, вывела чрез сени в избу и, оставив одного впотьмах, прихлопнула дверь. Дрожь проняла Бориса, он не мог собрать рассеянных мыслей, голова его кружилась, и он готов был упасть в обморок. Вдруг дверь отворилась, и чародейка вошла с лампадой, в прежнем одеянии, красном сарафане и жемчужной повязке. Поставив лампаду на стол, она поклонилась государю, отперла шкафик и, налив стакан воды, просила царя освежиться. Борис с жадностью поглотил воду: кровь в нем как будто засохла, а лицо было бледно, как полотно.
– Государь-надежа! – сказала Федосья, – по твоему желанию я должна была призвать подземные силы к открытию будущего. Ты видел диво, и если повелишь, я поведаю тебе, что мне открыто.
– Говори, – сказал царь, отирая пот с лица и вздохнув из глубины груди.
– Ты видел пламя во внутренности домашнего животного, видел змей и гадов. Это пламя мятежа и раздоров, которые замышляют приближенные твои бояре, лютые змеи, гнусные гады, питающиеся твоею кровью. Внутри твоих чертогов составляется заговор на пагубу твоего рода. Но как нож мой истребил сих животных и пламя пожрало их в печи, да истребит так меч и пламя врагов твоих, врагов отечества! Должно или погибнуть тебе с родом твоим, или погубить завистливых, мятежных бояр…
– Да погибнут же злодеи! – воскликнул государь, – если доброе мое расположение им ненавистно! Кто они таковы, наименуй!
– Государь! – отвечала чародейка, – ты все узнаешь, потерпи.
Чародейка снова вышла за двери и возвратилась с зеркалом из полированной стали. Она снова зажгла зеленую свечу, потушила лампаду, села на пол в углу, пристально смотрела в зеркало, хотела что-то сказать, переменилась в лице и замолчала.
– Говори, что ты видишь в этом зеркале! – сказал царь с нетерпением.
– Неявственные образы, – отвечала чародейка. – Мне надобно повторить заклинания, но это я могу сделать в твоем отсутствии, государь. Теперь уже поздно. Послезавтра боярин Семен Никитич уведомит тебя о том, что я увижу в зеркале. С помощью подземных сил я заставлю врагов твоих показаться мне со всеми их замыслами. – Федосья встала, зажгла лампаду, погасила свечу и, взяв ковшик воды, пошептала в него и брызнула на одежду царя, примолвив: – Сгинь, пропади, нечистая сила!
– Прощай, Федосья! – сказал государь, вставая со скамьи. – Я не забуду твоей службы.
Федосья поклонилась в пояс и проводила Царя с крыльца. Боярин Семен Никитич Годунов дожидался Бориса у калитки. Государь был мрачен: он в безмолвии возвратился во дворец и, отпуская боярина, сказал ему:
– Семен, ты переговоришь с Федосьей и завтра явишься ко мне.
Когда человек утвердится в какой-нибудь мысли или в каком желании, тогда все, что клонится к подкреплению оных, находит доступ к его сердцу и рассудку. Царь Борис Федорович не мог верить, судя по себе, чтоб другие бояре были равнодушны к возвышению одного из своих товарищей, особенно поставляя младшего на степень высочайшей власти. В этом убеждении все, что клонилось к тому, чтоб сделать подозрительными бояр, казалось ему справедливым. Не сомневаясь в истине чародейства, не предполагая обмана со стороны Федосьи, не думая, что ей легко было и зажечь огонь во внутренности убиенного животного и впустить в корыто гадов, Борис приписывал это силе сверхъестественной и твердо решился истребить своих мнимых врагов. Он с нетерпением ожидал известия от боярина Семена Никитича Годунова, провел ночь в размышлениях и не чувствовал расположения к занятию делами, когда поутру рано, после заутрени, дьяк Афанасий Власьев пришел к нему с докладом от Посольского приказа.
– С чем пришел, Афанасий? – сказал государь дьяку, который, поклонившись низко, развязывал узел с бумагами.
– Мне нет покоя от польского посла Льва Сапеги, – сказал дьяк. – Он грозится сесть на коня и уехать из Москвы, не кончив дела (41). Вот уже около полугода мы его держим здесь, как в заточении, без всякого ответа.
– Поляки не теряют здесь времени, – отвечал государь, – они затевают здесь козни, рассевают вздорные вести. Надобно отправить их, надобно кончить деЛо. Что говорит Щелкалов?
– Он твердит все одно, что дурной мир лучше доброй брани и что лучше даровое лыко, чем купленный ремень.
– Наш Щелкалов устарел и начинает вздорить. Между государствами не то, что между частными людьми. Дурной мир ведет за собою брань, а добрая брань дает добрый мир. В делах государственных надобно действовать не тем умом и не тою совестью, что в делах гражданских. За что бьют дьяка в Судном приказе, за то награждают в Посольском. Поляки хитры и думают, что поглотили всю премудрость, но и мы с тобою, Афанасий, не биты в темя! Поляки настоятельно требуют мира, это значит, что они боятся войны. Итак, нам следует показывать, что мы не боимся войны и не намерены дать мира даром. Проволочка в заключении мира есть для нас выигрыш, потому что поставляет Россию в весьма выгодном виде между Польшею и Швециею, которые, воюя между собою, боятся, чтоб Россия не пристала к какой-нибудь стороне и не сделала значительного перевеса. Надобно стараться продлить выгодное положение, так точно, как надобно пещись о сохранении здоровья. Понимаешь ли, Афанасий? Мир без всякого выигрыша всегда будет время заключить, с тою стороною, которая одержит верх, но теперь надобно смотреть, где можно выторговать что-нибудь. От Польши требую утверждения моего титула царя и самодержца и согласия на присоединение к России древних Новгородских вотчин: Ями и Ингрии. Это настоящие мои требования; но, чтоб получить желаемое, надобно требовать вдесятеро более. Итак, мы должны настаивать об уступке нам Ливонии и Эстонии как собственности России со времен Ярослава. Как запросим сто, так поляки рады будут, когда отделаются, дав нам десять, а нам этого-то и надобно! Ну, видишь ли теперь, Афанасий, зачем я медлю и почему многого требую.
– Государь! – сказал дьяк, – Господь Бог наделил тебя мудростью превыше человеческой. Нам должно только повиноваться, удивляться и от тебя же учиться служить тебе.
– Итак, изготовь грамоту мирную, Афанасий. Но не именуй в ней Сигизмунда королем Швеции, а назови просто королем Польским, великим князем Литовским и иных. Когда Сапега станет спорить, скажи, что Сигизмунд не извещал ни царя Феодора Ивановича, ни меня о восшествии своем на шведский престол (42). Понимаешь, это предлог к отказу, а в самом деле мзда за упрямство Польши не называть русских царей иначе, как великими князьями, и острастка, намек, что мы можем признать королем Швеции Карла. Ты знаешь, что я непременно хочу иметь Нарву и устье Невы. Мне надобны берега морские с той стороны, и за это я готов помогать Карлу. Когда же мы откажем Сигизмунду в титуле Шведского короля, то он готов будет нам уступить еще что-нибудь.
– Итак, прикажешь, государь, писать грамоту на вечный мир? – спросил Власьев.
– Вечный! – возразил государь с улыбкою. – Это значит, до первого удобного случая к драке! Я тебе сказал, Афанасий, что надобно торговаться. Напиши условную мирную грамоту на десять лет. На первый случай и этого довольно. Только не забудь объявить Сапеге, что я не иначе соглашаюсь на заключение мира, как по просьбе сына моего, Феодора Борисовича (43), который особенно благоволит к Льву Сапеге. Слышишь ли, Афанасий? И в этом надобно подать вид, что мы не имеем нужды в мире и даем его из милости.
– Кого же изволишь назначить, государь, к подписанию мирных условий? – спросил дьяк.
– Не торопись, Афанасий, не торопись! Я сказал уже тебе, что нам надобно продлить наше положение между миром и войною. Сапега не может согласиться на условия, которые мы ему предложим, а как я по многим причинам хочу удалить посольство из Москвы, не разрывая и не оканчивая переговоров, то ты и боярин Михайло Глебович Салтыков поедете в Литву, к Сигизмунду, и там решите дело по моему наказу. Но это не к спеху. Пусть нынешнее лето шведы подерутся с поляками, а к осени мы посмотрим, чем это кончится, и начнем свои дела. Теперь составить грамоту, объявить Сапеге, что наши послы поедут в Литву, и с честью выпроводить посольство из Москвы. Не хочу, чтобы поляки долее оставались здесь! Они начинают здесь проказить. Я имею подозрения… но об этом после. Теперь ступай к делу.
* * *
Боярин Семен Никитич Годунов также не смыкал глаз в ту ночь, когда царь Борис посетил его Федосью для чародейства. Но не бессонница мучила злого боярина, а гнусные замыслы на пагубу невинных своих товарищей лишали его спокойствия. Проводив царя, боярин возвратился к Федосье, которая, взяв его за руку, провела в свою светлицу, заперла двери и, сев рядом с ним на скамье, сказала:
– Наконец предсказание сбылось! Чрез меня ты дошел до того, что будешь первым в Думе царской и всех твоих завистников погубишь за одним разом. Я даю тебе власть и способы, Семен! Теперь ты можешь рассудить, хорошо ли ты сделал, не послушав родни своей и плаксивой твоей жены, чтоб бросить меня!
– Я тебя не бросил и не брошу, хотя б пришлось ослушаться самого государя. Но скажи мне скорее, что ты выдумала для погубления наших врагов?
– Царь видел чародейство и ворожбу мою и убедился в истине, что бояре противу него составляют заговор. Адские силы открыли ему угрожающую напасть. Он поручил мне наименовать всех, которых должно сбыть с рук.
– Поручил тебе! – воскликнул боярин. – Ах, любезная моя Федосья, недаром я любил тебя! – Боярин прижал чародейку к злобному своему сердцу и напечатлел каиновский поцелуй на нечестивых устах хитрой своей любовницы.
– Ты должен завтра доставить царю список всех подозрительных людей, – сказала Федосья.
Боярин не мог воздержать своего восторга.
– Я… завтра!.. – воскликнул он несвязно.
Адская радость скривила безобразное его лицо. Синие уста его тряслись, глаза пылали, как у кровожадной гиены. Он не мог ничего говорить от избытка радости и громко захохотал таким смехом, который привел бы в трепет каждого, кто был бы менее освоен с злодействами, нежели Федосья, которая, напротив, наслаждалась удовольствием своего любовника.
– Вот тебе чернилица, перо и бумага, – сказала Федосья, подвинув небольшой столик к скамье. – Пиши смертный приговор кому хочешь. Что махнешь пером, то слетит голова; каждая капля твоих чернил стоит ведра крови. Эту силу дает тебе твоя Федосья. Знай, почитай, а умру – поминай!
Боярин взял перо, но рука его дрожала.
– Федосья, дай мне водки, – сказал он охриплым голосом. – От радости силы мои ослабевают!
Федосья отворила шкаф, налила крепкой анисовой водки в серебряный кубок и поднесла боярину на серебряном подносе, примолвив:
– Кушай на здоровье! Мужайся, крепись, время дорого.
Боярин выпил духом, не морщась, крепительный напиток, опустил голову, положил руки на колена и задумался. Федосья села напротив него и молчала. Чрез несколько времени красные пятна показались на бледном лице боярина; он поднял глаза, посмотрел на Федосью, зверски улыбнулся и, схватив перо, написал несколько слов, воскликнув:
– Романовы!
– Который? – спросила Федосья.
– Все до единого! – отвечал боярин. – Федор, Александр, Михайло, Иван, Василий, все пятеро братьев.
– Статочное ли дело! – возразила Федосья. – Отец их, боярин Никита Романович, умирая, поручил детей своих милости царской и его попечению, просил заступить место отца (44). Память добродетельного боярина священна в народе, и царь до сих пор особенно отличает и милует сыновей его, которых не в чем упрекнуть. Они благодетельствуют бедным, кротки и снисходительны со всеми, служат царю верою и правдою; царь не согласится погубить их без явных улик… Ты пустое затеваешь, Семен!
Боярин с гневом взглянул на Федосью.
– Оттого именно, что царь к ним благоволит и хочет их возвысить, нам должно погубить их, – сказал он. – Федосья, немудрено погубить виновных. Для этого не надобно ни чародейства, ни твоей помощи. Я хочу истребить сильных и знаменитых, а кто знаменитее Романовых в Русском царстве! Вину мы им сыщем, а предлог готов. Они родня покойному царю Федору Ивановичу, имеют первое право на престол царский… Следовательно, они должны быть обвинены в злоумышлении на погубление царя Бориса Федоровича и в намерении овладеть престолом. Понимаешь ли меня? Свидетелей и улики – найдем! Ты поможешь мне, любезная Федосья, не правда ли? Но если хочешь угодить мне, не спорь о Романовых. Они первые должны погибнуть. За ними легко будет обвинить других. Как срубим дуб, орлы разлетятся, орлята сами попадают на землю – а место наше!
– Делай, что тебе угодно! – сказала Федосья.
Боярин взял перо и, написав несколько строк, сказал:
– Да погибнет ненавистный род князей Черкасских! Они также свойственники покойного царя и Романовых.
– Пиши князей Шестуновых, – примолвила Федосья. – Князь Федор неотступно просил тебя помириться с женою и бросить меня, несчастную.
Боярин написал и сказал:
– Уж коли губить Шестуновых, так туда же дорога князьям Репниным и Сицким, их родственникам и приятелям. Князь Иван Васильевич Сицкой голосит в Думе Боярской и часто отвергает мои предложения. Вечная ему память! – примолвил боярин, улыбнувшись.
– Ну, так вечная память! – повторила Федосья.
Боярин стал снова писать, приговаривая:
– Вечная память знаменитому боярину, любимцу покойного царя Ивана Васильевича, Богдану Яковлевичу Вельскому! Аминь!
– Что ты это, Семен! – воскликнула Федосья. – Боярин Вельский – друг царя исстари, помог ему сесть на престол, возвысил род ваш…
– А теперь, когда более ничего не может сделать, так в землю, чтоб не заваливал дороги и не припоминал старины царю Борису. Вечная память!
– Вряд ли успеешь! – примолвила Федосья.
– Так ты поможешь, – возразил боярин. – С Вельским должны погибнуть князья Милославские, родственники его и старинные приятели. Мои первые злодеи князья Шуйские, которые и в Думе и на пирах явно враждуют со мною и, наконец, клеврет их и друг печатник Щелкалов.
– Воля твоя, Семен, но ты затеваешь не по силам! – сказала Федосья. – Щелкалов – старый друг и товарищ царский, добрый и смирный старичишка: он корпит над своими бумагами и не мешается ни в какие дела, кроме посольских. Он прославился заслугами и милостью трех царей от Иоанна до Бориса. Его тебе не удастся свергнуть, да я не вижу, для чего?
– Удастся или не удастся – увидим, а нужно для того, чтоб дать это место брату моему или взять себе. Он друг Вельского, Шуйских, Романовых – вот и преступление!
– Пиши князя Бахтеярова-Ростовского, – сказала Федосья. – Он не послушал просьбы моей и не освободил от правежа купца Голубцова.
– Готово, – сказал боярин. – Но я забыл Карповых, – примолвил он. – Это старинные враги Годуновых. Пришла пора от них избавиться (45).
– На первый случай довольно, – сказала Федосья. – Вот уже одиннадцать первостатейных боярских и княжеских родов, а всего будет душ до сорока. Не надобно слишком пугать царя большим числом; ты знаешь, что он неохотно решается на строгие меры, и тут нельзя будет работать исподтишка, как он любит, а надобно будет ударить лицом к лицу, при солнечном свете. Умерь свой жар, Семен! Одиннадцать родов поведут за собою много других, а как начнется дело да розыск, так явятся и доносчики, и свидетели, и улики. Поверь мне, довольствуйся на первый раз этим.
– Послушаюсь тебя, делать нечего, – отвечал боярин, положив перо, – надобно было бы еще вписать десятка два. Но ты правду говоришь, как начнется розыск над первыми родами, то явятся и доносчики. Тогда будет легче работать. Ну, прощай, моя любезная Федосья! Благодарю тебя и вовеки не забуду твоей прислуги. Все твое: и я сам, и все, что имею! Пекись только о том, чтоб я был в милости у царя и мог губить моих завистников, – боярин обнял, поцеловал свою любовницу и, свернув бумагу, пошел к себе в дом. Федосья, провожая его до ворот, сказала ему:
– Не забудь же, Семен, донести царю, что эти имена я велела тебе написать, смотря в мое стальное зеркало, которое ты у меня видел.
– Конечно, это твое дело, – примолвил боярин, улыбаясь. – Я только посланец твой и исполнитель воли царской!
ГЛАВА II
Беглецы. История чернеца Леонида.
В густом лесу, среди огромных дубов, кленов и лип протекал ручей ключевой воды. Здесь отдыхали Иваницкий (в монашеской одежде), чернецы Леонид и Варлаам, бежавшие с ним из Москвы, и присоединившийся к ним в пути крылошанин Чудова монастыря Мисаил Повадин. Сей последний, тучный телом, роста исполинского, почти выбился из сил и лежал, распростершись на траве. Черные его волосы были в беспорядке, полуоткрытые глаза устремлены были на один предмет, пот лился градом с высокого чела. Варлаам разводил огонь и укреплял сошки; Леонид, почерпнув воды из ручья небольшим котликом, развязывал узел, в котором находились съестные припасы: крупа, толокно, сушеное мясо и ветчина. Иваницкий сидел один на обрушившемся дереве и хладнокровно смотрел на своих товарищей. Все молчали.
Когда котел закипел на огне, Леонид сел возле Иваницкого, а Варлаам распростерся на траве и, вздохнув, сказал:
– Господи Боже мой! когда кончатся наши мучения!
– Что, уж твердость твоя растаяла на весеннем солнышке? – возразил Иваницкий с горькой улыбкой. – Беда царевичу Димитрию, если он не найдет в России слуг тверже и мужественнее! Стыдись, Варлаам! При первом опыте ты уже готов отречься от своего государя законного! Ты, служитель церкви, должен подавать мирянам пример мужества, постоянства, самоотвержения в деле общественном, в деле отечества! – При сих словах Мисаил приподнял голову и устремил взоры на Иваницкого, который продолжал:
– Не видите ли вы, братья, что провидение Божие явно покровительствует нас как первых сеятелей блаженства на земле русской, первых провозвестников истины, с которою сопряжено счастье России. Противу нескольких безоружных иноков царь Борис поднял всю силу самодержавия, все ухищрения коварства, чтоб поймать нас, чтоб смертию запечатлеть уста, возгласившие пришествие мстителя. Но все усилия Годунова сокрушились, и мы безопасно прошли от Москвы до пределов России, прожили весело остаток зимы и Северских городах, по обителям братий-отшельников, нашли везде пособие и защиту! Не видите ли чуда в избавлении брата Мисаила, который уже был в когтях демонских и спасен единственно промыслом от пытки и верной смерти? Наше дело правое, святое, и мужу праведному подобает умереть за истину, терпеть, страдать, но не упадать духом.
– Все это правда, – сказал Мисаил, – но если б мы были, по крайней мере, уверены, что тот, за кого мы терпим, истинный царевич Димитрий и что мы страданиями своими принесем ему пользу.
– Как! – воскликнул Иваницкий, вскочив с своего места, – ты осмеливаешься сомневаться в святой истине, возглашенной мною? Ты, взысканный мною из праха к славе и почести, назначенный быть одним из первых слуг законного государя! Придет время, и первые вельможи, первые святители будут завидовать тебе, недостойному! Ты сомневаешься также в пользе от твоего страдания. Дело уже сделано: слово истины уже изречено, весть о спасении царевича утверждена в России и подвиг ваш кончен. Провидение довершит остальное. Теперь должно помышлять только о нашем спасении, и в этом мы успеем, при помощи Божией.
Мисаил в молчании прилег снова головою на свою котомку. Варлаам сказал:
– Я не потерял ни твердости, ни мужества, но разве не позволено человеку облегчить страдания жалобою? От Брянска гонятся за нами сыщики Борисовы, как хищные враны за кровавою добычей. След наш открыт, и если б мы не кружили доселе по лесам и болотам, то давно уже попались бы в руки наших злодеев. На последнем нашем ночлеге в селе Невкли добрая наша хозяйка сказала нам, что на рубеже литовском нарочно поделаны заставы и стоит стража для поимки людей, бежавших из Москвы. Ты сам сознался, Иваницкий, что это силки на нас. Образник Степан, дотоле исправный наш путеводитель, обещал провести нас лесом к Любечу и переправить на другой день чрез Днепр в землю литовскую; но он изменил нам и бежал при входе в этот непроходимый лес. Быть может, он известит слуг Борисовых, и они устремятся на нас, как на лютых зверей! Зачем льстить себя пустою надеждою? Гибель наша неизбежна. Если даже образник Степан не откроет нашего убежища, то голод принудит нас выйти из лесу. Вот уже третьи сутки, как мы скитаемся без дороги в этой дебри и, может быть, вместо того, чтоб удалиться от опасности, приближаемся к ней! Скажи теперь ты, мудрый наш путеводитель Иваницкий, что может спасти нас от мщения Бориса, если сыщики его окружат лес, займут окрестные селения?
– Смерть! – воскликнул Иваницкий, – муж храбрый и благоразумный обязан изыскивать и употреблять все средства к сохранению своей независимости, а когда не может, тогда должен отдать врагам земную свою оболочку и освободиться душою.
– Итак, ты предлагаешь нам смерть как средство к избавлению? – сказал Мисаил Повадин. – Но этим средством мы могли бы давно освободиться от преследований Бориса. За смертию не гоняются, как за пирушкой.
– Малодушный! – воскликнул Иваницкий. – Я призывал вас на подвиг великий, а для совершения великих дел жизнь и смерть не ставятся в расчет.
Леонид, молчавший до сих пор, привстал и сказал:
– Восприяв одежду иноческую, мы уже отреклись от мира, умерли для земли, и каждое наслаждение, которое мы вкушали на земле, было преступлением. Покаемся, братья, в сию минуту опасности и славною смертию за истину загладим грехи наши! Лучшая жизнь не стоит славной и благочестивой смерти. Умереть всем надобно, рано или поздно. Несколько дней, годов не составляют посмертного богатства, ибо по смерти истребляется память числа годов жизни, а жизнь измеряется делами. Благословим Бога за избрание нас в поборники достославного подвига и решимся твердо умереть, когда исчезнут все средства к спасению. Мы с Иваницким подадим вам пример, как должно кончить жизнь, посвященную служению истины.
Иваницкий бросился в объятия Леонида, прижал его к сердцу и сказал:
– Таких людей мне надобно!
Варлаам вскочил с своего места и, подошед к Иваницкому, взял его за руку, примолвив:
– Прости, брат! стыжусь минутной слабости, но я покажу тебе, что и я русский, умею умереть за царя законного. – Иваницкий обнял и поцеловал Варлаама в лицо. Мисаил молчал и зажмурил глаза, притворяясь спящим.
– Любезный друг Варлаам! – сказал Иваницкий. – Если только человек допустит слабости проникнуть в душу, в ней тотчас зарождаются сомнения, предчувствия, страхи и все исчадия расстроенного воображения. Опасность наша не так велика, как ты предполагаешь. Образник Степан бежал от нас не для измены, но от страха, услышав в Невкле о заставах на границе, опасаясь подвергнуть себя нашему гневу в случае, если б он сбился с дороги в темном, непроходимом лесу. Если б он хотел изменить нам, он имел к тому случай в Городне, в Седневе. Напротив того, он сам известил нас о погоне и поиске за нами. Лес этот примыкает к Днепру, как нам сказано в Невкле. До сих пор мы шли влево, чтоб добраться до Любецкой переправы, и оттого долго блуждали, не будучи в состоянии держаться прямо чрез заросли. Возьмем теперь вправо, к стороне Лоева, и я надеюсь, что еще к вечеру мы будем на Днепре. Невозможно, чтоб Борис окружил всю границу сыщиками, как цепью! Мы непременно найдем свободное место, а если нет, то силою прорвемся. Нас четверо сильных, здоровых и смелых мужей – и сыщики смертны! Сразимся, если нужно, и верно победим, ибо здесь дело не о награде за поимку беглых монахов, но о жизни, чести, о благе России! Итак, друзья, будьте спокойны: отдохнем, подкрепим силы пищею и пустимся в путь.
Мисаил в это время приподнялся с земли, а Варлаам пошел к огню снять котел.
– К каше с ложкой ты первый, Мисаил! – сказал Леонид, – а к делу последний. Глядя на твой рост, нельзя не удивляться, что столь огромное тело вмещает в себе столь малую душу. Это – точно пустая башня! – Все улыбнулись. Мисаил молчал.
Если человек уверен, что он подвизается за истину, то в самые горькие минуты среди опасностей утешение находит легкий путь в душу и укрепляет ее. Леонид и Варлаам убеждены были, что они подвергают себя опасностям и трудятся в пользу законного государя, и притом государя несчастного, лишенного наследия предков коварством, и потому слова Иваницкого, которого они уважали как посланника, как друга царевича Димитрия Ивановича, возбудили в них прежнее мужество и решимость умереть за правду. Мисаил Повадин, человек слабого ума, преданный чувственным удовольствиям, не мог возвыситься до понятий, одушевлявших его товарищей. Он унывал и раскаивался в том, что подвергнулся преследованиям, разделяя притом сомнение тех, которым он возвещал о появлении царевича, насчет истины сего события. Варлаам избрал Мисаила к провозглашению сего известия для того только, что он более других посещал народные сборища на ярмарках и праздниках. Мисаилу открыта была тайна таким образом, что он не мог изменить главным заговорщикам. Хрущов, которого Мисаил никогда не видал, переодевшись купцом, употчевал его и сказал о появлении царевича. Мисаил тотчас известил об услышанном Леонида и Варлаама, которые присоветовали ему распускать под рукою в народе сие известие. Когда беглецы подкрепили силы свои пищею, Варлаам сказал Мисаилу:
– Ты нам говорил, что был в руках у сыщиков и освободился чудом, но не объяснил, каким образом. Расскажи-ка от скуки!
– Да, брат, было страху! – отвечал Мисаил. – Как подумаю, то и теперь мороз подирает по коже. Если б вы были в таких тисках, как я, то не храбрились бы теперь за глаза. Я возвращался из Александровской слободы в Москву с тремя приятелями. Верстах в семи от Москвы мы зашли на постоялый двор выпить по чарке. Там застали мы человек десять разного народа. Приятель мой иконописец Сенька Лубков назвал меня по имени, и вдруг один широкоплечий и толсторожий удалец кинулся мне на шею, и давай целовать и прижимать меня! "Ты Мисаил Повадин?" – воскликнул он. – "Что ж тут веселого для тебя?" – спросил я, наскучив его обниманиями. – "Ведь ты из Суздаля?" – спросил удалец. – "Да". – "Сын протопопа Ксенофонта?" – "Да". – "Племянник стрелецкого сотника Петра Никифорова, а потому двоюродный брат дочери его, Акулины?" – "Само по себе разумеется". – "Давно ли ты, Мисаил, получал письма из Суздаля?" – "Месяца три". Тут удалец снова бросился обнимать и целовать меня и, отведя в сторону, сказал: "Я жених Акулины, муромский купец Петрушка Лихонин. Поедем со мною в Москву, я тебе порасскажу много кое-чего о твоей родне и напою таким медом, какого ты не пивал от роду. А теперь выпьем-ка за здоровье твоего отца, дяди и двоюродной сестры, моей невесты!" – Мы выпили порядочную красоулю, и я увидел, что мои товарищи также познакомились с бывшими тут людьми и куликают добрым порядком. Новый мой знакомец взял меня за руку, вывел на двор и сказал: "У меня есть кибитка, сядем и поедем скорее в Москву. Уж смеркается, что нам дожидаться твоих товарищей: они навеселе, а притом и без тебя знают дорогу!" Выпив еще по чарке, мы сели с двумя товарищами нового моего приятеля в кибитку, запряженную удалою тройкою, и помчались вихрем. В голове у меня шумело, и мне сделалось душно и тошно в кибитке. Я хотел выйти, но мне советовали остаться. Я стал настаивать, чтоб меня выпустили, но товарищи мои держали меня силою. Подозревая злой умысел, я стал рваться, но новые мои приятели скрутили меня веревками и завязали рот полотенцем. "Попался тетерев на приманку! – сказал мне тот удалец, который назвался женихом моей двоюродной сестры Акулины. – Потолкуй-ка прежде с боярином Семеном Никитичем Годуновым да расскажи ему о царевиче Димитрии Ивановиче; ты, вишь, большой мастер рассказывать! Авось боярин прижжет тебе язык, так лучше будет пропускать мед в глотку". Злодей долго шутил надо мною и над моею роднёю, как вдруг кибитка ударилась об ухаб и опрокинулась. Я упал в снег и чуть не задохся. В это время наскакала тройка из Москвы. В открытых санях сидело четыре человека с извозчиком. Они бросились помогать нам. Увидев меня связанного, добрые люди спросили, кто я таков и кто таковы мои губители. "Мы сыщики царские и везем этого монаха по слову и делу к боярину Семену Никитичу Годунову". – "Пустое, вы воры и разбойники! – закричали добрые люди. – И будьте вы прокляты с вашим боярином!" После этого они бросились ко мне; сыщики стали отгонять их. Тут подоспела другая тройка с четырьмя приятелями моих избавителей, завязалась драка, сыщиков прибили до полусмерти, лошадей их выпрягли и взяли с собою, а меня развязали, полумертвого положили в сани и поскакали во всю конскую прыть. Проехав верст десяток от места драки, избавители мои свернули с дороги и остановились в лесу; один из них дал мне рубль, ломоть хлеба, флягу с водкой и сказал: "Ступай, отче! Спасайся как можешь и где можешь. Если пройдешь этим лесом прямо верст пятнадцать, то выйдешь на большую Серпуховскую дорогу". Я стал благодарить их, хотел узнать, кому обязан спасением, но они не слушали меня, ударили по лошадям и помчались по проселочной дороге. Вот каким чудом я спасен из рук дьявольских!
– И после этого ты осмеливался семневаться в чудесном спасении царевича Димитрия Ивановича! – сказал Иваницкий.
– Я не сомневаюсь, но только пересказываю, что слышал от других. Не все верят… – отвечал Мисаил.
– Верят многие, поверят и все, когда царевич явится, – возразил Иваницкий.
– Как же тебя не задержали в пути? – спросил Леонид.
– Кажется, меня никто не искал, – отвечал Мисаил. – Я шел спокойно, от монастыря до монастыря, от села до города, и дошел до Брянска. Тут встретил я образника Степана, который известил меня, что вы в городе и что сыщики царские ищут беглых монахов из Москвы. Как я также вышел из Москвы не по добру не по здорову, так пристал к вам, и вот попал, как зверь, в лес!
– Прибавь: нам на беду, себе во спасение, – примолвил Леонид.
– Попал, как зверь! Что правда, то правда, – сказал, смеясь, Варлаам. – Чего тебе опасаться здесь? Ты дома.
– Шутите, смейтесь, пока я высплюсь, – сказал Мисаил и бросился на траву.
– Этот Мисаил – обоз в нашем войске, – сказал Иваницкий. – Полезен в безопасности и хлопотен в опасности. Если б он не нес на своих плечах наших припасов, то лучше бы нам было двигать бревно, чем водить с собой эту тушу. Но как он оказал услугу царевичу, то я должен спасать его от гибели.
– Скажу спасибо, когда исполнишь обещание, – проворчал Мисаил и закрылся рясою. Варлаам также лег отдыхать. Иваницкий и Леонид отошли шагов сто от товарищей и сели на мураве на берегу ручья.
– Ты никогда не отдыхаешь после обеда по обычаю русскому, – сказал Леонид.
– Сон – образ смерти, – отвечал Иваницкий. – Человек рожден для деятельности, и пока природа бодрствует при свете солнечном, сон не должен держать тела и души в узах.
– Я буду бодрствовать с тобою, – сказал Леонид.
– Нет, отдохни, друг! – возразил Иваницкий. – Ты изнурен, и сон подкрепит тебя.
– Могу ли я спать в моем положении! – воскликнул Леонид. – Вот приближается минута, в которую я должен разлучиться или с жизнью, или с отечеством. Одно стоит другого! Не думай, друг, чтоб я колебался или упал духом. Нет, но невольная грусть, как камень, нажимает сердце и холодит его печальными предчувствиями. Друг мой, я столько уже. претерпел в жизни, что она не может иметь для меня никакой прелести. Я потерял даже надежду на счастье. Но оставить отечество и, быть может, навсегда, тяжело русскому сердцу. Я уже странствовал, гонялся за призраком блаженства земного, любил – и все потерял! В отечестве моем под ризою отшельника я приобрел спокойствие, которое теперь снова разрушено… – Леонид закрыл глаза руками.
– Любезный друг, – сказал Иваницкий. – Я умею чувствовать твое положение и" разделять скорбь твою. Но душа твоя закрыта для меня. Открой мне тайну твоей жизни и страданий, ты облегчишь себя и найдешь утешение в сострадании друга. Радости умножаются, а грусть ослабевает от раздела.
– Так, между нами не должно быть ничего сокрытого, и если мне суждено погибнуть, ты, может быть, спасешься и сохранишь обо мне память. Слушай, я поведаю тебе повесть моей жизни, или, лучше сказать, моих несчастий. Я родился в Великом Новегороде. Отец мой, Михаил Криницын, был первостепенный гражданин и в числе своих предков считал многих посадников и военачальников. Нас было три брата и две сестры, нежно и равно любимых родителями. Я был младший. Мне было шесть лет от рождения, когда царь Иван Васильевич, посланный небом для казни россиян, устремился с кровожадными своими клевретами на погубление славного Новагорода. Это было в 1570 году. Помню, что в один зимний вечер отец собрал всех нас в свою светлицу, благословил, плакал над нами и что мать моя, прижимая меня к груди, молилась перед образом и орошала меня слезами. На другое утро я пробужден был воплями и стонами. Свирепые воины скакали на конях по улицам, гнали перед собою народ, как стадо, и убивали безоружных своих братии. Я не понимал тогда сего злодейства, но врожденные человеку чувства, страх и жалость, отозвались в младенческой душе моей. Я трепетал, видя льющуюся кровь и растерзанные тела, плакал, слыша вокруг себя стенания. Разбойники Иоанновы вломились в дом наш, в глазах наших умертвили родителя, разграбили имущество, обнажили даже иконы от златых и серебряных окладов и родительницу мою, с нами и слугами, ударами выгнали из дому и погнали с толпою народа к Волхову. Мы шли по грудам тел, по крови, испуская вопли и рыдания. Приблизясь к реке, к тому месту, где она не замерзает, мы увидели, что жен, детей и старцев свергают с мосту в воду и что разбойники, разъезжая на лодках, бьют баграми и секирами несчастных, ищущих спасения (46). Та же участь ожидала нас. Мать моя вела меня за руку. Проходя чрез груды тел, она сказала мне: "Приляг, Алеша, здесь, закрой глаза и притворись спящим. Когда смеркнется, я приду за тобою; но до вечера лежи смирно и не шевелись". Полумертвый от страха, я послушался матери, лег между телами и закрыл глаза. Не знаю, что происходило вокруг меня до вечера. Вопли и стенания не умолкали, и я лежал, не смея перевесть дыхания. Когда же вопли утихли, я открыл глаза, искал взорами родимой, протягивал руки и осязал одни бездушные тела. Голод и жажда мучили меня. Я утолил жажду снегом, но холод пронял меня, я не мог долее оставаться на одном месте. Не видя матери, я встал, осмотрелся кругом и хотел идти домой, но в темноте не нашел дороги и прошел через мост за Волхов. В одной поперечной улице услышал я шаги человеческие и, не предвидя опасности, побежал к человеку, догнал его и со слезами стал просить, чтоб он проводил меня до дому. Это был отец Анастасий, священник, которого я часто видал в доме моих родителей. Он взял меня за руку, велел молчать и продолжал путь. Из улицы мы свернули в сторону, перелезли чрез несколько плетней и заборов и очутились в поле. Я не мог более идти от усталости. Добрый священник взял меня на плечи, подкрепил силы мои куском черствого хлеба и продолжал путь. Достигнув леса, отец Анастасий бросился на колена и, воздев руки к небу, стал молиться. Я смотрел на него и плакал, помышляя о моих родителях и братьях. Не постигая всего моего бедствия, я чувствовал одну горесть временной разлуки. Избавитель мой, отдохнув, пошел в лес, ведя меня за руку, а иногда неся на плечах. Чрез несколько времени мы увидели в лесу огонь. Священник взлез на дерево, чтоб узнать, что за люди при огне, и к радости своей увидел, что это новгородцы, наши несчастные братья, спасшиеся от кровопролития. Мы поспешили к ним и были приняты с радостию и слезами. Несколько семейств успело укрыться здесь при приближении передовой дружины Иоанновой, предчувствуя бедствие. Запасы их были истощены. Несколько смелых юношей решились идти в ближнее селение и, только в сие время возвратились с небольшим количеством толокна, которое тотчас было разделено на ровные части. Отец Анастасий призвал всех к молитве, и несчастные, блуждая в родной земле, как дикие звери, со слезами умоляли судью небесного усмирить гнев судьи земного и спасти отечество от погибели. Мы провели ночь в яме, устланной мохом и ельником. Меня призрели добрые женщины, как родное детище, и плакали надо мною. Все знали и уважали моих родителей. Утром, после общей молитвы, отец Анастасий отправился в путь, взяв меня с собою. Мы благополучно достигли до какого-то монастыря; добрые иноки укрывали нас несколько дней и, снабдив всем нужным, отправили в дорогу. Не помню, сколько времени продолжалось наше путешествие и где мы перешли чрез рубеж России, но помню только, что к весне мы прибыли в Киев.
Отец Анастасий отдал меня на руки одному из своих старинных друзей греческому купцу Филиппу Критосу, который был женат на киевлянке греческого исповедания. Они были в браке уже несколько лет, но не имели детей. Сострадая о моей участи и зная уже о бедствиях отечества нашего, они усыновили меня и поклялись пещись обо мне и тогда, когда б Бог даровал им потомство.
Умолчу о летах отроческих, которые не представляют ничего занимательного. Меня сперва обучали грамоте на дому, а после отдали в училище, находящееся при знаменитой Киевской духовной школе, единственной на севере (47) для обучения юношества православного в науках, которыми славится Западная Европа. Я только ходил в училище в часы учения, но жил дома и пользовался нежностию моих благодетелей, как родной их сын. По прошествии шести лет от вступления моего в дом моих благодетелей господь Бог услышал молитвы их и благословил детищем. Моя вторая мать родила дочь, которая названа была Калерией (48); чрез два года она разрешилась от бремени другою дочерью, Зоей.
Между тем я возрастал и уже начал посещать духовную Школу. Калерия и Зоя в младенчестве почитали меня братом, и я любил их со всею нежностию единокровного. Но младшая сестра, Зоя, возбуждала во мне от детства большую нежность, а пришед в тот возраст, когда женская прелесть возмущает душу и воспаляет сердце, она зажгла во мне любовь не братскую, но пылкую страсть, которая составляет радость и мучение жизни…
Иваницкий при сих словах прервал рассказ Леонида.
– Ты любил, Леонид! – воскликнул Иваницкий, быстро схватив за руку своего товарища. – И ты мог порицать любовь мою к Ксении! Может ли сердце входить в какие-нибудь расчеты? Любовь зарождается противу нашей воли, но я не хочу прерывать тебя – продолжай!
Леонид продолжал:
– Зое было не более пятнадцати лет от рождения, когда я открылся ей в любви моей, открылся без намерения, следуя внушению одной страсти, заглушавшей все другие чувства. Зоя меня любила. Она объявила мне, что не будет никогда счастливою, если не будет моею женою, и позволила мне просить у родителей руки ее, лишь только старшая сестра выйдет замуж. Калерия знала о нашей любви, но мы скрывали до времени наши чувства пред родителями. Я был счастлив целый год: любил, ежедневно видел Зою, говорил с нею, слышал от нее уверения в любви ко мне, питался надеждами. Вдруг грянул гром и разрушил счастие мое – навеки.
Леонид остановился, вздохнул тяжело, и глаза его наполнились слезами.
– Я могу теперь плакать, – сказал он. – Это одно утешение, которое принесло мне время. – Помолчав немного и успокоившись, он продолжал:
– Ты знаешь, что даже единоземцы наши ведут жизнь свободную в Киеве, соображаясь более с нравами польскими. Дом благодетелей моих посещали многие из польских дворян и обедали за одним столом с целым нашим семейством. Один из богатых польских панов, уже пожилых лет, Прошинский, пленился красотою Зои и, не смея сам объясняться с девицею, предложил чрез свах родителям отдать ее за него замуж, обещая сверх подарка значительного имения будущей жене по венечной записи дать отцу 20000 злотых на его торговые обороты. Дела отца Зои были в то время в расстройстве; кроме того, греческое сребролюбие отозвалось в душе (я должен сказать это, хотя чту память благодетеля); к этому присоединилось тщеславие от союза с богатым дворянином, и Критос решился пожертвовать дочерью, как он говорил, для блага семейства. Мать не смела противиться воле своего мужа, и Зое объявили, чтоб она готовилась выйти замуж за Прошинского, которого она видела только несколько раз. Не будучи в состоянии преодолеть себя, Зоя бросилась в ноги родителям, открылась в любви ко мне и просила их со слезами не губить ее и сочетать со мною. Мать растрогалась, но неумолимый отец запер дочь свою в терем, призвал меня, осыпал упреками, назвал неблагодарным, соблазнителем и выгнал из дому, угрожая убить меня, если я осмелюсь предпринять что-нибудь противу его воли. Скрепив сердце, я безмолвно выслушал его упреки, не понимая, чтоб нежная и почтительная любовь могла назваться неблагодарностью и соблазном. Я не хотел ни оправдываться, ни сделаться в самом деле неблагодарным, платя дерзостью за несправедливость. Новгородская гордость во мне пробудилась. Я вышел из дому и стал искать убежища у моих школьных товарищей. Один из них принял меня в скромное свое жилище и, узнав о причине моего изгнания из дома благодетелей, видя мою безмолвную горесть, которая превратилась в какое-то умственное оцепенение, наблюдал за мною, опасаясь самоубийства. Но я не думал лишать себя жизни. Я ни о чем не думал! Образ Зои занимал мое воображение и поглощал все другие помыслы; я не мог расстаться с этим образом, начертанным в сердце и памяти, и для того жил!.. Не постигаю, как я не лишился ума. Друг мой принуждал меня разделять с ним его трапезу: я ел и пил, не чувствуя ни позыва к пище, ни вкуса. Ложился в постель, засыпал и видел одну Зою; пробуждался и думал об ней одной. Таким образом прошло два месяца, и я не выходил из моей светлицы, не смел пройти по улице, опасаясь, чтоб страсть не завлекла меня к дому родителей Зои, куда мне запрещено было приближаться, а я, по чувству благодарности и по врожденной гордости, не хотел нарушить воли моего прежнего благодетеля. В один вечер незнакомый человек принес мне письмо от матери Зои и кошелек с золотом. Вторая моя мать со слезами заклинала меня покориться судьбе, забыть несчастную Зою и удалиться из Киева. Благодетельница моя называла меня любезным своим сыном, уверяла в своей привязанности и просила не огорчать ее сопротивлением. Я хотел возвратить ей золото, но боялся оскорбить. На другой день я отправился в Варшаву без всяких видов и намерений. Мне было все равно, где бы ни быть, когда нельзя было проживать в Киеве. Друг мой нашел мне попутчиков, купцов из Варшавы, и я с ними отправился в путь.
Добрые мои спутники по равнодушию моему ко всему земному и по безмолвию моему заключили, что я болен. Я в самом деле был болен. Скорбь снедала меня. Один из них предложил мне жительство в своем доме, на что я согласился. Тщетно мой хозяин старался рассеять меня удовольствиями сей веселой столицы. Я бегал от людей и от забав: веселость других увеличивала скорбь мою. Каждый из этих людей, думал я, имеет отечество, семейство, любит или может любить – а я сирота бесприютный, в чужой земле, без надежды на счастье, я не должен смешиваться с людьми счастливыми, не должен отравлять их наслаждений моим присутствием. Я бродил днем по окрестностям города, по лесам и в городе посещал только церковь православную. Там, пред общим отцом, переносясь мыслию в общее отечество рода человеческого, я умолял его прекратить мое жалкое существование в сей юдоли плача. Проливая слезы пред алтарем Всевышнего, я в одной только молитве находил утешение.
Таким образом прошел год, и я никого не знал, ничего не видел в Варшаве. Однажды утром я пошел в нашу церковь. Посреди оной стоял гроб: священники совершали панихиду, народ усердно молился. Я остановился в углу и, смотря на черный покров, закрывающий гроб, завидовал участи покойника. Вокруг меня шептали и разговаривали. "Кто умер?" – спросил вошедший человек у стоящего возле меня гражданина. – "Зоя Прошинская", – отвечал мой сосед. Я упал без чувств на помост церкви и очнулся в больнице. Мне сказали, что я более месяца был в беспамятстве. О, зачем я не умер, зачем не лишился ума навеки!
Леонид снова прервал рассказ и, закрыв лицо руками, молчал некоторое время. Иваницкий отер слезы, которые невольно навернулись на глазах его.
– Молодость и крепость моего сложения превозмогли душевный недуг: я выздоровел, и меня выпустили из больницы, – продолжал Леонид. – Зоя умерла в Варшаве. Я хотел видеть дом, в котором она томилась, где она помышляла обо мне; хотел видеть ее могилу и прилечь сердцем к земле, схоронившей мое счастье! Мне указали дом Прошинского и окна тех комнат, где жила Зоя. Они были растворены, и я увидел цветы. Рассудок мой не помрачился, но сердце воспылало. Я взбежал по лестнице в комнаты, не будучи остановляем служителями, и дошел до спальни, где висел на стене портрет Зои. Все воспоминания мои ожили, все раны сердца растворились. Я плакал и стенал, глядя на ангельские черты той, которая любила меня до гроба. Вдруг входит Прошинский, которого до тех пор не было дома. Он тотчас узнал меня и даже распростер объятия, чтоб приветствовать, но я оттолкнул его и в бешенстве стал упрекать в убийстве, хотел увлечь на могилу Зои и там принести его в жертву моему мщению. Прошинский был вооружен. Пользуясь сим преимуществом, он обнажил саблю, чтоб заставить меня выйти, угрожал, звал на помощь людей, но я держал его за горло и тащил за двери. Началась борьба, и я сам не помню, каким образом я обезоружил несчастного и рассек ему голову. Он упал без чувств, окровавленный, к ногам моим!
Прибежали служители, схватили меня как убийцу, связали и при стечении многочисленного народа отвели в темницу.
Я бы непременно погиб на плахе, но прежняя моя болезнь подала повод сострадательным моим единоверцам вступиться за меня и приписать исступление мое новому припадку сумасшествия. Мне даровали жизнь, но осудили на вечное изгнание из пределов Польской республики под карою смерти в случае нарушения приговора. Туровские монахи, бывшие в Варшаве по делам своей обители, взяли меня с собою в Литву. Кроме веры, мне не оставалось другого убежища и утешения на земле. Я вступил в монашество, наречен Леонидом и отправлен в Россию, в Крипецкий монастырь Псковской епархии, с пред-стательсТвом от всех братии и самого епископа Слуцкого. Прожив некоторое время в сем монастыре, я ходил в Новгород проведать о родне моей; но не нашел никакого следа. Все до единого погибли, а имущество описано в казну. Наконец, по требованию патриарха о высылке в Москву ученых монахов, меня, как знающего латинский, греческий и польский языки, отправили в Москву, где я был помещен в Чудове монастыре с поручением заняться переводами книг святых отцов с греческого языка. В таком положении ты, Иваницкий, застал меня, когда, прибыв в Москву с посольством Льва Сапеги, привез мне письма от добрых монахов туровских, заклинавших меня подружиться с тобою и помогать тебе во всех делах. Признаюсь, что спокойствие уже начинало водворяться в моем сердце и жизнь труженическая изгладила память о суете мирской, когда ты предстал предо мною, как грозная судьба, и объявив великую тайну, увлек снова на земное поприще. Не честолюбие заставило меня действовать и подвергать жизнь опасностям, но любовь к отечеству и убеждение, что Россия никогда не может быть счастливою, если каждому честолюбцу будет открыт путь к престолу; убеждение, что одно законное, наследственное царское поколение может возвеличить Россию, направляя честолюбие и страсти не к пагубным раздорам и козням, но к верному служению престолу, церкви и отечеству. Веря словам твоим и доказательствам, что Димитрий Иванович жив, что он любит нашу родимую Россию и не похож сердцем на родителя своего, Иоанна, – я жертвую собою для общего блага. Вот тебе рука моя!
Иваницкий прижал Леонида к сердцу.
– Я сострадаю о тебе, любезный друг, – сказал Иваницкий, – но не ' могу утешить. Скажу одно: ты теперь обновился жизнью и не должен помышлять о прошедшем. Сожалею однако ж, что монашеская ряса заграждает тебе путь к земным почестям. Твое просвещение, твердость, непоколебимое мужество возвысили бы тебя при таком государе, каков Димитрий Иванович, который умеет ценить ум и доблесть. Но если ты захочешь возвыситься на духовном поприще, я именем Димитрия обещаю тебе патриаршество!
Леонид горько улыбнулся.
– Нет, друг мой! – отвечал он. – Я ничего не ищу для себя на земле; мне ничего не надобно, только б блаженствовала Россия. Я умру счастлив в неизвестности, в какой-нибудь уединенной келье. Но мы говорим с тобою о будущем, забыв о настоящем положении. Быть может, нам суждено кончить жизнь в этом лесу… Быть может… Но какая нужда! Должно действовать до последней минуты. Пойдем в путь!
Леонид и Иваницкий разбудили своих товарищей, уложили свои пожитки, запаслись ключевою водою и отправились. Солнце уже склонялось к западу, и они до ночи надеялись достигнуть литовской границы.
ГЛАВА III
Опасность. Пристанище у злодеев. Ворон ворону глаза не выклюнет.
Беглецы шли лесом до позднего вечера, держась вправо, но не достигли Днепра, как предполагали. Усталость принудила их остановиться на ночлег, и они разложили небольшой огонь, чтоб защитить себя от ночной сырости и сварить пищу. В безмолвии сидели они возле огня, и каждый из них занят был своею думою, как вдруг послышался лай собаки и вскоре за тем раздался свист.
Вздрогнули беглецы, но Иваницкий не потерял духа. Он вынул из-за пазухи два малые пистолета, которые всегда носил при себе, взвел курки, осмотрел полки и снова положил за пазуху.
– Братцы! – сказал он, – приготовьте ножи и не подпускайте никого к себе.
– Что проку в наших ножах и в твоих пистолетах, – сказал вполголоса Мисаил. – Целый лес наполнен воинами царскими и сыщиками. Нас шапками закидают.
– А считал ли ты этих ратников и сыщиков? – спросил Иваницкий, улыбаясь.
– Разве ты не слышишь лаю собак, свисту и шуму в целом лесу? – возразил Мисаил.
– Слышал свист одного человека и лай одной собаки, а шуму в целом лесу не слыхал, – отвечал Иваницкий. – Это шум не от сыщиков, – примолвил он насмешливо, – но от осины, которая манит к себе на сук трусов и предателей.
Лай вдруг послышался в нескольких шагах, и огромная собака с железным колючим ошейником выбежала из кустов, остановилась, подняла голову, потом завыла и скрылась в чаще леса.
– Первый сыщик уже здесь! – сказал Иваницкий. – Он честнее других своих братии в человеческом образе: не кидается, не кусает, а даже сожалеет, воет об нас! Посмотрим, что будет!
– Собака воет перед покойником, – возразил Мисаил.
– И перед малодушным, – отвечал Иваницкий. Он отвел Леонида на сторону и, положив ему руку на плечо, сказал: – Прости, друг! я не отдамся живой. Боюсь одного, чтоб крест царевича не попался в руки его злодеев: он должен быть зарыт в землю вместе со мною. Однако ж он спрятан у меня надежно.
Леонид отвечал одним пожатием руки.
Кусты пошевелились, и вышел человек низкого роста, плотный, с небольшою рыжею бородою. На нем был короткий русский кафтан из толстого синего сукна, на голове низкая барсуковая шапка. На плече имел он двуствольное ружье, за кушаком кистень и топор, чрез плечо охотничью суму.
– Добрый вечер, святые отцы! – сказал незнакомец грубым голосом.
– Добро пожаловать! – отвечал Леонид. Иваницкий пристально смотрел на пришельца и не знал, на что решиться. Незнакомец подошел к огню, поздоровался с монахом еще раз, осмотрел всех с головы до ног и, не видя у них оружия, покачал головою и сказал:
– На пир ходят с ножом, а в лес – с ружьем. Налегке вы выбрались в дальний путь, отцы мои! Видно, не трусливого десятка.
– Ты, верно, знаешь пословицу: соколу лес не диво! – отвечал Иваницкий.
– Вижу соколов по полету! – примолвил незнакомец с улыбкою. – Только и соколов бьют на лету.
Иваницкий добыл огромный нож и, сверкнув им пред глазами незнакомца, сказал:
– Кремень осекается, а вот надежный друг! Он не даст промаху.
– Славно! – воскликнул незнакомец. – Только этим не достанешь далеко.
– Тем лучше, – отвечал Иваницкий, – с этим надобно ближе подойти к неприятелю и короче с ним познакомиться.
– Нашего поля ягода! – воскликнул незнакомец, ударив Иваницкого по плечу. – Молись Богу, что попался мне в руки, я люблю таких удальцов.
– За любовь спасибо, – отвечал Иваницкий. – Только скажу тебе откровенно, что я ни в чьих руках не бывал и никому живой не отдамся.
– Что далее, то лучше! – сказал незнакомец. – Послушай же, приятель: в чужом доме кланяются хозяину, а я, прошу не прогневаться, здесь хозяин. Не хочешь ли видеть моих челядинцев? – При сих словах незнакомец взял пук сухих ветвей, зажег и поднял вверх, сказав:
– Смотри вокруг: видишь ли, что ты не в глуши, а в честной беседе?
Иваницкий и монахи подняли головы и увидели, что кругом на деревьях сидели люди с ужасными лицами, прицелившись в них ружьями.
– Мы пропали! – воскликнул Мисаил, всплеснув руками. Варлаам перекрестился; Иваницкий, отступив три шага от незнакомца, добыл пистолеты; Леонид стоял неподвижно, сложив руки на груди.
– Вы не пропали, – сказал незнакомец, – а должны благодарить Бога, что попались ко мне. Мне понравился вот этот удалец (при сем незнакомец указал на Иваницкого), и я хочу спасти вас, а не погубить. Слыхали ли вы, что в здешних местах завелась вольница, рыбаки, что запускают неводы по чужим клетям? Вы понимаете меня!
– Нам сказывали в Стародубе, что на Украине составились шайки… – сказал Леонид и остановился.
– Разбойников, не правда ли? – подхватил незнакомец с насмешливою улыбкой.
– Да, так называют этих молодцов смиренные граждане, – примолвил Леонид.
– Пусть зовут, как хотят, это их дело, – возразил незнакомец. – Мы зовем себя вольницей. А слыхали ли вы об их атамане, Хлопке-Косолапе?
– Кое-что слыхали, – сказали монахи один за другим.
– Мало слышали, так видно, что вы не здешние. Откуда вы попали в мое воеводство, в этот лес?
– Мы идем из Москвы и провели часть зимы в окрестностях Новагорода-Северского, – отвечал Иваницкий.
– Скоро услышат обо мне и в Москве! – сказал Хлопка. – Прошлый год я только собирался в гости под Москву, а теперь пойду на пир. Затрещат палаты боярские, так, что и в Кремле будет слышно! Царь Борис Федорович богат, надобно ему поделиться со мной казною. Хлопка хоть не князь и не хан (49), а объявит войну царю Московскому.
– Когда ты в войне с Борисом, так мы твои союзники, – возразил Иваницкий. – Вот тебе рука моя!
Хлопка ударил рукой в руку и сказал:
– Я знаю вас: вы – те самые люди, которых стерегут сыщики на рубеже литовском. За ваши головы, так же, как и за мою буйную головушку, царь Борис назначил плату.
– Спасибо ему, что он ценит наши головы! – примолвил Иваницкий весело.
– Ценит, да не купит, – возразил Хлопка. – Ну, скажите мне правду, что вы напроказили в Москве? За что он на вас так сильно прогневался?
– Изволишь видеть, царевич Димитрий Иванович, которого Борис велел извести, не зарезан в Угличе, а жив и здоров, как мы с тобою, – сказал Иваницкий. – Литовские люди разгласили об этом в Москве. Мы слышали весть и повторяли, а царю донесли, будто мы это выдумали, так он и велел поймать нас к допросу. Вот вся наша вина!
Хлопка смотрел на Иваницкого с удивлением.
– Царевич жив! Неужели это правда?
– Нам сказывали литовцы, которые видели его и говорили с ним, – отвечал Иваницкий.
– Яблоко недалеко падает от яблони, – сказал Хлопка, – не таков ли сынок, каков был отец?
– Говорят, что Димитрий-царевич умен, как отец, а добр, как брат Федор Иванович, – отвечал Иваницкий.
Хлопка опустил голову, потупил глаза и, помолчав немного, сказал:
– Нам что поп, то батька, а чем лучше, тем для нас хуже. И Димитрий Иванович если придет, так не с жалованием для вольницы, и если поймает, так велит вешать не на шелковинке, а на такой же веревке, как и царь Борис.
– Димитрий Иванович будет иметь нужду в храбрых людях, – отвечал Иваницкий, – он верно объявит прощение вольнице и пригласит сражаться за доброе дело под знаменами отечества.
– Наше отечество – темный лес, а доброе дело – пожива, – возразил Хлопка. – Теперь я сам большой, а в службе царской для меня последнее место. Знаю я, как прощают и как милуют нашу братью! Только бы попался в когти, а там поминай как звали! Но, правду сказать, мне б было на руку, если б теперь царь Борис стал воевать с царевичем Димитрием. Пока б пастухи дрались, волки облупили б барашков! – Хлопка громко захохотал. – Что будет, то будет, а я вас проведу за рубеж. Не бойтесь ничего: вот вам моя рука! Что сказал Хлопка, то верно, как это ружье, которое никогда не дает промаху. – При сем Хлопка потряс ружьем и поставил его возле дерева. – Не бойтесь ничего, вы у меня в гостях, – примолвил он, свистнул три раза, сучья зашевелились кругом, и человек до тридцати вооруженных людей прибежало к огню и окружило атамана и беглецов.
– Вот мой передовой полк! – сказал Хлопка с улыбкой, указывая на своих товарищей. – Посмотрите, молодец в молодца, народ казенный, деловой, с ножевого завода! – Он погладил по черной бороде одного разбойника исполинского роста с зверским лицом, примолвив: – Ты что скажешь, Ерема?
Ерема вынул топор из-за пояса и, кивнув головою на монахов, сказал:
– Прикажешь, что ли, отпускную?
– Нет, побереги острие для добрых людей, а это нашего сукна епанча. Рыбак рыбака далеко в плесе видит: вот из этого молодца будет прок, – Хлопка указал на Иваницкого. – Ему тяжел клобук, как пивной котел. Что, брат, не хочешь ли к нам? Сего дня по рукам, а завтра будешь есаулом.
– Спасибо за честь, – отвечал Иваницкий, усмехнувшись. – У всякого свой талан: тебе махать кистенем, а мне перебирать четки.
– Нет, брат, не тем ты смотришь! В твоих руках нож да кистень пригоже четок и кадила. Право, пристань к нам! Как тебя зовут?
– Григорий Отрепьев! – отвечал Иваницкий.
– Пойдем-ка с нами трепать, Отрепьев! – примолвил Хлопка. – У нас не житье, а масленица. Савка Гвоздь! подай-ка вина! – Один из разбойников подал флягу Хлопке, и он сказал: – Твое здоровье, Григорий! – Выпив вина, Хлопка передал флягу Иваницкому, примолвив: – Выпей, да попотчуй своих товарищей: они приуныли, как мокрые вороны перед коршуном.
Иваницкий имел нужду укрепить силы; он против обыкновения выпил глоток вина и отдал флягу своим товарищам. Варлаам выпил немного, Леонид вовсе отказался, а Мисаил прильнул к фляге, как пиявка к телу.
– Этот толстый приятель знаком что-то мне, – сказал Хлопка, указывая на Мисаила. – Не был ли ты когда под Москвой в руках сыщиков?
– Был нынешней зимой, и освобожден добрыми людьми на дороге от Александровской слободы в Москву, – отвечал Мисаил.
– Эти добрые люди – я да мои товарищи, – возразил Хлопка. – Ну, вот видишь, – примолвил он, обратясь к Иваницкому, – что я вашу братью спасаю, а не гублю. Пей, старый знакомый: я знаю, что ты охотник до сткляницы, – сказал он Мисаилу, который низко кланялся и несвязно благодарил разбойника за свое избавление.
– Огни, ребята! – закричал Хлопка, – и готовьте ужин. Савка Гвоздь! обойди сторожевых и скажи есаулу, чтоб послал кругом обходных. Не думай, чтоб это была вся моя сила, – сказал Хлопка Иваницкому. – Нет, брат, моя дружина стоит доброго полка стрелецкого! Это только мои налеты, мои ближние, неразлучные, пережженные, перемолотые. Из этих удальцов каждый стоит десятка. Песенники, вперед! Вина!
В одну минуту запылал огромный костер. Хлопка сел на колоде и посадил возле себя Иваницкого, не заботясь о его товарищах. Из кустов вынесли разбойники куски мяса и стали жарить на бердышах и ножах. В котле закипела каша. Баклаги с вином развесили на сучьях.
– Ты удивляешься, может быть, как мы подошли к вам близко, а вы не приметили? – сказал Хлопка Иваницкому. – Дело мастера боится. Мы умеем подкрадываться лучше лисицы и гложем не хуже волков. Увидев издали ваш огонь, мы стали стучать жердями по ветвям, чтоб наделать шуму, будто от ветра, а между тем другие ребята мои подползли на брюхе и взлезли на деревья. На проведы идет у меня собака: если людей много и с оружием, то она лает, а если мало и без оружия, то воет. Сам черт не застанет нас врасплох. Верст на сто кругом бродят мои лазутчики, а стража и обходы берегут все тропинки на десять верст. Не только между ратниками, но и в воеводских избах и во всех приказах царских у меня свои люди. Я все знаю, что замышляют противу меня, и безопасен со всех сторон. Вот видишь, что я знаю даже о том, что вас ловят на рубеже. Если б ты пожил с нами неделю, то не расстался бы вовек. Я полюбил тебя за твою смелость, и мне нужен письменный человек.
Иваницкий, видя, что в его настоящем положении было бы опасно раздражать разбойничьего атамана отказом, и не зная, как отделаться от него, сказал:
– Я бы рад остаться с тобою, но меня призывает в Литву важное семейное дело: я возвращусь к тебе осенью, а если тебе нужен человек для письма, то удержи товарища моего, Мисаила.
– Быть так, я не хочу никого держать силою, – отвечал Хлопка, – но если ты воротишься ко мне, то дам тебе сто рублей и сделаю есаулом. Ребята, мою песенку!
Разбойники запели хором:
То не гром гремит по поднебесью; То не ветр шумит во дубровушке — Атаман зовет громким голосом Удалых ребят, свою вольницу. Ах, вы, молодцы, собирайтеся, С отцом с матерью расставайтеся! Бросьте жен, детей, красных девушек! Не на пир зову, а на жаркий бой; Кому смерть страшна, не ходи со мной. Не Окой пойдем и не Волгою, Поплывем рекой мы кровавою, Поспешим к Москве белокаменной За рублями и за куницами, За парчами и за девицами! Ах, послушайте, добры молодцы! Зарядите вы ружья меткие, Наточите вы ножи вострые И мужайтеся крепким мужеством. Не литву вам бить, не татар плошить, Надо резаться русским с русскими, Биться надобно орлу с соколом. Кому жизнь мила, не кидай села; А кто любит бой, тот ступай за мной!Хор, кончив пение, расступился, и на средину выступили разбойник Ерема с балалайкою и два цыгана. Сии последние скинули с себя кафтаны, взяли в обе руки по большому широкому ножу и стали друг против друга. Ерема заиграл и запел плясовую песню на голос: «Ах, на что ж было город городить», – а цыгане стали плясать вприсядку, то сближаясь один с другим и ударяя ножом в нож с прикрикиванием, то отдаляясь, представляя единоборство и бой на ножах. Ерема ходил вокруг плясунов, а хор повторял два последние стиха куплета.
Ерема
Ах, что это за добры молодцы! Не крестьяне, не дворяне, не купцы. Без работы, без заботы век живут, Сладко пьют, едят и песенки поют. Ай, жги, ай, жги, говори. Ах, что это за добры молодцы!Хор
Ай, жги, ай, жги, говори, Ах, что это за добры молодцы!Ерема
Мужик сеет, мужик веет, мужик пашет, Кистенем наш брат, посвистывая, машет.Хор
Ай, жги, ай, жги, говори, Кистенем наш брат, посвистывая, машет.Ерема
Сторожит истцов судья, как мух паук, Добрый молодец натягивает лук.Хор
Ай, жги, ай, жги, говори, Добрый молодец натягивает лук.Ерема
Православных на торгу купец морочит, Добрый молодец булатный нож свой точит!Хор
Ай, жги, ай, жги, говори, Добрый молодец булатный нож свой точит!Ерема
Жирный барин с мужичков оброк берет, Добрый молодец свинцовы пули льет.Хор
Ай, жги, ай, жги, говори, Добрый молодец свинцовы пули льет.Ерема (вместе с хором)
Ах, что это за добры молодцы! Не крестьяне, не дворяне, не купцы. Без работы, без заботы век живут, Сладко пьют, едят и песенки поют. Ай, жги, ай, жги, говори, Ах, что это за добры молодцы!– Вина! – закричал Хлопка. – Пей, ешь, веселись!
Разбойники бросились к ужину и сняли баклаги с сучьев. Хохот и грубые шутки насчет монахов раздавались со всех сторон, невзирая на честь, оказываемую атаманом одному из них. Перед Хлопкою поставили большую сковороду с лучшими кусками жареного мяса, сушеные калачи и чашку с пшеном. Ерема налил водки в серебряную стопу и с поклоном поднес Хлопке, примолвив: "Кушай на здоровье!" Хлопка перекрестился и, выпив духом, мигнул подносчику, чтоб он попотчевал гостей. Иваницкий и монахи отказались, исключая Мисаила, который уже был навеселе. Атаман пригласил своих гостей ужинать с собою из одной чаши. За трапезою он был молчалив и велел наливать себе крепкого меду. Краска мало-помалу выступила у него на лице, и он был недоволен, что гости его не пили вместе с ним.
– Что это, отливная ваша бочка, что ли! – спросил он у монахов, указывая на Мисаила, который один не отставал от атамана.
– Мы не привыкли к питью, – отвечал Иваницкий. – Вино и мед могут ослабить наши силы и здоровье, а они теперь нам нужны.
– Неженка! – воскликнул Хлопка. – От тебя этого я не надеялся, – примолвил он, обращаясь к Иваницкому. – Впрочем, и трезвость дело хорошее, даже и в нашем ремесле. Но, изволишь видеть, иногда черные мысли, как туман, ложатся в голове, так не худо разогнать их хмелем. Черт побери! Режешь, режешь, да и обрежешься сам! Что ни говори, а два столба с перекладиной не приманчивы. Вина!
Хлопка выпил большую стопу, и глаза его налились кровью, лицо вспыхнуло. Он сбросил охотничью суму и обнажил свою широкую грудь.
– Жарко, здесь горит! – примолвил он, указывая на сердце. – Погубил душу мою злодей Семен Никитич Годунов! Отец мой был вольный человек, суздальский мещанин, и служил ему верно лет двадцать с целою нашею семьею. Ни за что ни про что боярин закабалил нас, как пришла перепись холопям и крестьянам при царе Федоре Ивановиче, а когда мы с отцом хотели уйти от него и возвратиться на родину, так он заковал нас в железо и нещадно сек семь пятниц сряду. Отец мой не выдержал и помер, а я бежал сперва в Муромские леса, потом на Украину, нашел удальцов, таких же несчастных беглецов, как я, и принялся за промысел сдирать шапки с волосами. Один черт, что погибнуть от злого боярина, что от палача! Но пока меня поймают в петлю, достанется от меня многим! Доберусь я и до самого Семена Никитича! – Хлопка разгорячился. – Иду к Москве, непременно к Москве! – воскликнул он. – Народу у меня столько, что не знаю, куда деваться с ними. На ловца и зверь бежит! Наскучило прятаться по лесам и оврагам. В чистое поле! Подниму всю сволочь: повею вихрем, помету метелью и зажгу Россию молниею с одного конца до другого. Тешься душа, веселись на кровавом пиру! Всех бей и режь от мала до велика! Ха, ха, ха! Вина!
С ужасом смотрел Иваницкий на ожесточенного кровопийцу, который в бешенстве, пылая злобою противу равного себе злодея, грозил гибелью отечеству и приносил в жертву своему мщению невинную кровь. Голова у Хлопки закружилась, он бросился на постланное для него ложе из ветвей и войлоков и заснул. Ерема заступил его место: разделил шайку на три смены и поставил сторожевых у огней. Наконец все разбойники утихли и прилегли отдыхать вокруг огней. Не зная положения места, опасаясь разгневить Хлопку и попасть снова в его руки, Иваницкий и его товарищи не помышляли о побеге и решились ждать исполнения обещания атамана разбойников. Усталость превозмогла беспокойства: они также заснули.
С первыми лучами солнца Хлопка был уже на ногах.
– Савка Гвоздь! – закричал он, и разбойник тотчас явился. – Все ли благополучно?
– Все исправно, я был сам в большой дружине у есаула; там всего довольно, а вестей нет никаких. На нашу стражу пришел наш приятель, еврей Юдка с литовской границы. Он хочет поговорить с тобой.
– Приведи Юдку и пошли к есаулу сказать, чтоб он шел за нами четырьмя шайками, одна от другой на три ружейные выстрела. Для передачи голоса между шайками должны идти исправные люди, как водится. Мы пойдем по берегу к ближнему литовскому селению, к Лоеву. Сигнал к походу – три свиста, к остановке – два, к помощи – два выстрела. Ступай!
Лишь только Савка Гвоздь скрылся в кустах, явился жид в сопровождении одного разбойника. Жид снял шапку и в пояс поклонился атаману.
– Ну, что скажешь, приятель? – сказал Хлопка, сев на бревне. – В которой стороне ратники и проведали ли они, что я близко?
– Полным-полнехонько и конных и пеших; и ходят, и ездят по берегу, а все ищут тех беглецов московских, о которых я тебе сказывал третьего дня. Об тебе еще не проведали и думают, что ты далеко. Я вчера говорил с самим московским головою. Добрый барин! Дал мне полтину и велел проведывать о беглецах. За одного, который называется Григорий… как бишь Григорий Трепаев, или Отрепаев, не помню, да у меня написано: за этого одного обещает дать пятьсот рублей чистыми денежками! Я пришел к тебе сказать об этом: не велишь ли своим людям поискать беглецов. Я бы свел их связанных и принес бы тебе денежки. Твои люди попроворнее этих ратников. – Жид опять поклонился, а Хлопка посмотрел значительно на Иваницкого и на монахов и примолвил:
– Пятьсот рублей! Дорогая голова!
Беглецы молчали, почитая себя погибшими. Хлопка обратился к Иваницкому и сказал:
– Что ты призадумался, дорогая головушка?
– Думаю, как бы отблагодарить тебя за добрый прием и помощь, – отвечал Иваницкий.
– Уж верно не пятьюстами рублями, которые дает за тебя начальник московской дружины, – примолвил Хлопка, улыбаясь.
– Почему знать? Быть может, когда я возвращусь из Литвы, то дам тебе и более, – отвечал Иваницкий.
– А ты знаешь пословицу: не сули журавля в небе, а дай синицу в руки, – сказал Хлопка. – Видишь ли, Юдка, вот те беглецы, которых ты мне советуешь искать.
– Не связанные! – воскликнул Юдка.
– А! ты любишь связанных! Постой, будут и связанные, – примолвил атаман. – Гей, Ерема! свяжите жида.
– О, вей мир! меня за что? – воскликнул жид со слезами.
– Здорово живешь, – возразил Хлопка, смеясь. – Ерема, руки назад, петлю на шею, да и на сук!
Жид страшно завопил и бросился к ногам Хлопки, воскликнув:
– Помилуй! что тебе сделал Юдка? Не я ли верно служил тебе?
– Ты служил черту, а не мне, так от него и жди милости, – сказал атаман хладнокровно. – Ерема! на сук приятеля!
Разбойники связали руки жиду и накинули аркан на шею.
– Что я сделал! Чем я виноват! – кричал жид в отчаянии.
– А зачем Христа мучили? – сказал Хлопка с зверскою усмешкой.
– Я не мучил никого! – сказал жид, заливаясь слезами.
– Все равно, ты или твой дед, прадед. На сук его, Ерема! – сказал Хлопка.
Несчастного жида поставили под деревом, закинули веревку на сук, и два разбойника потянули ее. Жид вскрикнул в последний раз, а Ерема запел с адским смехом: "Вечная память!".
– Негодная трава из поля вон! – примолвил Хлопка. – Ну, Григорий, что, ты думаешь, сделаю я с вами?
– Проведешь в Литву, как обещал, – отвечал Иваницкий.
– Угадал! – отвечал Хлопка с довольным видом. – Что сказано, то сделано. Я тебя не выдал бы и за сто тысяч рублей! По глазам твоим вижу, что ты дока и наделаешь много хлопот на Руси. А мне это и на руку! Кого боится царь Борис, у того, верно, сам черт в голове. Давай руку, приятель, ты будешь ночевать в Литве. Ворон ворону не выклюнет глаза.
Иваницкий ударил по руке атамана и сказал:
– Сдержал ты слово, сдержу и я. Увидишь, что дам выкуп за себя и за товарищей.
– Что будет впереди, о том потолкуем после, а теперь с добрым словом в путь во дороженьку. – Хлопка при сем свистнул три раза, взял ружье на плечи и, велев Иваницкому следовать за собою, пошел вперед. Разбойники пошли за атаманом в некотором расстоянии, не все вместе, но по нескольку и поодиночке.
Хлопка шел лесом с такою уверенностью, как большою дорогою. Он часто смотрел на деревья и замечал, с которой стороны ствол и сучья обросли мохом и плесенью. Это означало север. Он часто прилегал к земле и прислушивался, замечал течение солнца, полет птиц и, подобно опытному мореходцу, держался безошибочно настоящего пути. Наконец к полудню лес стал редеть, появились полевые птицы, потом следы и тропинки, и Хлопка остановился. Он дал отдохнуть своей шайке, подкрепил силы толокном и небольшим приемом водки, велел наблюдать тишину и, выслав Ерему и Гвоздя на разведы, прилег отдохнуть. Между тем разбойники взлезли на деревья и смотрели вокруг. Разбойники разговаривали между собою шепотом. Приказания атамана исполняемы были во всей точности.
Наконец, часа через три, возвратились Ерема и Гвоздь и донесли атаману, что до берега Днепра не более пяти верст и что лес почти подходит с этой стороны к реке. На берегу, возле малой деревушки, видели они человек десять конных ратников. Крестьянин, встреченный ими в поле, сказал, что целая дружина московская пошла сего утра вниз по реке, к Любечу, и что завтра ожидают отряда в деревне.
– Не надобно терять времени, – сказал Хлопка. Он снова свистнул и подал знак, чтоб передовая дружина собралась вокруг него.
– Ребята, – сказал атаман, – пойдем потихоньку опушкою леса и, разделившись на три части, нападем на ратников, прижмем их к реке и принудим сдаться. Если не захотят – бей!
Хлопка шел впереди и вскоре увидел воинов, которые, не предвидя никакой опасности, пасли коней своих, а сами лежали в шалаше из древесных ветвей, раздетые, без всякой предосторожности. Хлопка переменил план. Он велел всем броситься к шалашу, что и было немедленно исполнено. Оплошных ратников перевязали и забрали их лошадей и оружие.
На берегу находилось несколько лодок, которые стерегли ратники. Хлопка призвал к себе Иваницкого и сказал:
– Вот я исполнил мое обещание: видишь, что все делается по моему слову. Возьми лодку и ступай на ту сторону с двумя своими товарищами; третьего, толстого попивалу, я удерживаю при себе на некоторое время для письменных дел. Мой дьяк убит. Я намерен начать большую работу, и мне надобно переписываться с городами. Прощай! Если жизнь наша тебе нравится, воротись: я друг твой!
Иваницкий и монахи поблагодарили атамана от чистого сердца и, простившись с ним и с Мисаилом, сели в лодку. Мисаил не оказывал ни малейшего сожаления, расставаясь с своими товарищами, которые всегда обращались с ним презрительно и обременяли его насмешками. Хлопка обещал отпустить Мисаила с наградою при первой находке письменного удальца.
– Не забудь затопить своей лодки, – сказал Хлопка, – а я истреблю остальные на здешнем берегу.
Иваницкий, отплывая от берега, махнул рукою и еще раз поблагодарил разбойников. Вскоре беглецы пристали к другому берегу и поспешили в лес, чтоб скрыться из виду опасных своих избавителей. Разбойники также ушли в лес, потащив за собою связанных пленников.
Когда беглецы отошли на такое расстояние, что могли почитать себя в безопасности, Иваницкий бросился на колени и поблагодарил Бога за свое спасение. Его товарищи последовали сему примеру.
– Чудесный промысел ведет меня к великой цели! – воскликнул Иваницкий. – Без всяких особенных предосторожностей мы прошли от Москвы, чрез толпы сыщиков и лазутчиков, и наконец, подобно пророку Даниилу, избавились из вертепа, наполненного кровожадными зверями! Какой ужасный человек этот Хлопка! Не одна корысть, но и мщение вооружили его. Этот злодей с своею смышленостью и храбростью наделает много зла. Жаль мне России, но в нынешних обстоятельствах и Хлопка нужен…
– Как, этот кровопийца нужен! – воскликнул Леонид. – Знаешь ли, что, если б я попался к нему один и если б не думал, что могу быть полезен моему законному государю, то пожертвовал бы собою и убил этого злодея.
– Изверг, который грозит облить кровью и превратить в пепел Россию, по-твоему, нужен! – примолвил Варлаам. – Сомневаюсь, русский ли ты, Иваницкий.
– Любезные друзья! Вы судите как простые граждане, а не как люди государственные, – отвечал Иваницкий. – Все, что может потрясти силу Бориса, все, что может сделать недовольных его правлением, ныне нужно и полезно. И самые толпы буйных грабителей, кровавые зрелища, к которым они приучают народ, все это принесет выгоды и умножит силу царевича при появлении его в России. Вы не понимаете великого предприятия во всех его отраслях. Обрушить престол хищника Годунова нельзя ветром, словами. Димитрию должно будет разрушать, чтоб наново созидать. Повторяю, Хлопка есть также орудие Божьего гнева на пагубу Бориса; итак, он нужен…
– Бог с тобой! – сказал Варлаам, – ты, как змей-прельститель, указываешь на одну сладость в самом грехе. Страшно быть с тобою!
Леонид молчал, но на лице его показывалось неудовольствие.
– Поспешим в Лоев, – сказал он, – может быть, в этом лесу мы наткнемся опять на нужных Иваницкому людей. А во мне нет к этому ни охоты, ни душевной силы.
– Ты недоволен мною, – сказал Леониду Иваницкий. – Друг мой, напрасно ты даешь дурной толк моим словам. Кто взлезет на вершину крутой горы, тот не должен разбирать, за какую траву хватается – за пахучую, за колючую или ядовитую. Все средства хороши, которые скорее и надежнее ведут к цели.
– Правило адское! – возразил Леонид.
– Правда, но употребляемое людьми, которых называют мудрыми в государственных делах, – отвечал Иваницкий с улыбкой. – Ты видишь, что я хорошо перенял науку у царя Бориса.
До захождения солнца беглецы шли опушкою леса; наконец они вышли в поле и увидели перед собою город Лоев. Леонид остановился, взял Иваницкого за руку и сказал:
– Наконец мы в Польше, в месте, безопасном для тебя, но ты знаешь, что я осужден на изгнание из сей земли и что в ней вступил я в монашество под именем Леонида. Ежели меня узнают, то я должен буду заплатить жизнью за нарушение закона.
– Пустое! – возразил Иваницкий, – здесь, в земле, называемой свободною, опасно нарушать только права сильного. Я имею здесь связи, и всемогущие иезуиты защитят тебя. Для отвращения явной опасности не называйся Леонидом Криницыным. Я Позволяю тебе взять мое прозвание, Григория Отрепьева. В России оно известно только в некоторых монастырях и лишь в последнее время дошло до ушей царя Бориса, который не имеет здесь власти вредить нам. Мне не нужна здесь более монашеская одежда, здесь я опять польский дворянин.
Хлопка не обыскивал Иваницкого. Драгоценный крест был спрятан в волосах его, а червонцы в чересах, которыми он опоясывался по всему телу. С польской стороны не было ни застав, ни стражи в городе. В Лоеве находились две церкви: римско-католическая и православная и несколько десятков небольших деревянных домов. Каменное здание, в котором помещался пограничный староста (50) с сотнею польских воинов, обведено было земляным валом и палисадами. Беглецы вошли в жидовскую корчму, потребовали особой комнаты, поужинали и легли спать.
Наутро Иваницкий позвал к себе жида и велел ему достать готовую пару польского платья, саблю и нанять лошадей до Киева. Все было исполнено в самое короткое время, но никто не заботился о пришлецах и не удивлялся перемене наряда русского монаха. Жиды даже не осмеливались беспокоить вопросами Иваницкого, а местное начальство занималось только делами своих подчиненных. Иваницкий, одевшись пристойно, пошел к старосте, нашел его в оружейной палате и сказал:
– Я дворянин из свиты посла Речи Посполитой в Москве, литовского канцлера Сапеги. Он выслал меня из Москвы еще зимою с важными и тайными поручениями; но я был преследован лазутчиками царя Московского, скрывался и едва успел преодолеть опасности и достигнуть отечества. Я только вчера прибыл сюда и прошу вас уведомить меня, где ныне посол и в каком положении наши дела. В удостоверение справедливости слов моих вот вам открытый лист от канцлера с его печатью.
Староста, человек пожилой и опытный в делах, сперва осмотрел с ног до головы Иваницкого и с недоверчивостью слушал его рассказ; когда же увидел печать и подпись канцлера Сапеги, тогда приветствовал гостя и попросил в свои комнаты. Велев подать завтрак, староста посадил Иваницкого возле себя и сказал:
– Так это вы тот опасный человек, которого Московский царь ищет с таким усилием! Теперь понимаю! Ко мне приезжал чиновник московский и обещал от пятисот до тысячи рублей, если я выдам ему беглецов московских, которых он мне описывал важными преступниками, расстригами, развратниками, святотатцами. По волосам и по бородавке на лице я догадываюсь, что они искали вас, предуведомляя, что один из них говорит по-польски и по-латыни. Чиновник говорил мне, что вас видели в последний раз в Брянске в монашеской одежде. Не правда ли?
– Перед вами мне нечего скрываться. Московский царь хотел поймать меня, чтоб пыткою выведать тайну, с которою я был послан в Польшу от посольства. Вот мое преступление, а вина двух моих товарищей, истинных русских монахов, та, что они помогали нам в делах и провели меня скрытыми путями. Я взаимно должен был спасать их и привел сюда с собою.
– И очень хорошо сделали. Вот как эти москали хотели обмануть меня! Если б вы не явились ко мне, я мог бы дать позволение на поимку русских беглецов, и если б вы попались в руки московских сыщиков за городом, то пропали бы без возврату. Чем могу быть вам полезным?
– Я хочу ехать в Киев и прошу у вас военного прикрытия на несколько миль, пока не удалюсь от берега, – сказал Иваницкий.
– Очень хорошо, я вам дам стражу.
– Где же теперь канцлер? – спросил Иваницкий.
– Вероятно, в Вильне. Король с войском в Лифляндии, а московские послы приглашены в Вильну для утверждения мирного трактата, предложенного Сапегою.
Иваницкий простился с старостою и объявил ему, что сего же вечера намерен отправиться в путь. Староста обещал немедленно приготовить двадцать конных воинов и снабдить его всем нужным для дороги.
ГЛАВА IV
Беседа с монахом о древнем Киеве. Дух Украины. Любовь. Соблазнитель.
Иваницкий, осмотрев Антониеву и Феодосиеву пещеры в Киево-Печерской Лавре и помолившись мощам святых угодников, сел на скамье вместе с проводником своим, старым монахом, и с удовольствием отдыхал на чистом воздухе, услаждая взоры зрелищем прелестных окрестностей.
– По благочестию твоему вижу, сын мой, что в тебе душа православная, – сказал старец Иваницкому. – Но ты радуешься, смотря на Киев, а мы плачем, помышляя, что латины ниспровергают нашу веру – униею!
– Горесть твоя справедлива, святой отец, – сказал Иваницкий, – но ныне приближается время, в которое православие получит сильную подпору на севере, если только духовенство само того захочет.
– Не понимаю, из чего ты это заключаешь, сын мой? – возразил старец. – Напротив, ныне приходит время самое бедственное для православия. Прежние короли польские не противились желанию своего народа и не стесняли иноверцев. Ныне даже самые поляки православного исповедания, вожди и сенаторы, терпят притеснения! При вступлении на престол Сигизмунда III только два католика заседали в светском Сенате, а ныне православные и вообще иноверцы всеми мерами устраняются от влияния на дела (51). Иезуиты овладели умом и сердцем короля, склонили на свою сторону знатных и богатых честолюбцев и ухищрениями и насилием влекут всех иноверцев соединиться с римскою церковью, пасть к ногам папы! За нас некому вступаться. Еще Киев не тронут, ибо князья острожские берегут его. Но бог знает, что будет вперед! Уже заведен здесь иезуитский коллегиум, уже иезуиты привлекли в школы свои богатейшее юношество и с амвона проповедуют среди русского народа, что вне римской церкви нет спасения, что православие есть ересь, и поносят учение наше и наших святителей!
– Все это должно скоро кончиться, – сказал Иваницкий с жаром.
– Не думаю и не надеюсь, – отвечал монах. – Между духовенством нашим нет согласия, а светские люди, особенно казаки, больше думают о мирских выгодах, нежели о душевном спасении.
– Однако ж Косинский и Наливайко восставали за веру; в Вильне, в Витебске, в Могилеве православные также воспротивились унии и подняли оружие противу притеснителей православия, – сказал Иваницкий. – Мне кажется, что, если б русский царь объявил покровительство православию и призвал храбрых украинцев к оружию, то нашлось бы много охотников. Как ты думаешь, отец мой?
– Мне нельзя даже и думать об этих делах, – отвечал старец, посмотрев на Иваницкого недоверчиво. – Ты видел, что восстание Косинского и Наливайки не удалось. Они разбиты и казнены как мятежники, а уния еще более укрепилась после этого несчастного дела. Может быть, найдутся и духовные, которые желали бы, чтоб русские цари владели Киевом и Украиною. Но казаки и богатые граждане, привыкшие к буйной свободе под польским правительством, опасаются русского владычества. Они бы желали быть вовсе независимыми и от Польши, и от России, составлять особое княжение, как было в старину (52).
– Это нелепая мысль! – сказал Иваницкий. – Как можно думать, чтоб такое слабое княжество удержалось между тремя соперничествующими державами, каковы Россия, Польша и Крым под покровительством турецкого султана? Украина была бы самою несчастною землею.
– Твоя правда, – отвечал старец, – и я так думаю, но не все головы судят здраво. Есть такие, что думают, будто бусурманы будут покровительствовать Украине охотнее, чем Польша или Россия. Но это не мое дело.
– Я еще не осмотрелся в городе, но мне кажется, что он весьма крепок, – сказал Иваницкий.
– Я не воин и не могу об этом судить, – отвечал монах. – Город стоит на горе, посреди обширной равнины; между этою горою и новым Киевом течет Днепр. Новый город имеет вид треугольника и окружен деревянной) стеною с деревянными же башнями. Крепкий замок лежит на покатости горы и возносится над новым городом; но старый город выше его. В замке есть пушки и воины польские, но сам город слабо защищен. Осмотри, ты лучше меня рассудишь это дело (53).
– Много ли здесь церквей? – спросил Иваницкий.
– Православных не более десяти, – отвечал монах, – а на моей памяти еще было сорок. Главные: святой Софии – против ратуши и святого Михаила – под замком. Прочие рассеяны в разных частях города и находятся при монастырях. Знаменитая церковь святого Василия теперь в развалинах, на которых поныне видны неявственные греческие надписи из первых времен христианства в сих странах. Католики имеют здесь четыре церкви: соборную, доминиканскую на рынке, отцов бернардинов под горою, иезуитскую между бернардинскою и рекою. Был ли ты в храме святой Софии?
– Еще не успел.
– Советую тебе помолиться в нем и полюбоваться велелепию сей первой твердыни православия, – продолжал монах. – Она устроена по образцу храма византийского. Своды ее сложены из горшков, наполненных землею и повлеченных гипсом. Стены выкладены разноцветными камнями с таким искусством, что невозможно распознать, живопись ли это или тканье. Царские двери и ризница удивят тебя своим богатством. В сем храме почиют останки князей русских и святителей. Церковь эта недавно обновлена в древнем вкусе, равно как и церковь святого Михаила, которую покрыли позлащенною медью.
– Я слыхал, что здешние храмы и монастыри вмещают в себе великие сокровища, – сказал Иваницкий, лукаво посмотрев на инока.
– Образа и ризницы богаты, но о сокровищах не знаю, – отвечал монах.
– Если б духовенство захотело употребить казну монастырскую на защиту православия, если бы, например, предложило русскому царю сокровища, – сказал Иваницкий, внимательно посматривая на старца.
– Это не мое дело, – возразил старец. – Об этом надобно знать владыкам и архимандритам.
– Ты напрасно скрываешься предо мною, отец мой, – сказал Иваницкий, – ты знаешь, что я русский душою и верою и болею об упадке православия. Мне сказывали, что ты пользуешься большим уважением у всех противников унии и что твоими советами сделано много для отражения сего несчастья.
– Что значат советы отшельника! – сказал старец. – Я могу только молиться – и молчать.
Иваницкий, видя, что осторожный монах избегает решительных ответов на его вопросы, переменил разговор и спросил:
– Не знаешь ли, отче, где живет здесь греческий купец Критос, давно поселившийся в Киеве и женатый на киевлянке?
– Он уже перешел в вечность, – отвечал монах, – снедаемый горестью и раскаянием за то, что погубил дочь свою, выдав ее из честолюбия за латина. Вдова его, добрая и набожная Анна, с дочерью Калерией живет в старом городе. Но я бы напрасно толковал тебе, как найти дом и улицу. В целом Киеве только три порядочные улицы: прочие ни прямые, ни кривые, а составляют род лабиринта. Это странное сплетение переулков, в которых каждый строится, как ему угодно. Я дам тебе проводника.
Монах вошел в один из домов, в которых живут чернецы вокруг церкви, и возвратился с юношею, поручив ему проводить Иваницкого.
Вышед из ограды лавры, лежащей на расстоянии четверти мили от города, и миновав русский монастырь святого Николая на горе близ Днепра, Иваницкий пришел в Киев и, пробираясь по немощеным улицам между рядами деревянных домов, построенных на русский образец в одно жилье с подвалом, остановился возле одного старого дома с раскрашенными ставнями. Проводник, сказав ему, что здесь живет вдова грека Критоса, удалился. Иваницкий брякнул кольцом в калитку, и старая служанка вышла отворить ее.
В сенях встретила его пожилая женщина в русском шелковом шугае темного цвета. Голова ее повязана была черным платком.
– Желаю тебе здравия и всякого благополучия, Анна Петровна! – сказал Иваницкий. – Я пришел к тебе с известием от приемыша твоего, Алексея Криницына.
– От моего Алеши! – сказала Анна, всплеснув руками. – Он жив, бедненький! – примолвила она и залилась слезами. – Войди, батюшка, в светлицу, – сказала Анна и, переступя за ним через порог, воскликнула: – Калерия, Калерия, поди сюда, друг мой! Алеша, брат твой, жив. Вот от него вести!
Из другой комнаты выбежала опрометью девица и, увидев чужого человека в богатом польском полукафтанье, с золотым кушаком и саблею, остановилась, потупила глаза и, не будучи в состоянии ни скрыть внутреннего движения, ни преодолеть девической скромности, сказала дрожащим голосом:
– Где же брат Алексей?
Между тем Иваницкий смотрел с удивлением на красавицу. При высоком росте она была стройна, как серна. Черные, как смоль, волосы разглажены были по обеим сторонам высокого чела, а по плечам ниспадали две косы, заплетенные голубою лентою. Большие черные глаза, осененные длинными ресницами, сияли, как звезды на небе. Орлиный нос и коралловые уста придавали величественный и вместе приманчивый вид благородной физиономии. Белое лицо покрыто было живым румянцем. Полная грудь воздымалась от внутреннего волнения. Красавица подняла глаза, посмотрела на Иваницкого, и сердце его забилось сильно, пламень пробежал по жилам.
– Присядь, родимый, и расскажи нам, что ты знаешь о нашем Алеше, – сказала мать. Но Иваницкий не слышал слов ее и смотрел на прелестную девицу, которая, приметив замешательство гостя, пришла в большее смущение. Мать продолжала: – Мы знаем уже о несчастиях, которые он претерпел в Варшаве, знаем о пагубной встрече его с моим зятем, но нам сказали, что сын мой после того умер. – Иваницкий все еще молчал. Калерия повторила вопрос матери, и Иваницкий отвечал:
– Умер для света: Алексей постригся в монахи.
– Да исполнится святая воля Господня! – сказала мать. Дочь тяжело вздохнула и утерла слезы белою рукой. Добрая Анна, приписывая смущение гостя той горести, которая снедала ее собственное сердце, и посадив гостя за стол под образами, остановилась напротив, ожидая объяснения. Наконец Иваницкий пришел в себя и, взглянув еще раз на Калерию, потупил взоры и сказал:
– Алексей осужден в Польше на изгнание, а кроме того, опасается мщения родственников Прошинского. Он принял монашеский чин и поселился в отечестве своем, в России. Некоторые важные дела принудили его возвратиться в Польшу и скрываться до времени под чужим именем. Он бы рад броситься в ваши объятия, но ты, Анна Петровна, и покойный муж твой запретили ему являться в вашем доме. Он не смеет преступить приказания тех, которые заступали ему место родителей, которых он любил более своей жизни…
– Пусть явится! – воскликнула мать. – Ныне обстоятельства переменились. У меня нет ничего дороже, кроме его и моей дочери. Ах, если б была жива моя Зоя! – Мать залилась слезами. Калерия закрыла руками прелестное лицо свое и плакала.
– Итак, вы сегодня увидите его, – сказал Иваницкий.
– Он здесь! – воскликнули вместе мать и дочь.
– Здесь и живет вместе со мною, – отвечал Иваницкий и, чувствуя тяжесть на сердце, поклонился женщинам и вышел. Голова его горела, кровь кипела; он долго ходил по городу без всякой цели, пока решился возвратиться домой.
Варлаама не было в жилище, Леонид сидел один у окна, подпершись локтем. Взглянув на Иваницкого, он приметил перемену в чертах его лица.
– Не новая ли беда угрожает нам? – спросил хладнокровно Леонид.
– Беды нет, – отвечал Иваницкий угрюмо, – но кажется, что в Киеве закатилось мое счастье…
– Зачем ты завел меня в этот город! – воскликнул Леонид, – здесь и я схоронил мое счастие. Здесь я не могу быть спокоен ни минуты, будучи так близко от любимых мною и не смея к ним явиться!..
– Ты увидишь их, – отвечал Иваницкий протяжно и как будто с неудовольствием. – Я был в доме твоей воспитательницы, сказал, что ты здесь, и она и дочь ее ожидают тебя в свои объятия.
Леонид вскочил с своего места. Лицо его разыгралось радостью.
– Ты видел их, ты говорил с ними! – воскликнул он. – Здорова ли мать моя, здорова ли моя Калерия?
– Мать здорова, а Калерия… Калерия… она здорова… Я от роду не видал такой красавицы! – сказал Иваницкий.
– О, друг мой, если б ты видел Зою! – воскликнул печально Леонид. – Но и Калерия так же добра, так же умна, так же чувствительна, как сестра ее. Это моя воспитанница. Втайне я обучал обеих сестер наукам, которые неприступны доселе нашим россиянкам. Калерия воспитана лучше многих польских боярышень, славящихся в чужих землях ловкостью и умом. Я горжусь моим созданием. Ах, Зоя, Зоя! – Леонид горько заплакал. – Я теперь счастлив, друг мой! я могу плакать, – примолвил он. – Не смею показываться на улицах в городе, где меня знают многие, но лишь смеркнется, полечу туда. Боже мой! Я не думал, чтоб когда-нибудь мог ощущать радость. Но вот я счастлив!
Леонид сел на прежнем месте и задумался. Иваницкий долго прохаживался по комнате и наконец подошел к Леониду, сел возле него и сказал:
– Друг мой! увидев Ксению, дочь царя Бориса, я думал, что в свете не может быть совершеннее красавицы: она явилась очам моим, как чистая голубица в сиянии ангельской красоты и непорочности. Я думал, что все блаженство в черных ее очах, на нежных ее устах, на белоснежной груди. Голос ее трогал сердце мое, как струны сладкозвучной арфы, взоры разливали какую-то томность в душе моей. Увидев Калерию, я ощутил новую жизнь. Взоры ее зажгли кровь мою, голос потряс весь бренный мой состав и проник в душу. Ты терял рассудок от любви к Зое, друг мой, я с ума сойду от любви к Калерии! Спаси меня! или убей, или помоги мне, позволь любить сестру твою!
– Молодой человек, успокойся! – сказал Леонид важно. – Я узнал тебя совершенно. Душа твоя пламень, тело закаленная сталь, а ум твой сколь ни высок, но еще не укрепился до того, чтоб обуздывать страсти. Душа твоя не может оставаться в покое: без впечатлений она потухнет, как огонь без вещества. Две сильнейшие страсти, требующие всех сил жизни, – любовь и честолюбие – имеют на тебя самое сильное влияние. Когда ты мне говорил о любви своей к царевне, я почитал тебя мечтателем и был спокоен, зная невозможность увенчать успехом твои желания. Но теперь, когда душевный твой пламень обратился на сестру мою, на особу, которая мне дороже всего в жизни, я не могу быть равнодушным зрителем. К обладанию сестрою моею один путь – чрез церковь; на всякой другой стезе к ее сердцу ты встретишь мстительное железо. До сих пор не знаю подлинно ни роду твоего, ни племени, но кто бы ты ни был, если Калерия изберет тебя сердцем, если мать ее согласится соединить вас, я не скажу ни слова. Слишком много претерпел я, чтоб противиться сочетанию сердец по взаимному выбору. Не возбраняю тебе видеть Калерию и искать любви ее. Иваницкий бросился в объятия Леонида, прижал его к сердцу и в исступлении страсти воскликнул:
– Ты не знаешь, кто я! узнаешь – и… узнаешь! Я приуготовлю для Калерии судьбу, которой позавидуют первые девицы в обоих государствах. Я возвеличу ее, возведу на высокую степень, я…
– Друг! – сказал Леонид, – умерь свой восторг. Счастье для женского сердца не в величии, не в богатстве, но в любви, в нежности. Не забавляйся мечтами до времени. Еще ты не знаешь Калерии, еще она один только раз видела тебя.
Между тем смерклось, и Леонид, окутавшись в рясу, пошел к своим любезным. Иваницкий остался один и, желая рассеяться, вышел прогуляться на берег Днепра.
* * *
Прошло четыре месяца с тех пор, как Иваницкий в первый раз увидел Калерию, и все приняло другой вид в доме. Леонида уже не было в Киеве. Иваницкий овладел совершенно умом вдовы Критоса и сердцем прелестной Калерии. Он проводил дни в доме Анны и был в нем семьянином, заступил место Леонида.
Пламенная душа и чувствительное сердце суть пагубные дары природы, особенно в женщине, когда она должна идти в жизни путем испытаний. Каждая черта лица, каждое движение, каждый взгляд Калерии обнаруживали душу необыкновенную, огнедышащий вулкан, прикрытый только легкою оболочкою девической скромности. Но и эту оболочку сорвала любовь, и пламя вспыхнуло со всею силою.
Много женихов представлялись Калерии, но она, пользуясь свободою польских девиц, старалась узнавать душевные их свойства, и из числа многих красавцев, юношей богатых и умных, ни один ей не пришел по сердцу. Ива-ницкий – не красавец, – скрывая свое происхождение и не расточая пред нею богатства, приобрел любовь ее пылкою, исступленною своею страстью, умом необыкновенным, красноречием пламенным и какою-то дикою смелостью. Когда Иваницкий рассказывал о каких-нибудь делах или подвигах великих мужей славянских поколений, он переливал пламень свой в слушателей, исторгал слезы и ворочал сердцами по произволу. Когда он наедине говорил Калерии о любви своей, он не жил, но пылал, и слова его, взоры, как ядовитые стрелы, впивались в сердце красавицы. Рассуждая с стариками киевскими, собиравшимися иногда в доме Анны, Иваницкий изумлял мудрейших своею мудростью и льстил их надеждам, предсказывая блистательную участь Киева, умилял их, проливая вместе с ними слезы о несчастиях святого града. Доброй Анне он рассказывал о чудесных похождениях святых, пострадавших за веру, и толковал ей Священное Писание. Кто только знал Иваницкого, каждый любил его, каждый уважал, каждый удивлялся ему. Калерия следовала общему мнению и внушению своего пылкого сердца, которое ожидало только искры, чтоб воспылать. Оно воспылало!
Иваницкий истинно любил Калерию и не думал воспользоваться ее слабостью, не имел замысла обольстить ее. Но могут ли влюбленные ручаться за твердость? Одна несчастная минута решила участь любовников…
Зоркий, наблюдательный взор Леонида был несносен Иваницкому. Он нашел соумышленников, которые уверили Леонида, что родственники Прошинского открыли его убежище и хотят или погубить его тайно, или предать в руки правосудия. Иваницкий, будто по дружбе и по великодушию, спас Леонида, дал ему денег и отправил с письмами к своим знакомым в Львов, обещая вскоре за ним последовать. После сего он более не скрывался с своею любовью, получил позволение матери жениться на Калерии и медлил, будто ожидая позволения и прибытия родителей из отдаленной польской провинции. Добрая Анна часто посещала храмы Божий, и Иваницкий как жених имел случаи беседовать наедине с дочерью. Он воспользовался заблуждением страсти…
Однажды, в погодный сентябрьский вечер, Иваницкий сидел под ореховым деревом в саду возле Калерии и в задумчивости смотрел на небо. Некоторое время продолжалось молчание. Вдруг на глазах Калерии навернулись слезы.
– Любишь ли ты меня? – сказала она.
Иваницкий взял красавицу за руку, посмотрел на нее и сказал хладнокровно:
– Я люблю тебя, но не могу быть всегда предан одной только любви. Поприще жизни моей усеяно терниями: мне предлежат дела великие, голова моя не может всегда следовать внушению сердца.
– Скажи, какие несчастия угрожают тебе, какие дела ты намерен предпринять; я разделю с тобою горести и опасности; пойду на смерть с тобою! – отвечала Калерия.
– Нет, милая, это невозможно, – возразил Иваницкий. – Бывают случаи в жизни, где женщины не должны действовать, где любовь и нежность вреднее чувств самых ненавистных, где…
Калерия прервала слова Иваницкого:
– Ты перестал любить меня! – воскликнула она. – Любовь не может быть помехою в делах великих и благородных; напротив, она возбуждает к ним.
– Иногда, но не в моем положении, – отвечал Иваницкий хладнокровно.
– Мучитель! Зачем же ты вселил в меня любовь, зачем обманул меня! – воскликнула Калерия. Она побледнела, встала и сказала в сильном внутреннем движении:– Слушай! Судьба моя совершилась. Я отдалась тебе легкомысленно, но не думай, чтоб ты мог отбросить меня, как сорванный цвет. Иваницкий! ты посягнул на честь мою и заплатишь жизнью, если отважишься на мое поругание. С некоторого времени примечаю я твою холодность. Ты что-то замышляешь недоброе. Ты показывал нам письма от твоих родителей, но время летит, они не являются, и брак наш отсрочивается со дня на день, с недели на неделю. Брата моего нет здесь. Не ты ли удалил его? Но я не имею нужды в мстителе. Мой мститель на небе и поразит тебя вот этою рукою! – Калерия протянула правую руку и, помолчав, продолжала: – Я всегда страшилась любви; вкусив сладость ее, готова вкушать и горести, но не перенесу поругания. Если ты до сих пор не узнал меня, так познай теперь. В моих жилах течет кровь русская и кровь греческая. Как женщина русская я не снесу бесчестия; как гречанка буду уметь отмстить. Я жена твоя! Отныне мы неразлучны. Вместе жить или вместе умереть!
Иваницкий взял Калерию за руку, посадил возле себя, прижал к сердцу и сказал:
– Я люблю тебя, твой навсегда, но не могу явно вступить с тобою в брак до совершения моего великого предприятия. Знай, что царевич Димитрий Иванович, которого хотел умертвить царь Борис, жив и скрывается в Польше, в отдаленном городе на берегах Вислы…
– Царевич Димитрий жив! – воскликнула Калерия.
– Да, жив, и я первый друг его, первый его поверенный. Я ходил в Москву приготовить умы к его возвращению, нашел везде готовность служить законному государю и должен возвратиться к царевичу, объяснить ему расположение московского народа, составить предначертание к завладению вотчиною его, Россиею. Любовь к тебе удержала меня четыре месяца; между тем я изменил долгу и присяге. Вот что меня мучит! Я должен поспешить к царевичу, возвратить ему драгоценное доказательство его происхождения, вот этот крест, – при сем Иваницкий показал Калерии алмазный крест, висевший у него на груди, – и отдать отчет в моем посольстве. Я русский – и не могу изменить законному государю, который мучится в ожидании меня. Теперь видишь ли, что я люблю тебя, поверяя тебе тайну, с которою сопряжено более, нежели счастье и жизнь моя, сопряжено благо отечества? Итак, позволь мне отлучиться, повидаться с царевичем, овладеть престолом московским для законного государя, прославиться, достигнуть почестей и величия. Когда же подвиг наш совершится, я возвращусь к тебе, обвенчаюсь с тобою торжественно и повезу в Москву наслаждаться моею любовью, блеском моей славы, моего величия!
– Димитрий Иванович жив! – сказала Калерия. – Да ниспошлет ему Господь Бог успех в правом деле. Не стану удерживать тебя на поприще славы, но хочу последовать за тобою. Почему же супруга царского друга не может явиться к государю? Обвенчаемся, и я еду с тобою, буду услаждать труды твои нежным соучастием, оберегать в опасностях… Для любви нет ничего невозможного!
– Нет, любезная Калерия! я не могу явиться теперь к царевичу с женою. Мне предстоит много трудов, разъездов, переговоров. Я должен буду переноситься с места на место. Может быть, я должен буду искать помощи в Крыму, в Цареграде. Твое сопутствие подвергнет тебя и меня опасности и повредит делу. Ты знаешь уже, что я прибыл сюда с Леонидом в одежде инока. Эта одежда спасает меня от взоров любопытных и открывает вход всюду, где мне должно будет хлопотать тайно о делах царевича. Я не могу странствовать с женщиною.
Калерия задумалась и отвечала:
– Я не променяю блага отечества на собственное счастье. Иди, куда призывает тебя долг, честь и присяга! Оправдываю и цель твою, и средства, ибо для отечества должно всем жертвовать. Но мы можем обвенчаться тайно, и если тебе суждено погибнуть в великом подвиге, я не переживу тебя, но умру законною женою Иваницкого, друга Московского государя.
Иваницкий помолчал немного, как бы собираясь с мыслями, и наконец сказал:
– Хорошо, друг мой! Если для твоего спокойствия нужно это, я готов. Послезавтра обвенчаюсь с тобою. У меня за Днепром в одной деревне есть приятель священник. Я предуведомлю его – желание твое исполнится.
Иваницкий поцеловал Калерию и сказал, что он завтра к ней не будет, ибо должен приготовить все к тайному выезду и бракосочетанию. Любовники расстались.
ГЛАВА V
Несчастная жертва честолюбия. Таинственный человек открывается. Нечаянная встреча. Буря. Запорожец.
Матушка, позволь мне, пойти сего дня на посиделки к Вареньке Кудряшевской! – сказала Калерия.
– Изволь, друг мой! только возвратись пораньше, да берегись сырой ночи. Вы так поздно сидите, что, право, страшно, когда долго нет дома.
Калерия надела на себя новый бархатный сарафан, голову украсила жемчугом и покрыла фатою, накинула на плеча душегрейку и вышла со двора в сумерки. Старая служанка проводила ее до ворот приятельницы Вареньки Кудряшевской.
Калерия поздоровалась с подругою и, посидев у нее несколько минут, вышла, сказав, что ее дожидается на улице служанка. Иваницкий ждал ее за углом. Он взял Калерию за руку и в безмолвии повел к берегу. Рука Калерии трепетала в руке его. Пониже парома старый рыбак дожидался их с лодкою. Иваницкий оставил старика на берегу, посадил Калерию в лодку, взял весла и поплыл вниз по реке.
Печально сидела Калерия и смотрела на небо. Полная луна освещала великолепное зрелище, посребряла струи вод и вершины дерев. Широкие тени разлетались на пригорках. Иваницкий не промолвил слова и с усилием действовал веслами. Лодка быстро плыла по течению, и вскоре златые верхи церквей киевских скрылись из вида. Они выехали в пустынное место, где Днепр протекает между лесом.
– Ты печален, друг мой! – сказала Калерия, – неужели я причиною твоей горести?
Иваницкий молчал.
– Неужели я заграждаю тебе путь в жизни к твоим великим намерениям? – спросила Калерия.
– Заграждаешь! – сказал хладнокровно Иваницкий.
– Неблагодарный! – воскликнула Калерия. – Не я искала тебя, но ты нашел меня и разрушил мое спокойствие, мое счастие. И тогда, как я решилась отпустить тебя от себя, отпустить, быть может, навеки и остаться одна с моею горестью, ты говоришь, что я заграждаю тебе путь в жизни! Вот награда за мою любовь, за мою жертву! Иди на опасности, иди один, если не хочешь взять меня с собою. Но скажу тебе вперед: когда подвиг твой совершится, когда царевич Димитрий воссядет на престоле предков своих, я явлюсь к тебе, хотя бы ты был на первой степени в государстве; явлюсь не к вельможе, но к супругу, которого залог любви уже ношу под сердцем. Так! знай, что я уже мать! Не предам на поругание невинной жертвы моей слабости и твоего злодейства, не останусь в пустыне малодушно оплакивать свое легкомыслие! Если б ты был не только первый вельможа царя Димитрия Ивановича, но сам царь – я бы потребовала прав моих среди двора и народа, уличила бы преступника и сказала бы всенародно: он обманул бедную, беззащитную жену; он не может пользоваться доверенностью народа; обманщик не в состоянии быть правосудным…
– Замолчи! – воскликнул Иваницкий.
– Мне молчать! Нет! ты обольстил меня, но я не хочу обманом заставить тебя произнесть вечную клятву пред алтарем. Гнушаюсь всякого подлога. Объявляю тебе, что никакая сила на земле не в состоянии разлучить меня с тобою. Я не могу ни принадлежать другому, ни жить без тебя. Ты клялся быть моим навеки, я поверила, отдалась тебе: я твоя, но и ты мой; одна смерть разлучит нас!
– Ты хочешь моей смерти, – сказал Иваницкий, злобно улыбнувшись.
– Я думала о твоем счастье, а не о смерти. Но твоя холодность, твой мрачный вид, твое равнодушие к моим страданиям убивают меня. Ах, если б ты еще любил меня!
– Любишь ли ты меня? – спросил Иваницкий, положив весла и посмотрев пристально на Калерию.
– Неблагодарный! Смеешь ли ты спрашивать об этом, после той жертвы, которую я принесла тебе?
– Любовь испытуется жертвами не такого рода, как ты думаешь. Кто любит, тот охотно пожертвует собою для блага любимого предмета. Я бы охотно посвятил тебе жизнь мою, но я нахожусь в таком положении, что не могу этого сделать. Калерия, будь великодушною и откажись от меня: дай мне свободу!
– Боже мой, до чего я дожила! Послушай, Иваницкий: ты мне омерзителен. С этой минуты никогда взгляд любви не обратится на тебя. Отказываюсь от тебя, даю тебе свободу, но ты должен обвенчаться со мною – не для меня, а для детища, которое ношу в утробе. Пусть священник благословит нас – и тогда ступай с Богом! Я не хочу знать тебя.
– Этого быть не может. Я не могу с тобою обвенчаться, – сказал Иваницкий.
– Зачем же ты вывез меня из города, в эту пору? Какие твои намерения?
– Неистовая твоя страсть заставляла меня молчать перед тобою в Киеве, а внезапное бегство могло бы повредить доброй моей славе. Я вывез тебя… чтоб упросить дать мне свободу…
– Лжец! Ты имеешь какой-нибудь злой умысел. Вот колокольня той церкви, где мы должны были обвенчаться. Вези меня к берегу!
Иваницкий молчал и продолжал грести.
– Вези меня к берегу! – воскликнула Калерия, – или я заставлю тебя раскаяться в твоем умысле! – При сих словах Калерия вынула нож из-за пазухи и бросилась к Иваницкому. – Вези меня к берегу! – повторила она. – Сердце мое говорит, что ты готовишь мне погибель.
Иваницкий бросил весла, поднялся с своего места и, схватив Калерию за руку, отнял нож и бросил в воду. Калерия ухватилась за саблю Иваницкого, но лодка сильно покачнулась, и она упала ему на руки.
– Так умри же, неотвязная! – воскликнул Иваницкий и бросил несчастную в Днепр.
Раздался пронзительный вопль, и Калерия скрылась в волнах. Иваницкий отворотил голову в другую сторону, ударил веслами, и лодка помчалась.
Он взглянул на небо: та же луна, которая освещала убийство дьяка под Москвою, светилась между облаками. Он отвратил взоры. Кровь в нем волновалась сильнее, нежели воды в Днепре. Голова горела, он был в исступлении, крепко сжимал весла в руках и, как будто озлобясь на Днепр, сильно ударял по его поверхности. Лодка скоро удалилась от места преступления. Иваницкий причалил к берегу и вышел в лес.
По берегу чрез лес пролегала тропинка. Иваницкий без всякого намерения свернул на нее и вскоре вышел на небольшую поляну. Два всадника предстали пред него: один был Леонид, второй – друг его юности, киевлянин. Иваницкий остановился.
Леонид соскочил с коня и бросился к Иваницкому.
– Где сестра моя, где Калерия? – воскликнул он. – Я все знаю. Ко мне послан был гонец в Львов в ту минуту, как холодность твоя обнаружилась. 11о несчастию, я не застал Калерии, но она оставила письмо к матери, в котором уведомила, что в эту ночь должна обвенчаться с тобою в селе Китаевском. Я едва прибыл этого вечера в Киев и случайно узнал от рыбака, что ты поплыл с Калерией в лодке. Где она, где сестра моя?
Иваницкий молчал. Эта нечаянная встреча казалась ему карою самого провидения.
– Где сестра моя, говори, злодей! – возопил в ярости Леонид. – На лице твоем начертано преступление. Ты бледен, глаза твои пылают, как у лютого зверя, язык онемел… Что ты сделал с Калерией, куда ты девал ее?
– Она там! – сказал Иваницкий, указав рукою на небо.
– Изверг, ты убил ее! – воскликнул Леонид. – Где труп несчастной сестры моей? где моя Калерия?
– Она сама бросилась в волны Днепра! – сказал Иваницкий дрожащим голосом, потупив глаза в землю.
– Ты ее убийца – умри же, злодей! – возопил Леонид, выхватил нож и устремился на Иваницко-го. Он отскочил назад, обнажил грудь и, остановясь, сказал:
– Рази, если смеешь, своего государя! Я – царевич Димитрий!
Нож выпал из руки Леонида.
– Ты царевич Димитрий! – сказал он тихо. – О, я несчастный!
Киевлянин, сопровождавший Леонида, слез с коня, снял шапку и в изумлении смотрел на двух врагов.
– Наконец пришло время, и таинственный человек должен открыться перед тобою, – сказал тот, который известен был Леониду под именем польского дворянина Иваницкого и монаха Григория Отрепьева. Это был тот самый, который замышлял свергнуть с престола Бориса Годунова, которого друзья почитали истинным царевичем, а потомство прозвало Лжедимитрием. Он стоял перед Леонидом с обнаженною грудью и сказал:
– Убей законного царя своего: он слишком несчастлив, чтоб дорожить жизнью. Да будет с Россией, что Богу угодно!
Леонид молчал и смотрел в глаза Лжедимитрию.
– Ты был ослеплен моими рассказами, – продолжал Лжедимитрий, – и не мог придумать, чтоб я решился сам, в одежде инока и в лице польского дворянина, разведывать в Москве и посеять первые семена моего будущего могущества. Леонид! Государи только на престоле имеют верных и усердных слуг, имеют их тогда, когда могут награждать и миловать. Но я, несчастный, бесприютный, бедный изгнанник, я должен был сам для себя трудиться. Ты слышал от многих, знавших царевича, о приметах его. Смотри: вот одна бородавка под правым глазом, а вот другая на лбу. – При сем Лжедимитрий сбросил с себя полукафтанье. – Видишь ли, вот одно плечо короче другого (54). Наконец, вот тот крест, моя собственность, а вот письма от матери моей, царицы, которая уже знает, что я жив, видела меня в своем заточении и ожидает моего пришествия. – Лжедимитрий подал Леониду связку бумаг, которых тот однако ж не взял, надел полукафтанье и, смело подошед к нему, взял его за руку и сказал: – Ка-лерия умерла, но я не убил ее. Она пришла в отчаянье, узнав, кто я. Ты сам чувствуешь, что мне невозможно было сочетаться с нею браком. Что бы сказал народ мой, если б я возвел на престол бедную гражданку киевскую без его ведома? Я должен искать союзников, предложением руки моей могу подвигнуть на Бориса сильные роды княжеские. Я не могу располагать собою, ибо принадлежу России. Любовь, страсть заблуждала меня, но провидению угодно было расторгнуть эту цепь, приковывавшую меня к бездействию. Что значит смерть одного творения, когда дело идет о счастии миллионов! Как друг царский забудь обо всем и думай об одной России: вознесись, Леонид, превыше всех предрассудков… Леонид прервал слова его:
– Боже мой! Погибель сестры моей я должен назвать победою предрассудков! Несчастный! Я, я один погубил целое семейство!.. – Леонид бросился на землю, заливаясь горькими слезами. Лжедимитрий стоял неподвижно, сложив на груди руки, и, как знаток сердца человеческого, дал время излиться горести и отчаянию Леонида. Наконец он встал, отер слезы и, не говоря ни слова, пошел в обратный путь. Киевлянин повел лошадей. Лжедимитрий остановил Леонида и сказал:
– Неужели мы должны расстаться врагами?
– Если ты Димитрий – я не могу быть врагом твоим; но как ты еще не на престоле, то могу отказаться служить тебе, – отвечал Леонид.
– На престоле или нет – я законный твой государь, – возразил Лжедимитрий, – и требую не служения от тебя, но дружбы…
– Служить можно неволею, по обязанности, но любить нельзя, – отвечал Леонид.
– Но можешь ли ты удовлетворить желанию твоего государя и поклясться не изменять мне, хранить тайну о моем пребывании в Польше, пока я сам не откроюсь? – сказал Лжедимитрий.
– Я гнушаюсь всякою изменою, не изменял никому, не изменю и тебе, – отвечал Леонид.
– Ручаешься ли за своего товарища? – спросил Лжедимитрий.
– Ручаюсь, – отвечал Леонид.
– Итак, прощай! – сказал Лжедимитрий, взяв за руку Леонида. – Благодарю тебя за службу, за все пожертвования, которые ты сделал для избавления России от похитителя. Возвратись в Киев и будь спокоен: я испрошу тебе чрез моих друзей железный лист (55) от короля. Чрез несколько недель ты получишь свое прощение.
– Моли Бога, да простит он тебя, царевич! – сказал Леонид. – Жестокость твоя, хладнокровие к страданиям людей, даже преданных тебе, твое сластолюбие и переменчивость удостоверяют меня более, нежели все приметы, в том, что ты сын Иоаннов. Вероятно, мы не увидимся в жизни; итак, помни последние слова мои: кровь невинная вопиет к небу и обратится на голову преступника. Пред Богом нет различий сана и рождения! Добродетель и преступление – вот два только различия, по которым праведный судия небесный награждает и наказывает. Царский венец не защитит тебя от угрызений совести. Этот змей подползет и к ступеням твоего трона, и на одр, охраняемый твоими воинами. Разрушая счастье других, ты не можешь быть счастливым… Прости!
Лжедимитрий хотел говорить, хотел обнять Леонида, но он вскочил на коня и помчался от него. Киевлянин последовал за своим другом. Лжедимитрий остался один в лесу. Осенний ветер шумел в листьях и, беспрестанно усиливаясь, превратился в бурю. Небо покрылось мрачными облаками; вихрь свистел и колебал деревья, которые скрипели на корнях. Грозно ревел Днепр, и плески волн доходили до смятенного слуха убийцы. Ему слышались пронзительные вопли, стон, последний отголосок отходящей души… Лжедимитрий трепетал всем телом. Он оглядывался во все стороны, как будто боясь, чтоб Калерия не вышла из кустов, не появилась из-за дерев. Дождь обливал его, холодный ветер проникал до костей, но он ничего не чувствовал и беспрестанно то озирался, то прислушивался.
Вдруг ужасный треск раздался над его головою; казалось, будто небо обрушилось. Пламя мелькнуло пред его глазами, столетний дуб раскололся надвое и воспылал, как свеча. Оглушенный ударом, Лжедимитрий пал на землю, хотел воззвать к Богу, но слова замерли на устах: он не мог молиться!
Природа умереннее в своем буйстве, нежели люди. Действия ее грозны, гибельны, но непродолжительны, когда, напротив того, месть и злоба, возрождаясь в сердце подобно буре, продолжаются годы и нередко веки между частными людьми и целыми народами. Прошла гроза; Лжедимитрий встал с земли и, измученный, побрел медленно тропинкою из лесу, вышел в поле и, увидев на возвышении деревушку, направил туда шаги.
Он постучался у ворот первого дома. Старик отворил и, увидев измоченного человека, без расспросов ввел в избу, развел огонь в печи, примостил скамьи, постлал чистой соломы и дал во что переодеться. Хозяйка между тем спросила, не хочет ли странник подкрепить свои силы пищею. Лжедимитрий отказался и, сбросив с себя платье, лег отдыхать.
Тело требовало успокоения, члены не могли более действовать от истощения сил, и Лжедимитрий заснул; но душа его не успокоилась. Впечатления – пища души. Обремененная сильными ощущениями душа Лжедимитрий тем сильнее бодрствовала и действовала сновидениями, которые были столь же ужасны, как существенность. Лжедимитрий видел во сне Калерию, слышал последние ее стоны, ее жалобы, осязал труп ее. При последнем издыхании она угрожала ему мщением небесным. Наконец он видел себя в сновидении, оставленного Богом и людьми, в пустыне, на голом утесе, между плотоядными птицами необыкновенной величины, которые терзали тело его. Калерия носилась над ним в виде ангела-мстителя и указывала птицам на сердце убийцы, чтоб они исторгли его из живого страдальца. Лжедимитрий вопил во сне, вскакивал с постели, призывал Калерию, рвал на себе волосы. Добрые хозяева, думая, что он болен, сидели над ним, ожидая с нетерпением успокоения припадка. Наконец Лжедимитрий открыл глаза, но он был так слаб, что не мог отправиться в путь. Он просил у хозяев позволения провесть несколько дней в их хижине.
Лжедимитрий весь день был угрюм, не хотел принимать пищи и бродил один вокруг селения. Но и злодейство имеет свою силу, как добродетель, и хотя побуждения и следствия различны, но действия бывают те же. Ложные мудрствования успокоили на время Лжедимитрия. На другой день он подкрепил силы свои пищею и питьем, и взор его несколько прояснился. Заботливость добрых хозяев о его положении возбудила в нем чувства признательности. Здоровый и свежий вид старика, которому только изменяли седые усы и волосы, его воинственная осанка и поступь, быстрые движения – все привлекало к нему Лжедимитрия. Ввечеру, при свете каганца, когда старуха сидела за пряжею, а хозяин починивал упряжь, Лжедимитрий, сидя на скамье и облокотясь на стол, завел с ним разговор:
– Сколько тебе лет, дедушка? – спросил Лжедимитрий.
– А Бог знает; ведь мы не считаем годов, пане. Пока здоровится, так все кажется, что еще молод. Отец мой был вольным казаком запорожским, когда еще казаки не женились. Он сказывал мне, что я родился на пятый год после того, как при кошевом атамане Астафии Дашкевиче король позволил нашим селиться в вольных слободах и дал земли от порогов до города Черкасска. Это был добрый король!
– Сигизмунд Казимирович, – отвечал Лжедимитрий. – Правда, он был и добрый, и мудрый государь. То, об чем ты говоришь, случилось в 1510 году, следовательно, тебе теперь восемьдесят шесть лет!
– А почему ты знаешь это, пане?
– По книгам, друг мой! В книгах написано все, что было на свете!
– Это добре! – возразил старик. – Так, стало быть, запишут и то, что нынешний король, Сигизмунд Иванович, не помнит нашей службы, не любит своих деток и хочет, чтоб мы погубили души и сделались папистами.
– Конечно, все это будет записано, – отвечал Лжедимитрий.
– Ох, много надобно было бы писать, если б пришлось записывать все дурное, что делают с нами паны ляхи, советчики их ксендзы да жиды! А кто записывает все это, пане?
– Люди, о которых теперь не знают и не ведают, пишут правду, сидя в уголку. Есть и такие, что пишут явно и пускают в народ свои писания; да тем немного можно верить. Кто посильнее, за тем и они!
– Ах, окаянные! Ведь уже если писать, так писать правду, – сказал старик, – а не обманывать народ. Это и грех, и стыд. Послушай, пане, как ты давеча спал, мы приметили у тебя на груди богатый крест; видели, что ты крестишься по-нашему, так, стало быть, ты нашей православной веры, да еще и русский, потому что говоришь по-русски, как москаль. По одежде ты польский пан. Скажи-ка, каково ты уживаешься с ними? Паны при нынешнем короле сделались сердиты, как волки. Так и мечутся на всякого, кто не их веры! Господь ведает, как это пришло, а прежде этого не бывало. Вот был славный король Степан Степанович Баторий! Любил он казаков, любил и ляхов и всем делал добро. Были тогда и ляхи добры и жили дружно с казаками. А нынешние ляхи – Бог весть из чего бьются! Все бы кланяться им да их папе. Нам нельзя ужиться с ними, да, я думаю, и всякому православному тоже мудрено.
– Есть и между поляками всякие, и добрые, и дурные. С хорошими я живу хорошо, а от дурных в сторону.
– Конечно, есть всякие, – возразил старик. – Но каков поп, таков и приход! Король-то связался крепко с ксендзами, да еще с иезуитами. Так и все поют ту же песню. Ну как им пришло в голову, чтоб православные поклонились папе! Правда, нашли они глупых и трусливых, что пристали к ним; только не тронь казачины, а особенно Запорожья! Наши как заблаговестят по-русски в Сечи, так и в Варшаве будет слышно!
– А ты служил в казачьем войске? – спросил Лжедимитрий.
– Вырос и состарелся на Запорожье! – отвечал старик. – Сын мой Герасим-, по прозванию Евангелик, и теперь на Запорожье, кошевым в Новой Сечи. А я уж стар и отдыхаю, да молюсь Богу. Было время – и я воевал, и я делил золото пригоршнями, да все прошло! Пусть теперь сын ратует с неверными.
– Ты отец Герасима Евангелика, этого храброго атамана? – воскликнул Лжедимитрий.
– А что ж мудреного? – возразил старик. – Ты б хотел, чтоб атаман был паном или старостою! У нас не так ведется. У нас и атаманский сын будет всю жизнь подвязывать коням хвосты, когда не заслужит того, чтоб другие его слушали. Ведь когда кошевых выбирают, так выбирают того, кто сам лучше других, а не того, чей отец был лучше. Всякому свое!
– Не всегда хороши и выборы, дедушка, – сказал Лжедимитрий. – Выбирают умника, да не все те умны, кому следует выбирать. Иное дело степь, иное дело город.
– Справедливо! – возразил старик. – Слыхал я, как выбирали в Варшаве нынешнего короля! Паны передрались между собою, перессорились, а выбрали, прости Господи, что ни рыба ни мясо!
– А как далеко отсюда до Запорожья? – спросил Лжедимитрий, чтоб переменить разговор.
– Право, я не умею считать милями, – отвечал старик. – Мы привыкли считать в степях даль по воловьему рыку, по выстрелам, по конскому топоту. Аяхи считают от Киева до первого порога 50 миль. Всех порогов тринадцать: от первого, под Кудаком, до последнего 7 миль, по-нашему один день пути. За порогами семьдесят наших казацких островов; главные – Хорица и Томановка, где мы прячем от татар добычу и порох. Пониже реки Чертомлыка, при устье в Днепр реки Бузулука, лежит наша Сечь, на правой стороне Днепра, против устьев рек Белосерки и Рогатины. Кругом, на два дни пути, все наше! От Сечи в Крым четыре дня пути. Ох, Запорожье, Запорожье! как подумаю, так горько, что сил нет служить на коне и в ладье (56). Там-то привольное житье: и сыто, и весело, и драки вдоволь!
– Кого же принимают в казаки? – спросил Лжедимитрий.
– Всякого, кому Бог дал силу и смелость. Будь он поляк, татарин, волох, венгр или немец, только б крестился в русскую веру, десять лет не женился да переправился в ладье чрез пороги – так и наш.
– Правда ли, что в Сечи вовсе нет женщин? – спросил Лжедимитрий.
– А на что нам этот груз, – отвечал старик, посмотрев с улыбкою на жену. – Ведь жена хороша в хате, а не в поле. У нас есть свои слободы, там мы держим и жен, и всякую тяжесть, лишнюю в походах.
– Ну, уж вы, бесовы дети! – возразила старуха весело. – Все кричите на нас да смеетесь, а в слободах так нет от вас отбою! Не верь, пане. Казак десять лет не женится, а как пришло к женитьбе, так спроси, где девалась добыча: все осталось в слободах, все у красных девушек!
– И это бывает! – сказал старик. – Только дело в том, что в Сечи не терпят ни баб, ни латинов, ни панычей, ни каких неженок. У нас должно быть закаленным, как булат, на всякую беду и опасность. А когда охота нежиться, так ступай в слободу – к бабам.
– Как же живут у вас в Сечи? – спросил Лжедимитрий.
– А как жить! – возразил старик. – Пасем коней, едим саламату да пьем вино, пока есть, а нет, так на коней да и в Крым, или в лодки да в туречину, так и всего довольно. Наш брат казак умеет и весело пожить, и весело потерпеть. Нет мяса и муки, так сосем лапу, как медведь, пьем днепровскую водицу да попеваем о старых походах до нового без горя и кручины. Знай, пане, что, кто не бывал запорожским казаком, тот не бывал воином. У нас жизнь – что старый кафтан. Сбросил с плеч – легче! Сегодня жить, а завтра гнить! День мой, век мой. – Лицо старого казака покрылось румянцем, глаза оживились. – Ох, пане! – воскликнул он, – когда б попался в кошевые человек более письменный, чем мой Гераська, тогда б не так шумели радные паны на сеймах Варшавских, и Московский царь был бы нашим приятелем. Да вот беда, что ляхи держат своего гетмана казацкого в Трехтимирове, а наши запорожцы бушуют в одних степях. Но придет время – и запорожцы возьмут свое. Только б нам письменную голову – а все будет наше: и Трехтимиров, и Черкассы, и Батурин, и самый Киев!..
Лжедимитрий молчал, но простодушное объяснение казака возбудило в нем мысль привлечь на свою сторону запорожских казаков. Он весьма сожалел, что принужден был расстаться с Леонидом, которого можно было бы употребить для этого дела. Воспоминание о сем монахе воскресило в памяти Лжедимитрия Калерию, и грусть снова пала на сердце. Он встал, надел шапку и вышел из избы. Ветер бушевал в поле и дубраве, луна то проглядывала, то скрывалась за облаками, которые быстро неслись от севера. Лжедимитрию казалось, что тот же ветер, который поглотил последние вопли умирающей Калерии, веет на него. Луна, как грозная свидетельница его злодеяния, приводила его в трепет слабым своим мерцанием. Ему страшно было взглянуть на небо, страшно было дышать воздухом, зараженным проклятиями несчастной жертвы: он жег грудь его и сушил гортань. Он думал о Ксении и хотел утешиться надеждою на счастье в ее объятиях, на прелесть венца царского. Лжедимитрий возвратился в избу и застал хозяев за ужином.
– Старик! – сказал Лжедимитрий, – купи для меня лошадь с седлом. Я хочу завтра отправиться в дорогу.
– Я тебе продам своего сивку, если хочешь. Ты видал его: конь молодой и добрый, татарской породы, а седло хоть не красивое, да крепкое: я сам его сделал.
– Сколько ты требуешь за коня с прибором?
– Пятьдесят злотых.
– Вот тебе деньги! Завтра с рассветом я еду. Теперь постелите мне постелю.
* * *
Хозяева спали в клети. Когда они остались одни, старик сказал жене своей:
– Хоть этот пан и православный, но у него что-то недоброе на уме. Видно, у него на совести тяжкий грех, что он не может ни заснуть спокойно, ни покушать весело. Ночью мечется и кричит, как волк в яме, а днем смотрит исподлобья и вздыхает, как пленный татарин на аркане. Что проку в том, что на нем шитый кафтан да на груди крест с дорогими камнями? Панство и богатство не дают, видишь, покоя и сна злому человеку…
– Почему ты знаешь, что он злой человек? – возразила жена. – Может быть, он несчастный, потерял отца, мать или молодую жену. Ведь и с горя не спится и есть не хочется! Помнишь, как у нас умер сын наш Данила; мы также проводили ночи без сна, а дни в слезах. Хлеб казался мне горьким, а постель гробом!
– Мы плакали и молились, – отвечал старик, – но этот пан не плачет и не молится, не горюет, а мучится. Нет, Марфа! он злой человек! Дай Бог, чтоб он скорее уехал и не ворочался к нам. Злой человек – как гнилой труп: страшно быть с ним.
ГЛАВА VI
Разговор с священником Михаилом об украинцах. Днепровские пороги. Прибытие в Сечь. Кошевой атаман Герасим Евангелик.
В виду небольшого селения Кудака находится первый порог днепровский. Незнакомый странник, проведши ночь на хуторе у священника греко-российского исповедания, прогуливался с ним по берегу реки и, сев на скалистом берегу, смотрел с любопытством, как гордый Днепр, пресеченный подводными скалами, с шумом и ревом пробирался по сей преграде. Скалы в разных местах возвышались над водами более сажени; по их виду можно было догадываться, что некогда они возносились непрерывною стеною и должны были уступить силе вод, прорывшей исходы среди камней. Выше порогов зеленелся, подобно венцу, Конский остров, заросший густыми и высокими лесами, а ближе к порогам возвышался скалистый Княжий остров. Кругом простирались степи, на которых волновалась высокая трава и в разных местах видны были хутора, осененные зеленью. Угрюмый на севере сентябрь дышал теплотою в сем благословенном крае. Солнце светило ярко на чистом небе. Птицы стаями вились по берегам, над островами, тучные стада пресыщались благовонными травами. Вдали слышны были звуки свирели и женский голос, напевавший казацкую песню.
– Блаженная страна! – воскликнул незнакомец. – Недостает здесь одной промышленности, трудолюбия. Когда б эти воинственные толпы поселились в городах и селах, занялись земледелием, ремеслами, торговлею, тогда 6 Украина была первою областью в Польше. Природа излила дары свои на этот край, но люди не умеют и не хотят ими пользоваться. Здесь еще дико, как в первое время по сотворении мира.
– Правда твоя, – отвечал священник, – но сама судьба противится благосостоянию этой страны. В этих степях беспрестанно блуждают хищные татары буджакские; сюда часто приходят сильные орды крымских татар, и мирный поселянин или промышленник не мог бы обитать здесь, если б мы не имели на страже знаменитой Сечи Запорожской. Она защищает не только Украину, но и Польшу от татар лучше, нежели замки и крепости. Татары могли бы взять и разрушить укрепления, но они не в силах преодолеть воинственной Сечи, которая переносится всюду, где есть опасность и где должно разить врагов нашего спокойствия. Пока христиане не истребят татар, до тех пор эта страна не может быть обитаема никем, кроме людей воинских, а воинам некогда заниматься промышленностью.
– Удивительное явление эта Сечь Запорожская! – сказал странник. – Трудно поверить, чтоб какое-нибудь общество могло так долго существовать без письменных законов, без всяких основных правил гражданского порядка.
– И еще сколько времени существует! – возразил священник. – Вспомни, что первое поселение при порогах, или первое основание Сечи, начинается с того времени, когда татары разорили Киев и опустошили огнем и мечом целую Украину. Это было в начале XIII века. Несколько тысяч украинцев, не будучи в состоянии противиться превосходной силе татар, скрылись в ущельях и на неприступных островах запорожских и составили первое военное поселение.
– Странно, что эти поселенцы не занялись хлебопашеством, – возразил странник. – Скотоводство и земледелие были обыкновенным занятием жителей сих стран.
– Они опасались набегов татарских и, почувствовав выгоды наездничьей жизни, сами стали жить набегами, занимаясь притом звероловством и рыболовством. После взятия и разорения Киева и всей Украины литовским князем Гедимином (57) число переселенцев за пороги Днепра умножилось, и они стали смелее в своих набегах на Крым. Однако ж, помня, что первая причина их переселения был набег иноземцев, запорожцы не хотели не только строить городов, но даже жениться, чтоб удобнее перенестись в другое место в случае опасности. Войско свое пополняют они не только пришлецами из Украины, с Дона и России, но всеми беглецами из Польши, Венгрии и земли Волошской. Кроме того, они в набегах своих берут с собою детей мужеского пола и воспитывают их в войске. Таким образом поддерживается эта воинская республика, управляемая волею избираемого ими кошевого атамана и старыми обычаями. В последствие времени многие ученые иноземцы, подвергнувшиеся в своем отечестве несчастиям или совершившие какое преступление, стали искать убежища в Сечи, но они не могли иметь никакого влияния на дикое устройство войска и зверские обычаи запорожцев. Напротив, кто желает остаться в Сечи, тот должен во всем сообразоваться с сими дикарями и покрывать знания свои оболочкою невежества. Это характер запорожцев: они должны казаться грубыми, несведущими, хотя между ними есть весьма много людей мудрых и ученых из поляков и немцев. Их кошевые атаманы, часто безграмотные, знают лучше дела и выгоды войска, нежели наши письменные войты и сенаторы!
– Откуда эти слова: кошевой и казак? Это не русские выражения, – сказал незнакомец.
– Право, я не умею растолковать тебе это, – отвечал священник. – Об этом польские писатели пишут различно, а наши вовсе ничего не пишут. Говорят, будто кош – татарское слово, означающее стан воинский, а казак по-татарски значит легкоконец, легкий ездок. Так ли это, не ручаюсь.
– Сказывают, что запорожские казаки ныне во многом переменились и что войско их ныне более устроено, – примолвил незнакомец.
– Казаки те же, но в устройстве их войска произошли некоторые перемены, с тех пор как король Сигизмунд I дал им обширные земли и позволил селиться в слободах. Теперь казаки женятся и живут в селах, но в Сечи не терпят жен и женатых, и каждый казак обязан десять лет прослужить холостым. Король Стефан Баторий еще более преобразовал войско, признал кошевого в звании гетмана, позволил казакам выбирать всех своих чиновников, дав им грамоту, булаву, знамя и литавры в ознаменование, что он признает запорожцев войском почетным. Этот добрый и мудрый король платил ежегодно некоторые суммы войску и подарками держал на своей стороне атамана и старшин (58). Казаки весьма его любили и оказали ему важные услуги в войне с Россиею.
– Я бы думал, что украинцы и запорожцы, как русские и одного с ними исповедания, не станут драться противу России, – сказал странник.
– Напротив, украинцы и казаки весьма привязаны к польскому правлению и не любят так называемых москалей. До веры какая нужда! Ведь и в Литве большая часть шляхты и весь простой народ греко-российского исповедания. Вот ныне так начинается возрождаться ненависть к Польше, и то за одну эту унию. Уничтожь унию сего дня – и завтра вся казачина предастся телом и душою Польше.
– Этого я не думал, а полагал всегда, что казаки и Украина преданы России, – сказал незнакомец.
– До сих пор нет. Мы состоим в беспрерывных сношениях с Доном. Донские казаки весьма жалуются на притеснения московских воевод и толпами переходят на Запорожье. Здесь же привыкли к такой воле, что одно воспоминание о царе Иване Васильевиче подирает морозом по коже. Теперь, даже при неудовольствиях за введение унии, Наливайко и Косинский, которые бунтовали противу Польши, хотели поддаться хану Крымскому или султану Турецкому, но не России.
– Ну, а если б в России наступила перемена во внутреннем устройстве? Если б мудрый государь обещал казакам и Украине сохранить их права – перешли ли бы казаки к своим единоверцам?
– Хотя ты и русский, наш единоверец, и принес мне письма от друга моего архимандрита из Киева, но об этом говорить не мое дело, – сказал священник. – Я украинец и подданный Польского короля.
Незнакомец замолчал.
– Пойдем домой! – сказал священник. – Запорожцы, присланные из Сечи, уж, верно, ждут меня на хуторе. Мне надобно написать письмо к атаману, да и тебе пора изготовиться в путь.
На другое утро, едва солнце осветило пороги, незнакомый странник уже был на берегу Днепра с двумя запорожцами. Они спустили на воду небольшую лодку, которая стояла в камыше, сели в нее и пустились по течению. Незнакомец сидел на руле, запорожцы гребли веслами.
– Послушай, паныч! – сказал один из запорожцев незнакомцу. – Ты взялся править лодкою чрез пороги; смотри ж, чтоб не сломить шеи себе и нам. Мы мало верим белоруким панам: они за многое берутся, да немногое умеют делать.
– Сиди на своем месте и молчи! – возразил незнакомец. – Мои белые руки крепче твоих черных. Как приедем в Сечь, тогда скажешь другое.
– Быть может, рука твоя и крепка, пан, – сказал другой запорожец, – да только искусна ли она? С водой не ломаться и не бороться: и щука на воде сильней человека. Дело мастера боится! Гляди, пане, на пороги и направляй лодку между камней, туда, где более отвесу. Вот видишь, направо и налево вода течет быстро; там внизу камни. Держи серединой, а как спустимся вниз, то повертывай тотчас направо, чтоб течением не перевернуло лодки.
– За совет спасибо, – отвечал незнакомец и, видя между тем, что лодка приближается к порогам, закричал: – Держись! – Запорожцы сложили весла и прилегли в лодке; незнакомец сел на самом дне и, ухватясь обеими руками за руль, направил бег по сильной струе. Лодка понеслась быстро, как вихрь, пролетела между двумя камнями, выдававшимися из воды и, как щепа, брошенная в водопад, низверглась в кипящую пучину и поднялась на поверхность клубящейся пены; в это самое время незнакомец повернул рулем, и лодка, как будто от подземного удара, выпрыгнула на гладкое пространство и поплыла ровно с млечною струею. Запорожцы подняли головы, перекрестились, и один из них сказал:
– Молодец! Ну, теперь скажу, что ты удалой паныч и годен быть казаком.
– Не судите вперед ни о погоде, ни о человеке, – сказал незнакомец. – Ветер переменяет погоду, а обстоятельства человека.
– Справедливо, пане, – отвечал один из запорожцев, – а за твою правду выпьем горелки. – Он вынул фляжку, выпил и попотчевал незнакомца и своего товарища.
Таким образом незнакомец пробрался в лодке чрез тринадцать порогов: Кудак, Сурской, Лохань, Звонец, Стрелецкий, Княгинин, Ненасытец, Воронову запору, Верхний Вольный, Будилов, Тавальчан, Лесной и Нижний Вольный (59). Странники свершили сей трудный путь в один день, отдохнув на берегу и пообедав свежею рыбою.
Только седьмой порог, Ненасытец, затруднил их несколько в плавании. Между Будиловым и Тавальчаном, в самом узком месте Днепра, запорожцы указали незнакомцу низкие берега, которые привлекают татар в сие место для переправы во время их набегов на Польшу. На выстрел из лука от последнего порога запорожцы принудили незнакомца остановиться у берега небольшого островка Кашеварицы и сварить кашу по обычаю казацкому, в знак преодоления всех опасностей. Запорожцы приветствовали незнакомца в своей стране пожатием его руки в своих руках, наполненных землею.
– Здоров будь, казак! – сказал незнакомцу запорожец. – Смелым Бог владеет, а кто не знает над собою никого, кроме Бога, тот наш!
Здесь остались они ночевать. С восхождением солнца они поплыли к острову Хорице, заросшему дубовым лесом и иногда обитаемому казаками, которые сторожат здесь татар. В эту пору там не было никого.
– Теперь мы отплыли от Киева 64 мили, – сказал один запорожец. – Вот уже мы почти в Новой Сечи!
Казаки от нетерпения поставили парус и стали грести из всей силы, чтоб скорее добраться до желанного берега. Далеко расстилался дым по окрестностям, и когда запах его дошел до странников, запорожцы перекрестились.
Наконец показались батареи из зарослей и небольшой купол низкой деревянной церкви, лодка вошла в устье речки с правой стороны Днепра и пристала к берегу. Сторожевые казаки поспешили к лодке и, узнав своих товарищей, поздоровались с ними. Приехавшие запорожцы повели незнакомца к атаману.
Незнакомец с любопытством озирался кругом. Речка Бузулук впадением в Днепр образует два острова. Обширное пространство выше меньшего острова обнесено было вокруг шанцами, батареями и палисадами, которые прикрывались деревьями и кустарниками. Внутри укреплений построены были мазанки, небольшие домики из тростника, обмазанные внутри и снаружи глиною, с камышовыми крышами; от двадцати до пятидесяти таких хижин вокруг большого дома вмещали в себе особую дружину и назывались куренем, под начальством куренного атамана (60). Эти курени, числом до тридцати, расположены были отдельно, но без всякого порядка. Посреди Сечи возвышалась небольшая церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная крестом, сажени в две в вышину, с шестью главами. Напротиву четырех сторон церкви стояли открытые колокольни, то есть четыре перекладины на четырех деревянных столбах. Колоколов было множество и разной величины. Вокруг церкви была площадь, а напротив большой длинный дом в виде сарая. Это было жилище кошевого атамана и хранилище войсковых сокровищ. Перед куренями находились открытые кухни: несколько камней, между которыми пылал огонь. Незнакомец, проходя между рядами куреней, удивлялся, что никто не обращал на него внимания. Ему также казалось странным, что он в сем постоянном стане воинском не видел ни одного коня.
Запорожцы, сопровождавшие незнакомца, пришед к дверям атаманского жилища, брякнули железным кольцом в двери, и маленький татарин отворил их. Сени были весьма невелики; казаки, не говоря ни слова, вошли прямо в другое отделение, где находился атаман. Он лежал на полу, на циновке из тростника, покрытой старым парусом. На нем были красные шаровары из турецкого сукна, грязные и в пятнах, рубаха, напитанная дегтем, и на плечах короткая бурка. Бритая голова прикрыта была небольшою турецкою красною фескою, из-под которой висел длинный хохол волос, завернутый трижды за ухо. Борода была гладко выбрита, и длинные усы доходили до груди. Атаман был лет сорока, черноволосый и смуглый. Орлиный нос и большие яркие глаза придавали суровый вид бледному его лицу. Белые, как снег, зубы блестели между небольшими губами. Стены его жилища обвешаны были богатым оружием, которое сияло золотом, серебром и драгоценными каменьями. Посреди комнаты стоял большой стол без скатерти, на нем находились хлеб, соль и фляга с водкой. Возле стен стояли деревянные скамьи на крестовых ножках. Блеск от иконы Богоматери, перед которой теплилась лампада, далеко разливал свет. Оклад осыпан был яхонтами и алмазами.
– Здорово, хлопцы! – сказал кошевой, не трогаясь с места, – что вам сказал батько наш, поп Михайло?
– Он прислал тебе писанье, – отвечал один из запорожцев, подавая ему бумагу, которую он положил возле себя и, обратясь к маленькому татарину, сказал:
– Гей, чертенок! позови ко мне пана войского писаря! – потом спросил казаков: – Это что за лях? где вы его взяли?
Незнакомец поклонился, а один из его провожатых сказал:
– Его прислал поп Михайло. Этот шляхтич нашей веры и сам переправился чрез пороги.
– Нашей веры! – примолвил кошевой. – Если пожаловал в гости, так милости просим, а когда идешь далее, так счастливый путь. Хлеб-соль на столе: откушай на здоровье.
– Я пришел прямо от отца твоего, Семена Евангелика, – сказал незнакомец, – он и мать твоя кланяются тебе и, как увидишь в письме отца Михаилы, поручают меня твоей милости. Я хочу служить в славном его королевской милости войске запорожском.
– За поклон от отца и матери спасибо, – отвечал кошевой, – а если голова твоя не дорога тебе, так изволь, будешь казаком. Ну, скажи же, здоровы ли мои старики?
– Здоровы и веселы, – отвечал незнакомец и потом, вынув из-за пазухи полотенце, отдал атаману, примолвив: – Вот тебе материнское благословение, кольцо с гроба святой великомученицы Варвары, а от отца крест, вымененный в Печерской Лавре.
Атаман взял подарки, перекрестился, поцеловал их и положил в изголовье своей постели, сказав:
– Спасибо, добрый человек! а как тебя зовут?
– Дмитрий Иванов, – отвечал пришелец.
– Хорошо, Дмитрий, ступай же к куренному атаману Грицке Коноводу и скажи ему, чтоб принял тебя в свою дружину. Там уже есть один ваш брат панычек, хоть лях, а удалой молодец. Хлопцы, проводите Дмитрия к куренному Грицке!
Дмитрий Иванов поклонился атаману и вышел, а между тем войсковой писарь вошел в курень.
– Садись, ты, мудрая голова! – сказал кошевой писарю. – Да посмотри, что тут писано. Глаз мой лучше видит неприятеля в поле, чем эти крючки на бумаге. Читай!
Писарь стал читать: "Вельможный пане атаман! ты прислал ко мне двух своих казаков, чтоб узнать, что делается в Москве и в Польше. Скажу тебе верно: не бывать войне между Москвою и Польшею. Умный Cariera все уладил, и московские послы в Вильне заключили мир на 20 лет. Наш король хочет воевать со шведом, своим дядею, который завладел Шведским королевством и боялся, чтоб Москва не помешала ему, а Московский царь Борис, хоть и крепко хотел соединиться со шведами и воевать с Польшею, да испугался вестей, что сын царя Ивана Васильевича, Димитрий, которого велел убить он в Угличе, жив и скрывается на Москве. Этого царевича ищет он и обещает большую награду тому, кто его поймает. Бояре ждут царевича, как иудеи пришествия Мессии. Всякий занят своим, и ты, вельможный атаман, можешь теперь смело ударить на бусурман; никто тебе не помешает. Вяйско польское собирается за Вильной, чтоб идти под ливонский город Ригу, который держит швед. В Крыму конский падеж, и татары на осень не пойдут в набеги, чтоб не остаться пешими в чужой земле. Греки, прибывшие из Царьграда, говорят, что в Синопе и Трапезунде осталось много товаров, которых нельзя было перевезть доселе в Царьград оттого, что бури бушевали в Черном море. Греки видели, как турецкие галеры потянулись из устья Днепра в Крым, верно, на зимовье. При сем поручаю тебе польского шляхтича, мужа смелого, весьма ученого, искусного в разных вымыслах человеческих, твердого в православии, ненавидящего латинов и любящего нас, русских. Он пришел ко мне от твоих родителей и хочет поучиться у тебя воинскому ремеслу и приглядеться твоей храбрости. Он может быть тебе полезен и в боях, и в посылках. Прости! да будет над тобою благословение Божие. Твой богомолец и слуга Михаил".
– Когда кошки грызутся, тогда мышам приволье, – сказал атаман. – Король не дает нам денег, а не хочет, чтоб мы искали поживы на турецких берегах, опасаясь войны от султана. Ляхам хочется отдыхать на наших спинах! Пусть же теперь целуются со шведами, а мы пойдем покормиться на турецкие берега. Будет худо Московскому царю, если царевич жив! Бунтов и резни не миновать! Подождем, может быть, и нам будет работа. Как ты думаешь, пане писарь, ведь не худо пошарить в Москве! Там-то рублей, там-то соболей!
– Да нам же из какой стати идти на Москву? – возразил писарь. – Ты слышишь, что король заключил мир с Россией.
– А ведь когда появился царевич, то он захочет отнять царство у царя Бориса, а Борис также нелегко отдаст свою вотчину. Без войны не обойдется. Ведь то же дело теперь между королем Сигизмундом и дядею его, шведом. Мы предложим союз наш тому, кто даст более, да и пойдем на Москву! – сказал атаман.
– Да позволит ли король? – возразил писарь.
– А кто его станет спрашивать! – отвечал атаман. – Ведь он нас не поит и не кормит, так пусть и промышлять не мешает. Мы дадим ему несколько тысяч молодцов противу шведа, так он и смолчит. Ведь это не Степан Баторий. Он сам боится, чтоб мы не перешли к турку. Увидишь, что я все слажу, открылся бы случай. Теперь, пане писарь, ступай с Богом и позови ко мне пана войскового обозного.
Кошевой атаман встал с земли, надел на себя полукафтанье с закидными рукавами за плеча, голову покрыл высокою бараньею шапкою черного цвета с красным верхом и стал прохаживаться по комнате. Вошел обозный, и атаман сказал ему:
– Отряди шесть тысяч молодцов к постройке чаек (61). Чрез две недели идем на промыслы в море, а куда, знает Бог и я. Завтра поутру чтоб народ отправился на работу, а сего дня распорядись с куренными атаманами и есаулами. Сухарей и саламаты изготовь на месяц. Я сам пойду в море; по мне останется атаманом куренной Сила Резун. Ступай с Богом, пане обозный!
Между тем, пока атаман беседовал с своими старшинами и решал дела запорожской политики, пришлец Дмитрий Иванов представился куренному Грицке, по прозванию Коноводу. Куренной атаман сидел возле огня в одной рубахе и холстяных портах и жарил рыбу на углях. Когда проводники объявили куренному волю кошевого атамана, он протянул руку к пришлецу и сказал ему:
– Здоров будь, Дмитрий! Мы рады добрым молодцам. Бывал ли ты в битвах?
– Нет, но чувствую к ним охоту и пришел искать опасностей, – отвечал Дмитрий Иванов.
– Дельно, брат, дельно! – сказал куренной. – У нас это скоро встретишь. Хоть бы у тебя было три головы, будет место, где сложить их с честью и славою. Гей, Потапенко! позови нового казака. Я тебе дам товарища, Дмитро, также из вашего шляхетского роду. Молодец славный и так же, как и ты, ищет, где бы поскорее сломить себе шею.
К огню подошел казак и посмотрел на пришлеца, отступил от удивления, потом простер объятия и воскликнул:
– Это ты, Иваницкий!
Пришлец бросился на шею казаку, воскликнув с изумлением:
– Меховецкий, ты, друг и товарищ школьный! – они обнялись дружески.
– Ну вот, еще и старые знакомые, – примолвил куренной, – тем лучше; живите же в одной хате и деритесь рядом, когда придет к этому. Ты, как старший казак, будешь дядькою Дмитрия, и когда пойдете на стражу в табор, то дай ему выбрать пару коней из заводного стада. Оружие у тебя есть ли, Дмитрий?
– Есть ружье, пара пистолетов, кинжал и сабля, – отвечал Иваницкий.
– Довольно, – сказал куренной, – теперь ступай в свой курень.
Итак, Лжедимитрий, называвшийся по обстоятельствам то монахом Григорием Отрепьевым, то польским дворянином Иваницким, пришел в Сечь под названием Дмитрия Иванова, желая скрыть свое убежище от киевских своих знакомых, а более от спутников своих, Леонида и Варлаама. Последнего он оставил в Киеве на произвол судьбы, и сей легковерный монах, по счастью, нашел убежище в Никольском монастыре, тщательно скрывая тайну о появлении царевича Димитрия и не зная, что он сопутствовал тому самому, который под именем священным для русского сердца намеревался возжечь в России пламя междоусобия. Страх измены Леонида принудил Лжедимитрия сокрыться на некоторое время между запорожцами. К сему убежищу влекли его рассказы о неудовольствии целой Украины противу Польши за введение унии и возбудили в нем мысль воспользоваться казаками и снискать себе друзей в их войске. Намереваясь поднять бунт противу царя Бориса, Лжедимитрий хотел также научиться военному делу, чтоб прилично показаться пред войском.
В сих обстоятельствах ему неприятно было найти в Сечи старого товарища школьного, польского шляхтича Меховецкого, с первой встречи назвавшего его по имени, которое он хотел утаить. Но, к большой радости Лжедимитрия, куренной атаман не обратил ни малейшего внимания на прозвание пришлеца, вероятно, привыкнув к переменам имен. Лжедимитрий на пути в хижину сказал Меховецкому:
– Пожалуйста, называй меня не Иваницким, а просто Дмитрием. Я не хочу быть известным здесь под моим прозванием и имею на то свои причины.
– Здесь общий обычай переменять прозвание, – отвечал Меховецкий. – Я сам называюсь здесь Петром Конолетом; прозвание это дали мне казаки оттого, что им понравилась моя езда на коне. Здесь каждый казак получает свое прозвание от особенного отличительного качества. Скоро и ты получишь свое. О прежних названиях и жизни до вступления в Сечь здесь никто не заботится и не спрашивает. Здесь, братец, такая смесь имен, племен, народов и в жизни каждого казака столько подвигов, которых открывать не должно, что никто не смеет обременять товарища расспросами. Делай свое дело, что нужно для войска, а в прочем живи, как хочешь! Женщин здесь нет, так нет и любопытства.
В Сечи раздавался глухой шум от смешанных голосов тысяч тридцати суровых воинов. Некоторые из них занимались приготовлением пищи или чисткою своего оружия, другие пили и ели в веселых кругах; иные, напившись допьяна, расхаживали с песнями. Во многих местах слышны были звуки бандуры и волынки. Беспечность, дикое веселие и излишество во употреблении пищи и крепких напитков заметны были во всех концах сего воинского поселения. Везде видны были кучи мяса и рыбы, бочки с вином и пивом и люди пресыщенные, которых все занятие состояло, казалось, в истреблении съестных припасов. Все это крайне удивило Лжедимитрия.
– Я думал, – сказал он, – что в суровых воинах найду нравы более твердые: умеренность, воздержание и порядок, необходимые качества человека, посвящающего жизнь трудам и опасностям.
– Здесь, любезный друг, иначе думают, – отвечал Меховецкий. – Казаки жертвуют жизнью, идут смело и охотно на все опасности, претерпевают недостатки, чтоб приобресть средства пожить несколько времени в совершенном изобилии, или, лучше сказать, чтоб иметь в излишестве все, что услаждает грубую чувственность. Пока всего довольно, то казаки в Сечи проводят время в пиршествах, пьянстве и ходят в свои слободы наслаждаться любовными утехами. Когда же наступает недостаток в съестных припасах и крепких напитках, то они или начинают жить скромно, или снова отправляются на грабежи. Это, брат, настоящая волчья жизнь. Казак запорожский в недостатке питается одною рыбою, и так же весел, как при величайшем изобилии. Думать о завтрашнем дне – не наше дело! Пока что есть, едим и пьем, а нет – Бог даст! Здесь, братец, некому проповедовать о воздержании и хозяйстве, некому смотреть за порядком. Каждый казак полный властелин над собою, и наши чиновники начальствуют над нами только в общественных делах, а не могут приказывать, как кто должен вести себя. В походах другое дело. Тогда власть старшины неограниченна.
– Чудное сборище злого и доброго! – воскликнул Лжедимитрий.
– Вообще как на земном шаре, – возразил Меховецкий. – Только у нас, в Сечи, добром называется то, от чего добрые люди в другом месте крестятся, а злом почитается то, в чем другие ищут спасения. Пить, бить, резать, грабить, не щадя своей жизни, называется у нас высочайшей добродетелью, а умеренность, сострадание, уважение чужой собственности и попечение о сохранении своей жизни почитаются величайшими пороками. Вот запорожская нравственность!
– Нравственность разбойников, – возразил Лжедимитрий.
– Прибавь: привилегированных, – примолвил, улыбаясь, Меховецкий. – Ты знаешь, что запорожцы называются войском, имеют свои знамена, бунчуки и все воинские регалии и прочее. Достоинство вещи зависит от мнения, а мнение от названия. Ежели б нас было человек двадцать, то называли бы нас шайкою разбойников, но как нас тысяч до тридцати, то мы называемся запорожским войском, к которому имеем честь принадлежать и мы, ученики иезуитского коллегиума. Мы недаром с тобою слыли прилежными учениками иезуитскими, а их великая наука состоит в том, чтоб уметь уживаться со всякими людьми. Просим милости в мои палаты! Два мои товарища теперь на страже при лошадях. Ты можешь пока занять место одного из них.
В хижине развешаны были на стенах оружие и орудия слесарские и столярные. Это удивило Лжедимитрия.
– Верно, наши товарищи берегут эти орудия для продажи, – сказал он с насмешкою, – кажется, им некогда заниматься здесь работою…
– Извини! – возразил Меховецкий, – в войске множество всякого рода ремесленников; но они работают не за деньги, не по заказу, а для общественных надобностей. Здесь никто о себе не думает, а каждый печется об одном существе, войске запорожском, этом великане, которого мы члены. Однако ж, пора мне угостить тебя братскою трапезой. – Меховецкий вынул из небольшого шкафа, сплоченного из нетесаных досок, горшок с саламатой, кусок вяленой баранины, свиное копченое сало, несколько сухарей и баклагу с водкой, уставил все это на двух досках, заменявших стол, и просил гостя отведать хлеба-соли. Удовлетворив первым потребностям голода, Лжедимитрий спросил:
– Где же наши лошади? Куренной атаман говорил о таборе: что это такое?
– Пойдем прогуляться, я покажу тебе наш табор, наши стада и табуны; но прежде советую тебе переодеться по-нашему. Эта одежда с золотыми нашивками слишком чиста для запорожца. Ты должен знать, что нечистота почитается у нас так же похвальным качеством, как презрение пышности между монахами. Вот тебе полный казацкий наряд. Эти шаровары отняты моим товарищем у турецкого старшины под Аккерманом; полукафтанье выкроено из польского кунтуша, снятого с одного богатого пана, неприязненного казакам; шапка отнята мною у татарина в степи. Все это немного запачкано, но грязные пятна составляют красу нашей одежды, как прорехи в плаще Диогеновом. Мы, любезный друг, – цинической секты, без ораторства. Белья мы не любим мыть: это дело женское. Для защиты себя от насекомых мы смачиваем рубахи в дегте. Это бережет нас также и от чумы. Впрочем, чистота тела соблюдается строго, и добрый казак зимою и летом купается ежедневно в Днепре. Ну, одевайся скорее.
Лжедимитрий оделся, насунул шапку на глаза и вышел с своим приятелем за ворота укреплений, окружающих Сечь. Взорам его представилась обширная равнина, ограничивающаяся на северо-западе речкою Чертомлыком. На расстоянии верст двух от Сечи увидел он дым. Более двадцати тысяч телег уставлены были в четыре четвероугольника крестообразно, по углам стояли пушки. На пяти площадях между телегами, расположенными таким образом, видны были шалаши; в них жили казаки, которым по очереди надлежало охранять табор. Кругом бродили стада волов и табуны лошадей под стражею вооруженных запорожцев. Передовые посты, конные и пешие, простирались далеко на все стороны.
– Вот наши подвижные крепости и наш подвижной лагерь! – сказал Меховецкий. – В сухопутных походах мы кладем на телеги съестные припасы и военные тяжести, запрягаем волов или лошадей и идем, прикрывая телеги и прикрываясь ими в случае нападения. Пешие казаки стреляют из-за телег, как из-за шанцев, и удерживают натиск конницы неприятельской. Наша конница находит убежище в средине четвероугольников, если не устоит противу неприятеля, и пока она оправится, ружейные и пушечные выстрелы занимают врага. Сказать правду, запорожцы лучше сражаются пеши, нежели на конях. Во время бунта Наливайки мы видели примеры, что двести польских всадников разбивали 2000 казаков, но зато сто казаков в таборе, то есть за телегами, не боятся 1000 поляков (62). На лодках казаки еще смелее. Эти таборы особенно пригодны нам в беспрерывных наших войнах с татарами, которые не умеют сражаться пешие, неохотно идут на огонь и не имеют пушек в своих набегах. Телеги наши так устроены, что дышло можно прикреплять к обеим сторонам; оттого мы можем подвигать наш табор в разные направления с большим удобством. Телеги наши всегда прикрываются сырыми кожами, которые смачиваются при всяком удобном случае, и это предохраняет нас от татарских стрел с огнем.
– Многие европейские полководцы и даже древние римляне употребляли обозы для защиты войск в чистом поле, – отвечал Лжедимитрий, – но чтоб строить особенно огромные обозы для войны, тогда как другие войска стараются иметь их как можно менее, есть дело местности; честь и слава тому, кто умеет пользоваться местностями и обстоятельствами! Против татар, без сомнения, это прекрасная оборона, но против войск регулярных слабая защита!
– Но где же эти регулярные войска! – возразил Меховецкий. – Московское войско храбро, но сражается почти в таком же беспорядке, как и татары. Турки – сброд без всякого понятия о военном ремесле…
– Правда твоя! – отвечал Лжедимитрий. – Пока запорожцы будут иметь таких соседей, таборы их останутся превосходною выдумкою. Все хорошо в свое время и в своем месте!
Возвратись в свою хижину, Лжедимитрий застал казака, присланного от кошевого, который велел ему явиться к себе. Уже смеркалось, и Лжедимитрий пошел сквозь ряд огней, оглушаемый криками пьяных своих товарищей. Он удивлялся одному только, что вино не порождало драк и ссор в этих диких толпах, а возбуждало одно веселие. Братство и дружество строго было соблюдаемо между запорожцами, и если б один осмелился обидеть другого, то нашел бы немедленно тысячи противников, которые наказали бы его за нарушение равенства и доброго согласия.
– Садись, Дмитрий! – сказал атаман, – и выпей со мною чарку.
Лжедимитрий извинился, сказав, что не может переносить крепких напитков, и сел на скамье.
– И то добре! – возразил кошевой. – А мы, грешные, так пьем, пока нечего делать. Послушай, брате Дмитрий! Приятель наш, поп Михайло, писал ко мне, что ты молодец ученый и знаешь разные книжные науки. И то добре! Мы люди неученые, а знаем кое-как свое дело, как пригодно воевать и как управлять своею братьею. Хоть в книгах для нас темно, как в ночи, но мы любим книжных людей, когда они не хвастаются своим знанием. Хочу поговорить с тобою о важных делах, но прежде спрашиваю: тверд ли ты на языке?
– Испытай – узнаешь, – отвечал Лжедимитрий.
– За это люблю! – примолвил атаман. – Еще спрашиваю: боишься ли ты смерти?
– Если б боялся, то не пришел бы к тебе искать опасностей.
– И то добре! – сказал атаман. – Но испытывал ли ты себя когда-нибудь? Ведь, иногда голова хочет, а сердце дрожит да держит волю, как медведя на привязи. Сказываю тебе вперед: страшно заглянуть в глаза смерти.
– Я уж не раз видел ее с глазу на глаз, – отвечал, улыбаясь, Лжедимитрий, – и мы расставались с ней добрыми знакомцами.
– Итак, и это было с тобою? – сказал атаман. – И то добре! Вот-те бумага; тут написаны все города, моря и реки, и видишь, как красно размалеваны! Посмотри-ка, далеко ли от устья Днепра до турецкого города Трапе-зунда?
Лжедимитрий развернул карту с латинскими надписями и стал размеривать по масштабу расстояние мест, употребляя согнутую тростинку камыша вместо циркуля.
– Прямым путем около тысячи верст, а по берегам в полтора столько, – сказал он.
– Написано ли тут, как богат этот город Трапезунд и много ли в нем жителей? – спросил кошевой.
– Это здесь не написано, но я знаю, что город богат и имеет до 30000 жителей, – отвечал Лжедимитрий.
– И то добре! – сказал атаман. – Нам нужны деньги, и я хочу поочистить этот город Трапезунд, – примолвил он, улыбнувшись, и выпил чарку водки.
– Разве у тебя есть корабли? – спросил Лжедимитрий.
– А на кой черт мне корабли! – возразил кошевой хладнокровно, закусывая сухарем. – Я люблю топить и жечь корабли, а не ходить на них.
– Да ведь без кораблей нельзя и добраться до Трапезунда, – сказал Лжедимитрий. – Надобно проплыть поперек почти все Черное море; как же ты хочешь попасть туда?
– Уж конечно не на крыльях и не на облаках, а по-казацки, на наших чайках, – сказал кошевой, наливая себе другую рюмку водки.
– Черное море глубокое и бурное, особенно в нынешнее время, – возразил Лжедимитрий, – чайки твои разнесет, как щепы, по морю.
– Ну, вот ты говорил, что виделся с смертию глаз на глаз, а теперь запел другое! Видно, ты встречал смерть сухую, а не мокрую, когда боишься моря, – сказал атаман, грызя сухарь и улыбаясь.
– Я не боюсь ни сухой, ни мокрой смерти, – возразил Лжедимитрий, – но почитаю долгом сказать тебе, что знаю. На лодках ходят по рекам, а в море на кораблях.
– А мы так люди небогатые, кораблей не имеем, а пойдем туда же на лодках, куда другие ходят на кораблях, – сказал атаман. – Куда пролетит птица и проплывет рыба, туда проберется и запорожец. Слышишь ли, Дмитрий!
– Слышу и готов идти с тобою куда угодно, – сказал Лжедимитрий.
– И то добре! У нас есть стрелки, которые показывают северную сторону, есть часы и вот эта бумага, да еще и другая побольше, на которой расписано одно Черное море. Я возьму тебя с собою, слышишь ли, чтоб ты вел нас по этой бумаге. Только до поры молчи и не сказывай, куда пойдем, чтоб кто-нибудь не проболтался на дороге к морю.
– Благодарю тебя за выбор, – сказал Лжедимитрий. – А где ж наши ладьи?
– В лесу, на пнях! – отвечал кошевой, улыбаясь и налив третью рюмку водки.
– Итак, мы пойдем в поход на будущую весну? – сказал Лжедимитрий.
– Чрез две недели, приятель! – возразил атаман. – Деньги мне нужны для войска на зиму. Чрез шесть недель мы будем обратно в Сечи, исключая, однако ж, тех, которым придется заснуть навеки на турецком берегу или приютиться на дне морском. Кому добыча, а кому смерть! И то добре! Прощай, ступай спать. Завтра потолкуем более.
ГЛАВА VII
Морской набег запорожцев. Взятие турецкого корабля. Опустошение Трапезунда. Битва. Выезд из Сечи.
Две недели провели запорожцы в совершенном бездействии, между тем как отряд искусных ремесленников и опытных в постройке судов казаков работал на берегу Днепра, в месте, называемом Войсковое Щебевище (63). Наконец, посланный от войскового обозного, присматривавшего за работами, донес атаману, что суда готовы. На другой день был назначен поход из Сечи к судам. Того же вечера при огнях поставили на паромы пушки, заряды, запасное оружие и бочки с сухарями, с пшеном и саламатой. Казаки запаслись одеждой, то есть каждый взял на дорогу одну пару платья и одну рубаху; осмотрели ружья и пистолеты, навострили сабли. Ночь провели в веселии, прощаясь с остающимися товарищами. Всего назначено было к набегу восемь тысяч самых удалых казаков. Они почитали себя счастливыми сим выбором и охотно шли на опасности, как на пир.
С восхождением солнца заблаговестили во все колокола, и все войско собралось на площади вокруг церкви. Под открытым небом стоял налой, пред которым священник совершал молебствие с коленопреклонением, окропил святою водой знамя атаманское и допустил приложиться к кресту всех отправляющихся в поход. После молебна кошевой атаман Герасим Евангелик выступил на средину и произнес речь к войску.
– Молодцы! – сказал он. – Вы избрали меня своим кошевым атаманом, чтоб я пекся о вашей безопасности, поддерживал славу знаменитого войска его королевской милости запорожского и помышлял о всех ваших потребностях. Опасности нет ни от турок, ни от татар; ляхи, которые называют себя нашими панами, сидят тихо и не трогают нас; но они хотят, чтоб мы слушались их, а не думают о нашем содержании. У нас нет ни денег, ни съестных припасов на зиму, а слободских запасов недостаточно для целого войска. Итак, я пойду _с удальцами на воинские промыслы; или возвращусь с добычей, или положу голову со славой. Когда буду жив, скажете спасибо, а когда лягу костьми, добром вспомянете. Герасим Евангелик никогда не думал о себе, думал только о славе и благоденствии целого войска. Не жизнь мне дорога, но Запорожье! Отправляясь в опасный поход, завещаю вам одно: храните навсегда православную нашу веру и свободу Запорожья. Прощайте!
– Ура! да здравствует наш храбрый кошевой атаман! – раздалось в толпе. Восклицания продолжались, пока не ударили в литавры. Атаман перекрестился, прилег к земле, поцеловал ее и, взяв горсть земли, завязал в кусок полотна и привесил к кресту. Все казаки, отправляющиеся в поход, последовали примеру атамана. У многих из них навернулись слезы.
– Господи! благослови наше Запорожье! – воскликнул атаман. – Допусти каждому доброму казаку схоронить кости в земле родимой или с землей родимой! Молю тебя, Господи, чтоб ни один казак не отдался в плен и чтоб вражья рука не прикасалась к этой святыне. – Атаман поднял вверх крест с землею, а казаки воскликнули:
– Победа или смерть, но не плен!
– За мной, ребята! – сказал атаман. Ударили в бубны и литавры, заиграли на трубах, и атаман, неся сам свое знамя, вышел из Сечи с своими казаками. Со всех батарей начали стрельбу, зазвонили снова в колокола, и церковные певчие с хором казаков запели громогласно "Многая лета!"
Отряд шел по берегу Днепра, в виду своих плотов. Кошевой отдал знамя хорунжему и подозвал к себе Лжедимитрия и Меховецкого.
– Послушайте вы, ляхи! – сказал атаман. – Народ вы храбрый, нет спору, подраться охотники, а воды не любите…
– Правда, что мы предпочитаем воде вино, – возразил, улыбаясь, Меховецкий.
– Вино любим и мы, запорожцы, да не в том сила, – сказал атаман. – Ходить водою вы не мастера, хотя королевство Польское тянется от Немецкого моря до Черного. Ваше дело – конь да сабля! И то добре! Хотел бы я вам поверить дружины, да нельзя. Всякому свое: щуке бушевать в море, а орлу по поднебесью. Итак, вы останетесь при мне, на моей чайке, и будете драться рядом со мною.
Иваницкий и Меховецкий поблагодарили атамана за оказанную им честь.
К вечеру казаки пришли на то место, где были построены лодки. Лжедимитрий, жадный всему научиться и все испытать, с любопытством рассматривал сии чайки. В длину они имели около восьми, в ширину и в глубину до двух сажен. Они были построены из досок твердого дерева, прибитых гвоздями к основе. Кверху они были гораздо шире, нежели в подводной части. По обеим сторонам чайки прикреплены были большие связи тростника, чтоб судно не перевернулось в качке. На обоих концах было по рулю и на каждом боку по 15 больших весел. В средине складная мачта с одним четвероугольным парусом. Суда обмазаны были густою смолою и обвязаны плотно лыковыми веревками. Каждое судно построено было в две недели шестьюдесятью казаками (64).
Ночь провели при огнях и на другое утро принялись за работу. Каждое судно нагрузили съестными припасами, водою и вооружили четырьмя или шестью небольшими пушками. Всех чаек было сто, и на каждую село по восьмидесяти человек. Отправляющиеся в поход простились с товарищами, строившими лодки, и флотилия пошла по течению Днепра. Атаманское знамя выставили на мачте первой чайки.
В устье Днепра раздался шум и крик на одной чайке. Атаман подъехал к ней, чтоб узнать причину. Начальствующий чайкою есаул объявил, что два казака, преступив запрещение иметь водку в походе, тайком принесли баклагу на судно, напились допьяна и не хотели покориться воле начальника, который приказал их связать. Атаман велел перевезти преступников на свою чайку и, когда флотилия вошла в Лиман, дал знак, чтоб все чайки составили полукружие. Атаманское судно было на средине. Двух преступников связали по рукам и по ногам, прикрепили к шее ядро и в виду целой флотилии бросили в воду. Атаман стал возле мачты и громогласно сказал:
– Есть время пить и веселиться в Сечи, но в походе должно быть трезвым. Таков обычай наш, и кто преступает его и ослушивается начальника, тот не казак, а чертов брат и погибнет, как собака!
Ветер был благоприятный, и атаман дал знак к походу. Поставили паруса, ударили веслами, и судна понеслись по волнам морским, как легкий пух по ветру.
К вечеру атаман, осматривая горизонт в подзорную трубу, увидел вдали мачты. Тотчас дан знак на чайках спустить мачты и паруса и держаться только на веслах. Все казачьи суда, следовавшие по обычаю близко одно за другим, сбились в кучу, а начальники собрались на атаманскую чайку.
– Ребята! – сказал атаман, – как наступит ночь, пойдем прямо на этот корабль. По постройке вижу, что он турецкий. Половина людей останется при веслах, другая соберется на носу с ружьями. Окружим корабль – и тотчас на него! Остальное в воле Божией! (65)
С турецкого корабля нельзя было видеть малых казачьих судов без мачт. К полуночи они достигли корабля, и едва турки, увидев неминуемую опасность, успели выстрелить один раз из пушек, корабль был окружен казачьими чайками. Атаман подошел под самую корму и первый вскочил на корабль; при нем были Лжедимитрий и Меховецкий. Начальник турецкого корабля с несколькими из отчаянных янычар хотел защищаться, и едва кошевой атаман ступил на палубу, он прицелился в него двуствольным ружьем и уже готов был выстрелить, но Лжедимитрий бросился опрометью на турка и прежде, нежели он успел спустить курок, ударом кинжала повергнул его на помост.
– Славно, Дмитро! – воскликнул атаман. – Бей и режь всех без пощады!
Казаки между тем уже взобрались на корабль со всех сторон и, повинуясь приказанию атамана, после краткой, но жестокой рукопашной битвы перебили всех турок, числом до двухсот человек. Атаман оставил в живых одного только молодого турка для расспросов. От него узнали, что это двухмачтовое судно из флота Реджеб-Паши шло из Царьграда в Кафу с жалованьем тамошним и аккерманским янычарам. Мешки с деньгами перевезли на казачьи чайки, также порох, оружие и съестные припасы. В корабле прорубили отверстие в подводной. части, и он пошел ко дну. Лжедимитрий просил спасти жизнь молодому турке, но атаман велел бросить его в море, примолвив:
– Пускай идет к товарищам; ему будет скучно с нами!
К свету уже казачья флотилия была далеко от того места, где затопили корабль. Десять человек казаков было убито, несколько ранено.
Уже прошло сорок восемь часов от выходу флотилии из устья Днепра, и вдали, в тумане, показались берега. Атаман велел Лжедимитрию развернуть карту и сообразить местоположение. От крайней оконечности Крымского полуострова флотилия, выступя в открытое море, держалась все влево, чтоб избегнуть течения в Воспор, а как земля открылась прямо, а влево не видно было берегов, то Лжедимитрий заключил, что пред ними лежит Анатолия. Вскоре они явственно увидели цепь гор, венчающую берега, и под горами верхи башен. Атаман перекрестился и сказал с благоговением:
– Господи помилуй! – потом, обратись к Лжедимитрию, примолвил: – Видишь ли, приятель, что города сами идут к нам навстречу! Вот мы попали к берегу без кормщиков и корабельщиков и с помощью Божиею воротимся так же благополучно, как и прибыли сюда. Смелость города берет, и этот город будет наш!
Атаман дал знак, чтоб держаться на веслах в море до вечера. Когда солнце закатилось, казаки сильною греблею поспешили к берегу и пристали в пустом месте ниже города.
Казаки вышли на берег. Атаман, оставив в каждой лодке по два человека и отряд в двести казаков для прикрытия флотилии, разделил остальное войско на три отряда и пошел прямо к городу, держась берега. Миновав небольшой лес, они увидели деревушку, состоящую из нескольких хижин.
Атаман послал Лжедимитрия с сотнею казаков добыть языка. Лжедимитрий окружил деревушку, велел казакам вломиться в домы и перевязать всех жителей от мала до велика. Несколько человек отправили к атаману, который чрез знающего турецкий язык казака допросил пленников поодиночке.
– Как называется этот город? – спросил атаман одного старца.
– Тарабазан.
– Славно, это Трапезунд! – воскликнул атаман. – Много ли в нем турецкого войска?
– Тысячи две в замке да тысяча в городе.
– Много ли кораблей в пристани?
– Десятка два, и все турецкие.
– С которой стороны лучше войти в город?
– Со стороны гор, которыми он опоясан полукружием с твердой земли. Но ворота запираются на ночь и оберегаются стражею.
– Далеко ли до города?
– Полчаса пути.
– Вперед! – воскликнул атаман. – Ты, старик, веди нас к воротам. Если поведешь хорошо, то получишь награду, а если вздумаешь изменить, то тебе и целой деревне долой головы. Вперед, тихо, чинно!
Жители города преданы были сну. Не видно было о ней в окнах, не слышно было никакого движения на улицах. Малочисленная стража спала в избе возле ворот; часовые дремали на стенах. Вдруг раздался звук, подобно громовому удару, вспыхнуло пламя, и ворота с треском вылетели. Запорожцы высадили их петардою. В одно мгновение казаки ворвались с воплями в город, устремились в сторожевую избу, перерезали стражу и бросились прямо на главную площадь. В это самое время пламя воспылало со стороны моря.
– Славно! – воскликнул атаман. – Это мой Грицко пробрался берегом к гавани и зажег корабли. Ребята, огня! Жги, режь, бей! Только стройно, чинно, не разбегаться по домам и держаться кучи. Кричи ура! Трубачи, трубите тревогу! Залп, стреляй!
Ничто не может сравниться с смятением, ужасом несчастных жителей Трапезунда в сию пагубную ночь. Город воспылал вдруг в нескольких местах; и те, которых щадило пламя, побиваемы были казаками. Они, разделясь на толпы, с воплями бегали по улицам, распространяя всюду смерть и опустошение. Начальствующий в городе паша заперся в замке, лежащем на высоте и, не зная, с каким неприятелем должен сражаться, не смел выйти на помощь городу. Запорожцы, искусные в грабеже, тотчас овладели кладовыми в гавани и на базарах; другие забирали по домам лошадей и верблюдов и укладывали на них драгоценные товары, золото и серебро; а прочие гонялись за устрашенными жителями и, где кого настигли, убивали, не разбирая ни лет, ни пола. Один сильный отряд из двух тысяч казаков, под начальством самого атамана, стоял в неподвижном строю на главной площади, возле мечети, чтоб прикрывать действия своих товарищей. Треск пламени, стоны жертв, грозные клики буйных казаков, ружейные выстрелы раздавались со всех сторон. Кровь лилась рекою, и при свете пожарного зарева казаки сносили добычу на главную площадь. Атаман, стоя впереди своей дружины, оглядывался с удовольствием на все стороны и по временам снимал шапку и крестился. Наконец он подозвал к себе Лжедимитрия и сказал:
– Видишь ли казацкую пирушку? Мы не любим нежиться, и где раз побываем, там сам черт после нас не поживится. Веселись, душа казацкая! гибни, проклятое племя бусурманское!
– Мне кажется, что мы напрасно убиваем жен, детей, старцев, – сказал Ажедимитрий. – Главное дело – добыча, а эти несчастные не защищаются и не обороняют своего имущества.
– Бабья речь, а не казачья! – воскликнул атаман. – Если бить, так бить всех. Как дашь раз порядочную острастку, так и вперед будут помнить! Страх – оковы на врагов. Не наше дело разбирать, кто прав, кто виноват. Пусть рассчитываются на том свете!
– Но несчастные женщины, безвинные дети! – воскликнул Лжедимитрий.
– Хорошо, что ты напомнил, – возразил атаман. – Надобно взять с собою дюжины две турчонков (66) для подарков польским панам. Гей, Потапенко, поди, скажи молодцам, чтоб собрали дюжины две здоровых мальчиков от десяти до двенадцати лет.
Между тем ночь была на исходе; атаман велел трубить отбой. По первому трубному звуку начали собираться на площадь малые отряды, обремененные добычею. Лжедимитрий более всего удивлялся тому, что при грабеже и беспорядках не видно было ни одного нетрезвого казака. Они знали, что атаман не простил бы нарушения этого закона и наказал бы немедленно смертью всякого, осмелившегося предаться пьянству в походе. Собрав вместе лошадей и верблюдов, навьюченных добычею, казаки сквозь дым, среди пылающих зданий выступили из города. В тишине шли они обратным путем к берегу при свете пожара, утомленные убийствами и грабежом. Вошедши в рощу, отделявшую город от деревушки, передовой отряд был встречен залпом из ружей.
– Уж не паша ли вздумал попробовать казачьих сабель! – сказал атаман. Он велел войску остановиться, растянул две сильные цепи по крылам, оставил прикрытие при добыче и сам с отборными казаками устремился вперед. Турки, воспламененные мщением и злобою, с бешенством бросились в ряды казаков. Настала кровавая сеча. Казаки, при всем своем мужестве и ловкости в боях, не могли принудить врагов к отступлению. Растянутые на обоих крылах казачьи цепи составили густые толпы и ударили на турок с боков, между тем как атаман сражался лицом к лицу. Стрельба прекратилась, и наступил рукопашный бой на саблях и кинжалах. Казаки преодолели числом, и две тысячи турок пало на месте. Пятьсот казаков лишились жизни в сей жестокой битве. Почти столько же было ранено, и в том числе атаман, Лжедимитрий и Меховецкий, сражавшиеся рядом. Казаки поспешили к своим лодкам, нагрузили добычу, разделили раненых поровну на все суда и немедленно удалились от берега. Восходящее солнце застало их в море.
Левая рука у Лжедимитрия была прострелена, у Меховецкого голова изрублена, а у атамана иссечены лицо и грудь. Обмыв раны морскою водою и перевязав холстом, намоченным в уксусе с водкою и солью, трое раненых лежали вместе возле мачты.
– Ах, вы, бесовы дети! – ворчал атаман. – Постойте же, я заплачу вам за это! Доберусь я до самого Царь-града и уж потешусь порядком за теперешнее горе! Ну, да досталось же и этим собакам! Город в пепле, и целое гнездо бусурманское развеяно по ветру. Но жаль мне моих удальцов! До полутысячи положили головы. Ах, окаянные бусурманы! Уж я с вами расправлюсь.
Боль от ран увеличивала злобу Герасима Евангелика противу турок. Бросив взгляд на несчастных турецких мальчиков, которые сидели связанные на носу ладьи, атаман закричал грозно:
– Потапенко! топи бесенят поодиночке! Сгинь и пропади, проклятое племя!
Уже суровый Потапенко, верный исполнитель воли атаманской, готов был побросать в море несчастные жертвы, но Лжедимитрий и Меховецкий стали умолять атамана о пощаде безвинных. Долго атаман не соглашался, наконец убедился мнением Лжедимитрия, что лучше воспитать этих турчонков для казацкого войска и после заставить губить прежних своих единоверцев. Этот род мщения показался атаману приличным, и он даровал жизнь пленным мальчикам.
Сильный попутный ветер быстро гнал легкие суда к устью Днепра, и надежда вскоре увидеть Запорожье радовала сердца. Но с видом берегов показались и галеры турецкие, которые, узнав в Крыму о походе казаков, заградили вход в устье. Атаман скрежетал зубами от злобы, что раны не позволяли ему сразиться и что, подвергая суда выстрелам пушечным, он может лишиться добычи. Он дал знак пуститься снова в открытое море и уйти из виду галер. Ночью казачья флотилия снова приблизилась к берегу в заливе, в четырех милях на восток от Очакова. В этом месте море не глубже одного фута. Казаки бросились в воду и на руках вынесли свои лодки на берег, выгрузили их и расположились здесь станом. На другой день начали переволакивать ладьи в Днепр чрез долину, на пространстве полуторы версты, и к вечеру уже атаманское знамя развевалось среди Днепра, между тем как турецкие галеры кружили возле устья сей реки, тщетно ожидая возвращения казачьей флотилии (67).
Целое войско ожидало на берегу прибытия своих товарищей и приняло их с колокольным звоном и пушечными выстрелами. Атаман с торжеством внес знамя в церковь, поздоровался с войском и всенародно рассказал о всех обстоятельствах похода, представив особенно отличившихся, в числе которых были Лжедимитрий и Меховецкий. Добычу в товарах и драгоценностях снесли в войсковой скарбец, а наличные деньги разделили между участниками похода, кроме десятой части, определенной на общественные издержки.
Наступила зима, и казаки запировали в Сечи. По очереди они выходили в свои слободы и оставались там до тех пор, пока не истрачивали своего денежного запаса. Тогда возвращались в Сечь, чтоб упиваться на счет общественной казны. Такая грубая, развратная жизнь не могла нравиться Лжедимитрию, который оставался в совершенном бездействии. Он вознамерился оставить Сечь и открылся в этом Меховецкому.
– Любопытен я знать, – сказал однажды Лжедимитрий Меховецкому, – что привело тебя в Сечь? Ты богат, один сын у отца, для тебя открыто самое блистательное поприще в отечестве. Верно, какой-нибудь невольный проступок заставил тебя бежать к этим варварам?
– Ошибаешься, друг мой! – отвечал Меховецкий. – Пришел я сюда единственно от скуки, отчасти из любопытства, и бежал от бездействия. Мне наскучило гоняться за зайцами в моих поместьях; нега городов не имеет для меня прелести; в войске королевском не хочу служить; мне несносна строгая подчиненность, введенная Жолкевским и Ходкевичем. И так я решился повоевать под запорожскими знаменами. Но, признаюсь, мне уже наскучили грубость и варварство этих дикарей, и я на сих днях намерен возвратиться домой. Я думаю отправиться в Испанию и там вступить в службу. Давно уже имел я намерение составить отряд охотников и искать славы в отдаленных странах. Буйное и многочисленное наше юношество скучает мирною жизнью и не любит такой войны, какую ведет король с шведами. Это война раков с лягушками! Нам надобно обширное поприще, деятельность, предприятия отчаянные!
– Скоро откроется вам к этому случай, – возразил Лжедимитрий. – Между тем я сам скучаю в этой дичи. Сего дня пойду проститься с атаманом, а завтра отправимся вместе в Львов, ежели хочешь.
– По рукам! – воскликнул Меховецкий. – Правда, что здесь можно научиться презирать жизнь и опасности, но кто не находит удовольствия в пьянстве и разврате, для того нет здесь никакой награды. Слава запорожца не простирается за пределы Сечи!
– Я видел твое мужество, знаю твое благоразумие и вскоре открою тебе блестящий путь к славе, которая озарит твое имя в поздние времена. Будь терпелив и верь мне, – сказал Лжедимитрий.
– Ты мне откроешь путь к славе? – возразил с удивлением Меховецкий. – Каким образом?
– Увидишь, будь только терпелив. Но пора идти к атаману.
– Пойдем вместе, – примолвил Меховецкий.
– Нет, я должен говорить с ним наедине, по весьма важному делу, – сказав сие, Лжедимитрий отправился в атаманский курень.
– Будь здоров, мой храбрый Дмитрий! – воскликнул атаман, лишь только Лжедимитрий переступил чрез порог. – Что, научился ли ты попивать от скуки водочку? На, выкушай за мое здоровье!
– Здоровья тебе желаю, а пить не стану, – отвечал Лжедимитрий. – Я рад, что застал тебя одного, и хочу переговорить с тобою.
– Садись и говори, я буду слушать.
– Не знаю, дошли ли до тебя вести из Москвы, что царевич Димитрий Иванович жив и намерен отнять свою вотчину, Московское государство, у похитителя, Бориса Годунова, – сказал Лжедимитрий.
– Что он жив, об этом писал ко мне чрез тебя приятель мой, поп Михаила. А чтоб он хотел отнимать царство у Бориса, то хотя и думаю, что так быть должно, но про это не слыхал, – отвечал атаман.
– Царевич скрывается в Польше, – продолжал Лжедимитрий, – и вскоре намерен объявить свои права. Я видел его и говорил с ним. У него есть и ум и храбрость, но ты сам знаешь, что объявить право на престол нельзя без войска. Он ищет союзников… Захочешь ли ты помогать ему?
– А есть ли у него деньги? – спросил атаман.
– Какие могут быть деньги у изгнанника, принужденного скитаться в чужой земле? – возразил Лжедимитрий. – Однако ж он надеется, что на первый случай будет иметь сколько-нибудь денег, а когда вступит в Россию, тогда вся царская казна будет принадлежать друзьям его и первым помощникам.
– И то добре! – сказал атаман. – Но где же он теперь, этот царевич?
– Я не знаю, но пойду его отыскивать, чтоб убедить начать скорее дело. Мне известно, что в России нетерпеливо ожидают его пришествия; я уверен, что в Польше, наполненной беспокойным, воинственным юношеством, он найдет помощь, и если храброе войско запорожское пристанет к нему, то нельзя сомневаться в успехе. На Дону у него также найдутся приятели.
– Я не прочь! – отвечал атаман. – Только ты знаешь, что наших казаков не выманишь из куреней без надежды верной добычи. Надобно что-нибудь на первый случай.
– Будет и это! Ты услышишь обо мне, а теперь прощай! Благодарю тебя за добрый прием и надеюсь, что буду иметь случай отплатить тебе добром: я беру с собою Меховецкого и пойду отыскивать Димитрия-царевича.
– С Богом! – воскликнул атаман. – Ступай отыскивать царевича и скажи ему, что где опасность и добыча, там и Герасим Евангелик с войском его королевской милости запорожским. Вот тебе рука моя!
– Могу ли я взять пару коней? – спросил Лжедимитрий.
– Хоть десять! – отвечал атаман. – Ты заслужил часть добычи, которая еще не разделена, и на этот счет можешь взять, что тебе нужно.
На другое утро Лжедимитрий с Меховецким уже были на пути в Белую Церковь.
ПРИМЕЧАНИЯ К I И II ЧАСТЯМ
Цифрами в скобках обозначены примечания Ф. В. Булгарина, остальные сделаны редакцией.
С. 5. Прошлец – проходимец, пройдоха.
С. 8. Мильтон Джон (1608–1674) – английский поэт и общественный деятель, автор эпических поэм "Потерянный рай" (1667) и "Возвращенный рай" (1671). Картины Фламандской школы – т. е. фламандских художников XVI–XVIII веков, приобретших широкую известность реалистически подробным изображением бытовых сцен.
С. 9. Тушинский вор – Лжедимитрий II (?-1610),
с 1607 года выдавал себя за якобы избежавшего смерти Лжедимитрия I, был убит в Калуге, куда бежал из своего лагеря в Тушине под Москвой.
С. 10. Труд Г. П. Успенского "Опыт повествования о древностях русских" – ч. 1–2, издан в Харькове в 1818 году. Паче – более.
С. 12. Тацит Публий Корнелий (ок. 55 – ок. 120 н. э.) – римский историк и государственный деятель, автор трудов "Германия", "Анналы", "История". Эпоха Людовика XI представлена Вальтером Скоттом в романе "Квентин Дорвард" (1823).
С. 13–14. Изложение содержания фрагмента из "Сказания" А. Палицына: "В правление великого государя блаженного царя Феодора Борис Годунов и многие другие вельможи, не только родственники его, но и те, кто находился под их покровительством, взяли к себе в неволю многих людей: иных силой, иных лаской и дарами в дома свои привлекли – и не только простолюдинов, отличных мастеров или редких умельцев, но и из древних благородных родов со всей их собственностью, и с селами, и с вотчинами; более же всего – добрых воинов, хорошо владеющих оружием, белых телом, красивых лицом, высокого роста. По примеру знати и многие другие начали людей в неволю порабощать, получая от кого можно письменное обязательство служить силою и пытками. Во время же великого сего голода господам стало ясно, что прокормить столь многочисленную челядь невозможно, и тогда они начали отпускать своих рабов на волю: кое-кто действительно, кое-кто притворно. Те, кто действительно, – с подписанным своей рукой свидетельством; те, кто притворно – лишь со двора сгоняли; и если изгнанный найдет где-либо себе приют, то на принявшего подло доносили и он терпел большие беды и убытки. <…> Было немало и таких, кто еще хуже поступал: имея чем долгое время кормить домашних своих, но, желая еще более разбогатеть, они челядь свою отпускали, да и не только челядь, даже родных и близких не пощадили и умирающих от голода беспричинно бросили на произвол судьбы. Было зло и обман и такого рода: летом все холопи трудятся, зимой же не имеют где и главу приклонить, летом же на своих господ в поте лица трудятся. <…> Холопи же великих бояр, подвергнутых царем Борисом гонением, были распущены, и принимать слуг тех опальных бояр никому не дозволялось. Некоторые из тех слуг, помня благодеяния господ своих и негодуя на царя, пребывали в ожидании и кипели злобой <…> А те, кто был привычен к коню и искусен в ратном деле, впадали в тяжкий грех – уходили в поселения на окраинах государства. И хотя и не все, но более двадцати тысяч таковых разбойников оказалось потом во время осадного сидения в Калуге и в Туле, помимо тамошних старых разбойников".
С. 19. Роман Вальтера Скотта "Анна Гейерштейн" (1829) выходил в России под названием "Карл Смелый, или Анна Гейерштейнская, дева мрака". "Иван Выжигин" (1829) – нравоописательный роман Ф. В. Булгарина.
(21) Перевод эпиграфа к части 1: "Если я что злое сделал, говорите мне прямо, выслушаю безропотно".
С. 23. Канцлер – высшее должностное лицо.
Сапега Лев Иванович (1557–1633) – королевский секретарь, литовский канцлер, виленский воевода и великий гетман литовский.
(1) Ныне Белый город (исторический район в центральной части Москвы – ред.).
С. 24. Кастелян – государственная должность: комендант, смотритель замка, государственного имущества. Карл Зюдерманландский – шведский король Карл IX (1550–1611), дядя польского короля Сигизмунда III.
Ингрия – Ижорская земля, территория по берегам Невы и юго-западному Приладожью.
Ливония – название территории современной Латвии и Эстонии, со второй четверти XIII века находившейся под властью немецких рыцарей; в 1561–1626 гг. Ливонией называлась территория Задвинского герцогства, входившего в состав Великого княжества Литовского (с 1569 г. – Речи Посполитой); в 1558–1583 гг. Россия вела Ливонскую войну за выход к Балтийскому морю против Швеции, Польши и Великого княжества Литовского; последние два государства в 1569 г. объединились в Речь Посполитую, под власть которой и перешла Ливония в результате войны.
С. 24. Волошский князь – князь валахов, народа, жившего между Карпатами и Дунаем (территория современной Румынии); в конце XVI – начале XVII вв. Валахия находилась под турецким господством. Русь Польская – русские земли, входившие в состав Речи Посполитой в конце XVI-начале XVII вв. (напр., вокруг Велижа – на границе Смоленской земли).
Ягеллы – династия Ягеллонов (XIV–XVI вв.), правившая в Польше, Великом княжестве Литовском, Венгрии, Чехии; основатель ее – великий князь литовский Владислав Ягайло (Ягелло) (ок. 1350–1434).
(2) Писарь в Польше значило не то самое, что писец, но то же, что секретарь, правитель канцелярии. Писарь коронный в Польше, в литовской Литве, было звание, соответствующее званию статс-секретаря.
С. 26. Трактат – международный договор.
(3) Универсал – прокламация, манифест.
(4) Посполитое рушенье – всеобщее вооружение дворянства в воеводстве, повете или целом королевстве. К этому приглашали универсалами.
(5) В древней Польше недовольные правительством составляли конфедерацию, т. е. союз для принятия общих мер; назначали маршала, собирали войско и вели междоусобную войну. Известно, до чего довело Польшу сие пагубное неуважение к властям.
С. 28. Маршал – здесь придворное звание: главный распорядитель.
Жилье – ярус, этаж. Лемберг – немецкое название города Львова.
С. 29. Иезуиты – члены католического монашеского ордена (основан в 1534 г.), который отличался строгой организованностью и жесткой дисциплиной; иезуиты боролись с распространением протестантизма, стремились подчинить светские институты своей власти.
(6) В Иоанново время, а после и в Борисово, главные улицы загораживали на ночь рогатками. См. "Опыт повествования о древностях русских" Гавриила Успенского.
С. 32. Романея – сладкая настойка на фряжском (чужеземном) вине.
Папошник (папушник) – домашний пшеничный хлеб, булка.
Боярский сын – в Русском государстве XV–XVII вв. боярскими детьми назывались мелкие феодалы, состоявшие на военной службе у князей, бояр, церкви. Дьяк – письмоводитель или начальник канцелярии.
С. 33. Пенязь – деньга.
С. 34…на Украине, в отчине польского короля Сигизмунда… – Украинские земли с XIV века входили сначала в состав Великого княжества Литовского, затем – Речи Посполитой. Сигизмунд III Ваза (1566–1632) – король Речи Посполитой с 1587 г.
С. 35…как возрадовало народ Божий избавление от неволи египетской и пленения вавилонского… – речь идет об эпизодах древней иудейской истории, описанных в Библии.
С. 37…как питательная манна, оживившая народ Божий в пустыне… – по Библии – вещество, ниспосланное Богом для пропитания евреям во время их скитаний по Аравийской пустыне.
(7) Глава XIII ("Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога").
С. 38…в лице двух Иоаннов, деда и внука… – т. е. Ивана III Васильевича (1440–1505) и Ивана IV Васильевича Грозного (1530–1584).
Могущественная Россия утешалась потомством Иоанно-вым, отраслями великого древа, осеняющего все престолы земные, которого корень начинается от римского кесаря Августа – не имеющая под собой реальной исторической почвы концепция, разработанная в XVI в. для того, чтобы обосновать право Москвы именоваться третьим Римом, а русских царей – политическими, идеологическими и духовными наследниками римских кесарей.
Рюрик – легендарный варяжский князь, основатель династии Рюриковичей на Руси; согласно летописному преданию, в IX веке ильменские славяне призвали Рюрика с двумя братьями княжить в Новгород. Мономах Владимир (1053–1125) – великий князь киевский с 1113 г., боролся с междоусобицей за единство Руси; венец (шапка) Мономаха – символ самодержавной власти в России, украшенный драгоценными камнями головной убор из золота с собольей опушкой, изготовлен в XIV веке; по легенде, Владимир Мономах получил этот венец в дар от византийского императора. Перлы – жемчужины. Яхонты – древнерусское название драгоценных камней.
…кротость Феодорову – царь Федор Иоаннович отличался мягким незлобовым нравом и набожностью.
(8) Гак разглашали враги Бориса Годунова, но это неправда. См. "Историю Государства Российского" Карамзина, т. X.
С. 39…крови Авелевой – т. е. жертвы первого убийства, совершенного, по Библии, Каином.
(9) Известно, что фамилия Годуновых происхождения татарского. Татарский мурза Чет, родоначальник Годуновых, выехал в Россию в 1330 году. См. "Родословную книгу".
Малюта Скуратов-Бельский (погиб в 1573 г.) – приближенный Ивана Грозного, один из организаторов опричного террора, его имя стало нарицательным для обозначения палача. Аман – в Библии жестокий преследователь иудеев.
(10) Евангелие от Луки, гл. I, ст. 14 ("И будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются").
(11) (Книга пророка) Иеремии, гл. XIII, ст. 17 ("Если же вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах; потому что стадо Господне отведено будет в плен").
(12) Послание к римлянам, гл. VI, ст. 18 ("Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности").
(13) В манифесте Лжедимитрия из Путивля Самозванец говорит, что он приходил в Москву с посольством Сапеги и видел Бориса на престоле. На этом предании основана часть завязки романа.
С. 40–42. Изложение версии убиения царевича Димитрия, отличной от той, которую излагает устами Иваницкого Булгарин, см. в приложении.
С. 43…вопреки своей торжественной присяге при венчании на царство. – См. Карамзина: "Наконец Борис венчался на царство, еще пышнее и торжественнее Феодора, ибо принял утварь Мономахову из рук Вселенского патриарха. Народ благоговел в безмолвии; но когда царь, осененный десницею первосвятителя, в порыве живого чувства как бы забыв устав церковный, среди литургии воззвал громогласно: "Отче, великий патриарх Иов! Бог мне свидетель, что в моем царстве не будет ни сирого, ни бедного", – и, тряся верх своей рубашки, примолвил: "Отдам и сию последнюю народу", – тогда единодушный восторг прервал священнодействие: слышны были только клики умиления и благодарности во храме; бояре славили монарха, народ плакал. Уверяют, что новый венеценосец, тронутый знаками общей к нему любви, тогда же произнес и другой важный обет: щадить жизнь и кровь самых преступников и единственно удалять их в пустыни сибирские" – Т. IX, гл. I.
(14) Так повествуют писатели в пользу Лжедимитрия. См. польских историков и современные записки иностранцев: "Dzieje panowania Zygmunta III" Немцевича, т. II, Маржерета, Чилли, Целлария, Лубенского и других.
С. 42. Синклит – собрание высшего духовенства или высших сановников государства.
С. 43. Ков – злой умысел.
(15) По улицам московским ходили чиновники для наблюдения за порядком. Они сменялись на службу еженедельно и потому назывались недельщиками. Это была полиция. См. "Русские достопамятности". Часть I, с. 139; "Опыт повествования о русских древностях" Г. Успенского и проч.
С. 47. Колымага, рыдван – большая карета.
С. 48. Лютер Мартии (1483–1546) – основатель крупнейшего направления протестантизма в Германии; боролся против засилия католического Рима, за упрощение церковного культа и за отказ от сложной церковной иерархии.
С. 50. Афонская гора в Греции – центр православного монашества с многовековой историей.
С. 51. Ферязь – длиннополая одежда без воротника и талии; Ферязью также называли нарядный девичий сарафан.
С. 52. Хоругвь – знамя.
С. 54. Елизавета I Тюдор (1533–1603) – королева Англии с 1558 г., крупный политический деятель, способствовавший утверждению абсолютизма и упрочению авторитета английского королевства в Европе.
С. 55. Халдейские письмена – вавилонские.
(16) Борис Годунов был весьма суеверен. "Имея ум редкий, Борис верил однако ж искусству гадателей", говорит об нем Карамзин в "Истории Государства Российского" – т. X, с. 127.
С. 59. Адамант – алмаз, бриллиант. Вертоградарь – садовник.
(17) Притчи Соломоновы, гл. 27 ("Не хвались завтрашним днем: потому что не знаешь, что родит тот день").
(18) Екклезиаста, гл. 3 ("Всему свой час, и всякому делу под небесами. Время родиться и время умирать; время насаждать и время вырывать насажденья").
С. 60. Кедр ливанский – дерево, нередко упоминаемое в Священном Писании с целью усиления образности.
(19) Глава II ("Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден ему").
(20) Притчи Соломоновы, гл. 13 ("От плода уст своих человек вкусит добро").
(21) Евангелие от Луки, гл. XII, ст. 2 ("Нет ничего сокровенного, что не. открылось бы, и тайного, чего не узнали бы").
(22) Там же, ст. 5 ("Бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну…").
С. 61. Жертва Каинова – в Библии Бог принял жертву первородных овнов стада, принесенную Авелем, а жертву плодов земных, принесенную Каином, отверг; снедаемый завистью Каин убил брата своего Авеля.
(23) Евангелие от Луки, гл. XI, ст. 13 ("Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим…").
С. 61. Ефимок – русский серебряный рубль; ефимком в России также называли западноевропейский иоахимсталер.
С. 64. Местничество – порядок распределения служебных мест в Русском государстве XIV–XVII вв. с учетом родовитости, заслуг предков и личных достоинств.
С. 65. Сеян Луций Элий (ок. 20 до н. э. – 30 н. э.) – фаворит императора Тиберия, пользовавшийся своим положением для устранения неугодных ему людей; был казнен по обвинению в государственной измене.
С. 68. Епанча – длинный и широкий плащ.
Клобук – головной убор монахов в виде высокого цилиндра с покрывалом.
С. 70. Нейгаузен – немецкая крепость в Эстонии.
Ингерманландия – одно из названий Ижорской земли (по берегам Невы и юго-западному Приладожью). Юрьев-Ливонский – одно из названий города Тарту.
С. 71. Пристав – должностное лицо, осуществляющее надзор за кем-либо или чем-либо.
(24) В старину, при царях, для торжества при дворе выделяли боярам и чиновникам богатое платье из царских кладовых и отбирали после торжества. См. "Путешествие" Мейерберга, Герберштейна, "Опыт" Успенского и проч.
С. 73. Думный дьяк – высокопоставленный государственный служащий, руководящий делопроизводством. Верющая – верительная посольская грамота.
(25) Смотри гравированный портрет Льва Сапеги при сочинении Немцевича "Dzieje panowania Zygmunta III", том III.
С. 73. Ток – головной убор.
Постельник – постельничий, заведующий царской спальней и мастерскими, шившими одежду для семьи царя; хранил также печать царя, иногда возглавлял его канцелярию.
(26) Таков был обычай при царях. Впрочем, все сие описано верно. Речь канцлера Сапеги взята почти слово в слово из "Жизни Сапеги на польском языке "Zycie Lwa Sapiehy" соч. Когновицкого. С. 75. Бердыш – широкий топор в виде полумесяца на длинном древке.
Печатник – хранитель государственной печати, заведующий личной канцелярией царя и государственным архивом.
(27) Трон, одежда Бориса и сына его Феодора, порядок аудиенции, подарки описаны очевидцами. См. вышеупомянутое сочинение Когновицкого.
(28) Царь, дав руку иноверцу, умывался всенародно. См. "Опыт" Успенского, Мейерберга и других.
С. 75. Окольничий – придворная должность, второй чин в Боярской Думе.
Думный дворянин – третий чин в Боярской Думе после боярина и окольничьего. Рында – царский оруженосец, телохранитель.
(29) В представлениях, аудиенциях и вообще во всех делах надлежало, говоря о государе и относясь к нему, беспрестанно повторять весь титул царский как в глаза государю, так и заочно в сношениях послов с вельможами русскими. См. Мейерберга, Маржерета, польских современных писателей и "Опыт" Успенского.
С. 76. Ясельничий – придворный чин, помощник конюшего, ведающего лошадьми и царской охотой.
С. 80. Шеляг – неходовая монета, используемая как украшение или для игры.
С. 82. Кружало – кабак.
С. 83. Сибирка – короткий кафтан с невысоким стоячим воротником. Полпиво – легкое пиво, брага.
(30) Борис для уничтожения распространившегося пьянства запретил вольную продажу вина. Разумеется, что это мудрое постановление не понравилось черному народу, особенно пьяницам и корчемникам.
С. 83. Сыта – медовый взвар.
С. 84. Правеж – телесное наказание с целью взыскания долга.
(31) Карамзин в "Истории Государства Российского", основываясь на современных летописях, упоминает о мнимых чудесах. См. т. XI.
С. 86. "Слово и дело!" – формула заявления о доносе по поводу государственного преступления.
С. 87. Приказная изба – помещение, где находится приказ, орган дворцового или местного управления. Московский гость – член привилегированной купеческой корпорации.
С. 88. Царьград – Константинополь.
…на городах… – т. е. в различных районах Москвы.
Гостиная сотня – привилегированная корпорация купцов, вторая по значению после гостей.
С. 89. Скорнячный ряд – в котором торгуют выделанными кожами и изделиями из них.
Крылошанин – поющий на крылосе в церкви или вообще церковнослужитель.
(32) Послание к евреям святого апостола Павла, гл. 2, ст. 1 ("Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть").
С. 93. Свайка – игра, при которой толстый железный гвоздь втыкают броском в землю, стремясь попасть в кольцо.
(33) Кликуша – то же, что наважденная. Суеверные люди верили, что колдуны вселяют черта в человека и что он получает дар предсказания будущего. См. "Абевега русских суеверий" (М. Чулкова).
С. 100. Рейтар – тяжеловооруженный конный воин.
С. 101. Стольник – дворцовая должность; занимавший ее обязан был прислуживать царям во время торжественных трапез, а также сопровождать их в поездках; стольники могли также назначаться на другие государственные должности.
(34) Смотри примечание 17.
(35) Смотри примечание 31.
С. 123. Волхвы и оракулы – чародеи и предсказатели.
(36) Царь Борис Федорович еще в 1600 году получил тайные сведения, будто бы царевич Димитрий спасся от убиения и, подозревая бояр в заговоре, начал их преследовать. См. "Estât de L'Empire de Russie et Grande Duchê de Moscowie etc." соч. Маржерета, изд. 1821 года, с. 110.
С. 125. Иеродиакон – монах, посвященный в диаконы.
(37) "История Государства Российского" Карамзина, Т. XI, с. 124 и примечание 194.
С. 125. Канон – песнь в честь святого, исполняемая на заутренях и вечернях.
(38) См. сочинения, о коих упоминается в примеч. 574 к XI тому "Истории Государства Российского" Карамзина. Многие из современников Лжедимитрия почитали его волшебником.
(39) О качествах самозванца см. Маржерета, Немцевича "Dzieje panowania Zygmunta III", том II и Карамзина "Историю Государства Российского", т. XI.
(40) "Ибо носилась молва, что Феодор за несколько времени до кончины мыслил объявить старшего из них (Романовых) наследником государства" – "История Государства Российского". Т. XI, с. 100, примечание 145.
(41) "Zycie Sapiehôw etc.", "Zycie Lwa Sapiehy" соч. Когновицкого на польском языке.
(42) "История Государства Российского" Карамзина. Т. XI, с. 36.
(43) Там же.
(44) Там же, с. 99, примеч. 143.
(45) Все сии роды точно были преследованы без всякой вины царем Борисом. Некоторые члены сих фамилий спаслись, другие погибли. Боярин Семен Никитич Годунов научал рабов доносить на господ и сам был производителем следствия. – См. "Историю Государства Российского" Карамзина, Т. XI, от с. 96 до 109.
С. 139. Образник – тот, кто пишет иконы (образа) и торгует ими. С. 142. Красоуля – чаша, братина.
(46) "История Государства Российского", Т. IX, с. 150.
(47) Современное описание Польской Украины: соч. Боплана, инженера польского короля Сигизмунда III. См. перевод в сочинении "Zbior pamietnikôw historycznych о dawnej Polszsze" Немцевича, т. III, с. 336.
(48) "Калерия, любовь возбуждающая" – греческое имя. См. "Полный месяцеслов", с. 18.
(49) О дерзостях Хлопки и о битвах его под Москвою с царскими войсками см. "Историю Государства Российского" Карамзина. – Т. XI, с. 119.
С. 158. Есаул – помощник атамана у разбойников.
С. 163. "О, вей мир!" – "О, горе мне!"
С. 166. Даниил – библейский пророк, которого за приверженность к вере отцов вавилоняне бросили в ров со львами; но ангел, посланный Богом, не допустил, чтобы звери растерзали пророка.
С. 167. Черес – пояс.
(50) Староста (ударение на букве "о") было весьма важное звание в древней Польше. В городе он был вроде нынешних коменданта и губернатора; в уезде главным уголовным судьею. Кроме того, старосты получали во временное владение казенные имения, или староства, по-нынешнему аренду, платя кварту королю, а иногда обязываясь содержать войско.
С. 169. Лифляндия – название территории северной Латвии и южной Эстонии.
Уния – объединение православной и католической церквей с признанием главенства римского папы; православные обряды при этом сохранялись.
(51) См. "Dzieje panowania Zygmunta III", соч. Немцевича С. 170. и всех авторов, писавших о сей эпохе.
Косинский и Наливайко – предводители освободительного движения на Украине в 90-х годах XVI века.
(52) Украинцы и вообще малороссияне до Хмельницкого имели особый местный патриотизм. Их хотелось или пользоваться всеми правами польского шляхетства, или составлять особое княжение, независимое. Это видно из истории Польши и Малороссии. Ненависть малороссиян к полякам начинается со времени введения унии, а особенно от гетмана Хмельницкого. См. Лубенского, Пясецкого и других современных авторов.
(53) Все сии подробности о древнем Киеве и о числе церквей взяты из современного писателя, инженера польской службы француза Боплана. См. "Zbior pamietnikôw etc." – По этому описанию нельзя узнать нынешнего Киева.
С. 171. Горшки, повлеченные гипсом – т. е. покрытые. С. 173. Шугай – короткая кофта с отложным воротником и ленточной оторочкой.
(54) Главные приметы, на которых основывался самозванец, были бородавки на лице и одно плечо короче другого. См.: "Dzieje panowania Zygraunta III" Немцевича, Карамзина и всех современных писателей.
(55) Железный лист – то же, что охранительная грамота. Король, милуя преступника, давал ему железный лист, и никто не смел к нему прикоснуться.
С. 190. Хорица, или несколько иное, как, например, у Гоголя в "Тарасе Бульбе" название – Хортица.
(56) Все, что говорится о запорожцах, почерпнуто из Боплана (см. выше), Свенцкого ("Opis Star. Polski"), Гвагнани, Бантыша-Каменского и других писателей.
С. 190. Саламата – пресная мучная болтушка.
С. 191. Радные паны – участники сословно-представительных органов парламентского типа – сеймов.
С. 193. Буджакские татары – ногайцы, кочевавшие в XVI–XVII вв. на юге Бессарабии; их орду именовали Буджакской по названию исторической области между Дунаем и Днестром.
(57) В 1320 году.
С. 194. Войт – городской или сельский голова на Украине.
(58) "Opis Star. Polski" Свенцкого.
(59) Здесь называются пороги таким образом, как в польских летописях XVI и XVII веков. В "Словаре" Щекотова они имеют те же названия. Разница в произношении.
С. 198. Шанцы, палисад – военные укрепления: окоп, частокол.
(60) См. авторов, на которых ссылается г. Бантыш-Каменский в своей "Истории Малороссии".
(61) Казачьи лодки назывались именем водяной птицы чайки. Вероятно, по легкости.
С. 204. Бунчук – войсковой знак атамана или гетмана в виде длинного древка с конским хвостом и кистями на конце.
С. 205. Аккерман – турецкая крепость на Днестровском лимане.
(62) Собственные слова Боплана в его описании запорожского войска.
(63) Боплана описание Украины. См. "Zbior etc.".
(64) Все, что здесь сказано о виде, вооружении и о времени для постройки лодок и проч., почерпнуто из очевидного свидетеля Боплана. Один из моих приятелей, моряк, увидев у меня корректурный лист сего романа, где говорится о Запорожье, изъявил сомнение насчет сказанного о величине лодок, числе пушек и способе перетаскивать их сухим путем. Посему решился я выписать собственные слова Боплана, жившего 16 лет на Украине и видавшего собственными глазами все, о чем он писал. См. "Zbior pamietnikôw о dawnej Polszcze" Немцевича, ч. II, с. 376. "Там строят суда 60 футов в длину, 10 или 12 в ширину (…) В каждое судно садятся от 50 до 70 молодцов, каждый из них имеет два ружья и саблю, сверх того на борту 4 или 6 небольших пушек и необходимые съестные припасы и т. д.". Кажется, не должно сомневаться, в том, что говорит Боплан, очевидец, тем более, что и другие современники подтверждают то же. Если кому и позволено сомневаться в истине, то не романисту, пользующемуся даже и баснословными преданиями.
(65) См. "Описание Украины" Боплана и "Collectanea z Dziejopisôw Tureckich etc". профессора Сенковского. Таким образом нападали казаки на суда.
С. 213. Янычары – турецкая пехота.
Воспор – Босфор.
С. 214. Анатолия – провинция на западе Малой Азии.
Петарда – взрывное пороховное устройство.
(66) Обычай запорожцев. См. современных польских писателей.
(67) Боплан и "Collectanea" О. Сенковского.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Убиение царевича Димитрия
Фрагмент из главы 2 тома X «Истории Государства Российского» H. M. Карамзина
Ожидая смерти бездетного царя, располагая волею царицы, наполнив Думу, двор, приказы родственниками и друзьями, не сомневаясь в преданности великоименитого иерарха церкви, надеясь также на блеск своего правления и замышляя новые хитрости, чтобы овладеть сердцем или воображением народа, Борис не страшился случая, беспримерного в нашем отечестве от времен Рюриковых до Феодоровых, трона упраздненного, конца племени державного, мятежа страстей в выборе новой династии, и, твердо уверенный, что скипетр, выпав из руки последнего венценосца Мономаховой крови, будет вручен тому, кто уже давно и славно царствовал без имени царского, сей алчный властолюбец видел между собою и престолом одного младенца безоружного, как алчный лев видит агнца!.. Гибель Димитриева была неизбежна!
Приступая к исполнению своего ужасного намерения, Борис мыслил сперва объявить злосчастного царевича незаконнорожденным, как сына шестой или седьмой Иоанновой супруги: не велел молиться о нем и поминать его имени на литургии, но рассудив, что сие супружество, хотя и действительно беззаконное, было, однако ж, утверждено или терпимо церковного властию, которая торжественным уничтожением оного призналась бы в своей человеческой слабости к двойному соблазну христиан – что Димитрий, невзирая на то, во мнении людей остался бы царевичем, единственным Феодоровым наследником – Годунов прибегнул к вернейшему способу устранить совместника, оправдываясь слухом, без сомнения, его же друзьями распущенным, о мнимой преждевременной наклонности Димитриевой ко злу и к жестокости: в Москве говорили всенародно (следственно, без страха оскорбить царя и правителя), что сей младенец, еще имея не более шести или семи лет от роду, есть будто бы совершенное подобие отца – любит муки и кровь, с веселием смотрит на убиение животных, даже сам убивает их. Сею сказкою хотели произвести ненависть к Димитрию в народе; выдумали и другую для сановников знатных: рассказывали, что царевич, играя однажды на льду с другими детьми, велел сделать из снегу двадцать человеческих изображений, назвал оные именами первых мужей государственных, поставил рядом и начал рубить саблею: изображению Бориса Годунова отсек голову, иным руки и ноги, приговаривая: "Так вам будет в мое царствование!" В противность клевете нелепой многие утверждали, что юный царевич оказывает ум и свойства, достойные отрока державного; говорили о том с умилением и страхом, ибо угадывали опасность невинного младенца, видели цель клеветы – и не обманулись: если Годунов боролся с совестию, то уже победил ее и, приготовив легковерных людей услышать без жалости о злодействе, держал в руке яд и нож для Димитрия; искал только, кому отдать их для совершения убийства!
Доверенность, откровенность свойственна ли в таком умысле гнусном? Но Борис, имея нужду в пособниках, открылся ближним, из коих один, дворецкий Григорий Васильевич Годунов, залился слезами, изъявляя жалость, человечество, страх Божий – его удалили от совета. Все другие думали, что смерть Димитриева необходима для безопасности правителя и для государственного блага. Начали с яда. Мамка царевича, боярыня Василиса Волохова, и сын ее Осип, продав Годунову свою душу, служили ему орудием; но зелие смертоносное не вредило младенцу, по словам летописца, ни в яствах, ни в питии. Может быть, совесть еще действовала в исполнителях адской воли; может быть, дрожащая рука бережно сыпала отраву, уменьшая меру ее, к досаде нетерпеливого Бориса, который решился употребить иных, смелейших злодеев. Выбор пал на двух чиновников, Владимира Загряжского и Никифора Чепчугова, одолженных милостями правителя; но оба уклонились от сделанного им предложения: готовые умереть за Бориса, мерзили душегубством; обязались только молчать, и с сего времени были гонимы. Тогда усерднейший клеврет Борисов, дядька царский окольничий Андрей Лупп-Клешнин, представил человека надежного:
дьяка Михаила Битяговского, ознаменованного на лице печатию зверства, так, что дикий вид его ручался за верность во зле. Годунов высыпал золото; обещал более, и совершенную безопасность; велел извергу ехать в Углич, чтобы править там земскими делами и хозяйством вдовствующей царицы, не спускать глаз с обреченной жертвы и не упустить первой минуты благоприятной. Битяговский дал и сдержал слово.
Вместе с ним приехали в Углич сын его, Данило, и племянник Никита Качалов, также удостоенные совершенной доверенности Годунова. Успех казался легким: с утра до вечера они могли быть у царицы, занимаясь ее домашним обиходом, надзирая над слугами и над столом; а мамка Димитриева с сыном помогала им советом и делом. Но Димитрия хранила нежная мать!.. Извещенная ли некоторыми тайными доброжелателями или своим сердцем, она удвоила попечения о милом сыне; не расставалась с ним ни днем ни ночью; выходила из комнаты только в церковь; питала его из собственных рук, не вверяла ни злой мамке Волоховой, ни усердной кормилице Ирине Ждановой. Прошло немало времени; наконец убийцы, не видя возможности совершить злодеяние втайне, дерзнули на явное, в надежде, что хитрый и сильный Годунов найдет способ прикрыть оное для своей чести в глазах рабов безмолвных, ибо думали только о людях, не о Боге! Настал день, ужасный происшествием и следствиями долговременными: 15 мая, в субботу, в шестом часу дня, царица возвратилась с сыном из церкви и готовилась обедать; братьев ее не было во дворце; слуги носили кушанье. В сию минуту боярыня Волохова позвала Димитрия гулять на двор; царица, думая идти с ними же, в каком-то несчастном рассеянии остановилась. Кормилица удерживала царевича, сама не зная для чего; но мамка силою вывела его из горницы в сени и к нижнему крыльцу, где явились Осип Волохов, Данило Битяговский, Никита Качалов. Первый, взяв Димитрия за руку, сказал: "Государь! у тебя новое ожерелье". Младенец, с улыбкою невинности подняв голову, отвечал: "Нет, старое…" Тут блеснул над ним убийственный нож; едва коснулся гортани его и выпал из рук Волохова. Закричав от ужаса, кормилица обняла своего державного питомца. Волохов бежал, но Данило Битяговский и Качалов вырвали жертву, зарезали и кинулись вниз с лестницы в самое то мгновение, когда царица вышла из сеней на крыльцо… Девятилетний святой мученик лежал окровавленный в объятиях той, которая воспитала и хотела защитить его своею грудью; он трепетал, как голубь, испуская дух, и скончался, уже не слыхав вопля отчаянной матери… Кормилица указывала на безбожную мамку, смятенную злодейством, и на убийц, бежавших двором к воротам: некому было остановить их; но Всевышний мститель присутствовал!
Чрез минуту весь город представил зрелище мятежа неизъяснимого. Пономарь соборной церкви – сам ли, как пишут, видев убийство, или извещенный о том слугами царицы – ударил в набат, и все улицы наполнились людьми, встревоженными, изумленными; бежали на звук колокола; смотрели дыма, пламени, думая, что горит дворец; вломились в его ворота; увидели царевича мертвого на земле, подле него лежали мать и кормилица без памяти; но имена злодеев были уже произнесены ими. Сии изверги, невидимым Судиею ознаменованные для праведной казни, не успели или боялись скрыться, чтобы не обличить тем своего дела; в замешательстве, в исступлении, устрашенные набатом, шумом, стремлением народа, вбежали в избу разрядную; а тайный вождь их, Михайло Битяговский, бросился на колокольню, чтобы удержать звонаря, не мог отбить запертой им двери и бесстрашно явился на месте злодеяния; приближился к трупу убиенного, хотел утишить народное волнение, дерзнул сказать гражданам (заблаговременно изготовив сию ложь с Клешниным или с Борисом), что младенец умертвил сам себя ножом в падучей болезни. "Душегубец!" – завопили толпы; камни посыпались на злодея. Он искал убежища во дворце с одним из клевретов своих, Данилом Третьяковым; народ схватил, убил их, также и сына Михайлова, и Никиту Качалова, выломив дверь разрядной избы. Третий убийца, Осип Волохов, ушел в дом Михаила Битяговского, его взяли, привели в церковь Спаса, где уже стоял гроб Димитриев, и там умертвили в глазах царицы; умертвили еще слуг Михайловых, трех мещан, уличенных или подозреваемых в согласии с убийцами, и женку юродивую, которая жила у Битяговского и часто ходила во дворец; но мамку оставили живую для важных показаний, ибо элодеи, издыхая, облегчили свою совесть, как пишут, искренним признанием; наименовали и главного виновника Димитриевой смерти: Бориса Годунова. Вероятно, что устрашенная мамка также не запиралась в адском кове; но судиею преступления был сам преступник!
Беззаконно совершив месть, хотя и праведную – от ненависти к злодеям, от любви к царской крови забыв гражданские уставы – извиняемый чувством усердия, но виновный перед судилищем государственной власти, народ опомнился, утих и с беспокойством ждал указа из Москвы, куда градоначальники послали гонца с донесением о бедственном происшествии, без всякой утайки, надписав бумагу на имя царя. Но Годунов бодрствовал: верные ему чиновники были расставлены по Углицкой дороге; всех едущих задерживали, спрашивали, осматривали; схватили гонца и привели к Борису. Желание злого властолюбца исполнилось!.. Надлежало только затмить истину ложью, если не для совершенного удостоверения людей беспристрастных, то по крайней мере для вида, для пристойности. Взяли и переписали грамоты углицкие: сказали в них, что царевич в судорожном припадке заколол себя ножом, от небрежения Нагих, которые, закрывая вину свою, бесстыдно оклеветали дьяка Битяговского и ближних его в убиении Димитрия, взволновали народ, злодейски истерзали невинных. С сим подлогом Годунов спешил к Феодору, лицемерно изъявляя скорбь душевную; трепетал, смотрел на небо – и, вымолвив ужасное слово о смерти Димитриевой, смешал слезы крокодиловы с искренними слезами доброго, нежного брата. Царь, по словам летописца, горько плакал, долго безмолвствуя; наконец сказал: "Да будет воля Божия!" – и всему поверил. Но требовалось чего-нибудь более для России: хотели оказать усердие в исследовании всех обстоятельств сего несчастия: нимало не медля, послали для того в Углич двух знатных сановников государственных – и кого же? Окольничьего Андрея Клешнина, главного Борисова пособника в злодействе! Не дивились сему выбору, могли удивиться другому: боярина князя Василия Ивановича Шуйского, коего старший брат, князь Андрей, погиб от Годунова и который сам несколько лет ждал от него гибели, будучи в опале. Но хитрый Борис уже примирился с сим князем, честолюбивым, легкомысленным, умным без правил добродетели, и с меньшим его братом, Димитрием, женив последнего на своей юной своячине и дав ему сан боярина. Годунов знал людей и не ошибся в князе Василии, оказав таким выбором мнимую неустрашимость, мнимое беспристрастие. 19 мая, ввечеру, князь Шуйский, Клешнин и дьяк Вылузгин приехали в Углич, а с ними и Крутицкий митрополит, прямо в церковь Св. Преображения.
Там еще лежало Димитриево тело окровавленное, и на теле нож убийц. Злосчастная мать, родные и все добрые граждане плакали горько. Шуйский с изъявлением чувствительности приступил ко гробу, чтобы видеть лицо мертвого, осмотреть язву; но Клешнин, увидев сие ангельское, мирное лицо, кровь и нож, затрепетал, оцепенел, стоял неподвижно, обливаясь слезами; не мог произнести ни единого слова: он еще имел совесть! Глубокая язва Димитриева, гортань, перерезанная рукою сильного злодея, не собственною, не младенческою, свидетельствовала о несомнительном убиении: для того спешили предать земле святые мощи невинности; митрополит отпел их – и князь Шуйский начал свои допросы: памятник его бессовестной лживости, сохраненный временем как бы в оправдание бедствий, которые чрез несколько лет пали на главу, уже венценосную, сего слабого, если и не безбожного человекоугодника! Собрав духовенство и граждан, он спросил у них: каким образом Димитрий, от небрежения Нагих, заколол сам себя? Единодушно, единогласно – иноки, священники, мужи и жены, старцы и юноши – ответствовали: царевич убиен своими рабами, Михаилом Битяговским с клевретами, по воле Бориса Годунова. Шуйский не слушал далее, распустил их; решился допрашивать тайно, особенно, не миром, действуя угрозами и обещаниями; призывал, кого хотел; писал, что хотел – и наконец вместе с Клешниным и с дьяком Вылузгиным составил следующее донесение царю, основанное будто бы на показаниях городских чиновников, мамки Волоховой, жильцов или царевичевых детей боярских, Димитриевой кормилицы Ирины, постельницы Марьи Самойловой, двух Нагих: Григория и Андрея Александрова, – царицыных ключников и стряпчих, некоторых граждан и духовных особ: "Димитрий в среду мая 12 занемог падучею болезнию; в пятницу ему стало лучше: он ходил с царицею к обедне и гулял на дворе; в субботу, также после обедни, вышел гулять на двор с мамкою, кормилицею, постельницею и с молодыми жильцами; начал играть с ними ножом в тычку и в новом припадке черного недуга проткнул себе горло ножом, долго бился о землю и скончался. Имея сию болезнь и прежде, Димитрий однажды уязвил свою мать, а в другой раз объел руку дочери Андрея Нагого. Узнав о несчастии сына, царица прибежала и начала бить мамку, говоря, что его зарезали Волохов, Качалов, Данило Битяговский, из коих ни одного тут не было; но царица и пьяный брат ее, Михайло Нагой, велели умертвить их и дьяка Битяговского безвинно, единственно за то, что сей усердный дьяк не удовлетворял корыстолюбию Нагих и не давал им денег сверх указа государева. Сведав, что сановники царские едут в Углич, Михайло Нагой велел принести несколько самопалов, ножей, железную палицу, вымазать оные кровью и положить на тела убитых, в обличение их мнимого злодеяния". Сию нелепость утвердили своею подписью Воскресенский архимандрит Феодорит, два игумена и духовник Нагих, от робости и малодушия; а свидетельство истины, мирское, единогласное, было утаено: записали только ответы Михаила Нагого, как бы явного клеветника, упрямо стоящего в том, что Димитрий погиб от руки злодеев.
Шуйский, возвратясь в Москву, 2 июня представил свои допросы государю; государь же отослал их к патриарху и святителям, которые, в общей думе с боярами, велели читать сей свиток знатному дьяку Василью Щелкалову. Выслушав, митрополит Крутицкий Геласий встал и сказал Иову: "Объявляю Священному собору, что вдовствующая царица в день моего отъезда из Углича призвала меня к себе и слезно убеждала смягчить гнев государев на тех, которые умертвили дьяка Битяговского и товарищей его; что она сама видит в сем деле преступление, моля смиренно, да не погубит государь ее бедных родственников". Лукавый Геласий – исказив, вероятно, слова несчастной матери – подал Иову новую бумагу от имени городового углицкого приказчика, который писал в ней, что Димитрий действительно умер в черном недуге, а Михайло Нагой пьяный велел народу убить невинных… И собор (воспоминание горестное для церкви!) поднес Феодору доклад такого содержания: "Да будет воля государева! Мы же удостоверились несомнительно, что жизнь царевича прекратилась судом Божиим; что Михайло Нагой есть виновник кровопролития ужасного, действовал по внушению личной злобы и советовался с злыми вещунами, с Андреем Мочаловым и с другими; что граждане углицкие вместе с ним достойны казни за свою измену и беззаконие. Но сие дело есть земское: ведает оное Бог и государь; в руке державного опала и милость. А мы должны единственно молить Всевышнего о царе и царице, о тишине и благоденствии народа!" Феодор велел боярам решить дело и казнить виновных: привезли в Москву Нагих, кормилицу Димитриеву с мужем и мнимого вещуна Мочалова в тяжких оковах; снова допрашивали, пытали, особенно Михаила Нагого, и не могли вынудить от него лжи о самоубийстве Димитрия; наконец сослали всех Нагих в отдаленные города и заключили в темницы; вдовствующую царицу, неволею постриженную, отвезли в дикую пустыню святого Николая на Выксе (близ Череповца); тела злодеев, Битяговского и товарищей его, кинутые углицким народом в яму, вынули, отпели в церкви и предали земле с великою честию; а граждан тамошних, объявленных убийцами невинных, казнили смертию, числом около двухсот; другим отрезали языки; многих заточили; большую часть вывели в Сибирь и населили ими город Пелым, так что древний, обширный Углич, где было, если верить преданию, 150 церквей и не менее тридцати тысячи жителей, опустел навеки, в память ужасного Борисова гнева на смелых обличителей его дела. Остались развалины, вопия к Небу о мести!
ЧАСТЬ III
Пришлец, иже есть у тебе, взыдет над тя выше выше, ты же низъидеши низу низу.
Второзакония глава 12ГЛАВА I
Иезуиты XVII века. Нунций. Современная римская политика. Ночное совещание. Привидение.
"В знаменитом городе Львове, древней столице русского князя Льва Даниловича, поныне существует огромное здание с темными, закопченными наружными стенами, со множеством мрачных переходов и несколькими четвероугольными дворами. Это коллегиум Иезуитского общества (1), бывшего всемогущим в XVI и XVII веках.
Несколько дней сряду происходила суматоха в коллегиуме. Чистили комнаты, сметали пыль с картин, снимали чехлы с мебелей, нагружали кладовые лучшими съестными припасами и в погребе отыскивали драгоценнейшие вина, подарки богатых панов польских. Наконец наступил ожидаемый день. Все патеры собрались в рефекториуме (2), а ученики коллегиума в авле (3). Вдруг прискакал от городских ворот посланец и, слезая с лошади на среднем дворе, громко воскликнул:
– Нунций едет!
– Нунций едет! – раздалось во всех углах коллегиума. Ректор коллегиума патер Левицкий вышел с отцами иезуитами на улицу. Они стали в ряд перед вратами церкви по правую сторону, а по левую выстроились воспитанники под предводительством префекта школ патера Красовского и патеров красноречия и математики (4). Два лучшие ученика, укрываясь позади своих товарищей, перечитывали тетрадки, готовясь произнесть приветственные речи на латинском и итальянском языке. Отцы иезуиты в одежде их ордена – черных сутанах (5), в черных шелковых мантиях, висящих до земли, в черных бархатных беретах – стояли скромно, сложив на груди руки, потупив взоры. Ученики разделялись на светских и духовных; последние были в единообразной одежде – черных сутанах и в коротких черных плащах, с открытою головою. Народ толпился кругом и с умилением взирал на отцов иезуитов, пользовавшихся уважением и доверенностью всех добрых католиков.
Наконец показался ряд повозок. Шесть дюжих коней везли огромный рыдван, висевший на цепях. В нем сидел нунций, или посол папский при польском дворе, Клавдий Рангони, епископ Реджийский. Он был в епископской одежде – фиолетовой шелковой сутане, в коротком испанском плащике, на голове имел берет красного цвета. Смиренно перебирая четки, нунций благословлял толпящийся народ. Напереди сидел духовник нунция, итальянский монах Капуцинского ордена в суконной рясе бурого цвета; голова его покрыта была капюшоном рясы. В другом рыдване сидели рядом два иезуита: патер Голынский, любимец, советник и духовник короля Польского, и патер Скарга, придворный проповедник, знаменитый в то время своим красноречием, усердием к распространению католической веры и жестокими выходками в своих проповедях противу иноверцев, которыми Польша тогда была наполнена. В нескольких бричках ехали слуги и повара нунция с запасом вина, сластей и съестного.
Рангони был человек лет пятидесяти, высокий, сухощавый, бледный. Черты лица его оживлены были пылкостью итальянского характера: в черных, ярких глазах искрился ум и отражались сильные страсти. Тонкие уста часто оживлялись ироническою улыбкою. Все приемы его показывали человека ловкого, знающего светское обращение, знакомого с придворными обычаями. Цель посольства Рангони в Польшу была та, чтоб при содействии иезуитов, любимых и покровительствуемых Сигизмундом, утвердить на севере власть папскую, потрясенную в царствование Сигизмунда Августа распространением протестантского учения, и поддержать унию, или соединение восточной церкви с западною, уже начатое иезуитами, но неприятное просвещенным польским вельможам. Рангони, умный, хитрый, вкрадчивый, умел снискать полную доверенность короля и приобресть дружбу многих знаменитых панов. При строгом соблюдении всех приличий своего сана Рангони любил хороший стол и вкусное вино, угощал вельможей и сам принимал угощения и этим чрезвычайно нравился полякам, почитавшим пиршества важным делом, наравне с политическими совещаниями. Рангони безотлучно находился при короле, но теперь он воспользовался отсутствием его в Ливонию, для осмотра замков, чтоб отправиться в Львов, куда призывали его отцы иезуиты для весьма важных дел'. Явным предлогом сего посещения был спор между армянами католического и православного исповеданий о праве построения церкви в городе по завещанию одного богатого купца. Нунцию надлежало решить это дело миролюбно, с согласия обеих сторон.
Лишь только нунций вышел из рыдвана, иезуиты и воспитанники низко поклонились ему; ректор приблизился, чтоб испросить благословения, а два ученика с патером красноречия выступили вперед, чтоб начать речь. Уже один из них, махнув руками, воскликнул: "Eminetissime et reverendissime!" Но нунций удержал этот порыв восторга, сказав:
– Благодарю вас за усердие, почтенные отцы, но прошу уволить меня от принятия почестей. Убогий раб смиренной церкви просит вас только о том, чтоб вы не забывали о нем в своих молитвах! – Сказав сие, нунций поклонился на все стороны, осенил крестом собрание и тихими шагами вошел в ворота коллегиума в сопровождении патеров Голынского и Скарги. Ректор пошел вперед, чтоб указать путь в назначенные для него комнаты, а все отцы иезуиты последовали за ними смиренно, сложив на груди руки, потупив взоры и по временам испуская вздохи. Воспитанники удалились в свои комнаты с патером красноречия, весьма недовольным тем, что речи, сочиненные учениками на заданную тему и поправленные им самим, не были произнесены всенародно.
Нунций, вошед в назначенные для него комнаты, был поражен их великолепием. Только царские палаты могли сравняться с ними богатством и вкусом в украшениях. Стены обиты были флорентийскими шелковыми тканями и украшены портретами пап римских, знаменитейших кардиналов, генералов Ордена иезуитов и картинами, изображающими подвиги иезуитов в четырех частях света. Стулья обиты были бархатом; разноцветные восковые свечи вставлены были в огромные стеклянные паникадила и серебряные подсвечники; на мраморных столах стояли бронзовые часы гарлемские и амстердамские; богатство украшений отражалось в венецианских зеркалах. Ректор, приметив впечатление, произведенное в нунции богатством комнат, низко поклонился и сказал:
– Бедная обитель украсила эти комнаты подаянием благочестивых людей для приема короля, нашего милостивого государя, удостаивающего нас иногда своим высоким посещением, и для помещения достойным образом посланников главы римской церкви. Желаем вашему высокопреосвященству покоя в сем тихом убежище!
Вместе с ректором вошел в комнату префект патер Красовский, декан, или помощник ректора, патер Савицкий, супериор Яновского коллегиума патер Черниковский, патер Поминский, любимец короля, прибывший за несколько дней пред тем из Кракова, и еще несколько старых и уважаемых отцов иезуитов. Нунций и прибывшие с ним патеры Голынский и Скарга сели на софе и на стульях, а прочие стояли пред ними с видом покорности. После нескольких минут молчания ректор низко поклонился нунцию и сказал:
– Позвольте спросить у вашего высокопреосвященства о важной политической новости для христианского мира: о зворовье святейшего папы, нашего всемилостивейшего государя!
– По последним известиям, – отвечал Рангони, – государь наш, святейший папа, пользуется вожделенным здравием!
– Слава всевышнему! – воскликнул радостно ректор, простерши руки и подняв глаза к небу.
– Слава всевышнему! – повторили все отцы иезуиты.
– Так, мы должны денно и нощно молиться о ниспослании нашему святейшему отцу здравия и крепости телесной и душевной в сии горькие времена разврата и расколов, – возразил Рангони. – Прошлое столетие породило исчадия неверия, которое, подобно подземному пламени Везувия и Этны, угрожает обрушить Рим, долженствующий владычествовать над вселенною. Прежде, в оные блаженные времена, цари и царства двигались по мановению наместника святого Петра, а ныне… а ныне! – Рангони печально опустил голову на грудь и, помолчав немного, примолвил:– Присядьте, почтенные отцы! Утешим себя поучительною беседой.
– В первые времена христианства церковь еще более терпела от язычников, – сказал патер Скарга. – Но пройдет тяжкое испытание, и Рим снова вознесется, как солнце над землею!
– Теперь вся надежда на ваш орден, отцы иезуиты! – сказал нунций. – Вы, мужественные воины папы, одни только можете поддержать могущество Рима, которое стараются ниспровергнуть ересью. Подвиги ваши во всех концах мира составляют самые блестящие страницы в истории папской власти, и если б вам удалось с таким же рвением поколебать ересь на севере, как братья ваши сделали это на западе, то вскоре учение Лютера, Кальвина и Цвинглия, противящееся поныне силе убеждения, было бы подавлено гораздо ощутительнейшими средствами, нежели красноречие. Все зависит от вашей ревности и деятельности!
– Ревность наша и деятельность к распространению папской власти беспредельна, – отвечал ректор, – хотя нам известно, что враги наши, доминиканцы, стараются распространять в Риме слухи о хладнокровии польских иезуитов к общему делу. Надобно взять во уважение местные и современные обстоятельства. Ни в одной из католических земель ересь не распространилась с такою силою, как в Польше, при короле Сигизмунде Августе. Здесь было убежище всех сект: лютеран, кальвинистов, анабаптистов, ариан и даже социниан. Все они явно провозглашали свое учение изустно и печатно, и в польском Сенате были только два католические сенатора. Школы были в руках светских людей, и греческая церковь имела едва ли не больший перевес, как римско-католическая. Не только простой народ в целой Литве, на Украине и в Чермной России, но и знатные паны были греко-российского исповедания. Все шло наоборот! Посмотрите, что теперь делается в Польше со времени Стефана Батория, то есть с тех пор, как мы начали действовать! Для ниспровержения восточной церкви заведена уния. Большая часть панов и знаменитых граждан уже приняли католическую веру. Почти все школы уже в наших руках, и для уничтожения вредного влияния Краковской академии, похваляющейся веротерпимостью, заведена такая же академия в Вильне под руководством наших отцов иезуитов. Все синоды еретиков разрушаются постепенно, ученики наши уже явно нападают на церкви протестантские, и если так продолжится, то в новом поколении в целой Польше не будет ни одного иноверца и все будут католиками! Вскоре ударит последний час для иноверцев, и, как говорит Иов: "Effugerit arma ferrca, excipit eum chalybeus arcus" (т. е. "и не спасется от руки железа, да устрелит его лук медян").
– Душе легче! – сказал Рангони, приятно улыбаясь. – Душе легче, когда слышишь подобные речи. Нет, почтенные отцы! Святейший папа уверен в вашей ревности и усердии, и я первый ваш предстатель у римского престола…
Вдруг за дверьми раздался стук, как будто что-то звонкое упало на землю. Рангони встал, отворил двери, и глазам его открылась большая зала с огромными шкафами, которые наполнены были книгами. Старый иезуит выбирал из одного шкафа бутылки и укладывал в корзины. Толстая книга, упав с верхней полки, разбила несколько бутылок, и от этого произошел шум. Рангони иронически улыбнулся и сказал:
– Добрый отец извлекает эссенцию мудрости из этих сокровищ ума человеческого!
Иезуиты смешались и потупили глаза, а Скарга, Поминский и Голынский, не принадлежащие к коллегиуму, с гневом посмотрели на своих собратий. Ректор сказал:
– Чтоб не подать дурного примера, мы не употребляем вина за общею трапезою, но сохраняем как лекарство в малом количестве для подкрепления сил старцев, утруждающих ум чтением и науками. В часы отдохновения они иногда позволяют себе согревать кровь и освежать ум.
– Понимаю, понимаю, – возразил с улыбкою нунций и вошел в библиотеку. Отцы иезуиты последовали за ним. Рангони приблизился к шкафу, из которого старик вынимал бутылки, и прочел надпись на шкафе: "Libri prohibiti" (запрещенные книги). Надев очки, нунций стал рассматривать надписи на книгах и сказал:
– Сочинения Лютера, Кальвина, Цвинглия, Помпония, Оржеховского, Корнелия Агриппы, Эразма Роттердамского, Меланхтона; а вот и вредные мечтатели, Галилей и Коперник! Ужасные вещи! Слава Богу, что все эти книги признаны вредными на последнем Тридентском Соборе и помещены в Индексе (6). Напрасно, почтенные отцы, вы ставите такие хорошие и позволенные вещи, как старое токайское вино, наряду с этими ядовитыми книгами. Я думаю, что в этом соседстве и вино прокиснет! Велите перенесть эти бутылки в мою комнату. Там им будет гораздо лучше.
Ректор низко поклонился нунцию, а префект стал помогать старику вынимать бутылки, стоявшие на полках позади книг, и велел ему перенесть их немедленно в комнаты Рангони. Нунций сел в кресла и, окинув угрюмым взглядом библиотеку, сказал:
– Книги, книги! Hinc mali principium! (Вот корень зла!) Если б не книги, если б не проклятая страсть думать, рассуждать, писать, то не было бы ни расколов, ни ослушания папской власти. Все зло от этого сатанинского изобретения, за которое имя Гутенберга и его адских помощников должно быть предано анафеме. Ах, почтенные отцы! Сад, наполненный ядовитыми растениями, не произвел бы на меня столь горестного впечатления, как это собрание книг, свидетельств кичливости и безумия человеческого!
– Но на яд есть противуядие, – сказал Скарга. – Братья наши всеми мерами стараются опровергать вредное учение – есть книги полезные!
– Вы говорите как автор, почтенный отец, – сказал Рангони. – Но для нас было бы гораздо лучше, если бы вовсе не было ни нападений, ни отражений. Война всегда сопряжена с опасностями, и гораздо лучше мир под покровом тихого неведения. Жизнь так коротка, что людям есть чем занимать ее и без книг. Учение – наше дело, и Рим был тогда только силен, когда ученость была исключительно принадлежностью одних монастырей.
– Совершенная правда, – сказали в один голос патеры Голынский и Поминский.
– Нет сомнения, что орден ваш сильно действует в защиту власти папы, – продолжал Рангони. – Но что это поможет, когда уже и противу вашего святого ордена ополчается злой дух ереси! Ваши братья иезуиты изгнаны уже из Германии, Англии, Голландии, Франции и Швеции. В Венгрии, Богемии, Венеции также сбирается на вас гроза. Вы остались теперь только в наследственных владениях Габсбургского дома, в Италии, Испании и Польше. Не помогут перья и чернила: надобно оружие твердейшее, чтоб победить врагов и завоевать потерянное. Это ваше дело, почтенные отцы!
– Средства наши здесь весьма ограничены, – сказал ректор, – и при всей милости короля мы не можем действовать здесь так быстро и так сильно, как наши братья в других государствах. Я Сам воспитывался во Франции, в иезуитском коллегиуме и был свидетелем знаменитого торжества над еретиками, когда более 70000 сих филистимлян погибло в одну ночь, названную именем святого Варфоломея. О, сладостное воспоминание! В других странах существует святая инквизиция. Но здесь все это дела невозможные. Наши поляки любят проливать кровь в битвах, в ратном поле и не согласятся убить тайно курицы, не только иноверца. Одно имя инквизиции приводит их в негодование, и они любят погреба с вином, а не с узниками Святой Германдады. Если б эти вещи предложены были им на утверждение, то на Сейме так бы заревели "Не позволяем!", что заглушили бы не только голос усердия, но и нас самих подвергли бы опасности и возбудили бы новые расколы. Вы довольно знаете Польшу, высокопреосвященный и, вероятно, сами видите, что нам нельзя так действовать, как действуют наши братья.
– Все это правда, – возразил Рангони, – но вы должны по мере сил своих споспешествовать своим братьям в других странах. Повторяю вам, что престол Римский находится ныне в большей опасности, нежели был во время нашествия варваров. Французский король Генрих IV, принявший католическую веру при вступлении на престол, был слишком усердным протестантом и не может иметь теперь нашей доверенности. Он сам проповедует веротерпимость в своем королевстве и этим питает гидру раскола. Протестантские государи Германии заключили между собою союз на защиту учения Лютерова и послали к Генриху ландграфа Гессен-Кассельского просить помощи. Французские гугеноты уже торжествуют и разглашают, что Генрих пойдет войною на папу.
– Не опасайтесь… Наши успеют остановить его протестантский восторг, – сказал ректор. – Я получил верные известия из Парижа.
– Правда, что ваши сильно работают на западе! – сказал Рангони. – Генрих поссорился с любовницею своею, Катериною Бальсак, по случаю женитьбы с Марией Медичи. У этой оскорбленной любовницы есть брат, Карл Валуа, как вам известно, побочный сын покойного короля Карла IX: на него обращены взоры Рима и Испании.
– Итак, вам уже известно! – примолвил ректор, потупив взоры.
Рангони продолжал:
– И очень! Известно также, что герцог Лерма, первый министр испанского короля Филиппа III, готовит сильный флот и 20000 десантного войска противу Англии для уничтожения там ереси и что католическая Ирландия ожидает только высадки, чтоб взяться за оружие. Ваши братья привели весь мир в движение! Но для исполнения мудрых предначертаний надобны деньги, почтенные отцы, и святейший отец папа не имеет средств помогать в сих богоугодных предприятиях. Он поручил мне собрать добровольные приношения от всех польских монашеских орденов и велел сперва отнестись к своим любимцам, отцам иезуитам.
Все отцы иезуиты, значительно посмотрев друг на друга, потупили глаза, а ректор сказал:
– Мы не жалеем ничего для поддержания власти святого отца, и хотя орден наш беден в Польше, но мы готовы были бы отдать последнее, если б важные обстоятельства, от которых зависит участь целого христианства, не заставляли нас самих собирать теперь деньги всеми способами. Наконец приблизилась столь долго ожидаемая эпоха соединения церкви восточной с западною! Греческое исповедание, этот камень преткновения для папской власти, должен теперь сокрушиться. Мы имеем надежду, что Россия, сильная, неприступная Россия, будет папскою областию! Мы писали вам о том необыкновенном человеке, который… Но вы узнаете его сегодня и тогда решите сами, что мы должны делать, и получите полное понятие о великом усердии польских иезуитов к папскому престолу. Предприятие исполинское, пред которым все дела запада померкнут, как звезды пред солнцем!
– Итак, до вечера, – сказал Рангони. Между тем заблаговестили к вечерне; отцы иезуиты, поклонясь, вышли, а Рангони пошел в свои комнаты отдохнуть после дороги.
* * *
Мрачные облака покрывали небо; темно и пусто было на львовских улицах; ветер свистел между высокими зданиями иезуитского коллегиума. Патер Савицкий поспешно шел вдоль монастырской стены с одним человеком, закутанным в длинный плащ, и чрез калитку церковной ограды взошел на кладбище.
– Осторожнее, сын мой, чтоб в темноте не наткнуться на какой-нибудь памятник суетности человеческой, – сказал патер Савицкий, взял спутника за руку и осторожно провел его между надгробными камнями к углу коллегиума, выдавшемуся на кладбище. Отворив ключом двери, патер Савицкий вынул из-за пазухи потаенный фонарь, поставил на лестнице, запер двери и стал спускаться по ступеням, сказав: – Смелее, сын мой! Ты хотя воспитан здесь, но не знаешь этого отделения дома. Сюда открыт вход немногим, даже из братии.
– Кажется, здесь архив общества! – примолвил спутник.
– Да, да, архив, – сказал вполголоса и с улыбкою патер Савицкий. – Архив, где погребаются живые тайны. Вперед, вперед!
Спускаясь с лестницы, они шли низким и узким коридором, по обеим сторонам которого были небольшие железные двери. Коридор был усыпан песком, чтоб не слышно было шагов проходящих. Сперва все было тихо, но вдруг послышалось бряцание цепей за одними дверями и в другом месте раздался глухой стон. Спутник патера Савицкого остановился. Патер, шедший впереди, приставил фонарь к лицу своего спутника и сказал тихо с улыбкою:
– Тише, тише! это архив, архив! Чего ты испугался? Далее, вперед!
В конце коридора находилась лестница. Патер взошел на нее, отворил двери, и они вышли в пространный коридор, который был известен спутнику патера и принадлежал к той части здания, где находились жилища старшин, приемные комнаты и библиотека.
– Ты слышал стоны и звук цепей, сын мой, – сказал вполголоса патер Савицкий. – Помни, что каждый орден, каждое сословие имеют свои законы и правила, которых исполнение влечет за собою награду, а нарушение подвергает казни. Первое преступление у нас есть – нескромность! Мы силою никого не принуждаем вступать в связи с нами, но, если кто добровольно прибегнет к нашему покровительству и, воспользовавшись нашею снисходительностью, изменит нам, тот должен пенять на себя, когда его постигнет справедливое мщение. Ты понимаешь меня, любезный сын!
Патер Савицкий ввел своего спутника по лестнице в верхнее жилье, отворил ключом небольшие двери и чрез темный коридор провел в библиотеку. Здесь светилась лампада. Патер погасил свой фонарь, постучался в дверь, которую тотчас отперли, и вошел с своим спутником в кабинет нунция.
Рангони сидел на софе перед столиком рядом с отцом ректором. По обеим сторонам на стульях сидели те самые отцы иезуиты, которые были с ним в библиотеке. Духовник нунция, итальянский монах отец Луппо, находился также в сем собрании. Спутник патера Савицкого сбросил с себя плащ, поклонился собранию и остановился на средине комнаты. Нунций указал ему на порожний стул, и он сел противу стола. Патер Савицкий также занял свое место возле духовника нунциева. Рангони смотрел пристально на молодого человека, приведенного патером Савицким, и наконец сказал:
– Почтенные отцы рассказали мне чудную историю вашей жизни. Но это дело такой важности, что мы вполне должны удостовериться в справедливости всего сказанного вами, прежде нежели примем меры к поданию вам помощи.
– Я сын Московского царя Иоанна Васильевича, единственный законный наследник престола, похищенного Борисом Годуновым, – сказал Лжедимитрий. Это был он.
– Но чем вы докажете это пред светом, когда пожелаете открыться? – спросил Рангони.
– Приметами наружными, известными многим; завещанием спасителя моего, доктора Симона, хранившимся у чернецов русских в Польше, вот этим крестом, данным мне при крещении боярином Мстиславским, и наконец свидетельством многих бояр московских, – отвечал Лжедимитрий.
– Итак, вы имеете уже связи в Москве? – спросил Рангони.
– Со многими знаменитыми родами, которые только ожидают моего пришествия в Россию, чтоб действовать в мою пользу, – отвечал Лжедимитрий.
– Вам предстоят труды неимоверные, величайшие опасности, препятствия необыкновенные! Рассудили ли вы, сын мой, о том, что вы должны преодолеть для достижения своей цели? – сказал нунций.
– Цель моя – благо миллионов людей, итак, я не должен даже помышлять о личной опасности, о трудах, – сказал Лжедимитрий. – Препятствия устранит Бог, поборник правого дела. Вы не знаете русского народа, почтенные отцы, если сомневаетесь в успехе моего дела. Привязанность к царской крови сильнее в нем всех других душевных ощущений, и мне стоит только открыться, чтоб возбудить народ против похитителя. Но Борис царствует, имеет в руках сокровища, может казнить и миловать, итак, нет сомнения, что в начале он будет иметь защитников, которые станут смущать народ и войско и представлять меня обманщиком. Это неминуемое следствие первого преступления Годунова и единственная его опора. Для этого мне надобно также войско и деньги, чтоб силе противупоставить силу. Но первая моя победа над войском Борисовым предаст мне Россию. Лишь только развеется победоносная хоругвь царская на земле русской и раздастся имя царевича Димитрия Ивановича, потомка Рюрикова, спасенного чудным промыслом от убиения и пришедшего миловать детей своих, мечи русские опустятся и сердца обратятся ко мне с любовью и с ненавистью к Годунову. Русские не станут сражаться противу сына своего царя. Я прошел Россию вдоль и поперек и прислушивался к общему мнению. Одно слово о царевиче Димитрии приводило добрых россиян в умиление. Верьте мне, почтенные отцы, что успех будет несомнителен, если только я появлюсь в России с войском!
– Сколько, думаете вы, надобно вам войска? – спросил Рангони.
– Успех зависит более от силы нравственной, – отвечал Лжедимитрий. – Если святейший отец папа, король Польский и другие государи признают меня законным наследником русского престола и несколько знаменитых польских панов захотят соединиться со мною, тогда и русские бояре не станут сомневаться в том, чему поверили коронованные главы и вельможи вольного народа, тогда и Годунов потеряет надежду… В таком случае довольно тысяч пяти.
– Очень хорошо обдумано, если только расположение умов в России таково, как вы говорите, – возразил Рангони, – но исполнение вашего предначертания не так легко, как вы полагаете. Папа не может помогать никому, кроме католика, и в делах католической державы. Россия поныне не принадлежит к западной иерархии!
– Я торжественно обещаю принять римско-католическую веру и употребить все зависящие от меня средства к соединению в моем государстве восточной церкви с западною, – сказал Лжедимитрий. – Помните, что я ваш воспитанник, почтенные отцы!
– Вот это другое дело, – возразил Рангони.
Лжедимитрий вскочил со стула, бросился на колени пред нунцием, поцеловал его руку и сказал умоляющим голосом:
– Помогите мне овладеть русским престолом, моим наследием, и я клянусь вам, что святейший папа не будет иметь ревностнейшего поборника! Я обещаю обратить Россию в католическую веру, позволить отцам иезуитам завести повсюду свои коллегиумы, стану платить десятину от всех доходов Римскому престолу и воевать, с кем захочет святейший отец. От вас зависит участь моя и спасение миллионов людей! С благословением святейшего отца я устремлюсь, подобно Давиду, на нового Голиафа и повергну его к ступеням Римского престола, долженствующего вознестись превыше всех престолов земных! Тогда власть папы будет простираться от пределов Китая до берегов мексиканских, и сильное Русское царство, которое сама природа поставила на страже между Европою и Азией, сокрушит всех отступников от римской веры и заставит весь Восток признать власть папы. Ваше преосвященство будете первым архиепископом, первым кардиналом Московским и приобретете на земле славу мирного завоевателя царства, а на небеси – награду апостольскую! Все духовные имения отдаю вам и отцам иезуитам, долженствующим насаждать вертоград новой веры… Я буду только исполнителем вашей воли. Все это готов утвердить клятвою и подписью… Подпишу кровью моею!
– Довольно, довольно, встаньте, принц! – сказал восхищенный Рангони. – Вот вам рука моя и обещание употребить все зависящие от меня средства, чтоб склонить святейшего отца и Сигизмунда признать вас царем и помогать вам. Этого мало: буду стараться подвигнуть за вас целую Европу на Россию! Вам, почтенные отцы, предстоит труд найти принцу помощников между польскими вельможами. Я думаю, что это будет не так трудно. Приманка – слава, почести, богатства!
– Царевич уверен в нашей к нему преданности, – сказал отец ректор. – До сих пор мы не отказывали ему ни в советах, ни в помощи.
– Я жил вами и умру за вас, – отвечал Лжедимитрий. – Иезуитский орден – мое семейство!
– Когда же вы думаете начать действовать? – спросил Рангони.
– Это зависит от вас, – отвечал Лжедимитрий. – Плод созрел!
– Как вы полагаете открыться, принц? – спросил нунций.
– Это предоставьте мне, – отвечал Лжедимитрий. – В детстве моем я нашел одного польского дворянина моих лет, который так похож на меня лицом, что даже школьные наставники мои в Гащи часто ошибались и принимали одного за другого. Он назывался Иваницким. Я принял его фамилию и под этим именем известен в Польше. В России я носил одежду русского монаха и известен под именем Григория Отрепьева. Кончив службу мою при посольстве Льва Сапеги, я вступил в дом князя Адама Вишневецкого под прежним прозванием Иваницкого и приобрел его дружбу и уважение. Теперь я возвращусь к нему и открою мое происхождение. В доме находится духовник Иезуитского ордена патер Грубинский. К нему я должен иметь письмо от вас, почтенные отцы. Прочее улажу я сам.
– Поступайте, как вы почитаете лучшим, – возразил Рангони. – На первый случай обещаю вам 50000 злотых, из особенных сумм, данных мне святейшим отцом на непредвидимые издержки.
– Казна наша открыта для вас, принц, если только святейший отец благословит ваше предприятие, – сказал отец ректор.
– Я вам обещаю употребить в вашу пользу всю мою доверенность у короля, – сказал патер Голынский, духовник королевский.
– А я все мои связи с польскими вельможами, – примолвил проповедник Скарга.
– Знаменитый воевода Мнишех может быть вам весьма полезен, – сказал патер Савицкий. – Мы легко можем снискать для вас приязнь и помощь этого вельможи.
– Можно будет также побудить всех воспитанников наших из лучших фамилий присоединиться к вам для утверждения католической веры, – примолвил патер Черниковский.
Лжедимитрий был в восторге; он встал и, поклонившись нунцию, сказал:
– Отныне – я царь Московский! Ваша помощь и это оружие (при этом он ударил по сабле) при благословении Божием проложат мне путь к престолу. Представитель римского престола! примите первую покорность Московского государя!
Нунций также встал с своего места, благословил Лжедимитрия и сказал:
– Отныне начинается соединение церкви восточной с западною! Приветствую вас, принц, и буду молить Бога, чтоб он скорее увенчал вас короною предков ваших, для блага римской церкви и счастья ваших подданных.
Патер Савицкий дал знак Лжедимитрию, что пора оставить собрание, и он, поклонясь всем, вышел из комнаты с патером.
Когда дверь затворилась, Рангони, помолчав немного, сказал ректору:
– Человек этот умен и предприимчив. От возведения его на престол Московский для Римского престола и для вашего ордена могут быть пользы неисчислимые. Чувствую всю мудрость ваших предначертаний, но предвижу много затруднений. Многие ли поверят его чудесной истории? Признаюсь, мне самому она кажется весьма и весьма сомнительною. Не подражание ли это истории того Лжесебастиана, который появился в Португалии при покойном короле Филиппе II? Вы помните, чем кончил этот Себастиан? Позорною смертию, хотя и поныне неизвестно, истинный ли он был король или обманщик. Каким образом вы, почтенные отцы, отыскали этого человека? Тут много непостижимого!
– Что нужды, где бы ни отыскали, но вы видели человека умного и решительного, обещающего то, о чем хлопотали напрасно столько веков, – сказал ректор. – Видите ли, высокопреосвященный, что наши враги напрасно упрекали польских иезуитов в бездействии, в слабом усердии к распространению веры? Видите ли, что судьба послала нам человека, который предает нам не одну свою. душу, но целое царство! Может быть, и надлежало употребить некоторые старания к открытию такого чудного человека… но… обстоятельства и события в России… много благоприятствовали. – Ректор остановился.
– Понимаю, понимаю! – примолвил Рангони. – Есть тайны вашего ордена, которых не должно проникать. Вы правы: какое дело до средств, были бы последствия благоприятны. Довольно! Я признаю этого молодого человека царевичем Московским. Завтра поговорим, что должно предпринять, а теперь прощайте!
* * *
Патер Савицкий, проводив Лжедимитрия тем же путем, простился с ним при последних дверях. Одушевленный сладкими надеждами, Лжедимитрий радостно шел чрез кладбище. Тучи между тем рассеялись, и полная луна украшала небесный свод. Лжедимитрий, поворачивая за угол церкви, приметил женщину, стоявшую возле надгробного памятника. Она была в белом платье, и длинное белое покрывало ниспадало на лицо ее. Лжедимитрий остановился. Женщина скорыми шагами подошла к Лжедимитрию, отбросила покрывало, и ужас проник его до глубины сердца: волосы поднялись дыбом, трепет пробежал по всем членам, смертная бледность покрыла лицо, уста посинели, и он замирающим голосом воскликнул:
– Калерия!
– Так, это я, – сказала женщина тихим и протяжным голосом, – это я, убиенная тобою, поверженная в волны Днепра за любовь мою, за мою слабость! Гнусный обольститель, изверг, чадоубийца! И ты думал избегнуть казни небесной, забыть свое ужасное преступление и наслаждаться плодами своего злодейства! Нет! преступление твое и казнь предначертаны на небесах! Видишь ли эту полную луну: она была безмолвною свидетельницею твоей адской злобы в ту ужасную ночь, когда ты, подобно Иуде и Каину, изменил клятве и погубил кровь свою… Эта кровь будет по капле падать на твое каменное сердце, источит его, прольется ядом по твоим жилам… Убийца… Душегубец!
– Калерия, сжалься надо мною! – воскликнул Лжедимитрий в ужасе, задыхаясь от страха.
– Сжалиться над тобою! – сказала женщина протяжно. – А знал ли ты жалость, когда повергнул в Днепр любящую тебя жену с плодом любви твоей?.. Нет, злодей, я отмщу тебе… не за себя, но за невинную жертву твоей злобы. Я обнаружу тебя пред светом. Знаю все твои замыслы! Ты хочешь овладеть престолом русским, возжечь пламень мятежа в России, истребить в ней православие… Ты называешь себя царевичем Димитрием! Гнусный самозванец, подлый обманщик! Ты ли смеешь называться царским сыном? Доблести твои – смелость разбойника и бесстыдство предателя. Я открою миру великую тайну, заставлю говорить эти стены иезуитского монастыря, где куют цепи на Россию. Бог праведен и не допустит торжествовать злобе и обману… Видишь ли это железо? (Женщина обнажила кинжал.) Ты заплатишь мне кровью за душегубство. Я буду невидимо следовать за тобою и, вооруженная местью Бога, приготовлю тебе достойную участь, обнаружу злодея!
– Калерия! – воскликнул Лжедимитрий. – Сжалься надо мною! – Но он не мог долее выдержать этого ужасного испытания: силы его оставили, рассудок помрачился, и он без чувств упал на землю.
Патер Савицкий, отпустив Лжедимитрия, стоял у окна в коридоре и провожал своего питомца глазами, он видел встречу его с женщиною и, приметив, что она заграждает ему путь, сошел вниз и вышел на кладбище. Женщина, увидев патера, скрылась за углом церкви, и Савицкий нашел Лжедимитрия без чувств. С трудом дотащил патер своего питомца до дверей, ведущих в коридор, и вызвал патера Черниковского, и этот пособил ему привести в чувство Лжедимитрия. Обстоятельства не позволяли ему показываться в монастыре, и Савицкий скрыл больного в своей келье.
ГЛАВА II
Болезнь. Великая тайна обнаруживается. Благополучное начало. Гордость в нищете.
Брацлавском воеводстве на Украине жительствовал польский вельможа князь Адам Корибут-Вишневецкий, потомок царственного рода Гедиминова, в собственном городе Брагилове, над рекою Ровом. В замке его собирались отважные юноши на военные игры, псовую охоту и для наслаждения приятною беседой вельможи и его семейства. Блистательные его пиры, на которые приезжали знатные вельможи из отдаленных провинций, славны были в целой Польше. Он не только имел укрепленные замки, но и обширные крепости, и по обычаю, равно как по обязанности магнатов украинских, содержал на своем иждивении около 2000 человек воинов для защиты границ от набегов крымских и буджакских татар. Дворскую прислугу князя Адама Вишневецкого составляли, по тогдашнему обычаю, не только бедные дворяне, но и юноши богатых родов, которые отдаваемы были родителями в домы первостатейных вельмож, чтоб привыкнуть к светскому обращению, обучиться военному ремеслу и заслужить покровительство вельможи и его многочисленных друзей и родственников. Благородные юноши любили лучше проводить молодость свою при дворах знатных панов, нежели при дворе королевском; ибо в доме члена аристократической республики каждый из них пользовался хотя мечтательным, но приятным равенством и зависел от воли одного, а не от прихотей многих панов, окружающих короля. Более пятидесяти благородных юношей находились при дворе князя Адама: они беспрерывно упражнялись то в верховой езде, то в стрелянии в цель из ружей и пистолетов, то в примерных битвах обучались владеть искусно саблею и копьем. За столом и в зимние вечера они шутили и забавлялись один над другим, увеселяя своим остроумием важного своего мецената. С утра до ночи они были в латах, с оружием или на коне. Но самое приятное занятие для молодых людей была звериная ловля. Они настигали на конях серн и лисиц, ловили их на бегу арканами, убивали копьями или травили собаками. Смело устремлялись в медвежью берлогу с рогатинами и бердышами и после жестокой борьбы с разъяренным зверем умерщвляли его холодным оружием. Сам князь управлял военными занятиями и охотою, награждал смелых и искусных, наставлял и ободрял неопытных. Сия военная жизнь укрепляла тело и возвышала мужество надеждою на собственную силу и искусство. Каждый польский дворянин долженствовал быть воином по вкусу и необходимости. Школьное воспитание, а особенно познание древних языков, истории и прав отечественных составляли также обязанность каждого дворянина, которому по выборам открыты были все места в республике. Познания, мужество и искусство в военном деле почитались тремя гражданскими добродетелями, которые основывались на одной главной добродетели: любви к отечеству. Таково было польское дворянство в XVI и в первой половине XVII века, пока иезуиты не овладели всеми отраслями воспитания частного и общественного.
Таким образом, замок князя Адама Вишневецкого был похож более на двор феодального герцога средних веков, нежели на дом гражданина республики, хотя каждый польский вельможа называл себя равным последнему из мелкопоместной шляхты, презирая их в душе и почитая себя выше всех в государстве. Между всеми молодыми людьми, бывшими при дворе князя Адама Вишневецкого, более всех отличался неустрашимостью и искусством в военном деле Иваницкий, который, хотя слыл бедным сиротою и получал жалованье по званию старшего ловчего, но пользовался большим уважением князя, нежели знатные и богатые юноши, жившие в доме в качестве собеседников. Возвратясь однажды с охоты, князь был весьма недоволен, что охотники не убили большого медведя, за которым гонялись половину дня. За столом он был печален, тем более, что у него были гости, нарочно приехавшие на охоту. Неудача оскорбляла его самолюбие.
– Жаль, что я не взял с собою есаула моих надворных казаков Рогозинского, – сказал князь Рожинский. – Он бы не упустил медведя и один свалил бы его на землю. Этот человек мог бы устлать дорогу из Брацлава до Брагилова шкурами убитых им зверей! Такого смелого и искусного ловца я еще не видывал.
– Да если б мой Иваницкий был здоров, – примолвил князь Адам Вишневецкий, – то он сломал бы и медведя, и твоего есаула, любезный князь. Прошлой зимою он бросился один в берлогу, ударом рогатины выманил зверя из его убежища и в глазах наших вонзил кинжал в его сердце в то самое мгновение, когда медведь поднялся на дыбы, чтоб смять дерзкого охотника.
– Об Иваницком ни слова, – возразил Казановский, приятель князя Вишневецкого, – такого пламенного и смелого охотника трудно найти в целой Польше. Я был свидетелем, как он однажды бросился на коне в реку за оленем и в волнах поразил его копьем. Удалец!
– Я бы мог порассказать об нем более, – примолвил Меховецкий. – Мы с ним были охотниками в войске Запорожском, и я видел, как он в трех шагах бросился на выстрел турецкого корабельного капитана, убил его и спас жизнь кошевому атаману. Этот Иваницкий – черт, не человек!
– Храбр и умен, – примолвил почтенный старец Тарло, родственник князя Вишневецкого.
– Но каково его здоровье? – спросил князь Рожинский.
– Очень плохо, – отвечал князь Вишневецкий. – Он ездил по своим делам в Львов и там заболел. Пооправившись, он возвратился ко мне немедленно, но в совершенном изнеможении. Стараниями моего медика он стал укрепляться в силах, и все наружные признаки подавали надежду, что он скоро совершенно выздоровеет, как вдруг он снова впал в жестокую болезнь. Тому недели две, как я в светлую ночь сидел на балконе, обращенном в сад; он стоял при мне, был угрюм и задумчив и беспрестанно смотрел на небо. В саду не было никого, но вдруг что-то забелелось в кустах. "Это она!" – воскликнул Иваницкий, и голова его закружилась. Он упал без чувств. Его перенесли в постелю, и медик объявил, что он одержим горячкою. Больной беспрестанно бредит о луне, о какой-то женщине… Рассудок его в расстройстве.
– Верно, несчастная любовь! – примолвил князь Рожинский.
– И я так думаю, – сказал князь Вишневецкий.
Обед кончился, и князь Адам, встав из-за стола, сел на софе с почетнейшими из гостей. В это время вошел в залу духовник князя Вишневецкого патер Грубинский, иезуит, живший в доме. На лице его видны были смущение и заботливость. Он подошел к князю и просил его выйти в другую комнату по весьма важному делу. Князь немедленно исполнил желание духовника.
– Я должен открыть вам великую тайну, князь! – сказал иезуит. – Вы знаете, что Иваницкий тяжело болен. Он посылал за русским священником, чтоб исповедаться и приготовиться к смерти, но священника не застали дома: он поехал за несколько миль к другому больному; итак, Иваницкий потребовал меня к своей постели и, исповедавшись в грехах, сказал угасающим голосом: "Умираю. Предай мое тело земле с честию, как хоронят детей царских. Не объявлю своей тайны до гроба; когда же закрою глаза навеки, ты найдешь у меня под ложем свиток и все узнаешь; но другим не сказывай. Бог судил мне умереть в злосчастии" (7). Я не смею прикоснуться к свитку, но ты, князь, должен воспользоваться правом хозяина и покровителя Иваницкого и разгадать эту тайну. Медик уверяет меня, что больной находится в здравом уме и духом спокоен. Что же это значит? Почему Иваницкий хочет быть погребенным по-царски? Какую тайну скрывает он? Может быть, она касается дел республики, королевской фамилии? Поспеши, князь, расторгни мрачную завесу!
Князь, не говоря ни слова, взял за руку иезуита и поспешно пошел в то отделение замка, где находилось жилище Иваницкого.
Бледный, с закрытыми глазами лежал он в постеле и не слышал, что происходило вокруг него.
– Иваницкий, друг мой! – сказал князь, но больной не отвечал. Князь велел позвать медика и немедленно перенесть больного в другую постелю. Приказание его было исполнено, и князь, выслав из комнаты всех, кроме иезуита, стал обыскивать постель, на которой лежал до того больной. Под волосяным тюфяком князь нашел свиток, писанный по-русски. Бумага была покрыта пятнами, и письмена уже пожелтели. Иезуит заключил из этого, что рукопись составлена была много лет пред сим. Вишневецкий поспешил в свои комнаты и, призвав в свой кабинет князя Рожинского, знающего русский язык, просил его прочесть рукопись, найденную у больного его слуги.
Этот больной слуга был Лжедимитрий, снова принявший прежнее прозвание Иваницкого и вступивший в службу князя Вишневецкого, возвратившись из Запорожья. Князь Рожинский вычитал все то, что Лжедимитрий говорил в Москве в доме Булгакова о чудесном своем спасении от злобы Годунова усердием доктора Симона и о тайном своем воспитании сперва у чернецов, а после у иезуитов. Рукопись заключалась сими словами: "Великодушная Польша дала мне убежище. В ней нашел я друзей, покровителей, помощь и любовь. Повесть о моих злоключениях известна будет после моей смерти; итак, пусть знают, что умирая, я сожалею, что не имел средств овладеть моим наследием, русским престолом, ибо чрез это лишен был возможности вознаградить моих друзей и благодетелей по их заслугам и добродетелям, возвратить Польше принадлежащие ей области и возвеличить сие государство превыше всех, как оно того заслуживает. Сожалею также, что не мог просветить моего народа и воздвигнуть в недрах моего отечества церквей католических. Но, видно, Господу Богу, попустившему умереть мне в изгнании и неизвестности, угодно было, чтоб Польша не достигла того величия, на которое и я намеревался ее возвести, и чтоб Россия в руках похитителя не знала счастья от братского союза с Польшею. Да будет так, как Богу угодно! Царевич Московский Димитрий Иванович".
– Удивительно, непостижимо, невероятно – но, быть может, и правда! – возразил князь Рожинский. – В свете столько бывает необыкновенных случаев; история представляет нам столько чудесных событий, которые почитались невероятными пред совершением оных, что и в теперешнем случае я не могу решительно объявить моего мнения, пока не буду убежден какими-нибудь ясными доказательствами во лжи или в истине.
– Пути Господа неисповедимы! – сказал иезуит. – Что нам кажется мудреным, то весьма просто, если сообразить обстоятельства и вникнуть в характер этого человека.
– Если судить о происхождении по качествам и наружности, то я не сомневаюсь, что этот человек, называющийся царевичем, истинно царского рода, – примолвил князь Вишневецкий. – Отважен, умен, красноречив (8). Он обладает даром привлекать сердца и внушать уважение к себе даже в старших. Какая разница с нашим немым шведом! (9) Но этот случай такой важности и дело кажется мне столь невероятным, что я никак не могу решиться поверить.
– Повторяю: пути Господа неисповедимы, – возразил иезуит. – Я не только не сомневаюсь, но, напротив, вижу в этом деле явное покровительство неба Польше и знаменитому роду князей Вишневецких.
– Пойдем к больному, – сказал князь Рожинский.
– Пойдем и порасспросим, – примолвил князь Вишневецкий, и они все трое вышли из комнаты.
Больному сделалось лучше от лекарства, которое медик дал ему после того, как его перенесли на другую постелю. Уже было около семи часов вечера. Больной приветствовал князей и поблагодарил Вишневецкого за попечение об нем и вообще за все милости, примолвив:
– Сожалею, что только одними словами могу изъявить вам мою благодарность!
– Как вы себя чувствуете? – спросил князь Вишневецкий.
– Лучше, гораздо лучше. Сегодня мне было так дурно, что я думал испустить последнее дыхание. Я впал в забвение и, проснувшись, почувствовал, будто камень свалился с сердца и будто пламя, сожигавшее мозг мой, внезапно погасло. Мне так легко, что я бы немедленно встал, если б имел силы.
– Помните ли, что вас перенесли на другую кровать? – спросил князь Вишневецкий.
– Это я вижу, но не помню, – отвечал больной.
– Я сам был при этом, как вас переносили, и в прежней вашей постеле нашел рукопись, которую мы прочли вместе с отцом иезуитом и князем Рожинским, – сказал князь Вишневецкий.
– О, я несчастный! – воскликнул больной и закрыл лицо руками.
– Почему же несчастный? – спросил князь Вишневецкий.
– Одна неизвестность скрывала меня от злобы и гонений похитителя моего престола Бориса Годунова, – сказал Лжедимитрий. – Но если тайна обнаружится, погибель моя неизбежна. Меня могут выдать по требованию союзника Польши!
– Выдать? – воскликнул князь Рожинский. – Кто осмелится выдать вас? Вы находитесь в стране, которая никогда не отказывала в пристанище несчастным, какого бы они ни были звания, если только вели себя прилично. Вы же имеете даже заслуги в республике, приобрели любовь, уважение. Вас не выдадут!
– Никто не смеет нарушить вашего спокойствия в моем доме, – примолвил князь Вишневецкий. – Это святилище, покровительствуемое законами и силою оружия. Вы бы нашли даже защитников и помощников, если б могли удостоверить нас в истине того, что написано в свитке.
– Чем я могу вас удостоверить? – сказал жалостно Лжедимитрий. – Бог, поборник невинно угнетенных, внушит вам веру, если признает это благом. В платье моем зашиты письма матери моей, царицы, и выпись примет, которые представлены были Годунову после розыска о мнимом моем убиении. Вы увидите на мне все приметы, а вот крест, данный мне при крещении боярином Мстиславским. Впрочем, есть люди, которые знали меня в детстве в Москве и в Угличе; есть свидетели, которые видели меня после. Все это обнаружилось бы, если б я смел открыться, а между тем прошу вас удостовериться по приметам.
Князь Вишневецкий выпорол немедленно бумаги из одежды Лжедимитрия и поверил приметы. После того он вежливо поклонился прежнему своему слуге и в безмолвии вышел из комнаты, пригласив с собою иезуита и князя Рожинского.
Возвратясь в кабинет, князь Вишневецкий сказал:
– Что вы теперь думаете, почтенные господа?
– Все сомнения решены, – сказал иезуит. – Если б можно было обманывать в этом деле, почему же из многих миллионов людей никому не пришла мысль присвоить имя, с которым сопряжено столько знаменитости и столько опасностей? Как возможно, чтоб такие приметы, как, например, одно плечо короче другого и эти две бородавки, были делом одного случая? Этот крест, эти письма матери, все удостоверяет меня, что это истинный царевич. И какая слава для рода князей Вишневецких, когда человек, бывший в их доме слугою, воссядет на престол! Сколько выгод для Польши и для католической веры! Вы видели в рукописи, какими чувствами одушевлен этот благородный изгнанник; как он жажадет возблагодарить нашему отечеству за гостеприимство, а своим благодетелям за милости! Эти чувства уже показывают царскую кровь. Одним словом, я уверен в истине его показаний.
– И я также! – сказал князь Рожинский. – А если б и сомневался, то должен верить для блага моего отечества и пользы религии.
– Что же мне должно начать в этом важном деле? – спросил князь Вишневецкий.
– Оказывать все почести, приличные его роду, дать знать о сем королю, объявить всем вашим родным и знакомым и предоставить Богу довершить остальное, – сказал иезуит.
– И я так думаю, – примолвил князь Рожинский.
– Да будет так, – сказал князь Адам Вишневецкий, вышел в другую комнату и, велев позвать своего маршала, возвратился в кабинет.
Когда явился маршал, князь Вишневецкий сказал ему:
– Господу Богу угодно было открыть нам важную тайну о происхождении того человека, который был известен нам под именем Иваницкого. Он сын царя Московского Димитрий Иванович, которого поныне почитали убиенным. Перенесите его в мои парадные комнаты, отрядите нужное число слуг, дайте ему для употребления мою лучшую серебряную, вызолоченную посуду; поставьте почетный караул из моих гайдуков в передней его комнате, выберите для него лучшую мою одежду и скажите всем моим слугам и приятелям, живущим у меня в доме, чтоб обходились с ним с величайшим уважением и не называли его иначе, как царевичем. Слышите ли?
Маршал остолбенел и не мог промолвить слова от удивления.
– Извольте идти к делу, – примолвил князь Вишневецкий, – и не удивляйтесь чудесам промысла Господня. Вы должны быть беспрерывно при царевиче и исполнять все его приказания. Когда все будет устроено, дайте мне знать, а завтра поутру попросите у него позволения, чтоб я мог явиться к нему со всею моею свитою для принесения ему поздравлений и засвидетельствования почтения. Повторяю: обходитесь с ним так, как должно с особами царского рода.
Маршал поклонился и вышел.
Вишневецкий нарочно остался в кабинете около получаса, чтоб дать распространиться этой вести в доме. Наконец он вошел в залу, наполненную гостями и всеми благородными жителями его дома. Лишь только князь вошел в двери, все устремились к нему навстречу.
– Господа! – сказал князь. – Вы уже знаете о необыкновенном явлении в моем доме. Тот, который заслужил любовь нашу своим поведением (10) и отличался необыкновенной ловкостью в упражнениях воинских, ныне вышел из круга равенства, связующего братским узлом польское шляхетство. Царевич Димитрий, воспитанный в нашем отечестве, принадлежит ему духом и склонностями, но он рожден повелевать миллионами людей, составляющими обширное государство Московское. Уважим знаменитое его происхождение в самом несчастии и отныне окружим его должными ему почестями, защищая от сильного врага, который, похитив его престол и покусившись уже на жизнь его, вероятно, и теперь захочет погубить свою жертву. Не знаю, что сделает король в его пользу, но я, в качестве вольного гражданина республики, объявляю, что готов всеми моими средствами защищать несчастную отрасль царского рода. Я надеюсь, господа, что вы поможете мне; ибо где надобно мужество и великодушие, там не нужно ни просить, ни убеждать польских дворян.
– Да здравствует царевич Димитрий! – воскликнули все присутствующие.
– Завтра в девять часов утра прошу вас, господа, собраться в эту залу в лучшем вашем убранстве. Мы пойдем вместе к царевичу с изъявлением нашего уважения. Гордость ваша не может оскорбляться оказанием почестей несчастному; напротив того, я думаю, что это возвысит нас в глазах всех великодушных людей; ибо не лесть и не выгоды, но бескорыстная жалость к злополучию и уважение к высокому происхождению руководствуют нами. – Сказав сие, князь откланялся собранию и отправился в свои внутренние комнаты. Гости и домашние разошлись, разговаривая между собою о сем необыкновенном происшествии и любопытствуя знать подробности.
На другой день князь Адам Вишневецкий пошел в комнаты Лжедимитрия с гостями своими и домашними; все они одеты были в богатые бархатные и суконные кунтуши, парчовые и атласные жупаны, опоясаны персидскими золототкаными кушаками, с саблями, оправленными в золото и серебро. В средней зале гайдуки князя Адама удержали своего господина, объявив, что царевич запретил впускать к себе без докладу. Это несколько удивило князя, и он значительно посмотрел на Рожинского. Князь Адам велел доложить о себе, и маршал, возвратясь, сказал, что царевич еще не одет и просит подождать. Князь Вишневецкий едва не оскорбился этим высокомерным поступком своего гостя, но князь Рожинский усмирил его негодование, сказав:
– За что ты гневаешься? Вчера он был твоим слугою, а сегодня он сын царский и должен соблюдать приличия. Это еще более убеждает меня, что он истинный царевич.
Вдруг дверь отворилась, и служитель объявил громогласно, что Московский царевич Димитрий Иванович просит благородное шляхетство пожаловать к нему в приемную залу. Лжедимитрий одет был в великолепное польское платье и сидел в креслах возле стола прямо противу дверей. Он привстал с кресел, отвечал легким поклоном на поклоны вошедших панов и снова сел, не прося других садиться. Князь Адам выступил на средину комнаты, снова поклонился и сказал:
– Царевич! Когда вы, скрывая свое происхождение, были нам равным, вы и тогда заслуживали нашу доверенность. Ныне несомненными доказательствами вы убедили меня, что вы истинный царевич Московский. Примите от меня и от друзей моих первое поздравление и будьте в доме моем полным хозяином, как в своих царских чертогах. Мы составим почетную стражу вашу, пока Богу угодно будет окружить вас вашими подданными. Приветствуем вас как союзника польского народа, как доброжелателя нашего, и молим Бога, чтоб допустил нас в часы мира и веселия воскликнуть в Москве: да здравствует царь Димитрий Иоаннович!
– Да здравствует! – повторили присутствующие. Лжедимитрий отвечал:
– Князь Адам! Вы сделали для меня много, но еще более сделали для человечества, для Польши и для России, объявив себя другом моим и поборником истины. Имя ваше дойдет со славою до позднего потомства как имя великодушного друга несчастного царя. На троне, может быть, я не буду уметь различить лицемерия от усердия, ибо и мудрейшие цари в этом ошибались. Но теперь, в злосчастии, сердца для меня открыты, и я читаю в них благородные ощущения. Велик Господь в казни и милости! Он испытал меня тяжкими несчастиями, но заря его благодати для меня уже воссияла в великодушии польского народа. Надеюсь, что Господь Бог возвратит мне скипетр, похищенный у меня рукою убийцы! Но если мне суждено обладать царством Московским, то я и тогда не буду в состоянии вознаградить вас, князь Адам, за ваше великодушное дружество. Итак, предоставляю Богу излить на вас все блага, которые вы заслужили своими добродетелями!
Сказав сие, Лжедимитрий просил князя Адама и гостей его присесть, но князь, видя, что больной сделал усилие, чтоб принять гостей, и что здоровье его еще слишком слабо, откланялся и вышел. Лжедимитрий не удерживал его, но подозвал к себе Меховецкого и велел ему остаться с собою.
– Ну, что ты скажешь об этой внезапной перемене моей участи? – сказал Лжедимитрий Меховецкому, когда все вышли из его комнаты.
– Царевич! Что я могу сказать, зная вас, кроме того, что Господь Бог, сохраняя вас для царства, сохранил будущего героя, – отвечал Меховецкий.
– Благодарю за доброе мнение, – сказал Лжедимитрий. – Теперь понимаешь ли, что я говорил тебе в Запорожье? Вот тебе поприще для деятельности, славы, почестей, богатства! Само по себе разумеется, что я, нечаянно обнаружив мое происхождение и права мои на московский венец, не стану ожидать, пока его нанесет мне ветром на голову. Я сорву его с головы похитителя – или погибну! Знаю, что предприятие отчаянное, но чем более опасностей, тем более славы и наслаждений. Надеюсь, что в храбром польском народе я найду великодушных мужей, которые захотят разделить со мною опасности и славу. Ты, Меховецкий, имеешь связи и можешь мне помочь. Теперь мне надобны хотя небольшой причет царедворцев, дружина… Понимаешь? Я должен начать царствовать с той минуты, как объявил права на царство.
– Я первый твой слуга, царевич! – сказал Меховецкий. – Располагай моею жизнью и имением!
– Итак, будь первым моим сановником, – отвечал Лжедимитрий. – Облекаю тебя в звание моего канцлера. Вот тебе государственная печать царства Московского, а вот рука моя! Поздравляю вас, господин канцлер!
Меховецкий хотел поцеловать руку Лжедимитрия, но он не допустил его до того, обнял и прижал к сердцу.
– Друг мой! наедине я всегда буду с тобою тем, чем мы были в школе и в Запорожье; но при людях сан мой воспрещает мне забвение приличий. Ты должен подавать собою пример почтительности государю, к которому ты вступил в службу по желанию сердца. Между тем прошу исполнить первое мое поручение: напиши к нашим старым товарищам, Яну и Станиславу Бучинским и Станиславу Слонскому, чтоб они прибыли ко мне из Варшавы. Объяви также чрез друзей и знакомых твоих во всех концах Польши, что все русские изгнанники и беглецы, находящиеся в пределах республики со времени отца моего Иоанна или бежавшие от Годунова, могут явиться ко мне как к законному своему государю для получения прощения и на верную нам службу. Простите, господин канцлер! Медик мой предписывает мне спокойствие и уединение. Вечером прошу пожаловать ко мне. Любопытен я знать, что говорят обо мне ваши паны. Надеюсь узнать от тебя их мнение прежде, нежели явлюсь между ими.
ГЛАВА III
Посещение воеводы Мнишеха в Самборе. Знакомство с Мариною. Свидетели царевича. Старые сообщники. Предначертание кровного союза с Польшею.
Князь Адам Вишневецкий переехал с Лжедимитрием из Брагилова в другое имение свое, Вишневец, чтоб быть далее от рубежа российского, опасаясь измены или насилия от царя Бориса. Уж весть о появлении Лжедимитрия дошла до него, но он скрывал ее тщательно от народа и между тем изыскивал средства тайно избавиться от соперника, не зная подлинно, истинный ли он царевич или обманщик. Тайные розыски продолжались в России, а к князю Адаму Вишневецкому подосланы были люди надежные, которые предлагали ему целые области и замки за выдачу дерзновенного прошлеца, именующегося Московским царевичем. Благородный князь с презрением отвергнул предложение изменить гостеприимству и еще более убедился в истине происхождения своего гостя. Наемные убийцы блуждали вокруг дома, но не могли приблизиться к Лжедимитрию, который уже имел своих царедворцев, верных слуг и свою собственную дружину, слабую числом, сильную мужеством и преданностью к своему повелителю. Кроме канцлера Меховецкого, при нем были два брата Бучинские и Слонский в звании тайных секретарей. Лжедимитрий, зная, что вся сила его основана на мнении общественном, переписывался со всеми людьми, имевшими влияние на народ, и переговаривался не только со всеми вельможами польскими, но и со всеми сословиями и сектами. Уже он имел большие суммы в своем распоряжении. Иезуиты дали ему охотно взаймы денег, а кроме того, он получил большие суммы от армян-католиков и от жидов, обещая им дать позволение селиться в России. Многие знатные поляки уже действовали ревностно в его пользу, разглашали о несчастиях царевича и внушали желание присоединиться к Богом хранимому для снискания славы и богатства. Пан Ратомский, староста Остерский и пан Свирский объявили себя первыми военачальниками Московского царевича Димитрия. При нем было множество мелких русских дворян, укрывавшихся в Польше или привлеченных к нему слухами из Москвы. Знатнее прочих были два брата Хрипуновы, Осип и Кирилл, из числа пяти братьев, бежавших от опалы Бориса; Афанасий Сухочев и дворянин Иван Борошин (бывший на совещании в Москве, в доме Булгакова, когда Лжедимитрий посеял первые семена недоверчивости и междоусобия). Борошин был послан нарочно от недовольных Годуновым, чтоб проведать о царевиче. Все окружавшие Лжедимитрия были твердо убеждены в том, что он истинный сын царя Иоанна Грозного; он очаровал их силою своего красноречия и приветливостью. Почести, оказываемые Лжедимитрию знаменитейшими вельможами, князьями Вишневецкими, придавали вероятие сему событию. Но Лжедимитрий знал, что, пока Польский король не признает его царевичем, до тех пор ему невозможно будет начать действовать. Отправляя Станислава Бучинского в Краков, к нунцию Рангони, он сказал ему:
– Объяви от меня нунцию, что ничего не требую от него, только свидания с королем, на котором сей монарх должен всенародно назвать меня царевичем. Вот вся помощь, которой я прошу от польского двора и апостольского престола! Остальное довершу сам.
Ратомский и Свирский отправились на Дон и в Украину с деньгами и грамотами собирать войско и возмущать народ против Годунова. Гонцы беспрестанно скакали из Кракова в Вишневец и из Вишневца в Краков с письмами к иезуитам и от иезуитов к Лжедимитрию. Умы были в волнении: чудесная сказка занимала любопытных; честолюбию открывалось новое поприще. Все с нетерпением ожидали, каким образом король решит это дело.
Наконец Станислав Бучинский привез от короля приглашение Лжедимитрию явиться в Краков. Нунций и иезуиты убедили короля повидаться с царевичем и лично переговорить с ним о делах веры и державства. Лжедимитрий был вне себя от радости и уже почитал успех несомненным. Князья Вишневецкие не менее радовались благоприятной участи своего гостя и решились сопровождать его. Тесть Константина Вишневецкого, любимец короля знаменитый воевода сендомирский Юрий Мнишех, пригласил царевича с своими родственниками заехать к нему по дороге в Самбор и отдохнуть несколько дней в его доме.
В конце апреля 1604 года Лжедимитрий отправился в путь с многочисленною своею свитою. Он ехал верхом перед своею дружиною, а позолоченная карета, запряженная восемью белыми конями, следовала за ним. В ней ехал иезуит патер Грубинский. Лжедимитрий садился в нее тогда только, когда надлежало проезжать чрез какой город или селение. Ряд повозок с служителями и вещами и заводные лошади занимали большое расстояние по дороге. Шествие было истинно царское. Князья Вишневецкие отправились в Самбор прежде.
Богатый и знатный воевода Мнишех жил как удельный владетель в Самборё. Он вознамерился встретить Московского царевича с царскою пышностью. Несколько сот человек надворной его гвардии в– богатой одежде, с знаменами, на которых вышит был герб Мнишеха, построились в два ряда в аллее, ведущей к замку. Двадцать трубачей на конях заняли место перед каретою и заиграли воинский марш. В городе звонили во все колокола и в замке стреляли из пушек. Возле крыльца стояла многочисленная прислуга воеводы, а на крыльце – он сам с сыном, с князьями Вишневецкими и с множеством окрестных дворян. Дамы смотрели из окон второго жилья. Когда карета остановилась у крыльца, маршал двора воеводы Мнишеха отпер дверцы; двое молодых дворян подхватили под руки Лжедимитрия, а сам воевода встретил его на нижних ступенях и просил в комнаты, где приготовлен был завтрак.
После первых приветствий воевода просил позволения у своего гостя представить ему супругу свою и дочь; но вежливый искатель Московского венца на это не согласился и объявил желание засвидетельствовать почтение дамам в их комнатах. Воевода проводил его на женскую половину дома.
Супруга воеводы окружена была множеством женщин, женами соседей, прибывшими из любопытства, чтоб видеть Московского князя, девицами, дочерьми небогатых дворян, по обычаю польскому воспитанными в доме вельможи, и подругами дочери его, панны Марины, равными ей родом. В сонме красавиц Марина отличалась необыкновенною приятностью лица, величественною осанкою и богатством нарядов. Лжедимитрий, поклонясь хозяйке, смотрел с удовольствием на собрание прелестных, и вэор его остановился на прекрасном лице Марины, которая с любопытством и смелостью всматривалась в черты лица его. Маршал придвинул кресла, и Лжедимитрий сел между супругою воеводы и дочерью. Воевода Мнишех стоял позади кресел Лжедимитрия.
– Не только мужья наши и братья желают вам успеха, царевич, – сказала супруга воеводы, – но и мы, женщины, принимаем вашу сторону и молим Бога, чтоб он скорее прекратил ваши несчастия и возвратил вам престол ваших предков.
– Воспитанный в Польше, я бы не знал ее, если б мог думать, что благородные польки не принимают участия во всем, что справедливо, великодушно и полезно для человечества и Польши, – отвечал Лжедимитрий.
– Какая радость будет для матери вашей, царицы, когда она увидит вас после столь долговременней разлуки, после стольких бедствий! – примолвила супруга воеводы.
– Она недавно видела меня, когда я в одежде инока бродил по России, чтоб узнать расположение народа на мой счет, и в заточении своем благословила меня на великий подвиг, – отвечал Лжедимитрий.
– Говорят, что у вас в России все вообще женщины проводят жизнь в заточении домашнем, которое иногда строже монастырского, – сказала супруга воеводы. – Вам, царевич, привыкшему в Польше к свободному обращению с женщинами, и притом такому любезному рыцарю, как вы, конечно, будет неприятно это затворничество. Вы должны отменить это обыкновение, и мы просим вас за наших несчастных сестер россиянок.
Девицы улыбались и посматривали одна на другую.
– Нет сомнения, что затворничество женщин есть верный признак варварства, – отвечал Лжедимитрий, – и я, предпринимая множество перемен в моем отечестве, первое внимание обращу на улучшение участи прекрасного пола. Но, имея право волею моею дать свободу женщинам в России, я не в силах сделать их столь любезными и милыми, как польки. Для перевоспитания моего народа надобно много времени! Однако ж я думаю, что прекрасный пол будет гораздо переимчивее и понятливее в великой науке любезности, нежели мужчины. Для этого стоило б, чтоб прелестные польки, движимые любовью к человечеству, составили союз между собою и для преобразования моих россиянок отправились в Москву. Этот поход был бы столько же знаменит, как и походы крестовые, – примолвил он с улыбкою.
– Но найдем ли мы там таких вежливых рыцарей, как царевич Московский? – сказала панна Марина.
– Без сомнения, если в числе преобразовательниц будут такие прекрасные и умные дамы, как дочь знаменитого воеводы Мнишеха, – примолвил Лжедимитрий.
– Вы слишком снисходительны, царевич, – сказала Марина, потупив взоры.
– Скажите, справедлив, – возразил Лжедимитрий.
В это время доложили Мнишеху, что обед готов; воевода известил о том Лжедимитрия и просил удостоить его чести обедать с ним вместе за общим столом. Лжедимитрий, не сказав ни слова, подал руку хозяйке и повел ее в столовую залу.
Для царевича поставлены были особые кресла выше других, на первом месте. Он сел и, по обычаю царскому имея право избирать своих собеседников, просил хозяйку и панну Марину сесть по обеим сторонам его. Более ста человек обоего пола сидело за столом. Разговор обращен был на современную политику европейскую, и Лжедимитрий удивлял опытных вельмож своими суждениями о важных делах, прельщая в то же время дам своею любезностью. В конце обеда воевода вылил две бутылки вина в огромный серебряный бокал и, подняв вверх, провозгласил здоровье Московского царевича. Собеседники воскликнули "виват", и вдруг загремели звуки труб, литавр и раздались пушечные выстрелы. Царевич предложил два тоста один за другим: здоровье короля Польского и благоденствие республики; здоровье хозяйки и ее дочери как представительниц добродетелей, красоты и любезности полек. Все собеседники были в восхищении; громкие "виваты" вместе с похвалами Московскому царевичу раздавались в зале.
Русские дворяне, сидевшие за другим столом вместе с свитою Лжедимитрия и дворянами, слугами Мнишеха, утешались похвалами царевичу и его умным обращением, но вместе с тем сокрушались, что в радостном излиянии сердец не было помину о России! Привыкнув не осуждать поступков своих государей, они приписывали это неприязни поляков и молчали.
Лишь только встали из-за стола и Лжедимитрий провел обеих дам, супругу воеводы с дочерью, в залу, начальник надворной гвардии доложил Мнишеху, что за воротами замка взяты под стражу два русские монаха, которые объявили, что давно знают царевича, который был некогда их товарищем, и желают его видеть.
Русские дворяне с беспокойством поглядывали друг на друга, поляки суетились и перешептывались. Мнишех спросил Лжедимитрия, не прикажет ли он заключить этих бродяг в темницу и после допросить.
– Ты знаешь, царевич, – сказал воевода, – что Борис Годунов рассылает по Польше клеветников и изменников, которые стремятся водворить в народе недоверчивость к тебе, подтверждая весть о смерти царевича Димитрия и рассевая на твой счет оскорбительные слухи. Некоторые злодеи покушались даже на жизнь твою. Зачем в сей радостный день смущать себя видом каких-нибудь бесстыдных клеветников?
– Бог и совесть мои свидетели, и я не боюсь клеветы Годунова, презираю его угрозы и гнусные покушения на жизнь мою, – отвечал Лжедимитрий. – Всем известно, что я должен был укрываться в России от злобы его под разными именами и одеждами. Но кто осмелится обличить меня в несправедливости моего происхождения? Я царевич Московский, князь от колена предков моих (11) и законный наследник Российского престола. Никто не докажет противного: не боюсь улик – введите сюда монахов!
Безмолвие царствовало в собрании. Чрез несколько минут ввели в залу русских монахов.
– Знаете ли вы меня? – спросил Лжедимитрий грозно.
Монахи упали к ногам его, и старший из них воскликнул:
– Ты царь наш, государь Димитрий Иванович. Отец Леонид рассказал нам всю истину, и мы пришли удостовериться: тот ли называется царевичем, которого мы узнали в Москве, в доме Булгакова и проводили до литовского рубежа.
– Встаньте! – сказал Лжедимитрий. – Откуда и по чьему повелению вы пришли сюда?
– Царь Борис писал к воеводе киевскому князю Острожскому, убеждая его именем общей нашей матери, православной церкви, схватить тебя и прислать к нему, а если нельзя, то по крайней мере отыскать нас, вышедших с тобою, и уличить тебя нашим свидетельством (12). Князь отказался ловить тебя, но захотел уличить, сведав от нас, что мы знали тебя под именем монаха Григория Отрепьева. Мы отправились искать тебя, встретились с отцом Леонидом, который сказал нам: "Остерегайтесь, братья, великого греха! Тот, которого мы знали под именем Григория Отрепьева, есть истинный царевич. Я знаю это, ибо видел его приметы, но не уверен, тот ли самый, которого мы знаем, называется теперь царевичем. Идите и познайте! Ежели в лице царевича узнаете человека, с которым мы бежали из Москвы, падите к ногам его, он царь наш, а Борис – похититель престола! Вы можете верить мне, – примолвил Леонид, – ибо я ненавижу царевича за кровную обиду; не хочу служить ему и отказался от всяких с ним сношений. В нем душа Иоаннова!"
Лжедимитрий с мрачным видом слушал речь монахов и, когда они кончили, велел им выйти из комнаты.
– Видите ли, господа, к чему ведет злоба Годунова! Самые враги мои свидетельствуют в мою пользу. Истина всегда восторжествует над клеветою – и я повторяю, что не боюсь улик.
Русские дворяне обрадовались сему случаю: в их положении каждое новое доказательство в пользу царевича питало надежду возвратиться на родину и насладиться плодами своего усердия к новому царю. Поляки, приверженцы Димитрия, еще более торжествовали. Вдруг раздался шум в другой комнате.
– Пустите нас, пустите, мы его знаем! – кричали громко.
– Что там за шум? – спросил воевода. Маршал отвечал: – Два служителя твоего двора: Петровский, бывший долго в Москве и находившийся в услужении царевича в Угличе, а другой Матицкии, бывший в плену в Угличе и часто видавший царевича, просят позволения войти и поклониться ему.
– Впустите их, впустите! – сказал Лжедимитрий. Два поляка вошли в залу и в недоумении остановились перед царевичем.
– Так, это он! – воскликнул Матицкий. – Те же волосы, вот те же бородавки, нос, уста! Точно, это он, это царевич! – и с сим упал к ногам его.
– Я помню, как ненавистники рода твоего и клевреты Годунова упрекали тебя тем, что у тебя одно плечо короче другого, – сказал Петровский.
– Увидишь и это, – возразил с улыбкою Лжедимит-рий и просил воеводу и некоторых знатнейших гостей выйти с ним и с Петровским в другую комнату, где не было дам. Там он снял с себя одежду и показал правое плечо. Петровский также упал к ногам его, воскликнув: – И лицом и приметами – истинный царевич Димитрий!
Воевода Мнишех был вне себя от радости, что тот, в судьбе которого родственники его приняли такое участие, ежечасно представляет новых свидетелей знаменитого своего происхождения и уничтожает неблагоприятные вести.
Между тем Лжедимитрий, извиняясь обязанностью заняться делами, просил проводить его в назначенные для него комнаты. Мнишех сам проводил его в особый флигель, убранный на этот случай лучшими мебелями из находившихся в доме. Почетная стража стояла у дверей, и множество служителей ожидало приказаний гостя. Воевода Мнишех, повторив уверения в своей преданности к царевичу, просил его пользоваться в его доме полной властью хозяина и удалился. Лжедимитрий остался с Меховецким и Яном Бучинским.
– Государь! – сказал Бучияский, – благословение Господне явно действует над тобою. Ежедневно приобретаешь ты более друзей; тебе стоит только показаться между людьми, чтоб покорить сердца и умы! Прямой царский сын! – говорит каждый, кто только имел счастье к тебе приблизиться. Для нас, друзей твоих от юности, это истинное наслаждение: мы торжествуем твоим успехом!
– Еще мы далеки от успеха, любезные друзья, – возразил Лжедимитрий. – Что пользы в том, что меня признают тем, чем я есмь, когда оставят меня в бездействии предметом сожаления народного? Надобно пользоваться первыми порывами чувствований, и не дать простыть им. Время изглаживает все впечатления и погашает душевный пламень. Ты, любезный Меховецкий, отдал мне все свое имущество; князья Вишневецкие принесли большие жертвы; Ратомский и Свирский действуют усердно, но все это не поставило меня на такую степень, чтоб я мог состязаться с Годуновым. Мне надобно соединить участь многих знаменитых мужей в Польше с моею судьбою; надобно войти в кровный союз с республикою, чтоб она поддерживала меня, как своего члена. Я намерен просить руки панны Марины…
– Дело это так важно, что надобно обдумать хорошенько, – сказал Меховецкий.
– Должно рассчитать пользы и невыгоды, взвесить все малейшие обстоятельства, чтоб вместо облегчения в предприятии не обременить себя, – примолвил Бучинский.
– Вы знаете, что воевода Мнишех соединен узами родства с знаменитейшими родами в Польше. Король любит его, как друга. Он имеет большое влияние на дворянство, как мы видели на последнем Сейме. Богатством никто не превосходит его: он может из запасных своих сокровищ выставить в поле 10000 войска, как он сам объявил это королю во время бунта Зборовского. Чего же более надобно? Ни один немецкий князь не мог бы доставить мне столько выгод своим союзом! Что же касается до характера воеводы, то природа нарочно создала его для меня. Тщеславен, честолюбив до крайности, он все принесет на жертву для блеска и славы. В удовлетворение его желанию я надаю ему столько почетных титулов, что он не упишет их на всех стенах своего замка! Впрочем, я не хочу никого обижать и за пожертвования награжу его землями и возвращу с лихвою деньги, употребленные на вооружение. Это последнее дело! Казна московская неисчерпаема. А панна Марина? Ну, что вы скажете?
– Если воевода согласится помогать тебе всеми зависящими от него средствами, сокровищами и своим влиянием, то я согласен на этот союз, – сказал Меховецкий. – Что же касается до Марины, то правда, что она прекрасна, мила и умна, но слишком ветрена и легкомысленна, чтоб соблюдать приличия царицы Московской, которая должна быть первою затворницею в государстве. Впрочем, если ты и переменишь обычаи в Москве, то не думаю чтоб мог быть счастлив с нею в супружестве. Каждая полька привыкла быть окруженною толпою обожателей, ласкателей, слышать похвалы, нежности, любовные объяснения. Трудно будет ей отказаться от роли Венеры для роли Минервы.
– Какая мне нужда до всех этих мелочей! – воскликнул Лжедимитрий. – Здесь дело идет о пользах государственных, а не об нежностях. Пусть Марина научает светской ловкости и волокитству моих бородатых придворных, я еще буду ей благодарен за это. Только чтоб она не была ревнива – а прочее все прощу ей охотно. Любезные друзья! нет ничего несноснее и тягостнее, как излишняя любовь женщины. Я это испытал. А если к тому присоединится ревность – это настоящий ад! Прочие страсти легче можно уравновесить, а ревность неизлечима, как нарост на сердце. Но довольно об этом. Итак, вы полагаете, что в политическом отношении брак мой полезен?
– Да, если воевода захочет жертвовать всеми своими средствами, как я сказал прежде, – примолвил Меховецкий.
– Предоставьте это мне, – возразил Лжедимитрий. – В моих руках он будет самым гибким орудием. Я постигнул его совершенно. Итак, завтра же открываюсь Марине в любви моей!..
– Помилуй, государь! – воскликнул Бучинский. – Ты только сегодня в первый раз увидел ее. Поверит ли она, поверят ли родители?
– Сильные страсти зарождаются и вспыхивают в одно мгновение, – возразил Лжедимитрий с улыбкою. – Но разве не от меня зависит сказать ей что-нибудь такое, чем убеждают красавиц, что обыкновенно говорится при этих случаях. Вы еще новички в делах, господа советники мои и поверенные!
– Высшая участь – высшая и мудрость! – примолвил Меховецкий.
– Итак, ты, царевич, намерен остаться здесь некоторое время? – спросил Бучинский.
– Да, недели две, пока не уладим с воеводой и Мариною, – отвечал Лжедимитрий. – Я уверен, что она не откажет в любви царевичу Московскому, если б у него был нос на лбу и голова с пивной котел! В один день я проникнул душу панны Марины более, нежели ты, господин канцлер, зная ее от детства. Чем она легкомысленнее, тем лучше: я не люблю угрюмых или слишком нежных женщин. Сверх того, мне хотелось бы заманить с собою в Краков пана воеводу. Его присутствие в моей свите придало бы более важности появлению моему в столице Польши. Между тем, не прибудет ли кто из бояр русских? Признаюсь, из числа русских, которые теперь находятся при мне, нет ни одного, который был бы мне по сердцу. Хрипуновы весьма сомнительного характера, и я тем более не доверяю им, что из пяти братьев только двое ко мне явились. Сухачев человек простой и грубый. Ивана Борошина я знал еще в Москве; человек он неглупый, но слабодушный. Мне надобны громкие имена или железные сердца! Личное свидетельство хотя одного знатного русского вельможи было бы мне полезнее раболепства этой толпы беглецов, которые мне в тягость. Подкидные грамоты мои в Северской земле произведут свое действие. Кроме того, я писал к Ратомскому, чтоб он постарался хотя силою схватить какого-нибудь боярина и прислать ко мне. Дело кипит, и в две недели можно ожидать многого! Теперь оставьте меня одного, любезные друзья; мне надобно успокоиться и собраться с мыслями. Как смеркнется, приведите ко мне монахов, которые пришли сегодня, я хочу их допросить.
* * *
Когда подали свечи, Бучинский ввел в комнату Лжедимитрия двух монахов, находившихся под стражею, и оставил их одних.
– Прощаю вам ваши сомнения на мой счет, – сказал Лжедимитрий. – Ты, Варлаам, хотя человек умный, но не имеешь столько твердости душевной, чтоб поверить бесстрашию царевича, который осмелился явиться в Москве в одежде монашеской среди врагов и смертельных опасностей. Тебе это казалось непостижимым. Ты почитал меня только посланником Димитрия Ивановича. О тебе, Мисаил, ни слова! Тебе все кажется мудреным и непонятным! Но как ты избавился от Хлопки?
– Государь! – сказал Мисаил, – он нашел себе письменного слугу в Комарницкой волости и меня выгнал от себя без всякой награды. Я бежал в Киев и там встретился с Варлаамом. Из Киева мы перешли в Дер-манский монастырь, лежащий в поместьях князя Острож-ского, который, узнав, что мы вышли из России с монахом Григорием Отрепьевым, потребовал нас к себе в Киев и послал к тебе удостовериться, ты ли этот Отрепьев.
– Где же вы нашли Леонида? – спросил Лжедимитрий.
– В Киеве, – отвечал Варлаам.
– Что он говорил вам обо мне?
– Не смею скрыть истины пред законным моим государем, – сказал Варлаам. – Он говорил, что Россия не может быть счастливою, если ты, хотя и истинный сын Иоаннов, воссядешь на престоле, ибо сердце твое, по его словам, столь же жестоко, как и у твоего родителя. Он говорил много насчет твоего крутого нрава, называл тебя неблагодарным, но не подкрепил речей своих ни примером, ни доказательствами и в заключение сказал: "Если России и суждено еще терпеть, то пусть терпит от государя законного: тот, кого вы знали под именем Ива-ницкого и монаха Григорья – есть сын Иоаннов".
Лжедимитрий вынул несколько горстей золота из ящика и, дав монахам, сказал:
– Возвратитесь в Россию и славьте имя мое, законного вашего царя. Когда воссяду на престоле отцов моих, награжу вас по-царски и возвеличу превыше надежд ваших. Слов Леонида не открывайте: рассудок его иногда помрачается от горести. Он везде видит жестокость, где нет слабости, которой он был жертвою. Идите с миром и не бойтесь ничего. Провидение, хранящее меня, будет путеводить вас среди опасностей. Возглашайте о скором моем пришествии в Россию с любовью и милостью. Помните, что вы были первые мои сотрудники и что вас ждет первая награда, если пребудете мне верными!
Монахи удалились, а Лжедимитрий пошел в комнаты воеводы, где домашние его музыканты должны были играть концерт, а певчие петь стихи в честь Московского царевича.
ГЛАВА IV
Изъяснение в любви. Уличитель. Палач. Условия с Mнишехом.
После роскошного обеда, за которым Лжедимитрий был вежливее обыкновенного с Мариною и, подражая молодым полякам того времени, говорил в глаза ласкательства насчет ее ума и красоты, он, проводив супругу воеводы в залу, подал руку Марине и просил ее показать ему сад, примыкавший к дому. Свободное обращение обоих полов в Польше позволяло эти уединенные прогулки, особенно когда предложение сделано было явно, при родителях. Каждому было известно, что почетный гость, особенно холостой, не мог иначе обнаружить внимания к родителям, как оказанием необыкновенного уважения к их дочери. Волокитство и любезничанье с девицами почиталось тогда высшею утонченностью общежития. Молодые люди, сохраняя некоторые обычаи рыцарства, почитали обязанностью объявлять себя прислужниками избранной дамы в обществе. Из особенного предпочтения мужчины к женщине, из взаимных вежливостей никто не заключал о любви или будущем браке. Это почиталось игрою, занятием общества. Все удивлялись одному только, что Московский царевич, воспитанный в стенах монастырских, проведший жизнь в бедствиях, был так ловок и вежлив в обхождении с красавицами.
– Я вам покажу мои цветы, принц, – сказала Марина. – Я сама их насадила, сама лелею и позволяю срывать только тем, кого люблю или уважаю. Это заветные цветы!
– Цветы блаженства, если только тот может срывать их, кого вы любите! – сказал Лжедимитрий, нежно посмотрев на Марину и продолжая с нею путь к цветнику.
– Вы придаете слишком большую цену моим цветам, еще не видав их, – примолвила Марина, притворяясь, будто не поняла лестного для нее выражения.
– Какая мне нужда до цветов! – воскликнул Лжедимитрий. – Важны не цветы, но их значение. Если б горсть сырой земли означала, что вы любите того, кому позволяете взять ее в вашем саду, то я бы назвал ту землю землею блаженства.
– Вы слишком вежливы, принц!
– Не угадали моего порока, скажите: слишком откровенен и простодушен.
– Но искренность в таком умном человеке, как вы, принц, должна иметь пределы. Между хвалою и насмешкою пролегает такая неприметная черта, что ее легко переступить без умысла.
– Вы можете требовать, чтоб я удерживал в пределах мою искренность; можете повелеть, чтоб я не хвалил вас… но не можете запретить мне чувствовать, точно так же, как я не могу истребить ощущений. Закон природы сильнее законов приличия.
– Лучший истребитель – время! – примолвила Марина.
– Не всегда, – возразил Лжедимитрий. – Время изгоняет страсть из души слабой и утверждает в мощной. Верьте мне: я говорю по опыту!
– Вы, любили, принц?
– Я любил, люблю и буду любить пламенно во всю жизнь! – воскликнул Лжедимитрий и, ведя Марину под руку, он при сих словах так сжал ее, что Марина остановилась, выхватила руку и побежала в куртину, как будто за цветком. Она скрылась в кустах, а Лжедимитрий продолжал идти аллеей и, дошедши до конца ее, остановился и сел на скамье. Он сожалел, что потерял случай к объяснению, но вдруг Марина выбежала из кустов, села на скамье и, подавая ему букет цветов, примолвила с улыбкою:
– Вот мои заветные цветы! отдайте той, которую вы так пламенно любите, принц!
Лжедимитрий бросился на колена пред Мариной и, возвращая ей букет, сказал:
– Вы сами повелели мне открыться, итак, выслушайте терпеливо: я люблю вас нежно, пламенно, люблю более моей жизни, от вас ожидаю приговора моей участи и умру от отчаянья, если вы отвергнете любовь мою!
– Что это значит, принц! – возразила Марина тихим голосом. – Вы только вчера меня увидели!..
– Не вчера, но уже три года, как я увидел вас в первый раз при освящении храма в Сендомире, – сказал Лжедимитрий. – И с тех пор любовь снедает меня. Часто, не будучи примечаем вами, я наслаждался, смотря на вас во время ваших прогулок и даже в этом самом саду. Нарочно для вас я проживал по нескольку недель в Самборе, ездил в Краков, чтоб видеть вас и, принужден будучи странствовать, носил повсюду в сердце ваш образ. Так, клянусь вам, прекрасная Марина, что я в моем изгнании, в злосчастии жил только любовью и для любви! Принужден будучи скрывать мое происхождение, я не смел оскорбить вас признанием в любви в лице бедного дворянина без имени и состояния. Но теперь, когда престол Московский ожидает меня, когда Россия призывает меня на царство, я думаю, что могу открыться в любви моей и просить мою возлюбленную разделить со мною царский венец, украсить собою престол обширного царства и повелевать сердцем того, который будет повелевать миллионами людей. Прекрасная Марина! Россия у ног ваших в моем лице! Жизнь или смерть?
– Встаньте, принц, встаньте; из окон дома вас увидят в этом положении и Бог знает что подумают!
– Пусть смотрят, пусть видят! Я паду к ногам вашим пред целым миром и возглашу, что, если вы отвергнете мою любовь, я погибну!
Марина задумалась и наконец сказала:
– Вы слишком умны, принц, чтоб могли поверить мне, если б я сказала, что влюбилась в вас страстно с первого взгляда. Но я вас уважаю – и соглашусь быть вашей женою, если позволят мои родители.
Лжедимитрий поцеловал с восторгом руку Марины и воскликнул:
– Теперь только признаю, что все несчастия мои кончились! Прелестная Марина, невеста царя Московского! Тебе народ мой будет обязан своим счастием. Ты, услаждая жизнь мою на престоле в трудах государственных, будешь предметом благодарности миллионов сердец. Прекрасная и добрая царица есть милость Божия для народа и драгоценнейшее его сокровище.
Лжедимитрий встал, подал руку Марине и повел ее в дом. В безмолвии она возвратилась в комнаты. Зоркие глаза подруг Марины открыли смятение на ее лице, и она поспешила удалиться с матерью во внутренние покои. Лжедимитрий был хладнокровен по обыкновению, но в эту самую пору предлежало величайшее испытание твердости его характера. Едва он преступил чрез порог в другую залу, наполненную гостями, где находился сам Мнишех и князья Вишневецкие, как вдруг остановился и невольно вздрогнул. Он увидел человека в русском платье посреди знатнейших дворян, которые с нетерпением ожидали, чтоб он прервал молчание.
– Нет, я должен говорить с ним самим в вашем присутствии, – сказал русский и, увидев Лжедимитрия, подошел к нему, остановился и, измерив глазами, горько улыбнулся.
– Кто ты таков и как осмеливаешься предстать пред меня с такой наглостью! – сказал Лжедимитрий. – Если ты русский, как догадываюсь по твоей одежде, то как дерзнул преступить обычай твоего отечества? Пади к ногам твоего государя и проси помилования!
– Ты мой государь? – воскликнул русский надменно с презрительною улыбкою. – Разве ты забыл меня? Я, углицкий дворянин Яков Пыхачев (13), знал тебя в доме твоих родителей и принес тебе поклон от матери твоей, Варвары Отрепьевой. Перестань дурачиться, Гришка! скинь с себя этот шутовской наряд, покайся и воротись в свой монастырь. Не вводи добрых людей во искушение! Как ты смеешь думать, чтоб россияне покорились беглому монаху, расстриге Гришке Отрепьеву, преданному проклятию? Повторяю: образумься, Гришка!
Все присутствовавшие при этом необыкновенном явлении стояли в безмолвии, как громом пораженные, и все смотрели с величайшим вниманием в глаза Лжедимитрию. Но лицо его было спокойно. Он горько улыбнулся и сказал равнодушно:
– Бесстыдный лжец! Много ли заплатил тебе Борис Годунов за мою голову?
– Не царем Борисом, но совестью моею послан я уличить тебя в обмане и самозванстве! – сказал Лихачев.
Лжедимитрий, не говоря ни слова, оборотился к толпе поляков и, увидев между ими Меховецкого, бледного, с отчаянием на лице, подозвал его к себе и сказал:
– Вели заключить в темницу этого бессмысленного: он не первый и не последний продал стыд и совесть цареубийце!
– Как ты смеешь, обманщик, заключать меня в темницу! По какому праву? – воскликнул Пыхачев. – Я подданный России и гость в Польше; никто не смеет посягнуть на мою свободу!
– Потому именно, что ты подданный русский, я, царь русский, повелеваю заключить тебя в темницу. Господин канцлер, призовите стражу и исполняйте свое дело!
– Насилие! – воскликнул Пыхачев и выхватил большой нож из-за пазухи.
– Схватите убийцу! – закричал Лжедимитрий. Польские дворяне, окружавшие Пыхачева, пораженные хладнокровием Лжедимитрия и его присутствием духа, бросились на Пыхачева, опрокинули его на пол и связали кушаками. Вошедшая стража Лжедимитрия вытащила за двери несчастного, который вопиял громко:
– Насилие! Злодей, самозванец, расстрига, Гришка Отрепьев!
– Если б я сомневался в истине вашего происхождения, – сказал воевода Мнишех, подошед к Лжедимитрию, – то этот случай убедил бы меня в том, что вы истинный сын царский. Только чистая совесть может придать силы к сохранению такого хладнокровия в деле столь Щекотливом!
Лжедимитрий улыбнулся и, посмотрев кругом спокойным взором, сказал:
– Этот случай ничего не означает, и друзья мои должны приготовиться к подобным явлениям. Борис Годунов владеет престолом потому только, что уверил народ, будто царское племя пресеклось. Разумеется, что он должен теперь убеждать народ, что тот, который требует от него своего достояния, есть не царевич, а обманщик. Если бы он говорил иначе, то бы должен был немедленно отказаться от престола и отдать голову свою под меч правосудия за цареубийство. Мудрено ли, что он, владея всеми моими сокровищами, может подкупить смелого человека, который, забыв страх Божий, решился на отчаянное предприятие – отвлечь от меня друзей моих мнимыми уликами! За деньги он даже найдет какую-нибудь развратную бабу, которая назовется моею матерью. Но что значат хитросплетения и козни человеческие противу судеб Вышнего! Мне суждено было от младенчества терпеть преследования и ссылку от Годунова; он обрек меня даже на смерть! Ныне испытания мои кончились, и если Богу угодно возвратить мне наследие мое, престол Московский, то все козни Годунова распадутся, как паутина от дуновения ветра.
– Истинный царевич! – воскликнули многие голоса в толпе.
– Виват, да здравствует царевич Димитрий Иванович! – раздалось в зале.
Лжедимитрий взял за руку воеводу Мнишеха и, отведя его на сторону, сказал:
– Дочь ваша, панна Марина, откроет вам важную тайну моего сердца. Если вы согласитесь исполнить мое желание, то объявите об этом канцлеру моему Меховецкому. Вы знаете, что цари не могут делать никаких явных предложений, не быв сперва уверены в успехе.
Мнишех хотел объясниться, но Лжедимитрий пожал ему руку и, сказав: "Поговорим после!" – удалился в свои комнаты.
В полночь, когда все спали в замке, Лжедимитрий ходил большими шагами по своей комнате и с нетерпением поглядывал на стенные часы. Постучались у дверей; Лжедимитрий отпер задвижку и впустил Меховецкого и Бучинского. Они были печальны и в безмолвии смотрели на Лжедимитрия.
– Ну, что? Соглашается ли Пыхачев признаться, что он научен и подослан Годуновым? – спросил Лжедимитрий.
– Нет. Он упорствует в своих показаниях, – отвечал Меховецкий. – Ни льстивые обещания, ни угрозы не могут поколебать его. Он повторяет одно и то же. Вот собственные слова его: "Добрые люди могут заблуждаться, и в убеждении, что этот прошлец истинный царевич, они даже могут проливать за него кровь свою; им простит Бог и потомство. Но кто, подобно мне, уверен, что этот самозванец Гришка Отрепьев, тот умрет, но не поклонится идолу! Таковы русские!"
– Пыхачев говорит это? – спросил Лжедимитрий.
– Слово в слово! – примолвил Бучинский.
– Итак, он должен быть казнен для примера другим! – сказал Лжедимитрий хладнокровно.
– Но кто станет его судить? Русских опасно употребить для этого дела: они и так ненадежны. А мы не знаем московских законов, – сказал Меховецкий.
– Я суд и закон! – воскликнул Лжедимитрий.
– Положим, что ты осудишь его на смерть; но неужели нам должно влачить его за собою в Краков для казни? – возразил Бучинский. – Наши воины ни за что не согласятся быть исполнителями смертного приговора над человеком, который не осужден на казнь по законам нашего отечества. Для казни надобен палач.
– Я сам буду палачом! – воскликнул Лжедимитрий, затрепетав от злобы.
– Ты! – сказали в один голос Меховецкий и Бучинский.
– Да, я! – возразил Лжедимитрий. – Оставленный людьми и ведомый судьбою к великому моему предназназначению, я должен быть всем для себя: воином, судьею – а в случае нужды и палачом. Это название испугало вас. Переменим его. Я буду сам мстителем за оскорбление моего величества и исполнителем моего приговора!
– Делай, что хочешь, мы умываем руки! – воскликнули Меховецкий и Бучинский.
– Делайте и вы, что хотите! – возразил Лжедимитрий с досадою. – Но если бы я решился сохранить руки чистыми, то никогда бы не исторгнул скипетра из обагренных кровью рук Годунова. Понимаете ли меня, господа философы?
Лжедимитрий заткнул кинжал за пояс, взял молоток от конского прибора (14), накинул на себя плащ и вышел из комнаты.
– Подумай о славе своей! – сказал Меховецкий, провожая его на лестницу.
– Прежде надобно думать о власти, – отвечал Лжедимитрий и скорыми шагами сбежал вниз. – Добрая ночь, господа, – примолвил он. – Приказываю вам удалиться и оставить меня в покое.
* * *
В погребе замка лежал Пыхачев, скованный по рукам и по ногам цепью, прикрепленною к стене. Стража находилась у входа в подземелье, в нижнем жилье. Лжедимитрий взял ключ от погреба у начальника стражи, засветил фонарь и спустился один вниз. Войдя в темницу, он поставил фонарь на землю и запер за собою дверь.
– Послушай, Пыхачев! Мне жаль тебя. Привязанность детских лет отзывается во мне, и я хочу тебя спасти. Подпиши бумагу, что ты прислан сюда Годуновым, что ты подговорен им уличить меня, что ты признаешь меня истинным царевичем Димитрием – и ты свободен. Ты будешь первым боярином в России, первым другом моим, когда я воссяду на престоле; отдам тебе все вотчины рода Годуновых. Образумься! Ты видишь, что я повсюду признан царевичем, честим, уважаем. Король зовет меня в Краков, польские вельможи за меня вооружаются, все мне благоприятствует – и здесь, и в Москве. Бояре, синклит, духовенство и народ зовут меня на царство. Что значит твое упорство? Безумие! Покорись, и я разделю с тобою власть и сокровища.
– Не я безумец, а ты! – сказал Пыхачев. – Сознайся: разве я не знал тебя в отроческих летах в доме Богдана Отрепьева; разве он и мать твоя Варвара не называли тебя своим сыном?
– Какая нужда до этого? Они могли называть меня своим сыном; ты мог быть уверен, что я сын Отрепьева, и все это не доказывает еще, что я не истинный царевич. Ты знал меня в летах отроческих, а не был при моем рождении. Разве царевич, спасенный от убиения, не мог быть укрываем некоторое время добрыми людьми под именем их сына? Помни, что ты меня знал один только год. Рассуди все это хорошенько и покорись! Время дорого.
– Не погублю души моей преступлением святой заповеди: не буду лжесвидетельствовать! Я сам видел в Угличе труп царевича и, будучи ребенком, горько плакал в церкви над останками последней отрасли Рюриком поколения!
– Ты мог обмануться. Ты сам был дитятей. Я царевич Димитрий!
– Ты самозванец и обманщик! Григорий! не губи души своей, избегни прельщения дьявольского, прими снова ангельский образ и посвяти жизнь покаянию. Ударит час мщения Господня – и ты почувствуешь тяжесть позднего раскаяния. Не смущай спокойствия России. Я уверен, что ты найдешь легковерных и злых людей, которые могут доставить тебе средства терзать Россию междоусобиями. Но и одна капля крови русской, пролиянная в бранях междоусобных, возжженных обманом, не смоется ручьями слез раскаянья. Откажись от безумного своего умысла и примирись с Богом и людьми, Григорий!
– Итак, нет надежды к смягчению твоего каменного сердца! – сказал Лжедимитрий.
– Примирюсь с тобою, если ты откажешься от дьявольского прельщения и покаешься, – отвечал Пыхачев.
– Нечего делать: приготовься к смерти, Пыхачев! Помня детскую дружбу, я даю тебе несколько минут на покаяние. Если б я оставил тебя в живых после этого упорства, то был бы безумнее тебя. Чтоб я жил – ты должен умереть. Этот закон необходимости сильнее всех других законов.
– Не бери на душу нового греха! Кровь, невинно пролиянная, падет на твою голову! Отпусти меня в Россию, там я тебе не страшен. Там миллионы думают и верят так, как я.
– Эти миллионы людей будут верить тому, что я захочу. В этих миллионах не много таких, которые, подобно тебе, станут уличать меня детскою дружбою, знакомством с мнимым моим родом! Покорись-или приготовься к смерти!
– Покоряюсь Богу, совести и царю законному, – сказал Пыхачев, – и гнушаюсь тобою, бесчеловечным обманщиком. Господи! прости прегрешения мои, да совершится святая воля твоя!
– Аминь! – воскликнул Лжедимитрий и, устремясь на неподвижную жертву, поразил Пыхачева кинжалом. Кровь брызнула и оросила светлую солому, на которой лежал Пыхачев. Последние слова его были: "Господи, спаси Россию!".
* * *
Лжедимитрий, совершив гнусное злодеяние, расковал труп, возвратился в сторожевую палату и велел начальнику дружины следовать за собою. Пришед в свою комнату, он сбросил с себя окровавленную одежду, сел за стол и написал следующее:
"При ночном допросе русского изменника Пыхачева он признался царевичу Димитрию, что был научен Годуновым клеветать на своего законного государя. Царевич, тронутый его раскаянием, снял с него цепи и дал свободу. Но подкупленный убийца, слуга Годунова, не мог верить великодушию и быть признательным за милость. Он бросился на царевича, вырвал у него кинжал и уже готов был пронзить его сердце – Господь спас его вторично. Царевич обезоружил злодея и лишил его жизни. Так Господь Бог карает изменников и предателей!"
– Возьми эту бумагу и завтра поутру прибей к стене замка возле дверей, ведущих в подземелье, чтоб все могли читать ее. Русский изменник хотел убить меня в темнице. Защищаясь, я убил его. Сейчас вынесите тело его и похороните во рву. Вот тебе золото, раздай его своей дружине. – Воин поклонился и вышел. Лжедимитрий, не раздеваясь, завернулся в плащ и бросился на постелю.
* * *
Утром пришел к Лжедимитрию иезуит патер Савицкий, друг Мнишеха, который нарочно прибыл из Львова в Самбор, чтоб действовать в пользу питомца своего ордена.
– Почтенный отец! – сказал Лжедимитрий. – Ты, верно, уже слышал о смерти Пыхачева. Скажи, что мне должно было делать с этим ожесточенным, непреклонным гордецом? Он хотел моей погибели, но не имел к тому силы; я был сильнее – и погубил его. Это силлогизм, не правда ли, почтенный патер?
– Без сомнения, – отвечал патер. – Что сделано, то доказано.
– Пожалуйте же, успокойте моих нежных приятелей, Меховецкого и Яна Бучинского. Они еще неопытны в делах и не привыкли к сильным средствам, – сказал Лжедимитрий.
– Я уже переговорил с ними, – отвечал иезуит.
– Что же они говорят?
– Молчат и пожимают плечами, – сказал иезуит. – Это романические головы: им понравилась твердость Пыхачева. Они сожалеют о нем.
– Дети! – сказал Лжедимитрий. – Но говорил ли Меховецкий с воеводою о моем намерении жениться на Марине?
– Говорил, и воевода в восхищении. Супруга его уже надулась, как пава, а у панны Марины закружилась голова от царского титула, – отвечал иезуит. – Но вот идет сам воевода! Мне надобно скрыться, чтоб он не подумал, что я в согласии с вами…
Иезуит вышел в другие двери, а воевода Мнишех с Меховецким вошли в комнату.
– Царевич! – сказал воевода. – Я за честь себе поставляю войти с вами в родственные связи. Род мой хотя и не владетельный, однако ж не посрамит вашего. Дед ваш, Василий Иоаннович, женат был на родственнице нашей, Елене Глинской; следовательно, внук не унизит себя сим браком…
– Перестаньте считаться предками и союзами! – сказал Лжедимитрий, взял воеводу за руку. – Сядьте, и мы поговорим о деле. Садись, Меховецкий. Послушайте, воевода! Муж возвышает жену, а не жена мужа. Ваша дочь знатного происхождения – ни слова! Но если б она была и простая поселянка, то одно прикосновение короны превознесет ее превыше всех родов шляхетских и сравняет с державными. Это дело, решенное не нами. Я женюсь на панне Марине, как скоро воссяду на престоле предков моих, и это обещание подтвержу клятвою и записью. С этой поры судьба вашего рода соединяется с моею участью неразрывными узами, и вы должны употребить все средства к скорому окончанию моего предприятия.
– Я жертвую всем: доверием, которым пользуюсь при дворе и в народе, сокровищами, недвижимым имением – только б король признал вас и позволил воевать с Россиею, – сказал воевода.
– Не заботьтесь о короле, – примолвил Лжедимитрий. – Думайте более о себе. Я вам обещаю возвратить вдвое суммы, которые вы употребите в мою пользу, и сверх того дарю вам в вечное и потомственное владение княжество Северское с титулом удельного князя!
– Государь! – воскликнул восхищенный Мнишех.
– Мало этого, – продолжал Лжедимитрий, – Смоленское княжество разделяю пополам: одну половину дарю королю Сигизмунду, а другую с городом – вам, любезному моему тестю, и на первое обзаведение обещаю миллион злотых польских. Господин канцлер, составьте дарственную запись (15).
– Подниму целую Польшу, паду к ногам короля, соберу войско! – воскликнул Мнишех в восторге. – Но прошу вас, чтоб Северское княжество приняло герб моего рода…
– Как вам угодно, – примолвил Лжедимитрий с улыбкою.
– Чтоб я был независим от России и от Польши, – продолжал знаменитый гражданин республики, – чтоб мог держать свое войско, носить княжескую корону, иметь престол, быть неограниченным самовластителем; чтоб я имел право высылать послов, – сказал Мнишех.
– Все, что вам угодно! – отвечал Лжедимитрий. – Как тесть могущественного царя вы должны быть независимым. Я вам выхлопочу инвеституру (16) на княжество от папы и императора. Но вы не помните о дочери своей, почтенный воевода! Я дарю ей княжество Псковское и Новгородское. Жена моя должна быть также владетельною особой. Теперь обнимите меня, отец мой, владетельный князь Смоленский и Северский!
У воеводы в глазах потемнело от радости; он бросился на шею Лжедимитрию и воскликнул:
– Располагайте мною! Дети мои, имущество, я сам – все ваше! Клянусь равенством шляхетским, что я подниму на ноги всю Польшу. Кто не вооружится, чтоб доставить княжескую корону такому гражданину республики, как я!
ГЛАВА V
Тайный совет Сигизмунда III. Знаменитые мужи Польши. Неудача. Утешение. Рассказ русского дворянина.
На хребте высокой горы, называемой Вавель, господствующей над древнею столицею Польши Краковом, возвышается древнее здание, замок королевский, безмолвный свидетель великих событий некогда первенствовавшего славянского племени. Шумная Висла омывает подножие скалы, служащей основанием замку. Предание гласит, что первый вождь ляхов Кракус основал здесь свое жилище. Казимир Великий воздвиг на сем месте каменное здание с крепкими башнями и стенами для жительства королей, хранения государственных скоровищ, совещаний о делах управления и безопасности граждан краковских. В первых сенях главного входа, под высокими сводами, поддерживаемыми столбами готическими, стояла стража королевская в серебряных латах и шишаках с большими страусовыми перьями, вооруженная длинными бердышами. Воины стояли в строю в два ряда от дверей до мраморной лестницы для оказания почестей вельможам, собиравшимся в сей день для совета по приглашению короля. Позади воинов, в стороне от толпы любопытных зрителей, стояли два человека, закутавшись в плащи до самых глаз. Один из них был знатный боярин русский, недавно прибывший из России, другой – секретарь Лжедимитрия Слонский. Сего последнего Лжедимитрий выслал узнать: кто будет присутствовать в совете; русский боярин пришел, чтоб увидеть знаменитейших мужей Польши, будущей союзницы его отечества.
Двери отворились в сенях, и вошел муж пожилых лет, высокий ростом, с длинною седою бородой. В глазах его видно было пламя страстей; римский нос украшал длинное лицо, на устах изображалась суровость. Голову прикрывала небольшая фиолетовая скуфья. Сверх длинной белой шелковой одежды накинут был короткий плащ или воротник фиолетового цвета. На груди висел крест, осыпанный изумрудами. Он шел бодро, опираясь на длинный посох, и гордо посматривал на все стороны.
– Это князь архиепископ Гнезненский Станислав Карнковский, примас королевства Польского и великого княжества Литовского, первый член совета, важнейшая особа в государстве, – тихо сказал Слонский своему товарищу, русскому дворянину. – Но первое достоинство не может насытить его честолюбия: он жаждет власти и не хочет ни с кем разделять ее. Суровый, трудолюбивый, усердный пастырь церкви, красноречивый в совете, он первый защитник прав королевства. Увлекаясь излишним усердием, он ненавидит каждого, возносящегося превыше других заслугами, и подозревает всякого в честолюбивых замыслах. Воспитанный в стенах монастырских, он не знает светского обхождения и груб с первыми вельможами. Беспокойный от природы, он мешается во все политические козни, беспрерывно составляет партии и отказывается от них по внушению страстей своих (17).
За примасом вошел старец среднего роста, тихой поступи, приятной наружности. Седые волосы его зачесаны были назад. Длинный нос почти закрывал верхнюю губу. Седые усы закручены были на обе стороны; под нижнею губой оставлен был небольшой клок волос по испанскому обычаю. Щеки были выбриты, но по скулам от уха до уха оставлена была борода, подстриженная пальца на три. Взор его был ясный и приветливый, чело светлое. Он был в длинной шелковой ферязи алого цвета, опоясан персидским кушаком и поверху имел зеленую бархатную кирею, род кафтана с широкими рукавами, с развевающимися полами, опушенную соболями, с собольим откидным воротником, застегнутым на шее алмазною пряжкой. На груди его висел портрет короля Стефана Батория.
– Это Иоанн Замойский, великий гетман и канцлер короны Польской, – сказал Слонский, – он наречен Великим благодарными соотечественниками и Европою не из лести, но по заслугам. Знаменитый полководец, красноречивый оратор, муж ученый, любитель и покровитель наук, защитник прав своего отечества, Замойский употребляет несметные свои сокровища для блага общего. Победив внешних врагов: турок, татар, вол охов, немцев, – прославившись под начальством короля Стефана Батория в войне с Россиею, усмирив внутренние раздоры, Замойский построил крепости на своем иждивении, завел университет в имении своем Замостье и, будучи сам ректором знаменитой Падуанской академии, умел дать блеск собственному заведению и водворить в оном семена истинного просвещения. Замойскому обязан Сигизмунд престолом. Эрцгерцог австрийский Максимилиан был избран в короли частью народа; но великий Замойский, хотя сам женат на племяннице покойного короля и друга своего Стефана Батория, не хотел возвесть на царство его родственника и воспротивился избранию Максимилиана из одной любви к роду Ягеллов, будучи убежден в душе, что только порядок в наследии может обеспечить благо государства. Замойский сведущ в великой науке управления государственного столько же, как и в деле военном; он с твердостью характера и непоколебимым мужеством соединяет кротость и великодушие. Это первый вельможа Польши времен прошедших, настоящих, а может быть, и будущих. Всемогущий столько излил даров на одного Замойского, что, если б добродетели и похвальные его качества разлить на многих, то все они были бы великими мужами (18). Вошел муж роста высокого, в цвете лет, красоты необыкновенной. Черные волосы зачесаны были гладко, черные усики украшали белое и румяное лицо; он был в богатом бархатном кунтуше малинового цвета с золотыми нашивками, опоясан золотым кушаком, на котором висела украшенная дорогими каменьями сабля. Он вежливо поклонился на все стороны.
– Это гетман польный Жолкевский, воспитанник, друг и помощник великого Замойского, – сказал Слонский. – С молодых лет он отличался мужеством в боях, красноречием и мудростью в советах. Прекрасное лицо его есть отпечаток благородной, возвышенной души. Прославившись во всех войнах под начальством Замойского, он утвердил славу свою усмирением казацких мятежей. Прямодушен, ласков и щедр, Жолкевский обожаем воинами и дворянством; он еще пойдет далеко! (19) Вот этот человек средних лет в русской ферязи, вошедший вместе с коронным гетманом, называется литовским Жолкевским. Это Карл Ходкевич, великий гетман Литовский. Пасмурный взор, гордость в выражении лица и длинная борода придают суровость его виду: но он столь же кроток в мире, как ужасен в брани. На всех рубежах республики Ходкевич с юных лет снискал славу великого воина, а в отечестве приобрел любовь и уважение сограждан щедростью и великодушием. Правдолюбие его и откровенность страшны в советах всем кознестроителям. В прошлом 1603 году он с тысячью тремястами воинов оставлен был защищать Ливонию от шведов и, к удивлению Европы, побил 5000 храбрых противников под Ревелем и Дерптом, взял штурмом Дерпт и, соединяя великодушие с мужеством, пощадил жизнь и именье восставших жителей сего города. Победа под Вейсенштейном, где он с двумя тысячами поляков разбил шесть тысяч шведов, доставила ему звание гетмана Литовского. Он ныне назначен снова защищать Ливонию от нападения герцога Зюдерманландского. Муж доблестный, подпора Польши! (20)
Вдруг вошло несколько панов вместе, и Слонский, указывая на каждого, говорил:
– Вот знаменитый воин и мудрый правитель, краса Литвы, Христофор Радзивилл. Это Збигнев Оссолинский, прямодушный и опытный советник короля. Это Адам Сенявский, твердый и непоколебимый в поле и при дворе. Вот братья Потоцкие, любимцы короля, выведенные им в знать. Вот идут рядом четыре первые любимцы королевские, более славные искусством льстить и обманывать, нежели советовать для блага отечества: алхимик Вольский, староста Крепицкий; Андрей Боболя, подкоморий коронный; Альберт Радзивилл, маршал Литовский, и Ян Тарновский, референдарий коронный. Это люди хитрые, пользующиеся слабостью короля для своих выгод. Главный сообщник их – иезуит Бернард Голынский, духовник королевский от детства. Но его нет здесь. Они торгуют волею Сигизмунда, маня его алхимиею и буллами.
За сими панами вошла другая толпа, но Слонский не имел времени ознакомить с ними русского дворянина. Воины велели народу выйти из замка, объявив, что начинается тайный совет, во время которого запрещается любопытным быть в замке королевском.
Радные паны (21), прошед чрез ряд комнат в верхнем жилье, вошли в сенаторскую палату. Стены ее обложены были мрамором. В конце возвышался трон под навесом из алого бархата. Посредине находился круглый стол, покрытый золотою парчой; на нем стояло высокое распятие из слоновой кости, лежало Евангелие, права королевства Польского и, в особенном кивоте, "Условные пункты" (22) короля при восшествии его на престол. Потолок залы покрыт был мраморными головами, будто бы разговаривающими между собою. При каждой голове находилась надпись, заключающая в себе мудрое правило или изречение древних мудрецов. Украшение это сделано по повелению короля Сигизмунда Августа (23).
Когда все радные паны собрались, вышел король, приветствовал всех легким наклонением головы и в безмолвии сел на возвышенном стуле возле стола. Ян Тарновский просил сенаторов занять свои места, и, когда все уселись, он сказал:
– Господа! Его величество поручил мне изложить вам следующее. Известно вам о внезапном появлении в пределах республики царевича Московского Димитрия. Множество несомненных доказательств удостоверяет в том, что он истинный сын царя Иоанна Грозного. Московские бояре ненавидят Годунова и зовут Димитрия в Россию, народ ждет его с нетерпением, на это имеются также доказательства. Два атамана храбрых донских казаков, Андрей Корела и Михаил Нежаков, прибыли к царевичу с покорностью от войска и с предложением восстать противу Годунова. Запорожские казаки не слушаются даже нашего гетмана и насильно хотят пристать к донцам. Нет никакого сомнения, что царевич овладеет Русским престолом при малейшей помощи со стороны Польши. Теперь, господа, представляются на разрешение ваше два вопроса: первый – должно ли помогать царевичу? и второй – полезна ли будет для Польши перемена царствующей особы в России? Разрешением второго вопроса разрешается первый. Многие политики полагают, что польза очевидна от возведения на престол царевича Димитрия, воспитанного в Польше, обязанного ей возвращением своего достояния, связанного с нашим отечеством кровными узами, женитьбою с панною Мариною Мнишех, обещающего отдать республике богатые провинции и заключить вечный вспомогательный и оборонительный союз. Границы наши от севера будут обеспечены, Украина будет лишена подпоры в своих мятежах противу Польши; турки, татары обузданы; швед принужден к покорности опасностью со стороны Финляндии. Торговля наша распространится на восток и север. Но не одна Польша воспользуется выгодами от восшествия на престол царевича, а целое христианство, ибо он уже принял тайно римско-католическую веру и обязуется водворить оную в своем отечестве. Итак, по мнению людей, сведущих в делах, пользы от возведения на престол царевича должны убедить в потребности подать ему помощь войском и деньгами. – Тарновский замолчал, и радные паны стали перешептываться между собою.
– Прошу выслушать! – сказал Замойский. Все умолкли, и он произнес: – Давно ли Польша сетовала, что не может помочь войском и деньгами брату и товарищу нашему гетману Ходкевичу, когда он с горстью бесплатных и утружденных воинов должен был защищать Ливонию? Давно ли мы были в таком состоянии, что я, частный человек, должен был на своем иждивении воевать противу господаря Волошского? Давно ли брат и товарищ наш гетман польный Жолкевский собирал на своем иждивении войско для усмирения Украины? Еще за несколько дней пред сим мы не могли придумать средств к собственной защите от шведов и от татар, и давно ли все мы с нетерпением ожидали заключения мира с Россиею чрез посредство брата и товарища нашего Льва Сапеги? И что же? Ныне является прошлец, достойный играть роль в одной из Теренциевых комедий (24), – и все прежние нужды забыты! Не имеем войска и денег для собственной защиты, а хотим помогать чуждому человеку в завоеваниях! Мы находимся в таком положении, как римляне, когда Тиверий писал в Сенат: «Exterius victoriis aliêna, civilibus etiam nostra consumere didicimus» (т. е. «внешние наши победы научили нас расточать чужое богатство, а междоусобия – свое собственное») (25). Объявляю решительно, что я не верю сказке этого бродяги, несообразной с здравым рассудком, хотя сомневаюсь также в истине слов царя Бориса, называющего этого мнимого Димитрия беглым монахом, развратником, пьяницею, чернокнижником. Думаю, что этот дерзкий лжец – впрочем, человек умный и воздержанный, – есть орудие какой-нибудь партии, желающей возвыситься и обогатиться возжжением мятежа в России. Носятся слухи, что этот мнимый Димитрий есть воспитанник отцов иезуитов и приготовлен ими к этой роли с четырнадцатилетнего возраста. Может быть, это и неправда, но, во всяком случае, я думаю, что неприлично Польше нарушать недавно заключенный мир из такого ничтожного предлога. Какая нам нужда мешаться в чужие дела? Не должно верить духу партий. В Москве есть недовольные бояре, которые ласкают этого искателя приключений, чтоб погубить Бориса, и после сокрушат самое орудие, когда в нем не будут иметь нужды. Сенека сказал справедливо: «Quae scelere pacta est, scelere rumpetur fides» (т. е. «союз, основанный на преступлении, им же и разорвется»). Народ слеп, но он прозрит, когда венец царский воссияет на главе бродяги. Целый город Углич видел смерть сына Иоаннова, мать оплакивала его – и вдруг несчастная жертва ожила в стенах иезуитского монастыря! Обман, подлог, стыд и поношение! Никогда не подам совета, чтоб Польша истощала последние средства и срамила себя нарушением трактатов из отвлеченных видов пользы, которая исчезнет с жизнию покровительствуемого смельчака. Знаю я, что он найдет сильных противников в России, которые рано или поздно накажут его за дерзость и отмстят Польше за оскорбление. Пусть он действует, как хочет, с своими казаками и русскими приверженцами – мы останемся равнодушными зрителями этой трагикомедии и признаем его царем тогда, когда он признан будет в Москве. Впрочем, как дело идет о войне, то мы даже не можем решить этого в совете, а должны созвать Сейм и предложить ему наши виды. Так повелевает коренной закон республики, и таково мое мнение!
– И мое! – воскликнул Жолкевский: – "Benefacta male collocata, malefacta existimo" (т. е. "добро, сделанное недостойному, есть дурной поступок").
Примас Карнковский, Ходкевич, Христофор Радзивилл, Оссолинский, князь Збаражский и другие знаменитые мужи объявили, что они также соглашаются с мнением Замойского и что в таком важном деле совет не может решить сам собою без воли Сейма.
Приверженцы короля молчали и посматривали на него с нетерпением. Он был мрачен и сидел в безмолвии, нахмурившись и потупя взоры. Наконец он встал и, не сказав ни слова, вышел из залы в свои комнаты.
– Господа, заседание кончилось! – сказал Тарновский и пошел за королем; все любимцы Сигизмунда также удалились.
– Молчание короля так красноречиво, что составит самую пламенную страницу в его истории, когда патер Голынский вздумает сочинять ее! Res est magna – tacere! (т. е. великое дело – уметь молчать!) – сказал насмешливо пан Збаражский.
– У древних римлян мимика поставлялась наравне с ораторством, – примолвил с улыбкою Христофор Радзивилл.
– Что скажет нунций, покровитель искателя Московской короны? Что скажет воевода Мнишех, который не захотел явиться в совет, предчувствуя грозу, – сказал Сенявский.
– Они повторят обыкновенный текст смирения: "Sic transit gloria mundi!" – возразил Ходкевич.
– А что скажут в городе о нашем совещании о судьбе севера, кончившемся в четверть часа? – спросил Оссолинский.
– "Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus!" (т. е. "гора разрешилась от бремени – мышью") – сказал Замойский, улыбаясь.
– На этот раз иезуитская бомба лопнула в воздухе, – примолвил Жолкевский.
– Великая война кончилась – пойдем пожинать мирные плоды победы, – сказал насмешливо Адам Сенявский. – Господа, прошу вас к себе откушать!
Радные паны, приверженцы Замойского, Жолкевского и Ходкевича, вышли из залы и отправились в дом Сенявского. Референдарий Тарновский поспешил к нунцию Рангони, который пригласил к себе на обед Лжедимитрия, воеводу Мнишеха и всех панов, на которых имели влияние иезуиты. В частной беседе за чашею вина долженствовало решиться дело, не конченное в совете.
* * *
Мрачен и печален был Лжедимитрий, когда, ожидая у папского нунция окончания совета, получил известие о дурном расположении к нему знаменитейших панов. Рангони утешал его и обнадеживал успехом, невзирая на упорство совета.
– Какая нужда, что эти гордые паны не соглашаются на вооружение целой Польши! – сказал он. – Это еще лучше для нас. При первой неудаче они завопили бы на Сейме о мире, и вы были бы оставлены навсегда без помощи. Если б, напротив того, война кончилась благополучно, то республика потребовала бы от вас в вознаграждение половины царства, а над другою половиною хотела бы властвовать под вашим именем. Вспомните Эзопову басню о Волке и Ягненке. Притом же и ваши москвитяне недовольны были бы, если б вы начали царствование объявлением войны своему отечеству. Вы имеете казаков на своей стороне; в Северском княжестве готов вспыхнуть мятеж; и так вы будете иметь войско. Но, имея даже войско, надобно подавать вид, что вы идете в столицу свою с миром и что вы окружены не врагами России, но своими подданными и друзьями, которые для того только собрались вокруг вас, чтоб защищать от клевретов Годунова. Замойский, Жолкевский, князь Острожский и другие ваши противники могут воспротивиться на Сейме объявлению войны, но они не в состоянии запретить королю признать вас царевичем, а вельможам – собрать для вас ополчение в Польше. Будьте спокойны и веселы, сын мой: дела наши хороши! Мы работаем для вас усердно, только не забудьте обещания ввести католическую веру в Россию. Вы уже приобщились Святых Тайн из рук моих и отказались от своих заблуждений – итак, вы наш, и мы вас не предадим в жертву гордым вельможам!
Нунций обнял и поцеловал Лжедимитрия, который успокоился и казался даже веселее обыкновенного.
Из свиты Лжедимитрия приглашены были к обеду Меховецкий, два Бучинские, Слонский и приведенный казаками знатный дворянин Борис Хрущов, который в душе ненавидел Годуновых и, узнав в лице Лжедимитрия того самого человека, который под именем Григория Отрепьева показывал им в Москве крест царевича, пал к ногам его и признал сыном Иоанновым. Лжедимитрий честил Хрущева и называл его боярином. Хрущов умом своим и поведением приобрел уважение нунция и многих вельмож польских. Его словам верили и слушали его со вниманием. После обеда нунций просил Хрущова рассказать о состоянии России, о бедствиях, претерпеваемых ею в правление похитителя престола, и о духе народном. Паны сели в кружок возле софы, на которой поместился Лжедимитрий с нунцием. Хрущов не смел сесть в присутствии царевича, но Лжедимитрий повелел ему, и Хрущов, сев посредине, начал свой рассказ:
– О России, отечестве моем в нынешнем состоянии, повторю слова братии наших, славян новгородских, когда они приглашали на княжение витязей варяжских: "Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет" (26).
Обширное государство всегда несчастно, когда управляется человеком, поднявшимся происками превыше своих сограждан. Пред законным государем страсти молчат от уверенности каждого, что в самом местничестве все должны быть равны пред властью, Богом врученною порфирородному венценосцу. Но как бы ни был силен и мудр правитель, поставленный случаем, он никогда не будет наслаждаться властью, зная, что тот же случай может уничтожить его могущество.
Это самое сбылось с Годуновым. Он ослепил Россию блистательным началом своего царствования, но вскоре подозрения овладели его душою и простерли бедствия на Россию. Глухая весть о чудесном твоем спасении от рук убийц, государь, была первою причиною его недоверчивости к боярам. Это сказал мне за тайну капитан его иноземных телохранителей француз Маржерет (27), которому поведал это доктор Бориса немец Филлер. Борис, подозревая всех, не знал, с кого начать свое мщение. Новый Малюта Скуратов, боярин Семен Никитич Годунов, алкая крови и власти, указал ему жертвы, избрав их из бояр, чтимых и любимых народом, – следовательно, самых опасных похитителю престола и его клевретам. Весть о спасении твоем оживила древнюю привязанность к царскому племени, и дети боярина Никиты Романовича Романова-Юрьева, как самые ближние родные Рюрикова рода, сделались предметом любви народной, заслуживая ее приветливостью, щедростью и добродушием. На них-то Семен Годунов устремил первые стрелы своей злобы. Изверг подкупил деньгами и обольстил речами казначея Романовых Бартенева-меньшого и научил его содействовать своим замыслам. Вдруг пронесся слух на Москве, что против государя составлен заговор! Клеврет Годуновых окольничий Михаила Глебович Салтыков с воинами и приставами идет в дом боярина Александра Никитича; с неистовыми воплями вторгаются они в мирное убежище праведного мужа, ломают v двери кладовой, берут там мешки с какими-то кореньями, подкинутыми предателем казначеем, налагают цепи на боярина и на всех его братии и влекут к патриарху Иову, где собраны были синклит и пастыри церкви. Я был в то время у патриарха противу воли моей, по приказанию Бориса, чтоб донести ему немедленно о последствиях дела. Страх оковал язык смиренных, добрых, но робких бояр и святителей; коварство и злоба отверзли уста гнусных клевретов тиранства. С грубою бранью и угрозами устремился злодей Семен Годунов на безвинные жертвы клеветы, обвиняя в волшебстве и злоумышлении и, высыпав коренья из мешков, повелевал сознаться, что они составляли яд на пагубу рода Годуновых!
Тут представилось зрелище величественное и горестное: борьба добродетели с пороком. Пять братьев Романовых, столь же прекрасные телом, как душою, стояли спокойно перед своими убийцами и с сожалением взирали на уничижение человечества в лицах первых сановников государства! Мужи добродетельные казались свободными в оковах пред гнусными своими судьями, рабами страстей и порока. – "Отвечайте, злодеи! – воскликнул Семен Годунов, задыхаясь от злобы, – сознавайтесь в волшебстве и ядосоставлении. Вы уличены уже найденным у вас зелием и показанием собственных слуг ваших".
Горько улыбнулся боярин Федор Никитич и, окинув взором собрание, отвечал:
– Отцы и братия! Ведомо вам, что в роде Романовых никогда не было изменника и предателя. Не было, нет и не будет вовеки! Предки наши служили верою и правдою царям и отечеству и завещали нам покорность к законной власти, беспредельную любовь к отечеству. Не яд хранится в кладовых Романова рода, но пища и одежа для неимущих; не волшебством занимаемся мы в домашних беседах, но совещаниями о благе отечества и молитвами к Богу, да помилует он врагов наших и для общего спокойствия отвратит казнь от виновных! Не знаем за собою никакой вины, ни злого умысла не только противу венценосца, но даже противу последнего из его рабов. Чистые душою, мы не боимся ни угроз, ни казни; страшимся одного: чтоб Бог не отмстил злобным клеветникам на роде их и племени!
Страх объял сердца, и совесть начала пробуждаться в слабых душах. Молчание царствовало в собрании, и сам Семен Годунов смутился. Александр Никитич Романов, одаренный характером более пылким, нежели другие братья, тронутый до глубины души несправедливостью, сказал: "Не нам, но себе и России изрываете вы пропасть, склоняя слуг к злобной клевете. Пусть царь Борис Федорович по своей собственной воле казнит двоюродных братьев благодетеля своего царя Федора Ивановича. Он даст за это ответ пред Богом. Но не ваше дело губить души свои потворством и лицемерием, мужи думные! Вы сами уверены, что козни властолюбия чужды душе Романовых. Мы отдаем вам первенство и преимущество в заслугах отечеству, но не уступим в любви к нему; кто же любит Россию, тот не смущает ее мятежом, а покоит ее, водворяет в ней мир и согласие. Не мы враги царя и России, но те, которые сокрушают его ложными доносами, побуждают к несправедливости, изгоняют верных слуг клеветою и ожесточают народ притеснениями".
"Остановись, дерзкий!" – воскликнул Семен Годунов и, приметив, что многие из бояр и духовных смягчились, что у некоторых даже навернулись слезы, возопил грозным голосом: "Каждый, потворствующий изменникам, есть сам изменник и предатель!" Потом, снова обратись к Романовым, повторил требование, чтоб они признались в волшебстве и составлении яда на пагубу Бориса. Великодушные Романовы с гордостью отвергнули клевету. Им не дали более говорить и криком неистовым заглушили голос истины. Более прочих свирепствовали бояре Семен Никитич Годунов, князь Василий Иванович Шуйский и окольничий Михайло Глебович Салтыков. Первый – из злобы, последние – из ложного усердия к страшному венценосцу. Романовых ввергнули в темницу с женами, детьми и домочадцами, чтоб допросить и осудить по произволу Семена Годунова!
Царь Борис был грустен и беспокоен, когда я пришел к нему с донесением о виденном и слышанном. В царской палате был тогда новый любимец его Петр Федорович Басманов, которого он допустил к царевичу Феодору Борисовичу в качестве друга и советника. Выслушав мое повествование, Борис сказал: "Довольно терпел я от гордости этих старых боярских родов, которые всю заслугу основывают на местничестве и оттого только знамениты, что по праву рождения занимают первые должности в государстве, в мире и войне. То, что предместник мой царь Феодор начал по моему совету, я кончу; при помощи Божией открою свободное поприще уму и усердию в службе царской! На вас, новых людей, моя надежда! Служите мне верно, усердно – я вам дам все: вотчины, почести, славу! Не жалейте не только изменников, но даже подозрительных или вредных одною силою в мнении народном. Помните, что они заграждают вам путь".
Мы вышли вместе с Басмановым из царских палат. Я был печален. Воспоминание о страдальцах и слова Борисовы тяготили мое сердце; но Басманов был радостен. "Пусть их гибнут! – сказал он. – Эти древние боярские роды так возвысились и окружили престол такою стеною, что до нас вовсе не доходят лучи милости царской. На развалинах этих стен мы утвердимся и упрочим новое здание. Ободрись, Хрущов! Будем и мы боярами, полководцами!"
Гордая, честолюбивая душа Басманова обнаружилась в сих словах. Так думали все, окружающие Бориса, вышедшие с ним из праха: они-то составили заговор на погубление знаменитейших родов. Тяжко придется отвечать им за это пред Богом!
Чтоб уличить Романовых в мнимом преступлении, слуг их пытали и обольщали наградами; но кроме изменника казначея никто не показал на них. В муках и терзаниях несчастные слуги славили добродетель господ своих и умирали верными совести. Наконец Борис, не могши уличить безвинных, велел наказать их по первому на них показанию, и бессовестные бояре составили приговор, осуждающий к изгнанию Романовых с их детьми и женами. Федора Никитича, сверх того, разлучив с женою и малым детищем Михаилом, постригли в монахи под именем Филарета (28).
Погубление Романовых было началом всех других бедствий. Обрушилась гора, и деревья, росшие на ней, должны были ниспровергнуться. Все ближние и кровные Романовым роды должны были подвергнуться их участи. Князья Черкасские, Шестуновы, Репнины, Сицкие, Карповы, Бахтеяровы-Ростовские и множество других бояр и знатных дворян с женами и детьми осуждены на ссылку и заключение в темницах, в дальних городах. Вотчины их розданы клевретам Годунова или описаны в казну.
Русскому сердцу больно вспоминать, до какой степени злодеи, враги престола и отечества, довели бедную Россию! Вельможи, подобные Малюте Скуратову и Семену Годунову, суть бичи гнева Господня. Они, смущая сердце царево, вредными советами развращают народ, открывая поприще изветам и клевете. Мы видели пример неслыханный малодушия и злобы; Россия разделилась на две части: подлые холопы доносили, а раболепные бояре осуждали по подкупным изветам. Страх Божий уступил место страху земному. Совесть замерла. Добрые люди смотрели с ужасом на сии злодейства и молились. Изверги свирепствовали.
Два случая обнаружили пред народом сердце Бориса и доказали, что он, возвышаясь к престолу, думал о себе, а не о других, как он привык говорить. Старый, заслуженный печатник Щелкалов, товарищ юности Борисовой при Иоанне, лишен звания и почести без всякой вины и сослан в ссылку для того только, чтоб некому было говорить правду пред престолом. Со слезами выезжал Щелкалов из Москвы в сопровождении многочисленного народа и, помолясь Богу пред иконою, стоящею на городских воротах, сказал: "День сей Господа Бога Вседержителя, день отмщения, да отмстит врагом своим и пожрет я мечь Господень!" (29). Народ ужаснулся. Казалось, что маститый старец пророчит гибель Борису!
Страшно было некогда для России имя жестокого боярина Богдана Яковлевича Вельского, преемника Малюты Скуратова, но для Бориса оно было ненавистно по Другим причинам. Вельский покровительствовал Борису и помог его возвышению. Вид прежнего покровителя несносен неблагодарному сердцу, и Вельский, хотя и не был в опале, но был удален от двора. Говорят, будто Вельский в часы скорби жаловался на Бориса пред своими приближенными. Для мстительного сердца Бориса не довольно было того, чтоб лишить гордого боярина богатства и почестей: он вознамерился покрыть его срамом и поношением. Наемный врач из шотландцев взялся за ремесло палача. В присутствии царедворцев Бориса скованному старцу выщипали бороду! Гнусные льстецы царские обременяли насмешками несчастного, но Вельский терпеливо сносил мучения и позор и сказал окружающим: "Вы ругаетесь над слабостью и несчастием и торжествуете беззаконие. Придет время – и вы, подобно Иуде, первые оставите того, которого ныне славите. Восстанет мститель из гроба!" Боярин Михайло Глебович Салтыков наплевал в лицо Вельскому и перенес Борису слова его. Старца пытали, но он молчал. Тогда не могли разгадать слов его, но теперь все постигли, что он говорил о тебе, царевич Димитрий Иванович.
В Кремлевских палатах пировали и славили милость и правосудие Бориса, но не то было в Москве и в целой России. Исчезло спокойствие семейное, возродились подозрения, и ближние бегали друг от друга, как от зараженных язвою, страшась измены и клеветы. Рабы покупали свободу ложными доносами, подчиненные низвергали начальников, должники губили заимодавцев. Тюрьмы наполнились несчастными жертвами гонения злых вельмож. Народ ждал казней, но Борис думал ослепить Бога и Россию мнимым обетом не проливать крови. Злополучных топили и душили в темницах (30), Борис думал, что никто не знает об его злодеяниях, потому что никто не смел явно упрекать его. Но ни добрые, ни злые дела не укроются от народа: он молчал и в душе проклинал Годунова и его клевретов.
Борис хвалился неусыпным попечением о благе России и обещал ей благоденствие. Но провидение не попускает, чтоб дары небесные исходили из рук нечистых, и Россия должна была страдать за преступного венценосца. Наступило зло величайшее – голод!
При сих словах Лжедимитрий прервал речь Хрущова и, обратясь к Бучинскому, сказал:
– Вспомни снотолкование и удостоверься в явном содействии промысла. Продолжай!
Хрущов продолжал рассказ:
– Не стану распространяться в изображении бедствия, уже известного целому миру в писаниях, сообщенных чужеземцами, очевидными свидетелями. Только гнев Божий мог лишить плодородия русскую землю, благодарную к трудам земледельца, богатую всеми земными произрастениями. Дождливая весна и холодное лето истребили все посевы. Не стало пищи для бедных, а у богатых исчезло сострадание попущением Божиим. Я сам видел, как толпы голодных щипали траву, подобно диким зверям: как ели кошек, собак и падалину (31). Скажу более: люди убивали друг друга – не из мщения или корысти, но чтоб пожрать труп (32). Исступленные матери всенародно грызли грудных своих младенцев (33). На рынках продавали пироги с человечьим мясом (34). Изнеможенные люди, как тени, бродили в безмолвии по улицам и дорогам. Смрад от трупов заражал воздух, глухие стоны были одним отголоском жизни; злодейство, разбои и грабежи – одним занятием, корыстолюбцы, убийцы и жертвы наполняли Россию!
Сердце мое мятется, когда оживляю в памяти моей сию казнь Божью на Россию! На беду нашу и мудрость Бориса притупилась в общем злополучии. Он раздавал щедрою рукой хлеб и деньги неимущим, но благостыня его превратилась в новый источник зла. Народ бежал в Москву за подаянием и гибнул в пути и в столице, ибо царь мог подать только временную помощь, но не мог прокормить целого народа. Бедствие продолжалось с лишком два года, и в это время в одной Москве погибло более 500 тысяч человек. Один Бог знает, сколько погибло в городах и областях: поля и дороги завалены были трупами. Хищные звери ходили стадами по селениям и делились с голодными людьми бренными остатками их братии!
Терзалось сердце Бориса, если не от жалости к людям, то от самолюбия, что царствование его было несчастно. Но еще десница праведного Бога не утомилась, и новая казнь постигла цареубийцу. Он избрал в супруги дочери своей Ксении Датского принца Иоанна, юношу мудрого и добродетельного, призвал его в Россию и среди общего бедствия честил и угощал его пышно, готовя себе подпору в чужеземном венценосце, а своей гордости – новое утешение. Русские бояре полюбили Иоанна, а клевреты Бориса возненавидели его. Он умер в Москве от недуга, оплакиваемый всеми добрыми людьми. Глас народа обвинял Бориса в его смерти. Говорят, будто Борис, опасаясь, чтоб бояре не предпочли Иоанна сыну его Федору, приказал отравить будущего зятя. Не знаю, справедиво ли это обвинение, но я видел слезы Бориса. Когда он сказал Ксении: "Любезная дочь! твое счастие и мое утешение погибло!" – злополучная упала без чувств к ногам родителя… Нет! Борис не мог желать смерти Иоанновой, а желал ее злодей Семен Годунов (35).
– Итак, Ксения любила Иоанна? – спросил Лжедимитрий и нахмурился.
– Так думали в Москве, – отвечал Хрущов и продолжал повествование: – За казнями и голодом наступило новое бедствие. Появился ужасный разбойник Хлопка, прозванный Косолапым, и, собрав многочисленные шайки из слуг, которых господа не хотели кормить во время голода, из челядинцев опальных бояр, из людей воинских и преступников, которыми населяли Украину, грабил, жег, убивал и мучил людей под самою Москвой и угрожал овладеть столицею. Долго свирепствовал Хлопка, пока царь, стыдившийся воевать с разбойником, решился послать против него войско. Наконец окольничий Иван Федорович Басманов собрал рать, выступил в поле, разбил злодеев, но сам лишился жизни в битве. Хлопка погиб в муках, шайки его рассеялись, но зло и поныне не истреблено: бродяги гнездятся в лесах и местах неприступных, ожидая нового атамана, чтоб терзать отечество.
Но все сии несчастия не столько смущали Бориса, сколько весть о тебе, царевич! С тех пор, как ты был в Москве, Борис не имеет покоя ни днем ни ночью, мучится подозрениями, наполнил Москву и Россию своими соглядатаями и старается открывать повсюду твоих приверженцев. Ты помнишь, государь, с какою осторожностью поступал боярин меньшой Булгаков, когда ты с Леонидом явился к нам с первым известием, что жертва Борисова умысла не погибла в Угличе. Булгаков на пиршестве забыл обыкновенную свою осторожность и вместе с Смирновым пил за твое здоровье. Их схватили, пытали, но Булгаков вытерпел все мужественно и не изменил нам. Смирнова умертвили в темнице, а Булгакова приговорили бросить в реку. Это первые жертвы верности к царю-изгнаннику: честь и слава их именам! (36)
– Честь и слава! – повторили слушатели.
– Чем более Борис старается скрывать известие о твоем появлении, царевич, тем быстрее распространяется молва, и любопытство народное не имеет пределов. Грамоты твои читают и списывают, невзирая на строгое запрещение и казни. Воеводы со всех концов России доносят Борису, что народ тебе благоприятствует.
Я был прежде в немилости у Бориса по преданности моей к Романовым, но как родной дядя мой имел случай оказать услугу боярину Семену Годунову, то он успел оправдать нас пред царем. После опалы Романовых я послан был в Василь-город для укрепления острога, но, не кончив дела, отозван в Москву. Борис призвал меня к себе и сказал: "Поезжай на Дон и узнай, что там говорят о злодее моем, называющемся царевичем Димитрием. Собери атаманов и есаулов, объяви им милость мою, раздай подарки, которые получишь из моей царской казны, и скажи, чтоб не давались в обман, но служили мне верно, а я пожалую Донское войско многими льготами. Ты знаешь меня, Хрущов, знаешь, что я умею казнить и миловать. Помни о своей голове! Я избрал тебя для того, что мне хочется возвысить род ваш. Заслужи это в нынешнем случае!"
Я отправился в путь и повсюду примечал нетерпение увидеть скорее твои царские очи, государь Димитрий Иванович. В Путивле приятель мой, воевода, сказал мне, что при твоем появлении весь народ восстанет. В Ливнах я встретил воевод Петра Шереметева и Михаилу Салтыкова, которые собирают войско, будто противу татар. Когда я открыл им за тайну причину моего посольства на Дон, они испугались, и Шереметев, пожав плечами, сказал: "Мы ничего не знаем, однако из сего догадываемся, что не против перекопского царя, но против другого царя нас отправляют, и ежели сие так будет, то трудно воевать против природного государя" (37). На Дону я нашел всеобщее смятение: там не хотели даже слушать меня. Дары царские роздали неимущим, а меня, скованного, повезли к тебе, за что я благодарю Бога, узнав в тебе истинного царевича. Одним словом, войско, народ и бояре в душе уже поклоняются тебе, царевич. Ступай и возьми царство Московское, свою вотчину. Годуновы нелюбимы, и одно имя твое низвергнет Бориса с престола.
– Видите ли, высокопреосвященный, и вы, господа, – сказал Лжедимитрий, – в каком состоянии находится Россия, которой хотят лишить меня ваши риторы, чтоб оставить ее во владении непримиримого врага Польши. Донесите королю, что поведал нам знаменитый боярин, не наученный мною, но действовавший противу меня и приведенный пленником. Когда после этого Польша останется равнодушною, тогда я пойду к царю Персидскому или к султану и у неверных найду покровительство, в котором отказывают мне паны радные.
Лжедимитрий встал и, простясь с хозяином, поехал верхом в свое жилище в сопровождении своей свиты, Мнишеха и князей Вишневецких.
ГЛАВА VI
Замечания русских о Польше. Прием у Польского короля. Любовное свидание.
В доме, занимаемом Лжедимитрием, в Кракове, в Армянской слободе, все было в движении. В этот день после обеда назначен был Лжедимитрию прием у короля. Иезуиты беспрестанно прибегали в дом один за другим; воевода Мнишех и князья Вишневецкие несколько раз посещали Лжедимитрия в одно утро. Сам нунций приезжал один раз с Мнишехом. Служители рассылаемы были с письмами ко многим знатным полякам. Ян Бучинский и Слонский писали целое утро, а Меховецкий и Станислав Бучинский разъезжали по городу, возвращались и снова отъезжали из дому. Но русские дворяне из свиты Лжедимитрия не принимали никакого участия во всеобщей деятельности. Об них не было и помину. Некоторые из них пошли прохаживаться по городу, а Хрущов остался в своей комнате, в верхнем жилье, с Осипом и Кириллом Хрипуновыми. Они завели между собою разговор.
Хрущов. Нечего сказать, царевич наш умен, а притом и научен разным языкам и наукам, о которых у нас слыхом не слыхивали. Да какой он ловкий на коне, как искусно владеет оружием; а притом как понимает дела, как речист! Молодец! Одно мне не нравится: он слишком тесно связался с этими гордыми панами, слишком много им доверяет и, кажется, более от них надеется, чем они в состоянии сделать.
К. Хрипунов. В этом ты ошибаешься. Мы уже три года живем в Польше и хорошо узнали здешние обычаи. Здесь всякий пан сам себе царь. Живет в своем замке, имеет свое собственное войско, делает что хочет и не боится никого – ни короля, ни закона. Иногда, как этим панам наскучит тягаться между собою по судам, так сильный нападает на слабого, да и отнимет землю. Это называется заездом. Иногда паны воюют от себя даже с иноземными царями, а чаще всего с воеводами волошскими и трансильванскими; иногда съедутся вместе да и составят союз противу собственного короля. И противу нынешнего они воевали, да другие паны посильнее: Замойский и его друзья вступились за короля и заставили упорных помириться и просить прощения. Тем дело и кончилось! Нет, брат! эта Польша такое государство, что кто смел да богат, тому черт не брат. Царевич делает весьма умно, что дружится с панами. Без них он бы ничего не сделал.
Хрущев. Чудное дело! Паны имеют свое войско, свои крепости! Да ведь на это надобно большой казны.
О. Хрипунов. У нас, брат, все Божье да государево; бояре и дворяне живут царским жалованьем, кормовыми да вотчинами, которые государю угодно оставлять при нас, а здесь иное. Кроме того, что паны имеют собственные города и обширные вотчины, которые получают по наследию от отцов своих и в приданое за женою, сам король раздает им во временное владение богатые казенные поместья с городами и замками, или, как здесь говорится, староства. За это паны обязаны платить часть доходов королю и содержать на его службу войско. Польша имеет немецкие города при море, куда по Висле паны отправляют пшеницу и всякий другой хлеб, лен, пеньку, лес, и за то сюда приходит такое несметное количество золота, что, видя даже, трудно верить своим глазам. Богатые паны получают червонцы и ефимки целыми бочками! Мудрено ли, что они могут содержать войско?
К. Хрипунов. Посмотрел бы ты, как они живут в своих замках. Что твои Кремлевские палаты в сравнении с убранством панских покоев! Не только скамьи и стулья, но и стены обиты шелковыми тканями, а иногда и парчою. На столах, на окнах, на печах стоят истуканы и разные дивные украшения из слоновой кости, янтаря, перламутра, серебра и золота. Большие часы, как изба, показывают сами собою кукольные игрища, битвы, пляски и наигрывают разные песни. В покоях стоят бочки с серебряными обручами, а у некоторых панов есть бочки из чистого серебра. Дорогих вин у них – как воды, и они по-нашему любят употчевать гостя. Столовою посудой из чистого серебра завалены кладовые, как в царских Кремлевских палатах. А что за оружие, что за сбруи! Все золото, серебро да драгоценные камни: яхонты, изумруды. Даже коней куют серебряными подковами. Колымаги, рыдваны раззолочены, окованы серебром. Жены и дочери панов наряжаются, как царевны, в жемчуги, алмазы и дорогие парчи, да и сами паны любят не только дорогие камни, меха и парчи, но и бросают деньги из одного тщеславия за вещи, которые у нас не имеют никакой цены. Поверишь ли, что за белое цаплиное перо к шляпке платят здесь по пятисот червонных и более (38).
Хрущев. За перо к шапке пятьсот червонных! Да за это у нас можно купить целую вотчину!
О. Хрипунов. Польский пан ничего не жалеет для удовлетворения своему тщеславию. Здесь, изволишь видеть, такой обычай, что всякий дворянин имеет свою печать с каким-нибудь особым изображением. Это называется герб, и в существе значит то же, что наш царский орел или наши печати при подписях (39). Этим-то гербом более всего гордятся польские паны и клеймят им не только оружие, конскую сбрую, колымаги, но и всю домашнюю утварь. На воротах замка, над дверьми, на стенах, даже в церквах – везде видны эти гербы; они вышиты на знаменах их домашнего войска, на значках у пик и даже на одежде слуг (40). Каждый шляхтич имеет такой герб и почитает себя равным самому богатому вельможе, хотя бедные дворяне служат у богатых, не стыдятся самой низкой должности в доме; и у нас знакомцы служат боярам, только не в холопском деле (41).
Хрущов. А я думал, что вся эта многочисленная прислуга у панов и эти воины – из поселян или из холопей.
К. Хрипунов. Нет! здесь поселянина не почитают даже человеком и верят, что он не так создан, как мы, дворяне. Ни за что в мире шляхта не позволит, чтоб холоп или даже купец служил в войске. Это заставило бы всю шляхту отказаться от воинской службы.
Хрущов. Неужели у них так много дворян, что из них одних можно выставить целое войско?
О. Хрипунов. Если б вся шляхта собралась, то было бы, как уверяют, до трехсот тысяч конницы. Здесь шляхта заселяет иногда целые деревни и часто ничем не отличается от холопей, как только названием и гербом. Иному не на что купить не только коня и оружия, но даже кафтана, а посмотри на него – горд, как воевода, и, правду сказать, есть чем гордиться: все они, бедные и богатые, имеют одни права и голос на их соборах, или Сеймах.
Хрущов. Триста тысяч конницы! А сколько же пехоты?
О. Хрипунов. Шляхтич ни за что не согласится служить пешим на войне. Это почитается бесчестием. Для пешего войска король и паны нанимают немцев и венгерцев, а кроме того украинские и запорожские казаки составляют их пехоту.
Хрущов. Скажите мне, пожалуйте, как здесь узнать чиновных панов. Я примечаю большую разницу в одежде: верно, это составляет различие в чинах или должностях?
К. Хрипунов. Совсем не то! Здесь нет, как у нас, народного покроя в одежде. Король одевается по испански. Царедворцы и любимцы следуют его примеру. Другие паны, особенно старики и знаменитые вельможи, носят русские ферязи, только без стоячего воротника, а поверху волошскую шубу с короткими рукавами, опушенную соболями, бурыми лисицами или горностаем. На голове носят высокие собольи или рысьи шапки с длинным висячим бархатным верхом. Эту шапку называют они колпаком. Летом носят малые бархатные шапки с пером. Молодежь по большей части одевается по-венгерски в полукафтанье, с шитьем и золотыми шнурками на груди, и носит малые четвероугольные шапки. Недавно ввелся обычай одеваться по-татарски, в широкие атласные шаровары, в шелковый или парчевый зипун и в кунтуш – верхнее платье с открытою грудью и прорезными, закидными за спину рукавами. При этом платья опоясываются богатыми персидскими кушаками. Ты видел Жолкевского в этом наряде: он хорош и мне нравится более других. Старики из небогатой шляхты, живущей в своих поместьях, одеваются, как жиды, в черный зипун и длинный черный плащ, а голову покрывают черною шапочкой. По зипуну опоясываются широкими кожаными кушаками. Сказывают, что за сто или менее лет пред сим не только вся Польша, но и все другие народы одевались таким образом. Теперь здесь кто ходит с бородой, кто с одними усами, кто отращивает бороду по одной нижней части лица, по скулам, а остальное бреет; кто носит малую бороду под нижнею губой. Один зачесывает волосы вверх на голове, как наш царевич, другой отпускает длинные кудри, третий подбривает по-татарски и запорожски. Словом, здесь ни в чем нет порядка, единообразия, и по этой пестроте одежды ты можешь судить обо всем. Здесь все пестро! Все зависит здесь от воли и прихоти. Даже вера не одна в Польше. Один пан – папист, другой учения папского противника Лютера, третий – арианин, четвертый – православный; чего хочешь, того просишь! Скажу более: даже язык у них не один. Литовские паны, как, например, Сапега, Пацы, Ходкевичи, князья Острожские, Радзивиллы и другие, говорят и пишут по-русски. Многие коронные паны употребляют для разговора и письма язык латинский; те, которые долго служили в чужих землях, употребляют языки испанский, итальянский и Бог весть какой! Во всем такая разладица, что Господи помилуй! Здесь справедлива пословица: кто в лес, кто по дрова!
Хрущов. Что мудреного, что они дерутся и бранятся между собою, когда у них не одна вера, не один язык, не одна одежда, и если кто богаче, тот и лучше! Боюсь я, чтоб у нас не завелось этого, когда царевич наведет с собою в Россию этой саранчи! А еще более опасаюсь, чтоб они не произвели своего заезда в России.
О. и К. Хрипуновы. Сохрани нас, Боже, от этого!
Хрущов. Удивляюсь, как вы здесь прожили благополучно три года!
К. Хрипунов. Жить здесь можно и спокойно, и весело. Поляки люди добрые, щедрые, гостеприимные и сострадательные. Только не тронь их самолюбия – они готовы отдать тебе последнее и станут защищать, не жалея своей головы. Здесь богатые почитают за священный долг воспитывать детей бедных и пещись о них всю жизнь. Паны содержат на свой счет школы, богадельни, охотно помогают нуждающимся и, правду сказать, содержат многочисленную прислугу более для пропитания бедных, нежели по нужде и охоте. Поклонись и попроси – ни в чем не откажут, но потребуй силою – так и беда! От того-то и управлять ими легче, нежели многие думают. Мудрые их короли всегда пользовались их мягкостью и делали с ними что хотели, следуя только народной пословице: "Поляка поведешь на край света на шелковинке, но не прикуешь железною цепью". Они вообще страстно любят свое отечество и королей, и хотя любят покричать и повздорить на своих Сеймах, но охотно жертвуют всем, если король их обласкает. Драться они мастера и храбры, как сам знаешь, до невероятности. Помни, что это наша славянская кровь. Повторяю: с поляками легко ужиться, только надобно знать их.
Хрущов. Видно, что наш царевич нашел эту шелковинку, которою можно вести поляков на край света. Они весьма полюбили его. Народ толпится вокруг него и приветствует радостными восклицаниями; знатные паны служат ему, как своему собственному королевичу. Посмотрим, что-то скажет король!
О. Хрипунов. Да, сегодня решится наша участь.
К. Хрипунов. Меховецкий сказывал, что царевич намерен идти к туркам или персиянам просить помощи, если ему откажут в Польше.
Хрущов. Не дай Бог связаться с бусурманами.
К. Хрипунов. Уж если нельзя обойтись без чужеземцев, так все лучше иметь дело с поляками. Все это свои: хоть двоюродные – а братья.
* * *
После обеда приехал нунций папский в раззолоченной четвероместной карете, обитой в средине красным бархатом, с страусовыми перьями наверху, повешенной на серебряных цепях. Карета запряжена была шестью белыми конями в богатых шорах, с серебряными бляхами, с страусовыми перьями на голове. Один человек, сидя верхом на коренном коне, управлял шестернею. Четыре гайдука стояли на запятках в венгерской одежде. Двадцать четыре всадника королевской стражи в шведских лосиных куртках, больших сапогах, стальных нагрудниках, малых круглых шлемах с белыми перьями окружали карету. Лжедимитрий сел рядом с нунцием и отправился в замок королевский. Вся свита его осталась дома.
В приемной зале, украшенной драгоценными венецианскими зеркалами, составлявшими в то время первое богатство в убранстве комнат, находилось множество царедворцев и вельмож польских, прибывших из любопытства, чтоб видеть Московского царевича, которого баснословная история была предметом всех разговоров. Воевода Мнишех, сын его, князья Вишневецкие и все приверженцы Лжедимитрия превозносили его качества пред другими панами. Наконец явился Лжедимитрий. Он был в синем бархатном кафтане русского покроя, но против обыкновения весьма коротком, до колен. За золотым поясом был у него кинжал, осыпанный дорогими каменьями, а на бедре сабля турецкая. Белые атласные шаровары и красные сафьянные сапоги довершали наряд. Лжедимитрий вежливо поклонился на все стороны и подошел к Мнишеху; но подкоморий коронный не дал им времени к разговорам: он объявил, что король ожидает его в своих комнатах. Нунций взял Лжедимитрия за руку и повел к королю.
Сигизмунд стоял возле мраморного столика, на котором находились большие золотые часы в виде павлина, письменный прибор и лежали бумаги. В алькове за бархатным занавесом, открытом до половины, видна была домашняя молельная, или часовня. Перед большим распятием, по сторонам коего стояло в ряд по шести серебряных подсвечников, устроен был алтарь, а перед алтарем стоял налой с ступенью для коленопреклонения. На налое лежала книга, а на ступени бархатная подушка. Стены комнаты обиты были золотою парчой и украшены несколькими картинами, изображающими деяния святых. В шкафе из черного дерева с серебром хранились мощи и священные вещи, принесенные из святых мест, посещаемых богомольцами. Карты Польши и Швеции висели на стене возле столика.
Король, еще в цвете лет, был высокого роста, сухощав; черты лица его были резко обозначены и закруглены на оконечностях. Навислые брови и сморщенный лоб обнаруживали его угрюмость. Русая борода, одной ширины с нижней губой, лежала на круглом, накрахмаленном воротнике; длинные усы были закручены вверх. Он был одет в белое атласное испанское платье с золотым шитьем и голубыми бархатными нашивками; на плечах имел бархатный голубой шитый золотом испанский плащ, а на голове пуховую круглую шляпу с высокою тульей в виде конуса; широкие поля шляпы пристегнуты были спереди алмазною пряжкой и осенены белыми страусовыми перьями. На голубой перевязи, вышитой золотом, висела длинная шпага с рукоятью, осыпанною драгоценными камнями (42).
Король стоял, опершись левою рукой об стол, с обыкновенною своею важностью и с ласковою улыбкой протянул руку, которую Лжедимитрий поцеловал и, низко поклонившись королю, сказал (43):
– Вашему величеству известны уже все обстоятельства моей несчастной жизни. Борис Годунов, неблагодарный за милости отца моего Иоанна и брата Феодора, устремился на погибель мою, хотел прекратить дни мои и лишить престола. Но Господь Бог, спасая меня от рук убийцы, вселил в душу мою твердость к перенесению тяжкого испытания и мужество к отыскиванию моего наследия. Следую примеру других владык, постигнутых несчастием, подобным моему. Кир и Ромул (44), воспитанные пастырями, но рожденные в царских чертогах, впоследствии сделались основателями великих государств. Надеюсь на Бога, на справедливость моего дела и на помощь избранных владеть судьбою народов. Государь! вспомни, что ты сам родился в узах и спасен единственно провидением. Державный изгнанник требует ныне от тебя сожаления и помощи (45).
Лжедимитрий, кончив речь, снова поклонился королю и в молчании ожидал ответа. Подкоморий коронный дал ему знак, чтоб он вышел в приемную залу. Здесь окружили его воевода Мнишех, князья Вишневецкие и другие приверженцы, а король остался с нунцием для совещания. Лжедимитрий был в унынии, не зная, чем кончится это свидание, и не внимал речам воеводы, который беспрестанно повторял уверения в своей дружбе и преданности.
Наконец подкоморий коронный уведомил Лжедимитрия, что король просит его к себе и позволяет знатнейшим панам сопровождать царевича. Мнишех и Вишневецкие с толпою друзей своих вошли в комнату королевскую. Сигизмунд встретил Лжедимитрия с веселым лицом и сказал, приподняв пред ним шляпу, чего прежде не сделал (46):
– Да сохранит вас Бог, Димитрий, князь Московский! Из слышанного нами и по представленным нам письменным доказательствам признаем вас таковым и в знак нашего благоволения определяем вам по 40 тысяч злотых в год (47) на ваши потребности. Кроме того, как другу нашему, находящемуся под нашим покровительством, позволяем вам входить в сношения по делам с нашими панами и принимать от них советы и помощь, которые покажутся вам благоприятными.
Речь сия до такой степени восхитила Лжедимитрия, что он пребыл безмолвен и, воздев очи и руки к небу, казалось, молился. Наконец он низко поклонился королю, а нунций отвечал за него:
– Государь! благодетельствуя державному изгнаннику, ты отверзаешь себе небеса и распространяешь свою славу земную. Московский князь, благословляемый наместником святого Петра на великий подвиг, будет, как гласит Писание, тот краеугольный камень, на котором утвердится западная церковь на севере. Мы должны благодарить тебя не только от имени церкви, но и от всего христианства. Се новый Иоас, спасаемый промыслом Господним от ярости Гофолии; и да возрадуется Иерусалим его пришествию!
Подкоморий коронный дал знак, и все, поклонившись королю, вышли из комнаты.
– Помилуйте, государь, что вы сделали, следуя советам Рангони! – сказал Тарновский королю. – Мы сами нуждаемся в деньгах, а вы даете по 40 тысяч злотых в год царевичу?
– Молчи! – отвечал король тихо с улыбкою. – Мы сегодня целую ночь работали с Вольским и уже чуть-чуть не открыли тайны делать золото. Надеемся на будущий опыт, и тогда куплю не только Польшу и Швецию, но всю Европу! Молчи и радуйся! – будет и тебе хорошо! Мы с Вольским непременно постигнем эту тайну!
Стража, стоявшая в сенях, оказала Лжедимитрию воинскую почесть, и он возвратился к себе в дом с нунцием, Мнишехом и Вишневецкими. Здесь нунций объявил волю королевскую:
– Сигизмунд, опасаясь сопротивления на Сейме и будучи сам занят войною со Швециею, не может объявить войны России и вспомоществовать царевичу войском, – сказал нунций, – но он позволяет всем панам вооружиться на свой счет и идти в Россию под хоругвию царевича.
– Дело решено, – возразил Мнишех. – Завтра же отправляюсь в Львов, пишу письма ко всем друзьям моим и, приехав туда, тотчас приступим к делу!
– Только не медлить, – сказал Лжедимитрий, – и завтра же в путь!
– И мы идем с вами, – сказал князь Константин Вишневецкий. – Если начинать, так начинать! Один день потери важен, когда дело идет о царстве!
– Княжеская кровь! – сказал Лжедимитрий, приятно посмотрев на Вишневецкого.
Нунций обнял царевича и, поцеловав его, сказал:
– Не забудьте главного: объявите себя католиком и сделайте воззвание к россиянам.
Лжедимитрий прервал слова его:
– Умерьте ваше усердие! Этим мы испортим все дело. Разве вы не знаете закоренелой ненависти россиян к римской церкви. Они отступятся от меня и не признают своим государем католика. Прежде надобно иметь силу, а после действовать. Предоставьте это мне. Я вам обещал и исполню, но теперь надобно думать об одном – об овладении престолом; и к этому поможет мне более всех русское духовенство, преданное царскому поколению.
По долгом совещании положено было скрывать до времени намерение ввести в России католическую веру и обращение к оной Лжедимитрия.
– Где останется ваше семейство? – спросил Лжедимитрий у Мнишеха.
– Я еду с целым моим домом, – отвечал воевода. – Где надобны убеждения, там не худо иметь красавиц с собой, – примолвил он с усмешкою. – Польки наши умеют глазками своими возбуждать к великим подвигам, а при моей дочери – целый собор красавиц! – Собеседники расстались, и Лжедимитрий дал приказание изготовиться к пути.
* * *
Когда все разъехались, Лжедимитрий пошел в свою комнату и нашел на своем столике письмо. Он сорвал печать и прочитал следующее: «За час до полуночи ступай в сад воеводы Мнишеха. Ты найдешь ключ под камнем возле калитки с восточной стороны ограды. Темною аллеей подойди потихоньку к угловому павильону, примыкающему к комнатам панны Марины; остановись возле трех лип, осеняющих окно с левой стороны, и слушай внимательно. Там услышишь ты и увидишь такие вещи, которые просветят тебя на твоем поприще и откроют сердца людей, которым ты вверяешь судьбу твою».
Лжедимитрий позвал Меховецкого и, показав ему письмо, спросил:
– Что ты об этом думаешь?
– Опасаюсь подлога или какого-нибудь злого умысла со стороны злодеев, подкупленных Годуновым; однако ж советую испытать счастие. Я пойду с тобою и возьму несколько вооруженных людей, которых оставим у входа.
– Хорошо, пойдем! – отвечал Лжедимитрий. – Чтоб избегнуть опасности, надобно идти ей смело навстречу.
Меховецкий вышел, чтоб выбрать несколько смельчаков из стражи, а Лжедимитрий вооружился, накинул на себя плащ и сошел вниз, где ждал его Меховецкий. Они вышли на улицу, приказав шести гайдукам следовать за собою в некотором отдалении.
Меховецкий остался в темной аллее, а Лжедимитрий подошел к павильону. Сперва было все тихо, после того раздались звуки гитары и унылый напев польской песни. Лжедимитрий узнал голос Марины, своей невесты. Вскоре Дверь в противоположной стене павильона отворилась, и Лжедимитрий услышал шаги мужчины, вошедшего туда из сада. Он стал внимательнее.
– Вы требовали от меня свидания, Осмольский, – сказала Марина. – Я не могла отказать вам. Но к чему это послужит? Я не могу ничего сказать вам, кроме того, что объявила от моего имени Хмелецкая. Обстоятельства переменились: вы должны отказаться от руки моей, забыть любовь. Я невеста царя Московского!
– Забыть любовь, отказаться от руки вашей! – воскликнул Осмольский. – Любовь рождается и живет в сердце, а не в голове; она не подвержена влиянию памяти. Мне забыть любовь! Марина! неужели вы забыли те клятвы, те уверения в любви ко мне, которые составляли мое счастье и ваше? Так смею сказать, повторяя слова ваши. Давно ли вы уверяли меня, что, если родители ваши не согласятся на брак наш, то вы решились обвенчаться со мною тайно, даже бежать в Венгрию? И эта пламенная любовь исчезла, рассеялась при появлении чужеземца, прошлеца?
– Царя Московского! – сказала Марина гордо.
– Итак, честолюбие изгнало любовь из вашего сердца или, по крайней мере, заглушило ее, – сказал Осмольский. – Подумали ли вы, Марина, кому отдаете руку, кому вверяете судьбу свою? Какой это царь? Русское дворянство и духовенство согласно признает его бродягою, беглым чернецом, расстригою. Вы читали грамоты Московского царя и патриарха Иова, где описана бродяжническая жизнь этого прошлеца. Родной дядя его, Смирнов-Отрепьев, объявил лично королю всю истину и клятвенно подтвердил, что мнимый Димитрий есть Григорий Отрепьев. Что будет с вами, если обман откроется?
– Вы повторяете все то, что говорят враги моего жениха. Но какая мне нужда до всех эти слухов? Я не отдам ему руки моей, пока он не воссядет на Московском престоле.
– Итак, престол соблазняет вас! Но только рожденные для престола могут твердо держаться на нем. Ступени его скользки для честолюбцев.
– Я шляхтянка польская и имею такое же право на престол, как все принцессы. Разве Варвара Радзивиллова не была королевою Польскою, женою Сигизмунда Августа? Разве Глинская не была великою княгинею Московскою?
– Я говорю не об вас, но о женихе вашем. Если б он даже и достиг желаемого, то кто поручится за будущее? Повторяю: в таком важном деле нельзя долго обманывать. Здесь он может обольщать нас сказками, но в России должна открыться истина!
– Пускай он будет царем хотя один день. Мне и этого довольно. Я не хочу видеть так далеко в будущем.
– Марина, одумайтесь! Для неверного титула, для мнимого величия вы жертвуете своим счастием. Может ли этот честолюбец так пламенно, так страстно любить вас, как я? Можете ли вы любить этого человека с мрачным взглядом, на лице которого ясно изображаются жестокость, пронырство? Вспомните, что вам сказала убогая женщина. Она назвала его убийцею, клятвопреступником, предостерегала вас не вверять судьбы своей вероломному.
При сих словах Лжедимитрий вспомнил о Калерии, и невольный трепет пробежал по всем его жилам.
– Брачное ложе без любви – гроб! – сказал Осмольский. – А вы не любите вашего жениха, Марина!
Она не отвечала ни слова. Осмольский по некотором молчании сказал:
– Скажите, любите ли вы своего жениха?
– Зачем вы спрашиваете меня об этом? Я дала слово царю Московскому и буду его женою.
– Я уверен, что вы не можете любить его и что одно честолюбие заставляет вас забыть данные мне клятвы, сделать меня несчастным! Марина, я не могу перестать любить вас и на коленях умоляю, чтоб вы любовью и рассудком рассеяли мечты величия, возвратили мне сердце, отвергли предложение прошлеца. Та самая убогая женщина, которая предостерегала вас третьего дня вечером, остановила меня вчера на улице и сказала, чтоб я избавил вас от верной погибели. Этот мнимый царевич уже убил свою любовницу…
– Ложь и клевета! – сказала Марина. – Я не хочу входить в подробности прежней жизни моего жениха. Царица Московская и великая княгиня Пскова и Новагорода не боится никаких угроз и не слушает никаких наущений.
– Марина! Вы не любите вашего жениха!
Марина снова не отвечала ни слова. Несколько минут продолжалось молчание; наконец Марина сказала:
– Прошу вас никогда не отягчать меня этими вопросами. Я буду женою царя Московского – это дело решенное. Если вам угодно, я приму вас ко двору моему в звании моего придворного кавалера и позволю сопутствовать мне в Москву.
Не дожидаясь ответа, Марина поспешно вышла из павильона в комнаты и прихлопнула дверь. Лжедимитрий возвратился в темную аллею и, взяв за руку Меховецкого, быстрыми шагами вышел с ним из саду и запер калитку. Лжедимитрий был встревожен и несколько времени шел в безмолвии, погруженный в думу. Наконец он спросил Меховецкого:
– Знаешь ли ты Осмольского? Что это за человек?
– Это дворянин богатого рода, отличного заслугами и в связях со многими знатными домами. Осмольский отличается между всеми юношами необыкновенною красотой, ловкостью и вежливостью. Он служил в телохранителях Французского короля и недавно возвратился в отечество. Дальний родственник его, примас Карнковский, хочет поместить его при дворе Сигизмунда; но король поныне холоден к нему, как думают, из ревности, намереваясь вступить в брак с молодою княжной Австрийскою. Поговаривают о любви Осмольского к невесте твоей, Марине, и даже о взаимности с ее стороны. Утверждать не могу, ибо наверное не знаю; но знаю то, что этот Осмольский враг твой, держится партии Замойского и явно утверждает, что ты не царевич. На вечеринке у пани Хмелецкой, большой приятельницы панны Мнишех, он много рассказывал о тебе молодым людям и утверждал, будто ты имел какую-то любовницу… словом, говорил много нелепостей.
– Хорошо, пусть он говорит что хочет, – возразил Лжедимитрий. – Но какого он нрава, какие его склонности?
– Он человек пылкий, но добродушный, любитель прекрасного пола, музыки, стихотворства, жадный славы, почестей, как обыкновенно молодые люди хорошего воспитания и происхождения. Он всеми любим и имеет множество друзей между знатным юношеством.
– Меховецкий! ты должен мне оказать услугу: подружись с Осмольским и постарайся привлечь его на нашу сторону обещаниями наград и почестей. Я хочу устроить прислугу царскую для моей невесты, когда отправлюсь с войском в Москву, и намерен поручить Осмольскому начальство над телохранителями.
– Помилуй, царевич! Я тебе слегка намекнул о любви его к Марине, то теперь должен уведомить, что никто не сомневается в том, что они взаимно любят друг друга. Какие из этого будут последствия?
– Мир и согласие в доме! У меня есть свои виды, любезный Меховецкий. Ты все узнаешь после. Теперь только постарайся привлечь Осмольского на мою сторону и предложи ему службу при дворе будущей Московской царицы.
ГЛАВА VII
Польская мелкопоместная шляхта. Набор войска. Панский пир.
Возле рогаток города Львова, со стороны Люблина, сидели три городские стражника в оборванных епанчах, в измятых поярковых шляпах с длинными полями и в ожидании товаров и пошлины ели ложками из одного горшка гретое пиво с сыром и сметаной, прикусывая жидовские крендели. Вдруг поднялась пыль на Люблинской дороге; стражники схватили свои алебарды и поспешно допили пиво чрез край. Пыль приближалась, и они увидели толпу конных и вооруженных людей, которые скакали во всю прыть.
Первый стражник. Что это за люди? Уж опять не хотят ли ввезти силою товаров, не заплатив королю пошлины?
Второй стражник. Бог ведает! Дороги ныне полны всякой сволочи. Собирают войско противу шведа и москаля.
Всадники приблизились к рогаткам. Это были толстые, высокие, краснолицые люди с длинными усами. У каждого была сабля; многие имели за плечами ружье, обвязанное бараньей шкурой шерстью вверх. Некоторые из всадников имели пистолеты. Большая часть одеты были в жупаны толстого сукна или крашеного холста темных цветов, подпоясаны кожаными кушаками с медною пряжкой напереди, в суконных шапках с бараньими околышами. Некоторые имели на плечах старую суконную епанчу, другие медвежью или волчью шкуру шерстью вверх. Иные были в старых желтых и красных сапогах, а другие в простых мужичьих ходоках (48). Все сидели ловко и крепко на конях.
Толпа остановилась, а вперед выехал человек огромного роста, средних лет, с длинными черными усами. Он был в поношенном кунтуше и жупане, в длинной синей епанче и на голове имел баранью шапку с длинными висячими концами.
Передний всадник. Гей, вы, стражники, отворяйте рогатки! Скорей, мошенники, королевские слуги!
Стражник (идет отворять рогатку). Да будет восхвален Иисус Христос!
Передовой всадник. Во веки веков, аминь!
Стражник. А куда едут господа рейтары?
Передовой всадник. А тебе какая нужда, осел? Видишь, что в Львов. Ты, верно, не знаешь еще конфедератов! Не одного вашего брата, слугу королевского, мы так проучили, что он и теперь пляшет, повиснув на дереве.
Стражник (в страхе). Попытка не шутка, а спрос не беда! Просим прощения.
Передовой всадник. Ничего, прощаем! Видно, что ты трус и дурак! Хотя бы вам, однако ж, и не следовало прощать, потому что все вы, горожане, обыкновенно придерживаетесь королевской партии. Скажи-ка, где здесь собираются конфедераты?
Стражник. Какие конфедераты?
Передовой всадник. Какие конфедераты! Такие, которые соединяются и составляют конфедерацию противу короля. Не знаешь, что ли?
Стражник. У нас не слышно ни о какой конфедерации и нет никаких конфедератов.
Передовой всадник. Это что значит? Говори правду, осел, а не то изрубим в куски! – Как нет конфедератов? Иосель, жид, арендарь пана Конецпольского, был в прошлую пятницу перед шабашом в Львове и видел, как на всех улицах шляхта составляла конфедерацию и вооружалась противу короля. Даже господа конфедераты побили крепко этого жидка за то, что пан его корчмы приятель королевский.
Один всадник из толпы. Что вы теряете время в разговорах с этим плебеем, пане Михаила! Что эти мещане разумеют в шляхетских делах? Вот какой-то шляхтич едет из города, спросим у него!
В это время подъехала к заставе огромная бричка, крытая холстом, запряженная пятью лошадьми, из которых две были в дышле, а три рядом спереди. Извозчик сидел верхом на дышловом коне и управлял тремя передними одною вожжой, похлопывая длинным бичом. Бричка устлана была перинами, между которыми торчали головы сахару, бутыли, а напереди виден был бочонок. По бокам лежали ружье, сабля и пистолеты. Толстый усатый шляхтич сидел на перинах, завернувшись в епанчу и насунув высокую шапку на глаза.
Передовой всадник (добыл рожка из-за пазухи, подъехал к бричке и попотчевал шляхтича табаком). С позволенья вашего, милостивый государь! Нельзя ли спросить вас о некоторых обстоятельствах политических, касающихся до нашего шляхетского состояния? Я есмь Михаила Пекарский, ротмистр Черской земли (при сем покручивает усы). Имя мое, верно, вам известно. Не хвалясь, скажу, что я был первым наездником в конфедерации пана Самуила Зборовского, которому пан Ян Замойский отрубил голову в Кракове; не последним также был я в конфедерации Христофора Зборовского при покойном короле и на элекцийном Сейме держался партии их же, Зборовских, и дал мой голос в пользу князя Австрийского Максимилиана. Если б его немцы не струсили под Бычиной и не дали побить себя пану Замойскому, то Максимилиан был бы королем, а Михаила Пекарский, ротмистр земли Черской, был бы кастеляном или воеводою (49). Но не в том дело. Я завсегда защищал вольности шляхетские, как следует digno republicae civi (т. е. достойному сыну республики), и когда целая Польша признала шведа королем, я один протестовал противу этого выбора и удалился в деревню, чтоб не быть участником постыдного дела. Господа сенаторы продают наши вольности шляхетские бабам, окружающим короля. Известно, что он связался с Австриею, посылает казаков на помощь немцам (черт их побери!), для того что немцы обещали ему уничтожить права наши избирать королей и заставить нас при жизни короля признать наследником королевича Владислава. При всем этом король нарушает права шляхты и братского равенства, составляя ординации и позволяя принимать чужеземные титулы и ордена (50). Видите ли, что мы хорошо знаем политические дела наши так же, как умеем владеть саблею! При сем случае имею честь рекомендовать вам приятеля моего, Бонавентуру Цециорку, герба сорвикаптур (51), шляхтича от потопа, славного наездника, привязанного душою и телом ad jura et privilegia praeclarae gentis Polonae (т. е. к правам и привилегиям польской нации). Пан Бонавентура Цециорка служил со мною во всех конфедерациях, сжег в имениях пана Замойского и королевских двадцать шесть корчем вместе с жидами, разбил и выпил семьдесят шесть погребов в имениях приятелей королевских!
Высокий и толстый шляхтич, пан Бонавентура Цециорка, высунулся из толпы и, покручивая усы, поклонился шляхтичу в бричке, который отвечал ему тем же.
Пекарский (обращаясь снова к шляхтичу в бричке). Вы, как добрый шляхтич, верно, не швед, то есть не приверженец короля?
Шляхтич в бричке. Весьма рад познакомиться с паном Пекарским, ротмистром Черской земли, о великих подвигах которого слышно и в нашем повете. О себе честь имею сказать, что я не принадлежу ни к которой партии и должен поспешать домой, а затем и не могу долее наслаждаться вашею приятною беседой. Завтра отдаю сыновей моих в коллегиум отцов иезуитов в Янове и везу им пару голов сахару и бочонок араку.
Пекарский. Только два слова! По весьма верным сведениям, полученным нами из Львова на прошлой неделе, узнали мы, что здесь, в Львове, составляется новая и прекрасная конфедерация для защиты прав шляхетских под начальством славного, известного гражданскими доблестями пана Неборского. Он вместе с конфедератами объявил врагами отечества всех приятелей короля, как-то: Мнишехов, Вишневецких, Фредро, Дворжицких и других и присягнул не сложить оружия до тех пор, пока не прогонит за море шведа с его бабами и королевичами. Я, всегда готовый проливать кровь мою за наше сокровище, права шляхетские, собрал по деревням и околицам нашего воеводства шестьдесят человек лихой шляхты, по большей части старых конфедератов, и приехал вписаться в конфедерацию от имени целого нашего воеводства. Удалая голь! пьет славно, а дерется еще лучше. Желаем узнать от вас, где наши конфедераты и где можем найти знаменитого мужа, пана Неборского?
Шляхтич в бричке. Вас ложно известили, милостивые государи. Здесь нет ни слуху ни духу о конфедерации. Пан Неборский почитается самым пламенным приятелем короля.
Шляхтич из толпы. А что, пане Михайло, не говорил я вам, что не должно верить этому проклятому жиду? Не говорил я, что мы напрасно собираемся в путь?
Другой шляхтич из толпы. Как можно было верить жиду? Как поколотили его порядком, то ему показалось, что целый свет составлен из конфедератов!
Третий шляхтич из толпы. Пустое! Жиды всегда имеют верные известия. Я слышал о конфедерации не от одного Иоселя. И тот жид, которого мы вчера разбили на дороге и хотели повесить, сказывал, что целый Львов в движении, что на улицах просят всех записываться в конфедерацию и потчевают вином и медом.
Четвертый шляхтич из толпы. Совершенная правда! Этот шельма жид сказывал, что все записываются в конфедерацию противу Московского короля, а мы посмеялись глупости жидовской.
Шляхтич в бричке. Вот что правда, то правда! Только это вовсе не конфедерация. Напротив того, пан Мнишех, пан Фредро, паны Вишневецкие, пан Дворжицкий и пан Неборский набирают охотников, чтоб идти войной на Москву. К ним убежал из Москвы с несметными сокровищами царевич Московский, которого выгнал какой-то боярин Гедеон или Годун, не вспомню названия! Эти паны обещали возвратить царевичу трон Московский, а пан Мнишех выдает за него замуж дочь свою, панну Марину.
Пекарский. Как! В Львове нет конфедерации противу короля и его шведов?
Шляхтич в бричке. Уверяю вас честью, нет и не бывало.
В толпе всадников начался шум и крик. Один после другого и по нескольку вместе стали кричать: "А что, пан Пекарский? – Славно мы попали! – Вот-те, вместо того, чтоб биться противу шведов, заехали в их тенета! – Кончится тем, что всех нас перевяжут и посадят в тюрьму! – Или отрубят голову, как пану Самуилу Зборовскому!
Цециорка. Полно! кто смеет посягнуть на нас? А право шляхетское: Neminem captivabimus nisi jure victum! (т. е. никто не подвергается заточению без суда).
Цыбович. Да, станут смотреть эти шведы на законы! Уж если они собираются, так не для того, чтоб толковать законы.
Пекарский. А черт их знал, что они тут делают! Кажется, как не верить жиду!
Шум и крик в толпе увеличился. В это время шляхтич в бричке сказал своему извозчику:
– Что ты зазевался, дурачина? Бей по лошадям, да и уходи скорее! Эта шайка негодяев готова ограбить нас у городской заставы и вылить мой арак. Скорей, скорей! – Шляхтич в бричке уехал за город.
Шляхта продолжала кричать и шуметь. Пекарский, возвысив голос, сказал:
– Господа! прошу прислушать!
Шляхтич из толпы. Что тут слушать! Ты, пане Пекарский, уверил нас, что паны Мнишех, Вишневецкие, Фредро, Неборский и другие объявлены врагами отечества, что мы пойдем разбивать их погреба и грабить кладовые, а теперь все выходит напротив!
Другой шляхтич из толпы. Господин Пекарский! это не пройдет тебе даром! Ты должен рубиться с каждым из нас!
Пекарский. Прошу прислушать! Господа, потише! Я вам дам добрый совет. Сказать по совести, нам все равно, чьи разбивать погреба и чьи грабить кладовые: было бы только в них хорошее вино и много всякого запасу. Если нельзя грабить Мнишеха и Вишневецких, пойдем и пристанем под их знамена и будем разбивать московские погреба и грабить московские кладовые. Ведь это паны добрые, этот Мнишех и Вишневецкие. Они исполнены доблестей гражданских и равенства шляхетского. Они идут на Москву с царевичем, который привез с собою сокровища; пойдем с ними. Что нам рассуждать, когда и знатные паны держат его сторону? Паны Мнишех, Вишневецкие и Неборский не дураки: они не поднялись бы на неверное дело, а к тому, верно, они хорошо платят охотникам. Повторяю: пойдем на Москву! Земля богатая, а какие славные московочки! Господа! кто не дурак, тот со мной, к пану воеводе Мнишеху и – на Москву!
Цециорка. Я с тобой, пане Михаила. Братья, шляхта! с нами, на Москву! Я был там с покойным королем Стефаном. Чудная сторона: всего вдоволь!
Часть шляхты отделилась от толпы с восклицаниями: "На Москву, на Москву!"
Шляхтич из другой толпы. А когда нас не примут в охотники?
Пекарский. Тогда воротимся домой. Купить не купить, а поторговать можно!
Многие голоса в толпе. Попробуем, посмотрим, что платят.
Пекарский. А вы, пане Крупович, что задумались?
Крупович. Думаю, что все это пустяки и вздор! Сперва поверили глупому жиду, потом глупому шляхтичу, который ускользнул от нас с араком и сахаром! Делайте что хотите, я не пойду с вами. Пане Цыбович, воротимся домой!
Цыбович. Твоя правда, брат, воротимся домой! Пане Олендский, пане Ясюкович, пане Гуронос, пане Будзкий, пане Рыбчинский, воротимся домой! Куда мы пойдем с этим превратным Пекарским? Он нас заведет черт знает куда! Взбесились вы, что ли, чтоб идти на Москву? Разве вы не знаете, что москали пожирают живьем католиков, лишь только их поймают, и круглый год питаются кобыльим мясом, как татары? Воротимся домой! Слышно, что пан Ржевусский хочет быть выбран послом на Сейм из Любельского воеводства. На день святого Михаила там будут семейки. Пан Ржевусский ищет нашей братьи, шляхты, для усиления своей партии и дает по сту золотых тому, кто умеет славно драться на саблях. Я приятель конюшему пана Ржевусского и слажу для вас это дело. Воротимся домой!
Ясюкович. Добрый совет! Пане Цыбович, мы с тобой! Черт их побери с их Мнишехами и Вишневецкими! У меня нет охоты отморозить себе нос и уши на Москве. Господа! кто с нами?
Голоса в толпе. Я, я, я, я!
Человек двадцать шляхты отделились из толпы и соединились с Круповичем, Цыбовичем и Ясюковичем. Они поворотили коней и поехали в противоположную сторону.
Крупович (говорит остающимся). Прощайте, братцы! Счастливый путь на Москву!
Пекарский (кричит во все горло). Пане Цыбович, пане Крупович, пане Ясюкович! A verbum nobile! (т. е. шляхетское слово). Разве вы в корчме не дали мне слова, чтоб не расставаться со мною до смерти? Кто оставит меня, того не почитаю шляхтичем польским!
Цыбович (отъехав в сторону). Тот холоп, а не шляхтич (52), кто пойдет с Пекарским! Господа! как вы можете верить этому обманщику? Он всех вас продаст на жаркое московским боярам!
Пекарский. Господа! научим этих негодяев, как жить на свете по-шляхетски! Сабли наголо! вперед! руби!
Пекарский с несколькими из своих приятелей бросился на отъезжающих, и лишь только прискакал к Цыбовичу, тот, оборотясь, ударил его саблею по голове. Баранья шапка ослабила удар, но сабля скользнула по лицу, разрезала щеку, и Пекарский облился кровью. Цециорка ударил Цыбовича саблею по плечу и прорубил ему плащ и тело до кости. Сабельные удары посыпались, но противная партия, будучи малочисленнее, пустилась в бегство и ускакала в лес с криком. Пекарский с своими приятелями воротился к оставшейся толпе, которая спокойно стояла у рогаток и, утирая кровь полою плаща, воск-кликнул:
– Победа! наша взяла! Ушли негодяи, трусы; да нам этаких и не надобно. Гей, стражник! веди нас сей час в дом пана воеводы Мнишеха, а не то – изрубим в куски.
Цециорка. Не лучше ли, пан Михаила, завернуть прежде в корчму, чтоб выпить чего-нибудь и перевязать твою рану?
Пекарский. Нет, пить будем за счет пана Мнишеха, а рану обмоем в первом шинке. Господа, за мной! Стражник, собака, ступай вперед!
* * *
На рынке города Львова, застроенном высокими каменными домами, толпился народ. На площади развевалось на высоком древке большое камчатное знамя, вышитое золотом, с гербом рода Мнишех из Великих Кончиц. Воин исполинского роста в серебряных латах держал знамя. При нем была стража из двенадцати латников и трубачи, одетые в красные куртки с золотыми галунами по швам. Под шатром из богатых ковров стоял стол, а на столе лежала книга и находился письменный прибор; под столом стояли баклаги с виноградным вином и лучшим медом. Шагах в тридцати от сего места, возле шинка, стояли на подставках бочки с пивом, медом и водкою. На столе разложены были пряники, белый хлеб, ветчина и жареные мяса. Под навесом, на крыльце шинка, сидел за столом писец над книгою. Воины в коротких полукафтаньях и только при саблях кружили в беспорядке возле стола и бочек и потчевали народ, особенно молодых и статных людей. Жидовские музыканты играли на цимбалах и скрипках веселые народные и военные песни. Когда музыканты переставали играть, трубачи трубили сбор, призыв к нападению, отголосок победы и другие воинские сигналы. Вахмистр, пожилой воин с длинными седыми усами в венгерском полукафтанье с золотыми шнурками, в небольшой красной бархатной шапочке набекрень, в желтых сафьянных сапогах, гордо похаживал вокруг знамени и подходил иногда к бочкам. Он дал знак музыкантам прекратить игру и, обратись к народу, сказал громким голосом:
– Гей, почтенные господа, прислушайте! В чьих жилах течет старопольская кровь и кто хочет мечом добывать славы и богатства, вместо того чтоб, сидя за печью, питаться панскою милостью или холопским трудом, тот пристань к нам, под знамя славных Мнишехов. Сам пан Станислав, сын воеводы, староста Саноцкий – наш ротмистр. На войну, господа, в поле!.. Трубачи, поход!
Трубачи протрубили поход, и в толпе народа, возле бочек, раздался голос наместника:
– Гуляй душа без кунтуша! Ищи пана без жупана! (53) Господа, милости просим выкушать за здоровье пана воеводы и пана старосты! Они призывают нас на славную войну! Кто хочет быть паном, тот ступай к нам. Гей, паны палестранты (54), бросьте перья и бумагу! Молодые паничики, полно вам греться под крылышком маменек и сеять гречиху! Вы, господа дворские, полно глотать дым из панских кухонь! На конь, за саблю! Пойдем на Москву, там червонцы мерят шапками, а злотые корцами! Гей, жиды, играйте краковяк! Господа, просим пить меду, пива, водки! Да здравствует царевич Московский, наш союзник! Виват паны Мнишехи! Виват польские воины!
Жиды стали играть на цимбалах краковяк, а воины запели под музыку:
На конце меча Честь, богатство, слава. В край чужой! Руби с плеча! Польская забава! Был бы только добрый конь, Рады в воду и огонь. В душных, скучных городах Люди всем торгуют; В чистом поле и в шатрах Бьются и пируют. Деньги, к славным страсть делам — Все мы делим пополам! Смерть пред тем бежит, Кто идет навстречу. К нам – кто славой дорожит! На коня – и в сечу! А кто храбр, кто драться рад, Будет славен и богат. Виват! Виват!* * *
Молодой человек с связкою бумаг под мышкою вышел из толпы и сказал вахмистру:
– Куда собираетесь воевать, господа?
Вахмистр. Идем в Москву, с царевичем Димитрием, который женится на польской шляхтянке панне Марине, дочери воеводы Мнишех. Мятежный боярин Годун лишил царевича престола, и мы пойдем защищать его права. Сильное войско ожидает нас в России, чтоб соединиться с нами. Это не война, а праздник! Царевич обещает нам все сокровища царей Московских и все имущество непокорных бояр, их вотчины и поместья, где водятся соболи и черные лисицы; где ловят жемчуг руками и где более серебра, нежели у нас льду на Висле. Пан воевода дает коней, оружие и платит жалованье охотникам, которые захотят участвовать в этом деле, славном для нашего отечества, корыстном для каждого. Подайте вина! Просим выкушать за здравие нашего царевича и его приятелей!
Молодой человек. А сколько платят товарищу? (55)
Вахмистр. Двадцать злотых на три месяца и 15 злотых на коня; кроме того, все готовое. А как царевич сядет на своем престоле, то каждый охотник получит столько денег, чтоб жить по-пански навсегда. Советую приставать скорее, господа; завтра кончится набор войска, и тогда не примем, хотя бы просились.
Львовский мещанин. Вот уж третья неделя, как говорят нам, что завтра кончится, а всякий день начинается!
Вахмистр. Это мы делаем из особенной любви к львовским гражданам, зная, что нет их храбрее в целой Польше.
Мещанин. Спасибо за честь!
Молодой человек (пошептав с двумя своими приятелями, говорит). Господин вахмистр! я хочу пристать за товарища.
Вахмистр. По рукам. Вот запишите свое имя в книге и тогда – братский поцелуй и задаток в руку. Из какого вы звания, брат и товарищ?
Молодой человек. Я адвокатский помощник. Мне надоела проклятая ябеда.
Вахмистр. Провались она к черту со всеми адвокатскими крючками. (Ударяя по сабле.) Вот наше право! Коротко и ясно. Расписывайтесь скорее.
Двое приятелей молодого человека подходят к вахмистру.
Первый. И я хочу на войну! Полно служить пану Фирлею за кусок хлеба на его пивоварне и считать его гроши! Авось и сам наберу на Москве червонцев. Или пан, или пал!
Вахмистр. Умно! Видна шляхетская кровь. Пиши в книгу свое имя.
Второй. Давай мне саблю, пане вахмистр! Мне наскучила латынь и иезуитская дисциплина (56).
Вахмистр. Лучшая школа – война. Пику в бок – легкая наука. Всякий поймет тебя, как ни ударишь. Пиши в книге… Вина! Пейте, господа! Это винцо из погребов самого воеводы. Трубачи, победу!
Два гражданина в стороне от толпы разговаривают между собою.
Младший. Что делать? Отец послал меня из деревни продать волов в городе. Я продал и зашел в трактир, выпить магарыч (57). Там играли в кости. Я приставил злотый – и проиграл; захотелось отыграться, а между тем в голове зашумело; хвать, ан все злотые перевалились из мешка на игорный стол и исчезли, как дым! Воротиться домой – беда! Не миновать побоев. Ведь это уже в третий раз. Пойду в охотники! На Москве достану денег, отдам отцу и стану жить своей чередой. Как ты думаешь?
Старший. Я также за тем пришел сюда, чтоб определиться под знамя Мнишеха. На меня всклепали небылицу, будто я с двумя приятелями прибил и ограбил жидов, которые возвращались с деньгами с ярманки. Великое дело, разбить жида! Смотри, пожалуй, за такую безделицу завели тяжбу и грозят тюрьмою. Хоть я и не боюсь ни суда, ни тюрьмы, но не хочу связываться с этими негодяями, судьями и адвокатами, и пойду в охотники! Ищи на Москве суда и расправы!
Идут в шатер и записываются в книгу.
Три человека средних лет разговаривают между собою. Один из них одет чисто, двое в бедной одежде.
Первый. Вот, изволишь видеть, там, возле шинка, наместник принимает в шеренговые, а здесь вахмистр в товарищи. Кто не умеет писать, так писарь на крыльце записывает имя и место жительства.
Второй. Я обходил весь город. Возле замка выставлено знамя самого царевича. На Армянской улице знамя князя Константина Вишневецкого; рядом Фредра, на предместья знамя Дворжицкого, а возле иезуитского монастыря знамя Неборского. Что за шум везде, что за крик! Наехало множество шляхты из поветов. Весь дом воеводы полон народу: пьют, кричат, дерутся! Охотников много, да и нельзя быть иначе. Все славные ротмистры! Но кажется, вернее всего пристать под знамя Мнишеха. Здесь ротмистром сам пан Станислав, староста Саноцкий, сын воеводы. У старика денег пропасть, оружие и кони славные, и за ним не пропадет служба.
Третий. Правда! Но худо то, что только товарищам хорошо платят, а шеренговым плоховато. Десять злотых, не более.
Первый. Ведь гусарские товарищи содержат на свой счет шеренговых, так ступай в гусарскую роту царевича!
Третий. Нет, я лучше пойду в легкоконцы, в копейщики, на все готовое, и хочу иметь дело с казною пана Мнишеха. Как быть! Иду в службу, хоть в простые шеренговые; поесть, а больше попить охота, а даром никто не дает. Но ты от чего бежишь, сосед? У тебя всего довольно.
Второй. От черта, от злой жены – рад бы в воду, не только на войну! Авось на Москве найду потеху.
Первый. Не будь войны, так нет житья! Проклятые заимодавцы не хотят довольствоваться подписью моей руки и грозят тюрьмою. Пускай ищут меня в Москве! Пойду в охотники!
Двое идут к наместнику, а третий к вахмистру и записываются в службу. Трубачи и жидовские музыканты играют.
Цыган (подходит к вахмистру и кланяется). Вы, верно, не узнаете старого слуги своего, пане вахмистр? Я знал вас и лечил вашу лошадь под Псковом, когда вы служили еще товарищем под знаменем пана Замойского. Тому ровнехонько теперь двадцать шесть лет, как мы ходили на Москву с покойным королем Стефаном.
Вахмистр. Мы ходили! Ваша братья таскается за войском, как собаки за поварами. Черт упомнит всех вас! Ведомо, что в войске нашем нельзя обойтись без цыгана-коновала и без жида-цирюльника. Много вас перебывало под моим канчуком!
Цыган. А кто веселил вас скрипкой и песнями, пане вахмистр? А кто вывез вас, раненого в битве под Соколом?
Вахмистр. Как, это ты, Ганко! Добро пожаловать. Дайте ему вина. Постарел, брат, постарел!
Ганко. И вы не помолодели, пане вахмистр, а все-таки охота к войне не простыла в вас: опять на Москву!
Вахмистр. А на этот раз еще и с самим Московским царевичем. Что, не хочешь ли с нами?
Ганко. Я именно за тем и пришел сюда из Люблина.
Вахмистр. Дельно! Дельно!
Ганко. Смертная охота к войне!
Вахмистр. Ха, ха, ха, к войне! Вот об тебе уж можно сказать: куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Не к войне у тебя охота, а к добыче. Помню я, брат, твои подвиги!
Ганко. Война не может быть без добычи, а добыча без войны – так это все равно.
Вахмистр. Разница та, что мы подставляем лоб под пули, а ты спину под канчук. Гей, господа, кто хочет славы и богатства, к нам, к нам! Трубачи, поход!
Женщина средних лет. Что это значит, господин вахмистр? Ты сманил вчера в службу моего мужа, не спросясь меня. Я хозяйка в доме! Кто станет работать, кто будет кормить деток, что будет с ним, что станется с нами? Господи, воля твоя! как разбойники, хватают людей из домов!
Вахмистр. Потише, матушка, потише! Мы никого не берем насильно, а только приглашаем храбрых людей с собою, делить добычу на Москве.
Женщина. Храбрых людей! Посмотрел бы ты храбрости моего муженька! Он от меня прячется за печь; что будет, когда увидит москаля?
Вахмистр. От злой бабы и сам дьявол спрячется под землею. Ведь и чародей пан Твардовский отделался от ада женой (58). Бабий язык – чертово помело: выметет из дому и храбреца, и мудреца.
Женщина. Смотри, пожалуй, еще насмехается. Попался бы мне в когти, я выдрала бы эти седые усы.
Вахмистр. Не сердись: не один твой муж идет на войну от злой жены! А кому ж будет прибыль, когда не вам, бабам, когда мы воротимся с московскими денежками? Потерпи, будешь ходить в московских соболях и жемчугах.
Женщина. Я сама пойду с вами. Не поверю вам, разбойникам! Пожалуй, вы научите моего мужа жениться в другой раз на московке. Не отстану от вас…
Вахмистр. Пожалуй, ступай; в случае нужды мы будем травить неприятеля злыми бабами, как медведей меделянскими собаками.
Мещанин. Ты бы не сердилась, соседка, а благодарила пана вахмистра за то, что он, как аист в болоте, очищает наш город от всякой сволочи.
Женщина. Ах, вы, окаянные! ах, злодеи!..
Вахмистр. Трубачи, тревогу! Музыканты, туш!
* * *
Богатый воевода Мнишех кроме обширных поместьев и замков имел великолепные палаты в Кракове, Варшаве и Львове, трех важнейших городах королевства, где собиралась шляхта польская для дел частных и общественных. Предпринимая подвиг, от успеха которого зависела участь его рода и поколения, воевода Мнишех перенесся со всем своим дворцом во Львов, где ему позволено было набирать вспомогательное войско для Лжедимитрия, и перевез туда все свои сокровища. Дом его был убран с великолепием истинно царским. Ни в одной из европейских стран того времени частные люди не выказывали такой пышности, как польские паны. Богатству их удивлялись все иностранцы (59). Стены гостиных комнат в доме Мнишеха обиты были шелковыми тканями и парчами. Раззолоченные стулья с бархатными подушками, шитыми золотом, мраморные столы с бронзою, дубовые шкафы резной отделки с накладками из черного дерева, со вставными фигурами из перламутра, янтаря; зеркала в бронзовых рамах, множество стенных часов с механическими играми удивляли богатством и ценностью. Персидские и турецкие ковры, шитые золотом, разостланы были на полах. Прислуга одета была в шелк, бархат, тонкие сукна с золотым и серебряным шитьем. Надворное войско Мнишеха составлено было из самых видных людей; они имели драгоценное оружие, которым могли бы щеголять богатые рыцари царских дворов. Воевода Мнишех хотел показаться достойным тестем сильного монарха и, проживая во Львове, изумлял даже богатых панов своею роскошью и пышностью. Дом его был открыт для всего дворянства, и ежедневно более ста человек садилось у него за стол. Но, желая вполне показать свое богатство и хлебосольство, а вместе с тем привлечь на свою сторону знатных панов, Мнишех разослал гонцов во все стороны и пригласил к себе гостей на 10 августа, за несколько дней пред выступлением в поход на Москву.
С утра балконы, крыльца и окна дома Мнишеха убраны были разноцветными коврами и зеленью. На обширном дворе расставлены были столы и выкачены бочки с пивом и медом для охотников и войска, вступившего в службу Димитрия. Музыканты и трубачи играли попеременно. Весь город был в движении, и любопытные толпились возле ворот дома и на улице. В одиннадцать часов утра стали съезжаться на пир почетные гости. Лжедимитрий прибыл верхом, окруженный своею свитою и русскими приверженцами. Он был в парчовой ферязи русского покроя и в красном бархатном плаще, подбитом горностаем, с алмазными застежками по полам от верху до низу. Голова его прикрыта была высокою собольею шапкой.
Из знаменитых поляков приехали в гости: Бернард Мацевский, кардинал и епископ Краковский, архиепископ Львовский Иоанн Соликовский, канцлер коронный Матвей Петроконский, канцлер Литовский Лев Сапега, маршал коронный Андрей Опалинский, маршал Литовский Андрей Завиша; знаменитые паны, приятели Мнишеха: Альбрехт Радзивилл, Христофор Дорогостайский, Сигизмунд Мышковский, Станислав Конецпольский, Мартин Казановский, Лаврентий Гембицкий, Станислав Минский, Вацлав Лещинский, князь Роман Наримунтович-Рожинский, хорунжий Пржемысльский-Тарло, Любомирский, князь Друцкой-Сокольницкий. Каждый из приглашенных панов привел с собою, по тогдашнему обычаю, своих приятелей. Значительнейшие лица из них были: Стадницкий, Харлецкий, Витковский, Войский, Парчевский, Ян Соколинский, Витовский, Иосиф Будзило, Велонгловский, Рудницкий, Хрусинский, Казимирский, Михалинский, Тышкевич, Туральский, Млоца-Виламовский, Рудзский, Орликовский, Кончинский, Гаевский, Мадалинский (60). Кроме того, все участвующие в вооружении явились с своими ротмистрами. Все сии паны умом и заслугами имели влияние на своих соотчичей, каждый в своем кругу, по мере связей, родства и богатства.
Столы накрыты были в двух больших залах. В первой для панов знатнейших и для дам; в другой для низшей шляхты. Пока разносили водку и закуски, молодые мужчины увивались вокруг дам в гостиной комнате. Мнишех собрал в своем доме множество красавиц для привлечения молодых панов на свою сторону. Дамы возбуждали в воинственном юношестве охоту к славе и просили их завоевать престол Московский для подруги их, панны Марины, обещая приехать с нею в Москву. Многие надеялись, что не одна свадьба царя Московского совершится в древней столице России, и собирались на войну, как на радость. Особенно в этот день польские красавицы старались превзойти одна другую богатством нарядов. Почти все девицы были в шпенсерах венгерского покроя, опушенных соболями, и в исподнем коротком платье из золотой и серебряной восточной парчи, вышитой шелками. Волосы заплетены были у них в косы, которые ниспадали по плечам и обвивались вокруг головы. Жемчужные и алмазные нитки переплетены были в волосах. Шею и грудь украшали ожерелья и цепи с алмазами и цветными камнями. На ногах имели они сафьяновые полусапожки, окованные серебром и золотом. Некоторые девицы, в том числе и Марина Мнишех, были в длинном французском платье и имели на голове богатое украшение из золота и алмазов. Замужние женщины были также во французских робронах и в чепцах из дорогих фламандских кружев. Некоторые старухи еще носили одежду старинного покроя, длинную парчовую кофту и шапочку, опушенную соболями и вышитую жемчугом.
В главной зале были хоры, где помещались музыканты, трубачи и певчие из мальчиков под руководством итальянского музыканта. Когда заиграли польский танец, Лжедимитрий взял под руку нареченную свою тещу, канцлер Сапега панну Марину, каждый пан предложил руку даме, и все пошли в столовую. Дамы сели вместе за одним столом. Лжедимитрий не хотел сесть за особый стол и занял первое место за общим столом между Сапегою и кардиналом. Прочие гости поместились по званию и достоинству, за этим наблюдал строго хозяин. Некоторые молодые люди из знатных фамилий вовсе не хотели садиться и взялись услуживать дамам. Хрущов, Хрипуновы и еще несколько новоприбывших русских дворян никак не соглашались сесть за один стол с тем, кого они почитали своим царем, говоря, что это неприлично. Но Лжедимитрий повелел им последовать обычаю гостеприимства своих союзников, сказав:
– В России мы станем жить по-своему, а здесь должно следовать пословице: "На чьем возу едешь, тому и песенку пой".
Столы (61) уставлены были серебряною вызолоченною посудой с разными яствами. Паштеты были вызолочены, и на тесте их находились изображения той дичи, которая была в средине. Изображения сии сделаны были из перьев или шерсти, наклеенных на позолоте. Жареные птицы, зайцы и малые барашки стояли, как живые, на проволочных подставках. Жидкие блюда покрыты были серебряными раззолоченными крышками с гербом Мнишеха. Посреди главного стола стоял серебряный бочонок с золотыми обручами, на котором сидел Бахус, литый из чистого золота (62). Пирожное, вышиною в два и три локтя, возвышалось в виде пирамид, башен и кораблей, было раззолочено и расписано разными красками. Перед каждым собеседником стояла серебряная тарелка, прикрытая небольшою салфеткою, серебряная кружка с пивом, серебряная же фляга с дорогим вином и несколько стеклянных бокалов. Возле тарелки лежала одна ложка, ножей и вилок не было вовсе: каждый гость обязан был приносить их с собою. В конце столовой залы возвышались огромные дубовые шкафы и столы, на которых стояли тарелки и блюда в кострах вышиною в рост человека; а в шкафах были чаши, бокалы, кубки раззолоченные и с дорогими каменьями. Это место обведено было перилами, за которые не позволено было никому входить, кроме слуг, для того назначенных.
Прежде нежели начали раздавать кушанья, слуги обошли кругом столов с золотыми умывальницами и полотенцами. Гости умыли руки; кардинал прочел молитву, благословил яства, и тогда уже началось пиршество.
Хрущову и другим новоприбывшим русским не весьма нравились польские отборные яствы. Первую похлебку подали только для вида: ее никто почти не тронул. За нею стали разносить разные вареные мяса, плававшие в жидких соусах, которых было только четыре рода в польской кухне: желтый из шафрана, черный из слив, серый из тертого луку и красный из вишен. Русским более пришли по вкусу кислая капуста с ветчиной, пшенная каша, горох с ветчинным салом и клецки гречневые с маковым молоком. Это были любимые польские кушанья, без которых не мог обойтись никакой пир. Рыбы приготовлены были с вином, оливковым маслом, изюмом, лимонами и разными пряными кореньями. Жарких было несколько десятков – из дичи и домашних птиц. После сытных кушаньев подали лакомства: сыр, сметану, плоды, варенья, сахарные закуски и пирожное. Во время обеда гости ничего не пили, кроме пива из больших серебряных кружек, в которые клали сухари из черного хлеба, напитанные оливковым маслом. Гость брал полную тарелку с каждого блюда и, покушав, отдавал стоявшему за креслами своему слуге, который, удаляясь в угол, ел тут же, громко разговаривая с товарищами и пошучивая на счет господ. От этих разговоров в столовой зале был такой шум, что почти заглушал музыку и пение (63). За дамским столом было более порядка. Вежливые прислужники почитали за счастье есть с одной тарелки с красавицею и забавляли милых собеседниц нежностями и приятною беседой.
Когда дошла очередь до лакомства, слуги поставили на стол целые ряды бутылок с венгерским вином. Хозяин взял огромный кристальный бокал, наполнил его вином и, встав с места, воскликнул громко:
– Здоровье дорогого гостя, Московского царя Димитрия Ивановича!
Музыканты и трубачи заиграли, и все гости воскликнули: "Виват!" Лжедимитрий поклонился на все четыре стороны. Хозяин передал бокал соседу: тот выпил его таким же порядком и передал далее. Когда чаша обошла вокруг, Лжедимитрий встал со стула и выпил за здоровье хозяина и всех гостей. После первой чаши дамы встали из-за стола и удалились в другую комнату, а служители принесли корзины с бутылками и уставили их вокруг стола. Началась попойка. Сперва пили за здоровье каждого из знатнейших панов, а потом начались политические тосты, от которых невозможно было отказаться, не подав о себе дурного мнения и не подвергнувшись упрекам в холодности к отечеству и благу общественному. Вместо молчания, царствовавшего во время обеда, между панами наступила шумная и откровенная беседа.
Князь Друцкой-Сокольницкий (встав с места и подняв вверх стеклянный бокал, полный вина). Кто истинный сын отечества, тот выпьет до дна за его благоденствие! (Выпив, бросает бокал на пол.) Так да погибнет и рассыплется в прах каждый враг республики!
"Виват!" – закричали собеседники и, опорожнив бокалы, бросили их на пол. Трубачи и музыканты проиграли туш. Певчие воскликнули дружно три раза: "Виват, виват, виват!"
Князь Друцкой-Сокольницкий (говорит Льву Сапеге). Вы не выпили до дна, почтенный канцлер! Вам ли подавать пример пренебрежения к делам отечественным?
Лев Сапега. Сердце мое полно любви к отечеству и не имеет нужды согреваться вином.
Князь Рожинский. Полноте! Вспомните, что сказал Гораций:
Narratur et prisci Catonis Saepe mero caluisse virtus.(т. е. «говорят, что и Катон согревал иногда вином свою добродетель»).
Лев Сапега. Пример для меня недоступный!
Мартин. Казановский. Простительно почтенному канцлеру в его летах поотстать от нас, но я вижу, что старопольская доблесть гаснет и в молодых людях. К чему это лицемерие, пан хорунжий Тарло? И ты не выпил до дна!
Тарло. Лицемерие! Что вы называете лицемерием?
Многие голоса. Лицемерие – не пить вина в дружеской беседе!
Тарло. Если так, извольте! (Пьет.) Только я боюсь, чтоб вовсе не онеметь.
Сигизмунд Мышковский. Неправда, Вино развязывает язык в делах частных и общественных.
Вацлав Лещинский. И делает красноречивым. Foecundi calices quem non fecere desertium (т. е. полная чаша кого не сделала красноречивым).
Лаврентий Гембицкий. Прибавь: Contracta quem non in paupurtate colutum? (т. е. и какого несчастного не заставила забыть горестей?)
Лев Сапега. Склоняюсь на ваши аргументы и пью здоровье союзного нам царя Московского и целого его народа!
Воевода Мнишех (бросив свой бокал). Так погибнут все друзья Бориса Годунова и все враги царевича Димитрия!
Лжедимитрий. Хотя в великодушном польском народе я нашел несколько противников, но в то же время получил столько доказательств дружбы от короля и от знаменитых панов республики, что имя Польши останется для меня навсегда драгоценным. Если Бог позволит мне при помощи вашей (в чем и не сомневаюсь) воссесть на престоле предков, то каждый поляк в России будет как дома. За здоровье его величества короля и храброго народа польского!
При этом здоровье, возглашенном чужеземным князем, собеседники пришли в восторг, или, лучше сказать, в исступление. Все выпили бокалы до дна, бросили их с жаром на пол и продолжали восклицания "Виват!" несколько минут сряду. Музыканты и слуги, которые в подражание господам опорожняли фляги с вином и уже согрели головы, подняли ужасный крик при провозглашении этого здоровья и стали топать ногами. Окна, зеркала и столы потряслись в доме.
Кардинал Мациевский. Господа! Царства и цари держатся верою. И языческие философы признавали сию истину. Сенека сказал:
…Ubi non est pudor, Nec cura juris, sanctitas, pietas, fides, Instabile regnum est(т. е. «престол тогда только тверд, когда его окружают честь, правосудие, добросовестность и вера»).
Итак, вы, представители гражданских добродетелей, должны для блага общего согласовать все ваши дела и помыслы с нашею верою и волею главы церкви. Здоровье святого отца папы Климента VIII!
Опять раздался тот же крик и шум. Бокалы полетели на пол.
Андрей Оссолинский. Господа братья! Вера и единодушие составляют силу государства. Пока мы будем дружны и согласны в делах общественных, до тех пор будем славны и непобедимы! (Выпив бокал.) Да продлится навеки равенство шляхетское, единодушие и братство!
"Навеки, навеки!" – закричали со всех сторон. Слуги с большим жаром вторили этому тосту, крича во все горло: "Равенство и братство между шляхтой!" Бокалы и даже фляги полетели снова на пол.
Дворжицкий. Кто осмелится помыслить, чтоб мы перестали быть сильными и непобедимыми! Шляхта польская разрешит саблями всякое сомнение на этот счет!
Многие голоса. Браво! браво!
Неборский. Виват польская сабля! Пью в память Щербеца Болеславова! Вот наша подпора и надежда (64).
Все собеседники с шумом и криком выпили бокалы.
Фредро. Только бы не угасли в сердцах старопольское мужество и охота к битвам, а победа никогда нас не оставит!
Князь Адам Вишневецкий. В ком душа польская, кто предпочитает славу жизни, тот пойдет с нами на Москву за правое дело!
Фредро, Неборский и Дворжицкий. На Москву!
Фредро. И да раздадутся виваты польские в стенах Кремлевских, во славу республики на радость нашему союзнику, царю Димитрию Ивановичу!
Знатнейшие паны выпили бокалы в молчании, а множество голосов воскликнули: "Идем на Москву, на Москву!"
Любомирский. Что значит одна Москва! Турки и татары осмеливаются беспокоить наши границы! Пора проучить этих негодяев, разорить гнездо разбойников в Крыму и отдать папе Восточную империю. Война туркам и татарам!
Многие голоса. Война туркам и татарам! Вон их из Европы! Война, война! (Все пьют.)
Станислав Конецпольский. А тот Волошский князек долго ли будет кичиться и насмехаться над нашею снисходительностью? Вон его из Волошины! Это староство польское.
Многие голоса. Браво! Вон князька! Сабли наголо и – на Волошину! (Все пьют.)
Андрей Завиша. Не надобно ли прежде усмирить этого шведа, который осмелился грубить Польскому королю? Данциг даст нам корабли – и прямо в Стокгольм! Пусть знает швед, как опасно раздражать польскую шляхту! Прибить шведа и взять Ливонию!
Многие голоса. Бить шведа, бить! (Пьют.)
Альбрехт Радзивилл. А голдовник наш, курфюрст Бранденбургский, разве не должен быть наказан за тайную дружбу со шведом? Наказать его, наказать!
Многие голоса. Наказать голдовника, наказать! (Пьют.)
Христофор Дорогостайский. А кто научил Косинского и Наливайку? Кто дал оружие и деньги украинцам? Война императору! Чехи и Венгрия – должны быть наши!
Многие голоса. Должны быть наши! (Пьют.)
Лжедимитрий, кардинал Мацеевский, архиепископ Львовский Соликовский, Лев Сапега, Андрей Оссолинский и некоторые старики, сохранившие более хладнокровия и пившие менее других, встали из-за стола, извиняясь делами. Все собеседники последовали их примеру и, покачиваясь, перешли в другую залу, восклицая: "Война, война! – Мы всех побьем и порубим! Война с целым светом!"
– Вина! – закричал воевода Мнишех. Служители понесли корзины в другую комнату, а оставшиеся в зале слуги и музыканты бросились к столу и расхватали на части остальное пирожное, закуски и стали опоражнивать неконченные фляги и бутылки. Одни только буфетчики остались трезвыми в этой общей попойке. Они заперли двери в столовой зале и до тех пор не выпустили никого из слуг, пока не сосчитали серебра.
Множество собеседников осталось в доме Мнишеха до поздней ночи. Некоторые из них легли отдыхать в разных отделениях дома и, выспавшись, снова принялись за венгерское вино. Лжедимитрий тотчас после обеда сел в карету с кардиналом и отправился домой. Излишняя трезвость его не нравилась многим панам, но старики похваляли его за это и воздержание его приписывали мудрости. Хрущов, Хрипуновы, Борошин и другие русские не могли противустать искушению и остались ночевать у Мнишеха, который чрезвычайно был рад, что употчевал гостей до беспамятства.
ГЛАВА VIII
Злодейский замысел. Новые сообщники. Знаменитый отшельник. Переход чрез рубеж русский.
Войска Лжедимитрия, перешед Днепр под Киевом 11 октября 1604 года и, следуя по правому берегу Десны, прибыли 15 октября в Шляхетскую слободу, на самом рубеже России. В пяти верстах за слободою, в лесу, находился первый русский крепкий, замок, Муромеск, в шестидесяти верстах от Чернигова (65). Стан расположен был по берегу реки, под лесом, по обеим сторонам слободы. На правом крыле стояли две тысячи донских казаков под начальством атаманов Корелы и Нежакова. На левом крыле было четыре тысячи запорожцев с куренным атаманом Головнею. Перед деревней расположена была пехота, около десяти тысяч человек из вольницы, собранной паном Ратомским в окрестностях Киева и в земле Северской. Позади этого отряда находился огнестрельный снаряд, двадцать четыре пушки, принадлежащие воеводе Мнишеху, оберегаемые пятью стами регулярной литовской пехоты. Позади слободы стояла тысяча отборных всадников польских, разделенных на роты, или хоругви, под начальством сына воеводы Мнишеха, князя Адама Вишневецкого, панов Дворжицкого, Неборского и Фредро. Лжедимитрий занял дом русского священника; воевода Мнишех и другие паны поместились в крестьянских избах, при которых стояла стража. С восхождения солнца войско занималось рубкою леса, деланием плотов и витьем веревок из лык для наведения моста чрез реку. В стане было во всем изобилие, и воины с нетерпением ожидали повеления вторгнуться в пределы России.
Меховецкий пришел в избу к Лжедимитрию для получения его приказаний и донесения о благополучном состоянии войска.
– Ну, видишь ли, любезный Меховецкий, что все сбылось по моему предсказанию. Все вы почитали меня легкомысленным, когда я решился не дожидаться долее в Львове и с полутора тысячею воинов поднялся на Россию. Сила моя в существе самого дела, и войско мое будет умножаться по мере приближения к средоточию России. Ах, как мне хочется быть скорее в Москве! Любезный Меховецкий! ты мне дал столько доводов дружбы и беспредельной привязанности, что я наконец должен открыть тебе мою душу. Слушай! Ты удивлялся, что я с таким хладнокровием смотрел на любовь Марины к Осмольскому, что даже позволил ему быть в свите моей невесты, и, зная, что Марина из одного честолюбия идет за меня замуж, не переменил моего намерения. Дел политики не должно смешивать с делами сердечными. Брак с Мариной есть узел, связующий меня с Польшею. Я буду чтить ее, буду даже любить и охотно разделю с нею брачное мое ложе. Но, любезный друг, сердце мое давно уже занято другим предметом. Я люблю дочь Годунова Ксению!
– Государь! – сказал Меховецкий, – благодарю тебя за доверенность, но как друг должен сказать, что любовь твою почитаю делом неблагоразумным. Каким образом ты можешь обладать Ксенией, как ты скроешь это от народа? Боюсь.
– Не бойся ничего: все обдумано! Марина будет царствовать среди пышного двора, окруженная царедворцами по своему выбору, и она оставит меня в покое. Ксению я могу видать тайно, если только успею ее похитить. Народ и бояре хотя бы и догадывались, но будут молчать. Не я первый, не я последний буду любить другую от жены. Даже мудрейший и величайший из современных государей, Французский король Генрих IV, не может похвалиться постоянством и верностью. Ах, любезный Меховецкий, что за непостижимое чувство – любовь! После того как я в последний раз видел Ксению, я встречал много красавиц, даже влюблялся на время, но Ксения не выходит у меня из сердца и памяти. Невзирая на то, что я воспитывался в Польше, я все-таки русский; а мы, русские, имеем свои собственные понятия о красоте. Мы не любим тощих прелестей, а главною принадлежностью красоты почитаем полноту тела, которая означает здоровье и спокойствие душевное. Моя Ксения не так высока ростом, как Марина, но бела и румяна, как кровь с молоком, полна, как спелая груша. Черные кудри вьются трубами по плечам, а черные глаза сияют небесным светом, согревающим душу, как лучи солнечные. Не думай, чтоб она воспитана была в таком же невежестве, как другие русские девицы! Нет; Борис, готовясь отдать ее замуж за Датского принца Иоанна, образовал ум ее учением. Притом она поет, как малиновка! (66). Если мне удастся завладеть этим сокровищем, тогда только почту себя вполне счастливым. Ты будешь один поверенным моей тайны, и если ты меня любишь, помогай мне в этом деле. Без Ксении и Московский престол не составит моего благополучия.
– Государь! Я не вижу средств быть тебе полезным.
– Придет время. Теперь ты должен позвать ко мне новоприбывшего к нам дворянина из Москвы. Хрущов сказывал, что это человек предприимчивый, неустрашимый и мудрый. Я хочу послать его в Москву с важными поручениями. Надобно будет разгласить в войске, что он ушел от меня самовольно, чтоб не было никакого подозрения на меня, если его поймают в Москве; понимаешь?
– Не знаю, должно ли верить этому пришлецу, – возразил Меховецкий. – Хрущов сказывал, что это человек безнравственный, злобный, хитрый и уже известен в России многими злодеяниями. Его обвиняют даже в чернокнижестве.
– Тем лучше, тем лучше; мне такого-то и надобно, – сказал Лжедимитрий. – Приведи его ко мне, но прежде обыщи, чтоб при нем не было оружия. С этими приятелями водись, а камень держи за пазухой.
Меховецкий вышел, а Лжедимитрий заткнул кинжал за пояс, положил на стол пару пистолетов и сел на скамье, ожидая нового своего клеврета.
Вошел человек высокого роста, смуглый, с черными кудрями. Навислые брови его сокрывали небольшие глаза. Возле покляпого носа, на левой щеке была бородавка с волосами. Черная редкая борода была подстрижена (67). Он остановился у дверей и поклонился Лжедимитрию в пояс.
– Здравствуй, Молчанов! – сказал Лжедимитрий. – С чем пожаловал к нам из Москвы?
– С усердием, преданностью и желанием служить тебе, моему государю законному, – отвечал Молчанов, снова поклонясь в пояс.
– Спасибо, брат, спасибо! Теперь только познается усердие, и первые мои слуги пред вступлением в Москву останутся первыми в Москве, когда воссяду на престол предков моих. Ну, что делает Борис? Что думает синклит и духовенство? Каково расположение в народе?
– Борис показывает вид, что не боится тебя и смущает народ, называя тебя бродягою и самозванцем. Духовенство служит и помогает ему верно. Бояре не любят, боятся Бориса и молчат; но многие из них втайне тебе благоприятствуют. Народ, любя кровь царскую, передался бы тебе, если б его уверили, что ты истинный сын Иоаннов. Но пока Борис жив и на престоле, никто в Москве не посмеет явно говорить в твою пользу.
– Пока Борис жив! – сказал Лжедимитрий, пристально посмотрев на Молчанова. – Но и Борис смертен, при всей своей хитрости. – Помолчав немного, Лжедимитрий примолвил: – Говорят, что ты, Молчанов, искусен в чернокнижестве и в составлении всяких зелий.
– Народ почитает все то чернокнижеством, чего не понимает. При родителе твоем отец мой бежал с князем Курбским в Литву. Мы жили в Вильне, в доме одного аптекаря, и я научился там латинскому, польскому языкам и составлению зелий. Возвратясь с Россию, при брате твоем Феодоре Ивановиче, я прослыл чародеем за то, что говорил с лекарями иноземными на чужом языке и вылечил несколько человек. Суеверный Борис по доносу врагов моих велел меня взять под стражу во время своего недуга. В доме моем нашли кости человеческие, нанизанные на проволоке, которые оставил мне один чужеземный врач, уезжая из Москвы. По этому заключили, что я чернокнижник, пытали, терзали и наконец полумертвого выпустили на свет, в вознаграждение за то, что я припарками унял боль в ногах у Бориса. Но ты, государь, воспитанный в земле просвещенной, ты не должен верить толкам невежд. Уверенность, что ты просветишь и возвеличишь Россию, и ненависть к Борису привели меня к тебе. Располагай мною, как вернейшим из рабов твоих.
– Итак, ты лично ненавидишь Бориса? – сказал Лжедимитрий, смотря пристально на Молчанова. – Ты умеешь составлять зелия? – Молчанов поклонился Лжедимитрию и не сказал ни слова. – Знаешь ли, приятель, – примолвил Лжедимитрий – что тот, кто мне принесет первую весть о смерти лютого врага моего и всей России, получит сан первого боярина и все имущество рода Годуновых?
Глаза Молчанова засверкали.
– За что ж, смею спросить, государь, такая награда за одну добрую весть? Что ж будет за самое дело? Ты в войне с Борисом, государь, и если б кто избавил тебя от твоего неприятеля, тот имел бы первое право на твою милость. Борис сулит целые области и всю казну царскую за твою голову; ты вправе воздать Борису седьмерицею!
– Сам ты человек разумный, Молчанов! На что мне с тобою терять много слов. Но ты знаешь пословицу: "Не силою ловец одолевает льва, а тем, что ловчая умнее голова". Ведь Борис не пойдет в поле биться со мною?
– Позволь мне, государь, отправиться в Москву. Отведаю счастья, авось удастся сослужить тебе службу. Хитер и силен Борис, да и вотчины Годуновых велики! Пойду в Москву: либо сена клок, либо вилы в бок!
– Идти в драку – не жалеть волос, – примолвил Лжедимитрий. – Вот тебе на дорогу; в этом мешке пятьсот червонцев. Уезжай отсюда потихоньку и не говори никому, куда едешь. Понимаешь меня? Прощай! Надеюсь вскоре поздравить тебя первым моим боярином и наследником вотчин Годуновых. Прошу тебя об одном: если б что случилось в Москве, побереги дочь Бориса Ксению. Голова ее дорога мне, как моя собственная. Если сбережешь ее и сохранишь до моего пришествия в Москву, то вдвое, втрое награжу тебя! Отдам все, что сам захочешь.
Молчанов поклонился в пояс, взял деньги и вышел из избы.
Лжедимитрий спустя немного времени также вышел, чтоб посетить воеводу Мнишеха, и встретил на улице Меховецкого, Бучинского и всех панов, начальников Дружин. За ними шел высокий, плотный, чернобородый русский мужик. Увидев Лжедимитрия, толпа остановилась.
– Царевич! – сказал Ратомский, – к тыльной страже прибыло человек до трехсот охотников, из русских крестьян, молодец в молодца; они вооружены ружьями, топорами и кистенями и, кажется, знают воинское ремесло. Вот их начальник; он говорит, что знает тебя, и пришел проситься у тебя в службу.
Высокий и плотный крестьянин повалился в ноги Лжедимитрию и сказал:
– Прости и помилуй, государь-батюшка! Мы пришли к тебе на верную и усердную службу. Повинную голову меч не сечет!
– Встань! Кто ты таков и откуда пришел? – спросил Лжедимитрий, пристально всматриваясь в лицо просителя.
– Неужели ты не узнаешь меня, царь-надежа? Я тебя тешил в лесу песенками и для твоей же забавы отправил жида на тот свет: я Ерема! Помнишь ли, как ты сказывал нашему покойному атаману, Хлопке-Косолапу, что, если царевич придет в Россию, то он простит вольнице и позволит ей идти с собой на Москву? Покойник крепко полюбил тебя и часто вспоминал. По смерти Хлопки мы кое-как укрывались в брянских лесах и, случайно встретив чернеца Мисаила, узнали от него, что ты тот самый, что был у нас в гостях – так и пришли к тебе с повинными головами.
– Господа! – сказал Лжедимитрий, обратись к польским панам. – В нашем положении нельзя быть слишком разборчивым при наборе войска. Эти головорезы составят наш передовой полк: они будут драться, как отчаянные, избегая виселицы. Украина и вся Северская страна наполнена беглецами и бродягами, они все присоединятся к нам, если узнают, что мы их не чуждаемся. В противном случае они могут умножить войско наших врагов. Впрочем, богоугодное дело – превращать разбойников в воинов. Послушай, Ерема: я прощаю вам все проступки и принимаю вас в службу, но только с условием, не забавлять меня более такими шутками, какую ты сыграл с жидом, и отказаться вовсе от ремесла закидывать сети по чужим клетям. Бей только того, кто стоит противу тебя в поле, с оружием. Когда война кончится, я сам награжу всех вас деньгами и землями, а пока – ведите себя мирно, чинно, как пристойно царским воинам. Ерема поклонился в землю и сказал:
– Отец родной! Кто родился волком, тому не бывать лисой. Ведь всякому свой талан: кому молотить, а кому замки колотить. Мои ребята не послушаются меня, как увидят добычу.
– Добыча будет, только не надобно брать без позволения начальства, – сказал Лжедимитрий, – а не то – на первый сук! Скажи это своим. Ратомский, возьмите этих удальцов под свое начальство, и в первый пир… разумеете!
Ерема пошел к своим, а Лжедимитрий с панами отправился к Мнишеху для совещания о военных действиях, которые намеревались начать на другой день приступом к замку Муромеску.
* * *
Лжедимитрий, расспрашивая своего хозяина священника об окрестностях и о всем любопытном в сей стране, узнал от него, что недалеко от селения, на берегу реки, в лесу, живет престарелый схимник, уважаемый всеми за святость. Носились слухи, что этот отшельник был некогда знаменитым вельможею: он исповедовал православную веру, но никто не знал ни имени его, ни отечества. Догадывались, что он русский, а не поляк, хотя и прибыл сюда из Белоруссии. Суеверие распространило вести, будто отшельник предсказывает будущее и угадывает судьбу каждого по течению светил небесных. Лжедимитрий, склонив на свою сторону священника ласками и подарками, убедил его проводить себя к жилищу схимника.
Лжедимитрий вооружился и вечером вышел тайно из слободы вместе с священником. Они следовали по течению Десны тропинкой, пролегающею чрез густой лес. На крутом берегу, под бугром, была пещера, в которой укрывались монахи Остерского монастыря во время первого татарского нашествия и прияли здесь мученический венец под мечами варваров. Предание, сохранившее память о сем происшествии, освятило сие уединенное место. В пещере находилась часовня, и благочестивые люди приходили сюда молиться по обету. Долго она оставалась необитаемою, но лет за двадцать пять пред сим поселился в пещере труженик уже немолодых лет, который с тех пор не отлучался из своего убежища. Он питался овощами небольшого своего огорода, возделываемого собственными его руками, и плодами нескольких яблонь, им самим посаженных. Малое количество хлеба доставляли ему молельщики и жители слободы.
Лжедимитрий велел священнику остаться в стороне и один пошел в пещеру. Дверь в часовню была слегка притворена, и Лжедимитрий вошел туда. Известковая земля образовала род круглого погреба со сводом. На одной стене висело распятие и образ чудотворной Смоленской Богоматери. Перед образами стоял налой с книгами, а в своде укреплена была лампада. Из часовни была дверь во внутренность пещеры. Лжедимитрий прикоснулся рукою до этой двери, и она отперлась. В высокой и полукруглой пещере стоял в углу гроб под образами; пред ним теплилась лампада. Посреди пещеры лежало несколько камней различной величины. На одном из них сидел высокий, согбенный, иссохший старец с белою, как лунь, бородою и малым остатком седых волос на голове. Пред ним стояла кружка с водою и лежал кусок черствого хлеба. Старец был в саване, опоясан веревкою. Он, казалось, кончил свою трапезу; не обращая внимания на вошедшего странника, встал, помолился и после того уже приветствовал пришельца наклонением головы.
– Прости мне, святой отец, что я осмелился нарушить твое уединение, – сказал Лжедимитрий, – Находясь поблизости, я не мог преодолеть желания насладиться лицезрением святого мужа.
– Святость на небе, а на земле труженичество, сын мой, – сказал старец, подошел ближе к Лжедимитрию и, осматривая его с головы до ног, примолвил: – Ты, без сомнения, воин из ополчения, которое остановилось на рубеже России? Русский ли ты или поляк?
– Русский, – отвечал Лжедимитрий.
Старец взял Лжедимитрия за руку, подвел к лампаде и, посмотрев ему пристально в лицо, сказал:
– Ты еще молод! По одежде твоей вижу, что ты облечен в сан высокий. Чего ты хочешь от меня, убогого отшельника?
– Я иду на войну, святой отец; благослови меня!
– Благословение в руце Божией, – отвечал старец. – Служитель алтаря не может благословить русского, ополчающегося противу своего отечества.
– Мы идем войной за правое дело. Ты, верно, слыхал о спасении сына Иоанна от руки убийц. Долг каждого русского жить и умереть за права законного государя.
– Слыхал я разные вести о человеке, называющем себя сыном Иоанновым. Не знаю, чему верить, но, во всяком случае, не могу благословить русского, идущего вместе с иноземцами терзать войною отечество.
– Но если такова воля Божия, чтоб род Рюриков владел престолом российским, то в нынешних обстоятельствах невозможно обойтись без чужеземной помощи. Русские должны всегда почитать своим отечеством то место, где развевается хоругвь царя законного.
– Воля Божия от меня сокрыта. Все, что ты говоришь о обязанностях к законному государю, – справедливо. Но если есть сомнение насчет законности и если чужеземцы хотят оружием внушить обязанности русским, я не могу благословить русского, союзника чужеземцев!
– Вижу, что ты несправедливо извещен, отец мой, насчет сына Иоаннова. Он истинный царевич! Мне сказывали, что ты можешь узнавать будущее, читаешь судьбу человеческую по звездам. Испытай истину и предскажи участь царевича. Он перед тобою!
Старец отступил назад, на лице его изобразилось сильное внутреннее волнение:
– Ты сын Иоаннов! – воскликнул он и закрыл рукавом глаза свои. Помолчав немного, старец сказал: – Много людей приходили ко мне совещаться на твой счет и пересказывали различные слухи, носящиеся в народе. Большая часть верит или желает верить, что ты истинный царевич. Напрасно говорили тебе, что я предсказываю будущее и узнаю судьбу человеческую по течению звезд. Будущее известно одному Богу, и судьба человека в святой его воле, непроницаемой для смертного! Что же касается до меня, то я умер для света и, хотя не престаю молиться о благе России, но уже перестал думать о всем мирском. Сын Иоаннов! присутствие твое встревожило мое спокойствие. Иоанн лишил меня жены, детей, отечества – и душевного спасения! Я простил ему во гробе, но не могу простить себе того преступления, в которое он ввергнул меня своею несправедливостью.
– Итак, ты русский! – воскликнул Лжедимитрий.
– Был некогда русским, но преступление мое расторгло узы, соединявшие меня с любезным отечеством. Теперь я странник без отечества! Одна моя надежда – жизнь будущая, одно пристанище на земле – вот этот гроб!
– Поведай мне, святой муж, кто ты таков? Если я не могу вознаградить тебя за несправедливость Иоанна, то очищу память его благодеяниями на роде твоем и племени. Кто ты таков, отец мой?
– Я был некогда другом и первым помощником Иоанна в дни его славы и побед; был другом добродетельных его советников, священника Сильвестра и боярина Алексея Федоровича Адашева. Кровью моею я оросил развалины царства Батыева, где предки наши томились в неволе и, предводительствуя полками русскими, грудью брал твердыни германские во славу имени Иоаннова. Но он презрел службу мою и верность, озлобил сердце мое несправедливостью своею и заставил отречься от любезного отечества. Повторяю: я давно простил ему – но не могу забыть дел его, как своего имени. В мирском быту я назывался – князь Андрей Курбский (68).
– Ты князь Андрей Михайлович! – воскликнул Лжедимитрий. – О, непостижимая участь! На рубеже России, в ту самую пору, когда я вступаю в мое царство, встречаюсь с первым другом и первым врагом моего отца! Почитаю это счастливым предзнаменованием и умоляю тебя примириться с памятью отца в лице сына. – Лжедимитрий протянул руку к Курбскому.
– Я уже сказал тебе, – отвечал Курбский, – что давно забыл о гонениях Иоанна и помню только мое преступление. Царевич! жизнь моя да послужит тебе уроком! В молодых летах я был осыпан милостями отца твоего: был думным боярином, воеводою и приближенным его. Господь Бог помогал мне служить царю верно. Известно всем, что я содействовал более других к взятию Казани, я разбил хана татарского под Тулою, воевал счастливо с Литвою и взял пятьдесят городов в Ливонии! Еще усерднее служил я Царю в совете, говоря истину вместе с преосвященным Сильвестром и красою бояр русских Алексеем Адашевым. Но злобные люди нас оклеветали. Адашев казнен, Сильвестр сослан в ссылку, все верные сыны отечества погибли в муках, а я, избегая казни, ушел из Юрьева-Ливонского, где тогда начальствовал, в Вольмар к королю Польскому Сигизмунду Августу. Бог был ко мне милостив, и добрые люди не обвиняли меня в сем бегстве. Совесть моя была спокойна. Но месть обуяла меня: я вступил в службу Польского короля и, желая вредить царю, вторгнулся с чужеземным войском в отечество, стал терзать его, думая, что тем терзаю душу врага моего, Иоанна. Месть моя скоро насытилась – но совесть возопила! Король наградил меня почестями и вотчинами, дал в супруги юную и прекрасную княжну Дубровицкую, но не мог водворить спокойствия в душе моей. Русская кровь, пролиянная мною, пала на сердце и жжет, точит его, как неугасимое пламя. Тщетно искал я рассеяния в пирах и воинских забавах, напрасно думал успокоить ум учением, переводя с латинского языка на русский Цицерона, описывая войну Ливонскую, взятие Казани и, в оправдание себе, мучительства Иоанновы. Спокойствие, утешение убегали от меня, скользили по сердцу, как солнечные лучи по каменному утесу, не согревая его, но только освещая хладное его существование. Иоанн в письме своем назвал меня изменником отечества, и это название беспрестанно гремело в ушах моих с тех пор, как я обнажил меч противу России. Иоанн сошел в могилу, все беглецы возвратились в Россию, но мне загражден туда вход навеки! Какими глазами смотрел бы я на соотчичей моих, против которых водил толпы чужеземные? Как осмелился бы предстать в храмах Божиих, пред чудотворными иконами, которые оскверняли иноверные мои ратники? Свет постыл мне. Я беспрестанно тосковал по любезном отечестве, стыдился людей и себя, не находил радости ни в любви жены, ни в ласках сына и помышлял о погибших в России жене и детище. Мертвые были мне милее живых! Первая жена моя и прижитый с нею сын были русские. Наконец, не могши преодолеть угрызений совести, я вознамерился примириться с небом; я не мог примириться с отечеством. Под предлогом важного дела уехал я из дому, из вотчины моей Ковеля в Белоруссии, с одним верным слугою. Тайными путями отправился я в Киев и, проезжая чрез здешнюю слободу, узнал, что накануне моего прибытия скончался отшельник, живший в этой пещере. Я вознамерился заступить его место, послал верного слугу к жене с известием, будто я утонул в Днепре и, прияв образ ангельский, веду с тех пор труженическую жизнь. Недавно похоронил я верного моего слугу, сына того самого Шибанова, который принес из Вольмара первое письмо мое к Иоанну и жизнью заплатил за свою верность. Теперь я один в мире, отказался от всех уз земных, и если открываю тебе тайну мою, то это только для того, чтоб она была тебе поучением. Поклянись мне не сказывать никому, что я жив: это одно вознаграждение, которого требую от тебя за несправедливость отца твоего!
– Клянусь сохранить тайну, – сказал Лжедимитрий.
– Помни, что одно преступление неизгладимо – измена царю и отечеству. Гонения, несчастия, несправедливость не оправдывают измены и клятвопреступления. Если ты царь законный – иди и возьми свою вотчину, царство русское; накажи дерзкого раба, осмелившегося посягнуть на достояние Божиих помазанников. Бог благословит тебя, хотя, по моему разуму, лучше было бы, если б ты шел в Россию без иноземцев. Русский царевич найдет верных слуг и в самой России при помощи Божией. Но если ты не царевич, как разглашает Борис Годунов и духовенство московское, – горе тебе! Если ты даже и овладеешь престолом, то не найдешь на нем ни спокойствия, ни утешения: сила адская сокрушится от моления православных. Царь имеет право карать мятежников, но всякий другой, проливающий кровь братии из собственных видов, будет проклят навеки, и если б совесть его была закалена в адском пламени, она размягчится от братней крови и превратится в яд, который вечно будет терзать тело и душу. Помни слова мои – и иди с миром! Наступает час моей молитвы.
– Ты уже примирился с небом, доблий муж! – сказал Лжедимитрий, сильно тронутый речью Курбского. – Благослови меня!
– Если дело твое правое – Бог тебя благословит! Но я, грешник, мученик совести, не смею благословлять никого. Я сам умоляю о помиловании! Помолимся Богу!
Старец и Лжедимитрий упали на колена пред образом и стали молиться. Встав с земли, Лжедимитрий просил позволения обнять князя Курбского и в сильном волнении вышел из пещеры. В безмолвии он возвратился домой и не мог заснуть всю ночь. Страшные слова раскаявшегося изменника раздавались в ушах и терзали его сердце.
* * *
Поутру явились жители Муромеска с хлебом и солью и привели с собою связанных воевод московских, державшихся стороны Бориса. Этот первый успех в земле русской оживил все сердца надеждою. Надлежало переменить предначертание военных действий. Яну Бучинскому поручено было с малым отрядом занять Чернигов, откуда пришли благоприятные известия от начальствовавшего там князя Татева, к которому писал друг его, Хрущов. Сам Лжедимитрий вознамерился с остальным войском переправиться чрез Десну, и идти к Новгороду-Северскому и Путивлю, где собиралось сильное войско Борисово. Ударили в бубны и литавры, заиграли на трубах, и войско выстроилось. Лжедимитрий, прежде нежели надлежало ступить на землю русскую, хотел отслужить молебен для прельщения русских людей видом благочестия. При окончании священнодействия вдруг нашла туча и покрыла небо мраком. Заревел ветер, загремел гром и дождь полился рекою. Лжедимитрий, желая ободрить своих воинов, сел на коня и первый переехал чрез наведенный мост. За ним последовали все польские паны. Лишь только конь Лжедимитрия ступил на русский берег, гром разразился и ударил в землю возле самых конских ног. Лошадь поднялась на дыбы и опрокинулась с всадником. Войско и паны польские пришли в ужас; но Лжедимитрий при сем грозном предзнаменовании не потерял присутствия духа. Он обнял землю, поцеловал ее и, встав, сказал окружающим:
– Вижу действие самого промысла. Провидение бросило меня на мою отечественную землю в знак того, что оно отдает мне ее. Этот гром и буря – для Бориса!.. Вперед!
ЧАСТЬ IV
Видяще же, возлюблении, сию суету жития человечо, иже вчера славою украшен и гордяся в боярах, а ныне персть и прах, вмале является, а вскоре погибает; но помянем своя грехи и покаемся.
Софийский ВременникГЛАВА I
Любимец царский. Большая Дума. Беспокойство в тереме. Пир царский. Внезапный страх.
Царь Борис Федорович встал с рассветом и велел позвать в рабочую свою палату боярина Семена Никитича Годунова, который дожидался во дворце пробуждения государя.
– Ну, что слышно, Семен, что толкуют в народе о расстриге? – спросил царь.
– Плохо, плохо, великий государь! Злой дух обуял народ. Несмотря на проклятие церкви, на твои грамоты государевы, в народе все толкуют, что этот вор Гришка – истинный царевич!
– Сущее наказание Божие! – воскликнул царь плачевным голосом. – Как можно верить сказкам, разглашаемым беглыми чернецами? Как не помыслить, что если б царевич не погиб в Угличе, то не мог бы укрываться так долго…
– Для народа сказки приятнее истины; народ не размышляет, а думают за него другие!
– Изменники, предатели, богоотступники! – воскликнул царь. – Гнусное боярское дело! Чего им хочется, этим ползунам?
– Власти и богатства, как водится. У меня в Сыскном приказе перебывало в пытке человек до ста знакомцев боярских и слуг. Все показывают, что слышали о царевиче от господ своих. Да что толку, когда ты, великий государь, не велишь трогать их!
– Постой! Трону я их, пошевелю! Узнают они меня, – сказал царь гневно.
– Давно бы пора. Если б ты слушал меня, верного твоего слуги, государь, да отдал мне в руки всех бояр, то давно был бы конец всему делу. Я так бы сжал их в тисках, что запели бы у меня правду-матку! Чистехонь-ко– запутал бы их в одни силки да прихлопнул разом, как воронят в гнезде – и аминь!
– Нельзя, Семен, нельзя! Помнишь ли, какого шуму и крику наделала опала Романовых и их приятелей? Мне доносят, что народ и теперь еще тоАкует об этом.
– Толкует или нет, не наше дело, а что нужно, то должно. Пословица твердит: за один раз дерева не срубишь; а уж как начали, так надлежало кончить. После было бы гораздо легче! Недаром говорят: первую песенку зардевшись спеть. Уж когда удалось с Романовыми, которых народ чтил, как святых, то с другими пошло бы как по маслу. Если ты, государь, рассудишь послушать совета верного твоего холопа, то позволь мне взять в клещи эти упрямые боярские бороды! Чем ждать, пока они все станут изменять, как князь Татев и его товарищи, так лучше заранее избавиться от них. Царь Иван Васильевич не боялся толков: он бы их давно уж припрятал в родовые могилы. Терпеть хуже; недаром говорят: сделайся овцою, а волки будут.
– Нет, Семен, этак нельзя! Я опасаюсь раздражить слишком народ!
– Чего опасаться, государь, народа! Он, как дудка: гудит, как в него подуют. Опасны бояре – итак, надобно сбыть всех подозрительных.
– Да кого же ты подозреваешь более, Семен?
– Всех, кроме наших Годуновых да еще двух-трех наших свойственников.
– И Басманова?
– Государь! Скажу тебе правду и об нем. Сослужил он тебе верную службу в Новгороде-Северском, не поддался самозванцу, спас город, помог в Добрыничской битве; но все старики толкуют, что ты слишком возвеличил его за то, что каждый должен был бы сделать по крестному целованию. Его ввезли в Москву по твоему приказу в рыдване, как диво какое, ты наградил его светлым платьем и дорогими сосудами, дал боярство, обширные вотчины, и что всего более – допустил к своей царской милости, какою прежде никто не пользовался. Это еще более сокрушает нас, стариков.
– Что это значит, Семен! – сказал государь, наморщив чело. – Ты не говорил никогда со мною так смело. Видно, что пример других подействовал и на тебя в нынешнее время, или, вернее, зависть мучит тебя. Все вы на один покрой! Усердны не ко мне, не к отечеству, а к своим выгодам. Дорожите царским взглядом, словом, как товаром. Знаю я вас!
Боярин Семен Никитич бросился в ноги царю и воскликнул:
– Прости и помилуй, государь-надежа, если словом или делом огорчил тебя! Но мы, верные твои слуги, не можем хладнокровно смотреть на новичков, пользующихся твоею доверенностью. Они не дали столько опытов своей верности, как мы, твои люди. Им все равно, кто б ни был царем, лишь бы награждал их; но мы, Годуновы, живем и дышим одним тобою.
– Встань, Семен, прощаю тебя, но вперед будь осторожнее. Не бойся – будет всем вам довольно, только служите мне верно. В лице Басманова я награждал верность и усердие, в которых у меня теперь недостаток. Мне надобны ныне храбрые воины, верные воеводы, понимаешь? Пройдет гроза, и они опять будут тем же, чем были прежде, то есть ничем; а вы – навсегда останетесь тем, чем были.
Боярин поклонился в землю.
– Не слышно ли чего от наших иноков из Путивля? – спросил царь.
– Ничего не слышно, но я надеюсь, что они сделают свое дело. Старик, которому мы дали твою грамоту к путивлянам, красноречив и, верно, убедит их связать вора и отдать твоим людям. Младший предприимчив и смел. Он зашил зелье в сапог и поклялся опоить злодея-расстригу. Одним или другим образом, но он не избегнет гибели, этот проклятый чародей… (69).
– Дай Бог, чтоб твоими устами да мед пить!.. Сказано ли датчанам, чтоб были у меня сегодня на трапезе? – спросил царь.
– Сказано приставам, и конюший нарядит бояр, чтоб привести их во дворец по обычному уставу.
– Повещено ли боярам быть в Большой Думе, а после откушать у меня хлеба-соли?
– Повещено. Уж дворяне твои и бояре начали собираться в сенях и в нижней палате.
– Хорошо, ступай же, призови ко мне Петрушку!
Семен Никитич Годунов вошел в нижнюю палату, примыкающую к сеням, где собравшиеся бояре сидели на скамьях и перешептывались между собою. Один из них, высокий, статный муж, красивый лицом, лет тридцати пяти, сидел в отдалении от прочих, поглаживал свою черную бороду и смотрел на других исподлобья. На нем было новое светлое платье, парчевая ферязь с высоким стоячим воротником, которого отворот лежал на спине. Воротник и застежки на ферязи и воротник шелковой рубахи унизаны были жемчугом. Поверху он имел длинный охабень из красного бархата. На остриженной в кружок и подбритой спереди и с тыла голове была тафья, сплетенная из золотых и серебряных ниток с жемчугом. На груди висела золотая гривна на золотой же цепи. Под мышкою держал он высокую соболью шапку. Красные сапоги окованы были серебром. С завистью поглядывали бояре на этот наряд, подарок царский, и не смели заговорить с новым любимцем, зная его угрюмость.
– Царь-государь повелел предстать пред светлые очи свои боярину Петру Федоровичу Басманову! – сказал боярин Семен Никитич и чинно поклонился сперва ему, а после всему собранию.
Высокий и статный боярин, сидевший в отдалении от других, встал, надел шапку и важною поступью вышел из комнаты.
– Знаешь ли ты пословицу, князь Никита: раздулся, как мышь на крупу? – сказал боярин Иван Михайлович Бутурлин.
– Знаю и другую, – отвечал князь Никита Романович Трубецкой, – красненькая ложечка охлебается, так и под лавкой наваляется.
– Что ты это, князь Никита, зашел в чужую клеть молебен петь? – возразил князь Иван Михайлович Глинский. – Знал бы про себя да молчал, так было бы здоровее.
– По-моему, так лучше плыть через пучину, чем терпеть злую кручину, – отвечал князь Никита Трубецкой.
– Не тебе бы говорить, а не нам бы слушать, – примолвил боярин Иван Петрович Головин.
– Мне эти выскочки, как синь порох в глазе, – сказал князь Никита.
– Все мы холопи государевы, – отозвался боярин Яков Михайлович Годунов. – Его воля над нами: чем прикажет быть, тем и будем!
Боярин Семен Никитич Годунов улыбнулся и так зверски посмотрел кругом, что все замолчали.
Между тем Басманов вошел в комнату государеву и, помолясь перед образом, поклонился в землю царю.
Царь сидел за своим столом, приветствовал Басманова ласковою улыбкою и, помолчав немного, сказал:
– Послушай, Петр! на тебя у меня вся надежда! – Боярин снова поклонился в землю. Царь продолжал. – Не страшен мне этот вор, расстрига Гришка Отрепьев, но страшны для отечества измены, несогласие и неспособность бояр, которым вручена судьба церкви и престола. Что они делают с войском, в котором теперь около восьмидесяти тысяч человек! Стыд и срам вспомнить! До сих пор они не могли истребить бродягу, имеющего едва пятнадцать тысяч всякой сволочи. Разбили расстригу под Трубчевском, под Добрыничами, а что проку из этого? Он жив, злодействует и снова собирает войско, тогда как воеводы мои спят под Кромами, не будучи в состоянии взять этого бедного острога, где не более шестисот изменников. Восемьдесят тысяч воинов с стенобитным снарядом осаждает шестьсот бродяг! Позор! Но это не трусость, а злорадство. Как изменил князь Татев в Чернигове и князь Рубец-Мосальский в Путивле, так готовятся изменить все мои бояре. Князь Федор Иванович Мстиславский – человек добросовестный, лично мужественный, но плохой воевода. Храбро дрался он под Трубчевском, как простой воин, и только пятнадцатью полученными им ранами купил мою милость. Побежденный расстрига извлек более выгод из этой битвы, нежели победители. Теперь князь Мстиславский слаб от ран, а второй под ним, князь Василий Иванович Шуйский, нанадежен, хотя и свидетельствовал на Лобном месте о смерти царевича Димитрия. Род Шуйских враждебен моему исстари. Не верю Шуйским, а особенно князю Василию! Медленность, нерешительность, и, наконец, отступление от Кром в то время, когда надлежало идти на приступ – явный признак измены Михаилы Салтыкова. Князья Дмитрий Шуйский, Василий Голицын, Андрей Телятевский, боярин Федор Шереметев, окольничие князь Михайло Кашин, Иван Годунов, Василий Морозов губят рать в поле от холода и голода, а не действуют как должно, одни от незнания, другие – замышляя измену. Вижу, что надобно принять решительные меры, когда ни страх, ни милость не действуют. Целая южная Россия уже вдалась в обман и признает расстригу царевичем, а самые верные воеводы мои дремлют, спорят между собою и из зависти, думая вредить друг другу, губят отечество! Я раздумал и хочу тебя, верного моего слугу, сделать одним главным воеводою над целым войском, с властью неограниченною, которою наделю тебя по царской воле моей.
Басманов поклонился снова в землю и сказал:
– Но что заговорят твои бояре? Захотят ли они мне повиноваться?
– Бояре! – воскликнул царь. – Знаю я их лучше, нежели ты, Петр! Государи, рожденные на престоле и окруженные ими с малолетства, не могут хорошо знать их, потому что сами бояре внушают им с детства мысли, для себя благоприятные. Они стараются вперить в царское сердце, что хорошо царствовать – значит быть щедрым и снисходительным к боярам и строгим к народу. Но я сам состарелся между боярами, меня нельзя обмануть! Я разгоню этот дым, окружающий мой престол царский и скрывающий его от народа. Я сокрушу это ветхое основание родовой заслуги, которая делает человека знаменитым по месту, а не по качествам, и отнимает места у истинной доблести. У меня будет князем и боярином тот, которого мне угодно будет признать в сем звании, и столько времени, сколько я захочу. Прочь, ненавистное местничество! – Царь остановился; и Басманов молчал. – Мой бешеный Семен Никитич все просит у меня, чтоб истребить дотла боярские роды, – примолвил царь. – Я этого не сделаю, но лишу их средства вредить отечеству взаимною ревностью. Жалко смотреть, как люди богатые, знатные, унижаются, чтоб получить немного власти для угнетения низших и для чванства пред равными! Смешно, как эти мудрые головы повергаются в прах, чтобы после возвысить чело пред беззащитными! Ползают, лижут ноги – из места; а дашь место – нет толку! Ну что ты скажешь об этом, Петр?
– Государь! Я думаю, что благоденствие отечества держится на твердости и непоколебимости престола, а престол поддерживается истиною и правосудием. Самый верный и самый покорный слуга государев есть тот, кто говорит царю правду. Прости, государь, моей смелости! Взысканный, возвеличенный тобою, я твой телом и душою и почитаю долгом говорить перед тобою правду. Местничество есть великое зло. Государь, который решится истребить его, возвеличит Россию столько же, как свержением ига татарского. От местничества происходят все наши несчастия. Это бесспорно. Но насчет бояр я осмеливаюсь думать иначе, государь! Как светила небесные имеют свой чин и порядок, так и между людьми должно быть различие. Нельзя попрать заслуги предков. Эти заслуги обязывают потомков уподобляться им и внушают благородную гордость, которая может принесть плоды полезные, если будет направляема благоразумно. Между боярами есть люди добросовестные, умные и способные к делам; от тебя, государь, зависит выбирать каждого по его способностям. Надобно, чтоб местничество было в воле царской, а не в книгах разрядных. Думаю и верю, что между русскими нет и не будет изменников престолу и отечеству. По нынешним обстоятельствам нельзя судить о прямодушии русского народа. Может быть, чужеземцы, приведшие в Россию расстригу, утвердятся в убеждении, что русские легкомысленны и неверны престолу, судя по той легкости, с какою они передаются бродяге. Но самое зло имеет благое начало. Чувство благородное, привязанность к царской крови, ослепляет россиян. Имя, пленительное для русского слуха и сердца, имя потомка царей русских Димитрия, соблазняет верных и добрых людей. Не скрываю пред тобою, государь, что опасность велика для престола и царства. Одна сила воинственная не в состоянии сокрушить крамолы и рассеять обольщения: надобно действовать на ум и на душу россиян, то есть употребить средства, которыми у нас всегда пренебрегают. Расстрига действует не силою воинственною, но обольщением умов и душ. Наступило время, в которое должно употребить все, зависящее от власти твоей, государь, чтоб покорить сердца и умы народа твоего убеждением, а твердостью убеждения народного низвергнуть злодея. Не изменников должно искать в русском царстве, чтоб казнить, а должно отыскивать верных, но слабых людей, чтоб просветить их! – Басманов, кончив речь, поклонился царю.
– Что ж, ты думаешь, надобно предпринять? – спросил Борис.
– Сесть самому на коня, государь, созвать всех верных россиян к войску и в сопровождении синклита и духовенства, с чудотворными иконами ударить на злодейские скопища, изрыгнутые злом для уничтожения православия. Когда увидят царя в ратном поле и услышат из уст царских истину, народ пойдет за помазанником, за венчанным владыкою.
– Нет, Басманов, я не пойду на войну! Мне стыдно ратоборствовать с бродягою, с расстригою, с самозванцем, которого ожидает виселица.
– Объяви войну Польше, государь, за нарушение трактата и вторжение в твое государство. Ты будешь воевать с Польшею.
– Это значило бы усилить злодея и заставить Польшу явно признать его царем Московским. Это бы еще более смутило Россию! Теперь Сигизмунд клянется, что польская вольница вторгнулась в Россию без соизволения Сейма, и предает самовольных польских бродяг моему правосудию, а тогда будет другое дело. Тогда самозванец будет уже не бродягою…
– Государь, я думаю, что в решительные минуты сила и скорость – единственное спасение.
– Я прибегну к этим средствам, только другим образом. Соберу рать сильную и дам тебе начальство над нею. Ступай, ратуй, спаси престол и царство, и ты, став подпорою престола, уготовишь себе место на первой ступени его и вознесешься превыше всех слуг моих на развалинах местничества. Сегодня решу в Думе набор войска, а завтра объявлю тебя первым и главным воеводою. До свидания!
* * *
Царица Мария Григорьевна сидела подгорюнившись в своем тереме. Перед нею сидела на низкой скамье дочь ее, Ксения, закрыв лицо шелковым платком, а возле дубового шкафа стояла, поджав руки, няня Марья Даниловна.
– Перестань кручиниться, дитятко! – сказала царица, – твои слезы падают мне на сердце.
– Прости, родимая! – возразила царевна, – но я не в силах ни скрыть, ни истребить кручину. Давно ли я схоронила в сырую землю жениха моего, Датского царевича, которого позволили мне любить и государь-батюшка, и ты, родимая, и святейший патриарх? давно ли я оплакала этого дорогого гостя, который для меня отрекся от своего отечества и хотел принять нашу веру православную – и вот новые беды носятся над родом нашим! Ах, матушка! страшно вспомнить об этом злодее, который теперь грозит смертию батюшке и всем нам. Ведь мы с няней видели его в лицо. Как он ужасно смотрел на меня исподлобья, как будто хотел проглотить; как он дерзко схватил меня за руку! А кровь-то в нем пылала, как адское пламя. Даже сладкие его речи казались мне змеиным шипеньем. Кровь стынет, как подумаю!
– Как это ты, Марья, допустила к себе этого злого духа? – спросила царица. – Ведь он мог бы заколдовать или оморочить мое детище. Все говорят, что он лютый чародей!
– Ах, матушка-царица! – отвечала няня, – ведь бес-то принимает на себя всякие образы. Мне, грешной, почему было знать, что он чародей? Он пришел ко мне с грамоткою от киевского архимандрита, которого и ты знаешь, царица-матушка, как святого мужа.
– Батюшка крепко грустит и кручинится, – сказала Ксения. – А он и так часто бывает недужен. Я смертельно боюсь, чтоб он не слег. Ведь он почти не спит, не изволит ничего кушать и часто гневается. Это не дает здоровья, как говорит наш немец Фидлер.
– Что делать, дитятко! Ведь родитель твой должен помышлять не об нас одних, а об целом царстве русском. Как ему не печалиться, когда нечистая сила напустила злодея на пролитие христианской крови! Вот был разбойник Хлопка, так его шайку истребили скоро при помощи Божией, а этого лютого чародея так ничем нельзя извести, ни воинством, ни анафемой!
– Я третьего дня навещала родильницу, племянницу мою Палашу Огареву, – сказала няня. – Там встретила и Аннушку Квашнину, и она мне сказала большое диво. К ним на двор пришла цыганка, молодая и красивая, но бледная и худая. Она ворожила всем в тереме, а как ее стали спрашивать, откуда она, так сказала, что пришла из тех мест, где ныне воюет войско царское с расстригою. Она знает расстригу и говорит, что он лют в ополчении и как дикий зверь мечется в боях. Цыганка говорит, будто бы этот вор хвастает, что полюбил наше ненаглядное солнышко, нашу Ксению Борисовну и хочет на ней жениться!
– Перестань! – воскликнула с гневом царица. – В своем ли ты уме, Марья? Ты говоришь, как спросонья, да и такую ересь, прости Господи, что сердце замирает.
– Матушка-царица! – отвечала няня, – да ведь я только повторяю вести, а их теперь столько, что если б была дюжина ушей, то было бы что слушать.
Ксения побледнела.
– Родимая! – сказала она трепещущим голосом сквозь слезы, – что это? Неужели это может быть, чтоб этот чародей вздумал жениться на мне? Ах, Боже мой, как страшно!
Царица перекрестила дочь свою, примолвив:
– Успокойся, дитятко, успокойся! Ведь это только толки да басни городские. Как он посмеет думать об тебе!.. Какая ты несносная болтунья, Марья! Мелешь всякий вздор, что услышишь. Смотри, как ты напугала мою Ксению!
Няня стала креститься и класть земные поклоны перед образом, приговаривая громко:
– Господи, спаси нас и помилуй! Да воскреснет Бог и расточатся врази его. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!
– Да ведь если он волшебник, – сказала Ксения, – так он может прикинуться невидимкою и похитить меня силою адской? Уж лучше пусть он убьет меня.
– Господь с тобою, мое дитятко! – сказала царица. – Об нас молится святейший патриарх целым собором: так адская сила не подействует. Выбей этот вздор из головы.
– Ах, родимая, видишь ли, как он силен? – возразила Ксения. – Вот сколько времени воюют с ним, а не могут ничего ему сделать. Боюсь смертельно! – Ксения заплакала и бросилась в объятия матери.
– Наше дело женское, – сказала царица, – а, право, кажется, что русские стали теперь не те, что были при покойном царе Иване Васильевиче. Тогда брали целые царства, пленяли царей и вождей чужеземных, а ныне наши воеводы не могут сладить с шайкою бродяг. Недаром не верит им государь Борис Федорович!
– Послушала бы ты, матушка-царица, что говорят на Москве, – сказала няня. – Царь Борис Федорович жалует-де немцев да всяких нехристей, так нет и благословения Божиего.
– Да перестань ты, Марья, рассказывать свои нелепые толки, – возразила царица. – Что худшего, то все попадает тебе в уши.
– Послушала бы ты, няня, как братец Феодор рассказывал про немцев! – сказала Ксения. – В битве под Добрыничами они, как каменная стена, стояли противу разбойников и потом бросились на них, воскликнув: "Помоги Бог!" – разбили и одержали победу во славу Бога, царя и России. Вот каковы наши немцы, которых ты не любишь! Видишь ли, что они сражаются, призывая на помощь Бога!
– Уж я ничего не смею сказать, – возразила няня. – Дай Бог им здоровья за это; а все-таки было бы лучше, если б они были крещеные.
– Когда мы увидимся с государем-батюшкой? – спросила Ксения. – Он нам перескажет, что делается в войске и утешит нас в горести.
– Мы не увидим его до вечера, – отвечала царица, – он занят с своими боярами.
* * *
В Грановитую палату собрались думные люди для совета по указу государеву. На возвышенном месте сидел царь Борис в золотых креслах. Он был в парчовом кафтане и на голове имел небольшую остроконечную бархатную шапочку, унизанную жемчугом, осыпанную цветными каменьями и опушенную соболями. По правую сторону сидел царевич Феодор в белой шелковой длинной одежде с золотыми узорами; по левую патриарх в обыкновенном своем одеянии: темно-фиолетовой шелковой рясе, панагии и белом клобуке с алмазным крестом. Кругом на возвышенных уступами скамьях сидели духовные и светские советники по старшинству. Московский митрополит Иона, казанский Ермоген, новгородский Исидор и коломенский епископ Иосиф в черных шелковых рясах сидели рядом, по левой стороне, на особой скамье. С правой стороны начиналось старшинство мест боярских. Место первого боярина, князя Федора Ивановича Мстиславского, находившегося в войске, занимал князь Никита Романович Трубецкой. Рядом помещалися один за другим бояре: князь Андрей Петрович Куракин, князь Иван Васильевич Сицкой, князь Иван Михайлович Глинский, князь Федор Иванович Хворостинин, князь Иван Иванович Голицын, князь Иван Михайлович Воротынский, князь Иван Иванович Шуйский, Степан Васильевич Годунов, князь Михайло Петрович Катырев-Ростовский, князь Василий Карданугович Черкасский, князь Андрей Васильевич Трубецкой, князь Андрей Андреевич Телятевский, князь Василий Васильевич Голицын, Семен Никитич Годунов, князь Петр Иванович Буйносов-Ростовский, Степан Александрович Волоской, Матвей Михайлович Годунов и Петр Федорович Басманов. На левой стороне в первом ряду сидели окольничие: Иван Петрович Головин, Иван Михайлович Бутурлин, Иван Федорович Крюк-Колычев, князь Андрей Иванович Хворостинин, Яков Михайлович Годунов, Дмитрий Иванович Обеняков-Вельяминов, Степан Степанович Годунов, Матвей Михайлович Годунов, Никита Васильевич Годунов, Михайло Михайлович Кривой-Салтыков, Василий Петрович Морозов, Иван Иванович Годунов, Петр Никитич Шереметев, Иван Федорович Басманов, князь Василий Петрович Туренин. На особой скамье, в первом же ряду, сидели бояре и окольничие, царедворцы государевы, по старшинству: дворецкий, заступивший место конюшего Дмитрия Ивановича Годунова, находившегося в войске, боярин Степан Васильевич Годунов, постельничий Истома Осипович Безобразов, ясельничий Михайло Игнатьевич Татищев, крайчий Иван Михайлович Годунов, сокольничий Иван Алексеевич Жеребцов, ловчий Димитрий Андреевич Замыцкий, казначей Игнатий Петрович Татищев. На задней скамье сидели первые думные дворяне: князь Василий Иванович Белоголовый-Буйносов-Ростовский, Елизарий Леонтьевич Ржевский, Евстафий Михайлович Пушкин, Василий Борисович Сукин, а за ними все меньшие дворяне и дьяки (70). Под окном, за столом с бумагами, сидел думный дьяк Афанасий Иванович Власьев с двумя другими дьяками. Все бояре и дворяне думные были без шапок. Глубокое молчание царствовало в собрании. Царь Борис сказал:
– Святейший патриарх, преосвященные владыки, вы, знатные мои бояре и все мудрые советники! Враг презренный не стоил бы того, чтоб употреблять противу него силу непоколебимого нашего царства (71); но злорадство, измена злодеев внутренних, легкомыслие черного народа и пагубные замыслы внешних врагов на погибель царства и ниспровержение православия заставляют меня прибегнуть к мерам решительным. Я выслал войско противу толпы бродяг, но зимняя пора и болезни уменьшили число его, а слабость и малодушие воевод дали средство спастись разбойникам в южных наших областях. Я уменьшил вполовину число войска противу устава, блаженной памяти царя Иоанна Васильевича и повелел, чтоб с двухсот четвертей обработанной земли выходил только один ратник с конем, доспехом и запасом; но излишняя моя благость произвела пагубные следствия. Богатые вотчинники медлят высылать воинов, а дворяне и жильцы убегают от службы и прячутся в домах (72). Стыдно нам бездействовать, когда латины, подставив бродягу, стремятся на низвержение святой нашей церкви. Бывали времена, когда самые иноки, священники, диаконы вооружались для спасения отечества, не жалея крови своей; но мы не хотим того: оставляем их, да молятся в храмах, а требуем, чтоб все бояре и дворяне, держащие вотчины наши государевы, все боярские дети и жильцы, получающие наше царское жалованье, содействовали верою и правдою к изгнанию злых латинов из Русского царства и к истреблению гнусного обманщика и чернокнижника, проклятого церковью. Вы, мудрые советники мои, придумайте средства к пробуждению святого долга в сердцах упорных и к умножению рати. Я поклялся только благотворить народу и исполнять закон; вам предоставляю изыскать меры для вразумления непослушных, дерзких, для блага вашего и нашей православной веры! – Молчание продолжалось в собрании. Царь примолвил: – Святейший патриарх, что ты повелишь?
– Если тебе не угодно, государь, чтоб святители вооружались на защиту веры и престола, – отвечал патриарх Иов, – то пусть все слуги мои святительские и монастырские, годные для ратного дела, спешат на войну под опасением отлучения от церкви и тяжкого гнева государева в случае медленности. Духовенство русское было и будет первым примером самоотвержения в опасностях отечества! (73)
Бояре молчали. Царь, обращаясь к ним, сказал:
– Придумайте средства к скорейшему исполнению воли моей, верные мои бояре!
– Надобно непременно казнить торговою казнью всех ослушников твоего указа государева! – сказал боярин Семен Никитич Годунов, встав и поклонясь низко царю.
– Я думаю, что должно подвергнуть телесному наказанию, лишить именья и заключить в темницу всех медлящих высылать людей к войску и уклоняющихся от службы, – сказал Степан Васильевич Годунов. Молчание снова водворилось в собрании.
– Что скажут другие верные бояре? – спросил царь.
– Как ты повелишь, государь, так и будет! – отвечал князь Иван Васильевич Воротынский.
– Святейший патриарх и боярин Степан Васильевич советуют мудро. Но я хочу знать ваше мнение, – примолвил царь.
– Мы согласны с мнением святейшего патриарха и боярина Степана Васильевича Годунова, – сказал боярин князь Никита Романович Трубецкой, и множество других голосов повторяли то же.
Семен Никитич Годунов злобно посмотрел на князя Трубецкого и на окружающих его бояр, проворчав сквозь зубы:
– Мелочные советники, изменники!
– И я согласен с мнением святейшего патриарха и боярина Степана Васильевича Годунова! – Согласны, согласны! – раздалось в собрании.
– Дьяк Афанасий, запиши приговор боярский! (74) – сказал царь, встал и вышел из палаты с сыном своим. Патриарх также встал и, благословив собрание, вышел, сопровождаемый духовенством, к крыльцу, где ожидала его колымага, а бояре, окольничие и думные дворяне пошли в Золотую палату, к столу государеву.
* * *
В Золотой палате длинные узкие столы накрыты были узорчатыми скатертями; на столах не было ни тарелок, ни салфеток, ни вилок, а лежали только серебряные круглые и глубокие ложки и ножи. В серебряных кувшинцах был уксус, в золотых сосудцах соль и перец. Большие пшеничные и ситные хлебы лежали целиком. На возвышении находился стол для царя и царевича, накрытый шелковою скатертью с золотыми узорами. На нем был прибор из чистого золота. Возле царского стола, по сторонам, находились два поставца с золотою посудой, ковшами, кубками и чарами. У конца большого стола, вблизи царского, стояли три датские сенатора, бывшие в Москве с принцем Иоанном: Гильденсторн, Браге и Гольк. Возле них находились приставы и переводчик. Вокруг столов стояли русские званые гости, а позади более двухсот человек жильцов для услуги. Вошел царь с сыном своим, и все поклонились им в пояс. Государь спросил о здоровье послов, сел за свой стол, и все собеседники заняли свои места. У царского стола стояли крайчий, чашник с помощниками и стольники в богатых светлых ферязях и высоких собольих шапках. Собеседники сидели за столом без шапок, но стольники и бояре, смотревшие при столе за порядком и наряжавшие вина, равно как и вся прислуга, были в шапках. Жильцы были в светлых ферязях с золотыми цепями на груди, в высоких черных лисьих шапках. Лишь только царь сел за золотою трапезою, жильцы построились по два в ряд и под предводительством стольника пошли за кушаньем, поклонившись прежде низко государю. Между тем служители стали разносить водку. Когда каждое кушанье отведано было на кухне поваром при стольнике и когда каждый жилец взял свое блюдо, они вдруг вошли в столовую и один за другим подходили к крайнему, а другие чиновники-служители подходили с другой стороны к чашнику с кувшинами, наполненными винами иноземными: рейнским, белым фряжским, мушкателем, романеею, бастром, или вином Канарским, аликантом и мальвазиею, также медами русскими, белыми и красными. Крайчий в глазах царя отведывал из каждого блюда, а чашник из каждой кружки, прежде нежели подносили ему пищу и напитки.
Царь, отведав из блюда, которое ему нравилось, брал кушанье в золотой судок и предлагал яствы царевичу, а после того рассылал гостям в знак своей милости. Во время питья водки царь рассылал таким же образом хлеб. Крайчий сперва провозгласил имена датских сенаторов, сказав громко:
– Царь, государь и великий князь всея России, Борис Федорович, жалует вас, высокие господа Гольк, Браге и Гильденсторн! – Гости встали, поклонились и приняли подачку. Теми же словами извещали русских собеседников о царской милости, подавая им пищу и питье, и каждый, встав с места, благодарил царя низким поклоном и брал пищу в судок, который подавал ему тотчас слуга.
Множество и разнообразие кушанья достойны были царской трапезы. Обед начался икрою и студенью из говяжьих ног. После поданы были жареные павлины, гуси, поросята, баранина, куры и разная дичь, исключая зайцев, почитаемых нечистыми. После разносили похлебки и разные взвары: курицы в калье с лимонами, курицы в лапше, курицы в щах богатых, блюдо жаворонков, караси с бараниной, похлебку молочную с перловою крупою и курицей, взвар с говядиной и изюмом, папорок лебедин под шафранным взваром, рябь, окрашенный под лимоны, потрох гусиный, поросенок в студени с хреном и уксусом. К жаркому поданы были сырые и соленые огурцы, соленые лимоны, изрезанные в куски и сложенные в пирамиды, соленые сливы и кислое молоко. Из рыбного подавали: щуку паровую живую, леща парового живого, стерлядь паровую живую, спину белой рыбы, голову щуки и осетра, тешку белужью, уху щучью, тельные оладьи из живной рыбы. Все яствы, исключая сладких, сильно приправлены были перцем, луком и чесноком. Более всего было хлебенного. В изобилии разносили вкусные крупичатые перепечи, курники, подсыпанные яйцами, пироги с бараниной, пироги кислые с сыром, пироги с яйцами, сырники, блины тонкие, пироги рассольные, пироги подовые на торговое дело, караваи яицкие, куличи, пироги жареные. На столах стояли серебряные лощатые братины с квасом и пивом, а во время обеда поставили на столы братины с медами: смородинным, можжевельным, черемуховым, вишневым, малиновым и другими. При братинах были золотые ковши. На закуски подан сахарный литый орел весом в два пуда, лебедь литой сахарный в полтора пуда, утя в двадцать фунтов, город Кремль сахарный с людьми и коньми, город четвероугольный с башнями и пушками, башня большая; коврижки сахарные расписные, изображающие герб государственный и воинов; марципан сахарный, леденцовый и миндальный, множество блюд с узорченым сахаром, с изображением конных и пеших людей; разные овощи, облитые сахаром-леденцом, пряные зелья в сахаре. Кроме того, на огромных блюдах поданы смоква-ягода, цукат, лимоны, яблоки мушкатные и померанцевые, шаптала, инбирь в патоке, изюм и сухие сливы (75).
Царь, умеренный в пище и питье, позволял однако ж другим веселиться за своею трапезою, и собеседники пили вдоволь вкусные меды и вина иноземные, хотя не были к тому понуждаемы, как в частных пирушках. Царь велел подать себе золотой ковш, украшенный дорогими камнями, приказал налить романеи, и крайчий провозгласил, что царь-государь изволит кушать за здоровье брата своего, Датского короля. Сенаторы датские встали, поклонились государю и выпили за здоровье Русского царя. Потом боярин князь Никита Романович Трубецкой встал, поклонился государю и просил соизволения выпить за здоровье царское. Борис Федорович позволил, и боярин, высказав весь титул царский, воскликнул:
– Да здравствует на многие лета!
Все собеседники, которые стояли в это время, когда боярин говорил, повторили:
– Да здравствует на многие лета! – и выпили до дна свои кружки. Царь поблагодарил всех наклонением головы.
Вдруг в конце большого стола сделался шум. Все оглянулись, и с удивлением увидели, что два сидевшие рядом боярина, князь Федор Иванович Хворостинин и князь Иван Михайлович Глинский, поталкивают друг друга локтями и громко спорят.
– Что это значит? – спросил грозно царь.
– Государь-надежа! – сказал князь Глинский, встав с своего места и низко поклонясь царю. – Не могу стерпеть смертной обиды пред лицом твоим, великий государь! Князь Федор занял место выше меня и чванится этим, а тебе известно, великий государь, что по разрядам князья Глинские выше князей Хворостининых.
Князь Хворостинин встал, поклонился царю и сказал:
– Православный государь-батюшка! Ты один господин наш и милостивец. Рассуди нас по царской правде. Давно ли Глинские помещены в разрядных книгах? Не далее, как со времени великого князя Ивана Васильевича, а первый Глинский был в окольничьих только при великом князе Василии Ивановиче, в 7032 году. Мы же, князья ярославские, верные слуги твои, государь, от присоединения удела предков наших к Московскому государству всегда были в боярах; предки наши водили войска еще при Димитрии Донском и были первыми князьями при Мономахе. После была на нас родовая опала, во время которой возвысились литовские пришельцы Глинские; но места наши всегда были выше по разрядам. Глинские в боярах только со времени царя Ивана Васильевича, с 7044 года. Вели справиться в Разрядном приказе, государь, и накажи меня как изменника, если говорю неправду!
– Князь Иван Глинский! уступи место князю Федору Хворостинину, – сказал царь.
Князь Глинский поклонился в пояс и жалобным голосом сказал:
– Помилуй, государь! Не погуби чести рода моего! Князья Глинские были удельными в Литве по родству с Гедиминами, князьями Литовскими, и предводительствовали войсками. Несчастия принудили предка моего искать убежища в России, и ему отдано родовое место в разряде по старой службе. Когда же Бог сподобил, что Глинская избрана великим князем Иваном Васильевичем в супруги, то роду нашему даны места, на которых никогда не бывали Хворостинины. Ведь считаются местничеством от первого предка, а мой первый предок был в России тестем государевым.
– По разрядам первое место Хворостининым, – сказал царь. – Уступи, князь Иван, и сиди тихо.
– Великий государь! Я твой головою и животами, не пожалею для тебя ни жены, ни детей; готов в огонь и в воду по первому твоему слову, но в деле местничества соглашусь скорее погибнуть, а не посрамлю рода моего и поколения! Государь! сжалься надо мною, прости и помилуй! Я не могу уступить места князю Хворостинину (76).
– Боярин Семен Никитич! – сказал царь гневно, – выведи ослушника и заключи в темницу; после выдай головою князю Хворостинину.
Боярин Семен Никитич Годунов встал с своего места и велел князю Глинскому идти за собою. Но Глинский плакал, а не трогался с места и держался за скамью. Семен Годунов призвал двенадцать человек жильцов, которые схватили упрямца и вынесли на руках из Золотой палаты.
Наконец собеседники встали из-за стола. Сенаторы датские отправились на свое подворье, а русские стали расходиться по домам, чтоб отдохнуть после обеда по обычаю. Царь в ближней палате разговаривал с боярином Петром Федоровичем Басмановым и уже хотел идти в свою опочивальню, как вдруг почувствовал кружение в голове, дрожь по всему телу и слабость в ногах. Царь присел, сложив руки на груди, закрыл глаза, хотел вздохнуть, и вдруг кровь хлынула ручьем из горла, из ушей и из носа. Басманов испугался; вбежали бояре, оставшиеся в палате; тотчас послали за немецкими врачами, за патриархом и, взяв царя на руки, перенесли в почивальню и положили на кровать. Царица с дочерью и царевичем с ужасом встретили недужного царя. Смятение, страх водворились в царских палатах. Почти все бояре воротились во дворец из домов своих. Слуги и чиновники бегали в беспокойстве по комнатам; многие проливали слезы, другие были как будто в беспамятстве.
Крайчий Иван Михайлович Годунов распоряжался с стольниками в нижнем жилье, когда его уведомили о болезни царя. Он хотел пройти наверх ближним ходом, чрез поварню, и в сенях встретил Михаилу Молчанова, который перешептывался с одним из приспешников. Крайчий схватил Молчанова за ворот и грозно спросил:
– Ты зачем здесь, чернокнижник? Кто тебе позволил войти в царские палаты? Эй, народ, задержите его!
Молчанов вырвался из рук крайчего, толкнул его и вместе с поваром выбежал из сеней, прихлопнув за собою двери.
– Измена! – воскликнул крайчий, хотел догонять беглецов, но двери были заперты снаружи, и боярин Годунов, видя невозможность выйти на подворье, побежал вверх.
ГЛАВА II
Последние минуты властолюбца. Мудрый боярин. Слабый преемник сильного. Пленник. Мнение народное. Причина успеха самозванца. Сомнения.
Горестное и вместе с тем поучительное зрелище – смертный одр властолюбца! Царь Борис, которого умом и волею одушевлялось царство Русское в течение многих лет, лежал бесчувствен, закрыв глаза. Кровь то останавливалась, то снова лилась, и Борис постепенно то оживал, то впадал в беспамятство. У изголовья постели сидела царица и трепещущими руками поддерживала голову больного, орошая его своими слезами. По обеим сторонам стояли на коленях сын и дочь царские и держали хладные руки умирающего родителя, осыпая их пламенными поцелуями, стараясь заглушить рыдания, невольно вырывавшиеся из груди. Иностранные врачи царя Бориса суетились и совещались между собою. Их было шестеро: Христофор Рейтлингер из Венгрии, Давид Визмер и Гейнрих Шредер из Любека; Иоанн Вильке из Риги; Каспар Фидлер из Кенигсберга и студент медицины Эразм Венский из Праги (77). Врачи напояли грецкие губки уксусом и прикладывали ко рту и к носу, натирали ноги и лили целебный эликсир в уста больного. У ног царя стоял патриарх Иов в полном облачении в золотой митре с финифтью в виде короны, украшенной жемчугом и алмазами, в сакосе лазоревого атласа, шитом жемчугом, с епитрахилью парчовою с жемчугом, омофором из золотого гладкого алтабаса, поручами, осыпанными алмазами, с палицею, шитой золотом, с образом Успения Пресвятые Богородицы, с набедренником. В левой руке держал он посох из сандального дерева, оправленный золотом, а в правой золотое распятие. Стоявший за ним церковник в стихаре поддерживал конец омофора (78). Митрополиты Иона, Ермоген, Исидор и коломенский епископ Иосиф также были в полном облачении; митрополит Иона еще держал Святые Дары, которых уже приобщился царь Борис. Несколько священников из причта патриаршего молились пред образом. Диакон читал отходную молитву. Кругом стояли бояре, смотрели безмолвно на умирающего и по временам крестились.
Кровотечение остановилось на некоторое время, и царь успокоился. Дыхание сделалось правильнее, и казалось, что он задремал. Надежда ожила в сердцах, глубокое молчание царствовало в собрании, и священники прекратили моление.
Вдруг царь Борис открыл глаза, посмотрел на все стороны, вздохнул из глубины сердца и остановил взор на милом сыне своем Феодоре. Собрав все силы свои, царь Борис сказал слабым голосом:
– Святители и синклит! Крестным целованием Россия сочеталась с моим семейством. Мы все единокровные, и по соизволению Господню – я глава семейства! Хотел бы я теперь, чтоб голос мой был слышен во всех концах России и оживил во всех сердцах память присяги, данной роду моему и поколению. Вы, ближние мои, святители и бояре! Вы теперь представляете Россию пред лицом Бога всевидящего и пред царем, избранным вами святою его волею… Внимайте последним словам моим и поклянитесь именем России исполнить последнюю волю мою!
Патриарх поднял вверх распятие и сказал:
– Клянемся быть верными и послушными воле твоей царской, и да накажет Бог клятвопреступника!
– Клянемся! – повторили все духовные и бояре. Царевич Феодор первый подошел к патриарху и поцеловал крест; за ним исполнили то же святители и бояре. Между тем врачи укрепляли больного, натирая его пахучими спиртами и питием возбудительным.
– Государь! – сказал врач Фидлер, – ты должен успокоиться: всякое усилие вредно твоему здоровью.
– Любезный Фидлер! – отвечал Царь, – чувствую приближение конца жизни моей. Сын мой наградит вас за верную вашу службу, но мне теперь нужно врачевание душевное… Скорбь заглушает недуг телесный… – Помолчав немного, государь сказал:
– Завещаю вам, верные сыны церкви православной и матери нашей России, сына моего Феодора, супругу мою и дочь Ксению. Они будут пещись о счастии вашем, а вы охраняйте их, как родных своих. По мне будет царем и самодержцем России сын мой Феодор. Придите, дети мои, в родительские объятия! – царь обнял и благословил Феодора и Ксению. Слезы навернулись на глазах Бориса. – Да пребудет над вами благословение Божие и родительское, – сказал он. – Грозный опыт предстоит вам, особенно тебе, сын мой! Ты должен управлять кормилом государства в бурю, произведенную изменою, злорадством и честолюбием. Да поможет тебе Господь Бог победить врагов внешних и внутренних для блага любезного нашего отечества, о, если б алчные честолюбцы, устремившиеся на Россию, как на добычу, были свидетелями моей кончины! Они увидели бы тщету и ничтожность великих замыслов, удостоверились бы, что власть земная не стоит того, чтоб для нее губить душу! К чему я мучился, терзался, трудился денно и нощно; не жил, но мечтал о сладостях жизни, между страхом и надеждою? На то, чтоб слечь в могилу, как последний из рабов моих! И в какое время? Когда великому труду моему угрожает разрушение! – Борис снова замолчал и, отдохнув немного, сказал: – Бояре, поучайтесь! Если червь честолюбия закрадется в сердце ваше, помыслите о гробе, о могиле, о смертном одре царя Бориса!.. Страшно предстать пред судью всеведущего, неумолимого! – Борис перестал говорить и закрыл глаза.
– Господь Бог благ и милосерд, и прощает кающихся, – сказал патриарх трепещущим голосом.
Борис содрогнулся, открыл глаза, страшно посмотрел на всех и сказал:
– Святители! возвестите народу великую истину. Есть грехи, не прощаемые Господом: нарушение присяги и пролитие святой царской крови! – Борис тяжело вздохнул; глухой стон исторгся из стесненной его груди, и он закрыл глаза. Все пришли в ужас. Помолчав несколько, Борис взглянул на Феодора и сказал тихо: – Милое мое детище, любезный мой Феодор! Ты молод и неопытен. Великое дело – управлять народом, но вся наука царская в одном слове: будь правосуден. Карай виновных для блага общего и награждай заслугу; где нет кары и награды, там нет правосудия. Но карай виновных, а не подозрительных. Изжени всякое подозрение из сердца. Недоверчивость к безвинным порождает более врагов, нежели жестокость к виновным. Я испытал это, сын мой! – Борис снова замолчал и как будто погрузился в дремоту. Отдохнув, он сказал: – Милая жена моя, добрая Мария! Оставляю тебя сиротою в здешнем мире, с чадами, требующими мудрых советов и попечения. Да подкрепит тебя Господь Бог! Прости меня, если когда-либо неумышленно огорчил тебя; простите меня, дети мои; простите меня, во имя Бога, за нас на кресте пострадавшего; простите меня, святители, бояре и все верные мои слуги! Ах! и я был человек грешный – в молитвах, слабый – в силе, немощный – в могуществе, как всякое создание из персти и праха! Сын мой Феодор! вот тот, который может спасти тебя или погубить! – Царь указал слабою рукою на боярина Петра Федоровича Басманова. – Душу его видит один Бог, но я знаю ум его и мужество, – продолжал царь. – Да будет он первым твоим советником… Петр! – примолвил государь, обращаясь к Басманову, – от тебя зависит, спасти или погубить царство. Помни о Боге, о смерти, о суде Предвечного! Ужасно отвержение грешника! Страшно умирать с обремененною совестью! Вместо друга не буди враг, имя бо лукаво студ и поношение наследит: сице грешник двоязычен (79). – Вдруг лицо Бориса покраснело, грудь стала воздыматься, и кровь снова хлынула из рта, из носа и из ушей. – Святители! – воскликнул царь невнятно, – хочу восприять ангельский образ! Отрекаюсь от всего земного… Умираю, умираю!
Иноческая одежда уже была принесена в почивальню государя. Священники обступили одр и стали облекать царя Бориса в рясу, а патриарх совершал чин пострижения. Умирающий царь <был> наречен Боголепом. Врачи еще хотели остановить кровь, но Борис поднялся быстро и воскликнул громко:
– Он зовет меня на суд!.. Иду! – Потом примолвил тихо: – Господи! в руце твои предаю дух мой! – Упал навзничь, испустил пронзительный стон – и Богу душу отдал. Царица и Ксения не могли долее удержать снедавшей их скорби и громко зарыдали. Царевич упал без чувств на руки Басманова. Вбежали женщины и вынесли на руках царицу и царевну. Врачи бросились помогать царевичу. Патриарх залился слезами, а митрополит Иона стал совершать литию. Бояре усердно молились. В царских палатах раздался стон и плач.
* * *
Бренные останки знаменитого царя погребли в церкви святого Михаила и воздвигнули гробницу рядом с законными владетелями России племени Рюрикова. Окружными грамотами от имени патриарха и синклита приглашали народ целовать крест царице Марии и детям ее, царю Феодору и царевне Ксении, обязывая страшными клятвами не изменять им и не хотеть на государство Московское ни бывшего князя Тверского Симеона, ни злодея, именующего себя царевичем Димитрием; не уклоняться от царской службы, но служить верою и правдою, не страшась ни трудов, ни смерти (80). Духовные, бояре, дворяне, стрельцы и народ присягали беспрекословно; однако ж ни в Москве, ни в городах не видно было ни печали о смерти Бориса, ни радости о восшествии на престол юного, добродетельного Феодора. Хладнокровие народа в важных событиях отечества есть то же, что тишина перед бурей.
Юный Феодор, хотя неопытный, но умный и наученный книжной мудрости, ревностно занялся делами государственного управления. Назначил немедленно главным воеводою над войском боярина Петра Федоровича Басманова вопреки уставу местничества, придав ему в помощники боярина князя Михаила Петровича Катырева-Ростовского, для того единственно, чтоб избранием знатного человека успокоить гордость боярскую; князьям Федору Ивановичу Мстиславскому, Василию Ивановичу Шуйскому и брату его Дмитрию повелел прибыть из войска и правительствовать в синклит. Народу нравился сей выбор: князь Мстиславский уважаем был боярами по своей знатности и добродушию; князь Василий Иванович Шуйский был обожаем народом за свою приветливость с низшими и связи с именитым купечеством, которое управляло народным мнением. Войско еще не присягало; царь Феодор велел воеводе Басманову привести его к присяге при себе и приказал Новгородскому митрополиту Исидору сопутствовать воеводе, чтоб своим присутствием и пастырским убеждением рассеять всякие сомнения. Все было тихо и спокойно в Москве: страсти молчали и только ждали искры, чтоб вспыхнуть. Смерть царя, которого все боялись, наложила какое-то оцепенение на умы.
Царь Феодор призвал Басманова во дворец и принял его в тереме матери, где находилась также и царевна.
– Петр Федорович! – сказал юный царь, – почитаю тебя семьянином нашим и хочу побеседовать с тобою в присутствии милых сердцу. Завтра ты отправляешься к войску и там должен решить участь России. Служи нам, как ты служил отцу моему. Клянусь тебе, что награжу тебя свыше твоих надежд…
Басманов бросился на землю и пред святыми иконами поклялся страшною клятвою служить верно царю законному и царице матери.
– Петр Федорович! – сказал царь, – не как от слуги, но как от верного друга требую от тебя советов. Скажи откровенно, смело, что я должен сделать, чтоб привлечь любовь моего народа. По несчастью, уверился я, что есть много недовольных правлением моего родителя, хотя он любил Россию и всегда помышлял и трудился для ее блага!
– Государь! Народ всегда расположен любить царя, – сказал Басманов, – и ничего нет легче для царя, как приобресть любовь народную. Вся трудность и вся мудрость царствования состоит в выборе мужей, которым вверяется исполнение воли царской и которые допускаются к доверенности государя. Выбор вельмож есть гласная исповедь Царя – мерило, которым народ измеряет любовь царскую к себе и воздает царю своею любовью. Ненавистный народу вельможа, облеченный властью или пользующийся доверенностию царя, гасит в сердцах народа любовь и приучает не любить всякое величие. Напротив того, вельможа, любимый народом, насаждает и утверждает любовь к царю. Государь! один человек обманывается, но целый народ хотя видит иногда неправедно, но чувствует всегда прямодушно. Мудрыми и добрыми вельможами держится царство и питается любовь народная к престолу. Родитель твой на смертном одре завещал тебе быть правосудным. Помни же, государь, что сказано в Писании: "Яко не отринет Господь людей Своих, и достояния Своего не оставит: дондеже правда обратится на суд, и держащий ея вси прави сердцем" (81).
– Познаю мудрость твоих советов, но как мне взяться за это великое дело? Знаю, что есть много недостойных судей и вельмож. Избрать новых – надобно отставить старых, а это произведет ропот и будет походить на то, будто я не уважаю воли и выбора моего родителя.
– Роптать будут одни злые, а ропот злых есть похвальная песнь царю. Не вдруг надобно приниматься за дело, но постепенно. Начни с самых ненавистных народу.
– Кого же ты почитаешь более ненавистным?
– Государь, прости смелости моей: свойственников рода твоего – Годуновых!
– Помилуй, Петр Федорович! – воскликнул царь, всплеснув руками, – осуждая на опалу род мой, я произнесу приговор противу самого себя. Это невозможно!
– Государь! у царя нет родни, а все – слуги его. Он превыше всего земного: пред лицом его нет ни первого, ни последнего.
– Я не могу подвергнуть опале моего рода! – повторил Феодор.
– Не подвергай опале, но удали некоторых из них от дел, – сказала царица. – Прежде всего надобно помышлять о благе неродном, и если для этого надобны жертвы, избери ненавистных, неправосудных.
– Некоторых… согласен! – сказал Царь, потупив взоры.
– Чтоб не противиться воле твоей, государь, отступаюсь от моего совета и все предоставляю времени. Но прошу тебя, для блага рода твоего, удали от всех дел боярина Семена Никитича Годунова. Сердце его ожесте, аки камень, стоит же аки наковальня неподвижна (82). Об нем поистине можно сказать, что воспел царь-пророк в псалме: "Люди твоя усмириша, и достояние твое озлобиша. Вдовицу и сира умориша, и пришельца убиша" (83). Удаление Семена Годунова будет пир для народа, и все в радости воскликнут: "Господи, силою Твоею возвеселится царь!"
– На это согласен и с радостью исполню дело, угодное тебе, Петр Федорович. Я просил еще родителя моего отставить от дел этого ненавистного человека. Радость его – плач народный, пища – слезы и кровь, забава – угнетение! Да не является он никогда пред царские мои очи и да не узрит никогда светлого моего престола. – В это время истопник дворцовый тихо постучался у дверей. – Узнай, Петр Федорович, что там такое? – сказал царь.
Басманов вышел и чрез несколько времени возвратился с бумагою.
– Гонец от войска, – сказал боярин и подал письмо государю. Царь стал читать, и вдруг краска заиграла на его лице, глаза воссияли радостью.
– Федор Шереметев поймал в Ельце Гришку Отрепьева и прислал ко мне окованного в цепях. Он здесь, на дворе! – сказал Федор.
– Как, он пойман? – воскликнул Басманов.
– Слава Богу, слава Богу! – сказала царица, крестясь.
– Ах, Боже мой! я боюсь смертельно: не козни ли это чародея? Уйду, страшно! – воскликнула царевна Ксения.
– Не бойся, сестрица, – примолвил царь. – Сам Бог предает нам в руки нашего злодея. Слава Богу, слава Богу! Ах, как жаль, что родитель мой не дожил до этого!
– Если б злодея поймали при его жизни, то, верно, с ним не приключилась бы и лютая болезнь, – сказала царица. – Он погиб от расстриги! Сердце-вещун говорит мне это.
– Теперь все узнаем, – сказал царь. – Петр Федорович! Вели сей час привести злодея в нижнюю палату: мы сами его допросим. Не надобно разглашать этой вести, пока мы не поговорим с пленником. Пристава, который привез его, также задержи во дворце.
* * *
Царь Феодор сидел на скамье в нижней палате, а возле него стоял Басманов с мечом при бедре, с ножом в золотых ножнах за поясом. Дверь отворилась, и два воина ввели чернеца, окованного тяжкою цепью по рукам и по ногам. Волосы его были всклочены, впалые глаза и бледное лицо обнаруживали утруждение и бессонницу; одежда покрыта была пылью и грязью. От слабости и усталости он едва держался на ногах. Чернец поклонился государю, а воины вышли за двери.
– Ты Гришка Отрепьев, назвавшийся Димитрием-царевичем? – спросил царь.
– Нет, – отвечал чернец. Царь значительно посмотрел на Басманова, который сказал ему тихо:
– Это другое лицо! Те, которые видели самозванца, описывают его иначе.
– В грамоте Шереметева ты назван Гришкою Отрепьевым, – возразил царь.
– Это ошибка, которую я объяснил на месте, но мне не внимали, – отвечал чернец.
– Кто ж ты таков? – спросил царь.
– Я чернец Чудова монастыря Леонид из рода Криницыных.
Царь печально опустил голову на грудь, потом жалостно посмотрел на Басманова.
– Из розыскного дела я помню, что ты бежал из Москвы с Гришкою во время посольства Льва Сапеги, – сказал Басманов.
– Так точно: я ушел из Москвы с Димитрием-царевичем, который в то время принял на себя название Григорья Отрепьева.
– Как ты смеешь пред царем называть царевичем обманщика и самозванца! – сказал грозно Басманов.
– Пред царем, как пред Богом, должно говорить правду, – отвечал Леонид – Хотя Димитрий не венчан на царство, но он истинный сын Иоаннов.
– Злодей! – воскликнул Басманов.
– Потише, Петр Федорович, – примолвил царь, – станем расспрашивать по порядку. Почему тебя приняли за Гришку Отрепьева?
– Я назвался сим именем в Польше, чтоб избегнуть преследования одного могущественного рода, которого мщение возбудил я, быв еще в мирянах и проживая в Киеве, где я воспитывался. Расставшись с царевичем Димитрием, который нанес мне кровную обиду и погубил названную мою сестру, дочь моих благодетелей, я проживал в Киеве под именем Григория Отрепьева и наконец пожелал возвратиться в Россию под своим настоящим прозванием. Лазутчики известили русских воевод, что чернец, называвшийся Отрепьевым, перешел чрез русский рубеж. Меня схватили в Ельце, где я укрывался, и прислали в Москву, не веря моим показаниям.
– Итак, самозванец нанес тебе кровную обиду, погубил твою сестру – и ты веришь, что он истинный царевич? – сказал царь.
– Частных дел не должно смешивать с общественными. За обиду, нанесенную мне, и за все злодеяния Димитрия накажет его Бог правосудный. Но всякое личное мщение противу сына помазанника Божия отягчило бы совесть мою неизгладимым грехом. Терплю и покоряюсь судьбе!
– Чем же ты убедился, что этот человек истинный царевич Димитрий? – спросил царь.
– Приметами телесными, крестом, данным ему при рождении, находящимися у него бумагами, а более нравом и свойствами души Иоанновой. На устах Димитрия мед убеждения, в сердце смелость львиная; душа его закалена, как сталь. Государь! выслушай меня терпеливо. Быть может, я кажусь тебе преступником, но клянусь Богом всевидящим, что не вероломство, не измена обитают в душе моей, а истина и любовь к отечеству, любовь к царскому роду. Знаю, что признающих Димитрия сыном Иоанновым называют изменниками, предателями, клятвопреступниками. Я, напротив того, сомневаюсь, чтоб в целом царстве был один русский, особенно из духовного чина, который бы, зная, что Димитрий обманщик, пожелал признавать его царевичем. Надобно быть вовсе безумным, чтоб при крепком правлении отца твоего, покойного царя Бориса Федоровича, можно было подумать, будто беглый монах-расстрига ниспровергнет престол, утвержденный выбором народным и крестным целованием целой России! Какой бесстыдный упал бы к ногам презренного обманщика, зная гнусность его поступка? Какой дерзновенный осмелился бы соединить участь свою с судьбою беззащитного бродяги без роду и племени, которого можно было бы уличить в самозванстве при первом воззрении на него? Какой бессмысленный осмелился бы назваться царевичем пред лицом целого мира и России, при жизни своих дядей и стольких живых свидетелей. Нет, государь, не обвиняй ни меня, ниже кого-либо из россиян в измене, в разврате, в забвении страха Божия. И если даже обман существует, то виною нашей доверенности к царевичу есть чувство похвальное: любовь к царскому роду. Но кто видел, кто говорил с Димитрием, тот не сомневается в истине его царского происхождения. С пером, с мечом, с речью на языке он превыше всех его окружающих! Жаль, что качества души не соответствуют уму и храбрости: но это воля Божия, и не нам осуждать нашего господина! Если б я не был убежден, что он истинный царевич, не носил бы я цепей этих, и злодей, губитель сестры моей, давно был бы в сырой земле! Казни меня, государь, но не почитай ни изменником, ни вероломным. Чту и люблю тебя более Димитрия, ибо знаю твои добродетели, но злодея моего признаю истинным царевичем. Царь задумался.
– Басманов! вели отвести его в темницу, но прикажи, чтобы с него сняли оковы и содержали милостиво! – Басманов вывел Леонида в сени, где ожидала его стража, и возвратился к царю, который сидел в размышлении, не переменяя своего положения.
– Что ты заключаешь, Басманов, из всего слышанного?
Басманов пожал плечами.
– Твое дело, государь, судить и решить; наше дело – повиноваться тебе.
– Неужели это истинный царевич? (84). Удивительное дело! Мне самому сделалось страшно, когда говорил этот чернец, – сказал Феодор. Басманов молчал. Царь встал и примолвил: – На тебя вся моя надежда, Петр Федорович. Ступай с Богом и силою оружия разреши все сомнения.
Царь пошел к своей матери, а Басманов отправился к себе в дом.
* * *
На Лобном месте толпился народ вокруг соборной церкви Пресвятыя Богородицы, что на рву (85). На паперти стояло множество священников в черных ризах с горящими свечами и со крестами. Двери церкви были отперты. Глухой шум разносился далеко. Народ суетился: одни крестились и клали земные поклоны перед церковью, другие вдали разговаривали между собою. Несколько бояр, проезжая верхом чрез Лобное место, остановились и, сняв шапки, перекрестясь, стали также разговаривать тихо между собою.
Крестьянин подмосковный. Васька! что это такое? Уже не служат ли опять панихиду по царе Борисе Федоровиче, вечная ему память?
Молодой крестьянин. Не знаю, право, я теперь только пришел. Слышно, был крестный ход из Кремля.
Старик. Проклинают собором расстригу Гришку Отрепьева.
Старший крестьянин. Того, что называется царевичем Димитрием?
Старик. Ну, да!
Церковник. А в грамоте-то патриаршей на крестное целование царю Феодору Борисовичу не сказано о Гришке Отрепьеве, а просто не велено хотеть на государство Московское ни князя Симеона, ни злодея, именующего себя Димитрием!
Мещанин. Так, может быть, тот, что называется Димитрием, и не Гришка Отрепьев?
Старший крестьянин. А проклинают-то Гришку!
Младший крестьянин. Видно, что другого-то не смеют проклинать.
Старик. Как его проклинать, когда князья, бояре и половина России уже целовали ему крест и признают царем Московским, сыном покойного царя Ивана Васильевича? У этого Димитрия есть сильное войско, и многие цари и короли идут с ним! Не бойся. Попы-то умны. Они знают, что как он придет в Москву, то достанется добрая острастка тем, которые противились ему да поносили его имя: так вот они и давай проклинать какого-то Гришку Отрепьева!
Старший крестьянин. Неужели он придет в Москву!
Старик. Не знаю, а думаю, что когда царствовать, так в Москве.
Младший крестьянин. А рать-то царская разве пустит его?
Старик. Ведь я сказывал тебе, что у него есть своя рать, а Бог поможет тому, чье дело правое.
Церковник. Вестимо! Если б он был вор и расстрига, то уж давно и праху его не было бы на русской земле! А то видишь, вот и царь Борис, как ни был силен да хитер, а не устоял пред Богом! Книжники толкуют: кровь за кровь, а по Моисееву закону, так за зло и добро платят седмерицею. Царь Борис истек кровью, не помогли и немецкие лекаря. Явное наказание Божие!
Купец. Что это вы, рехнулись, ребята, что ли, что смеете говорить такие слова? Мое дело сторона, а как кто-нибудь крикнет слово и дело, так сгибнете, как черви.
Церковник. А что мы говорим? Ведь то же толкуют и священники и бояре. Послушал бы ты, что рассказывают боярские слуги! Не хотят ни слушать царя, ни служить, а говорят: кончилось-де царство Годуновых, приходит время царства законного!
Купец (крестясь). Господи, твоя воля! До чего мы дожили на святой Руси! Бывало, так и князь, и боярин не смел без страха произнесть святого имени царского, а ныне, так и черный народ толкует, кому быть, кому не быть царем, кто хорош, а кто не хорош. Видно, близко преставление света!
Старик. Будь тот проклят, кто посмеет судить о царе законном, а ведь Годуновы-то не царского племени.
Церковник. Вот что правда, то правда! Посмотри-ка, как они теперь приуныли. У боярина Семена Никитича Годунова ставни заперты, ворота на запоре, и в доме не слышно не только голосу человеческого, но даже лаю собаки. А давно ли он ревел, как бешеный волк, по приказам, да на Лобном месте и кидался на людей, как будто белены объелся. Ах, злодей, сколько он погубил народу с своею проклятой колдуньей!
Старший крестьянин. Говорят, что и мор, и голод были по наваждению этой колдуньи; слышно, что он держит ее на цепи и спускает только при крещеном народе. Сам-то боярин, сказывают, не носит креста.
Старик. Говорят, что она-то возвела и Бориса на царство силою нечистою.
Купец. Недаром перед ней изгибали спину и бояре, и гости именитые! Нечего говорить, а от этого проклятого Семена Никитича не было ни житья, ни покоя на Москве. Сущее пугало! что лучше человек, то враг его.
Старик. Тот же Малюта Скуратов, кровопийца Иоаннов.
Церковник. А сестра кровопийцы кто? Царица Мария Григорьевна, которой нам велено целовать крест.
Старик. Все одного поля ягода! Дай возмужать нынешнему царю, будет то же.
Церковник. Уж коли терпеть, так не от Годуновых.
Старик. Господь Бог сжалился над матушкой Россией. Люди рассказывают, что Димитрий такой ласковый, такой добрый, не казнит даже и врагов своих, и всех милует, как деток, а как приведут к нему пленных, то делится с ними последним, да горько плачет, что напрасно проливается кровь христианская за Годуновых! Уж что ни говори, а законный царь все-таки отец; от него и горе терпеть так не тошно. Дай Бог нам увидеть царское племя на царстве!
Все. Дай Бог!
Купец. Тише! вот бояре подъезжают к нам. Их слушай, а сам молчи, а не то как раз свалят свою вину на беззащитного.
* * *
Воевода Петр Федорович Басманов сидел один в комнате в своем доме, в Китае-городе, и при свете лампады перебирал бумажные свитки, выкладывая на счетах число воинов из каждой области. Вдруг постучались у ворот. Верный слуга отпер, и чрез несколько минут вошел в избу брат боярина окольничий Иван Федорович Басманов, бросил шапку на скамью, присел и сказал:
– Худо, худо, брат! Какой-то бес обуял сердца и умы. Нет ни согласия, ни усердия между боярами, и они, как конь без узды, мечутся без дороги, чрез пень и колоду, сами не зная куда! Бывало, никто не смел пикнуть противу воли царской, а ныне так все судят да рядят, и в каждом доме завелась Дума. Князь Федор Хворостинин был на пиру у князя Никиты Трубецкого и порассказывал мне такие вещи, что верить не хочется!
– Беда государству, когда что голова, то совет, что сердце, то воля! – возразил Петр Федорович. – Если нет силы, которая бы могла держать на привязи страсти и управлять умами, царство рушится. Теперь нет этой силы!
– Бояре взбеленились! – сказал окольничий, – так и ревут: не хотим Годуновых! Правда, надоел нам царь Борис, но пуще надоели его гордые, бестолковые и свирепые свойственники. Ведь один Семен Никитич стоит татарского набега, чумы, голода и пожара. Ну где тут видна мудрость царя Бориса, чтоб держать при себе этакого злодея? Поневоле народная любовь простынет, когда такая льдина заграждает путь к престолу. Как бы то ни было, но что посеяли, то и выросло. Молчали, терпели, а теперь вдруг завопили и разбрелись в разные стороны.
– Как обыкновенно стадо без пастыря. Царь Федор Борисович умен не по летам, привык к делам государственным, присутствуя в Думах с отрочества, добр, великодушен и научен книжным познаниям, но этого мало, чтоб царствовать в нынешнее время: надобно иметь сердце львиное и волю железную, чтоб управлять таким царством, как Россия. Такое обширное государство, как наше, должно иметь одну волю, одну душу. Один взгляд царский, как солнце, должен разгонять тучу и водворять свет и тишину. При всех своих похвальных качествах Федор Борисович не имеет одного, и притом самого необходимого, – твердости душевной. Он слаб духом, а слабый цвет заглохнет в дурной траве. Его окружают Годуновы, ненавистные народу, злые и неспособные к делам великим. Я советовал ему удалить их всех: он не хочет, итак, не моя вина, если случится несчастье!
– Но у тебя в руках сила, брат, – сказал окольничий, – если ты разобьешь скопища самозванца, так все придет в прежний порядок.
– Тогда настанет какое-нибудь другое зло, – возразил боярин. – Все вы толкуете, а не видите, от чего зло и где оно таится. Жестокое правление Иоанна ослабило Россию, а подозрительное, мрачное царствование Бориса ее истощило. Она больна теперь, и от того весь состав ее без жизни и без чувства. Немудрено овладеть слабым телом с унылою душой! Появился смелый муж с священным именем – и Россия простерла слабые длани свои, чтоб принять на лоно того, от которого ожидает исцеления. Всякое другое сильное потрясение также заставило бы Россию искать спасителя, как ныне, при появлении того, который называется Димитрием. Иоанн и Борис приготовили события, которым ныне удивляется мир. Вот разгадка тайны, почему человек, называемый бродягою, самозванцем, приводит в движение умы и сердца! Было худо, хочется лучшего; и тот, кто, прикрываясь видом законности, обещает хорошее, который обнаруживает высокие качества души и ума, должен успеть в своем деле.
– И это говоришь ты, братец, отправляясь на истребление самозванца? – возразил окольничий, значительно посмотрев на брата.
– Не я говорю, любезный брат, а говорит Россия моими устами. Ты сам удивлялся дерзновению бояр. Мне доносят, что на площадях и по кружалам толкуют еще смелее. Я объяснил тебе только причины этого расстройства государственного порядка; но за следствия не отвечаю. Этого человека, называющегося Димитрием, еще не знают в Москве, и уже наклонны в его пользу, а в областях он чтим и любим как царь законный. Города и крепости поддаются ему; воины переходят к нему толпами; противных ему бояр вяжут и предают, а другие сами спешат под его знамена. Никто и не думает в южной России называть самозванцем друга польского короля Сигизмунда, а личные достоинства этого смельчака еще более убеждают всех в его пользу. О храбрости его и искусстве в военном деле рассказывают чудеса. Я сам был свидетелем неимоверного его мужества и присутствия духа в битве под Трубчевском. Он изумил самых неустрашимых и самых опытных воинов своею храбростью и привел в умиление самых жестокосердых, произнеся всенародно перед битвой речь, которая глубоко врезалась в моей памяти: "Настал час, о любезные и верные сподвижники! – сказал он, – час, в который Господь решит мою прю с Борисом! Будем спокойны, ибо Всевышний правосуден; он чудесно спас меня, чтоб казнить злодея. Не бойтесь многочисленности врагов: побеждают мужеством и доблестью, а не числом! Мне будет царство, а вам – слава, лучшая награда доблести в здешней краткой жизни" (86). Тогда и неверующие уверились, а победа, одержанная слабою его дружиною над сильным нашим войском, еще более утвердила всех в той мысли, что он истинный царевич. Признаюсь тебе, брат, тогда и я поколебался, но пребыл верным Борису, думая, что он силою своего ума и твердостью души спасет Россию от смуты. Я обманулся в моих надеждах. Борис погиб от гнева Божиего, а сын его, Феодор, царствуя в женском тереме и смотря на Россию глазами Годуновых, угрожает ей большими бедствиями, нежели отец его. Муж, называющийся Димитрием, один может успокоить и воскресить Россию.
– Брат! я боюсь за тебя. Неужели ты замышляешь измену?
– Измену? Разве доказано, что этот человек не истинный царевич? Многие знали его диаконом Чудова монастыря, но он сам говорит, что скрывался в монашеской рясе под именем Гришки Отрепьева. Все это еще не объяснено, и если сам царь Феодор сомневается в истине, то и нам позволено сомневаться.
– Что ж думаешь ты делать?
– Сам не знаю. Быть может, меня свяжут и выдадут этому Димитрию так же, как и других воевод! Чего надеяться, если в войске такой дух, как в Москве.
– Я не хочу оставаться здесь и еду с тобою, – сказал окольничий.
– И хорошо сделаешь. Здесь оставаться ненадежно.
– Должно думать, что здесь уже много приверженцев этого самозванца или истинного царевича: не знаю, право, как назвать его. Знаешь ли, что подозревают даже, будто Борис отравлен! Ты знаешь Мишку Молчанова, которого мучил Борис в пытке по подозрению, будто он чернокнижник. После трапезы, в то время, когда Борис заболел, Молчанова застали на поварне, но он скрылся. Известно, что он долго не был в Москве, и сказывают, что его видели в войске самоз… или Димитрия. Думают, что Молчанов отравил или околдовал Бориса.
– Один Бог это ведает; но если Димитрий имеет таких отчаянных приверженцев, что они пробрались даже на царскую поварню, то тем явственнее, что он силен. Поедем к войску, брат, а там увидим, что должно делать. Может быть, нам удастся еще спасти Россию! (87)
ГЛАВА III
Измена. Русское войско. Польская конница. Московский мятеж. Торжество злоумышления. Стыд малодушных.
Боярин Иван Иванович Годунов лежал в цепях на соломе в небольшой избе и слышал на улицах города Кром радостные восклицания воинства: «Да здравствует государь наш Димитрий Иванович! гибель Годуновым! гибель клевретам их!» Осанистый воин в старинной кольчуге, с бердышом, в высокой лисьей шапке, сидел возле печи и при свете лучины читал требник.
– Из какого ты звания, приятель? – спросил боярин.
– Я служка патриарший, – отвечал воин, – и выслан святителем с прочими слугами ратовать за церковь.
– Погибает наша православная церковь изменою боярскою и прелестью дьявольскою! – сказал боярин, вздохнув тяжело. Воин встал, закрыл книгу, выглянул за двери и, удостоверившись, что в сенях нет никого, сказал тихо:
– Вижу и я это, да пособить нечем. В нашей дружине хотя было десятка два верных людей, да мы не могли ни убедить, ни преодолеть беснующихся изменников. Сожалею о тебе, боярин, но помочь не могу.
– Слава Богу, что еще есть на Руси добрые люди! – сказал боярин. – Прошу тебя об одном. Напиши за меня письмо к царю Феодору Борисовичу и снеси в Москву. Сам я, как видишь, не могу писать скованный! А если бы хотел уйти, то меня снова могли бы поймать, ибо дороги наполнены изменниками. Твое же отсутствие будет незаметно в стане. Многие воины и без того оставляют ополчение и расходятся по домам.
– Сделал бы я с радостью угодное тебе, царю и патриарху, – отвечал воин, – да у меня нет чернил, пера и бумаги.
– Все, что нужно, спрятано у меня в соломе. Мне доставил это один из верных моих слуг.
Воин запер двери в сенях, потом воткнул лучину в стену и, примостив чурбан поближе к боярину, стал писать, что боярин говорил тихим голосом:
– Государь православный! Петрушка Басманов, взысканный и возвеличенный отцом твоим и тобою, изменил тебе и России. Войско присягнуло тебе, но лишь только митрополит Исидор отъехал в Москву от Кром, обнаружилось несогласие, возжженное предателями. 7 мая ударили тревогу, войско выступило из лагеря, думая, что должно идти в битву, и тогда предатель Петрушка Басманов с клевретами своими, князем Василием Васильевым Голицыным и боярином Михаилом Глебовым Салтыковым, провозгласили царем самозванца, уверяя всех, что он – истинный сын Иоанна и законный наследник русского престола. Еще были в войске верные люди: боярин и воевода князь Катырев-Ростовский, князь Андрей Телятевский и я; мы убеждали обольщенных воинов пребыть верными долгу и крестному целованию. Напрасно! Сила демонская одолела. Добрые твои немцы, невзирая на измену начальника своего, Розена, также держали твою сторону. Но сопротивление малого числа не помогло. Сперва началось смятение и междоусобие: бились за тебя и противу тебя. Но твои люди должны были уступить изменникам и разбежались. Не знаю, что сталось с другими твоими верными слугами, но меня поймали на пути в Москву и, скованного, держат под стражею. Слышу неистовые вопли разъяренного воинства, провозглашающего гибель роду Годуновых, и неустрашимо ожидаю смерти, как пристойно русскому воину. Завтра ожидают сюда самозванца. Великая опасность угрожает тебе и церкви! Вооружи Москву, призови святителей под хоругви отечества и выступи в поле навстречу изменникам, не допуская их к столице. Измена, как зараза: она сообщительна, и ничего нет опаснее, как испытывать верность в подобных делах, особенно жителей большого города. Лучше погибнуть на ратном поле, чем ждать позора от расстриги. Лишенный возможности служить тебе оружием, умоляю прибегнуть к нему, как к единственному средству.
Вон подал бумагу боярину, который с трудом подписал: "Иван Годунов, в цепях за веру и правду". (88)
Воин спрятал бумагу и поклялся на другой же день отправиться в Москву и доставить грамоту царю или патриарху. На дворе послышался шум. Воин снова стал читать требник. Вошла толпа воинов с приставом: он, осмотрев цепи боярина, сменил сторожевого воина.
* * *
На обширной равнине перед Кромами, между реками Кромою и Недною, выстроилось русское воинство. В средине был большой полк под начальством большого воеводы Петра Федоровича Басманова, состоявший из десяти тысяч пеших городовых стрельцов и двадцати тысяч конных боярских детей и дворян московских, рязанских, тульских, каширских, алексинских и новгородских. Стрельцы разделены были на приказы, по тысяче человек в каждом, под начальством голов, полуголов и сотников. Первый ряд стрельцов вооружен был мушкетами, и каждый воин держал зажженный фитиль. Задние ряды имели копья и бердыши. Все стрельцы имели мечи. Пред каждым приказом развевалось знамя с изображением святого угодника и надписью из Священного Писания. Стрельцы были в длинных кафтанах с высоким стоячим откидным воротником и в шапках. Боярские дети и дворяне разделялись на десятни. В каждой десятне были по нескольку десятков, а иногда и до ста воинов из одного города. Несколько десятней, смотря по их многочисленности, составляли полк. Каждая десятня имела свое знамя и своего сотника. Большая часть барских детей и дворян были в панцирях и шлемах, вооружены луком, колчаном со стрелами, мечом и копьем. Многие имели ножи за поясом. Седла их были высокие, окованные серебром или медью, на которых воин свободно мог оборачиваться, привстав на стременах. Конь взнуздан был татарскою уздечкой; у каждого всадника на мизинце правой руки висела плеть.
Правая рука, или правое крыло войска состояло в ведении князей Василия Васильевича Голицына и Михаила Федоровича Кашина. Здесь было также около десяти тысяч пехоты и пятнадцать тысяч конных из людей даточных, т. е. воинов, отправленных на войну вотчинниками, купцами и вольными слободами. Пехота была в простых русских кафтанах, с бердышами, копьями и мечами. Немногие имели мушкеты. Конница была вооружена луками, стрелами, копьями и мечами, но без лат, а в простых кафтанах и меховых шапках. В левой руке, или левым крылом, начальствовал князь Лука Осипович Щербатов; помощник его, Замятня-Сабуров, остался верным царю Феодору и бежал в Москву с князем Катыревым-Ростовским. Здесь были пешие и конные казаки: донские, яицкие, гребенские, терекские, волжские, окские и днепровские, числом до тридцати тысяч. В казацкой пехоте передние воины имели мушкеты, другие были вооружены бердышами, луками и стрелами, а все имели кривые татарские сабли. Конница была вооружена луками, стрелами и саблями. Одни только донцы имели дротики. Казаки были в длинных татарских шароварах, в узких суконных кафтанах ниже колен с откидным воротником до пояса и в бараньих шапках. В передовом полку была татарская, мордовская и черемисская конница, вооруженная мечами, луками и стрелами, в широких верблюжьих армяках, в низких шапках. Пехоту составляли стрельцы городовые и казаки волжские и сибирские, одетые легко, в коротких кафтанах и все с мушкетами. Конницы в сем полку было до пятнадцати тысяч, пехоты до восьми. Передовым полком начальствовал князь Михаила Самсонович Туренин, за отсутствием князя Андрея Андреевича Телятевского. В сторожевом полку восемь тысяч пехоты и десять тысяч конницы составляли слуги святительские и монастырские, охотники московские и других больших городов. Они были вооружены исправно: большая часть пехоты имела мушкеты, а в коннице многие имели латы и кольчуги, хранившиеся всегда в стенах монастырских. В стороне от передового полка стоял полк яртаульный, или налеты, состоящий из четырех тысяч вольных черкесов" вооруженных луками, стрелами, саблями и покрытых кольчугами. Яртаульным полком начальствовал князь Бекбулатов. За рекою виден был обширный стан, укрепленный земляными насыпями и рогатками, из-за которых видны были шатры, землянки и шалаши. Восемьдесят больших пушек стояли в один ряд перед станом; при них были искусные пушкари, московские и иноземные; снарядом начальствовал князь Иван Васильевич Голицын, а в стане оставался с пятью тысячами даточной пехоты окольничий Семен Валуев. Далеко разносился ветром шум и говор. С острога кромского, построенного на кургане, смотрели на войско шестьсот человек храбрых донцов, которые с неустрашимым своим атаманом Корелою удерживали целую рать московскую, а ныне, вместе с бывшими своими врагами, торжествовали радостное событие и ожидали пришествия нового своего царя.
Басманов, окруженный приставами, разъезжал по полкам и одушевлял воинов сладкими речами, поздравляя их с новою жизнью под законным царем, храбрым и милостивым. Воин исполинского роста в серебряных латах, на дюжем коне, возил за воеводою большой стяг царства Московского с образом Воскресения Христова и словами евангельскими. Разноцветное знамя было сшито из атласа в сажень длиною и шириною и прикреплено к высокому древку, окованному золотом, наверху которого был крест. Более полутораста конных людей с сопелями, трубами, сурнами, накрами и котлами стояли отдельно перед большим полком, а за воеводою ехали двенадцать трубачей и четыре котляра для передачи его повелений условными знаками (89).
Вдруг над лесом на Киевской дороге поднялась пыль столбом, и вскоре показалась дружина конных ратников в светлых бронях. Значки на пиках алели полосою, как радуга в лучах солнечных. Перед дружиною скакал на карем аргамаке ловкий воин в красном бархатном полукафтанье, шитом золотом, в малой бархатной четвероугольной шапке с алмазным пером. Это был Лжедимитрий. За ним скакали на турецких конях польские начальники его дружины и русские бояре, уже перешедшие к нему в Путивле. Дружина Ажедимитрия, приблизившись к войску, остановилась в некотором расстоянии, а Лжедимитрий с ближними своими прискакал к рядам. В это время в русском воинстве ударили в бубны и котлы, заиграли на трубах, сурнах, сопелях, и в целом войске раздались восклицания: "Да здравствует государь наш Димитрий Иванович! на многия лета!"
Басманов со всеми боярами спешился и встретил Лжедимитрия перед войском. Бояре до земли поклонились ему, и Петр Федорович Басманов сказал:
– Сын Иоаннов! войско отдает тебе царство Русское и просит твоего милосердия. Прельщением Борисовым мы не знали тебя и долго противились царю законному: ныне же, узнав истину, все единодушно присягнули тебе. Иди воссесть на престоле родительском: царствуй счастливо и на многие лета! Если Москва воспротивится – смирим ее! Иди с нами в столицу твою – венчаться на царство, и воззри милостивым оком на верных слуг твоих!
Лжедимтрий, воздев руки к небу, сказал громогласно:
– Сокруши и уничтожь меня, судья праведных, если в поступках моих есть злоба или обман! Видишь, о Господи, справедливость моего дела! Будь моим помощником. Предаю себя и народ свой благости твоей и матери Пресвятой Богородице! – Сказав сие, Лжедимтрий отер слезы радости и примолвил: – Прощаю войско и надеюсь на его верность! Воссядьте на коней, храбрые мои воеводы, и следуйте за любящим вас государем. – Лжедимитрий поскакал вдоль рядов, и восхищенное войско оглашало воздух радостными кликами. Многие проливали слезы умиления, другие падали ниц перед тем, которого они почитали своим царем, чудесно покровительствуемым промыслом Всевышнего.
Осмотрев войско, Лжедимитрий с воеводами и поляками поехал в город Кромы, чтоб взглянуть на острог, служивший оплотом его владычеству в южной России и сокрушивший терпение и верность войска Годуновых. Лжедимитрий спешился и взошел со свитой своею на полурассыпавшийся вал.
– Посмотрите на эту разрушившуюся насыпь! – сказал он окружавшим, – взгляните на эти полусоженные стены, на разбитые ядрами домы; вспомните, что здесь шестьсот моих верных слуг, укрываясь под землею, ратовали шесть недель с этим многочисленным воинством, и подивитесь промыслу! Господь Бог явно защищает меня, и горе тому, кто усомнится в святой его воле!
Все молчали, и Лжедимитрий пошел к Донской дружине, защищавшей острог; она стояла возле полуразрушенной соборной церкви Успения Пресвятыя Богородицы. Казаки, претерпевавшие во время осады голод и бессонницу, были бледны и от изнеможения едва могли держать оружие. Слабым голосом приветствовали они своего государя. Атаман Корела выступил вперед и поклонился в землю Лжедимитрию, который подал ему руку и ласково сказал:
– Благодарю от души тебя и всех твоих товарищей за верную службу; я пожалую вас царскою моею милостью, лишь только воссяду на престоле отца моего. Вы первые дали пример, как должно служить законному государю, вы и будете у меня первыми! – Речь сия не понравилась боярам, и они украдкою с негодованием посмотрели друг на друга.
– Петр Федорович! – сказал Лжедимитрий Басманову, – прошу тебя, надели всем нужным моих добрых донцов. – Потом он сел на коня и отправился в ставку Басманова, где приготовлен был завтрак.
Лжедимитрий сел на первом месте и велел всем боярам и полякам сесть за один стол с собою; только хозяин, Басманов, не садился и распоряжался прислугою. На стол поставили ветчину, соленую и вяленую баранину и говядину, сушеную и соленую рыбу, икру паюсную, тертый сыр, перепечи и пироги с сыром. Водки и медов было в изобилии. Блюда были оловянные, а кубки и ковши серебряные. Басманов, поднося Лжедимитрию первое блюдо, низко поклонился и сказал:
– Простите, государь, что угощаю тебя пищей скудною. Мы, русские, в походах не берем с собою лишнего и запасаемся только тем, что может долго сохраняться.
– На войне пища дело последнее, – сказал Лжедимитрий. – Было б чем утолить голод. Есть ли довольно запасов у простых воинов?
– Государь! – сказал Басманов, – каждый город и каждая область, высылая на войну ратников, должны пещись о их продовольствии. Иноземцы же, черкесы и татары, получают кормы из казны государевой. Наши, русские, неприхотливы, и простые воины довольны, когда имеют сухари, кашицу и любимое свое толокно. Если достанется им в праздник по чарке вина и перепадет в котел кусок ветчинного сала, то это для них пир (90). Должно сказать тебе, государь, что запасы войска уже истощаются, и надобно будет придумать средства к продовольствию. Я опасаюсь, чтоб в нынешних обстоятельствах города не отказались кормить войско.
– На что мне столько народу? – возразил Лжедимитрий. – Завтра же распущу половину ратников по домам. – Ты, Петр Федорович, выбери стрельцов, боярских детей и жильцов надежнейших, чтоб идти с нами в Москву. Я пришел не воевать с Россиею, но царствовать миром и любовью. Годуновы мне не страшны, я надеюсь, что Господь Бог просветит Москву и что она сдастся без кровопролития. Всех верных донцов и моих запорожцев беру с собою на пир, прочих размести по городам и распусти по домам.
Лжедимитрий был весел, ласково разговаривал с боярами и охотно опорожнял кубки с медом. Приметив, что Бучинский и Меховецкий смотрят на него с удивлением, Лжедимитрий сказал:
– Вы никогда не видали, чтоб я пил столько: в бедствиях и опасностях я не думал о сладостях жизни. Но теперь, окруженный верными моими друзьями, которые дали мне несомненные доказательства своей преданности, возвратив похищенное у меня царство, я хочу жить весело и наслаждаться жизнью. Мне предлежит много трудов и забот в государственном управлении; неужели земные блага воспрещены венценосцу? Пейте, друзья, здоровье русских и польских моих приятелей! – Лжедимитрий выпил полный кубок и передал Басманову. Все собеседники развеселились. Русские удивлялись ласковости Лжедимитрия и едва могли привыкнуть к той непринужденности в обращении с царем, к которой он возбуждал их. Память обрядов за царскою трапезой удерживала их в пределах почтительности, но поляки пили и шумели, как на частном пиру, не обращая внимания на своего царя-союзника. Басманов, подошед к Лжедимитрию, сказал:
– Не угодно ли, государь, повеселиться русскою нашею забавой, песнями? Мои песенники споют тебе песню, которая сложена была для отца твоего после взятия Казани. Покойный родитель твой любил слушать эту песню, припоминавшую ему славную его юность.
– Очень рад! – отвечал Лжедимитрий. – Мои польские гости также охотно послушают. Вели спеть!
Вдруг поднялась одна сторона палатки. Отборные стрельцы в новых кафтанах стояли в кружку с бубнами, ложками и рожками. Запевала махнул рукою, и песенники запели:
Ох, ты гой еси, молодой птенец! Ты, московский царь, Иван Прозритель! (91). Ты зачем пригнал стаю хищных птиц? Ты зачем привел войско русское Под казанские стены крепкие? Не видать тебе ни палат моих, Ни сокровищниц, ни красивых жен. И в мечетях ли Бога нашего Возглашать мольбы христианские? Нет! Погибнешь ты от руки моей, И полки твои от казанских стен Не пойдут к Москве белокаменной. Здесь положишь ты буйну голову, Лягут здесь костьми твои витязи, Их тела пожрут волки жадные, Заметут следы ветры буйные. Если ж быть тебе во моем дворце, Прозвучит тогда на златом крыльце Не победный меч царя русского, А тяжелая цепь железная, Похвальбе твоей дань казанская! — Речь такую вел злой Казанский царь К царю Русскому, православному. Не труба трубит, не поток шумит, А как взговорит млад сизой орел, Царь наш батюшка Иван Прозритель К своим детушкам, к войску русскому: – Вы потерпите ль, слуги верные, Чтоб татарин злой насмехался нам, Ограждаяся стеной крепкою? Вы возьмите град, сокрушите в прах! Размечите вы стены твердые, Разорите вы башни грозные И татарскую усмирите спесь! А Казанского царя гордого Полоните вы с родом-племенем. Пусть Казанское царство буйное Будет вотчиной царя Русского! — Лишь окончил царь речь приветную, Запылало вдруг пламя яркое И раздался гром по сырой земле, Резлетелися стены крепкие, Как лебяжий пух по поднебесью. И вот Русский царь на престол воссел: Перед ним упал злой Казанский царь И сложил у ног венец царственный.Когда песенники кончили, Лжедимитрий подозвал к себе запевалу и дал ему горсть червонцев, чтобы он разделил их между товарищами.
– Воевода! – сказал Лжедимитрий Басманову, – не хочу медлить и завтра же отправляюсь в Москву. Ты займись новым устройством войска при уменьшении его, а я между тем отправлю гонцов в столицу с моими грамотами. Я хочу провести сегодняшний день в избе, среди развалин знаменитых Кром. Вечером прийди ко мне с верными моими слугами Пушкиным и Плещеевым. – Сказав сие, Лжедимитрий вышел из палатки, сел на коня и отправился в город.
Между тем, пока Лжедимитрий завтракал с боярами и воеводами, русское войско, оставаясь в строю, с любопытством и удивлением смотрело на польскую дружину. Особенно привлекала внимание гусарская хоругвь Лжедимитрия. Каждый воин одет был в блестящий панцирь поверх кольчуги. За спиною развевались два большие крыла из орлиных перьев, прикрепленные к серебряной проволоке. Три меньшие крыла были по бокам и на верху кованого шлема. Ноги и руки воина защищены были серебряными бляхами. Вооружение состояло из одного короткого меча при бедре, другого длинного меча, топора, ружья и пары пистолетов, прикрепленных к седлу, и длинной пики с шелковым значком белого и красного цвета. Короткими мечами рубились с неприятельскими всадниками, а длинный употребляли противу пехоты. Воины поверх лат имели медвежьи шкуры шерстью вверх, с прорехами для крыльев. Над головою коня развевался пук страусовых перьев, а шея и тыл покрыты были стальною кольчугою с шелковыми кистями. У седла была связка шерстяной красной веревки для вязания пленных, кожаная сума для корму, чемодан кожаный, коновальский прибор, большой нож, ложка в футляре и кожаное ведерцо для поения коня. Воины были высокого роста, с бородами, на рослых конях. Всех гусар было около осьмидесяти человек. Они стояли в первой шеренге, а за каждым было восемь человек конных же воинов в один ряд, в легких кольчугах, с мечами и малыми ружьями, без пик. Каждый гусар, обыкновенно из богатого рода, содержал на своем иждивении восемь человек товарищей (92). Охотники хоругвий Станислава Мнишеха, князя Константина Вишневецкого, Фредро, Дворжицкого и Неборского были в латах или кольчугах, с копьями, мечами, ружьями и пистолетами. Все были вооружены исправно и богато, ловко сидели на отличных конях и владели искусно оружием. Лжедимитрий велел польскому войску, которого было не более полуторы тысячи всадников, расположиться в ограде кромских полуразрушенных укреплений. Польская конница поскакала мимо русского войска, и шум, производимый в воздухе от движения крыльев и значков на пиках, бряцанье оружия и конской сбруи устрашил коней русских всадников. Стройность движений польской дружины снискала им похвалу в войске.
* * *
Из Красного села шла в Москву шумная толпа народу. Почти все вооружены были топорами, рогатинами, кольями. Многие жильцы московские ехали верхом за толпою. Перед народом шли в светлом платье дворяне Гаврила Григорьевич Пушкин и Наум Михайлович Плещеев. Шествие открывал красносельский протопоп Симеон в полном облачении, с крестом, пред ним несли церковные хоругви. Народ кричал из всей силы: «Да здравствует наш царь законный Димитрий Иванович!» Буйная толпа вошла в город. Жильцы поскакали по улицам, восклицая: «Бейте в набат и собирайтесь на Лобное место слушать грамоту царя законного!»
Когда толпа приближалась к Китай-городу, уже раздавались звуки тысячи колоколов и повсеместный клик: "На Лобное место! на Лобное место!" Граждане вооружались, чем кто мог: ножами, топорами, кольями, – и опрометью бежали на Красную площадь и на Лобное место, спрашивая один у другого, что это значит. Между тем Пушкин и Плещеев шли вперед, и следующая за ними толпа беспрестанно увеличивалась. Многие бояре, дворяне и дьяки выехали верхом и следовали из любопытства за толпою, Пушкин по временам поднимал вверх свиток и громко кричал:
– Верные россияне! ступайте на Лобное место внимать грамоте царя нашего законного и милостивца Димитрия Ивановича!
Царь, узнав, что клевреты Лжедимитрия возбуждают к мятежу жителей Красносельской слободы, выслал туда отряд стрельцов, чтоб усмирить и разогнать дерзновенных. Но стрельцы не хотели сражаться и разбежались, увидев сопротивление; некоторые даже пристали к мятежникам.
По первому известию о буйстве народном собрались в Кремлевских палатах думные советники царские: патриарх Иов, князья Федор Иванович Мстиславский, Василий Иванович и брат его Димитрий Шуйские, Никита Романович Трубецкой, Андрей Петрович Куракин, Иван Васильевич Сицкий, Иван Михайлович Глинский, Иван Михайлович Воротынский; бояре: Иван Петрович Головин, возвращенный из ссылки Богдан Яковлевич Вельский, Михаила Игнатьевич Татищев и многие другие бояре и окольничие. В безмолвии стояли царские советники в Грановитой палате и с беспокойством прислушивались к колокольному звону. Вошел царь с матерью своею, царицею Мариею Григорьевною:
– Спасайте царство и престол! – воскликнула царица. – На вас, первых мужей государства, ляжет ответственность пред Богом!
– Усмирите строптивых и вразумите безумных! – сказал царь Феодор Борисович. Он был бледен, и голос его прерывался.
– Спасайте престол и церковь! – воскликнул патриарх и залился слезами. Бояре молчали и пожимали плечами.
– Что нам делать? – сказал наконец князь Василий Иванович Шуйский. – У нас нет войска, чтоб разогнать народ. Стрельцы не хотят драться, и слышно даже, что большая часть их также ненадежны.
– Ступайте на Лобное место и увещевайте безумных! – сказал царь Феодор.
– Было бы гораздо полезнее, если б святейший патриарх в ризах святительских, с крестом в деснице, с благословением для верных, с клятвою для изменников явился на площади, – сказал князь Сицкий.
– Самозванец предан уже анафеме со всеми своими клевретами, – возразил патриарх. – Но ожесточенные и после этого не образумились! Что помогут теперь слова мои, когда надобно действовать силою? Ваше дело, бояре, ратовать за престол и церковь! Я могу только молиться за верных. – Колокольный звон усилился, и патриарх снова залился слезами.
– Государь! – сказал боярин Головин, – возложи на себя венец Мономахов, возьми скипетр Иоанна, явись народу и повели разойтись по домам и выдать мятежников. Кто осмелится ослушаться царя венчанного? Мы пойдем за тобою.
– Они убьют его! – возразила царица. – Нет, я не пущу сына моего между изменников и клятвопреступников! Ваше дело, бояре, смирить буйных… Я не пушу сына моего на Лобное место! – Царица горько заплакала. Слезы навернулись на глазах юного Феодора.
– О, родитель мой! – воскликнул он горестно, – какую участь приготовил ты мне! Вижу, вижу ясно, что народ не любит нас, что бояре… – царь остановился и сказал: – Князь Василий Иванович, князь Федор Иванович, Богдан Яковлевич, Иван Петрович! Возьмите часть моей стражи и ступайте на площадь. Обещайте моим именем прощение заблудшим, милость верным: пусть выдадут только зачинщиков; или нет! – всем прощение. Пусть только разойдутся по домам, пусть успокоятся. Я здесь буду ожидать вашего прихода… Ступайте с Богом!
Патриарх благословил бояр – и остался вместе с Годуновыми и другими приверженцами их рода, которые не посмели появиться пред разъяренным народом. Бояре в сопровождении малочисленной дружины отправились пешком на Лобное место.
– Слезы и жалобы не спасут царства в час грозный, – сказал на ухо князю Василию Шуйскому боярин Вельский, когда они проходили в Фроловские ворота.
– Где нет силы и твердости, там нет и власти, – отвечал Шуйский. – Да будет воля Божия!
* * *
Лобное место и Красная площадь покрыты были народом; конные и пешие были перемешаны. Во многих местах видно было оружие: мушкеты, копья, бердыши. Ужасный шум и крик вторил колокольному звону. Вдруг появились на Царском месте Гаврила Пушкин с грамотою и Наум Плещеев с крестом в руках. Они подали знак народу, что хотят говорить с ним. Шум и крик постепенно умолкал, и в то же время перестали звонить на колокольне Троицы на рву. Водворилась тишина в многочисленном собрании. Пушкин снял шапку, поклонился на все стороны и сказал громко:
– Слушайте, православные, грамоту законного государя своего Димитрия Ивановича! – Плещеев также снял шапку, и почти все последовали его примеру. Пушкин развернул свиток и стал читать:
– От царя и великого князя Димитрия Ивановича всея России, к синклиту, к большим дворянам, сановникам, людям приказным, воинским, торговым, средним и черным. Слушайте! Вы клялися отцу моему не изменять его детям и потомству во веки веков, но взяли в цари Годунова. Не упрекаю вас: вы думали, что Борис умертвил меня в летах младенчества; не знали его лукавства и не смели противиться человеку, который уже самовластвовал и в царствование Федора Ивановича жаловал и казнил кого хотел. Им обольщенные, вы не верили, что я, спасенный Богом, иду к вам с любовью и кротостью. Драгоценная кровь русская лилася для утверждения похитителя на престоле! Но жалею о том без гнева: неведение и страх извиняют вас. Уже судьба решилась: города и войско мои. Дерзнете ли на брань междоусобную в угодность Марии Годуновой и ее сыну? Им не жаль России: они не своим, а чужим владеют, упитали кровью землю Северскую и хотят разорения Москвы. Вспомните, что было от Годунова вам, бояре, воеводы и все люди знаменитые: сколько опал и бесчестия несносного? А вы, дворяне и дети боярские, чего не претерпели в тягостных службах и ссылках? А вы, купцы и гости, сколько утеснений имели в торговле и какими неумеренными пошлинами отягощались? Мы же хотим вас жаловать беспримерно: бояр и всех мужей сановитых – честию и новыми степенями. Дворян и людей приказных – милостию, гостей и купцов – льготою, в непрерывное течение дней мирных и тихих. Дерзнете ли быть непреклонными? Но от нашей царской руки не избудете. Иду и сяду на престоле отца моего: иду с сильным войском, своим и литовским, ибо не только россияне, но и чужеземцы охотно жертвуют мне жизнию. Самые ногаи неверные хотели следовать за мною: я велел им остаться в степях, щадя Россию. Страшитесь гибели временной и вечной; страшитесь ответа в день суда Божия: смиритесь и немедленно пришлите митрополитов, архиепископов, мужей думных, больших дворян и дьяков, людей воинских и торговых, бить нам челом как вашему царю законному! (93).
Пушкин кончил чтение, и в народе продолжалось молчание. Наконец мало-помалу начался снова шум и говор. Граждане в разных концах площади совещались между собою.
Богатый купец. Что нам делать? Неужели отдавать Москву на разорение? Он приближается к столице: с кем нам стоять противу его силы?
Другой купец. Уж не с горстью беглецов кромских? С нашими ли старцами, женами и младенцами?
Боярский сын. И за кого? За ненавистных Годуновых, похитителей державной власти?
Богатый купец. Неужели для их спасения предадим Москву пламени и разорению!
Дьяк. Не спасем ни их, ни себя сопротивлением бесполезным.
Чернец. Войско и бояре поддалися, без сомнения, не ложному Димитрию!
Богатый купец. Итак, не о чем думать: должно прибегнуть к милосердию Димитрия!
Дьяк. Время Годуновых миновалось. Мы были с ними во тьме кромешной. Солнце восходит для России. Да здравствует царь Димитрий Иванович!
Все. Да здравствует на многия лета! (94)
На всей площади раздались восклицания: "Да здравствует царь Димитрий Иванович!"
В это время из Фроловских ворот вышли бояре с малым числом надворных воинов. Народ, увидев их, стал еще громче вопить: "Да здравствует царь Димитрий! Клятва Борисовой памяти! Гибель племени Годуновых!"
Между тем бояре шли вперед и достигли до Царского места. Князь Никита Трубецкой просил позволения говорить, но только близкие к нему могли слышать слова его.
– Вас обманывают, – сказал князь Никита, – царевич Димитрий погиб в Угличе, а это обманщик и самозванец. Именем законного нашего царя, Феодора Борисовича, повелеваю схватить мятежников, прельщающих вас словами сатанинскими! – Сказав сие, князь Тубецкой хотел с воинами устремиться на ступени Царского места, но Пушкин закричал народу:
– Держите изменников! гибель Годуновым и их клевретам! – Народ загородил дорогу, и воины царские не хотели употребить силы. Бояре в смущении остались у подножия Царского места.
– Верные россияне! – воскликнул Пушкин. – Вот между нами чтимый и любимый народом князь Василий Иванович Шуйский. Пусть он засвидетельствует истину о спасении царевича Димитрия. Князь Василий был на следствии в Угличе и лучше нас знает дело.
– Ступай, князь Василий, – сказал боярин Головин. – и обнаружь обман.
– Князя Василия Ивановича! Князя Василия Ивановича! – раздалось в толпах народных.
Князь Василий Иванович Шуйский взошел на Царское место, снял шапку, и поклонился народу (95).
– Послушай, князь Василий! – тихо сказал ему Пушкин, – мне все равно, погибнуть ли на плахе за прочтение грамоты Димитрия или за убиение тебя. Видишь ли этот нож за поясом: если ты осмелишься свидетельствовать в пользу Годуновых и смущать народ – вонжу нож тебе в сердце и погибнем вместе! Мужайся и говори как знаешь. Димитрий наградит тебя по-царски.
– Целуй крест на правду, князь Василий Иванович! – сказал Плещеев.
Шуйский медлил, но народ закричал:
– Целуй крест, князь Василий! Гибель Годуновым и их клевретам!
– Слышишь ли, князь Василий? – примолвил Пушкин.
Князь Шуйский поцеловал крест и сказал:
– Зачем спрашиваете меня о деле, всем известном и явном? Я не был при смерти царевича, а видел в Угличе только искаженный труп младенца и схоронил его по приказу царскому под именем царевича. На следствии не спрашивали, убит ли царевич или кто другой на его месте, а только хотели знать, кто посягнул на жизнь его. Мертвые не восстают из гробов и не появляются среди народа с крестом и образами! Спросите у иноземных королей, признавших истинным сыном Иоанновым того, кого называли перед нами самозванцем; спросите у бояр, горожан, войска, законный ли он государь наш и сын ли Иоаннов? Спросите у матери царицы…
Пушкин прервал слова его:
– Видите ли, верные россияне, что тот, на кого более всех ссылался Борис, не дерзает сказать пред вами, что царевич Димитрий убит в Угличе, и говорит вам, что не только Россия, но и целый свет признает его законным царем нашим. Теперь все сомнения кончились. Да здравствует царь наш Димитрий Иванович! Гибель племени Годуновых! Клятва Борисовой памяти!
Народ повторял сии радостные восклицания, а Пушкин сказал тихо Шуйскому:
– Счастлив ты, князь Василий, что умел выпутаться из трудного дела, ускользнул от верной гибели. На этом самом месте ты по воле Бориса свидетельствовал о смерти царевича и только нынешним своим поступком искупил себе жизнь и даже милость у Димитрия. Тебе предназначено было погибнуть на плахе. Теперь поздравляю тебя с новою жизнью!
– При царе Борисе я также не свидетельствовал всенародно, что царевич точно убит, а только сказал то, что объявили на допросе угличане и ближние царицы. Мое дело сторона! – отвечал Шуйский.
– Хорошо ты перенял у Бориса, князь Василий, жить на стороне, а быть всегда впереди, – возразил Плещеев. – Не Борис ли научил тебя поступать по пословице: «Ползком, где низко, тишком, где слизко!» – Князь Шуйский не отвечал ни слова и сошел с Царского места.
Между тем в народе продолжались восклицания: "Не хотим Годуновых! Миновалось время Годуновых! Да здравствует царь Димитрий Иванович!" Пушкин и Плещеев, стоя на возвышении, радовались своим успехам и решились довершить начатое. Они сняли шапки, стали кланяться народу и показывали вид, что хотят снова говорить с ним. Все вдруг утихли, и Пушкин сказал:
– Царь наш, Димитрий Иванович, с радостью узнает о вашей любви и верности к нему и пожалует вотчину свою, Москву, царскою своею милостью. Но надобно, чтобы вы запечатлели верность свою делом, а не словами. Пойдем в Кремль и очистим престол для законного нашего государя!
Пушкин и Плещеев сошли с Царского места и пошли прямо к Фроловским воротам. Сонм бояр и мужей думных стоял в безмолвии. Один только боярин Вельский отделился от своих товарищей и присоединился к мятежникам. Народ раздался, пропустил Пушкина, Плещеева и Вельского и, сомкнувшись, последовал за ними, восклицая: "Гибель Годуновым! Да здравствует законный наш государь Димитрий Иванович!"
Подобно кормщику, который, оставшись один на корабле, брошенном бурею на мель и осаждаемом разъяренными волнами, угрожающими затопить его, юный царь, оставленный стражею и царедворцами, с ужасом видел приближающиеся толпы мятежников. Куда девались льстецы, уверявшие юного царя в твердости и непоколебимости его власти и в своей преданности? Куда укрылись знаменитые сановники, наполнявшие царские чертоги в часы силы и благоденствия царя, клявшиеся ему в беспредельной верности, в готовности жертвовать за него жизнию и имуществом? Куда девалась наемная стража, прикованная золотом к дверям царских палат? Все они рассеялись, исчезли в грозную годину опасности, оставили питавшее их убежище, подобно домашним животным, которых привлекает запах корму и отгоняет недостаток. Дворец Кремлевский был пуст, ибо не милости, не награды хранились в нем, но грозный опыт, страх, смерть (96). Феодор и Ксения, оставленные всеми, с трепетом ожидали судьбы своей в объятиях несчастной матери, как нежные птенцы перед стаей кровожадных коршунов.
В целой Москве из тысячи людей, облагодетельствованных Годуновыми, одна няня царевны, Марья Даниловна, пребывала верною своему долгу. Тщетно заклинала ее царица укрыться, избежать опасности мнимым отступлением.
– Не погублю души вероломством, – отвечала няня, – не оставлю питомицы моей, моего милого детища! Господь даст силу слабому в правом деле. Прежде кровопийцы попрут труп мой, чем прикоснутся к сердцу моему, к моей Ксении! Да будет проклят каждый, который служит верно царскому роду тогда только, когда нет измены и опасности!.. Умру с вами!
Толпы мятежников проникли беспрепятственно в царские чертоги, под сводами раздались страшные восклицания и угрозы, и неистовые вторгнулись в Грановитую палату, где юный Феодор в царском облачении, с венцом и скипетром сидел на престоле. По сторонам стояли мать его и сестра; на нижней ступени верная няня царевны. В сию ужасную минуту слезы отчаянного семейства были одною защитой престола, на котором властолюбивый Борис думал утвердить род свой кровью и слезами безвинных жертв. Величественный вид престола и венца царского и священные воспоминания, соединенные с ними, удержали дерзких мятежников. Они остановились в половине палаты, и глубокое молчание водворилось в шумной толпе.
Месть и злоба, таившаяся в сердце боярина Вельского и удерживаемые страхом, пробудились во время бессилия рода Годуновых, воздавшего ему неблагодарностию и позором за верность и дружбу. Боярин Вельский трепетал всем телом, готовясь воздать злом за зло беззащитному: вид царского престола, пред которым он привык благоговеть от детства, также приводил его в смущение. Но жребий был уже брошен, и надлежало или погибнуть самому, или довершить клятвопреступление. Вельский дрожащими ногами выступил на средину, хотел говорить и медлил…
– Чего вы хотите от меня? – сказал Феодор народу. – Вы целовали мне крест и клялись быть верными: я наследовал престол отца моего, Богом отданный ему по прекращении рода Рюрикова; венчан на царство святейшим патриархом, помазан святым миром. Дерзнете ли оскорблять Бога всевидящего, грозного судью клятвопреступников, в лице вашего царя? Прозрите, ослепленные, и изыдите с миром из сего священного убежища царя вашего! Вы обмануты клевретами самозванца. Прощаю вас и повелеваю: идите в храмы Божий и умоляйте Господа, да простит вам дерзость вашу…
Народ остолбенел. Ужас водворился в сердцах. С беспокойством поглядывали друг на друга мятежники и уже готовились выходить из палаты, но Вельский ободрился и сказал:
– Феодор Борисович! кончилось царствование Годуновых. Мы целовали крест отцу твоему и тебе, ибо верили, что нет в живых законного наследника царства. Но он жив, идет с сильным войском в Москву карать ослушников и миловать верных. Уступи ему незаконное стяжание и первый подай пример добродетели! Присягни на верность царю Димитрию Ивановичу!
Феодор Борисович хотел говорить, но Пушкин воскликнул:
– Да здравствует царь законный Димитрий Иванович! Гибель Годуновым! Клятва памяти Борисовой! – Народ повторил восклицания и пресек речь юного царя.
Ужасные слова "Гибель Годуновым!" – раздались страшно в сердце нежной Матери, царицы Марии Григорьевны. В это самое время Вельский, Пушкин и Плещеев подступили ближе, подвигая за собою неистовую толпу. Царица сошла с ступеней престола и, бросившись на колена пред дерзостными, горестно возопила: (97)
– Остановитесь, ради Бога остановитесь! Не прошу вас о царстве для моего сына, но умоляю о жизни милых моих детей! Они безвинны пред вами, не сделали никому зла, не оскорбили никого ни делом, ни словом, ни умыслом! Сжальтесь над нами, пощадите беззащитных! И у вас есть жены, дети, родители! Вспомните о них и троньтесь слезами матери! Если вы жаждете крови, растерзайте грудь мою, исторгните материнское сердце, упейтесь кровью моею, но пощадите детей моих! Страшно карает Бог убийц и клятвопреступников… Помыслите о душах ваших…
Народ сжалился.
– Мы не хотим ни гибели, ни кровопролития, – сказал боярин Вельский, – но требуем, чтоб Феодор Борисович очистил престол для сына Иоаннова. Покорись судьбе, Мария Григорьевна! Отец твой, Малюта Скуратов, был облагодетельствован Иоанном; внуши твоему сыну благодарность к наследнику Иоаннову и не страшись о жизни чад твоих. Ступайте в родовой дом ваш: чертоги царские ожидают сына Иоаннова!
Феодор Борисович, не ожидая ответа матери, положил скипетр на серебряный стоЛ, стоявший возле престола, снял корону, перекрестился, поцеловал ее, положил возле скипетра и залился горькими слезами.
– Да исполнится святая воля твоя, Господи! – воскликнул он и сошел с ступеней престола.
Народ в безмолвии расступился, и Феодор тихо пошел из Грановитой палаты. За ним шли царица, Ксения и верная няня, заливаясь слезами. Боярин Вельский шел впереди и очищал путь. Пушкин и Плещеев предводили толпою мятежников. Когда несчастное семейство вышло на крыльцо, народ, возмущаемый предателями, повторял грозные клики: "Гибель Годуновым!", – но не смел прикоснуться к священной особе Феодора. Ближние толпы молчали и с невольным ужасом взирали на несчастное семейство; в отдалении страшно вопили: "Не хотим Годуновых! Да здравствует царь Димитрий!"
Несколько верных, престарелых, забытых слуг Годунова рода встретили злосчастных господ своих на пороге дома, выстроенного в Кремле Борисом в царствование Феодора Иоанновича. Вельский поставил стражу вокруг дома, а Пушкин выбрал своих верных клевретов в приставы. Дом Годуновых казался надгробным памятником, где в одно время погребена была и память величия Бориса, и благоденствие его семейства. Внутри было тихо как в могиле: вокруг вопияла злоба и месть.
* * *
Разъяренная чернь есть плотоядный зверь, пожирающий питателя своего, когда перестает его бояться. Не удовольствовался возмущаемый народ низложением царя Феодора. Всех его родственников: Годуновых, Скуратовых, Вельяминовых, Сабуровых – заключили в темницу, били, позорили, расхитили имущество и даже сломали их домы. Боярин Вельский, злясь на медиков иноземных, из коих один был орудием мести Бориса и выщипал бороду боярину, предал их на жертву неистовству мятежников. Но в самом ожесточении народ не тронул царского имущества, когда Вельский припомнил, что это собственность Димитрия. Насытив месть свою и злобу, Вельский утишил мятеж именем нового царя, и народ, сперва неистовствуя по чуждому внушению, подобно хищным зверям, разошелся спокойно по домам, как утружденное стадо. Вельский, Пушкин, Плещеев и другие зачинщики крамолы скакали на конях по городу и приглашали всех присягать на верность Димитрию, угрожая ослушникам смертию. Все храмы были отперты: священники в облачении, с крестами и Евангелием стояли на площадях и на перекрестках для принятия присяги. В один день все свершилось, и Москва поддалась и присягнула Лжедимитрию, почитая его истинным сыном Иоанновым по уверению бояр.
На другой день боярин Вельский пригласил бояр собраться в Думе именем нового царя. Никто не смел ослушаться, и все мужи думные собрались в Золотой палате. Бояре не смели взглянуть друг на друга: они стыдились своего бездействия и малодушия во время буйства народного. В смущении и страхе они пришли в пустой дворец Кремлевский, подобно беглецам воинским, предстающим на суд. Каждый хотел бы упрекать другого в малодушии, но боялся взаимной укоризны. Одни мятежники были дерзки и кичливы. Боярин Вельский, без всякого права на первенство в Думе, сделался первенствующим в ней потому только, что предводительствовал мятежом. Никто не смел с ним спорить. Страх и стыд заставили забыть даже о местничестве. Многие думали, что Вельский имеет тайные поручения от нового царя, и с трепетом ожидали своей участи от воли того, которого накануне называли бродягою и самозванцем. Бояре совестные, хотя слабодушные, чувствовали, что они не так должны были поступить, как поступили. Стыд, порождает робость, и они беспрекословно повиновались Вельскому.
Посредине палаты стоял стол, за которым сидел Вельский, на скамьях заняли обычные свои места думные мужи. Боярин Вельский сказал:
– Совершилось давно желанное Россиею: она Избавилась от Годуновых, впившихся, подобно змиям, в ее сердце, отравивших ее ядом козней и злодейств. Снова узрим на престоле законное племя, и счастие воссияет над Россиею. Великое дело кончено. Москва и Россия присягнула Димитрию, который теперь находится в Туле с своим войском: поспешим к нему с повинною. По воле царя, избираю вас, знаменитые мужи князь Василий Иванович Шуйский, князь Иван Михайлович Воротынский, князь Андрей Андреевич Телятевский, Петр Иванович Шереметев. Вы изберите от себя по шести думных мужей и немедленно отправьтесь к царю бить ему челом от лица Москвы и России. Думный дьяк Афанасий Васильевич поедет с вами для отчета в делах Думы и Приказа посольского. Прошу вас, бояре, не подвергать себя и синклита гневу царскому ослушанием. До прибытия царя я буду управлять Москвою. Никто не произнес в ответ ни слова. Боярин Вельский встал и, призвав с собою Пушкина и Плещеева в Стрелецкий приказ, распустил Думу, сказав, что в нужных случаях он будет повещать думных мужей. Назначенным в Тулу боярам он пожелал счастливого пути, и все разошлись в безмолвии.
ГЛАВА IV
Довершение злодеяния. Награда изменников. Стан Лжедимитрия под Москвою. Пробуждение совести. Лазутчик. Вступление в Москву.
Все удивлялись постоянству, твердости, предусмотрительности Лжедимитрия к достижению своей цели! Эти качества в молодом человеке, бесприютном сироте, и пламенное красноречие, соединенное с необыкновенною смелостью, привлекали к нему умы и сердца в Польше и после того в России и заставляли верить истине его происхождения. Все знавшие Лжедимитрия думали, что он, достигнув желаемого, еще более разовьет свои способности, которые послужили ему ступенями к возвышению – и все обманулись.
Со времени перехода войска под Кромами Лжедимитрий не жил, а блаженствовал. Все российские города покорялись ему один за другим и самые отдаленные присылали выборных бить челом и присягать в верности. В торжественном шествии от Кром до Тулы Лжедимитрий встречал одну покорность и приверженность доброго русского народа; который в лице его чтил святую кровь царей законных. Но вскоре льстецы убедили его, что эта любовь народная есть личное его стяжание. Величие ослепило его; все господствовавшие в нем страсти слились в одну и образовали особенный, отличительный характер суетности.
Новый царь жил в Туле в царском дворце, угощая ежедневно воевод и бояр, стекавшихся к нему с изъявлением преданности. Между тем прибыло и знаменитое боярское посольство из Москвы, высланное Вельским, с уведомлением о низложении Феодора Борисовича и с приглашением на царство. Более ста тысяч дворян, граждан из разных городов и людей воинских добровольно пришли в Тулу видеть нового царя и целовать ему крест на верность. Уже Лжедимитрий царствовал самовластно, хотя еще не возложил венца на свою голову. Указы его исполнялись во всей России, и все друг перед другом старались выказывать усердие к новому самодержцу. Покорная Москва призывала его в свои стены, но он медлил. Князья, Василий Васильевич Голицын, князь Рубец-Мосальский и дьяк Сутунов отправились по приказу царскому в Москву с тайными поручениями. Воевода Петр Федорович Басманов пошел к столице с отборным войском, а царь, велев остальному войску и боярам быть каждый день готовыми к пути, оставался в Туле и, как казалось, с нетерпением ожидал вестей из Москвы. Все окружавшие царя, народ и войско, думали, что переворот уже кончен совершенно и что ничего не остается более делать, как торжествовать победу и воцарение. Носились слухи, что сверженный с престола Феодор Борисович будет пострижен в монахи, и догадливые предполагали, что новый царь для того медлит в Туле, чтоб не быть свидетелем сего обряда. Приверженцы царя похвалили его за сию нежность чувствований. Они непременно хотели видеть в нем такого героя, каким он представлялся, когда искал сообщников.
Ночью Меховецкий постучался в двери почивальни Лжедимитрия.
– Что такое? – спросил он сквозь сон.
– Гонец из Москвы! – отвечал Меховецкий. – Ты велел, государь, доложить тебе немедленно, когда кто-нибудь прибудет оттуда. Говорят, что важные вести!
– Введи гонца! Я тотчас встану и спрошу.
Меховецкий возвратился в переднюю и призвал гонца.
– Подожди в своей комнате, любезный Меховецкий, – сказал Лжедимитрий и, впустив гонца в свою почивальню, запер двери.
– Ну, что нового, Молчанов? Говори скорее!
– Все свершилось! Нет Годуновых.
– А Ксения?
– Жива и здравствует. До твоего приезда в Москву взял ее к себе в дом князь Рубец-Мосальский.
– Хорошо, спасибо! Но как вы отделались от старухи и от плаксы Феодора Годунова? Не наделало ли это большого шуму в Москве? Нет ли толков? Не подозревают ли меня?
– Было много хлопот, нечего греха таить! Старуху скоро отправили, а с молодцем насилу управилась. Он рассвирипел в последний час и защищался, как лев, от четырех сильных удальцов. В народ пустили огласку, что мать и сын отравили себя ядом от отчаянья и боязни, когда открыли, что они хотели извести тебя, государь, отравою.
– Хорошо, хорошо! А что делается в Москве? Что сделали вы с сообщниками, с приверженцами Годуновых?
– В Москве все ждут тебя с нетерпением, а весь причет Годуновых в темницах до твоего приказу.
– Здорова ли Ксения? Что делает?.. Не подурнела ли от горести?
– Здорова, но плачет и кручинится. Пред отъездом я видел ее. Кажется, что она все так же хороша и полна, хотя не так румяна, как была прежде. Князь Мосальский говорит, что она красивее, когда плачет, нежели когда смеется… (98).
– Это весьма хорошо, потому что я не надеюсь осушить слезы ее и рассеять кручины в скорое время… Ну, спасибо, Молчанов! Завтра поговорим более.
– Государь! Для счастья моего не надобно много времени. Довольно одного твоего слова. Ты, государь, верно, позабыл в хлопотах то, что говорил мне в Шляхетской слободе на рубеже польском. Кто известил тебя в Путивле чрез дворянина Бахметева о смерти Бориса? Кто принес весть о погублении его рода? Нечего тебе повторять, кто и как все это уладил и каким опасностям подвергался я! Все исполнено, чего тебе хотелось, что нужно было для скорого твоего воцарения и окончания брани междоусобной… Теперь ты самовластный господин в России… Я еще ничего не получил!..
Лжедимитрий наморщил чело и сказал гневно:
– Молчанов! я не люблю, чтоб мне припоминали, это что-то походит на упреки! Сделаю, что мне будет угодно. – Прошед по комнате, Лжедимитрий отер пот с лица и примолвил: – Будь уверен, что служба твоя не останется без награды: когда вступлю в Москву, дам тебе из казны моей царской столько денег, сколько сам захочешь. Будь спокоен, Молчанов: я награжу тебя по-царски.
Молчанов поклонился в пояс и сказал:
– Государь! я ни в чем не упрекаю тебя, но с покорностью осмеливаюсь припомнить о боярстве и о вотчинах Годуновых… которые ты обещал тому, кто…
Лжедимитрий прервал слова его:
– Полно, полно! В своем ли ты уме, Молчанов, требуя от меня невозможного? Тебя подозревают в убийстве Бориса; невозможно, чтоб утаилось от народа и последнее твое дело… Что скажут обо мне, когда я дам тебе теперь звание боярина и вотчины Годуновых? Тогда я признаю себя виновником всех этих убийств! Нет, Молчанов, такую службу, как твоя, невозможно награждать почестями. Я дам тебе денег, много денег – и делай себе что хочешь! Но, награждая тебя саном знаменитым, я заклеймлю навеки самого себя… Это невозможно! Опомнись, Молчанов! ты сам человек разумный. Рассуди, что скажут князья, бояре, весь синклит?..
Пока Лжедимитрий говорил, лицо Молчанова страшно изменялось: брови насупились на глаза, губы дрожали и смертная бледность покрыла щеки. Заслуженное уничижение пробудило в нем самолюбие, которое терзало сердце и распаляло его злобою. Лжедимитрий приметил внутреннее волнение своего клеврета и, чтоб успокоить его, сказал:
– Я не отказываю тебе, Молчанов, но только откладываю исполнение твоих желаний. Что я обещал, то сделаю. Чрез несколько времени, чрез год или другой, когда дело забудется несколько, я дам тебе какое-нибудь важное и явное поручение, сам похлопочу об успехе и тогда осыплю почестями. Все уладится, только потерпи…
Молчанов поклонился и хотел выйти, но Лжедимитрий остановил его.
– В рассеянии я забыл спросить, а что вы сделали с патриархом Иовом?
– Свели с патриаршего престола.
– И оставили в живых? Напрасно! Он может мне вредить своими пустыми рассказами…
– Теперь его легко сбыть с рук. Да, кажется, и не нужно. Кто станет его слушать!
– Ну, прощай, Молчанов! Завтра увидимся. Молчанов вышел, а Лжедимитрий призвал Меховецкого.
Прошед несколько раз по комнате с сильным беспокойством, Лжедимитрий вдруг остановился перед Меховецким и сказал:
– Ужасные вести! Москвитяне из усердия ко мне свершили злодейство, которое мне весьма противно. Они убили вдову Бориса и бывшего царя Феодора!
– Ужасно! – воскликнул Меховецкий. – Государь! это может запятнать честь твою и славу. Станут подозревать…
– В народе разгласили, что они сами себя лишили жизни отравою.
– Правды невозможно утаить. Рано или поздно народ узнает истину.
– Меня нельзя уличить в соумышлении с убийцами. Я никому не приказывал: нет моей строки…
– Злодеи не могут быть скромными. Чтоб оправдать себя, они станут обвинять тебя, государь. Ненаказанность их будет свидетельствовать противу тебя.
– Я не могу наказывать за усердие ко мне, но буду уметь зажать рты этим разбойникам! Кто прибыл из Москвы с Молчановым?
– Племянник князя Василия Голицына князь Александр. Прекрасный и скромный юноша. Князь Василий пишет ко мне, чтоб я поручил его твоей царской милости.
– Пожалуйста, порасспроси хорошенько о всех подробностях последнего мятежа и расскажи мне завтра. Я не могу долго говорить с Молчановым. Вид этого злодея несносен мне. Добрая ночь!
Меховецкий горел нетерпением узнать об ужасном происшествии в Москве: он пригласил юного князя Голицына провесть ночь в своей комнате, во дворце, и, с первыми лучами солнца разбудив своего гостя, просил рассказать все, что он знает о убийстве Феодора и супруги Борисовой. Князь Голицын сказал:
– Злодеи разглашают под рукою, будто бы сие гнусное преступление совершилось в угодность царю Димитрию Ивановичу. Не могу и не хочу верить, чтоб царь, славящийся мужеством и милостью, соизволил на тайное смертоубийство. Сердце мое отвергает сию мысль, и потому буду смело говорить с тобою, как с ближним его. Не пощажу родного дяди моего, князя Василья Васильевича. По воле матери моей повинуюсь ему, но с тех пор как он сделался сообщником князя Мосальского – я не родня ему по душе!
После сведения с престола Феодора Москва была спокойна, и народ радовался торжеству законного царя и своему собственному торжеству, еще не запятнанному кровью. Часто буйные толпы переходили с Красной площади в Кремль, чтоб смотреть на дом Годуновых, где с семейством Бориса, казалось, погребены были все бедствия России. 10 июня я проходил утром чрез Кремль, когда в нем почти не было народу. Из-за угла увидел я, что к дому Годуновых приближаются дядя мой, князь Василий, князь Рубец-Мосальский, Молчанов, дворянин Шерефединов (99), друг его и три стрельца ужасного вида. Не предвещало ничего доброго это посещение! Я подошел к забору с другой стороны дома и застал там несколько человек любопытных. Сперва было все тихо; потом начался стук, шум, крик и вскоре раздались женские вопли. Крик усилился, и мы явственно слышали голос Феодора. Он вопиял: "Убийство! измена!" После того стук усилился: казалось, что происходит борьба или драка, и наконец раздались болезненные стоны – и все затихло. Мы пришли в ужас: я хотел бежать, и вдруг раздались женские вопли вне дома. Некоторые из любопытных влезли на забор, а я смотрел в щель, что делалось на дворе. Злодей Молчанов вынес из дому на руках несчастную Ксению, которая испускала пронзительные стоны. Няня царевны с распущенными волосами, в разодранной одежде, вырывалась из рук двух зверообразных стрельцов, громко вопия: "Пусть умру у ног ее! Не разлучайте нас! Вы убили мать ее и брата, не щадите и меня! убейте, чтоб я не видала позора моей питомицы и вашего беззакония!"
Подъехала к крыльцу крытая колымага. Молчанов сел в нее с несчастною царевной и велел ехать в дом князя Мосальского. Няню заперли в погребе дома. Признаюсь тебе, если б я тогда был вооружен и если б не был окружен робкими гражданами, а смелыми воинами, то по первому воплю в доме устремился бы на помощь несчастным, веря, что тем угодил бы царю Димитрию. Но я не мог ничего сделать – мог только пролить слезы сострадания о несчастных жертвах! Они заслуживали лучшей участи!..
Не стану рассказывать тебе о низложении патриарха Иова. Это сделалось именем царя и исполнено воинами Петра Феодоровича Басманова с толпою граждан, но, вероятно, не так, как хотел царь. Неистовые, забыв страх Божий, вторгнулись в храм Успения в то время, как патриарх совершал литургию, и с грозными кликами, заглушая божественное пение, бросились на старца. Он не попустил, чтоб с него срывали облачение святительское; сам снял с себя панагию и, положив пред образом Богоматери, жалостно воскликнул: "Обман и ересь торжествуют, гибнет православие! Матерь Божия, спаси его!" (100). Плакали добрые люди, видя уничижение сана святительского, и с сокрушением сердца смотрели на слабого старца, которого, опозорив, повезли в заточение на простой телеге. Не хочу судить о делах и повелениях царских; но думаю, что было бы лучше, если б сын Иоаннов вошел в Москву не кровавым следом, и если б слезы и рыдания жертв не омрачали ликования народного!
Меховецкий прижал к сердцу благородного юношу и сказал:
– Таких слуг надобно Русскому царю!
Меховецкий вошел в комнату Лжедимитрия, хотел рассказать ему слышанное от князя Голицына, но Лжедимитрий не хотел уже слушать.
– Перестань! – сказал он. – Дело кончено. Вели собираться войску – и немедленно в поход, в Москву, на престол, в объятия моей Ксении! Меховецкий, радуйся, веселись вместе со мною! Пойдем блаженствовать!
* * *
На обширном лугу, на берегу Москвы-реки пылали костры, вокруг которых пировали полчища царские. Уже было около полуночи, но воины не помышляли о сне. Повсюду раздавались веселые и воинственные песни, радостные клики и шумные речи. Множество жителей столицы, привлеченных любопытством в стан, оставались в нем, познакомившись с воинами. Стан походил на шумное торжище.
Сам царь со знатнейшими сановниками находился во дворце коломенском, и огни почетной стражи светились на высоком берегу, как звезды на небе. У самой церкви Вознесения Господня стояли вестовая пушка и большой стяг царский.
Между селом Коломенским и станом простирается обширный луг. Два человека пробирались тропинкою в стан при зареве огней. Путники шли поспешно и в молчании; один из них, высокого роста и крепкий телом, окутан был большим синим опашнем и на голове имел высокую соболью шапку. Окладистая русая борода украшала его полное лицо. Товарищ его, небольшого роста, сухощавый, чернолицый, с небольшою черною всклоченною бородою, в круглой поярковой шляпе и в коротком буром кафтане, нес за поясом коновальский снаряд, а под мышкою скрипку в кожаном мешке.
– Куда велишь вести себя, боярин? – спросил он у своего спутника. – Вот направо польское войско; за ним немецкая дружина; в середине пешая и конная русская рать, а на левом крыле запорожские казаки.
– Пойдем сперва к полякам, – отвечал боярин. – Только смотри, Ганко, не измени цыганской своей клятве и называй меня просто купцом Иваном. Если ты заикнешься, то завтра же будешь висеть на первом дереве.
– Висеть, а за что?
– За шею, – сказал боярин.
– Проветривай ты своих дьяков да подьячих, – возразил цыган, – а мне лучше положи в карман ефимков, чтоб я тверже ходил понизу.
– За этим дело не станет, – отвечал боярин, – только будь смышлен и верен.
– Буду верен, как собака, и смышлен, как лисица, – сказал цыган, – только ты, боярин, держись своего слова.
– Кто идет? – раздалось в стане.
– Безоружные гости московские! – отвечал цыган и пошел на голос. Возле повозок, поставленных в два ряда позади палаток, находилась польская стража. Она пропустила путников в стан. Перед палатками пылал огромный костер, вокруг которого толпились воины. На огне кипели котлы и жарилось мясо на вертелах. Офицеры, товарищи, шеренговые, цюры (101) и женщины составляли шумную и многолюдную толпу. Ганко остановился в нескольких шагах от огня, вынул из мешка скрипку и вдруг заиграл военную польскую песню. Все умолкли и обратились к музыканту.
Хорунжий. Браво! Это наш старый приятель Ганко. Кстати пожаловал! Гей, ребята, подайте меду и водки! Сюда, Ганко, сюда, поближе. Заиграй-ка нам марш Стефана Батория; тот самый, что ты играешь с присвистом и припевом.
Ганко приблизился к толпе, поклонился, настроил скрипку, проиграл любимый польский марш и потом приподнял с земли медную баклагу с медом, потянул из нее и, обратясь к хорунжему, сказал:
– Позволь, вельможный пан, попотчевать приятеля моего, москвича, честного купца, – и, не дождавшись ответа, передал баклагу боярину, который принял ее, но не прикасался к ней устами. Польские воины сперва не обращали никакого внимания на боярина, но, когда Ганко припомнил об нем, многие голоса воскликнули из толпы:
– Добро пожаловать, добро пожаловать!
Хорунжий. Милости просим откушать за здоровье царя Димитрия. Теперь он признан Россиею и Москвою и завтра же воссядет на престоле своих предков.
Боярин, который остановился было в некотором отдалении, подошел ближе и, прихлебнув меду, отдал баклагу Ганке, поклонился собранию и сказал:
– Здравия и долголетия царю Русскому!
Вахмистр. Аминь! Мы теперь служим одному царю с московитянами: дай руку, купчина!
Товарищ пан Пекарский. Служим до тех пор, пока он нам будет платить исправно.
Вахмистр. Дельно, брат, дельно. Ведь мы его не подданные, а добрые друзья, союзники. Согласись, купчина, что и сам черт не полезет в болото из одной благодарности; а нам и подавно грешно было бы приняться даром за эту головоломную работу.
Молодой товарищ. А слава!
Вахмистр (поглаживая усы). Слава! Кой черт прославит нас за чужое дело и в чужом народе? Драться и умереть за отечество, за своего государя – вот это другое. Тогда и ксендз с амвона прочтет твое имя, и добрый человек вспомянет его, и красавица пропоет в песенке, и вдова твоя или сирота будут иметь право требовать куска хлеба от народа. А теперь какая кому нужда, если вахмистр Калинский или молодой товарищ Рудницкий, впрочем, bene natus et possessionatus (т. е. благородный помещик), сломят шею под Москвою или под Калугою? Туда и дорога! – скажут добрые люди. В нашей храбрости никто еще не сомневался: так ради одной славы не для чего было нам стучать лбом об московские стены. Разрази меня гром и побери черт, если я подарю хоть один шеляг царю Димитрию! Нет! мы должны порядочно рассчитаться с ним и возвратиться в отечество не с пустыми руками и не с одним похвальным листом, как школьники в дом родительский.
Многие голоса в толпе. Справедливо, справедливо!
Боярин. Но ведь вас много у царя Димитрия, честные господа, и я боюсь, что у него не достанет казны царской, чтобы всех наградить по заслугам.
Пекарский. Тогда мы доберемся до казны его подданных. Доберемся, миллион пятьсот тысяч бомб и чертей! Нам какое дело до его счетов! Мы исполнили свое обещание: принесли царя к Москве на наших плечах, поливая путь нашею кровью, и если царь не будет в состоянии дать нам заслуженную награду, то, черт меня побери, мы возьмем ее сами!
Многие голоса. Возьмем, возьмем сами, без сомнения возьмем!
Вахмистр. Ганко! ты бывал в Москве; скажи, правда ли, что она богаче Варшавы и Кракова и что в ней больше золота и серебра, нежели в целой Польше?
Ганко (посмотрев исподлобья на боярина). Так говорят. Сказывают еще, что Москва и богата и торовата, но только для приятелей.
Литаврщик. А разве мы не приятели? Разве ты был глух. вчера, когда я во время обеда выбивал виваты под царскими окнами – так, что чуть шкура на литаврах не полопалась? Разве ты не слыхал, как наши паны пили за здравие Русского царя и его вельмож, а русские бояре пили за здравие Польского короля и народа? Если б я знал вчера, что ты забудешь об этом, то пристукнул бы палкою по твоей голове на память, чтоб ты не вертелся впредь между музыкантами, как дьявол между грешниками.
Ганко. Ты, кажется, хочешь сердиться, пан Пузыревский; верно, и ты забыл также, что я пришел с вами из-под Львова не затем, чтоб откушать московских калачей. Моя доля награды также в Москве.
Вахмистр. Твоя доля награды! А тебе за что, цыганская кровь?
Ганко. За мою верную службу и за привязанность к вам, вельможные паны.
Молодой товарищ. Скажи лучше, к нашим коням.
Ганко (улыбнувшись лукаво). А разве это не все равно?
Вахмистр (поднял палку, чтоб ударить Ганко, но хорунжий удержал его руку). Миллион пятьсот тысяч бомб и чертей! Как, все равно что мы, что наши кони? Вот я тебя, цыганская вера!
Ганко (отступив назад). Зачем напрасно сердитесь, вельможный пан! Пословица твердит: «Кто любит попа, тот ласкает и попову собаку», а это то же самое, чтобы сказать: «Кто любит ездока, тот любит и коня его». Из этого ровнехонько выходит, что я, лечив ваших коней, любил вас, почтенные господа.
Вахмистр. Проклятый цыган, чертов брат! Он всегда вывернется; как ни брось кота на землю, а он все упадет на ноги.
Пекарский. Да зачем его нелегкая принесла в эту пору?
Ганко. Давно ли вам стало казаться чудным, что Ганко пришел позабавить вас?
Хорунжий. А зачем ты притащил с собою этого москвича? Ведь мы не совы и не филины, чтобы на нас смотреть ночью. Мог бы дождаться до завтра, когда не успел налюбоваться сего дня.
Ганко. Этот господин купец имеет поручение от благочестивых людей скупить церковную утварь, которая ненарочно досталась в добычу нашим храбрецам. Он боится, что завтра уже будет поздно, и просил меня проводить его ночью в стан.
Боярин (кланяясь). Точно так, почтенные господа!
Пекарский. Кой черт надоумил тебя идти к нам за золотом и серебром! Мы пришли сюда не с этим, а за этим. Поди-ка за золотом и серебром к единоверцам вашим, запорожцам; они очищали перед нами сундуки, тогда как мы очищали дорогу от неприятеля. До миллиона ста тысяч чертей! Эти замарашки, как саранча, объедали нас кругом; и тогда, как мы грудью прокладывали себе путь вперед, шароварники воевали с бабами да с монахами, а теперь кичатся более других, как будто что-нибудь сделали!
Женщина. Если бы я была мужчиною и начальником, то не отпустила бы этих хищных ястребов на Запорожье, не ощипав им перьев. Царь обещал для нас построить католическую церковь в Москве, пусть бы из этой добычи поляки построили другую. Только б этим запорожцам ничего не досталось!
Вахмистр. Кроме сабельных ударов. Мысль счастливая! Ну что бы нам на обратном пути посчитаться с запорожцами! Ведь, право, славно! Уж впрямь, где черт не успеет, туда пошлет женщину.
Хорунжий. Совет хорош, да исполнение нелегко. Эти головорезы, которые так плохо сражались за царя, будут драться до последней капли крови за добычу; они, по крайней мере, вдесятеро сильнее нас: ведь нас не более тысячи шестисот человек!
Молодой товарищ. А давно ли нам известна наука считать неприятелей перед боем?
Хорунжий. С тех пор, как яйца стали учить кур.
Молодой товарищ. Господин хорунжий!
Хорунжий. Господин товарищ!
Молодой товарищ. Знаете ли, чем это может кончиться?
Вахмистр. Господа, господа! неужели нам ссориться между собою, помирившись с неприятелем? Вот-те и дисциплина! Черт меня возьми, если я видал когда-нибудь такое войско: здесь всякий сам себе начальник!
Хорунжий (подавая руку молодому товарищу). Не горячись, молодой человек, уважь хоть седые усы мои.
Молодой товарищ. И мои черные усики стоят уважения. (Хлопает по руке хорунжего.)
Вахмистр (женщине). Послушай, сударыня! Ты намекнула о постройке католических церквей в Москве. Смотри же, чтобы вы после не стали плакать, как наши ребята станут в этих церквах венчаться с московками!
Женщина. Женитесь на ком хотите, для нас все равно. Ведь царицею Московскою будет полька, панна Марина Мнишех.
Вахмистр. Ну так что ж из этого?
Женщина. А вот то, что мы, жены воинов ее мужа и притом польки, всегда будем иметь первое место.
Старый товарищ (смеясь). Не при дворе ли?
Женщина. А почему же не так? Велика беда, что панна Марина – дочь воеводы! А разве мы не такие же шляхтянки? Разве вы забыли пословицу: "Шляхтич на огороде равен воеводе"?
Многие голоса в толпе. Правда, правда!
Один товарищ. Что до меня касается, то я рад навсегда остаться на Москве. Здесь мы будем при царе первые, а в Польше нам всегда будет тесно от наших вельмож. Что ни говори, а сильный воевода всегда вытеснит бедного шляхтича из огорода!
Многие голоса. Справедливо, правда!
Молодой товарищ. Говорят, что царь хочет завести польскую гвардию в Москве; я первый остаюсь здесь.
Многие голоса. И я, и я также.
Молодой товарищ. Только надобно будет переделать Москву на наш лад. Если правда, то мне рассказывали люди, бывшие в Москве при посольстве с Сапегою, то и в медвежьей берлоге веселее жить, чем в московских палатах. Итак, надобно начать с того, чтобы велеть боярам и вообще всем богатым москвичам не запирать жен своих, как гусей на откорм; потом ввести в обычай маленькое волокитство, затеять балы, научить женщин танцевать, любить музыку…
Хорунжий. Браво, браво, да ты годишься, брат, в первые советники к царю Димитрию.
Молодой товарищ. Ведь он сам весельчак.
Вахмистр. Уж что правда, то правда. Наездник на коне, сенатор в совете, удалец на пирушке, пострел с бабами, словом, молодец хоть куда. Послушай, друг купчина, вы должны озолотить нас с головы до ног за то, что мы дали вам такого царя.
Боярин. Это не наше дело.
Вахмистр. Как не ваше дело? Ведь вам жить с ним. Но все говорят, что Москва богатая и добрая старушка: она, верно, поделится с нами лишним своим богатством. Не правда ли, господин купец?
Боярин. Я не могу отвечать за Москву.
Пекарский. А если не захочет поделиться добровольно, так мы посоветуем ей по-своему.
Боярин. Москва – добрая старушка, только выцарапает глаза всякому, кто на нее поднимет руки.
Хорунжий. Ну, так мы ей руки свяжем.
Боярин. Не мое дело спорить.
Пекарский. Ганко! сыграй-ка нам песенку, а за то мы пожалуем тебя в придворные коновалы.
Ганко. Сыграть рад, а за место спасибо. Помещайтесь сами, господа, а я сам сыщу для себя уголок (Ганко играет на скрипке).
Один из толпы. Господа! Вот раскинут плащ. Вот кости и тяжелые ефимки, которые я отнял у русского боярина под Путивлем. Завтра или послезавтра будет новая добыча, а теперь попробуем-ка счастья. Господа, кто хочет в кости?
Вахмистр. Сперва поужинаем. Купчина! не хочешь ли отведать солдатского ужина? А ты, Ганко, поужинай с шеренговыми.
Боярин. Благодарен: мы поужинали в селе Коломенском. Теперь же мне некогда, я пойду, по вашему совету, к запорожцам.
Вахмистр. Ну, так прощай. С Богом! Тебя, Ганко, я бы послал к черту, но ты сам, без меня, знаешь к нему дорогу.
* * *
Воины принялись за ужин, а боярин и Ганко удалились и пошли между палатками на левое крыло стана.
– Ну, каковы тебе показались, боярин, наши лучшие витязи? – спросил цыган.
– Хороши гуси! – отвечал боярин. – У них только на уме, что грабеж, раздоры и только одно желание, чтобы перевернуть все вверх дном. Димитрия они почитают своим казначеем – и только!
– А при всем этом, право, славные ребята! – сказал Ганко. – Попить, поесть, подраться – наше дело. Они не боятся смерти, как будто она их двоюродная сестрица, и за опасностями гоняются, как борзые за зайцами. Правда, что наши полковые священники морщатся, когда идет дело о вере и о поведении. Но ты сам рассуди, боярин, что иначе быть не может. Ведь здесь не войско королевское или Речи Посполитой, а всякий сброд, кто с борка, кто с сосенки! Между начальниками есть порядочные люди, которые пришли сюда из дружбы или по родству с воеводою Мнишехом, по совету иезуитов или для прославления своего имени. Но их немного. Все прочее войско составлено из головорезов, которые рады случаю подраться хоть с самим чертом, только бы драться и жить на чужой счет. Ты видел, зачем они пришли в Россию. Уж не знаю, какой порядок будет в Москве! Эта вольница, как беспокойный муравейник, расшевелит вашу белокаменную, и сам царь их не удержит!
– А знаешь ли ты, как ловят муравьев? – сказал боярин.
– А как?
– Сперва вымажут горшок медом, а когда в него муравьи наберутся, то нальют кипятком – и поминай как звали!
– Понимаю! – отвечал цыган лукаво, посмотрев на боярина. – Потише! – сказал цыган. – Вот в этой палатке светит огонек. Остановимся за углом и послушаем, что здесь говорят. Слышу голос знаменитого польского пана, князя Константина Вишневецкого.
Великолепная турецкая палатка, добытая отцом князя в стане верховного визиря, была приподнята с одной стороны. Вдоль одной стены уставлено было трофеями богатое оружие: латы, шлемы, кольчуги, сабли, пистолеты, ружья, оправленные в золото и серебро; пониже находились конские сбруи с драгоценными камнями. Походные табуреты и постель покрыты были медвежьими и барсовыми кожами; пол устлан богатыми коврами. На столе стояло несколько больших серебряных стоп с дорогими винами и медами. Вокруг сидели Станислав Мнишех, Фредро, Дворжицкий, Неборский и сам князь Вишневецкий – отважные воины, увлеченные славолюбием под знамена Лжедимитрия.
– Наконец решены все сомнения насчет нашего друга Димитрия, – сказал князь Вишневецкий. – Похитители престола в могиле; он признан царем на Москве, и завтра наш подвиг кончен. Но признаюсь вам, господа, что я предвижу много неприятностей, много горьких часов! Во-первых, тревожит меня внутреннее состояние России и насильственная смерть семейства Годуновых, возбудившая ненависть к царю во всех добрых людях, а во-вторых, беспокойный дух нашего воинства: оно смотрит на Москву не как на столицу царя-союзника, но как на свою добычу.
– Ты совершенно прав, – отвечал Фредро, – как удержать в порядке эту сволочь, которую мы навербовали на всех перекрестках звоном золота и кубков и надеждами на московские богатства? Если бы их держать в стане, то еще можно было бы как-нибудь сладить с ними; но Димитрий велел расположить войско на квартирах в Москве – ну, как тут справиться? Вот увидите, что не обойдется без шуму и беспорядков, а это может повлечь за собою дурные следствия и запятнать честь воинства польского.
– Не так горячо, любезный друг! – сказал Станислав Мнишех. – Неужели буйство нескольких десятков головорезов может навлечь бесславие польскому имени? Все знают, что войско наше собрано наскоро, без разборчивости; а где нет злых или распутных людей?
– Так зачем же мы приняли начальство над распутными, скажут строгие судьи, – примолвил Неборский.
– Совершенная правда, – сказал князь Вишневецкий.
– Знаете ли что, господа? – сказал Дворжицкий, – мне кажется, что русские бояре не весьма искренно радуются нашему торжеству и неохотно верят подлинности Димитрия.
– Справедливо, – отвечал князь Вишневецкий. – В самых их ласкательствах видно что-то двусмысленное, и покорность кажется жертвою, а не произволом. Впрочем, и сам Димитрий много виноват. Кажется, счастье упоило его. С некоторого времени он сделался другим человеком. Из осторожного и гордого вдруг сделался легковерным и обходительным, из воздержанного сластолюбивым. Радость, что достигнул желаемого, переродила его. Он уже полюбил лесть и стал окружать себя льстецами. Думая, что все уже кончено, он беспрестанно мечтает о нововведениях, а это здесь вовсе не нравится. Воля ваша, господа, а я опасаюсь за нашего Димитрия.
– Особенно, когда он станет слушаться иезуитов, – примолвил Дворжицкий.
– Если бы слово не связывало меня с тобою, князь, я завтра же отправился бы в Польшу, – сказал Фредро.
– И я также, – примолвил Дворжицкий.
– Стыдитесь, господа, и думать об этом, – возразил князь Вишневецкий. – Нам надобно довершить начатое, утвердить Димитрия на престоле, венчать его на царство, женить на панне Марине, заставить его исполнить все, что он обещал Польше, и тогда уже помышлять о возврате. Пусть чернь наша думает о корысти… Высшие виды, благо миллионов людей вооружили нас, и мы должны пред целым светом, пред Римом и отечеством оправдать наше ополчение на Россию.
– Справедливо! – воскликнул Станислав Мнишех. – Но пусть пройдет первый восторг царя, и я уверен, что, когда прибудут сюда мой отец и сестра, все примет другой вид, и Димитрий будет снова таким, как мы его познали в Польше.
– Сон бежит от меня в эту решительную ночь, – сказал Фредро. – Пойдем прогуляться по стану.
Поляки встали, чтобы выйти из палатки, и русский боярин с Ганкою поспешили скрыться за углом и после того пошли своим путем.
– Вот люди порядочные, – сказал боярин, – умные и благородные, но они замышляют также что-то недоброе на Москву… Ганко! ты знаешь теперь, как ловят муравьев?
– И ввек не забуду!
– Куда же теперь идти? – спросил боярин. – Вот конец польского стана.
– Не пойдем ли к русским? – спросил Ганко.
– Нет! К русским мне заходить незачем, – отвечал боярин. – Я знаю своих: пока они уверены, что Димитрий истинный царевич, то готовы положить головы за кровь царскую. Это чувство срослось у нас с душою. Итак, пойдем к немцам.
* * *
Боярин и Ганко беспрепятственно вошли в стан малочисленной, но храброй дружины немецкой, служившей верно царю Борису и сыну его и перешедшей в службу Лжедимитрия по смерти несчастного Феодора, когда Москва и Россия признали прошлеца своим государем. Немецкая дружина пристала к войску нового царя под Москвою, когда Россия не имела уже другого правителя.
Под холстинным навесом между повозками сидели все офицеры. Подмостки из досок заменили столы и стулья. Тяжелые стопы часто переходили из рук в руки.
– Не могу больше пить, – сказал Маржерет. – Вы, господа, как бочки Данаид: вас никогда не наполнишь вином и медом.
– Любезный друг! – сказал Фирстенберг, – мы живем среди измен, обманов, злоумышлении и всяких козней. Надобно искать правды! Пей, Маржерет! ты знаешь: in vino veritas. – Фирстенберг при сих словах так сильно стукнул по столу опорожненною им стопой, что доски едва не развалились.
– За латынь латынью, – сказал, улыбаясь, Маржерет:
Si latet in vino verum, ut proverbia dicunt, Invenit verum Teuto, vel inveniet(т. е. если справедливо, что истина в вине, как говорит пословица, то немцы, верно, нашли ее или вскоре найдут).
– Браво, Маржерет, браво, ты еще и поэт! – воскликнул Кнутсен. – Но если бы мы нашли двадцать раз истину, то она здесь померкнет. Черт их всех побери! Не знаешь, куда обратиться. Вчера все изгибались перед Годуновыми и проклинали Димитрия как самозванца; сегодня клянут память Годуновых и величают Димитрия царем, избавителем, благодетелем! Сам не знаешь, чему верить!
– Верить тому, что кажется вероятным и чему все верят, – сказал Маржерет. – Согласитесь, господа, трудно подумать, чтоб беглый чернец был так образован, ловок в обхождении, искусен в воинском деле. Он совершенно очаровал меня, этот Димитрий. Какие приемы, какая вежливость! Жаль одного: он целым веком родился ранее для России. Его здесь не постигнут, и все его поступки станут перетолковывать в дурную сторону. Я это испытал на себе. Лишь только кто немного отступит от московских обычаев, то и беда: тотчас прозовут нехристем, бусурманом, богоотступником.
– Приметил ли ты, Маржерет, – сказал Шварцгоф, – как косо посматривали русские, когда Димитрий похвалил меня, поцеловал и положил руку на грудь мою, узнав, что я держал знамя в Добрынской битве? Помните ли, с каким чувством он сказал нам: "Будьте для меня то же, что были для Годунова: я верю вам более, нежели своим русским!"
– Признаюсь, что этот поступок Димитрия показался мне легкомысленным, – сказал Маржерет.
– Это еще половина беды, что русские смотрели на нас косо, – примолвил Фирстенберг, – но они на самого Димитрия смотрели так, как будто хотели его проглотить вместе с нами.
– Мне кажется, что бояре и духовенство не любят его; я не дам стакана воды за их верность к нему, – сказал Клот фон Юргенсбург.
– Русские верны царям своим, в том нет сомнения, – сказал Маржерет. – Самые убедительные опыты этой верности мы видели в царствование Иоанна Грозного. Но, кажется, бояре не верят вполне, что Димитрий истинный царевич. Они не могут привыкнуть видеть в царе иноземные обычаи и обхождение. Им хотелось бы, чтобы он к ним явился настоящим русаком, таким же угрюмым, как они сами; они не рассуждают, что, если б Димитрий был даже самозванец, беглый монах, знающий все обычаи русские, то и тогда ему надлежало бы притворяться приверженцем иностранных обыкновений потому именно, что, по его же словам, он спасен иностранцем доктором Симоном и воспитан в Польше.
– Любезный друг! – возразил Фирстенберг, – оскорбленное народное самолюбие не рассуждает. Предпочтение чужеземных обыкновений своим значит предпочтение чужой земли своей. А это им не нравится.
– Правда, – примолвил Маржерет.
– Признаюсь, господа, что я опасаюсь какого-нибудь злого умысла со стороны бояр, – сказал Клот фон Юргенсбург.
– Полно, братец, ты уже слишком подозрителен, – возразил Маржерет, – войско предано Димитрию, народ вопит в Москве в его пользу; мы, поляки и запорожцы служим его лицу, а не царству Московскому. Нет! он слишком силен, чтоб бояре могли что-либо задумать против него.
– Об нас ни слова, – сказал Фирстенберг. – Мы умрем верными своей клятве и долгу. Но я говорил с польскими панами, и они сами беспокоятся насчет своего войска, которое состоит по большей части из легкомысленных искателей приключений. Вчера еще благородный и умный князь Вишневецкий говорил мне, что он намерен послать к королю просьбу о присылке нескольких регулярных полков для введения дисциплины в здешнем польском войске. Войско без дисциплины – тяжесть для страны, язва! Я боюсь, чтоб пребывание наше в Москве не наделало нам хлопот. Димитрий не имеет ни силы, ни воли, как кажется, чтоб удержать в порядке всю эту сволочь. Запорожцы служат не Димитрию, а своим выгодам. Русское войско верно царской крови; но пусть оно только усомнится в истине царского происхождения Димитрия – и тогда я не отвечаю за него так же, как и за московскую чернь, которая, как всякая чернь, жаждет только новостей. Нет, господа! Димитрий еще не так силен, как вы думаете. Только мы, мы одни умрем при знамени нашем за нашего вождя и не изменим клятве.
– Здоровье царя Димитрия, – сказал Клот фон Юр-генсбург, взяв огромную кружку в руки, – что будет, то будет, а пока не надобно унывать. Пей, Маржерет!
– Ты только рад придраться к чему-нибудь, чтоб выпить, – отвечал Маржерет, – в радости или в горе ты все прибегаешь к одному средству!
Русский боярин слышал весь этот разговор, стоя за повозками, к которым прикреплен был навес. Ганко между тем занимал разговорами слуг немецких офицеров.
– Довольно! – сказал боярин цыгану, – пойдем далее; здесь я услышал более, нежели надеялся! Пойдем скорее к запорожцам.
* * *
Русский стан оставался у них вправе. Между шалашами изредка видны были белые палатки воевод, полковников и богатых дворян. В стане было шумно и весело. Перед одною палаткою собраны были в кружок песенники. Звуки неслись далеко, и сердце боярина забилось сильнее при народном напеве. Он велел цыгану идти ближнею к стану тропинкою. Когда они поравнялись с палаткою, возле которой пели хором, боярин остановился, чтоб послушать песни. Он услышал следующие слова:
Закатилося солнце красное, Прилегли к земле светлы цветики; Стосковалися сердца русские По отце родном, по царе своем. Ах, покинул нас православный царь! На чужбине он думу думает: По святой Руси он кручинится И о детках он беспокоится. Взошло солнышко, мрак рассеялся, Заблистали вновь красны цветики. И вот царь-отец возвращается, Вот он детками утешается! Разыгралися сердца верные. Веселятся вновь люди русские!Боярин утер слезы.
– О Боже! – воскликнул он, – сохрани добрый наш народ от всякого заблуждения, от всякой чужеземной ереси! Как он счастлив в простоте своей, в своей вере, в своей привязанности к царской крови! Теперь, когда иноземцы взвешивают на весах своекорыстия будущую судьбу России, наши добрые ратники поют хвалу новому царю, величая не Димитрия, а кровь царскую, кровь Рюрикову! Ганко! пойдем, пойдем скорее. Сердце мое раздирается: мне горько, очень горько! О, Россия! о, моя родимая!
* * *
Стан запорожцев был укреплен, по их обычаю, повозками и представлял огромный четвероугольник с отверстием с каждой стороны. При каждом входе стояла пешая стража, а кругом расставлены были часовые. Стража остановила боярина.
– Кто вы, откуда и зачем так поздно? – сказал есаул. – Нам не велено впускать в стан никого, разве кто имеет дело к самому наказному атаману.
Боярин, видя, что невозможно проникнуть в стан под именем купца, тотчас переменил свой умысел и, опасаясь подать подозрения, отвечал:
– Я послан от боярина Вельского к атаману; иду прямо из села Коломенского.
– А этот черномазый карло кто таков? – спросил есаул, показывая на Ганко.
– Это мой служитель, – отвечал боярин.
– Грицко! – сказал есаул десятнику, – проводи этих москалей к вельможному пану атаману.
Запорожцы лежали вокруг огней поблизости своих телег, к которым привязаны были их лошади. Глухой гул раздавался в стане, но не слышно было ни криков, ни песен. Посредине стана раскинута была палатка атаманская, там стоял его обоз с сокровищами и казною войсковою. Возле огня на отрубке дерева сидел высокий худощавый бледный воин в высокой черной бараньей шапке, окутанный буркою. Длинные усы его висели до груди, и он, разглаживая их медленно, посматривал исподлобья на своих есаулов, из коих некоторые стояли, а другие сидели вокруг огня и, казалось, заняты были совещанием о делах общественных. Бритые головы с одною прядью волос на маковке, длинные усы придавали их лицам зверский вид. У некоторых за поясом были пистолеты, кинжалы и на бедре кривая сабля. Русский боярин, окинув взором собрание, почувствовал в душе неприятное впечатление. Это полудикое войско казалось ему стадом хищных зверей, готовых при первом случае терзать несчастную Россию. Но, скрепив сердце, он поклонился атаману.
– Что вы за люди? – воскликнул наказный атаман Головня, устремив проницательный взор на пришельцев.
– Я послан к тебе от боярина Вельского с поклоном и спросом.
– За поклон откланиваюсь, – отвечал атаман, – а за делом и самому боярину впору было бы ко мне явиться.
– Он нездоров.
– Так прислал двоих за одного, – возразил атаман с насмешкою, – видно, тяжеловесный боярин.
– Лета и заслуги боярина Вельского извиняют его.
– Летами измеряют достоинство вина, а не человека; заслугами же нам меряться теперь некстати. Заслуги наши начинаются с пришествия царя Димитрия в Россию.
– Вельский служил верно отцу Димитрия и ему теперь полезен, но я не затем пришел, чтоб выхвалять его службу.
– Чего же хочет от меня твой боярин? – спросил атаман.
– Может быть, тебе не понравится, если я стану говорить перед свидетелями.
– У меня нет никаких тайн с боярскими посланцами, – сказал атаман, нахмурив брови. – Говори! Что знаю я, то должны знать и мои товарищи.
– Бояре удивляются, что ты с войском своим не хочешь вступить в Москву, а желаешь остаться под Москвою в стане. Они просят тебя назначить для себя какую угодно часть города. Народ московский будет в опасении, когда ты вздумаешь стоять станом под его стенами, как во время войны или смуты.
– Не за свое дело взялись бояре, – сказал, усмехаясь, атаман. – Я уже переговорил об этом с самим царем. Я, брат, знаю ваших бояр. Ступай к пославшему тебя и скажи, что наказный атаман войска его королевской милости Запорожского делает то, что угодно ему, а не боярам московским, и что на Запорожье не слушаются боярской Думы. Мы пришли в Россию как союзники! Запорожье не область русская!
– Побей бес всех ваших бояр и боярчонков! – воскликнул есаул Проскура. – Мы не знаем никого, кроме царя и своих бунчуков. Мы сослужили службу царю Московскому по добру, по охоте и пришли сюда за наградою. Пусть ляхи и немцы веселятся на Москве, для нас одно веселье на Запорожье, в куренях наших. Нам кто платит, тому мы и служим. Наш кошевой атаман знает, что делать должно, а ты убирайся к черту с своими боярами!
Запорожцы развеселились.
– Скажи-ка боярам, – сказал один из них, – что мы пошили новые мошны на московские рубли и хотим запастись на зиму соболями!
– Да не забудь, – примолвил другой, – что наши молодцы строят новые слободы на Днепре для боярских дочек. – Раздался хохот в толпе, и боярин поспешно удалился. Когда он вышел из стана, Ганко сказал:
– Вот этих удальцов нельзя упрекнуть в притворстве.
– Да, нечего сказать, – отвечал боярин, – здесь коротко и ясно. Славных слуг набрал Димитрий! Если он думает расплатиться со всеми Москвою и боярскою казною, то не на радость пришел он к нам. Одному Богу ведомо, чем все это кончится.
– Не пойдем ли к донцам? – спросил Ганко. – Они стоят по ту сторону села; не далеко ли?
– Зачем ходить к ним, – отвечал боярин. – они душою и телом преданы Димитрию. Знаем мы их! Пойдем обратно в село Коломенское. Там уже ждут меня.
* * *
На высоком берегу Москвы-реки, в селе Коломенском возвышается храм Вознесения Господня в виде пирамиды. Стража расположена была на западной стороне ограды. Лжедимитрий с секретарем своим Яном Бучинским и иезуитом патером Савицким прохаживался в ограде и, наконец, сел на каменную скамью у восточной стены храма. Бучинский и патер Савицкий стояли пред ним в безмолвии. Долго Лжедимитрий смотрел на огни в стане и с удовольствием прислушивался к смешанному гулу, который разносился ветром по окрестностям. Тысячи разных мыслей теснились в его голове. Различные чувствования волновали его сердце.
– Бучинский! – сказал Лжедимитрий, – завтра самый решительный день в моей жизни. Завтра моя нога коснется ступеней трона обширного Русского царства, трона, с которым сопряжена участь стольких миллионов людей!
– И целого христианства, – примолвил патер Савицкий. – Государь, – продолжал он, – наконец ты держишь длинный конец рычага, которым можешь поколебать целую Европу, снискать славу бессмертную в сей жизни и награду в будущей. Разделение церкви на восточную и западную посеяло раздоры между детьми одной матери, ослабило всех и было причиною падения Восточной империи и утверждения могущества поклонников Магомета, угрожающих ныне всему христианству. От тебя зависит теперь благо целого мира! Если ты исполнишь обет свой, данный папе, королю Сигизмунду и нам, и присоединишь Россию к западной иерархии, тогда по твоему мановению вся Европа восстанет противу неверных, и ты будешь Соломоном между царями, Иисусом Навином между полководцами. Какая блистательная участь! Престол Восточной империи назначен папою избавителю христианства, и ты будешь первым государем в мире, затмишь славу всех римских императоров, восстановив падшую империю!
Лжедимитрий вскочил с радости: льстивые слова иезуита, возжигая его суетность и самолюбие, подействовали на его предприимчиый ум, в котором уже бродили мечты о завоеваниях.
– Так! – воскликнул он, – восторжествовав над Россиею, восторжествую над целым миром! С моими русскими воинами я пройду в конец света. О, вы не знаете их, не знаете! Они не сражались с вами, господа союзники мои, потому что в моих руках было чудесное таинство. По одному слову города падали пред нами, как Иерихон от звука трубного. Вы побеждали именем царевича Димитрия, потомка Рюрикова! Когда же я сам стану на челе моих полчищ, тогда от удара моего меча поколеблется целая Европа, и Турецкая империя падет, как башня с шаткого основания. Но соединение церквей не так легко, как вы предполагаете, отцы иезуиты. Россия – краеугольный камень православия. Русские не изменят вере отцов своих ни от страха, ни от ласкательства. Я даже не надеюсь…
– Предоставь это нам, – сказал иезуит. – Позволь только завесть в России наши коллегиумы, школы и церкви. Увидишь, что дети и жены станут убеждать в нашу пользу отцов и супругов. Мы не требуем, чтоб ты принуждал своих подданных; не требуем даже, чтобы ты помогал нам, а просим только, чтоб не мешал.
– Делайте что хотите, – отвечал Лжедимитрий, – я умываю руки!
Патер Савицкий не хотел продолжать разговора: он поклонился и сказал, что идет молиться за царя, пошел во дворец, в свою комнату, оставив Лжедимитрия с Бучинским.
Лишь только иезуит скрылся из виду, Лжедимитрий бросился в объятия Бучинского и оросил лицо его своими слезами:
– Друг мой! – воскликнул Лжедимитрий, – свершилось: я царь Московский! Ты видел меня нищего, бесприютного, преследуемого, осужденного на позорную казнь; видел в опасностях, в боях, среди тысячи смертей; видел среди изменников, между ядом и кинжалом, но всегда находил меня твердым и неустрашимым. Теперь же, когда я достиг цели моих желаний, когда Москва сложила у ног моих корону Русского царства, когда многочисленное войско повинуется моей воле и народ русский ждет меня в столице как избавителя, теперь робость овладела моим сердцем. Не знаю, что со мною делается. Я не могу заглушить внутреннего голоса, который вопит из глубины души моей и нашептывает мне что-то ужасное, припоминает обо всех опасностях величия. Я не могу оставаться один! Истребленный род Годунова тревожит мое воображение. Странно, непостижимо! С первой минуты моего замысла овладеть престолом я знал, что это нельзя исполнить, не предав Годуновых на произвол судьбы! Пять лет питал я сию мысль; кажется, освоился с нею, а теперь, когда усердные мои слуги, впрочем, без моего повеления, избавили Россию от похитителей, тоска гложет мое сердце. Не могу подумать без ужаса! Не думаю, чтоб этим кончилось. Еще есть в России приверженцы Годуновых. Еще надобно будет жертв, еще надобно крови! Бучинский! Легче сражаться за корону, чем носить ее. Как ты думаешь о моих боярах?
– Все они кажутся мне слишком подозрительными.
– Неужели и Вельский, и Басманов, и Шуйский? Вспомни, что князю Василию Шуйскому я обязан свидетельством о деле Углицком, Вельскому – низвержением с престола Феодора, а Басманову – всем: войском, Россиею! Нет, Бучинский, ты слишком несправедливо судишь о моих боярах!
– Басманову я готов верить, другим нет, – отвечал Бучинский.
– Напрасно, напрасно! – возразил Лжедимитрий.
– Ненависть бояр к Годунову и любовь народа к древней царской крови отдали тебе Россию, – сказал Бучинский. – Но я думаю, что между этими гордыми боярами есть много таких, которые мечтают занять место счастливого Годунова по смерти бездетного государя, которого судьба некоторым образом в руках народа, потому что возобновление сомнений о твоем рождении может разрушить то, что создано уверенностью. Беда, горе царству, где каждый подданный может мечтать о достижении верховной власти! Будь осторожен, государь!
– Пустое, друг! пустое: войско мне предано.
– Кроме стрельцов ты не имеешь постоянного войска, – возразил Бучинский. – На стрельцов я отнюдь не надеюсь; запорожцев сам не советую держать в Москве; верных донцов у тебя мало; иноземцев ты не можешь держать много; итак, вся сила твоя – мнение народное, которым трудно управлять без верных, умных, преданных помощников. Государь! повторяю, будь осторожен. Мне не нравится излишняя твоя доверенность к иезуитам. Я хотя католик, но не люблю их, ибо дело пастыря церкви, по моему мнению, заниматься спасением души, постом и молитвою, а не политикою. Иезуиты советами своими лишили короля Сигизмунда любви народной и посеяли в Польше раздор за веру. Боюсь, чтоб они не сделали того же в твоем государстве. Когда ты был в Польше, тогда надлежало ласкать их, но теперь советую как можно более от них отдаляться. Бояр должно ласкать, но не слишком доверять им, пока они не докажут своей преданности на деле…
– Довольно, Бучинский, довольно: ты смущаешь меня напрасно; впрочем, время покажет, что должно делать. Теперь надобно помышлять о торжествах, а не питать себя подозрениями. Надобно усыпить Россию веселием, празднествами. Но уже начинает светать – пойдем в комнаты. Я вовсе не спал в эту ночь, а теперь имею нужду во всех моих силах. Я весь измучен от дневных представлений и бессонницы.
В воротах ограды встретил Лжедимитрия князь Василий Иванович Шуйский. Он низко поклонился и сказал:
– Государь, я искал тебя с донесением, что ликующий народ в Москве целую ночь провел, толпясь по улицам, прославляя тебя, государь, и радуясь твоему пришествию. В стане все воины русские, казаки, иноземцы горят желанием умереть за тебя. Мы, верные твои бояре, головами своими, женами и детьми рады жертвовать для твоего блага. Обрадуй сегодня твою отчину, Москву престольную. Войско и народ жаждут видеть тебя на престоле; бояре и духовенство ожидают сего часа, как своего спасения! – Шуйский вторично поклонился.
– Веришь ли теперь? – скзал Лжедимитрий по-латыни, гордо посмотрев на Бучинского.
– Убеждение входит в сердце мое не ушами, а рассудком, – хладнокровно отвечал Бучинский.
Лесть изгнала все черные мысли из головы Лжедимитрия, и самолюбие заглушило все другие ощущения. Он снова развеселился и, ударив Бучинского по плечу, примолвил, улыбаясь:
– Раскаешься, Фома неверующий! – Потом, обратясь к князю Шуйскому, сказал: – Склоняюсь на желание моего верного народа: сего же дня отправлюсь в мою столицу и буду обедать в Кремлевских моих палатах.
* * *
С первыми лучами солнца раздался звук колоколов в Москве, и весь народ устремился за город встречать царя. Трубачи, литаврщики и музыканты открывали шествие; за ними шла польская дружина охотников, потом полки русские и духовенство со крестами. Царь, в богатой одежде, в алмазном ожерелье, в длинном красном бархатном плаще, подбитом белою шелковою тканью, в красной бархатной шапке польского покроя с алмазным пером сидел ловко на карем аргамаке, который прыгал под всадником. Шестьдесят русских бояр в златой одежде и военачальники польские в богатых кунтушах, любимой одежде царя, следовали за царем на конях. За ними шла дружина крылатых польских латников, или гусар; потом немецкая дружина, а шествие замыкали казаки и стрельцы. Выборные от Москвы бояре, дьяки и первостепенные гости ожидали царя перед заставою в стороне от дороги с хлебом и солью. Лишь только новый царь завидел их, тотчас поскакал к ним с польскими военачальниками и телохранителями из крылатых латников. Боярин князь Федор Иванович Мстиславский поклонился в пояс и, поднеся хлеб-соль на золотом блюде, сказал:
– Здравствуй, отец наш государь и великий князь Димитрий Иванович, спасенный Богом для нашего благоденствия! Сияй и красуйся, солнце России!
Лжедимитрий велел спешиться Меховецкому и взять хлеб-соль. Выборным он отвечал:
– Клянусь пред Богом и народом быть отцом России. Забываю все прошедшее, прощаю всех и буду жить только для счастья вашего. – Сказав сие, Димитрий возвратился на свое место. Между тем народ оглашал воздух восклицаниями: "Да здравствует наш отец родной, наше красное солнышко, наш царь-государь Димитрий Иванович, многия лета!"
ГЛАВА V
Мнение народное о счастливце. Кабинет царя Бориса. Сокровищница. Притча шута. Новая дума и вельможи двора. Дела царствования. Несчастная жертва.
На Красной площади пылали костры; в разных местах стояли бочки с пивом. На столах лежали мяса жареные и вареные, калачи, сайки, перепечи. Народ пил, ел, веселился и славил нового царя. Всего было вдоволь, и дворцовые слуги беспрестанно перевозили с Сытного двора на площадь напитки и съестное. В одном месте пели песни, в другом забавлялись борьбою и кулачным боем; там, собравшись в кружок, толковали о необыкновенных современных происшествиях и рассказывали слышанное. В начале сего народного пиршества трудно было пробраться к бочкам и столам с съестным, но после вокруг их было просторно. Пресыщенные вином, граждане лежали кучами; другие едва держались на ногах, кричали во все горло. Часто среди шума и крика слышны были восклицания: «Да здравствует царь-государь Димитрий Иванович!»
Купец. Ну, уж царь! Дай, Господи, ему здоровья! Видно, что любит своих деток; видно, что жалует нашу Москву-матушку. Пир на весь мир!
Старик. Да какой царь ласковый, какой приветливый! Кланяется на все стороны и на всех смотрит, как отец родной на детушек. Слава-те господи, дожили до законного царства!
Ратник. А какой молодец! Как он сидит на коне, как умеет поворачивать дружиной; как гаркнет да махнет саблей, так и хочется броситься вперед, в драку, хоть с самим чертом, прости Господи!
Стрелец. А видал ли ты его в бою?
Ратник. Нет.
Стрелец. Вот то-то! Под Трубчевском мы уже совсем было разбили и рассеяли его малое войско, а он высунулся вперед на коне, сотворил молитву, крикнул на своих, да как бросится на целое наше войско с сотней своих конных, так мы и свету Божьего не взвидели! Да нет и мудреного. Ведь за ним и святые угодники. Сказывают, что воеводы наши видели на небе два огненные меча накрест и что святой Георгий Победоносец в золотых латах скакал на белом коне перед дружиной царя Димитрия, и как махнет копьем, так и обдает наше войско страхом. Наши побежали, как зайцы перед охотниками…
Старик. Велика сила твоя, Господи!
Церковник. Много было всяких чудес, а первое чудо то, что царь спасся от убиения, от злобы нашего ирода Годунова. Да, за кем Бог, за тем и люди. Но ведь чем стращали народ, чтоб не служить Димитрию: и проклинали-то его, и воевали-то с ним, а как пришла воля Божия, так вот он и на царстве!
Старик. А Годуновы в сырой земле…
Церковник. Всякому за свое!.. Все Божие и все от Господа!
Чернец. "Велия слава его спасением твоим: славу и велелепие возложишь на него!" (102)
Ямщик. Сказывают, что, как только царь Димитрий Иванович ступил на русскую землю, так она задрожала под ним и расступилась, а на небе было сперва гром, а потом пение, царь остался невредим, а земля-то приняла Годуновых!
Старик. Ведь и давеча, как царь вступил в Москву с войском, поднялись вихорь и метель (103), так, что войско должно было остановиться. Многие испугались и не предвещают доброго. Да, видно, всякое чудо за ним, а не против него.
Церковник. Правда! Я слышал, как письменные люди толковали это. Они говорят, что так пометет он всех врагов своих.
Стрелец и ратник (вместе). Дай Бог, дай Бог!
Чернец. Сила и милость Господа видна в том, что он возвел его на царство: так нечего и беспокоиться.
Десятник даточной пехоты. Говорят, что в бою закрывало его облако. Сказывают также, что покойный царь Годунов хотел опоить его ядом в Путивле и подослал для этого дела двух чернецов (104). У одного из них яд был спрятан в сапоге, а как царь Димитрий сотворил молитву, так вдруг из сапога вылез змей, рассказал весь умысел и провалился сквозь землю. Это говорят те, которые были с царем в Путивле. А он, спаси его Господи, простил своим злодеям!
Сиделец. Нам сказывал казак, что какой-то дворянин, подкупленный Годуновым, хотел зарезать его в Польше. Царь Димитрий перекрестился, нож выскочил из рук убийцы и ему же воткнулся в сердце.
Чернец. Господь, видимо, хранит царское племя.
Стрелец. Да, наш Димитрий Иванович и стоит того, чтоб Бог и люди хранили его.
Купец. Уж с ним-то заживем в Москве припеваючи! Все говорят, что такого доброго царя не было да и не будет.
Стрелец. Лишь только он взял казну Годунова в Чернигове, тотчас роздал войску: "Мне ничего не надобно, детки, – сказал царь. – Все ваше! Были бы вы сыты да веселы, так я буду счастлив. Ведь Россия – моя родная!"
Выборной из Красного села. Как мы подносили ему хлеб-соль, так он сказал нам: "Много брал с вас Годунов всяких податей, а я всех пожалую и помилую. Пусть будет богат народ мой, а мне Бог даст!"
Чернец. Вчера еще он отдал в Успенский собор все иконы Годуновых, во все монастыри послал подарки и деньги на братскую трапезу.
Старец. Царское сердце!
Дворцовый истопник. Как созвал сегодня бояр на пир, так прежде всего спросил у боярина Вельского: "Есть ли угощение для моего народа? Пусть веселится народ, – примолвил царь, – без его радости и нам нет веселья!"
Стрелец. Дай Бог ему здоровья!
Истопник. Такой милостивец, что, на кого взглянет, как солнышком согреет, а кому слово молвит, как медом попотчевает.
Чернец. А как он грустил, родимый, как плакал в церкви архистратига Михаила, преклонясь на гроб отца своего, покойного государя Иван Васильевича! Сердце раздиралось, смотря на него! Я сам слышал, как он сказал: "О, родитель любезный! Ты оставил меня в сиротстве и гонении; но святыми молитвами твоими я цел и державствую!" (105). Все бывшие в церкви так и зарыдали, а народ воскликнул: "То истинный Димитрий!"
Старец. Да уже как не стало Годуновых, так некому и лгать, что он не истинный царевич. Кому это лучше знать, как не боярину Богдану Яковлевичу Вельскому. Ведь он вырос и состарелся в царских палатах, был в большой милости у покойного царя Ивана Васильевича, был пестуном детей царских и знает все тайное, что делалось в палатах. А боярин Вельский всенародно на Лобном месте снял с груди образ Николая Чудотворца, поцеловал его и клялся, что новый царь есть истинный сын Иоаннов, спасенный и данный нам Николаем Чудотворцем, убеждал со слезами любить того, кто возлюблен Богом, и служить ему верно. (106). Ну как бы осмелился такой знаменитый боярин лжесвидетельствовать пред народом и губить душу свою?
Стрелец. Да кто посмеет теперь усомниться? Скажи слово – так мы тотчас сорвем голову, как маковку!
Ратник. Смерть всякому злодею!
Ямщик. Разорвем на части!
Стрелец. Подай-ка сюда ведро с медом, Васька! Вот и ковш! (Пьет.) За здоровье царя Димитрия Ивановича! Ура!
Все. Да здравствует царь наш Димитрий Иванович! Ура!
* * *
После пышного пиршества в Золотой палате бояре разошлись по домам, чтоб отдохнуть по обычаю, а Лжедимитрий остался во дворце с приближенными своими поляками, иезуитами и чужеземными телохранителями. Из русских был при нем один Петр Федорович Басманов, который из приверженности к царю отказался от всех русских обычаев. Лжедимитрий велел следовать за собою Басманову, Меховецкому, Бучинскому, иезуиту Савицкому и капитану своих драбантов Маржерету и пошел в рабочую палату царя Бориса, которая оставалась запертою со дня свержения Феодора с престола.
Вошед в палату, Лжедимитрий остановился посредине и, осмотревшись кругом, задумался и склонил голову.
– За пять лет пред сим я видел здесь того, пред кем трепетала целая Россия! – сказал он. – Будучи тогда бесприютным сиротою, изгнанником, скрываясь от злобы Бориса в монашеской одежде, с трепетом предстал я пред могущественного врага, которого почитал непобедимым, и возродился мужеством, увидев слабость его в часы внутренней скорби. О, если б эти стены могли говорить, они поведали бы много истин… – Лжедимитрий, помолчав немного, продолжал: – Друзья мои! прошу вас, припоминайте мне часто, что я человек!.. Борис, Борис! Ты уповал на силу твою – она сокрушилась, как паутина от дуновения ветра… Грустно сильному на развалинах силы и могущества!
– Государь! – сказал иезуит Савицкий. – Рассей мрачные твои мысли воспоминанием, что ты ведом самим Богом к могуществу для благоденствия человечества. Борис был похититель престола, думавший единственно о земном величии, а ты государь законный; ты рожден для спасения душ твоих подданных. Как тебе равняться с Годуновым?
Лжедимитрий улыбнулся принужденно и прервал речь иезуита, сказав:
– Мы рассчитались уже с Борисом. Довольно! Займемся теперь делом. Осмотрим все, что здесь находится. Ливонский пастор Бер сказал, что Борис жил как лев, царствовал как лисица, умер как пес (107). Посмотрим, не осталось ли здесь лисьего хвоста и львиных когтей? Все, чем пользовался Борис, поучительно для царя. – Подошед к шкафу с книгами, Лжедимитрий отпер его и, обратясь к иезуиту и полякам, сказал: – Мы, русские, еще бедны произведениями ума человеческого. Только при отце моем завелось в России книгопечатание, и немногие из моих земляков знают книжное дело. Я, верно, не из последних книжников в моем государстве, – примолвил он с гордою улыбкой, – и знаю книжное дело не хуже Бориса. Все, что вижу здесь: мне известно. Вот первая русская печатная книга "Апостол"; она вышла в свет в 1564 году. Любезный Басманов! много надобно нам трудиться, чтоб разогнать мрак суеверия и предрассудков в нашем народе. Представьте себе, господа, что наши первые русские типографщики, голстунский диакон Иван Федоров и жилец московский Петр Мстиславцев, должны были бежать из Москвы, опасаясь быть растерзанными народом, почитавшим их волшебниками! Они удалились в Острог, к князю Константину Константиновичу, и вот плоды их трудов: "Новый Завет" и вся "Библия" на славянском языке, напечатанные в 1580 и 1581 годах. Это также труды московской книгопечатни "Псалтырь", две "Триоди", "Октоих", "Минея общая" и "Служебник" патриарха Иова издания 1577 года. Я сам трудился для патриарха, сочиняя каноны святым, но, как вижу, они еще не напечатаны. О, я много работал, господа, и недаром носил монашескую рясу! Вообще наши иноки усердно трудились. Видите ли этот разряд рукописей: это "Степенные книги", или летописи, собранные и дополненные знаменитым московским митрополитом Макарием – от Рюрика до отца моего. Вообще все, что сделано для просвещения, сделано нашими добрыми иноками. Из них Нестор есть отец нашей истории. Вот поучения святых отцов: "Послание к великому князю Владимиру Мономаху" киевского митрополита Никифора, "Двенадцать правил о церковных делах и об исправлении духовенства" митрополита Кирилла и его красноречивые "Речи"; "Житие митрополита Петра" и "Слово прощальное" митрополита Киприана; "Поучение князьям и боярам" митрополита Фотия. Вот знаменитый перевод Димитрия Зоографа греческой поэмы "Миротворение" Георгия Писида, а вот "История безбожного царя Мамая", сочиненная рязанским иереем Софронием. Некогда я изучал эти сочинения и списывал их для польских монастырей. Но вот вещь, которую мне давно хотелось иметь: "Поучение детям великого князя Владимира Мономаха". Памятники мудрости государей драгоценны для потомков. Вот славный "Печерский Патерик", сочиненный епископом Симоном и иноком Поликарпом (108). Я некогда собирался писать продолжение по воле епископа Туровского. Для духовной жизни у нас есть еще пища, но для светской – голод! Надобно начинать, и лет чрез сто будут и у нас поэты и прозаики, как и у вас, господа поляки. Подождите, мы скоро сравняемся с вами: русские ко всему способны; только надобно, чтоб цари хотели просвещения!
– Государь! будет тебе не только много труда, но и много огорчений, если ты пожелаешь просветить твой народ. Даже отец твой и Борис не могли преодолеть преград, полагаемых не столько суеверием и невежеством народа, сколько злоумышлением. Гордые боярские роды не хотят, чтоб народ просвещался, опасаясь, чтоб цари не стали выбирать слуг по уму и по знаниям, а не по рождению. К тому же при общем невежестве лучше ловить добычу, как зверям в темной дебри.
– Знаю я это и облеку тьмою друзей тьмы! – возразил царь.
– Тебе надобно будет все создавать, государь, если ты захочешь вводить просвещение, – сказал Меховецкий.
– Займем свет у соседей, как занимают огня. Чрез это никто ничего не теряет, а все согреваются и освещаются! – отвечал царь.
– Вот все, что ты имеешь, государь, для познания России и государственного управления! – сказал Басманов, указывая на рукописи, переплетенные в пергамент с надписями. – Вот "Судебник" отца твоего, "Правда русская" великого князя Ярослава; "Книга большого чертежа", составленная при брате твоем Феодоре, но по повелению Бориса. Здесь исчислены города, реки российские с показанием расстояния мест. Вот "Измерение и перепись земель" от 1587 до 1594 года, а вот и серебряный кивот, где помещается самый "Чертеж". Когда Борис хотел заставить меня воевать противу тебя, государя законного, то он много раз беседовал со мною и на этом чертеже указывал пути от Путивля до Москвы. Этот чертеж составлен немцем Герардом для Феодора, сына Борисова. Это первый чертеж в России, и еще немногие у нас могут понимать его.
– Надобно его поверить и исправить, – возразил царь. – Я вижу две математические рукописи: "Книга, именуемая геометриею, или Землемерие радиксом и циркулем", а это "Книга, рекомая по-гречески арифметика, а по-немецки алгоризма, а по-русски цыфирная счетная мудрость". Следовательно, Борис имел русских людей, знающих землемерие?
– Есть человека два, – отвечал Басманов. – Это наука введена еще отцом твоим, государь. Вот дела его же царствования: книги о сошном и вытном письме и книги писцовые. Кое-что у нас начато для измерения государства, для узнания его силы и средств. Но это одни слабые начала.
– В этом шкафе все дела львиные, – сказал, улыбаясь, царь, – но вот и лисья нора. Отопри-ка этот ящик, Басманов. Надпись на нем "Дела тайные" показывает что-то не-s обыкновенное.
Басманов отпер ящик и стал вынимать бумаги и книги, которые принимали Меховецкий и Бучинский, а царь бегло" просматривал.
– Вот "Следствие Углицкое", государь! – сказал Басманов, подавая толстую связку бумаг. Лжедимитрий громко захохотал.
– Годунов назвал повесть о моем избавлении сказкою, – примолвил он. – Вот теперь и его творение поступило в число сказок! – Лжедимитрий вдруг принял пасмурный вид и сказал: – Жаль мне только безвинных, которые претерпели мучения при допросах. Но что делать? Басманов, припрячь это дело: мы на досуге напишем возражение и сохраним для потомства.
– "Тайная цыфирь, или Новая азбука для письма вязью"! – сказал Басманов, подавая свиток.
– Видишь ли, Меховецкий, что и мы не новички в делах политики. Эту часть разумел Борис; нам надобно учиться у него. Возьми это к себе, господин канцлер.
– "Астрономия и Алхимия" английского мудреца Джона Ди, переведенная в Посольском приказе для царя Бориса, – сказал Басманов, подавая большую толстую книгу.
– Патер Савицкий! Это по вашей части, – примолвил царь, подавая книгу иезуиту. – Кажется, что Годунов не искал золота в горнилах алхимических, подобно нашему приятелю Сигизмунду, – примолвил царь. – Борис нашел вернейшее средство наполнять свои мешки золотом, а именно опалою. Это средство было его алхимией. Но, неуверенный в прочности настоящего, Годунов беспрестанно старался проникнуть в будущее гаданиями, астрологией и всем, чем только надеялся достигнуть своей цели. Поверите ли, господа, что он предлагал этому математику, Джону Ди, тысячу рублей годового жалования с царским содержанием, чтоб он поселился в России (109). К чести науки, Ди, видно, предузнал судьбу Бориса и отказался. Что далее, Басманов?
– Вот знаменитая "Черная книга" (110) Годунова, в которую вписаны все подозрительные и беспокойные люди, – сказал Басманов.
– Подозрительные люди – льстецы, а беспокойные – именно те, которых менее всего должно опасаться, – сказал Бучинский. – Ты знаешь, государь, правило: кто ласкается, тот или обманул, или обмануть хочет. Кто ж много болтает, бранит и ропщет, тот не опасен, по пословице: "Собака, которая лает издали, не укусит". Истинно подозрительные и беспокойные люди не так легко открываются и так поступают, что их ловят на деле, а не на умысле. В этих случаях обыкновенно бывает так: оставляют в покое поджигателей, а преследуют тех, которые бьют в набат на пожар. Вели сжечь это, государь! Напрасно будешь смущать себя.
– А я иначе думаю об этом! – примолвил патер Савицкий.
Лжедимитрий взял книгу и, перевертывая листы, сказал:
– Отметки написаны рукою Бориса перед каждым именем. Перед одним: не давать ходу; перед другим: держать в почетной ссылке; перед третьим: погубить при случае: перед четвертым: держать в черном теле. Нет, это не львиные дела Годунова. Позволяю тебе сжечь это, Бучинский!
– Жаль! – сказал патер Савицкий.
– Список тайных верных слуг, – сказал Басманов.
– Всех этих молодцев за ворота! – примолвил царь. – Басманов, выгони их всех из Москвы. Мне не надобно слуг Годунова, и притом еще тайных.
– Все они будут так же усердно служить тебе, государь, как и Годунову! – отвечал с улыбкою Басманов. – Эти люди, как собаки в доме: кто их кормит, тому они и служат.
– А если кто даст более корму, так растерзают прежнего господина, – возразил Лжедимитрий. – Знаю я этих верных слуг! Вон их, за город!
– Дельно! – воскликнул Меховецкий.
– Напрасно! – примолвил патер Савицкий. – Их можно было бы употребить с пользою.
– Вот, государь, то орудие, которым Годунов думал утвердиться на царстве и которое погубило его, как лопнувшая пушка от слишком большого заряда. Это изветы и всякие сплетни, по которым он губил одних кознями других (111).
Лжедимитрий взял один из свитков и, бегло пересматривая листы, сказал:
– Большая часть без подписи имени. Но я узнаю некоторых. Вот милая ручка Семена Годунова! А вот и верного всем князя Василия Шуйского. Работал он много, бедняжка, да жаль, что по-пустому! Не хочу видеть этого плода взаимной злобы и зависти: в огонь!
– Прекрасно! – сказал Меховецкий. – Правду говорить должно явно, открыто и обнаруживать злые умыслы не робея. Тогда узнаем истинных врагов и друзей! Обо всем, о чем я говорю тебе тайно, государь, готов сказать на площади, если только самое дело не требует скрытности для успеха. На злых буду указывать среди двора и в народе. Так быть должно.
– Не так, не так! – воскликнул патер Савицкий. – Я должен поговорить с тобою об этом, государь, наедине.
– Знаю, что вы мне скажете! – возразил Лжедимитрий. – В делах тайных надобно верить немногим, чтоб они были тайными, а иначе охота знать много послужит злым людям орудием к погибели всякого. В огонь Борисовы сплетни!
– Да тут такая пропасть бумаг, что мы не разберем до завтра, – сказал Басманов.
– Довольно! Закрой лисью нору, мы пересмотрим это на досуге. Теперь пойдем в сокровищницу. Там веселее…
Басманов, запирая шкаф, обратил внимание царя на образ Успения Пресвятыя Богородицы в золотом окладе и сказал:
– Это труд знаменитого русского иконописца Федора Единеева, который при прадеде твоем, великом князе Иоанне, обучался у греков ремеслу и превзошел своих учителей. Даже немцы удивляются превосходным его трудам, но их немного. Время истребило образа в старом Кремлевском дворце при деде твоем Василии Иоанновиче.
– Пойдем в сокровищницу, – сказал царь. Спускаясь по лестнице в нижнее жилье, царь встретил у дверей кладовых боярина Вельского, который с поклоном поднес ему на золотом блюде ключи от сокровищницы. Вошед в первую кладовую, огромную залу со сводами, царь увидел бочки, кади и кожаные мешки, от полу до потолка уставленные особыми отделениями.
– Растолкуй мне, какие здесь деньги и откуда поступают, – сказал царь Вельскому, – по милости Бориса я чужой дома!
– Вот в этих мешках хранятся доходы от твоих царских вотчин: тридцати шести городов с селами и деревнями. Оброку доставляют они тебе, государь, до двухсот тысяч рублей серебряных, да все запасы. Кроме своего дворцового обиходу, продается ежегодно этих запасов на двести тридцать тысяч рублей. Здесь налево, в бочках, деньги с тягла и подати, всего на 400000 рублей в год. Вот в этих кадях разные городские пошлины: торговые, судные, банные, питейные, всего до 800000 рублей ежегодно. Здесь хранятся оставшиеся деньги от разных приказов; вот пошлина с иноземных товаров. Но тебе долго было бы слушать исчисление всех сборов, государь! Скажу одним словом: за исключением всех издержек на войско, двор и жалованье всем твоим слугам, в твою расходную казну поступают ежегодно не менее миллиона четырехсот тысяч рублей (112). Вот в этих кадях хранятся чужеземные деньги, которые пускают в ход, прилагая к ним клеймо государства Московского.
– Я должен учредить новый порядок в этом деле, – сказал царь. – Пора вывесть из употребления эти новгородки, чужеземные ефимки, эти безобразные рубли. Стыдно, что мы не имеем еще своей золотой монеты и покупаем иноземные деньги на вес, как товар. Наши серебряные деньги и копейки также должны иметь пристойный вид. Я уже послал в Голландию образец и ожидаю новых русских денег (113).
В другой обширной кладовой были горы серебра: посуда царская.
– Вот двести золотых блюд и шестьсот золотых чаш, стоп и кубков, – сказал Вельский. – Эта посуда редко употребляется вместе, в последний раз Годунов пировал на ней, угощая Датского князя Иоанна, которого хотел женить на своей дочери. Вот посуда серебряная, на которой Годунов угощал 10000 войска в стане под Серпуховым, собираясь войной на Крымского хана в начале своего царствования. Кроме того, серебряная посуда на 1000 человек и золотая посуда для тебя, государь, хранится у крайнего, для ежедневного царского употребления. Вот шесть бочек, вылитых из серебра, добытого отцом твоим, государь, в последний поход в Ливонию. Но отец твой, блаженной памяти царь Иоанн, не любил копить сокровищ. Во время торжества по взятии Казани он в один день раздарил 400 пуд серебра в деле. Правду сказать, умножил и привел в порядок сокровища и доходы – Годунов!
– Да, он был мой хороший казначей! – возразил с улыбкою царь.
В третьей кладовой находились драгоценности царские. Кругом были полки и поставцы, покрытые красным бархатом. Вельский, указывая на вещи, сказал:
– Вот венец Мономахов большого наряда, которым венчаются на царство государи Московские. Он из золота, греческой сканной отделки, и украшен 4 яхонтами, 3 лаллами, 4 изумрудами и 32 бурмитскими жемчугами.
– Я никогда не видал такой короны, – примолвил Меховецкий. – Это остроконечная шапка наподобие скуфьи с бобровою опушкою и только крестом на верху отличается от простой шапки.
– Вот венец Мономахов малый, второго наряда, – сказал Вельский. – Он древнее первого. Отец твой, государь, и Годунов носили его в меньших выходах. Вид его таков же, как и первого. Это венец Едигера, царя Казанского, плененного с царством родителем твоим, великий государь! Он видом непохож на наши. Видишь ли, государь, что это высокая остроконечная шапка из золота с чернью сканной работы, украшенная яхонтами, рубинами, бирюзами и крупным жемчугом. Вот венец Астраханского царства, также покоренного отцом твоим, государь. Он выше казанского, с выгнутыми боками в середине. Большой изумруд наверху и две жемчужины ценятся весьма дорого. Это также памятник славы твоего родителя: венец царства Сибирского, покоренного храбрым донским удальцом Ермаком Тимофеевичем. Венец сей небогат и, как видишь, похож несколько на Мономахов. Он из сукна, украшен 30 алмазами, 100 яхонтами, 2 лаллами, 14 изумрудами и 15 бурмитскими зернами. Вот золотой скипетр Мономаха, с венцом и двуглавым орлом, украшенный драгоценными камнями и греческими надписями; вот Мономахова держава золотая с дорогими камнями. Это золотая цепь Mономахова, присланная ему в дар от Греческого императора, а вот свягые бармы, также дар Греческого императора Мономаху…
Меховецкий прервал слова Вельского и, рассматривая бармы, сказал:
– Этого украшения нет у других европейских государей. Что это такое? Род воротника или нагрудных лат из семи золотых блях с изображениями событий из Святого Писания. К чему служит это украшение?
– Бармы – слово греческое, означающее, как тебе известно, бремя, тяжести, – отвечал царь. – Это должно напоминать царю, что державство есть бремя, а не радость.
– Премудро! – сказал Меховецкий. – Не худобы всем государям иметь это напоминовение.
– Вот золотые цепи, которые носили великие князья и цари, предки твои, – продолжал Вельский. – Древнейшее сокровище твое, государь, вот этот серебряный чеканеный посох великого князя Андрея Боголюбского. А вот этот серебряный позолоченный посох с узорчатою насечкою принадлежал великому князю Иоанну Даниловичу Калите. Вот самый богатейший жезл великого князя Василья Дмитриевича, золотой, с дорогими камнями. Это также подарок Греческого императора Эммануила. Между множеством других посохов укажу тебе три, государь. Этот посох из рыбьей кости с золотыми троеглавыми орлами, украшенными дорогими камнями, принадлежал отцу твоему и привезен от папы Римского иезуитом Поссевином. А этот резной посох из слоновой кости, оправленный в позолоченное серебро, с острым железным наконечником, отец твой носил всегда с собою и, когда разговаривал с человеком ему ненавистным, то упирал острым концом в ногу своего раба и облокачивался на посох. Когда же гнев смущал его сердце, сие же острие выгоняло душу из тела.
– Знаю, знаю! – сказал царь. – Три венца покоренных царств должны закрывать этот посох.
– А вот и единороговый посох с золотом Бориса Годунова, – сказал Вельский.
– Пусть здесь останется в память его за доброе управление моею казною, – примолвил царь.
– Под этим покрывалом стоит престол Мономахов, – продолжал Вельский. – Он из орехового дерева, с чудною резною работою и мудрыми надписями. На нем садятся цари только при венчании и в торжественные случаи. Годунов садился всегда на престол, украшенный дорогими камнями, подаренный ему Персидским шахом Аббасом. Он и теперь в Грановитой палате.
– Пусть останется до времени; я велю сделать для себя престол по новому образцу.
– Государь! боюсь, что тебя утомит рассматривание всех этих дорогих вещей, корабликов, часов разных видов, золотых чаш и стоп с дорогими камнями, которые стоят здесь на полках. Это подарки иноземных царей и послов их. В этих коробках хранятся жемчуг и дорогие камни, всего сорок четыре четверика. Вот разложены пятьдесят пар царского платья и двадцать покрывал, вышитых жемчугом и осыпанных дорогими камнями по парче, бархату и алтабасу. В этих ларцах находятся дорогие уборы: перстни, серьги, ожерелья. Сокровища твои несметны, великий государь! (114).
– Слава Богу, что будет чем делиться с моими верными друзьями, – примолвил царь.
– Царское сердце, доблесть Иоаннова! – воскликнул Вельский. – Теперь надобно тебе, государь, пройти на другую половину, где хранится царское оружие из серебра и золота и конские сбруи, осыпанные дорогими камнями. Ты можешь, государь, снарядить тысячу воинов в серебряные панцири и снабдить их дорогою сбруей. Там же две кладовые наполнены кусками бархата, парчи, сукна, алтабасу и всякими дорогими тканями.
– Пойдем туда в другое время, – сказал царь. – Теперь пора к боярам. Они верно, ждут меня.
– Удивительное богатство! – воскликнул иезуит в восхищении. – Этим бы можно было ниспровергнуть все расколы, нанять войско…
– Патер Савицкий! – возразил царь, – скажите: есть чем заплатить все долги в Польше, и умерьте свой восторг, вспомнив, что эти сокровища принадлежат не Иезуитскому ордену, а мне, царю Московскому!
Патер поморщился, прочие улыбнулись.
* * *
Вышед из кладовых в сени, царь встретил горбуна в пестром платье, который поклонился ему и, подавая палку и гребень с веретеном, сказал:
– Челом бью господину моему! Вот тебе от меня подарок!
– Это что за урод? – спросил Лжедимитрий.
– Шут Годунова Кирюшка, – отвечал Вельский.
– Покойный Борис сказывал, что шут лучше, чем плут, – сказал Кирюшка. – В плутах, кормилец, у тебя не будет недостатка, а мое место пока еще не занято.
– Недурно, – примолвил царь. – На что же ты мне даешь это?
– Палку возьми себе, а гребень с веретеном отдай твоим боярам, – сказал шут. – Молодцу владеть палкой, а бабам прясть!
Все засмеялись, и Меховецкий сказал:
– Пусть он останется при дворе, государь! Шутовской кафтан не всегда прикрывает дурачество.
– Если б всех дураков наряжать в шутовские кафтаны, так мое платье вздорожало бы, а боярские шубы подешевели, – возразил Кирюшка. – Спроси, кормилец, у Богдана, почем продается золотник ума в твоей Думе!
– По сту палок, которые надобно тебе отсчитать вперед, – сказал с досадою Вельский.
– Ну, видишь ли, кормилец, что моя правда. Возьми палку, возьми! Ты с ней доберешься толку.
– Кирюшка! принимаю тебя в службу, – сказал царь, смеясь. – Где же ты проживаешь во дворце?
– В том месте, без которого не обойдется ни дурак, ни умный: на поварне.
– Ступай же теперь с Богом и живи, как прежде, – сказал царь.
– Спасибо! За это скажу тебе сказку. Украл мужик лошадь, а чтоб не узнали ее, так выколол ей глаза. Напившись допьяна, мужик лег в сани, заснул и опустил вожжи; лошадь попала с ним в яму – и сама убилась, и мужика расшибла. Конец!
– Что это значит? – спросил Лжедимитрий с принужденною улыбкой.
– Значит то: держи ухо востро, не опускай вожжей и смотри в оба, – сказав это, Кирюшка выбежал из сеней.
* * *
В Грановитой палате царь застал бояр и дворян думных. Все с подобострастием ожидали приказаний царя. Он подозвал к себе думного дьяка Афанасия Власьева и сказал:
– Афанасий, ты должен составить известительную грамоту к Польскому королю Сигизмунду о благополучном моем прибытии в мою столицу. Я переменяю титул царский: запиши тотчас.
Думный дьяк вынул из-за пазухи бумагу и письменный прибор, стал на колено и начал писать, что царь говорил громко:
– Отныне должно называть меня, Московского государя, так: "Пресветлейший и непобедимейший монарх Димитрий Иванович, Божиею милостию цесарь и великий князь всея России и всех татарских царств и иных многих Московской монархии покоренных областей государь и царь"! (115) – Власьев встал, а царь сказал боярам:
– Вы должны знать, верные мои слуги, бояре и дворяне думные, что в Европе один только государь носит звание императора, или цесаря, потому единственно, что предки его наследовали часть древнего Римского государства. Но я один, потомок Рюрика, происхожу в прямой линии от первого Римского императора кесаря Августа (116) и один имею право носить его звание, будучи притом могущественнейшим самодержцем в мире по воле Господней. Отныне принимаю звание, которое подобает мне: звание цесаря, то есть владыки мира. Да будет так!
– Да будет, как ты повелишь, государь! – сказали бояре, поклонившись.
– Еще должны вы знать, верные мои бояре, что я, учреждая новую монархию Московскую, установляю новые чины государственные по образцу других государств. Звание сообщает почесть и уважение целого света, а вы не хуже других и должны пользоваться тем же уважением, как знатные иноземцы шляхетных родов. Поведай, Басманов, волю мою! – сказав сие, царь вышел из Грановитой палаты с своими поляками.
Басманов выступил на средину, развернул свиток, и стал читать:
– Пресветлейший и непобедимейший монарх Димитрий Иванович, Божиею милостию цесарь и великий князь всея России и всех татарских царств и иных многих Московской монархии покоренных областей государь и царь, всему народу московскому объявляет свой привет и милость, а избранных бояр своих, приглашая служить ему верою и правдою, жалует в бояре первого круга: князя Федора Ивановича Мстиславского, князей Василия – и Димитрия Ивановичей Шуйских, князя Ивана Михайловича Воротынского, Ми-хайла Федоровича Нагого с саном великого конюшого, князя Никиту Романовича Трубецкого, Андрея, Михаилу и Афанасия Александровичей Нагих, князя Василия Михайловича Мосальского с саном великого дворецкого; князя Ивана Ивановича Пуговку-Шуйского, князя Андрея Романовича Трубецкого, Григория Федоровича Нагого, князя Ивана Ивановича Шпака-Голицына, князей Василия, Ивана и Андрея Васильевичей Голицыных, Петра Федоровича Басманова, Петра Никитича Шереметева, князя Василия Кардануговича Черкасского-Кабардинского, Федора Ивановича Шереметева, князя Андрея Петровича Куракина, князя Бориса Петровича Татева Стародубского-Ряполов-ского, князя Ивана Семеновича Куракина, Ивана Никитича Романова, князя Ивана Федоровича Хворостинина-Ярос-лавского, Михаила Глебовича Салтыкова, князя Ивана Никитича Болыного-Одоевского, Богдана Яковлевича Вельского с саном великого оружейничего, князя Андрея Андреевича Телятевского, Михаила Богдановича Сабурова, князя Семена Андреевича Куракина, князя Владимира Васильевича Кольцова-Мосальского, князя Даниила Борисовича Приимкова-Ростовского, князя Федора Тимофеевича Долгорукова, князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского с саном великого мечника. Все реченые бояре составляют Сенат и называются сенаторами. Они должны занимать места в Думе тем порядком, как здесь названы, вслед за духовными сенаторами, которых будет шестнадцать, из митрополитов и епископов. Святейший патриарх Игнатий, утвержденный государем, будет сидеть особо по правую сторону престола, как бывало прежде, а прочие в одном кругу. В советники второго круга, или разряда, назначаются окольничие: Михайло Борисович Шеин, Василий Петрович Морозов, князь Иван Дмитриевич Хворостинин-Ярославский, Михайло Михайлович Салтыков, Василий Яковлевич Щелкалов, князь Владимир Иванович Клубков-Мосальский, князь Александр Федорович Жировый-Засекин, Иван и Василий Петровичи Головины, князь Григорий Петрович Ромодановский, Иван Федорович Колычев, князь Иван Иванович Курляшев-Оболенский с саном великого подчашего, Алексей Романович Плещеев, князь Борис Михайлович Лыков-Оболенский с саном великого крайчего, Богдан Иванович Сутупов с саном печатника и великого секретаря, Афанасий Иванович Власьев с саном надворного подскарбия и великого секретаря; дворяне, заседающие в Совете: Таврило Григорьевич Бобрищев-Пушкин с саном великого сокольничего, Яков Васильевич Зюзин, Василий Борисович Сукин, Григорий Иванович Микулин, Андрей Васильевич Измайлов, Андрей Матвеевич Воейков, ясельничий (117). Изложение обязанностей сенатора и нового сана каждый боярин и сановник получит на письме от великого секретаря Богдана Ивановича Сутупова. Прочитав бумагу, Басманов сказал:
– Царь государь, объявляя всем милость, приглашает всех забыть прошедшее и жить в любви, мире и согласии, на пользу службы царской и отечества!
– Да здравствует отец наш государь Димитрий Иванович, многие лета! – воскликнули бояре.
В это время выступил на средину Сутупов и сказал:
– Прошу, почтенные сенаторы и советники, занять свои места.
Все бросились по скамьям, и вдруг отворились двое дверей: в одни вошел новый патриарх с четырьмя митрополитами, а в другие – новый царь в одежде царской. За ним шли четыре рынды и двенадцать иноземных драбантов в золоте и серебре. Драбанты остались на страже у дверей, а рынды проводили царя до престола. Царь взял с серебряного стола венец и, не надевая его, сказал:
– Вот достояние предков моих, возвращенное мне волею Бога и желанием народа! Но до совершения священного обряда пред чудотворными иконами в Успенском Соборе не хочу возложить венца на главу мою. Держав-ствую и повелеваю! – При сих словах царь взял скипетр, поднял его и, указывая другою рукою на венец, возгласил: – Горе тому, кто прикоснется к сему священному знаку власти, не имея на то права! Милость всем верным слугам моим, милость и забвение прошлого! Возродимся духом и начнем новую жизнь отныне и во веки веков! Великий секретарь, провозгласи волю мою!
Сутупов выступил на средину, поклонился царю и сказал: – Пресветлейший и непобедимейший монарх Димитрий Иванович, Божиею милостью цесарь и великий князь всея России и всех татарских царств и иных многих Московской монархии покоренных областей государь и царь, в ознаменование любви и милости к вотчине своей, России, повелевает: возвратить из ссылки всех безвинно наказанных Годуновым; удвоить жалованье царское всем сановникам до единого и всему войску; заплатить все казенные долги в бозе почивающего родителя своего, государя царя Иоанна Васильевича; обнародовать, что каждый может лично бить челом государю Царю Димитрию Ивановичу по средам и субботам на Красном крыльце. Вам, пресветлым сенаторам и советникам, повелевает ежедневно являться в Совет и заниматься делами управления. Прежде всего, вы должны рассмотреть, какие можно отменить судовые и торговые пошлины в облегчение народу и составить закон о возвращении вотчинникам всех беглых крестьян, кроме тех, которые закабалены неправедно и лишены были помощи господ во время голода. Государь царь Димитрий Иванович воспрещает строго всякое лихоимство и мздоимство и объявляет, что будет без милосердия наказывать судей бессовестных (118). Вы, пресветлые сенаторы, обязаны наблюдать, чтоб народу творили безмездно суд и правду, и доносить царю о злоупотреблениях. Всякая правда да нисходит от престола и возвращается к престолу! – Сутупов снова поклонился царю и возвратился на свое место.
– О, солнце мудрости! О, русский Соломон! Слава и долгоденствие тебе! – воскликнул князь Василий Иванович Шуйский, встав с своего места и поклонившись до земли пред престолом.
– Ликуй, первородный сын христианства! Осанна тебе, чадо Иоанново! – возгласил патриарх.
– Слава и долгоденствие мудрому царю нашему Димитрию Ивановичу! Да здравствует многие лета! – раздалось в собрании.
Царь удалился, и все мужи думные разошлись, возглашая:
– Прямой сын Иоаннов! Благо нам! Счастливая Россия!
* * *
Когда смерклось, Лжедимитрий сел на коня и в сопровождении Басманова и Меховецкого поскакал в дом князя Мосальского и, чтоб миновать Красную площадь, где веселился народ, выехал из Кремля чрез Боровицкие ворота и пробрался вдоль Кремлевской стены на Царскую улицу в Царь-городе. Боярин ждал царя у ворот с одним верным слугою, которому отдали держать лошадей. В первой избе встретила царя хозяйка в богатой парчовой ферязи и алтабасовом охабне и, поклонившись в пояс, поднесла на серебряном блюде хлеб-соль, покрытую шелковою ширинкою, шитою жемчугом. Приняв подарок и поблагодарив хозяйку, Лжедимитрий велел князю проводить себя немедленно в терем и вошел туда один.
В горнице, обитой холстом, покрытым белою краской, у одной стены находился высокий дубовый примост (119) с красным шелковым пологом. В переднем углу была икона, перед которою теплилась лампада, слабо освещая комнату. Кругом были скамьи, покрытые коврами, а в одном углу дубовый шкаф с ящиками. На примосте, устланном пуховиками, покрытыми шелковою простыней и алтабасовым одеялом, сидела красавица в одной шелковой ферязи. Черные волосы ее заплетены были в косу, но на голове не было ни ленты, ни повязки. Опираясь локтем на подушки, она поддерживала голову рукою и, потупя взоры, часто вздыхала. На низкой скамье возле примоста сидела пожилая женщина и, закрываясь фатою, украдкою посматривала на красавицу и утирала слезы.
Лишь скрипнула дверь в тереме, красавица и пожилая женщина устремили взоры в ту сторону. Вошел в горницу царь в богатой венгерской одежде, шитой золотом и унизанной жемчугом и, сделав шаг вперед, остановился.
– Это он! – воскликнула пронзительно красавица и прижалася лицом к подушкам.
– Он, точно он! – сказала робко старуха и, перекрестясь, примолвила вполголоса: – Господи, помилуй!
– Успокойся, Ксения! – сказал Лжедимитрий. – Я не хочу сделать тебе ни зла, ни обиды. Не бойся меня и ты, Марья Даниловна. Я пришел с миром и милостью.
Царевна молчала и оставалась в прежнем положении, а няня молилась потихоньку и дрожала всем телом.
– Я желаю тебе блага, Ксения, – сказал Лжедимитрий. – Не страшись и взгляни на меня.
Царевна быстро приподнялась, щеки ее разгорелись, глаза засверкали, и она, всплеснув руками, жалостно сказала:
– Ты желаешь мне блага! А кто погубил отца моего, мою родимую, моего милого брата? Убийца!..
– Ты в заблуждении, Ксения! Я не погубил отца твоего, не убил твоей матери и брата и сожалею о их плачевной участи. Отец твой скончался от недуга попущением Божием, а родительницу твою и брата умертвили злые люди из ложного понятия о моем нраве и о своих обязанностях. Такова воля Божия: смиримся пред нею!
– И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого! – сказала няня вполголоса и перекрестилась.
– Разве ты не лишил престола брата моего? Не ты ли побудил народ к мятежу? – сказала царевна.
– Я взял свое и не лишил никого собственности, Ксения! Народ не возмущался, но восстал за правое дело, и если нашлись злые, которые перешли за пределы своего долга, не моя вина!
– Не ты ли велел держать меня в доме убийцы моих родных? Если б ты чуждался этого злодеяния, то наказал бы злодея, а не отдал меня, сироту, во власть его! Я слабая жена и в простоте моей не понимаю дел государственных, но Господь Бог хранит сирот в несчастии. Он дал мне столько ума, чтоб постигнуть этот злодейский умысел. Он услышит мои грешные молитвы и даст мне столько твердости, чтоб воспротивиться силе и козням демонским.
– Ксения! ты не понимаешь, в каком положении нахожусь я теперь, и потому сетуешь на меня и подозреваешь в злом деле. Не одобряю убийства, но не могу казнить за усердие ко мне! Я оставил тебя у того, который спас тебя. Теперь ты вольна выбирать себе убежище!
– Хочу в монастырь, – сказала Ксения.
– Нет, Ксения, этого быть не должно. Ты рождена не для кельи, но для любви и украшения престола. Безвинный в зле, причиненном твоему роду, я разве тем только виновен пред тобою, что отец мой, царь Иоанн, передал мне право на государство Московское. Если б родитель твой был жив, он сам уверился бы в истине моего происхождения, охотно отдал бы мне венец и был бы первым моим слугою – и тестем. Судьба устроила иначе! осталась ты одна в живых, и тобою должен вновь воссиять род Годуновых! Ксения! царь Московский Димитрий Иоаннович безвинен пред тобою; он любит тебя более жизни своей! И я сирота в здешнем мире! Кроме престарелой матери, не имею ни родных, ни ближних. Соединим участь нашу на престоле отцов наших, и Россия возрадуется, и безвинная мученица, родительница твоя, благословит нас в горних пределах…
Царевна горько заплакала, а няня снова перекрестилась и повторила:
– И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого!
– Мне ли помышлять о браке, о славе земной и радостях! – сказала сквозь слезы царевна. – Кровь родных моих всю жизнь будет у меня пред глазами. Последние стоны моей матери, болезненные вопли брата всегда будут раздаваться в ушах моих и раздирать сердце! Нет для меня более радостей! Умоляю тебя, отпусти меня в монастырь!
– Повторяю, что этого не будет. Ты, первая красота в Московском государстве, рождена для любви, для радости, для славы! Я исцелю тебя от горести…
– Не знаю, как звать тебя… но слыхала, что ты чернокнижник и волшебник, – сказала царевна. – Если ты в самом деле можешь меня утешить, то не делай этого, ради Бога не делай! Лучше хочу умереть, чем расстаться с моею горестью, с воспоминаниями о моих родных. Мне ли забыть о них? Буду вечно поминать и вечно горевать! – царевна снова залилась слезами.
– Не слушай ее! – воскликнула няня. – Я знаю силу твою! Все говорят, что ты не только отгоняешь и наводишь недуги, но берешь на себя всякие образы, прикидываешься невидимкою, летаешь на ковре-самолете, не помню теперь всего… словом, делаешь, что захочешь. Сжалься над бедною сиротой: излечи ее от горя! Она денно и нощно грустит и плачет; видимо губит себя, моя голубушка! Охти мне, грешной! – няня зарыдала и, бросясь на колена, сказала: – Не слушай ее и излечи от горести!
– Я не волшебник, не чародей, но благочестивый христианин, царь Московский! – сказал Лжедимитрий. – Вас обманули сплетнями и клеветою. Господь Бог одарил меня разумом высшим, как подобает правителю народов; книжное дело, лечение недугов и всякую мудрость почерпал я в писаниях святителей, пророков и благочестивых мудрецов, а не от дьяволов и чернокнижников. Не верь, Ксения, злобе врагов моих, но поверь мне, твоему царю. Я не погубил твоих родителей – я люблю тебя!
– Умилосердись! Сжалься над бедною сиротою и оставь меня в покое! Я больна, очень больна, – сказала Ксения сквозь слезы.
Лжедимитрий сделал шаг вперед, чтоб приблизиться к постеле, сказав:
– Позволь мне излечить тебя, как я излечил некогда няню твою, Марью Даниловну.
Царевна вскрикнула от ужаса и сказала:
– Не подходи ко мне, не подходи! Я умру, если ты до меня дотронешься!
Няня стала перед постелью и, простерши руки, воскликнула:
– Да воскреснет Бог и расточатся врази его! Не подходи! или ты убьешь меня, или я тебя растерзаю!
– Вы напрасно пугаетесь. Повторяю, что не хочу обижать вас ни словом, ни делом. Успокойтесь! Я оставлю вас и велю приготовить для тебя, Ксения, жилище пристойное. Прощай, Ксения; дай Бог тебе здоровья! Прощай, добрая Марья Даниловна! Береги твою питомицу!
Лжедимитрий вышел из комнаты, а царевна вскочила с постели, бросилась на колени перед образом и стала молиться и класть земные поклоны. Няня также молилась. Возвратясь на прежнее место, царевна сказала:
– Я думала, что он съест меня – а он такой ласковый!
– Ах, дитятко, да ведь волшебник прикидывается, когда захочет, то волком, то лисою. Святейший патриарх сказал, что он антихрист!
– Ах, Боже мой, как страшно! Что станется со мною? Кто защитит меня, бедную сироту?
– Бог, мое дитятко! Люди оставили нас – Бог помилует!
ГЛАВА VI
Прибытие митрополита Филарета в Москву. Оскорбленная гордость народная. Злоумышления. Новое предначертание иезуитов. Беседа в новом дворце. Взгляд на древнюю Москву и боярские обычаи. Предатель. Женская вечеринка у Марины.
Постриженный насильно в монахи по воле царя Бориса, знаменитый боярин Федор Никитич Романов, нареченный в иночестве Филаретом, томясь долгое время в заточении, в Сийской обители, возвращен из ссылки новым царем Димитрием и поставлен митрополитом Ростовским. Бывшая супруга его, добродетельная Марфа, также постриженная противу воли в монахини, жила с юным сыном своим, Михаилом Федоровичем в епархии митрополита Филарета, в монастыре святого Ипатия, занимаясь воспитанием единородного детища. Мудрый Филарет, быв некогда главным из вельмож и ближних царских, знал суету всего того, что почитают благами люди слабоумные и тщеславные. Он оставался в своей епархии и, занимаясь духовною своею паствой, не спешил в столицу. Но, слыша, что православию угрожает гибель, а отечеству смута, добродетельный Филарет отправился в Москву, чтоб лично удостовериться в справедливости всех злых слухов. Остановившись на своем подворье, он послал за боярином князем Иваном Семеновичем Куракиным, который по нраву своему вмешивался во все дела и, следовательно, мог лучше других знать, что происходило в Москве.
Князь Иван Семенович немедленно явился к митрополиту. Филарет, выслав свой причет и оставшись наедине с князем, сказал:
– До меня доходили ужасные вести о царе и о всех делах его. Признаюсь, что, будучи им облагодетельствован, я желаю, чтоб слухи сии были несправедливы. Духовенство, сановники и народ в моей епархии прибегают к моим советам; я нахожусь в горестном положении, не смея изменить долгу и не желая оказаться неблагодарным. Хочу знать правду. Будь искренен со мною и поведай, что у вас делается, что вы думаете, чего надеетесь? Вы знаете, что я не изменник. Говори смело.
– Узнаешь истину, и сердце твое смятется, преосвященный!
– Как думают наши бояре о царе? Точно ли он сын Иоаннов или…
– Нет, он не сын Иоаннов, а расстрига Гришка Отрепьев! – возразил князь. – Столько людей в Москве узнали в нем диакона Григория, что сомневаться более не должно. Инок, учивший его в детстве грамоте и живший с ним в одном монастыре, уличил его всенародно в самозванстве и погиб в муках за правду (120). Но нас не столько сокрушает его происхождение, сколько опасность отечества и церкви. Ненависть наша к Годуновым и страх междоусобия проложили расстриге путь к престолу. Даже люди, уверенные в обмане, охотно б молчали, если б этот Лжедимитрий остался таким витязем и таким мудрецом на престоле, каким он был в то время, когда искал венца царского. Но он не царствует, а безумствует! Окружил себя поляками и иезуитами, которые явно толкуют, что Россия должна признать власть папы. Нас, бояр, этот расстрига беспрестанно оскорбляет и огорчает насмешками, упрекает в невежестве, называет дикарями, зверями; превозносит одних иноземцев и хочет, чтоб мы ездили к латинам учиться и заслуживать имя людей. Не только за малейшую вину, но за неловкость на его военных играх выходит из себя, бранит и даже бьет палкою знатнейших сановников военных. Безрассудно расточает казну государственную на подарки своим полякам и ксендзам, на своих иноземных гударей и скоморохов, на разные ненужные вещи. Едва успев овладеть престолом, рассорил более семи миллионов рублей! Сам питается нечистыми яствами: телятиной, зайцами, раками, угрями, да и нас принуждает оскверняться за своею трапезой. Не наблюдает постов и церковных обрядов. Бегает, как шальной, по городу или рыщет на конях. Но по крайней мере он сначала занимался делами и, сказать правду, хотя вел себя безрассудно, но судил и рядил мудро. Теперь и это миновалось. С тех пор, как приехала сюда его поганая царица с кичливым отцом своим и со множеством воинов и ксендзов, из Москвы сделали кружало для потехи поляков, а из дворца игрищные хоромы. Во дворце с утра до вечера музыка, пляски и зернь, а на улицах московских бесчиние и денной разбой. Не только бояр, но и святителей выгнали из домов, чтобы поместить в них чужеземных пришлецов, которые ругаются над нами и в пьянстве даже бьют почетных граждан, поносят и оскорбляют непорочность жен и дев. Их атаман, расстрига, подал к тому первый пример. Бесстыдник, погубив род Годуновых, хранит дочь Бориса, несчастную Ксению, для гнусных своих утех. Это беззаконие вооружило противу него ненавистью всех богобоязливых людей и навлечет на него мщение Господне. Расстрига думает ослепить нас роскошью и блеском, как будто золото может сокрыть черноту души и низость дел! Наряжается он Бог весть в какие иноземные одежды, да и нам велит окутываться ежедневно в парчу и бархат. Разоряемся мы, бояре, разоряется и народ, чтоб угождать роскошному царю. Если бы ты видел, что делалось здесь при въезде поганой царицы и во время брачного их торжества, то не поверил бы очам своим, преосвященный! Марину ввезли, как кумир какой, на серебряной колеснице, запряженной десятью конями. Войско и дети боярские сопровождали ее в новом платье, в красных суконных кафтанах с белыми перевязями, а бояре и дворяне в светлой одежде. Народ падал ниц пред созданием дьявольским, как пред божеством! Не духовенство со крестами встретило ее, как подобает встречать царицу благочестивую, но скоморохи и гудари, в вместо священного пения огласили воздух пушечные выстрелы, звуки труб, литавров и песней польских. Поместив свою невесту в монастыре, расстрига, не боясь Бога и не стыдясь людей, завел там пляски и игрища. Друзья расстриги разглашали, что новая царица научается нашему закону и будет креститься в русскую веру, но вышло напротив. Иноверку к соблазну всех православных ввели в храм Успения, одев в русское платье и убрав дорогими камнями, посадили рядом с расстригою и патриархом на чертожском месте. Расстрига сел на золотом персидском троне, а невеста его на серебряном. Прости, преосвященный, что я осмелюсь перед тобою хулить первого святителя церкви. Он избран не вольными голосами митрополитов и епископов, но волею расстриги, похитителя священной власти. Грек Игнатий не заслужил ничем высокого своего звания, ни уважения нашего: он достиг сана своего раболепством. Льстивыми словами отвечал он на пышную речь венчанного прошлеца, осмелившегося лгать пред алтарем, и с молитвою возложил на иноверку, на папистку, животворящий крест, бармы и венец царский! Лики возгласили многолетие царю и иноверной его невесте, которую дерзнули в церкви православной назвать благоверною цесаревной! Потом патриарх украсил Марину цепью Мономаховою, помазал миром и причастил Святых Тайн. Свершилось беззаконие, и гром небесный не поразил осквернителей храма! Но месть Божия очевидна в повсеместной ненависти народа к поганой чете.
Таким образом, Марина была венчанною царицею еще пред браком! Свершилось бракосочетание не как таинство, но как игрище, в плясках, пирах шумных и бесчинии. Народ видел Марину в венце царском, восседящую на престоле; слышал в храмах православных поминовение ее имени на ектений, но не видал отречения ее от латинства, не слыхал молений ее пред образом угодников! К стыду нашему, иноземка, иноверка удостоилась неслыханной почести, венчания царского, презрев святую нашу веру и поправ все наши обычаи, когда ни одна православная царица не удостоилась чей чести и славы! В день свадьбы роздано одних подарков на 800000 рублей, а кроме того, привоз этой иноверки стоит до миллиона (121).
Еще до приезда Марины надменность иноземцев, бесчинства атамана их, расстриги, и явное нарушение правил святой нашей веры и обычаев, поношение бояр и оскорбление народа вывели всех из терпения. Боярин князь Василий Иванович Шуйский, виновный тем, что подобно другим думал утишить кровопролитие и междоусобие, признав мудрого прошлеца царем, наконец увидел пропасть, в которую ввергает Россию наше малодушное потворство. Он лучше других знал истину и сам погребал в Угличе тело святого мученика царевича Димитрия. Надлежало погубить опасного свидетеля, и по доносу презренного цыгана, пришедшего в Москву с войском расстриги, князя Василия и братьев его обвинили в злоумышлении и заточили в темницы. Этот цыган не знал ни о каких замыслах и был избран только в путеводители Михаиле Татищеву по стану для узнания мнения войска в день вступления в Москву Лжедимитрия. Но Татищев проговорился или похвастал перед своим спутником, и с тех пор тайно надзирали за ним и за Шуйскими. Когда же князь Василий, негодуя на неистовство расстриги, стал рассказывать под рукою о том, что он знал о деле углицком, то долго скрываемая злоба разразилась явною местью. Нашлись доносчики, кроме цыгана, и Шуйских с их ближними заключили в темницы. Князя Василия и брата его Димитрия пытали, чтоб заставить оклеветать себя и других, но они пребыли твердыми в муках. Наконец указом объявили народу, что царь повелел князя Василия казнить смертию за покушение на жизнь его и на овладение царством. Целая Москва собралась на Лобное место и на Красную площадь в день, назначенный для казни. Вывели князя в цепях, среди воинов, предводительствуемых Басмановым. За несколько времени пред сим, когда вели на казнь дворянина Петра Тургенева и мещанина Федора Калашникова, возмущавших явно народ противу расстриги, москвитяне, обманутые им, славили его правосудие и оглашали площадь радостными восклицаниями. Не то было при казни Шуйского! Лишь только он появился на площади, умолк ропот и настала тишина, прерываемая глухими стонами и рыданиями друзей и приверженцев Шуйского. Басманов прочел указ государев. Князь Шуйский, помолясь Богу, поклонился на все четыре стороны и громко воскликнул к народу: "Братья! Умираю за истину, за веру христианскую и за вас!" – сорвал с себя боярскую одежду и положил голову на плаху. Уже палач занес секиру, уже руки и очи зрителей воздеты были к небу… сердца трепетали… вдруг раздался крик "стой!" Дворянин царский прискакал на коне из дворца и объявил милость и прощение Шуйскому. Народ как будто воспрянул от недуга. Радостные восклицания раздались на площади, и Москва помирилась с царем – на время (122).
Милость боярину испросила царица-инокиня Марфа и знатные поляки. Ты знаешь, преосвященный, что Шуйские были однако ж сосланы, но что ныне возвращены и допущены снова к милости царской. Но кровная эта обида осталась на сердце князя Василия, он не продаст души за дары адские… Он молчит до времени.
Князь Куракин замолчал, а митрополит задумался и наконец сказал:
– Признаю делами гнусными и безбожными истребление рода Годунова и бесчестие последней его отрасли, Ксении. Хотя Борис погубил нас – но мщение чуждо душе моей, и преступления его не оправдывают беззаконий нового царя. Но во всем, что ты мне рассказал о царе, вижу не злобу и не жестокость сердца, а безрассудство, легкомыслие и какое-то непостижимое ослепление. Он может погубить Россию противу своей воли!
– И погубит! – воскликнул князь. – Носится слух, что он намерен уступить Польше и тестю своему целые области. Иезуиты уже заводят свою школу в самом Кремле. Чего ожидать после этого?
– Надобно открыть царю истину и указать пропасть, в которую он низвергнет себя и отечество… Это долг каждого русского…
– Была бы спасена Россия, а он – провались, окаянный! Было ему говорено, но слова русских не достигают каменного его сердца. Носятся даже слухи, что он чернокнижник! Да и нельзя этому не верить. Видно, что он совещается с дьяволом, когда не хочет слушать добрых граждан!
– Чернокнижник ли он – этого не знаю, ро что касается до его царского происхождения, то до сих пор истина еще под покровом. Я говорил в Угличе с Варварою От-репьевою и с младшим сыном ее. Она сказала мне, что имеет другого сына, Юрия, который в юных летах вступил в монашество под именем Григория; но что с тех пор Григорий не возвращался на родину и уже лет десять, как вовсе не дает о себе никакой вести. Он ли воссел на престол под именем Димитрия, этого не знает наверное Варвара, хотя и слышала о сем от брата мужа своего, Отрепьева-Смирнова, который сослан теперь в Сибирь за то, что ездил к королю Польскому от Годунова уличать нынешнего царя в самозванстве. Варвару также заключили в темницу за то, что она разглашает слышанное от своего деверя. Конечно, все это дела сомнительные, нечистые, но не явные улики. А что говорит царица-инокиня Марфа?
– Страдав тридцать лет в заточении и терпев всю жизнь гонения от Бориса, она признала бы сыном всякого, кто только захотел бы освободить ее. Царь наружно чтит ее и ласкается к ней; она платит ему тем же, а что она думает – Бог знает!
– Благодарю тебя за откровенность, – сказал митрополит. – Я сам хочу поговорить с царем и царицею-инокинею; ты же будь спокоен; слова твои пали, как на дно кладезя. Теперь прощай, мне надобно идти на молитву. Завтра я увижусь с князем Василием Ивановичем Шуйским. Предуведомь его!
* * *
Для иезуитов отвели дом боярина князя Глинского в Кремле. Усердные к своему долгу патеры устроили в одной комнате римско-католическую церковь и на воротах дома выставили таинственный знак своего общества. С негодованием взирали русские на сие соблазнительное нарушение древних обычаев и почитали это ругательством над православием и покушением к его низвержению. С ужасом ожидали москвитяне сего события и намеревались погибнуть за дом Пресвятыя Богородицы, за православную церковь. Добрые граждане обходили кругом дом иезуитов как место, зараженное язвою, и, встречая на улицах патеров, удалялись от них, крестясь, как будто от волшебников. Но, ослепленные ревностью к распространению римской власти, отцы-иезуиты не замечали народной к себе ненависти; думали, что русские легко последовали бы их учению, если б царь стал споспешествовать их замыслам и если бы буйное польское воинство не озлобляло граждан своими поступками. Отцы иезуиты составили новое предначертание к исполнению своих замыслов.
Вечером патеры Левицкий, Савицкий, Поминский, Черниковский и Красовский собрались на совещание и уселись за круглым столом, на котором стояла серебряная фляга с венгерским вином.
– Пан воевода Мнишех привез с собою тридцать бочек этого вина, – сказал патер Савицкий, опоражнивая бокал, – право, жаль поить им русских. Они не знают в нем вкуса. Это настоящее кардинальское винцо!
– Гораздо было бы лучше, если бы пан воевода не привозил этого вина, – сказал патер Левицкий. – Здесь и без того все как в чаду. Если б при дворе менее пили и веселились, то имели бы более времени заняться делом. Это настоящий Содом и Гоморра! Каждый день балы, маскарады, танцы, банкеты, музыка; время летит, а дела не делаются!
– Справедливо! – возразил патер Поминский. – Я сам несколько раз напоминал царю, что пора начать действовать; напоминали ему и Мнишех, и Рангони чрез своего племянника; писал к нему и сам папа, но нет толку!
– Царь сказал мне еще в лагере под Москвою, что он не надеется истребить в России греческую веру и не хочет мешаться в это дело, – сказал патер Савицкий. – Он только обещал не препятствовать нам действовать. Но когда папа не требует теперь совершенного истребления греческой веры, а только хочет, чтоб Россия признала власть Рима и чтоб царь ввел унию, то ему никак нельзя отказаться от этого.
– Он обещал это, – примолвил патер Красовский.
– И не исполняет обещания, – возразил патер Левицкий. – Медлит, откладывает со дня на день и, кажется, обманывает нас.
– Неблагодарный, – воскликнул патер Поминский, стукнув стаканом по столу, – не нам ли он обязан всем: воспитанием и престолом? Без нашей воли и помощи он всю жизнь переменял бы тарелки за столом панским или держал стремя. Соединение церкви восточной с западною – вот цель всех наших усилий, а не возведение на царство этого бешеного бойца! Он забыл, кажется, кто он, как вышел в люди, зачем возвышен, кем? Забыл, что он чадо нашего предначертания!
– Не гневайтесь, почтенный брат, – возразил патер Савицкий, – он, право, добрый малый! Ветрен, легкомыслен, тщеславен, но это пороки молодости. Дайте ему насладиться плодами победы!..
– Пустое! – сказал с гневом патер Поминский. – Он имел довольно времени натешиться. Он просто боится оскорбить своих попов и бояр – и обманывает нас. Надобно его принудить к исполнению своего обещания.
– Принудить! Какое средство имеем мы к этому? – сказал патер Красовский. – Неужели мы объявим войну царю за нарушение трактата?
– Да, войну, войну иезуитскую! – возразил патер Поминский. – Послушайте, почтенные братья! Вы знаете наши правила. Чем должно обуздывать и понуждать людей? Страхом. Чем воспламенять их? Надеждою. Здесь надежда не подействует, ибо царь получил более, нежели надеялся; итак, должно употребить страх. Надобно заставить его бояться, подвергнуть опасности и привести в такое положение, чтоб он снова нуждался в нашей помощи. Тогда скажем ему: гибни или вводи унию!
– Прекрасно, превосходно, бесподобно, славно! – воскликнули все патеры. – Виват почтенный брат, я пью за ваше здоровье, – сказал патер Савицкий.
– И я, и я, и я! – повторили все патеры и осушили кубки до дна.
– Мысль прекрасная, достойная сына Лойолы, – сказал патер Левицкий, – но как ее исполнить?
– Я все обдумал и уладил, – отвечал патер Поминский. – Слушайте. Вы знаете, почтенные братия, что многие бояре недовольны царем за предпочтение, оказываемое полякам, и за страсть его ко всему иноземному. Помните дело князя Шуйского? Этот гордый, самолюбивый боярин никогда не простит царю той обиды, которую он перенес, быв предан в руки палача и претерпев пытку. Величайшее неблагоразумие царя в том, что он приблизил к себе снова человека, столь жестоко им оскорбленного. Я советовал ему или не начинать этого дела, или, начав, кончить порядком. Но он послушался баб и сделал глупость. Хитрый Шуйский льстит царю, изгибается пред ним и ползает, изыскивая случай, чтоб уязвить смертельно, подобно змее. Шуйский – глава недовольных новым порядком вещей. Он еще не смеет составить заговор, опасаясь измены, но если возбудить его к тому надеждами – то он готов на все. Итак, надобно заставить Шуйского составить заговор на жизнь царя, постращать его этою опасностью, а после спасти с условием немедленно ввести унию и, обнаружив заговор, одним ударом истребить всех противников нововведений, то есть Шуйского со всеми его клевретами.
– Позвольте поцеловать себя и прижать к братскому сердцу! – воскликнул в восторге патер Левицкий.
Все патеры бросились обнимать патера Поминского.
– Теперь позвольте спросить, почтеннейший брат: как же вы устроили это дело? – сказал патер Савицкий.
– Вы знаете, почтенные братья, русского дворянина Золотого-Квашнина, который бежал в Польшу от гнева Иоанна Грозного и долго жил в Львове? – сказал патер Поминский (123).
– Знаю его, очень знаю! – сказал патер Левицкий. – Человек умный и хитрый.
– Он в большой милости у князя Василия Шуйского, – примолвил патер Поминский, – и так же недоволен нашим питомцем за то, что он не дал ему боярства по обещанию. Я в связях с Квашниным… мы имели общие дела в Польше… он имеет нужду во мне… словом, я могу употребить его в дело.
– Ваше изобретение, следовательно, вам принадлежат исполнение и слава, – возразил патер Савицкий. – Мы будем помогать, как только можем.
– Но этот Золотой-Квашнин мне весьма подозрителен, – сказал патер Левицкий. – Я должен теперь сознаться вам в моей неосторожности и в моих подозрениях, чтоб предостеречь насчет Квашнина. Когда наш питомец открылся в Польше, этот Квашнин весьма часто посещал меня и не хотел пристать к искателю короны Московской прежде, нежели удостоверится, что он имеет довольно силы к исполнению своего намерения. Квашнин обещал с своей стороны найти искателю сильных приверженцев в России. Чтоб убедить Квашнина, я показал ему несколько писем от братии наших из Рима – и что ж? Чрез несколько дней мой ларчик с письмами и другими бумагами пропал из моей кельи, и Квашнин более ко мне не являлся!
– Потеря писем – важное дело! – сказал патер Поминский. – Но нельзя думать, чтоб их похитил Квашнин. Впрочем, вы знаете, почтенные братья, что мы должны открываться только вполовину людям, не принадлежащим к нашему обществу. Не бойтесь, Квашнин не обманет меня!
– Надеемся! – примолвил патер Савицкий с улыбкою. – Итак, дело решено. Шуйского возбудить к заговору, настращать царя – и аминь!
– За здравие великого механика и доктора белой магии! – сказал патер Черниковский с улыбкою, осушив бокал.
– Виват! – воскликнули отцы иезуиты, опорожнили бокалы и, поклонясь чинно друг другу, пошли в свои комнаты отдыхать, радуясь, что открылось новое поприще для их деятельности.
* * *
Лжедимитрий не любил Кремлевских палат. Мрачные покои, голые стены наводили на него скуку и грусть. Сломав деревянный дворец Годунова, он велел построить для себя большой деревянный же дом на европейский образец над Москвою-рекою, в тылу других царских палат, и украсил его богато и изящно. Стены обиты были персидскими шелковыми тканями, полы устланы коврами, окна убраны занавесями, печи складены из разноцветных изразцов и огорожены серебряною решеткой. У дубовых дверей резной отделки были позолоченные замки. Во всех комнатах вместо скамей были позолоченные стулья, покрытые бархатом. У крыльца стояло медное изображение Цербера. Три челюсти его разверзались от прикосновения к изваянию и производили стук и звон к ужасу суеверных москвитян (124). В сенях и в столовой зале были мраморные истуканы древних богов и мудрецов Греции и Рима. В сем новом дворце во всем соблюдаемы были иноземные обычаи; все слуги одеты были по-венгерски. Стражу вокруг дворца содержали сто человек иноземных воинов, называемых драбантами. Их было всего 300 человек в трех дружинах под начальством капитанов: француза Маржерета, ливонца Кнутсена и шотландца Вандемана. Воины дружины Маржеретовой носили красные бархатные полукафтанья и бархатные же плащи, обшитые золотым позументом; вооружены были они бердышами с золотым царским гербом; древки обтянуты были красным бархатом, увиты серебряною проволокою с серебряными гвоздями и украшены золотыми и серебряными кистями. Воины дружины Кнутсена имели полукафтанья из фиолетовой камки, обшитые по швам красными бархатными снурками с красными закидными рукавами; они вооружены были алебардами. Воины дружины Вандемана имели одежду того же покроя из зеленой камки с зелеными бархатными нашивками; они также вооружены были алебардами (125). Царь появлялся в русском платье только в старых Кремлевских палатах и соблюдал некоторые древние русские обычаи только в Думе, на пирах и в общественных приемах. Тогда царь вел себя гордо и хранил все приличия своего сана. В новый дворец допускаемы были только те из бояр русских, к которым царь благоволил особенно: здесь он обходился без принуждения с своими приближенными и жил как частный человек. Комнаты царицы Марины Юрьевны отделены были от царских галереею, где находилась внутренняя стража.
У царя обедали польские послы: Николай Олеснецкий, кастелян Малаговский и Александр Гонсевский, староста Виленский, воевода Мнишех, сыновья его – староста Саноцкий и староста Красноставский, три брата Стадницких, подстолий Немоевский, два князя Вишневские, Любомирский и много других панов. Из приближенных царя были только Меховецкий и Басманов. После обеда царь позволил всем присесть, и сам, прилегши на подушках софы, стал разговаривать с своими гостями.
– Ну, как вам нравится моя столица, почтенные мои гости? Сознайтесь, что в Польше нет такого обширного города. Знаете ли, что Москва в окружности имеет более 20 верст?
– Правда, что город обширен, – отвечал пан Гонсевский, – но позволь сказать тебе, государь, что только Кремль, укрепленный каменною стеной с зубцами и башнями, можно назвать городом. Твой большой дворец с теремами, с Грановитою, Золотою и Столовою палатами есть памятник величественной старины. Церковь и колокольня Ивана Великого, напоминающая два великие бедствия для России, голод и похитителя престола Годунова, есть одно из удивительных зданий в мире по необычайной величине и размеру. Фроловские, или, как другие называют, Спасские ворота с своею башнею – прекрасное здание, вкуса изящного. Более ничего нет замечательного, кроме церквей и Кремлевских башней!
– Вы слишком строги в сужде" иях, – возразил Мехо-вецкий. – Храмы Божий составляют лучшее украшение всякого города, а едва ли есть где столько прекрасных церквей, как в Москве. Правда, что новогреческая архитектура, по правилам которой построены здешние церкви, кажется нам странною, но она хороша в своем роде. Наши готические костелы высоки и обширны во внутренности; здешние храмы, кроме некоторых соборов, низки внутри, и кажется, будто одними башнями и главами возносятся от земли к небу. Но церкви сии приятны на вид и чрезвычайно богаты украшениями. Вы, вероятно, удивлялись красоте и богатству Успенского собора, церкви Рождества в горах, Архангельскому собору, Чудовской и другим церквам в Кремле. Что же касается до Троицы на рву, построенной знаменитым итальянским архитектором Аристотелем по повелению родителя нашего милостивейшего государя, то это, без сомнения, одно из прекраснейших зданий в Европе. Но как можно мне исчислять все церкви, когда их в одном Кремле 35 каменных, а всех больших и малых в целой Москве до 450, кроме приделов! Нет, государи мои! Москва – город удивительный: это северный Рим!
– Дай Бог, чтоб Москва была другим Римом во всех отношениях, – примолвил воевода Мнишех.
– Шведский посланник Петрей сказывал мне, что всех церквей, больших и малых, с приделами и часовнями, до 4500,– примолвил Олесницкий, – и будто всех домов и хижин 416000! Мне кажется, это сказка!
– Преувеличено, но если считать все домы и домишки в Москве и посадах, то будет, верно, половина, – примолвил Басманов. – Если счесть также все домашние церкви (а у нас в каждом богатом доме есть церковь), тогда и этот счет близок к правде.
– Ты считал церкви, Меховецкий, а известно ли тебе число колоколов? – сказал царь.
– Нет, государь!
– Не менее пяти тысяч, – примолвил царь, – а тот, что висит на деревянной колокольне в Кремле, имеет в себе весу до тысячи пуд!
– Верю этому, – сказал, улыбаясь, Олесницкий, – ибо в праздники, когда ударят во все колокола, невозможно разговаривать не только на улице, но даже дома.
– Я слыхал, что в этот большой колокол звонят тогда только, когда царь едет в дальний путь или возвращается в столицу, – сказал Олесницкий.
– И когда принимает знаменитых иностранцев, – примолвил царь, – что было и при вашем въезде, любезные мои гости.
– О церквах ни слова, – сказал Гонсевский, – их много и они прекрасны, но что касается до частных зданий, то их вовсе нет в Москве; каменных домов весьма мало, и они так рассеяны, что столица кажется не городом, а соединением множества сел. Кроме нескольких каменных домов в Кремле и Китае-городе, домы самых зажиточных людей деревянные, малые и тесные. Большое крыльцо с навесом и дощатая свислая кровля придают дому вид странный. Не красота архитектуры, но высота дома и пространство двора, застроенного кладовыми и чуланами, почитается великолепием! Даже деревянных двухъярусных домов немного; большая часть жителей помещается в лачугах. Улицы чрезвычайно грязны, и едва некоторые из них вымощены бревнами. Я говорю это не в укор твоему народу, государь, но для того, чтоб возбудить в тебе охоту сделать из Москвы город, более достойный быть столицею твоего обширного государства.
– Вы совершенно правы, господа, – отвечал царь, – что Москва, кроме Кремля, ничем не похожа на европейский город и имеет вид огромной деревни. Но каким бедствиям подвергалась она беспрерывно! Еще в 1571 году Крымский хан Девлет-Гирей сжег и опустошил Москву до основания, погубив более 800000 воинов и мирных жителей. Пока мы не истребим этого разбойничьего гнезда, Россия никогда не будет спокойною, и города никогда не застроятся порядочно. Русский живет в своем доме, как в шатре, беспрестанно ожидая неприятеля. Я приведу все это в порядок! Выгоню татар из Крыма и турок из Константинополя!
– Да поможет тебе господь Бог! – сказал воевода Мнишех.
– Видно, что после этого бедствия. Москва не успела еще оправиться, когда в самой средине города такое множество пустырей, лугов и огородов, – сказал князь Адам Вишневецкий. – Признаюсь, государь, нам показалось странным, что даже у самого твоего дворца – луг, на котором, как говорят, накашивают сена до 600 возов!
– Это наш русский обычай строиться просторно, – возразил царь, – это служит к избежанию пожаров, частых и опасных в деревянных городах. В целой России, так как и в Москве, между домами находятся рощи, сады, огороды и луга.
– Но о садоводстве здесь не имеют ни малейшего понятия, – примолвил Олесницкий. – Три сада твои, государь, в Кремле занимают обширное пространство, но расположены без всякого порядка, и за деревьями нет никакого присмотра.
– Я уже приказал развести сад нынешнею же весною по образцу итальянскому, – примолвил царь.
– Впрочем, я не виню царей, предков твоих, в нерадении о частных зданиях, – сказал Гонсевский, – они должны были пещись о безопасности, а не о украшении своей столицы. Чего стоили постройка и содержание этих обширных укреплений!
– Справедливо! – сказал Меховецкий. – Ни один город не имеет столько стен. Во-первых, Кремлевская огромная стена с башнями защищает царское жилище; во-вторых, каменная стена с башнями окружает Китай, средоточие торговли; в-третьих, каменная же стена защищает Царев-город, и, наконец, деревянная крепкая стена, или срубы, засыпанные песком и камнем, с башнями окружает Скоро дом. Но кажется мне, что на содержание сих укреплений издержки вовсе излишни, ибо трудно собрать столько войска, чтоб защищать их.
– У нас каждый гражданин воин, – возразил Басманов.
– Позвольте спросить, – сказал князь Вишневецкий, обратясь к Басманову, – что называете вы, собственно, городом Москвою?
– Кремль, Китай, Царев-город, Скородом, Замоскворечье и Дворцовая слобода за Яузою составляют город. Немецкая слобода, жилище иноземцев, и Красное село, где живет семьсот семей ремесленников и торгашей, не принадлежат к городу и называются посадами (126).
– Мне кажется, государь, что прежде, нежели ты приступишь к перестройке города, надобно бы переменить, хотя несколько, здешние обычаи и ввести европейский образ жизни, – сказал Гонсевский. – На днях мы обедали у знатного и богатейшего боярина Мстиславского и, признаюсь, крайне изумлены были удивительным смешением бедности с богатством, роскоши с дикостью. Кушанья было много, но все приправлено таким горьким маслом и так нечисто, что мы ничего не могли есть, кроме пирогов и жаркого. Все кушанья подаваемы были на оловянных блюдах, а похлебки в медных полуженных. Только хозяину и двум из нас положены были серебряные ложки, а прочим гостям – деревянные (127). Тарелок вовсе не было, и мы должны были есть из блюд и судков. Но при безвкусии яств и бедности в посуде множество превосходных медов и вин подаваемы были в серебряных и золотых ковшах, бокалах и стопах. Нас угощали в трех комнатах, в которых, кроме простых деревянных столов и скамеек, не было никаких мебелей. Стены обиты цветною бумагой, скамьи покрыты коврами, и все богатство комнат и единственное их украшение составляют образа в золоченых серебряных окладах с жемчугом.
– Все это следы татарского ига, – сказал царь. – Наши предки старались запасаться только тем, что можно было легко укрыть и перевезти на другое место. В России один царь имеет золотую и серебряную посуду и дорогие украшения в комнатах; прочие живут, как в стане; но хлебосольство у нас такое же, как и у вас. Это славянская добродетель! У нас есть пословица: "Не красна изба углами, а красна пирогами".
– Вы забыли, господин посол, описывая обед князя Мстиславского, об одном прекрасном русском обычае, – сказал князь Адам Вишневецкий с улыбкою. – Помните ли, как вам нравилось, когда прекрасная хозяйка, жена князя, вынесла нам водку на подносе и, потчевая, целовала нас в уста! Не правда ли, что это хорошо?
– Этого обычая не должно истреблять, – примолвил, улыбаясь, Гонсевский.
В сие время слуга доложил царю, что бояре, и между ними князья Шуйские, ожидают на крыльце позволения представиться царю.
– А вот и мои бояре проспались! – сказал с улыбкою царь. – Они скорее согласятся претерпеть побои, чем изменить древнему обычаю – не спать после обеда. Пусть подождут на свежем воздухе: это разгонит их дремоту.
Гости откланялись и вышли; остались только тесть царя, воевода Мнишех, и безотлучные любимцы Меховецкий и Басманов.
– Признаюсь, государь, любезнейший мой сын, – сказал Мнишех, – что мне не нравится твой боярин князь Василий Шуйский: этот малорослый старичишка с отвратительным лицом, подслепыми глазами, носит лесть на языке, а яд в сердце (128). Ты напрасно слишком доверяешь ему, любезнейший сын!
– Правда, что он безобразен, – примолвил царь с улыбкою, – но умен, рассудителен и лучше всех других бояр понимает дело и знает Россию. Какая мне нужда до его чувств? Я не боюсь ничего и для совета моего ищу только людей разумных. Любит ли он меня или нет – мне до этого нет нужды.
– Он уже умышлял измену, государь, – сказал Басманов, – и если б не предупредили его, то, верно, возжег бы мятеж противу тебя.
– Которого сам был бы первою жертвою, – возразил царь. – Верю, что он мог бы собрать десятка два сорванцов; но они рассеялись бы при моем появлении и выдали зачинщика. Все пустое! Народ и войско мне преданы, а бояре ничего не смеют предпринять. Могут болтать вздор по углам – и только!
– Ты слишком самонадеян, государь, любезнейший сын, – сказал Мнишех. – Народ легко соблазнить, и, если мы не станем наблюдать за боярами, они могут повредить нам в общем мнении.
– И тем более, что наши поляки ведут себя дурно, неприлично, буйно! – примолвил Меховецкий с жаром. – Если б русские прибыли к нам в Краков за чем бы то ни было и осмелились таким образом оскорблять смиренных граждан, то не обошлось бы без кровопролития. Я удивляюсь, государь, терпению твоих русских! Ты наградил всех прибывших с тобою поляков и велел им возвратиться в отечество. Послушались ли они тебя? Нет. Живут в Москве без всякого дела, занимают лучшие домы и пируют на счет своих хозяев, оскорбляя их беспрерывно. Этому должен быть конец, иначе русские возненавидят всех нас и, наконец, – тебя, государь!
– Пустое, все пустое! – сказал царь, улыбаясь. – Великая беда, что воин пошалит на постое! Вы все представляете себе в ужасном виде по пословице: "У страха глаза велики". Пусть мои воины поживут весело; после им и самим захочется домой, а мои добрые москвичи все забудут, лишь только я приласкаю их!
– Государь! в Москве сильно негодуют на то, что здесь собралось такое множество вооруженных иноземцев, – сказал Басманов. – Виданное ли дело, – говорят в народе, – чтоб ехать на свадебный пир, как на войну. Москва – как будто город, взятый на копье! Должно переносить насилия и обиды Бог знает за что и от кого! Верно, царь не любит нас, когда попускает обижать чужеземцам. Вот как толкуют!
– Толкуют вздор и перестанут! – возразил царь. – Они должны знать, что это обычай польских панов ездить в гости с своими воинами.
– Государь и любезнейший сын! – примолвил Мнишех, – ты не веришь нам, что бояре твои замышляют противу тебя что-то недоброе. Поверь хотя другу твоему Рангони, поверь святому отцу папе! Они также извещают тебя, что даже в чужих краях носятся слухи о нерасположении к тебе бояр.
– Бабьи сплетни! – возразил царь. – Что могут сделать бояре? Кто осмелится сказать слово?
– Они будут молчать и крамольничать, – примолвил Меховецкий.
– Оставьте это: вы напрасно смущаете себя и приводите меня в гнев, – отвечал царь. – Все тихо, спокойно, весело, и если есть два-три беспокойные старца, то об этом и думать не должно. Введите бояр!
Басманов поклонился царю и сказал:
– Повинуюсь тебе, но осмеливаюсь припомнить слова Писания: "Сии мужи помышляющий суетная, и совет творящий лукав в граде сем" (129). Сказав сие, Басманов вышел и возвратился с боярами: князьями Василием и Димитрием Шуйским, князем Василием Васильевичем Голицыным, Иваном Семеновичем Куракиным и Михаилом Игнатьевичем Татищевым. Бояре остановились у дверей и, помолясь, поклонились в пояс государю.
– Что нового? – спросил царь.
– Государь! получены вести из Переяславля, что отправленный в ссылку бывший боярин Семен Никитич Годунов растерзан на части разъяренною чернью! – сказал князь Василий Шуйский.
– Туда и дорога! – примолвил царь. – Суд Божий! А где девалась его колдунья?
– Бросилась в воду, – отвечал князь Куракин.
– Напрасно! Место ей на костре, – сказал царь. – Нет ли слуху о чернеце Леониде Криницыне?
– Нет, государь! – отвечал князь Василий Шуйский. – С тех пор как народ освободил его из тюрьмы во время восстания при Федьке Годунове, о чернеце этом ни слуху ни духу.
– Жаль! Умный и твердый человек, – сказал царь. – Я хотел поставить его в митрополиты. Он странствовал со мною, когда я укрывался от гонений Бориса.
– Но я слыхал, что этот чернец враг твой, государь! – примолвил князь Куракин.
– Какая мне нужда до его вражды или дружбы, – возразил царь. – Врагом или другом моим может быть только венчанный царь. Этот чернец любит Россию, и я заставил бы его быть мне полезным. Знаю я, что у меня есть враги и между боярами, но я не боюсь их и презираю, как мух, которые кусают человека, но не съедят его.
– Какие у тебя враги, государь! – сказал князь Василий Иванович Шуйский. – "Речение бо злобы помрачает добрая" (130). Не верь изветам и козням! Ты изволил, государь, подозревать и меня, верного слугу твоего, а в целом царстве нет преданнее тебе человека, как я! Повели что угодно – увидишь, что исполню, не жалея головы и животов. Мы все рады умереть за тебя, нашего царя законного, великого и непобедимого господина! Твоими устами глаголет сама мудрость, в сердце живет благость. "Возвестиша небеса правду его, в видеши вси люди славу его!" (131). Чего нам ждать и желать лучшего? Да и смеем ли мы помышлять о царе, Богом поставленном над нами? Изжени всякое сомнение из сердца, государь мудрый и правосудный, и верь нам, как детям своим, любящим тебя, как отца и благодетеля. Каких желаешь доказательств нашего усердия к тебе? Вымолви, надежа-государь, и мы устремимся в огонь и в воду, на копья и мечи, чтоб купить тебе един миг веселия и спокойствия!
– Рады умереть за тебя, государь! – воскликнули все бояре и поклонились в пояс государю.
– Довольно, довольно! – сказал царь. – Верю вам и благодарю. А вы, почтенный мой тесть, напишите в Польшу и в Рим то, что слышали от первых бояр моего государства. – Царь встал и вышел из комнаты.
* * *
Царица Марина Юрьевна созвала к себе на вечеринку знатнейших русских боярынь с их дочерьми в новые Кремлевские палаты. Более других пользовались уважением при дворе супруги: князя Федора Ивановича Мстиславского, первого сенатора, Прасковия Ивановна; князя Дмитрия Ивановича Шуйского, Катерина Григорьевна; боярина Григория Федоровича Нагого, Мария Андреевна; боярина Михаила Александровича Нагого, Ирина Александровна; князя Василия Федоровича Скопина-Шуйского, Елена Петровна; князя Никиты Романовича Трубецкого, Авдотия Михайловна; боярина Андрея Александровича Нагого, Зиновия Абросимовна; князя Михаила Васильевича Мосальского, Мария Ивановна; князя Владимира Васильевича Кольцова-Мосальского, Марфа Ивановна; думного дворянина Якова Васильевича Зюзина, Анна Михайловна. Между девицами отличалась всех более красотою дочь князя Петра Ивановича Буйносова-Ростовского, Мария Петровна, невеста князя Василия Ивановича Шуйского (132). Из польских пань были: пани Тарло, пани Гербурт, пани Казановская, пани Любомирская, княжна Коширская, пани Хмелецкая, пани Освенцимская (133) и некоторые из благородных девиц, прислужниц царицы. Марина Юрьевна одета была по-русски, в богатой парчовой ферязи, в атласном червленом летнике с голубыми, синими вошвами. На голове имела она алмазный венец, от которого в тыл ниспадала легкая фата, или покрывало, на польский образец. На ногах были сапожки красного сафьяна. Боярыни были также в богатых парчовых или шелковых ферязях с позументом и жемчугом, в шелковых летниках с вошвами из ткани другого цвета или в кармазинных опашнях с длинными до земли рукавами. Некоторые боярыни имели на голове парчовые кокошники, унизанные жемчугом и цветными каменьями, а другие – богатые шитые платки. У девиц волосы заплетены были в широкую косу, перевитую золотыми нитками, к которой привязан был треугольный косник, унизанный жемчугом и цветными каменьями. По челу была повязка из лент или позумента, с жемчужными поднизями. Женщины и девицы носили длинные золотые серьги с изумрудами и рубинами и широкие золотые зарукавья сканной работы с дорогими камнями и жемчугом; на шее были дорогие жемчужные монисты, а на пальцах множество колец и перстней. Все русские женщины были сильно набелены и нарумянены. На. ногах имели сафьянные цветные сапоги, окованные серебром (134).
Когда все гости уселись на скамьях, покрытых бархатными подушками, прислужницы царицы внесли на золотых подносах разные лакомства: сахарные коврижки, плоды, варенные в сахаре, сахарные закуски разных видов, раскрашенные и раззолоченные, – и, обошед кругом, поставили подносы на столах. Русские боярыни и боярышни чинно брали с подноса лакомства и, привстав, кланялись царице, не смея отведать, пока царица не повторила каждой гостье повеления кушать на здоровье. Для возбуждения смелости в жеманных собеседницах царица велела поднесть боярыням по рюмке токайского вина, самого сладкого. Боярыни, прикушивая, морщились, как будто глотая горечь, качали головою и не хотели пить, пока царица не повелела. Тогда все выкушали, прихлебывая потихоньку, приморщиваясь, потупляя глаза и закрываясь рукавом. Девиц не потчевали. Ласковость и добродушие царицы разогнали понемногу смущение и застенчивость собеседниц, и вскоре начался общий разговор, любопытный для Марины, жаждущей познать обычаи русские.
Царица. Давно ли ты видела жениха своего, княжна Мария Петровна? Он, видно, очень любит тебя, потому что со слезами благодарил супруга моего, государя, за позволение жениться.
Княжна Буйносова-Ростовская покраснела, потупила глаза и не знала, что отвечать. Тетка ее, княгиня Трубецкая, сказала за нее царице.
Княгиня Трубецкая. Да у нас, матушка-царица, непристойно видаться с женихом перед свадьбой! Злые люди не ведь бы что заговорили (135).
Царица. Да ведь надобно ж познакомиться прежде, нежели идти под венец!
Ирина Александровна Нагая. Зачем знакомиться, матушка? Это не девичье дело. Долг родителей выбрать жениха невесте, а познакомиться будет довольно времени и после свадьбы!
Пани Тарло. Но если не знакомиться, все-таки надобно свидеться. Как же узнает жених, какова его невеста?
Ирина Александровна Нагая. А свахи-то на что? Они так распишут тебе жениха и невесту, что покажется краснее ясного солнышка.
Пани Хмелецкая. Ну как же после они будут любить друг друга, когда свахи не то скажут, что есть в самом деле?
Княгиня Скопина-Шуйская. Слюбятся, матушка, слюбятся! А, впрочем, нечего греха таить. Бывает иногда, что жених подсмотрит где-нибудь украдкою невесту прежде, чем задумает жениться, но уж невеста, верно, не увидит его, пока родители не уладят дела.
Царица. А если родители согласятся, а невесте жених не понравится? Что ж будет тогда?
Княгиня Катерина Григорьевна Шуйская. Как можно невесте выбирать женихов! Да ведь это большой грех! Она должна идти замуж за того, кого укажут родители.
Царица. А если окажется, что жених урод, как же станет любить его красавица?
Княгиня Мария Ивановна Мосальская. Хорош ли, не хорош, а все православный, все муж, так и надобно любить. Ведь муж хозяин, господин в доме, так что прикажет, то и будет.
Анна Михайловна Зюзина. И под венцом священник читает из Писания: "Жена до боится своего мужа".
Царица. Бояться и любить – большая разница!
Княгиня Прасковья Ивановна Мстиславская. Как не любить мужа! Вот, матушка-царица, твои польские боярыни сожалели, что меня молодую выдают замуж за пожилого боярина, а посмотрела бы ты, царица-матушка, чем он наградил меня! Парчой и шелковых тканей полные сундуки; жемчугу – как гороху, шуб всяких целый воз и всякой всячины несметное число! А сверх того наделил меня таким множеством прислужниц, и все такими искусницами, что в целой Москве вряд ли сшить так, как у меня, вряд ли наслушаться таких песен и таких страшных сказок! Дай Бог ему здоровья! А ведь до свадьбы-то я не видала в глаза моего князя.
Княгиня Катерина Григорьевна Шуйская. Да мы и после свадьбы мало видаем мужей. Они все то во дворце царском, то в Думе, то на пиру, то в приказе, то в посылках и службах, а чаще в ссылках и в опале; так все бедная жена сиди одна в тереме! Простым людям житье привольнее с женами, чем нашим мужьям, боярам.
Царица. Чем же вы занимаетесь дома?
Княгиня Катерина Григорьевна Шуйская. Ах, матушка, да если сказать правду, так иногда и веселее бывает, как без мужа останешься сама большою в доме! Летом так ездим одна к другой в закрытых колымагах, погулять в саду, покачаться на качелях, потешиться песнями, посмотреть, как красные девицы играют в горелки, в хороводы. Зимой разгуливаем в крытых санях, съезжаемся на вечеринки. Там опять песни, сказки, хохот; играют в разные игры, хоронят золото, гадают, и не видим, как летит время.
Княгиня Мария Ивановна Мосальская. Есть и дело между бездельем. Иногда вышиваем золотом платки, ширинки да нижем жемчугом воротники для мужниных рубах, а для себя кокошники, делаем повязки.
Пани Хмелецкая. Верно, также занимаетесь хозяйством?
Княгиня Шуйская. Нет, матушка! нам, княгиням и боярыням, непристойно заниматься этим, это дело черного народа. У нас есть дворецкие и хозяйки, ключники и ключницы, повара и стряпухи, так они и хлопочут, чтоб все дома были сыты и одеты. Ведь нас и Господь Бог создал на то, чтоб мы ничего не делали. Работа для холопей!
Царица. А читаете ли вы какие книги?
Княгиня Шуйская. Ах, матушка-царица! Да начто нам знать грамоту? Женское ли дело заниматься этим? Ведь нам не судить, не рядить и не молебны петь. В посты, так иногда призывают церковника или чернеца читать пред всеми в доме поучения и житие святых, так и тогда довольно наслушаешься всякой мудрости. Ах, матушка! не дай Бог, чтоб наши девицы стали грамотничать! Вот покойный Борис Федорович учил свою дочку книжному делу, да не благословил ее за то Бог. Ведь где грамота сильна, там и чернокнижество!
Царица посмотрела на своих польских дам и улыбнулась.
Царица. Нет, добрые мои боярыни! вас не так научали ваши матушки и нянюшки, как должно быть. Вот уж государь, муж мой, позволил боярам выбирать невест и беседовать вместе мужчинам и женщинам. Увидите, что как станете выходить замуж по воле, так и житье будет веселее. А я хочу, чтоб лет чрез десяток все молодые девушки знатных родов не только знали грамоте, но и умели плясать и играть на разных инструментах, как наши польки. Тогда в Москве пойдет житье веселое, и вы сами будете радоваться, глядя на своих дочек и внучек!
Некоторые боярыни тихонько перекрестились, а другие прошептали: "Спаси, Господи, и помилуй!" Молодые девицы стыдились поднять глаза при мысли, что им должно будет плясать и петь при мужчинах, как то делают польки. Но ни одна боярыня не возразила царице. Наконец Марина встала и, пожелав доброй ночи гостям, удалилась в свои комнаты. Боярыни возвратились домой в своих крытых колымагах, сопровождаемые множеством слуг с светильниками. Мысль о нововведениях и перемене обычаев приводила их в ужас. Они боялись этого, как преставления света.
ГЛАВА VII
Мстительница. Оскорбленное самолюбие. Неожиданная встреча. Астролог.
Дворянин Золотой-Квашнин, возвратясь в Москву из Польши, где он пробыл долгое время, бежав туда при Иоанне и не смея возвратиться при Годунове, враге его рода, Золотой-Квашнин с негодованием переносил хладнокровие нового царя, который, вопреки обещанию, не дал ему никакой должности. Сомнительное поведение Золотого-Квашнина возбуждало к нему недоверчивость в приверженцах Лжедимитрия, и Квашнин пристал к недовольным, будучи исстари связан узами дружбы с родом Шуйских. Недовольные дорожили приязнию Золотого-Квашнина, который обещал или представить улики в самозванстве нового царя, или доказательство, что он обещал папе ввести в России католическую веру.
В одно утро Золотой-Квашнин остановился у ворот небольшого домика в Скородоме, привязал лошадь у забора и постучался в калитку. Старик отпер ему и ввел его в избу. Здесь встретила его старуха и сказала малороссийским наречием:
– Панночка была нездорова, но теперь ей, слава Богу, легче. Коли хочешь видеть ее, она там, в светлице. Золотой-Квашнин прошел чрез сени в светлицу. Там сидела за столом, подпершись рукою, высокая молодая девица. Голова у нее, как у больной, подвязана была шелковым платком, на плечи накинута была душегрейка. Прекрасное, выразительное лицо ее было бледно; в больших черных глазах видна была томность. Она хладнокровно посмотрела на Золотого-Квашнина и снова подперла голову рукою. Старуха вышла, и они остались одни.
– Непостижимое существо! – сказал Золотой-Квашнин. – Разреши мою участь! Терпение мое истощается, но любовь не гаснет. Кто ты? Какие твои намерения? Какая цель твоих странствий? В Кракове и Львове ты называлась русскою, в стане Димитрия – полькою, а здесь, в Москве, слывешь цыганкою! Проклинаю час, в который узрел тебя в первый раз в Кракове! С тех пор не знаю покоя! Черты лица твоего как будто вписаны в моей памяти; огонь глаз твоих сожигает мое сердце, звук голоса твоего беспрерывно раздается в ушах. Мне все бы хотелось быть с тобою, видеть тебя, слышать, и никакое рассуждение не может истребить моей кручины. Сжалься надо мною!
– Я уже слышала все эти пламенные речи!.. Лесть, обман! Пожалуйста, замолчи!
– Но разве ты не обещала мне отвечать решительно, когда мы прибудем в Москву? Разве я не заслужил твоего внимания моею преданностью, послушанием? Я все исполнил, чего ты требовала. Помогал тебе укрываться во Львове, в Кракове и в стане; исполнял твои поручения, как раб; отдал тебе даже важные бумаги, которых приобретение стоило мне столько труда и опасностей. Теперь я стражду в немилости! А если б я имел эти бумаги, то царь отдал бы мне за них половину царства! Не зная твоих намерений, в ослеплении, я был твоим орудием. О, любовь, любовь! Все я принес тебе в жертву, а ты холодна, как лед. Неблагодарная, ты все забыла! Разве я предлагаю тебе что-нибудь бесчестное! Иди со мною под венец – вот все, чего я от тебя требую. Разве и в этом поступке ты не видишь безмерной моей любви? Рядовой дворянин, я имею право выбрать себе жену между первыми русскими родами, а я предлагаю руку мою неизвестной… страннице…
– Мне жаль тебя, Квашнин! Но зачем ты требуешь от меня своего несчастия? Здесь, в России, женятся без любви; но ты, привыкший к иноземным обычаям, захочешь ли иметь жену с сердцем твердым и холодным, как камень? Я не могу любить тебя, не могу любить никого… одна страсть гнездится в душе моей – ненависть!
– Ты клевещешь на себя! Может ли такое создание, как ты, жить одною ненавистью? В глазах твоих пламя, любовь…
– Прошло время! – сказала девица с горькою улыбкой. – Сердце мое знало любовь и сгорело от нее! Неблагодарность, измена сожгли сердце мое и превратили его в черный, хладный уголь, который не может воспылать ничем, только местью.
– Ты мне столько раз повторяла это и до сих пор не хочешь открыть тайны… Кто изменил тебе, кто возжег ненависть в тебе ко всему человеческому роду? Скажи, откройся, я буду твоим мстителем! Ты следуешь повсюду за царем… Не скрывается ли счастливый изменник между его ближними?.. Ужели сам царь?..
– Так, он, этот царь, погубил меня! – воскликнула девица. – Он, как змей, впился в сердце мое, отравил жизнь мою и даже покушался на убийство. Квашнин! помоги мне отмстить вероломному – и я твоя!
Квашнин всплеснул руками и отступил назад.
– Сам Царь! О, я недогадливый. Теперь открылись мне глаза!.. Ты приводишь меня в ужас!.. Сам царь!..
– Какой он царь? – сказала девица. – Это исчадие иезуитского умысла, а не чадо Иоанново. Разве ты не убедился еще из писем иезуитских?
– Но он силен, он самовластвует в России! – сказал Квашнин.
– Послушай, Квашнин, будь искренен со мною. Я все знаю. В одежде цыганской, ворожа по домам, я проникла и в дом князя Василия Ивановича Шуйского. Знаю, что вы собираетесь там, и знаю, о чем толкуете. В первое ваше собрание я сама явлюсь к вам. Требую, чтоб ты молчал до тех пор и, когда я предстану посреди вас, чтоб поручился в ненависти моей к самозванцу, похитителю русского престола. Обещаешь ли мне это?
– Обещаю! – сказал Квашнин.
– Итак, ступай с Богом! Когда дело кончится – я отдам тебе мою руку.
– Но скажи мне, кто ты? Справедливо ли, что называешься Анною?
– Нет. Настоящее мое имя Калерия. Я вольная гражданка киевская, греческого рода и веры. Прошлец, проживая в Киеве, обманул меня – но ты узнаешь все после. Довольно, если я скажу тебе, что поклялась отмстить изменнику за оскорбленную, презренную любовь, за его злодейство-и исполню клятву или умру!
Квашнин в задумчивости вышел из светлицы. Любовь, страх, мрачные предчувствия колебали его душу. Он отправился в дом, занимаемый иезуитами, куда пригласил его патер Поминский для важного дела.
* * *
В палатах царских было тихо. Царь пировал у тестя своего Мнишеха, а царица Марина Юрьевна оставалась одна в своих комнатах. Наступил вечер, и пани Хмелец-кая ввела к царице польского дворянина Осмольского и удалилась.
Осмольский придвинул запросто стул и небрежно сел возле софы, на которой покоилась Марина.
– Что с вами сделалось, прекрасная царица, царица души моей? – сказал Осмольский. – Здоровы ли вы? Я замечаю в вас необыкновенное волнение, глаза ваши красны…
– Ах, Осмольский! Я сама не своя от гнева, досады… Вообрази себе, муж мой имеет любовницу!
– Так что ж? Тем лучше! Неужели вы ревнуете? Не влюбились ли вы в своего мужа?
– Это не ревность, но досада. Неужели этот ветреник не находит меня довольно красивою, что влюбился в другую? Уж, конечно, не ум, не хитрость, не дарования соблазнили его. Ты знаешь, как воспитаны здешние женщины; итак, вероятно, что он предпочел мне другую по одной красоте!
Осмольский улыбнулся и сказал:
– Если он не умеет ценить вашей красоты, очаровательная царица, тем хуже для него! Из этого не стоит вам беспокоиться. А в кого же он влюблен?
– В дочь Годунова, в Ксению! Муж мой сказывал мне, что она заключена в монастыре, а вместо того она находится в Москве, в доме князя Мосальского, и мой изменник каждый вечер посещает ее.
– Кто же сказал вам это?
– Здесь есть какая-то молодая цыганка, ворожея. Признаюсь в слабости: мне захотелось испытать ее искусство, и она сперва открыла мне двусмысленностями о неверности моего мужа, а после рассказала все подробно.
– Предайте забвению это дело! Мое сердце вознаградит вас с избытком за потерю любви мужа.
– Нет, Осмольский! На это невозможно смотреть хладнокровно. Ты знаешь, что русские бояре не любят чужеземцев, и особенно озлоблены на меня за то, что я не приняла греческой веры. Они могут внушить мысль моему мужу развестись со мною, жениться на Ксении… О, я не потерплю этого, не потерплю! Скорее умру, чем соглашусь сложить с себя венец царский! Пусть прежде погибнет царь и царство, нежели я сойду с престола! Осмольский, если ты любишь меня, то должен помогать мне отвратить эту грозу…
– Что же вы намерены предпринять?
– Я еще и сама не знаю. Сперва я хочу видеть мою соперницу. Чрез час явится здесь цыганка, и я хочу отправиться с нею тайно в дом Мосальского. Ксения живет особо, в новопостроенном тереме; Мосальский пирует с моим мужем, и они, верно, останутся там до поздней ночи. Вы должны проводить меня.
– Охотно, только я опасаюсь, чтоб это не наделало шуму…
– Я хочу, хочу видеть мою соперницу! После посоветуемся с отцом, что должно предпринять, но прежде всего я непременно хочу видеть эту Ксению!
* * *
Ксения Борисовна плакала, стоя под иконами в своем тереме, и прижималась в угол, как робкая голубица перед лютым коршуном. Няня закрывала ее собою, а Лжедимитрий в гневе ходил большими шагами по комнате, останавливался, посматривал на царевну и снова расхаживал. Наконец он остановился пред испуганными женщинами и сказал:
– Страшитесь моего гнева, если не умеете пользоваться моею милостию! Ты, упрямая старуха, ты будешь заключена в преисподнюю и в тяжких цепях, на сырой земле будешь вечно упрекать себя в безрассудстве и в несчастии своей питомицы. Ты, Ксения, ты узнаешь, что значит оскорбленная любовь! Я берег и лелеял тебя, как нежный цвет в бурю; я сохранил жизнь твою от злобы убийц; я призрел тебя, сироту, а ты, вместо благодарности, гнушаешься мною, отвергаешь любовь мою!.. Нет, полно мне покоряться твоим прихотям, полно потворствовать!
– Ты упрекаешь меня благодеяниями, о которых я тебя не просила, – отвечала Ксения. – Ненавижу жизнь, и только из страха Божия не смею поднять на себя рук. Что для меня осталось на земле после гибели моих родных? Горесть, одна горесть! Что ты приготовил для меня? Стыд и поношение! Но я не претерплю поношения и, хоть бы предать душу на вечные муки, умру, но не посрамлю рода моего, царского сана! Довольно уже стыда, что ты осмеливаешься требовать от меня любви беззаконной; но если б ты предлагал мне и руку, и венец царский, и тогда бы я предпочла гроб брачному ложу. Ты гордишься властью, могуществом, но ты можешь только истреблять, губить, вселять ненависть в сердцах, а не в силах заставить любить себя…
– Я тебе докажу, что я в силах заставить тебя повиноваться моей воле! Слыхала ли ты, как заставлял любить себя отец мой, царь Иван Васильевич? Ты – раба моя, ты должна гордиться тем, что твой господин удостоил избрать тебя к своей забаве.
– Господи, воля твоя, до чего мы дожили! – вскричала няня, всплеснув руками. – Нет! ты не царский сын, а злой чернокнижник, когда смеешь ругаться над сиротством и слабостью. Ищи себе на Москве бездушных жен и дев, но оставь в покое царевну добродетельную! Не попущу греха и посрамления и, если ты осмелишься прикоснуться к ней, не пощажу ни тебя, ни ее, ни себя! Видишь ли это? – Няня вынула из-за пазухи нож и показала Лжедимитрию.
– Сюда, драбанты! – воскликнул Лжедимитрий. Дверь отворилась, и четыре иноземные воина вошли в терем. – Возьмите эту старуху и вытащите отсюда! – сказал самозванец, задыхаясь от гнева. – Бери ее!
Воины бросились на несчастную, у которой от страха выпал нож из рук, схватили ее и потащили. Ксения, ухватясь за няню, громко закричала. Лжедимитрий поспешил к Ксении и, взяв ее в свои объятия, отторгнул от няни. В эту самую минуту дверь в тереме растворилась и вбежали две женщины.
– Калерия! Марина! – воскликнул Лжедимитрий, пустил Ксению и остановился, закрыв лицо руками.
Марина повелительным голосом сказала воинам:
– Оставьте несчастную и удалитесь!
Царь молчал, и воины повиновались царице. Няня бросилась в ноги Марине и воскликнула:
– Спаси нас, спаси! Бог спасет и наградит тебя за нас. Спаси царскую дочь от умысла адского!
– Государь! Я не раба твоя, но жена из вольного народа, не подвластного, но союзного тебе! В сию годину стыда твоего не хочу отягчать тебя упреками, но припоминаю долг священный супружества и благодарности. Исправь беззаконие твое, оставь в покое несчастную сироту; ей каждый взгляд твой должен напоминать бедствие ее рода: она не может тебя любить! Загладь благодеяниями и милостью преступление и возвратись на путь истинный, к сердцу твоей законной жены… Бог простит тебя!
– Нет прощения злодею! – воскликнула Калерия. – Убийца, взгляни на меня! Я не погибла в волнах Днепра. Провидение спасло меня, послав рыбака, укрывавшегося в камышах во время твоего злодеяния; но ты погубил несчастный плод твоей гнусной любви, который я носила под сердцем. Чадоубийца! Посмотри кругом: вот три жертвы твоего разврата, властолюбия и козней! Для всех нас ты изготовил одну пропасть. Но есть Бог правосудный, и ты сам низвергнешься в нее. Не думай, чтоб можно было ругаться безнаказанно клятвами и добродетелью, играть честью и священными обязанностями! Ударит час мщения, расторгнется завеса козней; идол, сооруженный злодеяниями и обманом, распадется на части, и рассеются идолопоклонники! Обманул ты людей, но не обманешь Бога! Помнишь ли, что я сказала тебе на кладбище иезуитского монастыря? Кровь за кровь!
Лицо Лжедимитрия было бледно, уста дрожали. Блуждающими взорами взглянул он на Калерию и содрогнулся.
– Оставь меня, Калерия, оставь меня и не показывайся никогда на глаза. Сделаю все, что ты хочешь, только удались… чтоб я навсегда забыл тебя!
– Нет! я неразлучна с тобою ни в сей жизни, ни в будущей! Убей меня! Вот беззащитная грудь, вот то сердце, в которое ты влил отраву! Рази, не страшись! О, ты не боишься убийства! Но ты уже убил меня; я не живу более для тебя; я обличаю тебя из-за пределов гроба и несу к тебе укор твоего детища, которому ты дал смерть прежде жизни.
Между тем Марина плакала.
– Боже мой! – сказала она, – итак, все то справедливо, что говорили мне в Кракове!
Ксения, держась за няню, дрожала всем телом. Лжедимитрий был вне себя. Кровь в нем воспылала, краска выступила на лице, и глаза засверкали.
– Прочь отсюда! – воскликнул он, обратясь к Калерии.
– Иду! – сказала она тихо, горько улыбнувшись. – Иду и увижусь с тобою в день судный! Ты уже предан анафеме; вскоре грянет гром проклятия – ты увидишь меня пред вратами ада!.. – Калерия вышла, и Лжедимитрий стоял, как окаменелый.
– Государь! Умоляю тебя, отврати от себя гнев Божий и проклятия человеков, – сказала Марина. – Не преследуй более несчастной сироты, добродетельной Ксении!
– Отпусти меня в монастырь, – сказала Ксения. – Я прощаю тебе все зло и буду молиться за тебя и за супругу твою.
– Кончено! Согласен! Выбери себе обитель, завтра же отправлю тебя.
– Да исполнится воля твоя святая, Господи! – примолвила няня, перекрестясь.
– Не угодно ли, чтоб я проводил вас до дворца, государыня? – ^ сказал Лжедимитрий Марине. В безмолвии вышли они из терема и оставили Ксению и няню в изумлении и радости.
– Молись, дитятко, молись и благодари Бога, что он избавил тебя от козней демона! – Ксения бросилась на колени перед образами, а няня стала класть земные поклоны.
* * *
Лжедимитрий, введя Марину в ее комнаты, поцеловал у нее руку и сказал:
– Ты имеешь право быть недовольною. Но забудем все и простим друг другу… Я исполнил все, чего ты желала.
– Но эта Калерия, эта несчастная! – воскликнула Марина. – Страшные клятвы ее раздаются в ушах моих…
– Я не так виновен, как она говорит. Она погибла в борьбе со мною… Она угрожала мне ножом!
– Но ты, государь, разве не презрел любви ее, разве не изменил?
– Заблуждение юности, обман страстей, – возразил Лжедимитрий. – Но кончим это. Завтра не будет в Москве Ксении, и ты должна быть спокойна. Я велю отвезти ее во Владимирский монастырь вместе с ее нянею.
– Я уверена, что пребывание в Москве Ксении и твои частые посещения не укрылись от народа. Димитрий, помысли о себе! На тебя все ропщут и негодуют. Даже вернейшие друзья твои охладевают. Иезуиты недовольны, что ты, вопреки обещанию, не приводишь к папизму твоего народа. Польские послы негодуют на тебя за гордость твою, за принятие нового титула цесаря, которого они не могут признать, и грозят разрывом с Польшею, упрекая тебя в неблагодарности к Польскому королю, удивляясь, что ты до сих пор не платишь долгу и не отдаешь обещанных Польше областей. Польские паны недовольны, что призваны ко двору твоему для одного веселия, а не к должностям, как ты обещал им. Отец мой гневается, что не получил полной уплаты издержек на вооружение и до сих пор не вступил во владение обещанными ему и мне княжествами. Польские воины говорят, что полученная ими награда не соответствует их заслугам. Русские бояре оскорбляются предпочтением, оказываемым тобою полякам, и твой народ в отчаянии от своевольства буйного польского юношества. Все недовольны тобою, все ожидали от тебя более, нежели получили, а ты между тем предаешься забавам – и ничего не делаешь. По долгу жены я обязана высказать тебе истину, которая доходит до ушей моих. Прошу тебя, умоляю, займись делами, кончи все твои расчеты, отправь лишних людей из Москвы и царствуй, а не забавляйся царским достоянием. Я женщина, но, если б я самодержавствовала, тогда бы увидел мир, что может сделать воля венценосца России!
– Тебя напрасно смущают, друг мой, – отвечал царь. – Если б я имел полсвета и вдесятеро более власти, то и тогда не мог бы удовлетворить всем желаниям этой жадной толпы. Но я покажу миру, кто я таков! Лишь только выпровожу гостей моих из Москвы, соберу войско и пойду на неверных. Провозглашу крестовый поход и устремлюсь на разрушение грозного колосса, угрожающего христианству. Изгоню татар из Крыма, возьму Царь-град и заложу новую империю. Тогда займусь просвещением России… Увидишь, Марина, что я сделаю! Ты будешь восточною императрицей… Мы все уже обдумали с Басмановым. Пусть только выедут мои польские гости.
– Но ради Бога, старайся приобресть любовь своего народа. Без этого ты не сделаешь ничего великого.
– Народ любит меня. Между боярами у меня много верных слуг. Разве ты не видишь, как я благодетельствую им? Не верь, Марина, злым толкам!
– Дай Бог, чтоб все это была правда! – сказала Марина.
Лжедимитрий простился с женою и пошел на свою половину.
* * *
Лжедимитрий не мог заснуть. Ночь была тихая, звезды ярко светили на небе; все покоилось вокруг, а царь расхаживал по комнате в глубокой думе. Воспоминания о событиях его жизни, как отдаленные звуки, раздавались в ушах его, смущали его и порождали мрачные предчувствия. Слова Калерии пали на его сердце. Будущая жизнь, мучение ада, суд страшный представлялись его воображению в ужасных образах. Лжедимитрий разбудил Басманова, спавшего в другой комнате.
– Друг мой, – сказал Лжедимитрий. – Ты знаешь схимника Вассиана, который гостит теперь в Чудовом монастыре? Поди немедленно к нему и приведи его ко мне.
– В эту пору! – возразил Басманов.
– Для душевного, равно как для телесного недуга, нет положенной поры. Мне нужен врач духовный. Я хочу побеседовать с Вассианом: его почитают святым… – Царь, сказав это, не ожидал ответа и возвратился в свою комнату.
Басманов поспешил одеться и лишь только хотел выйти, царь снова позвал его к себе.
– Нет, не ходи к Вассиану, – сказал он, – я знаю наперед, что он станет мне говорить. У этих отшельников и святителей все одно и то же на языке…
– Государь! Правда одна и неизменна! Кого ни спросишь об ней в одном деле, все добрые отвечают одинаково.
– Я хотел молиться, но ум мой так встревожен, душа так омрачена и уныла, что не могу собрать мыслей. Ты знаешь, что не должно приступать к молитве в рассеянности. Поди лучше приведи ко мне патера Савицкого и вели, чтоб он принес с собою свою "Большую книгу".
Басманов вышел, а Лжедимитрий лег на постель, закутав голову, и старался заснуть, но сон бежал от глаз его.
Чрез час возвратился Басманов с патером Савицким и, оставив его в коридоре, вошел потихоньку в комнату царя. Думая, что он спит, Басманов хотел возвратиться, но Лжедимитрий быстро встал с постели и спросил:
– Здесь ли Савицкий?
– Здесь.
– Пошли его ко мне, а сам останься в своей комнате. Патер Савицкий вошел в почивальню, держа под мышкою большую книгу в черном кожаном переплете. Он поклонился царю и ожидал его повелений.
– Настоящее наводит на меня грусть, – сказал Лжедимитрий. – Пойдем, патер Савицкий, и заглянем в будущее.
Сказав сие, Лжедимитрий вышел с патером из спальни в темную комнату, а оттуда по малой крутой лестнице взошел в верхнюю светлицу. Она возвышалась над кровлею и имела четыре круглые окна, обращенные на все четыре страны света. Об этой светлице носились в Москве страшные слухи. Говорили, что царь здесь чародействует с своими латинами. На столах и вокруг стен стояли сферы и несколько оптических и астрономических орудий. На стене висели карты, изображающие созвездия. На одной большой карте начертаны были известные тогда планеты с их путями. Посреди комнаты стояла большая черная доска на ножках. Лжедимитрий сел на стуле, а Савицкий начал приготовляться к работе. Поставил песочные часы, вытер черную доску губкой, после того устремил взоры на небо и стал делать вычисления, заглядывая часто в свою большую книгу. Поработав около получаса, патер Савицкий сказал:
– Готово, государь! Не угодно ли самому выкладывать?
Лжедимитрий, не говоря ни слова, взял мел и подошел к черной доске; патер Савицкий сел на малом табурете возле окна и положил подле себя на налое свою большую черную книгу.
– Начертите пять аспектов (136), – сказал патер Савицкий. – Первый: конъюнкция, или соединение. Напишите нуль и сверху его проведите черту вправо. Второй аспект: оппозиция, или противустояние: два нуля, соединенные чертою, положение верхнего нуля несколько вправо. Третий аспект: сицигии, или триогональное явление – начертите треугольник. Четвертый аспект: квадратура, начертите… четвероугольник. Пятый аспект: секстель, начертите шестиугольную звезду. Хорошо. Теперь потрудитесь, государь, снять со стены карту сорока восьми констеллаций Птоломея и повесить ее на рамах возле черной доски. – Посмотрев на небо, патер Савицкий примолвил:– Теперь весна! солнце в знаке Овна. Овен животное рогатое и бодливое. Твои звезды Юпитер – власть и Венера – наслаждение находятся в аспекте оппозиции. Гороскоп неблагоприятен.
– Говори яснее! – сказал Лжедимитрий.
Патер Савицкий посмотрел в книгу, стал перевертывать листы то взад, то вперед и сказал:
– Венера есть планета, противоположная Юпитеру. Тебе известно, что если разница долготы между планетами составляет 180 градусов, то одна планета должна уступить место другой. Юпитер уступает теперь место Венере, то есть власть гибнет от наслаждения, а это тем опаснее, что действие происходит в то время, когда солнце в знаке Овна.
– Все одно и то же – и на земле и на небе! – воскликнул Лжедимитрий. – Разве я поденщик какой, чтоб работал день и ночь, не помышляя о наслаждениях? Странное требование!
– Можно и веселиться, и заниматься делом, государь. Взгляни на небо, на это недоступное уму пространство, населенное мириадами миров. Небеса поведают славу Господню! Десница Вышнего начертала законы сим сияющим мирам и человеку, сему чудному созданию, названному микрокосмом, или малым миром. Все имеет свою великую цель и на небе, и на земле; все живет, движется по установленным законам; все держится, единственно следуя сим законам. Деятельность – есть цель жизни человека, а особенно владыки, который одушевляет собою царство, как солнце мира…
– Довольно этих поучений, приступайте к делу. Что вы видите на небе?
– На северном полушарии видно замешательство. Злой дух Малефико действует сильно. Созвездие Северной короны обложилось густыми, мрачными парами, и между созвездиями Льва и Всадника (или Персея) начнется борьба света и тьмы. Созвездие Орла покрыто каким-то мерцанием, средним состоянием между тьмою и светом… Нехорошо, очень нехорошо!..
– Прошу вас истолковать мне все это ясно и без обиняков!
– Вы требуете, государь? Осмелюсь ли…
– Я вас за этим призвал сюда. Не думайте, чтоб я устрашился дурных предзнаменований! Нет, я уже прошел опасною тропинкой между пучинами. Я знаю опасность! Но не вы ли предсказывали мне, что я буду царствовать 32 года? (137)
– Правда, я предсказывал, но не сказал, благополучно ли вы будете царствовать. При этом я должен объявить вам, государь, что, когда я предсказывал, то не имел тогда этой важной книги, знаменитого Джона Ди, которая досталась вам в наследство после Годунова. Теперь я более знаю и более вижу на небе, чем прежде.
– Прошу вас, толкуйте мне без предисловий. Что все это значит?
– Повинуюсь, хотя неохотно! Тучи вокруг созвездия Северной короны означают войну, раздоры и мятежи в северных государствах: России, Польше и Швеции. Борьба света и тьмы между созвездиями Льва и Всадника значит борьбу двух знаменитых родов, имеющих сии знаки на своих хоругвях. Всадник – древний герб московских ваших предков, а Лев… Какое из русских княжеств имело в гербе льва?
– Владимирское!
– Какой род ведет свое происхождение от князей владимирских?
– Князья Шуйские!
– Ты все теперь знаешь! – сказал иезуит и закрыл книгу.
– Как, Шуйские снова замышляют измену! Я не Годунов! Я образумлю их! Итак, Шуйские замышляют о венце царском!
– Государь! Ничем не спасете себя от крамолы завистников, если не утвердите союза с Польшею и Римом. Польшу означает созвездие Орла. Оно теперь покрыто мерцанием: нерешительностью. На южном полушарии созвездие Алтаря, означающее Рим, точно в таком же состоянии. Я еще вчера видел это. Итак, от вас зависит заимствовать свет от Орла и Алтаря и разогнать тьму Льва.
– Понимаю, понимаю!
– Да, государь, вы должны понимать, что, пока вы не исполните обещания, данного вами Риму и Польше, пока не подчините себя покровительству Римской тиары и не введете Россию в планетную систему западного солнца – Рима, до тех пор вы не тверды на престоле!
– Точно ли вы говорите правду?
– Клянусь!
– Где же опасность? Одни Шуйские ничего не значат. Россия – моя!
– Противу вас составляют умысел не одни Шуйские, но все ваши бояре, весь народ! Верьте мне, ибо говорю вам из собственных выгод. Но мы держим нить заговора, и если вы обещаете сдержать данное нам слово, мы все откроем вам, спасем, рассеем тучу и предадим вам всех опасных врагов ваших… От вас зависит все знать, все уничтожить!..
– Вот вам рука моя! Чрез неделю епископы мои уже будут на пути в Рим, и в церквах русских раздастся имя папы! Смерть врагам моим!
– Смерть! а тебе – вечная слава! – примолвил патер Савицкий.
ГЛАВА VIII
Волнение народа. Дерзость иноземцев. Совет у князя Василия Ивановича Шуйского. Восстание Москвы. Месть народная.
На Красной площади было такое множество народа, как во время какого-нибудь необыкновенного происшествия: перед казнью, церковным ходом или чтением указов государевых. Спрашивали один другого, зачем собирается народ, что слышно нового, и переходили из одного конца площади в другой прислушиваться толков. Более всего толпились возле рядов, желая узнать новости от купцов, имевших связь с боярами и царедворцами. Останавливали чернецов и слуг боярских для расспросов. Видно было всеобщее волнение умов, ожидание чего-то необыкновенного, и вместе с тем смелость и. дерзость, как будто пред опасностью известною, к которой приготовились заранее. Именитый гость Федор Никитич Конев сидел пред лавкою, а возле него стояли вокруг люди разного звания. Все смотрели в глаза Коневу, прислушивались к его речам, и каждое слово принимали как неоспоримую истину.
Конев. Вестимо, что теперь время хуже татарского набега. Попустил Бог неверным наказать нас за грехи наши, да не оставил, а помиловал православных. Смотри-ка! Теперь нет и следу московского пожара! А уж как мы отступимся от Бога да загубим православие, так конец и Москве, и царству Русскому!
Голоса в толпе. Сохрани Бог! сохрани Бог!
Конев. К тому идет дело. Бывало ли когда на святой Руси, чтоб в церквах играли на трубах и на литаврах? Видано ли, чтоб иноверцев, нехристей, пускали в храмы Божьи? Господи, воля твоя!
Чернец. Да еще позволяют ругаться над чудотворными иконами, над священнодействием!
Другой чернец. Осквернять церкви православные! Поляки даже водят с собою собак в церкви! Приходит день суда страшного!
Конев. Забыли посты и молитвы при дворе царском, так чего ожидать доброго и в народе? Иноверку венчали на царство Русское! Как бы это пришло в голову царю православному?
Чернец. Да ведь он хочет превратить наши церкви в латинские костелы, все монастыри отдать своим иезуитам, а нас, старцев, разогнать или перетопить. Эти иезуиты уж высматривают в церквах места, где поставить образ своего папы.
Купец. А что ж станется с русскими иконами и святыми целебными мощами?
Чернец. Верно, сожгут, злодеи!
Купец. Нет, не бывать этому! Лучше умереть!
Конев. За что же и умирать, коли не за православную веру, за дом Пресвятыя Богородицы?
Голоса в толпе. Вестимо, лучше умереть, чем попустить ругательство над нашею верою православною! Лучше умереть!
Купец Тараканов. Царь-то не только что не соблюдает постов, не святит праздников, да и свадьбу-то свою совершил накануне Николина дня и на пятницу.
Посадский. Скорей за свадьбу, чтоб ближе к пиру! Окаянные!
Истопник царский. А посмотрели бы, что он ест! Все нечистое, все поганое, прости Господи, и подумать мерзко! Затем и трапезу его не благословляют и не кропят святою водой, как бывало прежде, а то и знай что музыка да песни, словно в цыганском таборе.
Конев. Да ныне то и дело, что пляшут в палатах. Кому смех, а православным горе!
Чернец. Даже в самом Вознесенском монастыре, где жила царица, когда была еще невестою, завелись пляски, музыка, игрища!..
Другой чернец. Осквернение святыни! Смертный грех!
Мещанин. А перед новыми-то палатами стоит медный зверь, а в нем сидит лукавый и гремит, и звучит, как кто к нему дотронется.
Посадский. Все говорят, что этот царь большой чародей, а царица колдунья. Вместо образов у них – какие-то хари, неведомо из чего, а словно живые. Они закрывают этими харями лицо и пляшут под музыку вместе с поляками и немцами. Это, говорят, шабаш колдунов, как бывает в Киеве на Лысой горе, куда слетаются все ведьмы и колдуны. Мне сказывал это жилец Мишка Рябов. Он сам видел эти хари и пляски в Кремлевских палатах.
Истопник царский. Правда, я сам не сто раз видел это!
Чернец. Что он чернокнижник, это всем известно. Если б он верил в Бога, как бы ему позволить осквернять храмы Божий, пренебрегать постом и молитвою и допускать к себе папистов? Да не то еще будет! Он хочет, чтоб чернецы женились, а черницы вышли замуж.
Купец. Спаси, Господи!
Конев. И чернокнижник, и не православный!
Посадский. Помните кликушу Матрену, которая бесновалась и пророчила о нынешнем царе? Ведь он выгнал из нее черта, да еще и наградил ее жалованьем. Теперь Матрена живет в своих хоромах в Скородоме да рядится, как боярыня.
Купец. Верно, он сам вселил в нее черта, чтоб он обманывал для него народ. Куда ни взгляни – а все нечистая сила!
Тараканов. Нет, этот царь не православный!
Истопник. Не ходит в баню и не спит после обеда!
Тараканов. Так, стало быть, не русский.
Конев. Русский, да еретик, богоотступник! Вы помните, что было с князем Василием Ивановичем Шуйским? Он уличил его в обмане, говорил ему в глаза и говорит теперь всем, что он не сын царя Ивана Васильевича, а расстрига Гришка Отрепьев. А кому знать, как не князю Василию Ивановичу? Кому верить, как не ему?
Голоса в толпе. Ах, он окаянный! Ах, анафема!
Посадский. Как же этот колдун сел на царство?
Конев. Попущением Божиим за грехи наши и силою демонской.
Чернец. Нет, Господь Бог не погубит Россию!
Мещанин. Уж будет ему конец!
Конев. Ведь уж и наказывает нас Бог за него нашествием друзей его, поляков и запорожцев! Ни татары, ни сам лукавый, прости Господи, не был бы хуже. Нет житья от них в Москве и на Руси! Бьют, рубят нас, как на войне, бесчестят жен и девиц, грабят и ругают! Не сдобровать этим злодеям!
Голос в толпе. Не сдобровать! Уж будет всем им карачун!
Конев. Дай Бог скорее! Не оставит нас Бог и мудрые бояре. Были б мы смелы да умели постоять за святую Русь.
Голоса в толпе. Постоим за себя! Постоим за святую Русь! Была бы голова, а мы рады на смерть!
Чернец. И звери дают только смерть телесную, а сии же нехристи и телесную, и душевную! (138)
Посадский. А уж как они гордятся тем, что охраняют своего царя! Куда он ни покажется, они везде за ним с протазанами, с ружьями, с саблями!
Конев. Недаром они навезли с собою разного оружия! Вы слыхали, что за Москвою, на Сретенском лугу, готовятся, будто, потехи воинские. Ну, так вот я вам скажу, что там будет. Туда соберут всех бояр и знатнейших сановников русских да и перебьют всех до единого. Боярство и уряды отдадут полякам, казакам и немцам, а там и прощай святая Русь! Тогда некому будет постоять за нас!
Голоса в толпе. Не попустит Бог! Нет, надо извести чародея с его латинами! Смерть им – или нам! (139)
Вдруг на средине площади раздался шум. Два польские воина, обнажив сабли, махали вокруг себя и отгоняли народ, который заступал им дорогу к Кремлю и кидал в них грязью.
Лекарь Коста (140). Бей злодеев! Это разбойник Пекарский да товарищ его, грабитель Цециорка, те самые, что вытащили из возка жену и дочь окольничьего Звенигородского и хотели их обидеть, те самые, что с шайкою своей ограбили нижегородского гостя Кузьму Минина и стреляли в святую икону. Бей злодеев!
Голоса в толпе. Бей! схватите их! камень на шею да в воду!
Пекарский. Послушайте, вы, стадо! Если не уйметесь, то я первого изрублю в куски, который осмелится поднять на меня руку. Прочь!
Цециорка. Миллион сто тысяч чертей! Не подходи, а не то смахну голову, как маковку! А, мошенник, ты кидаешь грязью! (Ударяет саблею одного москвича, тот обливается кровью.)
Голоса в толпе. Ах, злодеи, ах, душегубцы! Бей их! (Камни сыплются со всех сторон на двух поляков).
Пекарский. Уйметесь, что ли? (Подбегает к одному гражданину и рубит его по голове, тот падает замертво на землю.) Грызи землю, собака, когда не хотел отстать!
Лекарь Коста. Ребята, бегите за ружьями, зовите стрельцов! Разбой! Нет ли у кого рогатины? (Хватает с земли камень и бросает в лицо Пекарскому; кровь хлынула у него изо рта и из носу.)
Пекарский (кричит). Насилие, разбой! (Устремляется с саблею на Косту, народ закрывает его. Пекарский рубит на все стороны. Народ с криком бежит.)
Цециорка. Руби, коли! (Рубит народ.)
Лекарь Коста. Давайте ружья! Разбирай забор возле рядов! В колья!
Голос из толпы. Бейте в набат! Измена! Поляки режут нас, безоружных!
В это время отряд польских всадников показался из Фроловских ворот под предводительством боярина Петра Федоровича Басманова. Всадники прискакали на место драки. Народ остановился.
Басманов. Что это значит? Кровь, мертвые тела! Кто зачинщик?
Лекарь Коста. Разумеется, кто! Разве ты не знаешь, честный боярин, как поступают с православными эти новые царские слуги? Что день, то новая обида! Долго ли нам терпеть и от своих и от чужих?
Басманов. Молчать! Вы, паны, зачем преступаете запрещение и нападаете на народ?
Пекарский. Не мы напали на них, а они на нас, и жаль, что мало им досталось!
Басманов. Вы не смеете управляться сами! На то есть суд и расправа!
Пекарский. Так вели перевешать всю эту сволочь, господин боярин, по своему суду за то, что они осмелились напасть на друзей царских; а мы не признаем здесь никакого суда над нами.
Басманов. Как вы осмеливаетесь презирать власть царскую?
Пекарский. Он ваш царь, а не наш! Мы дали его вам, а не избрали для себя. Мы гости его!
Цециорка. А к тому ж нам непристойно отдавать отчет русскому пану в наших поступках. (Говорит польским всадникам.) Господа! приударьте в эту сволочь да потопчите их порядочно!
Басманов. Как вы смеете возбуждать царских воинов к беспорядкам! (Польским всадникам.) Отведите этих панов под стражу.
Пекарский. Как ты смеешь брать меня под стражу? Я тебе проколю бок, если еще скажешь слово!
Басманов. Возьмите их!
Польские всадники посматривали друг на друга, пожимали плечами и не трогались с места.
Лекарь Коста. А что, видишь ли, честный боярин, что это за люди? Уж лучше б было, если б нам удалось схватить их да проучить по-своему!
Басманов повернул коня и отъехал в Кремль, велев дружине следовать за собою. Пекарский и Цециорка пошли пешком в середине, браня народ.
Торговец. Вот-те и боярская власть! Какие времена! Разбойничают среди белого дня, а на них нет и суда!
Ямщик. Надобно бы проучить этих нехристей.
Лекарь Коста. Собраться бы всем да, помолившись, грянуть лавой на проклятых, а там – воля Божия!
Церковник. А царь-то что скажет?
Лекарь Коста. Какой он царь! Он еретик, колдун, сын греха, а не сын Иоаннов. Все бояре говорят одно и то же.
Молодой мещанин. Так чего же ждать? В набат – да и на нехристей!
Лекарь Коста. Дельно! Потерпите, будет это, и скоро. Уж перелили чрез край, так пусть и распивают! Будет у нас и голова! Держитесь в готовности. Как загремит набат – все в Кремль, а бояре покажут, что делать.
На площадь выехал верхом князь Василий Иванович Шуйский с несколькими боярами и множеством слуг. Князь Василий Иванович Шуйский снял шапку и стал кланяться народу.
Лекарь Коста. Вот наш милостивец, православный князь. Ура! Да здравствует князь Василий Иванович! Народ. Ура! Ура! Ура! Да здравствует князь Василий Иванович!
* * *
Пред наступлением ночи пришли в дом князя Василия Ивановича Шуйского брат его, князь Димитрий, князья Василий Васильевич Голицын и Иван Семенович Куракин. Князь Василий Иванович был спокоен и читал Псалтирь.
– Что нового? – сказал он вошедшим друзьям.
– Все, слава Богу, идет хорошо, – отвечал князь Димитрий Иванович. – Народ волнуется и требует мести. Федор Конев и лекарь Коста сделали свое дело. Ты видел, как народ принял тебя на площади. Если б народ был вооружен, то можно было бы все кончить мигом.
– Будет конец этой ереси и разврату! – примолвил князь Василий Иванович. – Но надобно мудро начать, чтоб благополучно кончить. Я все обдумал и устроил. Восемнадцать тысяч воинов, стоящих в шести верстах за городом, чтоб идти завтра в Елец, войдут сей ночи в Москву разными путями. Уже полковники и сотники прибыли сюда со множеством служивых дворян из Пскова и Новгорода. Я говорил с ними и распорядил все как следует. Скоро соберутся здесь думные бояре, дворяне московские и знатнейшие из приказных. Не хочу более таиться и явно предпринимаю освобождение отечества от злодея расстриги и его клевретов. Не боюсь измены, ибо открытою силой иду на врага веры и отечества.
– Но надобно прежде подумать, кто примет бразды правления по истреблении злодея, – сказал князь Василий Голицын. – Государство не может остаться ни одного часа без владыки.
– Мы первые затеяли это дело, нам и решить, кому быть правителем, – примолвил князь Куракин.
– Господь Бог решит, а не мы, грешные! – сказал князь Василий Иванович Шуйский, смиренно потупив глаза.
– Господь Бог дал нам разум, возвысил нас родом и ниспослал мысль освободить отечество, – сказал князь Василий Голицын. – Один из нас должен быть царем.
– Непременно один из нас, – примолвил князь Куракин.
– Бог укажет, кому быть царем, – отвечал князь Василий Иванович Шуйский, – но во всяком случае мы должны поклясться, что кому ни быть царем, тот не должен никому мстить за прежние досады.
– И общим советом управлять русским царством, – примолвил князь Куракин (141).
Князь Василий Иванович Шуйский поцеловал крест и сказал:
– Клянусь!
Другие повторили клятву.
– Ты говоришь о войске, князь Василий Иванович, а не упомянул о духовенстве, – сказал князь Куракин. – Ведь патриарх Игнатий друг еретика. Что сказал тебе митрополит Филарет? С нами ли он?
– Кажется, что он удостоверился в опасности отечества, – отвечал князь Василий Иванович Шуйский. – Говорил с самим царем, но, видя, что советы не имеют успеха, отправился в Ростов. Я хотел, чтоб он остался и действовал с нами, но он отказался, сказав: "Делайте, что вам внушит Бог, а это дело не пастырское". Впрочем, мелкое духовенство за нас.
Двери с шумом отворились, и вошло около десяти думных бояр. Помолясь перед образами и поклонясь хозяину, они в безмолвии сели на скамьях. За ними входили другие бояре, дворяне думные и служивые, люди воинские, и вскоре обширный дом князя Василия Ивановича Шуйского наполнился людьми до такой степени, что едва можно было двигаться. Тогда князь Шуйский, став на небольшую скамью, сказал:
– Братия! Во имя Отца и Сына и Святого Духа, в Троице Святой единого, возглашу вам истину, умоляя его, да подвигнет он сердца ваши на правое дело. Братия, россияне, люди православные! восплачем о бедствиях нашего любезного отечества, наказанного правосудным Богом за грехи наши, и древним мужеством русским, верою и правдою спасем от погибели Россию и дом Пресвятыя Богородицы! Забудем все прошедшее, простим друг другу всякое зло и соединимся духом для великого дела. Несогласие наше и взаимная зависть довели отечество на край гибели. Писание гласит: "Идеже бо зависть и рвение, ту нестроение и всяка зла вещь" (142). Что предало Россию в руки еретика, богоотступника, расстриги? Ненависть наша к Годуновым, взаимные несогласия и любовь народа к царской крови, народа, который смотрел на нас и, видя робость нашу, пристал к смелому вот что очистило ему путь к престолу. Страх и ослепление заставили многих из нас покориться обманщику. Те даже, которые при появлении самозванца знали истину, молчали в надежде, что сей юный витязь, хотя и расстрига, будет добрым властителем и что Россия отдохнет после Годунова. Все обманулись: и верившие ему, и не верившие! Уже я возглашал истину, видев собственными глазами труп царевича в Угличе, и голова моя лежала на плахе! Бог спас меня, и я теперь не тайно возвещаю вам об обмане, но явно, во всенародное услышание. Так, клянусь сим знамением нашей веры, сими чудотворными иконами и целебными мощами угодников, что в венце царском не Димитрий, не сын Иоаннов, но еретик, богоотступник и предатель Гришка Богданов сын Отрепьев, попущением Божиим за грехи наши и всего христианства ослепивший православных чернокнижеством. Стану ли исчислять пред вами гнусные дела его, которых вы очевидные свидетели? Попрана православная вера, осквернены храмы Божий, некрещеная девка польская венчана на царство и помазана миром в соборе Пресвятыя Богородицы. Низвергнуты древние русские обычаи, презрены русские люди и преданы в холопство иноземцам, папистам, иезуитам! Буйные шайки поляков и казаков, наемники немецкие владеют Россиею, а мы, как стадо, страждем и питаемся слезами! Но мало этого: нам угрожают низвержением православия и введением латинства. Открываю пред вами душу мою и объявляю, что умру, но не попущу на погибель матери нашей, церкви православной…
В это время раздался шум в сенях. Шуйский замолчал, некоторые схватились за оружие, все пришли в замешательство.
– Раздайтесь, пустите меня! – послышалось в сенях, и многие узнали голос Золотого-Квашнина. Он вошел в палату, ведя за собою женщину. Это была Калерия.
– Отцы и братия! – сказал Квашнин. – Эта женщина, жертва гнусной страсти и злобы расстриги, именующегося царем нашим, пришла открыть вам важные дела. Верьте ей, как мне самому. Князь Василий Иванович поручится за меня.
– Князь Василий Иванович! – сказала Калерия. – Ты призван Богом спасти православие и Россию. Но вы не знаете еще всех дел и всех замыслов вашего злодея. Вот вам подлинные грамоты расстриги, которыми он отдает Литве русские области, Смоленск и Северскую землю! Приношу вам эти грамоты прямо из дворца царского, из почивальни безвременной царицы. А вот письма советников и друзей самозванца, иезуитов, удостоверяющие, что он уже принял латинскую веру! Подлинники писаны по-латыни, но вот и русский перевод. Князь Василий Иванович, прочти хотя это одно письмо.
Князь Василий Иванович стал читать: "Письмо краковских иезуитов в Рим. Труды и ревность наша не ослабели: шестьдесят еретиков приведены в недра церкви, и в числе их великий князь Московский Димитрий… Готовясь к пути и к брани, он устремил все свое внимание на то, чтоб в деле столь трудном иметь помощником Бога: решился принять римско-католическую веру, но, опасаясь, чтоб россияне о том не сведали и не порицали его именем католика, будучи чрезмерно привержены к схизме, он закрыл лицо свое, переменил одежду и, сопровождаемый одним польским вельможею, в виде нищего пришел в нашу обитель, открыл себя и, выбрав одного из нас, исповедал ему все грехи жизни своей, отрекся схизмы и с великим усердием присоединился к римской церкви. Не довольствуясь сим, Димитрий принял от пребывающего в здешнем городе нунция таинство евхаристии и миропомазания и утвержден в восприятой им вере. Сей князь обещает со временем великие добродетели и постоянства в начатом деле. Кажется, что он одушевлен удивительным усердием к распространению римско-католической веры" (143). Кончив чтение, князь Шуйский сказал: – Да будет проклят еретик и богоотступник!
– Да будет проклят! – воскликнули в собрании. Князь Шуйский прочел записи, данные Лжедимитрием Мнишеху и Марине, и передал их близстоявшим боярам, чтоб они удостоверились в подлинности подписи.
– Итак, видите, братия, что и вере, и отечеству приходит крайняя гибель. Сам Бог послал нам сию жену для убеждения неверующих. Клянусь, что я отроду не видал ее до сего часа!
– И я подтверждаю клятву! – примолвила Калерия. В собрании начался шум и говор. Князь Василий Иванович Шуйский просил замолчать, и Калерия сказала:
– Я исполнила долг свой; вам, избранные мужи, остается омыть стыд, которым покрылась Россия, подпав добровольно игу чужеплеменников и прошлеца. Если будете долее терпеть беззаконие, погубите отечество и души свои! – С сими словами она вышла из палаты. Квашнин проводил ее с крыльца и возвратился.
– Кто такова эта женщина? – спросили многие из толпы. – Не измена ли это, не подлог ли?
– Я уже поклялся вам, что здесь нет ни измены, ни подлога, – сказал Квашнин. – Сказал я также вам, что эта женщина – несчастная жертва гнусного сластолюбия расстриги: она киевлянка и пришла нарочно в Москву, чтоб обличить своего губителя.
– Решите, что должно предпринять теперь! – сказал князь Никита Трубецкой. – Время дорого, и каждое мгновение должно ожидать, что чернокнижник откроет нас и погубит.
– Россия покорилась имени царевича, – сказал князь Иван Куракин. – Теперь, когда обман обнаружен, – казнь злодею! Да станется с ним, что сказано в Писании: "Изжени от сонмища губителя, и изыдет с ним прение" (144).
– Казнь злодею! Да погибнет еретик и богоотступник! Смерть ему и всем его клевретам! – раздалось в толпе.
– Но он окружен несколькими тысячами поляков, немцев и казаков, – сказал боярин князь Федор Иванович Хворостинин. – Кажется, и стрельцы ему преданы: быть великому кровопролитию!
– Лучше погибнуть, чем в посрамлении дожить до ниспровержения православия презренным бродягою, – сказал князь Василий Иванович Шуйский. – Но злой еретик еще милостив к нам; он не хочет, чтоб мы были свидетелями сего бедствия, и решился избить всех бояр и знатнейших сановников на Сретенском лугу, где замышляет военные потехи. Сами поляки явно говорят это, и немцы предостерегали нас.
– Справедливо! – сказал князь Василий Васильевич Голицын.
– Нет, да погибнет он со своими разбойниками! – воскликнул князь Иван Куракин.
– Смерть злодею! – раздалось в толпе.
– Но если поляки станут защищать его, – сказал князь Иван Михайлович Воротынский, – тогда может завязаться драка; Польша вступится, и мы ввяжемся в войну, не имея главы!
– Даст Бог мужество, даст силу, разум и средства отвратить бедствия: "Яко обяжу язву твою, и от ран твоих уврачую тя, рече Господь" (145), – возразил князь Василий Иванович Шуйский. – Разве мы восстаем из видов корысти? Нет, мы беремся защищать веру и царство. С нами Бог, никто же на ны! Пока мы совещаемся, уже восемнадцать тысяч православных воинов входят в город и займут все входы и выходы. Народ московский вооружается и ждет первого знака к восстанию. Домы, занимаемые поляками, помечены и, как скоро ударит час мести, будут окружены народом. Не щадя живота своего для спасения отечества, я все распорядил к несомненному успеху. Сила небесная одолела злоумышление ада. Враги веры нашей не ожидают скорой мести. Вот пред вами Золотой-Квашнин, который, скрываясь в Польше, спознался с иезуитами. Они знают, что мы хотим избить расстригу, и потому поручили ему известить их, когда решимся начать наше доброе дело. 18 числа мая – день, назначенный к погибели нашей: итак, отвратим удар ударом! Открывшись пред вами, думные бояре и дворяне, в нашем замысле, я, князь Василий Голицын, князь Иван Куракин и братия мои, мы не хотим никого привлекать ни лестью, ни угрозами к доблестному подвигу. Предоставляем каждому на волю быть с нами или не быть. Мы готовы пострадать за православную веру, и те из вас, которые хотят омыть грехи свои кровью еретиков, пусть вооружатся и будут готовы к битве, как ударят в колокола. Сбор на Лобном месте. Да будет, как гласит Писание: "Приближися отмщение града, и кийждо имеяше сосуды истребления в руце своей" (146). Мужайтесь, россияне, и, как во времена Димитрия Донского, идите на смерть за любезное отечество! Се ныне время смертию живота купити!
– Умрем, но не посрамим земли Русския! – воскликнул князь Никита Трубецкой. – Боже, не остави нас!
– Боже, не остави нас! – воскликнули в толпе. – Не посрамим земли Русския! Умрем или избавим церковь и отечество от гибели! Смерть злодею и его клевретам!
– Бог не оставит православных в правом деле! – сказал князь Василий Иванович Шуйский. – Теперь ступайте, братия, кому куда следует. Вы, воины, к дружинам, а вы, бояре и дворяне, в домы свои и ждите колокольного звона! Увидимся!
* * *
У крыльца новых палат, построенных Лжедимитрием, возле разрушенного дворца Борисова, стояли на страже два немецкие воина с алебардами, завернувшись в свои бархатные плащи. Ночь была тихая, и они стали разговаривать между собою.
Первый воин. Для чего это князь Димитрий Шуйский велел идти домой нашей дружине и оставил только одних стражей?
Другой воин. Для того, что вовсе не нужно, чтоб целая сотня дремала всю ночь в коридоре, когда довольно тридцати человек, чтоб охранять входы во дворец.
Первый воин. Но прежде этого не было.
Другой воин. Ведь всякая вещь имеет свое начало и конец.
Первый воин. Начало наше здесь хорошо, а конца я боюсь. Русские не любят нас.
Второй воин. И мы их не жалуем. Вот тебе и конец.
Первый воин. С некоторого времени они стали чрезвычайно дерзки! Бранят и даже бьют наших на улицах, не продают нам в лавках ничего, а особенно пороху и оружия, и все грозят!
Второй воин. Все это случается с дураками. Посмотрел бы я, как бы они обидели меня и не продали, чего мне надобно!
Первый воин. А что б ты сделал?
Второй воин. Убил на месте каждого, кто бы осмелился нагрубить мне. Пусть знают, что значит телохранитель царский!
Первый воин. Но их много, а нас сколько?
Второй воин. Один пес гонит стадо овец.
Первый воин. Нет, не бывать добру! Я хочу возвратиться на родину, в мою Ливонию!
Второй воин. Ступай с Богом, будут другие на твое место. У такого доброго царя не только мы, но и первые бароны за счастье поставят быть телохранителями. Нам платят, как благородным рыцарям, одевают, как бургомистров, чего же более! А такая воля – что и московские бояре нам завидуют!
Первый воин. Слышишь ли ты шум за стеной? Неужели так рано собирается народ на Красной площади?
Второй воин. Верно, торговый день. Который час?
Первый воин. Било три часа. Уже светает.
Второй воин. Вот уже отперли и Фроловские ворота. Смотри, идут бояре: князь Димитрий Шуйский, князь Григорий Волконский и канцлер Афанасий Власьев. Что так рано?
Первый воин. Они рады бы ночевать здесь, чтоб прежде поклониться царю. Но вот раздался колокольный звон!
Второй воин. Господи, воля твоя! Что это значит? Вот во всех церквах за Кремлевскою стеной начинают звонить. В праздники не благовестят так рано!
Из внутренних палат выбежал телохранитель Шварцгоф и спросил у стражей:
– Что это такое? На что звонят в колокола?
Первый воин. Не знаем. Спросите у бояр, вот они остановились и разговаривают между собою; они пришли из Китая-города.
Колокольный звон усиливался, и в воздухе раздавались вопли народа за Кремлевскою стеной. Шварцгоф сошел с крыльца и спросил у бояр:
– Что значит этот шум и колокольный звон? Я должен разбудить царя.
– Пожар, – отвечал хладнокровно князь Димитрий Шуйский.
– Но не видно ни зарева, ни дыма! – возразил Шварцгоф.
– Увидишь! – отвечал Шуйский и отворотился. Шварцгоф побежал во дворец.
В это время в Фроловские ворота въехал на конях сонм бояр и дворян служивых, а за ними вошло несметное число народа и воинов, вооруженных копьями, самопалами, бердышами, ружьями. Впереди ехал на белом коне князь Василий Иванович Шуйский, держа в правой руке золотое распятие; народ шумел и медленно двигался за боярами. Поравнявшись с Успенским собором, князь Василий Иванович сошел с коня и вошел в церковь приложиться к святым иконам. Народ остановился. Князь, вышед из храма, стал на паперти и сказал громогласно:
– Православные! Целую крест пред вами в том, что тот, который похитил венец царский, не сын Иоанна, но бродяга, еретик, богоотступник, расстрига Гришка Отрепьев. Он хочет истребить православную нашу веру и принудить нас принять веру латинскую. Сей день предназначен им на сие беззаконие, и Литва хочет перерезать всех бояр, а вас, как холопей, разделить между собою. Именем Бога призываю вас заступиться за православную церковь и за святую Русь! Во имя Божие идите на злого еретика, истребите гнездо ереси и беззакония! Смерть обманщику и злодею! – Шуйский указал на новый дворец Лжедимитрия и сам сел на коня.
Едва Шуйский кончил речь, буйная толпа бросилась опрометью во дворец, восклицая:
– Смерть злодею, богоотступнику! Смерть полякам и всем его наемникам!
Между тем во дворце уже настало смятение. Лжедимитрий, услышав колокольный звон, вскочил с постели и спросил о причине. Шварцгоф сказал ему, что в Москве пожар. Лжедимитрий подошел к окну и увидел толпы вооруженного народа, бегущего ко дворцу. Басманов вбежал в комнату и сказал:
– Государь! мятеж! Ты не верил мне!
– Поди и узнай причину мятежа, – сказал хладнокровно Лжедимитрий. – Чего хотят от меня эти бессмысленные? Если требования их справедливы, я выслушаю и удовлетворю!
Басманов выбежал в сени. Там теснился уже народ и дрался с телохранителями, которых было не более тридцати человек.
– Веди нас к обманщику, выдай своего бродягу! – закричали из толпы. Басманов велел страже запереть двери и защищаться до последней капли крови, а сам возвратился к Лжедимитрию.
– Все кончилось! – воскликнул Басманов. – Хотят головы твоей. Спасайся! Я умру верным тебе! – Басманов схватил меч и хотел бежать к телохранителям, но Лжедимитрий бросился ему на шею.
– Друг мой! верный мой Басманов! – сказал он сквозь слезы. – Спасайся ты! Ты усладил грозный час испытания, может быть, последний час жизни моей своею преданностью! Я счастливее Годуновых! Я имею друга в опасности! – сказав сие, Лжедимитрий обнажил саблю и устремился к народу. Двери растворились, и явился царь в польском полукафтанье. Он погрозил народу саблею и гневно сказал:
– Прочь, безумцы! Я вам не Годунов! Первый, кто ступит вперед, падет здесь мертвый!
– Бей обманщика! – закричали в толпе, и несколько выстрелов повергли на землю храбрых телохранителей. Басманов втащил Лжедимитрия в комнату, а сам вышел в сени и прихлопнул двери. В толпе народа Басманов увидел ближних бояр царских. Князя Василия Ивановича Шуйского не было с ними. Басманов подошел к боярам и сказал:
– Что вы это затеяли? Не вы ли целовали крест на верность царю? Не вы ли пользовались его милостями? Что ожидает вас в этом мятеже? За вероломство и неблагодарность вас ждет казнь Божия, а мятеж доведет вас до величайшего из зол, до безначалия! Сами себя предаете вы на жертву разъяренной черни, которая в слепоте не знает ни врагов своих, ни благодетелей. Смиритесь, одумайтесь: я ручаюсь вам за милость царя! Ты, князь Василий Васильевич, ты, Михаила Глебович, помогите мне усовестить братий наших! А ты, Михаила Татищев, вспомни добро мое, вспомни, что я спас тебя от заслуженной ссылки! Помоги мне вразумить заблудших! Бояре молчали и поглядывали друг на друга. Народ прекратил драку с телохранителями.
– Злодей! Иди во ад вместе с твоим царем! – возопил Татищев, ударил Басманова ножом в сердце, и он упал на землю, облившись кровью. – Руби, коли! – воскликнул Татищев и бросился на телохранителей. Народ напал на них с ожесточением, они были подавлены числом и изрублены на части. Народ выбил двери и вторгнулся в царские палаты.
Царица Марина, полуодетая, с ужасом внимала народным кликам, колокольному звону и выстрелам. Окружающие ее женщины плакали и молились. Вбежал Осмольский с саблею в руках.
– Спасайтесь! – воскликнул он. – Мятеж! Русские напали на поляков в домах их и режут всех без пощады. Требуют головы вашего мужа!
– О, Боже! Спаси нас! – сказала Марина. – Что станется с отцом моим и братьями? Осмольский, зачем ты пришел сюда? Укройся!
– Место мое здесь. Я должен защитить вас или умереть! – отвечал Осмольский.
– Ради Бога, спасайся, Осмольский! – воскликнула Марина. – Неужели я должна лишиться всего, что мне драгоценно? Мятежники уже во дворце. Они меня не тронут! Я им не сделала никакого зла. Царица Московская, я должна умереть достойною моего сана; не потерплю уничижения! Пани Хмелецкая, подайте мне венец царский.
– Перестаньте думать о земном величии! – сказала Хмелецкая, – и в сию годину опасности помыслите о Боге, о будущей жизни!
– Подайте мне венец царский! – повторила Марина гневно. – Пусть умру с ним, и тогда – цель моя достигнута!
– Венец царский не спасет вас, – сказал Осмольский. – Мятежники не признают мужа вашего царем, называют его обманщиком, самозванцем! Я говорил вам об этом еще в Кракове!
– Не боюсь смерти! – воскликнула Марина. – Однажды венчанная на царство, не могу и не хочу быть ничем другим. Пусть лучше умру, нежели решусь возвратиться в отечество и войти в разряд польских шляхтянок!
В это время народ стал стучать в двери. Осмольский остановился у порога.
– Друг мой! спасайся! – воскликнула Марина, забывшись и бросясь на шею Осмольскому. Женщины оттащили ее. Она надела венец царский, прикрылась царскою мантией и села в кресла. Вдруг ударили ломом – и двери разверзлись. Народ хотел ворваться в комнату, но Осмольский остановил его и ударом сабли поверг на землю первого высунувшегося из толпы.
– Бей ляхов! – воскликнули в толпе. Раздались выстрелы, и Осмольский пал, пронзенный пулями. Марина лишилась чувств. Сквозь толпу народа пробился Михайло Татищев.
– Стойте, православные! – воскликнул он. – Русские не воюют с женщинами. Изыдите! – Народ беспрекословно повиновался, а Татищев велел вынесть тело Осмольского и поставил стражу у дверей.
– Где обманщик? Где расстрига? Где богоотступник? Где еретик и чернокнижник? Ушел! Спасся! Ищите его! – раздалось в царских палатах.
Вдруг под окном, в той стороне, где были остатки каменного основания сломанного дворца Годунова, послышался женский голос:
– Он здесь! сюда! сюда! Здесь чернокнижник! – Народ бросился из палат и побежал стремглав туда, где слышан был женский голос.
Лжедимитрий, видя невозможность защищаться, выпрыгнул из окна, вывихнул себе ногу, разбил грудь и голову и, обливаясь кровью, лежал на земле. Стрельцы московские, бывшие на страже на Кремлевской стене, окружили его. Никто не смел поднять руки на того, кого недавно почитали царем законным.
– Верные мои слуги! – сказал Лжедимитрий слабым голосом, – не верьте мятежным боярам! Они хотят избыть меня, чтоб самим править Московским государством. Я истинный сын царя Ивана Васильевича! Я законный государь ваш! Защитите меня, и я отдам вам все имущество бояр, жен их и детей; сделаю вас первыми людьми в Московском государстве. Не выдайте того, кому вы целовали крест; не губите душ ваших изменою!
В это время прибежал народ и с ним бояре, князь Дмитрий Шуйский, Василий и Иван Васильевичи Голицыны, князь Иван Семенович Куракин, Михайло Глебович Салтыков, Михайло Игнатьевич Татищев и многие другие.
– Прочь отсюда, стрельцы! – воскликнул Татищев. – Выдайте еретика и разойдитесь!
– Нет, не выдадим, пока царица-инокиня не скажет, что он не сын ее! – воскликнули из толпы стрельцов.
Михайло Глебович Салтыков вскочил на коня и ускакал.
– Покайся! – завопил князь Иван Голицын. – Скажи, кто ты, злодей! Не смущай России пред последним твоим часом!
– Вы знаете: я Димитрий! (147) – отвечал несчастный ослабевающим голосом.
– Вот он! Вот он! – закричали в народе. Прискакали на конях князь Василий Иванович Шуйский и Михайло Глебович Салтыков.
– Царица-инокиня покаялась пред народом в обмане. Она говорит, что сын ее Димитрий умер на руках ее в Угличе, а этот – бродяга, обманщик и еретик! – воскликнул князь Василий Иванович Шуйский.
– Выдайте нам богоотступника! – кричали в народе. Но стрельцы не допускали к нему никого.
Лжедимитрий умоляющими взорами смотрел вокруг себя и говорил тихо:
– Спасите меня, спасите меня!
Чрез толпу народа и стрельцов пробилась женщина. Лжедимитрий взглянул на нее, и взоры его омрачились, дыхание сперлось.
– Калерия! – воскликнул он.
– Иди в ад, злодей! – воскликнула Калерия. – Ты не знал любви, узнай месть! Что вы стоите здесь! – сказала она боярам. – Ступайте в Стрелецкую слободу, сожгите домы клевретов чернокнижника, избейте жен их и детей!
– Славно! – сказал Татищев. – Пойдем в Стрелецкую слободу. Пусть огонь и меч истребит корень нечестивых!
Ужас овладел стрельцами. Они опустили ружья и разошлись. Толпа народная сомкнулась вокруг Лжедимитрия.
– Пропустите! – воскликнул голос в толпе.
– Кто это? Кто это? – кричал народ.
– Это телохранитель, ливонский дворянин Фирстен-берг, – сказал Татищев.
– Чего ты хочешь? – спросил Салтыков.
– Хочу взглянуть на того, кому присягал в верности, и умереть или защитить его! – отвечал Фирстенберг.
– Поди прочь отсюда или тебя убьют! – воскликнул Татищев.
– Пусть умру, но не изменю клятве и не оставлю царя в бедствии! – отвечал Фирстенберг. – Я для того ношу оружие, чтоб защищать его. Немцы не знают измены! Не изменили мы Годунову, не изменим и Димитрию!
– Так умри же с ним! – воскликнул один дворянин и выстрелил в Фирстенберга. Он упал на землю.
– Жаль верного слуги, – сказал кто-то в толпе. – Да, нечего сказать, а немцы умеют служить верно! Честные люди; жаль, что не православные!
Из толпы вышел человек ужасного вида, с всклоченною черною бородой, обрызганный кровью, бледный, с впалыми глазами; он занес бердыш на Лжедимитрия, остановился и с зверскою улыбкой смотрел ему в лицо, чтоб насладиться выражением страха и боли в чертах несчастного.
– Кто это? – спросили в толпе.
– Иван Васильевич Воейков (148), дворянин служивый! – отвечали другие.
– Что медлишь, Иван! – воскликнул Татищев. Воейков ударил бердышом, и Лжедимитрий, который сидел на земле, опираясь руками, упал навзничь. Народ ужаснулся. Еще некоторые сомнения гнездились в душах: простолюдины в мятеже следовали только внушению бояр.
– Аминь! – сказал дворянин Григорий Валуев и выстрелил в Лжедимитрия из ружья. Он еще поднялся, встрепенулся, бросил последний взгляд на народ, страшным голосом закричал: "Виноват!", захрипел – и скончался.
В толпе народной раздался хохот, все с ужасом оборотились в ту сторону и увидели женщину, бледную, с блуждающими взорами. Она срывала с головы повязку и фату и попирала их ногами; захохотала в другой раз, страшно взглянула на небо, упала без чувств. Чернец, пробиваясь сквозь толпу народа, поспешил к ней на помощь и, взглянув на нее, с отчаянием возопил:
– Калерия!
– Отче Леонид! – сказал купец Федор Конев. – Ты знаешь эту несчастную? Кто она?
– Сестра моя! – отвечал чернец. – Злополучная!
– Перенесем ее в царские палаты и подадим ей помощь! – примолвил Конев.
– Она умерла! – сказал жалобно отец Леонид. – Несчастная жаждала мести, насытилась и не перенесла удара! Она умерла!
– Прости ей, Господи, и спаси душу ее! – примолвил Конев, перекрестясь.
* * *
Царица-инокиня Марфа во все царствование Лжедимитрия только однажды показалась народу, в то время, когда он торжественно встретил ее при возвращении из заточения. С тех пор жила она уединенно в келье Девичьего монастыря и виделась только с ближними родственниками. Царь почти ежедневно посещал ее, но без свидетелей. Никто не знал, что она думала о царе, называвшемся сыном ее, но все знали ненависть ее к Годуновым и радость о возвеличении рода ее, Нагих, при новом царе. С ужасом и горестью узнала она о народном восстании и ожидала смерти, простершись пред святыми иконами. Толпы народа шли с воплями к Девичьему монастырю, вломились во двор и остановились под окнами ее кельи. Князь Василий Иванович Шуйский с сонмом думных бояр вошел в келью.
– Успокойся, царица! – сказал он. – Тебе не сделают никакого зла. Ты уже разлучена с миром, и мы требуем только твоего свидетельства для блага церкви и отечества. Подойди к окну!
Царица-инокиня подошла к окну и увидела, что народ тащил за ноги тело ее благодетеля, избавившего ее из тяжкого заточения, осыпавшего милостями род ее.
– Твой ли это сын? – спросил князь Шуйский.
– Тогда надлежало меня спрашивать, когда он был жив, – отвечала царица-инокиня. – Теперь он не мой – а ваш! (149) Она залилась слезами.
– Твой ли он сын? – повторил грозно князь Василий Иванович Шуйский!
– Он благодетель мой! – отвечала Марфа.
– Он благодетель мой! – снова сказала царица-инокиня.
– Говори, твой ли это сын? – воскликнули бояре.
– Пойдем отсюда! – сказал князь Шуйский. – Она не признает его своим сыном!
Михайло Глебович Салтыков громко возгласил к народу:
– Царица-инокиня не признает еретика своим сыном, а зовет только благодетелем! Тащите останки чародея на Лобное место!
Народ с шумом и криком пошел в обратный путь. Между тем в Москве гремели колокола, раздавались выстрелы и повсюду слышны были восклицания:
– Смерть ляхам! Бей, секи, руби, коли!
ГЛАВА IX ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мнение народное. Суждение современников. (19 мая 1606 года)
На Лобном месте стоял стол, а на нем лежали два окровавленные, обезображенные и обнаженные трупа. Голова Лжедимитрия перевалилась чрез стол, ноги его лежали на груди верного Басманова. На тела наброшена была какая-то странная одежда, в которую наряжались во дворце на игрищах, маски, волынка. Народ толпился вокруг стола и, взглянув, уходил, уступая место другим толпам.
Чернец. Помиловал Бог святую Русь! Погиб лютый чародей, который хотел ниспровергнуть православие!
Купец. Вот-те за то, что хотел закабалить православных полякам, немцам и казакам!
Молодой купец. Закабалил их лукавый, прости, Господи! Уж была резня! Крепко и они защищались в своих домах, да куда силе демонской противу воли Господней. Побили их, как гусей!
Стрелец. А много ли погибло еретиков?
Чернец. Слышно, человек тысяч до двух с их воеводами, панами, попами и всякою сволочью. Вот-те ездили пировать, а пришлось горе горевать!
Посадский. Сказать лучше: ездили наживать, да пришлось и свое проживать. Поживились ребята, что разбивали домы!
Купец. Добро-то у них было не свое, а наше. Ведь расстрига всю казну царскую на них рассыпал.
Ямщик. Сказывают, что он был не расстрига, не чародей, а просто дьявол во плоти. На грех да на беду валяется он здесь третьи сутки! Говорят, что и теперь ночью светит огонь над его мерзким телом, а черти бьют в ладоши да хохочут. Сказывали сторожа из рядов.
Стрелец. Ужель и Басманов отступился от Бога? Он был храбрый воин и милостивый боярин!
Купец. Вестимо, что отступился, когда ему одному чародей верил. Ведь они поклонялись не образам, а этим харям.
Посадский. А что сделалось с поганою его женой?
Мещанин. Осталась жива. Ее перевезли к отцу, в дом Годуновых. Там, слышно, горько плачет.
Купец. Как не плакать по муже!
Мещанин. Нет, плачет она не по муже, а по царстве. Сказывал мне стрелец Игнашка Борьков, что он был вчера на страже в доме тестя чародеева и что видел, как она заливается слезами и вопит: "Хочу быть царицею Московскою!"
Ямщик. Понравилось, небось! Да вот беда: того не берут, чего в руки не дают!
Купец. А кому быть теперь царем? Немцы говорят, что после Годунова да расстриги другой и побоится сесть на Московское государство. Слышно, что боярин князь Иван Федорович Мстиславский сказал: "Пойду в монахи, а не хочу быть царем!"
Церковник. Пустое! Бог не оставит без царя православное царство. Ведь это первое царство на белом свете, а народ без царя, как стадо без пастыря! Что за беда, что Годуновы да расстрига осквернили царские палаты? Русь все останется святою Русью! Недаром пословица: "Тем море не погано, что псы лакали".
Чернец. Сущая правда! Ведь у нас Господь Бог сохранил настоящее царское племя…
Вдруг из толпы вышел молодой парень с балалайкой и сказал:
– Гей, ребята, послушайте песенку! Я вам спою про расстригу и про жену его! – Народ обступил его, а молодой человек стал играть на балалайке и петь:
Ты, Боже, Боже, Спас милостивый! (150) К чему рано над нами прогневался — Сослал нам. Боже, прелестника, Злого расстригу Гришку Отрепьева. Ужели он, расстрига, на царство сел? Называется расстрига прямым царем. Недолго расстрига на царстве сидел. Похотел расстрига женитися; Не у себя-то, расстрига, он в каменной Москве, Брал он, расстрига, в проклятой Литве У Юрия пана Сендомирского Дочь Маринку Юрьевну, Злую еретницу, безбожницу, На вешний праздник Николин день.Молодой человек остановился и посмотрел кругом.
– Ну пой, что ли! или песня вся? – закричали из толпы.
Молодой человек снова заиграл на балалайке и запел:
Выходит расстрига на красный крылец, Кричит, ревет зычным голосом: "Гей, еси, ключники мои, приспешники! Приспевайте кушанье разное, А и постное и скоромное, Заутра будет ко мне гость дорогой, Юрья пан с паньею. А в те поры стрельцы догадалися, За то-то слово спохватилися, В Боголюбов монастырь металися, К царице Марфе Федоровне. "Царица ты, Марфа Федоровна! Твое ли чадо на царстве сидит, Царевич Димитрий Иванович?" А в те поры царица заплакала, И таковы речи в слезах говорила: "А глупы стрельцы вы, недогадливы! Какое мое чадо на царстве сидит? На царстве у вас сидит Расстрига Гришка, Отрепьева сын. Потерян мой сын Димитрий Иванович, Ни Угличе от тех бояр Годуновых".Молодой человек снова остановился и стал настраивать балалайку, а в толпе между тем говорили:
– Экой искусник! Как он славно переложил быль в песенку! Вся ли? Да пой, что ли?
Молодой человек снова заиграл и запел:
Тут стрельцы догадалися. Все они собиралися, Ко красному царскому крылечку металися И тут в Москве взбунтовалися. Гришка-расстрига догадается, Сам в верхни чердаки убирается И накрепко запирается. А злая его жена, Mаринка-безбожница, Сорокою обернулася И из палат она вон вылетела. А Гришка-расстрига в те поры догадлив был, Бросился он с тех чердаков на копья вострые Ко тем стрельцам, удалым молодцам — И тут ему такова смерть приключилася!– Конец, ребята, и Богу слава! – сказал певец.
– Славно, славно, спасибо! – воскликнули в толпе.
Ямщик. Вот видите, что Маринка-то обернулась сорокою! А то как бы ей уцелеть?
Посадский. Все одна порода, все чародейское племя!
Купец. Надобно было бы пригвоздить к земле этих чародеев осиновым колом на перекрестной дороге, а то, пожалуй, опять встанут! Ведь растерзали плоть, а черти, что сидели в них, остались.
Чернец. Не бойтесь! Господь Бог услышал наши молитвы. Конец бусурманству, конец и бусурманам!
Стрелец. Смотри-ка! Вот немцы опять вылезли из нор!
Чернец. Это наши московские старожилы: их нечего бояться! А этот воин живет у нас со времен Федора Ивановича. Да к тому ж с ними наши святители. Не тронь их.
В некотором отдалении от места, где лежали трупы Лжедимитрия и Басманова, стояли в кругу: немецкий пастор Мартин Бер, родом из Нейштата; капитан иноземных телохранителей со времен Бориса Годунова француз Маржерет; Аренд Клаузенд, голландский аптекарь, английский купец Иван Мерих и трое русских: келарь Троицкой лавры Авраамий Палицын, престарелый схимник Вассиан и один русский дворянин. Они разговаривали между собою (151).
Пастор Бер. Не могу похвалить боярского дела: если они прежде знали, что это расстрига, то не надлежало допускать до того, чтоб он был царем, а присягнув ему, не следовало осквернять себя мятежом и убийством.
Русский дворянин. Что оставалось делать боярам, когда по смерти Годунова народ и войско стали за расстригу! Надлежало выжидать благоприятного случая к очищению России от гнусного богоотступника!
Авраамий Палицын. Извините, господа немцы, а я скажу вам правду. Милости просим к нам в Россию хлеба-соли кушать, а не урядничать, не мешаться в наши дела. Гостям мы рады, а незваных умеем провожать. Справедливо говорится: с своим уставом в чужой монастырь не ходи. Как только еретик, назвавшись царевичем, связался с латинами, так уж должно было догадаться, что он не православный и что из всего дела не будет проку. Не следовало пускать в Русскую землю чужого войска! Что мудреного, что он с своими иезуитами задумал избить бояр да ниспровергнуть православие? Они бы рады были проглотить Россию!
Маржерет. Не верь, почтенный отец, чтоб он хотел избить всех бояр и сановников. Этого у него и в уме не было, а выдумали эту сказку бояре, чтоб возмутить противу него народ. Я не раз слышал от него, как он говорил, что лучше желает погибнуть, нежели царствовать ужасом подобно отцу своему. Правда, что он пристрастен был к нашим обычаям и любил римскую веру и иезуитов, но, позволяя им отправлять свое богослужение, никогда не помышлял ввести насильно в России римскую веру.
Авраамий Палицын. Русские доказали, что насильно он не мог бы ввести папизма, но, позволяя иезуитам заводить школы, он предал Россию соблазну и искушению. Наказал его Бог за презрение наших святителей и за преданность к иезуитам! Сбылось над ними реченное Златоустом: "Такову убо честь беси приносят любящим их". Вот поруганный труп того, которого незадолго пред сим многие любили и величали! Кто забывает Бога, того оставляют люди. Да чего было и ожидать от расстриги, беглого чернеца? Недолго он носил личину мудрости!
Маржерет. Нет, воля твоя, почтенный отец, а я верю, что он был истинный сын Иоаннов.
Авраамий Палицын. Полно, полно, Маржерет! Теперь уже решены все сомнения. Не таков был Борис, чтоб отроку можно было спастись от него! Ведь есть очевидные свидетели, знавшие его в диаконах.
Бер. Это не доказательство; он сам говорил, что скрывался под именем Гришки Отрепьева. Но есть улики вернее. Я говорил с ливонскою пленницей дворянкою Тизенгаузен, которая была повивальною бабкой при царице Марии, служила ей в Москве и в Угличе, беспрестанно видела сына ее, Димитрия, видела и мертвое его тело: эта дворянка сказала мне, что царевич совсем непохож на того, который назвался его именем.
Аренд Клаузенд. Я сорок лет живу в России со времен Иоанна. Лично знал и ежедневно видал покойного царевича и утверждаю, что мнимый царь Димитрий вовсе другой человек. Царевич имел лицо смуглое и черты лица матери; а этот рыжеват и непохож на царицу.
Бер. Мне сказывал тоже один маститый старец, родом из Углича, когда я заклинал его объявить мне истину о царе убитом: "Москвитяне клялися ему в верности и нарушили клятву: не хвалю их. Убит человек разумный и храбрый, но не сын Иоаннов, действительно зарезанный в Угличе: я видел его мертвого, лежащего на том месте, где он всегда игрывал. Бог судия князьям и боярам нашим: время покажет, будем ли счастливее". Вот собственные слова очевидца.
Авраамий Палицы н. Что б ни было, но мы всегда будем счастливее, избавившись от еретика, преданного папе, осквернителя храмов Божиих, презревшего православие…
Бер. Скажу вам более. Басманов любил меня и часто беседовал со мною о разных делах государственных. Он был душевно предан своему царю, хвалил его ум и мужество и сожалел о необыкновенном его легкомыслии. Однажды убеждал я Басманова сказать мне, действительно ли всемилостивейший государь наш имеет право на венец царский. Это было в присутствии одного немецкого купца. Басманов отвечал мне с полною доверенностью: "Вы, немцы, имеете в нем отца и брата: молитесь о счастии его вместе со мною; хотя он и не истинный Димитрий, однако ж истинный государь наш, ибо ему присягали и не можем найти царя лучшего".
Иоанн Мерих. Хотя он сделал мне много добра, но я не могу признавать его истинным царевичем. Мне говорили многие, знавшие Димитрия в Угличе, что царь совсем другой человек. Да и царица-инокиня подтвердила пред боярами, что он не сын ее.
Маржерет. Слов царицы никто не слыхал, а боярам в этом деле нельзя верить. Правда, что даже некоторые поляки называют его трансильванцем, другие побочным сыном покойного короля Польского Стефана Батория, иные поляком, воспитанным иезуитами; но что ни говорят, а я все верю, что он истинный сын Иоаннов.
Русский дворянин. Не упрямься, Маржерет! Я говорил с переводчиком бывшего здесь шведского посла Петрея. Посол сказал ему: "Если б царь был истинный Димитрий, то ему было бы теперь лет двадцать два, а по лицу ему лет тридцать".
Маржерет. Неправда: ему казалось около двадцати пяти лет. Он постарел от горя и трудов. Если б он был расстрига Гришка Отрепьев и таков, как его описывал Годунов, то он не мог бы в такое короткое время научиться военному ремеслу и всем наукам. Нет! Я думаю, что он в юности спасен из Углича и отправлен в Польшу.
Бер. Не спорю: может быть, он и не Гришка Отрепьев и с детства жил в Польше. Но все-таки он не сын Иоаннов!
Клаузенд. Справедливо! Обманщик, поставленный иезуитами для исполнения их намерений.
Бер. Но любопытно знать, кто будет теперь царем?
В это время у Фроловских ворот раздались народные клики. Толпа всадников прискакала на площадь, восклицая:
– Радуйтесь, москвитяне! Бог дал нам нового царя. Избран на царство князь Василий Иванович Шуйский! Да здравствует царь Василий Иванович!
Народ молчал и как будто оцепенел. Только в торговых рядах раздались радостные восклицания и кое-где повторились на площади.
Маржерет. Так вот для чего работал князь Василий Иванович!
Авраамий Палицын. Не быть добру! Испытание России не кончилось. Россия до тех пор не будет великою и счастливою, пока не будет иметь царя из законного царского рода. Господи, сохрани святое племя!..
Вассиан. Этому племени принадлежит Россия, им только она успокоится и возвеличится! Боже, храни Романовых для блага церкви и отечества! "Из глубины воззвах к тебе, Господи, Господи, услыши глас мой!"
ПРИМЕЧАНИЯ К III И IV ЧАСТЯМ
С. 3. Перевод эпиграфа к части III: «Пришелец, который есть у тебя, поднимается над тобой выше, выше, ты же опустишься ниже, ниже». – Ссылка Булгарина ошибочна, в указанной им главе «Второзакония» (одной из книг Библии) этих слов нет.
С. 7. Лев Данилович (ум. в 1301) – галицко-волынский князь, основавший, по преданию, Львов и перенесший туда в 1272 году столицу своего княжества.
(1) Иезуиты называются не монахами, но просто патерами (отцами), членами общества Иисуса Христа: Societas Jesus. Общество сие, духовно-педагогико-политическое, имеет явную цель: распространение римско-католической веры и утверждение власти папской. Они называют себя воинами папы. Иерархия иезуитов соответствует светским школьным званиям и в некотором отношении званиям политическим. Глава общества, имеющий свое пребывание в Риме, носит звание генерала. К нему относятся иезуиты со всех концов мира. Когда в России была учреждена особая митрополия для католиков, то иезуиты имели своего генерала в Петербурге. Место жительства иезуитов называется коллегиумом, а не монастырем. Старший, или настоятель, называется ректор, помощник его – декан, под ним – префект школ. Начальники малых коллегиумов называются супериоры, или старшие.
(2) Рефекториум – зала трапезы.
(3) Aula (авла) – зала публичных испытаний в науках и публичных заседаниях.
(4) У иезуитов профессоры и учители назывались именем той науки, которую преподавали. Например: патер грамматика, патер красноречие, патер математика и т. п.
(5) Сутана – род сюртука или полукафтанья, застегнутого сверху донизу пуговицами, c разрезными и также застегивающимися рукавами.
С. 8. Рыдван – большая дорожная карета.
С. 10…часы гарлемские и амстердамские… – т. е. изготовленные в голландских городах Гарлеме и Амстердаме, славившихся часовых дел мастерами.
С. 11. Лютер Мартин (1483–1546), Кальвин Жан (1509–1564), Цвингли Ульрнх (1484–1531) – идеологи и деятели Реформации, религиозно-общественного движения, направленного против католической церкви как оплота феодализма и приведшего к возникновению Протестантизма – одного из основных ответвлений христианства.
Чермная Россия, или Червонная Русь – название Галиции, бытовавшее в Польше XVI–XVII вв.
С. 12. Иов – библейский патриарх; приведенная в тексте романа цитата – из "Книги Иова", входящей в состав Ветхого завета.
(6) Index – каталог запрещенных папою книг. Каждая книга, где не признается устав католической веры, запрещена.
С. 13. Гутенберг Иоганн (ок. 1399–1468) – немецкий мастер, с именем которого связывают появление и распространение книгопечатания в Европе.
С. 14. Филистимляне – в Библии – народ, воевавший с иудеями.
Ночь святого Варфоломея – так называемая Варфоломеевская ночь (на 24 августа 1572 года), когда произошло массовое избиение протестантов католиками в Париже.
Святая Германдад (испанск. Santa Hermandad) – "Святое Братство" – полицейский орган инквизиции.
Гугеноты – название, применявшееся французскими католиками к протестантам. С. 19. Давид – в Библии – иудейский пастух, убивший великана-филистимлянина Голиафа и ставший впоследствии царем.
(7) См. "Историю Государства Российского" Карамзина, т. XI, с. 150. Это подлинные слова Лжедимитрия.
(8) См. "Историю Государства Российского" Карамзина, т. XI;"Dzieje panowania Zygmvmta III" Немцевича; "Gesta Vladislai IV" Вассенберга; "Estât de l'Empire de Russie et Grande Duchê de Moscovie etc." Маржерета и всех современных писателей: Бера, Петрея и других, писавших о Лжедимитрии.
(9) Сигизмунд III, человек холодный, тщеславный, суесвят, был чрезвычайно молчалив. Его не любили в Польше и в насмешку называли немым шведом. Прозвание сие дал ему канцлер Замойский – см. "Dzieje panowania Zygmunta III" Немцевича.
С. 30. Гайдук – выездной лакей высокого роста в венгерской, гусарской или казачьей одежде.
(10) "История Государства Российского", т. X, с. 129.
С 31. Жупан – суконный полукафтан с откладным воротником, застегивающийся на пуговицы.
Кунтуш – верхняя мужская одежда с откидными рукавами, со шнурами, иногда на меху.
С. 36. Заводные лошади – запасные.
(11) Так называл себя Лжедимитрий. См. запись, данную Мнишеху в "Собрании государственных грамот и договоров", ч. II.
(12) – Там же, с. 293.
С. 42. Венера (римск.) – богиня любви и красоты; Минерва (римск.) – богиня мудрости, покровительница ремесел и искусств.
С. 47. Куртина – здесь "цветочная клумба".
(13) – О Пыхачеве см. "Историю Государства Российского" Карамзина, т. XI, с. 140.
(14) Тяжелая кавалерия польская в числе других орудий имела молоток у седла.
(15) См. "Собрание государственных грамот и договоров", ч. II.
(16) В католических государствах папа давал привилегию, или инвеституру, на удельные владения. При открытии Америки папа инвеститурою подарил ее Испании.
С. 57. Скуфья – бархатная шапочка наподобие тюбетейки.
Примас – почетный титул главных епископов католической церкви.
(17) См. гравированный портрет Карнковского и описание его характера в "Dziejach panowania Zygmunta III" Немцевича, т. I, с. 209.
Великий гетман коронный – командующий польскою армией.
(18) См. "Zycie Zamojskiego, przez Bohomolca", также гравированный портрет в "Dziejach panowania Zygmunta III" Немцевича; а описание характера в сем же сочинении и Пясецкого, Лубенского и других.
С. 59. Гетман польный – заместитель коронного гетмана.
(19) См. "Spiewy historyczne" Немцевича и гравированный портрет в "Dziejach panowania Zygmunta III" сего автора.
С. 59. Дерпт – название г. Тарту в ХП1-XIX вв.; Ревель – название г. Таллинн до 1917 г.
(20) См. "Zycie Karola Chodkiewicza" и "Dzieje panowania Zygmunta III", где находится гравированный его портрет.
С. 60. Подкоморий – выборная пожизненная судейская должность.
Референдарий – сановник, принимающий жалобы частных лиц для представления королю.
Булла – особо важный папский документ.
(21) Странно читать в русских летописях выражение пан-рада. Рада значит совет, и наши историки называли членов Совета Польского господин совет.
(22) Каждый Польский король при избрании подписывал Pacta conventa, или "Условные пункты", т. е. обещал выполнить, что от него требовали. Сии условия редко выполнялись по невозможности.
(23) См. "Historyczne opisanie miasta Krakowa etc. przez Abr. Grabowskiego".
(24) Подлинные слова Замойского. См. "Dzieje panowania Zygmunta III" Немцевича.
(25) Это одно выражение характеризует тогдашнее состояние Польши и объясняет причину ее оскудения.
С. 63. "Sic transit gloria mundi!" – "Так проходит мирская слава!" (латинское изречение, восходящее к немецкому мистику XV в. Фоме Кемпийскому).
(26) См. "Летопись Несторову", издание 1767 г., с. 16. – Наряд – значит "устройство".
(27) См. Маржерета, издание 1821 г., с. 110.
(28) Федор Никитич, в монашестве Филарет, бывший патриархом, отец царя Михаила Федоровича.
(29) Пророка Иеремии (т. е. цитата из "Книги пророка Иеремии", входящей в состав Ветхого Завета. – Ред.).
(30) Как свидетельствует келарь Авраамий Палицын.
(31) Маржерет.
(32) Бер в "Chron. Moscow.".
(33) Петрей.
(34) Карамзина "История Государства Российского", т. XI, с. 112.
(35) См. примеч. 70 в "Истории Государства Российского" Карамзина в т. XI.
(36) См. "Собрание государственных грамот и договоров", ч. II, с. 175.
(37) См. примечание 36.
С. 74. Трансильваиия – княжество на территории Румынии, в начале XVII в. находилось в зависимости от турецкого султана.
(38) См. "Dzieje Polski, pötocznym sposobem opowidziane przez J. Lelewela".– Warszawa, 1820.
(39) В России до XVIII в. не употребляли гербов.
(40) См. примечание 38.
(41) У русских бояр служили бедные дворяне под названием знакомцев. Они сопровождали своих меценатов на войну, при приездах в город, забавляли их и садились с ними за стол. См. "Древнюю вивлиофику", ч. XX и "Опыт повествования о русских древностях Г. Успенского", ч. I, с. 155.
(42) См. портрет Сигизмунда III в "Dziejach panowania Zygmunta III" Немцевича.
(43) См. "Dzieje panowania Zygmunta III" Немцевича, т. II, с. 243; Вассенберга, Чилли, Лубенского. Описание, помещенное здесь, верно.
(44) Собственные слова Лжедимитрия. См. Лубенского и Немцевича.
С. 80…Кир и Ромул, воспитанные пастырями… – Древне-персидский царь Кир II Великий (V в. до н. э.) и легендарный основатель Рима Ромул были, по преданию, воспитаны пастухами.
(45) Собственные слова Лжедимитрия; см. авторов, упомянутых в примечаниях 42 и 43. Эрик XIV, король Шведский, сын Густава Вазы, вступив на престол, дал уделы трем своим братьям. Иоанна, герцога Финляндского, старшего брата, обвинили в умысле похитить престол. Эрик заключил его в темницу с женою, Катериною Ягелло, 1566 года по наущению любимца своего Пирсена и хотел лишить его жизни. Сигизмунд родился в это время. Вот к чему относятся слова Лжедимитрия, когда он говорит, что Сигизмунд родился в узах.
(46) Подлинная речь короля. См. авторов, упоминаемых в примечаниях 42, 43 и 44.
(47) Нынешних рублей серебром 54000.
С. 81. Иоас – по Библии, восьмой царь Иудеи, едва не погибший в младенчестве, когда его бабка Гофолия, стремясь к власти, истребила почти весь царский род. Иоаса спасла и помогла ему взойти на престол семья священника Иодая.
(48) Обувь из сыромятной кожи без подошв, прикрепляемая к ноге ремнями, которую употребляют крестьяне в некоторых местах Польши.
(49) Самуил Зборовский был врагом короля Стефана Батория и долго возмущался противу него. Ян Замойский, будучи старостою краковским, поймал мятежника и казнил, за что был позван в суд на Сейме Люблинском и оправдан. Сие случилось в 1584 году. Братья Самуила долго смущали спокойствие Польши, желая отмстить Замойскому за смерть своего кровного. См. все исторические сочинения о Польше.
(50) Так думали и говорили о короле Сигизмунде его противники. Он в самом деле нарушил многие привилегии. Приверженцы короля в укоризну назывались шведами.
С. 89. Ординацни – постановления об ограничении привилегий.
(51) Каптур – капюшон, который был при епанче. С. 90. Арак – водка из риса или сахарного тростника.
(52) Величайшее оскорбление в Польше и поныне назвать кого холопом, не шляхтичем.
С. 94. Камчатное знамя – из камки, шелковой китайской ткани с разводами.
Вахмистр, наместник – см. примечание 55 Булгарина.
С. 95. Ротмистр – офицер в кавалерии, по званию равный капитану.
(53) Поговорка или восклицание гуляк в Польше.
(54) Адвокатское сословие называется в Польше палестрою. С. 95. Корец – мера для зерна.
(55) Первую шеренгу в прежнем войске польском составляли шляхтичи и назывались товарищами. Вторую шеренгу составляли наемники товарищей и назывались шеренговыми. В частном войске панов и товарищи и шеренговые были на их жалованье, особенно в партиях охотников (т. е. добровольцев – Ред.). Вахмистр был важная особа, из старых служивых, а наместник – его помощник.
(56) Дисциплина – плеть, которою секли в духовных школах учеников и которою истязали себя кающиеся грешники в дни покаяния.
(57) По заключении торга пьют, и это называется магарыч. Слово, употребляемое цыганами н мелкопоместною шляхтою.
С. 99. Канчук – ременная плеть, нагайка.
(58) См. народную балладу Адама Мицкевича "Пан Твардовский".
С. 100. Меделянская собака – крупная, тупоносая, гладкошерстая, похожая на бульдога.
(59) См. современные записки иностранцев о Польше, а преимущественно "Описание путешествия госпожи де Гебриан в царствование Владислава IV в издании Немцевича "Zbiór pamietników etc.", т. IV.
(60) Все упомянутые здесь польские фамилии или благоприятствовали самозванцу, или были с ним в Москве.
С. 102. Шпенсер (спенсер) – коротенькая курточка с длинными рукавами.
Роброн – платье колоколообразной формы с фижмами (на обручах из китового уса).
(61) В описании костюмов, порядка пиршества, в приготовлении яств соблюдена величайшая точность. См. примечание 58 и сочинение Боплана.
С. 103. Бахус (римск.) – бог виноделия.
(62) См. сочинение Лелевеля, упомянутое в примечании 38.
С. 103…стояли тарелки и блюда в кострах… – т. е. в больших стопках.
(63) См. примечание 59 и сочинение Боплана.
С. 105. Катон – это имя носили два древнеримских политических деятеля, отличавшихся строгостью нравственных принципов: Марк Порций Цензорий, прозванный Старшим (234–149 до н. а.), и его правнук, также Марк Порций, прозванный Младшим, или Утическим (95–46 до н. э.).
С. 106. Сенека Луций Аннен (ок. 4 до н. э. – 65 н. э.) – римский государственный деятель, философ и писатель.
(64) Меч короля Болеслава Храброго, которым он ударил по воротам Киева при взятии оного. На мече осталась зазубрина, или, по-польски, шербец (Болеслав I Храбрый, ставший королем в 1025 году, объединил польские земли, завоевал галицкие города. – Ред.).
С. 107. Голдовник – вассал, подданный.
(65) См. "Книгу Большого чертежа". Карамзин называет Муромеск по-польски – Моравском.
(66) Описание лица, телосложения и качеств Ксении см. в "Русских достопамятностях", ч. I, с. 174. "Написание о царях Московских".
(67) Описание лица, телосложения и качеств Михаила Молчанова см. в примечании 49 к "Истории Государства Российского" Карамзина, т. XII.
С. 111. Покляпый нос – свислый, крючкообразный.
(68) Знаменитый боярин князь Курбский бежал к полякам из Дерпта в Вольмар в 1564 году. Если ему было тогда 40 лет от рождения, то в 1604 году, во время предполагаемого здесь свидания с Лжедимитрием, Курбский мог иметь 81 год. Обстоятельства кончины Курбского неизвестны. Карамзин в IX томе "Истории Государства Российского" на с. 303 говорит: "Мрак неизвестности сокрыл последние дни и могилу мужа, ознаменованного славою ратных дел, ума, красноречия и бесславием преступления". Что сокрыто для истории, то может быть открыто в романе.
С. 119. Доблий – доблестный.
С. 121. Перевод эпиграфа к части IV: "Возлюбленные, видя эту суету жизни человека, который вчера был украшен славою и гордился знатностью, а ныне ничтожен, как пыль и прах, и вскоре погибает, помянем свои грехи и покаемся".
(69) См. сочинения, о коих упомянуто в примечаниях 301 и 302 в "Истории Государства Российского" Карамзина, т. XI.
С. 126. Охабень – широкий кафтан с четырехугольным отложным воротником и откидными рукавами. Тафья – шапочка, по виду напоминающая тюбетейку.
С. 133. Панагия – иконка с изображением Богоматери, которую архиереи (высшее духовенство) носят на груди.
С. 134. Крайчий (кравчий) – придворный, в обязанности которого входило прислуживать царю за столом. Сокольничий – заведующий царской охотой. Ловчий – главный псарь.
(70) Все сии особы подлинно заседали в Думе при царе Борисе Феодоровиче. См. "Древнюю российскую вивлиофику", ч. XX, с. 68 и 73.
(71) Царь Борис всегда хотел показывать мнимое презрение к врагу, Лжедимитрию, которого страшился. См. "Историю Государства Российского" Карамзина, т. XI.
С. 134. Жильцы – уездные дворяне, состоявшие при царе на временной воинской службе.
(72) См. там же (примечание 71 – Ред.).
(73) См. там же, с. 160.
С. 135. Торговая казнь – наказание кнутом по приговору суда на торговой площади.
(74) См. там же (примечание 73 – Ред.) и примечание 265 к XI тому "Истории Государства Российского" Карамзина.
С. 136. Поставец – посудный шкаф.
Чашник – придворный виночерпий, ведавший напитками, подаваемыми к царскому столу.
Стольник – придворный, в обязанности которого входило прислуживать царю во время торжественных трапез и сопровождать его в поездках.
С. 137 – Белый мед – липовый, красный – с гречихи.
138. Взвар – отвар фруктов, ягод, трав. Калья – похлебка на огуречном рассоле с огурцами и свеклой. Папорок (папороток) – второй сустав крыла у птицы. Рябь – рябчик. Тешка – рыбье брюшко. Тельные оладьи – котлеты. Хлебенное – хлебное. Перепечь – хорошо поднявшийся хлеб. Пирог рассольный – с рыбной или мясной начинкой и солеными огурцами. Лощатый – лощеный, полированный. Братина – большая чаша. Мушкатный – мускатный. Шаптала – сушеные персики.
(75) Описание царского пиршества и кушаньев верно. См. "Опыт повествования о русских древностях" Г. Успенского, ч. I; Маржерета "Estât de l'Empire", с. 41, из которого помещена выписка у Карамзина в X томе "Истории Государства Российского" на с. 274; "Путешествие" Мейерберга, изданное Аделунгом; "Древняя российская вивлиофика", ч. IV, с. 320; Там же, ч. XIII, с. 210 и далее; Герберштейна и других.
С. 139…в 7032 году… – до 1700 года летоисчисление в России велось "от сотворения мира"; по летоисчислению "от рождества Христова" указанная дата – 1524 год; соответственно 7044–1536 год.
Разрядный приказ – центральное государственное учреждение, ведавшее служилыми людьми и военным управлением.
(76) О местничестве см. "Судебник", "Опыт повествования Г. Успенского", с. 181 и 392.
(77) См. примечание в "Истории Государства Российского" Карамзина, т. X.
С. 141. Митра – позолоченный головной убор высшего духовенства, надеваемый во время богослужения. Финифть – художественное изделие: эмаль на металлической основе. Сакос (саккос) – деталь облачения священника во время богослужения: короткая прямая одежда с короткими рукавами, надеваемая поверх подризника. Епитрахиль – широкая лента, надеваемая на шею. Омофор – широкая Лента через плечо. Алтабас – персидская парча. Поручи – нарукавники в облачении священнослужителя. Палица – платок в форме ромба, прикрепляемый к поясу священнослужителя и ниспадающий на бедра. Набедренник – четырехугольный продолговатый платок, который носится так же, как и палица. Стихарь – длинная прямая одежда с широкими рукавами.
(78) См. "Путешествие" Мейерберга, изданное Аделунгом, с. 255; "Путеводитель к древностям и достопамятностям московским и проч.", издание 1792 года, ч. I, с. 287; "Новый словотолкователь и проч.", ч. I и III.
(79) "Книги премудрого Иисуса, сына Сирахова", гл. 6, ст. I. (Перевод: "Не будь врагом под личиною друга, ибо ложное наименование приведет к стыду и поношению; так двуличен крешник".)
С. 143. Персть – пыль, прах.
С. 144. Лития – молитва об упокоении душ усопших.
(80) См. "Собрание государственных грамот", ч. 2, с. 192.
(81) Псалом Давида в четвертый субботний (Псалом 93, стихи 14, 15. Перевод: "Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего. Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем" – Ред.).
(82) Книга Иова, гл. 41, ст. 16 (Перевод: "Сердце его отвердело, как камень, стоит же, как неподвижная наковальня" – Ред.).
(83) См. примечание 81 (Перевод: "Попирают народ твой, Господи. Вдову и пришельца убивают и сирот умерщвляют" – Ред.).
(84) Историки утверждают, что царь Феодор Борисович, видя всеобщее расположение умов в пользу самозванца, наконец сам стал сомневаться в истине. Так говорит и Карамзин в XI томе "Истории Государства Российского".
(85) Ныне Василия Блаженного.
С. 152…по Моисееву закону… – т. е. по установлению Моисея, библейского пророка и законодателя, вдохновляемого свыше. С. 153. Китай-город – исторический район Москвы, включающий в себя Красную площадь и кварталы, примыкающие к Кремлю.
(86) Карамзин, ссылаясь на французского историка де-Ту (См. "Историю Государства Российского", т. XI, примечание 271 и с. 163 в тексте), заставляет Лжедимитрия произнесть речь сию в битве под Трубчевском, а приведенную здесь речь поместил в примечании 270. Немцевич в "Жизни Сигизмунда", основываясь также на доказательствах, говорит, что речь, приведенная Карамзиным, произнесена была самозванцем к войску под Кромами после измены Басманова. См. "Dzieje рапо-wania Zygmunta III", ч. II, с. 260. Я придерживаюсь Немцевича и следую источникам, на которые он ссылается.
(87) История поныне не разрешила, что побудило храброго и умного Басманова к измене. Многие полагают, что Басманов, зная слабость Феодора и не предвидя от него спасения России, думал, что лучше признать царем смелого и умного самозванца, чем томить ее раздорами, и притом опасался, чтоб общее расположение умов не подвигло войско к измене.
С. 156. Требник – книга с молитвами для треб, обрядов, свершаемых по просьбе прихожан (крестины, венчание, панихида и т. п.).
(88) О бунте войска смотри Маржерета и других.
С. 159. Яртаульный – передовой, авангардный.
С. 160. Даточная пехота – состоящая из солдат, взятых на пожизненную военную службу.
Сурна (зурна) – духовой музыкальный инструмент в виде рожка или свирели с резким звуком. Накра – ударный музыкальный инструмент наподобие бубна или литавры.
(89) Описание войска и вооружения взято из Маржерета ("Estât de l'Empire etc.", с. 81 и последующие), Герберштейна, Мейерберга, Миллера, Корба, Петрея, Олеария, Татищева, "Опыт повествования" Г. Успенского и проч., и проч. О начальниках войска в то время см. "Никоновскую летопись". Сопель – флейта, котлы – литавры.
(90) О пище и продовольствии войска см. Маржерета, с. 89 и 90.
(91) В древней песне, или, правильнее, сказке о взятии Казанского царства (см. "Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым"), царь Иоанн Васильевич называется прозритель. Прозвание сие дано ему, вероятно, современниками в юности, прежде, нежели он заслужил название Грозного. Все славянские поколения в старину любили давать качественные прозвания вождям своим и царям, а потому в песне моей я сохранил черту сию. Прозритель значит проницательный, дальновидный.
С. 165. Хоругвь – здесь подразделение в польско-литовской армии, соответствующее роте (в кавалерии – эскадрону).
(92) Изображение польских латников находится в "Описании Украины" Боплана. См. также "Путешествие" госпожи де Гебриан, "Zbión pamietnïków о dawnej Polszcze" Немцевича и проч.
(93) О мятеже московском см. "Никоновскую летопись", Бера в Петрее, Маржерета и "Историю Государства Российского" Карамзина, т. XI, с. 195.
(94) Так точно толковал народ. См. Бера и Карамзина, т. XI, с. 200.
(95) Петрей говорит, что князь Василий Шуйский свидетельствовал в пользу самозванца во время мятежа и уверял, что царевич Димитрий спасся от убийства в Угличе. Карамзин отвергает показание Бера. Я держался середины и заставил Шуйского говорить двусмысленно, сообразно с его характером.
(96) См. примечание 350 в "Истории Государства Российского" Карамзина: слова "Где рабы и рабыни?" и проч.
(97) См. примечание 338 к "Истории Государства Российского" Карамзина.
(98) "…Когда же жалости слезы от очию испущаше, тогда наипаче светлостию зельною блестяще". См. описание лица царевны Ксении в "Русских достопамятностях", ч. I, с. 174.
(99) Я почел неприличным поместить в романе отвратительные подробности смерти Феодора Борисовича. Желающие знать их могут прочесть в примечании 374 к XI тому "Истории Государства Российского" Карамзина. Семейство Годунова точно истреблено сими людьми. См. "Историю Государства Российского" Карамзина, т. X и XI и все современные летописи, на коих основывался Карамзин. Имена нигде не вымышлены. (Примечание 347 к XI тому "Истории" Карамзина: в Ростовской и Никоновской летописях: "Царевича ж многие часы давиша, яко ж не по младости в те поры дал ему Бог мужество; те ж злодеи ужасашася, яко един с четырмя боряшеся; един же от них взят его за тайные уды и раздави". В Степенной книге Латухина: "Царь же Феодор нача убийц со слезами молити, чтобы скорою смертию живот его прекратили <…> един же от убийц взем древо велие и удари Феодора по раменам". – Ред.).
(100) См. "Никоновскую летопись", "Краткую церковную российскую историю" митрополита Платона и проч.
С. 183. Опашень – широкий долгополый кафтан с короткими рукавами.
(101) Каждый достаточный воин польский имел с собою повозку, заводных коней и несколько слуг. Обоз всегда был многочисленнее войска. Слуги военных людей и все обозные прислужники назывались цюры. Их в нужде заставляли сражаться.
С. 193. Бочки Данаид – имеется в виду древнегреческое сказание о дочерях некоего Даная из Египта, которые были осуждены после смерти таскать воду в бездонные бочки за то, что убили своих мужей в брачную ночь. In vino veritas (латинск.) – Истина в вине.
С. 196. Наказной атаман – исполняющий обязанности атамана в его отстутствие.
С. 199. Соломон – библейский царь, прославившийся богатством и мудростью; Иисус Навнн – в Библии начальник еврейского народа, предводитель израильтянских войск во многих битвах, завершившихся победами. Иерихон – город в Палестине, стены которого, как повествует Библия, пали во время осады его израильтянскими войсками от звуков труб священников.
С. 203. Сытный двор – дворцовые продовольственные склады.
(102) Псалом Давида 20, ст. 6 (Перевод: "Велика слава его в спасении твоем: ты возложил на него славу и великолепие" – Ред.).
(103) "История Государства Российского", т. XI, с. 213.
(104) См. Паерле, Гравенбуха и Карамзина "Историю Государства Российского", т. XI, с. 177.
(105) См. примечание 103.
(106) Боярин Вельский точно клялся перед народом, что новый царь есть истинный сын Иоаннов. См. Петрея и Карамзина, т. XI, с. 214.
С. 207. Драбанты – телохранители.
(107) См. примечание 305 к XI тому "Истории Государства Российского" Карамзина.
(108) О литературе того времени см. "Опыт краткой истории русской литературы", сочинение Н. И. Греча, изд. 1822 г., и X том "Истории Государства Российского" Карамзина.
С. 209. Сошное и вытное письмо – описание земельных владений с целью государственного налогового обложения; слова образованы от названий податных единиц: "соха" и "выть" (надел земли).
(109) См. "Историю Государства Российского" Карамзина, т. X, с. 257.
(110) Книга сия точно существовала, по уверению польских писателей, слышавших от друзей Лжедимитрия.
(111) Страсть Годунова к доносам и притеснения, делаемые им боярам по одним подозрениям, погубили его. См. том X и XI "Истории Государства Российского" Карамзина.
(112) О сокровищах и доходах царских см. Флетчера, Mapжерета, польских писателей, Машкевича и проч. 1 400 000 тогдашних рублей составляет нынешних около 7 000 000 серебряных рублей.
(113) См. виньет к сей книге. Кажется, первая проба сделана была за границей. Видно, что сих денег еще вычеканено весьма мало, ибо они чрезвычайно редки. (В настоящем издании этот "виньет" не воспроизводится. В "Объяснении" Булгарин писал: "На виньете изображена монета Димитрия Самозванца. Может быть, это были не деньги, а только медали, розданные при вступлении на престол. Медаль сия выгравирована в настоящую ее величину и с величайшею точностью. На обороте изображен двуглавый орел (весьма похожий на орла австрийского) с тремя коронами, из коих большая также похожа на императорскую корону. В середине орла – щит, а на нем святой Георгий Победоносец. Украшения вокруг щита вовсе не русские. Орел не держит в когтях ни скипетра, ни державы. Отделка медали превосходная. Весом она – с небольшим 7,5 золотников чистого серебра.
На лицевой стороне медали сокращенная надпись: "Дмтре. Ивановичь. бжю. млотьо. црь. и велки. кнзь. русис и все. пскы. крлесть. ины. многи. гсподист". На обороте: "Мокоскы. монарх, повел, господар. коро. и обладатель, и царьско. и с".
По всему видно, что медаль сия вычеканена не в России и не русским художником. Некоторые думают, что она вычеканена в Голландии, с которою Польша была в то время в тесных торговых связях. Надпись, вероятно, составлял поляк или литовец, знавший несколько по-русски. Известный наш археолог П. М. Строев так читает надпись: "Дмитрей Иванович, Божиею милостию царь и великий князь Русийский и всяческих кролеств и иных многих Господарств Московских монарх, повелитель, господарь, король и обладатель, и царь, и самодержец".
Последние слова можно читать: "и царский сын". Но едва ли так. Медаль сия весьма редка.)
С. 214. Сканная отделка – ажурный или напаянный на металлический фон узор из золотой или серебряной проволоки. Лалл – рубин. Бурмитский жемчуг – крупный, окатистый.
С. 215. Четверик – мера объема, равная 26,24 литра.
Алтабас – персидская парча.
(114) См. описание царских регалий и сокровищ в Маржерете и в книге "Москва, или Исторический путеводитель и проч.", ч. II Немцевич в "Dziejach panowania Zygmunta III", ч. II, с. 272, ссылаясь на современников, говорит, что Лжедимитрий, кроме серебра и золота, нашел в казне царской 11 корцов жемчугу и дорогих камней. Корец имеет 32 гарнца, следовательно, всего было жемчугу и проч. 44 четверика.
(115) См. титул его в грамоте к королю Сигизмунду и воеводе Мнишеху в "Собрании государственных грамот", ч. II.
(116) Царь Иван Васильевич в грамотах и письмах иногда производил род свой от цесаря Августа. Это было общее заблуждение того века.
С. 219. Подскарбий – казначей.
(117) См. "Собрание государственных грамот и договоров", ч. II, с. 207. Я нарочно выписал все имена. Любопытно видеть вельмож того времени. Некоторые роды угасли.
(118) Все сие точно сделал Лжедимитрий в краткое свое царствование. См. "Собрание государственных грамот", ч. II и "Указатель российских законов", ч. I, также Гравенбуха и Бера.
(119) Кроватей тогда почти не употребляли частные люди, а спали на примостах. См. Успенского "Опыт повествования". В малых городах, в глуши, еще и ныне существует сей обычай.
С. 222. "И не введи вас во искушение, но избави вас от лукавого" – слова из молитвы "Отче наш" (Евангелие от Луки, глава II, ст. 4).
(120) См. Петрея.
С. 226. Зернь – игра в кости.
С. 227. Гударь – музыкант, играющий на гудке – трехструнном смычковом инструменте.
Чертожское место – возвышение в московском Успенском соборе, где венчались цари.
– Лики возгласили многолетие царю… – здесь "лики" – два полухория, стоящие в церкви по обеим сторонам алтаря на крылосах.
С. 228. Ектения – молитва с просьбой о помиловании и прощении, читается дьяконом или священником.
(121) Так было и так говорят современники. См. "Собрание государственных грамот", ч. II, "Французскую историю" де-Ту, Маржерета, Петрея, Бера, "Церковную историю" Платона, XI том "Истории Государства Российского" Карамзина, "Dïariusz postów polskich", "Dzieje panowania Zygmunta III" Немцевича и проч., и проч. Современники не называли Марины иначе, как поганою, т. е. идолопоклонницею.
(122) Об осуждении князя В. И. Шуйского см. авторов в примечании 121 упоминаемых.
С. 231. Содом в Гоморра – в Библии города, погрязшие в распутстве и уничтоженные огнем, ниспосланным с небес.
С. 232. Лойола Игнатий (1491? – 1556) – основатель, организатор и идеолог Ордена иезуитов.
(123) См. "Собрание государственных грамот", ч. II.
С. 234. Цербер – в греческой мифологии свирепый пес с тремя головами и змеиным хвостом, сторожащий вход в подземное царство.
(124) Описание дома верно. См. "Diariusz postów polskich"; "Dzieje panowania Zygmunta III"; Карамзина, т. XI, с. 226.
(125) См. Маржерета, Бера и Петрея.
С. 235. Подстолин – придворная должность – заместитель стольника.
(126) См. Герберштейна, Петрея, Олеария, Флетчера, Маржерета, Мейерберга и других.
(127) См. Мейерберга и Кампфера при "Путешествии" Мейерберга, изданном г. Аделунгом.
(128) Описание лиц и качеств князя В. И. Шуйского см. в "Русских достопамятностях", ч. I, с. 175.
(129) Пророка Иезекиля, глава 2, ст. 2 (Перевод: "Вот люди, у которых на уме суета и которые дают худой совет в городе этом". – Ред.).
(130) Премудрость Соломонова, глава 4, ст. 12. (Перевод: "Сказанное в злобе искажает истину". – Ред.).
(131) Псалтырь, Псалом Давиду 96, ст. 6 (Перевод: "Небеса возвестили правду Его и все люди увидели славу Его").
(132) Имена и лица невымышленные. Все сии боярыни точно пользовались уважением при дворе Лжедимитрия. См. "Древнюю российскую вивлиофику", ч. XIII, с. 116 и далее.
(133) Польки сии были в Москве с Мариной. См. "Dzieje panowania Zygmunta III" Немцевича и "Diariusz postôw polskich".
С. 243. Летник – женское нарядное платье с длинными рукавами (иногда разрезными). Вошвы – вставки. Кармазинный – из ярко-алого тонкого сукна.
Косник – подушечка на кончике косы для украшения. Подннзи – деталь головного убора – сетка, расшитая бисером или жемчугом. Зарукавья сканной работы – браслеты с узором из напаянных золотых или серебряных шариков.
(134) См. "Опыт повествования о древностях русских" Г. Успенского, ч. I, с. 51 и далее, Мейерберга и других иноземных путешественников, упоминаемых в ссылках.
(135) "Вся честь женщины, а паче девицы, поставляема была в том, чтоб не быть видимыми, и женщина невозвратно теряла доброе имя, если видел ее какой-нибудь мужчина, кроме отца, братьев или мужа" и проч. – Г. Успенского "Опыт повествования о древностях русских", ч. I, с. 101 и 102; Герберштейн, Бухау, Мейерберг, Корб и проч. Все, что говорится здесь о обычаях русских женщин, верно и основано на современных свидетельствах.
(136) Аспектами в астрономии называются различные положения солнца и других планет по Зодиаку. Аспектов пять. Для астрономии три последние вовсе бесполезны и даже не означаются в нынешних календарях. Но в астрологии всем аспектам приписывали важное влияние на судьбу царств и людей. Группы неподвижных звезд для лучшего объяснения разделены астрономами на созвездия, констелляции и названы различными именами. Астрологи предсказывали по звездам и созвездиям, а древние поэты соединяли с ними понятия о своих мифах и преданиях. Гороскоп значит: участь, объясненная посредством астрологии.
(137) См. примечание 438 в "Истории Государства Российского" Карамзина, т. XI.
(138) Слова Авраамия Палицына. См. "Сказание об осаде Троицкой лавры".
С. 263. Протазан – копье с длинным и плоским наконечником.
(139) Все, что здесь говорится, точно говорено было на площадях и по домам в Москве. См. "Краткую церковную историю" митрополита Платона, ч. II, с. 156, 157 и далее; примеч. 402 в "Истории Государства Российского" Карамзина, т. XI; "Сказание об осаде Троицкой лавры и проч." Авраамия Палицына; "Собрание государственных грамот", ч. II; "Diariusz postôw polskich"; "Dzieje panowania Zygmunta III" Немцевича, Петрея "Regni Moscovitici etc."; Бера в Петрее и проч.
(140) О лекаре Косте и купце Федоре Коневе см. примечание 405 в "Истории Государства Российского" Карамзина, т. XI.
(141) Бер и Петрей пишут именно о сих лицах, что они были первыми зачинщиками и советниками заговора. Летописи русские прибавляют: они дали взаимную клятву друг другу, что если один из них будет царем, то другие будут первыми советниками. См. Примечание 524 в XI томе "Истории Государства Российского" Карамзина.
(142) Соборное послание Иаковля, глава 3, ст. 16 (Перевод: "Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое". – Ред.).
С. 269. Схизма – разделение церквей на католическую и православную.
С. 269. Евхаристия – обряд причащения хлебом и вином, символизирующими тело и кровь Христа. Миропомазание – смазывание отдельных частей лица или тела ароматическим маслом – миром; символизирует наделение человека божественной благодатью.
(143) Это подлинные слова из письма иезуитов. См. примечание 213 в XI томе "Истории Государства Российского" Карамзина. Историограф ссылается на книгу ("Письма Иезуитского общества"), – где находится сие письмо. У меня есть также сия книга, но я не хотел помещать другого перевода.
(144) Притчи Соломоновы, глава 22, ст. 10 (Перевод: "Изгони из общества губителя, и вместе с ним исчезнет распря". – Ред.).
(145) Пророка Иеремии, глава 30, ст. 17 (Перевод: "Я наложу повязку и излечу раны твои, говорит Господь". – Ред.).
С. 271. Никто же на ны – Никто не посмеет выступить против нас.
(146) Пророка Иезекиля, глава 4, ст. 1 (Перевод: "Приблизилось время мести за город, и у всякого сосуды истребления в руке его". Ссылка Булгарина ошибочна. По смыслу приведенные им слова близки главе 22 "Книги пророка Иезекиля". – Ред.).
С. 271. "Се ныне время смертию живота купити". – "Наступило время купить жизнь смертью".
(147) Перед смертию самозванец утверждал, что он истинный Димитрий. См. "Историю Государства Российского" Карамзина.
(148) См. примечание 552 в XI томе "Истории Государства Российского". В тексте – с. 297.
(149) См. "Dzieje panowania Zygmunta III" Немцевича.
(150) Все песни, находящиеся в сем романе, сочинены мною сообразно духу того времени, но сия последняя песня взята слово в слово из "Древних российских стихотворений, собранных Киршею Даниловым". Кажется, что эта песня – современная и сочиненная при царе В. И. Шуйском после перевезения в Москву святых мощей царевича Димитрия из Углича. Быть может, что песню эту нарочно велели сочинить и петь в народе для того, чтоб привесть в омерзение Тушинского самозванца и рассеять слух, будто первый самозванец сам лишил себя жизни. Я ввел сию песню в роман как отпечаток того века.
(151) Пастор Бер долго жил в России при Годуновых и самозванцах, знал лично первого самозванца и был дружен с Басмановым. Он оставил после себя записки, которыми пользовался шведский посланник Петрей, знавший также лично самозванца. См. "Historien und Bericht von dem Grossfürstenthumb Muschkow, mit dero schönen fruchtbaren Provincien Herrschafften etc. Publiciert durch Petrum Petreium de Erlsunda". Подлинник напечатан по-шведски в 1615 году. Немецкий перевод в 1620 году. Бер приводит мнение Клаузенда и ливонской пленницы, дворянки Тизенгаузен, о первом самозванце. Английский купец Мерих оставил также записки, напечатанные после на французском языке под заглавием "Relation curieuse l'Estat prêsent de la Russie, traduite d'un auteur anglais qui á estê neuf aux á la cour du Grand Czar, etc.". Напечатано в Париже в 1679 году. – Маржерет, очевидец всех происшествий при Годунове и самозванце, издал "Estát de l'Empire de Russie et Grande Duchê de Moskovie etc.". Первое издание напечатано в Париже 1607 года. Все сии книги весьма редки. Знаменитый в истории междуцарствия келарь Авраамий Палицын был и героем, и историком своего времени. Он написал "Сказание о осаде Троицко-Сергиева монастыря от поляков и литвы и о бывших потом в России мятежах". Второе издание напечатано в Москве в 1822 году. Я привожу мнения каждого очевидца в точности. На поляков здесь не ссылаюсь, хотя имею много источников.
С. 284. Златоуст Иоанн (ок. 350–407) – византийский церковный деятель, проповедник, оратор, обличитель общественных пороков и поборник аскетических идеалов. – "Такову убо честь беси приносят любящим их" – "Ибо так благодарят бесы любящих их".
С. 286. "Из глубины воззвах к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой". – Слова библейского пророка Ионы, находящегося во чреве кита: "Из глубины воззвал я к тебе, Господи, Господи, услышь меня".
О ФАДДЕЕ БУЛГАРИНЕ И ЕГО РОМАНЕ «ДИМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ» ПОСЛЕСЛОВИЕ
В 20-30-е годы XIX века Фаддей Венедиктович Булгарин был одним из самых известных и читаемых русских литераторов. Он писал романы, повести, сказки в восточном духе, исторические статьи, мемуарную и фантастическую прозу, нравоописательные очерки, фельетоны (так в его время назывались эссе на разнообразные темы в форме непринужденной беседы с читателем). Булгарин – литературный критик, редактор, издатель оставил не менее заметный след в русской культуре. Журнал «Северный архив» и приложение к нему «Литературные листки», журналы «Сын отечества» и «Эконом», газета «Северная пчела» и театральный альманах «Русская Талия», – все это выходило в свет под эгидой или при непосредственном участии Булгарина, плодовитого писателя и удачливого предпринимателя, хорошо знающего вкусы публики.
Но известностью своей Булгарин был обязан не только неустанным трудам на поприще словесности. В среде русских литераторов он имел репутацию неумеренного ревнителя устоев самодержавия, агента III отделения Канцелярии его императорского величества, которое занималось политическим надзором и сыском, репутацию человека без твердых нравственных принципов. Борьба с ним литераторов пушкинского круга имела характер затяжных боевых действий. В этом кругу его называли Флюгариным, – намекая на способность применяться к различным условиям, Фигляриным, – имея в виду готовность потакать вкусам любой, даже самой невзыскательной публики, Видоком, – усматривая сходство с начальником парижской сыскной полиции. Имя Зоил – традиционное для обозначения завистливых, несправедливых критиков – Булгарин получил за выпады против Карамзина, Пушкина, Гоголя.
Репутация Булгарина создавалась его противниками в пылу литературной полемики, когда слухи легко обретают статус фактов, а забота об установлении истины отступает на задний план. Авторитет противников – крупнейших писателей второй четверти XIX века, выразителей чаяний и дум нации – был исключительно высоким. Шло время, и традиция общественной мысли созданную ими репутацию узаконила, придала ей характер аксиомы, общего места. Пока первостепенным достоинством литературы почиталась ее связь с революционным движением, образ гонителя вольнодумцев, доносчика, торгаша в храме Аполлона оставался единственно допустимой ипостасью существования Булгарина в мире русской литературы. Любые, даже самые робкие попытки усложнить этот образ, лишить его карикатурности, придать ему больше психологического правдоподобия, воспринимались как идеологическое кощунство.
Положение стало заметно меняться совсем недавно. В 1990 году было прямо заявлено о том, что привычное представление о Булгарине – это историко-литературный миф, нуждающийся в очень сильной корректировке, если не коренном пересмотре. Исследователь, отважившийся выступить в защиту сосланного на задворки литературы писателя, наметил и конкретные шаги по его реабилитации: "Предстоит ввести в научный оборот богатое эпистолярное наследие Булгарина и архивные документы биографического характера. Безусловно, заслуживают издания однотомники его прозы и критических статей, а также том его воспоминаний о литературной жизни Петербурга начала XIX века, Карамзине, Крылове, Грибоедове, Грече и многих других литераторах. И, наконец, в аналитических, социологически ориентированных работах предстоит верно понять и оценить его деятельность в контексте эпохи" [4].
Однотомник булгаринской прозы вышел из печати в том же 1990 году, своим появлением свидетельствуя, что обращение к творчеству писателя – не каприз литературоведов, а веяние времени. После полуторастолетнего перерыва к читателю вновь пришли и "Иван Выжигин", самое знаменитое произведение Булгарина, и роман "Мазепа", и статьи мемуарного характера. Книга быстро исчезла с прилавков, полностью оправдав расчет издателей. Началась вторая жизнь литератора Булгарина. Наряду с историко-литературным мифом, основанным на пристрастных мнениях, в сознании публики стал формироваться образ писателя, связанный с конкретными произведениями, с представлениями, переживаниями и вкусами автора, в этих произведениях воплощенными.
Во вступительной статье к однотомнику была сделана очередная попытка непредубежденно взглянуть на самые "неблаговидные" эпизоды биографии Булгарина. По мнению H. H. Львовой, написавшей эту статью, данные о сотрудничестве писателя с III отделением, о его участии в качестве офицера наполеоновской армии в походе на Россию, о его двусмысленной роли в деле декабристов – нуждаются в серьезной перепроверке [5].
Разоблачение мифов – дело непростое и весьма деликатное. Поводы для сомнения в справедливости тех обвинений, которые возводились на Булгарина, действительно, имеются. Однако, памятуя, как легко рождаются новые мифы и как долго они живут, нанося трудно поправимый вред культуре, вряд ли следует торопиться. Возвращение Булгарина как писателя состоялось. Тем самым снят запрет на объективное, независимое от идеологических установок изучение его творчества и биографии. Литературоведы-профессионалы сделают все необходимое для установления истины. Процесс этот долгий, и пока он идет, будем читать Булгарина, забытого писателя второй четверти XIX века, произведения которого некогда пользовались огромным читательским успехом.
Роман "Димитрий Самозванец" (1830) – один из первых русских исторических романов. Своим появлением он был обязан не только творческим наклонностям автора, но и духу времени. Литературный ряд, в котором стоит "Димитрий Самозванец", может многое сказать и о нем самом, и о его специфике. Ряд этот таков: А. С. Пушкин, "Арап Петра Великого" (1828); M. H. Загоскин, "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году" (1829); Н. А. Полевой, "Клятва при гробе Господнем" (1832); И. И. Лажечников, "Последний Новик" (1831–1833). Читатель, интересующийся подобного типа литературой, сразу же отметит, что все перечисленные произведения уже стали его достоянием. "Димитрий Самозванец", пожалуй, единственное звено в цепи, которое надлежит восстановить.
Русский исторический роман нельзя назвать явлением сугубо национальным. Он – следствие процессов, интенсивно развивавшихся в европейской литературе и – даже шире – в общественном сознании европейских народов начала XIX столетия. Кризис просветительских идей, Великая французская революция, лавинообразное вторжение в жизнь буржуазных отношений, наполеоновские войны произвели переворот в умах и изменили восприятие окружающего мира.
Человек ощутил себя субъектом истории – грандиозного движения, непрерывно меняющего облик народов и культур. Он пришел к убеждению, что нет единого для всех времен идеала, в свете которого можно было бы оценивать людей, государства, цивилизации. Еще недавно рассматривавшаяся как мерило духовного развития античность заняла определенное место в цепи развития человечества, и вместе с тем пробудился интерес к другим культурам и эпохам. Средневековье перестало казаться мрачным провалом истории, символом мракобесия и варварства. Современность обрела историческое измерение. Началось формирование двух важнейших для XIX века комплексов идей, наименованных позднее "историзм" и "национальное самосознание".
Русский философ Лев Карсавин заметил: "Во всякой идеологии самым существенным являются не отчетливые формулы, а некоторые основные принципы или тенденции, определяющие возможные пути ее развития" [6]. Говоря о становлении идей историзма и национального самосознания, можно приводить «отчетливые формулы» Гердера, Гегеля или Белинского. Однако влияние этих идей на образ мыслей европейца связано прежде всего с искусством романтизма и творчеством Вальтера Скотта в первую очередь. Художественный талант «шотландского чародея», создателя «Айвенго» и «Квентина Дорварда», сыграл главную роль в распространении идей, выражающих «дух времени». Вальтеру Скотту Европа обязана рождением исторического романа и – шире – романа как ведущего жанра литературы.
Россия познакомилась с Вальтером Скоттом быстро. Уже в 20-е годы его произведения получили у нас широкое распространение, сначала во французских, а затем и в русских переводах. Под мощным воздействием английского писателя формировался русский исторический роман, который, однако, не стал простым подражанием "британской музе". Влияние Вальтера Скотта в России наслоилось на уже оформившуюся и укорененную в национальной культуре традицию. К тому времени, когда русский читатель впервые познакомился с его романами, "Слово о полку Игореве" и "Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым" были уже изданы и осмыслены как выражение духа русского народа. С 1818 года начала выходить "История Государства Российского", монументальный труд, роль которого в формировании национального самосознания трудно переоценить. На страницах романа "Димитрий Самозванец" упоминаются и Вальтер Скотт, и Кирша Данилов, и, особенно часто, Карамзин. Будучи одним из родоначальников исторического романа в России, Булгарин отдает дань уважения тем, кого считает предшественниками.
Смута конца XVI – начала XVII веков – один из самых драматичных и живописных периодов русской истории. Интерес к ней писателей-современников Булгарина понятен: мощные движения народов, резкие повороты событий, важные исторические последствия, крупные личности, трагические судьбы – все это легко будит творческое воображение и сулит литературную удачу тому, кто обратится к столь богатому возможностями материалу.
События Смуты вдохновили Пушкина на создание драмы "Борис Годунов". Четыре года спустя то же историческое время обрело художественное воплощение в "Юрии Милославском" Загоскина. Еще через год вышел в свет роман "Димитрий Самозванец".
В произведении Загоскина отчетливо просматривается вальтер-скоттовская схема: в центре повествования стоят вымышленные персонажи, позволяющие писателю свободно строить авантюрно-любовную интригу; исторические лица и события образуют фон, на котором эта интрига развивается. Хотя Булгарин работал в том же жанре, что и Загоскин, его произведение по композиции ближе к пушкинскому "Борису Годунову". Сходство обнаруживается не только в общей конструкции, но и в ряде деталей, что дало повод для подозрений: не воспользовался ли Булгарин рукописью пушкинской драмы, работая над своим романом?
Обвинение автора "Димитрия Самозванца" в плагиате, однако, несправедливо. Оба писателя пользовались одним источником – "Историей Государства Российского" Карамзина – и находились под обаянием этого научного и в то же время высокохудожественного творения. Вслед за Пушкиным Булгарин мог бы сказать: "Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий" [7]. Событийная канва, фабула романа у Булгарина соответствует поступательному ходу истории. Отдельные ситуации, описания и характеристики заимствованы из труда предшественника как фактический материал. Многие образы, понятия и выражения, встречающиеся в тексте, входят в общий культурный фонд эпохи и не могут быть прочно привязаны к творчеству того или иного автора. Эффектная ремарка «народ безмолвствует» неотделима в нашем сознании от драмы Пушкина «Борис Годунов». Встречается она и у Карамзина, но изобретена не им, а французскими публицистами XVIII века [8]. Авторство идеи об исключительно важном влиянии «мнения народного» на государственную жизнь мы опять-таки склонны приписывать Пушкину. Но эта идея, как уже, вероятно, заметил читатель, отчетливо выражена и на страницах булгаринского романа. Она была знамением времени и не являлась достоянием одного из литераторов.
Все это, разумеется, не дает оснований проводить переоценку значения "Бориса Годунова" для русской литературы или отказывать Булгарину в творческой самостоятельности. Создатель "Димитрия Самозванца" строил свое повествование на прочной документальной основе. Но и правом на вымысел он пользовался достаточно широко, давая волю воображению там, "где история молчит или представляет одни сомнения".
Поводов для "сомнений" события Смутного времени дают немало. До сих пор нет полной ясности и в понимании того, кем был на самом деле человек, названный позднее Лжедимитрием I. Со времен Карамзина исследователям не удалось заметно продвинуться вперед в решении данного вопроса.
Правда, в отличие от автора "Истории Государства Российского" ученые наших дней не считают Бориса Годунова виновным в гибели малолетнего Димитрия Иоанновича. Они полагают, что официальная версия, предложенная Василием Шуйским после "розыска" по угличскому делу, вполне заслуживает доверия. Во время игры в "тычку" у царевича начался очередной припадок эпилепсии, он упал на нож и смертельно поранил себя. Придворные группировки превратили трагический случай в орудие борьбы за власть. Политические спекуляции сделали возможным появление на исторической сцене Лжедимитрия I.
И в начале XIX века многие сомневались в том, что царевич погиб от руки наемных убийц, подосланных Годуновым. Однако талант Карамзина-повествователя сделал свое дело, и в художественной литературе закрепился образ монарха-злодея, страдающего муками нечистой совести. Таков царь Борис у Пушкина, таков у Рылеева, таков у Булгарина.
Впрочем, в романе есть и иная версия – та, которая излагается устами самозванца, версия о чудесном спасении сына Ивана Грозного иноземным лекарем Симоном. По логике исторических фактов, воспроизведенной романистом, эта версия доверия не заслуживает. Но в романе ей сообщена убедительность художественного образа. Читатель знает, что было не так, но, внимая самозванцу вместе с гостями боярина Меньшого-Булгакова, он готов допустить, что так могло быть.
И здесь приходится отметить любопытный историко-культурный парадокс. Лжедимитрий I являлся для России несомненным злом. Он стал символом польской интервенции. Он усугубил раскол между различными политическими силами в государстве. Им был открыт феномен самозванства, неизменно приводивший в XVII и XVIII веках к большим и малым кровопролитиям. С его именем связывали угрозу духовного порабощения – латинства, или католичества. Его предали церковному проклятию – "анафеме", обрекая тем самым на "вечную погибель". В памятниках фольклора, где порой с уважением описываются кровопийцы вроде Ивана Грозного, отношение к нему чаще всего отрицательное.
Но в художественной литературе судьба дерзкого политического авантюриста сложилась более счастливо. Вид искусства, особенно чуткий к различным проявлениям личностного начала, обнаруживал в Димитрии Самозванце какие-то не до конца реализованные возможности, какие-то великие обещания, не востребованные обстоятельствами. А. П. Сумароков изобразил самозванца как монарха-тирана, но сделал при этом героем трагедии, наделив сильными страстями и вознеся тем самым над людьми обыкновенными. Как человек с исключительной судьбой и ярким характером интересовал Лжедимитрий Фридриха Шиллера. У Пушкина он стал в чем-то подобен Моцарту: та же беспечность, та же открытость людям, тот же талант жить легко, превращая свое существование в предмет художественного творчества.
Даром обаяния обладает и булгаринский самозванец. Если у Пушкина это пловец, добровольно отдавшийся на волю потока, стремительно несущего его в пропасть, человек, способный остро переживать упоение "бездны мрачной на краю", то у Булгарина герой романа – сильная натура, созидающая себя, строящая свою судьбу, подчиняющая своей воле едва ли не каждого, попавшегося на жизненном пути. Силу его воли ощущает на себе и читатель, которому порой начинает казаться, что биография чудом спасенного от гибели царевича более правдоподобна, чем версия Карамзина.
Самозванец Булгарина предвещает появление в будущем героев Достоевского с их теорией разделения людей на "тварей дрожащих" и "право имеющих". Аморализм Димитрия в романе – следствие убежденности в том, что человеку, взявшему на себя роль наследника престола, позволено все, и нет таких препон, которые оправдали бы его уклонение с избранного пути. Он не задумываясь ломает людские судьбы – даже тогда, когда они не нужны как строительный материал на пути к престолу. Это приводит в священный трепет Леонида, закаленного в боях на жизненном поприще. Бывший товарищ Димитрия не может простить ему гибель самых дорогих существ, но глубоко убежден, что преступления, совершаемые им, – лучшее доказательство того, что он истинный царевич: обыкновенный человек не мог бы так просто взять на себя тяжелый моральный груз.
Конечно, уровень психологического анализа у Достоевского и Булгарина различен. Первый погружается в глубины человеческих душ и делает явным то, что редко поднимается на поверхность сознания. Психологизм второго выражается главным образом в мелодраматических эффектах: призрак жертвы, смущающий губителя, пылкие речи, порывистые жесты, открытое выражение эмоций, атмосфера таинственности, ночной пейзаж, бурные явления природы – полный набор приемов, всегда нравившихся массовому читателю.
Во времена Булгарина подобные приемы активно разрабатывались романтизмом – ведущим направлением русской литературы 20-30-х годов XIX века. Из романтического корня выросло и творчество Достоевского. Поэтому попытки установить связь между ним и булгаринским романом не столь уж произвольны, как может показаться на первый взгляд. Мелодраматическими эффектами увлекался и автор "Преступления и наказания", бредивший в юности романами тайн и ужасов. Чтение "Истории Государства Российского" в семейном кругу – одно из ярких детских впечатлений писателя. Оба литературных источника сыграли заметную роль в формировании художественного мира Достоевского. Но обнаружить результаты знакомства с ними в "Идиоте" или "Братьях Карамазовых" непросто: ранние впечатления переплавились в тигле литературного творчества, обогатились открытиями русского реализма середины века, обрели качества, соответствующие индивидуальности писателя-психолога. У Булгарина же опыт знакомства с литературой тайн и ужасов, с "Историей" Карамзина выражен в наивно-непосредственной форме: история и романическая интрига ведут в его сочинении относительно самостоятельное существование. Одни страницы "Димитрия Самозванца" более походят на труд историка, другие – на авантюрное повествование. Некоторые фрагменты тяготеют к драматическому роду, а не к эпосу. Но, отмечая все это, следует помнить, что в 1830 году русский роман был явлением молодым, становящимся. Его создатели искали новых путей освоения западноевропейского и национального литературного опыта. Они прокладывали путь своим великим последователям, воспитывали читающую публику, без которой гениальная литература возникнуть не может.
Впрочем, публике, в течение года раскупившей два издания булгаринского романа, разностильность произведения, может быть, и нравилась. Ведь несмотря на победное шествие романтизма, принцип старой просветительской эстетики – "приятное с полезным" – продолжал в 1830-е годы действовать. Не роман, а романизированное историческое сочинение – так, вероятно, можно сформулировать задачу писателя, решившего своим "Димитрием Самозванцем" оказать услугу "любезной публике".
* * *
Русскому читателю конца XX века булгаринский «Димитрий Самозванец» может быть интересен не только как литературный памятник далекой эпохи и как насыщенное интересным фактическим материалом сочинение. Проблемы и конфликты Смутного времени неожиданно приобрели для нас актуальный смысл. Необходимость сильной централизованной власти, способы завоевания ею всенародного авторитета, катастрофические оследствия честолюбивых замыслов государственных мужей, исторические предпосылки возможных осложнений в отношениях между Россией и Польшей, России и Украиной, – все это, а также многое, многое другое вызовет у современного читателя мысли о том, что прошлое незримо присутствует в настоящем, что существует, вероятно, такое нравственно-психологическое измерение, в котором одновременно сосуществуют и очевидцы Смуты конца XVI-начала XVII веков, и булгаринская публика, и те, кто только что дочитал роман «Димитрий Самозванец», вновь переизданный после стопятидесятилетнего перерыва.
С. Ю. Баранов
Автор послесловия благодарит О. М. Чернышеву, оказавшую ему помощь в подготовке к печати текста романа.
Примечания
1
Некоторые историки говорят, в шестой, а иные – в пятый. См. примечание 554 в IX томе «Истории Государства Российского» Карамзина. (Здесь и далее Булгарин ссылается на 1-е издание карамзинского труда (СПб., 1816–1829) – примеч. редактора).
(обратно)2
О некоторых исторических характерах в большей части читающей публики вкоренилось несправедливое понятие. Таким образом привыкли изображать Бориса Годунова героем. Он был умен, хитр, пронырлив, но не имел твердости душевной и мужества воинского и гражданского. Рассмотрите дела его! Величался в счастии, не смел даже явно казнить тех, которых почитал своими врагами, и в первую бурю упал. Где же геройство?
(обратно)3
Устрашась множества ссылок, я иногда не приводил их. Я предпочитал всегда ссылки на Карамзина, когда находил в нем приисканное мною в других сочинениях доказательство, из уважения к знаменитому писателю, н оттого, что он более известен в России, нежели авторы, которых сочинения служили ему источниками.
(обратно)4
Рейтблат А. Видок Фиглярин: История одной литературной репутации // Вопросы литературы.– 1990.– № 3. – С. 101.
(обратно)5
Львова Н. Каприз Мнемозины: История одной литературной репутации // Булгарин Ф. Сочинения. – М., 1990.
(обратно)6
О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов: Сборник статей. – М., 1990. – С. 264.
(обратно)7
Пушкин А. С. Собр. соч. в десяти томах. – Т. 6. – М., 1976. – С. 266.
(обратно)8
Алексеев М. П. Ремарка Пушкина «народ безмолвствует» // Алексеев М. П. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. – Л., 1984.
(обратно)
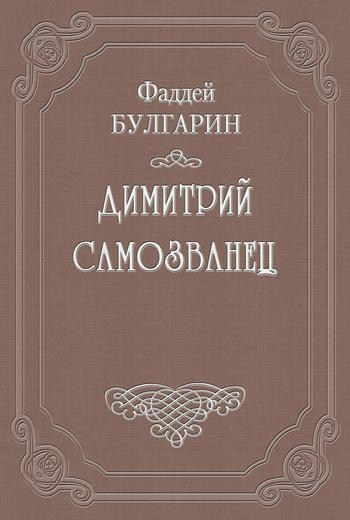

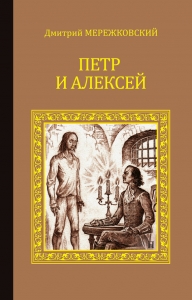
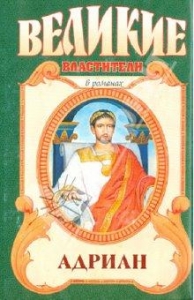




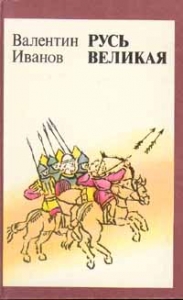
Комментарии к книге «Димитрий Самозванец», Фаддей Венедиктович Булгарин
Всего 0 комментариев