Анри Гуссэ ЗНАМЕНИТЫЕ КУРТИЗАНКИ ДРЕВНИХ ВЕКОВ Аспазия. Клеопатра. Феодора
© Л. И. Моргун, Литературная обработка и редактирование текста. 2015.
© ООО «Остеон-Пресс», оцифровка текста, 2015
ISBN 978-5-85689-029-6
От автора
Аспазия, Клеопатра и Феодора составляют триаду великих женщин любви древняго мира. Мы старались изобразить знаменитую гетеру, царицу-куртизанку и куртизанку-императрицу среди обществ и цивилизаций, которые они характеризуют и отражают. Вместе с Аспазией мы видим Афины в полном расцвете их бессмертного гения и неограниченную свободу их ревнивой, недоверчивой демократии. Клеопатра соприкасается с двумя мирами. По своим предкам, она принадлежит греко-египетскому миру Александрии, расслабленной богатством, роскошью и распутством и обреченной на гибель своей тщеславной и развратной царицей. Но по своим любовникам она принадлежит к римскому миру, потерявшему свои древние преимущества в соприкосновении с порабощенными народами, но сохранившему, несмотря на свою испорченность и кровавые драмы, гордость своего имени, непоколебимую твердость и неукротимую силу. Феодора – царица Византии той эпохи, когда она находилась в развитии своего военного могущества, порядка управления и народного богатства; в ту пору процветание искусств маскировало еще зародыши разрушения этой слишком обширной империи, состоявшей притом из элементов разрозненных, управляемой, под ширмой римских законов, восточным деспотизмом; народ, в ту эпоху увлекался единственно только скачками на ипподроме.
Каждая из этих трех женщин как бы соответствует известному моменту в развитии цивилизации, имеющей своим фокусом Афины – во время Перикла, Александрию и Рим – в эпоху Цезаря и Византию – в царствование Юстиниана.
АвторI. Аспазия
I
Самое имя Аспазия означает «любимая» и ласкает ухо, как эхо длинного поцелуя; оно вызывает в нашей памяти воспоминание Древнего мира в его лучший период, в эпоху лучезарного расцвета греческого гения. Афины в V-м веке представляются нам блестящими, жизнерадостными, шумными, в полном движении и работе.
… Вот на Акрополисе партия рабочих, под руководством Иктина, Мнезикла и Калликрата, оканчивают Пропилеи [Предхрамие – ред.] и принимаются за Эрехтенон. Фидий последними взмахами резца заканчивает восточный фронтон Парфенона, между тем как Полигнот и Пененос пишут фрески на портике. Аплодисменты, крики удивления, взрывы смеха тридцати тысяч зрителей раздаются в театре Вакха: там идут трагедии Софокла и Еврипида, дают комедии Кратина и Ферократа. В Одеоне, архитектоническое расположение которого напоминает палатку Ксеркса и где балками служат мачты персидских трехбаночных галер, добытых при Саламине, в Одеоне соревнование поэзии с музыкой чередуется с публичными чтениями Геродота, излагающего первые книги своей Истории… Вот отряд гоплитов, возвращающихся с маневров, встречается на улице Гермеса с вереницей девушек, идущих черпать очистительную воду в фонтане Каллирхоэ.
Между тем как печальный кортеж одного из последних участников Марафонской битвы направляется к Дипильским воротам, отряд молодых людей, между которыми видны Аристофан, Фразибул, Конон, проходит вблизи Пританеи: периполарх, предводительствующий отрядом, подводит их к престолу Агролы для того, чтобы они принесли здесь гражданскую клятву.
…Агора [Базарная площадь] еще несколько минут тому назад была наполнена любопытными, которые останавливались перед лавочками продавцов и на пороге, там, где рассуждает Сократ и где обличает Тимон. Теперь площадь пустынна. После провозглашения герольда и приближения стрелков, граждане бегут в Пникс слушать Фукидида, сына Мелезия, и Перикла, сына Ксантиппа. Несколько часов позже толпа теснится на набережных Пирея; работающие на верфях прерывают свою работу, матросы коммерческих судов прекращают выгрузку бурдюков с хиосским и лесбосским винами, малоазиатских тканей, понт-эхинского дегтя, евбейской ржи; они прерывают нагрузку кож, глиняной посуды, духов, масла, меда и фиников. Они поднимаются на палубу, взбираются на веретено якорей… Но вот картина достойная того, чтобы ею залюбоваться: это – победоносная эскадра, возвращающаяся в военный порт.
Наступает вечер, солнце прячется за Эгалейской горой, бросая на горы Аттики красные и лиловые лучи. Группы рабов уходят из заводов и мастерских. Протагор, Зенон, Дамон отпускают своих учеников; Антифон зажигает лампу для ночной работы; астроном Метон начинает свои наблюдения. Диктериады держа во рту веточку мирты, показываются на пороге своих домов; молодые евпатриды, защитники и игральщицы на флейтах нахлынули в Керамикские сады. Алкивиад, голова которого украшена фиалками и золотистыми кобылками, волочит по земле омофор и проходит через середину агоры; он зван на ужин, конец которого предвидится к восходу солнца. Перикл, приветствовавший в тот же день народ в Пниксе, председательствовал в военном совете, перерабатывал с градоправителями и казначеями проект бюджета и теперь возвращается домой. Аспазия здесь: она ведет философские разговоры с Анаксагором, говорит о нравственных вопросах с Сократом, рассуждает о политике с Хариносом, о гигиене с Гиппократом, об эстетике с Фидием. Перикл целует ее в лоб, как он делает каждый день: утром – уходя, и вечером – возвращаясь домой.
Аспазия – "Юнона Перикла Олимпийца." Она царствует в Афинах своею красотою и умом. Женский терем она превращает в светскую гостиную. Аспазия имеет свой двор в этой демократической стране; она пользуется полною свободою в этом городе, законы и нравы которого навязывают женщине постоянную опеку; Аспазия заботится об этой столице, хотя сама она в ней иностранка.
II
Такова Аспазия в воспоминании или, вернее, такою она обрисовывается в нашем воображении. Как только начать более точно останавливаться на чертах этой женщины для того, чтобы перенести ее из области грёз в сферу реальной жизни – она теряет свой колорит, бледнеет, исчезает. Неверный портрет скрывает идеальное видение. Как личность историческая, Аспазия побуждает к исследованию, но не поддается анализу. Она остается в неопределенности, и ее надо в ней оставить, так как только тогда ее можно узнать. Всякое исследование, в котором старались бы выяснять ее жизнь последовательным образом, определить ее характер, выяснить ее философские и нравственные воззрения, всякое такое исследование противоречило бы истине. Равным образом нельзя определить род ее красоты. Предание не говорит об этом ничего, и попытки живописи и скульптуры изобразить Аспазию, наверно, вполне неудачны. Всякому предоставляется право воображать себе Аспазию, как самую красивую из парфянских корзиноносиц или как самую грациозную из женщин-веерниц подземного кладбища в Танагре [Бюсты Аспазии в Лувре и Берлине далеко не достоверные. Бюст, находящийся в Ватикане, – в духе греко-римского искусства и, вероятно, был сделан по заказу какого-либо богатого римлянина для украшения своей библиотеки. Слава Аспазии, как женщины-философа, подтверждается тем, что бюсты ея находятся среди бюстов Пифагора и Антистена.
Гроновий, в первом томе своих Antiquités frecques (стр. 83) дает другой псевдо-портрет Аспазии. Это камень, на котором представлена афинянка в шлеме, с надписью Ασπασον. Но вряд ли какому-нибудь греку пришла бы мысль изобразить Аспазию афинянкою: что же касается надписи, то она обозначает, вероятно, просто имя гравера, Аспазиоса или Аспазоса, о котором говорится у Sullug'а (Catalog. Artific. p. 100). – прим. автора].
Свидетельства, оставленные древностью относительно Аспазии, совершенно противоречат друг другу. Если верить приверженцам школы Бомуса и их толкователям, а частью и самому Плутарху, то Аспазия была простая гетера, немного более интеллигентная, несколько более ученая, способная и слегка лицемернее, чем другие гетеры. Сначала она была куртизанкой в Милете, потом куртизанкой в Мегарах, затем пришла в Афины и познакомилась с Периклом. Она обольстила его теми средствами, которыми обольщают мужчин подобные ей гетеры. "Распутство, ‑ говорит поэт Кратинус, – создало для Перикла Юнону-Аспазию, его защитницу с глазами собаки".
Когда Аспазия увидела, что начинает стариться и стала опасаться, что начинает приедаться Периклу, она занялась старым ремеслом. Она приглашала в свой дом куртизанок, свободных и рабынь и даже замужних женщин для того, чтобы познакомить их с своим другом. Своею любезностью Аспазия приобрела неограниченную власть над Периклом, разорила его незаметно для него самого, посоветовала ему предпринять две войны и заставила его пожертвовать благом государства и покоем Греции для частных интересов и личной вражды.
Согласно другим свидетельствам, указываемым и распространенным новейшими защитниками Азпазии, эта знаменитая женщина сосредоточивала в себе самые редкие достоинства. Ея невинность выше всяких подозрений, и к классу куртизанок ее относят только вследствие ее оригинальности. С Гнафеной и Лаисой она не имеет ничего общего. Она – поэт, философ, оратор, государственный человек. Из Милета в Афины она пришла со специальною целью преподавать искусство мыслить и красноречиво говорить. Аспазия была для Перикла не столько любовницей, сколько наставницей. Она преподавала ему политику и ораторское искусство так же, как она Сократа учила диалектике. Не будь несравненной Аспазии, Сократ не умел бы размышлять, а Перикл не был бы в состоянии говорить и управлять государством. Прекрасная мрачная речь, сказанная Периклом во второй год Пелопонезской войны, была сочинена Аспазией. С высокими достоинствами человека Аспазия совмещает все добродетели женщины. Она умна, расчетлива, деятельна, послушна. Она обучает жену Ксенофонта обязанностям супруги, она объясняет жене Искомакоса, каким образом следует вести хозяйство, для каждой посетительницы у нее есть хороший совет и урок нравственности, она служит образцом для афинских матрон.
Очевидно, приверженцы обоих воззрений на Аспазию хватают через край. Но есть доля правды и в едкой критике Комаков, и в панегириках ее защитников. Аспазию можно поместить в разряд женщин-философов, но по этой причине она нисколько не исключается из среды куртизанок.
III
Милет, где родилась Аспазия, отцом которой был некий Аксиокос, был один из цветущих прибрежных ионийских городов. Слава его была основана на прошлых военных удачах; промышленность и торговля составляли его богатство; а богатство имело следствием распущенность нравов Милета. Будучи отечеством Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена, город этот также был знаменит своим обилием куртизанок, как и философов. Милет был для Ионии в одно и то же время и Коринфом, и Афинами; он был лучшей школой для Аспазии, гетеры-философа. В Милете Аспазия вела жизнь куртизанки благоразумного поведения и по виду неприступной. На Аспазию действовал пример Фаргелии, у которой было четырнадцать любовников, градоначальников, и умершей женой тирана в Фессалии; поэтому Аспазия дарила своими ласками только первых граждан.
Но по каким причинам и при каких обстоятельствах Аспазия пришла в Афины? В каком году и скольких лет от роду прибыла она туда? Чтобы ответить на эти вопросы не достает документов, и критика не может помышлять ответить на них. Можно только утверждать, что Аспазия поселилась в Афинах раньше LXXXV олимпиады (440—437 до Рожд. Христова), в каковую эпоху уже началась ее связь с Периклом. Следуя Плутарху, читавшему сократики и, быть может, придававшему чересчур большое значение их уверениям, Перикл был обольщен знаниями и умом Аспазии. Не сомневаясь в интеллектуальных достоинствах этой знаменитой женщины, все же можно думать, что Перикл был не менее пленен и ея красотою, и любезностью. Афинянин сначала взял Аспазию себе в любовницы, затем, разведясь со своей женою по взаимному согласию, он ввел Аспазию к себе в дом и открыто жил с нею.
Следует ли верить современным защитникам Аспазии, что Перикл женился на милетской гетере? Факт этот, по меньшей мере, невероятен. В Афинах всякий гражданин имел полную свободу жить с любою куртизанкою, какова бы она не была. Но закон воспрещал ему формально жениться на иностранке. Он мог сделать это только на основании ложного свидетельства, так как перед религиозной церемонией он должен был выполнить формальность предписанную законом (εγγύη). Если позже было признано, что показание на суде, записанное публичным актуариусом, было ложно, оба супруга рассматривались как соучастники и рисковали быть привлеченными перед дикастерион. Закон полагал строгие кары: жена продавалась в рабство, муж платил большой штраф и терял гражданские права; дети объявлялись незаконорожденными и лишались названия афинян. Немало людей темного происхождения с успехом пользовалось ложными свидетельствами и обманывало правительственных актуариусов относительно национальности своей невесты, и если они не вмешивались в политическую борьбу, то им впоследствии нечего было особенно бояться справок. Но это было невозможно для таких известных людей, как Перикл и Аспазия. Если даже Перикл и имел бы твердость решиться дать ложное показание, то он не захотел бы сделать этого. Как глава партии, он постоянно мог ожидать нападений и всевозможных махинаций со стороны своих политических врагов. В этом городе, где не было публичного заступничества, всякий гражданин мог затеять с другим судебное дело, поэтому ясно, какое сильное оружие против себя дал бы Перикл в руки своим противникам этим запрещенным браком!
Если Аспазия не была удостоена чести соединиться с Периклом браком, то, в вознаграждение за это, она пользовалась такою свободою, какою не пользовалась ни одна афинянка.
Не подлежит сомнению, что предположение, имеющее до сих пор приверженцев, будто в Афинах женщина терпела унизительное рабство, совершенно неосновательно. У себя дома она была полною хозяйкою. Муж считал бы смешным вмешиваться в подробности хозяйства. Ксенофонт в своем сочинении "Экономия" говорит, что дело мужа зарабатывать деньги, а дело жены тратить их. Далее он сравнивает жену с царицею пчел: "она остается в улье и посылает пчел на работу. Она принимает то, что пчелы приносят ей, и сохраняет провизию до того времени, когда она понадобится. Она руководит постройкою ячеек, она заботится и том, чтобы был накормлен новый рой". Женщина управляет домом: она распределяет уроки служанкам, раздает приказания рабыням, заботится о кухне, подвалах и булочной, она посылает за провизией, затем выдает ее и приводит в порядок. У нее сохраняется ключ от комнаты, где хранятся все драгоценности, вазы и металлические чаши, дорогие праздничные одежды, золотые вещи, драгоценные камни и деньги. Обычай запрещает ей самой кормить детей, но она нянчится с ними, играет и целует постоянно. Затем она руководит первым воспитанием мальчиков и полным воспитанием дочерей. Кроме того, афинянка занимается своим туалетом, требующим много времени по своей сложности: она несколько раз в день купается, душится благовонными косметиками, смачивает волосы в эссенции, пудрит их золотою пудрою, белит и румянит щеки и губы, подводит брови и ресницы. Время, остающееся у нее от занятия хозяйством, туалетом, от попечения о детях, птицах, собаках, она проводит в прогулках, поездках и визитах к подругам.
Во время религиозных праздников, столь частых в Аттике, афинянки пользуются многочисленными и разнообразными развлечениями. То они слушают в театре Вакха трагедии Эсхила или Софокла, то они в роскошных нарядах поднимаются в богатых кортежах на Парфенон по Пропилейскому подъему. Во время празднеств в честь Вакха они отправляются переодетые, верхом на ослах в леса и долины окрестностей Афин. Во время Стенисов они на улицах и площадях предаются шуткам и комическому злословию. Во время Фесмосфорий, они исполняют в течении двух дней религиозные обряды таинственного храма Деметры, куда вход мужчинам воспрещен. Во время Фаргелий, Адониса, и Элевзиса имеются другие церемонии и зрелища: процессии, соревнование певцов, народные игры, ристание с факелами, туманные картины.
Итак женщины не были ни рабынями, ни затворницами; они только жили вне общества мужчин. Кроме мужа и самых близких родственников, никто не переступал порога женского терема. Женщины давали пиры в своем кругу; когда же муж принимал и угощал своих друзей, то жена уходила на свою половину. Один факт, что женщина присутствовала на пиршестве мужчин, навсегда испортил бы ее репутацию. Для того, чтобы доказать присяжным, что Нэра – куртизанка, Демосфен говорит только: "Она ужинала и пила вместе со Стефаносом (ее мужем) и его друзьями, как настоящая куртизанка". Таким образом, светские отношения, обеды и собрания, где встречаются мыслители с любезными женщинами, представляющие одну из привлекательных сторон нынешней жизни, в Афинах не существовали. Афиняне вознаграждали себя в этом отношении с куртизанками, которых нисколько не стесняли обычаи.
Мужчины довольствовались их красотою и веселостью, и законы до них, так сказать, не касались, так как они, как иностранки, были вне закона. Гетера могла жить и поступать, как ей было угодно, если только она платила налог – метайхион, как иностранка, и налог – парнихон, как куртизанка; если она не оскорбляла порядков столицы, не противодействовала полицейским уставам, если она не учиняла скандалов в храмах и не присоединялась к толпе женщин и девушек во время народных церемоний. Она могла идти, куда ей вздумается, выходила из дома, когда ей нравилось, могла обогащаться, как умела, и, если хотела, могла разоряться.
Начиная от гетер, владевших домами, рабами, драгоценностями, жертвовавших деньгами на банки и фабрики и распоряжавшихся целою свитою поклонников, и кончая ничтожною рабынею, принадлежащей к касте диктериад, всех куртизанок обязательно приглашали на пиршества, где они веселили гостей своими беседами и песнями. Многие из них отличались веселым остроумием и живым нравом. Если бы кто-нибудь пожелал составить сборник древнегреческих эпиграмм, то ему пришлось бы столько же взять от Гликерии и Каллистионы, как от Диогена и Аркезила, от куртизанок столько же, как и от философов, Но ум всех куртизанок был односторонен. С ними чаще всего случалось, что веселый разговор становился наглым. У этих женщин не только недоставало сдержанности, у них не было и умения хранить тайны. В таком обществе было опасно говорить о политике и не было никакой возможности долго вести серьезные разговоры. Это было хорошо для молодых людей, а также для Сократа, умевшего везде приспособиться; но такие деятели, как Перикл, Анаксагор, Дамон, Фидиас, не могли находить продолжительного удовольствия в обществе этих болтливых флейтисток. Аспазия находилась в условиях совершенно исключительных: толпа афинян признавала ее любовницей Перикла, друзья же великого оратора уважали ее даже, как законную жену его. Она в одно и то же время пользовалась свободою куртизанки и почетом супруги. Она могла принимать приближенных Перикла, что признавалось для афинянки преступлением; они находили в Аспазии собеседницу, способную их выслушать и отвечать им, что не было делом куртизанки. Таким-то образом объясняют совершенно своеобразную роль Аспазии в Афинах, ее значение у философов и сильную, нежную любовь, которую она внушила Периклу. Первая и единственная, быть может, из афинских женщин, она поддерживала любезное и благородное обращение с выдающимися деятелями. Сократ, Анаксагор и Фидий считали ее интеллигентным и искренним другом. Для Перикла она была любовницей и женою, усладою жизни, очарованием домашнего очага; он советовался с нею каждый день, как с верным другом; слова её согревали, любовь утешала и нежность успокаивала.
IV
Нельзя управлять республикой более двадцати лет без того, чтобы не стать мишенью всевозможных наговоров и не терпеть всяких обид, оскорблений. Ораторы Собрания оспаривали государственные распоряжения Перикла, а на частную жизнь его нападали зачинщики агоры и комические поэты, эти журналисты и памфлетисты того времени. Его связь с Аспазией была неистощимой темой оскорбительных шуток и насмешек. Аспазию называли Герой нового Олимпийца, Омфалой и Деянирой нового Геркулеса. Аспазию обвиняли в том, что она из дома Перикла, царя сатиров, как называл его Гермиппа, устроила настоящий диктерион, наполненный куртизанками всех сортов и даже замужними афинянками, которые своими любезностями, одолжениями старались обеспечить политическую карьеру своих мужей. Судя по народной молве, жена Мениппоса выхлопотала для своего мужа таким образом пост полководца. Аспазия была злым гением Перикла, она внушала ему неосторожную политику и произвол власти. Ему приписывали расхищение казны союзников, а также значительные расходы, которыми Перикл обременял бюджет столицы для того, чтобы давать работу своим друзьям, как, например, Фидию, наконец, его непотизм и внимание к своим приближенным, Пирилампосу, Хариносу и Мениппосу (последний, вопреки принципам афинской демократии, занимал пять или шесть должностей). Утверждали, что Перикл подчиняется всем желаниям Аспазии, что он готов пожертвовать для нее славой и благоденствием Афин; намекали на то, что, благодаря ее наущениям, он мечтал о тирании.
В 440 году между самосцами и милетцами возникла распря по поводу небольшого приморского азиатского города, Приэны, на который имели притязание самосцы. Воспоследовала короткая война, и милетцы были разбиты. Самос и Милет оба признали гегемонию Афин. Милетцы подали свои жалобы в Афины, где решили, ничего не предвидя, чтобы оба города послали своих послов для того, чтобы спор был разобран на собрании в Пниксе; самосцы не хотели подчиниться этому и, утверждая, что в посредничестве Афин имело место злоупотребление властью, объявили себе независимыми.
Афиняне не могли спокойно перенести этого отпадения, в котором не без основания усматривали интриги Персии. Под влиянием Перикла или другого оратора его партии, сейчас же было снаряжено большое войско, предводительство над которым принял на себя сам Перикл. Говорят – хотя это совсем не доказано – будто Аспазия сопровождала его в этом походе, вместе с целым кортежем куртизанок, извлекшим из того не мало выгоды, так как осада длилась девять месяцев. После упорной защиты и кровопролитных схваток, Самос сдался на капитуляцию. Самосцы должны были уничтожить, срыть свои укрепления, выдать свой военный флот и заплатить контрибуции тысячу талантов (около шести миллионов франков).
Поход против Самоса был необходим и справедлив. Афины, извлекавшие значительные доходы от городов, подписавших договор Аристида, должны были держать своих данников в повиновении. Если бы восстание Самоса осталось безнаказанным, то произошло бы возмущение других городов. Эта война упрочила славу и могущество Афин, притом она ничего не стоила казне, вследствие громадной контрибуции, заплаченной самосцами. Но не мало граждан пало под стенами Самоса, и не скоро иссякли слезы несчастных матерей. В народе говорили, что этой войны не было бы, если Перикл не послушался внушений Аспазии и не настоял на ней. Так как Аспазия происходила из Милета, то ходил слух, будто Перикл действовал, только следуя советам своей любовницы, хлопотавшей при этом в интересах своего родного города и в то же время желавшей дать знать о своем могуществе в Афинах. Прошло несколько лет, и наступил день, когда оскорбления комической сцены, клеветы Агоры и запальчивые требования трибуны уже казались недостаточными для врагов Перикла. Они задумали начать против него процесс, нападая на его государственную деятельность. Но великий государственный человек пользовался еще большою популярностью! Вследствие неявки Перикла на суд, недовольные вздумали чернить его лучших друзей. Для зачинщиков оппозиции это было удобным способом испытать свои силы и в то же время лишить уважения Перикла; это был первый толчок, данный его репутации в глазах народа. Начали с того, что предали остракизму старого Дамона, бывшего учителя Перикла, остававшегося другом последнего. Говорили, что под видом уроков музыки он преподавал политику. Слышали, будто он неоднократно высказывал мнение, что лучший образ правления есть тирания в руках просвещенного человека. Дамон был предан изгнанию. Вскоре после того (в последних месяцах 433 и в первых 432 года) противники Перикла, ободренные этим первым успехом, условились, чтобы в то же время Фидий, Анаксагор и Аспазия были привлечены перед судом гелиастов. Фидиаса обвинили в расхищении. Подкупленный несколькими врагами Перикла, один из учеников знаменитого скульптора предстал челобитчиком пред престолом Агоры. Этот человек, по имени Менон, просил обеспечить его относительно последствий процесса, который он затеял против Фидия.
Когда, наконец, народ выдал Менону желаемую льготу, то злодей обвинил своего учителя в том, будто он похитил часть золота, выданного ему казначеями богини для того, чтобы употребить его для статуи афинской хризелефантины. Фидиасу было, однако, не трудно оправдаться перед дикастерионом, так как одежды богини были им сделаны таким образом, что можно было снять все золото, не разрушая самой мраморной статуи, и взвесить его. Эта мысль была подана скульптору Периклом, который не доверял, вероятно, подозрительному характеру афинян; а быть может, он желал также, чтобы эта масса золота (сорок талантов золота, более двух миллионов франков) могла в затруднительном случае послужить на расходы войны. Фидий был оправдан. Но нетерпеливые враги начали против него новый процесс по поводу двух других обвинений. Он сделал свой портрет на ограде Афин: это признали святотатством. Он принимал Перикла в своей мастерской в то время, когда там находились женщины, натурщицы и посетительницы: это признали. Во время разбирательства этого второго процесса, Фидий, больной и убитый горем, скончался в тюрьме.
Анаксагор был предан суду за беззаконие (γραφή ασεβειας). До этой эпохи трибуналы, казалось, имели дело с обыкновенным святотатством, как то: публичное оскорбление богов, профанация храмов и божественных картин, скандалы во время празднеств, осквернение святынь, глумление над обрядами (религиозными).
Но число философов и софистов в Афинах увеличилось, и оратор Диофит предложил поэтому предписать закон, по которому в святотатстве обвиняли тех, которые не верили национальным богам и занимались наблюдениями небесных явлений. Этот закон инквизиторского характера клеймил всех мыслителей; но он был принципиально направлен против друзей Перикла, а значит, и против него самого. Надеялись возбудить против него подобный же процесс, когда его приближенные уже будут осуждены по закону. Анаксагор открыто учил, что солнце есть огненная масса, луна – обитаемая планета, гром происходит от столкновения облаков и другим подобным же беззакониям. Анаксагор скрылся от суда. По совету Перикла, который опасался, что другу его вынесут смертный приговор, он поспешно покинул Афины. Гелия осудила его заочно.
Аспазию, как и Анаксагора, обвинили в беззаконии: ея взгляды противоречили верованиям страны. Подобно Фидию ее обвинили в потворстве разврату: говорили, будто она собирала у себя куртизанок и замужних женщин и препровождала их в распоряжение Перикла.
Какие доказательства имел поэт Гермипп, возбудивший процесс против Аспазии, в пользу ее виновности? Первым долгом он ссылался на свидетельства одного раба, слышавшего, будто Аспазия спорила и шутила по поводу некоторых религиозных преданий; без сомнения, он не забыл указать и на то, что Аспазия, будучи в дружеских отношениях с философами, обязательно должна была разделять их воззрения. Во-вторых, Гермипп воспользовался, вероятно, преувеличиванием и пересудами Агоры. Эта клевета – мы думаем, что это была именно клевета – все же казалась весьма правдоподобной. Афиняне больше не позволяли своим законным женам посещать гетер: принимая у себя жен граждан, Аспазия подверглась тяжелым подозрениям. Как бы то ни было, а Аспазия находилась в большой опасности. За каждый из двух проступков, в которых ее обвиняли и которые, по афинским законам, признавались преступлениями, она подлежала смертной казни. Аспазия могла спастись бегством, не ожидая судебного приговора. Нет сомнения, что Перикл слишком искренно любил свою любовницу, чтобы забыть предложить ей последовать примеру Анаксагора. Но Аспазия понимала, что покинуть Афины и быть судимою заочно по неявке, это значило вызвать приговор наверняка, это значило расстаться с Периклом. И в это-то время несчастный Перикл больше всего нуждался в утешении Аспазии.
Он чувствовал, что общественное мнение было против него, у него отняли лучших друзей, наконец, ожесточенные враги его собирались затеять против него процесс, в котором его обвиняли в расхищении государственной казны, взяточничестве и несправедливости. Аспазия держала себя мужественно перед судьями (дикастами). Можно было предположить, что Перикл возьмется давать за нее показания, так как, по закону, женщина не имела права сама защищаться на суде. Во всяком случае, Перикл вмешался в судебное разбирательство и упрашивал судей, не стыдясь показывать своих слез. Суд оправдал Аспазию.
V
Влиянию Аспазии приписывали войну с Самосом; ему же надо приписать и Пелопонесскую войну. В 432 году Перикл, под предлогом важных убытков, заставил вотировать декрет, по которому мегарийцы предавались изгнанию из половины Греции.
Рынки – Афин и подданных городов для них должны были быть закрыты; всякий мегариец, застигнутый на территории Аттики, подвергался смертной казни; полководцы, вступая в свою должность, должны были давать клятву в том, что два раза в год будут идти разорять Мегариду. Этот декрет имел самые тяжелые последствия, так как, если строго говоря, он не был причиною, то, во всяком случае, – поводом к Пелопонесской войне. Действительно, вот что рассказывали враги Перикла: "Мегарийцы пришли для того, чтобы похитить двух куртизанок, которых Аспазия держит в своем доме. Аспазия прогневалась, Перикл Олимпийский мечет молнии, и война загорелась!!"
Кроме того, что этот анекдот сам по себе кажется неправдоподобным, такие важне происшествия не могли произойти от таких пустых причин. Без сомнения, единственные жалобы, возведенные на мегарийцев, и состояли в том, что они принимали беглых рабов и что они присвоили территорию, принадлежащую великим богиням Элевзиса.
Эти причины не могли мотивировать строгости декрета; но это были только одни поводы. В течении многих лет уже подготовлялась беспощадная, фатальная война между Афинами и Спартой. Мир, заключенный с Корсирией, в 433 году, раздражал коринфян и беспокоил Спарту. Чтобы отомстить за поддержку, оказанную корсириянам, коринфяне возмутили Потидею, город, подданный Афинам. В отместку за это афиняне послали декрет против мегарийцев, верных союзников Коринфа.
Эти важные события наступили почти тотчас после трех процессов Фидия, Анаксагора и Аспазии и в тот момент, когда против Перикла самого был возбужден процесс по сдаче отчетов. Совпадение, бывшее в самом деле злосчастным, не могло остаться незамеченным. Таким образом, у народа образовалось другое подозрение, будто Перикл вызвал враждебные действия, чтобы поддержать свою власть, становясь необходимым. По всей вероятности, однако, между этими процессами и декретом против мегарийцев было скорее случайное совпадение, чем какое-либо соотношение. Тем не менее, существует сомнение, и его можно принять, что с одной стороны затруднительное положение, в котором находился Перикл, с другой стороны, чувство вполне извинительное, хотя и эгоистическое, повлияли на его поведение. Периклу было уже шестьдесят пять лет, и война казалась ему неизбежной рано или поздно: не было ли бы для афинян лучше, чтобы она наступила еще при его жизни? Великие люди, естественно, склонны отождествлять свои личные интересы с интересами общественными.
Война началась. Сначала успех находился на стороне афинян. Они осадили Потидею, заняли Эгину и Платею, взяли Празию у лакедемонян, отбросили пелопонесский флот из вод Кефалонии, захватили Мегариду, опустошили берега Арголиды, Лаконии и Мессении, но эти успехи на окраинах не вознаградили бедствий, которые разразились над Афинами. Два раза лакадемоняне вступали в Аттику, принуждая жителей искать защиты за стенами столицы. Их жилища, земли, их серебряные рудники были оставлены на разорение неприятеля, сами же жители кочевали по площадям, вокруг храмов, между длинными стенами. Внезапно, в этом скученном на небольшом пространстве и уже ослабленном болезнями населении, разразилась чума с неслыханной силой. Масса народа умерла при этом. Ни сожжения трупов, ни погребения не было достаточно: улицы были загромождены трупами.
Эта страшная эпидемия, наводнение Аттики пелопонессцами, опустошения, ими производимые, все эти бедствия, соединенные с перспективой продолжительной войны, возбудили общее негодование против Перикла. Этим пользовались его политические враги. Процесс по сдаче отчетов, который был возбужден против него несколько времени ранее, во время процесса Аспазии, и приостановлен по случаю начала войны, в 430 году был возобновлен демагогом Клеоном. Перикл должен был предстать пред дикастами. Признанный виновным, он был приговорен к штрафу в восемьдесят талантов и отставлен от своей должности полководца, в которую его выбирали ежегодно в течении уже тридцати лет (для славы Афин).
Тяжелый удар постиг Перикла: не только в его политической, но и в частной жизни он был не менее чувствительным. В течение нескольких дней умерло от чумы несколько его друзей, сестра и его родные сыновья, Ксантипп и Парил. Когда Перикл, перенесший все эти испытания с твердостью, возложил погребальный венок на голову Парила, он не мог более совладать с своим горем. Разражаясь рыданиями, с лицом, мокрым от слез, он упал, уничтоженный, около трупа своего последнего сына.
Однако один лишь год спустя после его изгнания афиняне, отличавшиеся своею необычайною изменчивостью в решениях, вернули Периклу его прежнюю власть. Они сделали даже более; они ему вернули сына, обходя этим закон о незаконнорожденных детях; сына этого Перикл имел от Аспазии. Он мог его признать и его могли записать, как афинянина, на общественных записях. Этот сын, носивший имя Перикла, в 406 году был назначен полководцем. Будучи победителем лакедемонян во время сражения при Аргинусе, он разделил участь пяти других полководцев, командовавших вместе с ним во время Эолидского похода. Афиняне чествовали их за победу, но приговорили к смертной казни за то, что после сражения они не позаботились оказать помощь раненым и потерпевшим кораблекрушение. В собрании в Пниксе, которое за нарушение закона, производило суд над полководцами, Сократ, один из старейших друзей Перикла, и Аспазия, были единственными лицами, протестовавшими против обвинительного приговора. Перикл умер от медленной лихорадки, несколько месяцев после того, как ему вернули власть, около середины 429 года.
Если верить философу Эсхину, Аспазия сделалась тогда содержанкой богатого купца, скотника на имени Лизикл, который благодаря ей, будучи простым мужиком, сумел занять место среди первых деятелей республики.
Фукидид и Аристофан действительно приводят какого-то Лизикла, продавца баранов, выбранного в 428 году полководцем; он был убит неприятелем в конце того же года, значит, через восемнадцать месяцев по смерти Перикла. Итак, Аспазия очень скоро забыла человека, бывшего ей мужем, и, с другой стороны, ей нужно было очень мало времени для того, чтобы доверщить политическое образование Лизикла! Но так как эта связь ее с Лизиклом представляется крайне сомнительной, то можно не верить в нее и думать, что Аспазия осталась верной памяти великого афинянина.
Таким образом, Аспазия не имеет, собственно говоря, истории; но про нее существует легенда, и эта легенда ее ставит выше, чем могла поставить ее история. Последователи Сократа сделали из Аспазии личность идеальную. В памяти людей она остается музою века Перикла.
II. Клеопатра
I
Просуществовав сорок или пятьдесят веков, Египет умирал на глазах у римского народа. Греческая династия, давшая стране новую силу и блеск возрождения, была истощена развратом, преступлениями и междоусобными войнами. Она держалась только милостью Рима, покупая высокой ценой его покровительство. Освобожденные почти от всякого рода военной службы, благодаря эллинским и галльским наемникам, египтяне совершенно потеряли привычку владеть оружием. Они испытали столько нашествий и вынесли столько иностранных владычеств, что отечество у них сосредоточилось только в религии и предках. Эти народы, рожденные рабами и привыкшие ко всякому деспотизму – управлялись ли они греческим царем, или римским проконсулом – не отдали бы за это ни одним колосом ржи меньше и не получили бы ни одним ударом палки больше. Слава Египта была помрачена, и могущество пало. У него оставалось только его удивительное богатство, развившееся благодаря земледелию, промышленности и торговле. Египет снабжал хлебом Грецию и Малую Азию; хлеб хранился в неисчерпаемых амбарах, куда поступал из Средиземноморского бассейна. Но плодородная долина Нила, – «такая плодородная, говорит Геродот, что ее нет надобности вспахивать плугом», давала не один хлеб. Другими источниками богатства были ячмень, кукуруза, лен, пенька, индиго, папирус, лавзония [Аравийский кустарник – ред.], которой женщины красили себе ногти, клевер, служивший пищей громадным стадам волов и баранов; далее, луковицы и репа, которыя рабочие, участвовавшие в постройке громадных пирамид Хеопса, съедали на восемь миллионов драхм; изюм, финики, фиги и роскошные плоды лотосового дерева, «из-за которых, по словам Гомера, можно было забыть родину». Туземная промышленность производила бумагу, деревянную, мраморную и металлическую мебель, оружие, рогожу, плетенки, ковры, ткани, полотна и шелк, вышитые и разрисованные материи, глазированный фаянс, стеклянную посуду, бронзовые и алебастровые чаши, эмали, золотые вещи, уборы из драгоценных камней. По ту сторону Мыса Аромата тянулись конторы александрийских купцов; караваны пересекали Аравию и Ливийскую пустыню, и бесчисленное количество кораблей ходило от Геркулесовых столбов до устья Инда. Благодаря этой обширной торговле, Александрия представляла собой житницу трех материков. При Птолемее XI, отце Клеопатры, налоги и пошлины на предметы ввоза и вывоза приносили государственному казначейству ежегодно двенадцать тысяч пятьсот талантов (шестьдесят восемь миллионов франков).
Столица Птолемеев, Александрия, заставила Ахилла Taция воскликнуть: "Мы побеждены, мои глаза". Но этот город поражал иностранца не столько большим числом великолепных памятников, сколько своим симметрическим расположением и строгим порядком. Две большие аллеи, пересекавшиеся под прямым углом и окаймленные мраморными колоннадами, перерезали Александрию. Продольная аллея, длиной более тридцати стадий (четыре тысячи восемьсот метров) и шириной в тридцать пять метров, направлялась с запада на восток; она начиналась от Некропольских ворот и тянулась до ворот Канобикских. Поперечная аллея, длиною в семьдесят стадий, направлялась с юга к Большому порту (гавани). Все другие аллеи и улицы, окаймленные тротуарами и вымощенные большими каменными глыбами, были также взаимно перпендикулярны и сообщались с двумя главными. Это правильное расположение, этот грандиозный вид, эти бесконечные перспективы придавали Александрии единственный в своем роде характер. Казалось, что, в противоположность другим городам, образовавшимся понемногу, разраставшимся постепенно и непрерывно, Александрия была создана одним ударом по определенному плану. И в самом деле, этот город возник, так сказать, из песков, по воле Александра. Он закончил план города, он придал городской ограде форму македонской хламиды (епанчи), он, вместе с архитектором Динархом, составил план этой правильной сети аллей и улиц; Александр же изобрел подъемные плотины для устройства нового порта и составил чертеж площади и главных строений. После него, уже Птолемеи украшали город, построили бесчисленное множество памятников и роскошнейших садов; на западном и восточных концах города появились многочисленные предместья. Но в общем Александрия осталась такой, какой ее создал Александр.
С Панеума, искусственного бугра, высотою в тридцать пять метров, построенного в центре города, представлялась роскошная панорама Александрии. По направлению к югу, мелькали тысячи домов, и множество частных дворцов тянулось до самой ограды, которая, вследствие действия перспективы, казалось, купалась в оловянного цвета поверхности Марфотийского озера. Кое-где виднелись скромные домики, вымазанные известкою, с неправильно расположенными окошечками и деревянными крышами в форме террас и отдушинами наверху; на этих крышах жители домиков отдыхали во время жарких летних ночей. С этими домиками чередовались громадные здания, белые фасады которых скрывались частью высокими оградами, частью в листве роскошных садов. Фасады эти были украшены монументальными портиками и рядами колонок с карнизами, раскрашенных в цветные полосы. Громадный Серапеум царствовал во всем квартале. На это громадное здание взбирались по спиральной лестнице, имевшей сто ступенек; купол его подпирался колоннами из сиэнита и коринфского гранита, высотою в тридцать два метра [1 метр = 3,3 русск. фута. ‑ прим. перев.].
В сторону моря виднелись северные кварталы, старая и новая гавани, разделенные друг от друга гигантскою насыпью в семь стадий, соединявшей остров Фарос с городом. На восточном конце этого острова виднелся Фар, громадная восьмигранная, двухэтажная башня в сто одиннадцать метров, вся построенная из белого мрамора. Вокруг большой гавани, начиная от мыса Лохиас до Гептастада, тянулась великолепная набережная, а вдоль неё возвышались дворцы и храмы. Здания в чисто греческом стиле чередовались с египетскими памятниками и с другими роскошными сооружениями, в которых, казалось, комбинировались оба архитектурные стиля: бедный стиль саитского искусства выигрывал рядом с рельефами эллинского типа, коринфская колонна чередовалась с колонной компаниформской.
В конце длинной аллеи сфинксов возвышались гигантский пилон [Род портала. ‑ прим. перев.] и массивные пирамиды, на белых стенах которых были нарисованы целые вереницы фигур, а карниз был украшен эмблематическим диском с громадными распущенными крыльями.
Тут красовался греческий храм с резко выделяющимся на голубом небе причудливо-изваянным фронтоном, там – громадный, тяжелый, таинственный египетский храм, с выдавшимся вперед неуклюжим гранитным предхрамием.
На противоположных террасах, обросших внизу кустами роз и осеняемых тенью сикомор, мимоз и пальм, виднелись дворцы, окруженные портиками, колоннами в форме донника [Растение. ‑ прим. перев.]; амфилада порталов, павильоны в форме конических башенок, просвечивающие киоски, хоры, поддерживаемые кариатидами. Посередине площадей, на месте пересечения улиц, а также перед воротами зданий, возвышались изваяния Меркурия, озирийские колоссы, статуи эллинских богов, алтари, героумы, заслоненные здесь и там высокими обелисками и громадными мачтами, на верхушках которых развевались пестрые флаги.
Между всеми этими бесчисленными зданиями можно было первым делом заметить в конце мыса храм Изиды Лохиасской и большую царскую виллу; затем, перед закрытою гаванью, царей виднелись верфи, здания арсенала, и начинался Брухиум. Окруженный оградой высоких стен и висячими садами, Брухиум – был городом в городе. Это была птолемеевская столица. Каждый из Лагидов построил в ней свой дворец, посвятил храм, расставил статуи, устроил бьющие фонтаны, рассадил боскеты акаций и сикомор, выкопал бассейны, в которых цвели кувшинки и голубые лотусы. Страбон применяет к памятникам Брухиума стих «Одиссеи»: "Они выходят одни из других", – сказал он.
Около разнообразных дворцов царей и обширных пристроек возвышался храм Кроноса, храм Изиды Плузии, малый Серапеум, храм Посейдона, гимназиум с его портиками, театр, закрытая галерея, библиотека, содержащая семьсот тысяч томов, наконец, – Сома, громадный мавзолей, в котором Александр отдыхал в гробнице из массивного золота, замененной впоследствии стеклянной. Другое здание Брухиума обращало на себя внимание своими громадными размерами и своим архитравом [Притолока. ‑ прим. перев.], венчавшим собор. Это был знаменитый Александрийский музей, служивший школой, монастырем и академией. Филологи, поэты, философы, астрономы жили в нем на общем иждивении Птолемеев, и злые языки называли его, поэтому, «клеткой муз».– Это была, во всяком случае, замечательная клетка, где пели Феокрит, Калимах, Аполлоний и где преподавалась знаменитая александрийская философия. Далее, за храмом Посейдона, набережная загибалась по направлению к юго-востоку. Там также монумент сменялся монументом. Там находилась биржа, храм Бендиса, храм Арсиноэ и громадные Апостаты, где собирались торговцы со всего света. Оттуда, от Гептастада виднелся старый порт со своими большими верфями и далее на восток, вне ограды – предместья Некрополя и мрачный, печальный квартал бальзамировщиков.
II
Александрия была космополитическим городом. Между тем как города Высокого Египта и Гептаномиды сохранили свой национальный характер, в Дельте эллинская цивилизация вполне привилась к цивилизации египетской или, вернее, последняя образовалась из нее. Законы и декреты издавались на двух языках. Жречество, управление, полиция, суды, администрация наполовину принадлежали грекам, на половину туземцам; войско состояло из наемных греков и галлов, сицилийских бандитов и беглых римских рабов. В Александрии в течении более двух веков образовалось множество колоний; туземцы, расположившиеся в старой части египетского города, называвшегося Ракотисом, составляли более трети всего населения. Евреи, обитавшие в особом квартале, где у них был наместник [Этиарх.] и их Санэдрин, составляли также треть населения. От Фара до Серапеума, от Некропольских до Канобикских ворот можно было встретить столько же иностранцев, как и египтян. Это была шумная и пестрая толпа греков, евреев, сирийцев, италиотов, арабов, иллирийцев, персов, финикиян. На улицах и в гавани говорили на всех языках, в храмах молились всевозможным богам. В этом Вавилоне всякая национальность приносила с собою свои привычки. Народонаселение Александрии, достигавшее трехсот двадцати тысяч, не считая рабов, было настолько же нагло, неугомонно, насколько в других городах Египта – спокойно и сдержанно. Во время царствования последних Лагидов, александрийская чернь помогала революции судебного сословия, надеясь добиться при новых правителях большей свободы и меньших податей.
Птолемей XI (Авлет) умер в июле месяце 51-го года до Рождества Христова. Он оставил четырех детей. По его духовному завещанию, на престол должна была вступить его старшая дочь Клеопатра и старший сын Птолемей. Согласно египетским обычаям, брат должен был вступить в брак с сестрою. По смерти отца, Клеопатре было семнадцать лет, а Птолемею тринадцать. Воспитатель юного Птолемея, евнух Пофен, был из самолюбивых. Будучи учителем юного Птолемея, развивая его ум, он надеялся управлять делами Египта, при вступлении на престол своего ученика. Но он скоро убедился в том, что Клеопатра не позволит ни ему, ни Птолемею вмешиваться в управление государством. Гордая и своевольная Клеопатра была в то же время способна, умна и образована. Она говорила на восьми или десяти языках, именно: на египетском, греческом, латинском, еврейском, арабском и сирийском.
Как допустить, чтобы эта женщина, такая гордая и богато одаренная, решилась уступить часть своей власти ребенку, воспитываемому евнухом? Либо Клеопатра должна была освободиться от своего брата, либо, согласившись жить с молодым царем, должна была вскоре приобрести над ним неограниченное влияние. Она должна была сделаться главой этой диархии. Пофен это понял и решил пустить в ход все средства для того, чтобы погубить царицу. Он начал с того, что стал возбуждать соперничество между министрами и знатными офицерами гвардии, затем, когда раздор между партизанами царя и сторонниками Клеопатры достиг своею апогея, он возмутил против царицы александрийский народ. Он обвинял Клеопатру в том, будто она намеревается царствовать одна и решилась призвать римские войска. Как рассказывал евнух, она составила этот план с Помпеем, старшим сыном Помпея Великого, который в 49 году стал любовником Клеопатры.
Когда мятежники, предводительствуемые Пофеном и молодым царем, были уже у ворот дворца, Клеопатре удалось каким-то образом убежать из Александрии, в сопровождении только нескольких верных телохранителей. Беглянка, однако, и не думала считать себя побежденной. Ей не так легко было отказаться от Египта, которым она управляла уже три года. Вскоре в Александрии распространился слух, что Клеопатра на границе Египта и Аравии собрала армию и идет на Пелузы. Юный царь снарядил свои войска и направился ей навстречу. Брат и сестра, муж и жена, приготовились уже в окрестностях Пелузы к сражению, когда явился знаменитый, побежденный под Фарсалом, Помпей и стал просить у египтян убежища. Помпей полагал, что может рассчитывать на благодарность детей Птолемея, потому что семь лет тому назад, по его наущению, Габиний, проконсул в Сирии, вернул Птолемею Авлету престол.
Не подлежит сомнению, что после Фарсальского сражения Помпей был обезоружен, и Цезарь торжествовал. Подавая помощь беглецу, от которого ждать уже было нечего, легко можно было возбудить гнев Цезаря. Пофен и другие министры молодого царя сделали вид, что согласны принять Помпея, но как только он вступил в территорию Египта, то был изменнически задушен. Его голова была забальзамирована с искусством, свойственным египтянам, и потом – преподнесена Цезарю, как только он, преследуя Помпея, высадился в Александрии.
Цезарь с отвращением отвернулся от этого трофея и не замедлил обвинить Пофена и Акилласа в этом преступлении, но злодеи нисколько не смутились этим. Они понимали, что оказали Цезарю большую услугу, предав ему в руки голову его самого опасного врага, и не верили в искренность возмущения Цезаря. Цезарь тотчас же узнал о распрях между Птолемеем и Клеопатрою, о ее бегстве от народных угроз после сражения под Пелузами.
Римская политика всегда придерживалась системы вмешательства в междоусобия других государств. Теперь эта политика Цезарю казалась вполне уместной, тем более, что, еще при первом консуле, Птолемей Авлет был объявлен союзником Рима и в своем завещании даже заклинал римский народ исполнить его последнюю волю. Еще другая причина, которую он не скрывает в своих комментариях, побудила Цезаря вмешаться в дела Египта. Он был заимодавцем покойного царя и требовал теперь от его наследников уплаты значительной суммы денег. Разговор шел ни более ни менее, как о семи миллионах пятидесяти тысячах сестерций, которые не были уплачены так же, как и те тридцать три тысячи талантов, которые Птолемей обязался заплатить Цезарю и Помпею, в случае, если ему, при содействии римлян, вернут корону.
Пофен, между тем, надеялся, что оказал уже Цезарю достаточно большую услугу, преподнеся ему голову Помпея. Он склонял его отправиться туда, куда призывали его дела не менее важные, чем война Птолемея с Клеопатрою: в Понт, откуда Фарнас прогнал своего лейтенанта Домиция, и в Рим, где Целий возмущал плебеев. На требования Цезаря он отвечал, что казна пуста; на предложение третейского суда между наследниками Птолемея, отвечал, что не пристойно иностранцу вмешиваться в эту распрю, что подобное вмешательство возмутит Египет. В подтверждение своих слов он приводил довод, что народ александрийский смотрит на консульство, преподнесенное Цезарю, как на покушение на царскую власть. Пофен рассказывал, что каждый день начиналось возмущение, что всякую ночь убивали римских солдат; указывал он также на то, что население Александрии очень многочисленно, а войско Цезаря (три тысячи двести рядовых и восемьсот офицеров) весьма незначительно. Но все эти советы, замечания, отказы не оказывали никакого действия на волю Цезаря. Вместо того, чтобы просить, он приказывал. Он поручил Пофену формально предложить от своего имени Птолемею и Клеопатре распустить свои войска и приказал, чтобы они свою распрю принесли на его суд. Евнух должен был послушаться; но он был настолько же хитер, насколько Цезарь был упрям, и решил воспользоваться этим вмешательством для достижения своих целей. В своем письме он передал Клеопатре приказание Цезаря распустить свои войска, но не сообщал ей, что ее ждали в Александрию, а Птолемею написал, чтобы он прибыл на поле сражения рядом с Цезарем, держа солдат в полном вооружении. Пофен рассчитывал при этом на то, что армия Клеопатры сдастся, и надеялся расположить Цезаря к молодому царю, указав на то, что из двух наследников Авлета только Птолемей поспешил явиться на зов консула. Через несколько дней Птолемей действительно прибыл в Александрию. Он осыпал Цезаря уверениями дружбы и, поддерживаемый Пофеном, Акилласом и другими министрами, изложил сущность распри между ним и Клеопатрой, сваливая всю вину на сестру. Но на Цезаря не так легко было иметь влияние. Пофен полагал, что неявка Клеопатры раздражит Цезаря и возбудит против нее. Цезарь, однако, не мог предполагать, чтобы царица с презрением приняла его приглашение прибыть в Александрию. Он не допускал этого и скорее подозревал, что какие-нибудь проделки Пофена помешали ей явиться. Для того, чтобы, наконец, узнать в чем дело, он послал гонца к Клеопатре, в окрестности Пелузы. Царица, с своей стороны, с нетерпением ожидала известий от Цезаря. По получении его первого послания, доставленного ей уже позже Пофеном, она поспешила распустить свое войско. Клеопатра уже питала полное доверие к великому полководцу, которого звали "мужем всех женщин". Она понимала, что она должна увидеть Цезаря или, вернее, Цезарь должен увидеть ее. Между тем дни проходили, а приглашения явиться в Александрию не прибывало. Наконец, пришел гонец со вторым посланием Цезаря. Клеопатра узнала, что Цезарь уже раз требовал ее к себе, но Пофен принял свои меры для того, чтобы она об этом ничего не узнала. Было ясно, что враги ее не желали допустить свидания между нею и Цезарем. Теперь, когда хитрость их не удалась, они употребят силу. Несомненно, они были настороже и сделали свои распоряжения. Если бы Клеопатра попыталась дойти до Александрии сухим путем, она встретила бы аванпосты египетского войска, расположенного под Пелузою; на море ее трехбаночная галера не ушла бы от флота Птолемея, расположенного перед входом в порт. Прибудь она одна в Александрию, она рисковала быть изрубленною народом, по приказанию Пофена. По дороге к царскому дворцу, в котором Цезарь жил гостем Птолемея, в сопровождении почетной египетской гвардии, на Клеопатру могли напасть часовые и убить ее.
Клеопатра отказалась от намерения царицей вступить в Александрию и не решалась войти в город без предварительного переодевания; она нашла нужным проникнуть в него в мешке. В сопровождении только одного преданного ей человека, сицилийца Аполлодора, она отправилась от Пелузы в барке и ночью проникла в гавань Александрии. Затем, они поднялись на набережную перед маленькими воротами дворца. Тогда Клеопатра влезла в большой мешок из грубого холста, выкрашенный в разноцветные полосы, эти мешки служили путешественникам для того, чтобы прятать в них свои тюфяки и одеяла. Аполлодор затянул мешок, взвалил его себе на плечи, прошел в ворота, направился прямо в апартаменты Цезаря и положил к его ногам свою драгоценную ношу. Лучезарная Афродита вышла из морской пены, Клеопатра гораздо скромнее вышла из мешка. Тем не менее, Цезарь был немало взволнован и восхищен этим сюрпризом. Девятнадцатилетняя Клеопатра была в ту пору в расцвете своей обольстительной, необычайной красоты. Дион-Kacciй называет египетскую царицу красивейшей из всех женщин: περιχαλλιστάτη γυναικῶν.
Но Плутарх, затрудняясь в выборе подходящего эпитета для того, чтобы очертить ее, высказывается так: "Ее красота была не столько несравнимой, сколько вызывала восхищение; нельзя было забыть ее очаровательного лица, грации ее фигуры, обворожительности ее обхождения". Вот верный портрет ее. Клеопатра не была красавицей, но была в высшей степени обольстительна. Виктор Гюго сказал про одну знаменитую театральную артистку: "Она не только хороша, но хуже того". Это странное определение можно бы применить к Клеопатре. Плутарх присовокупляет, и замечание его подтверждается Дионом, что Клеопатра говорила мелодическим голосом, обладавшим необычайною мягкостью. Это замечание весьма ценно с точки зрения психологической, так как этот очаровательный голос был одной из главных прелестей Нильской сирены.
Пластика и нумизматика дают довольно много изображений Клеопатры, и большинство из них довольно достоверны. Тем не менее однако, отсюда не следует, чтобы эти медали и изваяния представляли собою серьезное подспорье для того, чтобы восстановить тип последней из Лагидов. Клеопатра, а также сын ее Птолемей-Цезарион, были неоднократно изображаемы на барельефах Дендерского храма, и весьма вероятно, что, по обычаю египтян, скульпторы придавали некоторое сходство этим изображениям с оригиналами. Но Клеопатра не служила натурой для художников, изображавших ее, и спрашивается, чем же они руководились при изображении ее и насколько последние походили на оригинал? В одном месте Клеопатра изображена богиней Хатор, в другом у нее прическа Изиды, волосы ее заплетены, грудь и руки обнажены и узкая одежда закрывает ее до самых ног. У нее орлиный нос, большие глаза и, вообще, она красива. Но при всем желании найти разницу между ее чертами и массой других лиц, изображенных на стенах Дендерского храма, – это почти невозможно.– Что же касается красивого оттиска Клеопатры, который можно видеть в Париже в мастерских художников, то нет сомнения в том, что значение его основано на мистификация. Этот барельеф, открытый, кажется, в 1862 г., не носил на себе никакой надписи. Один египтолог в виде шутки начертил на нем портрет Клеопатры и с тех пор его продают везде, как достоверное изображение последней царицы Египта.
Насчитывают пятнадцать медалей различных типов, находящихся в British Мuseum и в Венском кабинете. Кроме двух из них, о которых будет сказано ниже, все остальныя гравированы более чем посредственно, так же, как и тетрадрахма, сделанная Антиоху. Мой ученый друг М. Fröhner писал мне об одном экземпляре медали проданной в 1885 году (из коллекции Кастеллани), «на котором Клеопатра изображена замечательною красавицей». Многия медали представляют настоящие карикатуры. Единственная достойная описания есть бронзовая медаль, на которой имеется надпись Κλεοπατ Βασιλιδ; на обратной стороне над буквою π имеется орел, держащий молнию. Кабинет на улице Ришелье обладает таким прекрасным экземпляром. Голова имеет выражение женщины великой и сильной. Лоб прямой, но низкий, так как завитки волос покрывают его до половины. Глава большие, удаленные от орлиного носа очень длинного; рот прелестный хотя и очень большой. Хотя черты эти несколько грубы и жестки, лицо это, в общем, производит чарующее впечатление, благодаря красоте глаз и своеобразной прелести рта. Если бы нос был несколько короче, то профиль этот можно бы назвать прекрасным.
Одна из медалей, о которых мы упоминали раньше, была гравирована в Патрасе. На ней профиль Клеопатры приближается к греческому типу. Другая медаль, гравированная в Кипре, представляет Клеопатру Афродитой с сыном Птолемеем-Цезарионом на руках. На этих двух медалях тип Клеопатры значительно отличается от типа тринадцати остальных медалей, которые характеризуются жесткостью черт и необычайно длинным носом.
Как известно, Паскаль сказалъ: "Будь нос Клеопатры короче, то перевернулся бы весь мир". Паскаль не был нумизматом, иначе он написал бы: "Если бы нос Клеопатры был длиннее, то…".
Это первое свидание Цезаря с Клеопатрою, по всей вероятности, длилось до поздней ночи. Достоверно только то, что на другой день, рано утром, Цезарь велел позвать Птолемея и сказал ему, чтобы он помирился с сестрою и разделил с нею престол. "В одну ночь, говорит Дион Кассий, Цезарь сделался защитником той, для которой он считал себя судьею". Птолемей воспротивился приказаниям консула, и, когда была введена Клеопатра, молодой царь, обезумевший от гнева, бросил свою корону к ногам Цезаря, вышел из дворца и закричал: "Измена! Измена! К оружию!" Толпа присоединилась к этому крику и бросилась на дворец. Цезарь, не чувствуя себя достаточно сильным (он мог собрать только несколько манипул [Манипула = рота солдат у римлян.] легионеров) вышел на одну из террас и издалека обратился к толпе с речью. Ему удалось успокоить ее, дав обещание сделать все, чего пожелают египтяне. В то же время его воины, – вернувшиеся с поля, окружили молодого Птолемея, разлучили с его сторонниками и со всевозможными знаками почести, заставили его вернуться в дворец, где Цезарь сделал его своим аманатом (заложником).
На следующий день народ был собран на публичной площади. Цезарь, Птолемей и Клеопатра в великолепном убранстве отправились туда, в сопровождении эскорта ликторов. Все римляне были в полном вооружении и готовы подавить первую же попытку к возмущению. Цезарь громким голосом прочел завещание Птолемея Авлета и торжественно объявил, именем римского народа, что он заставит уважать последнюю волю покойного царя. Согласно с этим, старшие дети, оба должны вместе царствовать и управлять Египтом. Что же касается двух других детей царя, то он, Цезарь, отправляет их на остров Кипр, которым они и будут управлять.
Эта сцена произвела сильное впечатление на александрийцев. Тем не менее, Цезарь опасался восстания. Он поспешил вызвать в Александрию новые легионы, сформированные им в Малой Азии вместе с остатками войска Помпея. Но гораздо раньше, чем эти подкрепления могли прибыть, египетское войско из под Пелузы, по тайному распоряжению Пофена, вступило в город, с целью изгнания римлян. В то же время младшая сестра Клеопатры, Арзиноэ, при содействии евнуха Ганимеда и против воли Птолемея (все еще арестованного Цезарем), вышла из дворца и была признана народом и войском наследницей Лагидов. Это войско состояло из восемнадцати тысяч фантассинов (пехоты) и двух тысяч кавалерии и своим предводителем выбрало Акилла. Население Александрии было заодно с войском против иностранцев. У Цезаря было всего только четыре тысячи человек, считая вместе с экипажами его судов. Он находился в крайней опасности. Занимая с этой горстью людей дворцы Брухиума, он был осажден со стороны города солдатами Акилла и вооруженною чернью, а флот его, стоявший на якоре в большой гавани, был как в плену, так как неприятель занял проходы Озириса и Гептастада. Цезарь даже боялся, как бы флот его, обреченный на бездействие, не попал в руки александрийцев, которые воспользовались бы им для того, чтобы не пропускать вновь прибывающих воинов и провианта. Цезарь поджег свои корабли и тем избегнул этой первой опасности. Этот громадный пожар распространился на набережную и уничтожил массу домов и строения, между прочим Арсенал, Библиотеку и склады хлеба. Египтяне в ожесточении бросились в атаку, но легионеры, столь же хорошие землекопы, как и отважные солдаты, скоро преобразили Брухиум в неприступную позицию. Везде появились земляные насыпи, баррикады, фортификационные палисады. Театр обратился в крепость. Римляне выдержали двадцать приступов, не уступая ни одного вершка земли. Цезарь даже успел завладеть островом Фаросом, позицией, которая делала свободным проход в большой порт. Египтяне воображали, что будут победителями, если вместо женщины Арсиноэ, у них во главе будет Птолемей. Они велели передать Цезарю, что они воюют только потому, что он держит под арестом их царя, и как только он возвратит Птолемею свободу, они прекратят военные действия. Цезарь, знавший александрийцев, дал себя уговорит и выпустил Птолемея. Как только Птолемей прибыл в египетскую армию, война возобновилась с новым ожесточением. Но в это время по морю прибыло на помощь Цезарю первое подкрепление, 37-й легион. Война продолжалась без особого успеха на какой-либо стороне с начала весны 47-го года. Тогда распространилось известие, что Пелузы взяты приступом каким-то войском, спешившим на помощь Цезарю. Это был союзный корпус Митридата Пергамейца, шедшего из Сирии. Египтяне, опасаясь попасть между двух огней, отправились навстречу Митридату. Первое сражение, оставшееся нерешенным, произошло около Мемфиса. Но через несколько дней Цезарь, покинув Александрию, соединился с корпусом Митридата. Произошло второе сражение. Египтяне были разбиты по частям, а Птолемей утопился в Ниле. После этой победы, Цезарь, во главе своего войска, вернулся в Александрию. Буйная чернь, убедившаяся с этого момента в силе римского оружия, приняла консула со знаками уважения.
Таким образом кончилась Александрийская война, которую скорее следовало бы назвать войною Клеопатры, так как эту войну, бесполезную для славы Цезаря, вредную для его интересов, безразличную для его отечества и в которой он мог потерять и жизнь, и славу, Цезарь вел только из-за своей любви к Клеопатре.
III
За восемнадцать лет до этих событий Цезарь, будучи еще эдилом [Эдил – начальник полиции в Риме.], пытался осуществить завещание Александра II, по которому Египет должен был быть передан римлянами. Теперь Египет был покорен. Цезарю оставалось сказать только слово, и обширное и богатое государство это стало бы римской провинцией. Но в 65 году Клеопатра еще только родилась, в 65 году Цезарь не был еще знаком с этою «Нильской змеей», как называет ее Шекспир. Консул и не думал напоминать о своих предположениях в бытность свою эдилом. Первым делом, возвратясь в Александрию, Цезарь заставил признать Клеопатру царицею Египта. Тем не менее, желая пощадить чувства египтян, он решил, что Клеопатра должна выйти замуж за второго своего брата Птолемея Неотороса и разделить с ним престол. Но, как замечает Дион, этот союз и разделение были так же фиктивны, как и в первый раз. Молодой принц, имевший всего пятнадцать лет от роду, не мог еще быть ни царем, ни мужем царицы. По внешности Клеопатра была женой своего брата и разделяла с ним престол; в действительности же она царствовала одна и оставалась любовницей Цезаря.
В течении Александрийской войны, длившейся восемь месяцев, Цезарь запертый во дворце, покидал Клеопатру, только отправляясь в бой. Этот длинный медовый месяц показался ему еще коротким; он любил прекрасную царицу еще больше, чем в первые дни, и он не мог решиться расстаться с нею. Он забыл в объятиях Клеопатры чувство долга, свои интересы, самолюбие, опасности; он решился выехать из Александрии только на увеселительную прогулку с прекрасной царицей по Нилу. А между тем важные дела звали его в Рим, где царствовали смуты, где лилась кровь и где с 13 декабря прошлого года, не имели от него никаких писем. Также необходим он был в Азии, где Фарнас, победитель римских царей и легионов Домиция, завладел Понтом, Кападосом и Арменией. А между тем в Африке, Катон и последние помпейцы собирали в Утике громадное войско: четырнадцать легионов, десять тысяч нумидийской кавалерии и сто-двадцать боевых слонов; Цезарь был необходим и в Испании, где волновались умы, и грозило вспыхнуть восстание.
По распоряжению Клеопатры, для этой увеселительной поездки по Нилу были снаряжены три "фаламеги", т. е. большие плоскодонные яхты, употреблявшиеся еще Лагидами. Такая фаламега представляла из себя целый плавучий дворец; длина ее достигала пол-стадии, высота сорока футов, считая от поверхности воды. Судно это было многоэтажное с портиками, открытыми галереями, украшалось изящными бельведерами и проч. Внутреннее устройство фаламеги ни в чем не уступало наружному: там были множество комнат, устроенных со всеми удобствами и изяществом греко-египетской цивилизации; громадные залы были окружены колоннадами, тринадцатирядный балкон, окруженный столбами, потолок которого, выдолбленный в форме пещеры, был украшен яшмой, ляпис-лазурью, аметистами, алебастром, сапфирами и топазами. Сам корпус яхты был сделан из кедрового и кипрского дерева, паруса – из биссуса, снасти и веревки выкрашены пурпуром. Украшения фаламеги были самые разнообразные: всюду виднелись скульптурные работы лучших художников, гирлянды цветов, вьющихся растений, мозаичные украшения из мрамора, лабрадора, опала, кошачьего глаза. Для развлечения путешественников, на фаламегу приглашались акробаты, музыканты, актеры и целые отряды танцовщиц. Словом, на фаламеге недоставало ничего, свойственного роскоши и развлечениям Александрии.
Цезарь и Клеопатра с наслаждением мечтали об этой увеселительной поездке. Они намеревались проехаться вдоль "золотого Нила" мимо всех старинных городов Египта и достигнуть чудного края Эфиопии. Но в ожидании отъезда в легионах стали обнаруживаться признаки неудовольствия: слышался ропот, возмущение, офицеры позволяли себе прямо и даже дерзко говорить с Цезарем. Одно время он хотел взять Клеопатру с собою в Рим, но вскоре же должен был оставить этот план и решился идти в Армению, где опасности было больше всего и присутствие консула было необходимо. Цезарь оставил два легиона для охраны Клеопатры в Александрии и отправился в Антиохию.
Во все время, пока Цезарь воевал в Армении и Африке (от июля 47 до июня 46-го года) Клеопатра оставалась в Александрия. Когда Цезарь уезжал в Армению, она была уже беременна и несколько месяцев после отъезда диктатора Клеопатра родила сына. Она назвала его Птолемеем-Цезарионом, объявляя, таким образом, открыто свои интимные отношения с Цезарем, которые, впрочем, и без того были небезызвестны в Александрии.
Когда Цезарь уже разбил войско под Фапсом и собирался возвращаться в Рим, он написал Клеопатре и просил ее приехать туда. Весьма вероятно, что она действительно прибыла в Рим в середине лета 46 года, как раз в то время, когда праздновались четыре победы Цезаря. Во время второго триумфа, по случаю победы над Египтом, Клеопатра могла видеть во главе пленных свою сестру Арсиною, захваченную неприятелем еще в начале Александрийской войны. Клеопатра явилась на торжество в сопровождения своего псевдо-мужа, молодого Птолемея, сына Цезаря и громадной святы придворных и офицеров. Цезарь уступил в распоряжение Клеопатры и ея двора свои апартаменты: роскошную виллу на правом берегу Тибра. Официально (если можно употребить это новомодное слово к объяснению весьма отдаленных фактов) Клеопатра была очень сочувственно принята в Риме, что и не удивительно: она была царицей громадного государства, союзницей республики и – гостьей Цезаря, могущество которого достигло тогда своего апогея. Но под комплиментами, расточаемыми Клеопатре, скрывались ненависть и презрение, не потому, однако, чтобы римское общество возмущалось связью ее с Цезарем. Уже в течении полувека в римской республике суровые и строгие нравы постепенно исчезли. Избиратели продавали свои голоса, а избранные пользовались своею властью, чтобы снова быть избранными. Они торговали союзами, нарушали присягу, грабили, расхищали, вымогали деньги, сговаривались с ростовщиками и этим разоряли провинции. В Риме, в последнее время республики, политика развивала преступления, а театры были школой распутства, потому что в них женщины, в противоположность греческому обычаю, могли присутствовать на самых безнравственных представлениях. Модным поэтом того времени был наглый, безнравственный Катулл. Со времени проскрипций Суллы, жизнь признавалась столь краткой что надо было спешить воспользоваться всеми наслаждениями, которые она дает. «Будем жить и любить – говорит Катулл. – Небесные светила могут погибать и снова возрождаться, но мы, как только наша кратковременная жизнь погаснет, должны спать вечно». Времена, когда римская матрона сидела дома за работою, давно прошли; она ищет приключений, интриг, она продает себя или отдается добровольно. Частые разводы разрушили нравственные начала семьи, любовь к роскоши, честолюбие и страсть к развлечению и наслаждению разрушили семейный очаг. Больше всего предавались адюльтеру знатнейшие из патрицианок, каковы: Валерия, сестра Гортензия, Семирония, жена Юния Брута, Клодия, жена Лукулла и другая Клодия, жена Квинта Метелла Целера, Муция, жена великого Помпея, Сервилия, мать Брута и друг. Ясно поэтому, что в Риме, этом городе адюльтера, не могли особенно возмущаться тем, что Цезарь изменяет своей жене для Клеопатры; если бы у него было и несколько любовниц, то и этому не придавали бы большого значения. Но, несмотря на распущенность своих нравов, на разврат и на то, что он потерял свои прежние добродетели, Рим высоко держал свое знамя и гордился своим именем. Будучи победителями всего мира, римляне с презрением смотрели на остальные народы, считая их ниже себя, годными только на подчинение и рабство. Никого не беспокоила скоропреходящая любовь Цезаря к Евное, мавританской царице, а потому не могли и упрекать Клеопатру в том, что она услаждала его во время Александрийской войны. Но Рим оскорбляло то, что Цезарь заставил Клеопатру приехать в город семи холмов, что он всенародно, открыто признавал ее своею любовницей; по понятиям того времени, Цезарь, как римский гражданин, пять раз выбранный консулом и три раза диктатором, унижал свое достоинство, открыто признавая себя любовником египтянки. Вот, что возмущало римлян. Чтобы составить себе понятие о том, почему римляне были так возмущены связью Цезаря с Клеопатрой, Мериваль говорит, что эта связь должна производить то же впечатление, какое получилось бы в XV столетии, если бы английский пэр или испанский гранд женился на еврейке.
Цезарь получил неограниченную власть, и ему всячески оказывали уважение и почет. Он был выбран диктатором на десять лет, и в городе была поставлена его статуя с надписью: Caesari semideo, т. е. «Цезарю – полубогу». Он мог считать себя достаточно могущественным для того, чтобы презирать римские предрассудки. Прежде цезарь отличался осторожностью и всегда внимательно относился к мнению и интересам толпы (плебеев); он обладал замечательной способностью распоряжаться толпой для достижения своих целей и планов. В последние же два года своей жизни Цезарь не только пренебрегал общественным мнением, но и явно отвергал его как в частной жизни, так и в своей общественной деятельности. Он и не думал удалять от себя Клеопатру; напротив, он стал учащать свои посещения виллы на берегу Тибра, постоянно говорил о царице и допустил, чтобы она публично дала его сыну имя Цезариона.
Он сделал более того. В храме Венеры он поставил статую Клеопатры, сделанную из золота, и тем нанес оскорбление не только народу, но и римским богам. Цезарю, по-видимому, недостаточно было того, что из любви к Клеопатре он не превратил Египет в римскую провинцию, что он поселил и устроил эту иностранку в Риме и при всяком удобном случае всячески выказывал ей свое уважение и любовь, и вот он, в храме народной богини, осмелился поставить статую этой александрийской куртизанки, этой царицы варварской страны магов, всяких чудес, евнухов и подданных прибрежных жителей Нила, поклоняющихся чучелам птиц и богам со звериными головами. Римляне недоумевали и спрашивали себя, чем же должны кончиться безумия, сумасбродства Цезаря. Ходил слух, будто диктатор разрабатывает проект закона, по которому он будет иметь право обзавестись столькими женами, сколько захочет. Этот закон должен был быть представлен Гельвием Цинной. Говорили также, будто Цезарь хочет признать своим наследникам сына своего от Клеопатры, Цезариона. Эти слухи возбуждали общество против Цезаря и, если верить Диону, они содействовали плану предательского убиения великого полководца. Если это верно, то Клеопатра оказалась столь же фатальна для Цезаря, какой позже она оказалась для Антония.
Несмотря на эту вражду, Клеопатра жила далеко не уединенно в своей вилле, на берегу Тибра. Для того, чтобы заслужить расположение диктатора, чтобы вызвать его на большую откровенность, цезарианцы пересиливали свои антипатии к Клеопатре и довольно часто посещали прекрасную царицу. Этот египетский двор, перенесенный на берега Тибра, посещали Марк-Антоний, Долабелла, Лепид, бывший в ту пору начальником кавалерии, Оппий Курион, Корнелий Балбус, Гельвий Цинна, Маций, претор Вендид и Требон. Между сторонниками Цезаря, было также несколько тайных его врагов, напр. Аттик, крупный золотопромышленник, имевший дела с Египтом, и несколько из его явных врагов, таких, как Цицерон.
Примирившись с Цезарем, Цицерон не оставлял своей любимой страсти к книгам и всевозможным редкостям. Завзятый коллекционер, он надеялся обогатить свою библиотеку в Тускулуме, не прибегая к расходам. Он попросил Клеопатру, чтобы она выписала из Александрии несколько греческих манускриптов и египетских древностей. Царица охотно обещалась исполнить его просьбу и поручила ее исполнение одному из своих офицеров, Аммонию, который, еще будучи послом при Птолемее Авлете, познакомился в Риме с Цицероном. Но, по забывчивости или по нерадению, манускрипты и редкости не прибывали. Цицерон так рассердился за это на Клеопатру, что позже как-то писал Аттику: "Я ненавижу царицу (odi reginam)", мотивируя это тем, что Клеопатра не сдержала своего царского слова. Прежний консул, кроме того, должен был выслушать грубость от Сарапиона, одного из офицеров Клеопатры. Сарапион вошел однажды в Цицерону и когда тот спросил его, что ему угодно, грубо ответил:– "Я ищу Аттика" – и тотчас же вышел.
Убийство Цезаря, как громом, поразившее Клеопатру, разбило все ее надежды, если, имея только двадцать пять лет от роду, можно их потерять. Со смертью Цезаря, Клеопатре больше нечего было делать в Риме и она даже чувствовала себя не вполне безопасно в этом враждебном городе. Она приготовилась к отъезду. Но Антоний задумал наследником Цезаря назначить не Октавия, а маленького Цезариона, и Клеопатра осталась в Риме до средины апреля месяца. Когда, однако, Клеопатра убедилась в том, что этот проект осуществиться не может, она поспешила уехать из этого города, где встречала только злобу и презрение. Она покинула Рим с возраставшей злобой в сердце.
IV
Клеопатра вернулась в Александрию совершенно добровольно. Но неизбежная междоусобная война между цезарианцами и республиканцами поставила ее в затруднительное положение, и ее царское достоинство пошатнулось. Клеопатра была в союзе с римлянами и не могла оставаться нейтральной в этой борьбе. Царица преклонялась перед триумвирами. В Риме она принимала у себя приверженцев Цезаря, но нет сомнения в том, что союз с Антонием говорил в пользу сына ее больше из политических мотивов, чем по дружбе к ней. С другой стороны, если триумвиры владели Западом, то их противники вскоре должны были овладеть Востоком. Они прямо угрожали Египту. В начале борьбы, Кассий, завоевавший с восемью легионами Сирию, просил Клеопатру выслать ему подкрепление. Почти в то же самое время один из лейтенантов Антония, Долабелла, осажденный в Лаодицее, обратился к царице Египта с подобной же просьбой.
Кассия считали в ту пору победителем, Долабелла же, напротив, находился в затруднительном положении. Осторожность предписывала подать помощь Кассию, тем не менее, Клеопатра осталась верной цезарианцам. Царица дала приказание, чтобы в Лаодицею, на помощь Долабелле, отправились четыре легиона, оставленные еще Цезарем в Александрии, и два легиона, составленные из прежних солдат Габиниуса. Начальство над этим войском принял на себя посланный Долабеллы – Аллиэн. В Сирии Аллиэн наткнулся на войска Кассия, и неизвестно, произошла ли тут преднамеренная измена, или вследствие малодушия, Аллиэн присоединил свои войска к войскам неприятеля, против которого был послан. Только одна египетская эскадра, которую Клеопатра послала в Лаодицею, действительно прибыла к лейтенанту Антония.
Вскоре после отъезда легионов, в 43 году, внезапно скончался молодой Птолемей. Некоторые обвиняли Клеопатру в том, что она его отравила. Нельзя сказать, чтобы были какия-нибудь доказательства, подтверждающие справедливость этого подозрения, тем не менее, в нем нет ничего невозможного. Очень может быть, что отпустив легионы в Лаодицею и оставшись, следовательно, без верной защиты, Клеопатра могла опасаться возмущения и провозглашения царем ее брата. Шесть лет тому назад был именно такой случай с ее другим братом, и Клеопатре тогда пришлось спасаться бегством. По смерти Птолемея XIII, царица разделила свой престол со своим сыном, Птолемеем Цезарионом, которому в то время было четыре года.
По дороге в Каир расположилась египетская эскадра. Кассий отдал приказание наварху [начальник флота] Сарапиону разбить республиканский флот. Сарапион исполнил приказание, не считая даже нужным довести об этом до сведения царицы. Но Кассий не удовольствовался четырьмя легионами и эскадроq, посланными ему Клеопатроq, и попросил царицу выслать ему в подкрепление еще солдат, кораблей, а также провианту и денег. Клеопатра заподозрила в этом измену и, во всяком случае, опасаясь остаться без войска совершенно беззащитной, а потому решила повременить. Она велела выразить Кассию свое сожаление в том, что не может тотчас же оказать ему помощи, так как Египет разорен чумою и голодом. Но на самом деле Египет не был разорен этими бедствиями, и Клеопатра сослалась на них только для того, чтобы мотивировать свой отказ Кассию; в это же время она снарядила новый флот, для оказания помощи триумвирам. Однако, дипломатия Клеопатры не обманула Кассия, и он решил захватить Египет. Когда он уже отправил туда свои войска, Брут вызвал его в Македонию. Тогда Клеопатра послала свой флот на помощь цезарианцам, но на пути он был совершенно уничтожен бурей. Клеопатру преследовал злой рок. Несмотря на то, что она прилагала все свои усилия для того, чтобы помочь триумвирам, ей не удалось оказать им почти никакой помощи; напротив, посланными ею подкреплениями воспользовались республиканцы, желавшие отомстить ей за то, что она помогала их противникам.
Сражение при Филиппах избавило Клеопатру от каких-либо претензий со стороны республиканцев; но ей надо было опасаться, что триумвиры могут обвинить ее в измене. После победы над Брутом, Антоний обошел Грецию и Малую Азию для того, чтобы собрать подати. Везде он был принимаем, как властелин. Города и цари соперничали в низкольстивых выражениях, всячески чествовали его для того, чтобы оправдаться в оказанной ими поддержке побежденной стороне. В Афинах, Мегарах, Эфесе, в Магнезии, в Тарсе его встречали посольства и правители. Для того, чтобы сохранить за своим царством некоторую quasi-автономию, все мелкие правителя Малой Азии поспешили подучить от могущественного триумвира новую инвеституру. Только Клеопатра оставалась в Египте и не отправила от себя послов, неизвестно, по причине ли своей царской надменности, гордости, или по соображениям чисто женским. Она, казалось, прикидывалась, будто не знает, что победа при Филиппах сделала Антония властелином Востока.
Молчание Клеопатры удивило и раздражило Антония, но в нем заговорило не одно только оскорбленное самолюбие. Когда он еще командовал кавалерией Габиния, он увидал в первый раз Клеопатру; ей было тогда пятнадцать лет. В год смерти Цезаря он снова увидел царицу. Если даже не верить Аппиенну, что Антоний был уже влюблен в египетскую царицу, все же можно предполагать, что красота и обаяние Клеопатры произвели на него глубокое впечатление. Он, конечно, помнил Нильскую сирену и, принимая визиты царей, с особым нетерпением ожидал ее появления. Но ожидания его были тщетны. Положение Антония в ту пору было таково, что все, что бы он ни сказал – исполнялось беспрекословно. Он велел передать Клеопатре, чтобы она приехала в Тарс оправдать перед трибуналом свое странное поведение во время междоусобной войны. Антоний заранее предвкушал удовольствие насладиться своею жестокостью: прекрасная Клеопатра, единодержавная царица Египта, у ног которой он видел божественного Юлия Цезаря, эта женщина предстанет пред ним в качестве обвиняемой.
Поручение это Клеопатре должен был передать один из приближенных Антония – Квинт Деллий. Этот Деллий, под личиною любезности, интриговал и постепенно возбуждал друг против друга все партии. Его называли зачинщиком междоусобных войн – desultor bellerum civilium.
Впоследствии он умер другом Горация, посвятившего ему оду, и другом Августа, который его обогатил. Теперь он решил подслужиться Клеопатре для того, чтобы приобрести благосклонность Антония. В первую же аудиенцию, которую назначила ему прекрасная царица, он понял причину страсти Цезаря и предчувствовал, что и Антоний увлекается ею. Деллий был уверен в том, что Клеопатре достаточно предстать пред триумвиром для того, чтобы пленить его, а потому, со свойственною ему хитростью, решил приобрести расположение царицы, с целью воспользоваться им впоследствии. Поэтому, из посланника Антония он превратился в ярого поклонника Клеопатры, из доверенного лица – в посредника. Он посоветовал царице идти как можно скорее в Киликию, уверяя, что суровый Фарсальский и Филипиийский солдат (Антоний) вовсе не такой неприступный, каким представляется с первого взгляда. "Никогда Антоний, – говорил Деллий, – не решится вызвать слезы на таких прекрасных глазах, никогда он тебе не причинит ни малейшего горя, а, напротив, исполнит все твои желания". Деллию удалось убедить Клеопатру без особого труда, что и понятно: его слова открывали перед нею снова ту заманчивую перспективу, которая уже раз осуществилась для нее, когда она была содержанкой Цезаря. Существует даже, хотя и довольно невероятное, мнение, будто Деллию не только удалось убедить Клеопатру, но и попользоваться её любовью. Как бы то ни было, но Клеопатра послушалась его советов и решила поехать в Тарс. Но для того, чтобы придать большее значение своему решению, она опасалась обнаружить поспешность; под различными предлогами, она довольно долго откладывала свой отъезд, несмотря на увещания Деллия спешить и на то, что Антоний посылал к ней одного посла за другим.
В один прекрасный день, когда Антоний восседал на трибунале, на площади в Тарсе, и чинил суд, произошло шумное волнение народа на берегу Цидна. Киликианцы, такие же льстецы, как греки, стали говорить, что это сама Афродита приехала для благополучия Азии нанести визит Вакху. Антоний любил, когда упоминали имя Вакха. Но внезапно толпа, спешившая на площадь к трибуналу, повалила на набережную и покинула Антония, посреди пустынной площади, одного со своими ликторами. Сначала чувство собственного достоинства побудило его остаться, хотя он был так взволнован, что с трудом только заставлял себя сидеть на своем кресле; но, наконец, любопытство пересилило. Не привыкший, вообще, сдерживать себя, он отправился туда, куда хлынула толпа. Он не жалел, что пошел смотреть на представившуюся ему картину: это было божественное видение, переносившее каждого во времена мифологические. Клеопатра на раззолоченном корабле, с развевающимися пурпуровыми парусами, поднималась вверх по Цидну и приближалась к Тарсу. Серебряные весла мерно поднимались и опускались, ровно отбивая такт, под звуки греческих лир и египетских самбуков. Царица, богиня, Клеопатра полулежала под шатром, вышитым золотом, и предстала глазам такою, какою живописцы привыкли изображать Афродиту – Клеопатру окружали, подобно амурам, голые дети и полуодетые прекрасные молодые девушки, напоминающие граций и морских нимф; они держали гирлянды из роз и цветов лотоса и махали громадными веерами из перьев ибиса. В передней части корабля расположились группы других нереид, также достойных кисти Апеллеса. Амуры, расположенные на мачтах и снастях, производили впечатление, точно валятся с неба. Ладон и индийский нард [увечная трава], которые жгли невольники, распространяли вокруг корабля целое облако благоухания.
Антоний тотчас же послал к Клеопатре своего гонца, с просьбой отужинать с ним в тот же вечер. Клеопатра придавала большее значение своему титулу богини, чем царицы (да притом "царица Египта" не много значила перед триумвиром), и ответила, что сама приглашает Антония к своему ужину. Антоний не имел никаких оснований отказаться от приглашения и к назначенному часу отправился во дворец Клеопатры. Этот дворец приводился в порядок уже несколько дней, по ее секретному приказанию, и был устроен с замечательною роскошью. Зал, предназначенный для пиршества, был роскошно убран, изящно украшен и ярко освещен многочисленными громадными люстрами. Обеденный стол, со вкусом декорированный, отличался разнообразием нектаров и вин, разлитых в массивные золотые кубки; самые редкие яства и блюда были мастерски приготовлены искусным поваром. Антоний был большой гастроном и три месяца тому назад подарил своему повару целый дом за вкусно приготовленное блюдо. Но он отдал бы повару Клеопатры целый город, до того хорошо кормили его на этом ужине. Что же касается самой прекрасной египтянки, то за нее он охотно отдал бы весь мир. На следующий день Антоний пригласил Клеопатру к своему ужину. Не жалея денег, он надеялся превзойти своим угощением прекрасный ужин во дворце Клеопатры. Но он сейчас же убедился в своей несостоятельности бороться с египтянкой на почве кулинарного искусства и, как человек умный, шутя сознался Клеопатре в своей скупости и в том, что у него грубый вкус.
По всей вероятности, во время этих двух пиршеств Антонию и в голову не приходило говорить о жалобах и претензиях римлян на Клеопатру. Он, казалось, забыл также, что требовал царицу Египта к своему трибуналу в качестве обвиняемой. Обвиняемым признал бы себя теперь сам Антоний, вздумай только Клеопатра отказаться от него. С этих пор приказывать стала царица. Самый сильный, могущественный из триумвиров сделался "рабом прекрасной египтянки", как выразился Дион Кассий.
Клеопатра воспользовалась своим влиянием на Антония и первым долгом заставила признать своего сына от Цезаря, Птолемея-Цезариона, законным наследником египетской короны. Декрет Антония был, по ее просьбе, тотчас же утвержден его коллегами, Октавием и Лепидом. Антоний старался мотивировать эту милость, оказанную им Клеопатре, тем, что египетская царица, якобы, оказала римлянам немаловажные услуги во время междоусобной войны. Удовлетворив честолюбие египтянки, Антоний без всяких околичностей решился привести в исполнение все ее планы. Клеопатра, как большинство женщин, была нрава мстительного. Сестра ее, Арсиноэ, покинула Рим, где она была еще во время чествования Цезаря, и теперь жила в Милете. Клеопатра, вероятно, опасалась, чтобы сестра не произвела какого-либо возмущения в Египте; царица заметила еще во время александрийской войны, что Арсиноэ, несмотря на свою молодость, интриганка и очень честолюбива:
Или по этой причине, или просто Клеопатра хотела отомстить сестре за ее прошлое поведение, но царица упросила Антония убить Арсиноэ. Антоний не смог отказать своей прекрасной повелительнице, и несчастная Арсиноэ была задушена в храме Артемия Левкофринского, куда она спряталась для того, чтобы избегнуть преследовавших ее клевретов Антония. Потом был арестован один египтянин, сосланный в Малую Азию и выдававший себя там за Птолемея XII, который, как мы уже знаем, потонул в Ниле. Неизвестно, по какой причине Клеопатра велела его засадить в большой храм Эфеса, Мегабиз. По желанию Клеопатры, его арестовал Антоний. Его не убили только благодаря вмешательству магистратов города. В то же самое время, по приказанию Антония, был обезглавлен Сарапион, старый командир египетской эскадры в Кипре. Этою казнью Клеопатра была отомщена за измену наварха во время александрийской войны, а Антоний за то, что Сарапион помогал Кассию.
В то время, как Клеопатра, летом 41 года, прибыла в Тарс, Антоний собирался идти на Парты. По истечении месяца, войска были собраны и готовы идти в поход; ничто не задерживало больше Антония выступить. Но этот месяц Антоний провел с Клеопатрою и не заметил, как он прошел: так быстро летело для него время с прекрасною царицей. Антоний забыл всякое благоразумие и вполне отдался своей страсти, а потому отложил свой поход до весны, а сам последовал за Клеопатрой в Египет.
Тогда началась эта разгульная, распутная жизнь, эти роскошные пиры и бесконечные оргии, о которых римляне рассказывали даже во времена Нерона и Гелиогабала, несмотря на всю их испорченность и пресыщенность, как о чем-то неподражаемом. Οὶ Ἀμιμητοβίοι, то есть: те, жизнь которых неподражаема – вот как называли Клеопатру, Антония и их приближенных, участвовавших на этих пиршествах. Плутарх и Дион пишут, что празднества следовали за празднествами, пиры и оргии сменялись поездками на охоту и прогулками по Нилу. Клеопатра ни на минуту не покидала Антония. Она пила и играла с ним, она ездила с ним на охоту, присутствовала на маневрах, когда случайно Антонию, от скуки, приходило в голову заставить маневрировать свои легионы. Далее, Плутарх и Дион сообщают, что Клеопатра изощрялась выдумывать все новые, оригинальные увеселения и самые разнообразные развлечения. Но язык наш слишком беден и прозрачен для того чтобы передать словами, описать эти роскошные пиры и грандиозные оргии Несравнимых. Только Плиний очертил их более или менее символической легендой о жемчужине, хотя, быть может, этот раcсказ не более, как плод его воображения. Вот что рассказывает Плиний. Во время одного пира Антоний пришел в восхищение от окружавшей его роскоши и разнообразия блюд и вин; он заявил, что роскошнее этого пира ничего не может себе представить. Клеопатра, для которой, казалось, не было ничего невозможного, заявила, что она считает это пиршество ничего не стоющим и предложила Антонию держать с ней пари на то, что завтра она даст пир, который обойдется ей в десять миллионов сестерций (два миллиона сто тысяч франков). Антоний принял пари. На следующий день, однако, пир ничем не отличался от вчерашнего и Антоний с удивлением воскликнул: – "Клянусь Вакхом, на все это не истрачено десяти миллионов сестерций!" – «Я это знаю, – спокойно ответила на это Клеопатра, – но все то, что ты видишь, составляет не более, как аксессуары, я сама выпью эти десять миллионов сестерций». Сказав это, Клеопатра вынимает из своей серьги громадную жемчужину, замечательной красоты, и бросает ее в золотой кубок, в котором на дне было немного уксуса, и залпом выпила его, проглотив и жемчужину. Потом она хотела таким же образом проглотить и вторую жемчужину, но тогда Л. Планк, посредник этого знаменитого пари, остановил Клеопатру.
Для того, чтобы составить себе хотя бы только слабое, приблизительное понятие об образе жизни Несравнимых, Клеопатры и Антония, надо по частям представить себе сначала всю роскошь обстановки, потом вообразить себе в ней целую толпу рабов, прекрасных женщин, танцовщиц, акробатов, актеров и проч.
Надо представить, себе самые драгоценные камни, мраморы, граниты, лабрадоры, кедровое и черное дерево, порфиры и базальты, агат, ляпис-лазурь, бронзу и серебро, алмазы и золото. Надо вообразить себе могучую египетскую архитектуру и прекрасную легкую архитектуру Греции, надо вспомнить о храме Зевса Олимпийского, павильоне Рамзеса и развалинах Аполлона Великого. Надо представить себе царские дворцы Александрии, занимавшие треть города, с их террасами и висячими садами; аллеи, украшенные сфинксами, обелисками, громадными пропилеями, необъятные залы длиною в триста и шириною в полтораста шагов, с двойным рядом колонн, высотою в двадцать метров и в десять метров в окружности, заросшие цветами лотоса. Надо вспомнить эти длинные галереи с картинами Зевксиса, Апеллеса и Протогена, гимназиумы, театры, ипподромы, триклинии, с кроватями украшенными серебром и коврами. Представим себе еще роскошные тенистые сады, где цветут розы, сирень, жимолость, населим их целою толпою рабов, игроков на самбуках [Инструмент в роде арфы.], танцовщицами, акробатами, мимами, гимнастами и укротителями змей. Представим себе столы, заставленные самыми разнообразными блюдами и яствами: устрицами из Тарента, жаренными фламинго с их красивыми розовыми перьями, фазанами, лебедями, утками, зайцами, громадными трюфелями величиною с губку, о которых говорили, будто они падают с неба на подобие аэролитов, пироги с медом, роскошныt фрукты из Средиземноморского бассейна. На холоду поставлены разнообразные вина:– и старое цекубское, и двадцатилетнее фалернское, и флионтское, Хиосское вино и крепкое вино Лесбоса и сладкое из Митилена, и саприас с вкусом фиалки и фазос, "пробуждающее охладевшую любовь". Представим себе, что в этих роскошных залах горят тысячи огней, зажжена масса люстр, бьют громадные фонтаны холодной воды для того, чтобы освежить воздух; поют хоры певиц под аккомпанемент арф и цитр и под эту музыку танцуют девушки без всякой одежды, только с золотыми браслетами на руках и ногах. Танцы сменяются различными представлениями, идут комедии, фарсы с мимикой, упражнения жонглеров и акробатов и фантасмагории магов; на ипподроме происходят скачки на колесницах и борьба львов; даются маскарады, где вокруг золотых статуй Вакха и Киприды, пляшут пятьсот сатиров и тысяча амуров и восемьсот прелестных рабынь. переодетых нимфами. Если мы представим себе, что может сделать чувственная и прекрасная женщина, окруженная азиатскою роскошью, величием Египта, изяществом и испорченностью Греции и силою римлян, то мы будем иметь некоторое, хотя и слабое, бледное, понятие о том, какова была "неподражаемая" жизнь, которую вели Антоний и Клеопатра.
Иногда же Антоний и Клеопатра развлекались совершенно грубыми шутками. Она переодевалась служанкою таверны, он – солдатом или матросом, и в таких костюмах любовники ходили по ночам по улицам Александрии, стучали в двери, нападали на запоздавших проходящих, входили в кабачки и ругались с пьяницами. К большому удовольствию Антония эти столкновения обыкновенно кончались потасовкою, однако, несмотря на его силу и ловкость, он не всегда выходил победителем из этих побоищ, причем попадало и Клеопатре. Но любовники не смущались этим и веселые и довольные возвращались в свой дворец с намерением следующую ночь возобновить свои приключения. Хотя Антоний и Клеопатра скрывали эти прогулки, но их тайна вскоре обнаружилась; тем не менее, им иногда приходилось быть побитыми.
Эти мальчишеские выходки, однако, нисколько не возбудили александрийцев против триумвира, как это можно было ожидать. Правда, они перестали его уважать, но за то любили его за его простой и веселый нрав и говорили: "Антоний придает перед римлянами лицу трагическое выражение, но здесь, у нас, лицо его скорее напоминает комика". Приближенные и офицеры Антония вели такую же праздную, полную роскоши жизнь и, конечно, не были нисколько в претензии за триумвира. Они все находились под обаянием Клеопатры, они влюблялись в нее, обожали ее, любовались ею, страдали от ее жестокого сарказма; они даже не возмущались, если во время пира, она по знаку Антония, вставала и исчезала вместе с ним из зала и через несколько времени снова возвращалась и занимала свое место на своем ложе в столовой. Они лезли из кожи, чтобы понравиться ей, вызвать у нее улыбку одобрения. Всякий добивался заслужить название: humilillimus assentator reginae (что означаетъ: наипокорнейший слуга царицы). Чтобы заслужить улыбку Клеопатры, они готовы были забыть даже свое собственное достоинство. Так, Плутарх рассказывает, что консул Л. Планк, танцевал перед Клеопатрою танец Главка в следующем виде: совершенно обнаженное тело его было выкрашено в голубой цвет, голова украшена венком из белых роз и хвост рыбы привязан к спине.
Перед Юлием Цезарем Клеопатра играла роль коронованной Аспазии, всегда очаровательной, но умевшей соединять достоинство царицы с ласками любовницы. Куртизанка в ней скрывалась под личиною царицы; Клеопатра отличалась замечательно ровным нравом, всегда была одинаково весела, довольна, выражалась самым изысканным слогом, была остроумна, беседовала о политике, искусстве, литературе; она развивала свои разнообразные способности для того, чтобы достигнуть степени умственного развития Цезаря. С Антонием же Клеопатра сначала по расчету, а потом по любви, разыгрывала роль Лаиды, рожденной на престоле. Она вскоре заметила, что вкусы у Антония грубые, что человек он наглый, любит пошлые шутки и говорит обо всем прямо, нисколько не стесняясь присутствующих. Клеопатра подметила всё это и стала петь в унисон. Она не отставала от любившего выпить Антония и пьянствовала наравне с ним целые ночи, вплоть до утра. Она сопровождала его по ночам по самым глухим, сомнительным улицам Ракотиса, в старом квартале Александрии. Она рассказывала циничные истории, пела эротические песни, декламировала скабрезные стихи. Она затевала со своим любовником ссоры, доходившие до того, что Антоний ее бил, но и она не оставалась в долгу и возвращала ему удары. Ничего не забавляло так Антония как видеть, когда ее маленькая рука била и трепала его и слышать из ее божественного рта, слова и ругательства, которые ему приходилась слышать только у сторожей Эсквилинских ворот и в Субурских трущобах.
V
Зимою 39 года обстоятельства войны при Перузах сложились таким образом, что Антонию надо было ехать в Италию. Эту войну затеяла жена его Фульвия из честолюбия, из желания отомстил за прошлое Октавию и, как говорит Плутарх, из ревности. Она надеялась, что эти волнения заставят Антония расстаться с Клеопатрой и приехать в Рим. Антоний действительно шел к Брундизию с двумястами кораблей. Но могущество Октавия в ту пору достигло высокой степени, соперники его все были сосланы и сама Фульвия обратилась в бегство и потом умерла и не видала более мужа. Антоний узнал об ее смерти во время своего проезда через Сицилию. Это обстоятельство благоприятствовало миру, так как не Антоний затеял войну при Перузах, а жена его Фульвия и тесть Антония. Когда умерла Фульвия, то между Октавием и Антонием уже нетрудно было устроить примирение. Нерва, Коккей, Поллион и Мецен устроили им свидание в Брундизии. На этом свидании они пришли к взаимному соглашению и решили поделить между собою империю следующим образом: Октавий взял западную часть вплоть до Адриатического моря, Антоний же получил Восток, Лепид же должен был довольствоваться римскими владениями в Африке.
В Риме после постоянных недавних кровопролитий ничего так не желали, как мира, а потому остались вполне довольными сделанным в Брундизии соглашением. Чтобы однако упрочить его, друзья триумвиров решили связать их между собою родственными узами. Первым долгом решили женить Антония, только что потерявшего свою жену Фульвию. Женить его хотели на Октавии, сестре Октавия и вдове Маркелла. Эта знатная женщина, считавшаяся большой красавицей, отличалась редкими качествами ума и была уверена в своей победе над Антонием; она надеялась своим браком установить прочные дружеские отношения между Антонием и своим братом для пользы их и государства. Октавий одобрил этот проект и Антоний, несмотря на свою любовь к Клеопатре, из политических соображений, не счел возможным отказаться от Октавия. Свадьбу праздновали без конца. Хотя по закону вдова имела право выйти замуж только через десять месяцев после смерти мужа, но для сестры Октавия сенат сделал исключение и разрешил брак раньше законного срока.
Антоний пробыл в Риме почти весь 39-й год. Он жил в полном согласии с Октавием и занимался вместе с ним управлением государством. Но пользуясь одинаковыми правами и почестями с Октавием, он все-таки чувствовал, что в Риме занимает второе место. Его гордость старого солдата, испытанного воина, лейтенанта Цезаря при Фарсалах и главнокомандующего под Филиппами была оскорблена этими явными преимуществами совершенно юного Октавия. В ту пору один знатный египтянин, посланный Клеопатрой в Рим, еще более укрепил в Антонии его мрачные мысли и подозрения. "Твой ум, говорил египтянин, смущает ум Октавия. Гордый и сильный, когда тебя нет, он теряет все свое значение, когда появляешься ты. Здесь звезда твоя меркнет, между тем как на Востоке она блестит ярко и сильно". Новое нападение парфян подало Антонию повод уехать из Рима. Он взял с собою Октавию и сначала остановился в Афинах, где провел всю зиму 38—39 года и забыл там не только парфян, которых побеждал лейтенант его Бентид, но даже Александрию и свою "неподражаемую" жизнь с Клеопатрою. По всей вероятности он не любил свою новую жену, прекрасную Октавию, так сильно, как любил Клеопатру, но все же питал к ней нежные чувства. Насколько Антоний был силен физически и храбр, настолько же имел слабую волю и легко подпадал под влияние женщины. Сначала он подчинялся своей первой жене Фульвии, потом очутился под башмаком Клеопатры, теперь поддался обаянию прекрасной Октавии.
В конце зимы он отправился в поход в Сирию против Антиоха, но вскоре вернулся опять в Афины, где провел два года. В 36 году снова произошло столкновение между Антонием и Октавием; поводом к нему послужила экспедиция против пиратов, предпринятая Октавием; он просил Антония выслать ему подкрепление, но тот отказал ему и тогда междоусобная война стала неизбежной. Антоний снарядил в Италию триста военных судов, Октавий со своей стороны собрал свои легионы. В надежде предупредить эту крайне нежелательную войну, Октавия просила Антония взять ее с собою в Италию. Так как вход в Брундузийскую гавань был закрыт, то флоту Антония пришлось пристать в Таренте. Октавия предупредили об этом, а потому он форсированным маршем отправил свои легионы к этому городу. Октавия хотела одна выйти на берег. Она направилась по дороге в Венузы, переходя через укрепления и аванпосты римлян и нашла своего брата в сопровождении Агриппа и Мецена. Она с жаром отстаивала невинность Антония и заклинала Октавия не делать ее несчастною.– "В этот момент, – говорила она, – все глаза обращены на меня, как на жену одного из триумвиров и сестру другого. Если злоба заведет вас с братом далеко, если война объявится, то остается сомнительным, кто из вас окажется победителем; но одно несомненно, что каков бы ни был исход войны, я буду неутешна и несчастна". Октавий поддался просьбам и увещеваниям сестры и таким образом эта женщина второй раз подарила римлянам мир.
Оба триумвира встретились на набережной Тарента и после взаимных уверений в своем уважении, они возобновили триумвират снова на пять лет. Октавий дал Антонию два легиона для укрепления его войска на Востоке, а Антоний уступил Октавию для его флота на Средиземном море сто трехбаночных галер с парусами и двадцать либурн [Род легких маневренных судов. – прим. ред.]. Этим кораблям пришлось позже одержать победу при Акциуме! Из Тарента Октавия возвратилась в Рим одна, без Антония, только с своими двумя детьми. Антоний же сам уехал в Малую Азию, куда призывала его война с парфянами. Супруги решили по окончании войны съехаться вновь либо в Афинах, либо в Риме, где Антоний рассчитывал на встречу с триумфом.
Начиная с зимы 39-го и до лета 36-го года, то есть три долгих года, Клеопатра была разлучена с Антонием. Она царствовала над Египтом и Кипром, воспитывала сына Птолемея-Цезариона и двух других от Антония, у нее были громадные доходы и неистощимые богатства; но она с трудом переносила разлуку с Антонием; любовь и оскорбленная гордость не давали ей покоя. Двадцатилетняя Клеопатра не любила Цезаря, которому было уже пятьдесят лет. Она любила Антония. Сначала она отдалась триумвиру по расчету, но вскоре почувствовала к этому красивому, суровому воину, сильному как Геркулес, такую же страстную любовь, какую сама в нем возбудила. Если древние авторы нам прямо не говорят, что Клеопатра любила Антония, то об этом говорят многие факты, о которых они рассказывают, сцены, ими описанные. При том наружность Антония могла возбудить сильную любовь всякой женщины: он был высокого роста, прекрасно сложен, имел широкую грудь, густые, вьющиеся черные волосы, вдумчивые суровые глаза, орлиный нос и выразительные черты лица. Первая жена его, Фульвия, страстно его любила, вторая, Октавия любила так, как только может любить женщина, наконец, Клеопатра дарила его своею любовью. Все это утверждал еще Шекспир, а мнение этого замечательного знатока человеческого сердца может считаться не менее решающим, чем мнение какого-нибудь Диона Кассия или Павла Ороза.
Но как бы сильно Клеопатра не скучала по Антонию, мы все-таки не можем себе представить ее скорбящей и плачущей в уединении своего дворца. По всей вероятности, царица продолжала свою жизнь среди роскоши и веселия, предаваясь развлечениям все время, свободное от официальных церемоний, публичных приемов, совещаний по делам государства и советов с архитекторами и инженерами. Как все Птолемеи, последняя из Лагидов занималась украшением своего царства. Тифоний в Дендерах был построен в царствование Клеопатры. При ней же производилась постройка большого храма в Дендерах, храмов в Эдфу, Гермонее, Коптах и монументов в Фивах, на левом берегу Нила.
Клеопатра ни разу не писала Антонию, вероятно, желая играть роль равнодушной; хотя более вероятно, как объясняет Плутарх и доказывает Шекспир, что она в течении этих трех лет имела новые увлеченья. Если верить историку Иосифу, чувственная натура Клеопатры постоянно требовала мимолетных любовных связей. Кроме известных историкам пяти любовников ее, у нее, наверно, было не мало неизвестных, тайных, не попавших в летописи. Эти известные пять любовников Клеопатры были: Гней Помпей, Юлий Цезарь, Квинт Деллий, Антоний и Герод, царь Израильтянский. Правда ли, что у нее было еще кроме того много разнообразных связей и анонимных знакомств? Как бы то ни было, но если историк Иосиф и прав, то это еще не доказывает, что Клеопатра разлюбила Антония.
Что касается Антония, то он, по-видимому, забыл Клеопатру. В эти три года он постоянно жил с Октавией то в Афинах, то в Риме, потом, по возвращении из своего похода против Антиоха Коммагенского, он ни разу не посещал Египта; мало того, когда он плавал от Тарента в Лаодицею, он даже не подумал заехать на несколько дней в Александрию, хотя это было по дороге. Он поплыл прямо в Сирию. Но по какой-то непонятной причине, как только он ступил на берег Азии, он почувствовал, что любовь его к Клеопатре снова вспыхнула с прежней силой. Он расквартировал свои войска в Лаодицее и послал своего друга Фонтея Капито в Египет с поручением пригласить Клеопатру к нему. Царица не стала медлить отъездом, как пять лет тому назад, с целью этим еще более разжечь страсть Антония. Напротив, она тотчас же собралась в путь и прибыла в Лаодицею, где Антоний ее принял с неподдельною радостью.
Но не одними поцелуями доказывал он ей свою радость: он подарил ей Халциду, Финикию и большую часть Киликии, Иудейскую провинцию Геннисарет и Набафенскую Аравию. Антоний, собственно, не имел никакого права распоряжаться этими территориями, принадлежавшими римлянам. Но гордость и любовь лишили его всякого благоразумия и он говорил, что "величие Рима не столько выражается его победами и владениями, сколько своими подарками".
Через несколько дней однако Антонию пришлось расстаться с Клеопатрою, при чем они условились свидеться весною в Александрии. Антоний со своим войском направился в Армению, Клеопатра же вернулась в Египет, проехав через Апамею, Дамас и Петру; с иудейскими и аравийскими царями она хотела условиться на счет размера податей, которые они должны ей платить с территорий, полученных ею в подарок от Антония. Царь Аравии обещал платить по триста талантов, что составляет около ста шестидесяти тысяч франков, иудейский же царь назначил гораздо больший размер подати. В ту пору в Иудее царствовал Герод, всего несколько лет тому назад избранный царем; он отправился на встречу Клеопатре в Дамас. Согласно Плутарху, Герод отличался замечательной красотой. Он отклонил далеко нецеломудренные заигрывания царицы и даже предполагал убить ее, пока это было в его власти, для того чтобы освободить Антония от влияния этой женщины. Но его приближенные и советники отсоветовали ему убивать Клеопатру, доказывая, что первым долгом он подвергнется страшной мести триумвира.
Через несколько дней по возвращении Клеопатры в Александрию она получила письмо от Антония из Левкокома (город в Сирии), в котором он просил ее приехать как можно скорей и привести с собою денег, провианта и одежды для его солдат. Война эта была несчастна. Антоний думал только о том, как бы ему свидеться весною с Клеопатрою, от чего пострадал успех компании. Когда он прибыл в Армению, ему бы следовало, после перехода в восемь тысяч стадий, сделать зимнюю стоянку и начать военные действия только весной, дав войскам отдохнуть и собраться с силами. Но у него не хватило терпения ждать и он поспешил в поход, оставив все свои осадные орудия под охраной одного только отряда. Колесницы, башни, катапульты (камнеметательные орудия), все это было разрушено парфянской кавалерией. Вследствие этих потерь Антоний безуспешно атаковал город Фраата. Опасаясь превосходства сил неприятеля, он должен был отступить. Как раз была середина зимы и легионерам приходилось идти по глубокому снегу в метель и вьюгу. Каждое утро после ночлега оказывалось несколько человек замерзших. В провианте сказывался недостаток, дороги были незнакомы и сильная кавалерия парфян утомляла легионы своими частыми нападениями. Во время этого печального отступления, о котором не мешало бы вспомнит Наполеону, прежде чем переходить Неман, Антоний не терял своей энергии и обнаружил качества, достойные всякого полководца: он, казалось, не чувствовал ни голода, ни усталости и в одно и тоже время был императором и центурионом (сотником, командующим сотней). Он всегда находился в самых опасных местах сражения и в двадцать семь дней дал парфянам восемнадцать сражений. Сегодня он был победителем, но завтра приходилось возобновлять бой с неприятелем, силы которого постоянно обновлялись. В то время как Антоний завоевывал часть Сирии, войско его из семидесяти тысяч человек, уменьшилось до тридцати восьми.
Хотя Клеопатра и спешила, но Антонию казалось, что она медлит и могла бы приехать скорее. Нетерпение его перешло в беспокойство и ему пришло в голову ужасное предположение, что вдруг Клеопатра ему совсем даже не ответит, как побежденному. Уничтоженный горем, он впал в какое-то бессилие и старался забыться в вине, но ему не удалось этим развлечься. В самый разгар оргии, он внезапно покидал своих собутыльников, отправлялся на берег моря и с беспокойством всматривался в туманную даль, в ту сторону, откуда должна была приехать Клеопатра.
Наконец, с нетерпением ожидаемая прибыла и привезла с собою провиант, одежду для солдат и около двухсот сорока талантов денег. Для раздачи денег легионерам, организации войска и уплаты контрибуции Антонию пришлось провести некоторое время в Левкокоме. Клеопатра все это время оставалась с ним. В это время в Риме уже распространился слух о безуспешности этой компании и Октавия изъявила желание отправиться в Азию, не смотря на то, что брат ее, Октавий, имел жестокость сообщить ей о связи Антония с Клеопатрой. Октавия упросила брата дать ей корабли, войско и денег. До Октавия дошли слухи о преступном увлечении Антония египетской царицей и потому он исполнил просьбу сестры в надежде, что ей удастся убедить мужа расстаться навсегда с Клеопатрой. Чтобы однако не встретиться с Клеопатрой, Октавия остановилась в Афинах и оттуда известила Антония о своем приезде. Но Антоний не захотел расстаться со своей любовницей и написал Октавии, чтобы она оставалась в Афинах, а его не ждала скоро, так как он отправляется в поход против парфян. В это время Мидийский царь, осажденный парфянами, предложил Антонию общими усилиями разбить их. Октавия не смутилась тем, что муж ее не приехал к ней в Афины, она снова написала ему; настоящей причины его отказа она, вероятно, не знала. В этом письме не было никаких намеков или догадок, молодая женщина только спрашивала Антония, куда он велит ей послать войска и провиант, привезенный для него из Рима. Это подкрепление было снабжено всем необходимым фуражом, военными осадными машинами, а пехота, в числе более трех тысяч человек, была вооружена не хуже когорт преторианской стражи. Кроме того Октавия привезла большую сумму денег. Для того чтобы соорудить это подкрепление и достать необходимые деньги, Октавии пришлось продать кое-что из своего собственного имущества. Со вторым письмом к Антонию она послала Нигера. Нигер бывал прежде довольно часто у Антония и пользовался его уважением; он в дружеском разговоре дал ему понять, насколько он неправ перед своей женой, Октавией, этой прекрасной женщиною; он советовал ему, во имя его чести и славы, расстаться навсегда с Клеопатрою.
Этот совет поколебал Антония и он вздумал возвратиться в Медию. Таким образом он мог свидеться с Клеопатрою в Египте, между тем как Октавии он приказал оставаться в Греции. Но Клеопатра с тонким инстинктом любящей женщины читала в сердце Антония и боялась вторично потерять своего любовника. Она стала очаровательнее и нежнее обыкновенного, а когда Антоний стал приготовляться к отъезду в Медию, Клеопатра опасно заболела. Она ничего не ела, лишилась сна и проплакивала целые дни и ночи. Лицо ее побледнело, глаза впали, взор помутнел, она так изменилась в несколько дней, что ее нельзя было узнать. Она сумела упросить своих наперсниц и друзей, а также приближенных триумвира, чтобы они укоряли Антония в бесчувственности. Они даже прямо обвиняли его в том, что он сводит в могилу всеми обожаемую, любимую женщину, которая только живет своею к нему любовью. "Октавия, говорили они, вышла за тебя замуж только в интересах своего брата и пользуется всеми преимуществами законной супруги, между тем как Клеопатра, царица над столькими народами, носит только название твоей любовницы: ἐρωμένην Άντωνίου. Она не отказывается от этого прозвища, не считает его унизительным для себя, напротив – гордится им. Вся ее гордость, все счастье заключается в том, чтобы жить с тобою". Антоний дал себя уговорить, да притом он боялся потерять нежно любимую Клеопатру, опасался, чтобы она не умерла от горя, или не отравилась. Он отложил свою экспедицию в Азию и вернулся с Клеопатрой в Александрию, где снова началась "неподражаемая" жизнь.
В начале 34 года Антоний соединил свои войска в Азии. В несколько дней он разбил армян, захватил в плен их царя со всей семьей и опустошил страну. После этого славного похода Антония в Риме ожидали почести. Но из за своей любви к Клеопатре он не решился уехать и отпраздновал свою победу в Александрии; это был первый случай, что римлянин триумфировал вне Рима. Это было оскорбление столицы, обида Сенату и народу, которые обязательно должны были принимать участие в чествованиях победы.
В Александрии торжество отличалось своею соблазнительностью и великолепием. Весь город был украшен цветами и под звуки рогов и труб маршировали легионеры, за ними шли жрецы, депутаты городов с золотыми коронами, проезжали колесницы, наполненные трофеями, а сзади гнали пленных мужчин и женщин. Перед колесницей триумфатора Антония, запряженной четырьмя белыми конями, шел пешком царь Артавазд, его жена и двое сыновей, закованные в золотые цепи. Когда шествие это приблизилось к Клеопатре, восседавшей на своем престоле, Антоний остановил своих коней и представил царице пленных царей. По окончании религиозных церемоний и военного парада всему александрийскому народу был задан громадный обед. В садах дворца и во многих улицах города были установлены обеденные столы. По окончании пира Антоний посадил Клеопатру на роскошный престол из слоновой кости и золота и сам занял место на совершенно таком же троне. Трубы гремели и войска в полном вооружении окружили престолы обоих любовников. Антонию при этом вздумалось предложить, чтобы отныне Клеопатра именовалась Царицею Царей (Βασίλισσα Βασιλέων), а сын ея Цезарион, наследник знаменитого Юлия, – Царем Царей. Он снова передал им владычество над Египтом и Кипром и объявил народу о том, как думает устроить своих трех детей от Клеопатры. Старшему сыну Александру, которого он назвал Гелиосом, он отдал Армению, Медию и Парфянские земли; дочери Клеопатре, которую он назвал Зеленою – линию, а сыну Птолемею отдал Финикию, Сирию и Киликию. Всякое слово Антония повторялось герольдами (глашатаями), после чего гремели трубы. В тот же день Антоний представил народу и войскам своих державных детей. Александр выступил в Медийской одежде к с персидскою короною, в сопровождении взвода армянских солдат. Птолемей явился во главе македонских наемников, вооруженных восемнадцатифутовыми копьями. Клеопатра сама дала пример этому маскараду. Два года тому, назад, когда Антоний вернулся, покорив Финикию, Халкиду и многия другие страны, Клеопатра официально взяла себе имя Новой Изиды или Новой Богини. С того времени она стала принимать народ не иначе, как в узком платье Изиды, в короне, украшенной головами ястребов и коровьими рогами и лотосовидным скипетром в руке. Следуя своему капризу, Антоний велел изображать себя на картинах и статуях под видом Озириса и Вакха рядом с Клеопатрою – Изидой и Клеопатрою – Зеленою. Казалось, что Антоний был настолько очарован, даже просто заколдован своею любовницей, что отрекался от своей родины. Он принял должность великого гимназиарха Александрии; он захотел чтобы профиль Клеопатры был выгравирован на оборотной стороне римских монет, он осмелился вырезать ее имя на щитах легионеров. Он дозволял, чтобы Клеопатра ездила по Александрии, сидя на стуле из слоновой кости, между тем как он сам, в пурпуровой одежде и вооруженный кривым восточным мечем, сопровождал ее пешком, окруженный египетскими министрами и толпою евнухов.
VI
Свергнув Лепида, Октавий превратил триумвират в дуумвират. Империя была разделена между ним и Антонием. Но гордость Антония не удовлетворялась владычеством на Востоке, также как Октавию казалось недостаточным управлять Западом. Два раза междоусобная война была отложена, но теперь она казалась неминуемой. По своему замечательному благоразумию Октавий и на этот раз старался не доходить до войны, но увлекающийся Антоний напротив непременно желал ее. Он презирал Октавия как полководца и льстецы и солдаты, обожавшие его, предсказывали ему верную победу. Клеопатра до сих пор не забыла гордый, недружелюбный прием, оказанный ей в Риме, а потому кипела местью. Уверенная в военном успехе Антония, она уже клялась, что «будет творить правосудие в Капитолии».
Антоний начал с того, что обвинил Октавия в скрытых угрозах и мстительных замыслах. Сторонники и друзья Антония, которых в Риме было довольно много, а также и посланные из Египта, старались распространять в народе слух об этих мнимых замыслах Октавия. Они говорили, будто Октавий, взяв у Секста Помпея Сицилию, не счел нужным поделить с Антонием свою добычу; мало того, он даже не возвратил ему взятыя у него сто двадцать трехбаночных галер. Он свергнул Лепида и завладел провинциями, легионами и кораблями, предназначенными этому триумвиру. Он роздал своим солдатам почти все земли Италии, не оставив ничего для ветеранов Антония. Затем стали критиковать все письменные распоряжения, сделанные Октавием во время его царствования. Его стали обвинять в том, что он истощал Италию налогами и стремится сделаться единодержавным правителем. Слухи утверждали даже, будто действительный наследник Цезаря не он, Октавий, его племянник, а родной сын его Цезарион; это будто бы выяснилось из найденного недавно духовного завещания диктатора. По свидетельству Диона Кассия Антоний особенно прогневал Октавия тем, что формально признал Цезариона законным сыном Юлия Цезаря.
Между тем Октавий медлил, так как войска его еще не были готовы. Антоний был еще в ту пору очень популярен в Риме, у него там был большой круг знакомства и жена его, Октавия, старалась поддерживать эти разнообразные связи. Несмотря на оскорбление, нанесенное Октавии ее мужем, она оставалась ему верна. Когда она вернулась из Греции, то брат ее Октавий уговаривал ее забыть Антония и выехать из его дома, но она наотрез отказалась последовать этому совету. Она продолжала жить в его роскошном доме и воспитывала детей Антония. Приверженцы Антония и друзья его, посланные из Александрии, были уверены, что найдут в Октавии помощь и поддержку. Она не переставала защищать Антония перед Октавием, стараясь извинить его ошибки и сумасбродства и говорила, что было бы непростительно, если два великих императора затеют междоусобную войну, один, чтобы отомстить за личные оскорбления, другой из-за любви к иностранке.
Девиз Октавия гласит: sat celeriter fieri quidquid fiat eatis bene, т. е. то, что делаешь хорошо – делаешь и достаточно быстро. По-видимому, Октавий склонялся на уверения своей сестры, но если он и не спешил объявлять войну, то это не мешало ему исподволь делать к ней необходимые приготовления. Он главным образом старался возмутить народ рассказами о недостойной жизни Антония в Египте, о его рабском подобострастии перед Клеопатрой. Октавий говорил в Сенате, в народе, перед войском; что Антоний перестал быть римлянином; он полный раб египетской царицы, незаконнорожденной дочери Лагидов. Его родина не Рим, а Александрия, которую он намеревается превратить в столицу империи. Боги, которым он поклоняется – египетские боги, такие как Кнуфис с овечьей головой, Ра с клювом ястреба, лающий Анубис – latrans Anubis. Главными советниками он выбрал себе евнуха Мардиона, Хармиона и Ираз, служанку этой Клеопатры, которой он обещал подарить Рим. Эти россказни внушили римлянам чувство омерзения против Антония, которым проникнуты и стихотворения поэтов того времени. Так например Гораций восклицает: "между нашими орлами солнце видит, о позор, подлое знамя египтянки… Римляне, продавшие себя женщине, не краснея сражаются за нее… Пьяный своим счастьем и сумасбродными надеждами, это чудовище – monsftum illud, мечтает о разрушении Капитолия и, с толпою подлых рабов и евнухов, подготовляет похороны империи!"
Консулы, выбранные в 32 году, Домеций Агенобарб и Соссий, оба – приверженцы Антония, пытались спасти его репутацию и в то же время старались очернить Октавия перед Сенатом. Но большинство оказалось против них. Опасаясь гнева Переузского неумолимого судьи, они покинули отчизну вместе со многими сенаторами. Они сначала не успели свидеться с Антонием, который находился в Армении и устраивал там обручение своего малолетнего сына Александра с дочерью Медийского царя Иотапой. Они написали Антонию, что Октавий подготовляет свои войска и что столкновение неизбежно. Антоний, как опытный полководец, для того чтобы обойти своего неприятеля, решил перенести арену войны в Италию. Он послал Канидия с шестнадцатью легионами на берег Малой Азии, а сам отправился в Эфес, куда должны были направлять свои части и все его союзники. Клеопатра приехала первой и привезла с собою двести кораблей в три и даже десять ярусов и двадцать тысяч талантов деньгами (сто миллионов франков).
Но было бы лучше для Антония, если бы этот флот остался в Египте, а деньги продолжали лежать в сокровищницах Лагидов и Клеопатра не выезжала бы из Александрии. В Эфесе, где она пристала и в Самосе, куда они отправились потом с Антонием, началась та же сумасбродная, "неподражаемая" жизнь, которую они вели в Александрии. Постоянно прибывали цари, управители, депутации от городов, и все это привозило Антонию войска и флот; их надо было принимать с разными церемониями и задавать им обеды и пиршества. Была приглашена целая масса комедиантов и канатных плясунов. Плутарх говорит, что в то время как везде слышалось бряцание оружия, в Самосе раздавался только смех и звук флейт и гитар. В этих развлечениях время проходило незаметно, быстро, а между тем нельзя было терять ни минуты.
До того времени друзья и полководцы Антония, такие как Деллий, Маркус Силанус, Тициус, Планкус также подпали под развращающее влияние Клеопатры и не пытались даже ничего сделать, для того чтобы освободить своего начальника от этой опасной женщины. Только Агенобарб, как говорит Велеус Патеркул, решался не величать Клеопатру царицею; он прямо высказал Антонию, что, по его мнению, египтянку следует выслать обратно в Александрию вплоть до окончания войны. Антоний обещал последовать его совету, но к его несчастию Клеопатра узнала об этом замысле. Теперь Клеопатра ни за что бы не решилась покинуть Антония, так как опасалась, что Октавии удастся снова сойтись с мужем, а хитрая египтянка слишком хорошо изучила пылкий темперамент и слабый, уступчивый характер своего любовника. Имел ли он настолько силы воли для того чтобы отказаться от примирения с женою, столь желаемого в Риме? Клеопатра подчинила своему влиянию Канидия, самого заслуженного полководца после Агенобарба; пуская в ход просьбы и силу своего кокетства и даже, как говорят, деньги, она уговорила его поговорить за нее. Он сказал Антонию, что было бы несправедливо удалять Клеопатру, оказавшую столько помощи для этой войны, что тогда придется лишиться египтян, корабли которых составляли главную часть флота Антония. Он прибавил еще, что Клеопатра не должна подчиняться советам ни одного из царей, которые были в союзе с Антонием; как может она подчиняться кому бы то ни было после того, как столько лет управляла таким обширным государством, как Египет? Канидий говорил против здравого смысла, но на руку Антонию; неудивительно поэтому, что Клеопатра осталась.
В то же время друзья Антония, оставшиеся в Риме, писали ему, как например Геминий, и старались убедить его бросить свою любовницу. Наконец Геминий приехал сам, но никак не мог добиться свидания с Антонием наедине. Клеопатра подозревала, что Геминий послан в интересах Октавии, а потому не отходила от Антония ни на минуту. В конце одного ужина, когда Антоний был уже совершенно пьян, он наконец спросил Геминия о цели его путешествия.– "Дело, о котором я приехал говорить с тобою, – сказал он, – важное, а потому я не могу говорить о нем с тобою теперь, когда ты навеселе. Могу тебе сказать только, что все пойдет хорошо, если только Клеопатра вернется назад в Египет". Тогда Клеопатра воскликнула в ярости: "Ты умно сделал, что произнес правду раньше, чем тебя к этому принудили пыткой". Антоний был рассержен не менее своей любовницы. На следующий день Геминий почувствовал себя в положении весьма небезопасном и поспешил уплыть в Италию. Мстительная египтянка желала также, чтобы его примеру последовали и другие друзья Антония, соединившиеся у Домиция Агенобарба, чтобы просить об его отъезде. Клеопатра своим дурным обхождением, сарказмами, оскорблениями довела Силануса, Деллия (ее бывшего любовника, как говорили), Планкуса и Тициуса до того, что они отказались оставаться приверженцами Антония. Для того чтобы отомстить своему бывшему начальнику и в то же время расположить к себе нового, Планкус и Тициус, по возвращения в Рим, стали рассказывать Октавию о разных пунктах завещания Антония; это завещание, по их мнению, навсегда должно погубить его во мнении римского народа. Они говорили, что Антоний признал Цезариона сыном Цезаря и распределил все римские владения на Востоке между детьми Клеопатры; он будто бы приказал, чтобы после его смерти тело его было из Рима отправлено в Александрию к Клеопатре. Они прибавляли при этом, что по желанию Антония они сами должны были читать его духовное завещание, которое хранится теперь в коллегии весталок. Октавий потребовал духовное завещание, на что весталки объявили, что отдать его ему не имеют права, если же он захочет взять его сам, то пусть приезжает и они сопротивления оказывать не будут. Октавию не в чем было сомневаться; он взял завещание и велел прочитать его в присутствии всего Сената. Надо отдать им справедливость, римские сенаторы были возмущены осквернением завещания Антония, но еще больше – раздражены его содержанием. Поступок Октавия извинялся тем, что он действовал в интересах народного блага. Он созвал совет, на котором было решено и публично объявлено, что Антоний отставляется от консульства; в тот же день, то есть 1-го января 31 года Октавий объявил войну, но не Антонию, а царице Египта. Так нужно было поступить для того, чтобы не оскорбить общественного мнения. Октавий не хотел допустить того, чтобы римляне сражались против римлян; он знал, что Антоний не оставит Клеопатры в опасности. Направляя свои легионы против ненавистной египтянки, Октавий брал всю ответственность междоусобной войны на себя.
Осень 32-го и часть зимы 31-го года Антоний и Клеопатра провели в Афинах. Они вели веселую жизнь, между тем как солдаты их истощали все города Греции громадными налогами и везде спешили набрать воинов, безжалостно отнимая сыновей от матерей и мужей от жен. Клеопатра и Антоний задавали бесконечные пиры и оргии, развлекались представлениями и публичными ристаниями. Ревность мучила Клеопатру, когда ей приходилось слышать, что афиняне с восторгом вспоминают о времени, проведенном у них Октавией. Чтобы расположить к себе народ, Клеопатра старалась льстить народу и завоевать его любовь и уважение своею щедростью. Ей не стоило большого труда заслужить расположение афинян и они обещали поставить ей памятник в виде статуи. Постановление это о сооружении статуи принесли ей депутаты, между которыми находился и Антоний, в качестве афинского гражданина. Этот декрет был прочтен царице, после чего с замечательным красноречием восхваляли ее добродетели и прочие блестящие качества. Тщеславие Клеопатры было удовлетворено, но ненависть против Октавии не была уничтожена. Она потребовала, чтобы Антоний развелся с женою и послал сообщить ей об этом именно из Афин, где он провел с Октавией три счастливых года. Октавия должна была навсегда покинуть дом Антония и увести с собою его детей. Вся в слезах и глубоком трауре вышла она из дома своего мужа, которого, не смотря ни на что, все еще любила.
VII
Антоний не оставлял своего проекта, состоявшего в том, чтобы перенести войну в Италию и тем не дать Октавию возможности собрать в одном месте свои военные силы. Но он потерял немало времени в бездействии.
Весною 31-го года его войска и эскадры были собраны в Акциуме, при входе в Амбрасийский пролив, и были готовы уже к отъезду, Но вдруг распространился слух о том, что у берегов Эпира показались римские корабли. Это был только авангард флота Агриппы, но появление этих передовых отрядов в водах Греции доказывало, что приготовления Октавия должны быть уже окончены и захватить его врасплох уже было невозможно. Антоний решил тогда ждать, пока прибудут еще корабли римлян и обнаружат свою тактику. Флот и войско Антоний оставил в Акциуме, а сам с Клеопатрой отправился в Патрас. В начале августа месяца он узнал, что флот Октавия бросил якорь близ Эпирского берега, что войска высаживались и Октавий находился уже в Торине. Антоний снова возвратился в Акциум, очень недовольный тем, что неприятель так скоро и легко занял выгодную позицию.
Во время переезда Клеопатра старалась рассеять его своими шутками. "Не велика беда, – говорила она, – что Октавий сидит на уполовнике" [Ложка для снимания накипи.]. Шутка эта не лишена остроумия, так как «Торин» по-гречески значит уполовник.
Армия Антония простиралась до ста десяти тысяч человек и состояла из двенадцати легионов, двенадцати тысяч кавалерии и многочисленного подкрепления из киликийцев, пафлагонийцев, иудеев, медийцев и арабов. Флот его состоял из пятисот кораблей в три, пять, восемь и десять ярусов. Эти корабли были построены в Египте и представляли целые плавающие крепости, снабженные башнями, метательными и другими военными машинами. У Октавия было восемьдесят тысяч фантассинов, набранных в Италии, Сицилии, Испании и Галлии, десять тысяч кавалерии, но только двести пятьдесят судов – трехбаночных галер и легких либурн. Сухопутные силы, таких образом, у противников были почти одинаковы, но морские – были распределены не равномерно. Но преимущества флота Октавия состояли в искусном маневрировании и превосходстве моряков, сражавшихся с успехом еще в Сицилии, под начальством Агриппы. Напротив, моряки Антония были мало опытны и большинство их отправлялось в бой только в первый раз. Его громадные, тяжелые корабли с трудом могли маневрировать.
Антонианцы заняли северный пункт Акарнании, вблизи Акциумского мыса, отрядив большую часть своих сил на Эпирский берег. Прочно укрепившись в траншеях, сооруженных еще зимою, войско Антония защищало узкий проход в Амбрасийский пролив. Октавий разбил свой лагерь в Эпире, на небольшом расстоянии от аванпостов неприятеля. Позиция Антония была очень выгодная и позволяла ему долго отбивать приступы римлян, так как проход Акциум считался неприступным; но ему было отрезано море, откуда прибывал к нему почти весь провиант.
Октавий сгорал нетерпением дать сражение на суше, или на воде. Антоний был расстроен, и в беспокойстве не знал, на что решиться. Он посадил большую часть своих войск на корабли и отправил их на Эпирский берет, как будто он собирался сделать нападение на римский лагерь. Потом он внезапно раздумал и перевез обратно своих солдат в Акарнанию. Офицеры Антония мало надеялись на тактические достоинства своих громадных, тяжелых кораблей, но зато вполне полагались на мужество и испытанность своих легионеров; поэтому они посоветовали Антонию дать лучше сражение на суше, заметив, что такова просьба солдат.
Во время одного смотра войск к Антонию обратился один старый центурион [Сотник.], весь покрытый рубцами и сказал: "Император, неужели ты не доверяешь этим ранам и этому мечу, что ты возлагаешь свои надежды на гнилое дерево (корабли)? Пускай финикийцы и египтяне сражаются на море; что же касается нас, то позволь нам сражаться на суше, где мы привыкли действовать дружно и либо победить, либо умереть!".
Но Антоний мучился мрачными предзнаменованиями. Во многих городах молнии разбили статуи его и Клеопатры. В Альбе одна мраморная статуя, воздвигнутая в честь Антония оказалась покрытою потом. Но еще о более странном предзнаменовании рассказывает Плутарх: будто ласточки свили свои гнезда под кормою царской галеры Клеопатры Антониады; но внезапно явились другие ласточки, прогнали первых, выбросили из гнезд и умертвили птенцов.
Произошло несколько стычек в окрестностях Акциума и антонианцы всякий раз терпели поражения. Домиций Агенобарб изменил Антонию и перешел в неприятельский лагерь; за ним Антония оставили двое союзных царей и увели с собою свои войска; все эти неприятные происшествия, вместе с дурными предзнаменованиями, действовали удручающим образом на душу Антония. Он сомневался в своем успехе, сомневался в своих друзьях, не доверял солдатам и даже самой Клеопатре. Ее тоже мучили странные предзнаменования, разбитые молнией статуи, ласточки на Антониаде, а потому она была печальна, потеряла мужество и была погружена в мрачные размышления. Антоний видел все это и у него явилось страшное подозрение, что она намеревается отравить его и этим заслужить расположение Октавия. Несколько дней он не решался съесть ни одного блюда, прежде чем она при нем не пробовала его на вкус. Из жалости к своему любовнику, Клеопатра охотно исполняла этот его каприз. Однажды вечером однако, по окончании трапезы, Клеопатра оторвала из своего венка розу, оборвала ей лепестки, бросила их в кубок с вином, и смеясь подала Антонию. Но как только он поднес его к губам, она удерживает его и велит выпить отравленное вино невольнику, который тут же кончается на их глазах в страшных предсмертных судорогах.– "О Антоний! – воскликнула Клеопатра, – как можешь ты подозревать такую женщину, как я?! Ты видишь, что если бы я могла жить без тебя, я давно имела бы случай и полную возможность убить тебя".
Беспокойство, упадок духа, овладели войском Антония, когда стал замечаться недостаток в провианте и начались болезни. Даже Канидий, все время с нетерпением ожидавший боя, теперь советовал оставить флот и идти сражаться во Фракию, куда Диком, царь гетов, обещал прислать подкрепление. Но Антоний вовсе не нуждался в подкреплении, так как численностью войско его превосходило неприятеля. Клеопатра предложила другой исход, хотя не менее постыдный, но зато более благоразумный. Если уже бежать, говорила она, то лучше уйти в Египет, чем во Фракию. Она предложила оставить часть войска в Греции, в качестве гарнизона закрепленных городов, посадить остальную часть на корабли, и поплыть в Египет, миновав флот Октавия. После некоторого колебания, Антоний принял этот проект, хотя, без сомнения, ему не легко было решиться бежать перед войском, вождя которого он презирал. Прежде всего, однако, Антоний надеялся разбить римский флот в морском сражении, которое было необходимо, для того чтобы выйти из узкого прохода в Акциумскую гавань. Если победа будет на его стороне, то он будет в состоянии снова возвратиться на свою позицию и атаковать войско Октавия.
Антоний не допускал, чтобы он ног потерпеть поражение, имея такой сильный флот; если же морское сражение останется нерешенным, то он отправится в Египет.
Вследствие побегов и болезней число галерных гребцов значительно уменьшилось, и потому Антонии: решил сжечь сто сорок кораблей, для того чтобы таким образом пополнить экипаж оставшихся.
Двадцать две тысячи легионеров, наемников и союзников было посажено на корабли. Чтобы однако не обескуражить солдат и матросов, держали в тайне, что, собственно, под видом приготовления к сражению, готовятся к отступлению. Тайна была так хорошо сохранена, что штурманы удивлялись, когда было сделано распоряжение поднять паруса. Они возражали, что во время боя достаточно маневрировать веслами и рулем. Тогда Антоний велел распространить слух, что паруса берутся для того, чтобы успешнее преследовать неприятеля после победы.
Второго сентября, утром, корабли Антония, образуя четыре большие дивизии, направились к Акциумскому каналу и когда вышли из него, то построились и приготовились к бою и приблизились к флоту Октавия, поджидавшего их в восьми или десяти стадиях от берега. Правым крылом Антонианцев командовал сам Антоний и Публикола; центром Марк Юстей и Марк Октавий, левое же крыло находилось под предводительством Целия. Клеопатра осталась в резерве с шестидесятью египетскими кораблями. У римлян правым крылом командовал Октавий, левым – Агриппа, а центром – Аррунтий. Бой завязался около полудня. Войска, оставшиеся в полном вооружении на берегу, недоумевали, почему сражение ведется совершенно не так, как бы следовало. Галеры не ищут столкновений, с целью разбить друг друга своими медными носами, чем обыкновенно начинались морские сражения того времени. Тяжелые корабли Антония не могли двигаться с достаточною скоростью, для того чтобы нанести сильный толчок судам противника, легкие же галеры римлян боялись приблизиться и быть разбитыми метательными и другими орудиями неприятельских кораблей. Три или четыре галеры римлян должны были соединенными усилиями нападать на один корабль Антония. Солдаты бросали железные крюки, стреляли зажженными стрелами в верхние палубы, прицепляли брандеры к подводным частям корабля, делали вылазку, между тем как могучие батареи, расположенные на вершинах башен осаждаемых судов, засыпали нападающих целым градом стрел и камней.
Сначала правое крыло римлян, предводительствуемое Октавием, отступило под натиском Цеилия. На другом конце поля сражения Агриппа сделал попытку окружить Антония и Публиколу, вследствие чего остался без прикрытия центр. Этим воспользовались подвижные либурны, для того чтобы забраться на корабли обоих Марков, за которыми находились резервы Клеопатры. Борьба шла с переменным успехом, и обе стороны сражались с одинаковым ожесточением. Но все дело испортила своим нетерпением нервная Клеопатра. От сильного беспокойства ее уже несколько часов била лихорадка. Со своего мостика на Антониаде она с волнением следила за ходом сражения и в начале ей казалось, что побеждают они. Но теперь, расстроеннная шумом битвы и воплями, она думала только о том, как бы спастись бегством. Она с возрастающим нетерпением ежеминутно ожидала сигнал к отступлению, но напрасно… Вот она видит, как правое крыло растягивается вдоль Эпирского берега, между тем как левое крыло приближается к открытому морю, между тем как центр, под прикрытием которого находится она со своим резервом, центр этот атакован, расстроен, разъединен римскими либурнами и ему грозит опасность потерпеть поражение. Бледная от страха, боясь приближения смерти – pallens morte futura, – Клеопатра вполне подчинилась своему паническому страху и дает приказание поднимать паруса и захватив с собою свои шестьдесят кораблей, выезжает в открытое море. В самый разгар битвы Антоний заметил движение египетской эскадры и тотчас же узнал красные паруса Антониады. Он видит, что Клеопатра обратилась в бегство и в решающую минуту увезла с собою свое сильное подкрепление, хотя было условлено, что не она, а Антоний сам даст сигнал к отступлению. Происходит смятение, паника овладевает людьми и Антоний отдает приказание поднять паруса своей галеры и направляется вслед за Клеопатрой, в надежде вернуть резерв и тем обеспечить за собою успех сражения. Но тут ему вдруг приходит в голову ужасная мысль: – А что если Клеопатра изменила ему, а потому покинула его? Тогда ему не удастся вернуть в Акциум ни ее, ни кораблей! Потом он думает вернуться в Акциум одному и в бою умереть со своими солдатами. Но умереть, не повидавшись с Клеопатрою, было выше его сил! Он на это не может решиться. Какая-то роковая сила увлекает его по пятам этой женщины. Он поднимается на Антониаду, но чувство стыда и презрения перед самым собою овладевает им вполне. Он садится на носовую часть корабля, закрывает глаза руками и в таком положении остается совершенно неподвижным три дня и три ночи.
VIII
Египетский флот и большое число других судов, последовавших за беглецами, бросили якорь в Бенополисе, около Тенарского мыса. Клеопатра посылала десять раз своих женщин к Антонию звать его к себе, но тот, казалось, и не слышал, что они ему говорили. Но наконец Антоний отправился к царице и они поужинали и провели ночь вместе. Стали приезжать друзья Антония, которым удалось спастись и привозили известия с поля сражения. Антонианский флот долго сопротивлялся, но теперь все уцелевшие корабли были захвачены Октавием. Сухопутное войско оставалось на своей позиции и не изменило Антонию. Антоний послал Канидия и курьеров на поле сражения, дав им распоряжение собрать войска, а сам отправился в Киренаику, где им было оставлено несколько легионов. На одном из его кораблей везли его драгоценности и всю ceребряную и золотую посуду, на которой он угощал союзных царей. Перед своим отъездом из Кенополиса, Антоний поделил свои богатства между несколькими друзьями и уговаривал их поселиться в Греции; он наотрез отказывал им в том, чтобы они принимали какое-либо деятельное участие в его злополучной судьбе. Прощаясь с ними, он дружеским тоном говорил с ними, сожалел их и смотрел на их слезы с улыбкою, полною грусти.
Клеопатра уехала из Греции на несколько дней раньше Антония. Ей необходимо было вернуться в Египет, так как она опасалась, как бы поражение в Акциуме не вызвало возмущения египтян.
Но для того, чтобы обмануть народ на несколько дней и в это время принять свои меры, она въехала в Александрию с торжественностью победительницы. С кораблей ее, украшенных в передних частях коронами, раздавались победные песни, звуки флейт и систров [Погремушки у Египтян.]. Как только она прибыла в свой дворец, Клеопатра приказала казнить некоторых сановников, измены которых она могла опасаться. Эти казни были выгодны для государственной казны, потому что по египетским законам имущество казненных конфисковалось. Когда казни уже были совершены, Клеопатра стала опасаться, что теперь революция стала неизбежной. Но она не так ужасалась за будущее, как оставалась еще под впечатлением страха, овладевшего ею в Акциуме. Иногда, обуреваемая мрачными мыслями, она желала смерти такой же пышной, какою была ее жизнь. Она приказала построить на берегу моря, на стрелке Лохиасского мыса, громадный костер, на котором хотела сгореть вместе со всеми своими драгоценностями. Другой раз ей приходила мысль о побеге. По ее приказанию большое число ее громадных кораблей были снабжены необходимым экипажем, машинами и вьючными животными и отправлены на другой берег к Красному морю. Клеопатра мечтала о том, чтобы взять с собою все свои богатства и начать в какой-нибудь незнакомой стране Азии или Африки новую роскошную и изнеженную жизнь.
Вскоре в Александрию вернулся Антоний. Он совсем потерял всякое мужество. Канидий бежал и войско в Акарнании, после семидневного приступа, сдалось Октавию. В Киренаике ему даже не удалось повидать своего офицера, Скарпа, который, перейдя на сторону цезарианцев, угрожал подослать к нему убийц. Герод, которого он сам назначил иудейским царем, не замедлил выразить свои верноподданнические чувства Акциумскому победителю, Октавию. Везде Антония ожидала измена, как со стороны союзников, так и – легионов. Он дошел до того, что стал сомневаться в Клеопатре и одно время не хотел ее даже видеть. Он роптал на жестоких богов, но еще больше на человеческую подлость и решил провести остаток дней своих в полном уединении. Тогда ему припомнилась печальная история Тимона, которую ему приходилось слышать в более светлые дни своей жизни. Обреченный на жизнь, выпавшую на долю Тимона, Антоний поселился на пустынном моле [Каменный вал в море.] Посейдона и занялся постройкою башни, которую он хотел назвать Тимонионом.
Клеопатра не так легко мирилась со своей судьбою, приходя в полное отчаяние в минуты опасности, теряя совершенно мужество, она вскоре же приобретала всю свою энергию, как только снова находилась в безопасности. У Клеопатры было слишком пылкое воображение, для того чтобы совершенно, или надолго, предаться отчаянию. Она узнала, что корабли ее, отправленные в Красное море, сожжены аравитянами; этим бегство сделалось ей невозможным, а потому она решила бороться. В то время как Антоний предавался тихому отчаянию, Клеопатра собирала новые войска, снаряжала новые корабли, заключала новые союзы, исправляла укрепления в Пелузах и Александрии, раздавала оружие в народе и для того, чтобы воодушевить александрийцев к обороне своего города, она велела записать своего сына Цезариона в милицию. Антоний восхищался мужеством и деятельностью Клеопатры. Друзья уговорили его бросить свое уединение, да ему оно и самому стало тяжело, а потому он вернулся во дворец. Царица встретила его так, как встречала его, когда он победоносный возвращался из Киликии, или Армении. Начались с его новыми друзьями безконечныя празднества, банкеты, оргии, но Антония и Клеопатру из "Неподражаемых" переименовали в "Неразлучных": οἱ συναποθανουμένοι.
Выбор этого мрачного названия дает ясное понятие о душевном состоянии обоих любовников. Антоний, казалось, потерял всякую надежду, Клеопатра не вполне еще потеряла надежду, хотя временами впадала в мрачное отчаяние. В эти тяжелые дни, она спускалась в склепы дворца, помещавшиеся рядом с тюрьмами, где содержались приговоренные к смертной казни. По приказанию царицы невольники проводили их перед нею и она испытывала да них действие различных ядов. Клеопатра внимательно следила за смертною агонией несчастных. Эти опыты повторялись часто, так как Клеопатра не могла напасть на тот яд, который убивает быстро и без сильных мучений.
Она заметила, что яды сильные убивают быстро, но вызывают ужасные мучения, яды же менее энергичные производили бесконечно долгую агонию. Потом ей пришло в голову испробовать яд змей. Сделав несколько опытов, она убедилась, что яд одной египетской гадюки, называемой по-гречески асписом (aspis), не причиняет ни конвульсий, ни мучений, а напротив, смерть самую тихую, похожую на спокойный сон. Что же касается Антония, то он, подобно Катону и Бруту, мог надеяться на свой меч.
Во время этих приготовлений к обороне и смерти, Антоний и Клеопатра, однако, не забывали возобновить свои сношения с их победителем. Антоний написал Октавию, который находился в начале зимы в Сирии, где сосредоточились теперь его главные военные силы. Антоний напомнил ему их прежние дружеские отношения, ссылался на свои многочисленные заслуги, извинялся за свои ошибки и предлагал сложить оружие с условием, чтобы ему было разрешено жить в Александрии частным человеком.
Октавий даже не удостоил его своим ответом. Он не ответил и на второе письмо, в котором Антоний писал, что покончит с собою, если только Клеопатра будет продолжать царствовать в Египте. Со своей стороны царица, по просьбе Антония, послала гонцов к Октавию с богатыми подарками. Посланный объяснял Октавию, что ненависть его к Антонию не должна распространяться также и на царицу, так как никоим образом ее нельзя обвинять в последних событиях: ведь Рим сам объявил войну Египту для того, чтобы покончить этим способом с Антонием. А раз Клеопатра была вызвана на бой, то, конечно, должна была принять меры для своей защиты. Теперь же, когда Антоний побежден и должен либо скрываться, либо покончить с собою, римляне должны смилостивиться над Клеопатрою и оставить за ней престол.
Октавий видел уже себя властелином Египта и даже всего мира. Для него не представлял никакой опасности осколок меча, оставшийся в руке Антония и еще менее опасался он остатков войска и флота Клеопатры. Но две вещи казались для Октавия неисполнимыми: это завладеть несметными богатствами Клеопатры для того, чтобы уплатить своим легионерам и заставить Клеопатру фигурировать на его торжестве. Клеопатру могла похитить смерть, а богатства ее могли погибнуть в огне. У Октавия в Александрии было немало шпионов, которые доносили ему, что Клеопатра производит опыты с разными ядами, а все свои несметные богатства она замуровала в своем будущем склепе. Октавий видел, что надо приложить хитрость для того, чтобы осуществить свои замыслы по отношению к египтянке. Он принял ее подарки и сделал вид, что убедился в справедливости слов ее посланника; он велел ей передать, что не лишит ее престола, если она заставит убить Антония. Но через несколько дней Октавий спохватился, что такая тактика с Клеопатрой не достигнет цели, а потому надо действовать более решительно. Он послал к ней одного из своих приближенных, Фирея. Приехав в Египет, Фирей довольно непочтительно и дерзко говорил перед Антонием и двором, причем высказывал настоящие чувства и мысли Октавия. Но, после тайного свидания с Клеопатрой, он стал уверять противное, стал говорить, что доверитель его велел только снова передать царице, что бояться ей решительно нечего. Чтобы убедить ее, он старался уверить ее в том, что Октавий ее любит так, как некогда ее любил Цезарь и Антоний. Клеопатра имела несколько аудиенций с Фиреем и публично уверяла его в своем дружеском расположении.
У Антония явилось страшное подозрение в том, что Клеопатра ему изменила, и он воспользовался остатком своей власти для того, чтобы отомстить Фирею. Оскорбляя его достоинство посланника, он велел его побить хлыстами до крови и в таком виде отправил назад к Октавию.
Гнев Антония доказывает, что Клеопатра внимательно слушала Фирея. Женщина легко верит подобным объяснениям, особенно если эту женщину сильно любили. Правда, Клеопатре было уже тридцать семь лет, но это не мешало ой верить все еще в силу своего обаяния. Она знала, что Октавий ни разу не видел ее, или если и видел, то только мельком, в Риме после смерти Цезаря. Но это ничего не значило. Ведь, слух о ее необычайной красоте не мог не достигнуть его и во всяком случае он мог желать познакомиться с Клеопатрой ближе, хотя бы из любопытства. Клеопатра страстно любила Антония, но не только за его мужественную красоту; его слава и могущество поддерживали и упрочили ее любовь, воодушевляли ее. Теперь Антоний был беглец, побежден, оставлен и обманут своими друзьями и покинут своими легионами; он потерял всякую надежду и мужество и вполне подчинился своей участи. Его странное уединение в Тимониенской башне, в то время как Клеопатра отдалась лихорадочной деятельности, вызвало в сердце царицы к Антонию скорее чувство презрения, нежели сожаления, сочувствия. Женщины вообще не понимают и не извиняют те моменты полного отчаяния и упадка энергии, которые могут наступить у самых сильных мужчин. Но как мало любви у Клеопатры к Антонию ни осталось и как ее не взволновали разговоры с Фиреем и перспективы, которые он рисовал ей, она и не думала убивать Антония, или предать его Октавию. Угрожаемому в Александрии и покинутому последними своими легионерами, Антонию оставалось только надеяться на сомнительную верность египетских войск, а потому он бежал в Нумидию или Испанию.
Около середины весны 30-го года в Александрии распространился слух, что римское войско переступило восточную границу Египта. Антоний собрал все свое войско и пошел навстречу неприятелю. Под стенами укрепленного города Парэтониум произошло сражение и Антоний, отчаянно сражавшийся с горстью людей, был опрокинут. Когда он вернулся в Александрию, то Октавий находился от нее в расстоянии всего двух переходов. В то время как офицер его, Корнелий Галл, проник в Египет через Киренаику, Октавий сам прошел в нее через Сирию и после кратковременной осады взял Пелузы. Относительно капитуляции Пелуз последние антонианцы утверждали, что город сдался вследствие измены, что Селевк признал себя побежденным по приказанию самой Клеопатры. Правда ли, что царица сделала подобные распоряжения? Это кажется очень сомнительным. Чтобы оправдать себя против этих подозрений перед Антонием, Клеопатра выдала ему жену и детей Селевка и разрешила предать их по его желанию смертной казни.
Конечно, этот поступок был только слабым доказательством невиновности Клеопатры, но Антоний должен был довольствоваться и этим. Она извинялась перед ним и проливала горячие слезы (искренние или фальшивые?) и ей удалось умилостивить своего любовника. Впрочем, теперь было не время для объяснений, а следовало сражаться.
Октавий расположился со своими войсками на высотах, в двадцати стадиях к Западу от Александрии. Антоний предпринял сам кавалерийскую рекогносцировку в этом направлении и недалеко от Гипподрома столкнулся с римской кавалерией. Завязалось отчаянное кровопролитное сражение и, не смотря на свое значительное численное превосходство, римляне были опрокинуты и разбиты на голову. Антоний преследовал их до самых укреплений, после чего вернулся в город счастливый и гордый этою победою, не имевшей никакого важного значения. Перед дворцом он соскочил с коня и, не снимая оружия, в шлеме и латах и забрызганный кровью, побежал обнять Клеопатру. Царица, преувеличивая в своем воображении значение этой схватки, с новою силою стала надеяться и любить. Она снова видела перед собою своего прежняго Антония, императора и бога войны. Она страстно обняла Антония и в эту минуту искренней любви, вероятно, ее мучили угрызения совести за измену в Пелузах и свои интимные разговоры с посланным Октавия. Клеопатра захотела сделать смотр войскам, приветствовала их речью и наградила самых храбрых массивными золотыми браслетами.
У Антония снова возродилась надежда, а потому он считал уже всякие переговоры излишними. В тот же самый день он послал к Октавию посла и приглашал его покончить их распрю поединком в присутствии обоих войск. Октавий дал презрительный ответ, "что Антоний может искать себе смерть другим способом". Эти слова показывали полную уверенность Октавия в своем превосходстве и поразили Антония подобно страшному предзнаменованию. Воскреснувшие было у него, после утренней победы, надежды снова разлетелись и он видел теперь свое настоящее положение в мрачных красках суровой действительности. Антоний решил, однако, дать завтра решительное сражение и заказал роскошный ужин. "Завтра, – говорил он, – быть может будет уже слишком поздно!" Но ужин прошел печально, как похоронные поминки, так как немногие друзья, оставшиеся верными Антонию, хранили мрачное молчание и даже некоторые плакали. Антоний старался обнаружить надежду и чтобы ободрить друзей, а быть может и самого себя, сказал:– "Не думайте, что я завтра буду только искать геройскую смерть: я буду сражаться для жизни и победы".
С наступлением дня Антоний поднялся на пригорок, откуда мог обозревать равнину и море. Он увидел, как войска его расположились перед фронтом неприятеля и флот объезжал Лохиасский мыс, египетские корабли в боевом порядке направились на встречу римским либурнам, но когда приблизились к ним на расстояние двух выстрелов, то гребцы внезапно перестали грести и подняли на воздух свои громадные весла. Римляне отдали салют и затем оба флота, соединившись в одну массу кораблей и либурн, поплыли через пролив по направлению к гавани. Почти в то же самое время Антоний увидел, как его кавалерия, вчера еще с такой храбростью сражавшаяся, заколебалась и в беспорядке перешла на сторону Октавия. В римских легионах раздаются трубные звуки, возвещающие атаку; легионеры подаются вперед с обычными криками: Caminus! Cominus! Пехота Антония не ожидает этого натиска, разбегается и направляется к городу, увлекая с собою своего начальника. Антоний совершенно обезумел от бешенства, когда возвращался в Александрию: он произносил ругательства и угрозы, бил беглецов прямо острием своего меча, как бьют плоскою частью; он кричал, что Клеопатра приказала войскам изменить ему и перейти на сторону Октавия. Он был в отчаянии, что ему изменила та женщина, для которой он сражался единственно из любви к ней.
Но Антоний ошибался. Клеопатра не могла больше ни выдать Антония, ни спасти его. От неё, от этой новой богини, царицы царей отказался ея народ, подобно тому как Антоний, этот великий полководец, был оставлен, покинут своим войском. Их дело было проиграно, они потеряли все свои права; но каким образом это случилось? В предыдущую ночь стража Октавия возмущала египтян, обещая одним амнистию, другим полную защиту. Храбрые всадники, которым Клеопатра накануне, за их удачную кавалерийскую стычку, подарила по золотому браслету, к восходу солнца обратились в бегство!
При виде беглых солдат, целою толпою нахлынувших в Александрию, Клеопатра испугалась. Она знает, как мучается при этом виде Антоний и какая бессильная злоба его душит. Она уже свыклась с мыслью о смерти, но желает смерти только самой мирной, подобной обмороку или сну; она содрогается при мысли о мече в руках Антония и представляет себе с ужасом раны и страшные предсмертные муки. Клеопатра отчаивается умилостивить Антония, у нее не хватает на это ни силы, ни мужества. В ужасе она покидает свой дворец в сопровождении Ирас и Хармионы и запирается в склеп, при чем приказывает сказать Антонию, будто она умерла. Посланный застает Антония бегающего как сумасшедший, по пустынным залам дворца. Когда он узнает страшное известие, гнев его проходит и он со слезами восклицает:– "Что же худшее можешь ты узнать еще, Антоний? Судьба отняла у тебя то, что тебе единственно дорого в жизни, из за чего ты только и дорожил этою бренною жизнью"! Он приказывает своему приближенному, Эросу, убить его, снимает свои латы и восклицает:– "О Клеопатра! Я не жалуюсь больше на разлуку с тобою, так как мы сейчас соединимся с тобою на веки". Эрос уже обнажил свой меч, но поражает им не Антония, а самого себя.– "Храбрый Эрос, говорит тогда Антоний, видя, как тот падает мертвым, я сейчас последую твоему примеру". С этими словами он поражает себя мечом в грудь и падает без памяти на постель.
Но уже через несколько минут Антоний снова приходит в себя, призывает солдат и невольников и молит о том, чтобы его прикончили. Но никто не решается исполнить эту просьбу и оставляют его одного в борьбе с смертными муками. В это время Клеопатра узнала страшную новость. Ея отчаяние особенно сильно потому, что ее начинают мучить угрызения совести. Во что бы то ни стало, она хочет еще увидеть Антония живого, или мертвого и посылает к нему Диомеда. Жизнь Антония уже угасает, но известие, что Клеопатра жива, его воскресает. "Он поднимается, – говорит Дион Кассий, так как будто бы он мог еще жить"! Рабы подхватывают его на руки и несут к Клеопатре; по дороге Антоний произносит ругательства и проклятия, прерываемые только стонами агонии. Наконец его вносят в склеп. Он видит Клеопатру у окна верхнего этажа; но для безопасности она не позволяет откинуть и поднять решетку, а бросает на землю веревки и велит Антония прикрепить к ним. Затем при помощи Ирас и Хармионы, единственных женщин, взятых ею с собою в мавзолей, она начинает притягивать Антония к себе на веревках. "Было не легко для женщин, – замечает Плутарх, – втащить на верх человека такого громадного роста, как. Антоний. Картина эта была замечательно трогательная, способная вызвать сожаление, продолжает историк. Клеопатра, с озабоченным лицом, изо всей силы притягивала к себе веревки, между тем как Антоний, весь окровавленный, умирающий, поднимался, на сколько ему позволяли силы, и протягивал к царице свои ослабевшие руки".
Наконец Клеопатре удалось положить Антония на кровать и она долго не выпускала его из своих объятий, покрывая его поцелуями и слезами и называла своим мужем, руководителем, императором. Она рвала свои груди, вонзив в них глубоко ногти, затем снова бросалась на Антония, целовала его рану и осушала на ней кровь своим лицом. Антоний пробовал успокоить и утешить ее и уговорить позаботиться о своей безопасности; мучимый лихорадкою и внутренним жаром, он просил дать ему пить и с жадностью проглотил кубок вина. Смерть его приближалась и Клеопатра снова начала плакать и причитать: – "Не убивайся о моих последних минутах, – сказал Антоний, – поздравь меня лучше с тем, что я удостоился в своей жизни сделаться самым великим и могущественным человеком: поздравь меня, что я, будучи римлянином, никем не был никогда побежден, кроме как другим римлянином".– Антоний испустил последний вздох в объятиях Клеопатры, в объятиях той, как сказал Шекспир, для которой жил.
Когда Октавий узнал о самоубийстве Антония, он послал в Александрию Прокулия и Галла и поручил им завладеть Клеопатрою, чтобы не дать ей возможности покончить с собою. Клеопатра вела переговоры с посланными, оставаясь за своей решеткой. Она не хотела и слышать обещаний обоих римлян и заявила, что она решится выйти к Октавию только в том случае, если он обязуется под присягою утвердить ее, или ее сына на египетском престоле; если же он на это не согласится, то может завладеть только ее трупом. Тогда Прокулий решился на хитрость. Оставив Галла объясняться с царицей, он забрался на то окно, через которое был поднят умирающий Антоний и нашел там лестницу; он приставил ее к стене, проник в склеп, спустился там по внутренней лестнице и вошел к Клеопатре. В это время Хармиона, услышав шум, закричала:– "Несчастная царица, тебя захватили живою"!– Тогда Клеопатра мгновенно вытащила из за пояса кинжал, который постоянно носила с собою в последнее время. Но Прокулий ловко выхватил у нее кинжал и не выпустил ее из рук до тех пор, пока не убедился в том, что при ней нет никакого оружия, или спрятанного пузырька с ядом. Тогда он принял свою обычную важную осанку и объявил Клеопатре, что ей нечего опасаться Октавия.– "Царица, – сказал он ей, – ты несправедлива к Октавию, так как не хочешь представить ему случая проявить свое милосердие".– Когда Клеопатра сама и богатства ее были во власти римлян, то ей конечно уже невозможно было отстаивать свою корону. Какой ей толк был в том, что ей дарована жизнь, когда она теперь желала только умереть. Как единственную милость, она просила оказать Антонию погребальные почести. Так как с этою же просьбой обратились и многие офицеры, сражавшиеся под начальством Антония, то Октавий решил исполнить просьбу Клеопатры. Тогда Клеопатра обмыла тело своего любовника, одела и вооружила его, как бы снаряжая на последний бой, и затем похоронила его в том склепе, который построила для себя. После похорон, царицу, по приказанию Октавия, привели во дворец Лагидов, где ей оказывали полный почет, но в то же время за ней зорко следили.
Страшные волнения и потрясения, пережитые Клеопатрой в последнее время, неутешное горе и полное отчаяние, овладевшие ею, наконец удары, которые она себе сама наносила в грудь во время предсмертной агонии Антония, – все это вызвало у нее горячку и воспаление в груди. Она надеялась, что болезнь эта будет иметь для нее смертельный исход, а потому, чтобы ускорить желанный конец, она несколько дней отказывалась принимать не только лекарства, но и пищу. Когда Октавий узнал об этом, то велел ей напомнить, что у нее есть дети и она обязана жить для них. Клеопатра дала убедить себя и стала лечиться. Беспокойство и опасения однако не покидали Октавия. Что если царское тщеславие у Клеопатры возьмет верх над материнскими чувствами? Если опасение фигурировать на предстоящем торжестве в качестве пленной заставит ее прибегнуть к самоубийству? Хотя за ней и зорко следят, но достаточно малейшей оплошности, измены, – и план ее будет исполнен. Если даже у Клеопатры не было ни оружия, ни яду, то кто может поручиться за то, что она не прикажет своей верной Хармионе задушить ее? Видно из этих опасений, что Октавий, как сказал Дион Кассий, "опасался, что смерть Клеопатры лишит его всей славы" (τἧς πάσης δόξης ἐστερημὲνος). Он решил лично переговорить с Клеопатрою.
Клеопатра, как пишет Плутарх, в то время уже перестала верить, что (как это ей уверял Фирей) она внушила любовь Октавию. Иначе он поспешил бы увидеться с нею, а между тем с самого своего приезда в Александрию, Октавий ни разу не пожелал ее видеть. Да и вообще все его поведение по отношению к ней и все, что ей приходилось слышать о нем, нисколько не подтверждало слов Фирея, будто Октавий влюблен в нее.
Когда Октавий вошел к Клеопатре, она уже была на пути к выздоровлению, но все еще лежала. Она мгновенно вскочила с постели, хотя была одета только в тунику, и опустилась на колени. Когда Октавий увидел эту женщину, изнуренную лихорадкою, худую, мертвенно бледную, с исстрадавшимися чертами, опущенными, красными от слез глазами, с исцарапанными лицем и грудью, он не мог себе даже представить, что видит перед собою женщину, очаровавшую Цезаря и пленившую Марка Антония. При том, будь Клеопатра прекраснее самой Венеры, Октавий не позволил бы себе полюбить ее. Этот человек никогда не позволил бы себе пожертвовать интересы государственные своим страстям. Октавий попросил Клеопатру прилечь снова на свою постель и уселся около нее. Клеопатра сама начала оправдываться и сваливала всю вину последних происшествий ка Антония. Душившие ее рыдания часто прерывали эту беспорядочную речь. Потом она пыталась разжалобить Октавия и вынула из-за корсета пачку писем Цезаря, стала целовать их и воскликнула: "Если ты желаешь знать, как твой отец любил меня, то прочти эти письма… О Цезарь! Зачем я не умерла раньше тебя!"… И посреди своих рыданий несчастная женщина силилась состроить Октавию очаровательную улыбку, но и кокетство изменило ей в эту минуту.
На все ее вздохи и рыдания император не отвечал ни слова, он даже избегал ее взгляда и сидел, опустив глаза к полу. Он заговорил только для того, чтобы разбить по всем пунктам аргументы, которыми она пыталась оправдать себя перед ним. Она сейчас же убедилась в полной непреклонности, бесчувственности этого человека, она видела, что ее страдания и несчастия нисколько не разжалобили его. Тогда Клеопатра увидела ясно, что надеяться ей больше не на что, и смерть ей снова показалась желанною. Она перестала жаловаться и плакать, отерла свои слезы и для того, чтобы обмануть Октавия относительно принятого ею намерения она обещала исполнить все поставленные перед ней условия, если только ей будет дарована жизнь. Она представила Октавию опись своих драгоценностей и просила его позволить ей оставить себе некоторые дорогие украшения, чтобы лично преподнести их Октавии и Ливии. – "Не теряй мужества, о женщина! – сказал ей император, уходя, – тебе не будет сделано ни малейшего зла".
Обманутый разговором с Клеопатрою, Октавий больше не сомневался, что во время торжества египетская царица, при всем народе, будет идти закованная перед его триумфальной колесницей. Когда он уходил от Клеопатры, то не слыхал последних слов, которые она прошептала: Οὺ Θριαμβευσομαι! т. е. «я не буду на торжестве невольницей!» Со времени взятия Александрии Клеопатра часто повторяла эти слова.
Через несколько дней после посещения Октавия, один из его приближенных тайным образом сообщил Клеопатре, что послезавтра ее отправят в Италию. Она попросила пустить ее со своими женщинами сделать либации (возлияния) на могиле Антония. Так как она была слишком слаба, для того чтобы идти, то ее понесли на носилках. Они украсили могилу венками, Клеопатра разливала по кубкам вино, затем она в последний раз припала к надгробному камню и сказала: "О дорогой Антоний, если твои боги имеют некоторое могущество – так как мои изменили мне – то не покидай твоей жены. Не мучься тем, что ее заставляют ехать в Рим и присутствовать там на роковом торжестве. Укрой меня с собой в землю Египта".
Возвратившись домой, Клеопатра села в ванну. Потом ее женщины одели ее в лучшие одежды, изящно причесали и надели на голову царскую корону. Клеопатра заказала роскошный ужин и, когда окончился ее туалет, она села за стол. Тогда вошел крестьянин и принес корзину. Когда гвардейские солдаты хотели узнать, что в ней находится, крестьянин открыл корзину; в ней оказались прекрасные финики, и солдатам было разрешено попробовать их. Затем Клеопатра взяла корзину, послала письмо Октавию, которое написала еще утром, и осталась одна с Ирас и Хармионой. Тогда она открыла корзину и высыпала финики, под которыми оказалась спящая змея.– "Вот она, наконец!" – воскликнула Клеопатра и стала дразнить змею золотой булавкой. Змея приподнялась и ужалила ее в руку.
Прочитав письмо Клеопатры, Октавий поспешил в ее дворец. Он нашел своих офицеров и стражу на своих местах: они не знали ничего из того, что происходило во дворце. Октавий велел взломать двери и увидел Клеопатру в пышной царской одежде, лежащую на своем золотом ложе. Она заснула вечным сном, также как лежавшая у ее ног Ирас; Хармиона еще дышала и силилась поправить корону на голове Клеопатры.
Октавий приказал предать смерти Цезариона, сына, которого египтянка имела от Цезаря, но в отношении трупа Клеопатры он оказался милостивым. Он внял ее просьбе, высказанной ею в последнем письме, и позволил похоронить ее рядом с Антонием. Он разрешил также поставить надгробные памятники Хармионе и Ирас, пожелавшим последовать за своей владычицей в царство теней.
Своим самоубийством Клеопатра избегла участия в торжестве Октавия. По приказанию Октавия в Риме, перед триумфальным кортежем, пронесли статую этой знаменитой царицы, подчинившей себе самого сильного из римлян и которая пожелала лучше умереть, чем присутствовать при торжестве ее победителя.
Конечно великими царицами были только те из них, которые обладали добродетелями, достойными мужчин; управляли своими народами, руководили ими на благо государства и подготовляли великие события. Клеопатра была настоящею женщиною, и не может поэтому быть зачислена в число великих цариц. Если же она сумела двадцать лет оставаться царицею Египта и отстаивать его независимость, то сделала это именно благодаря своим качествам чисто женским: интриге, любезности, слабости и ловкости. Она царствовала только потому, что сумела сделаться любовницей Цезаря, а потом Марка-Антония. Престол Лагидов оберегался мечом римлян. Как только по ошибке Клеопатры это оружие было разбито – престол ее обрушился. Самолюбие, единственное из ее царских достоинств, было бы у нее значительно слабее, если бы оно не развилось под влиянием благоприятных обстоятельств. Кроме того она не чувствовала в себе ни силы, ни ума, а потому для достижения своих планов единственно только рассчитывала и полагалась на своих любовников. Эта царица отличалась беспечностью куртизанки. Она жила для любви, пышности, а также для гордости и спеси. Когда она увидела, что любовник ее убит, ее красота поблекла, богатства выскользнули у нее из рук, престол обрушился, тогда, только перед самою смертью, у нее появилось мужество, которого ей не доставало всю жизнь. Нет, Клеопатра не была великой царицей и не будь она в связи с Антонием, ее бы забыли так же как Арсиною или Беренику. Если слава ее бессмертна, то только потому, что ей пришлось быть героиней одного из самых трагических романов древнего мира.
III. Феодора
I
Монтескье и все западные историки возмущались деспотизмом, испорченностью нравов и целым рядом преступлений и вероломств, которыми заявила себя Восточная Империя; если верить им, то можно бы подумать, что, напротив, западные народы в период так называемого царства справедливости и свободы совершенно вернули добродетели, которыми они блистали в золотом веке. Но какую же картину представляет нам Запад в VI веке, когда царствовал Юстиниан? Мы видим самое ужасное варварство, распутство и излишества дикарей, рядом с утонченностью цивилизации. Везде – беспорядок, произвол, жестокость, нравственное разложение и вопиющая нищета. Никто не считает себя в безопасности посреди этой анархии, начиная от правителей, власть имущих, и кончая последним вассалом. Цари не сочувствуют нуждам своего народа, в глазах своих полководцев не имеют никакого авторитета и постоянно опасаются возмущения. Магнаты благоволили только платить добровольные взносы, а духовенство угрожало царю гневом Всевышнего, если он покусится на церковные богатства, между тем как главная часть населения, римские поселенцы и галльские вассалы, были обременены налогами, оброками и страдали от лихоимства. Когда Хильмерик давал свои приказания агентам казначейства, он обыкновенно присовокуплял: «Если кто-нибудь окажет противодействие моим приказаниям, то пусть ему выколют глаза».
Когда цари и их сановники путешествовали со своими свитами, они никогда не брали с собою съестных припасов: всё необходимое для прокормления людей и животных добывалось вымогательствами и даже грабежами. Скотину угоняли, жилища и хлева сожигались.
Неприкосновенность личности была так же мало обеспечена, как и неприкосновенность имущества. Когда посланные одного испанского вестгота явились к царю Невстрии и сказали, чтобы он отдал свою дочь в жены их господину, то царь приказал, чтобы штат молодой принцессы был сформирован насильственным образом. Много людей были тогда насильно взяты из своих жилищ: "сына разлучали с отцом, от дочери уводили мать", говорит Григорий Турский и прибавляет, что " опустошение это можно только уподобить тому, что творилось в Египте… Многие в отчаянии повесились". И таким образом поступали не только с невольниками, но и с лицами знатного происхождения: multi vero meliores natu.
В эту эпоху невольники были еще очень многочисленны, и о том, как обходились с ними их повелители, можно видеть из следующего рассказа. Любимое увеселение Раукинга князя Австразийского состояло в следующем: он заставлял своих рабов светить ему во время ужина смоляными факелами и потом приказывал, чтобы несчастные невольники тушили эти факелы между своими голыми бедрами; когда факелы были потушены, он приказывал их снова зажечь и потом опять потушить таким же варварским способом. Когда двое влюбленных вступили в брак и были обвенчаны священником, не испросив на то разрешения своего господина, князя Урзио, он велел их живыми закопать в одну и ту же яму.
Где было тогда искать правосудия? Недостатка в самых разнообразных законах однако не было: существовало Римское право, обычное право франков, бургундов, вестготов и лангобардов. Но самый опытный юрист не разобрался бы в этом хаосе разнообразных прав; а потому понятно, что князья, совершенно незнакомые с правоведением, на обязанности коих лежало творить суд, производили одну только путаницу; присутствие иногда кончалось тем, что судья насмехался и даже бил тяжущихся. Юридические формы не давали никакого обеспечения. Виновность или невинность определялись числом свидетелей, а потому дело сводилось к тому, чтобы достать себе как можно больше свидетелей; само собою понятно, что свидетелей этих всякий мог нанять за деньги, или мог заставить кого-нибудь показывать в его пользу угрозами и т. п. Закон устанавливал наказания сообразно с национальностью истца и ответчика.
"Если франк оскорбил римлянина, говорит салический закон, то он должен заплатить тридцать су; если же римлянин оскорбил франка, то должен заплатить шестьдесят два су". После владычества римлян наступили полные беспорядки. "В государстве управляют сто начальников: они тираны в своих землях и грабят на больших дорогах, вернее нет больше никакого государства. Везде господствует невежество и нищета". Так говорить Григорий Турский и прибавляет: "наука и искусства находятся в запущении, школы погибли. Мы переживаем тяжелые времена".
Состояние нравственности вполне соответствовало состоянию социальному. Цари сами совершали всевозможные преступления и распутства, показывая этим дурной пример народу. Политика их состояла в том, чтобы вредить всякому, дипломатия – в измене, финансы – в лихоимстве, правосудие – в полном произволе, нравы их частной жизни достаточно характеризовались наложничеством и многоженством. Начальники были не лучше царей, а большинство епископов были еще хуже начальников. Папол, епископ в Реймсе, оказался таким притеснителем, что большинство обывателей из епархии убежало; Фронтон, епископ Ангулемский велел отравить своего предшественника для того, чтобы скорее получить епископство; Каутин пил без просыпа. Багдегизил, Сагитарий, Дроктегизил, Фродиберт и другие прелаты отличались своими преступлениями и распутством. Заметьте, что их обвиняет не какая либо секретная история, их обвиняет не один только Прокопий, а повествует об этом Григорий Турский.
Великобритания страдала от притеснений и постоянных нападений семи шаек морских разбойников и междоусобных войн, а потому нищета там была самая ужасная. Германия еще представляла страну совершенно варварскую. Нельзя было также искать примерных нравов и правильной администрации у лангобардов, "отличавшихся своим неслыханным варварством", или у аварийцев, аллеманов. вестготов, занимавших Испанию и северо-восток Галлии, справедливо можно было назвать народом более цивилизованным, чем франков. Однако, всякое применение власти возбуждало кровавые мятежи, так что один вестготский король, как рассказывает Paul Orose, жалуется, что "подданных невозможно держать в повиновении, вследствие их неукротимой дикости". При Теодорихе Великом, короле остготов, положение Италии несколько улучшается. Теодорих достиг своего значения и власти силою, но по смерти его исчезло бесследно оказанное им на Италию благое влияние. Однако, хотя Теодорих и старался играть роль римского императора, тем не менее и его поступки обнаруживают всю грубость нравов настоящего варвара; об этом свидетельствует его поступок с Одоакром, которого он пригласил на пир и там собственноручно задушил; о том же свидетельствует и то, что по его приказанию Боеций и Симмак были преданы колесованию и замучены до смерти.
Как же именовались герои истории VI века? Главнейшие из них были: Хельнерих, Хлотар, Теодорих Великий, Феддат, Альбоин, наконец Теодеберт, Зигеберт, Брунегильда и Фредегонда. Все они были деспотами, клятвопреступниками и убийцами-заговорщиками.
II
От Запада перейдем теперь к Восточной Империи. Константинополь в ту пору имел значение прежнего Рима и был столицей мира. Империя простиралась тогда от Альп до Ефрата и от Дона до пустынь Африки. Она утратила обширные территории на востоке и севере, но зато приобрела немало стран на юге и западе. Когда могущество Юстиниана достигло своего апогея, Восточная Империя состояла из шестидесяти четырех различных епархий, из которых самая маленькая была Сицилия. В девятистах тридцати пяти городах исполнялись приказания и законы императора. Между тем как варварские народы жили в стране анархической, империя имела сильную и сложную организацию. Все службы были централизованы, все должности покоились на иерархических основаниях. Ведомство гражданское было строго отделено от военного управления и состояло из министерства юстиции и финансов (по нынешней номенклатуре); в каждой епархии были отделения этих министерств, во главе которых стояли губернаторы провинций; эти последние в свою очередь находились под начальством викариев, прямыми начальниками которых были два начальника римской императорской стражи (по нынешнему министры внутренних дел), имевших постоянное местожительство в Константинополе. Каждый из этих начальников епархий, градоначальников и проч. имел в своем распоряжении громадный персонал служащих; какой-нибудь губернатор провинции имел под своим ведомством около семи-сот чиновников и других подчиненных. Действующая армия насчитывала до шестисот сорока тысяч человек. Стоявшие в каждой провинции войска находились под прямым начальством ее князя. Генералы подчинялись главному военному начальнику (по нынешнему военному министру). Во время походов, в которых требовалось соединить несколько корпусов, назначался полководцем (главнокомандующим) один из наместников провинций. Кроме начальника римской императорской стражи и главного военного начальника знатными офицерами двора числились главный камергер, главный церемониймейстер, под ведением которого находился весь дворец, министр финансов, министр государственных имуществ (по-нынешнему) и квестор, редактировавший законы и постановления. Эти разнообразные офицеры и начальники носили титулы патрициев, знатных, светлейших и egregius [Избранный, лучший.] и составляли под председательством императора нечто в роде совета министров. В состав его входил также префект Константинополя, префект полиции, патриарх и начальник дворцовой гвардии. Из институтов Римской республики сохранялся еще сенат и консулат.
Во всех городах были устроены школы, во всех частях империи в трибуналах чинилось правосудие по юстиниановским законам, составляющим еще до сих пор основание современных законодательств. Дороги, содержание которых стоило больших денег, избороздили по всем направлениям провинции; по ним неустанно двигалась почта и доставляла из столицы в отдаленнейшие города империи приказы по гражданскому и военному ведомствам. Границы были защищены постоянными отрядами войск, многочисленными крепостями и непрерывною линией фортификационных укреплений. Бедняки находили убежища, больные принимались в больницы. Промышленность и торговля процветали, в искусстве вырабатывался новый стиль, рабство исчезло совершенно, привилегий знатных более не существовали, не было каст – равенство и свобода царствовали для всех.
Таким образом империя резко отличалась от окружавших ее и угрожавших ей варварских племен. Мы видим еще как бы мир кесарей, но изменившийся под благим влиянием христианства. В самом деле Юстиниан противодействует эллинизму Феодосия II-го и Анастасия, он признает превосходство Римского епископа над Константинопольским патриархом, он велит составить свой "Кодекс" и "Институты" на латинском языке. Юстиниан мечтал воcстановить в прежнем могуществе и блеске Римскую империю и для осуществления этого предпринял войны в Италии, на Востоке и в Африке. Для Юстиниана слово “эллин” – синоним язычника, он преследует греков и закрывает школы в Афинах. Вместе с Юстинианом доживает свой век и Римская империя, но империя греческая начинается только с Гераклита. Юстиниан не был самодержцем в полном смысле этого слова, но он был кесарем.
Если, однако, ближе ознакомиться с действительным положением, в котором находилась империя в царствовании Юстиниана, то оказывается, что величие этого царствования было скорее кажущимся, чем действительным. Эта образцовая администрация главнейшим образом содействовала деспотизму, суровый фанатизм доводил до гонений, всеобщее равенство было только кажущимся и на самом деле оказывалось всеобщим рабством; законы так мудро разработанные, часто применялись ложно, драгоценные памятники разоряли народ и ослабляли войско, которому нечем было платить. Консулат в ту пору был не что иное, как почетным титулом, компетенция же сената сводилась к компетенции муниципального совета, на управление государством сенат почти не имел никакого влияния; воля царя и его сановников заменяла правосудие. Жалобы истцов обыкновенно не достигали до императора, в провинциях народ был недоволен, роптал, в Константинополе же толпа объявляла себя довольною, если происходила обычная раздача хлеба и предвиделись скачки на ипподроме.
Вот что оказывается при ближайшем изучении порядков, царивших в Византии; но, прежде чем обвинять ее, припомним, каков был Рим при кесарях. Римская чернь стояла ли она выше народа Константинопольского? Были ли ее чувства благороднее? Достаточно ли она умела презирать хлеб и зрелища? Каковы же были в первом веке власть консулов, авторитет сената и права граждан? Народ в столице только успел вырваться из самого постыдного рабства и жалобы, подававшиеся проконсулам, явно свидетельствовали о бедственном положении провинций. Император не уважал законов и нередко расправлялся кинжалом и ядом. В Риме нередко происходили заговоры, бунты, свержения с престола и убийства императоров, также как в Константинополе; при том ни деяния, ни нравы Тиберия, Калигулы, Мессалины, Нерона и Домициана не могут быть взяты за образец. Эти царствования крови и гноя, как выразился Светоний, беспристрастной историей названы периодом расцвета Римской империи, между тем как эпоха царствования Юстиниана, Гераклита, Порфирогенета, Иоанна Цимисхия и Константина XII называется временем упадка Римской империи.
Однако, не смотря на расшатанность государственного строя Византии в течении более девятисот лет, на испорченность нравов ее народа, на плохую администрацию, слабое войско, – империя эта была в состоянии с успехом сопротивляться нападениям двадцати народов и в течении нескольких веков противодействовали вторжениям турок; мало того, через Византию христианство проникло к славянам, цивилизация проникла к арабам и греческие письмена – на Восток.
III
В VI веке франки пришли из Лютеции, состоявшей тогда из одного города и нескольких бедных строений, разбросанных на левом берегу реки; галлы пришли из Лиона, готы из Вероны; латиняне пришли из самого Рима, представлявшего в ту пору печальную картину разрушения, после того как он подвергся четырехкратному разгрому. На развалинах Рима можно было видеть возмутительную картину, как из изувеченных статуй и архитектурных орнаментов, просто-напросто готовили известку! Зато большинство драгоценных произведений искусства украшали теперь Константинополь и всякий приезжий был поражен богатством и великолепием этого города.
Константинополь превосходил своей красотой во многом Рим времен Августа. И действительно, местоположение Константинополя замечательно красивое. С трех сторон его мраморно-белые стены утопают в лазорево-синем море, вдалеке виднеется богатая, свежая зелень садов и взор теряется в бесконечных лугах и лесах, окружающих город со стороны суши. Мраморная ограда тянулась на длину в четыре льё и окружала семь холмов, на которых были расположены все тринадцать кварталов города. Ворота для вылазки были прикрыты рядом колонн, а большие городские ворота громадных размеров построены в форме триумфальной арки. На другом берегу Золотого Рога виднелся четырнадцатый квартал Константинополя, ныне называемый Галатой. В центре города возвышался громадный базилиск, воздвигнутый императором Константином в честь святой Мудрости (Ἁγὶᾳ Σοφίᾳ, из чего сделали название «святая София»); этот базилиск после пожара снова выстроен Феодосием II-м. Идя далее по главным улицам, можно было видеть громадные роскошные царские дворцы, церкви св. Ирины, св. Стефана, св. Аквилины и двадцать других, большой ипподром, масса разных амфитеатров, пятьдесят портиков, галерей, восемь громадных терм [Публичных бань.] и сто пятьдесят частных бань; далее следовали громадные фонтаны, пять общественных хлебных амбаров, арсенал, целая анфилада зданий Сената, судилище, казначейство, школы и библиотека, содержавшая 120 тысяч манускриптов, и наконец 4500 дворцов и других замечательных зданий. В городе имелось восемь водоемов и множество колодцев, которые снабжались водою из цистерны Поликсены, емкостью в 325 тысяч кубических метров.
Авугустеон и Форум императора Константина представляли две главные площади Константинополя. Площадь Августеон была окружена двукрылыми портиками и представляла фигуру правильного прямоугольника; по середине ее был установлен позолоченный верстовой столб, от которого расходились по радиусам дороги во все провинции государства; над столбом перекинут был свод, украшенный разнообразными статуями.
Форум Константина состоял из двойного полукруга мраморных галерей. Посередине был фонтан и возвышалась бронзовая группа громадных размеров, представлявшая Даниила со львами. Рядом с фонтаном виднелась порфировая колонна в девяносто футов вышиною, не считая цоколя и верхней площадки, на которой была укреплена античная статуя Аполлона.
Подобно Брухиуму Птолемеев, Палатина Цезарей, Ватикана пап, Сераля султанов, Московского Кремля и Красного города императоров Китая, – императорский дворец Константинополя был окружен громадной каменной оградой и состоял из целой массы разнообразных строений: дворцов, церквей, часовен, бан, портиков, галлерей, казарм для стражи, квартир для придворных и проч. По главной линии этих зданий проходил широкий проезд, вымощенный мрамором; по сторонам его виднелись скверы с цветочными клумбами, аллеи кипарисов и лимонов; здесь виднеются висячие над морем террасы, там роскошные бассейны, артезианские колодцы; широкие открытые лестницы соединяли между собою различные части дворца. На южном и западном конце они постепенно спускались к Босфору и Пропонтиде. На севере дворец Дафнии, также как и священный дворец выходили в сады; последний из этих дворцов служил постоянным местом жительства императора и в нем находился восьмиугольный престольный зад, Хризотриклиниум. На северной стороне возвышался еще дворец, наружный фасад которого выходил на площадь Августеона, как раз против собора св. Софии. На западе целый ряд зданий, подобный громадному бастиону, глядел на ипподром и термы (публичныя бани) Зевксиппа; здания эти составляли церковь св. Стефаноса и Каthisma. Кафизма состоял из атриума, триклиниума, из зала, предназначенного для отдыха, и наконец из престола, с высоты которого виднелся ипподром. Император участвовал зрителем на скачках и показывался народу, не выходя из своего дворца. Архитектор так расположил престол, что император был на виду у народа, но в тоже время находился в полной безопасности. В ипподроме народ пользовался полной свободой слова, а случалось, что он позволял себе немало свободы и в действиях, так что дело нередко доходило до кровопролитных схваток. Но престол императора был совершенно неприступен; уступы Кафизмы находились на высоте десяти метров (более 4-х сажен) под ареною ипподрома, а главный вал в форме буквы П, где стояли телохранители и гвардия, представлял совершенно неприступную позицию. Если бы стали кидать каменьями, то император мог спрятаться в триклиниум, бронзовые двери которого всегда были закрыты, и таким образом он мог вернуться из Кафизма в священный дворец, не подвергаясь ни малейшей опасности. Императрица никогда не появлялась в императорской ложе во время скачек на ипподроме. Этикет двора в то время уже сообразовался с обычаями Востока и не разрешал, чтобы супруга императора показывалась народу при таком малозначущем случае, как скачки. Семинаристы церкви св. Стефаноса рассказывают, впрочем, что видели – будто императрица присутствовала на скачках в ипподроме.
Ипподром в Константинополе не только превосходил Колизей своими размерами, но и был устроен с большим великолепием. Фигура его представляла собою удлиненную лошадиную подкову, основание которой упиралось в Кафизму, многочисленные здания и конюшни, в ложи патриарха, генералов и придворного персонала. Вся остальная дугообразная часть состояла из сорока ярусов с мраморными сидениями; над ярусами тянулась широкая галерея, украшенная портиками и статуями. Мизинец одной из этих колоссальных фигур был величиною в рост человека. Маленькая речка Эрипа была отведена в широкий канал и огибала арену ипподрома. Этот канал имел двоякое значение: он защищал зрителей от скачков диких зверей, которых иногда показывали в цирке; во-вторых, он лишал зрителей возможности завладеть ареною в конце ристания на колесницах, когда разгоряченные партии обыкновенно забывали всякое благоразумие. По главной линии ипподрома тянулась длинная и широкая платформа, названная spina (игла) и разделяла арену на две части. На этой игле был установлен громадный обелиск, привезенный Феодосием из Верхнего Египта, и бронзовая колонна, представлявшая трех переплетающихся змей с золотым таганом Аполлона на вершине; эта колонна была сооружена в Дельфах греками в память той блестящей победы, одержанной ими над персами. Этот старинный памятник до сих пор можно видеть в Константинополе в так называемом Ат-Мейдане.
После ипподрома одной из наибольших достопримечательностей Византии являлись термы, общественные бани Зевксиппа. Христодор из Контоса написал целую поэму для того, чтобы описать все статуи, установленные в термах и привезенные из Рима, Афин, Олимпии, Коринфа и Малой Азии. При виде всех этих мраморных и бронзовых статуй знаменитых мастеров, в памяти последовательно начинают воскресать все элементы жизни древних греков. При виде Аполлона, богини Афины и Зевса припоминается религия древних греков и теория Олимпийцев. Ахилл, Елена, Андромаха, Балхас и Амфиарай воскрешают в нашей памяти древнегреческую мифологию; статуи Фемистокла, Перикла, Алкивиада и Александра говорят нам о политике и войнах греков, а статуи Эсхила, Демосфена, Геродота и Фукидида – о красноречии и истории. Древнегреческую поэзию и философию мы припоминаем при виде Гомера, Пиндара, Пифагора, Платона и Аристотеля.
Константинополь соединял в себе великолепие города нового со знаменитыми памятниками столиц древности. Великолепные византийские памятники были сооружены из самых драгоценных материалов и украшены мозаикой, эмалями, слоновой костью, золотом, порфирами, ляпис-лазурью и драгоценными камнями; они представляли как бы роскошную рамку для высокохудожественных произведений Греции. Но еще большее разнообразие представляла толпа, оживлявшая многочисленные улицы и переулки: тут можно было увидеть сенатора, одетого в древнюю тогу, провинциального наместника и пограничную стражу в широкой хламиде и шелковой тунике с вышитыми на ней пестрыми фигурами; гвардейских солдат в золоченых латах, солдат в римских лацернах (епанча от дождя) с бахромой и вышитыми медальонами; ремесленников, одетых в коричневые безрукавные туники, какие носили еще во времена Афинской и Римской республики. Постоянное население Константинополя было не меньше Римского, но кроме туземцев в Византийской столице всегда проживали в большом числе иностранцы разнообразных национальностей. Весь свет устремлялся в Византию. Моряки, торговцы, наемники, поденщики, челобитчики, обиженные и истцы, наконец просто любопытные и молодые люди, желавшие поступить в военную службу и проч., – все это прибывало в Константинополь со всех концов Византии, из Европы, Азии и Африки. В Константинополе можно было встретить людей различных типов, в национальных костюмах: рядом с длинным кафтаном парфянина можно было видеть герула в широкорукавом плаще из крысиных шкурок, полосатый военный плащ гота, верблюжий бурнус нумидянина, развевающиеся кудри сикамбра, завитую бороду перса, белокурое лице херуска и бронзовую маску мавра.
IV
Судьбе угодно было, чтобы Феодора царствовала в этой обширной империи, в этом великолепном городе… над этими многочисленными народами.
Если верить Прокопию, то Феодора родилась в конуре сторожа при диких зверях в амфитеатре партии Зеленых. Отец ее, Акакий, умер вскоре после ее рождения, значит в конце У века, во время царствования Анастасия. Жена Акакия вышла замуж, или стала любовницей того человека, который заместил ее покойного мужа, кормившего медведей (arctotrophus). Но за полученную взятку один из директоров цирка сместил его и поставил на его место другого. Бедная женщина, очутившись с малолетними детьми в полной нищете, пустилась на хитрость. Она воспользовалась первыми скачками на ипподроме и заставила Феодору и двух других своих малюток выступить на арену. Она одела их как будто они обречены на смерть, завесила вуалью, на голову повязала повязку; выйдя на арену, дети опустились на колени и с мольбою протянули своя маленькие ручонки в сторону зрителей. Зеленые только смеялись над слезами и мольбами этих детей. Голубые-же разжалобились и воспользовались случаем для того, для того чтобы преподать своим соперникам урок гуманности. Когда умер один из сторожей их цирка, то они тотчас же назначили на это место трех маленьких просителей. Таким образом семья эта перешла из амфитеатра Зеленых к Голубым.
Эти амфитеатры были учреждены каждой партией на свои собственные средства; представления и состязания в них посещались гораздо больше, чем в большом ипподроме и там на арене происходили не одни только скачки на колесницах и борьба диких зверей. Там можно было услышать музыкальные хоры, можно было видеть балетные представления и пантомимы, упражнения акробатов и жонглеров. Вот в этих-то представлениях Феодора и появлялась перед публикой. Она была слишком еще мала для того, чтобы исполнять какую-нибудь ответственную роль, а потому она только сопровождала свою старшую сестру Комито, пользовавшуюся уже большой любовью публики; Феодора подавала сестре разные вещи и строила гримасы. Когда она подросла, то приобрела все симпатии публики. Она не бывала ни танцовщицею, ни певицею, но отличалась как ловкая и грациозная акробатка и выдумывала новые занимательные фокусы с замечательным остроумием. Как только она появлялась на сцене, все взгляды обращались на нее и во время всего представления не могли от нее оторваться. Особенно дружные аплодисменты вызывала Феодора в тех пантомимах, в которых ее били и угощали пощечинами; она при этом строила такие уморительные рожицы, делала такие потешные и в то же время миловидные движения и ужимки, с таким искусством переходила от плача к смеху, что никто из зрителей не мог оставаться серьезным или равнодушным. Была ли Феодора действительно так очаровательно-хороша, как об том свидетельствует Прокопий в одном из своих сочинений, – неизвестно. «Ее красота, – говорит он, – такая своеобразная, что никто не может ее выразить словами или изобразить на картине». Или Феодора была только очень хорошенькой и грациозной, как характеризует ее Прокопий в своей «Истории» словами: εῦπρόσωπος καὶ εὔχαρις.
Судя по этой последней характеристике, Феодора была несколько мала ростом, с очень белым, даже бледным лицом и живыми блестящими глазами. Этим и ограничивается описание наружности Феодоры, которое нам дает историк; он не говорит ничего о том, походила ли она по сложению своего тела на Фрину, которая одержала победу над ареопагом и была натурщицей знаменитого художника Апеллеса. В пользу сходства Феодоры с Фриной говорит, однако, то, что она любила являться в амфитеатре, обвязав вокруг поясницы только шелковый пояс. Феодора намеревалась даже несколько раз явиться перед народом совершенно без всякого прикрытия, но полицейские правила этого не разрешали. За кулисами, а также на репетициях она совершенно раздевалась, нисколько не стесняясь присутствия акробатов и артистов, и в таком виде упражнялась в бросании диска.
С профессией акробата Феодора соединяла ремесло куртизанки. В Феодоре олицетворялось распутство древнего мира во всей его грубости. В сравнении с нею Мессалину можно бы назвать образцом воздержания.
Ведя такую жизнь, Феодора скоро приобрела худую славу. Встречая ее на улице, люди отвертывались от нее и переходили на другую сторону, чтобы не задеть за ее платье и не дышать с нею одним воздухом. Увидеть ее утром считалось дурным предзнаменованием на весь день. Тем не менее, некто Экеболь, человек вольномыслящий и не заботившийся об общественном мнении, увез Феодору с собою в Киренаику, когда его назначили туда губернатором. Он надеялся, что репутация Феодоры не успела еще проникнуть в Африку; но вскоре же он совершенно разочаровался в недостойной Феодоре и выгнал ее из своего дома. Очутившись без всяких средств к жизни, в нищете, Феодора кочевала по всем городам восточной Африки, начиная от Кирены до Александрии, ведя образ жизни куртизанки. Когда она вернулась снова в Константинополь, ей было уже около двадцати пяти лет. Феодору, говорит Прокопий, трудно было узнать, до того она постарела и побледнела от разгульной жизни, которую она вела в последнее время. Вернулась она в Константинополь послушавшись предсказания одной колдуньи, подтвердившегося сном. Ей снилось, что она вышла замуж за начальника демонов и стала таким образом обладательницей богатств всего мира.
Этот начальник демонов – ό Ἄρχων τῶν δαιμόνων – по Прокопию, был никто иной, как Юстиниан. В ту пору после императора Юстиниан был одним из самых могущественнейших людей в государстве. Он родился в Дакии (между 483 и 489 годами) в семействе бедных крестьян и был привезен в Константинополь своим дядей Юстином. Этот Юстин сначала был простым солдатом, но за свои особые заслуги был сделан князем, сенатором и командиром императорской гвардии. Дядя пригласил для обучения Юстиниана ученого монаха Феофила и поручил ему дать своему ученику такое образование, какое соответствовало тому кругу, в котором вращался он сам. Юстиниан научился искусству красноречия и бойко писал, он изучил музыку и архитектуру, но выказал особые способности и знания в правоведении и богословии. Юстиниан был самолюбив в высшей степени и с замечательной ловкостью умел верно оценить, какая сторона в данный момент более сильная и всегда ей покровительствовал, в надежде со временем извлечь из того свои выгоды; он был большой знаток людей и умел пользоваться ими для своих целей; он не стеснялся выбором средств для достижения цели, отличался всегда своею невозмутимостью, сдержанностью, терпением и скрытностью, Юстиниан понимал, что положение даже второстепенное, подчиненное при дворце, где завязывалось столько интриг, гораздо выгоднее чем независимое, почетное назначение в провинции; оставаясь при дворе, он скорее надеялся достигнуть могущества и высших почестей. Одним словом, Юстиниан был наделен немногими хорошими свойствами, но обладал всеми качествами, необходимыми для того, чтобы скоро достигнуть почетного, могущественного положения. Можно даже думать, что многие из его советов оказали большую пользу дяде его Юстину. Юстиниан несомненно содействовал долгой безупречной службе своего дяди и помог ему попасть на императорский престол, по смерти Анастасия (518 г.).
Юстин вознаградил за все это своего племянника и в сравнительно короткое время надавал ему звания сенатора, полководца, патриция, почетного губернатора Африки и Италии, и наконец, начальника дворцовой гвардии.
И вот в это-то время, когда Юстиниан удостоился всех этих почетных и важных должностей, судьба свела его с Феодорой. Он влюбился в нее и надо думать, что легко одержал над ней победу. В своей "Истории" Прокопий говорит, что в ту пору, когда Феодора сделалась любовницей Юстиниана, он уже был сильным государственным человеком. Это было уже после восшествия на престол Юстина, значит после 518 года. Известно также, что тетка Юстиниана, императрица Евфимия, решительно была против его брака с Феодорой, так что он женился на ней только после ея смерти, в 523 или 524 году. Впрочем, надо признать, что Феодора, одна встреча с которою считалась дурным предзнаменованием, не принесла Юстиниану никакого несчастия. В первый же год их совместной жизни Юстиниан получил консульство и при том при обстоятельствах особенно благоприятных. В 520 году столкновения между партиями привели к мятежам, беспорядкам, а потому до конца года были запрещены все увеселения. Когда наступил новый год, то Юстиниан, как консул, должен был официально открыть цирк и этим обеспечил себе популярность. При этом он не преминул щегольнуть своею роскошью и щедростью. Юстиниан беззастенчиво запускал руку в царскую казну, значительно увеличенную бережливым Анастасием: он тратил более восьми миллионов франков на игры, представления, увеселения, на состязания диких зверей и на раздачу денег народу. Через два года сенат предложил императору удостоить Юстиниана званием "нобилиссимуса" (nobilissimus), что равносильно нынешнему титулу императорского высочества; это звание давало Юстиниану право считаться наследником престола. Юстин санкционировал постановление сената. Упрочив свое могущество, Юстиниан выхлопотал для Феодоры звание патриции, титул, считавшийся одною степенью только ниже нобилиссимуса, по дворянской иерархии того времени. Когда Феодора получила этот титул, то в глазах народа приобрела большое значение и к ней стали питать доверие и даже уважение; к ней стали приезжать со всех концов государства челобитчики и истцы со всевозможными просьбами; она воспользовалась этим и сумела приобрести от нуждавшихся в ее содействии людей значительные суммы денег. Впоследствии Юстинианом был издан закон, по которому на частное имущество Феодоры должны были распространиться императорские преимущества.
Но влюбленному Юстиниану казалось, что, – присвоив Феодоре титул патриции, обеспечив ее имущество, – он сделал для нее еще мало, а потому он решился жениться на ней. Но мать умоляла его не делать этого, а тетка его, императрица Евфимия решила употребить все свое влияние для того, чтобы воспрепятствовать этому браку. Она ссылалась на то, что по закону гражданину, удостоенному звания сенатора, не разрешалось жениться на бывшей комедиантке или дочери актера, да и вообще – на женщине или девушке низкого происхождения. Но когда в 523 году Евфимия скончалась, то Юстиниан выхлопотал через императора, чтобы вышеприведенный закон был отменен и, не смотря на слезы матери (которая будто бы и умерла от горя), он был публично повенчан с Феодорой.
Три года после того, старый Юстин, до последнего времени надеявшийся еще долго жить, почувствовал приближение смерти. В четверг на Страстной неделе, 1-го апреля 527 года, император велел позвать к себе Юстиниана и Феодору, и в присутствии депутации от сената, дал им титул Августов.
В первый день Пасхи, в соборе святой Софии, Юстиниан и Феодора были коронованы патриархом Епифаном. Из собора императорская чета для публичного освящения отправилась в ипподром, который в некоторых особых случаях служил форумом. Ни одного оскорбительного слова или ропота не раздавалось в толпе, напротив, слышались только единодушные крики одобрения и в конце церемонии народ на руках донес Юстиниана с женою до императорского дворца. Ни одного слова, как говорит Прокопий, не было сказано в сенате, ни слова не послышалось от священства, в народе или в войсках по поводу этой постыдной комедии, не смотря на то, что все еще не забыли, как на том же месте, где теперь чествовали Феодору, она отдавалась первому встречному.
Через несколько времени после коронования умер Юстин; передача власти произошла без всяких недоразумений. Бывшая канатная плясунья и куртизанка, Федора отныне называлась императрицей римлян; градоначальники, епископы, губернаторы провинций и командующие войсками все должны были ей присягать по следующей формуле:
"Клянусь во имя Всемогущего Бога, и Господа нашего Иисуса Христа и Бога Духа Святого, во имя Пренепорочной Девы и Матери Господа нашего, во имя четырех Евангелистов и святых и честных архангелов Гавриила и Михайла, что я буду честно и неизменно служить государю нашему Юстиниану и супруге его, государыне Феодоре".
V
Рисуя в предыдущих главах портрет Феодоры, мы говорили, что в юности своей она предавалась самому беззастенчивому грубому разврату. Такое представление мы составляем себе о Феодоре, читая историка Прокопия. Но, спрашивается, соответствует ли это представление истине и если соответствует, то насколько? Нельзя ли подозревать тут клеветы, быть может возведенной на ни в чем неповинную Феодору только потому, что происхождения она была темного и провела свое детство и юность в бедности и уединении?
Юридическая аксиома: Testis unus, testis nul lus (один свидетель – не есть свидетель), имеет свое значение и в истории. И в чем же заключается это единственное свидетельство, говорящее против Феодоры? В чем же заключается эта единственная против нее улика? Против нее говорит писатель, одновременно историк и памфлетист, то преувеличенный защитник, то завзятый обличитель, даже клеветник, желающий отомстить своим современникам за оказанную ему немилость и причиненные несчастья. Какое доверие можно питать к писателю, который, с одной стороны, отдавая полную справедливость императору в своих сочинениях: «Война с Персами», «Война с Вандалами», «Война с Готами», – написал в то же время «Секретную Историю», в которой прямо мешает Юстиниана с грязью? С одной стороны, Прокопий говорил: – "Юстиниан для своих подданных был лучше отца родного… образцовый император; все в нем божественно:– это ангел, посланный с неба для славы и блага империи. Что значат в сравнении с его победами детские забавы Фемистокла и Кира?" Но тот же Прокопий говорит, что Юстиниан совершил всевозможные преступления, разорил империю, навсегда уронил могущество и силу римлян; мало того, он называет его ослом, сравнивает с Домицием, говорит, что он демон с человеческим обликом. Это противоречие показалось таким непонятным, что многие критики XVII, XVIII и даже нынешнего столетия высказывают сомнение в том, чтобы Прокопий был автором «Секретной Истории». Но не смотря на то, что они приводили в подтверждение своего предположения довольно веские данные, Никифором Каллистом доказано, что «Войны», «Сочинения» и «Анекдоты» – «Секретная История» были написаны одним и тем же лицом. Но от того эта скандальная хроника не приобретает большого научного значения, большей достоверности. Так, любовныя похождения галлов, «Мемуары» графа Viel-Саstel'а, пасквиль на Марию-Антуанетту и проч. не заключают в себе ничего невероятного, но, тем не менее, никто не будет считать эти сочинения решающими, авторитетными.
Если кто-нибудь пожелает прочесть о Феодоре-царице, то может пользоваться «Секретной Историей» Прокопия, так как не трудно различить в этом сочинении вымысел от истины, если сличать его с другими сочинениями Прокопия, с другими авторами из духовенства и византийскими хрониками. Если сопоставить то, что говорит Прокопий памфлетист с тем, что он же утверждает, как историк, и принять во внимание других летописцев, то его в нескольких местах можно поймать в явной клевете и лжи. Но он не всегда склонен к вымыслу: многие факты, которые он рассказывает, сообщены также Малалою, Феофаном и Пасхальною Хроникою. Прокопий преувеличивает, искажает, вдается в ненужные подробности, тем не менее от его истории нельзя отнять известной исторической точности. К сожалению, для суждения о достоверности того, что он говорит о первых годах жизни Феодоры, недостает серьезного материала, так как данные Прокопия можно сопоставить только с писателями из значительно позднейшей эпохи, а потому не заслуживающих большого доверия.
Лже-Гордден говорит, что по происхождению Феодора была патрицианка и принадлежала к знатной фамилии Аникия: – вот взгляд, подрывающий достоверность легенды о канатной плясунье. Зонар и Никифор Каллист говорят, что Феодора родилась на острове Кипре, а это не согласуется с преданием о цирке Зеленых, или придется допустить, что Акакий, отец Феодоры, переселился из Кипра в Константинополь и там сделался сторожем при цирке. Неизвестный автор «Древностей Константинополя» говорит, что императрица велела построить церковь святого Пантелеймона на том месте, где находилась жалкая лачуга, в которой еще недавно она жила, прокармливаясь пряжею льна. Этот взгляд противоречит легенде о куртизанке или придется допустить, что по своему возвращению из Пентаполя, Феодора прожила несколько лет в Константинополе, ища уединения и работы. Этот взгляд также вполне возможный.
Но все эти свидетельства не заслуживают большого доверия. С другой стороны, если, как мы уже говорили выше, нельзя не верить всему тому, что Прокопий говорит в своей «Секретной Истории» о царствовании Юстиниана, то спрашивается, почему же нам не принять всего того, что он говорит о молодости Феодоры? Неужели же мы все это должны считать за вымысел самого Прокопия? Раз мы ему должны верить в одном случае, то почему же мы будем сомневаться в другом? А так как многие данные Прокопия o царствовании Юстиниана вне всякого сомнения, то вряд ли можно не верить тому, что он пишет о распутной жизни Феодоры в ее молодости. Что же касается аргумента Гиббона в пользу того, что обвинения Прокопия слишком невероятны для того, чтобы их можно было сочинить, то его (аргумент) можно скорее признать правдоподобным, нежели основательным.
За недостатком несомненных свидетельств, нужно во всяком случае весьма осторожно относиться к данным Прокопия и отнюдь не полагаться чересчур на его правдивость. Если Феодора действительно была куртизанкой и репутация ее была такая ужасная, что все отворачивались при встречах с нею, то как допустить, чтобы Юстиниан, сенатор, командующий императорскою гвардией и наследник престола, публично выбрал эту женщину себе в любовницы, дал ей звание патрицианки и наконец женился на ней? Не рисковал ли он при этом своею популярностью, компрометировать себя перед сенатом и потерять престол? Как допустить, чтобы ни у кого не вырвалось восклицания или слова удивления и даже неудовольствия во время коронования Юстиниана и представления народу? Положим, Прокопий говорит нам, что императрица Евфимия до самой своей смерти противилась браку Юстиниана на Феодоре, но один современник, монах Феофил, говорит, что мать Юстиниана также не хотела дать согласие на этот брак и вот по какой причине. Один колдун предсказал ей, что эта женщина "прекрасная, умная, образованная и с властолюбивым характером, сделается злым гением Юстиниана и империи". Таким образом дело заключалось не в поведении Феодоры в прошлом, но в той роли, которую ей предстоит играть в будущем. Прокопий утверждает, будто Юстин должен был отменить закон Константина, воспрещающий женитьбу императора на комедиантке, для того чтобы Юстиниан мог жениться на Феодоре. Но кажется, нет более сомнения в том, что отмена этого закона должна быть приписана Юстиниану и произведена она была через десять лет после его женитьбы на Феодоре. Не следует ли также удивляться тому, что во время своего возмущения, Никаты не воспользовались случаем, чтобы упрекнуть Юстиниана какими-нибудь подробностями из прошлой жизни его супруги? Не удивительно ли также, что ни один византийский историк не упоминает о молодости Феодоры, а еще более странно то, что писатели из духовенства, такие как Кирилл, Пелагий, Виктор Тунисский, Либерат, Анастасий и Никифор Каллист в своих обличениях и сатирах ни разу не упоминают об ужасной молве, распространившейся о Феодоре в Константинополе. А между тем все они были враждебно настроены против Юстиниана, как не одобрившему Халкедонский собор.
VI
Царствование Юстиниана вполне основательно считают великим. В Константинополе, в провинциях и на границах стали появляться новые здания и новые крепости. Предместье разрослось, прекрасно обстроилось и стало именоваться четырнадцатым кварталом столицы; город Пальмира возродился из своих развалин в небывалом великолепии; новый выпуск государственных облигаций свидетельствует о могуществе императора и благоустройстве страны; они проникли в Грецию, Малую Азию и побережья Африки, вплоть до Геркулесовых столбов. Ученый Трибониан, назначенный квестором, предпринимает с помощью семнадцати юрисконсультов пересмотр римских законов. Кодекс Юстиниана распространяется во всей империи, даже урегулируются отношения духовенства к государству, а также устанавливаются взаимные отношения между епископом в Риме и патриархом в Константинополе. Еще в ту пору, когда Велизарий и Ситтас служили офицерами у Юстина, Юстиниан открыл в них способности хороших полководцев. Когда он сам сделался императором, то отправил их против персов. Велизарий и Ситтас разбили неприятеля и закончили эту войну, продолжавшуюся с переменным счастьем более тридцати лет. Другие генералы, такие как Германн, Петр, Хириак покорили цанов и разбили варваров, вступивших уже в Армению. Юстиниан с самого начала своего царствования придерживался своей знаменитой политики, состоявшей в том, что он обращал в вассалов те из покоренных народов, которых обратить в подданство почему либо было невозможно. Эта политика начинала уже давать свои результаты. Знаменитый полководец Мондон, сын царя Гепидов и родственник будущего вождя гуннов, Атиллы, прислал к Юстиниану свою депутацию с выражением своих верноподданнических чувств и с предложением принять его войска на службу Византии. За Мондоном и другие цари, как Гордий, царь гуннов из Херсоннеса, Гретес, царь герулов, делаются союзниками императора. Все самые глухие и пограничные города и местечки империи находятся в полной безопасности от нападения варваров. Не зачем и спрашивать, как смотрел на все это народ? Народ с радостью приветствовал нового императора, ознаменовавшего начало своего царствования славными победами и мудрыми мероприятиями.
Когда Юстиниана вторично выбрали консулом, то в ипподроме был дан целый ряд представлений и состязаний с таким великолепием, какого до того никогда не было.
Эти состязания на колесницах, введенные в Рим из Олимпии, и в Константинополе из Рима, страшно увлекали народ в больших городах государства. Эта страсть к скачкам вытеснила все другие увлечения народа. Греко-римляне все свои силы и способности, которые они прежде тратила на диспуты и обсуждение различных общественных вопросов в форуме, теперь посвящали только состязаниям в ипподроме, кончавшимся иногда кровопролитием. Скачки заменяли народу интересы к политике, удовлетворяли его пристрастию к зрелищам и увлечение игрою. Весь народ разделился на две соперничавшие между собою партии, название которых соответствовало цвету одежды возниц. Одна партия нашла название Зеленых, другая Голубых; каждая имела своих начальников, свою казну, свой особый амфитеатр, своих лошадей, колесницы и персонал возниц, конюхов, фокусников, всевозможных служащих и стражу. Каждая партия должна была олицетворять собою известные политические направления и религиозные воззрения. Но в действительности это не имело места, как мы сейчас и увидим.
Император разделял вполне интерес своих подданных к скачкам в ипподроме. Он обыкновенно открыто высказывал свои симпатии к одной, или другой из партий и при этом случалось, что недовольные за что-либо императором присоединялись к партии враждебной той, к которой он принадлежал. Если император принадлежал к партии Голубых, то победа Зеленых считалась торжеством оппозиции. Но эта оппозиция не имела никакого серьезного основания, и единственным его последствием было то, что сменялся какой-нибудь министр, или префект и замещался новым. Константинопольцы не думали даже возвратиться к республиканскому образу правления.
Марк Аврелий был осторожнее Юстиниана и не обнаруживал явного предпочтения ни партии Голубых, ни Зеленых. Юстиниан же был в этом отношении менее предусмотрителен и держался стороны Голубых вместе с Феодорою, разделявшей всегда его симпатии я антипатии. При том ни Юстиниан, ни Феодора никогда не считали нужным держать в тайне свои чувства. Знатнейшие градоначальники империи, блиставшие скорее своею ловкостью, нежели своими добродетелями, старались расположить к себе императора тем, что превозносили партию Голубых и старались взводить различные обвинения на Зеленых. Эти люди знали, что на жалобы Зеленых во дворце не обратят никакого внимания, а потому не стеснялись открыто оскорблять их и позволяли себе даже насильственные поступки. Зеленые не находили никакой поддержки в администрации и никакой защиты в судах. Голубые же, будучи уверены в своей безнаказанности, преследовали Зеленых при каждом представлявшемся к тому случае. Столкновения возбужденных сторон нередко доводили до рукопашных и даже кровопролитных схваток. Можно было опасаться, что возобновятся беспорядки и возмущения 520-го года, с таким успехом прекращенные Константинопольским префектом Феодотом и Антиохийским префектом Ефремом. Но знал ли Юстиниан в точности о всем том, что у него творится в столице? Император жил в своем обширном дворце совершенно изолировано и немногое о том, что творится в Константинополе, а тем паче – в других городах империи, доходило до него: городской шум не достигал до его слуха. Он знал о событиях, о царствовавшем общественном мнении, только то, что находили нужным доносить до его сведения его лживые министры и приближенные, нередко нарочно обманывавшие его.
Только в одном месте Константинополя император мог услышать откровенное мнение народа. Только в ипподроме, этом форуме, трибунале и капитолии второго Рима, народ сохранил свободу слова прежних римлян.
VII
13-го января 532 года, в первые иды [Иды = пятнадцатое число марта, мая, июля и октября и тринадцатое прочих месяцев у римлян.] нового года в ипподром повалила толпа более многочисленная, чем обыкновенно. Сто тысяч зрителей толклись в проходах цирка и занимали места на скамейках. Послышались крики и песни, развевались голубые и зеленые знамена партий. Наконец прибывают патриархи, патриции, князья и экзархи и занимают свои места в оставленных для них ложах. Отряды четырех гвардейских корпусов в блестящих шлемах и латах, сколэры, кубикулиры, слуги и полицейские устанавливаются вокруг своих знамен на террасе Пий. Бронзовые двери Кафизма открываются и Юстиниан в короне и со скипетром, окруженный генералами, офицерами и евнухами приближается к краю трибуны. Слышатся возгласы и шепот толпы и все это смешивается в могучий ропот, почти крик. Юстиниан благословляет народ, осеняя его крестным знамением полою своей пурпуровой трабеи [Торжественная одежда у Римлян.].
Тогда колесницы въезжают на арену. В партии Голубых крики смолкают, между тем как в амфитеатре Зеленых шум и волнение продолжаются. Юстиниан остается непоколебимым и делает вид, что ничего не слышит. Но неодобрительный шепот и крики становятся все сильнее, явственнее и знаменательнее, и тогда император дает мандатору, одному из своих офицеров, приказание потребовать от народа, чтобы он объяснил значение этих беспорядков. Зеленые сначала были испуганы этим требованием, а потому они с почтением, почти смиренно, следующими словами формулируют свои жалобы.
– "Да будешь ты благополучно царствовать еще много лет, о Август Юстиниан! Ты будешь всегда победителем. Но мы страждем от разного рода несправедливостей и обращаемся к твоей доброте и справедливости, известной людям и Богу! Мы не можем долее терпеть, не можем переносить долее всевозможных преследований! Но мы не смеем назвать имени нашего притеснителя, боясь возбудить еще большие притеснения.
– Если дело заключается только в этом – благоразумно отвечает Юстиниан через мандатора, – то я ничего не знаю.
Выслушав этот ответ императора, делегат Зеленых начинает говорить другим тоном, и вот между Юстинианом, Зелеными и Голубыми завязывается удивительный по своей форме и содержанию разговор. Выражения рабского подобострастия перемешиваются с дерзостями, крики гнева – с насмешками и ироническими выражениями, божба пересыпается с ужасным богохульством. Вопросы и ответы, жалобы и угрозы следуют друг за другом, как строфы и антистрофы трагикомического древнегреческого хора.
– Как это ты ничего не знаешь?! – в волнении говорит делегат Зеленых. – Клянусь Богородицей, этого не может быть! Разве ты не знаешь, что наш постоянный притеснитель никто иной, как один из твоих придворных офицеров?
– Нет, никто из моих офицеров не обижал вас.
– Наш мучитель – Калоподиос, камергер и, защитник верховной власти, да будет тебе известно, наш Государь!
– Неправда, Калоподиос даже не вмешивается в ваши дела.
– Пусть он только посмеет еще раз вмешаться, где его не спрашивают. Он тогда не избегнет участи Иуды! Господь воздаст ему по делам его!
– Вы что же это пришли в ипподром для того чтобы наносить оскорбления властям?
– Несправедливого постигнет участь Иуды.
– Замолчите вы, иудеи, манихейцы, самаритяне!
– Да заступится за нас Пресвятая Богородица!
– Я вам приказываю, – насмехается тогда мандатор, – чтобы вы все, сколько вас есть, приняли крещение!
– Мы не смеем ослушаться твоего приказания, – также насмешливо отвечают Зеленые. Пускай принесут воды и окрестят нас всех до последнего,
– Вы это что же, не дорожите жизнью? – в гневе восклицает Юстиниан.
– Всякий человек дорожит жизнью. Если же мы скажем тебе что-нибудь неприятное, то просим тебя, государь наш, быть великодушным и не преследовать за это! Ведь Господь Бог все выслушивает с терпением… Но объясни нам, почему же это Зеленые нигде не находят поддержки и справедливости?
– Вы лжете! Это неправда!
– Пусть нам запретят носить наше зеленое знамя и увидите, что тогда судьям нечего будет больше делать. Сегодня в городе было совершено убийство и конечно никто не сомневается в том, кто его совершил. Это наперед известно, что если совершено преступление, то виновные принадлежат к партии Зеленых… Нас все подозревают и проклинают. А на деле-то крамольники вы, Голубые, и первый убийца – ты сам!
– Вы все подлежите смертной казни!
Тогда вмешались Голубые:
– Вы и только вы одни – крамольники и убийцы!
– Нет, неправда – это вы сами!
– А кто же по вашему убил вчера торговца лесом?
– Конечно вы!
– А кто убил сына Епагафоса?
– Вы… конечно вы?
– О Боже Милосердый! Куда же девалась справедливость!
– Господь не внимает преступникам, – нравоучительным тоном говорит Юстиниан через мандатора, делая вид, что до сих пор не отказывается от своих религиозных взглядов.
– Если господь не внемлет злодеям, то почему же мы испытываем постоянное гонение? Пускай призовут ученого или отшельника-монаха для решения этого вопроса.
– Ах вы богохульники! Замолчите лучше, неверующие! Не то вас заставят молчать!
– Если ты полагаешь, что мы сказали все, что было нужно, то мы замолчим, государь наш… Желаем правосудию дальнейшего преуспеяния и успеха! Теперь твои приговоры ничто! Мы убежим и перейдем в иудейство. Лучше перейти в язычество, чем покориться партии Голубых!
– О ужас! – восклицают Голубые с насмешкой. – Какая это для нас будет великая потеря! Какого избранного общества, каких достойных людей мы потеряем!
– "Так пусть же тогда будут вырыты из могил кости всех тех, которые останутся в ипподроме на сегодняшнее представление!" – в один голос закричали Зеленые и, воспользовавшись минутным замешательством своих противников, как один человек встали и вышли из цирка.
Это было величайшим оскорблением царского достоинства, какое можно себе представить. Юстиниан тотчас же возвращается в свой дворец и вслед за ним и Голубые выходят из ипподрома, хотя был всего только полдень. Префект Евдемон, рассерженный этой сценой, разыгравшейся в цирке, опасается, что император привлечет его к ответственности за случившееся; поэтому он решается как-нибудь исправить дело. Первым долгом он приказывает арестовать трех субъектов, на которых более или менее падает подозрение в убийстве торговца лесом и сына Епагафоса. Их наскоро судят, приговаривают к смертной казни и полицейские солдаты уводят их в старую Византию на лобное место.
В присутствии массы народа, еле скрывающего свое бешенство и негодование, палач вешает первого из осужденных. Но когда он собирается покончить и со вторым, то лопается веревка и он падает с виселицы. Тогда народ выражает свое одобрение, бросается на стражу и освобождает второго и третьего осужденного. Их сажают на барку и переправляют на другой берег Босфора, где они находят убежище в церкви святого Лаврентия.
Один из освобожденных принадлежал к партии Голубых, другой – к Зеленым. Утром еще Голубые и Зеленые были самыми ожесточенными врагами, теперь они действуют сообща. Несмотря на ночное время, бушующая толпа направляется к воротам императорского замка и требует помилования узников и осужденных. Но император не подает признаков жизни и тогда толпа направляется к дворцу префекта Евдемона. Завязывается схватка между стражей дворца и буйствующей толпой. Перерезав солдат, народ поджигает преторию и огонь, благодаря ветру, быстро переходит на соседние дома и охватывает всю улицу. Тогда бунтовщики направляются к тюрьме, взламывают двери и освобождают воров и убийц, затем начинается грабеж и поджог и по улицам раздаются крики: "Νικα! Νικα! (Будь победителем!)" и возгласы эти повторяются тысячами голосов мятежников.
На следующий день, 14 января, уже утром толпа народа стучалась в ворота дворца. Вышло двое придворных и попытались вести переговоры с мятежниками, предлагая им успокоиться. Но тысячи голосов кричало: "Трибониан! Иоанн Каппадоский! Евдемон! Калоподиос!" В надежде успокоить народ, Юстиниан объявляет, что сместит своих четырех градоначальников и поставит на их места новых. Но это средство нисколько не помогало: бунт превратился в возмущение, касавшееся уже не приближенных Юстиниана, им покровительствуемых, а самого императора. Его уступки не могли уже обезоружить разъяренную толпу.
Пятнадцатого января, Юстиниан, видя что все его мероприятия не ведут ни к чему, дает приказание прекратить восстание силой. Войско герулов, надежное в случае мятежей, как все наемники, но дикое и жестокое, направляется из дворца навстречу бунтовщикам. В пылу сражения варвары опрокидывают священников, вышедших с хоругвями и образами для того, чтобы разнять неприятелей. Тогда в народе раздаются крики: "Святотатство! Богохульство!" и миролюбивые граждане, до сего времени не принимавшие никакого участия в восстании и даже женщины присоединяются к мятежникам. И вдруг на солдат Мондона посыпался град черепиц, камней, с крыш полетели плиты, домашняя утварь и горящие головни, так что наемники в беспорядке обратились в бегство, назад к дворцу Юстиниана.
В следующие два дня, 16 и 17-го января, пожары продолжали разрушать город и убийства не прекращались. Если считали кого-нибудь приверженцем Юстиниана, то его прямо душили, или топили в Босфоре как собаку, привязав камень на шею. Лавки и квартиры золотых дел мастеров грабили дочиста и потом поджигали дома их. Более состоятельная и богатая часть населения эмигрировала массами на Азиатский берег. В разных концах города виднеются зловещие громадные костры, и огонь превращает в пепел тысячи домов и городских зданий: Соборы святой Софии, святой Ирины, св. Феодоры, св. Аквилины, баня Александра, Октогон, купальни Зевксиппа со всеми своими украшениями и статуями, убежище Евбула, народный портик, большая больница и проч.– все это превращено в развалины или пепел…
В шестой день восстания, 18 января, евнух Нарзес стал подкупать известную часть Голубых для того, чтобы посеять распрю между инсургентами, принадлежавшими прежде к враждебным партиям. Юстиниан надеялся успокоить возмущенный народ, если открыто выступит перед ним и даст обещание всепрощения. И вот, когда толпа собралась в ипподроме и бурно совещалась, на трибуне появился император, в сопровождении многочисленной свиты, приближенных и стражи. Он держал в руках Евангелие и громким голосом обратился к народу со следующими словами:
– "Клянусь этою священною книгою, что я прощаю вам все нанесенные мне оскорбления. Никто из вас не будет привлечен к ответственности, или наказан, если вы добровольно успокоитесь и прекратите все беспорядки".
И затем, унижая свое царское достоинство, Юстиниан продолжал:
– "Я одного себя считаю виновным, вас же признаю невиновными. Это несчастие послано мне свыше, за мои прегрешения, за то, что я отказывался выслушивать ваши настойчивые просьбы и справедливые жалобы".
После этих слов кое-где послышались крики: "Да здравствует император Юстиниан и супруга его императрица Феодора!"
Но эти возгласы тотчас же были заглушены и покрыты неодобрительным свистом, угрозами и ругательствами:– "Ты лжешь, скотина! слышалось в одном конце ипподрома.– Смерть богохульнику! Смерть убийце!" – слышалось в другом. Когда Юстиниан услышал эти угрозы, он поспешил вернуться во дворец, не смотря на то, что его трибуна считалась совершенно неприступной.
Тогда народ, желая выбрать себе нового императора, направляется к дому Ипатия, племянника Анастасия. Гордость и боязнь боролись в душе Ипатия, когда он узнал, чего требует от него народ. Но пока он колебался принять или не принять предложение народа, жена его плакала, опасаясь, что народ намеревается его убить. Не дожидаясь решения Ипатия, толпа насильно увлекает его и брата Помпея за собою до форума Константина; там поднимают Ипатия на руках, усаживают на щит и торжественно провозглашают императором. Вместо короны ему украшают голову золотым ожерельем. Теперь толпа хочет непременно идти к дворцу и покончить с падшим тираном, но один из сенаторов, участвовавший в восстании, останавливает толпу и говорит:
– "Обождем лучше, пока наши военные силы увеличатся, тем более, что Юстиниан и не думает нападать на нас, а вскоре будет искать случая спастись бегством… Если мы не будем слишком спешить действовать, то без всякой борьбы сделаемся победителями".
Народ следует совету сенатора и, чтобы продолжать пародию коронования, отправляются снова в ипподром, усаживают Ипатия на императорскую трибуну и приветствуют его всевозможными овациями.
Между тем Юстиниан оставался в глубине священного дворца полумертвый от страху. Он уже все испробовал с народом: уступки и сопротивление, угрозы и силу; он обещал ему всепрощение я даже унижал свое царское достоинство, но все было тщетно, народ не удовлетворялся этим… Со стороны Халкеи он видит пламя, угрожающее его дворцу, со стороны ипподрома слышит крики и ругательства, слышит как народ угрожает убить его и в то же время превозносит его наместника, Ипатия. Инсургенты нападают на арсенал, завладевают оружием и вооружаются и теперь только бронзовые ворота отделяют Юстиниана от разъяренной, жаждущей его крови толпы мятежников. И кто же остается верным ему, на чью защиту он может рассчитывать? При нем осталась только какая-нибудь тысяча заслуженных воинов Велизария и две тысячи варваров; что же касается императорской гвардии, прислуги, кубикуляров и придворной стражи, то на их верность рассчитывать нельзя было никогда. Юстиниан, хотя и многократно умел одерживать победы при помощи своих генералов и войска, не обладал военной храбростью, мало того, у него не было и гражданского мужества. В своем воображении он видел уже, как его полумертвого от страха ведут на казнь, подобно какому-нибудь Интеллию, его бьют и издеваются над ним.
Он созывает совет из своих министров, приближенных, генералов и немногих сенаторов и патрициев, оставшихся ему верными; каждый из них должен высказать откровенно перед императором и императрицею свое мнение о том, что следует теперь предпринять для того, чтобы выйти из опасного положения, в котором находятся. Но самые сильные духом из них потеряли мужество и заразились паникою. Юстиниан не требовал, чтобы ему советовали, он требовал только, чтобы одобрили его решение бежать, этот единственный исход, который ему остался. Уже три дня около дворцового сада стоял на якоре корабль, нагруженный его драгоценностями и богатством. Юстиниан с императрицей сядут на корабль, а Велизарий со своими тремя тысячами солдат попытается подавить восстание. Таким образом императору удастся спасти свою жизнь, но престол для него будет потерян навеки. С другой стороны, с такою горстью солдат Велизарий мог надеяться подавить восстание только в том случае, если его люди были бы воодушевлены присутствием императора и прониклись сознанием, что должны спасти его или погибнуть. Тем не менее все призванные на совещание, не исключая даже Велизария и Мондона, одобрили проект Юстиниана.
Во время всего совещания Феодора хранила молчание. Но, раздраженная трусостью своего мужа и малодушием его офицеров, она с твердостью сказала:
– Если бы не оставалось другого способа спастись, как бегство, я не желала бы бежать. Не все ли мы можем ожидать ежедневно смерти с самого нашего рождения? Но тот, кто носил корону, не должен пережить ее потерю. Я молю Бога, чтобы не прожила ни одного дня, если потеряю царское достоинство. Пусть померкнет солнце с того момента, как меня перестанут величать императрицею! Если же ты, император, хочешь бежать, то все уже готово: корабль снаряжен и готов сняться с якоря по твоему приказанию и ты можешь уехать со всеми твоими богатствами; но опасайся как бы привязанность к жизни не довели тебя до унизительной ссылки и до постыдной кончины. Я же придерживаюсь древней поговорки, что царское достоинство есть наилучший саван".
Мужественные, красноречивые слова Феодоры вернули всем присутствующим прежнюю энергию и решимость. Велизарий снова узнает в себе прежнего великого полководца и он тут же составляет план действий. Мятежники заперлись в ипподроме, как в крепости, и вот Велизарий решил перерезать их там всех, чтобы цирк сделался могилою бунтовщиков. Коронование Ипатия ознаменуется кровью его новых подданных. Три тысячи верных людей, ветеранов Велизария и герулов Мондона оцепляют ипподром со всех сторон; одни завладевают выходами, между тем как другие по внутренним лестницам достигают проходов над скамейками и оттуда пускают вниз на партизанов Ипатия целый град стрел. Те в смятении бросаются к арене. Более ловкие из мятежников пытаются несколько раз идти на приступ, но их отбивают и снова теснят назад. Между тем толпа хочет спастись через выходные двери, но в этих узких проходах находятся герулы Мондона и, пользуясь своей позицией, безжалостно умерщвляют бунтовщиков: десять варваров могли из узких проходов перестрелять сотни мятежников. Первые ряды беглецов натыкаются на копья и около каждого выхода образуется стена из трупов. Обезумевшая толпа в беспорядке поворачивает назад к арене, но град стрел вскоре довершают дело, так как груда трупов отрезывает отступление оставшимся в живых и совершенно приковывает их к месту. Тогда солдаты устремляются на арену и копьями и мечами добивают несчастные жертвы, купающиеся в собственной крови.
Резня эта кончилась только позднею ночью. Разъярившиеся от вида крови варвары не оставили в живых ни одного человека. После этого побоища пришлось похоронить до тридцати тысяч жертв. Из всех бывших в ипподроме не уцелел никто, исключая Ипатия и его брата, которых солдаты пощадили для того, чтобы отдать во власть Юстиниана.
– Великий император, – воскликнули они, падая на колени перед Юстинианом, – ведь это мы предали тебе врагов твоих, ибо по нашему приказанию они собрались в гипподроме.
Но Юстиниан, овладевший снова полным спокойствием духа, ответил:
– Хорошо, но если вы имели такую власть над этими людьми, что они слушались вас, то вы должны были воспользоваться ею раньше, чем предавать огню мой город.
На следующий день Юстиниан отдал приказание предать смертной казни обоих племянников Анастасия.
VIII
Таким образом, только благодаря мужеству Феодоры Юстиниану удалось подавить восстание и с честью выйти из отчаянного положения, в котором он находился. Ей удалось успокоить и образумить Юстиниана и его приближенных и заставит их принять энергичные меры, соответствующие имеющимся обстоятельствам. Этим поступком она вполне справедливо завоевала себе то положение в государстве, которого, как императрица, быть может раньше и не заслуживала. Если даже верить Прокопию, что жизнь ее в молодости была более чем предосудительна, то нельзя не признать, что теперь бывшая канатная плясунья с чистою совестью могла пользоваться всею роскошью и почетом, присвоенными императрице Востока.– Но что значили все сокровища, вся пышность, окружавшие Феодору, что значило всеобщее поклонение в сравнении с ее самодержавным могуществом? Летом она жила в своем великолепном замке на азиатском берегу, была окружена золотом и драгоценными камнями, отдыхала в роскошных купальнях, выходила всегда в сопровождении приближенных и толпы, служителей. Феодору окружали почестями величайшие из государственных деятелей и иностранные послы; прежде чем заговорить с ней, они становились на колени и лобызали концы ее ног. В честь Феодоры было сооружено немало статуй, носивших ее имя, так, например, Феодориас, Феодора, Феодорополис и др. Когда она отправлялась к горячим источникам Бифина, ее сопровождала громадная свита из патрициев, сенаторов, градоначальников и эскорт из четырех тысяч солдат императорской гвардии, и во многих местах по дороге были устроены триумфальные арки и т. п. Но все это было ничтожно в сравнении с ее могуществом, как императрицы.
Юстиниан не скрывал, что советуется с императрицей обо всяком деле, напротив, даже доводил до всеобщего сведения в своих постановлениях и законах, причем называл Феодору: "преосвященной супругой, данной нам Богом". Павел Молчальник, в предисловии своей поэмы, посвященной святой Софии, напоминает Юстиниану, что покойная императрица была ему "верной сотрудницей". Прокопий, Эвагр, Зонар и большинство византийских летописцев говорят, что Феодора не была только супругою Юстиниана, но была самодержавной императрицей и власть ее ни в коем случае не была ограниченнее власти императора, даже скорее была – более: ἐι μὶ καίμᾶλλον. Эти свидетельства историков подтверждаются многими фактами, кроме того, после ее смерти произошло падение Империи. Следовательно, если даже не утверждать вместе с известным знатоком истории Византии, Brunet de Presles, будто Феодора была "сущностью постановлений императора", тем не менее нельзя не признать влияния этой женщины на многие деяния Юстиниана – законодателя, строителя и завоевателя.
* * *
Феодора не отличалась особым милосердием к мужчинам, но за то женщины испытали на себе ее замечательное попечение, милосердие, и говорят даже, что к женщинам она обнаруживала некоторую слабость. Это подтверждается многочисленными случаями, где она вмешивалась в брачные дела и старалась помирить разведшихся супругов. Так, например, она настояла на том, чтобы Артабан, губернатор одной из провинций в Африке, снова сошелся со своей женою; потом она отнеслась с участием к несчастным дочерям царя вандалов, Хильнерику, и была слишком снисходительною к Антонине, жене Велизария. Можно подумать, что по инициативе Феодоры были изданы Юстинианом некоторые законы, усиливающие права женщин, например: бракоразводные законы, ипотечные законы для женщин, законы, касающиеся незаконнорожденных детей, законы об насильно постриженных в монахини, закон о комедиантках; по последнему закону, девушкам-комедианткам разрешалось выйти замуж за обольстителя, или же они были в праве требовать четвертую часть его имущества.
Феодора любила великолепие, а потому можно полагать, что она не удерживала Юстиниана от громадных расходов для постройки новых зданий на место прежних, разрушенных ни время пожара в Константинополе. Не только она не умеряла деятельность императора, как строителя, но и сама построила немало зданий. Говорят, что Феодорой воздвигнуты крепости, церкви, приюты для сирот, больницы, а также Босфорский девичий монастырь. Иногда страсть к благотворительности доходила у Феодоры до насилия. Предание говорит, будто несколько женщин, которых Феодора заперла в Metanoia, с целью спасти их от распутной жизни, впали в такое отчаяние, что бросились в море.
Но не в одном Константинополе производились многочисленные постройки: на границах Персии, Сирии, Египта, в Киренаике, Нумидии и в Италии – везде стали появляться великолепные сооружения. Эти громадные великолепные здания поглотили много миллионов, но за то они представляют бессмертные памятники человеческого гения! В соборе св. Виталя, в Равеннах на одном из золотых иконостасов имеется изображение Феодоры. Это мозаика, вся засыпанная драгоценными камнями, жемчугом и алмазами – с сиянием вокруг головы, подобно Богородице.
Юстиниан одержал две большие победы во время Африканского похода и войны в Италии, что же касается персов, политика требовала охранять границы, но не расширять их. Смелая и честолюбивая Феодора настояла также на том, чтобы состоялись походы против вандалов и готов с целью расширить границы империи до тех пределов, до которых доходила римская республика. Поход в Африку был предпринят по многим причинам, между прочим тщеславная Феодора не желала последовать советам ненавистного ей Иоанна Каппадоса, который был против этой войны, затем она хотела отомстить Гелимеру. В пользу войны с Италией у Феодоры были другие причины. Вероятно, она желала покорить Италию для того, чтобы подчинить себе папу и чтобы восторжествовали ее религиозные воззрения. Во время хода какой-либо войны Феодора часто отдавала свои приказания и распоряжения генералам и посланникам, посылала на театр войны подкрепления, провиант, вела дипломатические переговоры и вообще своим деятельным участием много содействовала компании. Доказательством этого участия может служить письмо Феодоры, написанное ей Заберганесу при возобновлении неприятельских действий с персами. В письме этом императрица писала:
«Я убедилась в твоей преданности нашим интересам, с тех пор, как увидела, с каким успехом ты исполнил вверенное тебе нами поручение. Ты подкрепишь нас в этом хорошем о тебе мнении, если уговоришь царя Хозроэса по отношению нашей империи (ὲζ ήμετὲραν τήν πολιτείαν) миролюбивой политики. Если это тебе удастся, то я тебе обещаю самое щедрое вознаграждение от императора, который не приводит в исполнение ни одного решения, прежде чем не посоветуется со мною».
Феодора настолько гордилась своим правом и так твердо верила в свое могущество, что не допускала ослушания или противодействия ее распоряжениям. Это видно, например, из следующего случая.
Когда Приск Пафлагонийский сделался личным секретарем Юстиниана и приобрел его полное доверие, то высказался в том смысле, что признает Феодору только как супругу императора. Узнав об этом, Феодора попробовала сначала унизить Приска в глазах мужа и для этого говорила о нем с явным пренебрежением. Но, когда Феодора увидела, что император не слушает ее и относится к своему секретарю по-прежнему милостиво, то она приказала схватить Приска в его собственном доме. Его посадили на корабль и отправили в Африку, где он тотчас же по приезде получил священнический сан, и с тех пор он не имел больше права занимать какую бы то ни было гражданскую должность. Юстиниан не любил отменять решений, особенно, если они исходили от его жены, а потому счел за благоразумное сделать вид будто ему неизвестно о ссылке Приска, а потом он и совершенно забыл о нем.
Не менее Приска Феодора ненавидела Иоанна Каппадоса, который, после возмущения 532 года, снова был назначен начальником римской императорской стражи на Востоке. Но с такой высокопоставленной личностью Феодора не могла пустить в ход такого простого способа, как с Приском. Юстиниан же не слушал ни ее доводов, ни просьб, ни клеветы, возводимой против Иоанна Каппадоса, если только можно было найти предлог к клевете против него. Тогда Феодора придумала адский план. Она подговорила свою послушную и преданную соучастницу, Антонину, иметь с Иоанном Каппадосом тайный разговор; Антонина должна была рассказать ему о том, будто Велизарий по многим причинам жалуется на Юстиниана, – говорить о всеобщем недовольстве сановников и народа и наконец должна была просить префекта присоединиться к партии, стремящейся свергнуть императора. Прельщенный обещаниями и обольщенный лестью, Иоанн Каппадос согласился явиться на свидание, на котором заговорщики должны были обсудить план действия; это совещание предполагалось устроить в небольшом домике, за городскою стеною. Юстиниана конечно предупредили об этом свидании и он послал Нарзеса и Mapкелла и велел им подслушать все, что будут говорить в маленьком домике. Иоанна Каппадоса обличили в измене, отставили от должности, лишили знаков отличия и сослали в Африку, где он умер в ужасной нищете, так как все имущество его было конфисковано. Со стороны императрицы было довольно низко ставить Иоанну Каппадосу подобную западню, но недостойный министр вполне заслужил такое наказание. Константинопольский народ не жалел больше человека, раз его довели до ссылки алчность, несправедливость и склонность к притеснениям разного рода. На его падение смотрели, как на освобождение, и если бы знали, что им обязаны Феодоре, ее с того времени считали бы благодетельницей.
Но к сожалению еще другие люди сделались жертвами гнева Феодоры. Она была неумолима с тем, кто плохо понимал ее приказания, или исполнял их только наполовину, для того чтобы согласовать ее распоряжения с распоряжениями Юстиниана; а случалось, что приказания императора и императрицы были взаимно противоположны. Кровь Каллиниса, Арсения и Родона, казненных по ее приказанию, или настоянию говорит о ее несправедливом гневе. Что же касается казней тайных, о которых рассказывает Прокопий с "ненавистью тупицы", как говорит Тэн, что касается истязаний и сечении плетьми, производившихся будто бы по приказанию Феодоры в подземельях ее дворца, – то эти обвинения нужно отнести, по Эрнесту Ренану, к категории "необычайно нелепых сплетен больших греческих городов."
Следует также признать более чем сомнительною близкую связь Феодоры с известным Феодором, любовником Антонины, а также приключение с Иоанном, сыном Феодоры, который будто бы приехал из Аравии для того, чтобы представиться своей матери-императрице.
Что касается связи ее с Феодором, то данные Прокопия довольно неясны. Он говорит, что после того как она, по просьбе Антонины, освободила Феодора, она осыпала его всевозможными благодеяниями. Но этого правда очень мало для того, чтобы обвинить Феодору в прелюбодеянии. Говоря о втором факте, автор «Секретной Истории» по-видимому сам себе противоречит. В XVII главе он говорит, будто Феодора предала своего сына в руки наемным убийцам, для того чтобы Юстиниан не узнал этой тайны ее прошлого, а в главе IV Прокопий рассказывает, что она женила своего внука, то есть сына ее Иоанна, на дочери Велизария. Как же могла Феодора открыто признавать, что у нее есть внук, если она сама велела убить Иоанна, для того чтобы не было известно ничего о ее сыне?
В прекрасной же драматической поэме Cleon Rhangabé "Феодора", именно рассказывается подробно о том, как в Византию приехал сын Феодоры Иоанн и представлялся своей матери-императрице.
IX
По примеру Юстиниана, Феодора мало справлялась со своею совестью при выборе средств и людей для достижения своих целей. Она не заботилась нисколько о нравственных качествах своих служащих, если только они хорошо исполняли ее предначертания. Этим объясняется, например, как могла императрица привязаться к Антонине, знаменитой жене Велизария. Этот великий полководец имел только один недостаток, вернее одну слабость, это любовь к недостойной жене. Сражаясь с стотысячным войском варваров, Велизарий выходил на них с небольшими отрядами дисциплинированных, опытных в сражениях солдат, и несмотря на это, всегда почти оставался победителем. Но совладать со своею любовью к изменявшей ему жене – он был не в силах. Антонина была дочерью гениока, циркового возницы. Это обстоятельство одно не считалось унизительным для Велизария, так как в те времена возводили статуи и писали стихотворения в честь этих триумфаторов ипподрома; но говорили, будто Антонина была легкомысленна в юности и заведомо изменяла потом мужу. Сверх того Антонина обнаруживала способности к интригам, была умна и не теряла присутствия духа даже перед неприятелем. Она сопровождала Велизария во время его походов и нередко давала ему полезные указания и советы.
Феодора сначала отклоняла свое сближение с Антониной, не раз высказывавшей ей свое высокое уважение; но потом внезапно сделалась к ней очень благосклонной, стала ей делать роскошные подарки и назначила ее главной смотрительницей своего гардероба. Но каким образом объяснить эту внезапную благосклонность Феодоры к Антонине? Дело в том, что военные успехи Велизария, как полководца, его популярность в народе и войске, которое его обоготворяло, все это немало беспокоило императора и императрицу. Ведь выбрали же в императоры грубого солдата Юстина, так, спрашивается, почему бы не провозгласить на престол такого великого завоевателя, как Велизария? С другой стороны, отказаться от его службы, отставить его, – было опасно, так как постоянно приходилось иметь дело с персами, готами, вандалами и прочими варварами, угрожавшими на границах. Присмотревшись ближе к взаимным отношениям Велизария и Антонины, императрице показалось, что она нашла средство помочь делу. Подружившись с Антониною, стараясь скрыть от Велизария шалости его жены, она приобретала его доверие и расположение; обладая тайными сторонами семейной жизни великого полководца, Феодора могла быть уверена в его верности, преданности себе и императору. Убедившись в своем влиянии на Велизария, Феодора стала пользоваться им во зло. Велизария несколько раз отстраняли от командования, по различным причинам, обыкновенно давая ему более важное поручение. Но более продолжительной опале, продолжавшейся восемь лет, он подвергся уже после смерти Феодоры. Как только Юстиниан стал царствовать один, во главе войска были поставлены другие полководцы, а об Велизарии казалось забывали. Надо было, чтобы варвары подступили к самым стенам Константинополя для того, чтобы император вспомнил, что старый солдат еще жив.
Когда Велизарий командовал походом на Персию, то императрица отставила его по следующей причине. Юстиниан был опасно болен и слух о его смерти распространился даже до Восточной армии. Правдивые или истинные доносы стали обвинять Велизария в том, будто он сказал, что войско не будет признавать нового императора, который будет коронован в Константинополе. Феодора же вероятно думала, что ее титул императрицы обеспечит ей престол в случае смерти Юстиниана, и во всяком случае, даст ей право назначить самой его наследника и царствовать с новым императором сообща. Когда до нее дошли доносы, она рассердилась и потребовала Велизария назад, в Византию. Но через несколько дней после его приезда, она поручила ему командовать итальянским походом. После она убедила Велизария в том, будто только ходатайству его жены Антонины он обязан своему прощению. Поступая таким образом, Феодора имела в виду только еще более упрочить отношения Велизария и Антонины и привязать Антонину к себе.
В своих «Персидских Войнах» Прокопий ничего не говорит о том, будто Велизарий подвергался опале. Он говорит только, что генерал был вызван из Персии Юстинианом, который считал нужным послать его в Италию, где дела шли плохо. Таким образом казалось бы можно сомневаться в том, что Велизарий впал в немилость у Феодоры. Другие же историки, как Феофан, Малала, Кедрен и Зонар разсказывают только, как Велизарий подвергся опале в 563 году, но это было уже после смерти Феодоры. Из подробностей, данных вышеназванными историками следует, что эта опала совпадает с тою, которая, по словам Прокопия (в его «Секретной Истории»), имела место в 542 году.
Так как ничто так не обманчиво, как предания, то мы вместе со многими другими, повторяем, что считаем басню, будто Юстиниан велел проколоть глаза Велизарию и пустил его по миру, несправедливою, В 563 году опала Велизария состояла только в разжаловании и домашнем аресте.
Императрица Феодора умерла в июне 548-го года, когда исполнился двадцать первый год ее царствования. О ее блестящем царствовании напоминают многочисленные статуи, поставленные в честь нее народом во многих городах, а также надписи, сделанные во многих церквах и соборах.

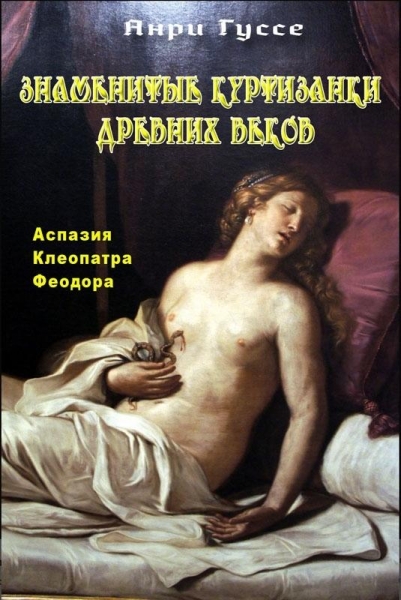
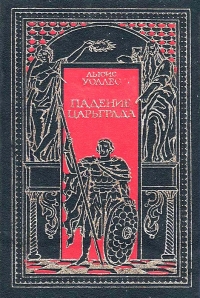
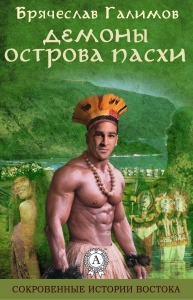
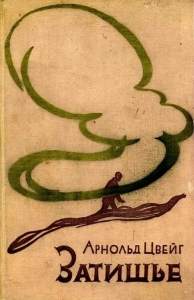


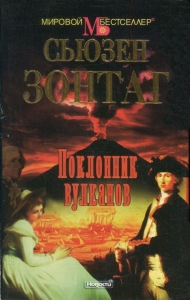

Комментарии к книге «Знаменитые куртизанки древности. Аспазия. Клеопатра. Феодора», Анри Гуссе
Всего 0 комментариев