Аннелизе Ихенхойзер Спасенное сокровище
Рюкзак защитного цвета
По пустынной проселочной дороге с оглушительным треском мчался мотоцикл. Смеркалось. Ветер гнал над полями большие серые облака, то сталкивая их, то разрывая в клочья.
Мотоциклист решил включить фару. Щелк… Слабый луч заметался по ухабистой дороге и тут же погас. Щелк… Щелк… Щелк…
— Черт возьми!
У водителя нет времени остановиться и починить фару, у него нет ни минуты. Он должен попасть на рудник раньше, чем горняки выйдут в ночную смену. Там его уже наверняка ждет Вальтер Гирт.
Огромный террикон[1] рудника «Вицтум» все четче вырисовывался на фоне вечернего неба. У подножия террикона на ветру качались рудничные фонари.
Вдруг на дорогу легла длинная тень. Мотоциклист круто взял в сторону: впереди кто-то стоял. Знакомый голос, раздавшийся из темноты, перекрыл треск мотоцикла:
— Стой!
Посреди дороги, широко расставив ходули ног, торчал полицейский вахмистр Шмидт. Недоставало только встретить этого старого негодяя! Сделав вид, что он ничего не слышал и не знает, кто преградил ему путь, мотоциклист замахал рукой:
— А ну, с дороги!
Полицейский вахмистр не двинулся с места.
— Почему едешь без света? — закричал он. — Стой!
Но мотоциклист никак не мог выполнить этот приказ Шмидта, потому что в рюкзаке у него было нечто, что вовсе не предназначалось для любопытных взоров. Поэтому, чуть не задев полицейского, он объехал его справа.
— Добрый вечер, господин вахмистр! — крикнул он, оглянувшись. — Я сейчас починю фару!
У ворот рудника человек соскочил с мотоцикла и прокатил его мимо вахтера. Сегодня дежурил старый Готлиб-Носач. Этой кличкой вахтер был обязан своему огромному любопытному носу, из которого упрямо торчали желтые, как солома, волосы. Он вечно совал его в чужие дела.
— Глюкауф![2] — приветствовал вахтера кряжистый, широкоплечий мотоциклист. — Я тут забыл кое-что, пришлось вернуться.
— Глюкауф, Брозовский, — пробурчал Готлиб-Носач и мрачно посмотрел на рюкзак защитного цвета, болтавшийся на багажнике мотоцикла.
Тень в окне
Отто Брозовский загнал мотоцикл в угол двора и снял рюкзак с багажника. Еще не переступив порог шахтерской раздевалки, он услышал, как кто-то насвистывает его любимую песню, песню о маленьком барабанщике:
Однажды ночью на привале Он песню веселую пел…Брозовский начал подсвистывать, громко и немного фальшиво. «Это Вальтер!» — подумал он с нежностью.
Он вошел в раздевалку. Электрическая лампочка без абажура слабо освещала узкое, длинное помещение. Вдоль стен стояли деревянные скамейки. На крюках рядами висело серое тряпье — спецодежда шахтеров: потрепанные куртки, рваные, затвердевшие от рудничной пыли брюки. Пыль залепила маленькие слепые окна раздевалки; пыль покрывала скамейки и стены; пыль носилась в воздухе, оседая в легких горняков, которые дышат этим воздухом всю свою жизнь. Со временем у шахтера лицо становится серым, а глаза западают. И, даже если он молод, он уже обречен — у него силикоз, болезнь шахтеров. Медные короли Мансфельда, высосав из него все соки, выбросят его на улицу, как собаку.
Жизнь была сурова и жестока. И жестокость ее возмущала Отто Брозовского. Возмущала, начиная с того самого дня, когда он, совсем еще мальчиком, до крови ободрал себе спину в темном забое.
Отто Брозовский верил, что настанет прекрасный день, солнечный и счастливый, когда свободный горняк водрузит над рудничным подъемником красное знамя. Пылающее красное знамя!
Но долго ли еще этого ждать?
Вальтер Гирт сидел на узкой скамейке. Он уже надел спецовку и, тихонько насвистывая, зашнуровывал ботинки. Брозовскому были видны только его спина и шапка темных, густых волос.
— Глюкауф, друг! Карл еще не пришел?
Вальтер выпрямился и покачал головой. Его веселое лицо было красным от прилива крови.
— Глюкауф! Погляди-ка. — Вальтер поднял ногу: подошва почти совсем оторвалась и хлюпала, напоминая утиный клюв.
— И это называется «высший сорт», товарищ Брозовский!..
Вальтер засмеялся и искусно обмотал ботинок куском шнурка. Теперь подметка и верх снова составили одно целое.
Отто Брозовский подсел к Вальтеру и начал не спеша развязывать рюкзак. Вальтер Гирт сгорал от нетерпения. Сегодня Брозовский впервые вызвал его в раздевалку за полчаса до спуска в шахту. Первое поручение! Но он ни о чем не спрашивал и только смотрел на Брозовского. Движения того были так неторопливы, что Вальтер готов был разорвать рюкзак.
Наконец Отто Брозовский засунул руку в рюкзак и сказал:
— Я тебе кое-что принес. — Он вытащил целую кипу листовок. — Вот, возьми. Разделишь на пачки и завтра утром, перед концом смены, разложишь по вагонеткам. Но незаметно, слышишь ты, горячая голова?
— «Горячая голова»! недовольно повторил Вальтер, но листовку тут же прочитал.
Это была прокламация партийной ячейки рудника «Вицтум».
Горняки! Внимание!
В наступившем году уже двое рабочих были тяжело ранены.
Вы знаете сами: введены новые отбойные молотки. Может быть, хозяева рудников хотят облегчить наш труд? Как бы не так! Они думают только о своем кармане. Наше здоровье, наша жизнь хозяев не интересуют. Среди штейгеров[3] тоже хватает погонял. Эти верные псы своих господ из кожи вон лезут, чтобы доказать свое усердие. Они даже не оставляют нам времени для крепления забоя. Можно ли после этого удивляться, что несчастных случаев стало больше?
Поэтому все на борьбу, все в единый классовый Красный фронт!
Вальтер весь ушел в чтение. Он забыл, что сидит в шахтерской раздевалке, что нужно хранить в тайне, кто принес листовки и кто передаст их дальше. Он прочел во весь голос:
— «Особенно остерегайтесь штейгера Ши…» Ох!
Вальтер получил сильный удар под ребра и замер, раскрыв рот.
— Спрячь это! — Отто Брозовский нахмурил густые брови и еле заметно кивнул в сторону пыльного окна, в котором только что мелькнула тень.
Брозовский соскользнул со скамьи и опустился на рюкзак. Вальтер мигом рассовал листовки по карманам своих изодранных брюк.
Послышался тихий скрип, и дверь распахнулась. Штейгер Шиле! Что ему нужно в раздевалке в такое время?
— Глюкауф, вкрадчиво поздоровался штейгер.
Его крысиные глазки перебегали с Вальтера Гирта на Отто Брозовского и наконец внимательно оглядели рюкзак, на котором сидел Брозовский. Горняки ответили на приветствие.
— Кх… кх… — откашлялся Шиле.
— Сегодня холодновато, — сказал Отто Брозовский, насмешливо посматривая на штейгера.
Шиле поежился: под взглядом этих светлых глаз ему было явно не по себе.
— Что вы здесь делаете так поздно, Брозовский? — спросил он с нарочитым спокойствием.
— Позвольте, ведь я профсоюзный делегат и могу приходить на рудник в любое время! — В голосе Брозовского звучало удивление.
— Это я знаю, — выдавил Шиле, чуть не добавив: «К сожалению».
— А тогда не о чем и говорить, — отрезал Отто Брозовский.
Шиле растерялся. Его взгляд был прикован к рюкзаку. Он сделал еще одну попытку завязать разговор.
— Прошу! — Его портсигар щелкнул под носом Брозовского.
— Я не курю…
Вальтер тоже затряс головой:
— Меня всегда тошнит от папирос.
Получив отпор, штейгер спрятал портсигар и вдруг насторожился: на полу лежало что-то белое. Вальтер перехватил его взгляд и остолбенел: это была листовка!
Должно быть, она выпала, когда он в спешке рассовывал пачки по карманам.
— Присаживайтесь, штейгер, — сказал он, приветливо улыбнувшись, молниеносно поднял листовку, скомкал ее и вытер ею пыль со скамейки. Скомканная листовка исчезла у него в кармане. — Пожалуйста, здесь чисто.
Но Шиле не сел.
— В последнее время у нас по ночам крадут инструменты, — многозначительно сказал он.
«Ах ты, хитрая лиса!» — подумал Брозовский.
— Да, раз инструменты пропали — значит, их кто-то стянул, — равнодушно ответил он.
— Да, да, — продолжал пронырливый Шиле. — И воров уже приметили. Ворованный инструмент они, видно, уносят с собой.
— Вот как? — с серьезным видом отвечал Отто Брозовский и изо всех сил хлопнул по своему рюкзаку. — Да, да, в такой штуке можно что хочешь утащить. Это вы правы.
Шиле встрепенулся, но так и не решился спросить, что лежит в рюкзаке, и, пробормотав «глюкауф», вышел из раздевалки.
Товарищи облегченно вздохнули. Едва исчез штейгер, дверь опять отворилась. Вошел горняк с широким угрюмым лицом и поздоровался за руку с Отто и Вальтером.
Брозовский вытащил часы из жилетного кармана.
— Мы условились встретиться в половине десятого? — сказал он, выразительно взглянув на долговязого Карла Тиле. — Верно?
Он захлопнул часы и, укоризненно постучав по крышке, опустил их в карман.
— Нечего на меня так смотреть, — проворчал Карл Тиле. — У тебя опять листовки? Всё листовки да листовки. Ты думаешь, мы этим чего-нибудь добьемся? Вот увидишь, в конце концов нас накроют. И тогда уж, будьте уверены, насидимся без работы.
Он был зол, и голос его прерывался, потому что пыль уже забила ему легкие. Но он хорошо знал, что Брозовскому лучше не возражать, — во всем, что касалось партии, тот был тверд как скала, строг к себе и другим. Так было и на этот раз.
— Боишься, малыш? — насмешливо спросил руководитель ячейки.
За дверью раздевалки послышались чьи-то шаги.
— Давай сюда, — заторопился Карл Тиле; листовки исчезли в карманах его куртки.
— Разложи их по вагонеткам перед подъемом!
Дверь открылась. Пришли остальные горняки ночной смены. Ночью в рудник спускались немногие, только запальщики: они бурили породу и закладывали в шнуры динамит. Потом взрывали. К тому времени, когда дневная смена спустится в шахту, пыль уже осядет и можно будет выдавать руду на-гора.
Отто Брозовский вместе с обоими товарищами вышел из раздевалки. Вальтер Гирт и долговязый Карл Тиле поднялись по лестнице, ведущей на верхнюю площадку, откуда спускаются в шахту. Брозовский смотрел им вслед. Во дворе было очень тихо. Дул холодный ветер, и черные лужи затягивались тонким ледком. Внезапно в воздухе послышалось тихое жужжание. Отто Брозовский поднял голову. Огромные черные колеса подъемника пришли в движение. Вальтер и Карл Тиле спускались в рудник с листовками в карманах.
Отто Брозовский спускается в шахту
В шесть утра, через час после того как Вальтер Гирт, Карл Тиле и другие запальщики поднялись из шахты, туда спускалась утренняя смена. Переодевшись в раздевалке, забойщики прошли через замерзший двор и, стуча башмаками, поднялись на верхнюю приемную площадку.
Ночью снова наступила зима — ударил мороз, началась метель.
На площадке было темно и нестерпимо холодно. Выстроившись в длинную очередь, забойщики ждали спуска. То раздвигаясь, то захлопываясь, лязгали решетки подъемных клетей. Пронзительно сигналил колокол. Клеть за клетью исчезала под землей. Бесконечный поток тяжелых башмаков грохотал по ступеням; длинная серая очередь не убывала. Люди молчали. Многие из них встали в четыре часа утра. Глоток горячего кофе при свете сального огарка — и долгий-долгий путь по заснеженным дорогам из Мансфельда на рудник. Говорить не хотелось: они слишком устали.
Отто Брозовский, глубоко засунув руки в карманы, стоял в самом конце очереди. Тревожный свет рудничной лампы освещал его лицо — умные глаза, энергичный рот с насмешливой складкой у губ.
— Привет, Отто!
К нему подошел Иоганн Брахман. Он прикурил от лампы Брозовского.
— Привет, Ганнес!
Иоганн был лучшим другом Отто. С детства они были неразлучны, мальчишками сидели на одной парте и, бывало, тайком подпиливали палку, которой грозил им на уроках учитель, прятали ее или обмазывали клеем. Но все это было давным-давно. С тех пор они выросли, стали горняками, коммунистами.
— Ну, как вчера? — спросил Ганнес, почти не раскрывая рта, одними губами.
Отто Брозовский подмигнул ему, утвердительно кивнув головой.
— Великолепно. Они согласны. Текст хороший, оттиск чистый. Молодцы! — Он тоже едва шевелил губами.
Иоганн, сочинивший листовку, смутился и поднял руку, как бы отмахиваясь от похвалы. Он хотел еще что-то сказать, но в это время к ним подошел третий горняк:
— Глюкауф!
— Глюкауф, Рихард! Ну, как твой маленький Макс? — спросил Отто Брозовский.
Рихард Кюммель вздохнул:
— Кто его знает! То ему лучше, то так раскашляется, словно душа из тела выскочить хочет. Жена каждый вечер ревет. Да что поделаешь! Доктор говорит, мы должны его отправить в Гарц.
Он пожал плечами. Иоганн Брахман, работавший вместе с Рихардом Кюммелем, сказал с раздражением:
— В Гарц отправить! Умен этот доктор, куда как умен! Правда, Отто?
Брозовский задумался. Потом повернулся к Кюммелю:
— Послушай, приходи после смены ко мне в профком. Посмотрим, не удастся ли нам отправить твоего Макса через МОПР.
Серая очередь снова двинулась вперед. Забойщики медленно заполняли подъемную клеть. «Дзинь!» — закрылась решетка. «Бом, бом!» — Рукоятчик быстро дернул за веревку колокола, и ноги, плечи, лица, каски с лампами исчезли, словно шахта проглотила их.
И вот уже очередь вползает в следующую клеть. Снова: «Дзинь!», «Бом, бом!» — и клеть исчезла. Она спускает забойщиков под землю, вниз, до четвертого горизонта.
Очередь продвигалась. Мигали огоньки карбидок.
Отто Брозовский, Иоганн Брахман и Рихард Кюммель вошли в клеть. «Дзинь!» — закрылась за ними решетка. «Бом!» — прозвучал колокол. Подъемная клеть, где в два ряда, тесно прижавшись друг к другу, стояли люди, начала падать, бесшумно падать вниз. Она уносила их под землю, на глубину восемьсот метров, на восемьсот метров от солнца и ветра, от деревьев и снега, в темное царство руды, туда, где породу пронизывают тонкие сине-зеленые жилки меди.
Клеть опускалась все ниже и ниже. У одного забойщика еще горела рудничная лампа. Остальные лампы задул сквозняк. Усталые лица тускло белели в свете извивающегося пламени.
Вдруг взгляд Рихарда Кюммеля случайно упал на противоположную стену.
— Глянь-ка, — вырвалось у Рихарда.
Этот возглас привлек внимание всех забойщиков. Восемь пар глаз обратились в ту сторону, куда был устремлен его взгляд. На самом верху подъемной клети из темноты выступала надпись. Кто-то мелом большими печатными буквами написал:
БОРИТЕСЬ С МЕДНЫМИ КОРОЛЯМИ И ИХ ПРИХВОСТНЯМИ!
Отто Брозовский и Ганнес напряженно ждали, что скажут люди.
— Хорошо! — раздался чей-то могучий голос в полутьме стремительно летящей вниз клети. — Правильно!
Маленький, сутулый забойщик пробормотал себе под нос:
— Они загребают деньги, а мы за это расплачиваемся своей шкурой.
— Ну и что? — вызывающе спросил другой. — Так уж повелось со времен Адама и Евы.
— Вот и нужно это изменить.
— Ну и попробуй.
— И попробуем.
Толчок. Стоп. Тяжелым шагом забойщики вышли из клети. Здесь, на рудничном дворе, было темно и душно, в воздухе носилась рудная пыль.
Начинался рабочий день, длинный рабочий день, полный тяжелого труда и опасностей.
Отто Брозовский простился с товарищами. Он работал стволовым на погрузке. Его друг Иоганн Брахман отправился дальше, к своему рабочему месту в забое.
Штейгер Шиле нападает на след
В той же самой клети минут через десять спускался в шахту штейгер Шиле. Белая надпись, четко выступавшая из темноты, поразила его как молния. Его маленькие глазки чуть не выскочили из орбит.
— Бандиты, свиньи! — проскрежетал Шиле, забыв, что он штейгер, государственный служащий, человек благовоспитанный, которому не к лицу подобные выражения.
Ведь он частенько говаривал своей маленькой дочке: «Не смей дружить с этими шахтерскими сорванцами, от них ты научишься только скверным словам». И вдруг пожалуйста, у него самого и такие выражения!
Но в этой злобной брани и был весь Шиле. Он ненавидел всех рабочих, а особенно коммунистов. Он не переставал ломать себе голову над тем, чьих же рук дело все эти надписи и листовки. Днем и ночью ему мерещилось, будто он уже поймал виновного. Сколько прекрасных, обстоятельных рапортов сочинил он мысленно на имя «Его высокоблагородия, генерального директора акционерного общества рудников и медеплавильных заводов Мансфельда». Разве многие штейгеры не получали именно таким образом повышения в должности? Почему бы не получить и ему?
И, пока клеть опускалась в глубину шахты, в воображении Шиле опять рисовался вожделенный рапорт, написанный его четким почерком: «Сего 6-го марта 1928 года, я, штейгер Шиле, осмеливаюсь покорнейше доложить Вашему высокоблагородию, господину генеральному директору, что я установил личность красного агитатора, который уже давно мутит рабочих рудника „Вицтум“. Речь идет о горняке…» На этом месте прекрасный рапорт Шиле всякий раз обрывался. Штейгеру не хватало имени. Только имени. Но ведь в нем-то и заключалось самое важное.
В этот день штейгеру предстояло испытать еще много огорчений.
Спустившись вниз, он прошел туда, где останавливались составы, подвозившие рабочих к очистным забоям. Здесь во время спуска всегда было оживленно. Как раз приближался поезд. Впереди на локомотиве горела рудничная лампа. Поезд остановился, лязгнули буфера маленьких открытых вагончиков. В пыльном полумраке люди молча расходились по составам, отправлявшимся в различных направлениях. Штейгер Шиле искал поезд, который должен был доставить его к четырнадцатой лаве.
Навстречу ему шли горняки:
— Глюкауф!
— Глюкауф!
— Добрый день!
Кто-то подал ему руку. Шиле удивился: «Обычно эти оборванцы не слишком вежливы». Но вдруг он побагровел, на лбу у него вздулись жилы.
Здороваясь, шахтер сунул ему в руку листовку. В первую минуту Шиле остолбенел, но тут же мысль его лихорадочно заработала. «Ага, теперь он у меня в руках!» — торжествующе подумал Шиле. Он проворно обернулся и схватил кого-то за рукав.
— Ты, красная сволочь! — взвизгнул он так громко, что эхо отозвалось в породе.
Человек повернул голову: холеное, одутловатое лицо; каска из самой лучшей фибры, до блеска начищенная лампа. Из-под каски на штейгера смотрели разъяренные глаза. Шиле побледнел так же внезапно, как за минуту до этого покраснел.
Господин горный асессор Янке!
Штейгер Шиле чуть не лишился чувств. В ушах у него звенело и свистело; надменный голос начальника доносился до него откуда-то издалека.
— Вы, видно, не в своем уме, многоуважаемый штейгер!
Дрожа и запинаясь, Шиле пробормотал:
— Извините меня, пожалуйста, извините, господин горный асессор, я вас… ах, боже мой, я думал… Я принял вас… нет, я вас, конечно, не принял… Я нашел листовку, коммунистическую листовку… Ужасная ошибка!
И Шиле продолжал бессмысленно бормотать что-то несвязное.
В некотором расстоянии от них столпились горняки. Молча наблюдали они за взбешенным асессором и заикающимся штейгером. Не каждый день увидишь, как начальники ссорятся.
Из толпы раздался звонкий голос:
— А канарейки-то неплохо чирикают!
Стены содрогнулись от смеха. Горный асессор Янке потерял остатки самообладания. Стукнув тростью о землю, он рявкнул:
— Вы осел! — и поспешно удалился.
Штейгер Шиле уныло поплелся к своему составу.
Но в тот момент, когда Шиле уже хотел опуститься на узкую скамью вагончика, он снова увидел маленький печатный листок и машинально прочитал: «…Все на борьбу, все в единый классовый Красный фронт… Особенно остерегайтесь штейгера Шиле…» Штейгера Шиле… Шиле… Ох! Шиле стало совсем плохо. У него даже в животе похолодело от злости и чувства собственного бессилия. Он задумался. «Особенно остерегайтесь штейгера Шиле!» Ну и сел же он в лужу! Он должен узнать, кто пишет эти лозунги и листовки. И он узнает. Он им положит конец! Он за все рассчитается!
Шиле думал и думал. Кто бы это мог быть? Он перебирал в уме всех горняков, одного за другим. Вокруг, тесно прижавшись друг к другу, сидели забойщики, понурые, безучастные. Некоторые молча курили. На штейгера никто не обращал внимания. «Наверное, все они уже прочли листовку», — думал он, поеживаясь. Громыхая, мчался поезд. Фигуры рабочих отбрасывали гигантские тени на потрескавшиеся стены шахты. Штейгеру Шиле стало страшно.
На седьмом этаже он вышел и стал быстро спускаться по узкому туннелю в два километра длиной. Шиле был здесь совсем один. Дрожащий свет его лампы падал на бесконечные рельсы и трубы, на неровную почву и отвесные стены. Вокруг было тихо.
Мимо штейгера пробегали груженные рудой вагонетки. Казалось, их тянула вперед чья-то невидимая рука. Мрачно поблескивали куски породы. Но что это? Шиле протер глаза.
На стенке вагонетки, скользившей как раз мимо него, белела какая-то надпись. «Да здравствует Красный фронт!» — прочел он по буквам. Внизу были нарисованы серп и молот. Следующая вагонетка — «Все на борьбу за увеличение зарплаты на 1 марку!» Вагонетка исчезла так же тихо, так же медленно, как и появилась.
Следующая вагонетка. У штейгера потемнело в глазах: «Штейгер Шиле — палач шахтеров!» Поравнявшись с ним, вагонетка задребезжала, и штейгеру показалось, что она трясется от смеха. Он прошел мимо путевых сторожей, подозрительно оглядывая каждого. Может быть, этот маленький старичок — коммунист? А может быть, вот тот, молодой, с дерзким взглядом, или тот, у которого на руке не хватает трех пальцев? Но Шиле ничего не мог прочесть на этих лицах, ничего, кроме ненависти. И штейгера охватил страх: «А что, если коммунисты все трое?»
— Глюкауф, — торопливо бросил он и прошел мимо.
Отмороженное ухо
Прошло несколько часов.
За эти часы забойщики вырубили тяжелыми отбойными молотками немало медной руды. За эти часы навальщики накидали немало добытой руды в вагонетки. За эти часы четырнадцатилетние мальчики-откатчики, сгибаясь, оттащили от забоев немало груженых вагонеток весом в пять центнеров.
За эти часы внизу на погрузке стволовые втолкнули в подъемные клети немало вагонеток с медной рудой. «Дзинь!» — задвига́лась решетка. «Бом! Бом!» — звонил колокол. Одна клеть поднималась за другой, и в каждой было по восемь вагонеток, и каждая вагонетка была доверху нагружена темно-серой рудой.
Наверху, над рудником, ни на минуту не останавливались колеса подъемника. С момента спуска в шахту утренней смены прошло уже несколько часов.
За эти часы взошло солнце, и на холмах вокруг Мансфельда засверкал выпавший ночью снег. Небо было синее-синее, и по нему плыли облака, белые как снег и быстрые, как гоночные яхты. Великолепное утро!
Около девяти часов на проселочной дороге из Эйслебена показался блестящий темно-голубой «Мерседес». Въехав на холм, автомобиль остановился. Из него выскочил шофер. Он обошел вокруг машины, отвязал пару лыж, прикрепленных к кузову сбоку, и распахнул дверцу. Из машины вышел дородный мужчина. Он встал на лыжи, застегнул крепления, всунул руки в теплых, пестрых варежках в кожаные петли палок и отъехал от дороги. Он с наслаждением вдыхал холодный чистый воздух, радуясь этому последнему зимнему дню. Рывок — и, плавно съехав с холма, лыжник устремился к террикону, который четко вырисовывался на фоне синего неба, напоминая огромное белое чудовище.
Лыжник въехал в ворота рудника, снисходительным кивком ответив на приветствие вахтера.
— Гляди-ка, дед, господин генеральный директор решил поразмяться и снова удостоил нас визитом, — сказал хромой вахтер Гейне старому горняку, сидевшему в проходной у маленькой железной печурки и курившему трубку.
— Чтоб его черти побрали! — отозвался старый горняк и поковырял пальцем в трубке.
— Что, табак? — спросил вахтер, подмигивая.
Старый горняк погрозил костылем.
— Табак? — проворчал он. — Нет, я говорю о старике. Часиков в восемь позавтракает в своей пуховой постели, а потом катит сюда на лыжах и давай брюзжать, что опять выдали мало руды. Нечего сказать, славный спортсмен наш уважаемый господин директор! Делает себе поворот на лыжах, а сам все думает, как бы побольше выжать из рабочего; съезжает с горы, а сам подсчитывает прибыль. А уж если шлепнется носом вниз — виноваты красные. Я никому не хочу зла, но ему я желаю сделать двойное сальто в сугроб, и пусть его сверху снежком присыплет, чтоб его черти взяли!
Хромой Гейне кивнул:
— Если он теперь зайдет к Паппке, снова жди бури. Хотел бы я хоть одним глазком поглядеть, что там будет твориться.
Перед зданием правления генеральный директор акционерного общества рудников Мансфельда отстегнул лыжи. Он был доволен своей утренней прогулкой и тем, что так удачно сочетал ее с очередным посещением рудника. Он стряхнул снег с ботинок, взял лыжи и палки в руки и вошел в темный коридор правления. Ничего не разбирая в темноте после яркого снега и солнца, он шагнул к стене, чтобы прислонить лыжи, и на кого-то наткнулся.
— Чего вы здесь торчите? — накинулся он на рабочего.
Тот не пошевельнулся. Он стоял, прижавшись к стене, закрыв глаза и держась рукой за правое ухо.
— Пошел ты к черту! — чуть слышно выдавил он посиневшими губами.
— Да вы знаете, с кем разговариваете? — рявкнул директор.
Рабочий открыл глаза и увидел перед собой полное, пышущее здоровьем лицо.
— Ах, это вы? Это вы? — проговорил он медленно и уставился на темно-синюю шапку директора, из-под опущенных ушей которой выглядывали мягкие белые завитки барашкового меха.
От пристального взгляда этих голубых глаз директору стало не по себе, и он снова накинулся на рабочего:
— Не угодно ли вам объяснить, почему вы торчите здесь в рабочее время?
Шахтер не отвел взгляда.
— Знаете что, — сказал он еле слышно, — я покажу вам, почему я здесь.
И он отнял руку от уха. Его лицо было смертельно бледно, но даже на фоне этого бледного лица резко выделялось белое, как полотно, ухо.
— Отморозил, слышите? — Рабочий осторожно прикоснулся пальцем к уху. — Отморозил на сортировке, господин генеральный директор.
Директор небрежно отмахнулся:
— Ухо отморозил!.. Вечно у вас что-нибудь! Вы просто не хотите работать, вы… — Он с трудом сдержался, снял варежку и вытащил из кармана портсигар.
Сортировщик задохнулся от возмущения. Он сделал шаг вперед. Его худое, бледное лицо с отмороженным, белым, как полотно, ухом придвинулось к толстому, раскрасневшемуся лицу директора.
— Господин генеральный директор, — сказал он, не повышая голоса, — вам, конечно, не известно, что наверху в сортировочной двадцать градусов мороза и вдобавок ветер гуляет.
Директор сделал шаг назад. Он сдернул с руки вторую варежку и, ударив ею об стену, стряхнул с нее намерзшие кусочки льда. Потом достал сигару, молча сунул ее сортировщику в карман, повернулся и ушел. Рабочий не двинулся с места. Он взял сигару в руки; крепкие коричневые листья табака были перехвачены красным бумажным колечком с серебряной короной и надписью на незнакомом языке. Такой сигары он еще никогда не видел. Медленно и осторожно он размял ее пальцами.
Затем прислушался. Из кабинета начальника производства Паппке доносился крик. «Ага, — подумал сортировщик, — господин генеральный директор разъясняет свою точку зрения». Он подошел поближе к двери.
Слышно было, как директор возбужденно бегает взад и вперед по комнате. Из-за двери долетали обрывки фраз: «Вчера было мало… А как вы себе это представляете?.. Газета… цены на медь… медь… Пропадают зря… Не допускать!.. Здесь у вас, как в санатории… Скандал… Медь…»
Голоса Паппке почти не было слышно. Лишь изредка он мямлил: «Совершенно верно, господин директор… Конечно, господин директор… Вы будете довольны, господин директор…» Но это робкое блеяние ягненка заглушалось грозным рыканьем льва.
Хлопнула дверь.
Схватив лыжи, директор выскочил во двор, бросил их на землю, надел крепления и побежал к воротам рудника.
Хромой вахтер Гейне посмотрел ему вслед и сказал, обращаясь к старому горняку, подогревавшему на печке котелок кофе:
— Взгляни-ка, дед, хозяин опять поехал на своих полозьях. Бьюсь об заклад, опять недоволен — все ему руды мало. Еще бы! Упаси бог, не хватит денег, чтобы покатить на Ривьеру.
Старик лукаво подмигнул и сказал плаксивым голосом:
— Не будь так жесток, Альберт. Мне от души жаль его высокоблагородие. Ну представь себе только: ведь, когда у нас будет социализм, ему, бедняге, еще, чего доброго, придется работать.
Приказ передается дальше
После того как генеральный директор захлопнул за собой дверь, начальник производства Паппке еще несколько минут в полном отчаянии стоял за своим письменным столом: лист бумаги дрожал в его руке. Затем он выпрямился и нажал кнопку.
Раздался оглушительный звонок. Вошла секретарша с толстым стенографическим блокнотом.
— Срочно вызовите ко мне всех штейгеров и старших штейгеров, которых сумеете разыскать. Да побыстрее!
Секретарша выбежала. Начальник производства Паппке рухнул на стул и вытер пот со лба. Придя в себя, он поклялся честью заслуженного штаб-офицера прусской королевской армии, что выполнит приказ генерального директора.
Один за другим собирались служащие — штейгеры и старшие штейгеры. Пришел и Шиле. Он случайно оказался в числе тех, кого удалось найти, и теперь был счастливейшим из смертных оттого, что ему доведется лично выслушать важное сообщение начальства.
И вот начальник производства Паппке, расправив плечи, встал из-за стола.
— Вы можете не садиться, господа, — сказал он. — То, что я хочу вам сообщить, не займет много времени. Только что здесь был наш глубокоуважаемый господин генеральный директор. Мы с ним все обсудили и пришли к единому мнению. Как, собственно, вы, господа служащие, представляете себе нашу работу? Вы что, не читаете газет? На мировом рынке цены на медь падают. Испания поставляет медь дешевле, чем мы. Если так будет продолжаться и дальше, мансфельдские рудники придется закрыть. Этого нельзя допустить. Темп работы у нас никуда не годится. Люди прохлаждаются как в санатории. Просто скандал! Нужно увеличить добычу меди, и безотлагательно! Позаботьтесь, господа, о том, чтобы рабочие по крайней мере за эти последние часы еще что-то сделали. О нашем разговоре оповестите по телефону остальных служащих. Все. Можете идти. До свидания.
Внизу, на рудничном дворе, Отто Брозовский и стволовой Ленерт вкатывали груженые вагонетки в подъемную клеть. Ленерт, длинный и тощий как жердь, был еще не стар, но виски у него уже поседели. Из левого рукава пиджака вместо руки торчал железный крюк.
Вагонетки сталкивались, звякая сцепами. Задвига́лись решетки, звонил колокол. Подъемная клеть бесшумно уходила вверх, и на ее месте так же бесшумно появлялась другая.
Но на этот раз вместо пустых вагонеток из клети выкатился штейгер Шиле, да так поспешно, будто ему была дорога каждая секунда. Впопыхах он споткнулся о рельсу и едва не упал.
— Что за беспорядок! — пробормотал он и поспешил дальше.
Отто Брозовский смотрел ему вслед, пока он не скрылся в глубине туннеля, потом, покачав головой, сказал Ленерту:
— Он прямо лопается от злости. Выслужиться хочет, гадина!
Они подтолкнули очередную вагонетку, и она, гремя, покатилась в клеть. Оба на секунду перевели дух.
Ленерт вынул из кармана пиджака перепачканную листовку и сказал:
— Здесь кое-что написано о Шиле. Надеюсь, он прочел. Знаю я этих погонял. — И он ударил по вагонетке железным крюком, который торчал у него на месте руки. — Вот. Отдавило, когда я был пятнадцатилетним мальчишкой.
Отто Брозовский взглянул на железный крюк и задумался. Они стали толкать следующую вагонетку. Немного погодя Брозовский спросил:
— Скажи-ка, Ленерт, что бы ты сделал со штейгером, у которого на совести твоя рука?
— Смешной ты, Брозовский… — Рабочий помолчал. — Да разве я могу сделать, что захочу? Если бы я мог распоряжаться… Ну, скажем, был бы я начальник производства… — Он покачал головой и махнул рукой. — Чепуха. И что за чепуху я несу!
Но Брозовский не отставал:
— Нет, ты скажи, что бы ты сделал… как начальник производства?
Рабочий рассмеялся:
— Я — и вдруг начальник производства? Знаешь, Брозовский, по ночам мне частенько снится всякая ерунда, но такого вздора я и во сне никогда не видел.
Брозовский всем своим сильным телом налег на вагонетку и, сдвинув ее с места, сказал:
— И вовсе это не вздор! Просто тебе так кажется потому, что мы живем здесь, в Мансфельде. А вот в Кривом Роге шахтами управляют такие, как ты да я.
Ленерт недоверчиво усмехнулся:
— Ну, уж это сказки!
— Совсем не сказки.
— Где это, говоришь?
— В Кривом Роге, — повторил Брозовский. — Это город в Советском Союзе — центр горнорудного района.
Но Ленерт по-прежнему усмехался:
— Значит, шахтами там управляют горняки вроде тебя и меня? — Он подмигнул. — Да ты, видно, хочешь меня разыграть. Так я тебе и поверил!
— Это правда, Ленерт, чистая правда. Нам оттуда писали сами горняки.
— Кому писали? Тебе? Потому что ты Отто Брозовский и у тебя голубые глаза?
Брозовский рассмеялся.
Они вместе втолкнули вагонетку в клеть. Взвизгнули колеса, лязгнули сцепы.
— Приходи-ка к нам на собрание ячейки, — сказал Брозовский. — Я покажу тебе письма.
— Хорошо, Брозовский, только смотри не забудь.
Они продолжали работать молча. Каждый думал о своем.
Глубоко под землей
На глубине восемьсот метров, под пластами отложений краснозема и кварца, под миллионами тонн породы, земную кору прорезает черный слой медной руды толщиной в двадцать сантиметров. Крошечными точечками, тонкими зелено-голубыми прожилками залегает в руде драгоценный металл — медь.
Почти лежа в забое, напрягая каждый мускул и обливаясь по́том, Иоганн Брахман управляет вибрирующим отбойным молотком. Отбойная пика вгрызается в руду и вырывает ее из массива породы. Иоганн — опытный горняк. Говорят, таким, как он, порода сама отдает затаенные в ней богатства. Кругом темно, только лампа Иоганна выхватывает из мрака отбитые глыбы.
А позади него — Рихард Кюммель, согнувшись, лопатой кидает руду в вагонетку. Скрежещет лопата, ударяясь о каменистую почву, с глухим стуком падают на дно вагонетки куски породы. Луч рудничной лампы беспокойно мечется от вагонетки к груде руды, в которую вонзается лопата, и снова к вагонетке; опять к руде, и опять к вагонетке. И так непрерывно, без единой остановки. В забое жарко. Пыль серым покровом застилает низкий сводчатый проем. Подобно крошечным колоннам, деревянные стойки креплений поддерживают испещренную трещинами кровлю забоя. Грохочет отбойный молоток, скрежещут лопаты. По временам в глубине темного штрека, отходящего от забоя, появляется свет — это ползут мальчишки-откатчики, толкая перед собой пустые вагонетки. А вагонетки с рудой они увозят назад. Маневрируя между забойщиками, деревянными креплениями и воздухопроводными шлангами, они исчезают в темноте низкого штрека.
Раз за разом Иоганн Брахман вводит отбойную пику в толщу руды, — черные, гладкие глыбы падают наземь. Но мысли Иоганна далеко от забоя, от руды, от этого грохота. Он видит перед собой лицо своего сынишки. Вчера вечером Петер вернулся домой грязный, в царапинах и ссадинах — видно, с кем-то подрался. Он подошел к отцу и торжественно преподнес ему картинку, которую сам нарисовал; подарок ко дню рождения. Иоганн улыбается и думает: «А ведь я еще не показал ее товарищам». Он следит за пикой, наискось вгрызающейся в породу, вытаскивает ее и, подтянув за собой шланг, устанавливает в другом месте. Как хочется Иоганну выпрямиться, расправить спину, потянуться! Но кровля забоя так низка, что стоит ему встать во весь рост, и он заденет ее головой, и тогда сверху посыплются куски отвалившейся породы.
Грохот молотков, скрежет лопат, лязг вагонеток наполняют душный и пыльный забой.
Иоганн Брахман откладывает молоток в сторону и пробирается в угол. По пути он хлопает Рихарда и остальных шахтеров по плечу:
— Перерыв.
Один за другим подползают навальщики и откатчики. Они скручивают папироски и прикуривают от карбидок. Мальчишка-откатчик достает из кармана листовку и читает, медленно шевеля губами:
— «Наше здоровье, наша жизнь хозяев не интересуют». — Мальчик кивает. — Чистая правда, — говорит он и протягивает листовку подручному забойщика.
Листовка переходит из рук в руки, покрываясь черными отпечатками пальцев, потом снова исчезает в кармане мальчишки.
Шахтеры молча курят. С их пыльных лиц, с их обнаженных тел скатываются на пол маленькие капли пота. Теперь в забое очень тихо.
Шиле подслушивает
Приблизившись к забою, штейгер Шиле вдруг услышал, что грохот отбойных молотков затих. Почти тотчас же умолк и стук руды, падающей на дно вагонетки. Штейгер Шиле замер на месте. Вдали он видел забой, мерцающий в голубоватом свете карбидок.
«Вот это удача, — подумал он, — наконец-то я накрыл этих бездельников!» Он пощупал листовку, которую сегодня утром аккуратно спрятал в карман куртки. Наконец-то! Наконец-то он услышит, о чем говорят шахтеры между собой! Теперь-то он узнает, кто скрывается за этими листовками, за всей этой коммунистической пропагандой на руднике.
Штейгер Шиле погасил лампу и, стараясь не шуметь, осторожно пополз к забою. Добравшись до него, он присел на корточки и прижался к стене.
Приглядевшись, он узнал Иоганна Брахмана и Рихарда Кюммеля. «Я давно подозревал, что они коммунисты», — подумал Шиле. Он бесшумно подвинулся еще немного, лег на живот, вытянул шею и приставил руки к ушам. Но даже это ему не помогло — он не услышал ни слова. Горняки курили молча.
Шиле рассвирепел. Раз уж такая незадача, он им покажет, как бездельничать! И он снова зажег фонарь и пополз в забой.
Первым его заметил Иоганн Брахман. Он не двинулся с места, только затянулся поглубже и, в упор посмотрев на штейгера, сказал:
— Вы так быстро ползаете, штейгер, что сам Нурми[4] и тот, глядя на вас, лопнул бы от зависти.
Шахтеры рассмеялись.
— Не знаю, о чем вы говорите, Брахман, — поспешно ответил Шиле. — Во всяком случае, мне с вами разговаривать не о чем. — И, глядя на сидящих вокруг шахтеров, закричал: — Лодыри, работа стоит, а они расселись по углам и прохлаждаются! Неудивительно, что сегодня руда совсем не поступает.
— Что? Руда не поступает? — сказал Иоганн. — Бросьте шутить. У нас перерыв. Это наше право. Мы с шести часов в забое.
— Правильно, — подтвердил кто-то.
Штейгер Шиле взял мел и начал выводить на полу цифры. Закончив расчет, он сказал:
— Так вот, ваш забой до конца смены должен дополнительно дать две вагонетки, иначе администрация будет вынуждена вычесть недостачу из вашего жалованья. — И он постучал мелом по стене забоя.
Шахтеры переглянулись. Иоганн Брахман понимал, о чем думает сейчас каждый из них. Он притушил окурок и сказал спокойно и неторопливо:
— Будь я на вашем месте, штейгер, мне было бы стыдно. Ваш дед был простой горняк. А вы стали подпевалой мансфельдских капиталистов. Нет у вас ни стыда, ни совести. Второго такого, пожалуй, и не сыщешь. Теперь вы по крайней мере знаете, что о вас думают горняки. Мы вам это еще припомним.
Шахтеры погасили папиросы. Забойщики вернулись к отбойным молоткам, навальщики взялись за лопаты, откатчики покатили груженые вагонетки и скрылись с ними в темном штреке.
Иоганн Брахман взялся за отбойный молоток. Молоток загрохотал в его сильных руках.
Проходили минуты, проходили часы. Еще две вагонетки… Еще одна вагонетка… Еще полвагонетки…
В полумраке блестели обнаженные тела шахтеров. Руда со стуком падала на каменистую почву, скрежетали лопаты. Пот застилал глаза. Иоганн уже с трудом различал пику своего молотка, упрямо вгрызавшуюся в породу. Он рывком вытаскивал пику — с грохотом обрушивалась отбитая руда; снова брался за молоток, снова направлял его в породу.
«До конца смены осталось совсем немного, — подумал Иоганн и вытер пот со лба. — Не больше получаса». Мысленно он был уже наверху, за тысячу метров от этого душного, пыльного и тесного забоя. Его тянуло к солнечному свету, домой, к сыну. «Ах да, — вспомнил он, — я так и не показал ребятам картину Петера. Ну и уши у этого сорванца! — Иоганн невольно улыбнулся. — Точь-в-точь как у меня. Он и вообще очень на меня похож. Такой парнишка…»
Вдруг в кровле забоя что-то зловеще треснуло. Крепь стала гнуться.
— Назад! — крикнул Иоганн, но было уже поздно: каменная глыба с грохотом рухнула вниз.
Все скрылось за густым облаком пыли. Слышались лишь глухой гул да тяжелое дыхание шахтеров, пробиравшихся к штреку. Иоганн полз последним.
— Ганнес! — простонал кто-то за его спиной.
Иоганн прислушался и повернул назад. Через минуту он наткнулся на Георга, пятнадцатилетнего мальчика-откатчика. Правая нога у него была раздавлена. Мальчик лежал неподвижно, с закрытыми глазами.
— Крепись, Георг, — мягко сказал Иоганн. — Стисни зубы.
Он помог мальчику перевернуться на живот:
— А теперь поползли, надо спешить!
При тусклом свете лампы он увидел, как Георг волочит окровавленную ногу. «Он спасен, — подумал Иоганн с облегчением, — теперь он спасен».
Вдруг, словно шум урагана, прокатился грохот. И в этом грохоте потонул крик. Лампа погасла. С треском рухнула кровля забоя.
Не верь этому, Петер!
Впереди на рудничном дворе стволовые толкали в подъемную клеть вагонетку за вагонеткой. И каждая вагонетка была доверху нагружена рудой.
— Ты ничего не замечаешь, Ленерт? — спросил Отто Брозовский шахтера, у которого из рукава вместо руки торчал железный крюк.
— Руды-то становится все больше, — ответил тот.
— Все больше, — кивнул Брозовский. — Ох уж эти погонялы. Ребята и без того вымотаны. Лишь бы все сошло благополучно.
На рудничном дворе стоял невообразимый шум. Все чаще прибывали вагонетки. Они со скрежетом катились вниз под уклон, сталкивались, железо ударялось о железо. Шахтерам приходилось кричать, чтобы понять друг друга. Звонил колокол. Лязгала решетка.
Внезапно шум оборвался. Умолк грохот вагонеток. Наступила жуткая тишина.
— Что это? — спросил Отто Брозовский и взглянул на Ленерта.
Рукоятчик, стоявший у колокола, отпустил веревку. Рабочий, задвигавший решетку, оставил ствол открытым. Все сгрудились вокруг Отто Брозовского.
И вот вдали показалась группа шахтеров, спускавшихся по наклонному штреку. Тяжело ступая и опустив головы, они осторожно несли носилки.
От тяжелого предчувствия у Отто Брозовского потемнело в глазах. Жив ли тот, кого несут на носилках? Кто это?
Он медленно двинулся навстречу шахтерам. Остальные последовали за ним. Обе группы молча подошли друг к другу. Все так же молча рабочие опустили носилки на землю. И Отто Брозовский увидел: человек, лежавший на носилках, был мертв. Изодранная серая куртка прикрывала неподвижное тело. Брозовский вопросительно взглянул на товарищей. В глазах Рихарда Кюммеля стояли слезы.
— Брахман, — сказал он еле слышно. — Иоганн…
У Отто мучительно сжалось сердце: «Ганнес!.. Мертв! Убит Ганнес!»
Рихард Кюммель рассказывал тихо, словно про себя:
— Шиле… он потребовал еще две вагонетки. Не хватило времени поставить как следует крепь. Кровля…
Он замолчал.
Тишину нарушило чье-то рыдание. Отто Брозовский поднял голову. Плакал Георг, мальчик-откатчик. Его поддерживали двое шахтеров. Нога у него была забинтована, и бинт покраснел от крови.
Отто Брозовский посмотрел на носилки, снял шапку и обвел взглядом шахтеров.
— У Иоганна есть сынишка, Петер…
Больше он ничего не сказал. Не мог. «Бедный Петер, ты еще не знаешь, что твой отец погиб! Но не пройдет и часа, ты узнаешь об этом. Узнаешь, когда мы принесем Ганнеса домой. Мертвого! Убитого! „Такова судьба горняка“, — скажут тебе. Не верь этому, Петер!»
— Убийца!
Он произнес это слово не громко, но оно прозвучало под темными сводами, как удар грома, и отозвалось в сердце каждого, кто стоял сейчас у носилок погибшего товарища.
Отто Брозовский сжал руку в кулак и поднял вверх. Он прощался со своим лучшим другом, горняком Иоганном Брахманом, коммунистом Иоганном Брахманом.
И вслед за ним подняли сжатые кулаки все шахтеры.
Много здесь собралось шахтеров. Они всё подходили и подходили. Кончилась смена. И первая клеть, поднявшаяся вверх, к дневному свету, увезла того, кто никогда уже больше не увидит солнца. Лязгнула решетка, прозвонил колокол, и каждый понимал сейчас лучше, чем утром, надпись, которая настойчиво била в глаза со стенки подъемной клети.
Когда вся смена вышла наверх, Отто Брозовский и Рихард Кюммель подняли носилки на плечи и пошли вперед, возглавляя молчаливое шествие горняков. Они спустились по лестнице, прошли через залитый солнцем двор и остановились перед правлением. Паппке, увидев эту безмолвную процессию, тихо закрыл окно и забился в глубь комнаты.
«Не грусти, Петер!»
В воскресенье после похорон Отто Брозовский зашел в соседний дом.
В маленькой кухне за столом сидела бабушка Брахман и шила. Она латала коротенькие штанишки Петера. Глаза у нее покраснели и опухли. С тех пор как горняки принесли ей скорбную весть, она мало спала и много плакала.
Подняв голову, она приветствовала соседа:
— Как хорошо, что ты пришел.
Отто Брозовский положил руку ей на плечо. С того страшного дня старушка, казалось, стала еще меньше.
— Ну, бабушка, — ласково сказал он, — скоро весна.
Она покачала головой:
— Ах, Брозовский, для меня теперь нет весны. Как мне жить без Иоганна? Да и на что жить? При такой пенсии разве что с голоду не умрешь. — Старушка глубоко вздохнула. Слезы потекли по ее морщинистому лицу. — Мне все еще не верится, что на нас свалилось такое несчастье. — Она вытерла глаза. — А больше всего у меня за мальчишку сердце болит. Еще двух лет не прошло, как мать схоронили. А теперь…
— Да, тяжело, конечно… — Отто Брозовский подвинул стул, сел рядом с плачущей женщиной и ласково сказал: — Все, кто знал Ганнеса, горюют о нем. Все любили твоего сына. А я… ты ведь знаешь… я чувствую себя так, словно от меня отрезали половину.
Красные заплаканные глаза старушки Брахман с благодарностью взглянули на него.
— На похороны пришло много горняков, — сказала она. — Было прямо как на демонстрации.
Она вспомнила серьезные лица шахтеров, плотной толпой стоявших на болотистом кладбище перед вырытой могилой. Да, у ее сына было много друзей! Она вспомнила красные опущенные знамена и песню, которую пели рабочие. Хорошую, правдивую песню. Она дошла до самого ее сердца. Сначала она звучала мрачно и глухо, словно из недр рудника:
Вы жертвою пали в борьбе роковой…Но затем песня поднималась ярко и бесстрашно, как огромное сияющее утреннее солнце:
Настанет пора, и проснется народ, Великий, могучий, свободный. Прощайте же, братья, вы честно прошли Свой доблестный путь, благородный.Рабочие несли красные знамена. Пламенея, они развевались на ветру. И старая мать уже не чувствовала себя одинокой. Она крепко прижала к себе маленького Петера и вместе со всеми подняла сжатый кулак в знак прощального привета. И Петер тоже поднял свой маленький худенький кулачок.
Это было всего неделю назад.
Старушка глубоко вздохнула.
— Уж больно мне Петера жаль. Как мы будем жить? Ему вот новые штанишки нужны, а у нас и на хлеб-то еле хватает. На нем все горит, ты только посмотри. — И она показала Отто штанишки, на которые ставила заплату. — Этакий дьяволенок!
Отто Брозовский улыбнулся и подошел к Петеру, который все это время смирно сидел за столом и рисовал на клочке бумаги знамена с серпом и молотом. Он взъерошил мальчугану вьющиеся волосы:
— У тебя уже карандаш накалился.
Петер поднял голову. Его круглое личико было бледно, а узкие серые глаза заплаканы.
— Как это — накалился?
— Да очень просто. Ты все рисуешь, вот карандашу и стало жарко.
— Так не бывает.
Петер снова принялся рисовать.
— Ого, да ты смекалистый парень, — сказал Отто Брозовский и взял Петера за подбородок. — Хочешь прокатиться со мной на мотоцикле, а? Погода чудесная, можно поудить. Ведь рыба меня уже всю зиму дожидается. Поедешь со мной?
Петер даже покраснел от радости. Он взглянул на бабушку.
— Ступай, — кивнула она. — Только шарф повяжи, а то на мотоцикле продует.
Они зашли к Брозовским и через сени вышли во двор. Петер заглянул в щелку хлева. В одной клети он увидел осла Луше, в другой — поросенка, а в третьей стояла коза, или, как говорили в Мансфельде, горняцкая корова.
По дороге Отто Брозовский еще раз зашел на кухню.
— Послушай, мать, — сказал он тихо, так, чтобы не услышал Петер. — Я возьму мальчугана с собой поудить рыбу. Он плохо выглядит, такой бледный, что смотреть больно.
Минна Брозовская, чистившая картошку, подняла голову и кивнула. Ее живые, темные глаза глядели сочувственно.
— Только смотри к обеду будь дома. И знаешь что? Приводи мальчугана с собой. А я схожу за бабушкой. Пообедаем ровно в час: ребята хотят пойти в кино.
Отто Брозовский улыбнулся жене, вышел из кухни и через двор направился к сараю.
В сарае было темно. Направо от двери находился крольчатник, а сзади, в углу, стояли велосипеды детей и мотоцикл. Отто еще раз проверил шины и посмотрел, достаточно ли бензина в баке. А Петер в это время просунул палец сквозь решетку крольчатника и достал оттуда листик.
— На, возьми, — поманил он кроликов, размахивая зеленым листочком.
Крольчиха вприпрыжку подбежала и схватила листок зубами. У нее были красные глаза и пушистая белая шкурка; звали крольчиху Снегурочка.
Отто Брозовский подкатил мотоцикл к двери и снял со стены две удочки.
— А куда мы поедем, господин Брозовский?
Отто Брозовский остановился и взглянул на Петера:
— Послушай, Петер, называй-ка меня лучше «дядей». Ведь твой отец был моим лучшим другом. — И он протянул Петеру руку.
Петер положил свою ручонку в широкую шершавую ладонь Отто Брозовского, такую же широкую и шершавую, как у его отца.
Потом мальчик влез на заднее сиденье мотоцикла, и они поехали.
Петер смотрел то налево, то направо. Мелькали дома и улицы Гербштедта, забавно подпрыгивая, проносились мимо редкие прохожие. Но никого из мальчишек Петер так и не встретил. Вот не повезло!
Теперь они ехали по окаймленной деревьями дороге. Промелькнули серые терриконы рудников «Пауль» и «Вицтум», остались позади поселки. В высокое, ясное небо стрелой взмывали жаворонки.
«До чего же большой наш Мансфельд!» — удивлялся Петер.
Они въехали в город.
— Эйслебен! — крикнул Брозовский Петеру.
Улицы здесь были шире и оживленнее и дома выше, чем в Гербштедте. На Рыночной площади церковь с многочисленными куполами, казалось, исчезала в бесконечной синеве неба.
За Эйслебеном мансфельдский округ кончался. Пейзаж без рудников, без медеплавильных заводов поразил Петера. Все вокруг было как в сказке, все манило и радовало его. Немного спустя слева от дороги сверкнуло озеро. Берега его поросли камышом. На узкой болотистой тропинке Отто и Петер сошли с мотоцикла и приготовили удочки. В прозрачной воде тихо плавали язи.
— Эй, рыбы, получайте-ка завтрак! — крикнул Отто Брозовский и щелкнул языком. — Вот увидишь, Петер, — прошептал он таинственно, — когда рыбы заметят, что я здесь, они так накинутся на приманку, что только знай тащи.
«Может быть, и мне посчастливится», — подумал Петер.
Они молча сидели рядом. Приятно пригревало солнце, и легкий ветерок рябил воду; еще не зеленевшие луга, казалось, были облиты золотом. Противоположный берег, окаймленный отлогими холмами, мягко вырисовывался на светлом фоне безоблачного неба. На мысу, глубоко врезавшемся в озеро, подобно суровому стражу, возвышался замок; окна его сверкали на солнце. По обе стороны тропинки шелестел и качался на ветру камыш. Пахло свежестью. Рыболовы долго молчали.
— А рыба совсем не клюет, — проговорил наконец Петер.
— Глупыш, сразу видно, что ты никогда не удил рыбу. Ведь рыбы еще должны проведать, что я здесь.
Вдруг поплавок дрогнул.
— Теперь смотри, — прошептал Отто и рывком выхватил удочку из воды.
Хоп! Леска повисла в воздухе: рыбы не было и в помине, червяк и тот исчез.
— Ах, мошенница!
Брозовский сдвинул кепку на затылок и насадил на крючок нового червяка.
Рыбы как будто и вправду раскусили, что можно без особого риска стащить червяка и неплохо позавтракать. Леска все время дергалась, червяки исчезали с крючка один за другим.
Солнце грело все сильнее. До чего же здесь было хорошо! Петер пристально вглядывался в поблескивающую воду, высматривая рыб. Отто Брозовский закурил трубку и начал тихонько напевать. Он пел песню о маленьком барабанщике.
— Папа! — прошептал Петер, но тут же смущенно спохватился.
Это была песня, которую любил петь его отец, и в первую минуту ему показалось, будто отец сидит рядом. Сердце у него сжалось.
— Что ты, Петер?
— Я так скучаю по папе. — Мальчик опустил голову. — Почему он умер?
Отто Брозовский ласково положил руку Петеру па плечо и очень серьезно сказал:
— Ты сын моего лучшего друга, Петер. Я хочу поговорить с тобой о твоем отце. Слушай внимательно. Понимаешь, твой отец был коммунист.
Петер представил себе отца, его высокую, худую фигуру, его тонкое лицо с добрыми серыми глазами.
— Коммунисты, мой мальчик, это люди, которые борются за то, чтобы народы всего мира жили свободно и счастливо. Это хорошие люди, смелые и умные. — Отто Брозовский взял обеими руками холодную ручонку Петера. — Понимаешь, у тебя был очень хороший отец. Не забывай его. И всегда гордись им. — Голос его стал тихим и нежным. — Не грусти, Петер!
Он вынул из кармана газету, вырезал ножом фотографию и протянул мальчику. С фотографии на Петера глядел какой-то незнакомый человек с высоким лбом. У него были усы и маленькая бородка. А глаза смотрели так живо, так приветливо… Казалось, человек на фотографии вот-вот заговорит.
— Кто это? — спросил Петер.
— Это Ленин, — сказал Отто Брозовский. — Возьми себе этот портрет и береги его. Когда ты вырастешь, ты поймешь, кем был этот человек для нас, рабочих, и чему он учил. И ты станешь таким же смелым коммунистом, как твой отец.
Мальчик еще раз тихо всхлипнул и прижался своей кудрявой головкой к плечу Брозовского. Затем успокоился. Его маленький кулачок лежал в широкой, надежной руке горняка.
Петер не был сиротой. Он был сыном бесконечно большой семьи.
Письмо издалека
Прошли месяцы. Весна сменилась теплым, солнечным летом; лето — пестрой осенью. Но горняки, казалось, не замечали этого: в руднике всегда одинаково темно, одинаково жарко и пыльно.
День за днем, месяц за месяцем спускаются горняки в забои и высекают руду из неподатливых пластов. Весной, летом, осенью…
И вот снова наступила зима. Декабрь 1928 года.
Голубоватый табачный дым повис над головами людей, собравшихся у Брозовского на кухне. На стульях, скамейках, табуретках сидели люди. Черный котенок Бимбо шмыгнул меж грубых сапог и, мяукая, забился под плиту. Окно запотело от жары. Шло собрание партийной ячейки рудника «Вицтум».
На стол, за которым сидел Брозовский, ложился круг света от лампы, но бо́льшая часть комнаты оставалась в тени. Из полумрака выступали лица товарищей. Вот «книжный червь» Август Геллер, низкорослый человек с редкой шевелюрой и приветливыми темными глазами; вот угрюмый, задиристый Карл Тиле, сонно моргая, попыхивает трубкой; вот «горячая голова» Вальтер Гирт, — его пригласили сегодня на собрание как представителя Союза молодежи, а зачем, Вальтер еще не знает. На лице у него написаны волнение и любопытство. «Ничего, мой мальчик, скоро ты все узнаешь», — думает Отто Брозовский и улыбается.
По его улыбке, по всему его виду собравшиеся понимают, что предстоит что-то необычное.
Раздался осторожный стук. Все смолкли. В приоткрывшуюся дверь просунулся железный крюк, торчавший из рукава, и в комнату робко вошел стволовой Ленерт.
— Уходи-ка, брат, мы здесь заняты! — вдруг сердито сказал Карл Тиле.
— Тихо, Карл, — оборвал его Отто Брозовский и поднялся из-за стола: — Заходи, Ленерт.
Он как будто ждал этого беспартийного рабочего, чтобы начать собрание.
— Товарищи, сегодняшний день будет знаменательным для нашей партийной ячейки и для всех мансфельдских горняков, — сказал Брозовский и вынул из бокового кармана конверт с множеством разноцветных марок; на конверте размашистым почерком был написан адрес на незнакомом языке. — Вот! Наши советские братья опять написали нам.
— Браво! — крикнул маленький Август Геллер.
«Ага, — подумал стволовой Ленерт, — Брозовский сдержал слово».
— Вы увидите, — продолжал руководитель ячейки, — что это совершенно особенное письмо.
Все напряженно ждали.
Отто Брозовский вынул из конверта мелко исписанный лист бумаги и, не спеша развернув его, начал читать громко и отчетливо:
— «Дорогие немецкие товарищи!..»
В комнате стало совсем тихо. Удивительные вещи были в письме: горняки рудника «Дзержинский» писали о «социалистическом соревновании».
— Социалистическое соревнование, — повторил кто-то. — Вот это здорово!
— Тсс, — зашипел на него сосед. — Помалкивай. Ты ведь даже толком не знаешь, что это такое.
— Ну, брат, когда дело стоящее, это сразу видно, да и название само за себя говорит.
— Тсс, — зацыкали со всех сторон.
«Производительность труда растет на благо рабочему классу, на благо советскому государству», — говорилось в письме.
— Браво! — снова воскликнул Август Геллер.
Горняки из Кривого Рога писали еще, что они строят для своих детей пионерский лагерь в лесу — целый поселок из деревянных домов. И здесь, в темной кухне Брозовского, горняки Мансфельда подумали о своих худеньких детях и многие вздохнули про себя: «Вот если бы и нам добиться того же!» Социализм был для них прекрасной, но далекой мечтой.
— «Наших лучших комсомольцев мы посылаем учиться», — говорилось в письме.
— Учиться? — переспросил Вальтер Гирт. — Черт возьми, вот это да!
Отто Брозовский неуклюже поднялся со скрипучей кушетки, все смотрели на него, простого горняка, которого они избрали руководителем своей партийной ячейки.
Торжественным голосом он прочел:
— «В знак солидарности, дорогие товарищи, мы посылаем вам знамя. Пусть этот скромный дар членов партии и беспартийных рабочих нашего рудника свидетельствует о том, что мы неразрывно связаны с вами в нашей общей борьбе».
В комнате стояла тишина. Над головами людей стелился табачный дым.
Рудокопы немногословны. Как земля таит в своих недрах медь, так и они глубоко в душе таят свои чувства.
В сумраке прокуренной кухни раздался лишь один голос, но он выразил мысли всех:
— Знамя! Это высокая честь для нас. С этим знаменем горняки Мансфельда поднимутся на борьбу.
Первым внес предложение Август Геллер:
— Давайте сейчас же напишем ответ.
Все согласились:
— Пиши ты. Ты ведь мастер говорить и писать.
Август написал: «В ячейку Коммунистической партии рудника „Дзержинский“».
— А кто такой Дзержинский? — смущенно спросил Ленерт.
Отто Брозовский на секунду задумался.
— Дзержинский — это герой Октября, великий революционер. Его кипучая жизнь была подобна горению.
Все, кто сгрудились в этой маленькой кухоньке, с горечью подумали об одном и том же: в Мансфельде рудники и заводы носят ненавистные имена медных королей.
Отто Брозовский угадал их мысли, потому что и он думал о том же.
— Подождите, — сказал он, — настанет и у нас время, когда на воротах рудника будет написано имя Эрнста Тельмана.
Это трудно было себе представить, это тоже было прекрасной, но далекой мечтой. Но все знали: это будет.
— Ну, так что же писать? — нетерпеливо спросил Август Геллер.
— Пиши: «Ваше письмо получили. Весь Мансфельд ждет знамя с неописуемым воодушевлением!» — сказал сортировщик Йозеф Фрейтаг.
— Ерунда, — грубо оборвал его долговязый Тиле. — Ерунда и совсем неправда насчет всего Мансфельда.
— Пиши: «Дорогие товарищи», — крикнул один из горняков, и Август Геллер начал писать.
Дальше все пошло хорошо. Горняки благодарили за дружеское письмо и говорили о том, как они радуются всякому успеху советских товарищей.
— Напиши, как злятся капиталисты, что на свете есть государство рабочих и крестьян.
Август писал: «Все более злобной становятся ложь и клевета классовых врагов».
И коммунисты Мансфельда заверяли коммунистов Кривого Рога: «Мы считаем своим долгом рассказывать правду о Советском Союзе».
У Августа Геллера очки сползли на самый кончик носа, он даже вспотел — невозможно было вместить в письме все, что хотели сказать его товарищи.
Сортировщик Йозеф Фрейтаг снова предложил:
— Ты все-таки напиши: «У нас каждое предприятие готово к борьбе».
— Ерунда, — отрезал Карл Тиле. — Газетный лозунг. Это они и без нас могут прочитать. Напиши-ка лучше, как погиб Ганнес Брахман…
Обо всем должны узнать советские братья, обо всех горестях и обидах мансфельдских горняков.
Заговорил шахтер с изможденным лицом и глубоко запавшими глазами; в груди у него свистело и клокотало.
— Напиши им, Август: «Не зря называют наш Мансфельд „Красный Мансфельд“». Мы еще себя покажем!
— Напишите что-нибудь об Октябрьской революции, — предложил Вальтер Гирт.
Они написали: «Мысленно мы всегда с вами, мы всегда помним об Октябрьской революции. Ведь она не только принесла освобождение русскому рабочему классу, но и положила начало освобождению всего мирового пролетариата».
Август Геллер все писал и писал. Наконец он отложил ручку в сторону.
— Да ты что, ведь мы еще не поблагодарили их за знамя! — воскликнул кто-то.
И снова перо заскрипело по бумаге: «Ваше решение прислать нам знамя было встречено нашей ячейкой с восторгом. Этот знак братской солидарности сплотит нас еще теснее», — написали горняки из партийной ячейки рудника «Вицтум» и закончили свое письмо коммунистическим приветом.
Ложный слух
Это было апрельским вечером 1929 года. Отто Брозовский, дождавшись наступления темноты, опять привязал свой рюкзак к мотоциклу и помчался по пустынной дороге к черным терриконам рудника «Вицтум». Снова надежные товарищи, спускаясь в шахту, рассовали листовки по карманам и сумкам, а на следующее утро в поездах, громыхающих по штольням, при тусклом свете ламп горняки читали:
«В воскресенье, 21-го апреля, мы получаем знамя из Кривого Рога. Передача советского знамени мансфельдским горнорабочим — это сигнал к объявлению войны эксплуататорам — заправилам мансфельдского акционерного общества! Горняки Мансфельда! Приходите в субботу в Гербштедт! Все на массовую демонстрацию!»
Одна из таких листовок попала в руки штейгеру Шиле. Знамя из России! Это известие поразило его, как удар грома.
«Ну, это им так не пройдет!» — решил он.
Вернувшись домой, он тотчас же сел писать письмо, которое начиналось так: «Его высокоблагородию, господину генеральному директору мансфельдского акционерного общества. Эйслебен…»
Когда на следующий вечер штейгер пришел домой, его встретила жена, возбужденная и сияющая от счастья:
— Подумай только, Оттокар, — сказала она, — господин генеральный директор вызывает тебя завтра утром к себе. Какое счастье! Вдруг ты получишь повышение, Оттокархен!
Весь вечер она чистила и гладила парадный костюм мужа.
Утром Шиле ввели в конференц-зал, отделанный темной панелью. В глубине его стоял длинный стол, покрытый зеленым сукном. Здесь сидело все «высокое начальство». У Шиле учащенно забилось сердце и подогнулись колени. Над прилизанной головой генерального директора висела странная картина. На ней был нарисован шахтер, нагруженный в смиренную молитву. Он стоял на коленях и молился, а за ним дымились трубы медеплавильных заводов и высились подъемники рудников.
Справа от картины висел портрет Бисмарка,[5] слева — портрет Гинденбурга,[6] а со всех стен на стол взирали представители различных поколений медных королей. Шиле указали место в конце стола. В обществе всех этих господ, сидевших за столом и висевших на стенах, он едва осмеливался дышать.
— Итак, господа, как я уже говорил, — начал генеральный директор, — я сегодня вызвал из рудника «Вицтум» штейгера… — Он порылся в папке, что-то в ней отыскивая. — Э-э, штейгера Шиле, не так ли?
Шиле слегка поклонился:
— Совершенно верно, ваше высокоблагородие.
Директор двумя пальцами вынул из папки какую-то бумагу и поднял ее над столом.
У Шиле екнуло сердце — это была листовка, которую он послал его высокоблагородию господину директору. Разглядев листовку, он преисполнился чувства смиренной гордости: некоторые слова были подчеркнуты красным карандашом и все поля исписаны — это господа из дирекции делали свои пометки. Кто бы мог подумать? Не зря он старался!
— Как видите, господа, штейгер вполне заслуживает доверия. Итак, приступим к обсуждению вопроса, который имеет для нашего акционерного общества огромное политическое значение. Я уверен, что вы полностью отдаете себе в этом отчет.
Длинный, тощий господин со шрамом на лице обернулся к Шиле и спросил:
— З-з-значит, это з-з-знамя п-п-ришло из России? Оно, разумеется, к-к-красное?
— Так точно, — услужливо подхватил Шиле, — разумеется, красное, и даже говорят, это боевое знамя.
Директора переглянулись и пожали плечами. Тот, что со шрамом, сказал решительно:
— За-за-апретить!
— Прошу прощения, но это невозможно, господин директор, — робко возразил Шиле и тут же испугался: вдруг господа подумают, что он вовсе не против знамени.
Он вздохнул с облегчением, когда генеральный директор желчно бросил:
— Штейгер прав. Запретить этого нельзя, вы плохо знаете коммунистов.
— Да, — сказал толстяк, который, сложив руки, развалился в кресле. — В таком случае, любезный Шиле, позаботьтесь о том, чтобы в воскресенье на Рыночной площади в Гербштедте собралось не больше десятка людей. Вы человек надежный и к тому же не хотите вечно оставаться штейгером, не правда ли? — Толстяк со скучающим видом раздул щеки и полез в карман жилета. — Ваше рвение, друг мой, разумеется, не останется без вознаграждения.
Толстяк обвел взглядом остальных директоров, ожидая их одобрения. Те посмотрели на ассигнацию в пятьдесят марок, которую он положил перед Шиле, и равнодушно кивнули.
Шиле спрятал новенькую, хрустящую бумажку в карман. Руки его дрожали от волнения. Он готов был на все, что от него потребуют. На все. Он отдавал себя в полное распоряжение начальства.
Не больше десятка людей на Рыночной площади… Но как этого добиться, как? Он покорнейше попросил совета у господ директоров. Медные короли задумчиво посасывали свои толстые сигары. Тот, что со шрамом, сказал, заикаясь:
— М-м-мы должны п-п-пустить ложный с-слух!
— Хи-хи-хи! — заржал толстяк. — Ложный слух! Великолепно!
Лицо генерального директора, сидевшего с кислым видом, прояснилось. Все начальство погрузилось в мучительное раздумье: «Ложный слух! Полцарства за ложный слух!»
Господин со шрамом радостно проквакал:
— Я п-п-придумал! О-о-оспа! Представляете себе: в России оспа! А в знамени ба-ба-бациллы. Кто к нему подойдет, з-заразится!
Остальные недоверчиво покачали головами. Горный асессор Янке сказал:
— Мой дорогой, нельзя не признать, что ваша идея оригинальна. Но не чересчур ли это примитивно: бациллы оспы. Кто же этому поверит!
— Наш уважаемый господин горный асессор прав, — присоединился к нему еще кто-то. — Это слишком глупо.
Древний, сморщенный старикашка, подобно маленькому божку восседавший в своем кресле, энергично прочирикал:
— «Слишком глупо»? Что вы, уважаемый! Вы весьма заблуждаетесь. Поверьте человеку с большим жизненным опытом: слух никогда не может быть слишком глупым, такого не бывает. Секрет успеха в одном: повторять! Повторять непрестанно и упорно! Чем чаще повторять, тем лучше. И вы увидите, все сочтут выдумку за чистую правду! Это старое, испытанное средство, господа, и я очень его рекомендую.
— Бла-бла-благодарю вас. Вы правильно меня поняли, — заикаясь, пролепетал господин со шрамом.
— Я тоже могу кое-что предложить, — гордо объявил толстяк. — Распространите слух, что в России совсем нет тканей и что знамя прислали вовсе не из России, а из Крефельда, где его и выткали. Об этом, мол, рассказали тамошние рабочие. Да, да, так будет еще лучше.
Слово взял горный асессор Янке… Шиле охватила дрожь. «А вдруг он сейчас расскажет, как я принял его за красного! Тогда мне конец, — подумал Шиле, и сердце его, близ которого покоилась новенькая ассигнация в пятьдесят марок, испуганно застучало. — Только не это, только не это!»
Янке огляделся вокруг и сказал:
— Господа, разрешите и мне кое-что добавить к вашим высказываниям.
Господа одобрительно закивали.
«Сейчас начнется», — подумал Шиле.
— Поскольку передача знамени должна состояться в Гербштедте, — начал Янке, — нам нечего ломать себе голову над тем, как этому помешать. У нашего штейгера найдутся там надежные союзники.
«Он сказал: „У нашего штейгера“», — возликовал в душе Шиле. Не беспокоясь более за судьбу своих пятидесяти марок, он самозабвенно ловил каждое слово горного асессора.
А тот продолжал:
— Под союзниками я имею в виду прежде всего местного руководителя социал-демократов, того, что в пенсне… Ну, как его?
— Шульце, — подсказал кто-то.
— Совершенно верно, Шульце, — подтвердил Янке. — Наш штейгер может на него опереться. Шульце, конечно, запретит своим овечкам появляться на площади, когда прибудет красное знамя.
— Очень ценные предложения, господа, великолепные предложения! — Лицо генерального директора сияло. — Если мы опорочим знамя в глазах населения, нам нечего больше опасаться.
— Слава богу, — пробормотал толстяк сонным голосом. — Слава богу.
А со стен, облицованных темной панелью, взирали на своих достойных преемников былые короли меди.
Петер и ящик из-под сигар
Петер старательно выпиливал щелку в крышке ящика из-под сигар.
— Может, довольно?
— Нет. Посмотрите сами, дядя Брозовский: пфенниг уже проскакивает и пять пфеннигов тоже, а вот десять еще нет.
— Тогда пили дальше.
Наконец в щель с трудом проскочила монета в десять пфеннигов.
— Готово!
— Хорошо, Петер, отправляйся на Клостерштрассе, а потом обойди все лавки на Рыночной площади. Да не забудь договориться о ночевке с субботы на воскресенье.
Петер вышел из дома и вприпрыжку побежал вниз по Клостерштрассе. Неровная мостовая была еще мокра от недавнего ливня, а крыши домов уже снова сверкали на солнце. До чего смешная погода!
Ходить по чужим домам с ящиком для сбора денег и списком адресов — нелегкое дело. Собираясь переступить порог первого дома, Петер остановился в нерешительности. Черная дворняжка, сидевшая во дворе на цепи, сердито заворчала. Петер, проскользнув вдоль стены, шмыгнул в дом.
Навстречу ему повалил белый пар. В кухне ничего не было видно. Мальчик остановился у порога и попытался осмотреться. Пар забивался ему в нос и отчаянно щекотал ноздри. Охотнее всего Петер удрал бы отсюда. Он уже хотел повернуть назад, но взглянул на ящик из-под сигар и решительно крикнул в белое облако:
— Здравствуйте!
Из облака донесся приветливый голос:
— Заходи, не бойся!
Сделав несколько шагов вперед, он увидел хозяйку дома, склонившуюся над корытом, и мужчину, сидевшего у окна с газетой в руках.
— Здравствуйте, — повторил Петер и при виде этих чужих людей вдруг забыл все слова, которые он заранее приготовил. Забыл! Вот позор!
Но горняк улыбался:
— Похоже, что ты собираешь деньги. Я угадал?
Петер кивнул.
— На знамя, — прошептал он.
— Вот видишь, я это у тебя на носу прочел.
Горняк тяжело поднялся с места и, шаркая ногами, пошел к буфету. На буфете стояла чашка с отбитой ручкой.
Когда мужчина взял чашку в руки, в ней что-то звякнуло. Загрубелые, скрюченные пальцы неловко просунули монету в щель ящика из-под сигар. Монета застряла, ее пришлось протолкнуть — десять пфеннигов! Петер так и просиял от радости:
— Спасибо.
— А скажи-ка, паренек, как будет выглядеть это знамя?
— Замечательно!
— А как же его доставят из этакой дали к нам, в Гербштедт? — спросила жена горняка, энергично отстирывая с заношенных брюк пятна.
— Дядя Брозовский говорит, что его привез в Германию сам Эрнст Тельман.
— Для нас? — недоверчиво спросила она.
— Да. И еще дядя Брозовский спрашивает, нельзя ли у вас кому-нибудь остановиться, только на одну ночь.
— Отчего же, можно, — сказал горняк и занес свое имя в список.
Петер поблагодарил и ушел. Собака спряталась в свою конуру, потому что в это время — наверное, для разнообразия — пошел сильный град. Ветер швырял градинки Петеру в лицо, но мальчик ничего не замечал. У него уже были десять пфеннигов и один адрес.
Все члены партийной ячейки каждый вечер ходили по домам собирать деньги и договариваться насчет ночлега. На собранные деньги покупали факелы для субботней демонстрации, хлеб, маргарин, свиные головы, овощи — все, что нужно, чтобы хорошо принять гостей.
В Гербштедте, в Поллебене, в Гейтштедте, в Гельбре, в Клостермансфельде — повсюду, во всех шахтерских поселках появились плакаты:
«Горняки Мансфельда, внимание! Советские шахтеры прислали вам знамя. 21-го апреля оно будет передано в Гербштедте коллективу рудника „Вицтум“.
Все предприятия должны выйти на демонстрацию в Гербштедте!»
Под землей, на глубине восемьсот метров, под Гербштедтом, Поллебеном, Гейтштедтом и Клостермансфельдом, где в низких забоях грохотали отбойные молотки, на руднике «Вицтум», на руднике «Вольф», на руднике «Клотильда» в перерывах между сменами коммунисты спрашивали своих товарищей:
— Ну как, придешь в субботу в Гербштедт? Мы получили красное знамя из Кривого Рога.
— Приду, — говорил один.
— В воскресенье? Нет, я должен поработать в поле, — отвечал второй.
— Посмотрю, может, и приду, — колебался третий.
— Приходите все! — звали коммунисты. — Это же наше знамя.
— А как выглядит знамя? — спрашивали одни.
— А что на нем написано? — интересовались другие.
Словом, в эти апрельские дни 1929 года разговоры и мысли мансфельдских горняков непрестанно вертелись вокруг знамени из далекого Кривого Рога.
Мрачные предсказания
В пятницу утром полки булочной на Рыночной площади Гербштедта прямо ломились от кондитерских изделий: струцелей, ромовых баб и кренделей.
В кошелке толстухи Шиле, жены штейгера, лежало четыре поджаристых маковника. Уплаченные за них деньги давно исчезли в ящике прилавка, за которым возвышалась булочница фрау Рункель, женщина с блестящим золотым зубом во рту. Но обе дамы все еще продолжали болтать.
— Представьте себе, — тараторила фрау Шиле, — посреди ночи мой муж вскакивает и спросонья кричит: «Листовка! Знамя! О-о-о!» — «Успокойся, Оттокар!» — говорю я и даю ему валерьянку. А он сам не свой. «Гертруда, говорит, не больше десятка людей, а то граф фон Мансфельд рассердится». А я говорю: «Граф фон Мансфельд? Но, Оттокархен, ведь он же давно умер!» — «Ах, если бы ты знала, — говорит мой муж, — как он смотрел на меня со стены в конференц-зале. А как директор похож на него, точь-в-точь его портрет! Та же львиная грива, и смотрит так же! — и опять как застонет: — О-о-о! Листовки! Знамя!» Уж я ему положила пузырь со льдом на голову, только тогда он и заснул.
— Да, да, печальная штука — жизнь, — проговорила булочница, сверкнув золотым зубом, — столько волнений, и никогда не знаешь, что тебя ждет. Взять хоть это коммунистическое знамя, тут что-то нечисто. Мой муж тоже так думает.
Дверь в лавку открылась.
— Ну, что ты возьмешь для бабушки, карапуз? — ласково спросила фрау Рункель.
— Ничего, — смущенно пробормотал Петер, но, вспомнив о задании, храбро протянул фрау Рункель ящик из-под сигар. — Вы дадите что-нибудь для воскресного праздника?
— Для какого праздника, цыпленочек?
— Как? Вы не знаете? Ведь знамя привезут!
— О боже правый! Вы только послушайте его, фрау Рункель! — подбоченившись, воскликнула фрау Шиле. — Еще молоко на губах не обсохло, а туда же, толкует о знамени!
«Вот дура!» — подумал Петер.
Жена будочника достала монетку и сунула ее в щель. Монетка легко проскочила в ящик. Самое большее, пять пфеннигов. Петер скривил губы. Бывают же такие жадины!
— Я вас не понимаю, фрау Рункель, — проскрипела жена штейгера. — Как вы можете им что-нибудь давать?
Жена булочника пожала плечами, словно извиняясь.
— Разве угадаешь, что нас ждет.
А Петер, хотя и был зол на жадную булочницу, все же спросил:
— Не может ли у вас кто-нибудь остановиться? Только на одну ночь.
— Этого еще не хватало! — прошипела фрау Шиле.
Но осторожная фрау Рункель поспешно перебила ее:
— Нет, это невозможно, дитя мое. У нас гостят мой деверь и мать его покойной второй жены. И еще мой свекор. Он останется до Троицы. Самим впору из дома уходить, так у нас тесно.
Петер вышел из лавки, и обе женщины снова принялись болтать. Фрау Рункель с увлечением описывала фрау Шиле шляпку, которую она заказала себе к Троице.
— Такая восхитительная шляпка, с перышком, совсем как у жены горного асессора. И стоит, конечно, недешево, но до того хороша, просто прелесть!
Дверь снова открылась. Вошла жена Августа Геллера, держа за руку двухлетнего сына. Она бережно поставила на прилавок тарелку с кренделем, завернутую в салфетку.
— Давно вы ничего не приносили печь, фрау Геллер.
— У меня будут гости в субботу, — сказала Ольга Геллер. Ее голубые глаза сияли.
— Очень приятно. Наверное, ваши родственники? — полюбопытствовала фрау Рункель.
— Нет, чужие — горняки, которые приедут принимать знамя.
— Что? Да ведь у вас и без того повернуться негде, — процедила фрау Рункель.
Но Ольга Геллер будто и не заметила ее ехидства:
— Ничего, мы уж как-нибудь потеснимся.
— Ну, что вы на это скажете? — взорвалась булочница, когда Ольга вышла из лавки. — Живут в такой тесноте, что друг другу на пятки наступают, а еще берут к себе чужих. Нет, вы подумайте только! Кренделя пекут, а у самих едва хватает на хлеб с маргарином!
Фрау Рункель была возмущена.
— А мы, знаете, собираемся в воскресенье за город. Здесь, в Гербштедте, будет просто невыносимо. Представьте себе, знамя из России прямо под нашими окнами!
Но фрау Шиле поспешила успокоить приятельницу:
— Вам вовсе не надо уезжать за город, фрау Рункель. Мой муж сказал, что на площадь придет не больше десятка людей и коммунисты разойдутся по домам, даже не развернув знамени. Он говорит, что об этом уж позаботятся. А раз это говорит мой Оттокар — значит, так оно и будет, можно голову на отсечение дать.
Не успела фрау Шиле произнести это мрачное предсказание, как дверь в пекарню открылась снова. Давно уже жены горняков Гербштедта не пекли так много пирогов.
Шиле пойман с поличным
В пятницу вечером заканчивались последние приготовления к встрече знамени из Кривого Рога. На кухне у Брозовских непрерывно хлопала дверь — приходили и уходили шахтеры.
— Вот что я собрал, — сказал сортировщик Фрейтаг и вытряхнул на стол содержимое своей табакерки.
Монеты в один, пять и десять пфеннигов раскатились по столу. За столом сидела жена Брозовского и подсчитывала деньги. «Йозеф Фрейтаг, 3 марки 87 пфеннигов», — занесла она в свой список и, оторвавшись от расчетов, сказала:
— Послушай, Отто, не хватает еще трех марок на аренду зала для воскресного вечера.
— Вот что, товарищи, — громко объявил Брозовский, — завтра перед утренней сменой надо еще раз пригласить всех горняков!
— Это будет трудновато, Отто, — отозвался долговязый Тиле.
— Многие говорят, что воскресенье — единственный день, когда они могут поработать в поле. А ведь сейчас весна.
— Да к тому же, брат, — вставил Август Геллер, — начальство всех настраивает против знамени. Ходят такие идиотские слухи, что с ума можно сойти.
— Слухи? — насмешливо переспросил Брозовский. — Разве наши горняки пугливые клуши? — И он комично замахал руками, изображая всполошившуюся наседку.
Раздался такой взрыв смеха, что черный котенок Бимбо от страха метнулся под плиту. Когда все успокоились, старый забойщик с круглым добродушным лицом сказал:
— Послушайте, вы уже знаете? Этот профсоюзный бонза Шульце вчера вечером запретил членам социал-демократической партии появляться в воскресенье на Рыночной площади!
— Подлец! — возмущенно воскликнула Минна Брозовская. — Как ему не стыдно!
— Стыдно? Таким, как он, мать, никогда не бывает стыдно. У них столько же совести, сколько меди в пустой породе. — Отто Брозовский пренебрежительно махнул рукой. — Так, значит, эта мартышка хочет сорвать демонстрацию. Нам надо сейчас же идти к рабочим — социал-демократам и…
Но не успел он закончить фразу, как хлопнула входная дверь, и в передней раздались шаги. Дверь в кухню распахнулась, вошел Рихард Кюммель. Лицо его пылало.
— Брозовский, — задыхаясь, выпалил он, — ваши плакаты сорваны.
Через минуту на кухне уже не было никого, кроме черного Бимбо, одиноко мурлыкавшего на кушетке.
Сортировщик Йозеф Фрейтаг бежал вниз по переулку к Рыночной площади. «Вот бандиты! — думал он. — Знамени еще нет, а мы уже должны за него бороться. Вот уж верно: боевое знамя!»
Он выбежал на площадь и остановился — на мостовой валялись обрывки бумаги. На стене ратуши еще висел кусок сорванного плаката. «Горняки Мансфельда, внима…» Негодяи! Он побежал дальше. Следующий плакат был наклеен на пекарне Рункеля. Уже издали он увидел остатки плаката на стене и обрывки на тротуаре. Их еще не успели затоптать — значит, плакат был сорван недавно! Йозеф Фрейтаг ринулся вниз по Шульгассе. Вдруг за поворотом он увидел идущего впереди человека. Йозеф замедлил шаг и пошел за ним следом, стараясь держаться в тени домов.
Человек впереди шел быстро, большими шагами. Он был высокий, широкоплечий, его походка показалась Йозефу знакомой.
Кругом не было ни души. Где-то во дворе тоскливо выла собака. Впереди, в самом конце этого глухого переулка, белел плакат. Йозеф Фрейтаг бесшумно крался вдоль стен. Бом! Йозеф шепотом выругался — он налетел на мусорный ящик. Но человек впереди не обернулся. Он дошел уже почти до конца переулка. До плаката оставалось всего несколько шагов. Выступ стены на секунду скрыл его из виду. Выглянув из-за выступа, Йозеф едва не вскрикнул: неизвестный торопливо сдирал плакат. Одним прыжком Йозеф Фрейтаг очутился рядом и схватил человека за руку. Тот вздрогнул от неожиданности и обернулся. Свет уличного фонаря упал на его лицо: Шиле! Штейгер Шиле! Губы его дрожали, глаза испуганно бегали по сторонам.
Все дальнейшее произошло в мгновение ока. Йозеф Фрейтаг размахнулся и влепил Шиле увесистую оплеуху. Штейгер, схватившись за щеку, бросился бежать. Стук его башмаков гулко разнесся по ночному переулку.
Йозеф Фрейтаг посмотрел вслед штейгеру, боязливо оглядывавшемуся на бегу, и презрительно сплюнул.
Клятва Отто Брозовского
Тихий Гербштедт еще мирно спал. Ночью прошел дождь и умыл покатые улочки и старую Рыночную площадь. Камни мостовых были еще влажные; свежий, стремительный ветер рябил воду в лужах. Вылинявшие ставни на окнах, зеленые, желтые, голубые и коричневые, были еще закрыты. Лишь кое-где из низких, чисто выбеленных труб дрожа поднимались первые струйки дыма. Перед ратушей, греясь на солнце, гулял кот. Он лениво потянулся и обнюхал головешку, валявшуюся в канаве, — след вчерашнего факельного шествия. В Гербштедте было тихо. Горняки отдыхали после недели тяжелой работы.
Но не все. Члены Союза красных фронтовиков в серых кителях, перехваченных ремнями и портупеями, и в серых фуражках собирались на Рыночной площади. И вот заиграл оркестр. Грохот барабанов и звонкое пение труб разбудили весь город. Мощные звуки революционных песен неслись по переулкам, врываясь в каморки горняков.
Для Гербштедта начинался большой день.
Улицы проснулись. Залаяли собаки, распахнулись ставни, и весело засияли стекла окон. Наскоро одевшись, на улицу выбегали дети, а им вдогонку неслись сердитые окрики матерей.
По Рыночной площади небольшими группами прохаживались рабочие. Мимо них, не глядя по сторонам, продефилировали мужчина, женщина и трое детей, навьюченные рюкзаками и плащами. Скорее из города! Фрау Рункель в новой шляпке с перышком возглавляла спасающееся бегством семейство пекаря.
Весенний ветер гнал по лазури неба белые как снег, пронизанные светом облака. От них на улицы и крыши домов ложились длинные тени.
Часы на церковной башне звонко и мелодично пробили три.
— Пора на площадь, — сказал жене стволовой Ленерт.
Они оделись и вместе со своими двумя детьми вышли из дома. Ветер со стуком захлопнул за ними калитку. С площади доносилась музыка. В этот час 21 апреля 1929 года не только семья Ленертов вышла из дому. На всех улицах хлопали двери, изо всех переулков на площадь шли люди. Шли горняки; на их лицах можно было прочесть следы тяжелой борьбы за медь, которую они добывали не для себя; шли их жены, бледные, изнуренные повседневной заботой об обеде, о ботинках и пальтишках для детей. Настроение у всех было торжественное. Люди здоровались друг с другом, останавливались, разговаривали, смеялись и вместе шли дальше. Дети, сгорая от нетерпения и любопытства, забегали вперед.
Бабушку Брахман, державшую за руку Петера, останавливали друзья ее погибшего сына. Они расспрашивали ее, как она поживает, как справляется с хозяйством. Не успевала она дружески распрощаться с одними, как подходили другие.
Петер завидовал детям, которые по двое, по трое весело пробегали мимо, и нетерпеливо теребил бабушку за черный жакет:
— Ну пойдем, бабушка, пойдем скорее!
На Рыночной площади собралось уже много народу.
— Идем вперед, бабушка! — командовал Петер и, как лоцман судно, вел свою бабушку сквозь толпу.
Посреди площади, у фонтана, стоял грузовик с опущенными бортами.
Платформа грузовика была пуста. «Там, наверху, будет стоять знамя, — подумал Петер. — Скорее бы уж!»
Какой-то горняк объяснял жене:
— Знаешь, Мария, говорят, что знамя будет принимать Брозовский: он для этого больше всех подходит.
Петер обернулся:
— Это мой дядя! — крикнул он.
— Ого, вот как!
— Не будь выскочкой! — одернула Петера бабушка, с трудом сдерживая улыбку.
Старый забойщик Энгельбрехт рассказывал:
— Это было в семнадцатом году, на Восточном фронте. Октябрь выдался дьявольски холодный. И сыты мы были войной по горло. Черт возьми! Везде только грязь да слякоть. Со всех сторон рвутся гранаты. А в кого такая штука попадет, от того только мокрое место останется. И так изо дня в день. И вот однажды, как сейчас помню, было такое прекрасное утро. Ясное, морозное… Вдруг стало тихо. Совсем тихо, как в церкви. Из русских окопов ни выстрела. Вот тебе раз, думаем. Что, они заснули там, что ли? Выглядываем и видим… Что бы вы думали? Русские вылезают из окопов, бегут к нам, кричат что-то! В жизни я этого не забуду! Подбегают, прыгают в наши траншеи… И как кинутся нам на шею. Представляете себе, это русские-то! И надо же было нам столько лет стрелять друг в друга! Ну и дураки мы были! Обнимает меня какой-то долговязый верзила, тощий такой, как палка, прижимает к себе, целует. — Петер слушает, раскрыв рот. — Обнимает меня, кричит: «Брат, кричит, мир! Ленин! Революция!» — Старый Энгельбрехт достал из кармана огромный носовой платок и высморкался.
— Что-то теперь делает тот, кто тебя обнимал… — раздается чей-то низкий бас.
Энгельбрехт пожимает плечами:
— Почем я знаю! Может, тоже на шахте работает, с виду он был такой же горняк, как и я.
Звуки литавр и труб заглушают все разговоры.
На Рыночной площади появляются первые колонны демонстрантов. Толпа приходит в движение, и Петера оттесняют назад. Проходят строем мансфельдские горняки, они несут двадцать четыре красных флага. Пятьсот человек явилось встречать знамя из Кривого Рога. Ничто не остановило их — ни вздорные слухи, распускаемые напуганными медными королями, ни горячая весенняя пора, ни усталость.
Пятьсот горняков встретились в этот день в Гербштедте. Здесь были коммунисты, члены Союза красных фронтовиков и рабочие спортивных обществ; сюда пришли, несмотря на запрет своих руководителей, и рабочие — социал-демократы. Горняки, собравшиеся на площади, и те, что маршировали в колоннах демонстрации, слились в единую, взволнованную ожиданием толпу.
Когда Петеру снова удалось протиснуться вперед, он увидел Отто Брозовского, влезавшего на грузовик. На платформе грузовика уже стоял какой-то человек, которого никто не знал. В руках у него было свернутое знамя в чехле.
Брозовский открыл митинг.
«Братья, взгляните на красное знамя»… — торжественно зазвучала на площади старая революционная песня.
Потом выступил незнакомец, приехавший из Берлина.
— Дорогие горняки Мансфельда! — сказал он, и всех сразу покорили его мягкий голос, простота и сердечность. — Я с большой радостью передаю вам от имени Эрнста Тельмана это знамя, красное знамя советских горняков из Кривого Рога. Я знаю этот город… — И, заметив всеобщее удивление, он пояснил: — Я был там с немецкой рабочей делегацией. Совсем недавно.
«Раз он там был — значит, ему все доподлинно известно», — думали люди на площади и слушали его с напряженным вниманием.
— Дорогие товарищи, дни, которые я провел в первом в мире государстве рабочих и крестьян, были лучшими днями моей жизни. Я испытывал чувство невыразимой гордости: ведь всего этого добились такие же пролетарии, как я, мои братья по классу. Значит, это и наше государство.
На площади стало совсем тихо: то, что рассказывал этот рабочий, горняки слышали впервые.
— Нашим советским братьям приходится много работать, а вечером после работы они еще идут в клуб или в школу для взрослых. В Кривом Роге мы познакомились с одним забойщиком, стариком с седыми усами, таким же старым, как ты, дедушка. — Он указал на Энгельбрехта; тот смущенно засмеялся и покачал головой. — Да, да, таким же старым, как ты. Он сидел за школьной партой, точно мальчишка. И знаете, что он изучал? Геологию — науку, которую у нас преподают только инженерам.
Старый Энгельбрехт снова недоверчиво покачал головой. Его слезящиеся глаза ни на минуту не отрывались от берлинского рабочего. За всю свою долгую жизнь он еще не слышал ничего подобного.
— Мы спросили старого забойщика: «Зачем ты, дедушка, учишь все это? В твоем-то возрасте?» А он ответил: «Видите ли, товарищи, я хочу понять свою работу. Работать руками я умею уже сорок лет. А вот работать головой — этому я могу научиться только теперь. Ведь мы — сами хозяева своих рудников, и я просто не имею права работать вслепую, как раньше…» Вот что ответил старый забойщик. И там все думают так же, как он. Знамя, полученное от таких людей, — дорогой подарок. Мы благодарим за него наших товарищей из Кривого Рога и хотим им сказать: «Мы всем сердцем с вами, дорогие друзья. Мы боремся за то же великое дело, что и вы, против тех же врагов, что и вы. С именем Ленина вперед! Долой предателей и штрейкбрехеров! Да здравствует международное единство пролетариата! Да здравствует Советская Россия! Да здравствует мировая революция!» — Оратор посмотрел на свернутое знамя. — Горняки Мансфельда, — сказал он, — примите это знамя и смело несите его вперед в борьбе за социалистическую Германию! — С этими словами он сорвал чехол.
Это было великолепное знамя. Ветер расправил его тяжелые складки, и все увидели сверкавшее на темно-красном бархате золотое шитье: на фоне рудника «Дзержинский» навстречу восходящему солнцу шагали горняки. В тонких лучах солнца золотом букв светился боевой призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Шахтеры, плечом к плечу стоявшие на площади, зааплодировали, все, как один. А когда аплодирует такое количество крепких горняцких рук, кажется, что бушует океан.
— Какое красивое знамя! — благоговейно прошептала старушка Брахман. — Сразу видно, что его ткали с любовью.
Петер пританцовывал на цыпочках. Он не мог оторвать глаз от ярко-красного, расшитого золотом полотнища.
Долговязому Карлу Тиле при виде знамени стало немного стыдно: ведь он не раз говорил, что раздавать листовки и писать лозунги — пустое дело. «Выходит, правы были товарищи, я дальше своего носа ничего не видел», — подумал он и сказал, обращаясь к бабушке Брахман.
— Жаль, что с нами сегодня нет Ганнеса. Ведь во всем этом есть и его доля.
Услышав это, Петер покраснел от гордости и счастья и с благодарностью взглянул на Тиле. У мальчика уже горели ладони — так сильно он хлопал.
В этот момент Отто Брозовский принял знамя, и Петер едва не бросился к грузовику, чтобы вместе с другом своего отца подхватить тяжелое древко. Но энергичная рука бабушки вовремя оттащила его назад.
Отто Брозовский от волнения не мог говорить. Он обвел взглядом людей, плотной толпой стоявших на площади его родного Гербштедта.
Большинство из них он знал: вот Вильгельм Шмидт и Фриц Грюнберг, с которыми он ребенком лазил на терриконы; вот Макс Крамер, четырнадцатилетним мальчишкой Отто пробирался вместе с ним по штрекам, привязав к ноге цепь тяжелой вагонетки; вот Август Геллер и Йозеф Фрейтаг, в двадцать первом году они втроем вступили в Коммунистическую партию Германии. Здесь были многие из тех, кто бок о бок боролся с ним в памятном двадцатом году, когда мансфельдские рабочие вместе со всем пролетариатом Германии поднялись на защиту демократии и смели клику Каппа.[7] Брозовский был связан с ними неразрывными узами. И он всем сердцем почувствовал, что принимает красное знамя Кривого Рога от имени всех этих людей. Постепенно аплодисменты и возгласы «Рот фронт!» смолкли. Все взоры были устремлены на него, все ждали, что он скажет. Но, едва он приготовился говорить, над площадью разнесся угрожающий крик:
— Погодите, мы еще сожжем ваше русское знамя на этой же площади!
Многим горнякам показался знакомым этот тонкий голос. «Хлоп!» — закрылось чье-то окно. Площадь огласилась гневными возгласами:
— Трус! Выходи и говори в открытую, если есть, что сказать!
Толпу охватило возмущение. Только Отто Брозовский оставался спокоен, и его спокойствие постепенно передалось остальным. На Рыночной площади Гербштедта наступила тишина. Брозовский еще крепче обхватил древко знамени. Он поднял сжатую в кулак руку и от имени партийной ячейки рудника «Вицтум» звонким, отчетливым голосом произнес клятву:
— Я, сын мансфельдской земли, член Коммунистической партии Германии, принимая сегодня это знамя, сознаю, как велика моя ответственность перед вами, рабочие Мансфельда, перед вами, советские братья по классу, рабочие Кривого Рога. Я принимаю знамя с радостью и гордостью. Я обещаю вам, что буду хранить его как зеницу ока.
Торжественная тишина сменилась «Интернационалом». Ветер разносил песню, знамя из Кривого Рога сверкало надписью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Звонким, отчетливым голосом он произнес клятву…
Донос
Все сильнее становились коммунисты Мансфельда. Все решительнее вели они забойщиков, навальщиков, откатчиков, сортировщиков — всех горняков и металлистов — на борьбу с медными королями. С полным правом носил Мансфельд свое гордое имя «Красный Мансфельд» — так называли его рабочие по всей Германии.
Шел 1930 год. Ранним апрельским утром горняки потоком устремлялись в ворота рудника, одни на велосипедах, другие пешком. Штейгер Шиле бегал по двору, не поднимая глаз от земли, как всегда хмурый и злой. Он яростно отбросил ногой пустую спичечную коробку и хотел уже идти в штейгерскую, как вдруг остановился на полпути.
Из раздевалки доносился чей-то спокойный, уверенный голос. «Стоп», — подумал Шиле и крадучись пошел назад.
Но сквозь маленькие, запыленные, тусклые стекла нелегко было что-нибудь рассмотреть. К тому же прямо перед окном висела пара ботинок. Шиле вытянул шею влево, вправо, немного вверх, еще чуть дальше влево, и вот наконец ему удалось заглянуть внутрь. Горняки уже натянули свои рваные брюки и обтрепанные куртки, прикрепили лампы к каскам и приготовились к спуску. Они столпились вокруг одного из своих товарищей, который, стоя на скамье, что-то говорил. Как ни вертелся штейгер Шиле, он не мог разглядеть его лица, да и слов нельзя было разобрать. Шиле вплотную прижался носом к стеклу. Фигура, жесты, спокойный голос шахтера показались ему знакомыми. И вдруг оратор на секунду повернул голову. Наконец-то! Слава богу! Шиле с быстротой молнии помчался к управляющему Паппке.
— Господин Паппке, — крикнул он задыхаясь, — в раздевалке Брозовский агитирует против администрации! Я случайно шел мимо и услышал. Представьте себе, он говорит, что под эту лавочку надо бы заложить хорошую бомбу, чтобы все взлетело на воздух и первым — генеральный директор.
— Что? Не может быть! Вы сами все это слышали?
— Да, конечно. То есть почти все, — солгал Шиле, — почти каждое слово.
— Да ведь это подстрекательство к бунту! — удовлетворенно сказал Паппке. — Вы правильно поступили, — похвалил он Шиле. — Наконец-то мы разделаемся с этим красным.
Когда в следующую субботу Отто Брозовский получал зарплату, в конверте с деньгами он обнаружил извещение об увольнении.
Протест горняков не помог. Медные короли не могли держать на руднике человека, который так бесстрашно боролся за интересы рабочего класса и никогда не склонял головы; они готовились к наступлению.
Куется оружие забастовки
И вот 24 мая 1930 года горняки, вернувшись со смены, увидели на здании правления белый плакат. Горняки, еще не привыкшие к свету, щурились от яркого майского солнца. Правильно ли они прочитали? Может быть, их обманывают глаза?
Быть может, это всего лишь страшный сон и на плакате написано что-нибудь другое?
Но нет, столько глаз не могло ошибиться, и чей-то голос, глухой и прерывистый, как стук руды о почву забоя, высказал вслух то, чему не хотелось верить:
— Ну что, прочли? Снижение зарплаты, товарищи! С понедельника зарплата снижается! Видно, господа в Эйслебене находят, что нам слишком много платят… Слишком много! Нищенские, жалкие гроши! Кровопийцы!
Горечь и отчаяние, ненависть и страх перед нищетой звучали в проклятиях горняков.
С быстротой молнии распространялась новость от одного поселка к другому.
Ссутулившись, входил горняк в дом и, устало опустившись на стул, говорил:
— Ты уже слышала, мать? Придется опять подтянуть ремень потуже.
— Что ж, вы и это стерпите? — сердито отвечала жена. — А мне что прикажешь делать? Топиться вместе с детьми? Или милостыню просить?
В винном погребке Гербштедта стоял несмолкаемый шум. Долговязый Карл Тиле говорил с издевкой:
— Ну почему вы не хотите быть благоразумными? Для медных королей наступили плохие времена! Вы же сами это только что прочли, в объявлении так и написано, черным по белому. — Он откинулся на спинку стула, сложил руки на животе и с притворным благоговением закатил глаза. — «Рабочие и служащие должны пойти на жертву…» — Карл изменил голос и заговорил умильно и слащаво — точь-в-точь горный советник: — «Рабочие и служащие должны пойти на жертву и отказаться от части своей зарплаты». — Он стукнул кулаком по столу так, что зазвенели стаканы. — Вы поняли? Мы должны идти на жертвы ради медных королей! Мы!
— Живодеры!
— Они угрожают нам голодом: «Тот, кто не согласен, может забирать документы и уходить».
— Все в их руках, — вздохнув, сказал старый слесарь Нойдорф. — Так оно было, так уж и будет.
— Аминь, — насмешливо заключил Карл Тиле.
— А забастовки тысяча девятьсот девятого и двадцать первого года? — раздался чей-то задорный, звонкий голос.
Из-за столика в углу, где каждый вечер чинно восседали со своими супругами аптекарь, мясник и булочник, на горняков опасливо поглядывала фрау Рункель. На голове у нее была кокетливая шляпка с украшением, напоминавшим кисточку для бритья. Фрау Рункель размышляла.
— Послушай, Гуго, — прошептала она наконец на ухо мужу, — если начнется забастовка, они уже не будут покупать у нас булки?
— Булки? — прикрикнул на нее муж. — Дура! Им не на что будет купить кусок хлеба. Опять начнут забирать всё в долг, и, кто еще знает, чем это для нас кончится…
Рано утром по ухабистой дороге, ведущей к руднику «Вицтум», мчался мотоцикл. Казалось, он мчится один, без пассажира — так низко склонился над рулем Отто Брозовский.
Из будки вахтера высунулся огромный нос. В ворчливом голосе Готлиба-Носача звучало удивление:
— Брозовский? Куда это ты?
— Не видишь, что ли, куда?
— Я не имею права пускать посторонних на рудник!
— Но, Готлиб, ведь это же я! Я здесь уже тридцать лет, — пытался уговорить его Брозовский.
— Ну-у, — протянул Готлиб с нескрываемым злорадством. — Теперь это, слава богу, кончилось. А если хочешь знать, так тебя-то мне уж никак пускать не велено. — От него, как всегда, разило водкой. Он тупо поморгал своими красными глазками и, понизив голос, добавил: — Специальное распоряжение администрации.
«Так, так, — подумал Отто Брозовский, — специальное распоряжение».
Он заглянул во двор.
На здании правления белел плакат.
С верхней площадки доносился звон колокола. Доверху нагруженные вагонетки с грохотом катились от подъемной клети к сортировке. Непрерывно вращаясь, жужжали колеса подъемника.
«А что, если чья-нибудь рука остановит колеса? — Брозовский прищурил глаза и улыбнулся. — Берегитесь, господа! Ваше специальное распоряжение вам не поможет!»
Он нажал на стартер и дал полный газ — скорее в Эйслебен! За Аугсдорфом он еще издали заметил мужчину, тот помахал ему. Подъехав ближе, Брозовский узнал руководителя партийной ячейки рудника «Вольф» и затормозил.
— Куда ты, Отто?
— В Эйслебен.
— Я тоже.
— Садись!
Распахнув дверь районного комитета, они в первую минуту ничего не могли разобрать — все тонуло в табачном дыму, и голоса сливались в нестройный гул. Люди сидели на стульях, столах и подоконниках. Какой-то пожилой горняк пытался говорить по телефону. Стоявшее рядом с телефоном блюдце было до краев наполнено пеплом и окурками.
— Привет, Отто! Какими судьбами?
— Ну, Отто, как там у вас?
— Франц рассказывает, что на руднике «Клотильда» настроение что надо.
— У нас тоже!
— Борьба будет тяжелой.
— Чаша терпения переполнена, мы готовы драться до последней капли крови.
Вот какие разговоры шли в прокуренной комнате.
Когда собрались представители всех рудников и всех заводов Мансфельда, началось совещание. А когда коммунисты разошлись — каждый в свой поселок, — они знали: рабочий класс всей Германии следит за Мансфельдом. Начав забастовку, они подадут пример остальным. Мансфельд — форпост борьбы. От него сейчас многое зависит.
Отто Брозовский вернулся в Гербштедт под вечер и сразу пошел в погребок у ратуши. Там было полно народу: люди с волнением обсуждали последние события. Отто подсел за один из столиков. Старый усатый Энгельбрехт рассказывал:
— Жена берет карандаш, бумагу и говорит: «Вот смотри, старик, сейчас я тебе все подсчитаю». — Энгельбрехт вытащил картонный кружок из-под пивной кружки и послюнявил карандаш. — «Сейчас, — говорит она мне, — ты приносишь домой сто пять марок в месяц». — Он написал на кружке жирную единицу, потом ноль и пятерку. — Просто гроши!
— А господа из Эйслебена считают, что и это много.
— Тише, — прикрикнул какой-то молодой парень. — Ну, так что же тебе сказала жена?
Энгельбрехт неторопливо подчеркнул единицу, ноль и пятерку.
— Сто пять марок! «А теперь, говорит, вычти отсюда пятнадцать процентов. А что останется, отнеси в Эйслебен господину директору. „Вот, — скажи, — господин директор, поживите-ка сами на девяносто марок“».
— А старуха-то твоя права!
— Пусть хозяева сами идут на жертвы!
Голоса звучали все громче:
— Правильно! Пусть они хоть раз в рудник спустятся! Да погнут спину в забое!
— Еще чего! — рассмеялся Рихард Кюммель. — Они небось думают, что руда сама в руки идет.
— Как же, полезут они в шахту, черта с два!
— Тогда остается только одно! — воскликнул седой горняк.
Шум умолк. Все ждали, когда наконец будет сказано долгожданное слово.
— Забастовка!
В переполненном погребке это слово прозвучало как призыв. Испугался только один человек, секретарь профсоюза Шульце.
Забастовка!
Это совсем не входило в его планы. Ведь он только делал вид, что защищает интересы рабочих, а сам лебезил перед хозяевами. Весь изогнувшись, он протиснулся вперед и заговорил, обращаясь к горнякам:
— Дорогие коллеги!
Все прислушались. Шульце? Ага! Что же он скажет?
— Дорогие коллеги! — нерешительно повторил он еще раз и оглянулся вокруг. — Вы правы. Дирекция поступила возмутительно. И мы должны решить, как нам прийти к соглашению с ней.
— Прийти к соглашению? — рассмеялся кто-то из горняков.
— А поумнее ты ничего не придумал?
Шульце хотел продолжать, но его уже никто не слушал. Кто-то крикнул:
— Здесь Брозовский! Брозовский, скажи-ка ты, что нам делать.
Отто Брозовский поднялся с места. Рядом с ним стоял высокий парень. Брозовский едва доставал ему до плеча. Улыбаясь, он сдвинул кепку на затылок. Его большая красная рука рассекла воздух — привычный жест, вот уже много лет знакомый всем горнякам.
— Товарищи, — начал он, — вы уже сами сказали, что нужно делать. И вы правы. Нельзя больше мириться с наглостью медных королей, потому что иначе они обнаглеют еще больше.
Горняки одобрительно перешептывались.
— Вот мое мнение: самый совершенный отбойный молоток превратится в ненужный хлам, как только горняк перестанет вырубать им руду. Правильно? Так давайте отложим молотки в сторону и посмотрим, как хозяева добудут медь без нас! Увидите, они сразу взвоют.
Горняки рассмеялись.
— Нас называют «Красный Мансфельд». Это наша гордость и наша честь. Так пусть никто не скажет, что мы не умеем бороться. Вспомните тысяча девятьсот девятый и двадцать первый годы. Поступим же снова, как учит нас старая рабочая песня:
Труженик, творец, воспрянь, На свою на силу глянь: Лишь захочешь — в миг один Остановишь ход машин.[8]Светлыми веселыми глазами Отто Брозовский обвел зал, — на всех лицах он читал железную решимость.
Много надо было сделать для того, чтобы подготовить забастовку. Несколько горняков под руководством Отто Брозовского в тот же вечер составили и отпечатали текст воззвания. Разошлись только к двум часам ночи, а на утро в раздевалке, в подъемной клети, в поездах рабочие находили листовки:
«Товарищи! Медные короли угрожают нам голодом! Ответим им забастовкой! Второго июня ни один горняк не спустится в рудник!»
Шахтеры аккуратно складывали листовки и прятали их в карманы изодранных курток. Штейгеру Шиле ничего не удастся разнюхать! В забоях и штреках горняки собирались вместе, долго и горячо спорили. В поездах, где люди обычно устало молчали, громкие голоса перекрывали теперь грохот колес.
Что-то будет?
Не только на руднике «Вицтум» назревала гроза. На всех рудниках, на всех заводах Мансфельда было такое же настроение. Не только в Гербштедте, но и в Эйслебене, Гейтштедте, Гельбре и Вольфенроде душными вечерами люди собирались на улицах, и во всех разговорах повторялось одно и то же слово: «Забастовка!»
При этом одни с сомнением покачивали головой, другие пытались возражать, но большинство было на стороне коммунистов. «Красный Мансфельд» готовился к борьбе.
Много было сделано за эту неделю. «Забастовка!» — взывали листовки. «Забастовка!» — кричали плакаты. «Забастовка!» — требовали шахтеры на профсоюзных собраниях.
В субботу, 31 мая, после вечерней смены, во дворе рудника «Вицтум» должно было состояться первое собрание забастовщиков.
— Я приду, — обещал Отто Брозовский.
— Но тебя не пропустят. Чего доброго, они к тому времени и полицию вызовут.
— Я приду.
В субботу после обеда Отто Брозовский направился к Брахманам. Дома был один Петер.
— Привет, мальчуган, — весело поздоровался Брозовский.
— Взгляните-ка, дядя Брозовский. — Петер поднес к самому его носу тетрадь, в которой красным карандашом была выведена двойка.[9] — Я сделал в диктанте всего одну ошибку. Я написал лучше всех… — Петер покраснел. — То есть почти лучше всех, только двое написали еще лучше, у них совсем нет ошибок. — Он поднял голову и посмотрел на своего взрослого друга снизу вверх. — И то мне кажется, один из них списывал у другого, а?
Отто Брозовский засмеялся.
— Ты мне как раз и нужен, Петер. А двойка — что ж, это неплохо. — Он сел за стол. — Значит, диктанты ты писать умеешь, ну, а скажи, ты не трус?
Они говорили долго и откровенно.
Вишни
Душный летний день клонился к вечеру. На бледном небе вспыхивали зарницы, на мгновение озаряя огромные терриконы. Отто Брозовский, держа Петера за руку, шагал по проселочной дороге. Когда они были уже недалеко от ворот, Брозовский потянул Петера в заросшую травой канаву. Ползти по высокой мягкой траве было легко и приятно. Напротив ворот они остановились и осторожно выглянули из канавы.
У ворот стоял вахтер, а рядом, словно вросли в землю, — трое полицейских. На поясах у них болтались толстые дубинки. У Петера бешено заколотилось сердце, вот-вот выскочит.
— Думаешь, получится? — прошептал он.
— Конечно. Ты только взгляни, какие спелые вишни.
Петер поднял голову и увидел тяжелые ветви, нависшие над самой дорогой. Красные вишни весело блестели сквозь густую листву.
— Полезешь вон на то! — Отто Брозовский указал на дерево, стоявшее наискосок от ворот рудника.
Петер внимательно осмотрел дерево. С минуту они молча лежали рядом.
Брозовский вытащил из жилетного кармана часы и, проверив время, взглянул на колеса подъемника. Колеса замедлили ход. Пора! Выдача руды закончена. Сейчас начнут подниматься горняки.
— Ну, давай! — сказал Брозовский и слегка стиснул Петеру руку. — Ни пуха ни пера!
Петер дополз до дерева и выскочил из канавы. Обхватив ручонками корявый ствол, он начал карабкаться вверх. При этом он пыхтел изо всех сил, стараясь производить как можно больше шума. «Сейчас они прибегут», — думал Петер. Но никто не появлялся. Добравшись до первого сука, он раздвинул ветви и посмотрел на ворота рудника. Ничто не изменилось. Вахтер по-прежнему не двигался с места, около него со скучающим видом торчали трое полицейских.
Петер начал рвать вишни. Он подтягивал к себе ветки и отпускал их; ветки раскачивались, шурша и теряя листья. Но полицейские не трогались с места. Петер принялся обстреливать дорогу, выбирая для этого самые зеленые ягоды, — спелых ему было жалко. Время от времени он что было сил раскачивал тяжелые ветви. Крупные, спелые вишни градом сыпались на землю. Петер готов был разреветься, но задание есть задание. Иногда он вздрагивал, сам пугаясь того адского шума, который производил. Мертвые и те, казалось, должны были бы проснуться. Он опять посмотрел на ворота. Вахтер и трое полицейских стояли как вкопанные.
«Вот сони! Оглохли они там, что ли?» — рассердился Петер.
Он со всех сторон осмотрел дерево и облюбовал на самом верху толстенный сук. Ну, подождите! Он встал во весь рост, дотянулся до сука и, напрягая все силы, отогнул его вниз так, что веточки и вишни градом посыпались на улицу, и со всего размаха отпустил его. Ну вот, слава богу, теперь они там наконец зашевелятся! Послышались быстрые шаги и чей-то властный окрик:
— Эй ты, бездельник, слезай-ка сейчас же!
Петер выглянул из-за листвы и, когда увидел обладателя властного голоса, был ужасно разочарован. «Вот тебе раз, — подумал он, — да ведь это всего-навсего старый Готлиб-Носач».
— Слезай сейчас же вниз, сопляк! — заорал Готлиб.
Он попытался ухватить Петера за ноги. Напрасный труд! Мальчик мигом подобрал ноги, и Готлиб-Носач остался с носом. Петер рассмеялся, залез повыше и снова уселся на сук. Он сосредоточенно отправлял себе в рот самые спелые, самые крупные и сладкие вишни. Вахтер рассвирепел. Он погрозил Петеру кулаком:
— Если ты сейчас же не спустишься, я позову полицию! — крикнул он, указывая на ворота рудника.
При слове «полиция» Петер, по привычке, испугался. Но ведь в конце концов только для этого он и сидит здесь, на дереве, у самой дороги, да еще в такое время, когда, того и гляди, начнется гроза.
— Ну и зовите! — храбро отозвался он.
— Смотри, у них с ворами разговор короткий, — пригрозил Готлиб-Носач.
Он перебежал через дорогу к воротам рудника и вскоре вернулся с одним из полицейских. Тот задрал голову и сквозь зеленый шатер листвы, усыпанной красными бусинками вишен, воззрился на мальчика.
— Слезай! — скомандовал он.
Услышав этот приказ, Петер полез еще выше. Он продолжал как ни в чем не бывало поедать вишни, но от волнения проглотил несколько совсем зеленых. Косточки он сплевывал на дорогу. Одна из них попала прямо в полицейского, щелкнув его по козырьку фуражки. Полицейский вышел из себя.
— Слезай! — заорал он, но, убедившись, что Петер и в ус не дует, обернулся и крикнул через дорогу: — Роте, подите-ка сюда! Здесь какой-то сопляк на дерево забрался!
Неуклюжей рысцой Роте перебежал дорогу. У ворот остался теперь только один полицейский.
Петеру стало не по себе. А тут еще молнии сверкают все чаще, и раскаты грома все ближе. Неизвестно, что страшнее — гроза или полиция. «А вдруг молния ударит как раз в мое дерево?» — подумал Петер, и ему захотелось домой, к бабушке. Даже самые сладкие вишни он проглатывал теперь, не замечая их вкуса.
— Ты что, оглох? — крикнул Роте, задрав голову вверх.
Озадаченные полицейские и вахтер стали совещаться.
— Может, он глухой? — предположил Готлиб. — Я одного такого мальчишку знаю — ни звука не слышит.
Петер взглянул на другую сторону дороги. Там, у ворот рудника, стоял еще один полицейский в такой же зеленой форме и со скучающим видом переступал с ноги на ногу. Последний! «Как же мне выманить его оттуда?» — подумал Петер с отчаянием и совсем уже было приготовился заплакать, но, вспомнив о Брозовском, который лежал в канаве и ждал, набрался храбрости и запел во весь голос:
Ах, мой милый Августин, Августин, Августин…Полицейским, стоявшим под деревом, песня, видно, пришлась не по вкусу. Они стали грозить Петеру дубинками. Но тот, последний, что охранял ворота, так и не сдвинулся с места. Как же теперь быть? Тут Петеру пришла новая мысль. Он привстал на суке и закричал человеку в зеленой форме.
— Эй, дядя полицейский! Я хочу у тебя что-то спросить!
Тот прислушался.
— Спускайся сейчас же вниз, не о чем нам с тобой разговаривать! — грозно крикнул Роте.
Петер не унимался.
— Ну, пойди сюда, — позвал он таким тоном, каким обычно умасливал бабушку. — Ну, пожалуйста, дядя полицейский.
Это прозвучало так жалобно и просительно, что полицейский не мог удержаться от улыбки. Он еще раз огляделся, не идет ли кто, но в сгущавшихся сумерках дорога выглядела такой пустынной, что он наконец решился. «Пойду-ка узнаю, чего от меня хочет этот сорванец», — подумал он и не спеша побрел через дорогу.
Ворота рудника остались без охраны.
Это и был как раз тот момент, которого с нетерпением ждал Отто Брозовский. Он выскочил из канавы и, пригнувшись, побежал к воротам. Позади он слышал проклятия полицейских и тоненький голосок Петера, распевавшего: «Ах, мой милый Августин, Августин…»
У широкой лестницы, ведущей к верхней приемной площадке, собрались горняки, усталые после работы, с посеревшими, осунувшимися лицами. На площадке слышались удары колокола и лязг решеток. Одна подъемная клеть за другой привозила наверх горняков. Тяжелыми шагами они спускались по лестнице и присоединялись к собравшимся. У некоторых на касках еще светились лампы.
Словно из-под земли, среди рабочих появился Отто Брозовский.
— Брозовский! — пронеслось из уст в уста.
— Как ты сюда попал? — удивился Карл Тиле. — Ведь «зеленые» торчат у ворот, как столбы.
— «Зеленые»! Да они вовсе не ворота охраняют, а деревья, чтобы, чего доброго, какой-нибудь мальчишка не нарвал горсти вишен.
Все столпились вокруг Брозовского. Каждое слово его короткой речи было ясным и доходчивым. И вот один из членов профсоюзного комитета задал решающий вопрос:
— Кто за стачку?
Неторопливо и уверенно поднимались руки — сильные, мозолистые, загрубелые руки, привыкшие держать молоток и толкать вагонетку.
— Мы бастуем!
Тут же был выбран стачечный комитет.
Когда полиция узнала, что Брозовский, вопреки специальному распоряжению дирекции, пробрался на рудник, было уже поздно, — с толпой горняков Брозовский покинул шахту.
Три дня пролежал Петер в кровати, потому что полицейские в конце концов стащили его с дерева и изрядно вздули.
Но каждый день его навещал Отто Брозовский.
— Ах ты, плутишка! — смеясь, говорил он и клал Петеру на кровать пакетик конфет.
Ни грамма меди
В понедельник все должно было решиться.
Когда солнце поднялось над горизонтом и озарило мягким светом мирно спящие города и поселки Мансфельда, на дорогу, ведущую к руднику «Вицтум», вышел рабочий пикет.
Там, где дорога поворачивала к руднику, пикетчики остановились и присели на обочине. Немного спустя к ним подъехал велосипедист.
— Глюкауф! — весело крикнул он и затормозил.
— Глюкауф! — отозвались пикетчики.
— Ну как там у вас? — спросил долговязый Карл Тиле.
— Пока тихо, — ответил горняк. — На всех улицах выставлены стачечные пикеты.
Тиле двинулся дальше.
Вскоре показался еще один велосипедист. Карл и его расспросил о положении в поселках.
— Хорошо, — сказал тот, — наши стоят на постах. Но и начальство не дремлет. На всех предприятиях удвоена охрана. Куда ни плюнь — везде полиция!
— Привет ребятам! — крикнули пикетчики ему вслед.
Прошло еще немного времени, и снова по дороге проехал велосипедист. Но он не остановился и даже не поздоровался.
— Этому, видно, некогда, — проворчал Вальтер Гирт.
— Связной с особым заданием, — предположил кто-то.
Вдруг стволовой Ленерт ударил себя по лбу.
— Связной? — завопил он и вскочил. — Кто это выдумал? Мерзавец едет на работу!
Вальтер бросился за велосипедистом, который катил прямо к воротам рудника.
— Эй, друг! — закричал он.
Но тот не слышал или сделал вид, что не слышит. Вальтер вернулся повесив голову.
— Ну, дали же мы маху. Хороши пикетчики, нечего сказать.
Между тем солнце поднялось уже высоко.
— Должно быть, скоро шесть, — промолвил один из горняков. — Сейчас начнется.
Показалась большая группа велосипедистов. Спицы колес блестели на солнце. Стачечный пикет цепью развернулся поперек дороги.
— Доброе утро, товарищи! — сказал Карл Тиле. — Здесь сегодня проезда нет.
— В чем дело? — громко и вызывающе спросил кто-то.
— Мы бастуем!
Рабочие заколебались; некоторые уже готовы были повернуть обратно, как вдруг кто-то закричал:
— А мы не желаем! К чему нам бастовать? Ничего мы этим не выиграем, только начальство обозлим, еще хуже будет. А ну, ребята, живо на работу!
Но пикетчики, ухватившись за рули велосипедов, пытались убедить рабочих:
— Неужели вы хотите стать штрейкбрехерами?
И снова большинство уже соглашалось повернуть назад, но в это время Вальтер Гирт в запальчивости крикнул:
— Да вы просто рабы капитала, для вас даже доброго слова жалко. Наломать вам шею, и все тут.
— Ах так! — взорвался один из велосипедистов. — Рабы капитала? А ну, сбивай их с ног!
Горняки попытались вскочить на велосипеды, но пикетчики только крепче уцепились за рули.
Началась страшная сумятица. Кому-то колесом отдавили ногу, кому-то подбили глаз и рассекли губу. Спор разгорелся отчаянный.
Август Геллер, не выпуская из рук руля, горячо уговаривал владельца велосипеда:
— Оставь, друг, не будь дураком. Мы должны держаться все вместе. Не хочешь же ты всю жизнь голодать. Подумай о своей жене и детях.
Спокойный, рассудительный тон Августа образумил горняка.
— Конечно, — признался он, — эта поганая жизнь мне тоже осточертела. Но я не позволю здесь разоряться всякому молокососу.
И горняк повернул велосипед, собираясь ехать обратно. За ним повернуло еще четверо. Однако в суматохе троим удалось проскользнуть, и пикетчики видели, как полицейские услужливо распахнули перед штрейкбрехерами ворота рудника. Горняки снова уселись на обочине.
— Это ты, Вальтер, виноват, что они прорвались, — сказал Август Геллер с необычной для него резкостью. — Если так браться за дело, можно все испортить. Оскорблять людей всякий умеет, убедить их куда труднее.
Вальтер Гирт свернул папиросу и что-то невнятно пробормотал.
В это время Ленерт, следивший за дорогой, с удивлением воскликнул:
— Что это? Посмотрите!
Все взглянули на дорогу и увидели Ольгу Геллер и Минну Брозовскую.
— Добрый день! — приветствовали женщины горняков.
Августу Геллеру было неприятно, что жена пришла к нему на пост, и, чтобы скрыть смущение, он спросил:
— Ты принесла мне завтрак, Ольга?
— Завтрак? — возмущенно переспросила Минна Брозовская и погрозила ему палкой, с которой никогда не расставалась, потому что у нее были больные ноги. — Завтрак можешь сам себе принести. Мы тоже будем в пикете. Понятно? — И она указала на свою руку; действительно, там, повыше локтя, алела красная повязка.
Ольга Геллер застенчиво кивнула. У мужчин от неожиданности едва не отнялся язык. Первым пришел в себя Карл Тиле.
— Сейчас же отправляйтесь домой! — накинулся он на женщин. — Вы что, хотите сделать нас посмешищем? На нас смотрят рабочие всей Германии, а мы будем прятаться за бабьи юбки. Постыдились бы!
Но он сразу же раскаялся в своей грубости, — матушка Брозовская лишь презрительно рассмеялась:
— Глядите-ка, мужчины обиделись! Эх вы, герои! Я вам одно скажу: раз мы с вами вместе голодаем — значит, и бороться будем вместе, нравится вам это или нет, неважно. Точка!
Ее решительность придала мужества и Ольге Геллер, которая с непривычной для нее твердостью заявила:
— Мы останемся здесь, нас прислал Брозовский!
— Черт бы вас… — заворчал Карл Тиле.
— Черту мы не нужны, — оборвала его Минна Брозовская, — а вот вам пригодимся!
— Ха-ха, пригодитесь! Вот это здорово! Слыхали, ребята?
Но Карла никто не успел поддержать, потому что Ольга Геллер, указывая на дорогу, воскликнула:
— Вы думаете, мы считать не умеем? Нас обогнало на велосипедах восемь горняков, а вернулось только пять. Куда же делись остальные трое?
Мужчины смущенно переглянулись.
Вальтер Гирт поймал в траве кузнечика и с сосредоточенным видом смотрел, как он прыгает у него по руке.
— Оставь их, Ольга, — со смехом сказала матушка Брозовская. — Троих штрейкбрехеров они пропустили нарочно. — И она рассмеялась прямо в лицо мужчинам.
— Ну ладно, оставайтесь, если думаете, что от вас будет польза.
Подтверждение не заставило себя ждать.
— Смотри, Ленерт, — сказал Георг, тот самый мальчик-откатчик, которому Иоганн Брахман спас жизнь во время обвала. — Что это там, в поле?
Действительно, посреди зеленого овса мелькали какие-то темные фигуры.
— Ого! — воскликнул Карл Тиле. — Вот мошенники!
— Предоставь-ка это нам, — сказала матушка Брозовская и потянула за собой Ольгу Геллер.
Их красные повязки замелькали в овсе.
Словно из-под земли, выросли они перед штрейкбрехерами — тремя пожилыми мужчинами, которые на четвереньках пробирались к руднику.
— Гляди-ка, как они ползают на брюхе в угоду хозяевам, — сказала Брозовская. — Или, может, вы майских жуков ловите? — Она нагнулась и иронически осмотрела всех троих. — Ах, батюшки мои! Да ведь это же Альфред Нойдорф! Жаль, что тебя сейчас жена не видит, вот бы она глаза вытаращила. Может, и лучше, что ее здесь нет. — В голосе матушки Брозовский появились сочувственные нотки: — Бедная Луиза, она бы сквозь землю провалилась от стыда.
— Замолчи, змея. — Старый слесарь Нойдорф смущенно высморкался. — Я еще ни одного дня не пропустил с тех пор, как впервые спустился в шахту. Я человек трудовой, люблю порядок. Какое мне дело до забастовки! — забормотал он растерянно, но вдруг осекся: — Стану я тут с бабами пререкаться! — Он поднялся и, тяжело ступая, побрел обратно, откуда пришел.
Матушка Брозовская рассмеялась:
— Вот так-то лучше! Привет Луизе!
За Альфредом Нойдорфом пристыженно поплелся домой и второй рабочий. Но третий, электрик Грейнерт, ничего не хотел слушать. Он упрямо двинулся дальше.
— Смотри не струсь: в руднике-то одному страшновато! — крикнула Брозовская ему вслед.
Ольга Геллер, казалось, что-то придумала:
— Подожди-ка, может, его хоть это образумит.
Она догнала Грейнерта и выхватила у него завернутый в газету завтрак, который он нес под мышкой. Штрейкбрехер растерялся. Сначала он хотел отнять у Ольги пакет, но, скосив глаза на дорогу, увидел, что за ними наблюдают пикетчики, и решил, что вступать в борьбу не стоит.
Обе женщины вернулись на свой пост у дороги. Было уже шесть часов. Все с тревогой смотрели на подъемник. Придут ли в движение колеса? Шли минуты. На стальных копрах, поблескивая спицами, покоились огромные шкивы. От них наискось, в машинное отделение, уходили канаты. И вот канаты едва заметно задрожали — колеса начали вращаться, сначала медленно, потом все быстрее, пока спицы не слились в один сверкающий диск.
— Проклятье! Значит, нашлись негодяи, которые спустились в рудник, — возмутился Карл Тиле.
Немного спустя подъехал Брозовский на своем стареньком мотоцикле.
— Привет! Ну, как дела?
— Кое-кто все-таки спустился в шахту, Отто.
— Вот как? Сколько же их?
— Трудно сказать. — Август Геллер пожал плечами. — Это мы виноваты.
Брозовский взглянул на смущенные лица горняков и обеих женщин.
— Только носы не вешать! — сказал он. — Мы давно не бастовали. Придется опять начинать с азов. Но теперь это пойдет у нас быстро, вот увидите.
Он поехал дальше.
В рудник спустились немногие, всего шестьдесят два горняка. В основном это были пожилые люди и инвалиды, занятые на подсобных работах. Да и могли ли шестьдесят два человека обеспечить работу целого рудника?
Когда наступил полдень, дирекция была вынуждена отправить штрейкбрехеров домой. Снова пришли в движение огромные колеса — и шестьдесят два человека поднялись на поверхность. Колеса остановились. На руднике «Вицтум», на руднике «Клотильда», на руднике «Вольф» — по всему Мансфельду. Забастовка!
В Эйслебене состоялось собрание. Профсоюзных руководителей, попытавшихся выступить против забастовки, горняки с позором выгнали из зала.
После собрания рабочие вышли на демонстрацию. Они прошли по всему Мансфельду, и в каждом поселке из низеньких, бедных домиков выходили горняки и присоединялись к демонстрантам. Развевались знамена, и впереди полыхало красное знамя из Кривого Рога.
Демонстранты проходили мимо терриконов, мимо рудничных подъемников с неподвижно застывшими колесами, мимо медеплавильных заводов с высокими трубами, из которых не валил дым. Мощная рука забастовки остановила заводы и рудники.
Молчал колокол — рука стволового не прикасалась к нему; решетка закрывала ствол шахты, и некому было отодвинуть ее. Подъемная клеть не спускала рабочих под землю и не поднимала к дневному свету вагонетки с медной рудой.
Ни грамма меди эксплуататорам! Ни одного грамма меди! Внизу, в шахте, было темно и тихо. Стояли вагонетки, локомотивы и поездные составы. Не мигали во мраке огоньки рудничных ламп, не грохотали отбойные молотки, вгрызаясь в породу. Забойщики отложили в сторону отбойные молотки, навальщики — лопаты, а мальчикам-откатчикам надоело за пинки и за гроши толкать в забоях тяжелые вагонетки.
И наверху тоже царила тишина. В сортировочных больше не отделяли руду от пустой породы; не тянулись груженые поезда к медеплавильным заводам: на заводах потухли плавильные печи. Ни грамма меди медным королям!
Восемнадцать тысяч человек приняли участие в демонстрации. День был жаркий. Горняки шагали босиком, перекинув ботинки через плечо, — так было легче идти, да и подметки поберечь не мешало. В поселках демонстрантов встречали женщины и протягивали им кувшины и фляги с холодной водой.
Бастующие рабочие Мансфельда под красными знаменами шли по шахтерскому краю.
Кастрюля
И вот прошло уже две недели, а канатные шкивы над рудниками все еще оставались неподвижны.
Бабушка Брахман торопливо, насколько позволяли старые, больные ноги, ковыляла вниз по переулку, круто спускавшемуся к Рыночной площади. Под мышкой она несла какой-то предмет, завернутый в газету. Старушка была не на шутку разгневана, с лица ее не сходило сердитое выражение.
— Уж я им покажу, уж я им задам! — бормотала она.
Перед зданием стачечного комитета расхаживал длинноногий, прямой, как палка, полицейский вахмистр Шмидт. Он и не подумал уступить старухе дорогу.
— Чего это вы так бежите? — накинулся он на нее. — Теперь никто не спешит, все бездельничают. Вот уже две недели знай себе прохлаждаются.
— «Прохлаждаются»! Вам легко говорить, вы без хлеба не сидите, — рассердилась бабушка Брахман и, глядя ему прямо в глаза, отчеканила: — А все-таки ни один честный горняк с вами не поменялся бы.
Полицейский от неожиданности растерялся. Он привык безнаказанно оскорблять людей, а уж таких, как эта старуха, и подавно. Но, прежде чем он успел опомниться, бабушка Брахман уже скрылась в дверях комитета.
— Где Брозовский? — сердито спросила она Августа Геллера, который прикалывал вырезку из газеты «Роте фане» на щит для стенной газеты.
— Здесь его нет, бабушка.
— Когда же он придет?
— Скоро.
— Ну, я ему пропишу! — погрозила старуха.
Август Геллер недоумевающе покачал головой:
— Присядьте и подождите его, если хотите.
Она опустилась в расшатанное плетеное кресло и положила сверток себе на колени.
В забастовочном комитете стоял шум.
К Августу Геллеру непрестанно подходили горняки:
— Ну, брат, что нового?
Кто-то громко читал:
— «Напряженное положение в Мансфельде! Капиталистическая пресса требует вызвать войска! Медные короли пытаются найти штрейкбрехеров».
— Ого! — сказал лысый человек с маленькими, хитрыми глазками. — Лето будет жаркое!
Старый Энгельбрехт, теребя усы, рассказывал:
— Помнишь, Штерцер, забастовку 1909 года? Стою я, значит, как-то утром в пикете у ворот рудника. Вдруг подходит к нам женщина с детской коляской. «Пропустите-ка меня», — говорит и давай плести: у ребенка, мол, коклюш, ей нужно позвонить по телефону, и все такое прочее. Ну, нам, конечно, стало ее жаль. «Простите, — говорим мы, — если у ребенка коклюш, зачем же его укутывать с головой? Бедняжка может задохнуться». Только я хотел откинуть одеяльце, она как заорет: «Прочь руки, малютка простудится! Пропустите же меня наконец во двор, безжалостные вы люди!» Расшумелась, а тут из коляски вдруг раздается «апчхи» и еще раз «апчхи», да так громко, что даже коляска подпрыгнула. «Ого, — говорим мы, — у вашего ребеночка не только коклюш, но еще и насморк изрядный. Высморкайте же его по крайней мере!» И видим, женщина побледнела, и руки у нее задрожали, да так сильно, что она даже платок вытащить не может. — В глазах у старого Энгельбрехта появился лукавый огонек. — «Ну, — говорю я другим пикетчикам, — мы ведь люди добрые. Давайте сами высморкаем младенца!» И вынимаю я свой платок. «Дитя мое, сыночек мой!» — кричит женщина. Слишком поздно: я уже откинул одеяло, и все видят, что у ребенка-то здоровенная бородавка на носу! И щетина! Смотрит на нас из коляски своими бесстыжими голубыми глазами стволовой Альберт Фишер. Можете себе представить! Мы не долго думая перевернули коляску и вытряхнули из нее «ребеночка». Ну и досталось же ему за его «апчхи»! Нечего сказать, прекрасный способ переправлять штрейкбрехеров!
Бабушка Брахман, забыв о своем гневе, смеялась до слез.
— И теперь еще есть такие!
— Еще бы! Но мы и на этот раз с ними справимся. Пусть себе едут в колясочках или на грузовиках — все равно им плохо придется, если только мы будем держаться все вместе.
— Да, если!.. — сказал долговязый Карл Тиле. — Но вы только послушайте, как они нас друг на друга науськивают. Вот хоть этот подлец Шульце. Где бы он ни был, он так и рвет и мечет против нашего единого стачечного фронта.
При слове «Шульце» Рихард Кюммель насторожился. Он познакомился с руководителем профсоюза Шульце, когда однажды делал доклад на собрании социал-демократической партии. «И чего они от него хотят? — подумал Рихард. — Шульце честный парень». Но у него не было желания спорить, и он промолчал.
Суета и толчея все усиливались. У стенной газеты толпился народ. Вдруг кто-то крикнул:
— Эй, Рихард, это не твои сорванцы?
Рихард Кюммель протиснулся к щиту. Август только что приколол на него снимок из «Арбейтер иллюстрирте»: перед высоким берлинским зданием стоял грузовик, а на нем смеющиеся девочки и мальчики. В руках они держали лозунг: «Мы — дети бастующих мансфельдских горняков. Мы гордимся нашими отцами».
— Ну конечно, — обрадовался Рихард. — Это же мои Макс и Мориц! Опять они, шельмецы, вперед вылезли. Это наши близнецы, мы их так и назвали, — пояснил он, указывая на двух веселых, худеньких, наголо остриженных мальчиков. — Они нам уже написали.
Рихард достал из кармана сложенный вдвое тетрадочный лист, исписанный большими неуклюжими буквами и разукрашенный кляксами.
— Читай вслух!
Рихард прочел:
«Дорогие родители! У нас все хорошо. Надеемся, что и у вас тоже. Мы живем в третьем корпусе очень большого дома. В этом доме столько дворов и лестниц, что можно заблудиться. Сегодня мы играли с берлинскими ребятами в прятки. Здесь очень большое движение. Мы не скучаем.
Берлинские коммунисты хотят организовать сбор денег для бастующих рабочих. Они говорят, что это просто наглость — так грабить шахтеров. Мы живем у коммунистов.
С горячим приветом.
Рот фронт.
Ваши Макс и Мориц».— Давай письмо в газету! Прикалывай его на щит! — раздались голоса.
В это время лысый горняк, стоявший у двери, крикнул:
— Брозовский идет! Везет что-то!
Рабочие бросились на улицу. Их так и обдало полуденным зноем. Яркое солнце слепило глаза.
— Вот он!
Вверх по переулку рядом с осликом, терпеливо тащившим повозку, шагал Отто Брозовский; несмотря на жару, на нем, как всегда, была кожаная куртка и зеленые гетры.
— Пошел, пошел! — понукал он своего ослика, терпеливо тащившего повозку в гору; стучали копыта, громыхала повозка. — Пошел, пошел!
Повозка была доверху нагружена мешками, туго набитыми картошкой.
— Ну что, Отто, раздобыл картошку? — крикнул кто-то.
— Да уж он как начнет уговаривать крестьян, так они ему весь урожай выложить готовы, — заявил лысый, посмеиваясь своими хитро прищуренными глазками. — Он и ко мне вчера приходил. «У тебя же, говорит, дорогой товарищ, такое поле засажено — целое поместье. Будь так добр, дай нам немного картошки для стачечной кухни, ну хоть пару мешков». Ничего себе — «хоть пару мешков»!
— У меня он тоже побывал. И мои два моргена оказались крупным угодьем, — сказал долговязый Карл Тиле.
Отто Брозовский остановил ослика у входа в комитет:
— Тпру-у! — Отто вытер пот со лба и засмеялся: — Погода для сбора урожая самая подходящая!
Вдруг перед ним словно из-под земли выросла бабушка Брахман; крепко прижимая к груди сверток, она сердито сказала:
— Знаешь, Отто, этого я от тебя никак не ожидала, вот уж никак!
— А ну, бабушка, пропиши-ка ему! — закричали горняки.
Отто Брозовский не мог понять, в чем он провинился:
— Какая муха тебя укусила, бабушка?
— Ах ты, негодник! Если бы мне Петер не признался, ты бы сам никогда и рта не раскрыл. Никто на меня, старуху, и внимания не обращает. Никому я не нужна. А я вот все-таки пришла! — Она поставила сверток на ступеньки, сорвала с него газету, и в нем оказалась большая помятая кастрюля.
— Вот! — сказала она с торжествующим видом.
Вокруг глаз у нее собрались лукавые морщинки.
— Молодец, бабушка.
— Видишь, Отто, ты привез картофель, а старуха позаботилась о кастрюле.
Отто Брозовский улыбнулся и виновато сказал:
— Мы давно должны были позвать тебя. Ну, не сердись.
Бабушка Брахман взяла кастрюлю под мышку и ушла с ней в дом. Через заднюю дверь она вышла во двор, где сидели несколько женщин. Вскоре она уже вместе с ними чистила картошку и болтала о всякой всячине. Золотистые картофелины шлепались в кастрюлю.
Когда горняки вернулись с улицы в комитет, сортировщик Йозеф Фрейтаг сказал Брозовскому:
— Ну вот, Отто, дела идут великолепно! По-моему, победа уже у нас в руках.
Отто Брозовский задумчиво покачал головой:
— Полегче, полегче, Йозеф. Не так-то все просто, как кажется. — Он помолчал секунду, потом добавил: — Медные короли ищут предателей.
Штрейкбрехер
Дети разделились на группы так, чтобы за домом электрика Грейнерта можно было следить со всех сторон.
Уже смеркалось. В переулке было пусто; редкие прохожие торопливо сворачивали к Рыночной площади. Петер и его друг Андреас Энгельбрехт стояли в воротах напротив того дома, где жил Грейнерт. Петер все время оглядывался на белую каменную ограду, из-за которой свисали ветви, густо усыпанные вишнями. Он явно нервничал.
— Получится, а? — шептал он Андреасу.
— Ясно, получится. Как Руди свистнет, так и начнем.
На другой стороне улицы то появлялась из-за угла, то исчезала вихрастая голова Вернера. Короткий пронзительный свисток! Андреас сложил руки стременем и подсадил Петера на стену. Все было сделано в один миг. Только веревку удалось накинуть не сразу, — она все цеплялась за ветвистые сучья. Наконец Петер справился и с этим.
Он спрыгнул на землю. У Вернера тоже все было готово. И вот поперек улицы повис бумажный плакат — белыми буквами на черном фоне было написано: «Здесь живет штрейкбрехер Грейнерт!»
Мальчики снова попрятались в свои укрытия и стали ждать. Немного погодя скрипнула калитка. Грейнерт, как всегда, в обычный час отправлялся в погребок у ратуши.
Переулок показался ему каким-то странным. Он огляделся по сторонам, потом посмотрел вверх: там через дорогу было что-то протянуто. Что? «Здесь живет…» Грейнерт побледнел. В ту же минуту началось настоящее светопреставление: из всех ворот, из-за всех углов повыскакивали мальчишки. Они гремели жестянками и, приплясывая вокруг Грейнерта, распевали во все горло:
Бастуют все шахтеры, Бастуют все шахтеры, Один электрик Грейнерт — Штрейкбрехер и подлец!Грейнерт отпрянул назад. Потом бросился ловить одного из ребят. Петер и другие мальчишки неслись за ним по пятам вниз по переулку и размахивали консервными банками, продолжая орать:
— Штрейкбрехер, штрейкбрехер, штрейкбрехер!
Грейнерт обернулся и попытался схватить Петера, но вся орава уже мчалась назад.
— Ну, подождите вы, негодяи! — пропыхтел он.
На шум в переулке собиралось все больше и больше народу.
— Так ему и надо, — смеясь, сказал какой-то горняк. — Это же позор!
— Видно, получил по заслугам, — подхватила молодая женщина. — Будь он мой муж, я бы его в два счета выгнала из дому.
Мальчишки гремели банками и орали до хрипоты. Если Грейнерту и удавалось поймать одного из них за рукав, тот, визжа, вырывался и начинал распевать еще громче прежнего.
Наконец бедный электрик выбился из сил. Не глядя по сторонам, он бросился назад к своему дому и захлопнул за собой калитку. Люди, посмеиваясь, разошлись. Убежали и мальчишки.
В переулке наступила тишина. Только черно-белый плакат кричал: «Здесь живет штрейкбрехер Грейнерт!»
Пять зарубок
Уже пятую неделю стояли колеса над подъемниками рудников. Для бастующих шахтеров это были долгие недели.
В низкой, полутемной кухне с двумя крошечными оконцами обедало семейство Энгельбрехтов. Шестеро ребят усердно вылавливали бобы из супа, который мать получила в стачечном комитете.
Слышен был только стук ложек о жестяные миски.
— Пятая неделя! — сказал старик Энгельбрехт, обращаясь к сыну, «Энгельбрехту-младшему», как его называли в поселке.
Сын, угрюмый, скупой на слова человек, работавший на шахте навальщиком, ничего не ответил.
— Скоро шестая, — пропищал курносый Андреас и провел пальцем по зарубкам на краю стола.
Четыре большие зарубки означали недели, четыре маленькие — дни. Это был стачечный календарь Андреаса.
— Вот сорванец! — Дед шутливо нахмурил густые брови. — К тому времени, когда придется нести стол в ломбард, от него уже ничего не останется.
Энгельбрехт-младший, не спуская глаз с детей, проворчал:
— Если так будет продолжаться, мы все умрем с голоду.
— Нет, мы не умрем с голоду, — снова вмешался Андреас. — Я сегодня видел Брозовского с повозкой, он вез целую гору капусты!
Мальчишка даже облизнулся.
— Ну и что же?
— Это ему все крестьяне дают, — объявил Андреас и торжествующе оглядел все семейство; он был рад похвастать своими познаниями.
— Крестьяне дают, — повторил отец и подпер голову руками. — Надолго ли этого хватит?
Старый Энгельбрехт ударил кулаком по столу.
— Довольно! — На этот раз в глазах его сверкнул неподдельный гнев. — Когда крестьяне ничего не дают, ты ворчишь; когда дают, тоже ворчишь. Ты слишком часто встречаешься с этим пройдохой Шульце.
— Опять во всем виноват Шульце! Что ты имеешь против него?
— Что я против него имею? — спросил старик и перегнулся через стол. — Я тебе объясню. Да вот хоть вчера. Иду я через площадь. У погребка на ступеньках сидят горняки, и с ними Шульце. Я остановился и слушаю, как этот тип разглагольствует. Битых пять минут простоял, а он все каркает и каркает: «В конце концов мы же все равно проиграем. Так какой в этом смысл?» И так без конца. Самое досадное, что всегда находятся малодушные люди, которые прислушиваются к его болтовне. А хозяевам только этого и надо. И как это ты не видишь, куда клонит этот отвратительный тип.
— Но ведь он же сам был за стачку!
— Потому что ему ничего другого не оставалось. Но ты еще увидишь, он нас предаст. Такие, как он, только и ждут удобной минуты.
Сын стремительно вскочил из-за стола:
— У булочника бери в долг, у бакалейщика бери в долг! Да разве на такую ораву напасешься! — Усталым жестом он надел шапку и, ссутулившись, пошел к двери. — До каких же пор еще терпеть! — сказал он обернувшись.
— Пока не победим, пока медные короли не сдадутся, вот до каких пор, — резко ответил старый забойщик.
— Этого нам придется долго ждать. Они не сдадутся никогда.
— Мы тоже.
Старик погладил обвислые кончики своих светлых усов.
Уже в дверях Энгельбрехт-младший еще раз обернулся:
— Андреас!
— Да, отец?
— Господин Грейнерт сказал мне, будто ты был с мальчишками, которые сыграли с ним эту бессовестную шутку.
Андреас струсил и мысленно уже представил себе, как он стоит перед отцом со спущенными штанами.
— Я объяснил господину Грейнерту, что мой сын такими вещами не занимается.
Отец выжидающе посмотрел на Андреаса.
Тот, опустив голову, проговорил:
— Да, я был там. Ведь Грейнерт — штрейкбрехер.
— Это тебя не касается! Не смей водиться с хулиганами. Ясно? Если я еще хоть раз услышу что-нибудь подобное, ты у меня получишь, щенок!
И он вышел, хлопнув дверью.
Андреас облегченно вздохнул. На этот раз он легко отделался. Он взглянул на дедушку. Тот сочувственно кивнул ему и спросил:
— Кто же это научил вас так осрамить Грейнерта?
— Никто. Сами придумали. Ведь мы пионеры.
— Кто?
— Пионеры, — громко повторил Андреас, подумав про себя: «Дедушка стал совсем плохо слышать». Но, увидев по лицу деда, что тот по-прежнему ничего не понимает, добавил: — Мы с Петером в воскресенье вступили в пионеры. Только галстуков у нас пока нет. Но ничего, мы их получим.
— Смотри-ка, вот молодцы!
Ночной бой
Луна, выглядывая из облаков, заливала своим бледным светом поля и терриконы. Над беспорядочным нагромождением рудничных строений возвышались черные, растопыренные устои подъемников. Листья фруктовых деревьев, стоявших вдоль дороги, слегка шумели под ночным ветром.
За время забастовки это было уже второе полнолуние.
Мансфельд не спал. Забастовщики, собравшись в сотни маленьких групп, несли вахту.
По проселочной дороге шагал отряд пролетарской самообороны. Люди тихо переговаривались. Словно светлячки, вспыхивали во тьме огоньки папирос. Кто-то негромко запел песню о Карле Либкнехте и Розе Люксембург. Ее подхватил второй голос, звонкий и чистый. Постепенно к ним присоединялись все новые и новые голоса, густые басы и мальчишечьи дисканты. Негромко, но уверенно и проникновенно, как клятва, звучала в ночи песня:
Карл Либкнехт, Роза Люксембург Семь лет назад Учили нас, что счастье, жизнь и волю Лишь подвигами смелыми творят![10]Впереди на шоссе вспыхнул яркий свет фар. С угрожающим грохотом навстречу мчались грузовики. По требованию разъяренных хозяев рудников правительство посылало в Мансфельд полицейские войска.
Каждый день в полном походном снаряжении прибывали всё новые отряды. Каждую минуту могли начаться бои. Теплая, летняя ночь, казалось, такая мирная, таила в себе угрозу.
Пикетчики — Отто Брозовский, Вальтер Гирт, старый забойщик Энгельбрехт, Карл Тиле, Август Геллер и стволовой Ленерт — знали это. Они были начеку.
Отряд пролетарской самообороны поравнялся с пикетом. В лунном свете лица людей казались особенно бледными. То здесь, то там раздавалось приветствие:
— Глюкауф!
— Вы из Аугсдорфа? Все в порядке?
— Смотрите в оба! Сегодня ночью на рудник «Вицтум» будут переброшены штрейкбрехеры!
У Вальтера Гирта от волнения забилось сердце: ни за что на свете нельзя пропустить штрейкбрехеров на рудник! Ни за что на свете! Сегодня ночью мы должны победить! Больше ждать невозможно. Вальтер проклинал свое вынужденное бездействие.
«Вот уже несколько недель мы только и делаем, что стоим в пикетах да устраиваем собрания. Мы не продвинулись ни на шаг. К черту! С этими бандитами нужно разговаривать по-другому». Вальтер вглядывался в темноту. Ну что ж, пусть приходят. Он нащупал свой мешочек с завтраком. Там лежали ломти хлеба, овальная коробочка с табаком и… Вальтер улыбнулся в темноту. Сквозь грубое полотно мешочка он нащупал небольшой пакет. «Пусть приходят. Мы встретим их как следует».
«Штрейкбрехеры! — Вальтер сплюнул. — У них пропадет охота наносить нам удары в спину». Он развязал мешочек, пошарил в нем рукой. Вот ломти хлеба, жестянка с табаком, спички. А вот и он! Ровный, маленький, аккуратно перевязанный пакетик. «Машина со штрейкбрехерами далеко не уйдет. Никто больше не пустит в ход колеса подъемника, никто не возьмется за отбойный молоток. Никто! Вот увидите!» Вальтер взвесил пакетик на ладони. Он был тяжелый, этот маленький, твердый пакетик динамита. Волнение Вальтера словно рукой сняло. Пусть приезжают. Его глаза нетерпеливо вглядывались в темноту.
И вдруг чья-то сильная рука точно тисками сжала его запястье. Отто Брозовский шепотом выругался.
— Ах ты, дуралей! — накинулся он на товарища. — Ведь хозяева только и ждут, чтобы утопить забастовку в крови. Дай сюда!
Он вырвал у Вальтера пакет.
Вальтер был уничтожен. Он еще никогда не видел Брозовского в таком гневе.
Долговязый Карл Тиле, стоявший рядом и видевший всю эту сцену, постучал себя пальцем по лбу и сердито сказал:
— Он никогда ничему не научится.
— Ничего, научится, — ответил Брозовский и вернулся к остальным.
Луна скрылась за тучами. Стало совсем темно. Брозовский разделил горняков на группы. Каждый получил свое задание. Все делалось быстро и бесшумно.
Словно из-под земли перед пикетчиками вырос велосипедист, — он ехал без света.
— Приготовьтесь! Машина со штрейкбрехерами появится с минуты на минуту.
Хорошо, что луна еще не выглянула из-за темной завесы облаков.
Под покровом ночи два человека выскакивают на дорогу. Что они там делают, разобрать трудно. Но, приглядевшись, можно различить доски, которые одна за другой ложатся поперек дороги. На какую-то долю секунды луна пробивается сквозь облака: на досках что-то поблескивает — похоже, гвозди.
Горняки возвращаются обратно, прыгают в кювет к остальным, съежившись, замирают и пристально вглядываются в темноту. И вот вдалеке послышалось гудение мотора. Оно наполняет ночь, нарастая, словно грозовые раскаты. Свет фар беспокойно мечется по земле. Из-за поворота выезжает крытая брезентом машина. На подножках, держась за дверцу кабины и за борт, стоят полицейские. Машина уже совсем близко. Расходящиеся веером лучи света выхватывают из мрака стволы деревьев.
Брозовский шепчет товарищам:
— Они везут их, точно преступников!
Вальтер Гирт хватает за руку старика Энгельбрехта, который сидит на корточках рядом с ним.
— Началось! — кричит он хрипло. — Началось!
Раздается короткий, похожий на выстрел звук. Он повторяется снова и снова. Машина проезжает еще несколько метров и останавливается.
— Чего встал? Поезжай! — доносятся до горняков раздраженные окрики полицейских.
Шофер дает газ. Грузовик с трудом двигается с места и, переваливаясь из стороны в сторону, едет дальше.
Перед машиной вырастает живая стена — горняки преградили дорогу. Они стоят в свете фар, расставив ноги и крепко взявшись за руки. Брозовский поднимает руку:
— Стой!
Шофер тормозит, и тотчас же один из полицейских рявкает:
— Вперед, мерзавец!
Грузовик уже совсем близко, но горняки не отступают. Осталось всего шесть метров!
«Сейчас они отскочат», — думает шофер.
Пять метров!
— Освободить дорогу! — кричат полицейские, размахивая дубинками.
Четыре метра!
Горняки стоят как вкопанные.
Три метра!
— Проклятье, они не двигаются с места!
В последний момент шофер изо всех сил нажимает на тормоз. Машину заносит. Полицейские судорожно хватаются за борта. Грузовик останавливается поперек дороги.
Перед машиной выросла живая стена…
Из-под брезента слышатся испуганные голоса:
— В чем дело? Что там случилось?
Штрейкбрехерам становится не по себе. Их беспокойство возрастает с каждой секундой.
— Эй, трусы, заткните глотки! — грубо одергивает их кто-то.
И под брезентом наступает тишина.
А снаружи раздается спокойный, уверенный голос:
— Ребята, уходите домой! Не подводите товарищей!
Из грузовика снова слышится взволнованный шепот.
И снова окрик:
— Ни с места!
Шепот замирает. Громкий, уверенный голос обращается к сидящим в машине горнякам:
— Мы боремся за повышение нашей нищенской зарплаты! Подумайте об этом, ведь вы тоже рабочие!
Штрейкбрехеры притихли, боятся шевельнуться.
Вдруг воздух прорезает пронзительный свист. Полицейские соскакивают с машины. Размахивая дубинками, они бросаются на пикетчиков. Один из них бьет Энгельбрехта по лицу.
— Собаки, — хрипит старик и сплевывает.
Полицейский сбивает его с ног и бьет сапогом в живот. Раз, другой, третий. Старый забойщик корчится от боли.
Безудержный гнев охватывает горняков. Увесистый кулак обрушивается на негодяя. Полицейский пошатнулся и оставил Энгельбрехта в покое. Зеленая фуражка покатилась по земле. Двое рабочих осторожно относят избитого старика в кювет.
Штрейкбрехеры под брезентом слышат удары, тяжелое дыхание, стоны, отрывистые возгласы. Они сидят, едва дыша от страха.
Вдруг кто-то откидывает брезент. И перед растерявшимися штрейкбрехерами вырастают три черные фигуры с красными повязками на руках.
— Авария! Мы весьма сожалеем, но путешествие кончено. Деньги за проезд возвращены не будут, — язвительно объявляет Геллер.
«Черт возьми, — думает электрик Грейнерт, которому жена с утра до вечера твердит, что он должен идти на работу, — они меня опять накрыли. Опять повесят перед домом этот проклятый плакат». И, стараясь остаться незамеченным, он вылезает из машины. Вслед за ним через борт лезет рудничный конюх Аппельт.
— Меня срочно вызвали на рудник, — бормочет он. — Сказали, что лошади околеют.
— Лошадок, конечно, жаль, — спокойно и строго говорит Август Геллер, — но пусть уж лучше околеют лошади, чем умрут с голоду наши дети.
За Аппельтом следуют еще трое или четверо. Осталось еще человек пять.
— Не артачьтесь, ребята, идите домой! — кричит в темноту Август Геллер.
— Заткни глотку! — отвечает из кузова чей-то грубый голос.
Август узнает его: это старший забойщик Дитцке, драчун и пьяница; говорят, он состоит в нацистской партии. В углу слышится возня — это Дитцке ощупью пробирается навстречу тщедушному Геллеру.
— А ну, дай этому красному! — кричит кто-то. — Сотри его в порошок!
В кузове становится светло как днем. Это вспыхнули фары: позади грузовика остановилась машина выездной полицейской команды. Заскрежетали тормоза. Из машины выпрыгнул полицейский вахмистр Шмидт, а за ним еще целая орава полицейских в зеленых формах.
— Схватить пикетчиков! — командует Шмидт.
Полицейские бросаются на рабочих. В темноте на пыльной, нагретой дневным зноем дороге разгорается борьба. Энгельбрехт стонет в кювете. Вальтер выхватил у полицейского резиновую дубинку и колотит ею направо и налево. Под глазом у него синяк. Один из полицейских бьет Брозовского. Тот скрючился от боли: он был ранен в руку во время войны. Извернувшись, Брозовский наносит удар другой рукой. Полицейский теряет равновесие и падает.
Стволового Ленерта схватили. Он отбивается, используя свой железный крюк как оружие. Полицейские тащат его к машине.
— Ну, ты, поворачивайся, сволочь однорукая, коммунист паршивый! — орет Шмидт и бьет Ленерта под ложечку.
Ленерт спотыкается, и его волочат по дороге.
С огромным трудом повернув голову, Ленерт кричит:
— Мне жаль, что я не коммунист. Брозовский! Слышишь! Когда вернусь из кутузки, я вступлю в партию!
Свистит резиновая дубинка. У Ленерта темнеет в глазах, он уже не слышит, как его бросают в машину.
Взревел мотор. Полицейские, словно виноградные гроздья, повисают на бортах отъезжающей машины.
Несколько отставших в зеленой форме бегут сзади, пытаясь вскочить на ходу.
Горняки смотрят им вслед. Штрейкбрехеры исчезли, как в воду канули. Грузовик стоит посреди дороги, точно судно, потерпевшее кораблекрушение.
Луна вышла из-за облаков и залила нежным светом черные терриконы рудника «Вицтум».
Предательство
Секретарь профсоюза Шульце нервно поерзал в кресле, снял пенсне с носа и подышал на стекла. Гул голосов, доносившийся с улицы, с каждой минутой становился все громче.
— Освободите арестованных! — раздавалось снова и снова.
У Шульце на лбу выступили капельки пота.
— Ну и народ! Неслыханная наглость!
Тщательно выутюженным носовым платком он протер стекла пенсне.
Над недоеденным куском колбасы жужжала жирная муха. Эти крики на улице испортили ему аппетит. Он отогнал муху платком. В комнате было невыносимо душно. Шульце застонал; он обливался по́том. Наконец он встал и, подойдя к раскрытому окну, осторожно выглянул из-за гардины. В переулке колыхалось море людей. Они собрались перед кирпичным зданием тюрьмы, расположенным против комитета профсоюза.
— Свободу арестованным! Отпустите наших товарищей! — кричали рабочие.
Секретарь профсоюза испуганно заморгал глазами. Он надел пенсне и посмотрел на тюрьму. Там и сям за решетками окон мелькали бледные лица. Арестованные поднимали сжатые кулаки.
— Рот фронт! — кричали они.
— Рот фронт! — отвечали им горняки снизу, из переулка.
— Чертово племя! — буркнул Шульце и захлопнул окно.
— Свободу заключенным!
Громкие возгласы проникали в комнату даже сквозь закрытые окна. В дверь постучали.
— Войдите! — устало пробормотал Шульце.
Вошел Рихард Кюммель и нерешительно остановился на пороге:
— Здравствуйте.
Секретарь профсоюза недовольно поднялся с кресла, но тут же взял себя в руки и радушно улыбнулся:
— Заходите, коллега…
— Кюммель, — робко представился Рихард.
— Да заходите же, коллега Кюммель. Садитесь!
Он указал Рихарду на высокий стул с прямой спинкой, а сам развалился в кресле за письменным столом.
— Ну, что нового, мой юный коллега?
Рихард вертел в руках шапку.
— Я бы хотел выяснить один вопрос…
— Так, так, коллега…
— Кюммель, — подсказал ему Рихард.
— Пожалуйста, коллега Кюммель, говорите смело. Как секретарь профсоюза и как член окружного правления социал-демократической партии я в политике и в профсоюзных делах не новичок, говорю вам это без ложной скромности. — Шульце самодовольно улыбнулся. — Двадцать лет руководящей профсоюзной деятельности, это, дорогой мой, что-нибудь да значит. — Он погладил себя по лысому черепу.
Эта длинная речь ободрила Рихарда, и он проникся доверием к секретарю профсоюза.
— Я вот никак не разберусь кое в чем, — смущенно сказал он. — Наши горняки уверяют, что руководство профсоюза заодно с хозяевами. — Рихард проглотил слюну и, сделав над собой усилие, чуть слышно произнес: — Говорят, профсоюзные руководители обещали медным королям прекратить стачку. Говорят, что они предали нас!
Улыбка исчезла с лица Шульце. Он снял пенсне и, хотя стекла были абсолютно чистыми, принялся усердно их протирать.
— Так, так, юный коллега. Значит, вот что о нас говорят?
Рихард кивнул.
Но Шульце уже овладел собой. Он ударил кулаком по столу так, что тарелка с колбасой подпрыгнула.
— Это просто неслыханно!
Потом улыбка снова заиграла на его лице.
— Боже мой, коллега… коллега Куммер, — начал он вкрадчиво, — в конце концов профсоюзы не могут отказываться от переговоров, нужно всегда иметь запасной выход. Но мы никому ничего не обещали, даю вам слово. Вопрос по-прежнему остается открытым.
«Этого парня я во всяком случае должен успокоить», — думал Шульце.
Зазвонил телефон.
Шульце снял трубку.
— Да! — небрежно сказал он и кивнул Рихарду. — Секретарь профсоюза Шульце слушает. Что? — Он даже привстал. — Галле? Да, да, это комитет профсоюза. Алло, алло! Пожалуйста, фрейлейн, я подожду. Алло, алло! Галле, алло! — взволнованно кричал он в трубку. — Да? Коллега Грабер? Да, это я! Я! Фрейлейн, я же разговариваю. Алло, Галле! Ну, Грабер, что нового, старина? Что, что?.. Ах, вот как, ты звонишь по поводу забастовки. — В голосе его зазвучало явное разочарование. — Так вы опять совещались с предпринимателями? Ну и что?
Рихард слышал торопливый, прерывающийся голос на другом конце провода, но не мог разобрать ни слова. Он только заметил, как округлились глаза Шульце.
— Что? — прервал Шульце поток слов в телефонной трубке. — Прекратить? Профсоюз уже принял условия дирекции? Нет, нет, этого я еще не знал. Ну, если так решено в Берлине, о чем еще говорить? — Он равнодушно пожал плечами. — Мы сейчас же прекратим. Я и без того уже сыт по… — Шульце поднес руку к горлу. Но тут он вдруг вспомнил о Кюммеле и, поспешно прикрыв телефонную трубку, зашептал: — Это неслыханно! Я так возмущен! — И затем снова в трубку: — Что? Нет, нет, я слушаю. Просто у меня такой кашель, прямо задыхаюсь… Хорошо, Грабер. Будет сделано. Что? Да, да, великолепно. — Шульце повертел тарелку с куском колбасы. — Алло, фрейлейн, мы еще разговариваем. Итак, Грабер, привет всем. До свиданья, старина! — Он положил трубку и повернулся к Рихарду, который сидел совершенно подавленный. — Ну, ну, не так уж все скверно, — сказал он и, обойдя вокруг стола, доверительно похлопал Рихарда по плечу. — Вы опять будете работать. Вы ведь любите свою работу, не так ли? В конце концов не вечно же бастовать. К тому же акционерное общество Мансфельд согласно немедленно выплатить отпускные, да еще и аванс. Вам ведь нужны деньги, не так ли?
— Деньги нужны, — глухо отозвался Рихард, — но не такой ценой…
Шульце не дал ему договорить. Он шагал взад и вперед по комнате, заложив руки за спину и подняв глаза к потолку.
— Поверьте мне, коллега… коллега…
«К черту, не стану я больше повторять ему свое имя», — решил Рихард.
Выждав немного, секретарь профсоюза продолжал:
— Как я уже сказал, в профсоюзных делах я не новичок. Забастовка проведена очень удачно, очень смело. Но ведь стену головой не прошибешь. Теперь наступит спокойное время. Да, да, спокойное время, мой юный коллега… — Но не успел он закончить фразу, как с улицы донеслись пронзительные свистки, цокот копыт, крики.
Рихард побледнел. Он бросился к окну и распахнул его. Шульце осторожно выглянул из-за его спины.
С обоих концов в переулок стекались конные и пешие отряды полицейских. Стальные шлемы и винтовки сверкали на солнце.
— Наши окружены со всех сторон, — в смятении пробормотал Рихард.
Конные полицейские уже врезались в толпу. Какой-то молодой парень лежал на мостовой, ноги его были босы, деревянные башмаки скатились в водосточную канаву.
— Освободите наших товарищей! — раздался из толпы громкий возглас, в котором звучала железная воля и неустрашимость.
У Рихарда болезненно сжалось сердце: он увидел, как полицейский бил женщину. Он видел ее искаженное лицо, широко раскрытые глаза, видел, как, резко повернув голову, женщина вонзила зубы в руку полицейского и тот, вскрикнув, отпустил ее. Рядом другая женщина, раскинув руки, защищала от ударов мужа, которого полицейские старались свалить с ног дубинками. Они ударили эту маленькую щуплую женщину по голове, и она упала. Муж, опустившись на колени, пытался, в свою очередь, заслонить ее от копыт лошадей, но полицейские оттащили его прочь. По всему переулку полиция хватала рабочих.
Ножом резанул Рихарда крик ребенка. «Я же знаю этого кудрявого, — подумал он. — Как он сюда попал?»
Мальчик, пошатнувшись от удара, упал на мостовую, прямо под копыта лошадей.
— Негодяи, они затопчут его! — вскрикнул Рихард.
Но в эту минуту чьи-то сильные руки подхватили мальчика. Отто Брозовский! Рихард облегченно вздохнул.
Рабочие отбивались кулаками. Внезапно кто-то запел. Сначала песню подхватило лишь несколько голосов, потом она стала расти, шириться, звучала все смелее, увереннее заглушая цокот копыт и свистки полицейских, удары дубинок, крики детей и женщин.
Это есть наш последний И решительный бой, С Интернационалом Воспрянет род людской.У Рихарда на глаза навернулись слезы. «Они безоружны, но борются с полицией потому, что верят в победу, — думал он. — Если бы они знали, что их уже предали! Какая подлость!» Он круто повернулся и взглянул на бледное, но бесстрастное лицо Шульце.
Тот отступил на шаг.
— Что… что вы хотите, коллега… Куммер? Я же бессилен им помочь, честное слово. Я не ожидал этого…
Он боялся, что Рихард ударит его, но тот лишь сказал:
— Я иду к ним! — и направился к двери.
В это время в переулке прогремел выстрел.
— Закрыть окна! — закричали полицейские с улицы.
Шульце оттолкнул Рихарда и поспешно захлопнул окно. У него дрожали руки. Внизу раздавались выстрелы. Люди в панике бежали мимо полицейских, мимо ставших на дыбы лошадей. Не прошло и трех минут, как переулок опустел.
Но на земле, прямо под окнами тюрьмы, остался лежать человек. Это был забойщик Густав Леман, отец шестерых детей.
Снова на мансфельдской земле пролилась кровь рабочих, как лилась она и в 1921 и в 1909 годах, как лилась она еще в мятежные времена Томаса Мюнцера.[11]
Таинственный грузовик
Снова кружились колеса подъемника, снова спускались горняки в шахту. Но в дни получки они со страхом подходили к кассе: только бы в конверте не лежала записка!
Да что пользы надеяться! То один, то другой рабочий вынимал из конверта зловещий листок, означавший, что он уволен.
И с каждой неделей таких листков становилось все больше. Потеряли работу и Геллер, и старый Энгельбрехт, и однорукий Ленерт, и Вальтер Гирт.
Все короче становилась очередь горняков на приемной площадке перед спуском в шахту, и все длиннее очередь перед биржей труда. Медные короли мечтали о войне и финансировали нацистскую партию, эту шайку убийц, готовившихся потопить мир в крови.
Однажды вечером Отто Брозовский и Вальтер Гирт возвращались с собрания домой. Холодный, осенний дождь хлестал по крышам и мостовым Гербштедта. Подняв воротники и засунув руки в карманы, они шагали навстречу ветру.
— Собачья погода, — сказал Вальтер. — Но мне это даже нравится. — Он звонко рассмеялся. — Мальчишкой я всегда любил гулять под дождем. Помню, однажды пришел я домой мокрый до нитки. Ну и досталось же мне! Мать меня никогда не била, но отец шутить не любил, рука у него была тяжелая.
Увлекшись воспоминаниями, Вальтер и не заметил, как на кого-то налетел.
— Эй, дружище! — воскликнул он добродушно. — У тебя что, глаз нет?
Но прохожий, толкнув его локтем, выругался и поспешил дальше.
— Что за манеры у этого идиота? — возмутился Вальтер.
— Да, странно, — согласился Брозовский. — Ведь это Энгельбрехт-младший.
Они оглянулись ему вслед. Энгельбрехт торопливо шел по улице. На нем было светло-желтое кожаное пальто; при каждом шаге из-под его блестящих черных сапог фонтаном летели брызги.
— Черт возьми! До чего же он шикарен! А ведь уже четвертый месяц без работы. Странно, — сказал Брозовский и задумчиво покачал головой.
Дождь не прекращался. Свинцово-серое небо низвергало на землю потоки воды. Терриконы, возвышавшиеся среди нагих полей, казались черными и блестящими. Ветер гнул к земле ветви деревьев; мокрые, желтые листья, словно нехотя, слетали на размытую, грязную дорогу.
Наступила ночь. Погасли огни в поселке. В доме Брозовских тоже легли спать раньше обычного. За окнами шумел дождь, монотонно нашептывая свою колыбельную песню.
Тук, тук, тук! — перекрывая шелест дождя, раздался торопливый стук в дверь. И через минуту опять: тук, тук, тук.
Дождь барабанил по карнизу. Отто Брозовский мирно спал.
Тук, тук. Пауза. И снова, еще быстрее, еще отчаяннее: тук, тук, тук.
И вдруг что-то глухо ударило в стену. Посыпалась штукатурка.
Брозовский проснулся. В комнате было тихо и темно, хоть глаз выколи. Дождь барабанил в оконные стекла. Брозовский прислушался. Или ему показалось? Он сонно опустил голову на подушку и повернулся на другой бок. Но вот опять… Кажется, бросили камнем в стену. Он вскочил и распахнул окно.
— Товарищ Брозовский? — послышался взволнованный голос.
— Кто там?
— Это я, Гофер.
— Что случилось?
— Выходи скорей.
Брозовский осторожно прикрыл окно. Через минуту он уже отодвигал засов входной двери. В сени вошел молодой батрак Ганс Гофер.
— Тебя не добудишься, спишь, как сурок. Выводи мотоцикл, поедем! У нас в поместье неладно.
По его тону Брозовский сразу понял: случилось что-то важное. Да иначе Ганс и не стал бы поднимать его среди ночи. Они пошли в сарай. Ганс стал поспешно стаскивать брезент с мотоцикла.
— В поместье что-то происходит, Отто, — рассказывал он, и голос его прерывался от волнения. — Вчера и позавчера ночью в половине второго я слышал во дворе какой-то шум. Похоже, будто подъезжал грузовик. Но без света… А молодчики нашего Роттенхорта последние дни ухмыляются все нахальнее. Тут что-то нечисто.
— Который час?
— Начало второго.
— Поехали.
Мотоцикл рванулся вперед. Они мчались сквозь непроглядную тьму. Ганс крикнул, стараясь заглушить рев мотора:
— За полкилометра от поместья есть сарай!
Брозовский низко склонился над рулем. Ганс, втянув голову в плечи, съежился на заднем сиденье. Капли дождя стекали с фуражки за воротник и холодными струйками бежали по спине. Ветер свистел в ушах. Мимо проносились черные тени деревьев.
— Вон… за перекрестком! — закричал Ганс.
Пронзительно заскрипел тормоз. Они соскочили с мотоцикла. Тащить машину по размытому дождями полю было трудно; колеса то и дело застревали в грязи.
— Левее, — сказал Ганс.
И вот из темноты выступили неясные очертания длинной постройки. Спрятав мотоцикл, Брозовский и Ганс пешком отправились дальше.
Брозовский едва поспевал за Гансом.
Поместье окружала живая изгородь с двустворчатыми деревянными воротами. Ганс и Отто присели на корточки, прячась в кустах шиповника. Дождь лил как из ведра; ноги разъезжались в вязкой глине; больно кололи шипы.
— Мы сделаем так, — зашептал Ганс. — Когда подъедет грузовик, шофер вылезет и откроет ворота. Потом вернется в кабину. Вот тут-то мы и проскользнем.
Брозовский кивнул.
Их куртки уже промокли насквозь, становилось холодно. Во дворе поместья громко завыла собака.
Вдруг из соседней деревни донесся переливчатый бой часов: половина второго. И тотчас же, словно по сигналу, вдали послышался тихий гул мотора.
— Едут! — прошептал Ганс.
Они еще ниже пригнулись к земле.
Черной тенью промелькнул мимо них грузовик и остановился у ворот. Но из темной кабины никто не вышел. Чья-то невидимая рука бесшумно распахнула ворота. Сейчас грузовик въедет во двор, и ворота снова захлопнутся.
— За мной! — почти беззвучно скомандовал Брозовский.
Они выскочили на дорогу и, прежде чем Ганс успел что-либо сообразить, повисли на заднем борту грузовика.
Машина с грохотом въехала в ворота. Времени на раздумье не оставалось. Сейчас кто-нибудь придет с фонарем, нужно поскорее убираться. Ганс, рванув за собой Брозовского, спрыгнул на навозную кучу.
Те, что закрывали ворота, видно, услышали мягкий шум падения. Двумя яркими точками вспыхнули фонарики, полоски света забегали по двору. Ганс и Отто вплотную прижались к гнилой соломе. В это время заскрипели тормоза, машина остановилась.
«Кажется, мы у коровника», — подумал Ганс.
Люди с фонариками бросились к грузовику. Послышался торопливый шепот. В машине вместе с шофером приехал еще кто-то — значит, всего их было четверо. Они пошли по двору. Призрачный свет карманных фонариков пятнами ложился на землю, выхватывал из темноты стены хлевов и сараев. Две пары сапог приближались к навозной куче. Отто Брозовский и Ганс Гофер затаили дыхание.
— Честное слово, я слышал шум, — раздался чей-то знакомый голос.
— Да вам приснилось, дружище! Кто же будет среди ночи шататься по двору?
— Голову даю на отсечение, здесь кто-то есть.
— Да вы просто нервничаете, — нетерпеливо фыркнул другой.
Отто и Ганс услышали скрип новых кожаных сапог, так близко подошли к ним эти двое. У одного из них были длинные, как у аиста, ноги. Теперь Брозовский узнал его.
— Давайте поскорее разгружать. Нам некогда гоняться за привидениями.
— Слушаюсь, — пробормотал полицейский вахмистр Шмидт, и они направились к грузовику.
— У-ух! — дружно вздохнули Ганс и Отто.
На четвереньках они подползли к штабелю дров, возвышавшихся метрах в десяти от коровника. Отсюда им все было видно.
С грохотом откинулся задний борт. Один из мужчин вскочил в машину. Другой светил ему фонариком. На секунду он поднял руку, и яркий луч света упал на его лицо. Это был Энгельбрехт-младший. На его коричневой фуражке сверкнула жестяная бляха: свастика.
Брозовский едва не вскрикнул. Ну и подлец! Но тут Ганс толкнул его в бок, и то, что он увидел, поразило его еще больше. Из машины вытащили длинный, увязанный в рогожку тюк. Энгельбрехт-младший принял его и подал Шмидту, который стоял на лестнице, прислоненной к стене коровника. Тюк, видно, был очень тяжелый — Шмидт едва не свалился с лестницы. На секунду полицейский скрылся на сеновале, и оттуда послышался глухой стук. Один за другим сгружали с грузовика тяжелые тюки, и, порой, когда они переходили из рук в руки, сквозь разорванную рогожу что-то поблескивало — это были стволы винтовок.
Так вот в чем разгадка этих ночных визитов!
Во дворе поместья Буби фон Роттенхорта фашисты прятали оружие.
Это известие с быстротой молнии распространилось по рудникам, заводам и шахтерским поселкам. Оружие в центре Мансфельда! Оружие против рабочих! Среди горняков росло возмущение. Это чувство объединяло тех, кто еще спускался в рудник, и тех, кто был вынужден изо дня в день слоняться по улицам в поисках работы.
Медные короли заволновались. Их темные планы были раскрыты. Они высказали свое недовольство Буби фон Роттенхорту: он позволил коммунистам проникнуть в их тайну. Но тот лишь скривил в усмешке тонкие губы:
— Простите, господа, но, если у меня в поместье появился красный, это уж моя забота. Нужно ли вам говорить, что мы принимаем решительные меры, чтобы покончить с этой сволочью. Ведь я не игрушки храню у себя на сеновалах.
Медным королям такой ответ пришелся по нраву.
Ганс-трубач
На следующий день помещик собственной персоной отправился к домикам, в которых жили батраки.
— Гляди, хозяин!
Мальчишки исподтишка подталкивали друг друга, девочки робко приседали.
— Хозяин! — шепнул жене старый батрак, рубивший дрова перед домом, и, сняв шапку, почтительно склонил седую голову.
Жена, с трудом сгибая больные колени, сделала книксен.
Буби фон Роттенхорт поглядел на стариков сверху вниз.
Батрак похолодел: «Боже мой, что ему от меня нужно? Правда, он одалживал мне упряжку волов. Но я свой долг отработал».
— Скажи-ка мне, кто здесь у вас красный? — раздался повелительный голос.
Батрак еще ниже опустил голову:
— Не знаю, хозяин.
— Не ври! Вы все заодно! Смотри, как бы не пришлось тебе со старухой остаться на улице. Я ведь только из милости вас и держу. Зачем ты мне нужен, урод?
И Буби фон Роттенхорт повернулся, чтобы уйти.
— Право же, я ничего не знаю, хозяин… — Старик был в отчаянии. Он мял в руках свою выцветшую шапку.
Вдруг жена дернула его за рукав:
— А может, хозяин имеет в виду Ганса-трубача?
Фон Роттенхорт сразу насторожился.
— Кто это? — спросил он строго.
— Ну что ты, жена, какой же он красный? — отмахнулся старик.
Он понятия не имел, что такое красный.
— Ганс-трубач такой добрый, веселый человек. Его все любят, — пояснил он и подумал: «Он не красный. Не может быть».
«Боже милостивый, спаси нас, — со страхом думала старуха, — не дай нам остаться без крова». Она хотела хоть как-нибудь смягчить разгневанного помещика.
— Ты же знаешь, — снова обратилась она к мужу, — Ганс-трубач почти никогда не бывает дома. Каждую субботу он куда-то уходит, а иногда и в воскресенье. Да и в будни, бывает, его жена садится ужинать с ребятами, а его все нет. Я уж не раз удивлялась. — Старуха заметила, что помещик слушает внимательно, даже глаза прищурил, и ей захотелось рассказать еще что-нибудь: может, удастся ему угодить. — К тому же, Ганс дружил с поляками, которые у нас тут работали на уборке, — продолжала она. — Весь обед у них просиживал.
Помещик еще больше сощурил глаза и сказал задумчиво:
— Так, так, вот, значит, с кем он дружбу водит. Так, так. — Он подошел вплотную к старухе. — Где же живет этот друг поляков?
Она указала на одну из покосившихся хибарок:
— Вон там, в среднем доме, он еще так чисто выбелен. Это Ганс в прошлое воскресенье белил, погода-то была как раз подходящая. По правде сказать, они люди тихие, трудолюбивые.
— А как зовут твоего Ганса-трубача?
— Гофер, хозяин, — помедлив, ответила старуха. — Ганс Гофер.
Она опустила голову и облегченно вздохнула. С сердца у нее свалилась тяжесть, но вместе с тем она чувствовала, что подставляет под удар другого и не могла радоваться.
Роттенхорт подошел к свежевыбеленной лачуге. Двери во всех домиках были одинаковые: неотесанные доски, скрепленные двумя поперечными планками; снаружи торчало железное кольцо. Нажав на кольцо, он открыл щеколду, толкнул дверь и вошел в комнату.
Сынишка Ганса, увидев его, выронил со страху трубу, в которую он дудел, и, засунув палец в рот, растерянно уставился на незнакомца своими большими, черными как угли глазами. Его маленькая сестренка подбежала и испуганно прижалась к нему. У нее были такие же черные, удивленные глазенки.
— Ну, чего глаза вылупили! — набросился Роттенхорт на ребят. — Где ваш отец?
Мальчик робко кивнул на дверь.
— Ты что — немой?
Дети вздрогнули от этого окрика, отец всегда говорил с ними ласково.
— Папа во дволе, — еле слышно прошептал мальчуган.
— Где? — грубо переспросил помещик.
— Во дволе…
— Так поди позови его. Живо! — И он подтолкнул мальчика к двери. — Пусть сейчас же придет!
Мальчик со всех ног бросился прочь, таща за руку сестренку.
Оставшись один, Роттенхорт осмотрелся. На выкрашенных светлой краской стенах штукатурка от сырости вздулась пузырями; кое-где образовались глубокие, длинные трещины. Посреди комнаты стоял стол, в углу детская кровать. Кадка с фикусом придавала этой бедной каморке с потрескавшимися стенами и дощатой дверью веселый и приветливый вид. На столике лежало несколько книг. «Этот босяк еще читает книги! — подумал Роттенхорт. — Тогда он определенно коммунист». На стене висели три фотографии. Помещик пожал плечами. На родственников не похоже. Он всмотрелся еще раз. Фотографии показались ему крайне подозрительными.
Дверь отворилась, и в комнату вошел Ганс Гофер. За одну его штанину цеплялась девочка, за другую ее братишка. Увидев у себя в комнате фон Роттенхорта, Ганс нахмурил брови.
— Добрый вечер, — сказал он помедлив и поднял с полу трубу.
Фон Роттенхорт не ответил на приветствие. После короткой паузы он сказал тихо и угрожающе:
— Слушайте, Гофер… — и замолчал.
Долго, словно оценивая лошадь, он мерил взглядом ладную фигуру батрака и помахивал хлыстом из стороны в сторону. Покачивание хлыста становилось жутким, невыносимым. Туда-сюда, туда-сюда… Затем помещик повторил еще раз:
— Слушайте, Гофер… — и снова замолчал.
Он подошел к кадке с фикусом, сорвал листок и медленно растер его между пальцами.
— Как это получается, что по всему Мансфельду… — заговорил он, отчеканивая каждое слово, и вдруг, резко повернувшись, ткнул рукояткой хлыста в грудь Ганса Гофера, — по всему Мансфельду болтают, будто я прячу оружие для штурмовиков! Извольте объяснить, откуда берутся эти слухи!
Зеленоватые глаза Ганса смотрели по-прежнему спокойно. Он только слегка выпятил нижнюю губу и пожал плечами:
— Этого я не знаю.
— Знаете! — зарычал фон Роттенхорт.
— Говорю вам, что не знаю.
— Значит, вам не известно, что в поселке говорят, будто каждую ночь в половине второго у меня во дворе выгружают оружие?
— По ночам я сплю.
— Кто же тогда сочиняет эти идиотские сплетни? Может, вон тот старый калека? — побледнев от злости, закричал помещик и указал во двор, где старый батрак складывал наколотые дрова.
Ганс Гофер снова пожал плечами:
— Кто это делает, я, к сожалению, тоже не могу вам сказать. Да и откуда мне знать?
Фон Роттенхорт с трудом овладел собой. Он охотно влепил бы этому дерзкому батраку оплеуху. «Я еще ему покажу, кто здесь хозяин. Он мне за все заплатит», — решил он про себя.
— Смотри, — сказал он, — держи язык за зубами и помни: в моем поместье никто ничего не прячет.
— Я не понимаю, чего вы, собственно, от меня хотите?
В зеленоватых глазах было столько спокойного достоинства и в то же время в них сквозила такая издевка, что помещику стало не по себе.
Случайно взгляд его упал на фотографию.
— Кто это? — спросил он.
— Это великие борцы за дело рабочих: Ленин, Либкнехт и Роза Люксембург, — ответил Ганс.
Бессильная злоба, душившая Буби фон Роттенхорта, прорвалась наружу.
— Снять! — завопил он. — У себя в поместье я этого не потерплю!
Дети заплакали.
— Гинденбург и Людендорф — вот кого нужно повесить здесь!
Ганс Гофер кивнул, и в уголках его рта мелькнула лукавая усмешка.
— Вы правы, — произнес он задумчиво, как бы пытаясь постигнуть всю глубину этой мысли. — Вот их действительно нужно повесить. И я думаю, что это еще будет сделано.
Буби фон Роттенхорт понял, что лучше отступить. Он кинул на Ганса взгляд, полный ненависти.
— Берегись! — процедил он сквозь зубы.
От негодования у него так дрожали руки, что он не мог справиться с щеколдой. Наконец ему удалось открыть дверь; нагнув голову, он выбежал из комнаты.
Когда Ганс рассказал жене о столкновении с помещиком, та побледнела от ужаса.
— Он тебе этого не простит, — сказала она. — Он не потерпит тебя в имении. Ну почему ты всегда такой резкий? Ты совсем не думаешь о детях.
Ганс сел рядом и нежно погладил ее по волосам.
— Ну, не плачь, — попросил он. — Ты же знаешь, как я вас люблю. Но пойми, мы должны сделать все, чтобы фашизм не пришел к власти и чтобы не было войны.
Он встал, подошел к детям и весело сказал:
— Христиан, Гедди, не поиграть ли нам на трубе?
— Поиглаем на тлубе! — закричал Христиан, и его черные как угли глазенки засияли.
Он, пыхтя, подтащил стул к стене и, взобравшись на него, снял с гвоздя трубу.
Убийцы
В погребке, расположенном недалеко от поместья фон Роттенхорта, было накурено и душно. Полицейский вахмистр Шмидт грел руки о стакан грога. Ночь была морозная, и он продрог на посту. Приятное тепло медленно разливалось по телу. Шмидт начал клевать носом.
За соседним столиком сидели двое. Одного из них, совсем еще молодого, он видел в профиль; старший сидел спиной. На нем была кожаная куртка, так плотно облегавшая его плечи, что казалось, она вот-вот с треском лопнет.
Сквозь дремоту Шмидт слышал их разговор. Тот, что постарше, разгоряченный выпитым пивом, безуспешно старался приглушить свой громкий бас.
— Люди с совестью, — разглагольствовал он, — не могут быть настоящими мужчинами, они просто трусы. А Гитлеру нужны мужчины. Такие, как я. — И он сжал кулак и согнул руку так, что под кожаной курткой вздулись железные мускулы; швы на рукаве затрещали.
«Вот это парень!» — подумал Шмидт с восхищением и стал внимательно приглядываться к соседям.
Второй, тщедушный и еще совсем мальчишка, сидел, низко опустив лохматую голову. Он почесал в затылке и сказал, словно оправдываясь:
— Не волнуйся, толстяк, совести у меня нет.
— Так ли? — усомнился старший.
— Да говорю тебе, правда! — закричал молодой. — Я ведь, знаешь, какие дела обделывал! Только этакое…
Толстяк предостерегающе наступил ему на ногу и зашептал:
— Ладно, ладно, я вижу, что ты не трус. Просто тебя немного лихорадит, как примадонну перед премьерой. Ничего, это пройдет.
Хозяин принес пива, и на мокром картонном кружке к внушительному ряду черточек добавил еще две.
«Что за типы? Где-то я их уже видел», — подумал Шмидт и стал припоминать: ночь… машина… сеновал…
— Он пойдет из Гербштедта около одиннадцати, — сказал толстяк.
— А если не пойдет?
— Пойдет. Он каждую субботу возвращается в это время.
— А куда мы его потом денем?
— Оставим на дороге! — Толстяк равнодушно пожал плечами. Голова у него покачивалась из стороны в сторону, так что ему пришлось подпереть ее руками. — Кто-нибудь его найдет. Говорю тебе, как отец, ты можешь гордиться. Такая высокая честь, поверь мне. Личный приказ хозяина: покончить… — Язык у него заплетался. Немного помолчав, он сказал: — Пошли, что ли?
Они встали, подняли воротники, шатаясь, добрели до стойки, расплатились и вышли. Струя холодного воздуха ворвалась в погребок. Дверь захлопнулась.
«„Покончить… покончить…“ — сонно думал Шмидт, разомлевший от тепла и грога. — Покончить… ах, с ним! — сообразил он. — Покончить с ним… — Он покачал головой и прищелкнул языком. — Ну и ну! Так вот оно что! Ну, слава богу, ты здесь ни при чем, Шмидт. — Он лениво вытянул свои длинные ноги. — В двадцать тридцать твоя служба кончается».
В это время Ганс Гофер шагал по пустынной дороге сквозь непроглядную мглу холодной декабрьской ночи. Он возвращался с партийного собрания, и на сердце у него было тепло, как всегда после встречи с товарищами. Он спешил домой, к жене, которая ждала его, сидя у окна. В их маленькой комнатушке сейчас уютно потрескивала печка и слышалось ровное дыхание спящих детей.
Быстрые шаги Ганса гулко стучали по дороге, промерзшая земля ждала первого снега. Внезапно из кювета бесшумно вынырнули две тени. Сильные руки повалили Ганса на землю. Неравная борьба была короткой. Громкий, предсмертный крик проре́зал воздух.
Когда фашистские убийцы вонзили ему нож в спину, по всему полю, до самых вершин мрачных терриконов, разнесся страшный, последний крик Ганса Гофера. Этот крик на веки веков будет звучать проклятием владельцам поместий и медных рудников.
Трудное время
В первые дни трагического тысяча девятьсот тридцать третьего года фашизм при поддержке магнатов Мансфельда и Рура, помещиков Гольштейна и Мекленбурга пришел к власти.
Наступил февраль.
В понедельник утром Отто Брозовский, как обычно, вычистил крольчатник и налил кроликам свежей воды. Дверь сарая скрипнула. На пороге стоял Петер, бледный, осунувшийся. В его серых глазах застыл страх.
— Дядя Брозовский, это правда? Андреас был с дедушкой в Эйслебене… Они сломали Андреасу руку…
Брозовский кивнул, захлопнул дверцу крольчатника и мягко сказал:
— Это правда, мой мальчик.
Петер опустил голову.
То, что рассказал Андреас, казалось ему страшным сном.
В спортивном зале в Эйслебене играли дети рабочих. Звенит смех, ни на минуту не смолкает веселый гам. И вдруг весь этот радостный шум перекрывает какой-то резкий незнакомый звук. Пуля пробила стекло. Вокруг маленького черного отверстия паутиной расходятся трещины. Дети кричат от ужаса. Второй выстрел. Дверь распахивается. С револьвером в руках штурмовики врываются в зал. Рабочие пытаются защитить забившихся в угол детей, но фашисты сбивают их с ног.
— Они убили троих рабочих, — шепотом рассказывал Андреас своему другу.
Петер в ужасе прибежал к Брозовскому.
— Это правда, Петер, — говорит Брозовский, и голос его, как всегда, спокоен, но в нем звучит такая гневная печаль, какой мальчик еще никогда не слышал. И, как прежде, много лет назад, Брозовский обнимает Петера за плечи: — Пойдем, мой мальчик, погуляем немного.
Они пересекли Гербштедт и вышли на проселочную дорогу. Свинцово-серое небо низко нависло над Мансфельдом, словно и природа понимала, что на земле наступила долгая, беспросветная ночь.
Из глубин памяти вставали перед Отто Брозовским прошедшие годы.
День за днем темные рудники. Но и среди этого мрака коммунисты зажгли свет в сердцах рабочих. Этот свет видели многие и многие горняки, и они вступали в борьбу за свободное, счастливое будущее человечества. Сколько было радостей, сколько трудов!
Отто хорошо знал только Мансфельд, его рудники и заводы. Но он знал и другое: в Руре, в Саксонии, в Баварии таких, как он, Август, Геллер, как Вальтер Гирт, неисчислимое множество. И все они сливаются в нерушимое боевое единство, в Коммунистическую партию Германии.
И все это вдруг должно исчезнуть?
Под свинцово-серым покрывалом неба мягко плыли темные облака, они плыли так низко, что, казалось, задевали за высокие терриконы. Холодный воздух беспрестанно дрожал от гула тросов рудничных подъемников. Там, внизу, на глубине восемьсот метров под землей, забойщики вонзают в породу отбойные молотки, навальщики наполняют вагонетки. Все это сильные, молчаливые люди. И в их сердцах продолжает гореть свет. Отто Брозовский глубоко вздохнул. Пусть беснуются коричневые убийцы! Мы, партия, подобны могучему дереву, и наши корни глубоко уходят в народ. Ибо мир и свобода написаны на наших красных знаменах.
— Мы победим, Петер. Они никогда не сломят нас, — твердо сказал Брозовский. — Но теперь настало трудное время. Кто знает, что нам еще суждено пережить? Для того, чтобы быть настоящим коммунистом, нужно иметь много мужества. Если бы твой отец был жив, он бы не пал духом. А ты? — Он крепко сжал Петеру руку: ему хотелось, чтобы мальчик понял, как он его любит.
— Я тоже, — не задумываясь, ответил Петер.
Они молча продолжали идти рядом. Один — несгибаемый, стойкий, уже закаленный в борьбе боец. Другой — совсем еще мальчик, сын горняка, погибшего на шахте.
Небо, из свинцово-серого ставшее черным, опускалось все ниже на суровые уступчатые терриконы Мансфельда.
Петеру все вокруг казалось чужим и зловещим. Он озяб. Чтобы прервать молчание, он спросил по-мальчишески звонко:
— Дядя Брозовский, а фашизм еще долго продержится?
Но не получил ответа.
Арест
В этот мартовский вечер 1933 года стемнело раньше обычного. Неясные контуры терриконов слились с затянувшими небо снежными облаками. Во дворе рудника «Вицтум» зажглись огни.
Сумерки спустились на улицы и переулки Гербштедта, нависли над крышами домов и прокрались в спальню Брозовских. Минна Брозовская, лежа в постели под толстой пуховой периной, кряхтя растирала замерзшие ноги.
Она только что вернулась из хлева, где кормила скотину; правда, Отто запретил ей это. Каждый день, уходя, он говорил: «Ты больна, тебе надо лежать, я все сделаю сам, когда вернусь». Но ведь у него и без того хватало забот. И стоило ему уйти, как она накидывала платок, брала палку и, ковыляя, совершала свой ежедневный обход: от ослика Луше к козе, от козы к поросенку, от поросенка к кроликам и курам.
Отто возвращался домой поздно. Он никогда не рассказывал, где был, и она никогда его ни о чем не спрашивала.
С тех пор как к власти пришел фашизм, жизнь ее переменилась. На душе и без того было тяжело, а тут еще у Отто появились секреты. «Иначе нельзя, — оправдывался он. — Ведь и у стен есть уши».
И она смирилась.
Лежа в постели, Брозовская смотрела, как в наползающих сумерках словно растворяются предметы: спинка кровати, сундук, шкаф, теряя очертания, расплывались во мгле. Матушка Брозовская задремала.
Вдруг она вздрогнула. Ей послышалось, будто внизу кто-то тихонько постучал. Она прислушалась. Все было тихо. Но опять… Кто это может быть? Раньше она не пугалась, когда к ним стучали.
Заскрипели половицы, кто-то быстрыми, легкими шагами поднимался по лестнице. Брозовская затаила дыхание. Снова тишина, потом осторожный стук в дверь.
— Войдите! — крикнула она.
Дверь, скрипнув, приоткрылась.
Черная щель становилась все шире, но никто не появлялся. Матушке Брозовской стало страшно. Ей показалось, что она слышит чье-то дыхание.
— Кто там? — спросила она шепотом.
— Это я, тетя Брозовская, — раздалось еле слышно.
— Ты, Петер?
Из-за высокой спинки кровати вынырнул Петер. В полутемной комнате круглое личико мальчика казалось совсем белым. В волосах у него еще сверкали тающие снежинки.
Петер запыхался. Пока он бежал сюда, он думал, что сразу же скажет все, что нужно. Но он представлял себе это совсем иначе. Он ждал, что Брозовские будут сидеть на кухне и что дядя Брозовский тоже будет дома. А здесь оказалось темно и пусто. И вот он стоит перед тетей Брозовской, которая лежит больная в постели. Да к тому же он ее еще и напугал. Петер смущенно комкает шапку.
— Что случилось, Петер?
— Они идут сюда, тетя Брозовская.
— Кто идет?
— Нацисты.
— Штурмовики? — Брозовская испугалась. — Их много?
— Шестнадцать человек, все с револьверами и в касках. Один идет впереди и кричит: «Пошли за Брозовским!» Он пьяный.
«Какое счастье, что его нет дома», — подумала Минна Брозовская.
На улице послышался четкий стук сапог по мостовой, гулко отдававшийся в вечерней тишине.
— Отделение, стой! Троим занять вход во двор!
Брозовская с ужасом посмотрела на темное окно, за которым прозвучал этот пьяный голос, суливший беду. Потом обвела взглядом комнату. «Боже мой, — вспомнила она, — ведь у нас за шкафом знамя из Кривого Рога».
— Лишь бы они не нашли знамя, Петер! — прошептала она.
«Я буду хранить это знамя как зеницу ока», — сказал в тот памятный день Отто Брозовский, и вот теперь его нет здесь, и он не может сдержать слово.
Внизу распахнулась дверь. Подбитые гвоздями сапоги застучали по коридору, и тонкий голос пронзительно крикнул:
— Эй, есть тут кто-нибудь?
Матушка Брозовская не знала, что ей делать. Она с трудом поднялась с постели. В голове у нее шумело, при малейшем движении все тело пронизывала боль. Петер помог ей надеть туфли.
— Хотите, я унесу знамя? — вдруг сказал он.
— Унесешь знамя? — Это была неплохая мысль, но Брозовская тут же отвергла ее. — Ничего не выйдет. Ты только послушай, как они там орут. Разве тебя пропустят?
— Есть тут кто? — снова раздался тот же пронзительный голос.
На лестнице послышались тяжелые шаги.
— Как-нибудь выберусь, — прошептал Петер и бросился к шкафу.
В этот момент дверь распахнулась. Щелкнул выключатель и вспыхнул свет.
На пороге, широко расставив локти и засунув пальцы за ремень, стоял штурмовик. На рукаве у него, окруженная белым кругом, чернела свастика. Увидев Брозовскую и Петера, он зло засмеялся:
— Так вот вы где? Попрятались, как крысы? Все равно мы вас нашли! — Он подошел поближе. — Ага, хозяйка дома! Ты могла бы приодеться для гостей получше, такой приятный визит бывает не очень часто. А где же твой старик, а?
— Моего мужа нет дома, — спокойно сказала Брозовская.
У штурмовика на лбу вздулась жила.
— Хватит притворяться! Выкладывай, где ты его спрятала? — закричал он.
— Говорю вам, что его нет дома, — вспыхнула матушка Брозовская.
— Врешь! — заревел штурмовик.
Он неуклюже опустился на колени и заглянул под кровать. Потом встал и откинул перину.
— Камня на камне не оставлю, а найду этого красного! — проворчал он и направился к шкафу.
Петер замер. Он по-прежнему стоял между окном и шкафом и с ужасом следил за происходящим. Штурмовик распахнул дверцы и, раздвинув одежду, посветил внутрь фонариком. Сзади лежал какой-то мешок. Ударом сапога он выбросил его из шкафа, на пол посыпались разноцветные лоскуты.
«Сейчас он заглянет за шкаф и увидит знамя», — подумал Петер.
Штурмовик захлопнул дверцу и шагнул к мальчику. Скрипнули половицы. Петер смотрел на огромные черные сапоги, остановившиеся около него, и ему было страшно. Какими грозными и безжалостными они казались! Петер не решался поднять голову. Он закусил губу: «Что делать? Сейчас знамя найдут! Не трусь, Петер, только не трусь!» Он поднял ногу и что было силы наступил на сапог.
— А-а! — вскрикнул штурмовик. — Чтоб тебя!
Он схватил Петера за руку, дернул к себе и с размаху ударил по лицу. У мальчика потемнело в глазах. Штурмовик оттолкнул его так, что он отлетел в сторону и ударился об угол кровати.
— В другой раз будешь смотреть, куда наступаешь, — заорал штурмовик. — Убирайся вон! И не попадайся мне больше на глаза, а не то дам ремня!
Брозовская стояла, прижав к груди руки. Она оцепенела от ужаса, видя, как избивают ребенка. Штурмовик, повернувшись к ней, закричал:
— И ты убирайся, живо!
Брозовская заковыляла из комнаты. Она с трудом спускалась по лестнице, одной рукой держась за перила, другой обнимая Петера.
— Бедный мальчуган, — шепнула она ему на ухо.
— Ничего, — лукаво прищурившись, отозвался Петер. — Я ему все-таки здорово на мозоль наступил, правда? — Петер попытался улыбнуться, но не смог — у него распухли губы.
Они еще были на лестнице, когда щелкнула ручка входной двери.
В дверях стоял Отто Брозовский. Он посмотрел на штурмовиков, на жену, на Петера, который прошмыгнул мимо него во двор, — отступать было поздно.
Двое штурмовиков схватили его:
— Можешь поворачивать обратно. Мы тебя и так заждались.
— Отведите его в кухню, — приказал штурмовик, стоявший наверху, на лестнице. — Пусть на прощание понюхает, что ему старуха сварила на ужин. Сегодня ему будет не до еды.
Брозовский повернулся к жене:
— Минна, приготовь мне, пожалуйста, носки и несколько носовых платков.
Его провели на кухню. Там на кушетке храпел штурмовик. Снег на его сапогах растаял, и на валике кушетки расплылось большое грязное пятно.
На столе стояла пустая бутылка из-под водки.
Командир отряда, штурмовик с низким лбом, подошел к Брозовскому:
— Здоро́во, Брозовский, не узнаешь? Мы же старые знакомые. Помнишь собрание в Гельбре? Вы, коммунисты, выставили тогда нас из зала. Вспоминаешь? — Он злобно ухмыльнулся. — Вот и пришло время сквитаться.
Брозовский молча пожал плечами.
Спокойствие Брозовского бесило фашиста.
— Придется тебе немного попутешествовать, — не унимался он. — Фюрер так добр, что посылает тебя на курорт. Там у тебя хватит времени для воспоминаний. Да и ребята наши свое дело знают, они тебе помогут собраться с мыслями.
Штурмовики загоготали.
Брозовский невозмутимо поглядел на эту хохочущую свору и снова пожал плечами.
— Да, да, Брозовский, времена меняются, — продолжал фашистский главарь.
— Это правда, — многозначительно согласился Брозовский, — времена меняются.
Вошла Минна и подала мужу узелок с вещами. Наступило время прощаться. Кто знает, вернется ли он когда-нибудь?
— Марш! — заорал штурмовик и толкнул Брозовского револьвером в спину. — Пошевеливайся!
Брозовский пошел к двери, но вдруг остановился, словно вспомнив что-то, и ударил себя по лбу.
— Чуть не забыл, — сказал он. — Одну минутку, я только объясню жене, что нужно делать с больным кроликом. — Обернувшись к Минне, молча утиравшей глаза тыльной стороной ладони, он закричал ей в ухо, как будто она была глуховата: — Кролику давай настой ромашки, слышишь? — И тихо шепнул: — Спрячь знамя!
Штурмовик оттолкнул его от жены. Брозовский споткнулся, выпрямился и, не оглядываясь, перешагнул порог своего дома.
На Рыночной площади горел только один фонарь. В желтом кругу света выступали неровные камни и мраморные плиты фонтана. Казалось, на площади не было ни души. Но вот в тени домов вспыхнул огонек сигареты, послышались чьи-то шаги, легкий кашель, приглушенные голоса.
Потом все стихло.
Ночь была холодной и темной.
Вдруг издалека донесся тяжелый топот сапог. Отряд приближался; вот он вышел на площадь. В свете фонаря видна была широкоплечая фигура Брозовского, спереди и сзади шли штурмовики.
— Ну, где же твои соратники? — с издевкой спросил один из них.
Другие рассмеялись.
И тут от темных стен домов отделились какие-то тени. Одна за другой они вступали в круг света, вырисовывались головы, плечи, руки.
Это собрались шахтеры, чтобы еще раз увидеть Отто Брозовского, чтобы еще раз сказать ему, что они всегда с ним.
Штурмовики разом примолкли.
У Брозовского радостно забилось сердце. Словно забыв, что его окружают шестнадцать вооруженных фашистов, он поднял кулак, и в ночной тишине прозвучал его спокойный, уверенный голос:
— Рот фронт, товарищи!
Объявление на площади
Мы нашли коммунистическое знамя. В воскресенье оно будет публично сожжено на Рыночной площади.
Группенлейтер ШилеОльга Геллер дважды перечитала объявление. Буквы расплывались у нее перед глазами. Они нашли знамя, наше славное знамя! Его сожгут! Здесь, на Рыночной площади!
Она побежала через площадь, безлюдную в этот вечерний час. Этого не может быть! Наше знамя!
— Ну, куда тебя несет! — раздался окрик: она налетела на полицейского вахмистра Шмидта, шагавшего впереди отряда штурмовиков.
Ольга торопливо свернула в переулок и, добежав до дома, распахнула дверь, ведущую прямо со двора в ее комнату. За столом сидел Август и читал книгу. Очки у него сползли на самый кончик носа, он положил локти на стол и, видно, был поглощен чтением. Ольга опустилась на стул и всхлипнула.
— В чем дело? — проворчал Август, не отрываясь от книги.
— В воскресенье они сожгут наше знамя. На Рыночной площади уже висит объявление.
Август отложил книгу, поправил очки и, с трудом сдерживая волнение, переспросил:
— Сожгут? Нацисты хотят сжечь наше знамя? Этого не может быть. Оно спрятано у Брозовских.
И тут Ольга вспомнила, как она столкнулась с полицейским.
— Я только что встретила Шмидта, — сказала она. — Мне кажется, они опять пошли к Брозовским.
Кормушка ослика Луше
Ольга Геллер была права. Но Брозовские еще не знали, что им предстоит в этот вечер. Семья собралась на кухне. Мерно тикали часы. В ярком свете лампы, висевшей над столом, блестела голубая узорная клеенка. Старший сын, Вилли, читал книгу; Людвиг чинил велосипедную камеру; Петер тоже был здесь, он чувствовал себя у Брозовских как дома. Низко нагнувшись над тетрадкой, он решал задачу. Слышался скрип пера по бумаге и монотонное пощелкивание спиц, — Минна Брозовская вязала чулок. Казалось, даже движения проворных пальцев говорили о ее тоске и тревоге. Иногда она поднимала голову и смотрела на сыновей.
Старший был похож на отца — такой же резко очерченный упрямый рот, а вот глаза у отца спокойнее. «Будь стойким, мой мальчик», — подумала она и улыбнулась сыну. Людвиг был выше, чем Вилли, хотя и младше его. Он доставлял матери немало забот; рос как-то сам по себе, а с тех пор, как увели отца, и вовсе стал избегать матери и брата.
«Ах, Людвиг», — вздохнула Брозовская и снова склонилась над вязаньем. Одна петля спустилась. Она пересчитала петли, и опять защелкали спицы. Брозовская взглянула на взъерошенную голову Петера. «Милый Петер, — подумала она с нежностью, — и тебе приходится туго…»
Петер, усердно скрипя пером, выводил в тетради цифры.
В сенях послышались чьи-то шаги. Раздался громкий настойчивый стук, распахнулась дверь. Вошел полицейский вахмистр Шмидт. Да, он был полицейским до прихода нацистов к власти; полицейским остался он и теперь. А почему бы и нет? Он ведь любил только одно: подмахивать одним росчерком с завитушками «Шмидт» под объявлениями и повестками; он ненавидел только одно: партию коммунистов.
Коммунисты были врагами существующих порядков. Зарплата им, видите ли, казалась слишком низкой, меры предосторожности в шахтах были недостаточными, а хозяева рудников зарабатывали, по их мнению, слишком много денег. Короче говоря, коммунисты были всем недовольны и собирались делать революцию. Хоть полицейский вахмистр особым умом и не отличался, одно он знал точно: после революции ему не сидеть в своем пыльном кабинете, не заниматься своим любимым делом. Он не будет больше расхаживать по улицам Гербштедта вычищенный, разутюженный, с пристегнутыми шпорами. Поэтому Шмидт благодарил бога за то, что к власти пришли фашисты. Это были люди его пошиба, они покровительствовали ему. Вот и теперь они стоят за его спиной. Для успокоения Шмидт покосился на штурмовиков, которые нетерпеливо топтались в сенях.
Брозовская подняла голову от вязанья. Ее обрамленное седыми волосами бледное лицо, на котором светились огромные карие глаза, казалось в эту минуту прекрасным.
— Вставай, старуха, — сказал Шмидт. — Господа пришли взглянуть, какой порядок у тебя в шкафах и не завалялся ли где-нибудь кусочек красного бархата.
И Шмидт, ухмыляясь, обернулся к штурмовикам, которые со скучающими лицами стояли за его спиной и только ждали сигнала, чтобы «позаботиться о спокойствии и порядке».
Выхватив револьверы, они бросились к старой женщине и ее сыновьям:
— Руки вверх!
Даже Петера заставили поднять руки и отойти в угол.
Обеспечив «спокойствие», они принялись «наводить порядок». Из кухонного шкафа посыпались чашки, тарелки и кастрюли. Из ящиков полетели ножницы и нитки, тетрадь по арифметике была разорвана в клочки. Штурмовики залезли под стол, заглянули под кушетку.
— Говори, где знамя! — набросились они на Брозовскую.
— Откуда мне знать? — отвечала она. — В последний раз я видела его на Первое мая.
— Врешь! — заорал один из штурмовиков ей в лицо. — А ну, веди, показывай дом!
Брозовская встала в дверях кухни:
— Куда мне вас вести? Говорю вам, я не знаю, где знамя.
Штурмовик оттолкнул ее так, что она отлетела к плите.
— Оставьте мою мать в покое! — крикнул Вилли и бросился вперед, чтобы защитить ее, но штурмовик ударил его револьвером по голове, и он, пошатнувшись, рухнул на кушетку.
Людвиг, высокий, сильный Людвиг, стоявший рядом, опустил глаза и сказал:
— Не упрямься, мать, проведи господ по дому. И вообще я не понимаю, зачем устраивать весь этот спектакль?
Его слова поразили матушку Брозовскую больнее, чем жестокие удары нацистов.
— Твое счастье, Людвиг, — тихо сказала она, — что отец не слышал этого.
Петер по-прежнему стоял в углу с поднятыми руками. Ему было страшно. «Как жаль, что я не такой большой, как Людвиг, — думал он. — Я бы им показал».
Двое штурмовиков, стуча сапогами, стали подниматься по лестнице. Брозовская ковыляла за ними так быстро, как только позволяли ей больные ноги. В спальне штурмовики перевернули все вверх дном. Брозовская молча смотрела, как они рылись в ее постели, как из распоротых подушек белыми хлопьями летел пух. Они открыли шкаф и выкинули оттуда вещи; белье и платья валялись на полу, и они наступали на них своими грязными сапогами.
— Говори, где знамя? — набросились они на Брозовскую.
Брозовская думала о муже. Ей было страшно за него — ведь он находился в руках таких же негодяев. Но в то же время мысль о его самообладании и стойкости придавала ей мужества. В глазах ее не было ни слезинки.
Один из штурмовиков, оттолкнув ее, отодвинул шкаф. Обои в этом месте не выцвели. По некрашеной задней стенке шкафа пробежал паук.
Штурмовики загромыхали вниз по лестнице. Брозовская шла за ними следом. Выйдя во двор, они прежде всего заглянули в хлев. Одного из них, видно, очаровал ослик Луше. Он долго разглядывал ослика, поглаживал его, одобрительно хмыкал.
— Осел на осла уставился, — тихо сказала матушка Брозовская.
— Что, что? — обернулся штурмовик.
— Я говорю: осел еще не поен.
Штурмовик отошел от стойла.
В это время Шмидт положил Брозовской руку на плечо:
— А где тут у вас мотоцикл, фрау Брозовская?
— В сарае. На что он вам? — спросила она подозрительно.
— Хотим поставить его в надежное место, — деловито ответил Шмидт.
— В надежное место? — проворчала Брозовская. — Вот у нас-то и есть самое надежное место.
Но что толку спорить! Шмидт забрал мотоцикл, штурмовики облюбовали себе велосипеды. Только велосипед Людвига, с которого были сняты шины, остался в сарае.
Когда штурмовики ушли, Брозовская вернулась к ослику и ласково погладила его. Луше поднял морду от кормушки. Брозовская запустила руку в сено и достала оттуда продолговатый пакет.
— Придется забрать у тебя знамя, Луше, — сказала она и потрепала ослика по серенькому загривку. — Здесь его могут найти. Этим коричневым ослам, видно, понравилось у тебя в стойле.
Луше добродушно пошевелил ушами.
До поздней ночи семья Брозовских сидела на кухне. Тарелки и чашки, которые остались целы, были снова водворены в шкаф, картины повешены на стены. Только на одной картине было разбито стекло да у плиты валялись еще обрывки тетради Петера.
Брозовские долго ломали себе голову: куда же спрятать знамя? В ящик с углем? В курятник? Под обивку кушетки? А может быть, закопать в сарае?
Но в этот вечер они так и не пришли ни к какому решению.
«Говори, где знамя!»
Вальтер Гирт поднимался по узкому переулку к Рыночной площади. Ночь была ясная, морозная. В серебристом свете луны островерхие крыши и низкие ограды горняцких домиков отбрасывали четкие тени на заснеженную мостовую.
Полной грудью вдыхая холодный зимний воздух, Вальтер быстрыми шагами поднимался по скользкому, обкатанному уклону. На душе у него было легко, и он, сам того не замечая, громко насвистывал песню о маленьком барабанщике. Это было легкомысленно с его стороны, потому что нацисты запретили эту песню. Но ему давно уже не было так весело.
Ну и опозорились же фашисты! Ну и дали они маху! Вчера, в воскресенье, они должны были сжечь знамя. На площади уже был приготовлен костер. Господа с утра натянули начищенные до блеска сапоги, их жены облачились в праздничные наряды.
И вот наступил вечер. Пробило половину седьмого, три четверти седьмого, семь — и все пошло насмарку! Так хорошо задуманное зрелище провалилось, костер не горел, потому что красное знамя из Кривого Рога, которое должно было пылать на площади, не было найдено.
Вальтер постучал себя пальцем по лбу. «Эх вы, самодовольные идиоты! Вы вообразили, что найдете знамя? Эх вы, пустые головы! В ваших планах вы не учли только одного — нас, горняков. Ведь знамя принадлежит нам. Когда мы получили его, Брозовский поклялся хранить это знамя как зеницу ока. А клятва коммуниста весит больше, чем вся медь мансфельдских рудников. Может быть, знамя у Брозовских, а может быть, его там и нет. В Мансфельде столько шахтеров — забойщиков, стволовых, откатчиков, кто-нибудь да спрятал его, в каком-нибудь горняцком доме оно дожидается того дня, когда мы вас выгоним к чертовой бабушке и снова развернем наше непобедимое красное знамя».
Такими радостными мыслями был полон Вальтер Гирт.
Дойдя до Рыночной площади, Вальтер перестал свистеть. Из погребка около ратуши на безлюдную заснеженную площадь падал свет.
«Выпью-ка я за знамя», — подумал Вальтер и вошел в погребок. В первую минуту яркий свет ослепил его. Сквозь завесу пара и табачного дыма, словно издалека, доносился гул голосов.
Вальтер подошел к стойке и заказал кружку пива. Хозяин ополоснул кружку в тазу, подставил ее под кран и, когда она наполнилась до краев, смахнул деревянной лопаточкой желтоватую пену, которая медленно исчезала в сетчатых дырочках оцинкованной стойки, и протянул кружку новому посетителю. Вальтер с кружкой в руке облокотился на стойку и окинул помещение беглым взглядом. Народу здесь было немного. За одним из столиков сидела орава пьяных штурмовиков. Перед ними стояли пустые кружки. Один из штурмовиков, откинувшись на спинку стула и похлопывая соседа по плечу, бормотал:
— Да, дружище, «сегодня мы правим Германией, а завтра весь мир покорим». Вот увидишь. Так сказал наш фюрер, Адольф Гитлер… — Он икнул. — А как сказал фюрер… — Он опять икнул. — Так и будет. Уж это точно!
Он закашлялся и едва не свалился со стула. Сосед похлопал его по спине, и он снова принялся бормотать то же самое. Несколько раз вся орава начинала петь то что-то бравурное, то совсем заунывное.
Вальтеру стало противно. Он отвернулся и увидел рядом с собой Рихарда Кюммеля. Вальтер толкнул его и кивком головы указал на штурмовиков.
— Новые властители мира, Рихард, — буркнул он.
Рихард Кюммель едва заметно пожал плечами:
— Рано или поздно они прогорят.
— Рано или поздно?! — возмутился Вальтер. — Ты что же, собираешься ждать, пока они подожгут весь мир?
— А что можно сделать в одиночку! — подавленно сказал Рихард.
— Почему в одиночку? — Вальтер поставил пустую кружку на стойку и внимательно посмотрел на Рихарда.
Рихард опустил глаза.
«Что это? Что с ним?» — с тревогой подумал Вальтер.
Он уже стал расплачиваться, когда его окликнули:
— Гирт, пойдите-ка сюда.
Вальтер обернулся. Кто-то махнул ему из-за столика в углу. Он увидел лишь коричневый рукав с черной свастикой.
«Что ему от меня нужно?» — подумал Вальтер.
Он взял сдачу со стойки и направился к двери, чтобы догнать Рихарда, который успел уже выйти. Но в это время его снова позвали:
— Гирт, да пойдите же сюда!
Он опять обернулся и сквозь табачный дым разглядел сидевшего в углу Шиле. И тут в нем заговорило любопытство. Протиснувшись между столиками, он подошел к бывшему штейгеру.
Шиле сидел один за столиком, как раз под портретом Гитлера, — это было его обычное место, ибо он считал, что подобная позиция таит в себе глубокий смысл: вверху Гитлер, фюрер всей Германии, а под ним он, Шиле, фюрер всего Гербштедта. Портрет Гитлера вверху на стене был пестро размалеван: мундир коричневый, свастика черная, а злые, выпученные глаза — голубые; к тому же все это было заключено в позолоченную раму.
Итак, Шиле сидел под портретом и вытирал большим носовым платком лоб и шею. На коричневом мундире поблескивали знаки отличья группенлейтера, но у обладателя этих почетных знаков был недовольный и растерянный вид. Шиле был явно чем-то расстроен.
— Присядьте, Гирт, — сказал он. — Выпьем еще по одной, а?
— Нет, пить я не буду, — ответил Вальтер.
Но Шиле, словно не расслышав, крикнул кельнеру:
— Еще две кружки.
Любопытство Вальтера все возрастало. Шиле был известный скряга. Уж если он приглашает к себе за стол простого горняка, да к тому же еще угощает его пивом, для этого должны быть особые причины.
Кельнер принес пиво. Шиле поднял свою кружку:
— Ваше здоровье! — Он выпил, поставил кружку на стол и вытер рот тыльной стороной ладони. — Ну, Гирт, как дела?
— Хорошо.
— Как поживают жена и дочка?
— Хорошо.
— Вы уже зарезали свинью?
— Да.
— А сегодня холодно. Такого холодного марта не было с двадцать восьмого года, верно?
— Пожалуй.
«Однако, он неразговорчив», — разочарованно подумал Шиле и стал придумывать, как бы ему вызвать собеседника на откровенность. Он должен во что бы то ни стало выпытать у Гирта, где находится знамя. Только после этого он сможет опять жить спокойно. Забыв о сидящем рядом Вальтере, он погрузился в воспоминания.
Когда Гитлер пришел к власти, мир рисовался штейгеру в розовых тонах. Его сразу назначили группенлейтером. Вот это была должность! Наконец-то его оценили. Дома он битых полчаса вертелся перед зеркалом, примеряя новую коричневую форму. Его жена Гертруда стояла сзади, благоговейно сложив руки, и говорила, вздыхая:
«Ах, Оттокархен, как идет тебе эта форма, в ней ты совсем другой человек, такой представительный, такой важный! Наконец-то ты начал делать карьеру. И ты этого вполне заслужил, ведь ты всегда был честным и трудолюбивым. А сколько ты натерпелся от этих рабочих! В мире так много подлости».
Шиле увидел в зеркале, как жена вытерла слезу, и был растроган. Гертруда сквозь слезы улыбнулась:
«Но теперь все пойдет по-другому. Теперь все поймут, что ты за человек. Покажи им, милый, на что ты способен! Слышишь? Только поменьше ложной жалости. Я ведь знаю, какой ты добрый. Но с этим покончено! Понимаешь? Ты этих коммунистов так прижми, чтобы они пикнуть не смели. Начальство это любит. И тогда, может быть, тебя еще повысят в чине. И мы купим трехметровый буфет, знаешь, тот, что выставлен на витрине мебельного магазина в Эйслебене, ладно? А еще я хотела бы купить бронзового ангела, такого, как в доме у горного асессора, и меховую шубу. Ну, пожалуйста, Оттокархен, пожалуйста, хорошо?»
Жена продолжала болтать, а Шиле, выпятив грудь, вертелся перед зеркалом, самодовольно рассматривая себя со всех сторон и одергивая коричневый мундир. Приподняв бровь, он сказал медленно и веско:
«Милая Гертруда, теперь ты получишь все, чего только пожелаешь. Буфет, ангела, шубу. А может быть, — добавил он с таинственным видом, — я даже подарю тебе настоящую русскую шубу».
«Русскую?» — удивленно пропищала Гертруда.
«Ну да, милая, фюрер сделает Германию великой и могучей. Весь мир мы поставим на колени! Но это мужское дело, Гертруда. Твое место — у домашнего очага».
С каким восхищением смотрела на него жена! И сам он казался себе сильным и могущественным.
Но, увы, все это было месяц назад… А сейчас… сейчас Шиле, как бы очнувшись, оглядел шумный прокуренный погребок, молодого горняка со спокойным, честным лицом. Шиле вздохнул. Да, да, месяц назад мир действительно рисовался ему в розовом свете. Он вытер потное лицо и раздраженно посмотрел на непокорный вихор Вальтера. «Ну, подожди, — подумал он, — ты у меня заговоришь».
Сегодня утром Шиле вызвали в Эйслебен. Господин крайслейтер, сидевший у себя в кабинете за огромным письменным столом, спросил его коротко и резко:
«Вы сожгли знамя?»
Шиле, щелкнув каблуками, склонил голову в почтительном поклоне:
«Осмелюсь доложить, нет».
«Почему?»
«Осмелюсь доложить, мы его не нашли».
Крайслейтер почесал затылок. Глаза у него сузились.
«Послушайте, Шиле, если вы в кратчайший срок не покончите со знаменем, я буду вынужден разжаловать вас за неспособность».
Шиле весь съежился от этой угрозы. Он опустил голову еще ниже и пробормотал заикаясь:
«Но его совсем не так легко найти, господин крайслейтер».
«Вы осел! — заревел крайслейтер. — Конечно, это не легко. Вы что думаете, рабочие вам принесут знамя домой на золотом подносе? Тупица! Говорю вам в последний раз, и зарубите себе это на носу: вы должны сжечь знамя публично, и не позднее следующего воскресенья. Понятно?»
Шиле, вытянувшись в струнку, отчеканил:
«Так точно, господин крайслейтер!»
Вспомнив теперь об этом «так точно», Шиле нахмурился и сжал губы.
Вальтер заметил перемену в лице Шиле и, заподозрив что-то недоброе, решил уйти.
— До свиданья, — коротко бросил он и поднялся с места.
Шиле тотчас же очнулся от своих воспоминаний:
— Вы останетесь здесь, понятно?
— С вашего позволения, мне пора домой, — спокойно ответил Вальтер.
Группенлейтер побагровел:
— Вы уйдете, когда я кончу с вами разговаривать, ни на минуту раньше, понятно?
Вальтер насторожился, но виду не подал.
— Разговаривать? Да мы уже минут пять, как молчим, — сказал он.
Шиле постучал толстым золотым перстнем по кружке.
— Ты думаешь, я заказал тебе пива для того, чтобы услышать твои «хорошо», «да», «нет» и «до свиданья»? Нет, милейший, сегодня ты так дешево не отделаешься. Мне нужно у тебя кое-что узнать. Мне нужна небольшая справочка, понятно? — Он схватил Вальтера за руку и понизил голос: — Ты знаешь, что мне от тебя нужно?
Вальтер отрицательно покачал головой.
— Не знаешь? Нет? Тогда я тебе это скажу, товарищ Гирт. Я хочу сегодня же знать, где вы спрятали ваше русское знамя.
«Ага, — подумал Вальтер, — пора уходить». Он вырвал руку и, глядя сверху вниз на разъяренного Шиле, сказал:
— Вашего пива я не пил и где знамя, не знаю, — и повернулся к выходу.
Тогда Шиле вскочил и, размахивая руками, заорал во все горло:
— Это мы еще посмотрим, негодяй, знаешь ты или нет, где знамя! А ну, ребята, хватай эту красную сволочь!
Штурмовики повскакали с мест. Одутловатые, пьяные морды перекосила тупая ненависть. Раздались громкие выкрики:
— Держи его! Он красный!
Вальтер понял, что дело плохо. Не глядя по сторонам, он поспешно шел к двери. Все бросились за ним. Какой-то верзила преградил ему путь:
— Выход запрещен.
— Пусти! — сказал Вальтер, глядя ему в глаза.
Штурмовик размахнулся и ударил Вальтера по лицу. Вальтер, не помня себя, бросился на верзилу и метким ударом свалил его с ног. Одним прыжком он очутился у двери, но в ту же минуту на голову ему обрушился чей-то железный кулак. Он пошатнулся, штурмовики схватили его и потащили к столу, за которым сидел Шиле. Они не прочь были поразвлечься. Вальтер еще не пришел в себя, в глазах у него стоял туман.
Шиле сидел, откинувшись на спинку стула и заложив ногу за ногу. Около него столпились штурмовики.
— Ну, Гирт, в таком большом обществе веселее разговаривать, не правда ли, — усмехнулся группенлейтер. — Теперь выкладывай: где знамя? — Он размеренно покачивал ногой в такт словам.
— Я не знаю, где знамя, — сказал Вальтер.
Штурмовики уже расстегнули пряжки ремней. Они ждали команды. В погребе стало очень тихо.
— Господин группенлейтер, разрешите, мы поможем ему вспомнить.
Шиле кивнул.
Штурмовики схватили Вальтера, стащили с него плащ и куртку и бросили его на стол. Раздался свист ремней.
Голова Вальтера безжизненно свисала со стола.
Наконец штурмовики остановились:
— Теперь ты скажешь, где знамя?
Его подтащили к стулу под портретом Гитлера. У Вальтера ужасно болел бок и кружилась голова. Он хотел сесть, но нацисты только этого и ждали. Один из них ударом ноги опрокинул стул, и Вальтер рухнул на пол. Вся орава весело загоготала. Они никак не могли успокоиться. Как только Вальтер пытался ухватиться за ножки стола, чтобы приподняться, кто-нибудь наступал ему на руку каблуком.
Шиле даже вспотел от смеха. Наконец-то он хоть на несколько минут мог позабыть о своих заботах.
— Ладно, хватит, дайте ему встать, — пропыхтел он.
Штурмовики отошли, и Вальтер встал, тяжело опираясь о стол. Он едва мог собраться с мыслями. «А что толку, если я дам забить себя до смерти? — подумал он. — Нужно что-нибудь придумать».
Словно издалека донесся до него голос Шиле:
— Ну, теперь ты вспомнил, куда вы спрятали знамя?
Все притихли, дожидаясь.
— Да. — Вальтер не узнал собственного голоса.
— Черт возьми, лечение-то помогло!
Опять раздался громкий хохот.
Шиле, довольный, откинулся назад. Он торжествовал.
Все хорошо, что хорошо кончается! Он уже совершенно отчетливо видел, как к нему летит бронзовый ангел. Это смягчило его.
— Вот видишь, Гирт, я же всегда знал, что в сущности ты благоразумный парень. Теперь назови нам только место, где спрятано знамя.
— Говорят, Брозовский спрятал его в подвале монастыря, — с трудом выговорил Вальтер.
Шиле вскочил со стула:
— А ну, ребята, тащите сюда факелы. Идем в монастырь. Ты поведешь нас, Гирт.
Серый монах
По ночным улицам Гербштедта к монастырю двигалась странная процессия. Покачиваясь из стороны в сторону, брели пьяные штурмовики, тревожно мерцали свечи: факелов в спешке раздобыть не удалось. Впереди вели Вальтера, с трудом передвигавшего ноги.
Они вышли из города и по занесенному снегом полю направились к старому монастырю. На свежем воздухе Вальтеру стало лучше. Голова его прояснилась. Но идти было по-прежнему трудно. Каждый шаг причинял ему боль. Он проваливался в рыхлый снег, спотыкался. Правой… левой… правой… левой. Если бы можно было хоть на секунду остановиться и перевести дух! Но грубые кулаки толкали его в спину. Правой… левой. В изношенные полуботинки забивался снег. На штурмовиках были высокие крепкие сапоги.
Наконец они добрались до мрачного, серого здания монастыря. Молча спустились в темный сводчатый подвал.
— У-у-у, ну и жутко же здесь! — воскликнул кто-то. — Надеюсь, Гирт, ты не трус.
Это пришлось пьяной ораве по вкусу.
— У-у-у! — дружно заорали они.
В длинном коридоре гулко отозвалось эхо. Дрожащие язычки свечей отбрасывали пляшущие тени на потрескавшиеся каменные стены. Коридор, круто спускаясь вниз, становился все у́же. Штурмовики скользили на мокром каменном полу, хватались за замшелые выступы стен. Вверху, под самым потолком, неподвижно висели летучие мыши.
Хотя Шиле был пьян не меньше других, ему стало страшно. Он пробовал подбодрить себя звуком собственного голоса:
— Далеко еще? — спросил он громко.
И опять отозвалось эхо.
— Минут пять, — ответил Вальтер. — Говорят, он спрятал знамя в западном крыле склепа, там, где бродит серый монах.
— Что за чепуха! Какой еще серый монах? Кто станет верить этим выдумкам!
Один из штурмовиков рассмеялся. Тысячью голосов повторился этот смех под гулкими сводами. У пьяных героев по спине побежали мурашки. Дальше они шли молча.
Пахну́ло плесенью, из поперечного хода подул сквозняк, и свечи погасли, все, кроме одной. Вальтер шел впереди, все дальше углубляясь в подземелье. Внезапно он остановился.
— В чем дело, Гирт? — послышался сзади испуганный шепот: кричать у них уже пропала охота — раскатистое эхо внушало им страх.
Вальтер указал на черневшее в каменной стене отверстие шириной примерно в метр, длиной сантиметров в шестьдесят.
— Лезем.
— С меня хватит, — недовольно пробормотал один.
— Черт с ним, с этим знаменем! — с досадой сказал другой.
— Замолчите вы, жалкие трусы! — прикрикнул на них Шиле. — Мы должны найти знамя! Тот, кто со свечой, пусть лезет первым, а ты за ним, Гирт!
Кряхтя и охая, штурмовики — толстый мясник Крюгер, канцелярист Либхен и другие — опустились на колени и стали протискиваться в дыру. Им приходилось не легко: они ведь не были горняками. Так весело начался сегодня вечер в погребке, а теперь вот изволь мучайся тут! Один за другим они исчезали в черной дыре, громко сопя, ползли по низкому каменному коридору. Шиле пробирался последним. Он не заметил в темноте торчавшего из стены острого камня. Тр-рр! — его новый мундир с треском разорвался на спине. Шиле чуть не взвыл от досады. Вот не везет так не везет! И все из-за проклятого знамени! И зачем только он поселился в этой богом забытой дыре? Один только Брозовский причинил ему столько хлопот! Листовки, за которыми он тогда тщетно гонялся, плакаты, забастовка… Сейчас Брозовский сидит, наконец, в концлагере, а хлопоты все не прекращаются. А тут еще новый мундир полетел ко всем чертям, и, может быть, все это напрасно.
Мрачное предчувствие охватило его.
— Эй, Гирт, — крикнул он, — если ты вздумал нас надуть, живым ты отсюда не выйдешь. Ясно?
Вальтеру это было ясно. Ясно было и то, что так долго продолжаться не может. Две, ну, три минуты, и они всё поймут. Две, три минуты, и они убьют его.
Жизнь прошла хорошо. Правда, порой ему было нелегко. Но он не терял мужества.
Когда он вступал в Коммунистическую партию, Отто Брозовский, протягивая ему членский билет, сказал: «Смотри, Вальтер, смотри, мой мальчик, как сильны мы, горняки. Миллионы лет скрывает земля медь в своих глубинах, а мы метр за метром проникаем в толщу породы и вырываем из нее это скрытое сокровище. Так разве мы не справимся с капиталистами? Только для этого мы все должны держаться вместе и бороться упорно и бесстрашно».
Упорно и бесстрашно! Вальтер полз дальше. Перед ним на полу, по стенам и на сводах галереи плясали отблески свечи. За ним, тяжело дыша, ползли его убийцы.
Одна минута, быть может, еще две… Вальтер думал: «Они убьют меня. Но знамени им не найти! Никогда! Брозовский прав: мы сильны».
И тут он увидел, как от каменного свода отделилась тень. Мимо него бесшумно промелькнула летучая мышь. В тот же миг погасла единственная свеча, и своды подвала огласились пронзительным криком:
— На помощь!!! Серый монах!
Кричал толстый мясник Крюгер. Он был суеверен и каждую субботу гадал на картах.
Поднялась неописуемая паника. Летучая мышь испуганно металась между штурмовиками, которые яростно отмахивались от нее.
— О-о-о! — стонал один. — Он дал мне затрещину!
— Помогите! — вопил другой. — Он дергает меня за волосы!
— Пресвятая дева Мария, — хрипел третий, — он хочет меня задушить. Он знает все мои грехи, пресвятая Мария. Он знает, что это я украл велосипед… — И штурмовик умоляюще орал: — Я завтра верну его этому красному, завтра же утром. Обещаю тебе это, серый монах, только помилуй меня!
В темноте они налетали друг на друга и в ужасе отскакивали в разные стороны. Шиле попытался перекричать все эти вопли и стоны:.
— Вы что, ребята, совсем спятили? Только старые бабы верят в призра… ра… ра…
Сзади, в том месте, где был разорван мундир, Шиле вдруг почувствовал чьи-то легкие холодные прикосновения. От страха он едва не лишился чувств.
Наконец летучая мышь вырвалась из этой кутерьмы, и перепуганные насмерть штурмовики постепенно стали приходить в себя.
— Зажгите свечу! — раздался дрожащий голос Шиле. — Гирт, ты поползешь впереди!
Ответа не было.
— Ползи дальше! — закричали штурмовики. — Слышишь?
Ответа не было.
— Гирт! Гирт!
Зажгли свечу. Ее мерцающее пламя осветило бледные, вытянувшиеся лица сидящих на корточках штурмовиков.
Вальтера Гирта найти не удалось.
Полчаса спустя Вальтер, бесшумно открыв дверь, вошел в свою комнатушку. Он поспешно стал доставать из комода рубашку, носки, носовые платки.
Проснулась жена:
— Что случилось, Вальтер? Что ты там делаешь?
— Я должен уехать отсюда, Ганна, — мягко сказал Вальтер. — Я не сказал им, где знамя. Этого они мне никогда не простят. — Он нежно взял голову жены в свои большие, крепкие руки. — Поцелуй Соню. Скажи ей, чтобы не забывала меня. Я буду бороться дальше, пока еще и сам не знаю, где и как, но нашей Соне не придется краснеть за отца. Скажи ей это, Ганна.
Тяжело было на сердце у Вальтера, когда он, покинув дом, брел по пустынной дороге мимо заснеженных терриконов. Но он знал, что выбрал честный и правильный путь.
Под розовым кустом
Прошло полгода.
Однажды утром, когда Брозовская с буханкой хлеба под мышкой вышла из булочной, к ней подъехал на мотоцикле полицейский вахмистр Шмидт.
— Хайль Гитлер!
— Что? — переспросила Брозовская и приложила руку к уху, словно не расслышала.
— Вам повестка из гестапо, — многозначительно сказал Шмидт. — Завтра к восьми утра, смотрите не опаздывать!
На следующее утро Минна Брозовская прошла по длинному коридору ратуши и, преодолевая страх, постучала в облупившуюся коричневую дверь.
— Войдите!
Она нерешительно переступила порог комнаты.
Лысый гестаповец в черном мундире, сидевший за письменным столом, не поднял головы от бумаг. На столе лежала эсэсовская фуражка с черепом вместо кокарды, а сзади, на стене, висел портрет Гитлера. Гитлер гладил овчарку и криво усмехался. Минут пять сотрудник гестапо не обращал на Брозовскую никакого внимания.
«Что ему от меня нужно?» — думала она. Эти пять минут показались ей вечностью.
Наконец гестаповец, все еще не поднимая головы, процедил сквозь зубы:
— Вы жена арестованного Брозовского?
— Я жена горняка Брозовского, — ответила она твердо, хотя сердце у нее сжималось от страха.
«Может быть, они убили его?» — подумала она и закусила губу, чтобы не закричать во весь голос: «Что случилось с моим мужем? Что вы с ним сделали?»
Гестаповец не спеша отточил карандаш, посмотрел кончик на свет, подточил его еще немного и потом, не отрывая глаз от карандаша, лениво спросил:
— Что бы вы сказали, если бы ваш муж вернулся домой?
У Брозовской подкосились ноги. Слезы брызнули у нее из глаз: «Он не умер! Жив!»
— Как? — прошептала она.
— Мы освободим вашего мужа, фрау Брозовская, если вы захотите.
От волнения она не сразу поняла, что говорил ей сотрудник гестапо.
— Ах, слава богу! — вырвалось у нее.
— Я сказал: если вы захотите, фрау Брозовская!
— Конечно, хочу, ну, конечно!
Гестаповец внимательно посмотрел на нее и криво усмехнулся:
— Все в ваших руках, фрау Брозовская. Если вы принесете нам знамя, мы отпустим вашего мужа домой.
Брозовская словно очнулась от сна. Как могла она забыть, кто сидит перед ней! Счастье чуть не лишило ее рассудка. Но теперь она снова видела судорожную усмешку Гитлера, оскалившийся череп на фуражке, холодные глаза гестаповца. Это были смертельные враги Отто и ее тоже. Смертельные враги всех рабочих!
Она приняла вызов.
— Я не знаю, где знамя, — сказала она, пожав плечами.
— Но ведь оно стояло у вас дома!
— Да, это верно. Но, где оно сейчас, бог его знает.
Гестаповец постучал карандашом по столу:
— Я бы советовал вам сказать, где знамя!
Брозовская мысленно представила себе клумбу красных роз у себя в саду. Там, под этими розами, было закопано знамя, такое же красное, как цветы.
— Право же, я не знаю, — сказала она, — ведь я его отдала.
— Отдали? — насторожился гестаповец. — Кому?
— Не знаю. Пришли какие-то двое, один высокий, другой поменьше, на лису похож, и забрали знамя. Я их толком даже разглядеть не успела. — Увидев, что гестаповец насмешливо скривил рот, она снова пожала плечами: —Хотите верьте, хотите нет, только знамя я отдала. Отпустите моего мужа, он ведь тоже не знает, где сейчас знамя.
— Ну, это мы еще посмотрим, — отозвался гестаповец. — Можете идти! Хайль Гитлер!
— До свидания, — тихо и отчетливо сказала Брозовская и повернулась уже к двери, как вдруг гестаповец крикнул ей вслед:
— Можете принести для него деньги на проезд домой.
Искра надежды снова вспыхнула в сердце Брозовской.
— Деньги я принесу сегодня же, — сказала она. — Только пошлите их сразу.
И, закрыв за собой дверь, она с облегчением вздохнула.
Придя домой, Брозовская устало опустилась на стул и тут же передала сыну свой разговор с гестаповцем.
— Не нравится мне все это, Вилли, — сказала она. — Этот тип в фуражке с черепом легко не успокоится. А деньги на проезд он велел принести, чтобы мы думали, будто знамя их больше не интересует. Эти собаки хотят нас провести, понимаешь?
— Ты видишь все в черном свете, мама, — попытался успокоить ее Вилли.
— Нет, мой мальчик, от них всего можно ожидать. Посмотришь, не сегодня-завтра они снова явятся.
Мать и сын решили, что оставлять знамя под розами опасно. Но куда же тогда его спрятать? Они перебрали много мест и от всех отказались.
Душный летний зной окутывал кухню.
— А если мы его закопаем в сарае? — спросила наконец Брозовская.
— Это ненадежно.
— А если сверху поставить шкаф?
— Нет, могут найти.
Брозовская махнула рукой:
— Тогда оставим его под клумбой. Может быть, это лучше всего. Я устала, мой мальчик.
Брозовскую мучит совесть
Не прошло и трех дней, как мрачные предчувствия Брозовской оправдались. Фашисты снова нагрянули к ним. В комнате, в сарае, в хлеву они все перевернули вверх дном. Напрасно!
Уходя, они пригрозили:
— Весь двор перекопаем, а найдем ваше знамя!
Когда вечером Вилли вернулся домой, Брозовская сказала:
— Знамя нужно сейчас же выкопать.
Они опять стали думать, куда бы им спрятать знамя, и при этом поссорились, потому что Вилли все казалось недостаточно надежным.
«Что же делать? — в отчаянии думала Брозовская. — Что делать? Из-за этого знамени у нас нет ни минуты покоя».
На улице люди показывают на нее пальцами: «Вон идет женщина, которая закопала русское знамя в монастырском подвале». И в собственном доме она уже не хозяйка. Каждую минуту только и ждешь, что вот-вот распахнется дверь и штурмовики снова перероют весь дом.
Ей так надоело все это.
— Делай что хочешь, мой мальчик, — устало и сердито сказала она. — Только оставь меня в покое.
Не говоря ни слова, Вилли встал и вышел из дома.
Брозовская осталась одна. На душе у нее по-прежнему было тяжело.
«Отто столько вынес ради знамени, а я переложила все заботы на сына. Кто знает, сделает ли он все как следует?» Совесть мучила ее.
Раньше на улице и в лавках она гордо смотрела нацистам в глаза, а теперь ходила не поднимая головы.
Однажды она пошла в пекарню Рункеля за хлебом. Там была жена Шиле. Разряженная, словно рождественская елка, она стояла перед прилавком, и ее громкий голос торжествующе гремел на всю пекарню.
— Нет, вы только представьте себе, фрау Рункель. Наконец-то мой муж нашел это русское знамя!
Жена пекаря оцепенела.
— И знаете где, моя милая? Ну, вы просто ахнете, когда я вам скажу. Геллеры зашили его в свои занавески. Что вы на это скажете? Эта бессовестная женщина делает вид, будто воды не замутит, а сама зашивает русское знамя в занавески!
Матушка Брозовская стояла, словно пораженная громом. Внутри у нее все перевернулось.
Знамя у Ольги Геллер?
Ничего не купив, она вышла из булочной и побрела вниз по крутому переулку к маленькому дому Геллеров. Уже издалека она услышала страшный шум, затем увидела грузовик, полностью загородивший узенький переулок. В машину что-то бросали. Подойдя ближе, матушка Брозовская увидела, что это были книги. Здесь же, рядом, с беспомощным видом стоял Август. Каждый раз, когда его любимые книги, словно кирпичи, переходили из рук в руки, он закусывал губы.
А штурмовики все время нарочно роняли книги на землю.
Фашисты бросали книги, в которых была сказана великая правда. Книги Максима Горького, Ленина, Эрнста Тельмана, Маркса. Обнаружив маленький томик Гейне в чудесном переплете, один из штурмовиков с издевкой закричал:
— Ой, от смеха лопну! Этот кривой пес читает стихи!
Он несколько раз подбросил книгу ногой, пока из нее не выпали страницы. Белые листки разлетелись по всему переулку.
Увидев бледное лицо Августа, его сжатые губы, штурмовики весело расхохотались.
«Будьте вы прокляты!» — подумала матушка Брозовская, с болью глядя на Августа. Их взгляды встретились, она едва заметно кивнула ему головой. «Ничего, придет конец их господству, — мысленно сказала она ему. — Они не устоят перед правдой, написанной в этих книгах. Крепись, Август». Он понял этот взгляд и ответил на него. Его глаза сказали: «Отто и ты, вы тоже немало пережили».
После этого события совесть стала мучить Брозовскую еще больше. «В глазах Августа было столько доверия, а я бросила знамя на сына».
Она видела перед собой Отто, когда бандиты тащили его из дома, она слышала его последние слова: «Спрячь знамя!» Эти мысли делали ее такой несчастной, что она почти не раскрывала рта. Когда на улице или в лавке кто-нибудь указывал на нее, когда люди, наклонясь друг к другу, перешептывались, она тяжело вздыхала.
У межевого камня
Прошло полгода. После недолгой суровой зимы растаял снег на полях, и первые теплые лучи солнца согрели окоченевшую землю.
Однажды вечером в середине марта к Брозовским постучался какой-то человек с бритой головой и изможденным серым лицом.
— Отто передает вам привет, — сказал он. — Возможно, он скоро вернется.
Эта весточка согрела Брозовских, как ласковое весеннее солнце.
На следующий день, в воскресенье, Вилли с утра запряг ослика и сказал матери:
— Поедем в поле, мама.
Он бросил на повозку лопату и охапку соломы.
— Ты что, уже копать собрался? — спросила Брозовская.
— Увидишь, — лукаво улыбнулся Вилли.
«Что он хочет делать? — думала она. — Ведь копать еще слишком рано — может ударить мороз».
Повозка громыхала по ухабистой дороге. Луше семенил бодрой рысцой. Все в этот день радовало Минну, даже громыхание повозки и тряска. Ведь скоро вернется Отто! Может быть, уже в следующее воскресенье он вместе с ними поедет в поле.
Она уже мысленно видела его рядом, говорила с ним, гладила его руки.
— Неужели наш отец выглядит так же, как этот товарищ? — робко спросила она.
— От этих мерзавцев можно всего ожидать.
— Боже милостивый, как они мучают людей! — Матушка Брозовская задумалась.
— Ты знамя-то хорошо спрятал? — помедлив, спросила она. — Смотри, чтобы нам не было стыдно перед отцом.
— Тпру! — крикнул Вилли и натянул поводья; он соскочил с повозки, взял лопату и подошел к межевому камню.
— Как ты думаешь, что я выкопаю? — спросил он, изо всей силы нажимая на лопату.
— Откуда я знаю…
Лопата все глубже уходила в землю, выбрасывая тяжелые черные комья.
— Что ты выдумал, Вилли? Некогда мне глядеть, как ты тут дурака валяешь!
В этот момент что-то звякнуло под ударом лопаты. Вилли нагнулся и стал разрывать землю руками. Осторожно извлек он из ямы цинковый ящик и торжественно снял крышку. В ящике лежал знакомый темно-красный бархат.
— Ну что, разве плохо я его спрятал? — гордо спросил Вилли.
Брозовская обняла и благодарно прижала к себе сына:
— Слава богу, что оно цело! Как обрадуется отец! — Она опустилась на колени и погладила бархат. — Все-таки отсырело, — озабоченно сказала она. — Пора его забрать отсюда, а то еще сгниет. Мы его хорошенько высушим дома и перепрячем.
В ее глазах, как бывало, загорелись озорные огоньки. У нее словно камень с души свалился.
Они осторожно поставили ящик со знаменем в угол повозки, прикрыли его соломой и поехали обратно.
Выехав на улицу, ведущую к Рыночной площади, они внезапно услышали звуки духового оркестра.
— Что там у них опять? — спросила Брозовская.
— Это штурмовики для разнообразия устраивают на площади концерт, — ответил Вилли и сплюнул.
Брозовская испугалась:
— Что же теперь делать? Как же мы поедем мимо них со знаменем?
— Если мы повернем назад, мама, это еще больше бросится в глаза.
«Он прав! Придется ехать через площадь! — решила Брозовская. — Проедем по самому краю, никто нас не остановит». Она откинулась назад, скрестила руки на груди и подставила лицо солнцу, стараясь принять спокойный и беспечный вид, — они с сыном возвращаются с воскресной загородной прогулки. Осел трусил равнодушной рысцой, повозка слегка подпрыгивала. Никто не обращал на них внимания. У Брозовской в уголках рта затаилась улыбка.
Если бы только эти надутые индюки знали, что лежит в повозке!
Они были уже на середине площади, как вдруг кто-то окликнул их:
— Эй, Вилли!
Вилли оглянулся и на мгновение чуть отпустил поводья. Луше будто только этого и ждал: почувствовав свободу, он припустился рысью прямо на середину площади, где играл оркестр. Прежде чем Вилли сообразил, в чем дело, повозка уже врезалась в толпу.
Что было делать? Остановить ослика оказалось невозможным. Он упрямо бежал вперед. Люди отскакивали в сторону. Те, что стояли подальше, приподнимались на цыпочки и вытягивали шеи, стараясь разглядеть, что происходит. Одни смеялись, другие осыпали Вилли проклятиями. Нацисты, бросая разъяренные взгляды на хохочущую толпу и на длинноухого нарушителя порядка, продолжали играть.
Остановить Луше удалось, лишь когда он совсем уже наехал на мясника Крюгера, который, надув щеки и не двигаясь с места, упрямо трубил в трубу. Вилли спрыгнул с повозки и принялся увещевать ослика:
— Идем домой! Поворачивайся! Ну!
Но Луше уперся и не желал трогаться. Шиле, стоявший со своей дородной супругой возле самого оркестра, крикнул Брозовской:
— Вы же мешаете концерту! Бессовестная женщина!
«Тоже мне, кошачий концерт!» — подумала Брозовская и сердито сказала:
— А что я могу поделать! Пойдем, Луше, пойдем, мой хороший!
Но в эту минуту мясник Крюгер на секунду перестал трубить, и «хороший» Луше, видно решив, что теперь его очередь, вытянул шею и отчаянно заревел:
— И-а! И-а! И-а!
Вилли изо всех сил рванул за уздечку. Но Луше уперся и стоял как вкопанный.
Пусть все на куски развалится, Пойдем мы путем своим… —продолжал играть оркестр.
— И-а! И-а! И-а! — вторил ему на всю площадь мощный тенор Луше.
Брозовская, сидя в повозке, обливалась холодным потом. В это время раздался тоненький голосок сынишки фрау Рункель:
— Мама, этот осел — один из бременских музыкантов,[12] да?
Бац — мамаша с размаху влепила ему пощечину.
— Негодный мальчишка! Слушай лучше, как прекрасно играет оркестр.
Наконец Луше сдался и как ни в чем не бывало затрусил домой.
В этот вечер Луше получил на ужин двойную порцию сена, а Брозовская, вспоминая приключение на площади, смеялась до слез.
Возвращение
Прошло несколько дней. Пассажирский поезд из Галле приближался к Эйслебену. На горизонте показались окутанные серой дымкой терриконы, возвышавшиеся над бескрайними полями, с которых лишь недавно сошел снег. У окна вагона сидел человек с изможденным, бледным лицом. Он был небольшого роста и так худ, что совсем утопал в своем поношенном, непомерно широком пиджаке.
Он не обращал внимания на пассажиров и ни с кем не вступал в разговоры. Его грустные серые глаза ни на минуту не отрывались от однообразного пейзажа.
Мансфельд! Дорогая родина!
С этим же поездом в Эйслебен прибыло срочное письмо с грифом «совершенно секретно», адресованное гербштедтскому отделению гестапо.
«Цель освобождения арестованного, — стояло в письме, — установление его связей по месту жительства, а также местонахождения знамени. Надлежит обеспечить постоянный надзор…»
Словно во сне, человек вышел из вокзала в город. Здесь все было по-старому: ратуша, церковь, магазины, памятник Лютеру на Рыночной площади. Люди шли с покупками, останавливались на углах, разговаривали, смеялись, как будто ничего не произошло, как будто не было концлагерей, где пытали и травили собаками заключенных, унижали их человеческое достоинство.
Разве это можно забыть?
«Милый Эйслебен, чистенький, благополучный, суетливый городок! Если бы ты знал, как страдают твои лучшие сыновья!» — И, шагая по улицам, этот измученный, худой человек заглядывал людям в лицо и молча рассказывал им о героическом подвиге забойщика Курта Шрадера.
Ночь за ночью приходили они в камеру и уводили его. Они уводили его в подвал, где пол и стены почернели от крови, там они били его и орали: «Назови имена твоих товарищей!»
Но Шрадер, закусив губы, молчал. И так ночь за ночью. Он не мог больше ходить и не мог больше лежать.
И снова наступила ночь, и снова пришли палачи. Все ждали с замиранием сердца. Утро медленно прокралось в камеру. Но Курт Шрадер больше не вернулся. Он умер смертью героя.
Человек шел все дальше. На одной из улиц вдруг он услышал за спиной топот сапог и властную команду:
— Левой… левой… левой… левой…
Он не обратил бы внимания на эти звуки, давно уже ставшие привычными, но его поразила странная легкость шагов. Он обернулся. По мостовой маршировал отряд мальчиков в черных галстуках.
«Бедные дети! — подумал человек. — Они уже взялись и за вас!»
Он миновал Эйслебен и зашагал по пустынной проселочной дороге мимо терриконов, рудников и рабочих поселков. Входя в поселок, он вслух читал знакомые названия: Фолькштедт, Поллебен, Аугсдорф… Какое счастье снова вернуться домой!
А вот наконец и террикон рудника «Вицтум»: «Добрый день, старый друг!» Но рудник показался ему мрачным и чужим — наверху, над подъемником, развевалось фашистское знамя.
«Ничего, эту штуку мы скоро сбросим», — утешил он сам себя.
Чем ближе Брозовский подходил к Гербштедту, тем сильнее билось у него сердце. Как-то там его старуха? Здорова ли? А мальчики? И… цело ли еще знамя?
По Рыночной площади он уже почти бежал. Осталось всего три дома, всего два… Он распахнул дверь. Брозовская подняла голову, и слезы побежали у нее по щекам. Они обнялись.
— Ах, Отто! — всхлипывала Брозовская, гладя его бледное, исхудавшее лицо.
Они сели рядом на кушетку. Говорить они не могли.
— Бедный мой! — наконец сказала Брозовская. — Пойду зарежу курицу и сварю суп. Тебе нужно поскорее набраться сил.
— Пусть курица поживет еще полчаса, — рассмеялся Брозовский. — Скажи мне сначала, что со знаменем?
Брозовская лукаво улыбнулась:
— Посмотри-ка, на чем ты сидишь.
Он приподнял край покрывавшего кушетку ковра. Под ним лежало красное бархатное полотнище.
Глаза Отто Брозовского засияли.
В это время раздался стук в дверь.
— Прикрой! — испуганно прошептала Брозовская.
Вошел Шмидт. Брозовский, сидя на кушетке, неторопливо свертывал папиросу.
— Ну что, Брозовский, опять вернулись?
— Уже пять минут как дома. В чем дело?
— Распоряжение тайной государственной полиции. Вы должны ежедневно являться для отметки. В случае неявки пеняйте на себя.
— Каждый день отмечаться? Хорошо. А я-то думал, вы пришли поздороваться со мной, — сухо ответил Брозовский.
— Хайль Гитлер! — пробормотал Шмидт и поспешил удалиться.
— Они времени не теряют! — вздохнул Отто.
Матушка Брозовская занялась приготовлением обеда, а он, не спуская с нее глаз, все расспрашивал да расспрашивал. Он расспрашивал о товарищах, о судьбе знамени, о настроении горняков. И слова матушки Брозовской, прорвав наконец плотину молчания, струились тихо и живо, словно ручей, путь которого долгое время был прегражден и который наконец мог снова течь свободно.
— Да, тяжелая предстоит работа, — задумчиво сказал Брозовский.
— Боже мой! Неужели ты собираешься начать все сначала? Ведь, если тебя опять схватят, живым тебе не уйти.
Дверь отворилась, домой вернулся старший сын.
— Отец!
Отто крепко поцеловал сына, впервые за много лет.
Вечером семья Брозовских снова сидела за столом, как когда-то. Не было только Людвига; он еще не возвращался.
Отто Брозовский сидел как во сне. Вчера он еще был арестантом. Вчера еще он получал миску с вонючим супом, а сегодня он мирно сидит в собственной кухне, за собственным столом с близкими, дорогими ему людьми.
Матушка Брозовская выловила из ароматного золотистого бульона белую куриную ножку и положила ее мужу на тарелку.
— Это для отца, — сказала она. — Пусть наш старик поправляется.
Они ели молча. Когда они уже кончали ужинать, на крепкой белой куриной ножке еще оставалось немного мяса.
— Что с тобой? Почему так плохо ешь?
— Эх, мать, едок я теперь никудышный, — сказал Брозовский и грустно улыбнулся. — Они выбили мне зубы.
Заметив, как побледнела жена, Отто погладил ее по руке:
— Не огорчайся, дорогая. Я же опять дома. Это главное. — И, чтобы перевести разговор на другую тему, он весело спросил: — Скажи-ка, куда запропастился Людвиг?
Людвиг, словно только и ожидавший, чтобы его позвали, вошел в кухню.
— Отец? — сказал он смутившись и, не глядя ему в глаза, протянул руку.
— Что с тобой? Ты как будто не рад? — спросила Брозовская и с тревогой взглянула на сына.
Людвиг, стараясь скрыть замешательство, неловко опустился на стул и подпер голову руками. Но он тут же вскочил и ударил кулаком по столу так, что зазвенели тарелки.
— Уберите же его отсюда! — крикнул он.
В кухне стало тихо.
— В чем дело? — удивленно спросил Отто Брозовский. — О чем это ты?
Людвиг стоял перед ним опустив голову и молчал.
— Уберите его отсюда в конце концов! — повторил он раздраженно.
Брозовский вопросительно посмотрел на жену и старшего сына.
— Что мы должны убрать, Людвиг? — спросил он снова, и голос его дрогнул.
Людвиг молчал.
— Ну, говори!
Радостное настроение семьи как рукой сняло. Ложки без дела лежали в тарелках, где остывал золотистый бульон.
— Говори же, — тихонько подтолкнула Людвига мать. — Не заставляй отца волноваться в первый же вечер. Что убрать?
— Знамя, — твердо сказал Людвиг. — Что же еще?
Наступило мучительное молчание. Шрам на лице Брозовского, раньше почти не заметный, налился кровью.
— Так вот ты о чем: знамя, — повторил Брозовский охрипшим от волнения голосом.
— Да! — Людвиг резко поднял голову. — Больше я этого не вынесу. О нас все говорят.
— Послушай, Людвиг… — Сдержанно, с трудом заставляя себя говорить, Отто Брозовский начал свой рассказ: — У нас в Лихтенбурге был один комсомолец. Ему было шестнадцать лет. Веселый, живой парень. В этом аду он был единственной нашей радостью.
Месяцами бандиты-эсэсовцы пытались вырвать у нашего Герберта признание. Они били его плетьми — он молчал. Они запирали его в одиночку без окна, без нар — он молчал.
Однажды они вывели Герберта из темного карцера на лагерный плац. Стоял прекрасный летний день. Сияло солнце, на небе не было ни облачка. Герберт стоял во дворе, позабыв об эсэсовцах, позабыв о сторожевых вышках, о колючей проволоке. Он видел только солнце. Но эсэсовцы, о которых он совсем не думал в эту минуту, с насмешкой смотрели на юношу. Они-то знали, что его ждет.
Всего в нескольких шагах от Герберта стояли два ведра с песком.
По сигналу двое эсэсовцев взяли ведра и сунули ему в руки — одно в правую, другое в левую. Предварительно они сорвали с него куртку: «Бегом, марш!»
Наш Герберт побежал по плацу. Он сделал один круг, другой, третий… Ведра становились все тяжелее и тяжелее. Солнце пылало. Он бежал все медленнее. Тогда плеть, просвистев, опустилась на его голую спину: «Бегом, свинья». Он бежал. Еще один круг, другой, третий… Рубцы на теле горели. Песок в ведрах был как свинец. Когда Герберт останавливался, плеть снова свистела и подгоняла его. И так до тех пор, пока он без чувств не свалился посреди плаца…
Они схватили потерявшего сознание юношу и подтащили к колодцу. Он снова пришел в себя. И тогда они стали гонять его вверх и вниз по лестнице. А сами стояли вдоль лестницы и били его дубинками. Но наш Герберт не сказал ничего, ни единого слова.
— Да, это они умеют, негодяи, — прошептала матушка Брозовская.
— А теперь скажи ты, Людвиг, — тяжело дыша, спросил отец. — Должны мы выбросить знамя, чтобы порадовать нацистов?
Тишина была невыносима.
— Да!
— Трус! — крикнул Брозовский, и рубец запылал на его лице.
Людвиг, хлопнув дверью, выбежал из комнаты.
До поздней ночи семья сидела на кухне. Что-то нужно было придумать.
— Он потерял покой, — сказала Брозовская и озабоченно покачала головой.
— Да, он готов сейчас на все, — подтвердил Вилли.
И тут Брозовский принял неожиданное решение:
— Мы отдадим ему знамя. Пусть он его выбросит сам.
На следующий вечер Брозовский позвал Людвига и вручил ему аккуратно перевязанный пакет.
— Вот тебе знамя, можешь его выбросить.
Людвиг, не говоря ни слова и не решаясь взглянуть отцу в лицо, взял пакет и вышел.
Он вывел из сарая велосипед и привязал пакет к багажнику.
В полной темноте он ехал по улице, со страхом прислушиваясь к дребезжанью велосипеда, подпрыгивавшего на неровной мостовой. «Я перебужу весь город!» — думал он, обливаясь холодным потом. А тут еще кошка перебежала ему дорогу. Дурная примета! Повернуть обратно? Тоже не годится, тогда знамя снова останется дома. С этим надо покончить раз и навсегда. У погребка он налетел на пьяного штурмовика. Оба упали на землю, и пакет в одном месте разорвался.
«А вдруг он меня спросит, что я везу». Дрожащими пальцами Людвиг зажал место, где разорвалась бумага.
— Ты, чертово отродье! — выругался штурмовик. — Смотри, куда едешь!
Людвиг покатил дальше. Скорее из Гербштедта! Но за городом было еще темнее, и ему стало жутко. Трясущимися ногами он нажимал на педали. Вдруг кто-то тронул его за плечо. Он вскрикнул и обернулся. Ветка! Людвиг вытер пот со лба. Сердце бешено колотилось.
Он решил выбросить знамя в поле и, сойдя с велосипеда, отвязал веревку на багажнике. Пакет выскользнул у него из рук и упал на землю. Но в эту минуту он увидел, что по полю кто-то идет. Зажав пакет под мышкой, он вскочил на велосипед и что было духу помчался дальше. Уж если тебе дорогу перебежала черная кошка, не жди удачи! С-с-с! — медленно спустила задняя камера. Людвиг подкачал ее. Отъехав немного, он огляделся и закинул пакет подальше от дороги.
Домой он ехал с легким сердцем. Проезжая мимо напугавшей его черной тени, он разглядел, что это было огородное чучело, качавшееся на ветру.
Утром Людвиг первым делом купил газету. Но там не было ни слова о знамени. И на другой день — тоже.
Почему они не пишут, что нашли знамя? Людвигу это казалось очень странным.
В полной тайне
Отто Брозовский не может заснуть. В комнате невыносимо душно. Перед окном стоит тополь, прямой, как стрела. Ни один лист на нем не шелохнется.
Брозовский, заложив руки под голову, неотрывно смотрит на дерево. Он обводит его взглядом. Этот тополь — старый друг Отто. Он знает на нем каждый листик. Вот уже много лет, просыпаясь, он видит его стройный силуэт. В холодные зимние ночи, залитый лунным светом, он несет вахту перед его окном, а летом в четыре часа утра, когда звенит будильник, тополь приветствует Отто радостным шелестом листьев. Так было всегда, из года в год, с тех пор как Отто себя помнит и до того дня, когда фашисты увели его и бросили в лагерь.
«Ну вот видишь, я снова здесь», — говорит Отто своему другу. Но тополь даже не кивнул в ответ. Он стоял прямо и тихо, словно чего-то ждал.
Молния прорезала небо. Отто Брозовский внезапно понял: этой ночи он долго ждал и сам. Свет молнии поможет ему сделать задуманное дело, гром защитит от чужих ушей.
Он тихо лежал, обдумывая все до мельчайших подробностей, нужно быть очень осторожным.
Гром гремит все громче, все сильнее.
Отто Брозовский осторожно откидывает одеяло и спускает с кровати ноги. Пол заскрипел. Брозовский испуганно замер. Лишь бы не проснулась жена! Он с нежностью посмотрел на нее. «Прости меня, Минна, я никогда ничего не скрывал от тебя. Но эту тайну я не могу разделить ни с кем, даже с тобой!»
Минна шевельнулась во сне. Он на мгновение замер, потом, убедившись, что жена не проснулась, медленно опустил на пол одну ногу, другую. Опираясь на край кровати, осторожно, чтобы не скрипнула половица, он пробрался к изголовью и засунул руку под матрац. На мгновение у него замерло сердце — там было пусто. Рука его нащупала только холодные пружины, местами перевязанные шпагатом. Он принялся лихорадочно шарить вокруг, поспешно забираясь все глубже. Наконец-то! Пальцы его коснулись мягкого бархата. Он вытащил знамя и, выскользнув из комнаты, спустился на кухню. Под плитой стоял мешок с цементом. Брозовский вынул из шкафа горшок и, отсыпав в него цемента, приготовил густой раствор. Молнии освещали кухню голубоватым светом. Порою становилось светло, как днем.
Отто Брозовский взял знамя и горшок с цементом и вышел во двор. Упали первые тяжелые капли дождя. Брозовский спрятал знамя под куртку и пошел к сараю. Вокруг было темно и тихо. Испуганно взлетела курица. В хлеву Луше причмокивал во сне и терся головой о стену. Свинья шуршала соломой.
Отто открыл дверь сарая. Ключ с трудом повернулся в проржавленном замке. Скрипнул засов. В сарае пахло старым тряпьем, мышами и кроликами.
В углу, там, где все еще валялись промасленные тряпки, которыми вытирали мотоцикл, лежал кусок брезента. Отто поднял его с полу и отряхнул от пыли. Потом он достал из кармана маленькую книжечку. Сегодня он спрячет ее в надежное место. Эта тоненькая книжечка ему дороже жизни. Как радостно держать ее в руках и задумчиво рассматривать здесь, где никто его не видит!
Никто? А чья это тень заглядывает в приоткрытую дверь сарая? Но Отто ее не замечал.
«Коммунистическая партия Германии», — прочитал он. Член партии с 1921 года. Сколько лет прошло! Сколько марок наклеено! Не пропущен ни один месяц до февраля 1933 года. Отто рассматривал эти маленькие кусочки бумаги. И в бледно-зеленоватом свете молний стены сарая, казалось, раздвигались все шире и шире…
Он снова слышал свой собственный голос: «Я клянусь вам хранить его как зеницу ока!»
Как тогда ветер развевал знамя! Каким багрянцем горел назло всем врагам этот братский привет от страны Советов рабочим Германии!
Сильный удар грома вернул Отто Брозовского к действительности. Сарай опять стал сараем, мрачным, душным, пустым. Осторожно он завернул свой партийный билет в знамя. Молния сверкнула, и раздались раскаты грома.
«В такую ночь никто ничего не услышит, — подумал Отто, — ни одна душа не узнает, что я тут делаю».
Ни одна душа? Но чья это тень мелькнула у дощатой двери? Чьи широко раскрытые глаза блестят в темноте?
Петер промок насквозь и дрожал от холода. Он вытаскивал то одну, то другую ногу из лужи. Выйдя во двор и услышав, как у Брозовских скрипнул засов, он перелез через забор. Просто так, из любопытства. А теперь он приник к щели сарая и не может оторваться от того, что там происходит, хотя знает, что стыдно совать нос в чужие тайны. Значит, здесь, в этом сарае, лежит теперь самое драгоценное сокровище мансфельдских горняков — знамя из Кривого Рога. Здесь находится то, что так долго и упорно ищут нацисты, прибегая к угрозам, арестам и пыткам. Отто Брозовский сдержал свою клятву: он спрятал это знамя и сохранил его.
Петер понимал, что сейчас произойдет то, о чем не должен знать ни один человек. Прочь отсюда! Но он не уходил. Он видел, как Брозовский завернул знамя и партийный билет в брезент, как он подошел к крольчатнику, открыл дверцу…
Крольчиха испуганно заметалась.
— Не бойся, глупая, — прошептал Брозовский и ласково почесал Снегурочку за ухом.
Та узнала его широкую руку и, успокоившись, забилась в угол.
— Ну, где тут у тебя дыра? — спросил Брозовский, ощупывая стену.
Но крольчиха только лукаво поглядывала на него из угла своими глазками-пуговками.
Вот… вот она. Это была глубокая дыра, которую кролики за долгие годы прогрызли в глинобитной стене. Брозовский взял зубило и молоток и принялся расширять отверстие.
Глазки маленького белого зверька внимательно следили за этим необычайным ночным происшествием в крольчатнике.
— Ну, Снегурочка, смотри хорошенько. Теперь мы его замуруем. Такой у нас в Мансфельде обычай. Все, что нужно спрятать от чужих глаз, мы замуровываем в стену. Так уж у нас повелось.
Он вспомнил об оружии, которое вот так же было спрятано после боев 1920 года.
— Такие уж у нас стены. — Он щелкнул крольчиху по носу. — Хорошие стены, верно?
Ударил гром. В его раскатах потонул стук молотка по зубилу. Сквозь щели сарая сверкнул призрачный свет молнии. Дождь барабанил по крыше сарая. Дверь со скрипом качалась на ветру.
Теперь отверстие было достаточно велико. Брозовский засунул туда свой сверток, закрыл его дощечкой и замазал цементом. При свете молний он осмотрел заштукатуренное место, соскреб лишний цемент и подмигнул крольчихе:
— Ты довольна, Снегурочка? Поди-ка посмотри сама.
Он тихо щелкнул языком, подзывая зверька. Тот подбежал, хотел прыгнуть в привычную дыру, но ткнулся мордочкой в цемент и удивленно обнюхал замазанное место.
— Теперь там лежит наше знамя, — тихо и радостно сказал Брозовский. — И об этом знаем только мы с тобой, а мы никому ничего не скажем. Пусть нацисты ищут его, пока не лопнут от злости.
Петер, перемахнув через забор, исчез так же бесшумно, как и появился. Душу его жгла великая тайна. А в те времена хранить тайны было нелегко.
Брозовский дружески потрепал Снегурочку по спинке и закрыл дверь сарая. Вернувшись в дом, он поставил горшок под плиту, поднялся по скрипучей лестнице, залез в кровать и, накрывшись одеялом, облегченно вздохнул.
Минна спала. За окном шелестел дождь и ветер неистово раскачивал ветви тополя. В комнате после грозы уже не было душно.
Брозовский спокойно уснул.
Разговор у крольчатника
Прошло три дня. Группенлейтер Шиле долго стучался в дом Брозовских, там не было ни души. Он постучал в кухню. Никакого ответа. На кухонном столе стоял разобранный радиоприемник. Шиле прошел во двор. Никого. Только из сарая доносился какой-то шорох. Он приоткрыл дверь и увидел Брозовского.
Отто, кормивший кроликов, удивленно взглянул на вошедшего. Шиле? Собственной персоной? Ну и разжирел же он!
— Добрый вечер.
— Добрый вечер, штейгер.
Шиле откашлялся.
— Старший штейгер, — поправил он.
— Ах, да, старший штейгер. Кстати, поздравляю.
Как любезно Шиле потряс ему руку! Что еще задумал этот пройдоха?
— Я слышал, вы прекрасно разбираетесь в кроликах, господин Брозовский, — сказал Шиле и сунул нос в крольчатник.
Брозовский испугался. На секунду у него замерло сердце. Чего хочет Шиле? Что это, простая случайность? Свежезамазанное место еще явственно проступало на стене.
Шиле просунул голову еще глубже. Снегурочка испуганно отскочила к стене и прижалась к тому месту, где еще недавно была дыра. Шиле с интересом следил за ней. Волосы его почти касались стены.
Брозовский настороженно ждал, что будет дальше.
— Разводить кроликов очень просто, — сказал он, надеясь, что непрошеный гость уберется наконец из крольчатника.
Шиле не пошевельнулся. Тогда Брозовский тронул его за плечо.
— Простите, но к кроликам нельзя подходить так близко. Вдруг у вас насморк, кролик заразится и подохнет, — сказал он шутливо.
Шиле полез обратно и — бац! — ударился головой о решетку.
— Правда? — недоверчиво спросил он, потирая затылок.
— Конечно.
Штейгер не мог понять, шутит Брозовский или говорит серьезно.
— А я к вам как раз по этому поводу, господин Брозовский. У меня кролики дохнут один за другим. Вот вы сейчас сказали про насморк, я и подумал: у жены уже больше месяца не проходит насморк. Может, в этом все дело?
— Ну конечно, не удивительно, что у вас кролики дохнут, — серьезно подтвердил Брозовский.
— Что вы говорите! Вот интересно. Нужно это продумать как следует, — сказал штейгер. — Вот видите, я сразу решил: «Надо пойти к Брозовскому. Уж он-то сумеет дать мне совет насчет кроликов».
«Что это — ловушка?» — подумал Отто Брозовский и прочитал штейгеру целую лекцию о разведении кроликов и уходе за ними. Тот поблагодарил с притворной любезностью и вдруг фамильярно обнял Брозовского:
— Знаете, что я еще хотел вам сказать, Брозовский?.. Поступайте-ка к нам в штурмовики.
— Я? — переспросил Брозовский. «Так вот откуда ветер дует!» — подумал он про себя и засмеялся: — Вы же знаете, у меня свой взгляд на вещи.
— Это я уже давно знаю. — Штейгер многозначительно кивнул. — Но теперь многие меняют свои взгляды. Подумайте об этом. Ведь вас здесь все знают. Если вы придете к штурмовикам, за вами последуют и другие шахтеры.
— Знаете что, господин Шиле… — Брозовский с минуту помолчал. — Рабочие знают меня, и они никогда бы не поверили, что я изменил своим убеждениям.
Тогда штейгер пустил в ход свой главный козырь:
— Я хочу вам только добра, Брозовский. Ведь той мелочи, которую вы зарабатываете на починке приемников, вам не хватает даже на хлеб. А вы настоящий горняк. Неужели вам не хочется опять спуститься в шахту?
«Вот негодяй! — подумал Брозовский. — С ним надо держать ухо востро».
— Поразмыслите над тем, что я сказал, господин Брозовский, — продолжал Шиле, — переходите к нам, и все старое будет забыто.
«Все будет забыто»! Перед глазами Брозовского встали замученные пытками товарищи. Забыть? Никогда! Надо всегда помнить об этом и бороться! Теперь, когда его освободили, он в двойном долгу перед товарищами. Он задумчиво покачал головой и повторил:
— Как вы это себе представляете, господин Шиле? Разве можно в один день изменить свои взгляды?
— Но, разумеется, мы дадим вам время подумать.
— Это другое дело. — Брозовский кивнул. Загибая пальцы, он стал считать. — Раз, два, три… одиннадцать, двенадцать. Двенадцать лет я состоял в коммунистической партии… Я тяжел на подъем, господин Шиле. Для того чтобы освоиться с вашим мировоззрением, мне нужно по крайней мере десять-пятнадцать лет. — Брозовский улыбнулся.
Шиле проглотил пилюлю и попытался пошутить:
— Для тысячелетней империи даже десять лет не срок, но, может быть, вы решитесь побыстрее. — Он попрощался. — Я приду еще. А пока… если у вас будут вопросы относительно нашей программы, обращайтесь ко мне.
«Мне стоит лишь подумать о тебе, и я уже знаю, как выглядит ваша кровавая программа», — подумал Отто Брозовский, провожая непрошеного гостя до калитки.
Искушение
«Упрямая башка! Недаром мы так и не дознались, где знамя», — подумал Шиле, шагая по улице.
И вдруг его по голове ударил мяч.
— Хулиганы! — заорал Шиле, поднял мяч и зажал его под мышкой.
Подбежавшим мальчишкам не оставалось ничего другого, как попросить извинения у разъяренного группенлейтера. Самый храбрый выступил вперед:
— Мы ведь не нарочно, господин Шиле. Пожалуйста, отдайте нам мяч.
Шиле собрался уже было разразиться проповедью, но этот мальчуган с умными серыми глазами показался ему знакомым.
— Ты кто такой?
— Петер Брахман.
— Брахман? — Шиле вспомнил забойщика, который высмеял его когда-то перед всеми, потом обвал в шахте. Был, кажется, один убитый… Брахман. — Лет шесть назад во время обвала погиб какой-то Брахман. Он тебе не родственник?
— Мой отец, — кивнул Петер.
— Так это был твой отец, — задумчиво проговорил Шиле. — Твой отец, так, так.
«Что ему от меня нужно?» — недоумевал Петер.
— Твой отец был, кажется, другом Брозовского?
— Да, он был его лучшим другом, — с гордостью подтвердил Петер. — Он знал, что сейчас, когда Брозовского преследовали, многие отрицали свою дружбу с ним, и поэтому поспешно добавил: — Я тоже дружу с Брозовским. Он мне как отец.
— Так, так, — криво усмехнулся Шиле и, рассчитывая захватить мальчишку врасплох, неожиданно выпалил: — Значит, ты знаешь, где знамя?
Петер вздрогнул и побледнел. «Он знает, что я все видел. Но ведь тогда, ночью, во дворе никого не было. Ни души. Откуда же он узнал? А может, он просто хочет поймать меня? Но он сказал это так уверенно…»
Шиле, следивший за мальчуганом, словно кошка за мышью, подметил беспокойство в его ясных серых глазах.
— Ты знаешь, где знамя, Петер Брахман, — сказал он, неторопливо постукивая мячом о мостовую.
Петер молча покачал головой. Тогда Шиле взял его своими толстыми потными пальцами за подбородок и, глядя ему прямо в глаза, заговорил:
— Послушай, что я тебе скажу, мой мальчик. Брозовский спрятал знамя. Это ни от кого не секрет. Ты говоришь, что не знаешь, где он его спрятал? Хорошо, я тебе верю!
Петер облегченно вздохнул. «Теперь надо бежать», — подумал он.
Но Шиле не отпускал его.
«Черт бы тебя побрал!» — выругался Петер про себя и, набравшись храбрости, попросил:
— Господин Шиле, отдайте, пожалуйста, мяч!
Шиле сделал вид, что не замечает протянутой руки.
— Не спеши, мой мальчик, все в свое время. Итак, о чем я говорил? Ах, да… Я хочу верить, что ты и правда не знаешь, где знамя. Еще не знаешь. — Он сделал ударение на «еще». — Но ты легко можешь это узнать. Ты неглупый мальчик. У кого есть глаза, тот видит, у кого есть уши, тот слышит. Ты ведь часто бываешь у Брозовского. Так-то. — Резкий голос Шиле звучал почти нежно. — Тебе стоит только прийти ко мне. Ты ведь знаешь, Петер, где я живу. И ты мне расскажешь все, что тебе удалось узнать. С Брозовским ничего не случится, даю тебе слово. А нам ты сослужишь большую службу, и фюрер тебя не забудет. — Шиле хотел уже отдать Петеру мяч, но вдруг, спохватившись, снова зажал его под мышкой. — И вот еще что, Петер, услуга за услугу. Мы в долгу не останемся. — Шиле мысленно искал что-нибудь подходящее. Деньги? Нет, это не годится. — Постой-ка… Что бы ты сказал, если бы тебя послали в высшую школу в Эйслебен? Не плохо, а?..
Когда Петер услышал слова «высшая школа», его бросило в жар. И как только этот тип угадал его самое сокровенное желание? Стать инженером! Он гнал от себя эту дерзкую мысль, но она, точно докучливая муха, возвращалась к нему снова и снова, не давая покоя. Конечно, он понимал, что это только мечта. Сын простого рабочего, сирота — и вдруг инженер! Когда его взяли в шахту откатчиком, он и то считал, что ему повезло, — ведь его отец был коммунист. И вдруг Шиле говорит: «Высшая школа». А ведь Шиле начальство! У Петера закружилась голова. Шиле бросил ему мяч:
— Я бы на твоем месте не задумывался, Петер. Ну, что такое это знамя?
Бабушка уже давно спала, а Петер все еще беспокойно ворочался с боку на бок. «Ты сможешь поступить в высшую школу, — непрерывно стучало у него в голове. — Ты станешь настоящим инженером».
Петер закрыл глаза. Он снова представил себе сарай. Яркие голубоватые вспышки молний. И при свете молний лучший друг его отца замуровывает в стену советское знамя. Темной ночью, в полной тайне от всех. А Шиле говорит: «Ну, что такое это знамя?»
И тут Петер подумал: «А почему же ты во что бы то ни стало хочешь найти его, группенлейтер Шиле? Неужели потому, что оно не имеет никакого значения?»
Петер громко вздохнул: «С тобой нужно быть начеку, иначе ни за что ни про что попадешь в ловушку».
Сердце у него билось все чаще. Он был счастлив, что нашел единственный правильный выход.
«Какая это была ночь! Никогда ее не забуду», — подумал он и снова вспомнил, с какой нежностью Отто Брозовский складывал знамя.
На душе у него стало легко. Он заснул.
Волна 29,8
Это было летом 1937 года.
Как-то вечером Брозовский сидел у себя на кухне у радиоприемника. На столе в беспорядке валялись радиолампы, шурупы, катушки, клещи, проволока, отвертки. Еще в 1930 году, когда его уволили с рудника, Брозовский стал чинить приемники. Вернувшись из концлагеря, он снова принялся за эту работу. И оказалось, что ремесло радиотехника очень полезно для коммуниста.
Гитлер окружил Германию стеной молчания и страха. Но радиоволны не знают препятствий, им не страшны никакие преграды, даже если они выше Цугшпитце,[13] толще стен бранденбургской тюрьмы.
Пальцы Брозовского терпеливо вращали ручку настройки. Наконец-то! Тихо, но очень отчетливо прозвучало: «Алло, алло, говорит радиостанция „Свобода“ на волне 29,8. Просим настроить ваши приемники на минимальную громкость. Говорит радиостанция „Свобода“!»
Брозовский затаив дыхание приник к динамику.
В дверь постучали. Привычным жестом он повернул рукоятку и разом поймал Берлин. Хор мальчиков горланил фашистскую песню.
Дверь отворилась, и в нее просунулось смуглое лицо Августа Геллера.
— Здоро́во!
Брозовский со вздохом облегчения указал на стул:
— Садись поближе, Август. Только что начали.
Одно движение руки, и горластый хор смолк. Пальцы Брозовского снова нащупывали радиостанцию «Свобода». В эфире трещало и свистело. Чуть слышно донесся голос:
— Салют! Мы приветствуем наших друзей и товарищей в Германии.
Брозовский улыбнулся:
— Слышишь, Август?
Тот кивнул.
Потом запел хор. Сильные мужские голоса пели немецкую песню, которую ни Август, ни Отто никогда раньше не слышали.
Над землей испанской звездный полог, Как шатер раскинут голубой. Здесь, в окопах, сон бойцов не долог — На рассвете снова выйдем в бой…Песня звучала все тише и тише:
Далеко она, Родная страна. Но в битвах суровых она С нами!.. —доносилось издалека. Какая чудесная песня! Брозовский осторожно вращал ручку настройки. Радиостанция все время меняла волну, ловко обходя все попытки заглушить передачу. Песня то и дело смолкала. Но терпеливые пальцы снова находили ее, и она снова звучала негромко, но мужественно:
Разгромим врага в бою смертельном, Пойте, трубы, вейся, шелк знамен! Нас зовет на бой твой голос, Тельман, Марш на штурм, отважный батальон![14]— Отважный батальон… — прошептал Брозовский. — Оказывается, в Испании есть немецкий батальон!
В его глазах сверкнули слезы. Он не мог говорить от волнения, но друзья и без слов понимали друг друга. Они мысленно перенеслись в далекую, прекрасную, окруженную огромными морями страну. Ее народ борется за свободу.
Но он борется не один. Люди всех стран спешат ему на помощь. И немецкие рабочие тоже. Они пробираются в Испанию через снежные вершины гор, через чужие границы, они едут туда на буферах и крышах поездов, замерзшие и голодные, месяцами скрываясь от коричневых ищеек. А ведь они знают об Испании лишь то немногое, что учили еще на школьной скамье. Сердце зовет их в страну, где развеваются знамена свободы, в долины Эбро и Хамары, где в суровых горах разносится эхо выстрелов и звучит гневный клич: «Смерть фашистам!»
И одному из своих отважных батальонов бойцы Интернациональной бригады дали имя Эрнста Тельмана.
Нас зовет на бой твой голос, Тельман, Марш на штурм, отважный батальон!Погруженные в свои мысли, Отто и Август не заметили, как песня смолкла. Они не слышали, как приветствовали своих друзей на родине немецкие интербригадовцы — Ян с балтийского побережья, Сепп из Мюнхена, Вернер из Лейпцига, Вальтер из Гербштедта…
Только теперь Брозовский очнулся:
— Что он сейчас сказал?
— Не знаю.
— Ты что, спишь? Слушай же, дружище!
Но голос звучал так тихо, что ничего нельзя было разобрать. На этот раз Брозовский потерял свое обычное терпение, он нервничал и ругался, пытаясь снова настроить приемник. Вот, поймал… Кто это говорит?
— Наконец после долгих скитаний по разным странам я попал в Испанию. Теперь я вместе со своими товарищами сражаюсь в рядах интернациональной бригады.
— Похоже, что это его голос… — прошептал Брозовский.
— И с какими товарищами! Мы часто не понимаем друг друга. На свете столько языков! Но во время боя или ночью, на привале, когда мы поем песни, мы все чувствуем одно и то же. Мы одна большая семья, мы братья. И наш девиз: «No pasaran! Фашисты не пройдут!» Знаете ли вы что-нибудь об Отто? Жив ли он? Я так много думаю о вас, о моем Гербштедте…
Брозовский и Геллер переглянулись.
— Дорогие товарищи, вы меня слышите? Если слышите, то передайте привет моей жене и маленькой Соне. До свидания, товарищи! Салют! Не забывайте вашего Вальтера.
Август вынул из кармана измятый кисет и начал свертывать папиросу. Его пальцы дрожали.
— Да, — сказал он, — вот Вальтер и стал человеком. — В голосе его звучала нежность.
— Об этом должна узнать не только его жена! — У Отто Брозовского на лбу запылал шрам. — Об этом должны узнать все!
Кулинарные рецепты доктора Эткера
Брозовские ужинали. Минна намазывала мужу толстые ломти хлеба, выскребая из банки последние остатки ливерной колбасы. Отто, погруженный в размышления, отщипывал от хлеба маленькие кусочки и потихоньку бросал их под стол. Там сидел старый черный кот Бимбо. Он хватал их, облизывался и царапал передними лапами штанину своего щедрого хозяина.
— Будешь ты есть сам?
От проницательного взгляда матушки Брозовской ничего не скроешь.
— Этого еще недоставало! Этот старый лентяй жиреет с каждым днем, а ты все худеешь. Ни один костюм тебе уже не годится. — Она встала и схватила мурлыкавшего кота: — Убирайся-ка отсюда!
Бимбо жалобно мяукает за дверью. Брозовскому ничего не остается, как самому доесть свой хлеб. Но кусок застревает у него в горле. Ему не до еды.
— Отто! — окликает его жена таинственным голосом.
— Что? — рассеянно отзывается Брозовский.
— Вальтер в Испании, да?
— В Испании? С чего ты взяла?
— Мне рассказала жена Кюммеля, а она узнала от мужа.
— А-а-а, — протянул Брозовский. — А он откуда знает?
— Слышал на руднике. — Она взглянула на Отто и лукаво улыбнулась. — Ты же это знаешь лучше меня.
Тот и бровью не повел.
— Смотри-ка, Вальтер в Испании, — задумчиво покачал он головой. — Хорошо, если бы это было так. Правда, мать?
Она погладила его жилистую руку:
— Это было бы прекрасно. Он ведь такой вспыльчивый, нетерпеливый, но теперь-то уж наверняка ни одного патрона не израсходует зря.
Отто Брозовский кивнул. Потом мягко высвободил руку и встал. Он достал из угла маленький черный чемоданчик и начал складывать в него свои инструменты: отвертки, плоскогубцы, проволоку, несколько новых радиоламп, которые он тщательно завернул в бумагу.
— Что ты собираешься делать со всем этим барахлом? — удивленно спросила жена.
— Я обещал приятелю починить ему в воскресенье приемник. Придется к нему съездить. Достань-ка мне мой парадный костюм.
Брозовская едва заметно покачала головой. С тяжелым сердцем она поднялась по лестнице в спальню и достала из шкафа костюм. Заметив на рукаве пятно, она принялась его отчищать. Слезы застилали ей глаза. Она понимала, что Отто уходит не для того, чтобы чинить чей-то приемник.
Он поцеловал ее на прощание:
— Завтра к вечеру я вернусь, мать.
Брозовский открыл уже дверь, чтобы выйти, как вдруг быстро вернулся в сени и тихо прикрыл ее.
Недалеко от дома стояли Шмидт и Шиле. Они оживленно разговаривали и не догадывались, что тот, о ком шла речь, прячется сейчас за дверью, чтобы не привлекать к себе внимания.
— Странный он все-таки малый, — говорил Шмидт. — Его теперь вовсе не видно и не слышно, будто он никогда и из дому не выходит.
— Тише воды, ниже травы, — подтвердил Шиле. — Мы его сломали раз и навсегда.
— Вы думаете?
— Разумеется. Он уже коммунизмом сыт по горло. А насчет того, чтобы раздавать листовки или еще там что-нибудь такое, так об этом и речи нет. На таких вещах он уже себе пальцы пообжигал. Как это говорится? — Шиле ухмыльнулся во весь рот: — «Обожжешься на молоке, на воду дуешь». Вы же знаете, я никогда не ошибаюсь.
— Хорошо, если так, — с сомнением сказал Шмидт.
— Головой ручаюсь! С Красным фронтом покончено. Раз и навсегда.
Они распрощались и разошлись в разные стороны.
Брозовский вышел из дома. На нем был темный костюм и серая шляпа, в руках маленький черный чемоданчик. Он и правда был похож на мастера, отправляющегося по вызову. Ему нужно было попасть в Галле, но он прошел мимо гербштедтского вокзала — ведь кондуктор, если бы его потом спросили в гестапо, мог сказать: «Брозовский? Да, я его здесь видел. Он уехал в субботу поездом в двадцать часов четыре минуты. Билет у него был до Галле».
Нет, садиться на поезд в Гербштедте было опасно.
И Брозовский отправился пешком. Ночь была мягкая, высоко в небе над полями и терриконами ласково мерцали звезды. Прямо над терриконом рудника «Вицтум» стояла Большая Медведица. И все вокруг казалось таким мирным, спокойным и прекрасным.
Но Брозовского не покидала тревога. Страшные картины концлагеря вставали перед глазами.
Каждый шаг приближал его к опасности. Но он не колебался, ему и в голову не приходило повернуть назад. Чувство солидарности было сильнее страха. «Я не одинок, — думал он. — У меня есть товарищи, их много, их тысячи. Все мы идем дорогой партии. Мы не знаем друг друга, но мы вместе. И это дает нам силы для борьбы».
Так шагал он ночью по дороге и, чтобы подавить страх в душе, тихо пел песню о маленьком барабанщике:
Промчались годы боевые, Окончился славный поход. Погиб наш юный барабанщик, Но песня о нем не умрет.В воскресенье утром Брозовский выехал из Эйслебена в Галле, Выйдя из поезда, он остановился у газетного киоска. Хотел было купить какой-нибудь журнал, но раздумал и взял «Фелькишер беобахтер». Лживая газетка, но по размерам как нельзя лучше подходит для его цели. Он прошел в зал ожидания третьего класса. Здесь было накурено, холодно и пусто. Только в углу, у окна, расположилась какая-то семья. Брозовский взглядом поискал официанта. Тот стоял, прислонившись к стойке, и зевал. Лицо у него было тупое и безразличное. Или, может быть, это только так казалось? Может быть, это была просто маска? Во всех общественных местах полно шпиков.
Недалеко от двери стоял диван, обитый выцветшим плюшем, и перед ним столик. Над диваном висел пейзаж; зубчатые вершины гор, залитые конфетно-розовым светом. Рядом — портрет Гитлера. А чуть пониже…
У Брозовского сжалось сердце: под дурацкой рожей Гитлера, на стене, висел красный, как кровь, плакат. Бросалось в глаза страшное слово, напечатанное огромными черными буквами: «КАЗНЕН…»
Брозовский взял себя в руки и прочел:
«За коммунистическую пропаганду КАЗНЕН слесарь Фридрих Грау, проживавший в Галле, Штейнгассе, 14».
Он медленно подошел к дивану и сел так, чтобы видеть и стойку и дверь. Ему показалось, что официант заметил его волнение, в скучающе-равнодушных глазах на мгновение вспыхнул огонек.
Стараясь ничем себя не выдать, Брозовский подозвал официанта и заказал кружку пива. Официант бросил картонный кружок на грязную скатерть и поставил на него кружку.
Брозовский развернул газету. Немного погодя он осторожно выглянул из-за нее. Официант исчез. Где он? Что он сейчас делает? Может быть, звонит по телефону? Резные стрелки круглых часов показывали двенадцать минут девятого. Как медленно тянется время! Скрипнула входная дверь. У Брозовского забилось сердце. Сейчас. Сейчас он подойдет к нему. Но никто не подходил. Он опустил газету чуть ниже. В зале ожидания появился еще один человек — штурмовик! Этого только недоставало! Брозовский бросил взгляд на часы — без семи девять. Он снова поднял газету.
Около него кто-то хрипло кашлянул. Он вздрогнул и повернул голову. Рядом стоял Генрих Шнейдер. Они посмотрели друг другу в глаза.
Генрих снял кепку. Густые волосы над его высоким лбом поседели, но взгляд глубоко запавших глаз был прежний — живой и открытый. Изборожденное глубокими морщинами лицо дышало такой спокойной уверенностью, что на сердце у Брозовского сразу стало легко.
— Прошу прощения, — с подчеркнутой вежливостью обратился к нему Генрих, — вы случайно не знаете, когда отходит пассажирский на Дрезден?
Они мысленно обнялись. Брозовский, словно нехотя, отложил газету.
— На Дрезден? В девять пятьдесят пять.
— О господи, — в хриплом голосе Генриха прозвучало полное разочарование. — Еще целая вечность! Чем же мне до тех пор заняться?
— Я тоже жду дрезденского, — сказал Брозовский нарочно громко, чтобы слышал официант. — Не угодно ли присесть? Вдвоем коротать время легче.
— С вашего позволения… Официант! Кружку пива!
Теперь они сидели рядом.
— Вот мы и встретились, старина, — начал Генрих, и глаза его ласково улыбнулись.
Он и вида не подал, как поразила его внешность Брозовского. Ведь он помнил Отто плотным, краснощеким человеком, а теперь лицо его посерело, щеки ввалились. Без сомнения, он был тяжело болен. «Дьяволы! — с горечью подумал Генрих. — До чего они тебя довели!»
— Как дела? — спросил он совсем тихо.
Брозовский не ответил. Он не отрываясь смотрел на друга и радовался, что они снова вместе.
Потом, перехватив взгляд Генриха, он заметил, что его товарищ исподтишка наблюдает за официантом. Тот стоял у стойки, заложив руки за спину. Лицо его по-прежнему ничего не выражало.
Внезапно Брозовский снова почувствовал за своей спиной страшный плакат: «За коммунистическую пропаганду КАЗНЕН…»
Надо было брать нелегальную литературу — маленькие брошюрки, напечатанные в глубочайшей тайне и ловко замаскированные. Каждому, кто их писал, печатал, разносил и распространял, грозил топор палача, и тем не менее люди не отступали.
Официант не двигался с места. В углу, у окна, пронзительно закричал ребенок.
Все было сделано молниеносно. Брозовский нагнулся и поставил чемоданчик на диван между собой и Генрихом. Потом открыл блестящий никелированный замочек, достал из чемодана плоскогубцы и протянул их товарищу. Тот взял их левой рукой и с интересом начал рассматривать. В то же время его правая рука скользнула во внутренний карман пиджака, и ловким движением он сунул что-то в чемодан.
Это была пачка брошюр. Брозовский успел прочитать заглавие: «Кулинарные рецепты доктора Эткера». Официант кашлянул. Брозовский вздрогнул и быстрым движением захлопнул крышку. Тихо щелкнул замок. Генрих вернул ему плоскогубцы, и Брозовский опустил их в карман. Чемоданчик он снова поставил под стол. Официант стоял все так же, заложив руки за спину. В глазах Генриха опять засветилась добродушная улыбка.
— Кулинарные рецепты доктора Эткера. — Брозовский тоже засмеялся. — Превосходно. И хорошо получается, если готовить по этим рецептам?
— Еще бы! Ведь доктор Эткер — это Вильгельм Пик. Если варить умело, пальчики оближешь. Только не всем это блюдо придется по вкусу, — сказал Генрих и добавил, кивнув на штурмовика: —Посмотрим, как они его проглотят.
— Гм. У меня даже слюнки потекли. Дома у нас тоже с нетерпением ждут новых рецептов.
— Ну, так изучите их получше. Как у вас дела?
Но не успел Брозовский ответить, как дверь распахнулась и зал наполнился толпой отъезжающих. Не осталось ни одного свободного стула. За столом, где сидели товарищи, расположилась крестьянская семья: отец, мать с грудным ребенком на руках, мальчик лет пяти и бабушка. Беседа друзей была прервана, а Брозовскому так хотелось рассказать обо всем, что произошло в Гербштедте. Он недовольно пожал плечами, а складка у него на лбу стала глубокой, как борозда.
— Черт возьми! — выругался он, сердито пожав плечами. — Пропадает драгоценное время.
Молодая женщина — Отто Брозовский заметил, что у нее к кофточке была приколота огромная блестящая брошка со свастикой, — с любопытством оглядела своих соседей по столу и решила, что сейчас самое время начать разговор.
— Да, да, — сказала она, — время кажется таким долгим, когда ждешь. У меня такое же чувство. А вот наша старушка даже любит ждать. — Она указала на бабушку.
Лицо у той было морщинистое, глаза устремлены вдаль. Темные руки с синеватыми вздутыми венами лежали на цветастом переднике. Она даже бровью не повела, когда женщина заговорила о ней, и только шаркала своими теплыми клетчатыми домашними туфлями.
— Ей уже шестьдесят восьмой пошел, — продолжала молодая женщина, сердито покосившись на бабушку, и тут же принялась излагать всю историю семьи.
«Внимание, внимание, — хрипло закаркал громкоговоритель. — Производится посадка на пассажирский поезд до Дрездена».
Отъезжающие ринулись из зала. Поднялись и Отто с Генрихом. Настало время расставаться.
Проходя мимо зеркала, Отто взглянул в него, не идет ли за ними официант. Но тот деловито переходил с подносом от стола к столу, собирая пустые кру́жки.
За дверью друзья обменялись долгим, сердечным рукопожатием.
— Желаю удачи!
— Тебе тоже.
Они разошлись, как случайные знакомые, хотя расставаться им было тяжело.
Генрих скрылся в толпе пассажиров.
Отто направился к поезду на Эйслебен.
Старый горняк из Кривого Рога
Наступил август 1941 года.
Петер в сером военном мундире сидел на кухне у Брозовских и молча наблюдал, как Отто возится с приемником. Он закурил сигарету, встал и бросил спичку в плиту. Потом снова сел за стол. Он нервничал и тщетно пытался успокоиться, оттягивая минуту прощания. Он смотрел на ловкие руки Брозовского, на его лицо, словно хотел запомнить каждую черточку, каждое движение. Ведь они расстаются надолго, быть может, навсегда…
Петер вырос, ему уже двадцать лет. И он проклинал свой возраст. Вот если бы ему было сейчас лет двенадцать-тринадцать. Тогда не пришлось бы идти воевать за Гитлера.
Петер беспокойно затянулся сигаретой.
Из приемника донеслась глухая барабанная дробь, потом молодые голоса запели:
Пусть все на куски развалится, Пойдем мы путем своим. Сегодня мы правим Германией, А завтра весь мир покорим!— Эти ребята сами не понимают, что поют, — сказал Брозовский.
Песню сменил голос диктора:
— Последнее сообщение с Восточного фронта. Новая победа в России…
— Опять!.. — Брозовский тяжело вздохнул.
Но, даже будучи готовым к самому худшему, он не мог себе представить, какой удар прямо в сердце получит сейчас.
— Наши войска заняли вчера Кривой Рог, — победоносно возвещал диктор. — Большевики взорвали подъемные вышки рудников. Но скоро руда начнет поступать в распоряжение вермахта. Тысячелетняя империя…
Брозовский выключил радио и сжал голову руками:
— Кривой Рог!
На кухне воцарилось молчание.
Сколько раз произносились здесь слова — «Кривой Рог». Многие горняки не сразу смогли запомнить чужое название. Но письмо оттуда приблизило этот далекий город.
И однажды из Кривого Рога прибыло знамя.
Петер вспоминает тот день: на Рыночной площади полно народу. Он еще совсем малыш, стоит впереди, у самого грузовика, и холодная часовая цепочка старого Энгельбрехта щекочет ему шею.
Перед ним на грузовике товарищ из Берлина держит знамя в чехле и рассказывает о Кривом Роге, о бородатом забойщике, который в старости сел за школьную парту, чтобы изучать геологию.
«Что сейчас делает этот старый забойщик? Сейчас, в эту минуту?» — думает Петер, и перед глазами его встает страшная картина…
Петер закрывает лицо руками. Потом, отняв руки, смотрит на свой серый солдатский мундир и краснеет от стыда и негодования.
— Я не пойду с ними, — шепчет он в отчаянии.
Брозовский обнял его за плечи.
— Скажи, что мне делать? — спрашивает Петер.
— Пусть твоя совесть будет чиста, мой мальчик, — говорит Брозовский. — Стреляй мимо. А если представится случай, переходи на сторону Красной Армии. И не один. Возьми с собой товарищей, унесите оружие.
Серые, лучистые глаза Петера с благодарностью взглянули на друга.
— Ты всегда знаешь, что делать, — сказал Петер. — Помнишь, как мы с тобой удили рыбу?
Он расстегнул мундир и, достав из внутреннего кармана вырезанный из газеты портрет, тщательно разгладил его. От времени, от долгого ношения в кармане газета пожелтела и истерлась, но лицо человека, который глядел с портрета, нельзя было не узнать.
Высокий лоб, добрые глаза — Ленин!
Брозовский встал. Голос его прозвучал тепло и мягко:
— Если ты встретишь кого-нибудь из Кривого Рога, мальчик, скажи ему, что мы, мансфельдские горняки, сохранили знамя.
Петер не сразу ответил. Настало время во всем признаться. Наконец он шепнул еле слышно:
— Я знаю.
Брозовский не понял.
— Я это знаю, дядя Брозовский, — повторил Петер.
Брозовский посмотрел на него удивленно, по-прежнему ничего не понимая. Тогда Петер подошел к окну и указал на сарай.
— Оно там, внутри, — сказал он волнуясь.
Лицо у Брозовского словно окаменело. Он холодно пожал плечами.
Петера испугала эта внезапная отчужденность. Он положил руку на плечо друга, заменившего ему отца, и сказал умоляюще:
— Дядя Брозовский! — Голос его дрогнул.
Брозовский испытующе посмотрел ему в глаза и в глубине их прочел такое искреннее и глубокое чувство, что сразу оттаял.
«Когда-нибудь он понесет это знамя», — растроганно подумал горняк, и лицо его перестало быть удивленным и холодным, оно стало счастливым.
— Ах ты, мошенник! — воскликнул он и рассмеялся.
Они обнялись.
Петеру пора было уходить.
На небе заходило солнце. Облака отливали багрово-красным светом, и этот свет заливал маленькую кухню.
Брозовский снова сел к приемнику, и его сильные пальцы стали осторожно вращать ручку настройки. В приемнике что-то свистело, шипело, грохотало. Но среди этого свиста и грохота он услышал одну мелодию. Тихо, но уверенно доносилась она сквозь грохот барабанов в кухню мансфельдского горняка.
«Это есть наш последний…» — тихо, совсем тихо звучала песня пролетариата.
Предчувствие Шиле
С того вечера, когда Брозовский простился с Петером, прошло три с половиной года. То было страшное время — по всей Европе лились потоки крови и слез.
А с того вечера, когда двое друзей — один совсем мальчик, а другой мужчина в расцвете сил — брели по шоссе и говорили о будущем, прошло двенадцать лет, двенадцать лет фашистского террора.
Под землей грохотали отбойные молотки. Скрежетали, ударяясь о камень, лопаты навальщиков. С глухим стуком падали в вагонетки куски руды.
Шиле, сидя на корточках в углу забоя, сквозь рудную пыль наблюдал за работой горняков. Четко, как по команде, двигались в полумраке забойщики, навальщики, откатчики.
Но что это?.. Шиле присмотрелся внимательнее. Польский рабочий устало поднимал и опускал лопату, бросая руду в вагонетку. Движения его становились все медленнее, и вот лопата, ударившись о край вагонетки, вывалилась у него из рук.
«Неслыханно! — вскипел Шиле. — Опять этот поляк. Он просто не желает работать. Ну погоди же…»
Шиле проворно ринулся к грузчику. Окинув враждебным взглядом упавшего, он заорал:
— Работать, лодырь! Сейчас же работать!
Поляк взял лопату, с трудом воткнул ее в груду руды и попытался приподнять. Несколько кусков полетело в вагонетку, несколько упало на дно забоя. Лопата в руках поляка дрожала.
Шиле, окинув навальщика презрительным взглядом, ткнул его метром в спину.
— Пошевеливайся!
Рабочий обернулся и посмотрел на Шиле глубоко запавшими, горящими глазами.
— Я болен, — прошептал он чуть слышно.
— Болен? — рявкнул Шиле. — Я тебя сейчас вылечу, скотина!
Он с размаху ударил его по лицу. Рабочий упал на землю. Изо рта у него потекла тонкая струйка крови.
Прошла неделя.
Шиле снова оказался на том участке, где Антош, польский рабочий, нагружал руду в вагонетки, и опять внимание его привлек этот измученный, худой, как скелет, человек, не поспевавший за общим ритмом работы. И опять Шиле подполз к нему.
Увидев своего мучителя, навальщик весь съежился, ожидая удара.
Но одутловатое лицо штейгера расплылось в улыбке.
— Ну, дружище, — с притворной любезностью обратился он к рабочему, усаживаясь рядом с ним на корточки и вытащив из кармана портсигар. — Вот, закурим!
Антош не верил своим ушам. Он посмотрел на протянутую ему сигарету и, отмахнувшись, как бы случайно задел ее рукой. Сигарета полетела на землю.
И тут произошло нечто уже совсем непонятное. Шиле не заорал, не набросился на него с кулаками, он наклонился, поднял сигарету и снова предложил ее Антошу. Антош повернулся к нему спиной, подхватил лопатой руду и свалил ее в вагонетку, как будто Шиле здесь вовсе не было.
Шиле понял, что дело его плохо. Пробормотав: «До свидания!» — он пополз прочь.
Рихард Кюммель, работавший рядом с Антошем, подмигнул ему. Он отложил отбойный молоток и пробрался к Августу Геллеру.
— Шиле что-то чует! — крикнул он ему в ухо.
Август, сильно постаревший за эти годы, поднял голову. Они долго смотрели друг другу в глаза, и молчали, это уже стало у них привычкой здесь, в недрах земли. Рихард, социал-демократ, и Август, коммунист, понимали друг друга без слов.
Когда наступил перерыв и горняки, усевшись рядом, достали из рюкзаков еду, Рихард положил перед Антошем кусок хлеба со смальцем. Так они поступали с того самого дня, когда польский рабочий, не выдержав оскорблений и издевательств Шиле, упал на дно забоя.
Но еще несколько дней назад им приходилось скрывать свою дружбу. Почему же сегодня они открыто положили хлеб перед Антошем? Что изменилось? Что чуял Шиле? Что носилось в воздухе?
Горняки молча жевали бутерброды и пили кофе из жестяных кружек. Свет карбидок скользил по их черным от пыли лицам.
И внезапно в тишине и полумраке забоя возник разговор. Кто начал его? Кто отважился коснуться вещей, которые вот уже двенадцать лет были скрыты так глубоко, что, казалось, больше не существуют вовсе, так глубоко, что само воспоминание о них походило на сон?
— Интересно, где теперь наше знамя? — раздался из темноты негромкий голос.
Август Геллер вздрогнул от неожиданности. Уж не ослышался ли он?
— Ты не знаешь, Август? — обратился к нему один из горняков.
Август пытливо вгляделся в лица товарищей: уж не хочет ли кто в последний час выдать знамя фашистам? За эти мрачные годы, когда ему пришлось увидеть столько малодушия и предательства, пережить столько разочарований, Август стал недоверчив. Но сейчас ему показалось, что на серьезных, задумчивых лицах горняков мелькнул проблеск надежды. И он чистосердечно признался:
— Я тоже не знаю. Сын Брозовского как-то сказал мне: «Прежде, чем нацисты найдут знамя, оно успеет сгнить». Но это было уже давно.
— Жаль, — вздохнул кто-то.
— Наверное, он закопал его в поле, — предположил один из рабочих.
Рихард Кюммель прикурил от лампы.
— Нацисты не нашли его. Это главное, — сказал он.
Горняки закивали.
— Помните, как Шиле гонялся за ним, — вспоминали они со смехом.
— Ну, теперь у него поджилки трясутся от страха. Видали, какой он стал?
— Мерзавец!
Перерыв кончился. Забойщики взялись за отбойные молотки, снова грохотали машины, скрежетали лопаты, скрипели низенькие вагонетки. Август смотрел, как отбойная пика вгрызается в породу, и думал о том, что медь, которую будут плавить из этой руды, уже не пойдет на вооружение гитлеровцев.
На востоке, за сбросившим ледяной покров весенним Одером, гремели орудия наступающей Советской Армии.
Заветный клад
Гитлеровская Германия пала!
Несколько недель назад Мансфельд заняли американские войска.
Ранним июньским утром Шиле вышел из дому и направился к Рыночной площади. Он хорошо выспался и был настроен спокойно и благодушно. Он уже успел убедиться, что при американцах все пойдет по-старому и он может оставаться прежним Шиле.
Правда, мундир группенлейтера он на всякий случай забросил ночью в чей-то сад, а коричневыми платками толстая Гертруда вытирала теперь пыль.
Когда пришли американцы, он готов был к худшему. Дрожа от страха, он ждал дальнейших событий. И беда пришла. Горняки обвинили Шиле в бесчеловечном обращении с польскими рабочими. Его арестовали и посадили в тюрьму.
Американский солдат, стороживший его, каждое утро распахивал дверь камеры и кричал: «Хэлло, маленький Гитлер!» И при этом проводил ладонью по горлу. У Шиле кровь стыла в жилах. Он уже видел себя повешенным.
Но ему повезло. Прошла неделя, и он предстал перед вылощенным американским офицером. Это был человек совсем другого склада, чем солдаты. Он по крайней мере умел ценить таких людей, как Шиле. Выслушав обвинения рабочих, он только отмахнулся со скучающим видом, и Шиле был выпущен на свободу. «Слава богу, теперь все позади», — радостно думал штейгер, шагая в это июньское утро вниз по переулку.
Вдруг он остановился, словно громом пораженный. По улице громыхал грузовик, набитый американскими солдатами. «Куда это они?» — подумал Шиле, и вдруг его осенила ужасная догадка.
— Боже мой, — прошептал он, — помоги мне. Похоже, что янки сматывают удочки.
Несмотря на прохладное утро, его бросило в жар: «Что же теперь будет, штейгер Шиле?»
Грохот грузовика еще не смолк вдали, как вдруг послышался шум приближающейся легковой машины. Из-за угла стремительно вылетел автомобиль. Шиле едва успел отскочить в сторону. Блестящий голубой «Мерседес» показался ему знакомым. И в ту же минуту он увидел выглядывавшее из-за чемоданов и свертков испуганное лицо генерального директора. Шиле почувствовал, что земля уходит у него из-под ног.
В отчаянии Шиле бросился бежать. Взбежал на гору и, размахивая руками, принялся догонять машину. Но дыхания хватило ненадолго. Жалобно всхлипывая, он остановился у обочины.
…Гербштедт напряженно ждал. И вот утреннюю тишину нарушили гудки грузовиков и грохот танков.
Приближалась Советская Армия!
Отто Брозовский взял жену за руку, как брал много-много лет назад, когда они, молодые и влюбленные, бродили по ночным улицам, и быстро повел через двор к сараю.
— Подожди минутку, — сказал он и, вернувшись в дом, принес молоток и зубило.
— Что ты еще выдумал? — удивленно спросила Брозовская.
Отто открыл крольчатник и показал на стену.
— Ты ничего не видишь? — спросил он.
— Вижу, — ответила она, пожимая плечами. — Стена.
— Гляди-ка!
Брозовский, взяв молоток и зубило, начал бить по стене.
— Ты что, с ума сошел? — недоумевала жена.
Посыпались куски штукатурки, и из отверстия показался кончик брезента.
Матушка Брозовская вскрикнула и бросилась вытаскивать брезент. Руки у нее дрожали.
— Ах, боже мой, кролики знали больше, чем я, — бранила она мужа сквозь слезы.
Они осторожно развернули брезент и вынули знамя.
Вдруг на стену сарая упала тень. Брозовские обернулись. В дверях стоял Шиле. Он с ужасом смотрел на знамя.
— Господин Брозовский, — заговорил он дрожащим голосом. — Вы же знаете, я всегда был за…
На лбу у Брозовского красной полоской выступил шрам.
— Сейчас же убирайтесь отсюда, — сказал он спокойно.
Но Шиле, вместо того чтобы уйти, сделал шаг вперед, умоляюще поднял руки и опустился на колени. Зубы у него стучали.
— Господин Брозовский, я же всегда прилично обращался с рабочими, — бормотал он растерянно.
Брозовский пожал плечами и закрыл решетчатую дверцу крольчатника.
— Пойдем, мать! — Он протянул руку жене, и они молча прошли мимо Шиле.
Долгожданная встреча
Советская Армия вступила на мансфельдскую землю.
В лязге танковых гусениц, в хриплых гудках автомобилей, в твердой поступи солдат с красными звездами на пилотках звучала песня освобождения.
Заводы станут вашими, братья-рабочие! Вашими — рудники!Вашими, забойщики, вашими, откатчики, вашими, сортировщики, крепильщики и запальщики! Твоими, Август Геллер, твоими, Ленерт, твоими, Петер Брахман…
Каждый грамм меди отныне принадлежит вам, принадлежит народу!
Песня освобождения гремела по всей мансфельдской земле.
Гимнастерки бойцов были выпачканы в масле, черны от пыли и пота: путь был долог, а бои жестоки.
Так шагали они по мансфельдской земле. Над солнечными полями, над поселками и терриконами ветер разносил могучие, удалые, звонкие песни непобедимой армии первого в мире рабоче-крестьянского государства.
Бойцы вступили в Гербштедт. Они шли по улочкам шахтерского городка, мимо тесно прижавшихся друг к другу домишек, по Рыночной площади, мимо каменного колодца. Молодой солдат нес простреленное в боях знамя полка.
На одном из домиков, как две капли воды похожем на другие, приветствуя освободителей, развевалось красное знамя.
Глубокая радость охватила бойцов, когда они увидели это знамя. Они захотели познакомиться с людьми, которые пронесли стяг дружбы сквозь долгие годы фашистской ночи.
Несколько офицеров и солдат вошли в дом и через темную переднюю попали в кухню.
Отто Брозовский не слышал, как они вошли. Он сидел за столом и писал: «Август Геллер, Минна Брозовская, Йозеф Фрейтаг…» Это был список старых членов партии.
«Когда Петер вернется домой, он займет место отца, — думал Отто. — Ах, Петер, милый мой мальчик, надеюсь, ты скоро снова будешь с нами. И Вальтер Гирт тоже, если он жив…»
В дверь постучали.
— Войдите, — крикнул Брозовский, не оборачиваясь.
Он поднял голову лишь тогда, когда мягкий голос произнес необычные слова:
— Добрый день, товарищ.
Отто Брозовский медленно поднялся с места. Это были они: красные звезды на пилотках, загорелые смелые лица. Ему казалось, что он уже давно знает этих людей.
Он шагнул навстречу гостям.
— Добрый день, товарищи, — сказал он и засмеялся, а по его ввалившимся щекам покатились слезы. — Добрый день.
Матушка Брозовская привела Августа Геллера, Йозефа Фрейтага, однорукого Ленерта и Рихарда Кюммеля.
Наконец-то маленькая кухня снова была полна народу. Люди сидели на скрипучей кушетке, на стульях и табуретках — мансфельдские рабочие вперемежку с солдатами и офицерами Советской Армии. Окно было распахнуто настежь. Тополь шумел на ветру. Двор наполняли смех и веселые голоса. Молодой солдат принес губную гармошку, и вот зазвучали песни, которых Гербштедт не слышал уже двенадцать лет. Их пели по-русски и по-немецки, пели громко и радостно:
Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе, В царство свободы дорогу Грудью проложим себе.Взгляды горняков все время обращались в угол, куда Брозовский поставил красное знамя из Кривого Рога с вышитыми на нем золотом словами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Долго, долго они сидели все вместе и слушали историю этого знамени.
Когда гости ушли, на высоком небе уже зарделась утренняя заря.
На первой же рабочей демонстрации знамя из Кривого Рога пронесли по Рыночной площади свободного Гербштедта, и не один старый горняк в этот день плакал от счастья.
Жители Гербштедта избрали Брозовского временно исполняющим обязанности бургомистра, и он безраздельно отдался работе. Земли помещиков поделили между батраками, а во главе рудников были поставлены шахтеры, и эти неслыханные перемены вызывали множество вопросов, которые требовали немедленного решения. Брозовский работал с утра до позднего вечера.
Спросите Минну, его жену, и она расскажет вам: «Бесполезно было готовить ему обед. Он никогда не приходил домой раньше полуночи…»
Свобода, за которую всю свою жизнь боролся Брозовский, восторжествовала. Но здоровье его уже было подорвано. В феврале 1947 года Отто Брозовский умер.
Горняки Мансфельда присвоили рудникам своего края имя первого рабочего президента. Теперь это Мансфельдский комбинат имени Вильгельма Пика.
Весело звучали удары молотков, которыми горняки прибивали над воротами рудников новые вывески. То, о чем они мечтали много лет, стало наконец действительностью. Рудник «Вицтум» носит имя Эрнста Тельмана. А недалеко от него возвышается остроконечный террикон. Это террикон рудника «Отто Брозовский».
От автора
Если вам когда-нибудь случится побывать в Мансфельде, пройдите на рудник «Отто Брозовский» и посмотрите на знамя из Кривого Рога. Оно стоит в кабинете секретаря комитета Социалистической единой партии Германии, он вам охотно его покажет.
А потом пойдите в Гербштедт и отыщите там домик, в котором живет старушка Брозовская.
Она вам покажет медаль Клары Цеткин, которой ее наградило наше рабоче-крестьянское государство за то, что она так стойко и верно хранила знамя, и вы обо многом от нее узнаете.
Мне она тоже многое рассказала, и я хотела бы поблагодарить ее от всего сердца. Ее и всех мансфельдских горняков, потому что, не будь их рассказов, я никогда не написала бы эту книгу.
Я хочу поблагодарить и других товарищей. Тех, кто много лет назад печатал в газетах «Роте фане» и «Классенкампф» такие яркие сообщения о мансфельдской забастовке, что героические бои того далекого времени ожили перед моими глазами.
И, наконец, я сердечно благодарю своего мужа, который терпеливо и вдумчиво следил за моей работой и помог мне написать эту книгу.
Аннелизе Ихенхойзер
Примечания
1
Террико́н — гора пустой породы.
(обратно)2
Шахтерское приветствие, пожелание счастливого возвращения.
(обратно)3
Ште́йгер — мастер, ведающий рудничными работами.
(обратно)4
Нурми Пааво — известный финский бегун, пользовавшийся большой популярностью в 20-е годы.
(обратно)5
Би́смарк Отто (1815–1898) — реакционный государственный деятель и дипломат Пруссии и Германии, основатель юнкерско-буржуазной Германской империи.
(обратно)6
Ги́нденбург Пауль (1847–1934) — германский фельдмаршал, президент Германии в 1925–1934 годах, монархист и реакционер.
(обратно)7
Капп — глава неудавшегося контрреволюционного переворота в Германии в 1920 году.
(обратно)8
Строки из популярной в Германии «Песни немецких рабочих ферейнов». Автор ее — выдающийся немецкий поэт Георг Гервег (1817–1875). (Перевод Н. Вержейской.)
(обратно)9
По принятой в Германии системе оценок «единица» соответствует нашей «пятерке», «двойка» — «четверке» и т. д.
(обратно)10
Песня немецкого прогрессивного поэта Эриха Мюзама (1878–1934) «Карл Либкнехт — Роза Люксембург». (Перевод С. Болотина.)
(обратно)11
Томас Мюнцер (1493–1525) — руководитель крестьянского восстания 1525 года в Германии.
(обратно)12
«Бременские музыканты» — известная сказка братьев Гримм.
(обратно)13
Цугшпитце — горная вершина в Германии.
(обратно)14
Строфы из песни немецкого певца-антифашиста Э. Буша «Батальон Тельмана». (Перевод Т. Сикорской.)
(обратно)




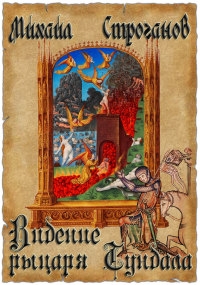

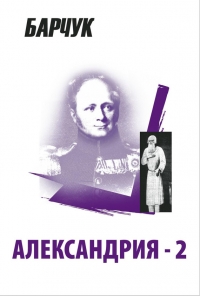


Комментарии к книге «Спасенное сокровище», Аннелизе Ихенхойзер
Всего 0 комментариев