Полет на спине дракона
Энциклопедический словарь.
Изд. Брокгауза и Ефрона.
Т. XXIV, СПб., 1892
Чингис-хан перед смертью разделил свою обширную империю между своими сыновьями, причём на долю старшего сына, Джучи, отведены были самые отдалённые от Монголии земли. У монголов отцовский юрт наследовал младший сын, поэтому коренные монгольские земли достались Тулую. Джучиев улус обнимал огромное пространство, ещё не совсем завоёванное: Кипчакскую степь от верховьев Сырдарьи, Хорезм (Хива), часть Кавказа, Крым и Россию. Джучи умер раньше этого раздела, что несколько отсрочило вторичное нашествие монголов на Россию; удел же достался многочисленному потомству Джучиеву, во главе которого стал Батый. На курултае (сейме) в Монголии в 1229 г. решено было послать 30-тысячную армию для завоевания стран к северу от Каспийского и Чёрного морей; но она почему-то не была отправлена, и только на курултае 1235 г. осуществилось это намерение. Начальство над армией было поручено Батыю, к которому приставлен Ноян Субугедай, участвовавший в первом нашествии монголов на Россию. К 1240 г. Россия была покорена, а также Кавказ до Дербента; тогда Батый направился в Польшу, оттуда в Силезию, в Моравию, затем в Венгрию, всюду нанося поражения, а один его отряд проник в Трансильванию и опустошил эту страну. Повернул назад Батый только потому, что получил известие о смерти хана Угэдэя. Смерть монгольского хана всегда останавливала военные действия монголов, где бы они ни были, так как князья должны были спешить на курултай для избрания нового хана. Позже Батый не делал попыток воевать на западе, а занялся устройством своей орды. По первоначальному плану Батыю предполагалось дать 30 000 войска; нет основания думать, что это число было потом изменено в ту или другую сторону. В это же войско входили и 4000 монголов с семьями, данных Чингис-ханом в каждый улус, в виде рассадника монгольского элемента; главную же часть войска Батыя составляли татары — около 25 000 душ, с семьями. Таким образом, господство у нас чингисидов можно назвать игом монгольским, так как династия была монгольского происхождения, но можно назвать и татарским игом, потому что подавляющую массу завоевателей составляли татары; можно назвать и игом монголо-татарским.
Батый со своею ордою поселился в волжских степях, т.е. стал господствовать над Россией издали, в подробности управления не вмешиваясь, а довольствуясь данью. Так обыкновенно поступали кочевники, порабощая осёдлых. Это давало побеждённым возможность, с течением времени, свергнуть иго победителей. Страна на первое время удерживалась в повиновении при помощи татарских разъездов, которые встречались европейским путешественникам, проезжавшим в Монголию через Россию. Батый выстроил на Волге столицу Сарай при помощи мусульманских архитекторов. Брат Батыя, Орда-Ичен, получил в удел Киргизскую степь и имел свою резиденцию в г. Саганаке. Этот удел в наших летописях называется Синею Ордою, а у мусульманских писателей — Белою. Орда-Ичен от себя дал младшему брату Шейбани, за храбрость, обнаруженную во время похода на Русь, особый удел: от верховьев Яска (Урала) до низовьев Сырдарьи. Впоследствии Синяя Орда подалась на север и дала начало сибирским ханам, из которых происходил известный Кучум. Большая орда на Волге получила название Золотой Орды. Таким образом, явилась 3-я линия джучидов. Для сбора дани посылались особые чиновники, называвшиеся баскаками, а когда требовался чрезвычайный сбор, наезжали специальные послы. Впоследствии русские князья добились права собирать дань и лично или через своих послов представлять её ханам. От сбора освобождалось духовенство, на что выдавались ярлыки, называвшиеся тарханными (льготными). В числе влиятельных лиц в Орде были темники (военачальники; тьма = 10 000); они нередко играли там первую роль и возводили и низводили ханов по своему произволу.
Батый умер в 1255 г.; ему наследовал сын Сартак, но умер он на пути из Монголии в свою орду. Монгольский хан Мунке назначил преемником Сартака его сына Улагчи, а так как он был молод, то учреждено регентство, возложенное на старшую жену Батыя, Боракчину. Улагчи умер через несколько месяцев, и тогда ханское достоинство досталось Берке (Беркай).
ПРЕДИСЛОВИЕ
Батый — одна из тех фигур, которую и дореволюционная и советская историография оценивали резко отрицательно. Расхожие стереотипы примерно таковы: была цветущая «красно-украсная Русь», но нахлынули чёрные орды, «сметая всё окрест», и утвердили своё жуткое «иго» аж на триста лет... Отшумели века, каждая ржавая сабля с тех времён — праздник для археологов, но мы так и выдавливаем из себя по капле «азиатского раба», да всё никак не выдавим.
А неотъемлемым символом «ига» остаётся Батый.
Наткнувшись на явную тенденциозность почти всех прочитанных мной исторических работ, я решил, по возможности, опираться на первоисточники. Вскоре я заметил, что оценки свидетелей и поздних сказителей, мягко говоря, не всегда совпадают.
Эта книга — нестрогая попытка разъять мнимых «близнецов-братьев»: «татаро-монгольское иго» и личность самого Батыя. «Кто более матери-истории ценен?»
Во избежание глобальных недоразумений, я всё же решил предварить повествование пояснениями.
Итак, для начала уясним: монголы вовсе не дикари.
«После них опустошение, упадок ремёсел», — пеняют авторитетные профессора... Например, нам рассказали, как полчища Батыя сожгли Булгар. Да, было такое, это правда, но не вся.
При правлении Батыя — этот город расцветает. Одно время он даже был столицей Золотой Орды (тогда эта территория называлась «Улус Джучиев»[1]). В городах — гончарные мастерские, горны для производства чугуна, дробно-специализированное хозяйство... то есть здоровая экономика, её саморегулирование. А ещё водопровод (а в тогдашнем Париже — нет), и дренажные системы, и канализация.
Следует сказать несколько слов о «жутких обычаях» той самой «татарщины», которой мы за века «наглотались всласть» (А.К. Толстой).
«Азиатские представления, чуждые, нимало не свойственные нашей природе, клонились к тому, чтобы поставить женскую личность в самое невидное место в общественной организации. Чтобы вовсе отделить её от общества», — пишет, например, Е. Забелин. Однако европейские путешественники, видевшие живых татар, отмечают «чудеса великого почёта, в каком были у них женщины... в управлении, почти равном с мужчинами».
Женщины голосовали на курилтае[2], сражались в составе войск.
Даже в славяноязычных деревнях вольноотпущенников ранней Золотой Орды женщина — распорядительница хозяйства и бюджета. Мать имела право распоряжаться наследством по собственному решению. Дочь в дому — не инструмент выгодного брака, а имеет голос в выборе жениха.
Только в связи с позднейшим влиянием мусульманства (а на Руси — ортодоксального православия) положение изменилось, сместившись в сторону большего женского закрепощения.
Или, скажем, «Повесть о разорении Рязани Батыем». Там Батыга Поганый просит «на ложе» жену князя Фёдора. А за это «не ходить войной на рязанскую землю». Уж так ему, стало быть, полюбилась, что готов всё своё войско без добычи оставить, врагов простить, Ясу нарушить. И сотни наложниц ему не утеха. А Фёдор ему в ответ: «Не полезно есть нам, христианам, водить жены своя на блуд».
Вот, оказывается, почему Рязань-то сожгли. Пожалел Фёдор «жену на блуд».
Стоит ли говорить, что этот образчик церковной «назидательной » литературы (написанный на века позднее реальных событий) — разновидность мифологии, а не истории.
Сведения о рязанских князьях того времени противоречивы. Например, пресловутый Фёдор упоминается только в этой «повести». В вымышленной мною истории любви Олега Красного (исторического лица, отражённого в летописях) и Евдокии Пронской я сделал попытку «реконструировать» ситуацию, отголоски которой легли в основу поздних сказаний.
Теперь о самом Бату: часто в истории имидж — это одно, а сам человек — совсем другое. Так было с Екатериной Второй, так случилось и с Батыем.
Дореволюционный востоковед Бартольд, наверное, первый обратил внимание — монгольские ханы не чёрные силуэты, а обычные люди, причём очень разные по характеру. Чингис, например, беспощаден, но бессмысленная жестокость ему не свойственна. Он мог и гибким быть, и великодушным.
Его сын Угэдэй (которого Повелитель назначил своим наследником) — мягкий до рыхлости, незлой, склонный поддаваться внушению. Сын Угэдэя Гуюк — завистливый, истеричный садист.
Вот такой калейдоскоп.
А что же наш герой? Странно для современного уха звучит, но окружающие Батыя... любили. У него и прозвище — «Саин», то есть «добрый, справедливый». На Руси его с некоторых пор так и звали — «добрый хан».
Можно, конечно, сказать, что мы имеем дело с простым подхалимажем, но есть возражения.
Во-первых, так называли только его, а на нелестные эпитеты другим ханам и князьям не скупились. Да и невелика честь по тем временам быть «добрым». Вот «сильным», «грозным», — это да. (Например, князя Poмана Галицкого гордо сравнивали с... крокодилом. Такая была тогда придворная лесть).
Во-вторых, в этой оценке сходятся и друзья и недруги. Мусульмане Джувейни и Джузжани (один «против», другой — «за») дружно пишут о его великодушии.
Даже откровенный враг и ненавистник монголов папский посол Плано Карпини вынужден был признать: «Батый милостив к своим подданным». А ведь именно Карпини сообщил современникам много недостоверных гадостей о «монголах вообще». (С его лёгкой руки, например, пошла гулять басня о жуткой круговой поруке в монгольском войске, когда за провинность одного казнили весь десяток, за десяток сотню и т. д.) Сейчас это опровергнуто более тщательными исследованиями.
Качества характера — наследственность. Известно всем, что Батый — внук Чингис-хана. А вот и... скорее всего нет. Этот факт настолько важен для понимания роли джучидов (потомков отца Бату и сына Чингиса — Джучи) в тогдашней геополитике, что я вынужден был дополнить повествование подробной ретроспективой времён более ранних.
Предвижу возражения. О какой «доброте» можно говорить, когда этот монстр во главе хищной орды пролил реки безвинной крови?..
Так, да не так. Значение Батыя в его «походе на Русь» — преувеличено. В те годы он был подчинённой и политически несамостоятельной фигурой. Судьбы империи монголов определяли тогда совсем другие люди. Не поколение внуков Основателя (к которому принадлежал Бату), а ещё его детей.
Это были дядья Бату и главные недруги погибшего Джучи — Верховный Хан империи Угэдэй и его «заместитель по политчасти», Хранитель Ясы (законов Чингиса) Джагатай.
Батый же в походе 1237—1241 годов — лишь один из многих военачальников. Скажем так — «исполняющий обязанности командующего» далеко не самым важным «Северо-Западным фронтом». Эта должность называлась — «джихангир»[3]. Если что не так — отвечать джихангиру. А все лавры и львиная доля добычи уплывала в центральную ставку — в Каракорум[4].
Предприятие было трудное и неблагодарное, войск — вопреки устоявшемуся мнению — выделено очень мало (около 30 тысяч, по мнению Гумилёва и Веселовского), больше просто не наскребли, и так мобилизовали даже почти детей. Да и то половина из этих тысяч занималась тем, что отбивала фураж (корм для лошадей) в половецких зимовниках. Не будем забывать: воевали зимой, а трава — под снегом.
Щадить или не щадить население, грабить или нет — это решал не Бату, а писаные «законы ясы», от которых НИКТО (и хан) под страхом смертной казни не мог уклониться. А были законы — очень жестокими. Например, город, который не сдался до применения таранов, объявлялся «злым» (как например, Козельск или Киев), и население такого города вырезали до младенца.
Есть и ещё один аспект: все царевичи-чингисиды (дети правителей Угэдэя и Джагатая), которые участвовали в походе, заинтересованы в добыче, а значит, в грабеже.
А Бату как раз должен был меньше всего желать разорения новых земель.
Ведь теоретически, по завещанию Чингис-хана, земли на Западе отходили в подчинение потомкам Джучи, а значит, ему.
Однако на практике, — оставшись здесь без поддержки местного населения, — он оказывался бессилен. Каким образом осуществлять жёсткую власть, если все имперские войска, кроме ничтожных собственных сил (около двух тысяч) должны были после похода ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ В МОНГОЛИЮ?
Значит, ему как воздух были нужны местные доброжелатели, и он их находил.
А теперь, увы, о самом неприятном для лиц, излишне «патриотически озабоченных». Искренне прошу прощения у всех, чьи святыни я невольно попрал.
Считаю, что истинный патриотизм — это стремление знать историю своей Родины такой, какова она была на самом деле, а не умиляться сусальным сказкам для детей.
Говорят, на Руси не было «единства против врага»? Бесспорно, Бату активно использовал междоусобицы в своих интересах.
Об этом не любят вспоминать, но (читайте классические работы замечательного источниковеда и историка А.Н. Насонова) хан облагодетельствовал Ярослава — отца Александра Невского. Положение этого князя на Руси (и успех его династии потом) под протекторатом Бату бесконечно укрепилось.
Думаю — по аналогии с политикой монголов в других странах, — что это сотрудничество началось во время, а не сразу после нашествия.
Именно этим объясняется то, что честолюбивый князь не только не поддержал своего брата и соперника Георгия, но и открыл монголам ворота Переяславля-Залесского (чем, кстати, спас город от разорения).
Долгое время считалось, что Переяславль был сожжён во время нашествия, ведь сохранился пепельный слой, но, оказывается, этот пожар был немного позднее — когда Александр Невский при помощи Батыева воеводы Неврюя... воевал со своим братом и соперником Андреем в 1251 году... и действительно сжёг этот город.
Может, это покажется странным, но монголы пощадили на Руси все города, которые им добровольно сдались, а именно: Ростов, Углич, Кострому, Переяславль-Залесский и другие (об этом пишет, к примеру, А.Н. Насонов).
Увы, так было не везде.
В то время как войска Батыя осаждали Чернигов, Ярослав напал на острожок Кременец и... пленил семью черниговского князя Михаила, уведя её к себе «со множеством полона».
Все эти факты упомянуты в летописях.
До сих пор ломают голову над тем, почему монголы не пошли на Новгород. Вот, мол, распутица виновата. Но как доказал В. Чивилихин: никакой распутицы не было. Чем же тогда объяснить этот факт?
Разгадка, на мой взгляд, проста — в Новгороде сидел князь Александр (будущий Невский). Он — сын «тайного союзника» Бату Ярослава. Кто же разоряет земли союзников?
По иронии судьбы все ужасы этого похода — пятно на репутации Батыя. Но не будем забывать: благодаря его (а кого ещё) заботам были спасены от разорения вышеперечисленные города — все они отделались лёгкой контрибуцией и не пострадали. Так или иначе, но своим хитроумием (вопреки замыслам центрального правительства) Батый сумел СПАСТИ эти города от участи Владимира, Козельска и Киева.
А в «ужасах», увы, принимали участие и РУССКИЕ, включённые в войско Бату. Включённые не только насильно (передовые отряды, так называемый «хашар»[5]), но часто вошедшие в него ДОБРОВОЛЬНО.
Как же так? Ярослав, отец прославленного Невского — предатель? Нет, никакой он не предатель. Просто в те времена не было понятия «родина» в нашем понимании этого слова. Было понятие верности князю, православной вере, при этом... черниговец отнюдь не считал владимирца своим земляком, а считал врагом, против которого все средства хороши.
Тем более не стоит забывать, что местное, аборигенное, население, например, Владимиро-Суздальского княжества (меря, мурома, мордва) считало русских князей такими же захватчиками, как и монголов. Вернее, худшими. Монголы — степняки, что им делать в лесах? Как пришли, так и уйдут. А ЭТИ строят свои монастыри и го рода, грабят, сжигают святыни (языческих идолов)...
Ещё и по этой причине всё рухнуло так быстро, без особого сопротивления. Это признают сегодня уже все историки.
Конечно, вышесказанное не умаляет мужества тех, кто, как Евпатий Коловрат и ему подобные, сражался, кто защищал свою землю и вёл партизанскую войну.
Спустя несколько лет после нашествия Ярослав явился к Батыю в ставку и получил всё, о чём мечтал он сам и его ближайшие предки — полную власть над двумя важнейшими «столами» — Киевским и Владимирским, а после и Черниговское княжество. Никакой данью — в отличие от собственно Киевской (не «Залесской») Руси — его владимирские земли не облагались.
Дань появилось уже ПОСЛЕ СМЕРТИ Бату, и это разговор отдельный.
Из мелкого провинциального князька Ярослав превратился в самую могущественную и политически самостоятельную фигуру.
А сын Ярослава, Александр Невский, стал побратимом сына Батыя Сартака.
И ещё один аспект: нам рассказали про то, как Батый Русь зорил, но не рассказали, как он её СПАСАЛ.
А случилось вот что: после смерти Великого Хана Угэдэя к власти над империей Монголов пришёл злейший враг Бату — сын Угэдэя Гуюк.
Гуюк собрал войско куда большее, чем было когда-то у Батыя, и двинулся ему навстречу, желая облагодетельствовать своих сторонников добычей и новыми рабами. А дальше — вторгнуться в Европу. Православные священники Руси и Византии восприняли это вторжение как возможность расправиться с католичеством и... благословили поход. Однако первый удар должен был обрушиться на земли, подконтрольные Батыю, а он этого не хотел.
Бату вышел навстречу врагу за Волгу с войском, укомплектованным новыми своими подданными, — половцами, русскими, ясами и касогами, аланами и булгарами.
Сражение не состоялось, ибо Гуюк неожиданно скончался. По одной из версий, помогли ему в этом люди Бату.
На престол Коренной империи был возведён друг Батыя Мунке-хан, что стало первым шагом к освобождению Золотой Орды (то есть западных земель — Волги и Руси) от власти монголов. После смерти Батыя его наследник Берке завершил дело, когда перестал посылать дань в имперскую столицу Каракорум.
И ещё один важнейший аспект — религиозный. Всех, кто считает, что я умышленно очерняю православную церковь тех лет, отправляю к подробным исследованиям дореволюционных историков Н. Костомарова и В. Голубинского. Никак не желая оскорбить чувства верующих, спешу напомнить, что церковь была современником тех диковатых нравов и не могла их не разделять.
Прочитав много научной и художественной литературы на заданную тему, я нигде не встретил адекватного анализа той важнейшей роли, которую играла христианская церковь несторианского[6] толка. А ведь огромное количество кочевников, составляющих монгольское войско, были несторианами. Кроме того, борьба противников и последователей канцлера Юлюя Чуцая упоминается везде как незначительный эпизод. А это всё равно что анализировать события Второй мировой войны и не упоминать фашизма и сталинизма.
Во всех упомянутых коллизиях Батый, достигший зрелости, играл важную и неоднозначную роль. Не распутав этого узла и рассматривая проблему только с низкой колокольни «Батый - Русь — иго», мы так и будем путаться в неизбежных противоречиях.
Чтобы рассказать о несторианской религии тех лет, мне пришлось разыскивать информацию по крупицам — о ней очень мало сведений. Л.H. Гумилёв в великолепной работе «В поисках вымышленного царства» поведал об огромном вкладе несториан в формирование монгольского государства. Новейшие данные показали, что оно было ещё большим, чем он предполагал.
И ещё одно небольшое замечание. Я пишу слово «Чингис-хан» через дефис — это точнее. Поскольку «Чингис» — это титул, а «хан» — должность. Разные вещи.
Мой роман — попытка подняться над узконациональными воззрениями и хотя бы немного «распутать» те узлы, сведения о которых сохранились не в лучшем виде и к тому же искажены неизбежной тенденциозностью.
В начале XXI века полезно поразмышлять о тех давних событиях не в традиционном и наивном ключе: «добро — направо, зло — налево».
ПРОЛОГ ВОСКРЕШЕНИЕ ВОСПОМИНАНИЙ
Народ видел, что правление
хорошее и хан милостив, и шёл
к нему охотно.
Марко Поло о монголах.1256 год. Сарай-Бату
«Самое важное в моей жизни происходит теперь, когда я сижу в своей неподвижной столице, сижу на одном месте. Важное своей пугающей бесполезностью. Когда я пытаюсь взгромоздиться на коня — неуклюже как землепашец, — мои ноги кричат, мои мстительные ноги обрушивают на меня боль очень особого рода. Я прислушиваюсь к ней... Понять вкус боли — самое важное для правителя... тогда он сможет вовремя её причинить, именно ту, которую надо. Он также будет знать — от чего именно избавил человека, одарив его милостью.
Всю свою длинную жизнь я старался понять вкус боли, поэтому меня называют Саин-хан — «справедливый правитель».
Однако боль, которая изводит меня последние годы, совсем другого рода. Она из тех, вкус которых полезно постигать только лекарю, но никак не хану. Ведь даже я, всемогущий (как заблуждаются некоторые), никогда не смогу САМ причинить такое кому бы то ни было... при всём своём желании. Правителям не дано насылать и лечить болезни — здесь их власть кончается. Значит, мои страдания впервые напрасны, напрасны как гибель храбрецов, посланных в бой глупцом.
Горько и страшно сознавать, что я дожил до того возраста, когда боль перестаёт быть ИСПЫТАНИЕМ, когда она становится КАРОЙ.
Именно это называется старостью.
Многое тяжёлое — из того, что когда-либо причинил людям, — я испытал «на собственной душе» и на собственной шкуре. Никогда не умея рыдать, встречаясь с утратой... никогда не позорясь криком, встречаясь со страданием телесным... я не умел и забывать.
Все муки моей длинной жизни лежат тяжёлыми камнями на дне бурной реки судьбы — её течение не в силах сдвинуть эти камни. Я всегда утешал себя тем, что извиваясь меж камней, вода вырывается на новый простор с гораздо большей силой, но я ошибался.
Говорят, хан Хубилай велел засеять степными травами площадь перед своим дворцом. Для чего? Чтобы перенести кусочек родного дома в чужую страну? О, этот его поступок говорит о многом.
Мой въедливый Бамут, обучая юных соглядатаев, обязательно зацепился бы за него липким своим умом. Он бы заставил мальчишек подумать о том, что Хубилай не очень-то скучает по родным нутугам[7], поскольку каждодневное напоминание о них не скребёт его душу. А потом Бамут швырял бы им вопросы, подобные мозговым костям — выколачивать сердцевину. Например, такие ехидные: «Действительно ли Хубилай считает, что родную землю можно посеять и вырастить на чужбине, или только притворяется? »
Я же, услышав про ханские чудачество, вдруг вспыхнул от зависти. Моего друга — верховного кагана Мунке не насадишь на крючок грубой лести, и искушённый Хубилай не может такого не понимать. Степные травы у дворца, из которого правят осёдлой страной, — плевок в душу покорённым. Лишний повод для ненависти, которую трудно загладить раздачей хлеба.
Всё так... но зато Хубилай, похоже, может наслаждаться воспоминаниями, а не бегать от них (хотя бы в отношении степной травы).
Когда-то я тоже так умел — теперь разучился. Это пугает меня больше всего, ведь в жизни каждого человека наступает время, когда он должен, наконец, поселиться в стране своего прошлого. Эта туманная страна не покоряется мечу. Великий хан и последний раб-богол[8] приходят туда безоружными и беспомощными. Вдруг становится важно, чтобы жители каждой утопающей в мареве юрты, каждого призрачного шатра не вырвали из груди твоё сердце, не давили бы его в жёстких ладонях тоски.
Это особенно важно, потому что рано или поздно ты останешься в этой стране навсегда и уже не сможешь оправдаться.
Служители Креста (разумные из них) называют такое — адом.
Меня пугает мой отказ проехаться по степи на колёсах только потому, что никогда не смогу проскакать верхом.
Меня страшит мысль о том, что я отказываюсь думать о красивых чужих городах только потому, что мои войска сожгли их когда-то.
Оседлать свою боль — самое важное для тех, кто смертен. И для тех, кто хочет остаться бессмертным. Я поднимаю дрожащую руку, как не делал уже давно, — ведь последние годы я человек мирный — и резко бросаю её вниз. Но ряды обезумевших пастухов не швыряют свой страх на врага, теперь я скачу один.
Урагша! Вперёд! Вперёд в страну опасных воспоминаний! »
Боэмунд. 1256 год
Перед тем как это прочесть, я аккуратно отодрал восковые набалдашники с боков, будто у живого существа уши. Вдруг показалось, что рукопись мелко затрепетала от боли. Но нет, это тряслись мои собственные руки. Бату не успел написать свою исповедь, и теперь за него будут говорить легенды — злые легенды.
Как у меня в руках оказался этот пергамент? Очень просто. Всё началось с того, что я появился на тризне.
Придя проводить в последний путь лучшего друга и повелителя, я не рисковал. Ведь риск — это когда неизвестно, убьют или нет. Какой же это риск, если я точно знал, что убьют? Слишком многие с нетерпением ожидали моего появления.
Пышные похороны хана требовали щедрых даров умершему. Затерявшись в толпе, я зачарованно смотрел в глаза девушек, которым суждено сопровождать повелителя к предкам. Уроженки разных народов, они верили в разноликих богов, которым бы не грех даровать своим почитательницам твёрдость перед земляной пастью, что вот-вот поглотит их прекрасные тела. Но нет, Христос, Аллах, Тенгри, Ярило и Хоре оказались слишком гордыми и не снизошли до своей юной паствы. Поэтому воздух был пропитан отчаянием и ужасом, как намокший под дождём войлок.
Похороны устраивал брат покойного и наследник улуса Берке. Я, конечно же, понимал (впрочем, как и многие, многие), что Берке приложил руку, сердце и золото не только к тому, чтобы брата проводили в иной мир достойно... но также и к тому, чтобы было кого провожать.
Казалось бы, надо мстить, а не отдавать свою голову в дар убийце, как созревший кочан. Однако у меня были две весомые отговорки: первая причина не столько Берке — виновник гибели Бату, — сколько те, чьим знаменем он был, а вторая была совсем проста — с некоторых пор мне порядком надоела собственная голова.
После похорон мне довелось предстать перед Берке в небольшом голубом «шатре для тайных бесед», окружённом кольцом немых тургаудов[9]. Там-то мне и показали ту самую рукопись. Отпустив её концы, от чего пергамент — опять же как живое существо — стеснительно свернулся в трубочку, я поднял глаза на ещё не провозглашённого курултаем нового владыку здешних мест... и удивился.
— Значит, и ты тоже, Бамут, даже ты... — в глазах хана висело странное беспомощное дружелюбие. — Я их всегда недооценивал. Мы не ладили с братом, да, но...
— Недооценивал... кого? — вынырнув из мыслей о вечном, я встрепенулся...
— Ах, если бы я знал, Бамут, если бы знать — кого... Да разве оставил бы тогда тебя в живых, — откровенно посетовал вдруг Берке.
Повелитель как-то обиженно согнулся, все линии его облика округлились. Теперь он напоминал излизанный ветрами ядовито-жёлтый бархан.
Берке и с послами-то не был горазд притворяться, а тут-то и вовсе зачем?
С неуместным снисходительным сочувствием окинув согбенную фигуру хана, я вдруг поверил в то, что так усердно внушали всем подряд, во что верили только крайне неповоротливые умы...
Берке не убивал Брата. НЕ УБИВАЛ. Вот так дела.
Мне стало стыдно... ведь я догадался всего только за шаг до того, как меня ткнули носом в правду. Какой позор! Ведь подумать только — мгновеньем позже Берке сказал бы об этом в открытую, и моя слава провидца была бы навсегда запятнана. А ведь это гораздо неприятнее, чем какая-то там смерть.
Смерть — достояние всех. Слава же принадлежит избранным. Надо было спасать положение, и я поспешно соврал:
— Я знал, что ты его не убивал...
— Я знал, что ты знаешь, Бамут... я всегда в тебя верил... — откликнулся хан, ещё не ставший «великим».
И тут с позорным запоздалым облегчением я понял, что и меня самого оставят дышать. Понял и разлепил ссохшиеся от напряжения губы...
— Верил?
— Я не пустоголовый стригунок, кое-что понимаю. Знаю, не будет тебе покоя, пока всё не выяснишь. Не поверю, что у тебя и сейчас нет следов...
— Увы. Если бы не было... — стал я выкручиваться, — их слишком много... этих следов. Бату хотел всех примирить, поэтому его убийцей мог быть кто угодно. Люди не хотят мириться.
— Да... всех примирить, — отозвался Берке глухим, еле слышным эхом, — на мире не построишь любви.
— Нет, хан, — вздохнул я, — на мире не построишь государства и власти. Увы... А насчёт любви... Не ускользай, хан. Ты знаешь — Бату был тёплым костром в снегах для ближних своих.
— Но огненным смерчем Иблиса для дальних, — бросил хан.
— Увы, это так, — неохотно согласился я, — у тебя же всё наоборот. Дальние хвалят тебя, а ближние — ненавидят...
— Кто дальше всех, Бамут? Он на Небе... Путь к любви дальних — путь к Аллаху... Но полно, друг мой. Я хочу знать, кто его убил. Я дам тебя пайдзу с рисунком барса. Она откроет перед тобой все двери.
Я долго смотрел на ровный огонь, возвращая взгляду привычную пристальность. Неприязнь к Берке перестала меня щекотать.
— Кто бы мог подумать, что мы снова поскачем стремя к стремени, хан... Трава на могиле нашей юности опять позеленела. И это всё он... Бату. Его Сульдэ[10], как при жизни, объединяет людей.
— Наша юность возвращается, да... — Черты нового правителя Улуса Джучиева источали теперь не исступлённый, но вполне наивный восторг.
— Она всегда возвращается к старикам, хан... Будем же молиться, чтобы с её возвращением не возвратилось слабоумие... — возразил я. И уже глухо, но внятно добавил: — Хорошо, хан. Я постараюсь узнать...
— Золото, люди, любая помощь — всё для тебя, Бамут. И да откроются все сундуки ради дела, угодного Аллаху.
Я вышел, окунулся в липкий воздух у входа в шатёр и вдруг понял своё бессилие. Что с тех открытых сундуков? Ведь друзья проплывают мимо и исчезают как холмы, которые минуешь в походе. Враги накапливаются как грязь на старых гутулах[11], и каждый из них мог вполне...
Но мне почему-то не хотелось копаться во всём этом сейчас. Вдруг вспомнилась другое — наша с повелителем первая встреча. Мы были очень молоды тогда, особенно он... мы ещё могли позволить себе так самозабвенно окунуться в скорбь. Да, так и было — наше знакомство началось со скорби.
Бату и Орду. 1219 год
Бату и Орду замерли на холме. Последний раз прицепились взглядом к шатрам ненавистного куреня[12], в которых они как будто бы жили. На самом деле им редко удавалось там отдышаться. Меж собой ребята называли это невесёлое место — где провели они не одну «траву» — «учёной ямой».
Внизу, как черви на тулупе богола, копошились их измученные младшие «однохурутники». Хурут[13], которым набивают тороки, уходя в далёкий поход, — был все эти годы их едой, надоевшей до ноющих дёсен. Орду усталой змеёй сполз с Каурого, распластался на зелёной весенней траве.
— О, Небо... домой! — водил он обалделыми глазами. Ему, бедолаге, жилось там особенно тяжко. — Бату, знаешь, о чём я сейчас подумал?
— Мысли твои, как мухи в котле — навязчивы и несъедобны.
— Мухи съедобны, — добродушно рассмеялся Орду, и без плавного перехода его лицо стало сосредоточенным, — ты знаешь, что я подумал? Ненавижу там каждую жёрдочку-уни, каждый мазок кумыса на онгонах[14], каждую складку на потнике и этих отвратительных лошадей тоже.
Бату долго, превратившись в каменного истукана, молчал. Потом проговорил кто-то в том роде, как привык разговаривать с братом, хоть и старшим, но таким незащищённым:
— Ненависть — это бесценное качество для джихангира, разве не знаешь? Ишь как заговорил... тебе бы улигеры[15] шлёпать: «Я ненавижу каждый стебелёк у хилганы, каждый лепесток у тюльпана, каждую косточку у сочного барашка». С такими высокими словами наши воины бестрепетно ринутся в бой...
Бату улыбнулся. С захлестнувшей вдруг радостью вспомнил:
— А вот барашков теперь будет сколько угодно, так что песенка твоя устарела.
Как бы там ни издеваться, а чувствовал он то же самое.
Бату и Орду ехали из дома, возвращаясь домой.
Такие уж настали времена. Если при слове «родное» припомнится растопыренный тысячью ножей тальник у реки, если ворвётся в уши знакомый, как побудка, свист тарбаганов, если привидится бледная трава, освобождаемая от снежного гнёта копытом (копытом коня, который её, освободив, и съест)... тогда он едет на чужбину.
Но всё-таки чаще при этом слове вспоминаются люди, рядом с которыми не хочется быть взрослым. Думая о них, терзаешься болью о себе самом, маленьком и капризном... Ведь от такого «себя» давно и с радостью ускакал в туман... давным-давно...
И вот он снова неуклонно приближается к этим лицам, к далёкой реке Иртыш... где ещё ни разу не был.
На Иртыше теперь главная орду его отца... там сейчас все, кого Бату знал ребёнком. Когда-то у его, Бату, будущих детей эти понятия — родные люди и родные места — вновь сольются воедино. Ему же отныне суждено всю жизнь приезжать домой, как в гости, а в гости, как домой. Вот приятелю Мунке повезло. Его отец Тулуй как очигин[16] унаследует улус отца...
Значит, и Мунке будет счастлив и спокоен — всё у него как у людей. Где родился — там и жить потомкам.
Мунке ещё не вырос. Ему ещё долго гнить в «учёной яме». Но и тут мальчику повезло — такие змеи, как Гуюк, там больше не ползают... «Благодаря мне, — он гордо подбоченился, — мы с Мутуганом под конец всё же победили... а всё потому, что мы не из тех, кто прячется за свою благородную кровь, как телёнок за бычьи рога. Мы — сами по себе».
Этому учил его Маркуз — первый воспитатель. В горле у Бату сладко закололо от предвкушения скорой встречи с ним.
Назидания Маркуза не забыть. Потому ли, что они действительно мудры, или просто это были последние назидания, которые Бату слушал по доброй воле. В «учёной яме» такими мелочами, как согласие учиться, никто не интересовался.
Так или иначе, виднее рисунок прутиком на присыпанной порошей земле, чем колея от повозки на разъезженном зимнике. Каким бы он стал, если бы не те замысловатые рисунки прутиком на снегу его детской души...
Впрочем, десять трав околосилось с тех пор. Ведь это было ещё до того, как по наказу великого кагана им всем стали выращивать чужеродные тигриные клыки... совсем давно.
Путь в отцовскую ставку — через земли оазисов.
Уйгуры встречали многолюдьем городов. Бату глазел на глинобитные дома, на крыши, затянутые пологом из верблюжьей шерсти. Не увидишь — не поверишь. От уйгуров, как вообще от всего осёдлого, веяло какой-то беззащитностью, а ведь столько волшебных историй об этих краях наслушался он когда-то от тёти Суркактени — жены Тулуя. Здешние юрты приросли к земле как кусты харганы. Каждый подходи с топором, секи, руби — не убежать. Что за жизнь здесь у них, глупых? Сартаулы[17] вот тоже за стенами прятались — всё равно не убереглись.
Чаган, их главный терзатель в «учёной яме», тоже на этой жаре возрос. В детстве Бату и Орду учили читать и писать здешние грамотеи. Теперь ожившая диковинная сказка расправила плечи чувством превосходства.
Диковинные жители Турфана и Кучи встречали их радушно — по крайней мере, Бату попадались почти исключительно доброжелатели. Наверное, к ним намеренно таких подводили. Думали, может быть, что подобных он только и хотел видеть? (А скорее всего — под страхом смерти наказали только таких стригункам-чингисидам показывать.) По крайней мере, здесь такое удавалось, а это что-нибудь да значило. Огонь за пазухой не утаишь.
Говорят, здешние купцы здорово раздобрели, скупая у монголов бесчисленную добычу, взятую во владениях Алтан-хана. Воистину, кому война, а кому мать родна. А уж с тех пор как Темуджин растерзал их западных торговых соперников сартаулов, в местных христианских храмах и вовсе молебны не стихают.
Уйгурия — это земля габалыков — «добрых городов». Монголы не наступают грязным гутулом на молитвенные святыни. Что до простого народа, те приветствовали новую власть скорее уж за то, что поприжала хвост ватагам разбойников. В былые годы каждого «плохо идущего» тут же тащили на аркане на невольничий рынок. Впрочем, уж чем не оскудела здешняя земля после смены правителей, так это подобными рынками.
Так или иначе, они ехали, гордясь и радуясь (Бату это чувство охватило впервые), что они не просто монголы, но тайджи[18]...
Когда приблизились к землям магометан, война с которыми ещё слегка тлела, все невольно приуныли. Вообще-то ещё в «учёной яме» наставники объясняли царевичам: милость к врагу пагубна... шах сартаулов поплатился за гордыню, светлые войска Ослепительного лишь выполняли предназначение Тенгри...
«Белоголовые»[19] первыми напали на наших людей, когда мы преследовали меркитов[20]...» (о вечные меркиты — красные мангусы[21] его судьбы)... «Мухаммед уничтожил послов, он перебил монгольский караван в Отраре, он грозил разметать все юрты, где не поклонялись их Аллаху...»
Тогда Бату думал, — а как же иначе — эта война справедлива.
Но одно дело рассказы, совсем другое — вот эти холмы из человеческих костей... А по обочинам — свежие трупы... В основном, конечно, стариков, но были и молодые... и дети...
Ему говорили, что население радо избавлению от гулямов[22] кровавого шаха, что даже халиф багдадский — глава магометан — приветствует поход против своего врага... Но в чём провинилась вон та девочка со вспоротым животом, чьё тело лежит на обочине?
«Таких не убивают, а берут в олджа-хатун[23], это расточительно. Или она что, тоже резала послов?» Бату вдруг охватила постыдная дрожь. Он оглянулся испуганно на брата Орду — заметил ли? Кажется, нет.
Юноша не хотел признаваться себе, что ему просто, по-человечески, жаль эту юную сартаулку. Он пытался внушить самому себе, что разозлён на её убийц за разгильдяйство. Ведь думы о жалости — это не удел правителя, но удел сердобольной девицы («вот такой» — нерешительно оглянулся назад).
Первые, самые болезненные язвы войны уже успели покрыться в этих местах подсыхающей корочкой. Теперь война бесновалась на юге, в долине Инда. Там сейчас старший сын Джагатая — лучший друг Мутуган. Его отозвали из «учёной ямы» раньше (отец подсуетился), отчего последние несколько месяцев перед отправкой «домой» Бату чувствовал себя покинутым. Ну да ничего, зато Мутуган, на зависть сверстникам, сумел попасть в настоящее дело раньше их всех.
Мутуган и Бату спина к спине дрались прозрачными ночами со сворой Гуюка, сидели рядом на жёстком олбоге, внимая наскучившим учителям. Теперь анда[24] Мутуган преследует Джелаль-эд-Дина. Как он там? Поскакать бы, хлопнуть по плечу, остаться.
Мутугана любили. Его младшего брата Бури, появившегося в «учёной яме» недавно (незадолго перед их с Орду отъездом), уже успели возненавидеть. Не отрастает ли там, на опустевшем поле, новый «Гуюк»?
Перед тем как избавить «однохурутников» от своего общества, Гуюк Настоящий придумал новое унижение для тех старогодок, кто был поскромнее. Повадился ставить малявку Бури на возвышение из трёх потников — так кулаки подрастающей дряни как раз доставали до лиц высокорослых жертв — и подводить к нему уже взрослых своих ровесников: «Поднимешь на мальчика руку, тварь, отобью между ног, потом жалуйся». Бури самозабвенно и весело лупил юношей неокрепшими кулачками по лицу. Мутугана тогда уже не было, и Бату пришлось разбираться с Гуюком один на один, и это запомнилось.
Почему же кругом гордятся своими обохами[25], если в одном гнезде такие разные птенцы — кречет и склизкий гриф? Да и они с Орду тоже... как не родные, настолько разные.
— Откуда эти горы костей, нельзя было зарыть? Или думаете — такое прибавляет властям почтения? — вернулся Бату из дум.
Сопровождавший их «белоголовый» (из заблаговременно переметнувшихся на сторону Чингиса предателей) слегка растерялся. О чём можно говорить с царевичами? За что голову сорвут, поди сообрази.
— Твой великодушный дед, заботясь о благополучии и процветании вверенной ему Аллахом земли, решительно искоренял семена непокорности и побеги строптивости, дабы воссиял... — стал плести мусульманин обычную их сартаульскую вязь, надеясь, что внимание царевича уплывёт в менее вредную гавань.
— Уже воссиял, — перебил его Бату, — говори по делу. Оставь пустословье для базара.
— О, Аллах...
— Ваш Магомет говорил, что ни один волос не упадёт с головы без воли Его. Чего тогда боишься? Что ни сделаю с тобой — на всё воля Аллаха. Так переложи груз нерешительности на верблюда отваги и смело иди по пути истины.
— Что я слышу?! О юный цветок на железном древе Потрясателя Вселенной, ты искушён в Священной Книге не хуже любого улема[26]. Да благословит Аллах потомство...
— А ты не искушён в высокой науке лести, — покровительственно улыбнулся Бату. — Кто, о целости глупой головы помышляя, называет «юным цветком» крепкого молодого джигита? Кто восхваляет ваш Коран в ущерб Великой Ясе... эх, был бы на моём месте, скажем, мой любимый дружок Гуюк, уж тот бы тебе показал «железное древо» по спине. — Взглянув на побелевшего проводника, Бату спохватился: «Как приятно мучить беззащитного, да? Как сладко. В том великая доблесть, да? Чем же мы тогда лучше этих трусливых овец?» И он снова, как всегда в подобных случаях, вспомнил Маркуза.
— Рассказывай мне так, будто шепчешься недовольно с другом в караван-сарае. Слово будущего хана — тебе ничего не будет. Орду! — окликнул он податливого брата. — Не пускай пастись свои уши, не стреножив язык. Мы с Ибрагимом прогуляемся вперёд. Трогай.
Они рывком обогнали остальных, не доезжая разве что до затерявшихся в каменистой дали передовых алгинчи.
— Теперь говори. В улигерах поют: «Не отличишь от клятвы монгольское «да». А я тебе ещё и ханским будущим своим поклялся, чего же ещё? — он уже видел: не тот человек, бесполезно с ним так.
— О, ты будешь великим ханом, тайджи, великим и справедливым, — с большей искренностью, чем раньше, выдохнул Ибрагим.
— Будешь тут справедливым, когда вокруг одни трусы и льстецы. Говори про кости, я не забыл, — скривился царевич.
— В Отраре и Дженде перебили защитников, — чужим, надтреснутым голосом, как голову под топор положив, начал Ибрагим. — В первый день мёртвые прячут смерть в себе. Через несколько дней шайтан говорит мертвецам: «Убивайте живых». После взятия Отрара воины хана сделали большой костёр. Огонь отправил в Страну Блаженства отважные души их соплеменников... Но люди хана спешили. Всех уцелевших от резни... — он смешался, перепугался, — то есть, то есть...
— От справедливого гнева Величайшего, — усмехаясь, подсказал Бату.
— Золото твои слова, истинно так, от справедливого гнева. Их погнали... то есть, то есть...
— Удостоили великой чести, — помог царевич.
— Истинно, — на сей раз скомкал велеречивость Ибрагим, — их удостоили великой чести служить в хашаре и способствовать скорейшей победе Сияющего Покоя над чёрной пропастью...
— Да будешь ты говорить по-человечески, или нет? — взорвался Бату.
В Ибрагиме что-то переломилось:
— Их погнали в Бухару, чтобы они шли впереди ваших войск. Когда оттуда вернулись, в Отрар невозможно было войти — дух смерти отравлял живых. Но, слава Аллаху, сюда сбежались все окрестные гиены, шакалы и грифы. Как легион чёрных ангелов, летали грифы над руинами, и небо померкло, как перед самумом[27]. Говорили, что они въедались в тела и подыхали там, отравленные... но прибегали другие... Ваш дарагучи[28] приказал вернувшимся из хашара, чтобы они убрали трупы. Дехкане жили в палатках рядом и ждали, потом стали понемногу выносить обглоданные кости. Их складывали недалеко от стены — там, где ты видел их, царевич.
— Так много?
— О да, велик был гнев твоего деда, — вздохнул Ибрагим, как вздыхает мудрый старик, рассказывая юнцу тяжёлую правду о жизни.
Бату и не заметил, как перестал чувствовать превосходство. Наверное на его лице отразились какие-то душевные мучения, потому что Ибрагим быстро и сострадательно — забыв о собственных страхах — заговорил:
— Но по окрестным кишлакам прошёл слух, что здесь — общая могила погибших, — дехкане свозили их сюда. Знаешь — никому не хочется возиться самому. Это не только в городе столько... это вообще... Когда ваш враг Хорезм-шах Мухаммед усмирял Самарканд, убитых было больше... много больше, но их похоронили заблаговременно. Ведь уцелевших не забирали в хашар — было кому хоронить.
— Ну ладно, это я понял, — проникнувшись непонятной сыновней благодарностью пролепетал Бату. Ещё недавно он был таким надменным, и вот... много ли надо? — Но почему их потом не зарыли... пусть и кости...
— Проезжал хан Джагатай и сказал: «Пирамиды из костей, это хорошо, это красиво. Пусть усладится взор нашего Великого Джихангира и Кагана. Готовьтесь к счастью — скоро он будет здесь... Оставьте всё как есть... в назидание бунтовщикам, не спрятавшим мечи...»
«Умно, — успокаивая предательскую дрожь и ненавидя себя за неё, попытался Бату сделать свои мысли более трезвыми. — У Мухаммеда было войско — втрое больше нашего... Но он, баран недоколотый, распихал его по городам. Но это половина удачи. Джелаль-эд-Дин не ему чета: смел, решителен, жесток. А ну как поднимет местных на восстание... одним своим именем, одним лишь слухом о победах. Едем-едем, сколько вокруг людей! Как только живут в такой тесноте, будто войлок примятый? Не будут нас бояться — перережут в домах. Что сделал бы я на месте деда Темуджина? Не слишком бы грыз дехкан, чтобы ярмо не шее не стало болью в животе... А с другого конца этой палки — пусть боятся. Для этого башни из костей — самое подходящее, умно». Хоть и сделал царевич такой вывод, но после рассказа Ибрагима всё равно было слегка не по себе...
Подумав о Джелаль-эд-Дине, он снова вспомнил друга Мутугана... Захотелось именно ему рассказать о том, что думается. Тот бы его понял. Какие всё-таки разные Мутуган и Бури, опять подумал он. Разбитый дедом Мухаммед-шах — плешивый хвост дрянной собаки — тоже как будто и не отец вёрткому, отважному Джелаль-эд-Дину.
«Почему же кругом гордятся своими обохами, если в одном гнезде — кречет и склизкий гриф?»
Бату усмехнулся: ему всё время, всю жизнь хочется доказывать себе и другим, что дело не в родстве. Всё сравнивает отца с сыном, брата с братом... И ему приятно, когда они не похожи.
Мысли о годах заточения нахлынули как темнота перед самумом и рассыпались. И опять над ним кешиктеном[29] в начищенном хуяге[30] возвышалось сартаульское солнце. Бату отогнал больное прошлое и снова вернулся к здоровому настоящему... к телам вдоль дороги. Ближе к Самарканду их количество редело, потом они и вовсе исчезли.
— Ибрагим, ты так меня очаровал рассказом про взятие Отрара. Поведай же и про этих несчастных.
— Это мастера из городов, проявивших строптивость перед строгой судьбой, — отозвался мусульманин, — их вели на службу более достойным господам издалека, из-под Биалмина и Балха. Многих же Аллах не наделил терпением и волей, и они падают... — Ибрагим, кажется, уже придумал нужный тон. — Для таких случаев добрый купец заблаговременно запасается пустыми телегами. Ведь выгоднее довести раба до караван-сарая, где он сможет перевести свой загнанный дух, чем убивать его в пути... На стоянках же — если Азраилу будет угодно принять человека в своё лоно — есть и усыпальница. Твой великий дед строго приказал соблюдать это древнее правило, да оценит Всевышний его милосердие.
— Усыпальницей ты называешь яму? — усмехнулся Бату. — Похвально, но откуда тогда эти тела по обочинам?
— Беспутные джэтэ[31] нападают на караваны, чтобы отбить единоверцев. Завидев опасность, ваши воины вынуждены убивать пленных... Кроме того... из-за этих стычек всегда много раненых из охраны и погонщиков. Тогда...
— Ага, уже понятнее, — догадался Бату. «Выкрутился, скользкий. Виноваты не монголы — виноваты джэтэ, учится понемногу». — Тогда из телег выкидывают ослабевших оружейников и шорников — умирать под жестоким глазом Мизира[32], а на их место кладут раненых монголов.
— Ты догадлив, царевич. Не губи меня за эту правду. Но, о драгоценнейший алмаз на шапке кагана, кто такой Мизир?
— Бог, карающий за предательство и награждающий тех, кто воюет за справедливость. Солнце — раскрытый глаз Мизира. — Тайджи одарил собеседника своей обычной вялой насмешкой, прищурился. — Ваш Аллах не любит справедливого Мизира, поэтому ложь пустила глубокие корни в здешних пустынях. — Бату перевёл дух и добавил строже, вещая как перед нухурами[33]: — Сияющий глаз Мизира почему-то особенно пристально взирает на земли сартаулов. Не греет вас, а сжигает до песка и камней. Не лгите на каждом шагу друг ДРУГУ, и пустыня уйдёт в другие, менее достойные края. — Он и сам залюбовался своим назиданием. — А вот нас, монголов, справедливый Мизир не жарит на огне, а ласково и заботливо греет. О чём это говорит? Не знаешь, Ибрагим?
Тот не ответил, он еле держался в седле, сказывалось напряжение этого опасного разговора... Поэтому про женщин со вспоротыми животами Бату спрашивать не стал — пожалел старика.
— Ладно уж, я чту Мизира и не обманываю доверившихся. Поэтому никому не скажу про наших добрых погонщиков,— закончил Бату пытку дознания. — Разворачивайся — и поехали к остальным.
В Бухаре им поставили юрты прямо в одной из тех диковинных рощ, которые сартаулы сажают сами — никто из монголов не хотел даже на ночь хоронить себя в глиняных домах. Мизир обделил бухарцев настоящими лесами, такими как в предгорьях Онона — вот и мучаются.
Абрикосовые деревья в панике раскачивали ветвями, с которых спутники Бату мигом сдёрнули без остатка пушистые плоды. Мясо для гостей приготовили необычным способом... но получилось, пожалуй, вкуснее, чем так, как Бату привык. Местный баурчи[34] назвал это блюдо кебабом.
Бату уплетал за обе щёки, не очень-то заботясь о солидности — сколько лет он мечтал о том времени, когда будет так легко и ненасытно набивать измученный упражнениями живот. Но всё же юноша ухитрился заметить: здешние плавные люди боялись их как-то странно — с оттенком искреннего презрения, которое не очень пытались скрыть.
Это его смутно беспокоило, потому что было необъяснимым. Ведь они, монголы, — победители... Эти толпы слизняков трепещут, когда, вздыбив белую пыль, по узким улочкам проносятся монгольские отряды. Может быть — не боятся? Да нет — боятся. Он как-то подтащил одного такого к себе за ухо... чего только с ним не вытворял: топтал его халат, совал пальцы в рот, разве что на него не мочился... Тот извивался как наложница, но терпел... В застывших глазах был страх (это понятно), вязко перемешанный... Вдруг, вздрогнув, понял Бату — перемешанный с такой же брезгливостью, какую испытывал к своей жертве царевич.
И юноша растерялся... Ведь за подобострастным «вилянием хвоста» скрывалось не объяснимое разумом... превосходство. «В чём? Как? Кто я и кто они? Побеждённые. И умереть достойно не могут. Даже друг друга грызут как псы на травле под нашей плетью, когда их посылают в хашаре на взятие своих же городов».
Бату не был злым человеком и от мучений наслаждения не чувствовал. (Вот Гуюк... у того просто как мутным жиром глаза затягивались, так любил это дело.) Он же просто хотел понять. Решил для себя: если вызову, наконец, гнев этого сартаульского отродья, если разбужу в нём достоинство, заставлю сверкнуть его глаза — отпущу и оделю наградой. Наверняка это существо в полосатом халате может изобразить и гнев (если ему это приказать), но по сути это будет та же замысловатая брезгливая покорность, не более того.
А Бату хотел искренности и понимания. Однако он вдруг осознал, что бессилен. Ему не достучаться до этих диковинных существ. Их можно гонять в хашар, можно крутить их слабые, не привыкшие к саблям руки, прячущиеся в халатах, даже убить совсем нетрудно, как слизняка... разве что неприятно. Но что-то было ещё. Что-то ЕЩЁ. Они не признавали его и всех его людей за равных. Выше себя мнили. Почему? «Мы их мордой в блевотину — а они нас всё равно не уважают», — удивлялся он.
Это противоречило главному из того, чему их учили. Это противоречило сказаниям о ВСЕСИЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТРАХА.
«Тьфу, Пресвятой Аллах», — перемешав известные ему верования, опешил Бату, на которого вдруг камнепадом обрушился непонятный страх — как перед злыми колдунами... Ему показалось что этот кусок дрожащего мяса видит его насквозь. «Мы у них на виду... а они непонятны... К тому же их много... Ударят вдруг — не поймём и откуда».
Отпустив покрасневший нос жертвы, он устало промямлил:
— Иди...
Как всегда, хотел преподать урок, но урок преподали ему самому. Показалось, что все окружающие монголы смеются над ним, над его проигрышем... Но Бату не был гордецом, нет. Да они и не смеялись, они пребывали в своей надменной беспечности.
«Так всё-таки МЫ покорили сартаулов, или ОНИ ПОКОРИЛИСЬ по своему хотению, нас и не спрашивая».
Бату думал об этом, считая, что ему, как будущему правителю, очень важно понять всё это. Ведь и для дальней меткой стрельбы нужны стрелы-годоли? А если их нет?
Скользя между расстеленными на траве скатертями, к нему приближался человек. Каким-то странным образом Бату знал, что тот стремится, как судьба, именно к нему — он любил такие состояния мгновения, когда чувствовал, что его догадка верна. Это были мгновения соприкосновения с Законами Неба.
Рыжие волосы незнакомца напоминали о цвете рода Борджигинов, вспомнились также восторженные жители Уйгурии. Бату, как и отец, не удостоился богоподобной меди на голове. Однако лицо пришедшего было совсем не монгольским. Подстриженная борода, которая редко встречается у татар (а на лицах монголов — более частый гость), не делала его знакомым — лицо было совсем другое, диковинное. Это было одно из тех лиц, которые в Китае высокомерно называют «обезьяньими» — одно из лиц «вечерних стран»[35].
Бату пока не был ханом, и из-за своего возраста мало ещё привык к почтению, однако местные сартаулы буквально стелились перед ним ниц, словно пытаясь снять сопревшие в дороге гутулы. Но этот человек слегка согнулся в поясе и протянул юноше кожаную трубку, запечатанную воском с обеих сторон.
— Мутуган наказал, чтобы я передал это лишь в твои руки, тайджи...
— Мутуган?! — Коленки Бату радостно задрожали... — Я не ждал от него послания, но и табун туркменских иноходцев не обрадовал бы меня больше. Тайджи Мутуган мой анда, вторая оглобля в повозке. Чем неё тебя наградить, чужеземец?
— Об этом поговорим после, царевич, — твёрдо и несколько более независимо, чем требовал обычай, произнёс «дальняя стрела». — Мутуган передал на словах, чтобы ты прочёл это сразу, немедленно, прежде чем отпустишь меня.
Бату всмотрелся в бородатое лицо. Посланец был молод (хоть и явно старше голощёкого Бату), но зелёные, какие-то тусклые глаза его старили. Не делали зрелым, как бывает при опыте не по годам, а именно старили.
Юноша извлёк из трубки свиток, с нетерпением развернул и погрузился в уйгурскую вязь. Читать и писать царевичей учили грамотеи из Уйгурии в той же проклятой «учёной яме» — хоть в чём-то польза от мучений. Мутуган был в послании, как всегда, весел. Его румяные щёки с ямочками будто виделись и сквозь строчки.
«...был свидетелем небывалого. Джелаль-эд-Дин, пусть и с троекратным преимуществом, разбил нашего удальца Шихи-Хутага. Так твой друг Мутуган увидел алмаз, затерянный в чёрной толще однообразного камня. Ибо бесценному по редкости алмазу можно уподобить битву, проигранную нашим вечно непобедимым войском. Я не строил из себя багатура и сабелькой особо не махал. Отвратительно рисковать головой, когда многие за её сохранность отвечают такими же бесполезными приростками к туловищу, только своими. В тот день позавидовал их доле: простые нухуры могут распоряжаться временем смерти. Воистину у нас, чингисидов, отняли самое важное, не спросив и желания. Сартаульский Сулейман сказал: «Миг смерти лучше мига рождения, как живой пёс лучше мёртвого льва».
Однако хан Темуджин предпочитает псов даже львам живым — даром что он любит делать мёртвыми вторых для размножения первых, испуганную преданность ценит выше львиного самоуправства. Вот что я подумал тогда: можно ли совместить львиный ум и слепую верность пса? Это я и сказал великому деду. (Мы встретились. Да, удостоился).
«Ты управляешь при помощи страха, — сказал я ему ещё, — страх плодит своё подобие — трусов. Как же в такой отаре вырастут «гордые повелители народов»?» Я был зол, потому что кешиктены казнили десять моих людей, отступивших без повеления, но там не слышно приказаний. Каков же был их выбор? Лёгкая гибель от своих взамен тяжёлой — от чужих? В таком случае правы бежавшие самовольно... Джелаль-эд-Дин аккуратно снял с наших пленных псов (тех, кто не бежал) их живые непришитые шкуры, чтобы некого было сравнивать с ним — со львом, уже наполовину мёртвым. Я их видел потом, ещё шевелившихся, я приказал их добить, брезгливо отвернувшись, за что мне стыдно. Они умирали очень старыми — эти юноши, — но кричали о матери, а не о хане.
Но Темуджина разве поймёшь — он рассмеялся и даже похвалил меня за дерзость: «Как ни пугай — тигра не запугаешь, как ни хвали шакала — в тигра не превратишь. Пуганые шакалы способны гнать даже чужого льва. Или хочешь, чтобы сильные рвали друг друга, а слабые грызли их тела? Этого хочешь, Мутуган? Так и было в землях шаха Мухаммеда до нашего прихода».
Написанное послание было более кратким, но Бату видел не потускневшие строчки на пергаменте — перед ним стоял его друг и рассказывал, всё как при встрече... Бату отчётливо видел, с каким выражением воображаемый Мутуган произносит ту фразу или другую. Иногда демонстрирует что-то вроде растерянности мелкого плута, которого поймали на краже лепёшки, как у того глаза бегают, а потом вдруг лицо друга становиться жёстким и страдающим.
Эх, анда, анда... За каждого своего нухура снимет с себя последнее — он такой. Сам, наверное, подбирал, учил, радовался как ребёнок успехам любого агтачи[36] и тележника... И вот целый десяток... между делом... р-раз... и задавили тетивой, каково ему было...
Ходил, наверное, хоронить... зубами скрипел, долго утопал глазами в погребальном огне (или зарыли как преступников?), слёзы ярости сушил... А тут на тебе: «Непуганые шакалы грызут своих, пуганые — чужих». Как он, наверное, любил в этот момент их мудрого дедушку.
«...Великий говорит: «Дурное липнет само, а мудрое, подобно огню, не удержишь». «Учёная яма» — вещь вполне прилипчивая и на огонь мало похожая, тебе ли не согласиться? Хан Темуджин расспрашивал меня о нашем тамошнем житье-бытье. «Полезно ли было? Как наставники?» Я же, памятуя, что «мудрое не удержишь», ничего ему не сказал. Так что пусть уж всё останется там у ребят как есть — добро, что не хуже».
Далее шли шуточные юролы общим друзьям, пожелание непутёвому Орду, чтобы тот почаще «ходил вниз ногами»... и далее в том же духе.
Забыв о ждущем в сторонке человеке, Бату держал Мутуганово послание в руках и как бы рядом с другом стоял. Они были вместе, а значит, — весёлыми и сильными. Те трудности, которые ожидали Бату на Иртыше, казались теперь азартной игрой под ясным солнышком. Но время настало — он вернулся из грёз в шумный абрикосовый сад, где его нухуры пьяными голосами выводили разухабистые песни и издевались над перепуганными магометанами.
— Как тебя зовут, добрый вестник? Здоровы ли твои родители? Что желаешь в награду, — вполне искренне стал задавать ритуальные вопросы царевич.
— Меня зовут Боэмунд, я из города Безье, это очень далеко. Родители мои не больны, спасибо, ибо освобождение из сетей телесных — наилучшее из лекарств. В награду желаю присоединиться к ним быстрее, — ответил гонец.
— Что у тебя за горе, Бамут, я не знаю. Чем могу, помогу, — растерялся Бату, — но за добрую весть не помогают встрече с родными, ушедшими в Страну Духов.
— Ты наверняка мне поможешь по вашему обычаю, благородный тайджи. Ведь я принёс тебе не радостную, а чёрную весть.
Предчувствие ожгло Бату бичом:
— Говори!
— Твой анда Мутуган, послание которого ты читал сейчас, погиб при взятии крепости Балтан. Он сказал мне до того: «Если что со мной случится, пусть мой анда, читая послание, видит меня живым», — посланец промедлил мгновение, — а на следующий день его убили...
— Да, — прошептал царевич, ещё не осознавая до конца смысла этого известия, — значит... всё-таки... мигом смерти распорядилась судьба, а не хан. Он хотел такого...
— Стрела, пущенная ручной баллистой[37] издалека, — добавил Боэмунд, — при таком не наказывают телохранителей. За что? Он мечтал погибнуть именно так: чтобы никого не наказали.
— Ты думаешь, он мечтал о погибели? — Просто чтобы что-то сказать, не молчать... Шевелиться не хотелось, вообще ничего не хотелось. «Один, навсегда один».
Из далёкого мира еле слышно долетали бессмысленные слова:
— Прости, тайджи. Порою собственные желания выдаёшь за чаяния других. Я не говорил о нём. Это я о себе, ничтожном. Исполни же положенное по обычаю, пошли меня в Страну Духов за чёрную весть.
Что-то было в интонации «дальней стрелы», заставившее серую муть развеяться. Деревья и суетящиеся у расстеленных войлоков силуэты стали чётче... Бату прислушался:
— Займись же моей судьбой, и ты отвлечёшься от своей утраты. Она ещё настигнет тебя, поверь. Она пошлёт не одну и не две красные стрелы в твоё незащищённое горло. Не беги навстречу тому, что и так от тебя не уйдёт.
— Мутуган бы не стал убивать вестника, — вздохнул Бату. — Такое делают иногда... но мы не джурджени[38], не слуги Хорезм-шаха, чтобы ломать хребты посланцам. Я хочу верить — эта обильная кровь проливалась и за то, чтобы не казнили людей за чужую вину, как это водилось у сартаулов.
— Кровь всегда проливается просто потому, что её освободили из заточения в теле. Ты добрый человек, Бату-тайджи. Но поверь — не всякий, сохраняющий никчёмную жизнь, добр...
— Я ни разу не слышал, чтобы крепкий, полный сил багатур просил его казнить, что у тебя за горе? — Царевич заинтересовался.
— Горя нет — счастье. Теперь никакие цепи не держат меня здесь. Мой весёлый город Безье, где я бегал ребёнком, пал жертвой Божьего гнева, подобно Иерихону. За альбигойскую ересь католики вырезали всех его жителей, говоря: «Убивайте всех, Господь разберёт своих». Так я избавился от первой приманки дьявола, имя которой — родная земля, и Божественный Свет стал ярче для меня. Потом, под стенами Акры, я натягивал арбалеты бестрепетным слугам Гроба Господня: меня не удостоили высокой чести резать нечестивых самолично.
— Постой-постой? Слугам гроба? У вас там правят не люди, а гробы, что ли? — почти забыл про Мутугана царевич.
— Именно так. У нас там мёртвые мученики правят живыми грешниками. Но нечестивые натягивали арканы лучше, чем я натягивал арбалеты. На таком вот аркане меня и притащили сюда, в Бухару. Через длинный мир, который суть — чёрные горы и чёрные пески. На стоянках каравана, утоляя голод баландой, чувствуя соль на трещинах губ, я увидел его таким, каким и должно видеть по Священному Писанию. Я узрел этот мир правильно — «юдолью горя и слёз». Так я избавился от второй приманки дьявола, имя которой — свобода.
В глазах Бамута плясали злые искры, но речь его лилась ровно, как воды летней Селенги. Что-то было в его взгляде знакомое. Так же смотрел и его воспитатель Маркуз. Такое же тягучее болото. Но Бату всё же ощутил тёплый прилив благодарности, захотелось взять посланца за рукав. Этот странный человек, плетущий что-то о гробах (?!!), уводил его мысли от Мутугана.
— Раньше, до Аллаха, бедуины Святой Земли верили, что в мире столько богов, сколько звёзд на небе. Боги поселились в глазах хозяйской дочери, похожих на бедуинские звёзды, согревавшие меня в пустыне Хиджаса. — «Дальняя стрела» вдруг улыбнулся. — Но что купцам до звёзд? Мой хозяин увидел только взгляд, и новый евнух попал в приданое к своей юной госпоже. Так я избавился от третьей приманки дьявола, имя которой — любовь. И Божественный Свет стал нестерпим, как пустынное солнце в полдень. Чего же ты ждёшь, тайджи? Будь же последней причиной моего освобождения.
— Значит, ты... — Бату подумал, что зря об это так нарочито споткнулся, ведь унизил.
— Да, тайджи, я — жалкий скопец, я больше не мужчина. — Глаза Боэмунда вдруг резко погасли, и сам он весь сжался.
— Ты мудр, Бамут, но не для себя, — отрезал царевич, — мужчина познаётся в свисте стрел и разговоре барабанов, а за плодовитость ценят племенного быка... — Бату вдруг осёкся и поёжился, представив это на себе. Растерявшись, он перевёл разговор на то, что было легче для Боэмунда и тяжелее для него самого. — Как ты попал к Мутугану? — Ему не нужно было об этом спрашивать, потому что заговорённое слово тут же отдалось в сердце свежей болью.
— Служители Святого Креста все ждали: по мусульманам с Востока ударит некий царь Давид, ведущий свой род от древних волхвов, — благодарно отозвался Боэмунд, — а ударили вы, монголы. Однако ваши воины-христиане всё же освобождали из рабства единоверцев... которыми они почему-то считали нас, католиков, а не ромеев[39]. Тех — оставляли рабами.
— Среди монголов нет христиан. Тебя спасли кераиты или найманы[40], покорённые дедом за несколько лет до моего рождения. Их очень много в передовых туменах[41], — пояснил Бату. — Что до ромеев, а по нашему — мелькитов[42], так и мне кое-что известно. Даром, что матушка моего брата Орду самая что ни на есть христианка. Наши волхвы Мессии говорили: много сотен трав назад их главного прорицателя Нестория эти самые мелькиты прокляли на... — Бату наморщился, припоминая нужное слово, — сабо... соборе, что-то вроде курилтая.
С тех пор они друг друга ненавидят. Как мы, монголы, не выносим татар, например. И всё-таки чудно у вас, в Вечерних странах. Мёртвые гробы вместо живых господ... Да ещё собираете целый лес народа, чтобы кого-то там проклинать. Не понимаю.
— Я тоже, — снисходительно улыбнулся Бамут. — Ты знаешь многое, Бату-тайджи. Глупы наши соотечественники, считающие монголов варварами, вот и Мутуган...
— Знания бывают разные. Да, нас учили покорённые... Но Великий Чингис так и не умеет читать говорящую бумагу, ну и что? Грамотеи тоже лижут копыта монгольских коней — не помогла и грамота. «Варвары» — так вы называете всех, кто вам непонятен, — менее спокойно, чем хотел бы, отозвался царевич, помолчал и вернулся к старому: — Но как же ты всё-таки попал к Мутугану?
— Всё из-за «стрел и разговора барабанов», которые делают мужчину мужчиной, а не племенным быком, — Боэмунд улыбнулся покровительственно, — так мне твой друг Мутуган и сказал при встрече — вы правда очень похожи.
Это было здесь, в Бухаре. В тот знаменитый день, когда, вплетая пурпур в узоры на домах, ваши багатуры рыскали по сдавшемуся городу. Я ненавидел хозяина-купца, сделавшего меня уродом, но виноваты ли его малолетние отпрыски? Освобождённый вашими несторианами — их сотник сунул мне деревянную пайдзу, — я побежал спасать младших детей моего истязателя. По дороге какой-то ловкач вырвал заветную деревяшку из моих дырявых рук. В тот день из-за них просто грызлись. Ещё бы, ведь владелец такого знака оставался дышать! Но до своей-то жизни мне и дела не было, а передать пайдзу детям... очень я себя ругал за неуклюжесть, ну да ничего...
Ещё в Безье меня обучили разным хитростям, поэтому даже без оружия (и без пайдзы) я какое-то время не пускал ваших упрямых храбрецов к малышам. Потом до них таки добрались и вскинули на копья. Ведь в том богатом доме высокие потолки — есть куда поднимать.
Уворачиваясь, я выбежал из дома во двор, и тут мы встретились...
Его нухуры не верили, что я сподобился избежать их сабель, все щупали восхищённо, как юнцы. Так или иначе, но защитник из меня не вышел... И вот тогда я вдруг подумал о мести...
Услышав мою историю, Мутуган — он единственный из всех хорошо понимал по-тюркски, — удивлённо присвистнул и тут же приказал притащить на верёвочке незадачливого купца. Потом он дал мне в руки хозяйский ножик — лекарский такой, называется ал-мибда. Как раз для таких случаев, а ещё им кожу с живых снимать хорошо. Но я держал «орудие возмездия» со страхом, как змею.
«Мы пришли, чтобы искоренить таких вот тварей. Она твоя», — приободрил Мутуган, указав на купца. Он старался больше для своих, чем для меня (ведь каждый хочет резать по-доброму, да?) Меж тем мой достойный хозяин уподобился голосом нечистому животному, с которым так любил меня сравнивать. Он, кажется, понял, зачем мне дали ножик. — Боэмунд вскинул вновь повеселевшие глаза: слушают ли его?
Бату, плеснув себе в чашу вина, не пил, слушал.
— Легко ли объяснить, почему ты не хочешь мстить? — вздохнул посланец. — Я сказал тогда неправду, но Мутуган её принял. Я сказал: «Это ваша месть моими руками, спасибо, но мне нужна моя».
И тогда твой друг в первый раз меня удивил: «Отпустите эту мразь и дайте ей охранную пайдзу. Эй, купец, «внимание и повиновение». Тебе запрещено уезжать из города — будешь в прислуге у баурчи. Я не хочу забирать у этого человека его врага. Он ещё вернётся сюда. А ты... — обернулся он ко мне, — останешься со мной. Обучишь моих людей уклоняться от сабель так». И тут он как раз сказал эти слова... про «племенного быка» и «разговор барабанов». Но меня волновал не купец, нет...
— Та девушка с глазами-богами, да? — догадался Бату.
— Как ни странно, нашлась. У неё убили мужа, того самого, к кому я попал в дополнение к коврам. Бедняку погнали в хашар на стены Самарканда и вот... «какая ужасная развязка», как говорят в здешних сказках.
— И что?
— Некий десятник-найман возил мой ядовитый цветок наложницей в повозке, но Мутуган выкупил её для меня. Он хотел помочь, понимаю. После этого она стала кататься уже в нашем обозе, только и всего.
— Счастье иметь такого господина, как Мутуган, — несколько невпопад вставился Бату, история его всё-таки взволновала.
— Серая Жаба непреодолимого отчаяния неотлучно лежала между этой молодой женщиной и мной — наши встречи были тяжелы. А после гибели твоего анды и защищать нас стало некому. К тому же его последнее письмо обязывало меня спешить в Бухару... к тебе, тайджи. Но я всё медлил. Я думал: куда же денут её?
— А она?
— На юге, за горами Гиндукуша, было противно. Разъезды ловили душный воздух — не врагов. Оказывается, даже ваши вышколенные воины умеют роптать, но тихо. Прорицатели понимали — баранами не отделаешься. И тогда эти мудрецы решили гадать на женских внутренностях самых красивых рабынь... — Боэмунд как будто бы вдруг задержал дыхание. — Да, Бату-тайджи, мы подчиняемся гробам, но наш Бог не требует от католиков вспарывать дышащие животы, чтобы узнать Его волю. И вот я — в толпе, она — на земле. Мы опять смотрели друг другу в глаза, как тогда, в первый раз, и Серой Жабы не было между нами. Кто из нас двоих укреплял чей дух в этот жаркий день? Я не знаю. — Боэмунд опустил голову и глухо закончил: — А потом... потом жертвенный нож коснулся её кожи, и она с тех пор кричит. Я закрываю глаза... и она кричит.
Боэмунд. 1256 год
Так мы встретились с Бату впервые.
А потом он стал повелителем — из тех, кого не предают.
И другом — из тех, кого не бросают.
На долгие годы, «на долгие травы», — как говорят монголы.
Несколько лет назад я предал повелителя своим безмолвным бегством, а значит, бросил и друга. Поэтому обширная яма в Кечи-Сарае, где на глубине непривычная сырость — mea culpa. Если бы я тогда не сбежал, всё могло сложиться иначе.
Но что я мог поделать, скребущая боль гнала меня отсюда прочь. Теперь же она обернулась тоской и — не утихая в скитаниях по Европе — привела, как за загривок, обратно... уже к яме.
Однако сейчас я думал не о запоздалом возвращении, нет. Я вспоминал наш последний разговор, столь похожий и не похожий на первый.
До того мига моя непутёвая жизнь была всецело посвящена делам «венценосного» друга, никогда не носившего венца. Знаком власти был скромный ханский пояс. Такой же скромный, как у его великого деда Чингиса, не имевшего под конец своей жизни ничего за душой, кроме доброго куска Вселенной.
Ничего, даже друзей.
Бату повезло больше: у него был я. Был... до того мига, когда ушёл.
Оставив вместо себя в утешение некоторую часть Вселенной.
Пока бегали от аккуратных глянцевых ворот уведомлять хозяина, я небрежно осматривал лазоревые блестящие кирпичи роскошных хором. Разжился, чего уж там. Никак не вязался Даритай с пошлой роскошью — как подгоревшее мясо с лукумом.
Меня пригласили в дом с лихорадочной поспешностью, сменив равнодушные маски лиц на неуклюжую подобострастность (всё-таки видно было, что изображать любезность — очень непривычно для этих людей). Похоже, Даритай, верный себе, и среди слуг не держал лизоблюдов.
Да и слуги ли это? У Даритая и домашняя кошка — воин. Мне вдруг стало смешно, а значит, я оттаивал. В конце концов поймал себя на мысли о том, что... оказывается, соскучился по Даритаю.
В долгополом, с блестками, халате вышел навстречу сам. Его улыбку портили «съеденные», мелкие, как у крысы, зубы. Если бы не это — моего давнего соратника можно было даже считать красивым. Но не по-здешнему. Всё-таки он — коренной монгол... в изначальном значении этого слова. Такие люди сегодня и здесь — большая редкость.
По нашему с ним давнему полушутливому обычаю, Хозяин протянул руку, пожал. Я чуть ли не взвыл от чудовищной хватки Даритая, но всё-таки успел подумать: «Ага, не сдержался, надавил... значит — тоже рад мне». Как и я, своё искусство уклоняться от мечей, эти вселомающие лапищи Даритай натрудил не на войне, просто в юности он мял кожи. По крайней мере так Даритай оправдывался при знакомстве.
Если умеешь больше, чем другие, всегда почему-то нужно оправдываться.
Рукопожатию — этому знаку доверительности Вечерних стран — тут, в Кечи-Сарае, почти никто так не здоровался, — я научил его давно, пятнадцать лет назад. Ещё во время наших похождений в Венгрии.
...Эх, Венгрия... смешно вспомнить. Посланный впереди монгольских туменов, я всё думал: как рассорить тамошнего короля Белу с половецким ханом Котяном. Но глупость врага скакала впереди нашего хитроумия. Котян был зарезан венгерскими магнатами без нашего участия. Кажется, Бату так и не поверил мне тогда, думал — скромничаю: «Сознайся, Бамут, это всё-таки ты подстроил...» А я всё мялся, как девица.
Джихангир всегда недооценивал чужую недальновидность.
Боэмунд и Даритай. Кечи-Сарай. 1256 год
Руку-то Даритай сдавил, а лицо оставалось настороженным.
— Зачем ты пришёл, Бамут? Укрыться? Знаю, тебя ищут, но и здесь стало кисло. Даже я, — он нажал на это «я», — не смогу тебе помочь. Сижу вот, как кошка под кибиткой в окружении псов...
— И что?.. — Боэмунд усмехнулся... О делах вместо приветствия, в этом весь Даритай.
— А они просто слишком крупны, чтобы под кибитку залезть, и слишком горды. Неладную ты нашёл защиту, анда. Пошли скорее в дом, а ночью я тебя выведу. Ну, — он вдруг запоздало выдохнул и улыбнулся, — рад, рад тебя видеть...
— Я не ищу защиты... разве такое бывало? Напротив, принёс её тебе на ужин, держи... очень вкусно.
И я протянул хозяину блёклую золотую пайдзу с изображением барса. Такую, от которой и духи в здешних местах шарахаются.
— Защита Берке?! Это дал тебе — он?! Нет, всё-таки ты умеешь колдовать. Но почему?
— Ему нужно знать — кто убийца!
— Кого? — насупился Даритай.
— Сам знаешь кого, — резко прервал я вкрадчивым сухим голосом, таким, каким с нами беседует смерть и судьба. — Ты приглашаешь меня в дом или мы так и будем тут переругиваться?..
Даритай всегда отличался кошачьей цепкостью ума...
— Значит... значит, всё-таки...
— Да, да. Это не он.
Уже понимая, что вопрос глупый, Даритай всё-таки не смог удержать свои тонкие губы:
— Ты уверен?
Я даже не ответил, глупо было бы.
Дальнейшая беседа продолжалась уже в доме.
Даритай прихлёбывал привезённое Боэмундом вино с английских виноградников (безвозвратно вымершее столетье спустя, не выдержав противостояния с французским), похваливал то, что пил, и морщился от собственных рассказов. Сегодня он позволил себе сбивчивость. Боэмунд сочувственно кивал, хмурился.
— Я внедрил в ближний круг тургаудов Берке своего соглядатая, необычного: он из Переяславля. Во времена Неврюева погрома коназ Искандер[43], прозванный Невским, вырвал ему язык, а ты знаешь, как любит Верке безъязыких. Вот и взял, беспечный, в тургауды. Впрочем, кто их не любит — безъязыких? Говорил при нём свободно, а зря, — Даритай лукаво улыбнулся, показав мелкие зубы, — память этого человека держит слова, как палка вырезанный ножом узор, а к тому же — он умеет писать. Вот посмотри, какой разговор он мне записал.
Даритай извлёк жёсткий пергамент, расстелил поверх роскошного дастархана:
— Вот что сказал Берке Повелителю перед тем, как тот умер. Записав такое, мог ли я сомневаться, кто виновен в его смерти?
Боэмунд въедливо, долго смакуя каждое слово, проглядел донесение немого мухни[44]: «Сердце моё полно жалости, но, выбирая между любовью к брату и долгом перед Аллахом, правоверный не может колебаться. Я пройду это последнее испытание и смогу бестрепетно сказать у престола Его: «Любя брата, как самого себя, не впал я в постыдную слабость. Пророк Ибрагим был готов по воле Твоей расстаться с сыном возлюбленным. Ведомый примером высоким, отринул сомнения и я. Прими же и мой скромный подвиг, и да будет воля Твоя сиять над землёй правоверных».
Подняв глаза горе, Боэмунд удивлённо прошептал:
— Такое он говорил Бату? И мучился... избавиться от брата или нет? Или красовался... скорее красовался.
— Да, именно так, — подтвердил хозяин, — пока тебя не было, тут многое произошло. Думаешь, Берке вынашивал планы освободиться от опеки брата и занять ханские возвышение? Думаешь, он уж так хотел власти?
Боэмунд усмехнулся. Нет, даже оторвавшись от своей прошлой жизни, даже из далёкого далека своих бессмысленных скитаний по Европе — такого он не думал. Слишком хорошо знал Берке.
Дело было в другом — в мусульманах.
«Бату и Берке — сыновья Великого Джучи, в своей угодной Аллаху борьбе с непримиримыми врагами шли по благим стопам отца и всегда считали правоверных своими братьями по духу».
Да, именно такое скребут остро отточенными калямами[45] дворцовые летописцы нового «неподвижного города» Кечи-Сарая, это и останется в веках...
На самом же деле вовсе и не Бату и Берке, а только Бату. Кто вспоминал в те годы о Берке — послушной тени своего влиятельного брата?
Да, действительно, до последнего времени было именно так. Все долгие годы после загадочной гибели покровителя и мятежника Джучи-хана магометане-сунниты стеной стояли во всех склоках за его сыновей.
Стояли и при мягкотелом Великом Хане Угэдэе, когда оазисами Мевераннахра правил Хранитель Ясы свирепый Джагатай, не терпевший слуг Аллаха и топтавший их, как только мог.
И особенно при Великом Хане Гуюке — непримиримом, кровном, вечном враге джучидов и покровителе христиан.
У Бату-хана хватало врагов и на Западе и на Востоке, он охотно опирался на местных мусульман, имея общие с ними цели: освободиться со своими землями от тяжёлой узды Каракорума.
И вот, кажется, свершилось. Он полноправный правитель Запада, его друг Великий Хан Мунке — царит на Востоке.
Казалось, всё хорошо. В Коренном улусе власть в руках его давнего друга. Казнены все прихлебатели Гуюка, забили камнями поганую глотку его матери Дорагинэ, казнён хитромудрый советник Эльджидай. (Он так и не пожелал предать своего гнусного господина. Поступок достойный, но как же не хотелось Мунке убивать Эльджидая).
Бату посылал отряды в помощь Мунке. Ещё никогда они не были так близки. Баскаки помогали разорённым войной сабанчи-землепашцам[46], азартные гонцы мчались по ямским дорогом, а отряды ветеранов ловили последних джэтэ — грабителей караванов.
Казалось, теперь все его подданные живут, как хотят, и молятся, как хотят... Что ещё надо? Но...
Сначала Бату недооценил воспрянувшие тени, которые вдруг стали раздирать его разноплеменных соратников. Тех, которые казались такими едиными пред лицом старых врагов... Ведь и Бату, и его друг Мунке столько раз заявляли: «Все религии одинаково дороги нам, как пальцы на руке».
Но нет, не для того поддерживали Бату-хана здешние сунниты, чтобы нахальные язычники и зендики-еретики оскверняли смрадным дыханием их родные города.
И однажды началось.
Бату привык верить мусульманам и не ждать от них удара в спину, они были верными и хитроумными друзьями все эти годы. К тому же его мучила подагра, а всезнающего Боэмунда уже не было с ним... («Уже не было», — подумал Боэмунд сейчас, то ли оправдываясь перед собой, то ли жалея о своём уходе).
И Бату пропустил тот миг, когда его впечатлительный брат и наследник Берке перестал быть ему послушен, попал под влияние улемов Сарая и Булгара. Нет, улемы не могли бы склонить Берке к предательству брата, друга и господина: как всякий монгол, тот чурался предательства.
Но, однажды (сколько красноречия извели) поверив в Аллаха больше, чем в родных богов, Берке испугался. Это был простой страх загробной кары. Как монгольские дети боятся злых мангусов.
Ноги хана болели всё больше, и тех коротких промежутков, когда к нему возвращалась прежняя воля, было явно недостаточно, чтобы сдерживать Берке.
— Да, Бату убивал врагов, чтобы люди не жили в страхе. Берке же давил змей-врагов, как ребёнок сапогом ужа... — Оказывается Даритай думал о том же.
Боэмунд ещё раз пробежал глазами по пергаменту...
— Это что же получается? Как монгол, Берке боялся гнева Мизира за братоубийство, а как новоиспечённый магометанин — кары Аллаха за то, что колеблется расправиться с неверным?
Даритай как будто всхлипнул, но нет — это был смешок.
— Куда забавнее. Ты же знаешь, Бату своим братьям был словно отец. Вечно их утешал, мирил. Они же шагу без его совета ступить не могли. И Берке тоже. А ещё он им подолом сопли и слёзы утирал... как мать. Нет, смысл этого разговора, который подслушал мой соглядатай, вот какой: «Я должен тебя уничтожить... этого хочет Аллах, но не могу, боюсь... и стыдно. Утешь меня... придай мне силы тебя убить... Ведь ты всегда мне помогал». Слюнтяйство и глупость. Да, бедный Берке... С такими настроениями, с такими метаниями трудно совершить то, о чём жалуешься будущей жертве... — Даритай вздохнул, — и всё-таки Берке размазня. Решил — делай... Так нет — надо ещё и душу взлелеять....
— Но если не Берке, тогда кто?
— Боюсь, Даритай, мы этого никогда не узнаем...
Сколько врагов! Бату кричал в колыбели, а враги уже множились. Да что там — он дёргался в утробе, а они уже грифами парили над судьбой. А уж если совсем честно — его ещё не было, а они уже знали, что он появится, и обдумывали свои каверзы. Враги, да ещё какие — почётные, настоящие великаны из демонических сказаний. Друзья были — случайны... они могли и не появиться в нужное время на нужном холме. А враги были всегда.
Боэмунд вдруг замолчал и задумался. Даритай отхлебнул необычного вина, поморщился, робко попросил:
— Расскажи... О том, что было до меня... Когда же началась история его гибели?
— Согласно превратностям — ещё до рождения, — устало откликнулся гость. — Может быть, на том далёком курилтае (сколько их было с тех пор?). С тех трёх тайн, на которых, как на трёх столбах, держится эта странная история жизни.
— Трёх тайн?
— И той случайной встречи, благодаря которой Бату и родился. Уже тогда... вопреки задуманному Небом или людьми.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОЗОРНАЯ КРОВЬ
Джучи. Великий Курилтай. 1206 год
Они ехали втроём стремя в стремя. Яркие, гладкие, безнадёжно юные. Косички, заботливо расчёсанные матерью, — сегодня это важное дело она не доверила никому, — упорно раскачивались вразнобой, как бы в насмешку над попыткой превратить братьев в нечто единое, хотя бы на это краткое время торжеств.
И всё-таки именно сегодня царевичи, как никогда, ощущали себя братьями. Они — главная драгоценность долгожданного торжества. Дети ТОГО, кто поднимется сегодня на стремительном войлоке к Высокому Небу заслуженной славы.
— Встряхнись. Быть кислым на празднике — удел кумыса — Угэдэй дёрнул приунывшего соседа за играющий бликами шёлковый рукав.
Джучи даже не обернулся, а только неопределённо хмыкнул.
Не прав Угэдэй — и вовсе он не кислый, просто задумчивый. Есть о чём задуматься. Разве мысли о Воле Неба, что дважды кидало их отца Темуджина в бездны унижения и вот... снова возносит, эти мысли не приличествуют ныне больше, чем благодушный восторг.
Эх, братишка, учить вздумал, а сам уподобляется тем, кто живёт, как трава. Для харачу[47] и большинства нухуров курилтай — просто праздник пуза и отдыха, повод побороться, посвататься, поскакать наперегонки. Чего же больше? Для отца, главного виновника торжеств, это — зрелые раздумья без улыбки. Голову дал бы Джучи, что эцегэ[48] не прыгает сейчас молодым джейранчиком, не оскорбляет суетой победу. Впрочем, сам эцегэ не стал бы благодарить Джучи за сопереживание. Осудил бы, подобно простодушному брату: что, мол, не радуешься.
— Не стыди его. Бесполезно, — поддел Джагатай. — Радость за отца должна быть в крови. Уж коли нету её, так и не будет. Свою не вольёшь.
Этим намёком он, — конечно же умышленно, — растоптал остатки нужного настроения. Скулы Джучи вмиг обрели привычные, не по возрасту жёсткие очертания. Невидящий взгляд устремился вперёд. Там, на холме, проплешиной в бесконечной нарядной толпе, зияло место, на котором ВСЁ произойдёт. Суетливые нухуры (рабов-боголов до такого действа не допускали) возились с круглым белым войлоком. Оттого что ещё миг назад долгожданные приготовления так ублажали истерзанное сердце Джучи, ему стало особенно горько. «Умудрённый» Джучи тут же рассыпался на куски. Пелена детской обиды затянула его взгляд слезливой мутью.
Угэдэй сказал: «Гордость за отца должна быть в крови». Казалось бы, что тут такого? Но на самом деле это — намёк. Мол, чего ожидать радости за отца от того, кто ему — не сын. Вот что хотел в очередной раз выразить Джагатай.
Отец запретил касаться этой темы под страхам сурового наказания, запретил подзуживать Джучи. А тут — как бы безобидный намёк. Вывернулся, скользкий. И повеление отца не нарушил, и его, Джучи, сумел-таки поддеть. «Умён, проклятый мангус», — ещё успел подумать Джучи, прежде чем окончательно раскваситься.
Джучи. До 1206 года
В то, о чём говорили вслух, верило только простонародье. А может быть — и не верило, да помалкивало.
Время с тех пор скакало как сайгак с копьём, воткнутым в бок, — стремительными зигзагами. Потому и кажется, что это случилось ещё раньше, чем на самом деле. Всё началось с подвига, совершенного их дедом Есугей-багатуром.
Достойное дело обзавестись женой, сосватав девушку у друзей. Отвоевать же невесту у врагов — не всякому по плечу, потому вдвойне почётно. О набеге на меркитов, после которого в юрте Есугея появилась их красавица-бабушка, и доныне слагают хвалебные улигеры.
Умыкание невесты — весёлый обычай, если, конечно, поперёк взмыленного седла лежишь, извиваясь, не ты сам.
Всё бы хорошо, но бабушка как-то раз под настроение разоткровенничалась. Оказывается, враг был один (не считая её самой, счастливой невесты, которую меркит Чиледу вёз домой со свадьбы, да ещё двух волов и пары коней), а дед — с десятком молодцов. А случился подвиг, по сути, у Есугея дома — в его родовых кочевьях.
Джучи удивился вопиющей беспечности врага: «Как же он... в одиночку по нашим кочевьям?» Бабушка нехотя призналась, что с меркитами тогда был мир. «Значит... — осенило Джучи, — значит, обман доверившегося, грабёж? Не подвиг, а преступление...»
Оглашать такие догадки непочтительно, и Джучи прекрасно это понимал, поэтому спросил о другом:
— А когда меркиты стали нашими врагами?
— Вот как раз тогда и стали, — вдруг зло усмехнулась бабушка. — Как раз из-за этого самого подвига Есугея. Они его, подвиг-то, не оценили и разобиделись...
Узнал Джучи в тот раз и другое: когда невесту привозят в курень жениха, её всё же спрашивают о согласии соединить судьбу с похитителем. Если же берут в жёны не по согласию, то это оскорбление её родичей, требующее совершить второе зло для искупления первого.
Бабушка Оэлун согласия не давала.
Говорят, насилие проходит — счастье остаётся, так было и у них с Есугеем. Выросшее из насилия, их счастье осталось. А законного жениха Оэлун просто выплакала. И тот, её первый, ушёл из сердца. Смыло первого слезами ненависти ко второму.
Вот так-то. Получается, что даже эти мелочи дотошный от природы Джучи выдернул из бабушки с трудом — как крючок, проглоченный тайменем. Да и то — случайно.
В человеке немало сил, чтобы пережить преступление ближнего перед дальним. Выяснив неуместные подробности «родовых заслуг», Джучи особо не закручинился...
Возмездие меркитов слегка запоздало — лет этак на двадцать. Уже и дети выросли, а сам Есугей, наоборот, давно как в землю навеки врос.
Так повелось, что подвиг одного родича ложится сияющим пятном на всю семью. Считается, что в первую голову, конечно, виноват сам обидчик. Но в этом деликатном случае вина каким-то боком легла и на... жертву подвига, то есть бабушку Джучи, как жену обидчика... И на её детей, которые меркитов видели только пленными, издалека.
Но меркиты не отомстили ни Есугею, ни им.
Может быть, на худой конец, справедливое воздаяние коснулось кого-то из рода обидчика — Есугеева рода рыжих борджигинов?
Придётся брать шире.
Пострадал ли кто-нибудь из племени обидчика — тайджиутского иргэна, в котором род деда исконно состоял?
Ничуть не бывало — и это слишком мелко для Гнева Небес.
Попасть в грубые жернова справедливости досталось вовсе не им, а круглолицей девушке Бортэ из племени хунгиратов — будущей матери Джучи.
А случилось вот что: Бортэ сосватали за старшего сына Есугея — нервного мальчика Темуджина.
Для Дей-Сечена, отца девочки, это сватовство было большой честью. Всё бы хорошо, но сразу после того, как оно состоялось, Есугей взял... да и умер. И ладно бы просто умер, так нет — он ещё унёс с собой в могилу и призрачное своё величие, и ту самую «большую честь». Потому что Есугеева семья, ограбленная заботливыми родичами, вмиг обнищала.
Дей-Сечен мог расторгнуть помолвку любимой дочери с обедневшим отпрыском умершего героя. Никто бы его не осудил, кроме собственной совести. Да и дочь была бы счастлива. Одна мысль о том, что ей предстоит разделить невзгоды с чужим, нищим, гонимым, неприятным ей юнцом, приводила Бортэ в ужас.
Отказался бы отец Бортэ от той помолвки, внял бы исступлённым мольбам дочки — не нажил бы врагов ни себе, ни роду своему. Но Дей-Сечен был человеком слова и помолвку не расторг.
Так Бортэ впервые стала жертвой чужого добра, оказавшись женой оборванца.
И вот её-то как раз и настигло запоздалое меркитское возмездие — как жену сына обидчика. У дырявой юрты мужа она попалась на аркан меркитскому сотнику и была увезена на далёкую реку Селенгу.
То, что двадцать лет до того довелось отведать бабушке Джучи, теперь испытала его будущая мать: лёжа поперёк лошади похитителя, носом тёрлась о вонючий потник, глотала лошадиную пену вперемешку со слезами.
Этот набег был «подвигом» ещё более удалым, чем стародавнее геройство Есугея. Меркитов в том деле участвовала добрая сотня, а оборонявшихся тайджиутов (отторгнутых собственным иргэном) не набиралось и десятка, считая ясенщин с подростками. «Месть Есугееву роду, наконец, состоялась», — решили меркиты, о чём не преминули объявить во всеуслышание.
Так незадачливая Бортэ стала жертвой «справедливости» во второй раз.
На этом её мытарства не закончились, а вот всякого рода справедливость матушка Джучи не выносила именно с тех пор.
Джучи. Великий Курилтай. 1206 год
Джучи дёрнул повод, остановив поток мыслей, отдышался. Торжествующего от удачной каверзы Джагатая и Угэдэя вынесло вперёд. Величественный строй был разбит. Быстро же они позабыли наказ матери: «Хоть сегодня не ссорьтесь. Покажите людям: в семье Темуджина — мысли в одном пучке»..
Джучи махнул рукой — догоню, мол. Джагатай уговаривать не стал, облегчённо вздохнув, погнал коня. Угэдэй рассеянно обернулся и последовал его примеру.
Казалось бы, Джучи должен был хоть сегодня не думать о болячках. Ему и стыдно, а поделать всё равно ничего не может. Такой день, а он... Отца избирают повелителем степей... А может быть, он и не отец? Его снова понесло по привычному кругу, как необъезженного коня вокруг коновязи.
Джучи. До 1206 года
После того как некий сотник привёз пленённую Бортэ в стойбище меркитов, начались настоящие чудеса (если, конечно, верить навязшей в ушах молве).
В той сказочной дали времён все были страсть какие заботливые, и поэтому мать (беременную к тому времени именно им, Джучи) вдруг освободили и передали обратно стенающему мужу.
— Да как же так? — изводил мать расспросами дотошный ещё в детстве Джучи, спрашивал тогда без какой бы то ни было задней мысли.
— А вот так, по приказу хана меркитов. Узнав, что я — жена Темуджина, что НЕ ТУ его нухуры на аркане притащили, хан в раскаянии бил себя по щекам, воинов своих — берёзой по загривку.
— И верно, что не ту. Ты, мать, не из нашего племени. За что же тебе мстить? Но всё равно непонятно — с чего бы вдруг ему тебя выручать?
— Он был другом владыки кераитов Тогрула, — объявила тогда мать с несколько неуместной торжественностью. И что с того?
— А вот подумай-ка: Тогрул — побратим деда твоего, да и Темуджину он — вместо отца, разве не знаешь? Если бы не Тогрул — иссохнуть бы мне рабыней. Что бы ни случилось, сынок, помни о том, как много сделал для нашей семьи кераитский хан. Грешно забывать добро. — Мать заговорила тогда поучительно и занудно, чтобы Джучи не лез со своим любопытством, куда не просят, Кто же долго выдержит материнские нотации?
— Я не забуду, ихе[49], не забуду... — упрямо набычился Джучи, — И всё же не пойму. Меркитам-то какое до всего этого дело?
— Видать, не захотели ссориться с Тогрулом из-за такой безделицы, как пленная девчонка. Чего ж ещё? Тогрулу-то меня меркиты и отвезли. А тот — мужу вернул...
— Слыхал-слыхал. Пока ехала домой, тут ты меня родила, сколь уж говорено, — пробурчал мальчик, сам испуганный собственной наглостью. У семейного очага, будучи десяти трав от роду, он впервые услышал от матери рассказ о своём рождении. С тех пор его повторяли не раз.
«И вот я еду домой, а ты, негодник, стучишь мне в живот, как в боевой барабан и просишься наружу. Я шепчу тебе: «Потерпи». Ты успокоишься на миг и снова... знай своё. Уже тогда упрямым был. А Суду, которого Темуджин за мной на радостях прислал, всё сокрушался: «Что делать будем? И завернуть ребёнка не во что, растрясём». Хорошо хан Тогрул снабдил мукой в дорогу (её как раз кыргызы с караваном завезли), будто чувствовал — не довезу тебя в утробе. С водой её смешали, а как вылез ты (тут матушка Бортэ как-то притворно хохотала; всегда сколько ни рассказывала, именно в этом месте), мы и завернули тебя... в тесто. Так и довезли».
Это было вбито в голову прочно. Вспомнив про пресловутое тесто, мальчик упрямо набычился:
— Но с меркитами я всё-таки не понял. Сами же набег на нашу семью замышляли, а потом вдруг ссориться с Тогрулом не захотели.
Бортэ уже не то что нахмурилась, а рассержена была всерьёз. А значит — больше ничего путного от неё не добиться. История, как лужа взбаламученная, — не увидишь дна.
Джучи. Великий Курилтай. 1206 год
Джучи тяжело перевёл дух. Поют сказители-улигерчи, как тяжко жили в старые времена, как волками грызли друг другу загривки, а сейчас благодатный покой. Только все друзья и побратимы теперь во врагах ходят. А иные уже и не ходят — по Небу летают.
Держа отрезанную голову под мышкой, улетел в свой христианский рай и сам могущественный хан Тогрул. С тех пор приторочены его люди и земли к стремени Темуджина, как и все окрестные степи.
Джучи. До 1206 года
Отношение к Джучи отца было в ранние годы очень странным. То прижмёт-обласкает, подарками завалит, то зыркнёт своими синими глазищами. Силу этих глаз теперь каждый знает, для многих — предсмертным шоком были эти глаза... И Джучи бросало в истерику, от которой он захлёбывался, не в силах совладать с собой.
Тогда Темуджин снова прижимал мальчика к себе и шептал при этом только одно: «Сын... сын», как бы успокаивая больше себя, чем ребёнка.
«Отец любит тебя», — постоянно, как заклинание против злых духов, шептала ему Бортэ-ихе. Слишком часто, чтобы воспоминания об этом не вызывали подозрений.
Бабушка Оэлун давила на другое: «Гордись своим эцеге. — И вздыхала: — Ему так надо сейчас, чтобы сыновья им гордились».
Но если отец не любит, если притворяется? Тогда что в Джучи не так? И как же, оказывается, важно быть достойным любви. Что имеем — не ценим, что отняли — жаждем.
И вот однажды отец уехал, не сказав куда. Был — и нет его. Такое случалось и раньше, но чтобы так надолго? Тогда-то братец Джагатай и принёс ТУ САМУЮ сплетню, которая перевернула жизнь Джучи на долгие годы. В очередной их склоке, которая не заставила себя долго ждать, он как бы невзначай заявил:
— А что это ты беспокоишься об отце так ревностно? Тебе-то какое до него может быть дело?
— Это почему же? — опешил старший брат.
— Знающие люди говорят, что наша бедолага-мать привезла тебя в животе из меркитского плена, как привет от недобитых врагов. Эцегэ выбросить хотел, да пожалел. Думал забыть не забыл. Потому и уехал от нас... от позора уехал...
Джагатай обвёл взглядом окаменевшего Джучи, покосился на переставшего теребить баранью лопатку Угэдэя, на шесты-уни, держащие юрту, — не обвалится ли? Всё-таки он побаивался мести онгонов — духов предков.
Однако ничего не случилось, все притихли только.
— Лучше бы он сразу отдал тебя корсакам, — добавил осмелевший и торжествующий Джагатай, облизав с тонких губ яд и слюни.
Джучи был слишком потрясён, чтобы просто огрызнуться. Все несуразицы материнских рассказов табунами пронеслись в его голове. И странное «побратимство» Тохто-беки с Тогрулом. И то, что зачем-то отпустили его беременную мать в дальнюю дорогу — нет чтобы подождать. И это дрянное тесто... будь оно неладно. Он себя и чувствовал так, будто вляпался в это отвратительное липкое тесто, в которое его якобы завернули после рождения. И растерянное лицо эцегэ, когда тот шептал, себя уговаривая, свою боль уговаривая: «Сын... сын...»
Потом он глухо, не узнавая голоса, выдавил:
— От... кого... узнал?
Сам испугавшись того, что натворил, — это же, если подумать, касается не только Джучи, но и матери, но и чести их рода, — Джагатай уже готов был соврать, мол, придумал всё со злости... Но тут в юрту вихрем пожара ворвалась мать.
— От кого узнал? — Голос напряжённый, как тетива. Вот-вот сорвётся. Она всё, оказывается, слышала.
Если бы с Джагатаем по-хорошему, он бы ещё... может быть... Но его заело...
— Всё евражки свистят.
Посеребрённая китайская миска с хурутом полетела в растерянное лицо Джагатая, следом — свистящая рука, обожгла щёку.
— От кого узнал?!
— Все... все говорят! — разревелся Джагатай. — Только нам не говорят! А я — услышал... Ус-лы-ы-шал! — Его лицо, сильно покрасневшее с одной стороны от пощёчины, выглядело страшным и чужим. — Почему меня бьёшь, не его?!! Я — законный сын, а он... он... — Вскочил, выбежал из юрты.
— Иди, трезвонь! — заорала Бортэ ему вослед. — Позорь наш род! — Тяжело опустила грузные телеса, оглянулась на дрожащего Джучи: — Не слушай, сынок, они — от зависти.
Джучи, пошатываясь, вышел вслед за Угэдэем. Оперся на столбик коновязи, его тошнило. Кровь, паршивая чужая кровь дрожала на кончиках пальцев. Он был отравлен ею — отравлен навсегда. Не выльешь — не сменишь. Мальчик споткнулся и, не в силах совладать с собой, беспомощно завыл.
После этой истории все четверо несколько недель почти не разговаривали друг с другом. Только Угэдэй жалостливо косился на остальных и не знал, что делать. Ведь кого ни задень — полоснёшь невзначай железным крюком по ране.
Джагатай терзался чувством вины, Бортэ усиленно боролась с нахлынувшими воспоминаниями... а Джучи? Джучи всё всматривался в траву... всё искал гадюку... Когда-то он слышал, что одним ядом можно пересилить другой или умереть...
Однако верить услышанному от Джагатая всё-таки не хотелось. Действительно, лучше умереть, чем жить огрызком давней родовой обиды. Спрашивать он боялся — а вдруг все ужасы подтвердятся? Тайна собственного рождения, хотел он того или нет, терзала Джучи непрестанно. Когда он нырял в её хитросплетения, — тянуло быстрее вынырнуть обратно, потому что задыхаться начинал. Матушка Бортэ проговорилась: Тохто-беки Тогрула испугался, стало быть, подчинился силе, а не дружбе. Что верно, то верно: Тогрул в те времена был куда сильнее меркитов... Почти сразу после того, как Джучи на свет появился, Темуджин с Тогрулом напали на их становища и учинили разгром. Не остановило Тогрула никакое побратимство, а Темуджина — благодарность за освобождение из плена беременной жены.
Подумал о том Джучи, и укусила его ядовитая догадка. Никто Бортэ по доброй воле не освобождал, а сочинили сказку, чтобы (тут Джучи и начинал задыхаться)... мелкие её подробности (такие, как «тесто») рождали ощущение правдивости, от главного отвлекали.
Значит, мать отбили у меркитов именно тогда, во время набега, — не раньше. Как страшно думать про такое. Но в этом случае всё становится на свои места: не за что было Темуджину Тохто-беки благодарить, враг он и есть враг.
С первой тайной переплетена в змеиный клубок тайна вторая: то самое пресловутое исчезновение отца. Это случилось, когда не исполнилось Джучи и десяти трав.
«Так надо», — сердито кричала Бортэ, когда скулёж подрастающих — шли годы — детей слишком уж рвал уши матери. Повзрослев, дети стали требовать подробностей. «Куда уехал эцегэ? Почему нет так долго? И с войны возвращаются, и от гостей. Столько гостить — семью не уважать».
«Не смейте так говорить. Ему виднее, кого и за что уважать», — огрызалась Бортэ.
Тревога и желание разгадки стало стержнем их взросления. Джучи и Джагатай даже снисходительно презирали младшего — Угэдэя за то, что ему, казалось бы, всё равно. А Угэдэй уже тогда удобно устроился и лишь посмеивался тихонько: каждый из старших братьев пытался склонить его на свою сторону в зарождавшемся соперничестве. Он бессовестно вымогал у них обоих взятки — то биту для бабок, то забавную, свистящую в полёте стрелу-йори.
Про отца молчали взрослые, молчали соседи, друзья и недруги... Для мальчиков же стало делом чести, опередив соперника, разгадать, куда пропал отец.
Мысли подозрительного Джагатая, уже тогда видевшего в людях худшее, устремились по пути извилистому.
— Отец нас бросил, предал. Он думает — мы не годимся в наследники улуса. Нашёл другое племя, другую юрту. Другая женщина — не наша толстая мать — подаёт ему архи[50] по вечерам, — важно поучал Угэдэя своим звонким голосом. — Наше дело — все травы переполошить, все камни горные встряхнуть. Найти. Пусть видит — какие мы багатуры, пусть видит, как он ошибся.
Он очень нравился себе, когда произносил такую красивую речь. Даже то, что он невзначай признал багатуром и братца Джучи, не смущало его в это мгновенье.
Из духа ли противоречия, с того ли, что не мог и помыслить про отца ничего дурного, Джучи тогда возразил со свойственным ему ехидством:
— Ты уже научился заноситься. Но это достоинство не ханского сына, петуха, что будит всех утром. Скажи мне, отчего ему было знать, какими мы вырастем багатурами? Отчего ему было не взять другую женщину второй женой, пусть бы и подавала архи. Или думаешь, Обнимающий Хан Степей бросит народ, поднявший его на войлоке, и будет носиться по чужим куреням как беглый раб? Не знаешь, сладкоголосый? То-то. Верно я говорю, Угэдэй?
— Верно.
— А что же думаешь ты, — пристыженно прошипел тогда Джагатай, — осчастливь нас, всезнающий.
— Думаю, отца нет в живых, — вздохнул Джучи, — но надо такое скрывать от людей. Наше дело — узнать, почему от нас это скрывают. Верно я говорю, Угэдэй?
— Всё так, — смерив испытующим взглядом, согласился покладистый братишка.
«Не иначе, будет что-то клянчить», — снисходительно подумал Джучи. Но он посрамил Джагатая и был доволен.
Вскоре случилось такое... что всё померкло. Однажды ночью как будто ослепли нухуры — стражи за юртой. Как будто сверху, — через дымоход, а не через полог юрты, — проник луч китайского фонарика... И — как рыжий дух перед великой прародительницей их рода Алангоа — перед ними предстал долговязый старик в халате из дымлёной козлины.
Дети в ужасе отпрянули от очага. Бортэ же, покачиваясь, кинулась навстречу, загасив огонь фонаря пришельца неловким движением. В свете углей аргала[51] её толстые щёки подрагивали.
— Т-ты, — только и произнесла мать.
— У тебя ещё осталось немного архи, — закряхтел-загремел знакомый голос. Вот и всё, что сказал тогда этот человек.
Джучи показалось, что четырнадцать трав разлуки привиделись этой ночью.
Но нет, не всё, было и другое. Когда проворный Джагатай кинулся раздувать угли, старик — не такой уж при свете углей и старик — взглянул на Джучи, узнал. И прошептал так... прошептал так, КАК НАДО:
— Сын... сын.
Потом, будто вспомнив о чём-то, отец с проворством скорее слуги, чем господина,— таким Бортэ его не знала — нырнул обратно в холодную ночь и вернулся с худеньким мальчиком лет десяти, одетым тоже, как и отец, бедно и грязно.
Даже в свете ночного очага — впрочем, Джагатай постарался, раздул — полыхнула под войлочной шапочкой рыжая охапка волос. Воронёные косички Джучи стали от сравнения ещё темнее. Непонятный гость переминался на худых ногах, будто пол был засыпан горячими углями. Общую растерянность, которой все были обязаны вернувшемуся из нижнего мира Темуджину, мальчик, наверное, принимал за неприветливость — он здесь лишний, ему не рады. Но Темуджин потрепал гостя по шевелюре... впервые улыбнулся, нарочито залихватски выпил архи из деревянной чашки, поспешно поднесённой Угэдэем. Пугающе засмеялся:
— Посмотри, Бортэ, он — настоящий, рыжий, как мой отец Есугей-багатур. Он помечен Духами Борджигинов побольше, чем я. Разве не так? А может, это Есугей и есть, может — он вернулся?
И тут же глаза отца полыхнули в свете очага знакомой, неодолимой властью:
— Это мой сын, моё неподкупное зеркало-тулуй. Его так и зовут, Тулуем. Бортэ, теперь он будет и твоим сыном, кто спросит, так и говори... Отныне у тебя — четыре сына. Два рыжих, один — чёрный. А Тулуй — лучше. Он может быть и рыжим, и чёрным. Сними, сынок.
Тулуй, смутившись ещё больше, вдруг стащил с головы рыжую шевелюру и... обнажил иссиня-чёрные волосы... Такие же, как у Джучи. Все только рты пораскрывали — ни Бортэ, ни братья никогда не видели накладных волос. Смех отца был подобен шуму каменистой реки:
— Вот видишь, Бортэ. Мой новый сын точно отмечен духами, только духи умеют менять обличье.
После такой развязки разве мог Джучи не вспоминать снова и снова недавний разговор с Джагатаем? Думал ли пристыженный им Джагатай, что во всём окажется прав: «Отец нашёл другое племя, другую юрту. Другая женщина — не наша толстая мать — подаёт ему архи по вечерам». Так, стало быть, и было? Но почему вернулся?
На второй день после возвращения отца Бортэ тоже пыталась это выяснить. Кто же ещё осмелится кроме неё? Джучи не знал, о чём они проговорили всю ночь. Так или иначе, но детям не сказали ничего. Угэдэй принял новую перемену в своей судьбе как должное и неудобных вопросов больше не задавал. Ну... уехал отец на четырнадцать лет, ну приехал с новым сыном... дело обычное.
Джагатай, конечно же, извивался от любопытства, но и он после дюжины подзатыльников притих — не пустили лису в волчье логово. После забыл не забыл... наверное, увлёкся другим...
Но Джучи...
Он ведь помнил и другое, сказанное когда-то Джагатаем, вернее, подслушанное где-то: «Эцегэ выбросить тебя хотел, да пожалел. Думал забыть — не забыл. Потому и уехал от нас... от позора уехал...» Значит, уехал от того, что Джучи своим видом, своим существованием на свете, каждодневно напоминал: меркиты опозорили жену, то есть самого Темуджина, не сумевшего жену защитить. Уехал на четырнадцать лет, бросил огромный улус, дела, планы, людей? Возможно ли такое? Воспалённому, униженному рассудку всегда кажется — мир вертится вокруг него... мир идёт на него войной. Значит — возможно.
К двум переплетённым гадюкам-тайнам и третья подползла. И связана она с Никтимиш — женой Джучи, внучкой низвергнутого кераитского хана Тогрула. Того самого.
В прошлом Тогрул — самый могучий здешний хан, побратим их деда Есугея, «названый отец» Темуджина. С их семейными делами сплетен хан Тогрул, как наконечник стрелы, в груди засевший. Будешь вынимать — умрёшь, а если оставишь, не вздохнуть привольно — колет. А что теперь он раздавленный враг, тому удивляться не надо. Не он первый, да, видно, не последний. Все уже привыкли к тому, как оборачиваются друзья врагами, а враги — друзьями. Дела семейные.
Так-то оно так... И всё же выдавая Джули за внучку Тогрула, Темуджин, казалось, не выгодную жену для наследника искал — неизбежную колодку на шею сыну вешал. И себе заодно. Не странно ли это? Ведь взяли улус кераитского хана на копьё, приторочили к стремени. Как татар, как тайджиутов. Можно выбирать жён по вкусу, как военную добычу — олдже[52].
Когда сломали хребет злосчастным татарам, — кровавому кошмару монгольских ночей, — так и поступили. Темуджин, по природной доброте, не иссёк всё племя под корень — только мужчин и старух. Дети, что тележной чеки тогда не переросли, резвятся у юрт. Их женщины гремят посудой в новых семьях.
Не то вышло с кераитами. Это простакам казалось, что они разбиты. Темуджин ведёт себя так, будто не в битве улус у Тогрула захватил, а по праву родства унаследовал. Более того, видно, что не хочет, а ДОЛЖЕН он с семьёй разбитого, так глупо погибшего хана породниться.
Иначе... Иначе последует кара? Что ж может быть ещё? Но какая... от кого? Разве Темуджин расскажет?
Накануне сватовства отец вызвал Джучи, оповестил... беспомощно так сказал о необходимости этой свадьбы, не по-хански, почти попросил: «Так надо, сынок». Он редко бывал таким, и Джучи тогда не мог ему отказать.
И вот Никтимиш-фуджин стала его женой. Ни красива она, ни здорова. Мало того, что имя Тогрула само по себе — из-за проклятого «теста» — действовало на Джучи, как на жеребца, узревшего волка, так Никтимиш, как и все кераиты, гневит Небо и молится своему Мессии, чем навлекает на его очаг гнев Тенгри... И онгонам уста не намажет. У неё на всё один ненавистный ответ — «грех».
Он уже думал, что окончательно разошлись его дороги с кераитским семейством — свидетелем позора его матушки... но, видно, не судьба. Ведь если известная всем байка про «тесто» — ложь, о чём многие догадываются, то семья Тогрула знает, что это ложь. И может быть, знает правду.
Темуджин, конечно, мог приказать Джучи не кобениться, стукнуть кулаком, зыркнуть жёлтыми глазами, как он умеет, но он попросил. Тон просьбы был такой, мол, «выручай, принуждать не буду, а откажешься — много мне зла причинишь».
Конечно, Джучи перечить не стал. Да и не было у него душевных сил отцу перечить. Так вторично сплелись их судьбы.
Никтимиш, хоть и слыла нездоровой, но сына Джучи родила очень скоро.
— Отец, она творит над ним свои дикие заклинания, прыскает водой, кераитское перекрестье над изголовьем повесила.
— Не препятствуй, сынок. Каждый ищет пути к Небу по своему разумению.
— Я не понимаю тебя, отец, ведь Орду—тайджи, наследник. Как можно?
Темуджин опустил на плечо Джучи свою ладонь с длинными костлявыми пальцами:
— Потерпи, сынок. Волчонок становится волком не от вкуса материнского молока. Ты ещё успеешь приучить его к живому мясу, и тогда он обретёт покровительство Мизира. Наши дети не будут рабами креста. Но потерпи.
Джучи понимал, что по каким-то причинам отец не хочет дразнить служителей кераитского Мессии. И то сказать — сколько их... этих новых строптивых подданных. Но почему не сказать прямо, почему не посвятить сына в свои заботы правителя? Спросить бы... Но так страшно услышать роковое: «Ты мне не сын... и не с тобой откровенничать». И казалось Джучи от избытка неслучайных совпадений, что всё это — неспроста.
Как упрямые быки, волочащие по жизни его неразборную юрту-судьбу, повязаны между собою тайны и его рождения, и отцовского исчезновения, и странного возвращения. А теперь и этой свадьбы, с нелюбой, чужой ему родственницей кераитского хана.
Джучи. Великий Курилтай. 1206 год
Привычным усилием — пока ещё можно — Джучи остановил громыхающую конную лаву воспоминаний. До них ли? Ещё немного — и он опоздает на главное торжество, надо спешить. Хан Темуджин (он с некоторых пор с опаской называет его в своих мыслях отцом) затаит обиду, все их враги зашушукаются. Куда, мол, Темуджину управлять всеми народами войлочных юрт, если в своей семье порядок навести не может.
Они, враги, и курилтай затеяли, чтобы твёрдо показать: не хан над курилтаем — курилтай над ханом. Понимает ли это отец? Думал Джучи, что понимает, да сделать ничего не может. Отец... от-е-ц, заговорённое слово снова растревожило рану. Он ли вправе заботиться о благополучии чужого человека. Но ехать на праздник всё-таки надо. Мало ли и без его истерик у отца забот, мало ли врагов, соглядатаев? Отца... о-о-о...
Джучи услышал цокот сзади, оглянулся...
Нагнавшая его девушка меньше всего была похожа на врага. Но на кого-то всё-таки... Ну, конечно, — на его мать.
Одета богато, яркая, но и что с того? Сегодня порой и не разберёшь... госпожа перед тобой или простолюдинка... Все на праздник в нарядах, а после усмирения найманов и простые харачу нахватали вволю тангутских и китайских халатов. Кое-что облик незнакомки позволяет определить: девушка без шпиля бахтага[53] над головой, значит — незамужняя.
Он развеселился. В таком обществе куда приятнее скакать на это тяжёлое торжество, чем с надоевшими братьями — хорошо, что он вовремя от них избавился.
— Я шаман, красавица, угадаю, каков твой род, — игриво окликнул девушку Джучи и подбоченился.
— Я не шаманка, нойон, но скажу, что в тебе больше от меркитов, чем от шаманов.
И попутчица рассыпала мелкий жемчуг беззаботного смеха.
«Меркитов...» Без замаха в печень угодила. «Неужели так похож, что всем и без сплетен всё видно...» Вот тебе и развеялся.
— Так... похож? — Изнутри поднималась чёрная муть.
— Ты? — беззаботно щебетала девушка. Она ехала слегка сзади и не заметила, как улетучилась в нижний мир вся его удаль. — Да нет, разве что чёрный. Я не про то. Наверное, ты гнал Тайр-Усуна вместе с сотнями Ная? Меч у тебя меркитский, из тех, которые выменяли их битые удальцы у последнего каравана «белоголовых». Мой эцегэ из той погони такой же привёз. Больше к ним не ходят караваны, к бедным меркитам.
— Жалеешь врагов? — облегчённо выдохнул Джучи.
— Всех жалею, разве плохо?
— Жалость к врагам — удел беспечных, разве не знаешь?
— Ты говоришь не с воином, разве не знаешь? — поддразнила попутчица. — Кстати, ты пробовал угадать, откуда я родом. Ну-ка, похвастайся.
— И сомнений никаких: ты — хунгиратка.
— И вправду, шаман, — опять засмеялась девушка, — или гостил в нашем курене?
— Ну и... гостил, не в том дело... Моя мать — из хунгиратов.
— С тех пор как хан Темуджин собрал в походную рукавицу все окрестные юрты, наши девушки в большой цене. Только и слышны хвастливые разговоры. Мол, ханская хатун[54] Бортэ родом из хунгиратов. А значит — бойтесь мангусы. Не иначе Всевидящая Этуген[55] рожи им за это разгладит, ума в тороки насыплет, — девушка состроила гримаску, — а раньше — моя бабушка помнит — привезли на сватовство забитого мальчика, всё плакал... собаку увидит — в слёзы, что скажешь не так — в слёзы. Никто с ним играть не хотел, смеялись.
Она была очаровательна в этом обличительном азарте. Её несло, как газель на солончак.
— А после — прискакал на свадьбу голодранцем, без приданого. Сидел, зыркал обиженно. Величаются, видите ли, перед ним, подарками своими оскорбляют. Дей-Сечен ему и дочь-то отдал — слово нарушить боялся. А потом... Другие сами жён в меха наряжают, а наш удалой жених сорвал с невесты последнюю соболью доху и кинул под ноги хану Тогрулу — смотри, мол, не нищий я. С той дохи, с невесты снятой, и пошло его величие. Теперь не вспоминают. Всё нам «воля Неба», а вот — доха?
— Много ты понимаешь, доха — и есть знак Небес.
Такого Джучи никогда про отца не рассказывали.
Оттого, что божественный образ эцегэ обрёл земные очертания, полегчало. Цепкая мнительность, однако, сразу выхватила эпизоды из раннего детства. Вспомнилось, как Темуджин особо к нему благоволил, когда Джучи от страха перед ним кидался в истерику. «Себя узнавал, — как будто и с высоты седла неожиданно подумал незадачливый сын, — решил небось, если истеричка — значит, всё в порядке, своя кровь». Но резануло: «Так он САМ НЕ ЗНАЛ, он — сомневался». Встрепенулась заветная НАДЕЖДА.
— А ты не больно-то разговорчив, — устала от его молчания девушка.
— Ты же — слишком разговорчива. Не боишься, что за такие разговоры жало с головой оторвут?
Но она не обиделась.
— Не там осторожность, где молчат. Осторожность — людей различать. Ты — не донесёшь, а донесёшь, так и что с того? Будет твой хан у сплетниц жала вырывать — станут немыми кочевья, как коровьи стада.
— Знаешь меня, всезнающая? — Задираться с ней было приятно, и вообще он неожиданно ощутил странное чувство тёплого очага после бурана. — Расскажи, что ещё говорят в куренях хунгиратов про нашего хана?
— Не скажу, — капризно бросила она.
— Что так?
— Язык поберегу, ещё отрежешь по дороге. Чем буду нашему благодетелю приветствия кричать...
— Как же тебя зовут, безъязыкая красавица?
— Уке, языкастый соглядатай. Поспешим, торжество вот-вот начнётся.
* * *
Обширные нутуги-кочевья вокруг «Золотого Онона», такого ещё не видали никогда. На Великий Курилтай отовсюду стекались бывшие враги, закалённые в боях друг с другом. Как разноцветные осенние леса, одарённые способностью стронуться с места, ползли сплочённые долгим товариществом тумены и отдельные тысячи, а за ними неисчислимые кибитки, повозки, неразборные юрты.
О, Всеблагой, предавший Сына своего на муку, что же это делается под солнцем Твоим? Рассуди. Взял ли этих людей на копьё злой язычник, рыжий дьявол Темуджин (так ещё недавно говорили о нём их ханы и нойоны[56])? Или, напротив, Великий Справедливый Чингис — «обнимающий» хан собрал Божий народ в тяжёлую руку перед лицом свирепого джурдженьского Алтан-хана. И то сказать, — разве не подданные Золотого Дракона заставляли кераитов кидаться друг на друга, оплачивая кровь их детей суетной приманкой фарфора и печенья?
Торжество на Ононе должно всё расставить по своим местам, тем более что все они и так уже строго расставлены по своим десяткам и сотням. Курилтай превратит их из завоёванных в ВЫБРАВШИХ своего правителя. Ради этого стоит забыть, что давно уже нет у них никакого выбора. Давным-давно.
Но умный конь гордо скачет под оседлавшим его багатуром к славе, глупого — тащат на урге. А воля... Где она — эта воля? Или обитель её лишь в сказаниях-улигерах?
На коротких стоянках долго и задумчиво взирали на свои нательные кресты кераитские, найманские, онгутские пастухи, священники, воины. Воздевая руки к Небесам в привычной молитве, просили вразумить и направить их мысли, запутавшиеся в непонятной многолетней резне:
— Абай-Бабай. Пронеси же мимо чашу смятения. Ниспошли на душу мятущуюся покой и веру, что всякая власть на грешной земле — от Бога. Ибо гонитель волею Твоей обращается в пастыря благочестивого.
Впрочем, хан Темуджин хоть и язычник, а к Миссии благоволит. В его ставке — привычные кераитам и найманам Божьи церкви. Он выдаёт своих сыновей за христианок. Строг, но заботлив.
А значит, да будет благословенно Девятиножное Белое Знамя, и да ниспошлёт Господь благополучие и мужество детям его.
Маркуз. Великий Курилтай. 1206 год
Согбенный пожилой человек в чёрном вскинул сухощавые руки к небу. Крупный, украшенный рубинами крест покачнулся на складках просторного одеяния, как на волнах. Молитву он пробормотал хоть и быстро, но не скомкано. Ни одного из важных слов не пропустил. Медленно, будто очнувшись, наклонил голову.
— Я должен тебе рассказать, Маркуз, таково повеление. Но сначала спрашивай. Пусть первые семена падут на взрыхлённую почву.
Его собеседник многое уже и сам понял, но спросить всё-таки следовало. Иначе его заподозрят в излишней проницательности. Кроме того, одно дело — догадки, совсем другое — уверенность.
— Это вы платили за то, чтоб я вытащил Темуджина из джурдженьской ямы?
— Да, — резко кивнул священник.
— Но четырнадцать лет назад не кто иной, как вы сами и продали его джурдженям. Зачем?
— Не продали, нет. Позволили продать. Мы не разбойники, а слуги Всевышнего, — сощурился старик. Морщины, опутавшие при этом глаза, давали знающим понять: ему гораздо больше лет, чем казалось, когда лицо было спокойным. Такое бывает оно у тех, кто редко смеётся. — Теперь Темуджин знает: не спасут непослушного ни золотой пояс Великого Хана, ни тысячи тургаудов-телохранителей. Мы захотим — будет ханом. Рассердимся — будет в джурдженьской яме спать на собственных испражнениях.
— Чего тут не понять? Но поначалу-то вы и не собирались его вытаскивать? Всё-таки четырнадцать лет в темнице...
— Не зная корней, не поймёшь и рисунок листвы. Не спеши. Доители кобыл отверзли уши свои ко Слову, когда невыносима стала их земная жизнь. Служители Белой Веры[57] утешили народы, обделённые деревьями и пашнями. Но теперь эти земли под пятой у Темуджина, который не христианин, более того — поклоняется нашим врагам, чёрным шаманам Бон. Зачем освободили язычника, в каком затмении вручили ему узду от христианских улусов? Это ли ты хочешь спросить, Маркуз?
— Да, учитель.
— Дабы испытать благочестие Иова, не марал Всевышний свои белоснежные ризы, но Сатану просил наслать на Иова муки. Потом же, в нужный час, — явился с руками чистыми и утешил.
— А после, когда Сатана уже не нужен — можно сказать ему «изыди», аки Иисус на горе Синай, — непочтительно встрял Маркуз.
— Диавол нужен всегда, — твёрдо отчеканил старик, не заметив лёгкого ехидства внимавшего. Или даже заметил, но нарочито не подал виду. — Нет добра безо зла. Ежели Господь допускает зло в мир без желания своего, то он не всемогущ, а этого не может быть.
— Стало быть, допускает по желанию... Но зачем?
— Не забывай, что пути высшей истины прихотливы и скрыты от случайных взоров, — вздохнул старик. — Слово Мессии пришло в земли кераитов, найманов, онгутов, уйгуров, кара-китаев мирно, как дождь в пустыню, ибо они мучились тогда от духовной жажды. Мы не несли Его Завет на лезвии сабли. — Слуга Всевышнего закашлялся неожиданно звонко. — Еретики-паписты вечерних стран рисовали кресты на плащах и в таком одеянии избивали магометанских младенцев, аки Ирод в Вифлееме! И всё это — именем Господа. И чего же добились, кроме ненависти?
— Как же правильно нести Свет?
— А так. Белых одежд не замарав. Мессия послан утешать, карать — удел Сатаны. Но, — старик хитро прищурился, — но поступь Сатаны должна служить предтечей утешения, как в откровении Иоанна. Знаешь ли ты разницу меж Люцифером и Сатаной, Маркуз?
— Люциферу поклоняются язычники. Сатане — еретики...
— Нет, Маркуз, не так. Люцифер плодит зло без пользы для души. Сатана же — меч Господа, орудье гнева Его. Мы способствовали возвеличению Темуджина, дабы он сокрушил врагов Белой Веры, обуздал заблудших, объединил степи кровью и железом, сунул узду подчинения в зубы старейшинам и ханам.
— Разве владыка кераитов Тогрул, Инанч-хан найманский, уйгуры и кара-китаи были врагами Веры?
— Ах, эти, — отмахнулся священник, как от слепня, — эти только называли себя христианами. На деле — погрязли в грехе гордыни, продались за китайские печения Золотому Дракону. Вознося молитвы, они лишь пытались спасти свои ничтожные души. В них не горело праведное сострадание к еретикам, пребывающим во зле и невежестве. Их не заботило, что многие народы по сей день томятся в потёмках. Вот они и наказаны. Теперь все степи в руках Темуджина, а он — наша послушная сабля. Больше нет охотников показывать зубы, но вся ненависть, все проклятья — Чингису. И это хорошо. Проклятия Сатане, любовь — Мессии. Великий Хан пожинает и плодотворный страх, но с Белой Верой ссориться не станет... как Сатана с Господином своим.
— Почему?
— В его ставке — наши церкви, старший сын женат на христианке, двое младших — тоже. Он знает, что большинство его нынешних подданных возносят молитвы Мессии, а не Тенгри, а стало быть, вечных мук боятся больше, чем казни.
— Так ли, святой эцегэ?
— Так, Маркуз. Пусть в твоём сердце сомнения растают льдом на солнце. Ты хочешь спросить, почему мы выбрали именно Темуджина для этой великой задачи? Так соединились созвездия, Маркуз. Он не связан липкими узами чести и долга, как другие. Имя ему — ненависть, звезда его — власть. Родовые старейшины родного племени — враги его, меркиты — недруги его, татары — тревога дней его, джурджени — ужас его ночей. Нухуры и воины его — люди без рода без племени, и на всех у него нашлись удила. Он умён, хитёр, жесток, красив. Он — ХАН МИРА СЕГО. Ему — тела на муку, нам — души на утешение.
— Но, святой эцегэ, огонь не сбережёшь за пазухой. Кто держит факел, должен знать: пламя рано или поздно обожжёт руки. Не пора ли его гасить, учитель? Кроме того, не только вы хотите направить рыжие языки его огненных волос на нужную вам кровлю — найдётся немало охотников. Шаманы Черной Веры, например.
— Им с того костра не выгорит, Маркуз. Темуджин не забыл, как шаманы науськивали против него родичей. Ты говоришь как самаркандский митрополит, да... именно так. Он считает, что нам нужно поторопиться с крещением ханской семьи и усилить проповедь среди монголов... Когда и ловить души, как не сейчас, пока они в смятении, пока оплакивают своих умерших близких, пока им плохо. «Самое время, — сказал он, — поторопитесь, скоро мечи уснут в ножнах, а вдовы утрут слёзы. Тогда язычники задумаются об умножении «стад земных», не о вечности... и снова всё прахом пойдёт...»
— Да, если настанет мир, чёрным шаманам будет самое раздолье, а наша проповедь покажется неуместной, как мудрые речи на пьяном пиру... — Маркуз вполне согласился с мнением самаркандского владыки, но встревожился — не перебрал ли в вольнодумстве? Присмотревшись, успокоился. Покровительственное выражение не покинуло лица старика.
— Что до новокрещёных, — осмелел Маркуз, — то накал их Веры тоже уступит место мирским соблазнам, если будет мир. Ну даже удастся вам обратить всех детей Темуджина... и что с того? Они поссорятся из-за богатства, как Тогрул с братом своим, как кераиты с найманами — даром, что повсюду уже давно наши церкви. Кому нужно единство на короткое время?
— Всё это так, но подумай — кому нужно, чтобы монголы, кераиты и прочие только и думали о том, как подрезать подпругу соседу, чтобы степняки были не гордыми воинами, а попрошайками у осёдлых государей, чтобы молились разным богам, и на них можно было бы устраивать охоту, как на дзеренов[58]? Подумай — кому это выгодно?
— Джурдженьскому Алтан-хану. Из его земель в степи текут сладкие соблазны, разжижающие кровь — фарфоровые блюдца, блестящие котлы, шелка для знати. А обратно бредут, как пойманные дикие кони, вереницы босоногих «рисовых рабов» из простонародья.
— Да, Маркуз. Алтан-хан — главный наш враг.
— Воистину так, я ненавижу джурдженей, — уронил Маркуз тяжёлые слова.
— Ненависть не пристала христианину. Заботясь о душе врага своего, сокращаешь грешную жизнь оного на земле, а сие надо делать — с любовью в сердце... Но я рад, что ты понимаешь больше многих, — тут старик досадливо поморщился, — жаль, что в Самарканде думают иначе.
— Близость магометан мешает митрополиту видеть дальше тех мух, которые вьются у носа. Также и уйгурским купцам-христианам.
— Негоже, Маркуз, так говорить об иерархе, стыдись, — деланно пожурил священник, но видно было: он придерживается того же мнения. — Нет, я не думаю, что дело в мухах. Китайские шелка, фарфор, золото — вот источник бед... И не только бед, Маркуз. Наша община Нестория в Уйгурии собирает мзду с караванов. Сияющий ключ от Шёлкового пути у нас. — Тут голос старика снова зазвучал торжественно: — Да, Маркуз, это великий дар Господа для истинно верующих, а румийским мелькитам и прочим еретикам — посрамление. Пошлины с купцов, везущих товары из Китая в Вечерние страны, доставляющих товары оттуда, — о щедрый источник, питающий Истину! — собирают правоверные. Одна беда: Китаем ныне владеют джурджени, рынки Срединной равнины[59] в их руках. Потому-то наши в Уйгурии и боятся ссоры с Алтан-ханом больше, чем боится самума одинокий путник. — Старик вдруг обмяк, как падающий шатёр. — Ведь мы одиноки, Маркуз, мы пилигримы в пустыне неверных. Вот и посуди сам: благополучие Золотой Империи для церкви Нестория — как трава для овцы, но... — он возвысил голос, как делают, подчёркивая главное, — именно это не даёт ей превратиться во льва.
— Мы и ведём себя как смиренные овцы, — вздохнул Маркуз, — Золотой Дракон держит нас на подкормке, но что же тут поделаешь? — вздохнул Маркуз.
— Вот именно, Маркуз, вот именно... А теперь подумай-ка: для чего мы кормили Темуджина как птенца с рук, для чего крепили его хоругви... сколько золота и мехов на него извели... для чего мы шептали его имя у каждого камня? Для чего ты спасал его потом из джурдженьской ямы, для чего мы бросили ему во власть степные племена? А теперь и уйгурские купцы-толстосумы из оазисов привязаны к его ремню.
Маркуз улыбнулся, ещё не веря. Неужели всё-таки...
— Вы растили его, как пса на джурдженьское горло. Да, учитель?
— Точно. Ты молодец... Переговоры с уйгурской общиной были непростым делом, с самаркандским митрополитом — тем более... В случае поражения они потеряют всё, ибо Китай будет разорён и торговля встанет, но в случае победы — добыча хлынет тучным потоком...
Я добился: уйгурская община согласна развязать мошну... купцы-несториане золото на поход тоже выложат с благословения митрополита: уговорил и его.
— Значит, снова война, учитель?
— Иначе нашего Темуджина окрутят шаманы Черной Веры и уже при детях его всё вернётся на круги своя. Господу нужна война. Не будет нам покоя, пока на последнего язычника не снизойдёт небесная благодать...
— Воистину. Но это значит — совершить небывалое: заколоть Золотого Дракона копьём Божьего гнева, как Святой Коркуз заколол Змия.
— Если понимать сие так, Чингиса нужно было сперва крестить. Осторожнее с аллегориями, сын мой. Что до меня, то я истинно говорю тебе, сын мой: Господь творит кару руками Сатаны, а не своих святых. В том великий замысел. Христианство вернётся в Китай не с красным всадником Апокалипсиса, но дождём утешающим прольётся на землю, разорённую войной... приберёт к рукам души растерянных и страждущих...
«И богатства ограбленных», — продолжил Маркуз не вслух. Теперь он не сомневался — он понял, что от него хотят, но спросил:
— В чём же моя задача, учитель?
— Ты избран для неё, ибо Темуджин верит тебе как своему... доверяет как никому... Благодарность, слава Господу, входит в число его столь малых добродетелей. Ты вырвал его тело из вонючей пасти Вельзевула. Теперь же должен действовать во благо его души...
— Души... Сатаны, — улыбнулся Маркуз.
— Так или иначе, наверняка он жаждет отплатить своим давним обидчикам и гонителям его родного племени, — ушёл от прямого ответа старик.
— Если я вас правильно понял, мне нужно идти по узкому лезвию.
— Воистину так. Закон Ясы гласит: не важно, как человек общается с Небом, — важна покорность. В этом спрятались две силы: первая сила — не пустить шаманов Черной Веры, магометан, служителей Будды и прочих еретиков к струнам его души. Пока есть общий враг, пусть Темуджин объединяет людей. Когда весь мир падёт к ногам его коня, он или его потомки поймут — народы можно завоевать мечом, но удержать их в покорности можно только Верой. Твоя задача (как и многих людей, знать о которых тебе не дано...) — подготовить почву к тому, чтобы и сомнений не осталось — это должна быть Наша Вера.
— Ты плохо знаешь Темуджина, учитель. Хан не помышляет о захвате всей ойкумены, он думает лишь о покое для тех, кто доверился ему.
— Но жаждут ли покоя его люди, рождённые для бурана? Да и он — порождение войны — сможет ли свободно дышать без неё. Он лукавит сам с собой, Маркуз, так-то. В нужное Господу время Темуджин поймёт — не может быть мира, пока есть те, кто не покорился справедливости. — Старик перевёл дух и заговорил спокойно и строго: — Ты приблизился к нему вплотную, но главная твоя задача — не он, а его старший сын — Джучи. Мы возлагаем на него особые надежды, и не только потому, что он — прямой наследник по праву первородства. Но и потому ещё, что его родовое древо не безупречно.
— Это верно, учитель. Одному Богу известно, кто его отец: Темуджин или безвестный меркитский разбойник.
— Ну, положим, имя удальца не ускользнуло от наших ушей. Это сотник Чильгир-Бух... Печаль не в том. Другое важно. Никогда не истает ехидное сомнение в глазах простых людей, а значит, и соперники на стрёме, как пардусы[60] перед охотой. Его уже и сейчас зовут «меркитским подарком», этот фатум и Темуджин не в силах изменить.
— Тогда тем более непонятно, почему внимание к нему, не к другим сыновьям? Не к Угэдэю, например, что также женат на христианке Дорагинэ?
— Угэдэй ленив, как слепень по осени, его жена — надменная утка, правда, она христианка, и само по себе это хорошо, — старательно растолковывал старик. — Нет, за Угэдэем не пойдут толковые.
— А Джагатай?
— Твёрд, решителен, всем хорош, да вот беда — не только мы это понимаем. Будет он как красивая невеста губы надувать — знает себе цену... Он — тайджи чистых кровей. За него те уцепятся, кто считает, что только монголы — белая кость, а остальные племена — вроде вьючных лошадей. Тут где сядешь, там и слезешь. Да и не успокоится он, пока Джучи не изведёт. Ему в том — прямой резон.
— Это верно, святой эцегэ. Мудрость единорога в словах твоих. Только Джучи, когда придёт пора, станет знаменем покорённых, — восхищённо поддержал Маркуз, — а большинство из них — крещены. Джучи обижен и поддержит обделённых.
— Темны и капризны всплески благожелательности к нему Темуджина. Тут самая тонкая струна, и твоя же задача, Маркуз, чтобы она не оборвалась. Иначе всё пропало. Впадёт Джучи в немилость — возобладает в степи право чистых монгольских кровей, будет обласкан — воспарит право чистой души, стремящейся к Богу. Но заповедовал нам Мессия: «Несть эллин, несть иудей...» Воистину...
— Несть монгол, несть кераит... аминь, токмо паства Христова, — вдумчиво промолвил Маркуз. — Абай-бабай, да свершится воля Его. Я беру эту ношу, святой эцегэ. Прощай, и да будет мир с тобой.
Джучи и Уке. 1206 год
— «Осторожность — людей различать». Так ты сказала на том курилтае? Различила? Видно, испугалась, когда узнала, что не с простым нойоном, а с ханским сыном расщебеталась тогда о чём не надо. Все в ханскую родню языками дорогу себе метут. Только языки те мёдом смазаны, а твой был ядом змеиным. Помогло? Или не рада, что посватался тогда?
Уставший Джучи растянулся у очага и искоса посматривал на жену, подзуживал.
— Нет, мой повелитель, — Уке-хатун, паясничая, распростёрлась у ног мужа, — всю жизнь я хотела катать войлоки в юрте простого харачу. Пусть не в сытости, зато в почёте.
— В почёте? — насторожился он, ожидая продолжения.
— Была б моя воля, разве пошла бы второй женой? Да разве ханскому сыну откажешь...
Вот такие у неё маленькие слабости. Уж год, как живут они вместе, а она всё намекает... Выводит разговоры в эту сторону. Это — не боль, а приятная привычка. Знает, хитрюга, что цепко держит мужа за ниточки. Вот и ублажает себя иногда: «Скажи, скажи ещё раз». А подумать — не в том даже и дело. Уке о будущем печётся. Умна, мерзавка. Спрашивает об этом только тогда, когда чувствует — он сам не прочь такое повторить. «Повторяй, муженёк, повторяй. Что в юности охотка, в старости — привычка».
Да разве он против?
И Джучи с притворным недовольством бурчит: «Никтимиш мне отец навязал, не я выбирал... Тебя — сам. Поэтому ты — самая первая».
— Значит, ты согласен бороться за эти слова? Даже если за ними, как за куренными повозками в бою, будем стоять не только мы вдвоём...
Джучи насторожился. Неужели... За этими ожиданиями он даже забыл про любимые поводы для печали. Но спрашивать так, в лоб... Он её уже успел изучить, она не скажет.
— Послушай меня, муж мой, — заговорила она размеренно, как рассказывают улигер. — Скоро у тебя будет много поводов и для верности...
— Значит, всё-таки...
— Да. Сиди спокойно. Я не говорила об этом раньше. Без того, что нас ожидает вскоре, мои слова — шум тальника на ветру. Ты боишься, что в тебе нет крови отца?
Окаменел, насторожился. Конечно же, он боялся. И того, что она тоже засомневается, боялся. Но слухи, слухи...
— Но разве твой хан Темуджин устаёт повторять, что не родовитостью, не верностью, но умом и мужеством завоёвывают его расположение? Разве не возвысил он сына кузнеца Джэлмэ и пастуха Боорчу в ущерб своим негодным родичам? — Её руки, с тонкими крепкими пальцами теребили маленький острый ножик для резки баранины. — Так почему не распространит своих мудрых постановлений на собственную юрту? Не знаешь, несчастный? — Она встряхнулась, загремели украшения на халате. — Разве твой ленивый брат Угэдэй больше достоин внимания хана, чем ты? Разве Джагатай, завистью испортивший печень, смывает благородной кровью собственную глупость? Ибо только глупый и больной — завистливы.
Джучи сидел, не шевелясь. Уке своим позабытым за этот год азартом очень напоминала ему себя, прошлую, ту, какой она была в момент их первого знакомства на Великом Курилтае.
— Хватит ли смелости понять, — в её голосе звенел задорный металл, — или я говорю с одержимым мангусами? Если Небо определило твоё предназначение быть багатуром и белой костью — имей силу и мужество сделать родовитой свою собственную кровь. Разве не ради этой возможности столько лет умирали наши воины? Не ради ли этой правды прозорливый Тенгри возвысил твоего отца? Он — твой отец по выбору Вечного Неба, а не по глупости рождения. — Уке замолчала на мгновение, потом продолжила тихо, устало: — Хочешь узнать о себе — узнавай, но не шарахайся от правды, как вол от слепой плети. Перехвати эту плеть.
Она перевела дыхание... сказала:
— Тем более что нас будет трое... Твоя кровь, — и она лукаво улыбнулась, — шаман гадал на лопатке, жди сына.
Конечно, никакие слова не способны были вытащить из Джучи застрявшие занозы, когда он был одинок. Однако появление в его жизни Уке разве не сделало его другим? В её глазах постоянно читал он самое важное: «Мне нужен ты, именно ты».
Он и сам не заметил, как повернулось его беспокойство в другую сторону... Раньше было так: «Я — отравленная падаль, напоминание о позоре. Это от меня до поры ? скрывают. Но ВДРУГ всё-таки не падаль? » А теперь, после появления в его жизни Уке, стало иначе: «Я ей нужен, пока она не узнает, что я отравленная падаль. А ВДРУГ всё-таки не поэтому...» И вот... наконец.
Долго Джучи смотрел на очаг, и наполняла его тело счастливая беззаботная слабость.
— Что... что же ты ра-раньше-то...
— Нужда не подоспела. Будешь ли думать теперь о нас, а не о том, какой ты несчастный?
После короткого молчания, одержимый небывалым приливом сил, он сказал, как припомнил:
— Отец (ничего не кольнуло)... посылает меня на войну в Северные Горы, — «лесные народы» покорять. Зачем ему это? Не знаю.
— Будешь копаться в себе, и что знал забудешь. — Она уже делалась привычно колкой[61].
— Вернусь не скоро. Хотел не вернуться — теперь вернусь.
— Не вернёшься — плохо мне будет, умучают. Хотел не вернуться — о ком думал? О себе, нелюбимом.
— Вернусь, — твёрдо, как это умел отец, отчеканил незаконный сын, — и мы всё узнаем, ВСЁ узнаем.
И Джучи впервые за долгие годы торжествующе улыбнулся.
Уке и Маркуз. 1207 год
С тех пор как поплатилась за свой длинный язык неожиданным замужеством, окружали Уке облавным кольцом нелёгкие вопросы. Ответишь — вырвешься. Не разгадаешь — пропадёшь. А спросить — у кого?
Подтянутый молодой нойон, застенчивый, колючий и печальный одновременно, с которым она так неожиданно пересеклась на курилтае, сразу понравился ей. В девичьих грёзах о будущем являлся именно такой — медведь на верёвочке. Покорность и мощь в одном лице.
Мягкий ручной медведь обернулся мятущимся тигром, сыном самого главного, самого сильного здешнего зверя (или чудовища?). Удержишь ли такого в тонкой паутинке женских интриг? Но нет пути назад. Ежедневно, ежечасно рвутся непрочные верёвочки... Страшно. Садилась, обхватывала руками голову, гремела дорогими китайскими висюльками, думала.
Посватался Джучи — и воссияли торжеством лица её родичей. Радовались и злорадствовали. Чего им от этой свадьбы надо? Нечего и гадать. Вот, мол, смотрите. Пришла пора свалить безродных разбойников — «людей длинной воли». Хунгиратка Бортэ — жена Темуджина, хунгиратка Уке — жена его сына. Благородный обох хунгиратов волей Вечного Неба породнился с родом Борджигинов.
Сын родился в отсутствие отца, увязшего где-то в полночных горах. Никто не защитит от нахальных глаз.
Ходят родичи, посматривают на её младенца, надеются на лучшее. «Вырастет, своих к власти приведёт».
Если Чингис, петляя и сражаясь, хочет именно этого — возвеличить свой оскорблённый обох, — то правильнее всего стараться оправдать подобные ожидания. Её сын будет старшим в третьем колене и наследником Великого Улуса... после Орду.
Орду — отпрыск нелюбимой жены — беда невелика. Будет Воля Неба — отодвинем. Больше детей у этой пугливой утки не будет. Уж мы постараемся, не допустим.
Так да не так? О чём свистели, возносясь над пожарами, Темуджиновы сигнальные стрелы-йори? О том, что второе дело — откуда человек. Важно, что разумный и верный. От родичей своих отбивался юный Темуджин, из-за них мальчиком тёр шею о кангу[62], от них уползал по крутым урочищам в слепую ночь. Забыл ли?
Забыл бы — не раскидал бы людей по десяткам и сотням, не растоптал бы заветы предков.
Если так, не нужно с хунгиратами любезничать, пропадёшь. Безродные удальцы, «люди длинной воли», к власти Темуджином поставленные, изведут её сына.
Вечное Небо, вразуми. Куда гонишь стада и тучи свои?
Когда она узнала про тайну Джучи, всё стало понятнее. Если Джучи незаконнорождённый, то его настырные братья рано или поздно используют этот позор. Их воздетые туги[63] в этой борьбе — родовые святыни. Не станет над ними железного Колпака Темуджина, отправится Потрясатель к праотцам — и сметут её семью с пути, как шалаш сметает буран.
И Уке решилась. Её разящий меч, её союзники — выдвиженцы. «Чёрная Кровь — Белая Кость». Так они себя называют.
Ко времени, когда возмужает её Бату... уж она постарается объединить вокруг себя ТАКИХ ЖЕ, с тёмной тайной своего рождения или с безнадёжной явью такового. Надо искать друзей... Из кого выбирать? Не из безропотных слуг, а из НАСТОЯЩИХ людей хана.
Или тех, ЧЕЙ «выдвиженец» Великий Каган Темуджин.
«Вот это да? — удивлялась сама себе молодая хатун. — Как я помудрела за этот медовый год замужества!»
Дотошному мергэну[64] зверя не избежать. Вездесущий Тенгри, — обычно бог, покровительствующий лишь мужчинам, — похоже, удивился страстным молитвам слабой женщины, которой надлежит лопотать с его божественной супругой Этуген об умножении травоядных стад. Он удивился и натравил на неё Теб-Тенгри, своего главного служителя, верховного волхва Темуджинова улуса, заехавшего к ней в юрту через десяток дней после рождения ребёнка.
Бесцеремонно осмотрев младенца — тот сучил ножками и плакал, — высокий гость приказал зарезать барана — «гадать буду».
Теб-Тенгри взглянул на красноречивые, только ему понятные трещины на бараньей лопатке. Клюнул как птичка синичка несколько кусочков мяса из серебряной миски, чтобы достоинство аппетитом не ронять. Запил шулюном.
«Ну, давай вытаскивай свою травильную палку, вставляй мне в зубы», — стала терять терпение Укефудж. Зачем гость приехал, понятно — будет ссорить её с христианами, но что ссорить, и без того Никтимиш постаралась. Не увернёшься.
— Великая Этуген прислала через духов назидание, — наконец-то произнёс главный волхв.
«Понятно, что не корову в стада. Не томи», — приготовилась Уке, как рысь к прыжку, но вслух не произнесла ни слова. Откажешь или согласишься, — всё одно врагов наживёшь.
— Долго бились в небе серые кречеты с чёрными воронами, — продолжил гость, — да недоглядели, что давно кружат они над болотом. И вот, обессилев, упали вниз, но не прекратили яростно клевать друг друга. Чем больше клюют, тем быстрее их водяные духи в бездну тянут. — Он прилип взглядом к Уке. Поняла ли?
Что тут не понять? Сокол — Чингис-хан, вороны — чёрные жрецы алчного Мессии.
— А клеваться перестанут, — продолжал шаман медовую речь, — в болоте сидючи, всё равно утонут. Небо наделило тебя разумом, хатун. Ясно любому — земля от битв великих кровью пропиталась, болотом обернулась. Привиделось мне, что Соколу — не выбраться из болота, не получится это и у Вороны. Чем быстрее поглотит их обоих многострадальная твердь, болотом ставшая, тем быстрее высохнет кровь... И заколосятся на твёрдой земле сытные зелёные побеги.
«Во-о-на куда его занесло», — похолодела Уке.
Ещё хуже, чем думала, всё обернулось. «Значит, грызутся ли «соколы» и «вороны» или, распри позабыв, новую добычу вместе ищут, чтобы вместе на неё кинуться... всё равно в болоте тонут. Главное, тому либо другому палку спасительную не кинуть, а то снова кровь — не высохнет болото».
— Было мне также видение: недавно народился тот, кто, морок Злых Духов отринув, осушит болото и установит мир. Он и унаследует Великий Улус. — И снова прилип глазами, понятно ли?
«Осушитель болот», почувствовав материнскую панику, вдруг разревелся. Мать, кинувшись его баюкать, лихорадочно думала, как быть.
Сделать вид, что Запуталась... Не поверит, нет? Конечно, не поверит, душевед.
Значит, ездит по куреням, по аилам[65], обиженных собирает, миротворец. Выжидает, когда сокола и ворона с головой в болото затянет. И ведь не придерёшься, всё правильно, так и есть. Люди — устали от проверок, изнемогают от обязательных облавных охот и учебных подъёмов в знобящую тьму. Будут «пророчество» вспоминать. А символ пророчества — её подрастающий сын? Её сын Бату — в роли знамени-туга для этих мятежников? Джучи — не годится, слишком отцу предан. Орду, сын Никтимиш, уже христианами оплетён — не вырвать... Джагатай и Угэдэй пока бездетны... Значит... всё сходится на Бату?
Тут и дня не проживёшь! Не те, так эти в войлок вкатают. Легко Теб-Тенгри на чужих хребтах вытанцовывать. Его-то кто тронуть осмелится?
Уке затряслась, как еврашка, увидев степного удава.
«Миротворцы — а людей в болоте утопи, не спасай. И христиан, и монголов, ВСЕХ. Кто сейчас у нас не кречет и не ворон? Кого согласия спросили? Умно придумал, мангус». Она ужаснулась тому, что обзывала главного волхва мангусом. Посредника между ней и духами-хранителями её сына — считать лжецом? Что же делать? О Хормуста, вразуми, как выкрутиться?»
— Бесконечно милосердно Вечное Небо. Кто не знает волю Двуединого Бога и пытается тонущих спасти — вознаграждён будет за верность, — как бы про себя бормотал шаман.
— А кто знает? — встрепенулась Уке. Дальше ей было ясно... дальше пойдут угрозы.
Однако Теб-Тенгри, опустив в пиалу расслабленные пальцы, молча обрызгал собранные на войлоке онгоны. Движения были такие, что и не понять: то ли отмахнулся, то не просил предков о милости... Сам-то для себя уже, поди, уяснил... Если царевна вскинулась, задала последний вопрос, — можно и не договаривать — его поняли. Сообразительная уродилась.
Огонь в очаге не метался — ровным пламенем тянулся вверх.
Шаман прищурился, медные прутики-лучи на макушке его убора плавно закачались.
— В твоём очаге послушный огонь, он осушает влагу. И нож у тебя — красивый. Не махай им без толку, не отрезай головы своему огню. Живи разумом. Это всё, что открылось сегодня. Завтра — приду ещё.
Языки ровного пламени вдруг встрепенулись. Подул ветер из-под открытого полога.
Шаман яростно обернулся:
— Кто посмел войти без приглашения во время камлания...
Нагнувшись, резко, одним шагом, приблизился к ним их новый тургауд-телохранитель Маркуз, бросил быстрый взгляд на испуганное, помрачневшее лицо хатун, на только что переставшего плакать Бату.
— Пристало ли служителям Этуген пугать тоскующих жён, когда их мужья в походе?
— Не волкодаву решать, что важно пастуху, — прошипел волхв и взорвался: — Не суй нос в костёр, обожжёшь! Выйди и жди — я поговорю с тобой.
— У тебя отцепилась побрякушка с халата, взгляни, у левой руки... — спокойно-доброжелательно указал Маркуз.
Шаман невольно скосил глаза, а когда поднял их, его словно разом опрокинуло в две чёрные пропасти глаз пришельца... Безотчётный страх отбросил Уке к тщательно застеленному ширдэгу[66]. Даже Бату замер и, казалось бы, перестал дышать.
— Если кречет и ворон буду клевать друг друга яростнее — быстрее утонут. Так, да?
— Да, именно так, — заворожённо прошептал Теб-Тенгри.
— Но они помирились и слишком медленно погружаются, это правда?
— Слишком медленно, болото усыхает... нужно крови, больше крови. Иначе — мало обиженных, слишком мало... — бормотал волхв, будто сам себе.
— Ты ведь знаешь, что обиженных уже много... Прислушайся к себе, и ты поймёшь — их уже достаточно для бунта. Настал твой час, Теб-Тенгри. Запомни — завтра болото усохнет. — Пропасти зрачков Маркуза ровно и безжалостно тянули, высасывали остатки воли.
— Да, выступать нужно сейчас... Это так, завтра болото усохнет... — повторил главный волхв.
— Теперь иди... и не забудь: ты не заходил в эту юрту, не говорил ни с кем... Повтори.
— Да, я не заходил... я не говорил...
Выставив, подобно слепым, длинные руки вперёд, всесильный Служитель Неба семенящими шажками поплёлся к выходу. Уке провожала его широко раскрытыми глазами.
Маркуз выглянул за полог — похоже, для того, чтоб убедиться, уехал шаман или нет, — после чего обернулся к заворожённой всем происходящим женщине. Вздохнул... весь дрожа, будто с мороза. И, как срубленный шест, рухнул лицом вниз.
— Сочихел! — завизжала, наконец очнувшись, Уке.
Домашняя рабыня поспешно нырнула в юрту. Вместе с хатун они перетащили безвольное грузное тело Маркуза на ширдэг.
Очнулся Маркуз не скоро... в глазах — мука, как у раненого изюбря.
Спутанные волосы — он никогда не заплетал их в косички — делали его похожим на неряху-богола. Улыбнулся доверительно, по-детски:
— Буду теперь несколько дней глухой и сонный, как ленок на берегу. У тебя ещё остался шулюн, благородная хатун?
В этот миг жену Джучи занимало совсем другое — она не любила неопределённости:
— Что здесь происходило? Кто ты такой, Маркуз, злой дух?
— Для тебя — незлой. Был бы духом — не лежал бы сейчас обсосанной костью.
— Что же теперь будет?
— Теб-Тенгри... как тигр... бросится на копьё хана Темуджина. Это немного рано, но тебе грозила... беда. — Он помолчал, было видно, что не хочет говорить об этом, и вдруг перевёл разговор на другое: — Тебя ждёт разочарование, Уке-хатун. Дети редко похожи на родителей, не вкладывай в Бату так много души. Он может вырасти глупым телёнком — что делать будешь?
— И телята вырастают в быков, — проглотила обиду Уке.
— Быки не возят багатуров в бой, к их могучей груди приторачивают тягловые ремни...
— Это — не последний мой сын, — сказала она, хотя думала говорить совсем не об этом. Спросила снова: — Кто ты такой, Маркуз?
— Скажу — не поймёшь.
— Что же ты хочешь?
— Разве у хамхула-перекати-поля спрашивают, чего он хочет?
— Перестань говорить со мной так. Мне немного больше трав, чем Бату. Если мой сын — не телёнок, ты поможешь нам или нет? Для чего ты здесь, скажи. Или я — овца для будущего пира?
Маркуз с мягкой улыбкой слушал её путаные слова.
— Ты и мне уже голову заморочил... я готова... я... готова слушать. — Голова её действительно кружилась.
— Думаешь, я добрее шамана? Смотри не ошибись.
— Ты не наступишь на мой порог... Барс, которого видно в кустах, — не на охоте. Наверное, знаешь всё на свете... человек, который способен....
Теперь чародей улыбнулся обнадёживающе:
— Способный пороть обычно не знает шитье. А ты — ничего, берикелля[67]. Не испугалась.
И он снова тяжело опустил гудящую голову на ширдэг.
Джучи возвращался из похода в тревоге. Кровь не пролил — добычи не привёз. В раздумьях метался туда-сюда вдоль обоза. Гоняясь за ускользавшей мыслью, смотрел в пустые выпученные глаза кречета, подаренного в знак покорности иналом — правителем страны Кем-Каюджит. Что-то это ему напоминало, вспомнил: такие глаза у воинов, когда те устремляются вперёд на врага... Сейчас их глаза были опять разные... у кого-то устало счастливые — домой едут, иные смотрели недовольно... они мечтали вернуться с добычей. Такие взгляды не выдерживал — виновато улыбался.
Кыргызы насмешили монголов, забавные деревянные юрты приросли к земле — не оторвёшь. «Всю траву съедят, как отдирать будут...» Ойроты оделили шкурками соболей, лисиц и белок. Эти жалкие знаки покорности лишили его людей награды за поход. Но он решился... покорность принял.
Молва об их непобедимости — оправдание здешним трусам, унижение храбрецам. Но все живы. И у них, и у нас. Однако нищие остались нищими, ведь армию кормит война.
Что важнее и что на это скажет эцегэ?
Отец его похвалил, поставил в пример. Значит — всё правильно. Джучи угадал его желание обезопасить полночный бок улуса, не проливая большой крови. Уцелевшие воины понадобятся на юге. Оттуда дышит огнём джурдженьский Золотой Дракон. Кто не помнит, как раз в три года впивались его зубы в монгольские нутуги, как уходили в нахрапистую пасть Шаньдуна помертвевшие от ненависти люди, люди, люди... Сколько их было? Джурджени называли такое «уменыпеньем рабов и истребленьем людей». Возвращаясь в разорённые аилы, бессильные беглецы хоронили своих детей и жён... смотрели, пристально смотрели на юг. Ужо воздастся.
Счастливый одобрением, сомнительный сын выслушал похвалы и напутствия. Главное волнение было всё-таки о другом.
По дороге домой Джучи перехватила Никтимиш-хатун. Орду успел его позабыть, испуганно заревел, когда отец, — больше желая угодить жене, чем соскучившись, — подбросил сына на плечо.
— Что ты, глупый, это же отец.
Никтимиш радовалась его возвращению так искренне, что он всё не решался разжать фальшивую улыбку и спросить о главном. Знал — этим вопросом он её расстроит.
И вот добрался, влетел к Уке... Всё было так, как он мечтал.
— Я назвала его... Бату... — нерешительно, не похоже на себя, улыбнулась вторая, любимая жена.
— Я с самого начала верил.
Теперь наконец восторг встречи передался и Джучи.
Он не сразу заметил, что улыбка Уке несколько вымученная... Ждал, что его будут подзуживать... но не подзуживали. Просто и доброжелательно оплетали суетливой заботой. И на Джучи вдруг навалилась непонятная, неуловимая тревога. Почему?
А Бату, успокоившись, дёргал эцегэ за усы.
* * *
Тех, кто голову для поклонов имел, случившееся потрясло. Был опасный враг — и нет его, был всесильный покровитель — и вдруг не стало. Вечное Небо отняло у Великого Теб-Тенгри заботливую душу, прибрало и тело.
Тела этого правда и при жизни под загадочным убранством никто не видел. Иные думали — и нет под просторным халатом ничего. Так или иначе — от шамана не нашли и ремешка... Вознёсся страдалец вместе с медяшками-изображениями зверей, с цепями и треугольными подвесками, шапкой из колец и прочей важной для Вечного Неба мишурой. Куда пропало тело, знали только те двое, что его из юрты ночью выносили. И ещё — сам Темуджин.
Иные из новокрещёных по простоте душевной восклицали: «Господь также во времена оны Мессию на Небо прибрал после распятия. Стало быть, праведник-шаман — в раю».
Боясь языческих властей, старые кераитские священники наизнанку выворачивались, дабы пресечь ручеёк вольнодумия.
Однако те, кто голову на плечах имел не для поклонов, удивлялись другому.
Шаман вдруг всю свою осторожность потерял. В их конфликте с Великим Ханом время на него работало. На границах — почти затишье, добровольцы по буеракам добивают меркитов. Мирные кочевья — сила волхвов, пылающие — слабость. Сидеть бы шаману, не высовываться, сторонников по зёрнышку собирать, тихонько укрывать дезертиров.
А он вдруг — кабаном попёр. Это не в характере шамана, не по его уму и опыту. Ханского брата Темугэ заставил на колени пред ним встать, а после выгнал с позором. Это был открытый и преждевременный вызов, и Темуджин запер душу главного врага в его же плоть переломом гордой спины.
Чем стремительнее неслись события, тем большее волнение, вкупе с восхищением и ужасом, охватывало Уке. Рассказать кому-либо о событиях в её юрте, которые предшествовали бунту шамана, она не решалась — да и кому расскажешь.
А Маркуз вёл себя так, будто ничего не случилось — спокойно нёс обязанности по их охране.
После возвращения Джучи, однако, привалило неприятностей совсем новых. Как только Уке увидела мужа, её вдруг ополоснуло брезгливостью: и этот человек когда-то занимал мысли, это он казался ей тигром и медведем, которого так приятно держать на верёвочке. Да это же какой-то склизкий огромный таймень, завёрнутый в халат, у него руки мокрые... Смотрит муж на неё как жертвенный вол, мысли у него, как хурут разболтанный — ни твёрдого кусочка. Правда, какой-то голос внутри шептал ей, что она несправедлива, беспощадна, однако напрасно... Уке вдруг чуть не вырвало от мысли, что к этому человеку ей надо прикасаться... ещё как прикасаться, всё-таки муж законный, истосковавшийся в походе...
В ту ночь взять себя в руки она не смогла, Джучи получил в награду за разлуку мерзкую смесь из отвращения, чувства вины и снисходительной жалости, на которую был особенно чувствителен. К тому же под утро он стал мучить её вспышками самобичевания, чего она уже и вовсе не выдержала и выбежала под звёзды. В её усталых отговорках шипела жестокость загнанной в угол змеи. Резкость и прямота жены, так восхищавшая когда-то, оставляла в его душе гноящиеся раны.
Утром Маркуз пришёл проверять караулы, и Джучи его увидел. И тут началось совсем невообразимое. Жёстко схватив жену за руку, он втащил её в юрту, резко швырнул на ширдэг.
— Откуда ОН здесь... Откуда? — Его рука дрожала. — Так вот в чём дело?
Истерзанная Уке и для себя-то вдруг — из-за этого вопроса — впервые с удивлением осознала, что дело именно в нём... в Маркузе. Но как об этом догадался Джучи, она и вовсе не поняла.
— Ни-ничего не делает, просто... он тургауд... охраняет... нас... ну как... как у всех тайджи... такие... охрана... — Она еле сдержалась, чтобы не брякнуть что-то дикое, вроде «у нас с ним ничего не было»... Но вдруг сообразила, что Джучи не о том... Сначала она испытала облегчение, потом стало ещё страшнее...
— Кто его сюда поставил? — заговорил вдруг Джучи едва не шёпотом.
— Ни... никто, не я... Хан Темуджин, наверное...
— Вот, — Джучи поднял толстоватый палец, — вот... Я так и знал. Никакой он не тургауд... Т-ы-ы э... сидишь тут, как совёнок в дупле... Ты знаешь, КТО он такой?
— А... — Уке тщетно пыталась закрыть рот.
— Он из этих, из ПРИШЕДШИХ... Эх ты... — И Джучи присел на олбог, обхватив руками голову.
— Каких-каких?
— У вас, у хунгиратов, что, и этого не знают?
Да, не зря он думал весь поход, ой не зря. Последние слова, что Джучи сказал, были им, кажется, сказаны самому себе:
— Темуджин, говоришь, приставил? Ну-ну...
Их за глаза называли «пришедшие». Кто они? Каков их ранг? Где их стада и юрты?.. Казалось, жили они, как ветер... Свободно уезжали, приезжали — поди проследи. Одеты — то в козлину дымлёную, то в халат гвардейца-кешиктена, а то и просто в рванину, будто несториане-отшельники.
По новым указам любой юнец-выскочка из гвардии Темуджина стоял над любым родовитым нойоном, над всяким тысячником из простого войска. Палками по спинам барабанили эту истину палачи — а всё же не проходило ни дня без пререканий.
«Пришедшим» же кланяться не заставлял никто... Но даже «начальники крыльев», всесильные Ная и Боорчу не имели сил и желания перечить «пришедшим». Поговаривали злые языки, что ОНИ и Темуджину — не подчиняются.
Конечно, такому не верили. Разве бывает что-то в степях, не подчинённое Великому Хану? Только духи.
А может, ОНИ и не люди? Духи, мангусы, слуги Кулчина?
Этакие слухи больше всего обеспокоили старых шаманов, служителей Этуген, а в первую голову — самого Теб-Тенгри. Ибо только шаманам по закону подвластно чудесное. Им, и никому больше. Слухи о странной силе «пришедших», об их влиянии на хана всячески шаманами пресекались...
И вдруг враз... рухнуло могущество Теб-Тенгри, и тут же Джучи обнаружил у своей юрты одного из этих таинственных поводырей происходящего вокруг. Маркуз, «поставленный», или «вставший» по собственной воле оберегать Уке и её новорождённого сына, был не иначе как-то связан с той порчей, которая поразила его жену.
У Джучи было такое чувство, как будто его засунули в котёл... Пускай вода пока ещё тёплая, но это вовсе не причина, чтобы спокойно там сидеть. Все переживания относительно собственного рождения показались ему не стоящей внимания мелочью. Вспомнился разговор с отцом перед женитьбой на христианке Никтимиш, его умоляющие глаза... «Так надо, сынок...» Значит, и отец заколдован? Неужто это правда, что на самом деле они правят улусом?
Ханские заботы — немалые заботы. Лишь на третий день Темуджин соизволил его принять. Всё это время ожидания Джучи провёл в юрте Никтимиш-фуджин, честно пытаясь не сойти с ума раньше времени.
— Что с тобой, сынок, отчего такая спешка? На тебе лица нет. Неужто я вижу перед собой мудрого воина, успокоившего наши западные границы... говори... — Хан был явно в приподнятом настроении. Ещё бы, недавно он быстро и неожиданно избавился от верховного шамана Теб-Тенгри, который в последнее время был его главной занозой...
За эти три дня Джучи всё продумал. Саблю, по обычаю, он оставил при входе, но короткий нож (с помощью какого едят барана) так и висел на груди, оружием не считаясь. Впрочем, вздумай он броситься на Величайшего, кешиктены были бы тут как тут... но ведь он и не собирался этого делать.
Джучи резким движением приставил нож к своему горлу (синий полог слегка шевельнулся, и это могло означать, что охрана уже готова действовать) и решительно заговорил:
— Отец, мне каждый вздох, как свинец по горлу... Клянусь, я убью себя, если ты мне всё не расскажешь.
Или я узнаю правду, или ты лишишься сына, никто не успеет приблизиться прежде, чем я буду у предков. Но даже если ты меня свяжешь, клянусь здоровьем матери, я сделаю это всё равно... Но не бойся. Всё, что я услышу, останется между нами. В этом я тоже тебе клянусь.
Лицо отца испуганно исказилось... и Джучи вдруг подумал: что бы там ни было, а его всё-таки любят. Ох, как бы он обрадовался раньше, увидев этот красноречивый испуг.
— О чём, сынок?
— О пришедших, о том, где ты был все те травы. Обо всём.
Темуджин соображал быстро... и в людях разбирался неплохо. Что-то изменилось в его лице, — будто вся жизнь в уме у него пронеслась — так оно меняется перед казнью.
— Что ж, так и быть. Значит, на то Воля Неба, едем сынок в степь, — сухо разжались губы повелителя, — здесь нельзя, нас услышат кешиктены. Ножичек-то... опусти, а...
— Нет, не опущу, пока не расскажешь. — Лицо сына пошло багровыми пятнами.
Великий хан поведал сыну о том, что не рассказывал никому... про свои страхи. Давно это было. Тогда шёлковые покрывала с вышитыми на них драконами не трофеями были. Мягким сиянием страх нагоняли эти покрывала. Они дышали властью джурдженьского Алтан-хана, обжигающей золотом живое горло степей. Все остальные народы были в ту пору — как мотыльки вокруг этого сияющего огня. Но и у мотыльков были свои, хоть и маленькие, но по-своему серьёзные страсти.
Темуджинов отец Есугей-багатур был славен тогда не только тем, что умыкал чужих жён. Он ещё рубился и с татарами, которые в ту пору враждовали с монголами. Давным-давно, ещё до рождения Темуджина, заботливые родичи отправили Есугея в набег на татарские курени. Не для того послали, чтоб добычей стариков порадовал. Хотели мудрые, чтоб вождь нищих юнцов и голодраных разбойников сам в татарскую добычу превратился. Однако не послушался старших Есугей — возвратился домой живым и с подарками, всем настроение испортил.
И всё-таки не унывали старейшины-бики. Сплоховали татарские мечи — не велика беда. Оправдал надежды татарский яд. Уморили-таки деда доброхоты-враги по наводке сомнительных друзей. Видно, не поскупились родичи на награду тому татарину, что подсыпал порошка в кумыс при случайной (ой неслучайной) встрече с Есугеем на далёком привале. Но умер дед не в степи, а дома, на глазах у жены и сыновей — успел добраться.
Темуджин помнил каждый миг этого дня. Помнил, как хлопотал над метавшимся по своему ложу эцегэ. Суровый, хлёсткий, отчаянный Есугей был готов рисковать, потому что где-то внутри сидела уверенность — он не умрёт рано, недаром его дела шли всё лучше и лучше. Дёргаясь в последних судорогах, он ещё не верил, что это — конец. Он уже осознал, что отравлен, и кричал об этом, не стесняясь собственной досады. Вот таким он и запомнился — удивлённым, готовым взреветь на свою гудящую голову: «Ну всё, пошутили, и ладно!!!»
Злая досада дёргала ослабевающее тело, и взгляд был пропитан ненавистью. Не к татарам, нарушившим закон степи. Есугей ненавидел мир, ускользающий из его деятельных рук — навсегда, навсегда.
А юный Темуджин, не прощавший слабости тем, в кого он верил, был угнетён беспомощностью непогрешимого эцегэ.
Не остался Темуджин осиротевшим ребёнком, потому что не был ребёнком. Чёрный флажок полоскался у входа в юрту (не входить — больной, злые духи), и чёрный флажок истерзанного самолюбия трепыхался под тонкими рёбрами Темуджина. Красно-чёрная собачка ненависти поскуливала под этими тонкими рёбрами.
Отвернув лицо от пожелтевшего отца, который вдруг словно стал простым продолжением засаленной одежды, Тамэ надёжно проговорил:
— Ну вот, ихе, мы остались одни, теперь я буду защищать вас, как старший.
Мама насупилась, отчего его ошпарила жгучая мужская гордость. Она сомневается в нём КАК ВО ВЗРОСЛОМ и хочет поверить...
— А сможешь ли? — спросила она не с презрением, а с надеждой умной, но слабой женщины... каковой не была.
Нельзя находиться в юрте, когда отравленная духами душа покидает тело. Они забыли, пренебрегли чёрным флажком у входа. А тех, кто у ложа умершего сидел, изгоняют на время из куреня, чтобы очистились от злых духов. А на какой срок — это не людям решать, а Небу. Обычно оно к свидетелям смерти близкого снисходительно, а тут вдруг разгневалось не на шутку. Гадают шаманы, спрашивают Вечное — можно ли прервать изгнание семьи Есугея?
А Небо — не даёт ответа.
И как-то так получилось (или кто помог), что слишком упорно Вечное Небо безмолвствовало. Шаманы потихоньку и спрашивать забыли, а старейшины напоминать запамятовали. Только красно-чёрная собачка, живущая внутри Темуджина, захлёбывалась хрипящим лаем, но её никто не слышал.
Колючие годы летели песком в обветренное лицо — один, другой, пятый. Сменяли цвет неумолимые травы, в изгнании подрастали Есугеевы сыновья — пробавлялись жгучей саранкой, тарбаганами, птицей и скользкой позорной рыбой, которую уважающий себя человек и в руки не возьмёт. Ловить бы ту тошнотворную рыбу до седин, но...
Вошёл как-то в их юрту пилигрим-оборванец, что само по себе — не чудо. Мало ли шатается по степи безумных и бесноватых, начиная от несторианских отшельников и заканчивая даосами.
Кем бы ни был путник, посетивший твой очаг — врагом ли другом, — но прежде всего он гость. Такого накорми, напои, а если гонится за ним кто — укрой...
Так-то оно так, но в семье Темуджина были поводы усомниться в том, что боги их вознаградят — и за радушие, и за гостеприимство.
Во-первых, их жизнь изменило как раз то, что Есугей понадеялся на таковой закон и, будучи неприкосновенным гостем татар, дал себя попотчевать отравленным кумысом.
Во-вторых, родичи как будто и «забыли» семью Темуджина, но сам он — дело другое.
Года через два после начала их изгнания он взял да и... убил сводного брата, такого же мальчишку, каким в ту пору был сам Темуджин. За что? За вспышки пощёчин под улыбочку, за издевательства? На самом деле, конечно, за это. А поводом послужило подозрение, что братец — шпион любимых родичей.
Своим поступком Темуджин ужаснул мать, но и уважать заставил не на шутку. А сам он был рад, что приручил свою ненависть, красно-чёрная собачка с тех пор покорно лизала его гутулы.
После того как это всё случилось, старейшины оказались не только не против, чтобы Темуджин прервал изгнание и вернулся домой, но даже очень на том настаивали... по лесам его ловили, на верёвке тянули, деревянную колодку на шею цепляли, навсегда. Возвращение из изгнания на таких условиях Темуджину не понравилось, и как-то раз он (не без помощи доброжелателей) снял колодку и сбежал из сытого рабства назад, в свободную нищету. С тех самых пор они и скрывались, потому что за поимку строптивого назначили награду.
Первый же забредший к ним скиталец (накормленный, напоенный) выдал их с потрохами — еле сбежать успели, загнав насмерть старого мерина. Следующие гости, оставленные ночевать, попытались ночью их всех повязать. Мать забрала у доброхотов оружие и лошадей и отпустила пешком в степь, но Темуджин и братья, втихую от неё, нагнали гостей и расстреляли из неуклюжих самодельных луков. Страх поимки пересилил благородство... Сердце Темуджина уже успело закостенеть.
И вот появился новый гость. С ним ожесточённый изгнанник намеревался поступить так же, как и с предыдущими.
За ужином пилигрим на корешки и кузнечиков не налегал, а вволю подкрепился пойманным недавно тайменем — стало быть, не отшельник. Потом отозвал Темуджина в сторонку и показал пальцами причудливую фигуру: «Запомни этот знак». Темуджин рассеянно кивал, подумывая о том, как поехать за этим сумасшедшим вослед, да так, чтобы мать не увидела — она что-то начинала подозревать. Но вскоре он позабыл о суете, потому как услыхал:
— Я знаю, ты сын Есугея. Тебя ждёт великая судьба... если будешь послушен воле Неба. Ты — избранник Бога. Запомни этот знак...
— Какого... м... м... бога? — спросил обалдевший Темуджин и отправил на надлежащее место отвисший подбородок.
— Того, который Един, большего не знаю... Мне доверили передать...
После неловких препирательств юноша понял, что эта «ходячая драная кошма» — просто живое сообщение. Странник вызубрил наизусть, что велели... Кроме того, что кто-то вложил в его уста, он, похоже, ничего и не знал.
Гость посоветовал подарить кераитскому хану Тогрулу «вон ту» соболью доху и попросить помощи. «Скоро люди узнают о твоём предназначении и будут собираться к тебе, защити их, и Бог возблагодарит тебя невиданным взлётом. Но горе, если ослушаешься Судьбу, вернёшься, откуда пришёл — к деревянной колодке и пониже того», — пробубнил странный человек напоследок, взгромоздился на свою невообразимую клячу и пропал в тальниках.
То ли потому, что Темуджин так и отпустил непрошеного гостя живым и пожалел об этом уже к вечеру, то ли ещё по какой причине, но услышанное не выходило из головы. «Почему Тогрул, при чём тут Тогрул?» А мысль-то сама по себе была неплоха... Ведь этот неприступный повелитель был отцовским побратимом.
С ранних дней гудели в уши Темуджину все кому не лень: «Помни о Тогруле... будь благодарен Тогрулу... если бы не хан Тогрул...» Хан кераитов когда-то поддержал Есугея в том набеге на татар, который возвысил отца Темуджина над соплеменниками. Старейшины тогда ворчали, что для того, мол, поддержал Тогрул «разбойника» своими сотнями, чтобы смуту у своих соперников-монголов приумножить. Знал коварный — вся смута от «рыжего непоседы» и его приспешников.
Соболья доха, единственная ценная вещь в их хозяйстве, была отдана Темуджину тестем Дей-Сеченом вместе с невестой Бортэ, как знак не столько расположения, сколько желания унизить бедного родственника. Юноша её не только не носил (да и где?), но и терпеть не мог. Своим игривым блеском она оттеняла их убожество. Так что — невелика потеря.
Четыре дня Темуджин не находил себе места — так ему хотелось поверить, что посланник-то был не простой, а волшебный. На пятый день понял — либо он таки съездит к Тогрулу (на всякий случай, проверить), либо рехнётся.
Тогрул проявил непонятное великодушие, как будто был уведомлен о его приезде. Темуджина с семьёй одарил по-царски, обещал всяческую поддержку: «Ты же сын моего анды, негоже оставлять родню в беде». Темуджин вздохнул, подумав про годы покинутого полуумирания: «Где ж ты раньше был, родственничек?»
Именно потому, что объяснение благодетеля было нелепым, юноша стал вспоминать слова давешнего пилигрима с резко возросшим интересом.
Каково же было его удивление, когда обернулся Вечный Тенгри-Небо к Темуджину не вполоборота, а всем своим могучим корпусом и осыпал его невиданными милостями. Впрочем, не без неоценимой помощи Тогрула, который — как и все кераиты — не признавал никакого Тенгри, а молился страшному идолу, умершему на крестовине и потом воскресшему.
Мало ли нищих аилов бороздит колёсами кибиток терпеливую степь, мало ли в ней изгнанников в неспокойные времена? Но именно к их опальной семье стали слетаться, как мотыльки на огонь, все кому не лень с предложениями верности и поддержки — конокрады и охотники с подножий северных урянхайских гор, беглые рабы-боголы и преступники, неуживчивая молодёжь из родовых куреней, смертники, сбежавшие с китайских рудников и плантаций. Десять тысяч народу набежало — целый тумен, тьма. С чего бы? Узнали про покровительство могущественного Тогрула? Причина хоть и весомая, но недостаточная.
Ведь и Есугей-багатур был побратимом Тогрула... и что из этого? Ну стал известным военным вождём, а в ханы так и не выбрали, всю жизнь за глаза «разбойником» величали. Да и то сказать: он был вождём отдельного племени борджигинов. Правда, ходила с ним в походы ещё и нищая братия из ближайших родственников тайджиутов, и не более того.
Да и потом... почему бы удальцам к самому Тогрулу коней не повернуть, раз нужны ему вольные сабли? Правда там, в орхонских землях, царят шаманы Креста — останется ли тем, кто служит другим богам, хоть шерсти клок? Да и в своих владениях, если подумать, не так уж силён и уважаем Тогрул — недаром изгоняли его из родного дома нахальные родственнички... Тогда перед Темуджином как молния сверкнула... изгоняли родичи... ну, конечно же, как и Есугея... Тот славу добыл, вокруг себя безродных собрав, и Тогрул... вот что у них общее. И кто-то это общее заметил и оценил, поддержал. Но кто? Кому-то, в свою очередь, Тогрул, как и Темуджин, был нужен, словно Знамя-туг, для того чтобы степи взбаламутить. Некто (и не один, а многие) без устали ездил по куреням и аилам, воду мутил: «Собирайтесь к Темуджину, обретёте богатство и славу. Не будет над вами ни старейшин, ни шаманов, мечом и верностью себе счастье добудете. Не важно, кто вы, важно — какие. Сам хан Тогрул благоволит храбрецам». Последнее говорилось под конец как довесок.
Милость Небес не иссякла на том. Окрестные монгольские племена — будто кто их заколдовал — собрали курилтай, на котором сын опального разбойника Темуджин был избран верховным ханом с титулом «Чингис — всеобъемлющий». Те самые беки-старейшины, что когда-то деда втихую уморили, которые оставили их семью с голоду подыхать, теперь во все голоса славу Темуджину гудели. Ну как не вспомнить того странника?
К слову сказать, перестал покойный Есугей быть тогда и сыном разбойника, ибо назвали его героем и защитником родной земли. Вспомнили в одночасье и про подвиги усопшего в его борьбе с татарами. И многое другое помянули. Те деяния, что на самом деле были, раздули из угольков да в полымя. А которых не было — придумали. Тогда-то и обернулось умыкание Есугей-багатуром Темуджиновой матери Оэлун у меркитов из преступления в подвиг.
Шли годы — один другого беспокойнее. Когда Джучи было ещё трав пять, Темуджин оказался вместе с Тогрулом в щекотливом положении. Татары — привычные блюдолизы Алтан-хана — стали вести себя чересчур вольно. Дело дошло до того, что Хуанди направил на них карательные войска.
И вот тут-то Тогрул — тогда ещё независимый государь — со своим «названым сыном» Темуджином крепко призадумались — кого поддержать? Противники — что один, что другой — были, как на подбор, вполне «кровные». И всё-таки по здравом разумении, все эти годы именно татары были послушной рукой джурдженей, не наоборот. Не на татарских — на джурдженьских рисовых полях томились сыновья и дочери монголов. По совести надо было бы Темуджину не помогать главному чудовищу расправиться со своим взбунтовавшимся псом... надо было пса в важном деле бунта поддержать — хотя бы невмешательством. Так-то оно так, но в обоих ханах заговорила обычная алчность — ведь гонимые татары стали вполне лёгкой добычей. Кроме того, за насыщенные событиями годы Темуджин, конечно, позабыл о том странном начале своего успеха.
...На сей раз это был купец в долгополой одежде сартаулов, с головой, замотанной в роскошную чалму. Он пришёл с караваном... и вдруг показал ЗНАК, попросив у Темуджина — тогда уже Чингиса — разговора с глазу на глаз.
«Великий Хан, не слушай увещеваний Тогрула и откажись от похода на татар. Пусть Тогрул сломает шею своей славе — так хочет Бог...» — «Какой», — спросил тогда повелитель. «Тот, который Един, — был ему привычный ответ. — Ты молодая ветвь, которой Тогрул загораживает свет. Не вмешивайся, пусть старую отрубят... Иначе вернёшься туда, откуда пришёл... и пониже того».
Научившись бегать, забываешь о том, кто тебя поддерживал, дабы отучить ползать... Темуджин взбесился. Он забыл те времена, когда с ним так говорили. Он не хотел предавать Тогрула, не желал упускать явную добычу, не желал, чтобы им помыкали...
«Передай тем, которые тебя послали... Мне больше не нужна опека. Моя юрта уже достаточно высока, чтобы общаться с Небом без чужой помощи...»
«Хорошо, Великий Хан... Мой преемник покажет тебе вот эту фигуру...» — и купец показал новый ЗНАК.
Вскоре Тогрул с Темуджином набросились на своих ближайших врагов и успешно их разметали. Что и говорить — добыча тогда, и верно, превзошла все ожидания, но как же пришлось за неё расплатиться! О Вечное Небо! Сколь жестоко ты показало тогда Темуджину, что золото и табуны жеребцов — не самое главное для царствующего.
Уже потом, остыв от азарта истребления «кровников», Темуджин осознал, какую он совершил ошибку. Хитрые дипломаты из окружения императора одарили Тогрула за помощь высоким титулом «ван» (так его потом остаток жизни презрительно и называли: «ван-хан»), а Темуджин удостоился звания джиутхури[68]. Джурдженьский подарок, джурдженьская честь — всё это было отравленным. Ведь из несгибаемого борца за степную волю Темуджин враз превратился в глазах многих монголов в прикормленного ублюдка. А это было для него смерти подобно. Слава хана стремительно поползла вниз, а он не разбирался в корнях недовольства. Жестокая расправа с родом Джурки, который отказался от участия в сомнительном походе, — стала последней соломинкой, сломавшей хребет верблюду.
Когда старейшины, поднявшие его на ханском войлоке (думая, что не уздой, а защитой он им будет) решили от него избавиться, они рассчитали верно. Продать его джурдженям как хана было бы, конечно, выгодно, но породило бы нежелательную шумиху. Просто приказать его убить старейшины всё-таки не решились — пусть это сделают другие. Придумали продать хана в Шаньдун[69] на государственные рисовые плантации как простого безвестного раба, зная, что Темуджин не признается, кто он на самом деле. Ещё бы — всех его предков джурджени прибили к деревянному ослу, и ничем иным признание обернуться не могло.
Похищение удалось. Алчность толкнула Темуджина на злополучный набег, она же толкнула его приближенных на предательство человека, которому они были обязаны всем.
— И что? — нетерпеливо растеребил Джучи отца, когда молчание стало свинцовым и как будто могло их обоих раздавить.
— Я четырнадцать трав вспоминал тот разговор, тот ЗНАК. Среди зелёных стеблей, среди серых булыжников рудника, подметая хозяйский двор и глотая корки в той яме, где полом мне служили мои же извержения... Вспоминал, как был никем и стал ханом, как был ханом — стал грязью... Правда, есть о чём задуматься, сынок? — В неподражаемой гримасе Темуджина были и сарказм, и злость, и тоска быка перед ножом.
— Да, ты уже говорил... А как же пришедшие... как же Маркуз?
— Что пришедшие? Вытащив меня из ямы, Маркуз показал мне тот самый ЗНАК... И вот через малое время — степи снова мои... Мои или их? Я не хочу больше это проверять. Я поверил в того Бога...
— В какого?
— «Который Един», но которого я не знаю, сынок. — Темуджин вдруг жарко зашептал. — Для всех, кроме «посвящённых», я тогда просто исчез, но пока меня не было тут, чудеса продолжались. Всё пошло не по намеченному недругами. Доброе моё имя, хоть и прихрамывая, всё-таки неслось по степным аилам. Как выяснилось позднее, в глазах простых людей я остался разгромившим ненавистных татар, а про всё остальное постепенно забыли. Это не могло быть просто так, без их участия. Ведь вас, мою семью, не тронули. Да и враги хоть и пригорюнились, но утешились. Всё ж таки, как учит поговорка: «Мёртвый бог — удобный бог». Но кому-то было нужно, чтобы я воскрес.
Джучи вздохнул. Что тут возразишь? Всё правда.
Когда отец пропал почти на четырнадцать лет, все говорили про это — «уехал». В давние годы, когда отправили родичи в страну духов деда Есугея, семья лишилась всего. Ползала семья в траве за пучками черемши, пока Тогрул не пригрел. Теперь же, когда исчез Темуджин (не просто голова семьи из нескольких человек, но и хан, на войлоке поднятый), в их жизни как будто бы ничего и не изменилось.
Кроме одного — они стали частью владений Тогрула, новым куском его улуса. И не то чтобы Тогрул завоевал их земли, нет. Хасар, брат пропавшего отца, ставший в улусе главным, присоединил их владения к коренным землям «названого отца» Темуджина.
Впрочем, многим племенам — тем самым, которые когда-то избирали Темуджина верховным ханом, — не понравилось сидеть под Тогрулом. Общие враги меркиты и татары давно разбиты и больше покою не угрожали, а коли так, то не нужно им больше никакого верховного хана. И они откочевали восвояси.
Уходили восвояси и конокрады, и безродные нахалы — «люди длинной воли». Им обещали богатство и славу, и они не собирались чистить потники у кераитских христиан.
Как озеро в жаркое лето, таял улус Хасара...
Да, невесёлое царило кругом настроение... только семью Темуджина почему-то оберегали как Святую Долину Духов... Как будто был некто, возлагавший на неё свои большие надежды.
И вот однажды чудо свершилось — Темуджин вернулся... И снова, как по волшебству, объединил все степи вокруг себя, не пощадив и самого Тогрула, чьи владения тоже привёл к покорности. Но КТО, кто и для чего так благоволит их семье? «Ох, кабы знать», — подумал Джучи.
— Теперь понимаешь, почему я исполняю все их повеления, — продолжал исповедь Темуджин. — Они просили выдать сыновей за христианок — я выдал. Они просили, чтобы я не мешал пришедшим, — я не мешаю, они делают, что хотят. Сынок... сынок, — затрепетал вдруг Темуджин, — смотри не перегни палку. А вдруг они слышат?
— Мужайся, отец, это вряд ли... Кому было выгодно то, что просили тебя делать? Например, женитьба царевичей — и меня в том числе — на несторианках, кому выгодна? Тем, кто твердит «Абай-Бабай»? Шаманам Креста? Может, пришедшие — это их люди?
На это отец не вполне уверенно возразил: найманы — христиане, а он, служитель Тенгри, найманов покорил, и кераиты — христиане, и он приторочил их кочевья к седлу. Никого из рода Рыжих Борджигинов пришедшие никогда не склоняли к христианству, Тогрул тоже поклонялся Мессии, и где он теперь? Съеден Темуджином, будто прожорливым псом... Кто следующий? Да и потом... что Маркуз? Он тоже знает то, что ему передали... не больше...
С этим Джучи не согласился. У него тут была своя, особая забота. Нет, Маркуз знает больше. Говорят, он умеет посмотреть так, что человек делается послушным щенком, а потом забывает. И Уке он ему прощать не собирался.
Маркуз и Уке. 1211 год
По берегам Орхона наливался багрянцем краснотал. Осень — пора не только щедрых даров Этуген-земли, это ещё и время, когда весь замаскированный под однообразную зелень мир сбрасывает личины. Издалека видно, где ольха, где колдовские космы мокростволой ивы.
А люди, зачарованные многоцветьем, становятся более доверчивыми. И легче попадают друг другу в сети.
Уке-хатун, как передовой алгинчи в наступающем войске, настороженно всматривается в даль. Закутанный Бату сидит рядом с ней на передней луке седла. Ветер не нравится ему... он возится в своём халатике.
— Не рано ли таскаешь сына с собой? — Маркузу это никак покоя не даёт.
— Ты — мой тургауд, и его тоже. Так тебе же лучше, мы — вместе, под твоей защитой.
— Грудь застудит — кого защищать буду?
— Отраву проглотит — кого защищать будешь? — Она ещё слишком молода, чтобы во всём разобраться. Но знает — видела не раз, дети умирают легко, гораздо легче, чем взрослые.
Давно миновали времена, когда Орду и Бату были единственными внуками Великого Кагана. Берке и Шейбан — младшие сыновья Уке — не стали для неё ближе первенца. Её «главный» ребёнок, соединивший их с Маркузом золотой цепью невысказанного чувства, оказался и по характеру — спроста ли — роднее и понятнее, чем остальные дети. Не оттого ли, что Бату был зачат в любви. Орду и Шейбан — в покорности холодного тела. Первое отвращение заменилось для Уке пусть вполне терпимой, но обузой.
Уж так получилось, что Маркуз, желая защитить этот дом, принёс в него беду. Он всё-таки наступил на порог, что считалось несмываемым оскорблением и, по повериям, приносит хозяевам беду.
Видя холодность матери, Берке и Шейбан с особой силой потянулись к отцу — добрать внимания и, конечно же, получили его — с лихвой.
Радовалась всему этому только первая жена Никтимиш-фуджин, в юрте у которой Джучи стал бывать (назло Уке) всё чаще и чаще. Её Орду быстро подружился с обделёнными материнской любовью младшими детьми второй жены.
Впрочем, в эти годы появлялся Джучи дома лишь изредка. Темуджин воевал с тангутами, и то, что там происходило, было совсем не похоже на его давний бескровный северный поход, из которого он так рвался домой. Теперь ему уже не приходилось стесняться, глядя на своих подчинённых, ибо слава была надёжная... Ведь коснулась она, как положено, не всех, а только уцелевших.
Теперь Джучи мечтал не вернуться, но не мог. Война — единственное место для ханского сына, где он не может распоряжаться своей жизнью, — слишком многие отвечают за неё головой. Многих харачу, нухуров и нойонов война сгубила, хоть они того не хотели. Его же она охраняла, хотя он этого и не желал.
Из этого южного похода он уже не торопился назад — некуда было возвращаться. Разве только для того, чтобы безнаказанно умереть?
Потом было краткое затишье. В этот промежуток Джучи посетил родной очаг: оказалось, что напрасно — ничего не забылось, только коркой покрылось, а он её содрал. К счастью, затишье вскоре закончилось.
Вот уж такого не помнили даже старики, о подобном не пели улигерчи... Сбывшегося наяву — и во сне быть не могло. Томившиеся в рабстве на бескрайних рисовых плантациях Шаньдуна, монголы обнимали окровавленные ноги родных коней. Небо перестало быть чёрным, ибо Вечный Мизир наконец-то раскрыл свой сияющий глаз над Стеной Хуанди — стеной беспомощных проклятий.
Мизир не судит за удаль в бою, но горе предателям и мучителям, горе джурдженям. Монголы, вышколенные назойливыми сотниками, рассекали саблей мести алчные десны Золотого Дракона.
Из тургауда семьи Маркуз незаметно превращался в наставника Бату. Он был чародеем, но тут вдруг убедился, что магия его бессильна. Прогибаться под настырным градом детских вопросов — мука. Выход один — уйти во всё это с головой, чтоб и макушка не торчала, научиться по-новому дышать? Так живут под властью тирана — полюбив. И ничего — подыхают счастливыми. Если полюбить свой кнут — многое в себе найдёшь диковинного.
Однако, если бы не Уке, — Маркуз всё равно не вытерпел бы, давно бы сбросил это трущее седло. И не в том дело, что просят его, умоляют (мало ли нянек?) — всё сложнее. Присутствие Бату не даёт ему расслабиться и отпустить онемевшие пальцы, которыми он всё с большим трудом впивается в скалу здравого смысла. Падение манит его неудержимо...
Когда-то в тех горах, где прошло его детство, он любил подползать к краю скалы и смотреть вниз — такое чувство, будто уже падаешь, не верится, что только голова над обрывом... Тогда была только голова. Теперь же — лишь детские пальцы Бату и держат его на весу.
А Бату в чём-то повзрослел раньше ровесников, а в чём-то отстал от них.
На эту мысль, — что нужно приобщить сына к играм и заботам остальных царевичей — навела его Уке. Она, конечно, старается для себя, хочет чаще бывать с Маркузом наедине, без свидетелей. А ведь дети, известно, худшие из соглядатаев, то есть лучшие из таковых...
Однако он должен — и по возрасту, и по опыту — быть мудрее. Уке — женщина, и она имеет право голову потерять, он — нет. По Великой Ясе за блуд замужней — смерть. Маркуз слишком дорожит их сладко-горькой тайной, чтобы позволить царевне рисковать головой. Тут только начни — рано или поздно попадутся. Тогда обоим несдобровать, его же и подавно сварят живьём в котле... Проводя время с Бату, он и себя оберегает от неудержимой тяги впиться в запретный плод.
Странное дело — ему бы ненавидеть этого ребёнка-тургауда... Но у Бату её усмешка, он всё-таки мамин сынок, то есть будет твёрже, жёстче отца. В этой семье сила — с женской половины.
Когда-то она спросила: «Если мой сын — не телёнок, ты поможешь нам или нет?» Теперь переспрашивает — он отшучивается. Однако часто, рассказывая что-то мальчику, Маркуз ловит себя на чудном — как будто с ней говорит. Нет, Бату не телёнок.
От отца сын унаследовал любознательность ко всему, разбросанную, бесцельную (слава Небу, что не обидчивость и мнительность). Разум его матери другой: он выбрасывает как мусор из хаптаргака[70] всё пусть и интересное, но ненужное, зато уж если что её интересует, то вытянет всё до последней жилочки. Первое качество хорошо для философа, стихотворца (для улигерчи, если по-здешнему), второе — нужней для правителя.
Но из большего всегда можно вырезать меньшее, как чеканную статую из каменной глыбы. В кераитских степях по Орхону ещё остались такие... простые и величавые, с чашей в руках — подобные он видел когда-то и в землях кыпчаков... Эти древние истуканы — очень завораживали Бату. Маркуз рассказывает о них страшные сказки. До поры до времени — сказки.
Вот они с Маркузом стоят рядом с таким истуканом — капризный ребёнок и его тургауд. Волосы коренастого мужчины без косичек, как у чужеплеменного богола, седина — что ковыль-хилгана вокруг них, и от этого чудится: на голове Маркуза спутанное переплетение той же хилганы. Он похож на духа здешних мест, явившегося из-под земли рывком... удивив, испугав, очаровав.
— Тебе нужно чаще бывать со сверстниками, — да, это упущение, что я слишком приручил ребёнка.
— Мне там скучно, Маркуз, среди этих... Гуюка, Бури, — брыкался подопечный.
— Не скучно, а непривычно и страшно, так? Какой же из тебя джихангир, если не можешь сам, голыми руками, голым разумом заставить людей слушаться тебя? Этот Гуюк подчинил всех, так? Быть слугой Гуюка не по тебе, а подчинить — силёнок не хватит.
— Я и так буду править... когда вырасту, — топнул тогда ножкой Бату и стал смущённо теребить синий кушак — знак тайджи.
— Человек, спрятанный за скалой, силён или скала сильна? — улыбнулся Маркуз. — Нухуры, туги, острые мечи — суть та же скала. Твой дед начинал с того, что горькую саранку жевал, — теперь повелевает народами. Если ты умён, если я тебя учил не зря, стань джихангиром среди ровесников. Сам по себе, без меня, что сейчас для тебя скала. Ты и так старше на несколько трав любого из них...
— Искандер Двурогий имел армию сразу...
— Не повторяй за глупцами бредни. Наслушались грамотея-уйгура, повторяете. Молва досталась этому выскочке Искандеру, а на самом деле его отец, создавший войско, — вот настоящий хан.
— Но Искандер завоевал много царств. Я тоже когда-нибудь... — По круглому лицу юного царевича дымкой пробежала растерянность.
— Проеду как кукла на плечах победоносного войска по чужим землям, — продолжил за мальчика Маркуз. — Вернее, тебя провезут.
— Почему провезут, почему кукла? — обиделся воспитанник.
— Твои полководцы будут вести войска, аталики[71] думать, нухуры рубить врагов, а ты — сидеть на подушках и раздувать надменные щёки, так?
Бату напыжился, стал похож на того телёнка, которым его так не хотела видеть мать.
— Я пойду к ним и сделаюсь их джихангиром, сам по себе.
«Сам по себе, ведь это так просто, только захотеть», — усмехнулся Маркуз. Суждениям ребёнка или себе самому?
Из всех царевичей не пошёл на тангутскую войну только один Тулуй, тот самый мальчик, которого в рыжем парике привёл Темуджин из далёких земель. С тех пор он преобразился в рослого юношу, больше других сыновей напоминающего Темуджина в юности.
Джучи, внешность которого — живое дополнение к подозрениям, не раз ловил себя на чёрной зависти. Если не считать чёрных волос, (впрочем и у монголов такие не редкость) во всём остальном Тулуй был больше чем кто-либо из братьев — сын своего отца. Тут и доказывать ничего не надо было. Даром, что тайна его рождения была для большинства покрыта мраком. Перед тангутским походом справили свадьбу Тулуя с очередной родственницей того же незабываемого кераитского хана Тогрула. Как и в случае с Джучи, Темуджин не приказывал подросшему сыну, чтобы тот согласился на этот брак, а как-то беспомощно просил...
Впрочем, была в этих историях и важная разница. Суркактени — не чета первой жене Джучи — Никтимиш. Господь, не любивший красоту телесную, отдававший предпочтение духовной, в случае с этой девушкой от себя же и отрёкся. Суркактени вся — от шпиля бахтага до кончика остроносых тапочек — была и сейчас, после свадьбы, один сплошной дьявольский соблазн. Поэтому Тулуя долго уговаривать не пришлось.
Маркуз с подрастающим Бату часто наведывался в Тулуеву юрту — их связывали общие воспоминания о временах и событиях, в подробности которых юный Тулуй не посвящал даже любимую жену. Конечно, ей была свойственна любознательность никак не меньше, чем Уке, а кроме того, подобно Уке, она была не дурой. Поэтому решила не быть навязчивой — незаметно исчезала из юрты всякий раз, когда туда наведывался Маркуз. Что её по-настоящему раздражало — так это вездесущий Бату, с которым Маркуз в последнее время не расставался.
Тулую поначалу тоже не нравилось присутствие мальчика при тех разговорах, которые требовали уединения, но постепенно он привык и незаметно привязался к послушному и покладистому спутнику Маркуза. Вот и в этот раз он замазал недовольство похвалой:
— У Джучи сын — не как другие. Никаких с ним хлопот, а я вот не люблю детей.
— Никто не любит своё зеркало, — улыбался Маркуз, подтрунивая одновременно и над именем хозяина, которое и означало слово «зеркало», и над его возрастом, — а что до Бату, так он только тут с тобой сдерживается. Я ему строго наказал: будешь с вопросами лезть — в следующий раз к дяде Тулую не возьму, вот он и пыжится.
Бату в углу недовольно фыркнул, но смолчал. Взрослый гость и хозяин рассмеялись...
— Смотри-ка, сидит... скоро третье ухо прорастёт... А ведь сын Джучи... мало ли...
— Не всё поймёт, а что поймёт — не расскажет. Кому на ум взбредёт ребёнка допрашивать? К тому же ещё и тайджи.
— Может, оно и так, — соглашался юноша, привыкший во всём слушать Маркуза, — а я всё не могу привыкнуть, что тоже царевич. Уж сколько лет, а всё никак.
Обычно Маркуз отмалчивался, слыша эти докучливые намёки. Но сегодня чародей решил приоткрыть завесу некоторых семейных тайн — далеко не всех. У него была на это веская причина — предстоящая разлука. Он подробно рассказал Тулую о детстве Темуджина, о его стремительном восхождении, о том, как тот попал в плен к джурдженям, уже будучи ханом... Тулуй окаменел от заинтересованности.
А заодно потерял подвижность и притих в углу Бату, недооценённый Маркузом, как всякий ребёнок всяким взрослым. Мальчик прислушивался к этой диковинной сказке и даже пушистого щенка тискать перестал. На него не обращали внимания, а зря. Понял он не всё... но многое запомнил, чтобы потом, когда повзрослеет, бесконечно припоминать и думать.
Но это потом... а сейчас пришла пора Тулую задавать свои вопросы.
— И что же? — наконец подал он голос, когда Маркуз ненадолго прервал рассказ. Глаза его говорили при этом: «Ну, а дальше, дальше?»
— Бывший повелитель народов шагал в толпе рабов и...
— А бежать... Он не пытался бежать? — в воображении Тулуя прыгали картинки...
— От людоловов убежать мудрено, они своё дело крепко знают. Такое только в улигерах просто... Но на полях Шаньдуна он продержался дольше других и не умер, потому что дочь надсмотрщика... В общем, из-за её заступничества он стал домашним рабом, а там кормили лучше...
Тулуй напрягся, как тетива, взведённая до уха, не выдержал... Бату вздрогнул в своём уголке...
— Это была моя мать! Да... Дядя Маркуз? Где она, где? — выпалил Тулуй.
Воспитатель Бату кивнул, как будто бы нехотя..
— Её больше нет, мой мальчик... и я, я никогда её не видел. Когда-нибудь отец расскажет тебе о ней. Как-нибудь потом, если захочет.
— Не захочет, — вздохнул Тулуй, — я уже спрашивал, не раз, не два...
Было слышно, как шатаются под ветром жерди и шипят кусочки аргала в очаге. Тулуй подбросил топлива.
— Значит, ему до сих пор больно, он не хочет ворошить...
— Ты не о том, Маркуз, не о том. Мне уже не десять трав, как когда-то. Просто он её любил, не как мою мачеху Бортэ, по-настоящему. Ведь правда, дядя Маркуз?
— Может, и так, я не знаю, Тули... Ну так слушай дальше: сундук не спрячешь под потником... всё равно выпирать будет. Однажды о похищении Хана Степей стало известно. Соглядатаи Хуанди разыскали тех, кто его продавал, тех, кто гнал... и всех иных. Люди императора нашли Темуджина в доме твоей матери и увели на верёвочке в Джунду[72]. — Маркуз поднял свои рысьи глаза на Тулуя, вымолвил, как будто преграду перепрыгнул: — Выяснив всё, что им нужно, они удавили твою мать... шнурком и твоего деда-надсмотрщика...
— Зачем, дядя Маркуз, зачем? — Тулуя трясло, и он закутался в роскошное тангутское одеяло из шерсти яка.
— Потому что она знала тайну. Так делают всегда...
Про Бату, похоже, окончательно забыли, а он смешно застыл на четвереньках, история его совершенно зачаровала.
— А дальше, — разжал губы Тулуй после тяжёлого молчания.
— Они хотели прибить отца к «ослу», как и всех твоих великих предков, но это было, оказывается, нельзя. Ведь помнишь, я тебе говорил, когда-то он получил от Хуанди титул... тот самый — «джиутхури». Тогда этот титул его погубил, теперь — спас. Его заставляли служить императору, но он отказался... Годы лишений закалили его душу и сожгли всё наносное... Его опустили в яму и кидали объедки, он просидел там несколько лет...
— Несколько лет?! — отозвался потрясённый Тулуй.
— Да, несколько лет. Когда мы узнали об этом, то сомневались — оставило ли Небо ему разум? Но мы зря сомневались...
Обстоятельства, при которых произошло это освобождение, а также причина оного не были тем, что Маркуз собирался рассказывать Тулую... По крайней мере — не сейчас. Но ведь он был чародеем и умел перекидывать интерес людей туда, куда ему было удобно. Сейчас же такое тем более не составляло особого труда... Перескочив через щекотливое, он заговорил более эмоционально:
— Когда мы его освободили, он сказал: «Я не вернусь домой без Тулуя...» Да, именно так он сказал... И мы тебя нашли и забрали, и вот ты здесь...
По щекам младшего сына Темуджина потекли невольные слёзы облегчения. Он резко слизал их языком, как лягушка комара.
— Да, я был батраком, не помнящим родства, а теперь я купаюсь в почёте, у меня красавица жена, нукеры, но мне всё кажется — я проснусь от хозяйской палки.
— Может быть, и проснёшься. Судьба переменчива. Впрочем, скоро ты увидишь свою родину. Хан зовёт тебя к себе... на войну в Китай. Это я и должен был тебе сообщить, — а сейчас мы пойдём, Тулуй. Байартай[73]...
Маркуз и Бату вышли под вечереющее небо. Агтачи царевича подвёл Маркузу его отдохнувшего мерина.
— Ну, прыгай, — протянул руку воспитатель.
А Бату вдруг повалился на колени и разрыдался.
— Ты что?
Бату бился в истерике:
— Дядюшка Маркуз, не кради мою память, я ничего не скажу, ведь ты колдун, не кради. Я буду послушным, я ничего не скажу ихе... — Он бросался на землю и вскакивал, на шёлковый халатик прилипла трава.
— Да с чего ты взял, — вдруг смутился чародей... и не решился сделать то, что действительно хотел, — полезай в седло, поехали. Мать заждалась.
Мгновением позже чародей вздрогнул... Откуда Бату может такое знать? Уке рассказала про обстоятельства их знакомства? Кому? Ребёнку? Не может быть? Тогда откуда ветер? Ах, да... Он ведь заставил Бату пообщаться со сверстниками, ну конечно, вот так история. Таскает за собой дитя как перемётную суму и не обращает внимания на то, что с ним делается. Маркузу захотелось изо всех сил треснуть себя по голове чем-то тяжёлым... Эх ты, сурок полусонный, так самого взволновал разговор с Тулуем, что озираться вокруг забыл. Бату действительно как подменили: сидит тихо, будто зайчонок в кустах, не ёрзает и, кажется, мелко дрожит. Никогда он своего воспитателя не боялся...
Как можно бережней тронув ребёнка за плечо, Маркуз осторожно спросил:
— Кто тебе сказал, что я колдун?
— Не скажу.
— Не бойся...
— Я вчера пошёл к ребятам... — перестал дрожать Бату, — они меня не приняли играть... А Гуюк, сын дяди Угэдэя, сказал, что я жертвенный телёнок... ну... твой... Что ты меня откармливаешь, чтобы унести потом... А ещё сказал, что вы, злые духи, опоили нашего деда зельем, но ничего... скоро они найдут на вас управу... Дед уже расколдовался... А вас всех разрубят на куски и развесят по осинам... пусть медведь сожрёт... Дядя Маркуз, ты меня съешь?
«Вот это да, — ойкнул Чародей, — что я слышу?»
— А кого, кого всех, — откликнулся Маркуз громко и взволнованно, забыв, что слышит это всё от ребёнка.
Бату совсем сжался:
— Ну, всех вас. Он сказал: пришедших...
«Вот уж воистину Библия не шутит. И верно, что «устами младенца глаголет истина», а я прозевал. — Маркуз напружинился как китайский самострел. — Так... спокойно... сначала успокоить ребёнка, потом спрашивать... Отпустил, называется, поиграть со сверстниками... Ну, дела...»
Он погладил Бату по щеке:
— Посмотри на меня, дурачок. Может, я и колдун, но добрый... Глупый, я же здесь для того, чтобы заступиться за тебя. — Он улыбнулся так проникновенно, как только был способен. — Не бойся.
— Правда?! — просиял Бату, как умеют только дети. Конечно же, он боялся поверить иному.
Из дальнейших косвенных расспросов Маркуз понял, что всё услышанное Бату идёт от братьев Джучи. А они с чего так осмелели? Или не осмелели, просто шушукаются по юртам, а детей недооценили. Неладно всё это... поговорить бы с другими пришедшими, но им запретили собираться вместе, да и не друзья они ему. Что там у братьев на уме? Пока повременим, дабы врага не спугнуть заранее. Что-то там Темуджин затевает за их спиной. Может, хочет избавиться от опеки? Уже сейчас... Пока не покорены джурджени — вряд ли... Золото где возьмёт, коли впрыгнет с их кибитки? Или просто взбесился, загордился? Очень важно знать — наслушались ли всего такого братья отца Бату — Джагатай с Угэдэем от приближенных Темуджина? Или сами с собой тихонько шипят, ревнуют. Джучи, говорят, на этой войне стал близок Темуджину, как никогда. И тут его осенило:
— Вот что, Бату... мы не будем играть в джихангиров, поиграем в мухни. Хочешь мне помочь? А я научу тебя превращаться в птицу...
— В орла?
— Ну и в орла.
— Ху-рра, здорово! — завизжал Бату, забыв, что только что боялся Маркуза до смерти.
— Но это потом, когда подрастёшь. А завтра пойдёшь к Гуюку, скажешь, мол, испугался меня... что повелит — выполняй, стань его блюдолизом... на время. И тихонько выясни — так про меня говорил его отец Угэдэй, или дядя Джагатай, или кто ещё? Только смотри, о нашем уговоре молчок...
Так пятилетний Бату превратился в соглядатая. Маркуз же весь вечер ломал голову: рассказать ли обо всём Уке или рано ещё её тревожить?
Когда-то Темуджин мечтал о крупице справедливости для себя самого. Позднее, став Великим «Обнимающим» — Чингиху Ханом, он стал подумывать и о ВЛАСТИ СПРАВЕДЛИВОСТИ НАД МИРОМ. Власть — это не канга-колодка на шее недруга. Это возможность донести до людей то, что он хотел им сказать. Самое главное, выстраданное.
И не только сказать, но заставить слушать, а главное — заставить меняться к добру. ЗАСТАВИТЬ.
Для этого только один путь — война. Уж он-то на своей продублённой ветрами и бамбуковыми палками шкуре самолично познал: невозможно говорить о справедливости, стоя связанным перед победителем.
Свершилось. Маленькая юрта нищего изгнанника распухла, как надменная жаба, и царапает дымоходом облака.
У подножья толпятся дворцы и пагоды, пузатые храмы и тощие длинные минареты. Но что видят во всём этом небожители, которые следят за его деяниями: чад пожаров, ясный огонь истины, тепло, у которого греются замерзшие?
Но прочь сомнения — сладкоголосые ораторы и вкрадчивые шептуны твердят сегодня одно: любая оглядка на след сияющий колесницы Джихангира постыдна, ОСТАНОВКА — ЭТО ГИБЕЛЬ, стоячие воды зарастают тиной.
Об этом гремят над частоколом замершего в страхе перед Ним его бесстрашные войска. Неторопливым мёдом льётся эта Истина под сводом покорных Ему христианских, магометанских и буддийских молелен, ненавязчиво вплетённая в проповеди. С отрешёнными лицами познавших вечную «природу вещей» об этом поучительно кряхтят даосские отшельники. Морщинистый ветеран, показывая молодым нухурам хитроумный сабельный укол, не упускает случая напомнить об ЭТОМ, как о чём-то лично выстраданном в монотонных походах. Бледно-розовые дочери вельмож и бойкие юные простолюдинки одинаково лопочут её в объятиях своих женихов.
Только никто из них, нанятых и добровольных, рвущих глотки и услужливо поддакивающих, не говорил главного. Его и всех, кого он увлёк, гонит вперёд не доблесть, а СТРАХ.
«Но что страшнее смерти?» — спросит иной простак.
Спросите у его полководцев, собирающих в передовые отряды, в хашар, самых трусливых цирюльников и портных. И те идут передовыми, самыми «отважными». И как будто бы не боятся получить ковшик подогретой смолы за ворот или стальную полосу в изнеженный пузырь живота. А всё почему? Просто страх выделиться из толпы сильнее страха смерти. Для человека из толпы подохнуть от руки своего бывшего товарища легче, чем от того, кто эту толпу гонит.
Чем больше стадо баранов, тем меньше риск, что оно разбежится.
Потомки, недоумевая по поводу его побед, поймут ли эти странности? Почему горстка монголов гонит перед собой огромную толпу — хашар? И это скопище спокойно умирает на крепостных стенах и не обрушится всей массой против своих гонителей.
Всё просто. Даже горстка охотников загоняет стадо дзэренов на лёд, тогда как одинокий лось порою поднимает волков на рога.
Потому что — одинокий. Потому что — не в стаде.
Ненавистные джурджени и тут тысячу раз правы — побеждает только тот, кого собственные воины боятся больше, чем противника.
— Но разве это война, отец? Это кровавая давка безумных, — вдруг перебил Джучи его поучения.
В последнее время Темуджин так привык, что Джучи смотрит ему в рот, что даже опешил. Они стояли на площадке, венчавшей холм из телег и прочего хлама, укрытый коврами. Отсюда Великий Каган наблюдал уже который день за штурмом Джунду — одной из здешних столиц, поочерёдно вызывая сыновей на беседу. Джагатай и Угэдэй всегда только вежливо кивали, не то Джучи... Он внимал речам отца, как божественным откровениям, и вдруг... Но Темуджин даже обрадовался: Джучи спорит, значит, неравнодушен.
— Пусть так, ну и что с того? — заговорил он снова, приосанившись. — В твоём вопросе уже сидит заноза. С чего ты решил, что это праздник? «Разве это война? » — передразнил он сына. — Вот когда расфуфыренные багатуры режут друг друга шпорами, как петухи на уйгурском базаре, — это, по-твоему, настоящая война?
На этот раз царевич, по обыкновению, промолчал, ожидая продолжения. И тогда отец снова погрузился в поучения:
— Нет, сынок, война не игры, это — когда убивают. Смерть сама по себе пустяк, но погибших друзей жалко. Поэтому лучше, чтобы не было войн, а для этого нужно — о великая странность жизни! — сражаться, сражаться и вновь сражаться. Однако по-умному, всерьёз, а не как выдуманные герои в сказаниях-улигерах. Сталкивая одних трусов с другими, сохраняем жизнь отважным. Если ты сумел убежать из толпы — найдёшь себе место по плечу. Я ли не даю выдвинуться храбрецам и мудрецам, независимо от того, в болоте какого трусливого племени прозябали по ошибке их вольные души.
— Да, отец, я знаю, настоящий монгол, это Судьба, а не право рождения, — горячо согласился Джучи...
«Ия сам — первый тому пример, — добавил он мысленно, — да уж... известно «в болоте какого трусливого племени» появилась моя душа». Теперь Джучи стал понимать, что происходит в последнее время в и душе отца... Об этом нетрудно догадаться.
Когда Темуджину хочется думать и гордиться, что он добился всего благодаря своему уму, он приветлив именно с Джучи. «Вот, посмотрите, мне всё равно — мой Джучи сын или нет. Я возвышаю людей не за кровь... Даже самых близких». При этом выдвиженцы в восторге. Родовые нойоны с древней родословной — морщатся. Братец Джагатай — вот на кого их надежда... но слабая надежда. Слишком много в войске неродовитых. У них сегодня сила. Засосало, как в зыбучие пески, весь хлам прошлой жизни, когда царило право рождения.
Как хорошо стоять тут с отцом, стоять и слушать ветер. Но и отцу внимать не грех... а он задумался, нить беседы потерял.
— И пусть греются у костра жизни сильные, мудрые и красивые. Им я даю надежду и свободу. Раздувшемуся колдовством злых мангусов ломовому волу — возвращаю его достойное место. Но Закон Добра, придуманный не мной, суров. Он гласит: «Вол, побывавший в роли священного быка, уже никогда не будет доволен. Его судьба — алтарь». Вот почему мы так много убиваем, сынок...
«А Джагатай не побывал в роли священного быка? — подумал Джучи. — Ох как интересно. Об одном отец не подумал: у всех растут дети. Хорошо одаривать людей «по заслугам», пока вдруг не оказывается, что нужно отдавать что-то чужому сыну, обогнавшему в заслугах собственного. Эта мораль хороша, пока выдвиженцы, «люди длинной воли», молоды. А как их дети подрастут, что они запоют? Известно что».
Милость к нему отца может оказаться мимолётной. Зевать не приходится, и он решился.
— Отец, дозволь разбередить твои раны. Только от истинно любящих тебя ты дождёшься правдивого, но горького слова... дозволь спросить, не гневайся!
— Дозволяю, говори что хочешь, — сегодня хорошее настроение отца ничем не перешибёшь. Его соглядатаи передали: джурджени на последнем издыхании и подумывают о сдаче столицы. Не счесть добычи, не обозреть верениц рабов, а значит...
— Не пришла ли пора показать пришедшим их достойное место? Когда-то ты опрокинул мятежного ТебТенгри. Не пришла ли пора сорвать и эту паутину с головы? Я понимаю, отец, страх замораживает твой ум, когда речь идёт о них. Но ты не думаешь, что и это колдовство?
— Да, может быть... — признался Великий в слабости, что было почти небывалым. Действительно, что-то разжижало его ум всякий раз, когда он об этом порывался думать. Как стена стояла.
— Но я-то не заколдован, отен... Я тебя поддержу, тем более они далеко. Мои-то мысли незамутнены ничем... Все эти годы ты боялся даже думать об этом, но я-то не испугаюсь, я-то ничего не забыл. Управа на них есть. Не боги же они в конце концов, просто колдуны...
Таким видела Темуджина только Бортэ, да и то — в начале их совместной жизни. Просто надломленный человек стоял сейчас перед Джучи. Таким он, наверное, в яме сидел.
— Весь ужас в том, что всё, что они советуют, выгодно МНЕ САМОМУ. Всё было верным... если знать будущее. А кто его знает, кроме богов? Ведь сам бы я до такого не додумался. Они подбрасывают мне подарок за подарком, а не слушаюсь — наказывают... да ещё как, — вздохнул Повелитель, — но такие же подарки они делали Тогрулу, а потом я же его и съел. Но кто и когда съест меня?
— Почему подарки?
— Они советовали мне в юности стать человеком Тогрула — это было правильно... И на татар, гонимых джурдженями, не надо было нападать... А после покорения улуса кераитов я правильно женил сыновей (и тебя) на христианках, правильно их церковь не обидел, хотя тогда не понимал — зачем это, но боялся ослушаться. А не сделал бы этого: уйгурские толстосумы не присоединились бы ко мне, не имел бы я средств для войны с джурдженями. Словно кто-то заранее знал, что мне понадобится помощь уйгуров... Заранее. А ведь, казалось бы, для них мир с Китаем нужен, как воздух... но... но кто-то ещё в те годы знал, что они согласятся на войну.
— Но теперь у тебя есть все: деньги, добыча, покорность людей. Не пора ли дышать самому? Смотри, отец, лошадь, не сбросившая седока при галопе, уже не справится с ним у коновязи. Или сейчас, когда ты силён, или... — жарко налегал Джучи, вконец осмелев.
— Тихо, — приставил палец к губам Темуджин, как будто их могли слышать.
— Почему Маркуз опекает моего сына, что ему от него надо?
— Не опекает... охраняет... — неуверенно возразил Великой Хан.
— Нет... опекает, воспитывает. В делах войны не замечаешь, эцэгэ, что плетут за твоей спиной. Почему, скажем, не Орду? А все остальные пришедшие тоже трутся около твоих внуков?
— Нет, только Маркуз. Он попросил... он...
— Не попросил, а оповестил, ничего не объясняя. Но почему Бату? И ещё, ещё он крутится возле Тулуя и моей Уке.
— Тулуя я уже отозвал сюда, — зловеще прошелестел отец.
— И земля не рухнула? К тебе не пришли со ЗНАКОМ и угрозой? Вот и славно.
И тут Джучи выложил повелителю свои догадки. Тулуй и Бату обихаживаются как возможные преемники Темуджина... потом, когда-нибудь. Кто из них таковым будет, они сами ещё, похоже, не решили. Так Темуджин сам в нужное время заменил Тогрула. Почему Тулуй? Он ещё мальчиком заколдован и будет послушен.
«А Бату? Потому что Орду уже видно — не правитель... а Бату, наверное, подаёт надежды. Кто знает?» — не стал договаривать Джучи.
— Послушен... — эхом отозвался Чингис.
— Но, я думаю, есть другая причина, из-за которой твои совершенно законные дети, происхождение которых не вызывает кривотолков, им не нужны, — продолжал Джучи. — Я думаю, как раз из-за того, что они совершенно законны и по крови безупречны... Кто-то не хочет, чтобы было как раньше, чтобы это были родичи, на сей раз твои. Ведь такое кончается склоками между потомками Великого Правителя. ОНИ хотят, чтобы на сей раз такого не случилось.
— Ну и ну... — помрачнел Великий Хан, сын без промаха наносил удар за ударом в самое его больное место.
— Как только ты возомнишь себя не слепым мечом, а хозяином — тебя постигнет судьба Тогрула. Как только состаришься и захочешь отдохнуть, — тебя вырвут, как трухлявый зуб... Они не хотят, чтобы твои дети перессорились, едва остынет твоё тело. Тогда вожделенное Великое Единство снова канет в привычный хаос. Ты не вечен, отец.
— Замолчи... — Темуджин прикрылся рукой.
Тут Джучи уже сам испугался своей немыслимой дерзости, но остановиться не мог:
— Наше вышколенное войско тебе не принадлежит, и ты это знаешь. Ты не вправе им распоряжаться, как золотом из сундука... «Остановка — это гибель», не так ли? — В последней фразе прозвучал глубокий сарказм. — Ну так беги вперёд и гони других, эцегэ... Пока не упадёшь.
У Темуджина затряслись длинные пальцы, которыми он вцепился в резную плеть. Обжёг сына той яростью, которую знали теперь многие.
— Мы ещё посмотрим, принадлежит ли мне мой улус и моё войско... Иди... Ты сегодня много говорил, слишком много. — Складки на лбу Темуджина обозначились отчётливо, как у старца.
Спускаясь с пирамиды из телег, Джучи испытывал такое чувство, что не спускается — в пропасть летит. Эцегэ ему не простит такого проникновения в своё нутро. Тем лучше — жизнь давно опостылела. Но в пропасть он полетит не один, а с Маркузом. Кажется, он нашёл управу на эту тварь. Как приятно лететь в пропасть в обнимку со своим врагом.
А ещё он вдруг подумал: «А ведь всему виной — Уке. Только Уке».
Бату. 1219 год
В этот тёплый денёк как-то по-особому свистели окрестные евражки[74]. Но разве знал беспечный Бату, что этот свист — надсадная труба умирающей наивности? С тех пор как пропал Маркуз, стало совсем скучно. Да к тому же ещё внуки разных сыновей Темуджина теперь не играли вместе, как раньше. Они повзрослели, и им больше не давали как малышам возиться друг с другом. Слишком серьёзны стали их игры — мало ли чего друг от друга нахватаются? Подросшие дети Джучи — отдельно, Джагатая — отдельно, Угэдэя — отдельно, и только первенец Тулуя и Соркактени по имени Мунке был ещё маленьким и развлекался с остальными такими же малышами.
Время в детстве медленно бредёт. И уже совсем далёкими кажутся времена, когда, выполняя наказ Маркуза, подольстился Бату к пятилетнему Гуюку. Тот сразу, конечно же, выболтал, что дядя Джагатай не со своего голоса колдуна ругал, а повторял какие-то разговоры их деда.
Услышав такое, Маркуз обнял Бату и сказал, что ему надо ненадолго уехать, но потом он вернётся и научит превращаться в птицу. Но годы идут, а Бату каждый день его ждёт, упорно и самозабвенно, но с тех пор прошли годы, и их давно стал охранять совсем другой тургауд, скучный и молчаливый. Однако куда ужасней другое: Темуджин насмотрелся на обычаи осёдлых народов и приставил к Бату и Орду уйгурского писца. Детей усадили учиться грамоте, это было ново для монголов.
Между тем тысячи Джучи заканчивали последние приготовления перед большой тяжбой с Хорезм-шахом. Новая война, ещё не разразившись, уже согнала улыбки с окрестных лиц. Только Бату и Орду радовались ей как дети, и объяснялось всё это очень просто — они и были детьми.
И вот однажды опечаленный отец, войдя к ним, сообщил: их с братцем Орду сегодня же увезут куда-то далеко, «чтобы сделать настоящими воинами».
Первым чувством, охватившим Бату, был восторг — не надо больше слушать этого жёлтого филина-уйгура. Потом подступила откровенная тоска, но была она недолгой.
Их увезли, не дав как следует проститься с родными, а дальше? Дальше с Бату сотворили такое, что кажется: с тех пор по миру путешествует совсем чужой дух, угнездившийся в его плоти. А ещё это и потому запомнилось, что было одновременно и кончиной, и началом его бесконечных — день за десять — мытарств. Запомнилось, как край боли.
Мальчику хотелось, чтобы всё поскорее закончилось. Больше он ни о чём в этот миг не думал. Немного терпения — и тяжёлая толстая змея руки вокруг его шеи ослабит нажим. Ведь он — внук Хана, что могут с ним сотворить непоправимого?
Но кольцо сужалось, и его тело (он осознал вдруг, насколько оно маленькое и беспомощное) вдруг взбунтовалось, против воли. Оно не желало знать, что всё кончится хорошо, и стало трепыхаться, подобно скользкой рыбе на стреле. Буран захлестнувшего удушья смел все мысли.
Кроме одной... простой, выросшей до размера Вселенной: «ПУСТИ». Рот был зажат, но тело вполне эту мысль выражало. Так пойманная рыба старается выразить то же самое и, наверное, тоже наполняется ужасом оттого, что её не слушают, не пускают.
Это не шутка: его и в самом деле — УБИВАЮТ. Он обрёл способность подумать об этом, когда в глазах стало темнеть и муки удушья сменились желанием лететь к свету по узкой пещере.
Бату очнулся на жёстком войлоке, среди тошнотворных испарений прокисшего пота. Подобные войлоки держат в юртах простые харачу и боголы. Раньше и ногу, даже обутую в гутул, на эту гадость брезговал опустить. А уж проснуться на таком, не привиделось и в кошмарах... Нет, это был не сон.
Бату вновь узрел одноглазого Субэдэя. Услужливое Небо предоставило ему именно это счастье.
— Понравилось? — Субэдэй, уродливый, как злой дух Кулчин, даже злорадствовал с таким выражением, будто разговаривал с духами — торжественно.
Бату охватил приступ беспомощности и острого желания жить.
— Не убивай меня, дядя Чаурхан. — Царевич глотал слёзы испуга, и ему не было стыдно. Сейчас бы он и на колени бухнулся, если бы уже не лежал.
— А почему я не должен убивать?
— Потому что я — внук хана.
— Нет, именно поэтому — должен. Внуков много — владений мало. Найдётся, кому вознаградить меня за это.
— Кому? — Бату считал себя неприкосновенным сокровищем, а оказывается, кто-то получит сокровища за его смерть.
— Всегда есть кому, — задумчиво протянул Субэдэй. Лицо великого полководца исказилось в гримасе, так что мальчик вздрогнул. Это была улыбка.
— Кровь Потрясателя Вселенной — священная кровь, — робко отбарабанил Бату выгодную для него прописную истину.
— У тебя её нет.
Тут у Бату весь страх пропал, и глаза обиженно вспыхнули, но всё же он спросил почему.
Субэдэй ответил не сразу. Как бы взвешивая: говорить — не говорить. Наконец произнёс не то, чего со страхом ожидал Бату:
— А это видно. Чингисиды — не плачут. Особенно перед смертью.
Бату было рванулся, но куда ему! Костлявая рука Субэдэя без видимого усилия прижала царевича к войлоку. Мальчик извивался, и его сходство с ленком на остроге так отчётливо ему представилось, что мир совсем разрушился. Этого не может быть. С ним не могут ТАК, его не учили правильно реагировать, когда с ним ТАК.
— Как ты смеешь, раб! Тургауды сварят тебя живьём! — Писклявый голос не придавал этим величественным угрозам должной силы. — Я... неприкосновенный. — После того, что произошло, он уже и сам не очень в это верил.
Субэдэй пропустил мимо ушей игрушечную угрозу:
— Ты знаешь разницу между неприкасаемым и неприкосновенным?
— Н-нет.
— А разница вот в чём — неприкасаемый живёт в позоре. Убить его — позор. Неприкосновенный — в чести, убить его — честь. Что должен выбрать неприкосновенный? Что должен выбрать чингисид?
Бату насупился и слизнул слезу.
— Вот так. Правильно, съешь свои слёзы. Проглоти обиду, как волк полёвку. Когда в душе голод, обида спасает от тоски, — он вздохнул отстранённо, — но только... только, если съедена.
— Я позову тургаудов.
— Тургауды подчиняются мне и не вступятся.
— Ты будешь меня убивать? — ещё не своим обычным, но более твёрдым голосом пролопотал мальчик.
— Конечно, — по-отечески спокойно подтвердил уродливый старик.
— Но почему?
— Разве духи смерти отвечают на такие вопросы? Так повелел твой дед.
— Но п-почему? Почему? — снова захныкал Бату.
— Потому что хнычешь. Кто жалеет себя, жалеет врагов. А это — наша гибель.
— Я... н-не буду хныкать.
— Слишком поздно. Повелитель сказал мне: «Жалость губит в битве, как больной конь. Кровь моих детей отравлена злыми духами покорённых, мстящих за свой позор. А им — водить тумены по чужой земле. Им — держать узду диких коней войны. Не отсечь гниющую руку я не могу, потому что кто, кроме меня, дерзнёт сделать такое? Оставлять в живых жалостливых к себе — не могу. Иначе рано или поздно они получат власть по праву ханской родни. Я не могу погубить свой народ, свой Великий Улус, сострадание к себе — ржавчина на мече. Испытай моих внуков. Кто не борется до конца — убей, кто плачет от страха — убей».
Всё это Субэдэй произнёс буднично и поучительно. Как будто и был смысл ещё — учить. Он тщательно округлял фразы, чтобы они звучали неестественно гладко.
Так можно говорить только с детьми, для которых любой взрослый — мудрец.
С детьми... и приговорёнными.
Он наклонился над загипнотизированным царевичем, чувствуя себя величественным жрецом уничтожения. Он и был таким всю судьбу.
Обрывать жизнь важнее, чем её давать. Рожают в муках, в криках, в грязи. Растаптывают — обретая надёжную славу. Почему так? Потому что Небо, наверное, любит забирать людей в своё лоно и неохотно отпускает их обратно на землю вновь рождаться.
— Понял теперь? Ты не выдержал проверки, но прими неизбежное воином. Не позорься. Я подарю тебе почётную смерть, без пролития крови... хоть ты и не заслужил, конечно. — И он добавил обычным голосом: — Только не обделайся, слизняк. Предстань перед Богом — сухим.
Второй раз Бату душили ладонью. Второй раз он заранее знал — это не игра. В первый раз он не боролся, потому что не верил, что это ВСЕРЬЁЗ, во второй — потому что ПОВЕРИЛ.
А когда во что-то поверил — бороться бесполезно.
Разве не этому учит любая вера?
Бату очнулся на шёлковом ложе. Вечное Небо, это был сон. Или всё-таки — не сон?
Меньше всего Бату желал вновь узреть Субэдэя, но услужливая судьба — тут как тут. Именно это одноглазое чудовище было первым приветом из яви после солнечного луча.
Мальчик расклеил слипшиеся от слёз глаза.
— Ты поносящий телёнок. Ты — лужа от трусливой жертвенной коровы... — Дальнейшее Субэдэй произнёс нехотя, с досадой: — Великий Каган тебя прощает... А урок — запомни. Никто не имеет права прикасаться к власти, не почувствовав вкус смерти. Сегодня ты к ней прикоснулся и понял больше, чем тебе кажется.
Старый полководец отвёл глаза, как будто забыв о проснувшемся мальчике, и что-то проскользнуло по его изуродованному лику, похожее на беспомощную печаль. Все знали, как он не любил беспомощность.
В отдалённом курене, опоясанном густым лесом охраны и прозванном с тяжёлой руки воспитанников «учёной ямой», люди, поставленные на это самим Темуджином, натаскивали их мудрости и свирепости. Готовили из них повелителей, джихангиров, будущих ханов «свежезавоёванных» улусов.
Все юные тайджи тут были как будто одинаковы... но не совсем.
Если учишь сразу многих одному и тому же, нужен кто-то в роли дурачка, дразнилки... Иначе чем дисциплину держать? Палками? Наставникам, конечно же, дано право отбивать дробь по драгоценным спинам чингисидов. Но повеления повелениями, а если с другого крыла подскакать, то попробуй-ка увлечься, ведь и Великий Хан, и простой дедушка-пастух верят, что именно его внуки такие смышлёные, что всё обойдётся почти без палок. Поэтому наставников пожалеть впору.
Не бьёшь совсем — донесут, скажут, не выполняешь Высокого Повеления. Каган, скажут, любит тех, кто жизни своей ему в угоду не щадит. Иначе какая же ты «белая кость»?
В землях Алтан-хана были доносчики. Этим осёдлые трусы от Избранных Небом и отличаются. Великий Каган своему народу верит. Мысль о доносчиках для него, как рвота после архи. Поэтому доносчиков нет и не будет. Только соглядатаи из лучших, смышлёных, верных. Они не против своих — как в землях Золотого Дракона, — а против врагов. Война и в мирные травы не прекращается. Удостоиться же чести быть «глазами и ушами» хана не всякому под силу. Поэтому в учебном курене, где «куются золотые мечи будущей алмазной славы», и шагу не ступить без наблюдения.
Но бить всё-таки боязно, каждая рука невольно удар ослабит. Это, как по фарфору китайскому, как по самоцветам. Но чем же иначе в повиновении держать?
На то и нужен дурачок-дразнилка. Чтобы клевали его не наставники, а другие ученики, всё недовольство на нём вымещали — тогда и жаловаться не на кого. Так всё надо уплести-увязать, чтобы КАЖДЫЙ ученик знал и верил, если будет строптивым, сам станет таким же.
Уйгур Чаган, старший над воспитателями, долго голову ломал — кого на эту роль определить? На кого спустить с золотой цепи азартную свору солнцеликих волчат? Дума скользкая, въедливая, как вошь. И промахнуться нельзя. Не чужую шкуру в котле искупаешь. Самого тупого и непутёвого выберешь, а вдруг он окажется любимчиком Могущественного — что тогда?
Привезли в учебный курень и детей ближайших приближенных Кагана, не только царевичей. Заманчиво взять для этой роли щенка какого-нибудь Ная. Дети нойонов притихнут, а царевичи от рук отобьются. Нужно на такое именно тайджи.
Детей Джагатая трогать нельзя — с этим своим сыном и хан теперь советуется. Попробуй обидеть детей Джагатая. Мелко мстить Джагатай, конечно, не будет — не тот у него нрав, но благородно засудит по необъятной в толкованиях Ясе.
Недавно произошло любопытное. Вечный Хранитель Покоя вдруг усомнился в собственной вечности и утвердил... преемника. Имя Угэдэя долго пережёвывалось после этого в байках, и непонятливые подданные Великого Улуса никак не могли представить этого тихого пьяницу на троне Темуджина.
Но так или иначе, а над детьми Угэдэя впору самому китайские зонтики носить. К слову сказать, именно его сияющий тигрёнок Гуюк — самая отвратительная дрянь из всех здешних воспитанников: неуправляем, мстителен, капризен. А учиться и вовсе не хочет, ничему... (Ох, его бы выбрать, да нельзя).
Остаются дети Джучи.
Когда-то Чингис всячески пресекал слухи о том, что старший сын — выкидыш недорезанного меркита. Оно понятно — в той истории был и его, Темуджина, позор. Ещё совсем недавно, когда воевали с джурдженями, не было для Темуджина сына ближе, но потом Даритель Благоденствия вдруг стал этим слухам сперва не препятствовать, теперь же — открыто им потакает. Размолвка с Джучи — у всех на виду.
Значит, незавидная роль дразнилки уготована его детям.
Лучше выбрать из старших, тех, кого Джучи разным премудростям чужеземным учил. Будет и повод хану угодить... настолько, мол, испортил Джучи подопечных, что теперь не переучишь. А уж кто из них — Бату, Орду или Шейбан на дразнилку лучше сгодятся, по их характеру понятно будет.
«Дразнилкой» стал старший — мягкий, простодушный Орду, сын христианки Никтимиш-хатун. Он и от природы-то твёрдости не имел, а тут и вовсе потерял способность за себя постоять.
Натравить на подростка стаю жестоких ровесников — дело пустяковое. Известно ведь, что детская жестокость — страшнейшая из всех разновидностей жестокости. Чаган даже считал, вслед за Чингисом, что любая жестокость — удел детей или тех, у кого детский ум.
Жизнь несчастного Орду, на которого вдруг обрушился несправедливый ураган подначек, издевательств и насмешек (тут только дай волю), довела бы его до сумасшествия, а хитромудрого наставника Чагана — до ссылки... Тем более что сиятельные отцы штурмовали в это время цветные крепости Хорезм-шаха и было им не до своих потомков...
Однако Чаган недооценил своих подопечных и тем спасся от собственной дурости. Неосторожно запутанный им клубок оказался куда занимательнее, чем он предполагал.
Всё началось с того, что отчаянный и упрямый бычок Бату — из тех, кого когда-то Чаган прочил в дразнилки, — встал против всей разнузданной своры на защиту своего обречённого брата и красивую вязь расплёл.
Мало того, Бату спелся с Мутуганом, одним из «неприкосновенных» царевичей — сыном Джагатая. Плевать они хотели, что их отцы ненавидят друг друга. Эх, бессовестные. Где долг перед родичами? Где верность, наконец? Правда, второй джагатаид, вселомающий медведь Черби, подмял под себя остальных, но не сам по себе, а ведомый Гуюком.
Этот выродок Гуюк, вооружённый кулаками Черби и других прихлебателей, действительно превратился в ужас ночей. «Кусочки солнца» бились друг о друга как драгоценности, наспех уложенные грабителем в перемётные сумы.
Воспитатели хватались за голову в растерянности, вот ведь попали они, как дзерен на лёд!
Наказывать Гуюка и Черби — накликивать опалу. Эти двое — отпрыски главных наследников Непобедимого Багатура. А оставить как есть оно, может, обойдётся... Ну, пожурит Каган за мягкотелость, но не лишит же шкуры, в конце-то концов. Поэтому как-то так получилось, что воспитатели, назначенные быть при царевичах неотлучно, стали старательно «не видеть» того, что происходило в учебном курене у них на глазах.
«Они же там друг друга передушат!» — жаловалась обслуга из боголов и тургауды.
«Вот и следите, чтобы живы были. На том и всё. Не ваше дело — разнимать божественную возню благородных тигрят», — разбрасывал тюльпаны красноречия Чаган, упорно не признаваясь самому себе и другим, что это он сам, превратив Орду в «дразнилку», сцепил царевичей друг с другом. Он-то думал, что они все вместе, скопом, — опасаясь оказаться на месте изгоя, — станут дружно Орду терзать.
Так было бы в Уйгурии и Китае, но в улусе Темуджина так почему-то не получилось. Здесь — о дьявольский народ! — они разделились на «защитников» и «гонителей» злополучного Орду. Сначала Бури с Гуюком подмяли под себя почти всех, но потом... К тому времени, когда обучение для неуживчивых джучидов, наконец, завершилось и их отправляли в отцовский улус, Бату и его друг Мутуган, похоже, окончательно сдёрнули со сгорбленных шей здешних обитателей грязные гутулы этой зарвавшейся парочки.
Всех интриг, которые клубились вокруг их отрочества, Бату — как и остальные — не замечал. Он просто дрался, дрался, дрался... и помнил Маркуза: «Человек, спрятанный за скалой, силён или скала сильна?»
Джучи. До 1222 года
Уж если какая беда к тебе сызмальства пристанет, так потом её из судьбы-дупла и дымом не выкуришь. У всякого она своя. Одного кровожадные мангусы наказали состраданием к ближнему (отчего главное счастье мужчины — война — оборачивается из праздника в муку?); другого одарили самой красивой на свете женой, а сердце ей заморозили.
Джучи, как человек, к которому нечистая сила относилась с особым пристрастием, обрадовали мангусы сполна и первым, и вторым... Но всё-таки не эти приправы определяли вкус содержимого той чаши, что предстояло ему испить до дна. Было третье, главное: в нём текла кровь врага, которая нет-нет да и напоминала о себе. Поэтому суждено было старшему сыну Потрясателя Вселенной всю жизнь морщиться и вздрагивать при заговорённом слове: «меркиты». И не зря.
Незадолго до того Великого Курилтая, где он ретиво проглотил одну из «приправ» (познакомился с лучшей на свете женой Уке), ему представилась возможность встретиться с теми людьми, мысли о которых испортили ему детство. Правда, один из таковых это детство ему подарил, когда зачал, и вот с этим-то и предстояло справиться.
В ту траву[75] отец одержал одну из переломных своих побед, разметав золочёную конницу найманов. Меньшая их часть отступила вместе с меркитами Тайр-Усуна, своего незадачливого союзника.
Когда доложили Темуджину, что остатки противника прорвались, он долго загибал непослушные пальцы и бил молниями, вылетающими из глаз, собственные гутулы... потом поднял голову и отбарабанил: «Догнать, истребить, особенно меркитов». Стайка кешиктенов бросилась подгонять нерасторопных, а Джучи подлетел к отцу и напросился в погоню, которую поручили Ная, «повелителю крыла», входящему в десятку самых влиятельных людей в улусе.
Всё это вылилось в долгую многодневную тягомотину. Через узкие проходы в алтайских кручах меркиты просочились на равнины Прииртышья, и тут Тайр-Усун выдохся вконец и выехал навстречу преследователям — сдаваться. Ная он сказал, что везёт Темуджину в подарок свою красавицу-дочь, и просил сохранить ему голову. Мольбы так и остались бы подобием лесного шума (Темуджин приказал меркитов живыми не брать), но тут вмешалась единственная сила, способная спорить с богами и ханами, — Ная влюбился.
То, что именно этим объяснялось неслыханное неповиновение «крылодержца», Джучи понял уже позднее. Так или иначе, но нойона Тайр-Усуна, его дочь Хулан и горстку уцелевшей свиты было решено пощадить. Пока преследователи были заняты ими, остальные меркиты оторвались недосягаемо, и монголы повернули коней.
Не позавидуешь тому, кто не увидел то, что нужно. Однако куда нежелательней случайно засунуть свой нос туда, куда не просят. Мангусы тем не менее не дремали. Одинокие прогулки верхом не довели царевича до добра: одна из них изменила как его судьбу, так и судьбу его потомков...
На весёлой полянке, вдали от посторонних глаз, Ная и Хулан... одним словом, всегда есть способ вдохнуть запах плода, не надкусив. Насколько же надо было уверовать в преданность своих нухуров, чтобы тихонько уволочь пленницу в лес и не бояться, что тебя сдадут. Уже год спустя — после Великого Курилтая, где глашатаи проорали свирепые законы Ясы и вокруг всё пропиталось шептунами и «стервятниками», — такая вольность была бы самоубийством для обоих при любом раскладе. Но и в тот последний человеческий год перед чередой боговдохновенных риск для Ная был велик. Ну и что с того? Не стал бы он «повелителем крыла», если бы такая мелочь, как сохранность собственной головы, остановила его порыв.
— Везёшь своему повелителю надкушенный огрызок? — окликнул преступников Джучи, усмехнулся. — Ладно, не уподобляйтесь листьям на ветру. Я буду молчалив. Это — твоя беда.
Кто-то всё-таки нашептал. Темуджин долго изводил истериками и угрозами своего зарвавшегося полководца. Его уже почти казнили, позабыв все прежние неоценимые заслуги, но Хулан осталась невинной, поэтому под нож угодили доносчики, «за клевету».
Не прошло и месяца после той истории, как Хулан превратилась в любимую Темуджинову жену, оттеснив роскошных татарок Есуген и Есуй... Влияние волевой меркитки на отца росло вместе с медленно расцветающей неприязнью к сыну. Джучи таил в себе опасность, как свидетель нежелательной сцены.
Так из первого своего похода на меркитов Джучи привёз непримиримого врага.
Через пару лет — уже и Бату родился, и любимая жена обрадовала похолоданием любви — состоялся поход второй. Как появляется неодолимое желание почесать рану, едва начавшую затягиваться, так тянуло Джучи встретиться с этим народом снова. Да и дома было уже неуютно. Старым клином царевич намеревался расшатать новый — ненависть к Маркузу, «заколдовавшему» Уке.
Поход был удачен. Джэбэ-нойон, теперешний его предводитель, облаву организовал в лучшем виде. В сети попалась главная рыба — хан Тохто-беки, который, согласно лживым увещеваниям, когда-то передал беременную матушку Бортэ в заботливые руки Тогрула... «Узнав, что я — жена Темуджина, что НЕ ТУ его нухуры на аркане притащили, бил хан в раскаянии себя по щекам, воинов своих — берёзой по загривку», — вспоминал Джучи напевы детства. В окружении здешних берёз легко представлялся и тот легендарный загривок...
И вдруг Джучи узрел сей загривок воочию. В толпе пленных меркитов поджимал замерзшие ноги тот самый человек, которого он невольно искал, у которого жила Бортэ в той неволе. Его звали Чильгир-бух[76]. Тайджи так и увидел его — со спины...
— Обернись... — как будто ящерица царапалась под кадыком у «незаконно рождённого».
Сомнений быть не могло. На Джучи, совпадая в несомненных внешних мелочах, смотрела его собственная старость, взирала нагло, с бесстрашием обречённости. Шедший с той стороны шеренги кешиктен, повторяя одну и ту же отмашку рукой, деловито вскрывал пленникам горло.
Когда его настоящий отец повернулся навстречу ножу, тайджи вдавил безмолвный крик в рукоять прикушенной плети. Зубы заскрипели. До вечера чужая кровь снова, как в детстве, дрожала на кончиках пальцев. Да, он был отравлен ею — отравлен навсегда, не выльешь — не сменишь. Однако почему-то она больше не казалась ему паршивой. Теперь он знал о своём происхождении больше, чем сам Темуджин, ведь тот всё-таки сомневался. А мать?
Человек страдает от неизвестности больше, чем убедившись в худших подозрениях. Этот поход, принёсший невесёлую уверенность в главном, окатил Джучи дождём долгожданного успокоения, принёс мир с одним из своих заклятий. И всё же оказался слабым тот первый клин, которым он хотел вышибить второй. Ненависть к Маркузу вспыхнула с новой силой, зато перед Темуджином он больше не робел. Во время тангутского похода и в землях джурдженей они сблизились, как никогда. С той страстностью и изощрённостью, какой нас одаривает жажда мести, Джучи настраивал Темуджина против пришедших, и семена падали на благодатную почву. В глубине души Великий Потрясатель ненавидел Маркуза как свидетеля собственного унижения.
В один из дней лучший монгольский полководец Субэдэй-багатур нанёс такой удар по хребту Золотого Дракона, после которого зверя ждала лишь долгая агония. Из ставки победителя с доброй вестью воротился возмужавший, загоревший Тулуй, которого очень хвалили видавшие его в деле. Да и Джучи не плошал — правда, не столько избивая врагов (он почему-то любил щадить побеждённых), сколь перенимая их замысловатые знания. Вечером того же дня переметнулся на сторону хана десятитысячный тумен северных джурдженей, укрепив войско Величайшего целым лесом стенобитных и швыряющих камни машин. И Темуджин решил — пора избавиться от пришедших. События этого дня явно были знаком благосклонности Небес.
Послал самых проверенных, лично преданных, готовых и с нечистой силой ради него схлестнуться. Удивились бы ночные стражи — кебтеулы, если бы увидели повелителя этой ночью. Он сидел в хайморе и дрожал, словно зайчонок, узловатыми руками прикрывал лицо, как от удара. «Сияющий Мизир, карающий за предательство, прости. Ведь не ради меня самого Маркуз спас тогда».
Долгожданные вести из коренного улуса были, с одной стороны, обнадёживающие, с другой — пугающие. Всех пришедших переловили с неожиданной лёгкостью, тела сожгли.
Вторая весть заставила хана зажмуриться. Маркуз исчез, а значит, не будет покоя. Сияющий Мизир, выпучив из туч жёлтый волчий глаз, бил лучами осуждающе: «Ужо пожалеешь».
Что на войне хорошо? Очень многое хорошо. Но самое в ней лучшее — жёны далеко. Однако всё когда-нибудь кончается. После взятия джурдженьской столицы Темуджин, Тулуй и Джучи вернулись в родные нутуги и встретились с жёнами. Суркактени была Тулую рада, но не упустила удобный случай, чтобы очернить Джучи — были у неё на это свои веские причины. Хулан Темуджину обрадовалась меньше, но Джучи от этого легче не стало — скорее наоборот. Коснулись и тут высочайших ушей слова тонкого злословья. Дело тут было не только в том, что Джучи знал о Новой Ханской Любви то, о чём она пыталась забыть... Имелась и более веская причина: подрастал её сын Кюлькан, а дети Джучи стояли у него на пути.
Уке своему мужу не обрадовалась вовсе. Исчезновение Маркуза не только ничего не изменило, но даже ухудшило — они молча посидели рядом, как будто полыни нажевавшись... Пятилетний Бату забился в дальний угол — вот-вот заплачет. Джучи махнул рукой и отправился лечиться к китайским наложницам. Кисло было дома, ой кисло, поэтому, когда на горизонте замаячили всё те же меркиты, незадачливый царевич присоединился к Субэдэй-багатуру.
Пока Джучи познавал на пылающем душном юге высокое искусство прошибания крепостных стен, его навязчивые пращуры по мужской линии собрались с силами и попытались вернуть родные нутуги. За алтайскими проходами они обрели нового союзника — кыпчаков.
Война с кыпчаками затянулась на долгие годы, пережила и Темуджина, и его детей, и его необъятную империю. Но поначалу Чингис-хан, раздувшийся от побед над джурдженьским Сыном Неба, и представить подобного не мог, и никто не мог. «Что... опять меркиты? Почему этих прыгающих клопов по сей день не додавили?»
Субэдэй-багатур ринулся на докучливых тварей с утроенным пылом. Нечаянный враг был опрокинут... И снова началась унылая, многодневная игра в догонялки. Как знаток надоедливых северян, Джучи опять оказался при деле, но чувствовал себя при этом очень странно — как будто на родину возвращался. Ах, если бы знал царевич, насколько он прав. Ведь именно эти земли на Иртыше (куда он явился в третий раз, и, как прежде явился не с добром) станут для него и потомков настоящим родным домом.
Теперь, когда избивали людей одной с ним крови, царевич вместо мстительной радости — «так им, так, за всё, за всё» — нежданно-негаданно заболел своей обычной болезнью — состраданием, причём заболел в особо острой форме. И зачем только поехал... рукава халата вконец изжевал... о Вечное Небо, это ведь гибнет его народ, и он сам ретиво обрубает собственные корни.
Под роскошным хуягом сына Великого Кагана трепетала слепая неприязнь непонятно к чему, пока он с удивлением не распознал её источник. Да, он слишком долго сдерживался, наблюдая повсеместные багровые следы их справедливой армии. Его вдруг прорвало, как запруду, которую они насыпали перед тангутским городом Хара-Хото.
Везде, где можно, он пытался сохранить жизни пленным, не очень, честно говоря, на этом поприще преуспев. В одном из тех, которых не убили сразу и везли Темуджину на расправу — сыне погибшего меркитского хана Хултуган-мергэне, Джучи вдруг обнаружил родственную душу. Долгими ночами они бесконечно говорили. Хултуган рассказывал о земле отцов. Бежать он не захотел. Куда, к кому? Помощь Джучи в этом деле решительно и благодарно отверг.
Мнительный, болезненно подозрительный, цепкий Джучи никогда не имел настоящих друзей, ссориться со своим одиночеством не любил, а тут поссорился. Однако нахальные красные мангусы через заговорённое слово «меркит» устроили ему очень необычную муку: сделали другом врага, чтобы тут же, увы, друга отнять.
Уповая на необычайные способности Хултугана в стрельбе из лука, Джучи бухнулся в ноги Темуджину — попросил сына меркитского хана себе в ближние нухуры. Неожиданным союзником в проигрышном деле вдруг стал Субэдэй, который видел, как Хултуган стреляет: «Это чудо! Где мы не попадём в дзерена, попадёт дзерену в глаз».
В том, что Великий Хан сделает им с Субэдэем такой подарок — оставит Хултугана в покое — Джучи почти не сомневался, но... Темуджин был непреклонен, и пленника казнили.
Да, пока они бороздили звериные тропы за алтайскими перевалами, тут, в родном улусе, многое изменилось.
И опять же из-за меркитов, точнее, из-за меркитки, в отличие от Хултугана пощажённой и поднятой до небес. Кое-какие откровенные подробности о любви Хулан-хатун к крылодержцу Ная, известные Джучи, заставляли её трепетать, но дочь меркитского нойона уже вполне освоилась в «поднебесье». Её пленительные напевы, слышимые ханским ухом каждодневно, усиливали ту неприязнь, которая и без того росла в Темуджине. Она росла, как снежный ком, с того времени, когда он рассказал Джучи о себе самую неприятную правду. Ведь только старший сын знал о его страхах и тайнах. Теперь о них не знал больше никто... вот разве что исчезнувший Маркуз.
Нет, что и говорить, Темуджин уверовал в то, что только здравый рассудок ведёт его по жизни, ну и Небо тоже не отстаёт, и в его разговорах с Вечным ему посредник не нужен. Мало ли что кто-то там считает его безглазым орудием... он-то знает ПРАВДУ. Не раз она являлась к нему в молитвах. Да, являлась, и о преемниках он подумает сам...
Великий Хан решил назначить своим наследником мягкого, добродушного Угэдэя, а хранителем главной своей силы — законов Ясы — непреклонного, как штырь, Джагатая. Для Джучи же хан намеревался отрезать что-нибудь незаметное на окраинах империи. Не владения свои из рук в руки передавал Темуджин — выражал высочайшее пожелание. Ибо в придуманных им же самим законах значилось бесповоротно: и Великого Хана, и Хранителя выбирает не Хан, а Великий Курилтай. Выбирает, конечно, прислушиваясь к мнению Сына Божьего, каким он себя, пока ещё робко, но уже осознавал. Из чингисидов-внуков он решил выковывать нечто однородное и непоколебимое. А это дело не материнское — нужно перепоручить детей тем, кто воспитает из них воинов.
Вот какие важные перемены произошли дома. Разбитый, удивлённый и подавленный казнью нового друга, Джучи ввалился в юрту Уке. Расплывчатый морок упорно приводил его туда с тщетной надеждой: может быть, после очередной новой разлуки с Уке всё будет как прежде, как в первые месяцы после свадьбы, пока не появилось это проклятье — Маркуз? Того уже давно не было, а чары остались. Однако чудеса бывают редко, особенно добрые: у его любимой второй хатун был новый повод закручиниться — ходили слухи, что скоро заберут всех ханских внуков невесть куда, и она предчувствовала разлуку с Бату.
Перед тем как её волнения приобрели зримые очертания и Бату и Орду утащили в «учёную яму», на Темуджина свалилась негаданная напасть. Он поссорился с шахом Хорезма Ала-ад-Дин Мухаммедом. В подвластном шаху городе Отраре перебили монгольский караван.
На вызов зажравшегося сартаульского владыки нужно было отвечать войной... Темуджин это дело любил, но на сей раз всё случилось не вовремя... Джурджени не добиты, родные кочевья разорены военными поборами собственных черби[77]. Однако самое главное — ему не хотелось усиливать тех из своих подданных, кто верил служителям Креста.
Недавно через усилия соглядатаев он, наконец, понял: благополучно удавленные им пришедшие не прямо, но косвенно были связаны с уйгурскими христианами из оазисов — теми самыми, кто дал ему золото на джурдженьскую войну. Да, он позволил их общинам разбогатеть. Да, он не разоряет их утопающие в ладанном дыму храмы. А храмов в последние годы в степи расплодилось, как слепней у летнего озера. Рано ещё разорять... пока рано. Уйгуры ошибаются, если думают, что смогут использовать его как приручённого дракона. Волю Неба он теперь и сам знает: не волхвам Тенгри (Черной Веры) залезать в душу его людей, но и не волхвам Креста — Веры Белой... Бог хочет, чтобы торжествовала его Великая Яса, а пока пускай себе славят его имя каждый на свой лад.
Войне с магометанским шахом христианские купцы и посредники будут рады, как медведь весенним лучам. Они уж и так сверх меры разбогатели, скупая у его воинов китайскую добычу, так пусть имеют докуку в тяжбах с купцами Хорезма, чтоб не сильно наглели.
Дурной гордости Темуджин не имел и избиение купцов мусульманам Отрара простил. Погорячились соседи, порезали людишек, с кем не бывает! С шахом он хотел заключить торговый договор, огромный золотой самородок отправил ему в подарок, мол, разберись, виновных накажи. Но этот упрямый осёл всё испортил: с Темуджиновыми послами расправился...
Предстоящей войны хан испугался не на шутку. Его мухни сообщали: у шаха войск втрое против него, лучшие полководцы Темуджина увязли в Китае. Что же делать? В эти дни ему часто снилась родная джурдженьская яма, вереница рабов, в которой он сам понуро вышагивает... Нет, он уже не молод. Такого он больше не вынесет. О, Вечное Небо! А вдруг это возмездие за непослушание? За убийство пришедших. Но человек со ЗНАКОМ больше не появлялся.
То, что великий Тенгри ему по-прежнему благоволит, выяснилось довольно скоро. Как же иначе объяснить, из-за чего Небо лишило шаха разума, и вместо того чтобы растоптать монголов превосходящими силами, Мухаммед растолкал войска по городам, а сам сбежал.
И всё же была в этой новой войне и своя польза: конечно при условии, что вражья сила сидит за стенами. Размолвка Великого Хана со старшим сыном всё углублялась, что само по себе неопасно. Настораживает другое. Джучи известен своим тошнотворным бабским милосердием, и это многим нравится. Желающие того, чтобы степь превратилась в стоялое гнилое болото, всё чаще видели в нём — в Джучи, а не в Угэдэе — законного наследника улуса. Сейчас все, сбивая копыта коней, носятся от облавы к боевому учению — это Темуджин им, заблудшим, устроил. Но как бы они, отдышавшись на досуге, не подумали сдуру, что ненавидят умирать за справедливость и хотят сладко жить и плодиться.
Вот всех этих прихлебателей и бросить на сартаулов, а завоёванные земли отдать Джучи. Пусть-ка на своей шкуре попробует, каково править покорёнными «милосердно». А дальше, на полночь есть ещё и эти кыпчаки, пригревшие огрызки меркитов. Вот это пламя мы сыночку и пожалуем, пусть милосердствует, не до бунта будет — уйти бы живым. А если не удастся живым, так в том хан не будет виноват. Чужие улусы обширны, никто не скажет, что Темуджин кого-то из детей обделил.
А не своего добра не жалко, тем более, если его ещё пока и нет.
Дабы слюни сынок не распускал и с покорёнными не миндальничал, Чингис приставил к Джучи непреклонного Джэбэ-нойона. Ежели что, это и слежка, и помощь. Когда-то они вместе ходили на меркитов и с тех пор терпеть друг друга не могли.
Шествуя с вышколенными туменами вниз по реке Сейхун[78], Джучи и Джэбэ занимались любимой ещё с меркитских травль игрой — перетягиванием «верёвки». С одной стороны той верёвки (у Джэбэ) была мёртвая пустыня, с другой (у Джучи) — пустыня с некоторой оставшейся людской живностью.
В Сыгнаке первенство осталось за бестрепетным нойоном хана — город поголовно вырезали за убийство посла и внесли в перечень «злых городов». Зато Джучи отыгрался на Дженде — население вовремя сдалось, и его пощадили.
Столицу Хорезм-шаха Мухаммеда, многолюдный «волчий город» Гургандж, царевич хотел сохранить во что бы то ни стало. Тут ему жить и править, ведь не развалинами же? Но Джэбэ (прилетел «дальняя стрела» от хана, растолковал) с такой же силой жаждал выслужиться на своём обычном поприще. Гурганджцы сдаваться не захотели, сопротивлялись отчаянно. Очень им хотелось город отстоять, потому и погубили себя вместе с семьями. Такой резни Джучи не помнил даже по Китаю... И снова у него было ощущение, что он воюет на стороне врага со своим народом.
Показывая волю Небес, Джэбэ помогла слепая стихия: без усилий со стороны штурмующих разрушилась плотина, и над Гурганджем сомкнулись ласковые волны. Всё было кончено. В том потопе захлебнулась навсегда даже не любовь (этой не было давно), но и последняя симпатия Джучи к великому и ненастоящему своему отцу. Ответное чувство к нему овладело Джучи. Когда последовал приказ идти ещё дальше, на непокорённый, но до боли знакомый Иртыш, он знал, что по доброй воле назад не вернётся.
Кыпчаки, старожилы предгорных степей, разлетались под напором его вышколенного воинства, словно куры в сартаульских двориках. Но это было только начало. На новом месте ему понравилось, и вскоре туда перекочевала вся его семья. Потом потянулись добровольцы из тех, кто симпатизировал Джучи. Темуджин такому переселению не препятствовал и даже способствовал — туда им и дорога, меньше рядом с ним будут воду мутить. Так, странным образом, интересы «отца» и «сына» снова совпали.
Однако было кое-что ещё. Пронеся Джучи по очередному пылающему кругу, вездесущие красные мангусы снова столкнули его с родной кровью, и снова не за дружеской пирушкой. Спасибо, эцегэ, за горсть огня в ладони: спасибо за меркитов, всё тех же меркитов.
Джучи был одним из тех, кто лишил их земли предков, привязал неутолимую тоску к гривам уставших коней. Все остальные народы, взятые монголами на копьё, просто покорены, но живут, где жили. Кровососы сменяют один другого, но родина остаётся. Потеря родины — это гораздо хуже. Такое не прощается никогда.
Это лишило Джучи возможности договориться и с кыпчаками по-хорошему, как он того желал. Меркиты были непреклонны в своей непримиримости и кыпчаков подзуживали.
Знали бы эти последние представители многострадального народа, что у них с людьми Джучи больше общего, чем можно себе представить. Одни пришли на землю кыпчаков гонителями, другие — гонимыми, но по сути изгнанниками были и те и другие. И тех, и других судьба (пусть по-разному) лишила родной земли. Даже Темуджина и те и другие ненавидели почти одинаково... А кроме того, Джучи сам наполовину меркит — теперь он это точно знал. Забавно получить стрелу в живот от своего настоящего, кровного родича в этой «родовой» войне, но как объяснишь тому, кто спустит тетиву, что лучше объясниться, чем убивать?
Не легче было и в семье. Если бы Уке просто предалась с Маркузом блуду, Джучи бы их простил, за что мог бы ждать благодарности. Но в том то и дело, что Уке оставалась верна. К чему придраться? Если бы дело происходило в старые «несправедливые травы» (до того, как на них опустилась сеть законов Ясы), можно было бы подумать: ну ладно, не любит его больше жена, так хоть чтит. А с «законами» всё куда паршивее... ведь за блуд женщину ждёт смерть. Значит, не чтит жена, просто боится. Даже эта боязнь могла бы стать хоть слабым, но утешением... Но Уке боится не его, а Темуджиновых палачей, и даже... ещё хуже: отцовы палачи сами Маркуза боятся.
Раньше, в то короткое счастливое время после свадьбы, она заигрывала, трогательно дёргала его за усы, как девочка ручного тигра. Но с тех пор как появился Маркуз, жена вела себя иначе — будто собака на надоевшей цепи. И ничего с этим сделать нельзя — убить только, но за что и кого? Тот ночной разговор — вскоре после рождения Бату — Джучи вспоминать не любил.
— Не смотри на меня так, не трону.
— Лучше тронь. Не можешь, так языком не вози, — в круглых карих глазах Уке воспалённое отчаяние, — я ждала как избавления, что тронешь... Всем легче будет. — Потом она выкрикнула, как в лицо из чашки кипяток плеснула: — Ты... ты ничего не можешь... даже покарать по-людски. Уважающий себя мужчина убил бы обоих, а ты смолчишь. Не из благородства, испугаешься гнева отца. Темуджин Маркуза боится, а ты — Темуджина. Оба вы — овцы в волчьей шкуре. Да и захочешь погубить — не сможешь. Куда тебе... Ты тайджи, он — никто. Нухуры за его спиной не таскаются, а он сильнее вас.
— Любишь его! — затрясся муж.
— Дурак, какой же дурак! Эх ты, медведь ручной. Не нужна я ему. Да и как можно бездну любить, пропасть? Знаешь, когда у края стоишь и голова кружится, хочется вниз, туда, нестерпимо. И ничего больше не надо. Глаза как бездна, ненавижу его — жизнь мне сломал. А ты...
Джучи тогда отвернулся и вышел. Она была права, права. Он ничего не мог. Да и зачем? Разве исправишь? Потом, в походах, вдалеке от родного очага, он часто думал: если бы Маркуз был на самом деле просто тургауд? Что бы он тогда сделал? Всё равно простил бы. Да, жалостливось держала его в когтях, как коршун полёвку.
Отцу мягкотелость не свойственна. Не любила Темуджина пленённая татарская красавица Есуй, о женихе воздыхала... Р-раз — подарил ей голову того, по кому воздыхала. А сам тут же забыл про унижение (ей надо — пусть сама и страдает). Или, скажем, бросала неправильные взгляды меркитка Хулан на удалого крылодержца Ная — не поздоровилось и крылодержцу. Еле живой ушёл из той переделки.
Можно иногда и покрасоваться — полураздавленному противнику немного подышать разрешить. Р-раз — и ты уже добрый, милостивый. Благо за ханом угрюмая мощь великой армии. Прямое его продолжение, как меч — продолжение руки багатура. У Темуджина нет времени на переживания. Он великое дело делает, по непокорным странам людей вырезает.
Джучи так не мог. Посадил себя когда-то на дурацкий крючок «настоящей» справедливости, без хитрых примесей — вот и извивается. А не смешно ли? Он не может в этом тонком деле идти по пути вселомающего Темуджинова тарана. Такой путь — будет его поражение. И перед Уке, и перед Маркузом.
Разве понял бы его Темуджин? Тот гордился троном своим, как гусыня яйцами. Джучи же положения своего (даром, по праву ханского сына, незаслуженно обретённого), наоборот, стеснялся. Потому что теперь уже не проверить, кем бы он стал САМ ПО СЕБЕ, без помощи великого отца. Темуджин начинал с нищеты, а добился вон чего... Он начинал с богатства и...
Его, Джучи, стараниями исчез Маркуз из их жизни. И что изменилось? Ничего. Благосклонность Уке так и не вернулась.
И как-то раз истерзанное самолюбие незадачливого страдальца подсказало выход, и все мучения сразу — как рукой сняло.
Ведь как, оказывается, всё просто!
Нужно избавить покорённые Темуджином племена от его свирепой власти. Вечное Небо насылало на Джучи душевные муки, чтобы в конце концов — одарить, сделать его великим за... не завоевателем, нет, — ОСВОБОДИТЕЛЕМ.
Только этим он докажет Уке, что тоже на что-то годится. Только этим он заставит её пожалеть о том, что она так опрометчиво и жестоко его когда-то разлюбила.
После — когда он уже утвердился в этом достойном, мужественном решении — Джучи слегка помучивала совесть. Ведь лично ему Темуджин ничего плохого не сделал. И сыном признал, и все разговоры о его рождении пресекал. А что прямым наследником не провозгласил — так и не мог таким опасным решением общество будоражить, и без того врагов невпроворот.
Джучи ему дерзил почти в открытую, а Темуджин за это... владением одарил. Получается, что хочет Джучи ударить отца тем самым мечом, который отцом и подарен. Грязновато... но...
Чтобы совестью не мучиться, нужно просто кое-что не забывать.
«Темуджин ему не отец», — это первое.
«Темуджин — кровавое чудовище», — это второе.
«Темуджин не милость ему оказал, а сделал своим травильным барсом», — это третье.
За прогулки в одиночестве Джучи боролся всю жизнь, и вот только теперь, став ильханом[79], он мог себе наконец их позволить. А раньше — только с тургаудами. Скачи себе, куда пожелаешь, но чтоб тебя было издали видно. Как-то раз, на далёкой тангутской войне, он сбежал от охраны... по витым заросшим тропкам Алашаньских гор, в опьянении гонялся за фазанами хара-такя и, как назло, нарвался на тангутский разъезд. Всё кончилось тогда благополучно для него, а два человека из тех, кто отвечал за его безопасность, не выдержали палочного угощения — скончались.
Темуджин его тогда даже не пожурил: «Сынок, ты волен скакать, куда пожелаешь. Дело тургаудов — хоть на голове стоять, но если что с тобой, они в ответе... спиной и головой».
Вообще-то подобные прогулки в роду рыжих борджигинов не приветствовались, ибо когда-то не довели до добра его деда Есугей-багатура. Не таскался бы в одиночку по степи — глядишь, и прожил бы подольше. «Какие были времена, — думал Джучи с тоской, — такой важный человек, а свобода была». Страсть к одиночеству ещё с детства делала Джучи непохожим на остальных братьев — Джагатая и Угэдэя.
На Иртыше он сам себе хозяин, и пусть его здесь схватит залётный кыпчакский отряд, ну и что? Всё равно он будет охотиться один. А если что случится, никого за это не накажут. Таково его, Джучи, высочайшее повеление.
Это произошло через несколько месяцев после того, как он укоренился на Иртыше. Легко повелевать, да только вот когда однажды на горизонте средь жёлтого марева осенней травы показался чужой одинокий всадник, Джучи вздрогнул и пожалел, что сзади не скачет охрана. Испуг сменился ураганным ужасом, когда, ещё по неясным очертаниям (не наваждение ли?), он узнал того, кто приближался неотвратимо, как возмездие. Тяжёлым усилием воли хан удержал коня, чтобы не броситься наутёк...
— Здравствуй, повелитель, — окликнул его Маркуз несколько небрежно. — Ну, давай поговорим. Ты один, и я один. Ты же столько лет хотел со мной уравняться. Уж не знаю, спуститься до меня или взлететь — теперь уж не важно.
Они уже долго ехали стремя в стремя, объезжая сусликовые норы, а Джучи всё никак не мог раскрыть рот — не снится ли ему всё это?
— Знаю, не жалуешь меня, но это круги на воде. Мне жаль, что я дал повод себя ненавидеть, не хотел, не стремился. Прости, я должен причинить ещё одну боль твоей гордыне, но выслушай меня спокойно, без сердца. С Уке просто так получилось, на судьбе написано. Никого я не заколдовывал, да и не смог бы. Она сама... Я знаю, тебе было бы легче, если бы заколдовал. А так — и опереться не на что. Просто разлюбила и всё. Без волшебства. Так бывает, увы.
Джучи посмотрел на своего врага, как раненая косуля в глаза рыси. У Маркуза на лице было заботливое сострадание. Потом брови дёрнулись вверх, как будто что-то нашёл в траве.
— Я, кажется, придумал, чем тебя утешить, хоть немного. Уке никогда тебя не любила, даже вначале. Только хотела из твоих кусочков слепить своего багатура, о котором мечтала. Так что ничего ты не потерял, кроме морока. Но ей не нужен и я... такой, какой есть, без тумана. Просто из меня мечту слепить получилось. Я ей в этом помог, а знаешь почему?
Джучи вяло дёрнул головой. Он не знал.
— От страха, простого человеческого страха.
— Да ну? — Это были первые произнесённые Джучи слова.
Маркуз улыбнулся:
— Ну вот, повелитель, ты и разморозился. Знаешь, есть такая бабочка. У неё наряд, как у ядовитой осы, чтобы птица не склевала, так вот и я. Никакой не чародей. Это Темуджиновы шептуны рассыпали о нас всякие небылицы. И убить меня легко, как ту бабочку...
— И как всех пришедших, да? — спросил Джучи уже что-то связное.
Из-под копыт выпорхнула стайка куропаток, и Маркуз как-то очень по-простому вздрогнул. Это было необычно, и Джучи впервые увидел в своём враге человеческое.
— Кто ты такой, Маркуз?
— Я подневольный человек, повелитель. Всегда, всю жизнь. Мой господин не снаружи — внутри, я чувствую его всё время. Не смогу объяснить, почему такое рабство куда страшнее. Матери своей я не помню, детства не помню, почти... Какие-то лысые скалы без леса, кумирни, жара... Нас всех (кого потом так страшно назвали — пришедшие) прежние хозяева продали несторианским священникам из Уйгурии. Даже не как рабов, нет, как снадобье... из-за того дара, — он всё, что у меня есть.
— А те, прежние хозяева, кто они были? И что за дар такой?
— Я их не помню, хан. А что до дара... ох, как сказать проще... У каждого своя страсть, так вот я могу её усилить и немного развернуть, как летящее в тебя копьё. Но если у врага копья нет, я беспомощен, как та бабочка. И ещё я могу сделать так, чтобы человек потом не помнил, что бросил это копьё.
— Теб-Тенгри, ты сделал с ним такое? — осенило Джучи, который вдруг почувствовал, как его впервые за долгие годы отпустило.
— Да, тогда, много трав назад, у колыбели Бату. Этот всемогущий шаман, этот всесильный служитель вашей богини Этуген имел желание — свалить Темуджина... Я разбудил это желание раньше срока и немного отвёл в сторону, потом сделал так, что он всё забыл.
— Всё равно немало, — удивлённо откликнулся Джучи.
— А твоя Уке решила, что его мощные чары я поборол своими, сильнейшими. Но сила-то была его, а не моя. Уке подумала, что я великий колдун. А я ничего не знаю, ничего не умею делать, кроме этого. А кто научил — не помню.
— Наверное, кто-то слегка развернул твоё копьё и сделал так, что ты всё забыл? — ухмыльнулся хан, и Маркуз опять дёрнулся, как лошадь от слепня. — Не ты же один умеешь усыплять память?
— Ну, легче твоей гордыне, повелитель, нет? Я даже не знаю, сколько мне лет.
Ничто так не радует, как чужая слабость. Конная прогулка затягивалась. Успокоившись, Джучи рассказал историю отцовой юности. Как к нему приходили таинственные люди со ЗНАКАМИ, и что из этого вышло. Поведал про незнакомого Бога, «который един». Маркуз махнул рукой:
— Ах, это... Обычное дело, хан. Каждый считает себя самым умным. Уйгурская община Нестория богата... Много лет поддерживала всех христиан степи, чтоб были против Хорезма, чтобы тот торговать не мешал. Но христианские ханы кераитов и найманов погрязли в междоусобицах — уж какие там мусульмане. И тогда возник этот замысел — возвеличить одного из этих ханов, Тогрула, усилив его войска всяким обиженным вольным людом. Проповедники стоят дорого, но заплатить прорицателям, шаманам и отшельникам было чем. Но вокруг кого язычников объединять? Долго думали и решили, что вокруг сына того Есугея, который когда-то Тогрулу помог расправиться с мятежными братьями. Они там понимали: Тогрул помочь ему не откажется для своей же выгоды. Вот так и взошла звезда Темуджина... Из воздуха, из ничего, из золота. Это шептуны уйгурских христиан ЗНАКИ ему таскали. Сначала думали — пусть поможет Тогрулу и сникнет. Но Тогрул надежд не оправдал — не уважали старика в народе, уж больно добродушен. А Темуджин запел своим собственным голосом, слава его гремела... В ханы сумел пролезть — такого не ожидали.
— Значит, в ханы он всё-таки сам выскребся... без помощи, — удивился Джучи, теперь он слушал спокойно и внимательно, но ему не хотелось думать, что Темуджин и сам по себе чего-то да стоит.
— Нет, не так, — улыбнулся Маркуз, — из-за чужой беспечности. Ваши старейшины решили: подумаешь, хан. Пусть от врагов отмахивается, а мы будем жить, как жили. Не получилось. И вот тогда в уйгурской общине родился и вовсе сумасшедший замысел: не с мусульманами надо воевать — с джурдженьским Китаем. Только это для уйгуров-несториан было подобно прыжку через глубокий овраг: не достанешь той стороны — сломаешь шею, а уж если достанешь — золотые горы.
Но в том-то и дело, что монголы этой войны желали. Для них джурджени — ужас ночей, а у кераитов такой нужной злости к Алтан-хану не было. Для них что мусульмане, что люди Хуанди — какая разница. Спроси их, так сказали бы про купцов, привозящих диковинки, и всё. Что и говорить: кераитских жён и детей в Шаньдун не угоняли каждые три года. Не то монголы: под тутами мести джурдженям можно было всех монголов объединить. И тогда подумали: пусть кераиты будут под монголами, не наоборот. Всё бы хорошо, но Темуджин затеял совсем своё, неправильное.
— Решил джурдженям помочь? Разбил татар?
— Да, хан, так оно и было. Уйгуры прислали ему купца со ЗНАКОМ, а он не послушался. Тогда было решено, что Темуджина нужно гасить, как свечу, от которой вспыхнуло одеяло.
— И вы поспособствовали тому, чтобы его продали в рабство...
— Не мы, хан, не мы. Мои уйгурские хозяева... нас они тогда ещё не купили. Только без твоего отца всё, что с таким трудом создали, совсем развалилось. Да и обидно: сколько сил положили, чтобы его возвеличить. Что ж теперь, всё с подножья начинать? Но ведь в одну и ту же яму и зверь два раза не провалится. Наконец решили: чтоб джурдженей свалить, степь на Китай натравить, нужно Темуджиново знамя. Нет сейчас другого, что тут поделаешь? Тогда уйгурские несториане решили Темуджина вернуть, но хитро... как воскресшего Бога.
— То-то, я гляжу, с нашей семьёй тогда так носились.
— И вот в степях снова засуетились проповедники и шаманы с уйгурским золотом в тороках. А Темуджина нужно было освободить. Будет, решили, ему теперь наука, станет послушен. Для устройства его побега как раз понадобились мы — пришедшие. Только так нас ещё никто не называл.
— Чтобы зачаровать стражу, — догадался Джучи.
Маркуз кивнул.
— Мы крутились вокруг тех, кто держал твоего отца, целый год там увивались, вынюхивали, выслушивали, чем живут его тюремщики, чем дышат. Чтобы заставить человека подчиниться силе, нужно знать хоровод его страстей и слабостей. Дело оказалось труднее, чем мы думали. Десять таких, как я, «чародеев» (назвав себя так, Маркуз хитро улыбнулся) и сотни помощников кружились над джурдженями, как стая грифов над ещё живым хищником. Не только туман нагоняли, но и золото им совали, а повезло только мне. Мы нашли его разбитым, разочарованным, но жажда мести жила в нём, вот я её и подстегнул.
— Вы не только «жажду мести», вы и страху на него нагоняли.
— А как же? Не без того. Уйгурские интриганы решили, что с нашей помощью будут держать его на верёвочке.
— Вы и держали. Он очень вас пугался.
— Да, но недостаточно. Несториане хотели, чтобы я ходил за ним, как тень, и постоянно полоскал в своих глазах, но подобное мне не под силу. И никому из нас не под силу, так-то. Всё убеждал их: «Не считайте себя умнее других. Темуджин не дурак, он сорвётся. Беспечно думать, что я могу править огнём, как поводьями». В конце концов решили, что будет лучше лишний раз не маячить у него перед глазами, но быть... чтобы он знал: мы, пришедшие, тут, с ним, следим и направляем его руку. — Тут Маркуз как-то резко переменил тон и смущённо добавил. — Но и мы тряслись за свою жизнь, долго ли он такое вынесет? Потому и распускали о себе славу, как о могущественных колдунах: попробуй тронь, себе дороже.
— Почему бы не сказать ему сразу, что вы люди уйгурских христиан, — спросил вдруг Джучи. — Вы советовали Темуджину жениться на несторианках, на уйгурские деньги он вооружал войска.
— Но его же руками мы громили христианские ханства кераитов и найманов. Нет, он должен был догадываться, но не знать, теряться в догадках, бояться нас, как мангусов, но в то же время чувствовать — стараниями пришедших, вытащивших его из ямы, он там, где есть, ощущать, что мы посланцы не какой-нибудь земной общины, а самого Бога. Он должен был бояться спрашивать, откуда мы, а спросив, получать туманные ответы.
— Да, так оно и было... до поры до времени. Пока эцегэ не разорил Китай и перестал зависеть от уйгурской мошны. Но всё-таки вы, пришедшие, неправильно высчитали время, когда отец решит от вас избавиться. И где теперь твои чародеи — в мире духов?
— Да, хан, всегда важно понять тот миг, когда ты уже лишний в этой возне чудовищ. Мы думали, он будет нас терпеть, пока не покончит с Китаем. Но твой отец оказался дальновиднее.
— Это я его уговорил, — гордо признался Джучи, — вы и меня недооценили, не только его. Расчёсывал-расчёсывал... вот и расчесал.
— Вот как, я об этом не знал, хан! — искренне удивился Маркуз. — И что же, всё из-за Уке?
— Но ты-то как раз и уцелел, таймень скользкий. Какое мне было дело до других? — улыбнулся Джучи, он был рад, что хоть в чём-то переплюнул чародея. — Как же тебе удалось вовремя сбежать?
— Помог твой сынок Бату, случайно... Ему я обязан жизнью.
— Чего же тебе от него было надо, Маркуз? Зачем ты с ним возился? Ведь не зря же стал нашим тургаудом?
— Эх, повелитель, такой ты въедливый уродился, а не догадываешься о самом главном, за травою пастбищ не узрел. При чём тут Бату? Это я поначалу к тебе подбирался.
— Что-о?! Зачем? Убить?
— Ох... Джучи-хан... умный ты человек, а чудак. Неужто и сейчас не понял?
— Н... н...
— А зачем же, думаешь, настояли, чтобы на дочке из Тогрулова рода тебя женили, на Никтимиш твоей? Да потому что знали: Темуджин джурдженей разгромит, потом сартаулов... И всё... А дальше он, язычник окровавленный, зачем нужен? А на его место уйгуры прочили тебя, хан. Думали — время придёт и монгольские роды надо будет от власти отодвигать... Ты незаконнорождённый — за тобой пойдут те, в коих кровь невысокая. Ты женат на кераитке — так пойдут за тобой христиане. Ты умён и справедлив, люди тебя любят. Да ещё к тому же ты ещё и старший сын. Кто как не ты?
— М-меня,.. в Верховные Ханы... в чингисы... меня? — Это звучало, как музыка, пахло, как бальзам.
— Сначала тебя. Потом — наследников твоих. Они там в братстве далече заглядывали. Только до поры до времени ты об этом не должен был знать, мало ли что! Сначала я присмотрелся к Никтимиш, к её Орду и понял — нет, это не те люди. А вот Уке влияние на тебя имела. Потому-то и стал её тургаудом... Только... она всё испортила. — Маркуз посмотрел на хана с некоторой жалостью, но тут же это выражение с задубевшего от ветра лица убрал. — Ну уж этого, хан, я никак не мог предвидеть... Того, что Уке твоя привяжется ко мне настолько, с тобой поругается, накличет ревность и ненависть.
Что мне оставалось делать, посуди? Не мог же я сказать тебе: «Мы прочим тебя на место Темуджина, потом, когда его убьём». Это сейчас ты во-он каким стал, а тогда бегал за ним, как медведь-пестун за матухой. Изнывал, что не одной с ним крови. Увы, своей неуместной страстью Уке нам всё перемешала...
При каждом упоминании жены Джучи бледнел всё больше и больше, Маркуз опешил.
— Прости, хан, что я снова разбередил твою рану... Я так и думал, что она тебе дорога больше, чем власть.
— Н-ничего... мне хорошо... хорошо. — Голова Джучи кружилась.
— Однако что случилось, то случилось... Тогда я решил: ладно, подождём, понаблюдаем. Всё равно Уке душу твою держала за хвост, а Бату... Сначала я с ним возился, а потом просто к нему привязался. Сам по себе, без всяких уйгуров. И как-то раз подумал: вот растёт настоящий наследник Темуджина.
— О Небо... чудны дела твои. Если бы я только знал! — горестно посетовал хан. — Ты вернулся сюда, потому что он скоро приедет, да?
На сей раз Маркуз долго молчал и всматривался в малиновое небо. Похоже, завтра будет дождь. Потом расклеил тонкие губы и ответил:
— И да и нет. Я хочу, чтобы Бату стал когда-нибудь Великим Ханом, но и твоя судьба не завершена. Ты оказался лучше, чем я думал. Я помогу тебе в твоих бедах... как сумею. Пойми, я тебе не враг.
— Так хотят твои уйгуры? Я под их лимбэ[80] плясать не стану.
— Шайтан с ними, с уйгурами. Ссориться с христианами без нужды не надо... Но разве они защитили моих братьев от гнева твоего отца? Для них я — мертвец, нет у меня никого, кроме Бату, твоей Уке и... и тебя, хан. Так уж вышло. Примешь меня к себе — я пригожусь. Не примешь — уйду куда глаза глядят. Я тебя тут уже три дня поджидаю.
Так Маркуз превратился из ханского врага в ханского советника.
Вот сколько всего произошло, пока Бату, Орду, Мутуган и другие чингисиды-внуки жевали хурут и тащили лямку тяжкой воинской науки в «учёной яме»,
Боэмунд. Кечи-Сарай. 1256 год
— Вот, значит, кто такой твой Маркуз? — Даритай не знал что сказать. — Теперь многое становится понятным. Но как среди всего этого появился ты?
— Как «чёрный вестник» о смерти друга, разве я не рассказывал тебе раньше?
— Увы, я не очень навязчив в своём любопытстве, — признался Даритай, — А ведь и правда. Я никому ещё об этом не говорил. Пока я стоял на тризне, пока просматривал отдельные куски рукописи повелителя, подробности нашей с ним первой встречи возникали перед глазами не раз и не два. Запахи бухарского сада переплетались с навязчиво вкусным ароматом кебаба, нагло отвлекавшим меня от ожидания казни за «чёрную весть». Я рассказал обо всём охотно, с подробностями, впервые за долгие годы, про «боевые барабаны», про Мутугана. Про всё.
— А что было дальше? — спросил Даритай совсем по-детски.
— Дальше я остался при Бату. Уж не знаю кем. И мы с ним попали в ставку его отца на Иртыше. Там-то я и познакомился с Маркузом и с ещё одним человеком — тем самым, который позднее изменил и твою судьбу, Даритай...
— С Делай-беки? — встрепенулся Даритай. — Он не изменил мою судьбу. Он её — создал. Но рассказывай же, пока мы не вовсе пьяны...
Прииртышье. 1222 год
Если бы Бату уехал из дома, будучи повзрослее, он бы сейчас обратил внимание на забавное: раньше эцегэ невольно выискивал в сыновьях черты Темуджина, робко надеясь их обнаружить. Ничего, понятное дело, не находя, он, морщась, глотал сладко-горькое снадобье грусти, к которой давно привык. Без этой вечной обиды скучнее, наверное, была бы жизнь.
Теперь же его, похоже, занимало обратное — не хотелось видеть в сыновьях «священную рыжину». Ведь эта рыжина, как пламя над Сыгнаком, Джендом, Ургенчем и другими городами истерзанного Хорезма, напоминала ему о том, что он поставлен здесь отнюдь не правителем, а скорее грифом над телами своих несостоявшихся подданных. Смотрителем на кладбище, которое предстоит своими руками расширить.
Да, многое изменилось с тех пор, как Бату расстался с отцом. Мелкие обиды Джучи-человека превратились в ровное ожесточение Джучи-правителя. На пиру, который закатили в честь их приезда, разве что боголы не выкрикивали неприкрытую крамолу. Даже недорезанные сартаульские баурчи, окружавшие с некоторых пор отца, вслух горланили то, о чём они с Мутуганом в «учёной яме» только шептались. Если бы не долгое путешествие Бату по их расклёванной земле, если бы не рассказы Ибрагима, это было бы слишком для неокрепшей головы подростка. Но теперь, после всего, он вдруг понял, что готов принять и такое.
Так вот каков его отец? Так вот с кем он теперь?
— Темуджин упился кровью до неподвижности, пожалеть впору. И в брюхо уже не лезет, и жить без неё разучился, будто пьяница без архи...
— Сколько ни всосал, а постаревшие кости не согреваются. Но мало ли более достойных, чем это чудовище, побелевшими скелетами лежат вдоль дорог из-за его ненасытности?
— Зарвавшийся Чингис бестрепетно посылает на смерть других, сам же трясётся, как жертвенный ягнёнок при мысли о собственной.
— Сделать подданных ещё более ничтожными, чем ты сам, — вот хороший повод утешиться. Правда, для этого способ один: мы все должны возлечь гниющим мясом в его могилу. Может быть, тогда ему не будет обидно покидать этот мир, который упрямо шевелится под упревшими ногами.
На хмельную голову слушать такое было даже весело. На следующий день, протрезвев, Бату вспомнил вчерашнее и перепугался. Как реагировать на эти призывы к бунту? Если за малую щепоть такого ещё в Самарканде любому сломали бы хребет, будь ты хоть трижды царевич или ближний нойон.
Может быть, небывалое бунтарство отца — это всего-навсего отголоски прошлого? В таком случае эцегэ делает своих людей, своих подросших детей, бессмысленной жертвой застарелой обиды. Незаконнорождённый Джучи всю жизнь мечтал гордиться своим отцом легко, как дышат дети во сне, как наполняется водой прозрачный родник. Но с первых лет взросления не было родника. Он пил свою горькую любовь, пропуская взбаламученную тину сквозь ноющие зубы. Каждая щёлочка его души была забита этой тиной. Теперь же, оторвав эту истерзанную часть самого себя, он, похоже, уподобился калеке, который рад, что ему отсекли ноющую руку. В его преувеличенных обличениях звучала мстительная радость освобождения от долгих страданий.
Однако... отрезать — не пришить. Замена есть ли?
Поэтому только поначалу восторг «свободных» речей эцегэ закрутил в праздничную круговерть и Бату. Он даже унизился до того, что показал отцу письмо Мутугана, чем, конечно же, предал память друга. Ведь строчки дружеской исповеди не бросают в костёр восторженных выкриков пьяных бунтарей...
Джучи, пробежав воспалёнными глазами пергамент, назвал погибшего друга «умным мальчиком», говорящим «то же самое, что и без того у всех на устах». Это была, конечно, хоть и корявая, но похвала — вот, мол, ещё один человек со всеми нами согласен, — но прозвучала она кощунственно. Стремительно теряя возникшее чувство единомыслия, Бату еле сдержался, чтобы не обидеться за друга... Но обижаться не на что — разве его хотят задеть? Наоборот, испытывают. А ну-ка, мол, сынок, слушай, а я понаблюдаю, согласишься ли со мной или — ведь не зря Джучи разлучали в своё время с детьми — сделался уже послушным орудием Темуджиновой воли.
Эцегэ наивен, решил — если царевичи юны, так на их лицах всё можно прочесть. Уж чему в учебном курене учили, так это чувства свои скрывать. И не радоваться бурно тоже учили... Впрочем, в первый день приезда домой Бату, конечно же, радовался. Искренне, как тот ребёнок, который когда-то покинул эти юрты.
Так или иначе, но проснувшемуся в похмелье царевичу стало страшно. Уж там прав отец относительно чрезмерной свирепости Кагана или нет, но не рано ли кричать об этом на пиру, где табунятся осведомители? Или он нарочно? Тогда на что рассчитывает? Вот тебе, называется, и приехали в родные нутуги.
Темуджин пошлёт тумены на усмирение собственного сына — им всем тогда несдобровать. Поддерживают ли открытый бунт возвратившиеся домой чингисиды-внучата, Великий Каган разбираться не будет — всех в войлок закатает. И хорошо ещё, если в войлок.
Джучи, правда, никогда не отличался легкомыслием — значит, что-то ему от всего этого надо. В чём выгода таких разговоров, если допустить, что рассчитаны они не только на «уши добрые», но и на «уши бдительные»? На уши Темуджиновых соглядатаев, которыми здесь всё наверняка пропитано.
Развеять все эти сомнения, как казалось Бату, мог только Маркуз, возвращения которого с охоты он ожидал с нетерпением. Но наставник, будто назло, как растворился в близлежащих горах.
С матерью разговаривать о таких делах впервые же дни приезда было просто невежливо. Веселиться надо, изображать беспечного жеребёнка. (Вот Орду и стараться не надо, он, кажется, и не вслушивается в эти странные речи.)
Маркуза всё не было, и Бату решил действовать сам. В конце концов, он имеет право на правду. Дела в улусе и его, как наследника, касаются. Что с отцом случится — и Вечное Небо не поведает. А последствия разгребать ему — не Орду же это всё, в конце-то концов, по силам.
Вечером Бату решительно направился в отцовскую юрту, мало надеясь застать его там в одиночестве... «Ничего, подожду», — упрямо уговаривал он самого себя. Вопреки неприятным ожиданиям, Джучи хоть и не сидел наедине со своими думами, но, увидев Бату, всё же быстро удалил из юрты престарелых улемов — с этими сомнительными мудрецами он явно развлекался бессмысленным богословским диспутом. Те, расшаркиваясь, ушелестели за темнеющий полог.
— Я ждал тебя, сынок... — Отец был совсем не похож на самого себя вчерашнего. — Наверное, вы с Орду удивлены происходящим. Однако тебе придётся такое принять... или не принять и уехать обратно — никто не держит. Наш Великий Каган будет утешен хотя бы тем, что внуки предают его недостойного сына... — он улыбнулся, — который вовсе, слава Небу, и не сын. — В голосе скрипела нагнетаемая к удобному случаю обида.
«Ох и любит отец обижаться, ох и любит», — думал Бату, но сегодня он был мало расположен снисходить к подобным трогательным слабостям.
— Ведь вас так долго учили, что убить врага способен любой, это не твёрдость, — продолжал эцегэ, юродствуя. — Твёрдость багатура — погубить друга, брата, родню. Если душа к таким подвигам не лежит — какой же ты воин? Какой «повелитель народов»?
— Погубить «друга, брата, родню», подстрекая их к безнадёжному бунту, — это ли не мужество. Воспарить неподкупным багатуром над костями доверившихся тебе людей — это ли не мужество. Остаться в памяти потомков добрым правителем, помогая врагам раздавить своих, — вот настоящее мужество, — зло огрызнулся Бату, ведь он пришёл сюда не витийствовать.
Бату ожидал, что отец тут же выгонит его вон, но Джучи отреагировал совсем иначе.
— Берикелля! — восторженно вскинулся эцегэ. — У тебя ум, как у взрослого мужчины. А что же Орду — он стал таким же?
— Отец, если ты предпочёл бы видеть таким его, а не меня, — ведь он всегда лизал тебя больше, — придётся огорчиться. Он совсем из другого теста.
— «Теста», — припомнил Джучи, — бабушка Бортэ не рассказывала тебе эту трогательную историю? Про То, как Суду завернул меня в тесто после рождения. Я испортил печень, слушая подобные сказки, а теперь запоздало горжусь... что, похоже, не ношу в себе отравленной крови этой медноголовой мрази.
— Знаешь, в чём разница между нами, эцегэ? По мне, так это валено только с одного конца палки. Темуджин не удержал опасных сплетен в мешке, и вот чем всё кончилось — ты никогда не будешь верховным ханом. Всё остальное — пыль на седле, стряхнуть и забыть. На месте деда я бы меньше мучился, больше думал. Или удавил бы тебя в колыбели... а, уж решившись оставить, сплетни сумел бы пресечь, будь спокоен.
Твёрдые суждения Бату в сочетании с детским, не прошедшим ломки голосом развеселили Джучи, но показывать этого он не стал.
— Ты человек других времён, сынок, и уже не сможешь понять, что не было в те пожелтевшие травы ничего важнее, чем законная принадлежность к родному обоху, важнее, чем кровь. А сейчас она настолько не важна, что...
— Льётся, как архи из проколотого бурдюка... А касаемо Орду могу тебя утешить — уж кто из нас ненавидит законы Ясы, так это он. От него к тому же ты не услышишь ничего, кроме поддакивания.
Джучи наконец-то рассмеялся. Но не покровительственно — доброжелательно.
— С облегчением вижу: ты не очень-то жалуешь поддакивания, это вселяет надежду.
Тут у Бату начисто кончилось терпение. Это сладкоголосые сартаулы потому и проиграли монголам, имея троекратное преимущество, что единого словечка не произнесут, не обвив его плющом занудного красноречия. По всему видно, эцегэ уже успел перенять у побеждённых и этот несносный обычай. Такие разговоры на приёме послов хороши, на струнах хурчинов — в самый раз. А по делу лучше коротко, по-монгольски. И он решил действовать напрямую.
— Отец, мы поняли друг друга в этом — я рад. Но пойми же, я не склонен копаться в твоих душевных болячках, как шаман... Нет желания состязаться с тобой и в медовых юролах. Меня интересует только тело — не цветастая одежда. Рассказывай же, что вы тут затеваете? И проще, проще. Я помогу, куда же мне теперь деваться?
— В-о-он ты о чём. Какой быстрый! А подрасти немного не хочешь? — поддразнил его отец и почувствовал, что этим неуместным и глупым уколом позорит прежде всего себя. Что это с ним? Он заревновал? Но, обладавший необъятным опытом копания в себе, Джучи мгновенно разобрался, откуда ветер дует.
В этом страстном и одновременно холодном выпаде сына — по интонации, по всему — вдруг так ясно и недвусмысленно проявилась его мать, что Джучи оробел. Такое было чувство, что это вдруг она сама вселилась в самонадеянного подросшего отпрыска. И рад бы с ним теперь свысока, да не к чему придраться... Джучи вдруг вспомнил, как этот неуживчивый Бату в те далёкие травы безропотно заглядывал в рот Маркузу, а его, своего отца, не слушался. Оно бы и ладно... Но это же сын самого дорогого на свете существа. Это же ребёнок Уке, которая, укрепив поначалу его мятущийся дух, приручив и обласкав, вдруг снова бросила его в том враждебном лесу... где в первый раз подобрала. Мысли вспорхнули, как перепелиная стая, быстро исчезли в траве. Ах да, что-то он такое обидное сказал сыну.
Но Бату не вспылил — будто и не заметил насмешки, — и тогда вместо извинений Джучи стал рассказывать. Заговорил просто, без выкрутасов, как с ближними нойонами на каждодневном совете:
— Темуджин дал нам четыре тысячи воинов... как дар великий. Но у него для нас больше нет. Я говорю — не удержать с такими силами улус. А он мне своё надоевшее: «Привечай достойных, в страхе держи непокорных... Сартаулы под сапогом, чего ещё надо?» Гоняясь за зайцами, Великий Хан забыл про волков.
— Четыре тысячи, только-то? — Бату не предполагал, что дела идут настолько плохо. — На что же он рассчитывает? Дед уж какой ни есть, но никак не глупец.
Наконец-то с ним говорят о главном — достучался.
— В том-то и дело. Он думает, достойные из покорённых спешат пополнить наши ряды. А непокорных шугануть слегка — они и забьются в нору. Всё не так.
Он тут всех против себя настроил бессмысленной свирепостью. Достойные спешат пополнить ряды его врагов. Повезло ещё, что Джелаль-эд-Дин пока на юге, а местные силы разобщены. Но сколько не жги, не руби людей за желание дышать — потребности лизать гутулы у них не прибавляется. — Джучи вздохнул с таким видом, будто собрался спасать выжившего из ума старика от его же глупостей, и продолжил: — Как у отца всё просто. Быку — кнут, храбрецу — сабля. Припугни одних, одари других. Страви врагов друг с другом. И будет всё по воле Неба. — Тут его глаза, вдруг резко, без перехода, засияли воспалённым ожесточением. — Или твой добрый дедушка иного желает? Знаешь чего? Чтоб все мои люди легли тут костьми, как толпа из хашара. Легли, но удержали до поры до времени северные границы. Удобно, правда? Меня, непокорного, с другими непокорными стравить. Самому же, отдохнув, новых людей сюда привести, вышколенных, обученных, не знающих, что здесь творилось. А слава — ему, Великому Потрясателю...
— Наверное, в последнем ты прав, эцегэ, — грустно отозвался Бату. — «Не беспокойся за тигров... лучше подумай, кого грызть шакалам», — такое он сказал Мутугану. Темуджин умён, он воюет с шакалами. И мы для него — шакалы. Я ехал сюда и всё думал: почему тебе улус? Почему не Джагатаю любимому, не Тулую, наконец? Так оно и есть: любимчиков прибережёт, а мы, строптивые, — хашар, передовые алгинчи, смертники. Даже если и так, то зачем тебе ворошить осиное гнездо раньше времени?
— Выбор у нас небогат, сынок. Ты же ещё ничего не знаешь. Вот послушай. Наши четыре тысячи не слишком ладят друг с другом. Например, мангуты[81] строги, отважны — их, как верного волкодава, куда угодно посылай, но... только не против «природного» Темуджина. Кераиты, напротив, Чингиса не любят. У этих другое — всё мечтают своего Мессию Распятого главным богом утвердить, им только щёлку оставь, затекут и туда. А как я такое могу допустить? Кругом сартаулы. Попробуй тронь их Аллаха — любой заяц во льва превращается. — Джучи раздражённо стукнул по войлоку, распалился: — Улемы разговаривают со мной, как с упрямым дикарём, который не хочет понять, что вера их — единственно верная. Они не спорят — своё доказывают.
— Лосей по осени мирить — воткнут рога с обоих боков, — понимающе кивнул подросток, — но Темуджину это удавалось.
— Удавалось... — зловеще передразнил Джучи, — что ты об этом знаешь, хилгана зелёная. Чтоб волки друг друга не грызли, запустить их в чужое стадо, да? А дальше что? Вот представь... грабить-жечь больше нечего, что тогда? Опять все меж собой передерутся! Значит, вперёд, без передышки, к Последнему морю! «Стоячие воды зарастают тиной»! Слыхали... — Джучи уже кричал, сейчас он не с Бату, с самим Темуджином как будто бы спорил. — Значит... значит, грабёж без конца? Без передышки? Это уже будет не завоевание, сынок. Это будет — уничтожение! Самих себя! Неудержимый порыв бешеной собаки!
Джучи, похоже, крутился вокруг таких забот уже давно, да всё не впрок. Кружил, как мерин, привязанный к столбу. Но в речах был азарт не мерина — племенного жеребца...
— Ну хорошо, пусть даже так, но что это даст? Пустыню, пропитанную солью-гуджиром? — отдышался хан. — Людей у нас не хватит на такое геройство, уже не хватает. Все поляжем костьми, чтобы стравить одних разбойников с другими, да? — Он сбавил тон и почти прошептал, упрямо... со стоном: — На такое тратить жизнь — не хочу... Очень старался, половину её отдал на скачки бешеных собак. Теперь — НЕ ХОЧУ.
— Я понимаю тебя, отец. — Бату постарался остаться спокойным. Стрекочет при опасности сорока, человек — думает. Однако в поговорках легко, а в жизни? — Расскажи про врагов.
— Меркиты (наши с тобой «земляки») луки не бросили — покоя не дают. Эти кровники — с ними мира уже не сделаешь. Отлови их ребёнка, пожалей — подрастёт и отравит. Их не так уж и много, но они, как мехи в кыпчакском горне. Все дуют, раздувают тамошние костры в один пожар. Теперь про кыпчаков. Они и друг с другом не очень ладят и, если бы не это, давно бы смели нас. Ещё и на Онон проскочат — дай срок. Пока Темуджиновы орлы с джурдженями да сартаулами развлекаются — ударят в глубокие тылы. У кыпчаков есть вождь, Бачман его зовут. Его кочевья, слава Небу, далеко, но не иначе хочет превратиться Бачман в здешнего Чингиса. Дай срок — и превратится. Не так давно опять отбили их набег. Но табун жеребцов они умыкнули-таки и людей посекли. Чем дальше, тем наглее.
— Людей посекли и табун умыкнули, — задумчиво расставил Бату события по степени важности. — Это всё?
— Подосланные мухни Джелаль-эд-Дина всё подбивают горожан Гурганджа на восстание. Когда брали мы его, твой ретивый дядя Джагатай невзначай плотину разрушил. Местные уверены — разрушил нарочно, чтобы город за непокорство наказать. Но таджики, слава Небу, воины неохотные.
— Ничего, на юге и гузы, и канглы с карлуками — эти охотные. Ещё что?
— Буртасы, булгары, башкиры, меря, мордва. Все рыскают, принюхиваются, пока боятся. Не знаю, что у них там, и они не знают... Слухи про Темуджиновы победы к ним раздутыми доходят. Темуджин, кстати, всё «дальних стрел» ко мне посылал. Иди, мол, развороши, не давай с кыпчаками спеться.
— Теперь всё? — Бату становилось всё тяжелее играть в спокойствие.
— Недавно восстали кыргызы... Пока притушили. Бывшие гулямы Мухаммед-шаха после его поражения от безделья маются. Им тоже кушать надо, вот и грабят всех — не разбирая. Кажется, всё перечислил. Или мало тебе? Учти, что даже по отдельности они нас по количеству людей превосходят.
— Утешил ты меня, отец, нечего сказать. Стоя в отаре ТАКИХ невзгод, ещё и бунт затеваешь? — схватился за голову Бату. — Разгребай — не разгребёшь.
— Без бунта затопчет нас отара, как беспомощного зайчонка в траве. На бунт как раз и все мои надежды. Джелаль-эд-Дин подбивал народ на борьбу с Темуджином, с ним не пошли. Почему, не знаешь? Или, может быть, так сильно монголами запуганы?
— Джелаль умён, отважен, но болезненно жесток. Шкуры наших воинов снимал, — вспомнил Бату про письмо.
— Не только наших, туркменов тоже... и горожан. В восставшем Самарканде беспомощные горожане тела его гулямов на куски рвали. Его нухуры (из канглов и карлуков) — давний кошмар здешних ночей, но Темуджиновы дарагучи не лучше. Бьются меж собою — пусть и бьются.
— Хочешь, чтобы сильные рвали друг друга, а шакалы грызли их тела? Этого хочешь, отец? Так и было в землях шаха Мухаммеда до нашего прихода, — подражая Обнимающему Кагану, Бату картинно ссутулился. Эту манеру Великого знали все. Он озорно улыбнулся, вспомнив друга Мутугана. Что-то прояснялось, но не всё.
— Вольно представлять в гадливом свете всех, но не себя. Не так тут всё было. До прихода монголов эту землю истязал взбесившийся лев-людоед, потом с востока приполз бешеный тигр. Гололёд ли, засуха — одинаково стадам околеть.
Теперь Джучи превратился в того полководца, которого любили нухуры, — решительного, свежего, как утренний ветер, напористого. Бату даже залюбовался, загордился, в который раз за эти дни меняя своё мнение об отце. Может, и вправду — это выход?
— Если докажем здешним дехканам, купцам и честным джигитам, что мы не из этой безумной породы, за нами пойдут. Пойдут те люди, которые согласны драться, чтобы не было драк. Кто уважает людей и не похожих на себя, кто хочет плести своё счастье сам, а не сдирать его с чужого плеча, как халат. Даром я,что ли, здешних сартаульских мудрецов привечаю, этих дервишей, улемов, казиев? Они нам славу создают, разъясняют уставшему народу, что не считаем его травой, что и веру здешнюю уважаем, что мира хотим. От них и знаю — пойдут за нами люди.
— Ну хорошо, пусть даже и так... Не рано ли шкуру послушания с себя срываем?
— Я Мизиру молюсь, чтобы не выдержал Темуджин. Чтоб речи обидные (которые вы с Орду во время праздника слышали) соглядатаи десятикратно раздутыми к его ушам приволокли. Он вспылит, испугается... и пошлёт на нас войска.
— Ну и что? Устоим?
— Сейчас устоим, позднее — не сдюжим. Туркмены готовы нас поддержать. Купцы сартаульские, горожане, улемы сами на войну не пойдут, а денег, чтоб гулямов нанять, обещали. Сейчас земля войной разорена — неприкаянных джигитов из мусульман ой как много маячит по буеракам. Темуджин их не любит, они неуживчивые, что на уме — не поймёшь. Да и не в этом далее дело. Он на усмирение магометанской страны несторианские тысячи пошлёт, чтоб не сбежали ненароком к единоверцам, а те мусульман презирают. Несториан и у нас немало.
— Воинов, простых воинов, не священников твёрдолобых... Уговорим, обласкаем. Что до самих монголов — война на износ уже всем надоела... Добычу домой не привезёшь... И люди в коренных улусах почти голодают. Десятками, сотнями под наши знамёна переходить будут, если пообещаем людям мир и возможность вольно кочевать, как в прежние времена.
— Но почему именно сейчас, не позднее, — сказанное отцом начинало казаться Бату разумным.
— Пока силы есть и люди живые. Позднее, с меркитами и кыпчаками воюя, утомим коней и людей погубим.
— Погубим людей и коней умучаем, — опять расставил Бату эти понятия по степени важности, ему очень хотелось с эцегэ согласиться, но что-то мешало... как камешек в гутуле. Дадут ли время вытряхнуть камешек, а надо бы.
— Ну что, убедил я тебя? — Джучи стало стыдно за эту излишне пламенную речь, произнесённую перед стригунком. Не по чину старания.
— Не знаю, — наморщился тайджи. — Думать буду.
— С Маркузом своим любимым, да? — спросила всплывшая ревность.
— У меня и своя голова не оторвана.
Бату, пошатываясь от напряжения, прошёл-прополз мимо дремавших, опершись на копья, тургаудов. Их квёлые лица сами по себе ни о чём не говорили — настоящий, опытный нухур при опасности мгновенно сбросит полудрёму.
«Не тот сторож, кто столбом стоит, а тот сторож, кто силы бережёт», — так говаривал Мутуган. И всё же, если бы тургауды стояли чётко и слаженно, как они сами выстаивали когда-то с Мутуганом в «учёной яме» свою смену (попробуй не постой), это было бы маленьким, но так необходимым сейчас для царевича доказательством правоты его отца. «Всё, хватит на сегодня забот», — решил он и направил коня, казалось бы тоже беспечно дремавшего на ходу, к материнской юрте.
Боэмунду дали отдельную юрту, белевшую новеньким войлоком, несколько лежанок-ширдегов, отполированный китайский казан, не касавшийся огня своим сияющим задом, трёх поджарых сартаульских жеребцов соловой масти, видавший виды, но добротный персидский меч с костяной рукояткой, а также много мелкой всячины. Кроме всего этого, он обзавёлся домашним мальчиком-рабом.
Такова была плата за чёрную весть, привезённую им из душной Индии вместе с не самым весёлым рассказом о себе самом.
Этот странный народ, в диком обществе которого Боэмунд провёл уже не один месяц, не переставал его удивлять. Они убивали легко, как играли, с детской улыбкой, а иногда с таким же детским безоглядным ожесточением. Они вычищали от всего шевелящегося непокорные города и вдруг... оделяли подарками, в приливе... нет, не жалости, сопереживания к чьей-нибудь совершенно чужой судьбе.
Они не прощали предательства, но удивительно не обижались на подтрунивания, граничащие с оскорблением. Они не терпели двуличия и то, что у сарацинов считалось вежливостью, здесь сходило за хамство.
Что он такого хорошего сделал этому погибшему Мутугану — ничего. Да и что он мог? А тот ему вдруг безоглядно доверился и каким-то непонятным образом обязал доверие оправдать. Жизнь давно тяготила Боэмунда, но казалось — он нужен, и этого было достаточно, чтобы держаться на плаву, не переселяться в другое, ещё неизвестно насколько лучшее, тело. Теперь вот на его дороге встретился Бату, которому он достался от Мутугана в наследство. Царевич слушал истории из жизни чужого человека с такой не посторонней заинтересованностью, так хотел вернуть ему утраченную радость жизни, что как тут не поддаться, не попробовать ещё раз... Уже в который раз.
Мир состоял из злых чудес всегда, всегда.
Катары[82] из Безье утверждали, что жизнь и материя — от дьявола. Они проклинали любовь и восхваляли оргии, как орудие истощения тела, как орудие избавления души от плотской тюрьмы... Их речи были страшны, а жизнь весела, разноцветна и содержательна. Они легко относились к смерти, но не трогали даже кур.
Католики считали этот мир творением Божиим, воспевали «всякое дыхание его», которое Господа славит, воспевали любовь без греха, чистую, как утреннее небо. Их речи были вдохновенны, но жизнь — грустна и однотонна, как монашеская ряса. Они покрывали смерть глянцем монументального величия, отшатывались от неё с суеверным ужасом, как от страшной старухи с косой, и много, очень много убивали.
Боэмунд был человеком, который не смог расстаться с детством. Разве можно забыть угрюмых жизнелюбов, секущих мечами весёлых людей? В Безье умирали весело, с шутками и прибаутками отправляясь в другую увлекательную страну. Этот весёлый праздник освобождения от греховных тел живёт в Боэмунде. Яркие краски этого карнавала не меркнут в его душе, как те факелы, которыми он жонглировал перед сумасбродной публикой, как те посеребрённые мечи, от которых он уворачивался — было у них и такое представление. Тогда, в Бухаре, монголы приняли его за необыкновенно обученного воина, а он никогда не воевал, он никогда не умел это делать... Только потом, в угрюмой, жертвенной Акре он протягивал рыцарям натянутые арбалеты, потому что за это его кормили.
На пути сарацинского каравана, в Лравии, злые чудеса продолжались. В весёлом Безье, ещё мальчиком, он никак не мог понять, почему его яркий карнавальный костюм — это Цепи Демона. В рубище раба такое понималось легко. Но отчего же другие, идущие с ним, так цеплялись за свою загубленную жизнь, именно сейчас... когда вот она — рядом — возможность легко с ней расстаться? Почему те, красивые, блестящие, которых крестоносцы кололи сквозь шёлк, умоляя Бога избавить их от мучительной жалости, почему те, кого давили, улетали из своих роскошных тенёт смеясь? А эти пленники, унижаясь, падали в равнодушный песок с покорных колен и, казалось, так и оставались навеки со своими измученными телами среди песка.
Детство не закончилось для Боэмунда, так и не перешло в беспечность зрелости. «Люби врагов своих», — говорили христиане.
Причина любить своего врага всегда есть. К примеру, за то, что тот нанёс меньший вред, чем мог. Его хозяин-купец к подобной благодарности своего раба даже призывал, хоть и был слугою Аллаха, не Христа. Всё-таки он сделал его не «чёрным», но «белым» евнухом. «Слегка обстрогал, так ведь не отрезал... тебе же на пользу. Рабыни к таким льнут, не боятся пузо обрести — чего и кручиниться?»
Тут он не лгал. Среди тех, кто держал крепкое хозяйство купца, были и такие, как Боэмунд, «белые» скопцы. И грешных утех они совсем не чурались... напротив. Потаскухи бухарского дна как раз и лезли к таким, тут уж точно чего лишнего не нагуляешь. И не только потаскухи — надоевшие хозяину наложницы гарема тоже не дремали и втихаря Боэмунду подмигивали.
Если бы не звёзды в глазах купеческой дочери, может, и он не отказывал себе в приторном грехе... Но нет. Как заморозило всё внизу живота, когда лекарский ножик коснулся корня жизни. Толком даже не объяснишь себе — почему? О чём он, неразумный, размечтался, какую мечту потом похоронил? Чего же он хотел, безумец?
Но всё же с тем купцом было проще, чем со следующим повелителем.
Последний хозяин (тот, кому Боэмунда препроводили в виде приданого жены) его не бил, нет... Он хотел показаться самому себе справедливым. Всем своим видом давал понять, что считает его, евнуха Бамута (оскоплённого отцом невесты) не скотиной говорящей, не вещью, а умным, достойным человеком, попавшим волею Аллаха в такую беду. Он беседовал с ним, советовался. Однако на самом деле этот раб не был одушевлённой частью жизни, Боэмунд к людям из плоти и крови приходил, как призрак из пустоты, как джин, вызываемый из сосуда в миг нужды. Он видел жизнь, но не жил. А ОНА? Она смотрела на него, как на могилу, пыталась быть верной его памяти. Он же познал ещё и муку наблюдать с «того света», как подтачивается эта верность, словно околдованная страшным «заклятьем медленных слёз», — по капельке, по капельке. В тяжёлых беседах с её мужем Боэмунд невольно снимал с себя скорлупу отстранённой покорности, превращался в прежнего, в живого, деятельного. И каждый день он вновь переживал своё превращение из человека в отвратительную жабу.
Надсмотрщики каравана относились к нему куда свирепее, но это было переносимо, потому что он быстро приспособился. Чего трудного? Ничего. Зазевался — получи, не зазевался — тоже получи... Ну и что, и такое бывает. И ветер иногда налетает внезапно, и песок за шиворот во время самума сыплется ровно и беспощадно. Даже те, что измывались над «живым товаром» сверх меры, вымещая, например, на «франках» злость за своих друзей, взятых в плен их соплеменниками, вызывали скорее покровительственную жалость, а не злость. Не у всех, но у него, по крайней мере. И у душ, окрепших для молитвы за врага, как учил Христос, по крайней мере.
Когда его вели на верёвке по пустыне, он представлял себя частью Неприступного Света, закованной в тленную скорлупу. Били не по нему, били по скорлупе. А его добрый, красивый, удачливый хозяин — наоборот — каждый день вынимал из него осколок Бога, каждый день убивал его душу своим искренним участием. По капельке, по капельке.
И вот теперь Боэмунд и сам имеет раба — это было совсем новое ощущение. Как себя вести с рабами? Большой вопрос. Вот разговаривают два свободных человека, а рядом бегает собачка. Собачку можно приласкать, дать ей косточку, и это будет жест доброты — она для такой роли и рождена. Не то с человеком...
Хочется с ним поговорить, узнать, откуда он родом... Но нет, Боэмунд не будет жесток, не будет вынимать из этого мальчика его самого, старательно запрятанного.
Всё же, когда раб снимал с него гутулы, не выдержал — дёрнулся помочь. Мальчик поднял на него глаза... В них плясало... плохо замаскированное презрение.
Злые чудеса продолжались.
— Ты стал совсем важным нойоном, Бамут, — окликнул смеющийся голос, ставший узнаваемым за долгое путешествие от стен Бухары до Прииртышья. Бату решительно шагнул из темноты. Без приглашения — как у себя — преодолел короткое расстояние до хаймора — почётной части юрты у стены, противоположной порогу.
— Брысь, — махнул он мальчику-рабу. Потом, церемонно уселся, скрестив ноги. Но тут же, забыв о достоинстве царевича, растянулся плашмя, на покрытом шёлком ширдэге.
— Ты слишком усердно изображаешь бодрость, тайджи, чтобы я в неё поверил. Налить тебе кумыса? — озабоченно поинтересовался Боэмунд.
— По случаю того, что говорить мне откровенно больше не с кем, жалую тебе высокое право звать меня просто по имени... — Бату устало зевнул. — Не надо мне кумыса, Бамут. Я сегодня только и делаю, что пью. Не за тем пришёл. Пришёл поболтать, не думая о правильности слов.
— А я-то думал, что у вас, монголов, говорят открыто.
— Может, и открыто... да уж. Лучше вязь сартаульскую плести, чем изображать эту самую открытость...
— Видать, дела невесёлые.
Бату сжал своей округлой ладонью искрящийся новизной пояс:
— «Невесёлые», хорошо бы так. Ты не смотри, что эта юрта будто бы стоит, не шевелясь. На самом деле мы все летим...
— Куда?
— А куда летят, не имея крыльев. Ты пощупай у себя... может, они есть. Уже отрезали? Какая жалость! Прости меня, друг, я не то имел в виду. Всё мой проклятый язык, вот и не думай тут о правильности слов. Прилетев, мы уже не узнаем — куда летели. Отец поднимает мятеж против Темуджина. Нравится? А не поднимет — нас поднимут на копья его враги, будем вместе с тобой в чужих нутугах над аргалом сгибаться. Это в лучшем случае, а в худшем — просто задавят, как волчат в разорённом логове. Я всё пытаюсь говорить с Мутуганом...
— Не часто ли ты беседуешь с Мутуганом?
— Мне больше не с кем — у меня не осталось друзей. Как ты думаешь, Бамут, где он сейчас?
— Если спросить у альбигойцев, которые воспитывали меня в юности, они бы сказали, что он кричит в чьей-то люльке невинным младенцем. В Библии сказано: «Устами младенца глаголет истина». Если это так, есть смысл спросить у него совета. — Увидев, что Бату угрожающе насупился, Боэмунд пояснил: — Прости, я не оскорбляю его память. Всё мой проклятый язык, вот и не думай о правильности слов, — улыбнулся оправдываясь, продолжил: — Крестоносцы скажут, что он лежит в гробу и ждёт трубы Архангела, одновременно с этим не лежит, а жарится на сковородке...
— За что на сковородке? Как это «одновременно»?
— Точнее не объяснишь, это теософия. Наш Бог— Любовь, разве не знаешь, язычник? Он очень добр: все, кто не верил в Христа — варятся в котлах, все, кто верил в Христа неправильно — варятся в котлах. А из остальных — «лишь немногие спасутся». Прочие — варятся в котлах. Вечно, безвозвратно.
— Нет, оставьте это себе. Душа Мутугана будет реять над знамёнами моих непобедимых туменов. У нас такие души называются — Сульдэ.
— А я то думал, Сульдэ — это ваш бог войны.
— Что ж, я горд за свой народ: мы так успешно громим врагов, что души наших умерших героев соседи считают богами войны, — самодовольно сощурился царевич. — Но ты же умён, Бамут, и должен понимать, что не бывает никакого отдельного бога войны. Война — это беда, страдание. Взывать к её Духу — если бы он даже и был — это всё равно что молиться злым красным мангусам. И вообще, ты говоришь как джурдженьский шаман. Посмотри на мир вокруг, — Бату, приподнявшись с примятого ширдэга, сделал быстрое круговое движение, как саблей махнул, — он прекрасен и явно создан одним Творцом... Такого Творца мы зовём Хормуста. Он двуедин — Небо и Земля... А можно сказать и триедин. Есть ещё одно его воплощение — Мизир. Солнце — глаз Мизира. Мир прекрасен, если люди его не портят.
— У нас в Европе не так, — вздохнул Боэмунд, — мир ужасен, греховен и, между прочим, проклят Богом, и лишь немногих, самых «не от мира сего» пришёл спасти Христос. Он принёс себя в жертву за людей. Прекрасны только помыслы людские, если они о Боге и Праведности. Наши священники все ждут конца греховного мира... да никак не дождутся. Но Господь и у нас триедин.
— Я знаю, несториане говорят: «Уч-Ы-дак» — Троян.
— Троица, — поправил Боэмунд.
На тюркском языке, понятном им обоим, объяснять это всё было трудновато. Сюда бы священника-несторианина, он бы быстро сообразил, перевёл и на монгольский. Но Боэмунд со здешними еретиками почти не общался, зато Бату общался много.
— У нас тут есть свои волхвы Креста. Они говорят: Мессия отдал себя в жертву за грехи людей. Так говорит моя мачеха Никтимиш, например. Я у неё всё спрашивал: в жертву — кому? Мы закалываем в честь Хормусты лошадей и быков — это я понимаю. Но чтобы Бог требовал себе в жертву собственного сына? Зачем такая свирепость? Наш Тенгри добрее.
— И поэтому вы спускаете в могилу умершего хана его удавленных наложниц и слуг. Хороша же доброта.
— Нет... вовсе нет. Эти жертвы не Богу, это для самого хана, чтобы в Мире Духов было кому ухаживать за ним, чтобы он не был одинок. А Хормуста тут ни при чём. Впрочем, я считаю, что это неправильно. Это сами люди делают из сострадания к умершему. От жалости и непонимания. Но сострадание — не всегда правильно. Где-то же нужна и жёсткость, разве нет? Я думаю, достаточно бросить в могилу войлочные онгоны... может быть... и тогда некоторые духи из тех, кто неприкаян, будут умершему помогать. А живые — нужны среди живых. — Бату надолго замолчал, уставившись на чёрный треугольник над порогом, соединявший их с ночью, — тоска по Мутугану зазубренной ядовитой стрелой снова впилась в его истерзанное горло, — потом встряхнулся. Его осенила новая идея: — Слушай, Бамут, как всё просто. Я сделаю онгон Мутугана. Очень красивый, ему понравится... И повешу... буду ему губы мазать как близкому родичу. А ещё я сделаю его туг... и мы снова будем вместе.
По румяным щекам царевича поползла капля.
Выспаться после беседы не пришлось. В этот день ленивую зарю разбудили боевые барабаны. Боэмунд и Бату — который так и уснул будучи в гостях, — протирая глаза, выкатились навстречу ещё блёклому рассвету. Толпы заспанных людей бежали к сцепленным повозкам, окружавшим курень не таким уж и плотным кольцом — появления врага здесь, в ставке-орду, никто не ожидал. Молодёжь, выросшая в наступательных войнах и прекрасно обученная к маневренным схваткам в открытой степи, несколько подрастерялась.
Времена, когда приходилось отбиваться от набегов вот так, прячась за кибитками, поросли полынью недавних преданий. Эти люди видели много войн в чужих краях, они знали, что делать под зубастыми стенами, швыряющими сгустки смолы, как поступать в открытом поле, в неумолимой теснине горных проходов, а вот о такой обороне знали... да не на собственной шкуре. Поэтому без лёгкой паники не обошлось.
Общая привычка к жёсткой дисциплине не позволила довести положение до угрожающего. Кыпчаки застряли у заграждения и потеряли ретивость. Они явно рассчитывали на что-то другое — может, ожидали, что в курене окажется меньше защитников. Так или иначе, а на сигнальных вышках уже пылали огни, а значит, скоро подоспеет подкрепление от соседей.
Вражеские всадники неуверенно заметались, их выстрелы лишились опасной прицельности. Уж чего-чего, а этот миг неприятельской нерешительности для каждого участника джурдженьских и сартаульских походов, — а тем более для тех, кто ещё застал предшествующую им Великую степную распрю — отдавался нетерпеливым зудением в ладонях, хватающих рукоятки оголодавших сабель.
Вылазка в этих условиях — вот-вот подоспеют соседи — была скорее молодецкой разминкой, чем необходимостью... И всё же, как и в положениях опаснейших, всадники образовали строй с такой запредельной для Боэмунда ловкостью, как будто в центре построения вдруг закрутилась втягивающая людей в пучину воронка. Они слились в единый, тесный, очень правильный по очертаниям прямоугольник, слегка заострённый впереди. Ещё когда был с Мутуганом, Боэмунд видел это монгольское чудо, но восхищался каждый раз будто впервые. Это совсем не вязалось с представлением о наступлении дикарей, как о некоем хаосе, больше того — Боэмунд и на рыцарей насмотрелся — те так не умели.
«Их не убивали за разгильдяйство», — попытался он оправдать соотечественников, зная что у монголов за потерю места в строю в условиях боя полагается смертная казнь. Однако восхищение, как и раньше в подобных случаях, возобладало над мелкой досадой. Кроме того, общую гармонию очень подчёркивал вороной цвет лошадей, у всех одинаковый, а Боэмунд любил гармонию.
— Почему только вороные? — отдышавшись, спросил он Бату.
Тот гарцевал рядом, сдерживая солового иноходца, рвущегося за чёрными собратьями.
— Так легче управлять с холма, всё видно.
— Вот как. У нас для такого и лошадей хороших не напасёшься. — «Попробуй, заставь рыцарей походить друг на друга», — подумал он об истинной причине.
— А как же отличают в бою своих от чужих у вас?
— Ну... знамёна, накидки на доспехи.
— Знамёна могут упасть, накидки — порваться. Лошади всегда лошади. — Иноходец Бату, похоже, успокоился.
Теперь большинство из участников действа, казалось, не обращало внимания на всё, кроме узкой задачи, поставленной непосредственно ему самому. Они будто бы не видели больше друг друга и на врага внимание не обращали — словно кто-то вынул из людей их мятущуюся душу. Это тоже было странно... Во время сражений на Святой Земле в таких случаях в воздухе стояло воодушевление победы, вот его-то как раз Боэмунд весьма ценил.
А здесь, в осаждённом курене, наверное, стало бы даже тихо, если бы кыпчаки за ограждением не выкрикивали свои боевые ураны, больше подбадривая себя, чем соседа.
— Урагша, вперёд. — Это был не выкрик, скорее какой-то знак. Только теперь, когда литой строй «чёрных всадников», медленно набирая разгон, тронулся с места — будто единое тело, — специально приставленные боголы растащили телеги, давая ему проход.
Не раньше, не позже. Ощетиненный длинными кольями курень будто выплюнул вдруг из себя отряд, как верблюд слюну. И она тут же стала разбрызгиваться веером, * охватывая нападавших. Из соседних куреней, обходя врага с боков и сзади, спешила такая же, расходящаяся веером подмога.
— Почему они не кричат? — спросил Боэмунд, вспомнив, что рыцари, да и сарацины в таких случаях всегда вопили.
— Зачем? Они же не мчатся на смерть! Просто облава, охота.
Царевич и приближенный подскакали к заграждениям. Было видно, что кыпчаков не секли мечами, а ловили арканами. Похоже, Джучи приказал. Разгром был полный.
Среди монголов оказалось трое убитых и полтора десятка поцарапанных стрелами. Неприятельские тела привычно складывали рядком, ловко стаскивая гутулы и отстёгивая сабли и саадаки. Раненых несмертельно деловито — за руки, за ноги — несли к предварительно расстеленным войлокам. Кто побогаче одет — удостоился носилок. Это действо несколько удивляло и несомых, и обитателей куреня. По обычаю, раненых врагов было положено добивать, но уж никак не лечить.
«Отец что-то задумал», — удивлялся Бату. Он, хоть и не был раньше в настоящих боях, о такой милости, выходящий за пределы здравого смысла, никогда не слышал.
Вокруг поверженных кыпчаков, недовольно морщась, вышагивали табибы из сартаулов, волхвы и шаманы, явно не проявляя желания улучшить судьбу страдающих.
Подъехал Джучи. На нём не было ни панциря, ни шлема. Или успел снять? Он прикрикнул на лекарей, чтобы те пошевеливались.
— Зачем нам лечить этих разбойников? — возмутился обвязанный чалмой белобородый магометанин. — Мои руки не могут копаться в червивой плоти неверных.
— Я тоже неверный, — нахмурился хан, — выдумывая причину отказа, следи за языком. Твоё везение велико, табиб, но равен ли ему твой лекарский дар? Делай, как я сказал...
Бату, наблюдавший за этой сценой, удивился металлу, который вдруг зазвенел в голосе отца при этой последней фразе. «Не так уж он, слава Небу, и мягкосердечен».
Джучи сказал это громко, как перед строем, чтобы все слышали. Остальные засуетились быстрее.
Сгрудившись отдельной группой, пряча ненавидящие глаза и поддерживая своих раненых, насупились меркиты. Вечные, как комары, меркиты.
— Этих изрубить, — махнул рукой Джучи.
Подбежавшие кешиктены уже было вытащили свои привычные кривые жала, но хан всё же успел остановить их на полпути.
— Стойте, скажу ещё одно. Всех вас, стоящих предо мной, я знаю в лицо. Меркиты, вы уходите в мир бесплотных духов, и вам надлежит знать, почему я так поступаю. У меня нет ненависти к вашему роду. И во мне, и в детях моих течёт меркитская кровь.
Бату съёжился: «Так вот до чего дошло? Эцегэ теперь и перед войском такого не скрывает. Ого!»
— За другое казню вас: за нежелание понять, что законы кровной вражды — путь в никуда. Вы почитаете за священный долг бесконечную войну с теми, кто не мог поступить иначе. С теми, кто поднимал свою саблю, загнанный в угол обычаями, придуманными не ими. Вы цените долг больше разума, служите закону, а не людям. Казню вас за неумение прощать, за то, что вы на моём месте поступили бы также.
Над толпой пленных героев нависла последняя в их жизни земная тишина. Они молча ждали продолжения.
— Отправьте их к предкам, — вторично махнул рукой хан.
Непримиримые враги молча, без стона, встретили то, к чему упорно шли. Их тела оттащили к остальным погибшим сегодня.
— Эцегэ, их можно было сделать боголами. — Бату грызла непонятная тревога.
— Не нужно нам боголов, готовых ударить в спину. Когда-то Тайр-Усун привёл к Темуджину свою дочь Хулан и своих воинов в придачу. Каган сохранил им жизнь, своих сотников над ними поставил. А они, неблагодарные, восстали. Тогда были жертвы с нашей стороны. — Джучи немного споткнулся, примеры, связанные с благородством его отца, были не очень уместны. Неуклюже вывернулся: — У Темуджина много народа... он мог рисковать так — мы не можем. А меркитов не исправишь. Знаешь почему? Потому что мир с убийцами их друзей, отцов и братьев они считают низостью и предательством.
— Красивые чувства, чувства багатура, — бросил царевич задумчиво.
— Такая красота творит гордую пустыню.
— Следуя этому пути, Темуджин должен был убить и нас.
— Он и так это делает, только медленно, — криво улыбнулся Джучи. Он вдруг подумал, что Темуджин в похожем случае поступил бы также. Джучи не засомневался в собственной правоте, просто не хотелось походить на отца. Ведь он решил для себя раз и навсегда — всё их спасение в том, чтобы поступать не так, как кровожадный Темуджин, и привязывать людей не страхом, а милостью. Однако мысль опять нашла удобную лазейку: «Отец их сам таких, которых только удавить, своей жестокостью создал». Но тут из чёрной дыры выползла мокрая жаба и зашептала: «Ты убиваешь сейчас не их — ты убиваешь меркита в себе...»
Стряхнув с себя ненужные сомнения — самое неприятное, самое тяжёлое было сделано, — Джучи дёрнул поводья и подъехал к кыпчакам.
Их молодой предводитель, поджарый, как гепард, стоял, расставив ноги несколько шире плеч, нарочито устойчиво. Смесь гордости и боязни, что ноги вдруг от волнения откажут. Наверное, он мечтал умереть, совершив достойный подвиг. На его глазах посекли меркитов — мог ли он ожидать для себя чего-то иного?
«Пленные всегда одинаковы... В первый день горды друг перед другом — это ещё горячка боя не прошла. На следующий — наденут на себя овечью шкуру. Что есть воин — овца в волчьей шкуре — посочувствовал ему Боэмунд, он вспомнил, как сам вот также стоял когда-то перед сарацинами. — Одна ночь отчаяния, одна ночь, и с тебя сползает шкура хищника».
— Ну что, Делай, не думал, что так всё кончится? — весело окликнул Джучи. Его приветливость несколько не вязалось с расправой над меркитами. Он пожалел, что начал добрые дела именно с неё — теперь говорить с Делаем будет намного сложнее.
Очень хотелось покончить с самым неприятным, а уж потом... Не стерпел, вырвал, называется, больной зуб раньше времени. Как тут быть, с чего начать? И где же, в конце концов, Маркуз, который придумал всю эту сомнительную хитрость?
— Я верю твоему слову, Делай, верю разуму. Твоих нукеров развяжут и накормят. Раненые получат помощь, ими уже и сейчас занимаются. Скажи, что бы сделали вы, попадись я в ваши лапы. — Последний вопрос Джучи задал неспроста, пусть Делай хоть на мгновение выйдет из своей роли жертвы.
— Мы продали бы вас... в рабство... булгарам, — неохотно, сквозь ровные белые зубы, процедил юноша.
— Правильно, но я знаю, что вы продаёте в рабство и своих. Разве не так? Здоровый народ не будет делать такого. — Глаза хана задорно блестели, он явно дразнил врага.
— Трусов, лентяев, смутьянов, тех, на кого укажут мудрые старейшины! Тех, кто мешает жить народу. — Способность говорить явно возвращалась к пленнику. Но и за воспалённостью этого пламенного выкрика скрывался страх оказаться наедине с думами о смерти.
Бату заинтересованно вникал. Во всех действиях его отца он почувствовал какой-то замысел.
Неужели Джучи знал про это нападение? И не посвятил его в свои планы? Детская обида захлестнула царевича. «Эх ты, мерин кривоногий, — ругал он себя, — думал: взял отца за загривок. Как бы не так».
Джучи между тем прикинул одно к другому и решил: первую стрелу нужно спустить с тетивы уже сейчас, не зазывая Делая в юрту. Пусть слышат все его нукеры.
Вживаясь в кыпчакский способ думать, он смаковал это слово «нукеры». «У нас бы сказали «нухуры». Столько похожих слов в языках, неспроста. Да и вообще — чего нам делить? Ну, Великий Каган, попомнишь ты строптивого сыночка».
— Я ждал вашего набега — одного не ждал...
Он посмотрел на связанных. Как и рассчитывал, Делай поднял голову. Воспалённая гордость сменилась на его лице невольной заинтересованностью.
Вокруг собиралась толпа любопытных. Боголы с вязанками хвороста (в этих краях можно было топить не только аргалом), баурчи в заляпанных передниках, тележники, овечьи стригали, свободные от смены тургауды, ещё не успевшие снять панцирь, нойоны в ярких халатах, сартаульские дервиши в высоких колпаках, женщины, несущие пузатые бурдюки — вся эта толпа невольно сворачивала со своего пути, прислушивалась.
Если бы только не ряды лежащих поодаль неубранных покуда тел, можно было подумать, что не набег сегодня отражали — к празднику готовились.
— Одного не ждал... — повторил Джучи, многолюдность его уже тяготила, — что вы доберётесь-таки до самой моей ставки. Я принял меры, а вы всё равно добрались. Ты не только отважен, Делай, ты ещё и хитёр.
Юность слаба на лесть. Особенно у кыпчаков это должно быть так. Там уже давно не ценят ничего, кроме слепого послушания старейшинам. У них, монголов, раньше тоже было так, и поэтому Темуджин... «О Небо, опять я поступаю, как отец».
— Чего же ты хотел, Делай, а?
Пленник оглядел толпу. Она не дышала враждебностью, развлекалась... «Ну-ка, удалец, скажи что-нибудь весёлое». Было не похоже, что их собираются убивать. Да и страшный монгольский хан мало напоминал то чудовище, каким его представлял Делай.
Оглядывая толпу врагов, как сказитель своих слушателей, он вдруг бросил ей в лицо свои заветные мысли, пусть подавятся. Бесшабашность часто выручала его из беды, может быть, и здесь...
— Я хотел приторочить вашего хана или одного из его сыновей к седлу! Я хотел дать почувствовать медведю: каково быть овцой. — Оглядел зашумевшую толпу врагов, подбоченился: — Я хотел дать понять, что медведя не сделаешь овцой, просто заставив его пастись!
Его голос был звонким и совсем юным. «Мальчишка, — незло подумал Джучи, — какой замечательный мальчишка, но скоро будет опасен».
Пленник понял, что смешон, и снова нахмурился. Однако тот смех, который был ответом на его выкрик, не гремел уничтожающе, нет. Этот весёлый, незадачливый кыпчакский нойон, нашедший в себе мужество шутить, стоя связанным перед победителем, здешнему народу понравился. Тут было много таких, кто всякое повидал в разных невероятных походах. Они умели и мужество ценить, и шутку. В душе Делая творилось необъяснимое, совсем неладное. От этого собрания врагов текла на него какая-то родственная волна... Представил толпу в родном курене — колючую, повторяющую угрюмые назидательные выкрики за седовласыми старцами, что размахивают над головой провинившихся проклятиями Неба, Земли и всего остального. Попались бы к ним в плен монголы — их бы затравили, заорали, затоптали...
Здесь, правда, тоже... так споро посекли меркитов, но эти ожесточённые пришельцы с «восхода», все призывающие их, кыпчаков, к мести, мести, мести за свои обиды, налегая на долг гостеприимства... были Делаю хоть и понятны, но неприятны. Он вдруг поймал себя на предательской зависти к пленившим его людям, на желании вот так же стоять среди них и весело смеяться. А как легко, без видимых усилий, их всех, будто слепых щенят, переловили. Не убили, а переловили. Но полно, наступил его черёд достойно умереть... ведь скажи он такое о своём хане, тот бы побагровел. А этот — смеётся...
Нукеры Делая, поддавшись общему настроению, гордо улыбались, забыв о себе. Своей дерзкой шуткой он вселил в них бодрость. Джучи было видно — этот юноша, похоже, умеет ладить со своими людьми.
И тут наконец показался ОН, долгожданный, — тот, кого высматривал Бату. Пристроившись несколько сбоку от небольшого отряда взмыленных разномастных верховых ехал его любимый воспитатель.
Маркуз перевёл разгорячённую лошадь с рыси на шаг, увидел Бату... несколько мгновений, похоже, сомневался: тот ли это мальчик, тот ли?
Царевич толкнул Солового в бока и понёсся навстречу ушедшему детству.
Они сидели у огня под онгонами вчетвером. Джучи, Маркуз, развязанный Делай и... Бату. Памятуя о недавнем разговоре с сыном, хан всё-таки дал согласие на присутствие здесь бойкого царевича. Да и то сказать, на кого же ещё опереться, как не на наследника? Это был не обычный утренний совет нойонов и тысячников — это была интрига.
Не то чтобы Бату был горд таким доверием, но всё же удовлетворён. Ему воздавали должное. Давно пора. Даже то, что простодушного Орду сюда не позвали, выглядело тоже вполне естественным. Впрочем, обиды для брата в этом, пожалуй, и не было. Тот неохотно влезал даже в те дела, которые его присутствия требовали. Значит, не обидится. Бату любил своего «старшего-младшего» подопечного за это отсутствие гордыни. Она так хорошо и редкостно сочеталась в нём с нежеланием думать больше, чем надо. «Эх, со всеми бы так — и не было бы войн».
— Ну что, Делай, ты ещё не догадываешься, почему ты здесь?
— Я поверил, что ваши основные силы...
— Ушли на перехват хана Инассу в то ущелье, — продолжил за него Джучи, — и, хочешь не хочешь, оставили курени без должной охраны.
Делай молча слушал, его сцепленные ладони ритмично сжимались-разжимались. «Молод, необучен, смятение скрывать не умеет, — снисходительно отметил Бату. — Он, как кречет на руке, стремителен и прямодушен». Царевич улыбнулся, представив вцепившегося в его халат маленького крылатого Делая. «Попрошу этого человека себе. Ещё немного — и мы его приручим».
— Давным-давно, — медленно продолжал Джучи, голосом подражая сказителю, — жили счастливые люди на великой реке Иртыш. Но из дальних земель, из-за синих гор пришёл злой великан Чингис — пожиратель людей. А надо сказать, у здешнего хана Инассу была красавица дочь с лицом, что заря. Многие славные багатуры сватались к прекрасной девушке, но мудрый Инассу сказал: «Склонились травы степные в великой скорби, беда идёт на землю нашу. Тому я отдам в жёны дочь, кто избавит свой род от страшного чудовища». И был в тех краях храбрый джигит по имени Делай... Родился он стремительным, как сайгак, стрелы его волшебного лука срывали хвосты у падающих звёзд. И нагадали Делаю добрые прорицатели, что страшный Чингис-людоед только одну слабость имеет — любит беспомощных сыновей своих, — упоминая про эту трогательную слабость людоеда, Джучи не удержался, саркастически хмыкнул, — и добыл Делай коня волшебного, крылатого...
— Отец, ты бежишь впереди этого самого коня, так нельзя, не перескакивай, — вставился Бату, улыбаясь, — тебе бы, отец, улигеры складывать, родился ханом на свою беду. Как же он коня добыл?
Но тут Делай не выдержал:
— Нечего со мной резвиться, как с малышом. — Щёки удальца зарделись.
Джучи сменил тон:
— Вот-вот, и я про то же. Не пора ли взрослеть? А знаешь, почему поучительного сказания не получилось? Бедный ты, бедный, тебя твой мудрый Инассу просто вышвырнул, как высосанную кость, на погибель послал. Сколько там всего, перечисли?
Маркуз с деловитостью купца стал загибать жёсткие длинные пальцы:
— Шесть кусков тканей зиндани, тангутский меч с рукояткой в виде головы сокола, четыре пары булгарских сапожек сафьяновых в жемчугах... ещё кое-что по мелочи. Это за то, что он тебя сюда направил.
— Я вам н-не верю, он не предатель, — задрожал Делай.
— Он и не предатель, — спокойно согласился Маркуз, — он заботится о покое своего народа, а ты — воду мутишь. Ему бы жить-поживать, ни в каких распрях не участвовать... Меркиты пришли — всё склоняют его куда-то, их приютили как гостей, а они втравливают хозяев в неприятную войну. А ему зачем? Стада тучные, жёны ласковые, пастухи не голодные. Чего суетиться? Лучшие горные пастбища — джейляу — у вашего рода. Обширные зимовники — у доброго Инассу. Что ещё надо для счастья?
— Только слепой не видит, что враги придут и сметут нас. Покатимся вниз, как от лавины снежной, будет, как с меркитами.
Делая так заморочили этими сказками — очень похожими на его настоящие мечты, — что он забыл, где находится. Предупреждать об угрозе лавины эту самую лавину — разве не странно? Но и то, что Инассу хочет избавиться от лучших своих нукеров, руку свою самолично отрубить — вообще в голове не укладывалось. Такое и вовсе глупость. Нет, он не поддастся, ему просто морочат голову. Блики симпатии к пленившим его врагам погасли, душа стала наполняться злостью, вот-вот лопнет.
— Я сказал Инассу: «Чингис сюда не пойдёт, зачем ему? На юге — неразбитые хорезмийцы, на востоке — неразбитые джурджени. Уже и кыргызы восставали. Не слушайте меркитов, они вас тянут на алтарь своей беды — не вашей, — спокойно говорил Маркуз, — отдайте нам ваших смутьянов, отдайте желающих воевать... и живите спокойно». Он согласился.
— Уже втянули — назад не воротишь, — взорвался Делай, — не надо было этих беглецов-меркитов привечать. Кто же знал, что Чингис не прощает тех, кто пригрел его врагов. — Пленнику хотелось крикнуть что-то обидное, чёрное марево слепило глаза — пусть убьют. Только боязнь за судьбу своих людей удерживала его от открытых оскорблений.
— Выпей кумыса, успокойся, — предложил ему Джучи.
— Погоди-погоди, пусть перебесится, — остановил хана Маркуз, — видишь, он готов заглотить всех живьём. Только нас ли надо глотать?
Последнее замечание слегка отрезвило несостоявшегося героя. Ведь ясно, что создан он из горючего материала, из такого, что не только вспыхивает, но и сгорает быстро.
— Так чего вам от меня надо? — ещё дрожащим от возбуждения голосом поинтересовался Делай. — Почему не убили сразу... как меркитов?
— Вот, — поднял Джучи палец, жирный от баранины, — давно бы так. — Он сказал это таким тоном, будто от пленника чего-то ожидали, а он всё упрямился. Этим нехитрым уловкам Бату учили в «яме», а теперь он увидел их в действии. — Ты бы поел, поел, а? Твоих нукеров тоже не обидят.
Делай — как одичавший пёс исхудавшую морду — протянул руку к аппетитным кускам баранины... вот-вот отдёрнет, огрызнётся.
Маркуз дождался, пока он отправит в рот кусок, пока прожуёт. «Ну-ну, успокаивается, больше в лес не убежит», — с интересом наблюдал за происходящим Бату. Его воспитатель медленно, выделяя каждое слово, заговорил. Так говорят с детьми, так он говорил и с ним когда-то. Правда, Делай уже взрослый, в него не новое вставлять, а приходится стирать старое. Предательство — всегда большое потрясение. Этому человеку повезло — не каждому так везёт — в самый трудный миг ему помогут.
— Всмотрись в себя, мальчик. Чего ты хочешь? Зачем рвался сюда, глотая бодрящий ветер? Ты хотел защитить волю, не так ли? — И вдруг глаза Маркуза изменились, как бы почернели, как бы прыгнули из глазниц, будто две маленькие настырные рыси.
— Я хочу, я хочу, чтобы обо мне слагали легенды вольные племена. Хочу сделать так, чтобы храбрые и умные были богатыми, а глупые и ленивые — бедными. Чтобы тех, кто лучше остальных, не отправляли в рабство за строптивость.
— Ты хочешь быть на месте хана Инассу? Для этого нужна его дочь? — продолжал этот странный допрос Маркуз. Теперь его глаза стали обычными.
Зато пленник отвечал легко, без стеснения. Маленькие рыси перегрызли глотку его настороженности и гордыни.
— А как же иначе? — со смешным недоумением по поводу «глупого вопроса» удивился Делай. — Если ты не ханский родич — так и умрёшь в нукерах. Когда шёл сюда с такими же, как я отчаянными, то думал: или привезу ханского сына поперёк седла... или, уж не знаю, как жить дальше. Я не могу! — вдруг закричал он, будто в полусне. — Я устал от этих кругов! Зимовка, низины, джейляу, потом снова — зимовка, низины, джейляу. Ничего не меняется... Я и ханом не хочу быть — я хочу, чтобы что-то менялось.
— Какой ты смешной, Делай, — улыбнулся Джучи, — так бы тебе и отдал Инассу свою дочь. Нужны ему подвиги твои, как овце потник. Стада множить — вот его подвиги. Он тоже хочет, чтобы что-то менялось, да? Бедняга. Жил не тужил, а вдруг меркитов злые духи принесли. Вот он и позволил тебе молодцов бесшабашных набрать, чтоб не нарушить долг гостеприимства. Получите, мол, подмогу... Только если беда в степи, знаешь что бывает? Из бесшабашных голодранцев — ханы получаются. Мы такое уже пережили, когда-то...
— Подожди, хан, не о том, — мягко перебил его Маркуз, — я хочу, чтобы этот мальчик понял. То, что называется «вольные племена», на самом деле — неволя. Если он такой, как есть, — ему нужно бороться за «неволю».
— Это как так, «неволя — воля»? — совсем обалдел пленник. С силой его «воли» уже что-то непоправимое сотворили, теперь и с разумом творят. «Колдуны, — металось где то на дне, не в силах всплыть, — они тут все колдуны».
— Меркиты вас чем пугают? Вот были когда-то «вольные племена», а теперь злой Чингис всем в окровавленные рты свои удила засунул, а самые свободолюбивые — меркиты то есть — бежали на реку Иргиз, а потом к вам, кыпчакам. «Не поможете нам, — говорили, — скоро и вас к седлу приторочит. А строптивых — истребит». Говорили такое, Делай?
— Говорили, а что? Разве не истребили? Я сам видел.
— Маленький куст вольно стоит, да корнями к земле прирос, — вздохнул Маркуз, — табун лошадей за вожаком бежит, но земля под копытами разная всякий день. Хочешь быть вольным кустом на родной земле — затопчет тебя табун. Не лучше ли вовремя обернуться жеребцом? И тогда чем быстрее скакать умеешь, тем дальше будешь... от хвоста табуна.
— Разговоры про волю для тех, кто её имеет, для беков с ханами, — подхватил Джучи. — Посмотрите, мол, надо мною никто не стоит, куда хочу, туда и кочую. Они толкают вас, глупых, ложиться поломанными кустами на пути табуна. А в одиночку кочевать — пропадёте, да и зачем оно, одиночество? Это судьба отшельника — не багатура.
Делай напряжённо внимал. Так складно с ним ещё никто не разговаривал. И ведь верно, всё верно... Только чего им всем от него надо?
— Запомни, Делай, если желаешь великого будущего себе, — уводил его хан в неизвестное, непривычное, — разговорами о «воле» тебя к чужому столбу привязывают. Чем короче верёвка, тем больше о ней, о воле, разговоров. Не бывает воли — бывает длина верёвки. Мы, монголы, взяли многих в свою рукавицу, это так. Мы караем за непослушание, как карает лавина одинокие снежные комья. Просто заставляя их двигаться вместе с собой. Но посмотри на судьбу покорённых: они повидали мир от далёких рисовых полей до абрикосовых рощ Хорезма. Были пастухами — стали важными беками, купцами, тысячниками, табибами.
«Тысячниками, — усмехнулся он сам себе, — а большинство стоят, где велено, ни шагу без пристальных глаз».
Пленный юноша напряжённо внимал, он уже был их, с потрохами. Кто бы сомневался? «Эх, заманили дурака», — вздохнул хан. Джучи, конечно же, больше рассказывал не о том, как есть сейчас — впрочем, бывали за эти годы и такие с людьми превращения, — он говорил о том, что ещё сделать предстояло. А для этого надо было всего ничего — свергнуть власть Темуджина. Лгал он тому парню, нет ли? Ему хотелось думать, что нет.
После долгого утомительного прикармливания задорного кыпчакского волчонка отпустили свободно гулять по куреню. Куда он денется под присмотром сотен глаз? Следом за ним из юрты выполз Маркуз — отсыпаться. Отец и сын снова остались наедине.
— Сегодня ночью волчонок будет думать. Завтра — робко шептаться со своими. Мы подождём. В таких делах спешка пагубна. — Джучи был доволен и собой, и Маркузом. С Бату же пришлось, наконец, объясниться. — Кыпчаки опасны только весной, они воюют, когда зеленеют степи. — Джучи сегодня сиял довольством и бодростью. — Эх, сынок, скажешь, что опять плету сартаульскую вязь, но здесь такие тюльпаны — ты немного опоздал, не застал. Они тут красные, как будто впитали в себя цвет тех вечных потасовок, которые расцветают вместе с ними. Ты видел одну из последних сегодня, да. Скоро кыпчакам будет не до того, а я так боялся, что ни одного кречета поймать не успеем. А погляди, какого поймали, залюбуешься. Эх, сынок, дай помечтать о тюльпанах — отдохнуть. Расскажу и остальное. Не выпить ли нам? Раз уж мы воюем против Темуджина, давай-ка воевать и с его любимой трезвостью.
— Согласен, — охотно сдался Бату, — отдыхай, эцегэ, отдыхай. Прости меня за всё моё чванство. Ты — умный, ты самый лучший хан. Готов тебя слушаться, я поверил. Дай палок моей строптивой спине, если ещё сомневаешься.
Они выпили за единомыслие, поговорили о том, о сём. Потом вернулись к делам.
— В эту траву кыпчаки сами не сговорились, не успели. На следующую — мы им не должны этого позволить.
— Всё, как у нас на Керулене. Прости, отец, но если нам правдиво пели про то, как Темуджин боролся за власть в юные годы, — ты делаешь то же самое. Только он там, а ты здесь. Разве не так?
Джучи нахмурился, его не переставало смущать мнимое сходство с Чингисом, но, с другой стороны, это почему-то и льстило.
— Темуджин хорошо начинал, плохо кончил. Шагая по высокому хребту в темноте не вправо, так влево сорвёшься. Но ты не прав. Здесь многое не так, на Керулене жить легче.
— Чем же легче? Те же степи, те же горы. — Бату ехал сюда из «учёной ямы» — как давно это было, — и ему всё казалось: не только родных людей, но и родные степи перенёс услужливый Мизир с Орхона на Иртыш.
— Те, да не те, — улыбнулся Джучи, — зимой столько снега, что лошадь не пробьётся к нему копытом всю зиму. А чуть подтает: в новый мороз корка ледяная сверху — джуд. Погибель живому и вовсе.
В коренных нутугах — где швырял, играя со сверстниками, костяную биту маленький Темуджин, где натягивал свой первый детский лук карапуз Джучи — снега щадили людей. Толщина его покрова — жизнь или смерть для пастуха. Горе любому обоху, если на зимних пастбищах не стихают безжалостные бураны. Но такое бывало редко, такое — гнев Небес.
— Ну, рассказывай, — недоверчиво встрепенулся Бату (он-то воображал, что все степи одинаковы), — как же кыпчаки тут живут зимой? Сами для лошадей траву из-под снега лопатами роют? Не нароешься. — Бату замолчал, подумав обо всём с другого бока. — Удружил нам Темуджин с дарёным улусом. Мало что под ногами полыхает. Я думал, тут степи как степи, а получается, держит нас Каган в кулаке. Захочет — подвезут его люди корм из Хорезма, не захочет — голодом уморит. Сами к нему на карачках приползём. Мало нам врагов, ещё и такое. — Мысль Бату поскакала куда-то в тёмную даль, но он её мягко сдержал: «не увлекайся». — Погоди. Так что, кыпчаки и корм для лошадей покупают у Хорезма? Чудно. А взамен что дают? Как они тут живут вообще?
— Этого мало, — посмеивался хан над сыном, — что там зима? Вот Мизир свой глаз во всю ширь откроет — и высохнет трава, мёртвой будет, жёлтой. Не прокормишь тут скот и летом. Так-то.
Джучи вдруг затосковал. У них там, на Керулене, после весенних дождей зелень держалась до осенних холодов. Летом жиреют овцы и кони — это хорошо. Но именно сытное, счастливое лето — самое время для набегов меркитских и татарских.
Теперь набегов нет. Истребил Темуджин разбойников, но с каждой новой травой поют улигерчи всё более истово о страшных, бесконечных войнах недавних времён, поют о сне в полглаза, об одиночной охоте отважных удальцов (как бы самому добычей не стать), о сабле, что и во сне из рук не выпускали. Поют улигерчи настырно и громко (попробуй не спой), отвлекают народ от сражений других. Чтоб не думал он о малопонятных далёких походах, навеки забирающих у «доителей кобыл» подросших сыновей.
Забирающих, как тяжёлую дань-ховчур[83] за голодный покой в родной степи.
— И что, нам подвозили зимой ячмень и овёс из-под Ургенча?
— В эту зиму — да. Но долго так продолжаться не может, да и сколько нас — монголов, кераитов? С каждой стычкой всё меньше. Вот и сегодня троих потеряли: одного дурбена, двух олхонутов. Олхонуты — обох нашей бабушки.
— А как живут кыпчаки?
— У них интересно. Каждый обох уходит на лето по тайным горным тропам высоко, туда, где Мизир не выжигает траву. Их молодёжь гонит овец и лошадей ещё выше — на сытные пастбища-джейляу, а старики запасают сено для зимовников. У них там укреплённые деревни, в которых они просиживают зиму, есть и тайные ущелья. Молодые — в набег, а женщины и дети надёжно защищены. Кыпчака огнём жги, шкуру дери — ни один из них не выдаст. Не расскажет, где родовые зимовки, где ущелья, где джейляу. — Джучи подался вперёд, заговорил быстрее, будто жалуясь: — Темуджин тут недавно прислал «дальнюю стрелу». Приказал: «Поймай кыпчаков, выведай, где у них джейляу. Иди туда ближе к зиме с отрядами, сожги заготовленное. Тогда кыпчаки на карачках приползут».
— И что?
— Я другое задумал, для того и поймал этого юного кречета. Люди на джейляу разобщены на маленькие группки, их там мало — это одна дыра в кыпчакском шатре. Они там без стариков — это дыра другая. Делая все любят, к словам его молодые уши бегут, как овцы на соль, старых же он раздражает... Это третья дыра.
Голова у Бату работала стремительно, дальше он и сам всё додумал. Люди Делая — это те, кому в скучных кочевьях тесно, такие — колючка в сапоге у старейшин, кость в старом горле у тех, кто по заветам предков живёт.
В монгольских степях таких строптивцев в леса выгоняли, называли «людьми длинной воли». Но в лесах они сколачивали шайки и стали СИЛОЙ.
Не то у кыпчаков. Каждое лето удальцов разобщают горные пастбища, а с новой травы — начинай сначала. К весне же расцветают не только тюльпаны — работорговля тоже. «Лишних людей», тех, кто старейшинам неудобен, объявляют «одержимыми злыми духами» и продают на булгарских и хорезмских базарах.
«Свои своих, отвратительно, — Бату стало приятно, что он всё-таки монгол, а не кыпчак, — в нашем народе низости такой не водится».
Значит, Джучи спровоцировал набег для того, чтобы неудобных людей, наконец, ОБЪЕДИНИТЬ, вырвать на лето из-под скучного кнута пастуха. Он хочет создать кыпчакских «людей длинной воли», СВОЕЙ «длинной воли». Как просто. Их руками нужно захватить, а не уничтожить зимние пастбища. Молодых пастухов, оторванных от старейшин и прорицателей, переманить на свою сторону легко. «Кто хочет, пусть идёт на войну — саблей добудет богатство. Добрый хан Джучи всем найдёт занятье по душе. А что сейчас имеете? Чужие стада без продыху пасёте», — скажет им Делай, вернее МЫ его голосом скажем. А ближе к зиме — свалим их же руками обеззубевших без юной поросли старейшин-беков.
«И будет бескровная победа, — восхитился Бату, — хоть один костерок под ногами погасим. Ущелья для женщин и детей — укрыться при карательном походе Темуджина — тоже не лишнее. Только бы удалось! Только бы Делай согласился!»
Всё это он высказал отцу, чтобы проверить свою способность понимать чужие мысли с полуслова. Однако Джучи даже слегка испугался такой прыти.
— Не так всё безоблачно, но в главном — догадался. Где научился так рассуждать?
— У того, с кем решили воевать, в «яме» Темуджина, — привычно скривил губу царевич. — Чей это план? Твой или Маркуза?
Джучи ждал этого вопроса, но отвечать на него не хотелось. Ответил.
— Это сразу видно... — незаслуженно ткнул он отца, тот сразу сник.
«Что бы сделал на моём месте Темуджин? — привычно пожалел себя хан. — Выбил бы у подчинённых охоту не только задавать подобные вопросы, думать бы в эту сторону запретил. Все люди правителя — его продолжение».
Всё воодушевление разговора улетучилось, как жар О! залитого костра, полыхнуло стоячим белым дымом обиды и злости. А Бату даже не понял, что он жесток. Как всякий юноша, царевич был способен соображать, но не сопереживать чужим слабостям. Он был ещё слишком беспощаден к старшим.
— Не стоит кусать за материнский сосок только потому, что выросли зубки, — не выдержал Джучи, укорил.
— Не стоит выдавать чужой сосок за свой, эцегэ. Не стоит думать о сосках тому, кто не хочет уподобиться женщине.
— Иди, иди к своему Маркузу, — ревниво процедил Джучи, у него вдруг заболела голова.
Бату, Боэмунд, Маркуз. 1223 год
Это горное путешествие запомнилось Бату своим однообразием. Позднее он вспоминал не столько происходившее вокруг, сколько их с Маркузом вечерние беседы. Что до остального — разве это не утомительно? Монголы, сопровождавшие неугомонный отряд Делая, не чувствовали себя надсмотрщиками. Всё шло само собой, без их малейшего участия, от такого было даже не по себе. Казалось, Маркуз заколдовал всё подряд. Чудилось, что покорные враги вот-вот очнутся. И тогда загремит клинками и копытами, разлетится эхом по ущелью бесхитростная привычная резня.
Джучи, однако, настоял, чтобы монголы, принимавшее участие в этом странном бескровном походе, превосходили по численности отряд Делая. Мало ли что! Маркуз же, хоть и считал эту предосторожность излишней, каждый вечер аккуратно вызывал Делая в общий шатёр, где на всякий случай прополаскивал парня в кипятке своих нечеловеческих глаз. А после его ухода они оставались в шатре втроём: Бату, Маркуз и Боэмунд. И это было самым интересным.
— Ты заколдовываешь его, Маркуз. Не страшно, что сорвётся с крючка?
Маркуз улыбался, теребил костяную трубочку для питья из родников — такую тут, в горах, сделал себе и Бату.
— Я его расколдовываю. Со мной он таков, каким хочет быть. Как лук — бесполезная деревяшка без стрелы, так и в человеке нельзя возбудить то, чего в нём нет. Иначе было бы просто: сделал врагов друзьями силой глаз — и никакой войны не надо.
— Значит, ты бы не смог заставить Джелаль-ад-Дина не воевать с монголами? — спросил Боэмунд.
— Я бы не смог погасить его жажду власти и славы. Без неё он сгорит, как солома, и знает это. А как добьёшься власти без войны? Можно заставить не воевать того, кто это делает из страха, а на самом деле ищет покоя.
— Ха. Темуджин на все ветра вещает, что воюет ради покоя, — засмеялся Бату.
— Темуджин воюет от боязни оглянуться назад. Сомнение в своей правоте его убьёт. Это самое тяжёлое дело — свернуть с пути испуганного.
— А чего ещё нельзя? — Бату немного побаивался своего наставника.
Маркуз понимающе усмехнулся:
— Если в человеке нет страсти, если у него сытое сердце, как у простого пастуха, его не сделаешь героем. У героя сердце голодное и беспомощное, с такими легко. Таков Делай, такой твой отец.
— А я? — осторожно осведомился царевич.
— Тебя и Боэмунда лучше доброго панциря защищает великий дар Неба — желание узнавать мир просто так, бесцельно.
— В таком случае я хочу кое-что узнать бесцельно. Вот мы сейчас тут, в кыпчакских горах, с горсткой воинов. А в низине — ещё несколько тысяч с семьями. А против нас — весь мир.
За тонким пологом шатра, мало разделяя тревогу царевича, «приручённые» Маркузом кыпчаки горланили беспечные песни. Это Бату слегка раздражало. Невольно подражая отцу, он заговорил иносказательно. Подступить к главному напрямую было всё-таки боязно. Тем более — ночью.
— Я знаю, если ручеёк умеет правильно стекать с высокой горы, он превращается в широкий Керулен. Что бы там про Темуджина ни говорили, но это ему удалось. А другие — впадают ручейками в чужое многоводье или сохнут, задыхаясь от бессилья. Я не гордец, как сумасшедший Джелаль-эд-Дин, по мне хватило бы и того, что вольюсь в чужую реку.
Лицо Бату стало испуганным. Из темноты тревожной боевой трубой завыли волки. Уже второй день эта нахальная стая пыталась умыкнуть у них какую-нибудь отставшую лошадь. Бату отпрянул от очага. Может быть, этот вой — предупреждение свыше: «Не посылай свои мысли в эту сторону? »
Но он давно хотел поговорить с Маркузом обо всём. Пока не поздно, пока не совершил по глупости необратимого. В этот поход — сопровождать Делая, помогать новоиспечённому союзнику отвоёвывать у хана Инассу горные пастбища и зимовники — Бату, конечно, не собирался. Когда же он узнал, что Маркуз опять надолго затеряется в частоколе этих бесконечных сосен — решил присоединиться к нему. Не тянуть же с делами до зимы! Джучи отпускать не хотел: «Всё-таки опасно». На самом деле, не из-за опасности — не желал отпускать с Маркузом. Но удерживать — ещё подозрительнее.
Так Бату оказался в этих скучных горах с Боэмундом, единственным из ближних нукеров, которого выбрал сам. Таких бы ещё человек семь — и можно многое наворотить. Ну да ничего, их и так уже трое... Был ещё Мутуган. А может быть, он здесь?
Дождавшись, когда порыв ночного ветра ослабит напор на жерди шатра, — это отвлекало — Бату пренебрёг знамениями и заговорил снова:
— Теперь не вольёшься ни в какие реки. Отец поссорился с Темуджином. Конечно, это не открытое объявление войны, но соглядатаи уже наверняка донесли нашему Всепрощающему Деду о тех оскорблениях, которые вот уж несколько месяцев орали наши удальцы за пиалами архи. Мой отец такой же колдун, как ты. Только ты заколдовываешь глазами, а эцегэ — речами. Хорошая у вас с ним пара — два гутула на одну больную ногу... Моя мать рассказывала мне, как ты много трав назад расправился с великим шаманом Теб-Тенгри. — Бату прислушался к темноте. Не заткнёт ли она ему рот каким-то знаком, но серые бродяги, наверное, уже успели утащить отставшую кобылу, потому что замолчали. — Когда я слушаю сладкие речи эцегэ, мой разум плывёт в сартаульский рай, где гурии обретают нетронутость, сколько ими ни наслаждайся. Так вот и я, будто гурии, — Бату простодушно рассмеялся, чем заставил встрепенуться Боэмунда. Вот за это полное отсутствие чванства Боэмунд и любил своего господина, — послушаю отца и обретаю детскую беспечность. Потом ухожу, хватаю голову руками, ужасаюсь.
— Это ничего, в Европе то, что имеет твой отец, называют харизма, — встрял Бамут.
— Ха-риз-ма, — пощупал царевич губами новое слово.
— Например, твёрдолобый магометанин стоит в толпе христиан. Если проповедник толковый, белоголовый будет кричать: «Слава Христу!» А потом хватать голову руками, ужасаться. Вот это и есть харизма.
— Я его кусаю, потому что хочется слушаться сладких слов, а это беспечно. Но мои укусы — комариные. А как с ним поспоришь? Ведь я не знаю, что делается вокруг меня. У меня же нет хороших соглядатаев, и я слепой. Нужны мухни... свои собственные мухни.
— Укусы? — с показной глубокомысленностью изрёк Маркуз. — Что бы там ни было, а о норе я позаботился. Ты думаешь — зачем Делая выпестовал? Помогу ему стать вождём своего рода, а в случае большой войны, — если брат на брата пойдёт, — заберу твою мать, тебя... и ещё кого захочешь, и мы растворимся в этих ущельях...
— Я о чём-то подобном подозревал. Нет, Маркуз, не годится. Я не оставлю эцегэ в беде. В его ошибках и победах — буду вместе с моим родным улусом.
— Хочешь влиться в чужую реку? Так ты сказал, Бату?
— Отчего нет?
— Это пока она течёт в ту сторону, которая тебя кажется верной. А в другую ринется, не пожалеешь, что река чужая?
— Тогда как? Не вмешиваться? — вздохнул царевич.
— Это у нас есть, — влез Боэмунд, — это — пожалуйста. Иди в монастырь, избавь людей от своих страстей, от одержимости дьяволом. В монастырь кто идёт? Такие, которые сами со своим «добром» бороться не могут. «Заприте нас, — говорят они, — а то мы за себя не в ответе, таких дел натворим».
— У буддистов в Тангуте то же самое, — поддержал Бату. — Как же знать, что твоя воля согласна с Волей Неба? Знамения, жертвы, прорицатели? У всех они разные. Темуджин говорит: «Если я побеждаю, добро на моей стороне». Вот сейчас наши кони пугают народ в землях Золотого Дракона. А бабушка Бортэ рассказывала, как приходили те же джурджени раньше и в наши степи. Что творили, зубы стынут повторять. Сколько народа за Стену Ненависти угнали! Скольких наших лучших вождей прибили к деревянному ослу. Тогда побеждали они. Что ж, Воля Неба была с ними? Алтан-хан себя и звал Сыном Неба.
— Что ты хочешь этим сказать, Бату?
— Всё просто. Наш поход в Китай назывался: «Месть прогневившим Небо». Почему же мы, исполнители Высшей Воли, наказываем и ненавидим джурдженей за то, в чём им раньше Небо помогало? Небо само себя наказывает, так получается?
— Берикелля, Бату, кое-что ты понял.
— Ничего я не понял... Каждый, желающий нести добро, завоёвывает мир, насколько может. И возмущается, если этого хотят другие. Темуджин под старость лет признался-таки, что нужно воевать, пока нога монгольского коня не упрётся в Последнее море — иначе разметают родные юрты, рано или поздно. Всех остальных это возмущает и пугает. Но разве багдадский халиф не желает того же?
— А наш добрый Папа Римский разве не желает, чтобы его власть простиралась до Последнего моря? — добавил Боэмунд.
— Почему я сказал, что ты кое-что понял, Бату? Потому что, если спрашиваешь такое, не будешь сверять свои поступки с Волей Неба. Тут только начни — оно оправдает любые безумства. С тех пор, как пастыри людские слушаются Неба, они перестали слушать друг друга. Глухие могут только драться, не говорить. Скоро Темуджин покинет этот мир, и всё доброе и злое, придуманное им, назовут Волей Неба. В давние травы то же самое произошло с наследием Христа, с наставлениями Магомета. Живое рождается и умирает. Люди, делая живое святым, превращают его в нежить.
— В дьявола? — спросил Боэмунд о своём.
Бату промолчал, для него такое было не очень понятно.
— Жизнь течёт сквозь неподвижные осколки нежити, как дзерен сквозь проткнувшую его стрелу... Многие ли способны остаться невредимыми после такого ранения? — вздохнул Боэмунд. — Я знаю, как делать святыни. Это легко... Но как их расколдовывать? Как возвращать им дар рождения и смерти, я до конца не знаю. Как сделать, чтобы люди изменяли Библию, Коран и Ясу на потребу Жизни, а не жизнь под написанное в Коране или Ясе.
— А зачем ты всё это нам рассказывал, Маркуз? — не выдержал мало склонный к отвлечённым рассуждениям Бату. Вышколенный на схоластике Боэмунд, напротив, надолго погрузился в раздумья. Меж тем Маркуз был доволен: вот перед ним будущий правитель и будущий советник — каждый заинтересовался своим.
— Чтобы вы поняли — Воля Неба никогда никому ничего не шепчет. Она «здесь и не здесь, везде и нигде», как мусульманский див. — Он говорил «вы», налегая на что, мол, проповедь не только для Бату. Заодно Маркуз выяснил, как реагирует царевич на непонятное и неважное для себя. Нормально реагирует, не обижается, это хорошо. Помолчав, он продолжил: — Знаю одно: если попадаешь в её текущие круги — она награждает тебя счастьем, пытаешься идти наперекор — её струи лупят тебя в бок муторными волнами тоски... или разбивают о камень.
— Значит, мне нужно помогать отцу. Если я пренебрегу им ради законов Ясы... Одна мысль об этом вселяет тоску, — проворчал царевич. Эти длинные вступления его утомляли, он уже получил оправдание своим действиям, и раздвоенность перестала мучить, что дальше-то языком возить?
Маркуз сидел, погруженный в раздумья, как монах, потом разговорился:
— Ничего нового под Небом. События повторяются, и в новых халатах истинный мудрец увидит старое тело, а в старых — новое. Вспоминая далёкие травы, вот о чём я думаю сейчас: Темуджин почитает себя любимцем Неба, а это неспроста. Во времена моей молодости Сыном Неба называл себя совсем другой человек, а именно джурдженьский император — владыка Китая. В те годы его звали Золотым Драконом, потому что расплавленное золото капало у него изо рта и убивало людей в наших родных степях. Вот послушай, есть в далёких Вечерних странах такое сказание: багатур — а по-тамошнему «рыцарь» — убил Злого Дракона и сам не заметил, что драконья душа вселилась в него самого. А верные его нухуры, которые помогали дракона одолеть, так и не поняли, что уже не рыцарь их господин, а Дракон в обличье победившего рыцаря.
— Как ты сказал, Маркуз... «рысар?» — сосредоточился Бату. Смакуя очередное, новое для себя слово, он думал о том, как это всё правильно сказано, ему сразу стало интересно. По привычке продолжить мысль говорящего, восторженно продолжил: — Темуджин — это рысар. Победив Алтан-хана[84], сам в дракона превратился, а его нухуры этого не заметили.
— Когда Темуджин ещё не превратился в дракона, перед ним стоял связанным дерзкий Джэбэ. Тот воевал на стороне тайчиутов и после их разгрома попался. Тогда Темуджин ценил людей за верность и мужество, за дерзость. За верность своему прежнему повелителю Темуджин сделал Джэбэ своим приближенным. А тех, кто привёл к Нему связанным главного врага Джамуху, он, ещё не превращённый, приказал зарубить. Ибо щадящий предателей сам предан будет — он любил тогда такое говорить.
Боэмунд поднял голову, попытался представить Темуджина таким — не удавалось.
— Теперь перед ним ковры расстилают, пузо в страхе о землю чешут, — задумался Бату, — теперь вознесённые им предатели облепили Темуджина, как мухи павшего скакуна—хулэга[85]. Воистину мухи роятся только в мёртвом теле.
— И заметьте, он полюбил казнить строптивцев за верность побеждённым, за мужество дерзить перед смертью. Он повадился заливать расплавленное золото в глотки чужих храбрецов. Стало быть, Золотой Дракон не умер. Он снова капает золотой слюной из пасти, — добавил Боэмунд.
— Значит, мой горемычный отец стоит сейчас против Чингиса, как когда-то Темуджин стоял против джурдженьского Золотого Хана. Значит, в него, спасаясь из захваченного драконом тела, переселилась настоящая душа Темуджина. Всё повторяется.
— Как знать? — хитро прищурился чародей. — Ухватив круг превратности, не думай, что уже летишь на его волнах. Схожего много, но...
Вот так они говорили вечерами... А дни были путешествием в прошлое — его устроил подопечным чародей Маркуз. Каменистые тропинки, своими изгибами подобные Кругам Превратности, заносили друзей на покатые зелёные островки, к нахальным травам, достающим облака. Шустрые воины Делая сгоняли молодых соплеменников в тесный круг, после чего на стройном коне, в мерлушковой шапке и нагольном тулупе к ним, подбоченясь, выезжал он сам.
Делаевы удальцы не надевали поверх тулупов свои кожаные с железными бляхами куяки[86]... То ли были так уверены, что до сопротивления не дойдёт, то ли стеснялись облачаться в боевое снаряжение: «Мы, мол, с миром пришли», тем не менее монгольские красные стрелы — подарок Джучи — выглядывали из саадаков. Как напоминание о том, в какой цвет окрасится неповиновение...
Но до потасовки никогда не доходило. Горячие речи Делая (пересказ того, чем он сам очаровался в юрте своего доброго пленителя Джучи) находили должный отклик. Маркуз рассчитал верно. Солидные, седовласые и угрюмые — чьи интересы были бы затронуты его речами — остались гораздо ниже, гнездились на сенокосах, превращаемых к холодам в осёдлые зимовники.
Бату смотрел на гарцующего перед соплеменниками Делая, видел не его — юного Темуджина. Вот также приезжал его молодой дед в родовые кочевья, говорил о воле, наградах по заслугам, про неповоротливых родовых старейшин, среди которых молодые стареют, а старые дряхлеют. И восходящее солнце, подбадривая, грело его ещё не сутулую спину. Говорят, он был весёлым и задорным... а теперь?
Джучи рассказывал, как давно, после похода на Иргиз, он просил у отца сохранить жизнь пленному меркитскому стрелку Хултуган-мергэну, но тогда в Темуджине уже вовсю гремел чешуёй Золотой Дракон. Джучи до сих пор был уверен, — дело не в том, что Хултуган сын Тохто-беки, главного врага. Просто стареющий Темуджин позавидовал его молодости, испугался её, как вестника движения вниз, к могиле. Эта история была одним из первых камней в той стене, которую отец Бату и дед возвели друг перед другом. Проглотив кричащую обиду, Джучи тогда прошипел: «Отец, что случилось? Мы воюем за то, чтобы людей ценили не по крови, а за то, каковы они сами, — не ты ли твердишь такое? И вот теперь ты подрубаешь собственное знамя, убивая Хултугана за преступления его рода. Это плевок в лицо всем нам, поддержавшим, возвеличившим тебя».
«Нам... поддержавшим... нам», — гудел в голове какой-то назойливый шмель... Он ему о чём-то гудел, но никак не мог Бату его ухватить.
«Нам... поддержавшим». Ага, ВОТ тут в чём дело: Делай-то не сам по себе, за ним МЫ стоим... И ТОЛЬКО ПОЭТОМУ у него всё так ловко получается.
А Темуджин в те годы, когда тоже ходил в простой мерлушковой шапке, был сам по себе... или... или?
Бату даже вспотел. Все эти россказни про объединённых под началом деда удальцов вдруг рухнули, как юрта без шеста... КТО — как мы сейчас за спиной Делая — СТОЯЛ за его спиной тогда? Нет, он не будет тормошить Маркуза, подумает сам.
Следующей ночью, однако, они опять беседовали в шатре, сидя вокруг приглушённых углей, под сопровождение возобновившегося воя.
— Маркуз, ты отвечаешь только на те вопросы, которые тебе задают. «Дай плоды твои», — сказал невежда мудрецу. «А где корзина твоя?» — спросил мудрец. Так ты меня учил, да. Корзина у меня в руках...
— Ну что ж, слушай и про это...
Джучи. 1223 год
После отъезда Маркуза и Бату в кыпчакские горы Джучи слушал доклады осведомителей из купцов Гурганджа, вернувшихся с вестями невесёлыми: Темуджин послал четыре тумена через Дербент. С ними Джэбэ и Субэдэй. Каган задумал ударить кыпчаков со спины.
Эти сведения стоили дорогого. Очень хорошо, что в самый важный момент задуманного им восстания рядом с отцом не будет его «золотых полководцев». Сорок сотен вышколенных воинов — это много, очень много. Каган мог бы послать Субэдэя на усмирение строптивого сына, ан нет — послал на кыпчаков. Что стоит за всем этим?
Покупая у сартаульских купцов их сочувствие, Джучи отдавал то, что сам и отнял. Когда сжигал города хорезмийцев в том незабываемом походе вниз по Сейхуну, его войска разорили многих. Правда, купцы — народ вёрткий, чуть ветерок не туда — всегда успеют лавки свернуть. Не оттого они пострадали, что смело ураганом войны их богатство. Тот, кто умён, унёс чувствительные к вражьему топоту ноги в безопасное место заранее. Купцы, как змеи, — гром копыт издалека слышат и также изворотливы.
То, что не шла торговля, поскольку не охранялись караванные пути — это одно, а вот то, что воспряли духом их соперники из христианских общин, — это второе и самое главное. Имеющий глаза да узрит: когда Темуджин покончит, наконец, с упорным Джелаль-эд-Дином, раздавит разбойничьи шайки вдоль караванных дорог (куда он денется), прежнего покровительства купцам-мусульманам уже не будет. Всё приберут к рукам несториане-уйгуры.
Одна была надежда у купцов — на Темуджинова строптивого сына Джучи. В случае успеха своих начинаний обещал этот странный хан особое покровительство именно им — прежним хозяевам караванных дорог.
От убитых городов поверженного Сына Неба до солнечных оазисов Джейхуна пока что белели кости, но пески легко заносят любые следы. В первый раз, что ли? Хорезм-шах (сомнительная «Тень Пророка», превращённая Аллахом в тень без плоти) тоже разбойников наплодил — не вздохнёшь. Отдавал головорезам-гулямам свои же города на трёхдневный грабёж — уж какая тут торговля? Теперь вот вознёсся каган монголов. Не всё ли равно? Главное — обрубить загребущие руки христианских общин, а остальное приложится.
— Расскажи про дела в Вечерних странах, Ахмед? — обратился Джучи к одному из купцов.
Ахмед собрал свои мысли, выделил главное: да, кыпчаки разные. У тех, что за рекой Итиль[87], не выгорают летом пастбища. Там сильные богатые ханы и мало свободной земли. Но она хороша — сочные травы скрывают всадника с головой. Всё лето тамошние кыпчаки кочуют, зимой укрываются в зимовниках, и вот тогда они — беззащитны.
— Там нет горных пастбищ и ущелий для укрывания семей?
— Именно так, Великий Хан, — попробовал подольститься Ахмед, одарив Джучи титулом, которым тот не обладал, — здешние их рода разрознены, но им есть где укрыться. Тамошние тяготеют к объединению и хотят воевать, но их тылы как голая спина.
— Чего от них ждать?
— Если тумены Темуджина ударят им в тыл, они попросят помощи у урусутов[88]. А если те помощь дадут — с кыпчаками не справиться.
— А эти урусуты?
— Что были здешние канглы и гузы без Хорезм-шаха? Голодные банды, беззащитные кочевья, где лишние люди будоражат покой имеющих стада и земли. Всё, как везде. Но Мухаммед покупал сабли этих изгоев для войны с единоверцами, даже с халифом багдадским. — Ахмед не смог сдержать запоздалого сетования: — Он прижимал нас поборами и пошлинами, чтобы подрывать мощь ислама, нашим же телом кормил...
— Тех, кто рвал это тело дальше, — ехидно продолжил Джучи. — Сами же платили за свой разор, кто виноват? Дурак ваш Мухаммед... С отгрызенной лапой ещё имел глупость рычать на Темуджина, купцов монгольских в Отраре резать?
— Чингис назвал его сыном в своём послании... оскорбил, — напомнил Ахмед, — он не мог не возмутиться.
— Странные вы люди, сартаулы. Неверный для вас — не человек, собака... Не возражай, не расстилайся тут передо мной, встань, — заранее перебил он забубнившего что-то в своё оправдание Ахмеда, — мне всё равно. Величайтесь, если легче вам от того. Но сами себе — верны же будьте. На лай собаки ваш тупоумный шах обижался, как на голос полноценного человека, так не жалуйтесь потом. Тангутский бурхан Темуджина оскорбил, так тот слова ему в ответ не сказал — «подожди, дорогой, придёт срок, посчитаемся». Вот это правильно, а вы... Не посылает ваш Аллах ума за истовые намазы. — Джучи с удовольствием подлавливал своих новых подданных на несуразицах, это составляло одну из радостей положения правителя. Но сейчас ему нужно было узнать другое: — Ахмед, не перескакивай со ствола на ствол, как соболь, узревший ловца. Я не ловец. Мы говорили про урусутов — ты вспомнил о шахе. Почему?
Ахмед — злой на себя, поскольку так опрометчиво потерял лицо перед неверным ханом, — продолжил:
— Да, у западных неверных урусутов та же беда. Их мелкие султаны-князья нанимают кыпчаков для резни друг с другом за право быть «тенью пророка Исы» на этой земле. А для этого нужно владеть городом, который называется Куяба[89]. Кыпчакским ханам хорошо. Зачем делиться кочевьями со своими же удалыми джигитами? Пусть они сложат голову под городом Куяба в войске урусутского коназа[90], но принесут при этом меха, шелка и серебро. Они лежат — не жужжат, есть не просят. — Купец говорил о своём, о выстраданном, неравнодушно, ведь и здесь недавно было что-то подобное. — И коназу хорошо — он свою дружину сбережёт. Дань с безропотных дехкан-земледельцев соскребёт — наймёт кыпчаков, пойдёт за город Куябу воевать. Хан даёт джигитов, получает от коназа товар. Пока в урусутских землях война, тамошние кыпчакские ханы и беки горя не знают. Но, — Ахмед поднял руки, будто взывая к Аллаху, — вылетающие из переполненного гнезда орлята ропщут на судьбу всё больше. И теперь иные там ещё бывают разговоры...
— Не скачи по веткам, говори дело.
— Им некуда девать строптивую молодёжь. Сказители вдруг запели о ваших монгольских землях, где кони могут пастись и зимой, доставая траву копытом. Где горы дают столько леса, что не надо кланяться урусутам, где травы вкусны и не так высоки. Так что видно, как пасутся дикие стада, гуляя меж укрощённых коней. Лови — не переловишь.
— Ну уж так прямо и гуляют дикие стада, — развеселился хан.
— Так говорит хан Бачман, влезет на гору из телег и вещает: «Храбрые багатуры, на вашей драгоценной крови жиреют чужие комары, но их много в безветренных лесах. Не будем сворой урусутского ловца, пусть не гонят нас под кабаньи клыки. Станем снова волчьей стаей. Наши предки много трав назад заставляли гнуться спины осёдлых кротов. Где наша древняя доблесть? Кыпчаки владеют степью до гор Алтайских, нас много, так поведём своих коней за горы. На далёкую Селенгу, на Онон и Керулен. Каждый багатур превратится во владетеля стад. Перекинем степной пожар на беззащитные нутуги монголов, растопчем их кагана-людоеда».
Джучи удовлетворённо кивнул, кинул Ахмеду заранее заготовленный мешочек с динарами:
— Иди, я доволен. Как идёт вербовка туркмен?
— Мои люди стараются. Улемы называют тебя великим гази, борцом за торжество правоверных суннитов, — говорил Ахмед, небрежно пятясь, знал, что Джучи не из тех, кто следит, как кто от него пятится — добрался до верёвки порога. Опасливо, как змею, переступил. Хан уже не смотрел в его сторону, напряжённо думал.
Войска Темуджина застряли на юге — не отцепиться. Коренные нутуги на Ононе и вправду беззащитны. Джелаль-эд-Дин и джурджени, чуть ослабь на них нажим, перейдут в наступление. Войска распылены по далёким фронтам — не собрать. Всё верно, на такую струну и нужно давить.
Сомнений никаких, что речи медовые неспроста. Откуда знать Бачману про монгольские земли? И гадать тут нечего — меркиты нашептали, больше некому. Их уже, назойливых, и через Итиль перенесло, все катятся вроде хамхула. С их голоса песня. Думают на кыпчакских конях в свои родные нутуги въехать. Джучи бы на их месте... Да то же самое бы делал, поэтому и злится. Воля Неба несёт беспомощных людей, несёт и сталкивает лбами.
И этот Бачман туда же собирает «людей длинной воли». Великий Хормуста, сколько мелких «темуджинов» развелось, куда ни глянь. Неужели прав отец? Неужели так и устроен этот шакалий мир? Ты не ударишь — на тебя обрушатся саранчой. Только зря Бачман глотку дерёт — поздно. Не Темуджин через Дербент, так мы отсюда достанем.
Бату и Боэмунд. 1223 год
Вечный Хормуста развлекался. Вскоре Джучи узнал о событиях на Западе, и отнюдь не через купцов.
Их было полторы сотни, тех, кто ещё мог держаться в седле. Раненые лежали не в телегах, потому что не было телег. Куски ткани, растянутые каждый меж двух лошадей, из-за грязи уже давно потеряли свой первоначальный цвет. На этом подобии лож стонали раненые, измученные безжалостной скачкой. Одного, затихшего, аккуратно положили в траву. По ловкости и кажущемуся равнодушию — с каким эти двое, ещё не раненных, проделали эту процедуру над не раненным уже, было заметно, что далеко не первого они так снимают. Счастлив умерший в дороге, под колыхание синего неба, готового превратиться в небо вечное.
Под сёдлами у большинства исхудавших лошадей краснели открытыми ранами взмыленные куски сырого мяса. Казалось, седло так и лежит на окровавленной плоти, и усталое спокойствие лошадей не вязалось с этим зрелищем.
Непривычный к подобным зрелищам Боэмунд испуганно вздрогнул, обалдело помог спуститься на землю еле сидевшему нухуру. Тот встал на непослушные, затёкшие от бешеной скачки ноги, аккуратно ослабил подпругу, снял запылённое седло, рваный потник. Вдруг он стал осторожно отдирать расплющенные седлом посеревшие мясные куски. Успокоив своего боевого друга, потрепал его спутанную гриву. На оказавшейся под кусками... здоровой коже светлела и настоящая натёртость, тоже немалая. Просоленный лошадиным потом кусок нухур поспешно сунул в рот. Оторвал ещё один — протянул брезгливо отпрянувшему Боэмунду:
— Мягкое...
— Нет, нет... я...
На лице предложившего «лакомство» стала стремительно твердеть обида. Бату, улыбнувшись, подхватил угощение, опустил в широко раскрытый рот, облизнулся:
— Отказываться невежливо.
— У... у нас в Европе говорят, что вы так готовите мясо... Что у вас нет огня...
Бату кого-то суетливо искал в толпе, нашёл, резко отвернулся к другу:
— Да нет же. Какой полоумный будет так готовить мясо именно для еды? Его кладут на раны, натёртые седлом... А потом, когда снимают — не выбрасывать же. Кстати, оно пропитается солёным потом, улежится, даже на жаре долго не портится. — Бату весело вздёрнул свой маленький аккуратный нос, будто и не лежал тут умерший. Было ли это кажущееся равнодушие к чужой смерти отсутствием показной «христианской» скорби, привычкой монгола или просто воина, Боэмунд так и не понял.
— Не грусти, друг. Привыкнешь — будешь есть и вшей. А что?
Боэмунда просто раздирало от желания узнать, кто же эти монголы, прискакавшие с запада? Со стороны, поглощавшей усталое солнце, он ожидал только башкир и кыпчаков, уж никак не соплеменников Бату.
— Видишь этих двух героев? Ох, расскажут нам сегодня весёлый улигер, чует моя печень. Это знаешь кто? Невероятно, но Субэдэй-багатур и Джэбэ-нойон — «золотые полководцы» Темуджина. Из подпорок Справедливого Деда — самые главные подпорки. Не выношу обоих, особенно того, с проколотым глазом. Есть псы, способные по окрику пастуха и железо грызть, ломая зубы. Эти двое — из таких. Из тех, у кого эти самые зубы вместо головы. То-то эцегэ обрадуется.
— Расскажи...
— Потом, наедине. Сейчас такая суета, — нерешительно промямлил Бату. Но цепкая память уже тащила царевича в тот незабываемый день перед отъездом в «учёную яму», когда они впервые встретились с Одноглазым. Это был как раз тот самый Субэдэй, который его, ребёнка, несколько раз душил, но не до конца, а чтобы тот почувствовал «вкус смерти». В этих железных объятиях было задушено детство Бату.
Тайджи ущипнул себя за щёку несколько раз, прежде чем тот давний страх опустился в тину, покрытую глубиною прожитых лет. Он взглянул на исхудавшего одноглазого старика, с трудом успокоился.
Теперь, спустя много трав, Субэдэй так и оставался страшным, но как-то по-другому — без показного величия. Да и Бату был уже не тот испуганный ребёнок. Но глаза царевич всё-таки отвёл. На всякий случай.
Гостя, по степному обычаю, разговорами не мучают, задают вопросы вежливости. Но и так любому видно — оскорбишь гостей, чего ни спроси. Натерпелись, накачались в запылённых сёдлах. Рассказ их будет не из победных, ясно и ребёнку.
— Это те, кого послали в тыл кыпчакам, да? — обалдело догадался Боэмунд. — Ты знаешь, как это бесконечно далеко? Этот Борисфен[91]... река Итиль, через которую им нужно было переплыть? И в степи сейчас с кормами для лошадей туго — не весна, знаешь ли... Они прошли через ад, — добавил он восхищённо мгновение позднее.
— Ад — это то место, где ваш добрый Бог всех варит, да?
— Нет, варит его любимый палач, Дьявол.
— У нас непокорных тоже варят в котлах живьём, — отметил Бату похожесть взглядов на жизнь, — но мне интересно иное. Это всё, что осталось от трёх туменов? Или только алгинчи, передовые? Но почему тогда с ними эти «золотые полководцы»? — Бату, морща лоб, наблюдал, как шустрые агтачи-конюшие сноровисто мельтешат меж еле живых коней, похожих на скелеты, перекладывают раненых воинов с грязных тряпок на принесённые аккуратные носилки. — Я всё думал, не приказал ли им Темуджин, расправившись с кыпчаками, налечь на нас, строптивых? А оно вот как всё обернулось, смешно, — сказал Бату.
— Мне не смешно, — задумался Боэмунд. — Что они видели, что пережили... Мороз по коже.
В огромным котлах варилась еда для пира. Бурдюки с кумысом и архи выстраивались в неровный ряд, как преступники перед казнью. Сартаульские повара колдовали над кебабом и туркменским пловом, а с высокобортных грузовых повозок сгружались запасы урюка, инжира и сушёных дынь. После покорения Хорезма разнообразие монгольского пиршественного стола увеличилось многократно...
Оголодавшие воины, ещё не уверовавшие до конца в благополучное возвращение, — если не на родину, то, по крайней мере, к своим — чуть ли не пальцы себе обкусывали, запихивая в рот всё подряд. Им ещё казалось, что вот-вот растворится этот весёлый гомон — они откроют слипшиеся от усталости глаза, и снова литая трава и пыль побегут назад под опущенным в землю взглядом. А в дыхании последнего твоего, самого лучшего, коня будешь ты слышать рвущие сердце хрипы. Его недоумённые выпученные глаза нальются болью: «Хозяин, ты же видишь, я умираю... Почему не сменишь? Почему?»
Неуверенными чужими руками будешь ты гладить старого друга по взмыленной шее, в который раз сомневаться, сомневаться: «А имею ли право спасать себя за счёт друзей?» Вспомнишь его неугомонным стригунком, как вынес он тебя, счастливого, вперёд на праздничных скачках. А потом, в чужих горах, — в единственно возможное мгновение отпрянув в сторону — увёл стремительную смерть немного вправо... И ещё раз, и ещё. Как кормил его, улыбаясь аппетиту, белым душистым зерном из полусгоревшего аланского амбара, только что отвоёванного. Кормил, не в силах иначе выразить ноющую под рёбрами благодарность... за ум, за быстроту, за собачью верность...
Но давно оставлен среди камышей Итиля хаптаргак с вышивкой невесты, давно разорвали на целебные «мясные повязки» павшую вьючную кобылу... и того мерина, на котором ездил повседневно. И вот последний «священный» боевой конь, твой брат, анда...
Глотая слёзы и жирный рис одновременно, покачиваясь, отходил, в сторону всё на свете повидавший воин... Вставляя в рот огрубевшие пальцы, выворачивал из себя содержимое желудка вместе с грызущими душу и совесть картинками пережитого. Возвращаясь к отрешённому веселью уцелевших друзей, он снова ел и хохотал, ел и плакал.
Джучи, Субэдэй и другие. 1223 год
А в обширной юрте Джучи под переливчатый сладкий скрип хуров не затихали разговоры. Временами они ощетинивались иголками ежа, иногда вкрадчиво шелестели степной гадюкой, порою — взрывались громом тарана, долбящего сырые стены.
То, что в иных условиях так и сникло бы простым ритуалом ни к чему не обязывающей ядовитой вежливости, обернулось злой откровенностью. К тому обязывали горестные обстоятельства встречи этих людей, самозабвенно не любивших друг друга.
Не усталыми просителями — надменными победителями мечтали показаться в кыпчакских степях Субэдэй и Джэбэ... Но Хормуста не внял вожделениям гордецов. Коль скоро вышло именно так, то раздуваться глупой жабой — не самое достойное поведение после того, как тебя, гонимого, обогрели и накормили. Рассказ Субэдэя — любившего саблю, не язык — получился вынужденно кратким.
— У нас было три тумена. По приказу Чингиса ловили мы Хорезм-шаха. Но на острове средь моря Абескунского красные мангусы перехватили из рук Темуджина оскорбившего его врага. Опередили, взялись за него сами, покуражиться. Видно, и тамошним духам он вконец опротивел. Там, на жёлтом берегу, нагнал нас «дальняя стрела» от Великого Хана. Твой отец повелел идти через горы в земли западных кыпчаков, поссорить их с урусутами и ударить в тыл. Пошли через Дербент, через грузин и алан. В горах у крепостей много людей теряли — христиане тамошние не желали выдавать пищу, сопротивлялись. С аланами и ясами было проще.
Заплетающийся от архи язык Субэдэя выстреливал слова урывками, как краткое донесение. Казалось, он и видел произошедшее именно так — остальное пролетало, как мелкая рыба через грубую сеть. Правда, вспоминая ловлю Хорезм-шаха, даже он украсил повествование некоторыми эмоциями. Это могло означать только одно — утомила Субэдэя эта нудная погоня за ничтожеством больше, чем все дальнейшие страшные приключения. Ему среди таких приключений было привычно и легко. Гибли воины — досадно, но на то они и рождены, чтобы гореть в погребальных кострах. Ну и что?
— Потом отправили послов в урусутские города — тамошних ханов-коназов с кыпчаками рассорить думали. Не удалось. Урусуты послов истребили, потом послали войско против нас. Это было не так, как задумано, пришлось отступать. Так нет же — эти полоумные погнались и дали себя истребить. Уж как я не хотел тратить нухуров на эти бесполезные стычки, но пришлось! — Последний всплеск вынырнул из глубин души Субэдэя неожиданно, как лицо из-под железной маски тяжёлого всадника. — Там тоже потеряли многих, пошли на восход, — снова скрылся полководец за личину мнимого спокойствия. — Переправились через Итиль и вдруг... построиться не успели — окружили нас булгары. — Тут одноглазый лик Субэдэя слегка перекосило. Его губы настолько привыкли сообщать только о победах, что он, похоже, сам себе удивлялся, рассказывая о дальнейшем. С ним ли это было? — Вот этого я не ждал. Наших воинов подловили на переправе. Булгар было втрое от нашего...
Дальше ясно: спаслись только эти полторы сотни... Какой удар для Темуджина!
— Что-то моему отцу начинает отказывать в благословении его любимое Небо, — скривился Джучи, — а попросту говоря: что он себе думал, посылая вас неизвестно куда, без тылов? Видно, для него теперь — не только простые нухуры — трава под гутулом, но и любимые полководцы тоже... Или ревность берёт, мол, останутся люди на земле после того, как самого с неё стащат.
— Не смей говорить такое об отце, строптивый щенок, — не выдержал Субэдэй, он знал Джучи мальчиком, и тот всё ещё казался ему таковым...
У хана побагровело лицо, он вцепился в костяную плеть...
— Нужно тебе щенка, дядя Чаурхан, так вот он я — щенок настоящий, отыграйся на мне, — тонким голосом выкрикнул Бату, которому стало обидно за эцегэ.
— Не встревай, — отмахнулся Субэдэй. Бату он совсем не замечал и был удивлён, что это существо (семнадцать трав от соска) что-то там вякнуло.
— А что, не так? — зло встрепенулся Джучи. — Вот вам тридцать тысяч людей без тылов. Возьмите крепости грузинские, взнуздайте поселения аланские, потом без отдыха, по земле, под ногами горящей, налетите на кыпчаков, сомните урусутов — а там тысячи и тысячи знающих каждую тропинку на своей земле... После чего многие дни пути мимо враждебных башкир, мимо тех же кыпчаков, только здешних. — Джучи замолчал, продолжать ли? Продолжил: — И так, гоня весь мир перед собой, обрушиться НА МЕНЯ. Привести к покорности ещё и строптивого сына. Хорошо ему... на чужих горбах.
— Не давал он приказа приводить тебя к покорности, предатель, — прошипел Субэдэй, который не хотел вести такие разговоры.
— Отчего же предатель? Я своих людей берегу, на верную смерть ради целей неясных не бросаю. И вас, заметьте, за врагов не держу. Ежели отец мой тронулся умом, крови перепившись, так кто в том виноват? Кости наших товарищей в далёкой пыли? А ведь это кости тех, что на войлоке отца поднимали. Для того ли?
— Не говори этого мне, я слуга Темуджина, — погасшим голосом остановил его Субэдэй.
— А я думал, ты слуга своего народа, — давил беспощадный хозяин юрты, — не бойтесь, ничего с вами не сделаю. Доедете до любимого кагана невредимыми. Да и он мне в руки попадётся — зла ему не будет. Одна у меня печаль: остановить безумие. — Джучи и сам в это не очень-то верил, что нет у него «других печалей». Выползало-таки из глубин сокровенное, о чём и думать не хотел. Нежелание бороться за власть — признак слабости, уважать перестанут. Слишком явно за ней охотишься, скажут: «честолюбец». Худшее из мнений для общества, воспитанного на том, что нет ничего важнее верности, пусть и верности чудовищу. Помолчав, отвёл разговор от опасного склона. Джэбэ и Субэдэй — не дети, разберутся, где правда, а где ритуал. «Не гибели для них желаю. — спасения».
— Судьба ваших туменов — урок для других. Если бы со мной не встретились — домой бы живыми не добрались. — «Нажать, нажать на чувство благодарности. Это у нас самое больное место. Какой же всё-таки лицемерной сволочью сделало меня общение с сартаулами». — Я ваш спаситель. Обещайте, что не будете со мной воевать, пусть бы и послали вас. Больше ничего от вас не попрошу.
— Наша судьба в рукавице Темуджина, — отозвался Джэбэ-копьё. Этой кличкой наделил его когда-то Чингис. Стоял много трав назад молодой пленник перед победителем, ждал удара рассекающего. Его пощадили, взяли в ближние нукеры. Мог ли он предать подарившего жизнь? Но и Джучи сейчас мог их убить, но не убил.
Был бы Джучи душой мангус, разве отпустил бы всех поздорову, мятеж замышляя? Как-никак Субэдэй — лучший полководец Кагана, да и о себе Джэбэ не самого плохого мнения.
Он был моложе Субэдэя, и этот гибельный поход всё-таки погнул в нём то «копьё», которым себя мыслил. Неужели Темуджин заранее знал, что они скорее всего не вернутся? Легко послал прямиком в болото? Только для того, чтобы на будущее знать, где оно засасывает? Чтобы самому сморщенной ногой в него не ухнуть?
Давить беспощадно врагов, чтобы спасать своих людей — это было для Джэбэ понятно. Но спасать себя, свою власть гибелью ближних? Тех, кто его возвысил до облаков? Что случилось с их великим вождём, кто околдовал его?
Субэдэй любил смерть и бои, себя — не очень. Джэбэ, в отличие от старика, всё-таки хотел, чтобы за верность... ну, были ему хотя бы благодарны, а не закололи как хромого коня. Он запутался и осторожно, скорее доброжелательно, чем налегая, буркнул:
— Будет моя воля — не пойду против тебя. Расскажи, чего сам-то желаешь?
Джучи облегчённо вздохнул. Наконец-то. По крайней мере, его выслушают.
— Отец говорит, что воюет ради своего народа. Что от того народа останется с такой войной — тихие курганы?
— Или мы их, или они нас. Когда превратим земли врагов в мирные пастбища, тогда и можно будет меч в ножны вложить, — насупился Субэдэй.
— Слыхали такое... — возразил хан, — да сам-то ты веришь в это? Как сорока, за Темуджином выкрики повторяете. Где столько сил набрать, чтобы все земли и в пастбища? И так уже не мы воюем — наши бывшие враги за свой интерес используют нас в грызне своей. Сколько монгольских нухуров легло в борьбе с несторианами — найманами и кераитами? А теперь? Несторианские купцы науськивают Великого на мусульман, церквей своих в нашей ставке давно понаставили. А слуги Магомета ко мне подлезают... Знают, что я с отцом не в ладах. Какая уж тут забота про пастбища?
— Не знаю, — растерялся Субэдэй, — я не правитель, я воин. Моё дело — сотни на поле правильно расставить.
— Так слушай, что тебе другие говорят. Любишь воевать — войны и без того на твою долю хватит. Если мы, монголы, хотим уцелеть — один у нас выход: нужно народы покорённые не топтать, не стравливать их друг с другом для того, чтоб они друг друга же и сожрали. Защищать их друг от друга — вот предназначение наше. Мусульман от христиан, буддистов от даосов... и наоборот. За свою «защиту друг от друга» будут они воевать добровольно. — Джучи проглотил мокроту, прокашялся, чтобы речь лилась, а не капала, продолжил с новой силой: — В справедливом, милостивом правлении, которого раньше не было на этих землях, — единственное наше спасение. Тогда слово «монгол» не будет пугать как слово «смерть», а будет звучать для них как «покой». И тогда мы действительно станем «гордыми повелителями», а не палачами «чужих» народов. Кроме нас и некому.
Взгляд Бату всё перескакивал с Джэбэ на Субэдэя. Понятно, что вслух такое не одобрят — не положено по обычаю верности природному господину. «Это не важно. Главное, чтобы они поняли: мы им — не враги. Враг — Темуджин».
Пробив кожаный панцирь сомнения, Джучи рубанул по войлоку здравомыслия. Припечатал:
— Так и Темуджин начинал. Ради войны за тишину в родных степях пришёл ты к нему когда-то, бросив кузницу отца. Огляди свой тяжёлый путь настоящего багатура, великий Субэдэй. Когда же ты стал воевать ЗА ТЕМУДЖИНА, а не с Темуджином за ПОКОЙ? Когда перестал сражаться за то, чтобы твоя мать могла без слёз смотреть на звёзды? Посмотри мне в глаза, непобедимый. Добрый дух, витавший над юностью твоей, сейчас во мне — не в нём. Я не призываю тебя к предательству, оставайся со своим господином до его кончины... Но когда красные мангусы оставят от моего отца только кожу, когда проглотят его изнутри... Я всегда буду ждать тебя в моём шатре.
— Нас уверяли, что ты сговорился с сартаулами, хочешь нас погубить. Мы прошли с тобой немало кровавых дорог плечом к плечу, царевич, — с пьяной растроганностью признался Субэдэй (в счастливые годы зенита «золотого полководца» был Джучи только царевичем, теперь он — хан), — и мне было горько от того, что придётся воевать с тобой. Теперь вижу — ошибся.
«Вот так тебя и Темуджин когда-то обласкал, — наблюдая за этой сценой, подумал Бату, — но мы — не обманем. Не обманем?»
Темуджин. 1227 год
Полог новой юрты предательски хлопнул, открылся, и ОНА — эта страшная черно-огненная псина — теперь войдёт к ним беспрепятственно. Маленький Тамэ не боялся ночи: ночь — друг воина. Только низкие харачу не любят ночи — волки уносят овец, а он — воин.
Но... Там ходит эта черно-огненная собака — она убьёт и его всесильного отца, и маму тоже.
Тамэ, дрожа обнажённым телом (он уже видел ЕЁ), поднялся. Нужно только закрыть полог — и она не посмеет. Тамэ знал, что ОНА боится закрытого полога... С ужасом понял, что не может встать — ноги отказывают — это ЕЁ наговоры.
— Эцегэ, эцегэ, — стараясь придать голосу как можно больше твёрдости, — закрой полог, закрой.
— Спи, малыш, спи, — отозвался всегда чуткий, даже на малый шорох, отец, — это просто ветер. — И добавил строже. — Не к лицу моему сыну бояться ветра.
— Я не боюсь, нет, но ОНА уже почти здесь, — он видел, — ОНА сейчас войдёт.
— Кто? Там никого нет. Это ходят наши нухуры. Они любят тебя, малыш, потому что видели в деле и знают, что ты храбрый.
— Ну смотри же, смотри, — заорал в отчаянье Тамэ. — ОНА сейчас войдёт! ОНА близко.
— Спи, малыш, спи, это просто ветер. Это скрипят гутулы нашей стражи.
Между тем надсадно, как боевой рожок, злорадно завыла псина, предвкушая добычу. Она не трогает нукеров, и они не могут видеть ЕЁ. Она пришла по души его папы и мамы, потому что они самые лучшие на свете. А она — такая (он знает) — съедает только самое лучшее на свете.
Как мягко, как красиво ОНА бросается — и чёрный огонь...
— Эцегэ... эцегэ-е-е!!!
А ноги у него, как воздух, как ветер на Керулене, очень сильные — но непослушные.
А потом — всё тихо, и снова только скрип сапог стражи. Перезваниваются тупо, еле слышно пластинки панцирей, когда нукеры двигают руками.
Мамы с папой больше нет — их тихо унесла и съела псина. Только войлочно-шёлковое ложе — подарок дяди Ван-хана ещё хранит их тепло.
Но мамы с папой больше нет. А он, он был таким строптивым, таким непослушным сыном.
Вот так живёшь и учишься быть воином, учишься не бояться умереть и убить, и нет больше счастья, чем преодоление страха, но во сне всё, что ты назавоевывал в борьбе с самим собой, вдруг снимается, как панцирь-куяк, и вешается рядом с детским луком, которым бьют рыбу сквозь воду. И мужество тоже висит под пологом рядом с луком — никто не защитит тебя, только любовь родителей. А если их съела псина — остаётся отчаянный водопад слёз и крик.
Тот самый, которым отмечен переход из утробы матери в убийственный свет.
Первая потеря и первая смерть перед рождением. Смерть для перехода в Жизнь.
Тамэ, не стесняясь нукеров за юртой, зарыдал. Укрылся в этом рыдании от боли потери мамы и папы, унесённых псиной за то, что они самые лучшие на свете. Рыдание — оно такое — укрывает только от боли. Он будет вечно так рыдать, ведь он — беспомощный малыш — не сможет жить без их твёрдости и ласки. И он рыдал долго, освобождённо.
Сквозь сырой буран беспомощности, сквозь тоскливый скулёж волчонка-сироты пробивался голос духа его мамы — ихе. Это даже не она, а только её материнская любовь хочет докричаться сквозь рыдания и не может.
Тамэ натянул поводья своего горя — умолк... И ощутил мягкую ладонь на щеке:
— Сынок, ты что, сынок? Что тебе приснилось? Всё хорошо.
Тамэ замер. Сердце останавливало барабанную дробь... Тук-тук-тук... ту-ук...
Мгновенный рывок тревожного взгляда — эцегэ был тоже рядом — большой, добрый, сильный... Ах какой стыд — он разбудил их своей истерикой — ему приснилось, что их нет, а они все тут. Даже нукер тревожно заглянул в юрту... Ах, какой стыд: сын нойона — плакса и неженка.
— Вы живы... — Он прижался к мягкой маминой руке. — Здесь была эта псина... Я думал — она вас съела.
Нукер исчез за пологом.
— Спи, малыш, спи. Мы прогоним всех псов. — На лице отца не очень понятная Тамэ ироничная печаль. — В твоей жизни будет ещё очень много псов и не самые страшные те, которые приходят ночью. — Он уже думал о своём.
Нетерпеливо отмахнулась мама:
— Иди и спи, не то говоришь. Мальчик плачет не от страха — он плачет от любви. Ты должен знать, что тот, кто плачет от любви, не будет скулить, когда его бьют. — Повернувшись к Тамэ, ихе одобрительно улыбнулась.
Позвякивает куяк у нукера за юртой. На Хэнтэйском хребте веселится тугой напористый ветер. И нет красночерной псины, но есть другое. Не такое страшное, но гораздо более опасное.
Позвякивают пластинки панциря, саадак щетинится перьями красных стрел.
Война — вечная, как хэнтэйский ветер.
Тамэ блаженно растянулся на войлоке — лежать бы так вечно, и чтобы мама касалась рукой. Но если они умрут — если их всё же убьют — всегда можно уйти вслед за ними — кто же запрещает. Так просто — умереть в один день со своими родителями.
С этой мыслью он легко и уютно, как в младенчестве, уснул. Он как бы спал и не спал. Голубой дым облаков обнимал своего сурового серого собрата, что поднимался над очагом. Совсем вдалеке, намёком — белая зимняя вьюга, очень страшная, но неопасная... А за ней лаяла маленькая красно-чёрная собачка. Тамэ плыл над миром, который любил его и защищал.
Так приятно быть беспомощным малышом.
— Я буду жить всегда, — растворялся в сладкой истоме Тамэ, — я буду плыть так всегда.
И вот голубой дым развеялся и стали чёткими белые, ещё не закопчённые жерди-уни. Прояснились высоко над головой, очень высокому самой верхушки юрты.
Почему у них такая большая юрта, почему такие красивые узорчатые подушки? Откуда это роскошное, расшитое драконами покрывало? Откуда эти прожилки на руках?
Солнышко пробежало лёгким зайчиком по седеющей бороде, он резко и беспощадно — вдруг всё вспомнил. Стало зябко под тёплым покрывалом с красно-чёрными драконами. Может, он и сейчас — в этой роскошной юрте — просто юнец, забывший испугаться? ВСё, ну просто совершенно всё было в жизни Чингиса — обнимающего хана, Джихангира бескрайних степей и зелёных северных гор — а такого ни разу не было. Сдавливало щенячьей тоской грудь и совсем не хотелось забыть слёзы только что вселившегося в неё малыша.
Но нет больше мамы. И нет больше эцегэ, и нет больше друга Джамухи, умершего в сырой коже на берегу Онона. Нет никого, НИКОГО, перед кем поплакать, чтобы нежно и одобрительно вздохнули старшие и мудрые. К кому упасть в тёплые мягкие колени?
Всегда он был в окружении подвластных людей олицетворением непогрешимости, твёрдости, всесильности — потому как скулящему псу дают пинка и свои и чужие. Он не щадил врагов: снисхождение к врагам — жестокость к своим.
А что же получил: украденное у самого себя право на слабость? Хотелось выть от бессилия, исправить, замедлить ход времени, отнимающего у него право пользоваться силой тех, кого он сделал сильными. Но с кем говорить об этом?
Джелмэ прикроет в бою и скажет дельное слово на совете, но если узнает, что его Хан может быть слаб... Впрочем, сколько дорог с ним... Джелмэ видел его и слабым, но не беспомощным — слабым в борьбе.
Толстуха Бортэ — она в детях и очаге. Когда он стал менять женщин в своей постели — Бортэ не осталась прежней, но дело даже не в этом, просто он для неё Тамэ юности — Темуджин, к которому она бежала счастливая в меркитском лагере первой победы.
Хулан — он передёрнулся — красиво и безжалостно влюблённая Хулан возненавидит крушение идеала.
Субэдэй-багатур любит не Темуджина-ребёнка, а девятихвостый туг воителя Чингис-хана, а ещё того больше — войну.
Великий Хан привычно накинул те скромные покровы, в которых в молодые годы появлялся и в общественных местах. В первый раз за последнее время рука со вздувшимися венами потянулась почему-то к выцветшей мерлушковой шапке, которую он всегда хранил, как реликвию.
Оглянулся — китайская наложница посапывала на дальнем ложе, вытянув из ажурного покрывала округлую ручонку с крашеными ногтями. Тамэ передёрнуло, хорошо, что ввёл обычай спать отдельно.
Задумчиво шагнул за полог. Гвардейцы-кешиктены почтительно вытянулись. Предстал третий, быстроглазый, для услуг.
Джихангир махнул кистью, едва разлепив губы...
— Коня, я еду в степь, к Бурхан-Халдун. Я не должен вас видеть, и никто не должен меня найти. Это понятно?
— Да, Великий Хан.
Он уехал в безопасную, им сделанную безопасной, любимую степь. Вдали просыпался величественный цветной лагерь, цветной, как радуга, как детство... Тамэ остановился на пригорке, в окружении веток харганы. Из неё он когда-то вырезал столь нужные и столь немногочисленные стрелы... Привычным движением перекинул повод через знакомый с детства столбик. Перенёс своё грузное, но ещё крепкое тело через джурдженьское седло и блаженно растянулся в траве, внезапно ставшей розовой. Растянулся, как в детстве напившись молока.
Вот так живёшь и учишься быть воином — учишься не бояться умереть и убить, — но вдруг всё, что ты назавоёвывал в борьбе с самим собой, вдруг всё снимается, как золочёный панцирь Алтан-хана... Никто не защитит тебя — только любовь твоих друзей.
И снова кто-то тронул за плечо.
— Сынок, ты что, сынок, что тебе приснилось... Всё хорошо.
Чингис-хан замер, сердце останавливало барабанную дробь: тук-тук-тук... т-у-у-к.
— Ихе, это ты. — Тамэ всмотрелся.
Это была не мать, то есть не только она. Виделись угрюмые брови Джелмэ, мягкие черты Боорчу — первого и самого верного друга. Елюй Чуцай глядел пытливо, по-китайски деликатно и мудро. Даже властные глаза Хулан помягчели — да, именно такую он её любил, по такой тосковал. Все его милые, храбрые, напористые кешиктены проплывали перед его глазами, и Субэдэй — воитель Субэдэй, все друзья, соратники, те, кто сражался при нём, кто оберегал его все эти годы... в белой пыли чужих степей, в красной пыли чужих городов — все они смотрели на него. А ещё, конечно, первая жена — его Бортэ — она была такой, как тогда, в юности. Той, что бежала к нему, счастливая, освобождённая из меркитского рабства. Но всё это в чертах, в блестках, в сиянии одного невыразимо прекрасного, мудрого, мягкого женского лица — всё-таки матери, но и не только матери.
— Ты кто... — Его голос стал хриплым.
— Не узнаешь? — зазвенели колокольчики, и мягкий ветер взволновал розовую траву. — Я — ЭТУГЕН — твоя земля, твой народ. Я — ЭТУГЕН — мать всех матерей и сыновей твоего Великого Улуса.
— Да-а, — прошептал дрожащими губами Тамэ и вдруг, как в детстве, а может, и не только как в детстве, освобожденно, облегчённо зарыдал: — Этуген, мама... Этуген. Я сломал хребет Бури-Бухэ. Я зашил в шкуру Джамуху... я... я... — Он почувствовал, как в облегчающем рыдании возносится к Вечному Небу и видит, ведомый рукою бога Тенгри, бесконечную вереницу разноцветных шатров, юрт и пастбищ своего народа...
И он рыдал долго, освобожденно, вечно, потому что снова видел нависшую над ними КРАСНО-ЧЁРНУЮ ПСИНУ.
— Спи, малыш, спи. Ты прогонишь всех псов, — звучал голос его всесильного отца, — а может, и не только, — это НЕБО, вечное Небо-ТЕНГРИ.
И склонился над ним всесильный бог Эцеге-Тенгри:
— Спи, Великий Повелитель, в твоей жизни будет ещё очень много псов, и не самые страшные те, которые приходят днём.
И сказала вдруг недовольно мама Этуген-Земля отцу Тенгри:
— Не то говоришь. Ты, воин, собирающий всё живое под свои туги, должен знать: тот, кто плачет от любви, не будет скулить, когда его бьют.
Голубой дым рассеялся, стали чёткими белые метёлки у него над головой. Розовые ветки харганы шелестели. Почему конь так шумно разрезает огромными зубами траву?
С низины приближался всадник. В прислонённом к земле ухе Чингис-хана накатами отыгрывал грозный гром копыт.
Тамэ уже почувствовал какой-то странный ветерок неподходящего к случаю чувства, которое было — как сладкие речи там, где всё понятно без слов... Которое возникало, когда необходимо задёрнуть полог юрты, а уже свернулся калачиком под тёплым одеялом — но нужно вставать.
Всадник упрямо приближался, развеивая розовую дымку, но Тамэ не находил в себе злости — он в детстве не имел права на злость. Это право на радость обретаешь вместе с первым в жизни вздохом, а право на злость — награда за поражения...
Всадник плыл по розовой траве детства, но что-то в нём было совсем из другого мира — тоже важного, но другого. Розовая метёлка дерисуна стала заметно зеленеть. Так скакал когда-то его друг анда Джамуха... Друг... но оставьте, подождите, накаты будущего... Но почему он скачет, почему охрана его пропустила, почему... он думал не гневно, а обиженно капризно... Почему?
Всадник застыл. Вышколенный гонец припал к ногам поднявшегося с травы Джихангира:
— Великий Хан, беда: сартаулы перебили наш караван в Отраре по приказу Гийира — наместника шаха. Последний уцелевший купец ждёт тебя в юрте Боорчу. Торопись — его жизнь на исходе. Все ждут твоего слова, Джихангир.
Тамэ привычным движением жилистой от прожитых лет, но цепкой руки повернул поджарого коня:
— Ждите.
Успокоенный, он снова, со странно увеличившейся страстью, возвращался к любимым заботам...
— Великий Хан, беда...
— Я же сказал, ждите... — Мягкие пальцы сна держали его веки так крепко, будто не вернулся он ещё в своё тело. Сначала хан мучительно нащупал их мысленно, потом стал с досадой разрывать. Кощунственный свет влетел в его розовый мир, вспыхнул внутри... Будто человеческий жир, закинутый его воинами на крышу осаждённого города, сжёг всё, всё...
Темуджин наконец проснулся.
У ложа согнулся Джелмэ, он, видимо, уже в который раз повторял как пророчество:
— Великий Хан, беда. Просыпайся же. Приехал «дальняя стрела» с чёрной вестью....
Хан стал яростно протирать глаза, откашлялся. Всё ещё находясь под впечатлением сновидений, откликнулся. Губы слушались тяжело:
— Да, я знаю, сартаулы перебили караван в Отраре...
Лицо Джелмэ исказила гримаса заботливой жалости. В порыве несвойственной ему нежности приближенный и друг положил руку на плечо своего повелителя:
— Хан, хан, проснись... Мне очень жаль... Мы уже разбили сартаулов... Ты же сам заливал золото в глотку Гийир-хана... Забыл?
— Когда?
— Очень давно, несколько трав назад. Горе, хан... Мы прогневили Небо. Твой сын, твой Джучи убит... Его нашли со сломанным хребтом, мужайся.
Бату. Иртышский улус. 1227 год
В ставке-орду на Иртыше не было слёз. Повозку с телом везли мимо застывшего народа... Так на войне провожают в Страну Духов погибшего товарища. Сегодня — ты, завтра — я. Уныло сгорбился в седле Маркуз, По его рыжей бороде вольготно ползал какой-то жучок. Отпустив поводья, возведя глаза горе и сомкнув ладони, утонул в задумчивости Боэмунд. Неуклюже дёргался, моргая растерянными глазами, всегда ловкий и ухватистый Делай. Соловая кобыла тащила сникшего Бату, как войлочную куклу, какими пугают неприятеля издалека (вот сколько у нас людей). Дрожащий Орду закрыл лицо руками, он бы, может, и плакал бы, но общая придавленность держала слёзы внутри. И только недавно вернувшиеся из «учёной ямы» младшие братья Бату — Берке и Шейбан — несколько неестественно притихли, наблюдая за остальными и боясь привлечь чужое внимание... Они не переживали случившееся глубоко.
На восковом лице Джучи медленно и неотвратимо разглаживался последний прищур, с которым он встретил смерть. Скрипучие колеса с крутящимися на грязных спицах травинками катились мимо осиротевших тургаудов — они вытягивались и слегка выпячивали грудь, как будто покойный хан заставал их дремавшими. Сжимали и разжимали цепкие кулаки нухуры и простые воины, прошедшие с ним и хрустящие ветками рыжие меркитские леса, и рябые, поющие наглыми ветрами скалы вдоль Селенги и Алтая, и тангутские пустыни, где испаряется, зашипев на камне, плевок верблюда, и мокрые, гудящие комариным хором, китайские рисовые волны-травы, и барханы Хорезма, где самум-убийца забивает песком и без того сухое горло, и кыпчакские тоскливые равнины.
За спинами ветеранов, как испуганные косули, замерли их наложницы и жёны, взятые в разных странах как добыча. Строго насупившись, молчали женщины-воины — монголки из Коренного Улуса.
Окаменевший окрестный воздух расколдовала Уке. Всегда строгая, сдержанная, не прощающая чужой слабости, она вдруг бросилась (толпа шарахнулась в сторону) к повозке и схватила мёртвую руку мужа:
— Прости... прости меня!!! Я могла... я должна была! Нет мне пощады...
Она была первой, кто осмелился заплакать... И тишина вдруг взорвалась запоздалым всеобщим стоном, как будто вскрикнула земля.
Темуджин. 1227 год
С тех пор как сломали строптивому Джучи хребет, архи проскакивала в горло Темуджина как вода — весёлость не приходила. Да, его верные поступили не как рабы. Эти люди отдали себя в жертву его спокойствию добровольно, они из тех, кто не стал бы бежать в хашаре.
Бедный сартаульский шах Мухаммед так и не понял, почему, обладая троекратным преимуществом, проиграл ему своё царство. А всё просто.
Что этот сиятельный самодержец сделал бы с теми, кто из любви к нему задавил бы, например, его любезную матушку Туркан-хатун без его прямого приказа? Что сотворил бы с ними, оказавшими ему НАСТОЯЩУЮ, а не придворную услугу? И думать нечего: удавил бы шнурком как ненужных свидетелей. Люди для него — мусор, он ценит их за родовитость, и только.
Для Чингис-хана мусор лишь те, кто действительно мусор.
Удивительное дело. Он жестоко карает своих людей, а храбрецы не переводятся. Мухаммед гладил своих эмиров беличьим хвостом, а последние редкостные герои, подобные Джелаль-эд-Дину, изнывали от ядовитой тесноты расписного сартаульского дворца.
Темуджин никому не говорил, что от Джучи надо избавиться. Разве он может поднять руку на родичей? Официальный приказ о казни сына взбудоражил бы всё государство. Кагана нельзя сместить, но уж смерть от старости при таком всеобщем недовольстве ему всё равно бы устроили. Но дело даже не в этом. Наказывая человека без видимой его вины, собственные установления порушишь. Рухнет поднебесная юрта всех его трудов.
Из-за одного человека? Да. Небольшая дыра в шатре валит его при сильном буране.
А ветер не стихает.
Не мог себе позволить Мухаммед нанять хитромудрых убийц своей матери. А... намекнуть? Кто бы осмелился понять намёк?
Темуджин же знал, что МОЖЕТ себе такое позволить.
Поэтому он упорно и настойчиво повторял: нужно особенно заботиться именно о Джучи, хитромудрые недруги его Великих Свершений направят длинную стрелу-хоорцах именно по этому, такому незащищённому месту в потёртом панцире его благополучия. Берегите, ОСОБЕННО берегите старшего сына... Налагайте доспехи бдительности на вольного скакуна беспечности.
Когда он ворчал (будто невзначай) об этом, его строгий сдержанный язык становился цветастым, как это принято у «белоголовых». В этом — намёк: Джучи должен погибнуть от руки приверженцев Магомета, от сартаулов, от его, Джучи, непосредственных подданных. «Смотрите, он их так защищал, что рассорился с отцом. И чем его отблагодарили?»
Заодно назидательный пример недопустимости милости к врагу.
Про «скакуна беспечности» тоже подсказка неспроста. Джучи любил углубляться в степь один, скакать, оставляя нухуров далеко позади. Он любил резво и весело рисковать своей головой. Грех этим не воспользоваться.
Всё произошло почти так, как и замышлялось. Джучи был найден с переломанной спиной во время одной из охот. Это они сообразили. Правда, насчёт убийц-мусульман — не выгорело (эх, учить ещё, не переучить). Темуджин не стал расправляться с теми, кто «не уберёг» его сына. Он заплатит за услугу добром, ничего им не сделает...
Как часто бывает в таких случаях, милосердие опять обернулось конфузом. Глупые говорили: «Он не расправился с теми, кто не уберёг его сына, потому что сам приказал сломать ему хребет».
Умные возражали: «Наш Каган слишком умён, чтобы накликать столь явные разговоры». Плевать на слухи, они утихнут. Зато он дал понять своим людям, что никогда не отплатит неблагодарностью за верность.
Насколько своевременным было всё же содеянное, он понял позднее. Бортэ, его старшая жена и мать Джучи, которую он когда-то вызволил из плена, которой простил невольный «блуд» с насильниками-меркитами... открыто обвинила Темуджина в убийстве сына. Он оскорбился и обиделся вполне искренне, будто действительно не имел к этому никакого касательства.
Так ведь и не имел. И приказа не отдавал.
Как человека, его даже прошибла слеза («эх, старость») от мысли, что его жена... женщина, заменившая ему мать... приходя в юрту к которой он порой чувствовал себя ребёнком, может думать о нём так плохо.
Однако как правитель он испытал облегчение. Хвала Вечному Небу. Ещё бы с годочек потянул — и убрать строптивого сыночка стало бы невозможно. Тут же разгорелась бы «правильная» молва. Своим «распространителям слухов» строго-настрого приказал: если появятся разговоры, их не опровергать, но усиливать, снабдив всякими небылицами. Чтобы и дурак не поверил в этакую глупость.
Бату. Иртышский улус. 1227 год
На Великом Курилтае согласно Ясе выбирали только Верховного Хана. Джучи же был держателем пожалованного ему улуса, который наследовался по старинке — старшим сыном. Стало быть, власть переходила к Орду. Так-то оно так, но... Сначала Бату пытался вежливо растолковать людям, что он здесь не самый главный, поскольку улус принадлежит Орду, но потом махнул рукой и стал распоряжаться, неожиданно легко вжившись в новую для себя роль.
В могилу вместе с ханом не отправили ни одного раба, чем вызвали тяжёлое недоумение тех подданных из монголов, которые чтили Тенгри. «Не приличествует посылать моего отца в последний путь в окружении боголов, они этого недостойны», — объявил царевич. Поступил он так не столько из жалости, сколько из нежелания дразнить мусульманских улемов и кыпчакских беков — многие из рабов были их единоверцами.
Его попытку избавить несчастных рабов от участи, постигшей табун туркменских белых жеребцов и бухарские ковры, истолковали превратно — как призыв. Тут же явился довольно увесистый сонм из лучших нойонов и воинов: «Ты прав, тайджи. Нухуры избрали нас сопровождать Джучи-хана в его нелёгком пути как самых уважаемых, мы готовы». Посмотрев в их твёрдые, медные лица, Бату растроганно прослезился, но мужественный порыв отклонил: «Вы нужны мне здесь». Изображая недовольство (из-под которого, как лошадиные уши из-под медного налобника, выпирало облегчение), ветераны разошлись по юртам к обрадованным жёнам.
«Да, с таким людьми ничего не страшно», — подумал Бату.
За всей этой нехитрой его изворотливостью одобрительно наблюдали сартаульские джигиты и несториане, не принимающие человеческих жертв. Волхвы Этуген и джурдженьские шаманы недовольно фыркали — к чему напрасно гневить дух убиенного? Ну да ничего, пусть привыкают.
Ещё один человек с особенной самозабвенной страстью рвался туда — то ли вниз к опущенному телу, то ли вверх в Небеса. Это была Уке. Устав с ней бороться и позориться перед наблюдательным народом, Бату перепоручил мать Маркузу. После напористых рывков в руках чародея она сникла в бессилии.
— Ты что? — спросил Маркуз.
— Я не к нему. Я от тебя убежать хотела, — призналась Уке.
Когда (конечно же, пред лицом Темуджиновых соглядатаев) «безлюдную» могилу забросали кубками, диадемами, оружием, онгонами предков, а поверх всего этого — ещё и землёй, Бату взгрустнул об отце. И потому ещё взгрустнул, что за «безлюдье» придётся отвечать перед Великим Каганом, как за оскорбление...
И ещё за кое-что из деяний отца придётся отвечать.
На следующее утро после похорон страдающий похмельем Орду молча бухнулся Бату в ноги и заголосил в трубной истерике, как осенний марал. Потом выскочил из юрты — блевать. Тургауды непочтительно отскочили. Обрушившееся на него бремя ответственности (как на официального наследника Джучи), казалось, лишило старшего брата возможности передвигаться под его тяжестью иначе как на четвереньках.
Сердобольный Бату наконец подсказал:
— Откажись от власти... Отдай это пламя мне. Будешь старший в роде. Я дам тебе табуны и рабов. Никто не обидит — кому ты нужен?
— Дзе... дзе, — радостно встрепенулся Орду. Такое простое решение в его бестолковую голову без подсказки не заглянуло.
— Ступай проспись, горе моё.
Так нежданно-негаданно Бату стал ханом. Правда, пока только в глазах своих людей. Для Темуджина он оставался мятежником.
Через десять дней вернулись разъезды, посланные в степь ловить возможных убийц эцегэ. Как и следовало ожидать — вернулись ни с чем. Все понимали, что это одна из тех тайн, которая навсегда останется неразгаданной. Потому что никто не будет её разгадывать.
Зачем? И так понятно, что до Джучи дотянулись длинные жилистые руки Величайшего из Людей.
Положение было не из приятных. Мухни доносили, что снаряженные для усмирения Джучи тумены — их вели его «любимые» братья Джагатай и Угэдэй — наткнулись сперва на лебедей-хавархов, которых везли посланцы Джучи в подарок Великому Хану (усыпить бдительность). Подарочные лебеди тут же превратились в лебедей умирающих — Величайший приказал подарков от «дорогого сына» не принимать, но его привести живым, «чтоб одумался и раскаялся, ибо кусочек Солнца не всегда скрыт тучами наветов».
Потом, уже на подходе к иртышским нутугам, Темуджиновых карателей достигла весть о смерти главного виновника смуты, которого им было велено привести живым. Угэдэй и Джагатай остановили войска в ожидании новых распоряжений. Вскоре «дальняя стрела» Темуджина передал им указ — повернуть назад, мол, хан скорбит о безвременной гибели сына.
Узнав о том, что кару отложили, Бату собрал своих «ближних нойонов» на совет. Его, по-мусульмански выражаясь, личный маленький «диван» сложился за эти годы сам собой и состоял из тех трёх, кому Бату доверял безоговорочно: Маркуза, Боэмунда и кыпчака Делая. Постоянным «четвёртым» был ещё и онгон погибшего Мутугана.
Возмужавший за последние годы Делай имел особое чутьё — нанести удар в нужное время в нужном месте — и потому был незаменим в степной войне со своими соплеменниками. Сейчас он бурно жестикулировал, удивлялся тому, что тумены Угэдэя и Джагатая бодро шли в ловушку, пока Джучи-хан сидел живым в своём шатре. Но он погиб, и, стало быть, ловушка развалилась. «Так продолжайте поход — тут-то нам и конец. А они развернулись».
— Не много ли чести? Кому мы нужны... без Джучи, — возразил Боэмунд, — главный шест упал, не стоять палатке. К чему воинов задаром тратить? Мы теперь — тело без головы...
— Спасибо, Бамут, за лестные слова. Умеешь ты подольститься к своему хану и поддержать умеешь в трудный миг. И правда — какая из меня голова вашему телу? Сульдэ Мутугана тоже смеётся. Он с тобой согласен, — незло откликнулся Бату.
Маркуз переждал суетливую перепалку молодёжи, за которой скрывалась растерянность, и заговорил не про песок, а про то, что в песке. Джучи сделают обманутой жертвой злопыхателей — вот что главное теперь. Те войска, что шли усмирять мятежников, назовут «посланными в поддержку» для войны с кыпчаками. Всем в Каракоруме ясно — без Джучи никакого бунта не будет. Сартаулы из Гурганджа, которые поддержать бунт обещали, не поддержат — ясно и младенцу. Так зачем народ смешить, топтать те уголья, какие и без того в снегу погаснут.
— А кого объявят злопыхателями? — спросил Бату.
— Ну, всех нас — это само собой, — улыбнулся Маркуз, — меня-то в первую голову. Ещё тех ближних нойонов твоего отца, которых он сам подобрал и кого ты с ним в Небесный Путь не пустил.
— Как же ты промахнулся, хан... — громко прыснул невоспитанный Делай, — с нойонами-то, а? Укрыл бы их с любимым повелителем в могиле, как они просили, — теперь бы не грозила им опасность...
— Эй, Делай, не лижи языком замерзший меч — прилипнешь, не гарцуй на своём везении, того гляди, сбросит. А то и тебе ничего угрожать не будет — ты у меня дождёшься. Я нынче злой, — улыбнулся Бату.
— Эй, хан. Выгодно называть себя злым, не так ли? — никак не мог угомонить Делай свой язык.
— Это ещё почему, — полюбопытствовал Боэмунд.
— Ну как же... Тем самым дозволяешь себе быть злым.
— Тоже верно, — рассмеялся Бату. Неунывающий Делай немного разогнал тревогу, а это сейчас нелишнее — Маркуз, а Маркуз... и как же будут срывать репьи с нарядного халата благоденствия?
— Но, я думаю, не сразу... теперь времени у Темуджина сколько угодно. Я бы на его месте не спешил. Казнил с десятка два самых неуживчивых — как зловредных мухни сартаулов, которые Джучи оплели... Остальных раскидал бы по разным войскам — пусть с кровью вину из себя отольют...
— Как мочу, — хохотнул Делай.
— А уцелевших втихую передавил бы... — продолжил Маркуз и пристально взглянул на Бату, — потом окружил бы Джучиевых наследников проверенными людьми... Разве не знаете: и телёнок врага вскинет на рога, когда подрастёт. Я бы вас оставлять живыми не стал... Одного бы отравил, другого на охоте порадовал случайной стрелой. А улус отдал потомству Джагатая, какому-нибудь Бури.
— Спасибо за ласковые слова, учитель, — встряхнулся Бату, — и что же делать?
— Ехать в пасть, искать влиятельных друзей. Я поеду к Тулую — это наша лазейка. Тулуй мой друг и никогда не предаст. Да и тебя он помнит. А ещё Темуджин его любит до сих пор.
— По прибаутке... как людоед младшую дочку, — хмыкнул Делай.
— Вот именно, — согласился Маркуз.
Они проговорили до утра. Бату выспался, выгнал из юрты друзей, прикорнувших тут же, и собрал осиротевших нойонов отца — его «диван». Но среди этих опытных, пожилых людей согласия не было. Больше друг на друга кидались, чем по делу говорили. По тому, с каким мастерством кидались, он понял: люди-то они умные, да только подпругу разрежь — седло и свалится. При Джучи ближние нойоны были едины, теперь — каждый сам по себе.
«Ну уж нет. Надо своих людей в прочную бечёвку сплетать, пока не поздно, чужие не в помощь. И всё-таки эцегэ не понять. Знал, что его жизнь для подопечных дорога, а таскался по степи без охраны», — недоумевал Бату. Как бы там ни было, но с Темуджином нужно мириться, и чем скорее, тем лучше. А в этом деле может помочь только Тулуй — это учитель правильно придумал. Только не надо его самого в Коренной улус отпускать — слишком рискованно. Ведь Маркуз в бегах, да и здесь без него как без рук. Тогда кого? Похоже, надо ехать самому... Тем более что по закону улус принадлежит Орду. — Бату, как водой окатило. — Да, так тому и быть. Ханом на время отъезда посадим телёнка Орду, как кыпчакскую каменную бабу... пусть сидит. А делами в улусе будет править Маркуз. Делая ему к поясу приторочим, для шустрости, с ним окрестные кыпчаки смирные.
Да, проскакали годы мимо. Многое изменилось с тех пор, как несколько трав назад Бату приехал сюда из «учёной ямы». Мимолётно сражались, тянули сладкий шербет переговоров то с одними врагами, то с другими, ссорили молодёжь со стариками — капля воды и череп пробьёт. Не заметили в повседневной суете, как отодвинулись от щербатой пропасти, и не так страшна стала жизнь. Есть куда спрятаться при вовсе кислых делах. Горные ущелья для них теперь, как норы для змей, — спасут.
Чтобы Маркуз не приуныл от свалившейся на него напасти, Бату решил сделать ему подарок, но когда пришла пора объявить об этом, оробел... А вдруг ошибся и не понял тайных терзаний наставника? Но кто они с Маркузом друг для друга? Воспитатель и ученик, многоопытный ветеран и юноша... Да, это так, но с некоторых пор всё изменилось, встало с ног на голову. Теперь, после смерти Джучи, они, кроме того, — повелитель и подданный, хан и аталик-советник. Именно так, снизу вверх, правильно ли это? «Надо привыкать...»
— Я теперь старший в роде из мужчин, Маркуз... гм... после Орду, который... Так уж вышло, что в делах семьи последнее слово за мной. Знаешь ли это, учитель?
Если бы во взгляде Маркуза мелькнула снисходительность, Бату бы не решился... но тот внимательно слушал. «Понимает», — обрадовался.
— Моя мать овдовела. Одинокая женщина, как дерево без корней, сохнет до времени. Хорошо ли это, Маркуз?
Маркуз вдруг растерялся, его властные глаза часто заморгали — это было удивительное зрелище...
— Что молчишь, учитель? Подскажи, как делу пособить... — улыбнулся новоиспечённый хан. — Не знаешь, Великий Чародей, а я кое-какие соображения имею.
По тому, как Маркуз (наверное, впервые в жизни) не знал, куда деть узловатые руки, Бату понял, что не ошибся.
— Чего уж там, я не слепой. Ещё с детства помню. Вы так старательно не смотрели друг на друга...
Вот это да! Всесильный Маркуз сидел перед ним, как евражка перед степным удавчиком, не решался рта раскрыть.
— ...что не видели, как на полянах, где ваши кони след в след ступали, расцветают зимой тюльпаны.
— Чёрные тюльпаны, — еле слышно отозвался Маркуз.
— Встань, Маркуз,— Бату поднялся навстречу с медлительной грацией, которой в последнее время с удовольствием следовал, — ты мой второй отец, а если тот отец, кто воспитал, то тогда и первый. Как управляющий делами своего обоха, как повелитель, даю тебе тяжёлую обузу до конца дней твоих — даю тебе свою мать в жёны, такова моя воля: мне нужен счастливый аталик и счастливая мать — грядёт тяжёлое время.
Маркуз всё никак не мог встряхнуться... надо припугнуть... чья наука? Его и наука.
— Или хочешь, чтобы Уке отдали моему дяде Угэдэю? По обычаю положено так. После смерти старшего брата жены переходят к младшему.
— О нет! — наконец пришёл в себя чародей, выплеснув весь ужас в коротком выкрике. — Но, хан... то, что ты задумал, невозможно. Она из знатного рода, ханша, солнце над горами, а я? Не богол, не харачу, по полю пылинкой лечу.
— Какая ты пылинка, не скромничай. Тучи тобой пугать — разбегутся.
Маркуз усмехнулся, мягко поправил:
— Это для тебя, это здесь. А для Великого Хана я преступник, убежавший от справедливого гнева.
— Справедливого? За то, что спас его зад из джурдженьской ямы? За то, что ханство нодарил, как шапку на лысину? Да, весело. Хорошо напомнил, — озорно сощурился Бату. — Вот его, Темуджина, величественным примером и воспользуемся. Смотри, как все ветви срастаются? Кому он свою овдовевшую мать, первую женщину Коренного улуса в жёны отдал?
— Ну и кому? — Этого Маркуз не знал.
— Простолюдину Мунлику, отцу того шамана, Теб-Тенгри, от сетей которого ты Уке спас, когда я ещё в колыбельке голосил. Мунлик — харачу, хоть и всесильного шамана отец, да-да. Ты тоже чародей. Это ли знак Неба? Да и мать моя даром что женщина, умом за трудное дело цепляется, как бурундук за сосну. Вместе и правьте тут, пока я с Темуджином мириться буду в Коренном улусе. А если не сносить мне головы и придут сюда дедовы стервятники, убежите с матерью в горы — Делай своё дело знает. Не мне учить... — И добавил, сглотнув колючий комок: — Названый эцегэ.
Чтобы развеять оцепенение тризны, Бату сладил две разухабистые свадьбы. Первая соединила после двадцатилетних терзаний Маркуза и Уке. Второй парой были Делай и не по возрасту пышная дочь кыпчакского хана Инассу — та самая, из шутливой богатырской сказки, которую Джучи рассказывал когда-то пленённому Делаю, угадав его мечты. Улигер причудливо обернулся былью, а тело сказителя лежит на засыпанных землёй роскошных коврах.
С собой в Коренной улус из ближних нойонов Бату взял только Боэмунда.
— Готов со мной погибнуть, Бамут?
Тот тряхнул своей шевелюрой. Она была рыжее, чем у всех ханов-чингисидов, которым эта рыжина досталась от Луча, снизошедшего на их прародительницу Алан-Гоа. Только вот в Бату крови Рыжих Борджигинов не было и капли.
Боэмунд приосанился, разгладились ручейки морщин на лбу, и хан подумал: таким он своего друга никогда не видел.
— Конечно готов, Бату, — использовал тот привилегию называть хана по имени. — С кем же мне ещё этим заняться? Ума не приложу.
— Чем заняться?
— Гибелью. — Он шутил сегодня, как Делай, грубовато.
Да, таким, как сейчас, Боэмунд, наверное, был в юности. До всего, что с ним случилось потом.
Через каменные зубы алтайских проходов им предстояло добраться до зубов того дракона, который питался не мясом, а человечьими душами. Когда-то в его роскошной шкуре был джурдженьский Алтан-хан, теперь там поселился престарелый, обиженный на весь мир Темуджин...
Превратиться в дракона — это как? Обрести его силу или отдать ему свой разум. В этом им, двоим, и предстояло разобраться.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПОБЕДОНОСНОЕ ИЗГНАНИЕ
Юлюй Чуцай. До 1237 года
Чудные дела творятся в Срединной Равнине. Китайцы самые умные, самые культурные, философские трактаты у них — залюбуешься, военные сочинения (взять того же Сунь-Цзы) — не оторвёшься.
Только вечно правят ими варвары с севера.
Монгольский корень здесь не впервые пророс... Смотрит Юлюй Чуцай на угловатых дикарей свысока, а над собой нет-нет да и посмеётся. Сам-то он кто? Может, его предки тысячи лет назад этот памятник глупости — Великую Стену возводили? Да нет, к сему грандиозному действу они непричастны, потому что Елюй Чуцай — член киданьского царского дома, покорившегося Золотому Дракону. А кидани — считай, те же монголы, и по языку с ними схожи, и по обычаям, в прошлом — скотоводы и охотники. Также столетие назад с севера нагрянули саранчой и покорили Срединную Империю.
Тогдашние китайцы любили бороться за мир. А мир бывает только под чужим ярмом.
С тех пор окитаились кидани, окультурились, власть свою другим северным варварам — джурдженям проиграли. А коренные китайцы только под ногами бегали и стенали.
Так что нечего строить из себя изнеженных невинных жертв — прошлое знать не мешает. Темуджиновы воины по крайней мере по высочайшим повелениям сады не вырубали, поля не вытаптывали, жителей хоть и грабили, хоть и секли под горячую руку, но не пропалывали всё живое методично, как грядку, — не давал Темуджин таких приказов. Его, Юлюя Чуцая, мудрейшие предки всё это здесь делали, уничтожали мирных жителей, женщин и детей расстреливали из луков и пращей, забивали насмерть срубленными тут же жердями, но считали это не преступлением, а чуть ли не сельскими работами. И не по дикости своей — вовсе нет. Из тех же книг, из сокровищниц мудрости вековой (наподобие того же Сунь-Цзы) научились всему этому варвары-соплеменники.
Теперь монголы Темуджина тоже культурнее стали. Сыновья хана Джагатай, Угэдэй и Тулуй страсть к зверствам подрастеряли. Яса не из ковыльных мест произросла, подсказали её строка за строкой уйгурские грамотеи.
Раньше у северных варваров как было? Нухуры — боевые товарищи хана, теперь же — безропотные подданные — из одного котла с ним не поесть.
Поучение древнего китайского полководца Вэй Ляодзы гласит: «Когда солдаты боятся своего полководца больше, чем противника, они побеждают». Зачитали это Хранителю Ясы Джагатаю, по нутру пришлась эта проверенная веками мудрость, как дворовой собаке лакомство с хозяйского стола. Переняли старательные варвары и другие жемчужины — например, казнь всего десятка, если с поля боя бежит один.
Удобно расположив под лакированным столиком тонкие ноги, Юлюй Чуцай, тихо сам с собой посмеиваясь, провёл гребнем по аккуратно уложенной узкой длинной бороде. Его изнеженная рука держала гребень с женским изяществом. Не привыкшая к нагрузкам спина, согнутая как стебель под порывом ветра, делала его похожим на гибкое растение.
Этот человек, кажется, действительно был растением... гибким и неистребимым, как хищная омела. Его «побеги» проникали всюду и спокойно отрастали вновь и вновь, если чья-то решительная рука опускала на них карающую мотыгу. Там, где были бессильны топоры и пилы, спокойно делал своё дело неброский беззащитный побег.
Этот загадочный человек совмещал в себе сразу несколько несообразностей: самый влиятельным чиновник во вселенной — а не император и не бог, всесильный канцлер (джуншулин) империи монголов — а не монгол, начальник императорского совета по делам Китая, проповедник Кун-цзы[92] по убеждениям — а не китаец, бывший чиновник Дома Цзыней — а не джурджень.
Юлюй Чуцай сегодня был не в духе. Его многочисленные шпионы очередной раз собрали неутешительные сведения. Мнение родного народа о нём, как показали наблюдения, ничуть не изменилось — когда-то в самый разгар борьбы он перекинулся на сторону безжалостного противника, и его по-прежнему презирали как предателя и негодяя. Он изменил Дому Цзыней, и этим всё сказано. Что может быть отвратительнее?
Покусывая губу, медленно перебирая матовые чётки холёными пальцами, он думал сейчас о том, что сам виноват. Сам дал им повод клеймить его и проклинать.
Впрочем, если быть честным до конца, он дал им не повод, а возможность называть его теми словами, за употребление которых бьют детей по губам. Ведь, если ты мёртв, ругаться, согласитесь, несколько затруднительно, а он сохранил им жизнь. Он сохранил жизнь десяткам тысяч своих соплеменников, да и не только соплеменников. Воистину предательство всегда спасает больше жизней, чем забирает, как плату за самое себя.
Однако с присущей настоящему конфуцианцу скромностью он должен был признать: причиной их чудесного спасения явился всё-таки не он, как таковой, и даже не столь ценная для Юлюя Чуцая скромность (ибо качества добродетельные часто бывают причиной множества смертей — особенно в этом преуспели «воинская доблесть» и «свободолюбие», — но никогда причиной чьего либо спасения).
На сей раз его соплеменников спасла ЖАДНОСТЬ.
Дело в том, что после покорения Срединной Равнины возник вопрос: что делать с китайцами? Полководцы Темуджина предлагали их истребить, а земли превратить в пастбища. Юлюй Чуцай возразил: надо оставить население в покое и собирать с него налоги — так выгоднее.
Дальновидные из окружения хана понимали: такое решение — это начало конца — «пощадим китайцев, растворимся в них, как песчинка в бархане».
В тот раз близлежащая нажива соблазнила Кагана. Пастбищ для овец не прибавилось, а уцелевшие люди остались жить. Но доходы с китайских покорённых земель — плата за разрешение дышать — это полдела.
Оставалась вторая, более важная половина — доказать простодушному монгольскому тигру (усмирённому, заговорённому в миг перед смертельным прыжком на своего укротителя), что оставшиеся в живых враги не воткнут кол в доверчиво подставленное брюхо. С этим обстояло хуже. Все хотели вернуть «свободу»— то есть старых угнетателей, к которым уже привыкли.
Юлюй Чуцай при всём своём трепетном отношении к людям вообще, конечно же, предпочитал пожертвовать дикарями, чтобы спасти людей культурных. А культура, как известно, распространяется по варварскому северу из единственного неиссякаемого источника: из стран, принявших конфуцианскую мудрость в ущерб варварским идолам.
Таким как Магомет, Христос, Тенгри и Будда.
— Сын идёт на меня войной, белоголовые сбили его с прямого пути, — брюзжал всемогущий старик, — и всё потому, что я не вырезал сартаулов подчистую. Моя привычка бросать врагов живыми, моя беспечная доброта погубит землю. Что скажешь, мудрейший?
Конечно, это был намёк. «Смотри, я поступил точно так же с китайцами. И поэтому они скоро забудут, кому они обязаны жизнью».
Это был как раз тот случай, когда бесполезно было доказывать Величайшему, что жизнью они обязаны не ему, а животам своих матерей, но так ответить, конечно, было нельзя, и он вывернулся иначе.
Лучший способ — не перечить, а продолжить «достойную мысль». А уж завернуть её можно не совсем туда. Тут главное, чтобы Темуджин считал, что это он сам именно в эту сторону завернул. Если бы Великий Хан не был так умён, всё было бы гораздо проще. Однако часто спасало как раз то, что Темуджин, будучи человеком разумным, питал слабость и к чужому хитроумию.
Неблагосклонностью к несостоявшимся пастбищам Чингис настроил против себя и уйгурские христианские общины. Не для того они давали деньги на разорение Китая, чтобы китайские пронырливые грамотеи охмуряли вскормленного Ими, уйгурами, зверя.
Набрав силу, Чингис слегка подзабыл, КОМУ именно обязан он своим величием, и соизволил вести себя так, как ему самому охота. От такой откровенной наглости христиане слегка опешили и повели себя немудро — стали Темуджина укорять и упрекать. А между тем даже житейская (не государственная) мудрость гласит: укоры и обиды — худшая политика для фаворитки, которую отверг возлюбленный.
С несторианами всё ясно: были угловатыми задирами, такими и останутся. Но имелся человек и правитель, очень смущавший киданьского выдвиженца — управитель Хорезма и кыпчакских степей ильхан Джучи, тот самый сын, на которого жаловался Величайший.
Как ни переплетал канцлер свои осторожные побеги — всё равно выходило, что Джучи ему сильно мешает. Усмешка превратности: он мешает куда больше, чем его главный враг — несториане. Джучи желает, по сути, того же, что и Юлюй Чуцай — облегчить жизнь побеждённым, а проще — мира, но горе империи, если её начинают «спасать», не договорившись друг с другом. Даже утопающий, которого тянут в разные стороны, будет не спасён, а разорван. Да, все хотят мира, но по-своему. Христиане и мусульмане тоже хотят, но обречены на войну. Потому что не могут перестать распространять свои учения — иначе будут наказаны на Том Свете своими богами. И ладно бы верили они, что боги у них разные — можно было бы хоть как-то договориться — но, увы, варварство торжествует. Они убеждены, что бог в мире — ЕДИН (и, естественно, это именно тот бог, которому молятся они сами). А при ТАКОЙ вере ни о каком мире не может быть и речи, только о перемирии, связанном с собственной слабостью.
Смерть Джучи — прочь сомнение, что в этом ему помогли, — надолго лишила Юлюя Чуцая покоя. Он к тому времени уже и сам подумывал — не организовать ли покушение на непутёвого «соратника по добру», но когда его убили другие, когда всесильный фаворит с полным правом мог сказать себе, что к этому непричастен, он получил право на сожаление — само по себе немало. Зерно же его, Чуцая, грандиозного замысла состояло в приручении выпестованного христианами тигра Чингиса, которого потом следовало натравить на них же самих. И поможет в этом — благословенная жадность.
Жадность — это то, что превращает кровавых героев в безопасных, беспринципных шкурников.
Пусть один раз удалось вылететь из ямы на крыльях жадности, но Юлюй Чуцай не обольщался и считал свои успехи временными. Киданьский перебежчик со спокойствием истинного мудреца ожидал своего неизбежного падения, он был к нему готов. И поделом. Ведь предал свой народ, а от кривого дерева прямой тени не бывает. Великий Потрясатель рано или поздно должен был очнуться от наваждения. Склонное к мрачным шуткам время показало, что Юлюй Чуцай оказался прав лишь отчасти.
Непобедимый Покровитель действительно очнулся от своих наваждений — взял да умер... И все растерялись.
А случилось вот что.
С Темуджином что-то неладное творилось в последние годы его жизни, конечно, если считать «ладным» то, что творилось в предпоследние.
Всё чаще он стал говорить, что может умереть, так и не закончив своих дел по уничтожению плохих людей во благо хороших, и тем обречёт осиротевший мир на ужасную судьбу. Да, узреть своими глазами родную землю, очищенную от скверны — это совсем не то, что завещать дело наследникам. Они уже при жизни его поднебесную юрту расшатывают. Как тот же Джучи...
Однажды, после усиленной молитвы, он вдруг возомнил себя бессмертным, чуть ли не божьим сыном. Прорицатели всех мастей, перепуганные бесконечными казнями, сообщали ему на этот счёт только обнадёживающие пророчества. Когда-то Величайший наказывал за криводушие, за лесть, но теперь никаких возражений и слышать не хотел — помудрел с годами. Всё это было ещё полбеды, но тут явился из-за синих гор даосский старец Чань-чунь...
Честно говоря, об этом Юлюю Чуцаю было больно вспоминать, потому что в появлении выжившего из ума «мудреца» была его вина. Хотел как лучше, а получилось...
Дело в том, что Чингис, верящий в своё бессмертие, ходил в хорошем настроении, таким его и удалось подловить, когда возник вопрос про пастбища, и победа досталась не овцам, а людям. Однако присущая хану подозрительность (тяжёлое наследие юности) и упрямый здравый смысл терзали его сомнениями: а вдруг он всё-таки умрёт, как все. Пусть не сейчас, а лет через сто — ужас какой. Борода-то вся седая, и глаза слезятся.
Тогда и появилась эта идея — притащить сюда знаменитого старца-даоса Чань-чуня, о котором шла молва, что он знает тайну бессмертия. Думали, тот хана обнадёжит, всё, что от него требуют, пообещает. Люди Юлюя Чуцая, сопровождавшие Постигшего Суть, уж как только ему ни намекали — что именно должен сказать Мудрейший, чтобы хан вознёс его общину до небес. Замысел строился на том, что у Носителя Высшей Мудрости осталось хоть немного мозгов, чтобы понять: пока Великий Хан жив, ему можно сулить бессмертие, а помрёт — так о том, что смертен, уже и не узнает.
Однако Чань-чунь оказался честен и глуп, как тот мерин, которому нет дела, кого он везёт, — хозяина или вора. На трепещущий вопрос Величайшего уронил мудрец ему на сердце неподъёмную правду: «Средства против бессмертия НЕТ». Уронил и ускакал, довольный, в свои дикие горы. И невдомёк дураку, что сия тяжёлая правда (в которой не сомневается ни один человек в здравом уме) стала «средством против бессмертия» для очень многих.
Темуджин с тех самых пор как взбесился — казнил всех подряд направо и налево. Сам Юлюй Чуцай едва уворачивался от его гнева. Казалось, Потрясатель решил отомстить даже траве за то, что та будет глазеть на солнце, когда хан уже покинет этот мир.
Да, в последнее время Темуджин был явно нездоров и ринулся на войну с тангутами с какой-то совсем новой, болезненной страстью. Раньше ему нравилось прежде всего побеждать, теперь же главное было в том, что он убивал, давил. Подобно тому, как пропойца заливает тоску вином, Темуджин, казалось, заливал её свежей кровью. Даже ближайшие приближенные — Субэдэй и Джелмэ, которых с восторгом называли «псами-людоедами» (пример для подражания юношам) — всё чаще озабоченно переглядывались.
В землях тангутов монголы вели себе уже совсем не по-варварски, а как культурные люди. Убивали не хаотично, не в горячке боя, а планомерно и трудолюбиво, как когда-то это делали предки Юлюя Чуцая кидани. Нет, даже не так, а подобно тому, как поступают в завоёванных землях образованные китайцы. В этом (последнем для Темуджина) роскошном пиршестве грифов монголы были способными учениками.
Как-то раз Тулуй, любимый сын Темуджина, поймал проблеск хорошего настроения хана, редкостный теперь, как алмаз среди пустой породы. Он сделал попытку отговорить Величайшего сурово наказывать сыновей недавно погибшего Джучи за строптивость отца:
— Отец, они верны тебе до могилы и просят прощения за ошибки своего эцегэ. Один из них — Бату — очень способный воин и прибыл положить у твоих ног всю свою жизнь без остатка. Не лишай их своей милости, прости. Они доблестно стерегут твои северные границы.
Из всего сказанного Темуджин услышал отчётливо только слово «могила».
— «Могила!!» — исказилось его лицо. — Вы все хотите моей могилы!!! Нет, нет... Вон отсюда! — заверещал он на испуганно отпрянувшего Тулуя. — Хотел повременить, но нет... Повелеваю: всех казнить, всех джучидов! Вырвать больной корень... Всех этих меркитских выродков — в пыль!!! В пыль! Послать туда Джэбэ наместником с киданьскими тысячами. Приказ отвезёшь сам. Во-он!!!
Тулуй побледнел, впервые увидев отца таким, сделал глубокий вдох и взял себя в руки. Но что-то непоправимо дрогнуло в нём — в том, кого Темуджин называл своим зеркалом:
— Если так, отец, казни и меня. Я не хочу служить мангусу, пожирающему свою семью. Это не ты, а кто-то другой говорит сквозь тебя.
Сцена сия разыгрывалась в походном шатре у стен тангутской столицы Джунсин, которая отбивалась с отчаянием обречённой, что придавало всему происходящему должный накал.
Темуджин не унимался, его голодная ненависть унюхала поживу. Упёршись в подлокотники походного трона трясущимися руками, Величайший вдруг вскочил, глаза его сладострастно закатились.
— Правильно, сынок, правильно просишь. Боги зовут меня. Нельзя отказывать воину в главном, мне будет грустно без тебя там. Эй, тургауды, сломайте ему хребет... ну...
Ужаснувшаяся стража не шелохнулась. Всё-таки это касалось не кого-нибудь, а самого Тулуя. А повелитель — в себе ли? Ответ не замедлил: Величайший вдруг зашамкал слюнявым ртом и рухнул на ковёр.
Как бы там ни было, но слово бога живого для подчинённых — закон. Растерянность тургаудов могла вылиться во что угодно. Как бы то ни было, но приказ прозвучал.
Однако и Тулуй не дремал, резко обернувшись, он выпрямился — стройный, раскрасневшийся, властный:
— В отца вселились злые духи. Все видят? Нет? — Это он сказал почти шёпотом, но внятно. Потом резко, с шёпота в карьер, заорал командным голосом, как перед войсками: — Не слышу!!!
Тургауды судорожно закивали. Тогда, снова сменив интонацию и теперь уже просто внушая, Тулуй заговорил внятно, по-отечески:
— Мой отец — величайший из людей, но если туча скорби укроет нас своим крылом, кто его заменит? Подумайте о том, верные нухуры, — и, раздвигая их нерешительные копья, быстро вышел из шатра.
И тургауды за ним... не ринулись. Рискуя своими головами, остались на месте. Он вышел и похолодел... Темуджин, схватив кого-то в свои челюсти, уже не отпустит... и сына любимого не пожалеет, как библейский Ибрагим (всякого такого Тулуй наслушался от христианки-жены). Темуджин теперь такой. Любящим сыновьим сердцем, познавшим сиротство, Тулуй по-прежнему чувствовал отца.
Не стоит и говорить, что подробности задушевной беседы родных людей, не замедлив, долетели до Юлюя Чуцая. Новости он узнавал одним из первых в Великом Улусе. Отдав должное Тулуевой выдержке, всесильный фаворит вспомнил про некоего чародея Маркуза (в сведениях о нём чудеса переплетались с туманной явью), единственного из неких пришедших, которые уцелели после давней травли. Вспомнил и про то, что Тулуя и Маркуза связывала таинственная дружба. «Его наука, чародея», — подумал Юлюй Чуцай. Поведение Тулуя ему понравилось. И что теперь? Выжидать, когда Темуджин «очнётся»? От этого зависело все: и судьбы молодых джучидов, и Тулуя, и — кто знает — может быть, и самого Чуцая.
А если... тут изнеженное тело первого советника ответило на новую мысль обильным потоотделением под невесомым халатом...
Если Величайший не очнётся, будет тоже не сладко. Весть о смерти Повелителя грозила такой залихватской смутой, перед которой все художества прежних лет могли померкнуть, как свет бумажного фонарика на фоне пожара. Спуститься с вершин военной доблести к скучной мирной жизни в завоёванных странах нужно было так, чтобы при спуске не сломать себе шею. А для этого хорошие отношения именно с Тулуем были тут как нельзя кстати. Нужно было срочно заручиться его благодарностью хотя бы за то, что спас его от внезапной казни. Да, именно так, а для этого предстояло рискнуть, ещё как рискнуть.
Чуцай вызвал придавленного случившимся ханского сына к себе, осторожно посетовал на нездоровье Величайшего и дал понять, что заступится и за Тулуя, и за тех джучидов, которых Тулуй пытался спасти.
Беседа была длинной и нервной, но разошлись они, по крайней мере внешне, союзниками.
Да, Тулуй был как раз тем самым человеком, который бы удержал коней, раздирающих колесницу новой империи, лишившейся своего бога. Ибо имел редкостный дар ладить со всеми, оставаясь самим собой.
Давши слово — крепись. Все тургауды, которые слышали ненужное, поплатились за собственную жалость и нерешительность как раз тем, от чего они уберегли Тулуя. Юношей было жаль — себя и дела ещё больше. Чтобы совершить даже это, пришлось сильно постараться — он был при Темуджине пусть и влиятельным, но всего лишь фаворитом и права казнить или миловать не имел. Его причудливая звезда взлетела позднее. Но если бы безумная воля хана дошла до Хранителя Ясы Джагатая, то и Тулуй, и Бату (да и сам Чуцай за сокрытие) тут же поплатились бы головой.
Если бы Юлюй был склонен верить в благосклонность Неба, то подумал бы сейчас, через много лет, что тогда оно его хранило. Но будущий канцлер никогда не полагался на Небо, поэтому сейчас ничего такого не подумал. Тому была веская причина: его тогдашние беседы с лекарями, намёки, призрачные полуугрозы, посулы. До самого последнего мига он ещё сомневался, что поняли правильно... Он и сейчас сомневается.
Так или иначе, но с той последней истерики ничего осмысленного от Темуджина никто не услышал... до самой его кончины. А её скрывали, пока зловоние не пересилило ароматы всех притираний.
На фоне всего этого у раскрытых ворот злополучного Джунсина азартно резали беззащитных тангутов, вышедших из города с дарами — сдаваться. Претворялись в жизнь — точнее в смерть — уже даже не приказы Кагана, а бредовые выкрики агонизирующего страдальца: «Всех истребить, всех».
Бесспорно, тангутская резня была своеобразной тризной по усопшему вождю, но острая нехватка скота в монгольских степях (почти все поели в сартаульском проходе — и своё, и захваченное) лишило грандиозное пиршество должного первородства. Людей отправляли вослед Кагану, но баранов, лошадей и верблюдов оставляли в живых, пока. Если бы не эта тангутская добыча, вся грандиозная башня монгольского могущества рухнула бы в песок, подрытая поборами... Ах, если бы тангуты продержались ещё немного, ещё немного.
Темуджину не повезло. Его наследникам повезло несказанно.
Так или иначе, но возникший на теле вселенной, как свищ на незажившем брюхе (о поганый язык, как заря на незажившем небе), благородный покровитель Чуцая отправился пугать предков.
Юлюй как будто с натянутой верёвки на землю спрыгнул. Однако как ни тяжело нести бревно, но опускать его нужно осторожно — не споткнувшись. После смерти Величайшего все как будто споткнулись под тяжестью этого величественного трупа... Кроме того, и о себе подумать не мешало — если бы неожиданная смерть Северного Варвара означала освобождение от его давящей власти — ничего хорошего хитромудрому фавориту это тоже не сулило. Скажем, вернули бы власть недобитые джурджени, и что? Первым бы к деревянному ослу приколотили за всё хорошее.
По монгольским законам Тулую как младшему сыну предназначался Коренной улус — то есть земли на реках Керулен и Онон, откуда вся поздняя благодать расползалась. Протолкнуть его во временные правители для Чуцая особого труда не составило, влияние своё (не без помощи Тулуя) тоже удалось удержать — благодарность входила в число недостатков нового Еке-нойона[93].
До Великого Курилтая, который огласит преемника, рыдать и сетовать предстояло два года. Срок, вполне достаточный, чтобы Темуджин из «бога еле живого» (каким его видели в последние дни жизни) превратился в бога вечно живого, точнее — божьего сына. С тех пор всех независимых государей окрест монголы заставляли поклоняться «Богу и Сыну Его Чингису».
Двухлетнее выдавливание из себя «слёз державной скорби» — удовольствие дорогое, особенно при наличии врагов, которые не сразу поняли, что их «державная радость» преждевременна. Но Тулуй оказался молодцом. С большой выдержкой он лавировал меж «единственными правдами», зубы которых были ещё слишком нежными, чтобы вцепиться друг в друга.
Монгольские ветераны, занимавшие в армии ключевые должности, видели в Тулуе друга и воспитанника Субэдэй-багатура, стоявшего у истоков державы, а покорённые этими седыми волками кераиты и найманы — любимого мужа главной христианки Суркактени-беги. Те же, кто считал, что монгол — это не кровь, а дух, кто мечтал под тугами «вечноживого Чингиса» пройти «до последнего моря» (такие собирались вокруг Джагатая), ещё не забыли, как Величайший называл Тулуя своим «зеркалом», своим «первым нухуром». Конечно же, союзниками Тулуя были и те киданьские грамотей, которые держались за Юлюя Чуцая — тут уж сам удержавшийся на острие горы фаворит постарался.
Может быть, правда состояла в том, что у каждой из этих сил было своё ненавистное пугало, гораздо более шумное и противное, чем обаятельный Тулуй.
Так бывший джурдженьский батрак, сын удавленной дочери надсмотрщика за рабами, стал главным человеком в империи, но власть не принесла ему радости. Он был слишком человеком, чтобы стать чьим-то безропотным знаменем, и в то же время — слишком человеком, чтобы поднять своё знамя — глухое, как любая тряпка, к чужому ропоту.
Тулуй годился для того, чтобы воевать (враг там — в чужих одеждах), чтобы мирить людей (раздоры губят сплочённое войско), но интриг он не выносил — считал это занятие женским, недостойным воина. По сути своей он всегда оставался любимым учеником Субэдэй-багатура.
Когда здоровый, азартный, крепкий телом Темуджин ещё перед сартаульской войной провозглашал своим наследником Угэдэя — существо добродушное и рыхлое, — он, конечно же, не о далёком будущем думал, какие там наследники, когда у самого сил на десятерых! Причина была как раз в том, что интриги — дело женское. Хлопотала за своих отпрысков назойливая Бортэ, не давала проходу напористая красавица Хулан — все зудели, требовали подумать о будущем. Да и матереющие сыновья по простоте душевной не знали, что он бессмертен — хотели определённости.
Угэдэй устраивал всех хотя бы по той причине, что никто его не боялся. Каждая из сторон в те годы удовлетворилась тем, что не получили своего соперники, — песня старая, как мир.
Если бы Темуджин в последние травы жизни больше думал о бессмертии своего дела, а не о бессмертии своего тела, он бы обратил пристальное внимание на единственного, по всем статям достойного преемника — Джагатая.
Яса — радужный свод законов, по которым казнь не следовала разве что за «не бесконечно свежее дыхание». Сказать, что Хранитель Ясы Джагатай любил её больше своих жён и детей и, уж конечно, больше себя самого, что он готов был казнить весь мир за искажение одной её строчки — это вовсе ничего не сказать.
Яса была его звездой, солнцем, нежным подснежником после тусклой зимы, студёным глотком в нудной пустыне, ласковым другом и собеседником среди «неправильных» людей.
Тяжёлыми одинокими ночами он чахнул над ней, как хомяк над запасами зерна, смаковал каждую строчку: за скупку краденого — смерть, за отказ путнику в воде и пище — смерть, за то, что ешь не делясь — смерть, за то, что не подобрал потерянный лук товарища — смерть, за троекратное невозвращение долга — смерть, за то, что на порог наступил — смерть, за... за... за... за... смерть, как это справедливо, какие прекрасные люди вырастут при таких законах. Слёзы умиления капали на уйгурскую вязь, освещённую светильником. Днём его глаза высыхали, как стекло на солнце, он превращался в того Джагатая, о котором сам Темуджин — нагромоздивший за жизнь пирамиды костей — озабоченно подумывал: не слишком ли свиреп его сын?
Не обременённый излишней совестливостью Юлюй Чуцай не уставал наговаривать на Джагатая всякую нелепицу, только бы они с Темуджином не спелись. Эту игру он выиграл не совсем честно, но своего добился: после смерти Темуджина все его заветы превращались в божественные откровения... в том числе и его пожелание — сделать наследником Угэдэя — теперь не подлежало пересмотру.
Чуцай прекрасно понимал: Великий Курилтай, на котором изберут Угэдэя Верховным Ханом, будет лишь чистейшей воды ритуалом. Кто осмелится спорить с заветами Потрясателя? Поэтому пока бесценный гроб, охваченный золотыми обручами, три месяца носили из одной орды в другую, пока со слезами скорби вырезали до последней кошки все попадавшиеся на пути караваны, киданьский интриган даром времени не терял, а обхаживал добродушного Угэдэя.
И вот, наконец, Великий Курилтай состоялся, и случилось то, что должно было случиться — избрали Угэдэя (куда бы они делись). Радетели всех «единственных правд» спохватились, да поздно. Великий Хан уже стал податливой глиной в руках хитроумного иноземца из тех, из презираемых, из осёдлых... стал игрушкой Чуцая.
Такого ошеломительного успеха тот всё-таки не ожидал. Новый Великий Хан откровенно побаивался Джагатая. Кровожадность была не свойственна Угэдэю совершенно, поэтому во всех спорах он испуганно принимал сторону Юлюя.
Так случилось это забавное чудо: на вершине беспощадной пирамиды оказался человек, которому эта пирамида была ненавистна... На спине багрового дракона восседал изнеженный миролюбивый агнец и держал его поводья в своих длинных пальцах. Любой монгольский подросток мог выбить меч из этой изнеженной руки. Тем не менее именно эта умащённая притираниями тощая длань перехватила САМЫЙ ОСТРЫЙ И БЕЗЖАЛОСТНЫЙ МЕЧ ТОГДАШНЕЙ ОЙКУМЕНЫ.
В эти годы монгольская империя находилась на пике своего могущества, но тот, кто держал поводья реальной «длинной власти», огласил ей смертный приговор одной фразой, вошедшей в историю: «Империя была завоёвана верхом на коне, но управлять ею с седла невозможно». Только простодушный Угэдэй в погоне за быстрой выгодой мог в такое поверить. Беспечный, он не знал мудрости древних, которая гласит: империей можно управлять только «верхом на коне». Император, который задумался о благе своих подданных, а не о том, чтобы бросать их в жертву государственному величию, погубит свой трон. Людям империя не нужна — это они нужны империи, которая существует, только разоряя соседей, продвигаясь всё дальше и дальше, до Последнего моря. Остановка — гибель империи. Этот закон хорошо понимал Темуджин, пока не впал в старческое безумие. Угэдэй — не понимал... А сам Юлюй Чуцай? Понимал ли он это? Кто знает.
Ещё не отгремели в ушах монголов праздничные барабаны курилтая, как Угэдэй согласился на губительные реформы. Закончился обморок городских судов — по крайней мере в Китае. Монгольские военные наместники потеряли право издеваться над местным населением безнаказанно. Теперь им приходилось находить скучные оправдания для убийства и увечья каждого «из этих осёдлых трусов», что очень портило удовольствие. Сияющая Яса вдруг оказалась настолько поднятой над суетой жизни, что не смогла охватить тысячи мелочей, по которым раньше местные чиновники разбирали тяжбы людей. Вскоре эти занудные черви на теле мечты превратили городскую жизнь в нечто подобное тому, что было при джурдженях, даже ещё лучше, чем при джурдженях, ибо чиновники, оглушённые войной, побаивались зверствовать во взятках.
Самих иобедителей-монголов обложили однопроцентным налогом, заменив непредсказуемые поборы-ховчуры, проносившиеся в Темуджиновы годы по куреням, как въедливая чума. Налоги с Китая, где беженцы, вернувшиеся из лесных землянок, снова стали работать и платить, дав доход, повергший Угэдэя в изумление: «Как же так, никого не ограбили, а золото — вот оно?» — «Ограбили, — улыбался Чуцай, — но рачительно».
После этого странного разговора Великий Хан совсем расквасился от умиления и сделал Чуцая канцлером-джуншулином.
Вот так, с благословения зазевавшихся завоевателей, бывший мелкий чиновник Дома Цзыней и стал самым влиятельным человеком во вселенной.
Но счастье не вечно, кто этого не знает? Монгольские ветераны, которые пострадали от всех этих ужасов особенно сильно, готовили ответный удар. Чуцай выжидал, замерев, как змея перед проворным сапогом. И он дождался.
На диадеме законов Ясы был и такой алмаз: если таран коснулся городских ворот — смерть всем осаждённым без разбора. Это установление Сына Божьего было как-то раз бесцеремонно порушено. Между прочим, уже после его вознесения, а это значит, что нарушение попахивало ещё и кощунством.
В городе Кайфын — последней джурдженьской столице — монгольский таран не только приложился к воротам, но угрюмым гигантским дятлом вовсю по ним долбил. Субэдэй, у которого джурджени уволокли в своё время на рисовые плантации невесту (где девушка, как водится, и пропала), слушал издалека мерное постукивание, ходил румяный и довольный, улыбался как дитя на празднике.
Он шёл к этой мести всю свою одинокую жизнь — одинокую именно из-за того, что каждую ночь неотвратимо видел лицо Бичике, которая протягивала руки и умоляла: «Чаурхан, спаси». Единожды полюбив, он на женщин других даже смотреть не мог. Всё думал: «Она там, а я...»
Одержимый именно таким, он как-то предложил Темуджину истребить всех джурдженей, а их жуткие плантации и города-рассадники превратить в пастбища. «Они вспороли землю, как брюхо рыбе. Разве они люди — только внешне». Наконец он добрался до главного гнезда их драконов, которое нужно выжечь до ямы, чтоб никогда не повторились рисовые поля слёз. И тут вдруг «дальняя стрела» от Угэдэя: «Город не трогать, принять почётную сдачу».
Позже оказалось: Юлюй Чуцай соблазнил Угэдэя доходами с пощажённой столицы.
Когда до осатаневших туменов наконец дошло, они исторгли могущественный стон: войско трепетало и ревело в бессилии, как бык, которого в момент соития бесцеремонно оторвали от коровы. Ведь кроме прошлых несмываемых счетов мести, почти у каждого из нухуров под этими стенами полегло немало близких друзей. Освобождённые с рисовых плантаций монголы — бывшие рабы тех самых, сидевших за стенами, — рыдали и выли, обхватив голову руками. Они мечтали об этой мести, как мечтает о воздухе тот, кого душат. Воздуха им не дали.
Дело было даже не в мести, в чём-то другом — в тёмном, необъяснимом. В том, что трогать нельзя, как незажившую болячку, потому что будет только хуже, всегда.
Так, по крайней мере, считал Субэдэй.
Кажется, Железный Старик тогда впервые потерял свою хвалёную невозмутимость и высказал всё, что думает о таком милосердии за чужой счёт, и даже поболе того: всё, что думает о проникшей в ставку и пригретой Угэдэем киданьской змее. И вот с тех пор началось всерьёз.
С интересом наблюдали сплетники Каракорума за нескончаемой борьбой на ковре перед троном Киданьского Змея и Урянхайского Барса (Субэдэй был из урянхайцев). Темуджин был мудрым правителем и выдвигал только достойных — эти двое действительно стоили один другого. Борьба между ними болезненно затягивалась — такова плата за талант.
Оба честны — что может быть обманчивее? Оба умны — что может быть глупее?
Бату и Юлюй Чуцай. 1235 год
Вошедший был ханом, чингисидом, «Кусочком Солнца». Вызвавший его на аудиенцию — чиновником-выдвиженцем из покорённых. Поэтому всесильный джуншулин Юлюй Чуцай (который мог растереть Бату словно комара на шее) почтительно поклонился вошедшему, как низший бесконечно высшему, а Бату — не имевшей и сотой доли такой власти — с некоторым усилием удержал спину прямой. Они уселись среди шёлковых подушек и трепещущих зонтиков. (Бату опять же, как чингисид — на место более почётное.) На этом все несуразности завершились. Их беседа показала, кто есть кто на самом деле.
— А ты изменился, хан. Раньше, после смерти отца, приезжал юноша — бесформенная масса, торчащие углы. Теперь иное: голоса и движений плавное единение. Война ужасна, но она преображает мужчин.
— О нет. Я постарел на этой войне, — неискренне вздохнул Бату, которому вкрадчивая лесть Чуцая понравилась.
— Я внимательно следил за тобой эти восемь лет, многое знаю.
— Ты знаешь о каждой травинке в лесу, мудрейший, — слегка, чтобы не потерять достоинство, склонил голову молодой хан, — Тулуй много говорил о тебе — только хорошее. Ты спас его... тогда, восемь трав назад.
Чуцай нахмурился. О том, что предшествовало кончине Темуджина, ему вспоминать не хотелось. Он поднял глаза на Бату, и тот свои не отвёл. Во взгляде молодого хана, в его полуусмешке, читалось: «Мы друзья, но если бы стали врагами, и мне было бы чем тебя уколоть. Однако я сразу положил на стол свой потаённый нож, не вонзил его и не сделаю этого впредь».
— Ты видел, как погиб Тулуй?
На Бату разом нахлынули рваные воспоминания. Прозрачная ночь, чёрная гладь безоглядной Кара-Мурен, ласковые волны облизывают чью-то оторванную руку на берегу... ливень... нахальные потоки воды. Как безумная бабочка, бьётся о косяк створка лаковой двери. Голова Великого Хана — на твёрдой тростниковой подушке, а рядом, на коленях — Тулуй. Вокруг всё заплёвано... А он, Бату, перекрикивает дождь, орёт в темноту, туда, где издевательски изогнулись двускатные китайские крыши: «Лекаря, лекаря!..» И кто-то уже, спотыкаясь, спешит, месит грязь.
— Да, мудрейший... Он высасывал отравленную кровь из раны на шее Великого Хана. Змеиный яд опасен только в крови — во рту нет... Но, наверное, во рту у Тулуя была царапина, там всё вспухло, и... он задохнулся, а Великий Хан остался жив.
— Как допустили стрелу?
— Заговор... Смертник из наших рядов... Уйгур. Не успели схватить, перерезал горло.
«Опять христиане. Кто бы сомневался. Угэдэй и я им — даже не кость в горле, а заползший в горло скорпион», — лениво подумал Чуцай, который о смертнике знал, вслух же удивился:
— Вот видишь, хан... А ты говоришь, я знаю про каждую травинку. Мне доложили другое... Про какую-то молитву Тулуя. Якобы он просил духов забрать его вместо Угэдэя на тот свет. А про смертника я не слышал.
«Всё ты слышал, хитрец», — подумал Бату, но перечить, конечно, не стал:
— Это правда, мудрейший, он и молился тоже. Если, говорит, вы, духи, забираете нашего повелителя за заслуги, то я, мол, лучше, потому что... и как пошёл крыть... Угэдэй оказался у него и пьяница, и рохля, и дурак. В общем, отвёл душу. Называл его так...
— Как и надлежит называть, — улыбнулся Чуцай.
И это Бату осторожно не поддержал, но продолжил:
— А если, говорит, забираете его в наказание, то я — хуже... Вот недавно приказал четвертовать толкового джурдженьского полководца Ваньяна Чехоншана — великого воина, родной земли защитника. Ему, живому, ноги пилили, а мы сидели, пировали да приговаривали: «О, воин, в следующий раз родись у нас, больше толку будет».
Глаза джуншулина подёрнулись мимолётной скукой, довольно возиться с шелухой, пора к сердцевине переходить.
— Слышал я про твою особенность, хан. Ты любишь продолжать невысказанные мысли тех, кто говорит с тобой. Не хочешь ли подумать — что мне от тебя надо?
— Всё просто, мудрейший, — не лукавя, ответил Бату, — Тулуй был твоим человеком у Субэдэй-багатура. Теперь ты хочешь меня ему на смену — гладить встопорщенную спину Субэдэя.
Конечно же, Чуцай сподобился соблюсти приличия, пылко возразил:
— Может ли моя гордыня столь вознестись, чтобы почитал я венценосных отпрысков Величайшего из людей своими людьми? Падая ниц у ваших сияющих гутулов, помышляю лишь о благоденствии вашем. — Чуцай мягко привстал и снова поклонился Бату.
Что с тех поклонов? Поясница не болит.
«Не странно ли? Тулуй — хан, белая кость, хозяин Коренного улуса. А на самом деле всего лишь «глаза и уши» какого-то безродного канцлера, не наоборот, — неожиданно подумал Бату. — Глаза и уши, чтобы следить за кем? Ещё смешнее. За Субэдэем — сыном кузнеца, доросшим до положения второго по силе человека в державе. А главный наследник Темуджина Великий Хан Угэдэй бегает по Китаю, как пёс на ошейнике, бросается на врагов, охотится. А в это время его зарвавшийся слуга держит коней государства за узду, и тот ему верит во всём, как дитя. Когда же так стало?»
— ...о благоденствии вашем, но... — ухмыльнулся хан вполгубы.
— Но мы не враги, и я хочу помочь тебе. Ты жив до сих пор по недоразумению, разве не знаешь? — Глаза Чуцая вдруг стали жёсткими... Это было ему совсем не свойственно. Мог ли кто-то сказать, что видел Чуцая резким, а не стелющимся? Никто. Если представить, что ствол дерева вдруг оскалил зубастую пасть, это будет куда страшнее пасти льва, потому неожиданно.
— Задушишь своими кольцами, мудрейший, — оторопел на миг молодой хан и привычно зашарил рукой у пояса, нащупывая рукоять меча, но опомнился, покраснел. Тут тебе не война — гораздо хуже, да и меч оставлен у входа — такова вежливость. Проклятущий Чуцай прав: жил Бату все эти годы под крылышком Тулуя, воевал в чужих краях с отчаянием обречённого, учился, всё чего-то ждал, надеялся. А Тулуй прозябал — под крылышком у Чуцая, но тот, в свою очередь, держался на благорасположении Угэдэя, который ему всецело до* верял и ни во что не вмешивался. И пока это так — джуншулин всесилен.
А он, Бату, кому теперь нужен? Хотел его сгубить Темуджин, да не успел. Кто смерть Величайшего ускорил? Не иначе как Чуцай, и тем спас Бату жизнь. А дальше его оберегал Тулуй... просто так, по просьбе Маркуза. Без какой-либо выгоды, просто так, по-человечески. Ну и Бату, конечно, не оставался в долгу — помогал Тулую, как мог. Был бы Тулуй просто интриган — выгодно было ему головой Бату откупиться, ведь его смерти жаждет Хранитель Ясы Джагатай. Он ненавидит всех отпрысков Джучи и чуть не ежедневно посылает к Угэдэю «дальнюю стрелу» о том, что по закону Ясы кровь детей предателя и мятежника Джучи должна пропитать землю. С другого боку надоедает Угэдэю его выросший сынок Гуюк (если станет наследником, тогда пропадём мы совсем). Тут вообще прочь сомнения — вражда застарелая. И не только с детских трав, когда в «учёной яме» друг друга царапали, но была и другая история, в которой (как без того) замешана женщина. Знает Гуюк, и Бату с некоторых пор знает: вселенная большая, да тесная, и обоим на ней не уместиться.
Когда похоронили Тулуя, душно стало Бату, хоть как воротник расстёгивай. Неотлучный Боэмунд посоветовал: надо ехать к Чуцаю, только он спасёт. Но как поедешь? Субэдэй — с некоторых пор друг, соратник и воспитатель — Чуцая ненавидит. Разве можно доверившегося обманывать? Однако и покровителя такого терять разве разумно... Ссориться с Чуцаем — вовсе самоубийство. После смерти Тулуя никак нельзя, чтобы мудрейший понял, что джучиды на стороне его врага Субэдэя.
Выручил Бамут. Не знал Бату раньше, какой клад в его лице приобрёл. Поехал Бамут кривой дороженькой — догонять передвижные лаковые дворцы Каракорума — землю ел, песок жевал, обещанья нужным людям раздавал... Долго ли, коротко, но намекнули те, кому положено, мудрейшему канцлеру, что Бату хочет его видеть. Хочет, а самовольно приехать не может — себе дороже — спящего тигра разбудит.
Если бы Чуцай намёки не понимал, не удержался бы на лезвии меча и дня... Всё он понял, нашёл предлог — вызвал Бату из Китая, и вот они беседуют. Ай да Бамут, самого Чуцая перехитрил.
— А сам-то чего ты хочешь? — остановил его испуг тайный Повелитель Вселенной.
— Домой хочу, на Иртыш, — притворно устало вздохнул Бату. От Бамута он уже знал, что ему скорее всего предложат. — Джурджени разбиты... Что здесь больше делать?
— Поедешь... — медленно проговорил Чуцай, — ты поедешь домой... и дальше. Дальше, на Вечерние страны. Нужен поход, небывалый дальний поход.
Что ж, теперь, после нашёптываний людей Бамута, всё зависело от жара и красноречия молодого хана. Если его наглость покажется смешной — он погиб. Вся дальнейшая жизнь будет между приговором и казнью. Он, кажется, почувствовал, как отрываются его ноги от земли, а внизу — бездна, бездна... Но он стоял в этом, главном в мире, шатре... Спина гордо выгнулась. Как у молодого пардуса.
— Вечерние страны, мудрейший? Ты находишь?.. Ну так знай, — довольно я бегал. Ты всё можешь. Реки текут по твоей указке. Войска освободились. Сделай это, мудрейший. Для себя и для меня сделай. Или я поеду туда джихангиром, или не поеду вообще. Это моё последнее слово.
— Джихангиром?! Тебя?! Ты слишком молод для такого... — Об этом Чуцай не думал.
— Нет, я и только я. Дай мне Запад, я замирю его границы. Помогу слабому против сильного. Мы делали это в степях кыпчаков. Я знаю как. Кыпчаки меня уважают. Кто кроме меня? А себе возьми Восток. Дай мне усмирить то, чего нет, что ещё у врагов, и возьми то, что уже есть. Я повелитель войны, ты — мира. И Субэдэя мне дай в советники — пусть занимается своим любимым делом, а не полощется знаменем вредных для державы заговоров.
Брови Чуцая разгладились. Он слушал, он почти соглашался. А сердце Бату брыкалось как дикий конь, впервые узнавший ургу. Он говорил, говорил, говорил. Он боялся остановиться и не долететь.
— И ещё, поход должен быть великим почётом, а не ссылкой. Чтоб отказ от него был позором для любого...
Идея западного похода Угэдэю так понравилась, что вскоре он честно забыл — кто именно её подсказал. Известие о великом походе на Запад, на Вечерние страны ворвалась в юрты бедняков и богачей, словно ливень после засухи. И все вдруг встрепенулись, вспыхнули. Почему так получилось? Догадаться нетрудно. До того как искру поднести, хорошо просуши дрова. Люди Чуцая готовили людей исподволь, сначала шёпотом, потом громче, громче, говорили и про наглых кыпчаков, которые готовы ударить по беззащитным монгольским кочевьям в любой миг — только того и ждут. Говорили — как бы между прочим — про богатства несметные. Странно устроен человек. Мало кто из простых нухуров разбогател в походах сартаульских и джурдженьских, но опять, как в чистый снег, верили простодушные люди, что теперь-то уж пригонят они к родной юрте вереницы рабов.
Чуцай осторожно сговорился и с давними своими врагами — уйгурскими христианами, исподволь намекнув, что западный поход — прекрасный повод для них расправиться с «псевдохристианами», еретиками-мелькитами земли урусов. Тут всё неожиданно быстро сладилось — весь расчёт Чуцая был на то, что застарелая ненависть несториан к мелькитам крепче свежей ненависти к нему. И он не ошибся.
Когда в игру включились поднаторевшие шептуны из служителей Креста, страсти вокруг похода закипели ещё сильнее. Особенно в христианских юртах, которых было полным-полно. Несторианским проповедникам не привыкать, ведь когда-то они собирали людей вокруг юного Темуджина, потом — раскачивали яростный азарт для борьбы с джурдженями... Великое дело — опыт. И вот снова зашумели уставшие степи.
Однако посчитали и поняли — войск-то маловато будет.
Тогда, подумав чужим умом, Угэдэй издал приказ о мобилизации для западного похода каждого старшего сына из каждой семьи Коренного улуса. Всё бы хорошо, но...
...Но тут некий тангут из имперской канцелярии указал Великому Хану на великое чудо, которое тот сподобился сотворить и которое — не прояви этот дотошный должного рвения — так и осталось бы для хана неизвестным.
Сверив реестры «до» и «после» указа, этот тангут обнаружил, что добрая треть пожилых пастухов и нухуров многострадального Коренного улуса вдруг в одночасье лишилась наследников. Причём этот изысканный небывалый мор отчего-то пощадил девушек, женщин, а также тех, кому уже за двадцать трав, обрушив всю свою загадочную ярость исключительно на юное мужское население.
Сначала Угэдэй сильно удивился таким чудесам, но, почесав в задумчивости щёку, решил ответить чудом на чудо.
После очередного указа заботы по выискиванию будущих героев великого похода на Вечерние страны легли на упругие плечи славной и неподкупной гвардии Кешикту, на привычные плечи любимых стервятников Хранителя Ясы Джагатая. Тех самых, которых робко облетали стороной даже синицы и воробьи. Сине-красным намекнули, что главное в их поведении на сей раз — это вовсе не попустительство своему (всем известному) ласковому и тихому нраву....
Как и предполагалось, уши кешиктенов отнюдь не остались глухими к ханскому призыву. Из туманного бытия в лучшем из миров кешиктенами было вытащено за волосы обратно в мир наихудший несколько тысяч юнцов. Гвардейцы явили чудеса чародейства, переплюнув в этой таинственной сфере даже христианского Мессию, который, как известно, сумел воскресить почившего Лазаря.
Неблагодарные родители (те, которые заботами гвардейцев сами за сокрытие не заменили на Небе «воскресших» сыновей) отреагировали на чудо очень кисло.
«Вы испугались того, что мы прогневили Небо, вернув их назад? — сочувствовали кешиктены. — Не печальтесь, скоро они снова там окажутся. Грядёт война».
Пастухи благодарно кланялись, но восторг в их глазах почему-то не сиял.
О том, чтобы безутешные харачу и нухуры не ощущали себя виноватыми перед богом, весёлый Угэдэй тоже позаботился. Он решил наложить на них ещё и ховчур по старому рецепту: на одну семью одна лошадь.
Тут всю радость испортил въедливый Юлюй Чуцай.
После привычных препирательств упёртый джуншулин заявил, что, если снова забирать лошадей у бедняков, то монголы Коренного улуса из гордого кочевого племени превратятся в осёдлый народ и от семенящих пешком «презренных китайцев» будут только тем отличаться, что навсегда осядут на одном месте. Причём местом этим будут могильники.
Кроме того, Чуцай заметил, что именно его — коварного и подлого — обвиняют в том, что он защищает китайцев в ущерб монголам. «И это в то время, — указывал он, — как сами монголы готовы размазать гордых соплеменников по шершавому лицу земли, будто раздавленную муху по стеклу. Вот вам очередной пример: опять забирают из отощавших семей очередных подросших кормильцев. И это называется господством?» — распластал Чуцай свои тощие гибкие руки в показном удивлении.
Угэдэй пошарахался по юрте и внял неутешительным расчётам, по обыкновению цифры заворожили его, как кобру дудочка факира.
Лошадей Великий Хан решил нагнать только из «богатых» семей. Ему принесли списки таковых, и он уже без особого удивления обнаружил: после его указа множество семей мигом обеднело, ведь именно «в лошадях» высчитывалось у кочевых родовое богатство. Как будто по степи внезапно пронёсся мор, на сей раз лошадиный. Однако теперь Великий Хан знал, что на каждое злое колдовство найдётся доброе: кешиктены ринулись «воскрешать» пропавшие табуны и превзошли на этом поприще самих себя.
Бату, Субэдэй и другие. 1236 год
Бату давно уже стал замечать: когда он восседает в огромном жёлтом шатре под сенью шёлковых, прозрачных для нахального света зонтиков и ловит взгляды устремлённых на него десятков пар глаз, ждущих указаний, он чувствует себя тем, кем все эти люди его видят... дойной коровой чужого честолюбия. Трудно удержаться, чтобы не вскочить, чтобы расслабленной плетью-ладошкой не отхлестать их самодовольные рожи.
Странно устроен мир: каждый готов стащить его с этого почётного места, чтобы самому стать предметом презрительной и завистливой ненависти.
Одно забавляет: никто не уважает его за обретённую сомнительную власть. Ведь каждому из неудачливых претендентов так важно доказать себе, что не из-за каких-нибудь особенных достоинств «этому выскочке» удалось стать джихангиром...
Нельзя же, например Гуюку, и мысли допустить, что этому своему возвышению Бату обязан (хоть на маленькую толику) своему собственному уму, своей собственной силе... а не «подлым интригам врагов». Признав ТАКОЕ, горе-царевичи (особенно Гуюк и Бури) должны будут следующим шагом поразмыслить о неприятном. О том, что им самим не хватает ума и силы.
Вот если бы на почётном ханском возвышении под качающимися шёлковыми зонтиками сидел не Бату, а, например, Гуюк, тогда уж точно это случилось бы исключительно благодаря его уму — прочь сомнения.
Увы, все эти благородные нахлебники просто вынуждены презирать Бату, и сам он, того не желая, превращался во что-то похожее на их светлые ожидания... Он становился надменнее, тупее, ожесточённее. «Нуда ничего... А этих, навязанных неумолимым и простодушным Великим Каганом Угэдэем, постепенно снимет с натруженной шеи, — думал Бату, — рано или поздно он окружит себя теми, с кем сам хочет иметь дело». Как бы не так.
Вздыхая над горькой долей, Бату часто вспоминал времена, когда отец был ещё жив, только сейчас поняв, какое это было счастье: сиди, посмеивайся над тем, как эцегэ шарахается — словно заяц от орла — от заботы к заботе. Тогда думалось: «Не слушаются люди, а кто виноват? Сам виноват. Не будь безволен, выгони дураков, возвеличь умных, на то ты и хан». Вечное Небо, как он, Бату, был тогда наивен!
«Ну давай, Всемогущий Джихангир, Тень Солнца на роже тупиц, попробуй выгнать хоть одного из этих умников... Что, притих? То-то же».
Собирая кроме совета официального ещё и совет своих старых друзей (несколько приниженно именуемых в устоявшемся ритуале «ближними нукерами»), Бату не способствовал пробуждению к себе нежных чувств, поскольку такое было не принято, ведь Великий Потрясатель Вселенной не имел двух военных советов.
Да (тысячу раз «да»), он не имел двух ставок-орду, потому что его ставка состояла исключительно из друзей. Но его никто не назначал на должность джихангира, ведь Темуджин не был ничьим продолжателем — он был основателем.
Несчастный сартаульский шах Мухаммед тоже не имел двух советов-диванов, а, увы, только один. И понятно какой: из доставшихся по наследству блюдолизов. Мухаммед не был даже продолжателем — только хранителем. Ну как тут не запутаться? Куда же влечёт в таком случае Бату? Назад к Темуджину или вперёд к Мухаммеду? Ответ напрашивается сам собой.
Опять, опять Сульдэ Ехидного Дедушки летал над шатром запутавшегося полководца, улыбался внуку сквозь седую, с рыжиной, бороду: «Ну что, неуживчивый внучок, кому подражать хочешь? Мне или тем, кого я покорял? »
Но действительность безупречно забавна: ежели что у нас высочайше не принято — тут же скачут верхоконные кляузы в далёкий Каракорум, а обратно несутся, обгоняя удалой ветер, лёгкие упрёки, которые, едва успевая спешиться, начинают стремительно тяжелеть... На верблюдах бы возить «недовольства» Кагана, а не в лёгких свёртках пергамента.
Великий Хормуста, когда же это случилось? Сколько смеха прохохотал когда-то Темуджин, наблюдая (через соглядатаев) за тем, как сартаульский шах и джурдженьский Сын Неба мечутся в паутине взаимных доносов своих подданных. И вот теперь на том же пути мы, гордые монголы. Чем мы хуже? Ничем. Стоило ли кровь проливать?
Подробный план похода на курилтае не обсуждался, что с одной стороны было для Бату удобно — меньше пустословия случайных людей. С другой — попробуй о чём-то договориться с Гуюком и Бури, которые почти «не разбавлены» случайными людьми. Достоинство эти двое — и не только они — видели в несогласии с мнением Бату, которое по законам Неба должно быть всегда неправильным. Выручал Субэдэй. Его устами Бату часто проталкивал свои решения на ежедневном совете. Старик говорил очень тихо — мог себе такое позволить, — и когда разжимал кривые, как сабля, уста, над его олбогом сгущалась тишина кладбища.
Слушаться Субэдэя никому не зазорно: он не только заслуженный старец-гуай и столь же заслуженный полководец, но и не царской крови, то есть любое мудрое слово, сказанное им, не вызывало у царевичей зудящей зависти, что это слово извергли не они, а соперник. Это был как раз тот случай, когда безродность была на пользу делу.
Очень всё хорошо получилось. Согласиться с Бату было для царевичей немыслимо. Уронить себя так низко «кусочки солнца», конечно, не могли. Однако джихангир, наделённый даром понимания, не ставил своих царственных подчинённых в неудобное положение. Каково им, бедным, возражать, слыша нечто здравое, поди придумай повод презрительно выпятить губы?
«Спорить с Субэдэем — это дурной тон», — это правило Бату сумел-таки утвердить в их надменных головах. Через своих шептунов, разумеется. Бату не приказывал, не давил, Бату, что называется, «ввёл моду» на Субэдэя.
С самим Субэдэем трудностей тоже не возникало. Было бы смешно возражать ему в вопросах чисто военных. Сегодня Бату не сомневался — спорщики будут молчать в любом случае. Спорить с великим ветераном — себя не уважать. «Во время похода так и устрою, — радостно подумал джихангир, — сделаю Субэдэя устами, которыми говорит осторожность и умеренность. Сам же буду рваться в бой излишне резво».
Идея, которую предстояло изложить сегодня, была непомерно дерзкой. Принадлежала она на сей раз не Бату, а самому Субэдэю. Однако джихангир — несмотря на то что сам был ею вполне очарован — тревожно подумывал: «Не послушают и Субэдэя».
Не утруждая себя цветастыми вступлениями, до которых был не охотник, старик сказал то, что в его немногословных устах прозвучало тяжёлым пророчеством:
— У нас три тумена. Это мало. Никакой надежды — мы все погибнем.
Ответом была такая тишина, как будто все погибли уже сейчас. Бату поблагодарил Небо, что не пришлось ТАКОЕ высказывать самому. То-то бы крик поднялся, а так — молчание.
— Почему? — показал Бату первым, что есть тут ещё живые. Ведь он один знал, что последует дальше.
— Пятнадцать трав назад урусуты поддержали куманов[94], и мы повернули назад. Всем известно — вернулись немногие. А воинов в том походе имели как теперь — три тумена. Воевать одновременно с урусутами и куманами невозможно.
Бату, делая вид, что рассуждает по ходу, напомнил, что урусутские коназы Мастилябы[95] были на реке Калке всё-таки тогда побиты. Небо отвернулось позднее — когда на уставшее от долгого перехода войско неожиданно напали булгары. Кроме того, с тремя десятками тысяч Субэдэй и Джэбэ прошли сквозь земли гурджиев[96] и аланов, как меч сквозь голое тело.
Высказывая нерешительные возражения, Бату про себя посмеивался. Царевичи сидели тихо, за солидной угрюмостью скрывая раздвоенность чувств. С каким удовольствием они обозвали бы Субэдэя трусом, не будь он той вершиной, по близости к которой великий освободитель определял меру храбрости любого.
Что у старика хорошо получалось, так это презрительная усмешка. Он не замедлил её изобразить, чем вызвал явное удовольствие обоих тайджи, а заодно и бдительность собравшихся притупил.
— Аланы... ха-ха... — Старик вдруг разговорился, и его страшное лицо посветлело от воспоминаний. — Трудно ли даже одному кулаку переломать пальцы у десяти растопыренных рук? Когда ломали один — другой радовался. Аланы — это душистый хлеб для лошадей вместо скупой травы, это отдых после горных мучений. Они и землю ковырять с оружием ходят. Как им, бедным, воевать с врагами, если в спину ближний норовит нож воткнуть? Если бы на нашем пути были аланы, разве бы я сомневался в победе. — Субэдэй обратил свой взор на Бату, морщинистые щёки почтительно разгладились, согнали усмешку: — Джихангир, ты сказал: «Как меч сквозь тело». Это неправда. Мы прошли, как зубы сквозь мясо. Мы вышли из этих степей отдохнувшими и сытыми.
— Но до этого вас ослабила не такая лёгкая война с гурджиями, — остановил Бату удивительную многоречивость Субэдэя, от которой присутствующие опешили, наверное, больше, чем от слов про свою неотвратимую гибель.
— Теперь нас также ослабит война с булгарами, разве не знаешь? А с гурджиями — просто повезло. Если бы у тамошних правителей ум бежал немного впереди отваги, всё могло бы окончиться иначе для нас. И урусутов, и гурджиев я взял на одну и ту же уловку.
— Какую уловку, Субэдэй? — не выдержал любопытный Кулкан.
— Притворным бегством заманил в засаду — вот и всё. Каждый раз думаешь: на тебя идёт с войсками разумный воин, а не тупой беспомощный бык. Смею заверить, ни один из наших юных десятников не попался бы на такое, а значит, в том нет моей особой заслуги. Но нельзя же постоянно рассчитывать на безмозглость врага.
— А куманы?
— Эти воевать умеют, но нам опять повезло. Бродники — второй дар Хормусты после хлебных аланских полей. Только с их помощью, с их знанием куманских тропинок и балок нам удалось... не разбить, нет, но потрепать тылы Котяна и Гюрги[97]. Кроме того, они жадны до красивых безделушек.
— Значит, если добраться до куманских тылов, воевать с ними можно.
— Кто не знает простого! Сын степей хорош в походе, вдали от дома, и слаб около беззащитной юрты своей. Здешние иртышские кыпчаки воевали легко, пока мы не нашли все ущелья, где скрываются их женщины и старики. И теперь они с нами, в нашей рукавице. У тамошних куманов нет таких ущелий, но у них есть другое...
— Урусуты, — как будто бы «угадал» Бату и тут же подумал, что зря это сделал. Такая догадка не вытекала из речи Субэдэя, как приток из реки. Умный сразу же заподозрил бы их вчерашний сговор. Хан тревожно пробежался быстрым взглядом по растерянным лицам слушателей. Нет... они ничего не поняли.
— Да, урусуты. С ними не удалось договориться, и они надвигались огромным войском в восемь туменов. Вчетверо больше, чем было у меня.
— Но ты всё равно сумел их разбить, — налегал Бату. Лица ближних нойонов меж тем постепенно оттаивали от первого удивления.
— Честно говоря, я сильно испугался, — признался Вершина Бесстрашия.
Присутствующие онемели. Долгими годами безупречной службы он один во всём бескрайнем улусе заслужил право открыто говорить о своей трусости. Впрочем, кто ему, «Безупречному», поверит.
— Не за себя, за честь нашего Девятихвостого Туга, — всё же смягчил откровенность старик. — Да, я сумел их разбить, потому что они попались в ловушку, но это случайность, великая удача. Да и то... мы отступали, а не шли вперёд, как теперь, — Субэдэй зажмурил одинокий глаз, вспоминая, — кроме того, над храбрыми воинами стояли крысы. Одна из них предложила отпустить её за выкуп и отдала своих людей на растерзание, другая — так обезумела от страха при встрече с нами, что приказала рубить большие лодки, на которых могли спастись её воины.
— Зачем рубить? — нарушил молчание хан Кулкан, остальные зашушукались.
— Чтобы мы не бросились за ними в погоню на захваченных лодках, вот зачем. — Субэдэй брезгливо дёрнулся.
— А ты не шутишь, Субэдэй? — не поверил Кулкан. — Как же могут подобные отребья стоять во главе людей? Почему их слушались, почему не роптали? Как они добились таких высоких постов?
— У гурджиев и урусутов стоят над всеми по праву рождения, а не по способностям. Для того нас Мизир и выбрал, чтобы прекратить во всех подвластных землях такое безобразие, — напомнил Бату общеизвестное, — продолжай, Субэдэй.
— Тех урусутских крыс мы отловили живыми. Я предлагал отпустить их обратно, и это было бы мудро... Если в землях урусутов у власти оказываются случайные люди, а не добиваются этой чести в крови и пыли походов... — тут полководец многозначительно уставился сверлящим глазом на Гуюка и Бури, но те высочайше позволили себе прозрачного намёка не понять, — их не надо было трогать. Может быть, мы освободили место для отважных, кто знает? Но урусутские коназы истребили моих послов, а я хоть и с большим сожалением, но отправил их к предкам, сломав хребты.
— Субэдэй, — опять встрял Кулкан, — вы удостоили их чести умереть без пролития крови?
— Пришлось такое пообещать, — смутился старик, — иначе бы они не сдались, а у нас и без того осталось мало людей, так ещё и биться зазря. Мы дали слово, что «не прольём их крови», — злорадно усмехнулся, — а эти ублюдки, наверное, решили, что мы унизимся до того, что разрешим им дышать.
Он себя не узнавал: столько лишних слов обронил. Память о том походе — как наконечник стрелы, застрявший у сердца. Немногие вернулись из того похода. Мало утешало его и то, что он сделал всё, что мог. Больше того — совершил небывалое... Но сердце упорно болело при воспоминании о ТОМ походе. Всю жизнь быть уверенным, что по-настоящему любишь только войну — беззаветно, жертвенно, нежно, как невесту, и вдруг убедиться, что она перестала отвечать взаимностью, отвернулась. За что?
Сжав волевые тонкие губы, старик вернулся из прошлого к делам будущим:
— Нельзя же, в самом деле, рассчитывать на такую небывалую удачу! Известно и ребёнку: Вечное Небо не уберегает дважды одним способом. Куманы придут на помощь урусутским городам. Они будут воевать вдали от своих семей, и это придаст им стойкости. А уж если урусуты объединятся...
— Не объединятся. Они ещё не стали такими разумными, как мы. Они — дикие и тупые, как дзерены. Любой степняк умнее того, кто ковыряется в земле. Если им до сих пор не хватило ума придумать юрту, а не жить в деревянных сундуках, чего ожидать от них порядка! — задорно выкрикнул Кулкан, который никаких урусутов в глаза не видел.
Субэдэй посмотрел на Кулкана, как на несмышлёныша. Ответом не удостоил.
— Урусуты сильны своей кованой конницей, у них упрямая пехота, о которую наши воины разобьются на части подобно воде, выплеснутой на столб. И потом... они всегда смогут отступить за стены. Одна у них беда — лучники не могут стрелять издалека. Ещё они не могут метаться языками пламени перед строем врага, как это делают монголы, но зато такое умеют куманы.
Субэдэй торжественно, как жрец, оглядел внимающих его неутешительным пророчествам, отчеканил, как плиту каменную положил:
— Если урусуты объединятся с кыпчаками — нам конец. А они — объединятся. Разве Котян упустит такую возможность? Мы хотим через северные земли зайти куманам в тыл, а они устремятся нам навстречу весёлой лавиной и раздавят.
Пришедший в себя Гуюк украдкой бросал на старого урянхайца неприязненные взгляды. Эти молнии из засады вряд ли означали, что Соратник Величайшего ему ненавистен, отнюдь. Иные любят многих, а некоторых не терпят. Гуюк иных терпел, а всех остальных, похоже, ненавидел.
Однако Бату напрасно встревожился. Его любимый враг раздражался сейчас совсем по другому поводу: просто он вовсе не принадлежал к той редкостной породе людей, которые в неудачах жизни винят себя... Будучи любимым сыном Угэдэя, он, если бы захотел, вполне мог отказаться от этого похода. Но слава воина всё-таки нужна, хотя не ценой же собственной гибели её добывать...
Почему этот дрянной урянхаец не рассказал обо всём его, Гуюка, отцу Угэдэю ещё тогда, в Каракоруме? Простофиля отец верит старику в военных делах безоговорочно, как во всех остальных — столь же ненавистному Чуцаю. Настолько слепо верит, что когда Субэдэй кивнул, мол, три тумена это достаточно, Великий Хан даже не стал ничего уточнять. Честно говоря, не было больше свободных войск — по всем куреням последнее доскребали. Теперь же, когда всё решено, Одноглазый Барс говорит про гибель.
Не решил ли хитрый старик на старости лет уморить их всех в отместку за то, что Угэдэй забрал Субэдэя из Китая и направил его, лучшего полководца, в эту глушь? За то, что нарушил священную Ясу и не дал Субэдэю тот непокорный джурдженьский город истребить, чем лишил ветеранов законной добычи?
Вот в каких далёких от обсуждения похода дебрях бродила капризная душа тайджи. Наконец и царевич не выдержал. Бату, давно зная его, очень удивился доброжелательному голосу Гуюка: «Бедный, как ему трудно это далось — не зашипеть? »
— Субэдэй, почему говоришь такое сейчас? Почему не сказал на курилтае?
— Простота хуже глупости, тайджи. Великий хан не позволил бы мне действовать по своему усмотрению, заставил бы нападать на земли урусутов весной. Убеждать немногих — глотка целее.
Произнеся эту простенькую отговорку, старик боялся, что она покажется царевичам и нойонам неправдоподобной. Всё же он надеялся на другое. На то, что, выделяя слово «весна», заставит присутствующих зацепиться именно за это слово. И он не ошибся.
— А когда же ещё? Не зимой же, в самом деле! — подыграл ему Бату.
— Да, именно так, ЗИМОЙ, — торжествующе отрезал Старый Барс, — это наша единственная надежда на победу.
Нойоны и царевичи зашумели все разом:
— По снегу?!
— Без припасов во враждебной стране?
— А чем кормить коней? Это безумие!
— Возьмём еду для людей и сено в урусутских городах. Половину войск отправим на юг — отвоёвывать кыпчакские зимовники, — охотно пояснил урянхаец.
— Ну как же... — Это было так необычно, что даже всем понятные возражения застревали в горле. Уж не рехнулся ли старик под старость?
— Куманы зимой не воюют, нападения не ждут, разобщены: отвоевать у них сено коротким набегом будет просто. Они не придут на помощь урусутам — это второе.
— Куманы не воюют зимой, это хорошо, — возразил Бату, — зато урусуты к снегу привычны. Объединятся, перекроют пути для подвоза припасов, что будем делать в мёртвой степи?
— Об этом тоже подумал, — уверенно продолжал Субэдэй, — поздняя осень — время размытых путей. Обрушимся на Резан[98] неожиданно — ещё до больших снегов, кто в это время нападения ждёт? Пока за помощью пошлют, пока она поспеет — рязанские земли будут в нашей рукавице. Оттуда — бросок на Ульдемир[99].
— А потом?
— Дальше Небо укажет. Нам бы только зиму продержаться, а весной, по свежей траве, ударим по кочевьям куманским с той стороны, где они беззащитны.
Когда войска дошли до прииртышских кочевий, Бату почувствовал себя легче — скоро он будет среди своих. Вдруг нахлынули воспоминания о юности, о том, как они ехали сюда с Орду из «учёной ямы». Каким самоуверенным он был тогда! Как величался перед отцом, как нравилось ему быть железным истуканом, самым умным на свете — ни слезинки, ни соринки. Вспомнился вдруг и тот сартаул, над которым издевался в Бухаре, в абрикосовом саду — его как ошпарило от унижения — эх ты, победитель. Прислонившись к стене, стеной себя мнил, а ведь ничего своего. Один страх, что в тебе увидят то, что все вокруг и так видели — мальчишку.
Тогда, покидая «учёную яму», думал Бату, что ненавидит её, а теперь вдруг понял, что носил в себе её отвратительную науку, её чёрное колдовство.
Домашние дела шли неплохо. Вздёрнутые копья иртышских кыпчаков, готовых идти с ним в поход на кыпчаков западных, были тем подарком, который приготовили ему Маркуз и Делай. Неожиданно попросился в поход и братец Орду. Роль занавески, за которой прятались истинные правители улуса, брата несколько тяготила, а мысль о походе в диковинные страны — взбодрила. Ничего не поделаешь — пришлось взять, заслужил. Смирно сидел, во всём слушался Маркуза. Да разве можно его не послушаться?
«Вооружившись» кыпчаками, Бату почувствовал себя уверенней. Теперь случись что — есть на кого опереться. Во всех распрях они поддержат его, а не Гуюка с Бури.
Отдохнув, двинулись дальше. В булгарской земле Бату стоило большего труда отговорить Субэдэя возглавить те войска, которые он отрядил на покорение Булгара — у старика с булгарами после того, единственного в его жизни разгрома были свои счёты. Разговор, который пришлось выдержать Бату, был неприятным, но Субэдэй был нужен ему здесь — вес создавать — и с этим ничего не поделаешь.
— Моим братьям нужно учиться. Пусть Шейбан опыт нагуляет. Мы все с джурдженями поднатаскались, а он ещё ни один город не брал, будто дитя. А не справится — обещаю, что пошлю тебя.
Старик фыркал, бурчал и долго дулся, но в глубине души, похоже, правоту молодого джихангира признал — молодые волчата должны учиться.
Между тем Шейбан справился великолепно. Булгарские вожди Боян и Джику посопротивлялись немного, что было даже хорошо (Шейбан получил опыт штурма), зато потом сдались.
Замаливая свои грехи перед Субэдэем, Бату разрешил этот злополучный Булгар хорошенько разграбить, а весь полон (с намёка Бату) довольный собой Шейбан подарил Субэдэю для расправы. Конечно, за вычетом той его части, которую погнали проторённой дорогой в Каракорум — Великому Хану. Это Темуджиново установление не мог преступить ни Бату, ни даже всесильный Чуцай. Это был как раз тот случай, когда мёртвый правитель был сильнее живого.
Вопреки ожиданию, Субэдэй не особо резвился и всё простонародье пощадил: «Пусть эта киданьская кобра не считает меня кровожадным». Правда, Боэмунд провёл нехитрое дознание и выставил перед стариком тех полководцев, которые тогда, более десяти трав назад, ни с того ни с сего напали на потрёпанные Субэдэевы сотни при переправе через Итиль, чуть ли не поголовно те сотни порубив.
Что и говорить, уж тут Субэдэй отвёл душу за все: собственноручно разбросал по траве их вырванные жилы. Глядя на содеянное, Бату вдруг подумал, что переусердствовал в благодарности — ведь если бы тогда булгары не напали на Субэдэя, кто знает, может, и обрушились бы его соколы на кочевья Джучи. Ведь у Субэдэя имелся приказ усмирить мятежника. Вряд ли были бы они сейчас с Субэдэем друзьями, если бы Джучи не обошёлся тогда по-человечески с разбитым одноглазым ветераном.
О превратность — царишь ты, куда ни взгляни, непостижимы пути твои!
Кто знает, может быть, те, чьи суставы разбросаны по траве, невольно спасли ему, Бату, жизнь. Джихангира охватило запоздалое раскаяние. С тех пор он с волжскими булгарами всегда обращался бережно, не обделяя их своим покровительством, а этот, разорённый и позднее восстановленный им (так что стал краше прежнего) город Булгар, Бату-хан сделал своей самой первой столицей.
После этой победы стали ручейками стекаться под туги Бату западные кыпчаки-куманы, особенно те из них, кто веровал в древних богов или был христианином мелькитского толка. Эти люди были давними недоброжелателями булгарских купцов-рабовладельцев.
Всем этим новым воинством командовал Делай, вернее, друг того, хан Боняк, который его замещал в тусклых заботах командующего. Сам Делай не любил передвигать большие массы людей, он был рождён для отчаянных вылазок одиночек. «Лучше верховодить стаей волков, чем бескрайними овечьими отарами. Какое в том наш джихангир находит удовольствие?» — дразнил он на советах ближних нойонов...
Осенью тумены шли меж Донцом и Доном. Люди, уставшие от вечных переправ, радовались лёгкости пути. Все боялись здешних снегов. Кыпчаки в такое время не высовывали носа из своих зимовников, монголы же и кераиты с ужасом вспоминали редкие годы, когда трава под белым покровом была недосягаема для конских копыт. Поэтому первые, довольно поздние для этих мест снежинки вызывали в незваных гостях ту дрожь, которой виной отнюдь не холод.
— Эй, Демир. Я сегодня видел во сне, будто плыву под ледяной водой, а белый лёд надо мной всё твердеет... твердеет. Скоро и башкой его не пробьёшь...
— А сверху по голове через лёд стучат копыта голодных жеребцов и не могут до тебя достучаться, да? Вот потеха, пробили кони снег, а там вместо травы твои бестолковые волосы.
— А знаешь, как нас, куманов, зовут урусы? — откликался Гза, грабивший когда-то Киев с черниговским князем.
— Известно как, половцами зовут...
— Не знаешь из-за чего? Волосы у наших цвета сухой травы, по-ихнему — «половы».
— Мне тоже снился сон. Пробивают урусутские кони здешние снега, а под снегом-то будто трава, а на самом деле волосы. Волосы, волосы с отрубленных наших голов — до горизонта.
— А ну прекратить трусливые разговоры, — окликал их сотник-монгол.
Наслушавшиеся ужасов монгольские и кераитские разведчики с опаской приближались к сугробам, которых по оврагам намело пугающе быстро. Набранные в Коренном улусе юнцы спешивались, осторожно погружали в снег руку по локоть.
— Ну что ты там делаешь, дурачок?
Дрожащим голосом:
— Скажи, Темугэ... что... вот так... вот так, как в этом сугробе, скоро будет везде?
— Ну уж, — смущался старший, — во-первых, в тех городах, которые откроют нам ворота, так не будет. Да и потом, войско Мунке отвоёвывает сено в кыпчакских зимовниках, — не подохнут твои драные клячи.
— Если не пустят нас урусуты в города, это мы, а не клячи подохнем среди этого бесконечного замерзшего кумыса...
— Жаль, что пить его нельзя.
— А ну прекратить щенячье вытье, — окликал их кыпчакский проводник. Впрочем, и он в такую пору здесь не бывал.
С разгневанного чужого неба летели за шиворот раскалённые снежинки, маленькие враги, готовые побеждать своим несметным количеством. Правда, только иногда они объединялись в большие войска-метели, а пока было терпимо.
Костры из репейника и бурьяна тепла не давали. Унылыми вечерами воины скакали вокруг вялых языков больного пламени, как шаманы. Тогда казалось, что весь лагерь жаждет улететь под крылышко Мира Духов... хотя бы для того, чтобы согреться.
Неприхотливые кобылы и мерины обоза с превеликим аппетитом объедали хрустящую, примороженную желтизну, будто желая насытиться впрок. Сытые боевые хулэги тыкали брезгливыми мордами в землю, но зарываться носами в прибитую дождями траву явно не спешили.
Бату и Боэмунд. Под Пронском. 1237 год
Бату жевал травинку, медленно выплёвывая отгрызенные кусочки. Вот так же разжевать бы да и повыплёвывать навязших в зубах царевичей. Хорошо устроились, мангусы... Теперь он стал, наконец, со всей силой ощущать, почему все так легко согласились выбрать его джихангиром на радость Юлюю Чуцаю — видать, не перестарался мудрейший, уговаривая. По той же причине старейшины выбрали когда-то юного Темуджина своим ханом. Все промахи — палкой по его загривку, а жирные куски побед (это уж как водится) разделят сообща, как туши сайгаков на облавной охоте.
Но где же этот несносный Бамут? Уже второй день, как ему положено быть тут. Заставляет хана, словно мальчишку, выезжать в степь и портить глаза, глядя на эти ядовито-белые бескрайние холмы снега.
Джихангир поднялся на стременах, всмотрелся, будто оттого, что липнешь к этой снежной белизне, Бамут быстрее появится. Однако на сей раз глупая игра со временем его не подвела. Скорее почувствовал, скачет... скачет Бамут, наконец.
Вскоре они уже ехали стремя в стремя, говорили.
— Чем порадуешь? Что там за Резан?
Бамут поправил мерлушковую шапку: оттеняя его раскрасневшееся румяное лицо, она делала друга моложе, чем он есть. Вот так он всегда: если занят интересным делом, то расцветает, как тюльпан весной, чуть отдых — начинает мрачнеть и разваливаться.
— Порадовать особо нечем... Не договоримся мы с ними.
— Не дадут лошадей?
— Разве что продадут… — нерешительно вздохнул Бамут.
— Ну ты сказал! — озлился джихангир. — Этак никакой добычи не напасёшься, да и не могу я унижаться и с урусутами торговаться. То-то Бури с Гуюком повеселятся. Нет, нам нужна их покорность. Неужто слухи о разгроме Булгара сюда не докатились, не заставили задуматься? Чем страшнее завоеватель, тем меньше крови.
— Докатились. Да вот толку от этого чуть. Булгары — враги Рязани, говорят: так им и надо, что побили поганые бесерменов. — Боэмунд сбил с отросшей бороды налипшие сосульки, виновато улыбнулся. — И то сказать: где резвится мстительная радость, там страху привольно не пастись.
— Я чего-то подобного ожидал, — всё-таки расстроился Бату. Знал по опыту, если уж Бамут говорит, что ничего сделать нельзя, стало быть, так оно и есть. Но как не хочется втягиваться в очередное сражение. Джучи вербовал себе будущих друзей из числа вновь покорённых, такая судьба и Бату назначена. Но если гнать их в хашар на Резан (а кого же ещё?), какая уж после этого дружба? Да и гибнут в хашаре все без разбору, и умные и глупые, а ожесточение растёт. Гуюку и Бури что? Нагребут добычу — и домой. А ему с этими людьми жить, ему тут править. Мирись потом, попробуй, дави восстания. Ну да ладно, худое лучше знать заранее.
— Рассказывай, — на радость семенившим на расстоянии видимости тургаудам, Бату и Боэмунд повернули коней к ставке.
— Знаешь, сартаулы говорят: два тигра дерутся, а умный человек собирает шкуры, это знают все. — Боэмунд выбросил руки в стороны, как бы «расстилая» эту надоевшую поговорку как войлок, чтобы «ставить» на этот войлок серебряные кувшины новых рассуждений. Это была его обычная манера.
— Резан — это такой «умный человек», да? — охотно вступил в игру Бату.
— Всё так, но есть кое-что ещё, — улыбнулся лазутчик, — представь себе, эти тигры, а вернее медведи, никак друг друга не съедят и к драке за долгие годы привыкли, при этом наш разумник всё пытается помочь слабейшему, да так ловко, что постоянно получает по морде когтями. У него там уже живого места нет.
— Это называется не хитрость, а храбрость и удаль, — засмеялся Бату, — в жизни всегда найдётся копьё для желающих наколоть свою удалую рожу. Какие копья здесь?
— Видишь ли, Бату, здесь рассказом об одной Рязани не обойдёшься. Я тут долго тыкался по неправильным тропинкам, как осиротевший жеребёнок в вымя чужой кобылицы.
— Ты уже совсем монгол, Бамут. Подгоняешь мысли под лошадей, продолжай, — улыбнулся Бату.
От всех остальных джихангир требовал говорить чётко и коротко. С Бамутом — упражнял свой разум в цветастости. Без этого никак. Для разговора с послами иноземными годится, увы, только такой язык. Хан опять вспомнил несчастного эцегэ. Когда-то насмехался над ним, глупый. Теперь вот сам даёт повод для насмешек зелёных юнцов своей вынужденной многоречивостью.
— Не увидев зверя целиком, глупо в него стрелять. Откуда узнаешь, что послал стрелу именно в сердце, а не в ногу? Хищник, разъярённый лёгкой раной, вдвойне опасен.
— Хорошо сказал, анда. Именно этого понимания не хватает нашим заносчивым тайджи. При случае я напомню им про охотничью мудрость. Здешний диковинный край покрыт лесами, как ёж колючками. Гуюк и Бури настаивают, чтобы я ухватил этого ежа со стороны иголок, словно молодой пустоголовый корсак.
— Желания царевичей понятны. Ты будешь выть с иголкой в носу, они — пожирать перевёрнутого тобой ежа, — понимающе вздохнул Боэмунд. — Это удивительная страна, хан. Можно понять, когда род мстит роду за обиды... и так, пока совсем не сотрутся роды.
— Ещё бы. Даже зубы, если ими всё время злобно скрипишь, сотрутся. Такое было у нас до Темуджина, почти стёрлись «зубы».
— Можно понять, когда одно племя порабощает остальные и держит их в покорности, — продолжал плести Боэмунд.
— Это ему только так кажется. Чужие кости крепче собственных зубов. Не сотрутся зубы, так пообламываются, — вздохнул Бату, подумав о печальной судьбе, ждущей монголов, тающих от похода к походу, как лёд в котле, — а что здесь?
— Одна расплодившаяся семья доказывает свою полезность для остальных тем, что плодится специально для того, чтобы резать друг друга.
— Не понимаю.
— Честно говоря, и я не очень-то такое понимаю, — опустил свои пронзительные глаза друг.
Бату — не сам по себе, он — «всесильный» джихангир. Как бы ни пытались его послы решить дело миром, в их речах должно прозвучать это громоздкое слово — «покорность». Оно, как камень на шее упавшего в воду, превращает все умелые гребки в беспомощные барахтанья утопающего.
Впрочем, судя по тому, что успел выведать Бамут, переговоры окончатся неудачей в любом случае. Гюрга, коназ рязанский, слишком ничтожен, труслив, не уверен в себе, чтобы думать о жизни своих подданных. «Жаба раздувается, тигр прячется в кустах» — так говорил когда-то Маркуз, это очень верно.
— Он до смерти запуган ульдемирским коназом — это точно? — переспросил Бату.
— Увы. Когда-то владимирцы держали рязанских князей в каменной бочке. Кроме того, они дважды выжигали Рязань до горстки пепла, — грустно потупился Боэмунд. Все его старания уберечь здешних людей от избиения, похоже, пойдут прахом.
— Раб боится своего господина больше, чем врага. Такова правда, мой друг, — задумался джихангир, — Гюрга не осмелится дать нам лошадей и сено для войны с Ульдемиром, испугается его мести. Такое хочешь сказать?
— Да, но это лишь один из цветов в венке его страха.
Не так уж давно здешний князь Глеб пригласил на пир своих родичей и...
— Всех потравил, — догадался Бату, — что же ещё?
— Ну... не всех... Его изгнали. Но каждый из уцелевших боится: остальные соперники будут половчее.
— Что ж, знакомо. Чужая стрела скользнёт по щиту, родная попадёт всегда. Значит, говоришь: здешние предатели не боятся гнева Мизира? Тем лучше. Пусть не сетуют, когда именно мы станем его карающим мечом. Сами виноваты, — Бату в бессилии развёл руками, — Гюрга испугается собрать для нас ховчур из-за недовольства подданных, из-за яда соперников. Это весь твой венок?
— Нет, не весь. Есть ещё здешний епископ, есть и митрополит, — бросил Боэмунд последний цветок на будущую могилу Рязани. — Здешняя мелькитская церковь может позволить князю склониться перед кем угодно, только не перед несторианами — еретики всегда страшнее иноверцев.
— Вот и белоголовые говорят то же самое. Но почему так?
— Иноверец — враг безоружный, еретик вооружён тем же мечом, что и ты, — Священным Писанием. А ну как он искуснее им владеет, что тогда? Разве такое прощают?
— Так оно и есть, друг мой. Когда Субэдэй ходил на урусутов пятнадцать трав назад, они истребили его посольство. А всё потому, что послал к ним таких же, как они сами, служителей Креста, только не мелькитов, а несториан. Думал, наивный, что единоверцы друг друга поймут быстрее. Тем более что требовал он даже не покорности — невмешательства. Казалось бы, где тут можно оскорбиться? И вот ему урок.
— Здесь два урока, хан. Они что, не знали, куда идут? Почему не предупредили Субэдэя сразу? Я скажу почему — просто боялись ему перечить. «Раб боится господина больше, чем врага» — хорошо ли это?
— Увы, Бамут. Это ни хорошо и ни плохо. Просто так оно и есть. Поэтому трусость здешнего князя кинет его воинов на наши тумены. А мы, мы не так сильны, чтобы быть милосердными.
— Послушать тебя, Бату, получается, что сдавшиеся на милость — это настоящие багатуры, а погибшие в сече — трусы?
Хан и сам давно думал об этой несуразице, однако на сей раз нашёл что ответить:
— Скажи мне, анда, те, кого мы гоним в хашар, трусы? Или, может, храбрецы? Думаю, скорее трусы. — Хан склонил голову набок, наморщил лоб, отчего его узкие брови округлились. — Всё жду, надеюсь: вдруг кто-нибудь из этих несчастных овец предпочтёт такой позорной бесхребетности наши сабли. Нет, не видел пока такого. — Бату вдруг стал строже, брови распрямились, и между ними пролегла морщинка. — А теперь подумай: если Гюрга ринется в бой, боясь своих попов, родичей и ульдемирских поработителей, — чем он лучше овец из хашара?
— Кроме того, откуда им знать, что мы их не обманем, что не устроим резню, — ушёл Боэмунд от прямого ответа.
— А я бы запретил нашим входить в Резан, пусть себе запираются. Только лошадей и продовольствие дадут. — Бату подумал и добавил: — И воинов тоже. Был бы у нас «добрый город». — Хан печально улыбнулся. — Всю жизнь мечтал о своём собственном габалыке, да, видно, Небу не угодно.
— Не грусти, — утешил Боэмунд, — будут ещё тебе габалыки, война только начинается.
— Думаю, многие рязанцы сами присоединились бы к нам. Неужели им не за что мстить ульдемирцам? А отбить своих родных из ульдемирского рабства — разве не достойное дело? Разве удачная война со своими кровниками не предпочтительнее бессмысленной гибели под нашими стрелами? Эх!
Боэмунд вполне разделял подобные настроения повелителя. Но что он мог, только рассказать хану эту неудобную правду? Если нельзя спасти жизнь воинов, то, может быть, удастся оградить от истребления их семьи? Ведь раздутая жаба княжеской гордыни слепа.
— Бату, может быть, совсем не посылать туда послов? Если исход ясен, зачем рисковать жизнями наших лучших людей? Их непременно растопчут в гневе. — Он думал сейчас совсем о других жертвах.
Бату знал его лучше многих, сейчас он понял и недосказанное, и лицо джихангира беспомощно вытянулось.
— Я сам всё время об этом... — Он вдруг взорвался, как горшок, начиненный горючей смесью. — Кому это надо?! Истребление городов за гибель посла затеяли для того, чтобы каждый монгол знал — за него отомстят! Но послов всё равно убивают, и воины лишаются честно завоёванных рабынь и слуг! Темуджина давно нет, а его безумства продолжают торжествовать, и я к этому причастен! О, Небо!
— За такие слова казнят любого, — испугался Боэмунд, — но не будь так прост, повелитель. Твой великий дед, кажется, нарочно отправлял послов на гибель. Какой прекрасный повод для войны, не так ли? Ну вот, теперь нас казнят обоих за «неточную передачу мыслей повелителя». Я правильно излагаю наш приговор, да?
— Правильно, но не бойся, — пришёл в себя Бату, его улыбка получилась какой-то кривой. — Мы одни, а Хранитель Ясы в походе — джихангир, то есть я сам.
— Субэдэй рассказывал: «злые города» воины берут с меньшим рвением, чем обычные, — заметил Боэмунд.
— Их легко понять: всегда приятнее сражаться за что-то живое (приведённое после боя в шатёр) — не за пустые побрякушки, — ответил на это хан. — «Мёртвая добыча» — что с неё проку, ещё довезёшь ли домой? Такие сражения выглядят печальными и торжественными, как похоронный обряд, они и есть действо потустороннее, жреческое и бесконечно скучное.
— Не хотелось бы обрекать на подобное без нужды ни рязанцев, ни своих, однако... — начал собеседник.
— Нет, Бамут... Есть одно дело, ради которого всё-таки рискнуть стоит. Знаешь, как волки в голодные зимы выманивают из аилов глупых псов? Хватая их за гордость, как за холку. Но для этого надо самому пожаловать в аил.
— Не понимаю, — не очень-то скрывая недовольство, буркнул Боэмунд.
— Если уж без войны не обойтись, зачем нам лишние жертвы? И потом, я всё-таки не хочу лишать воинов добычи. — Бату как будто оправдывался? Но нет, он мягко повелевал: — Опять Яса, друг мой. Если город не сдался до применения таранов — пленных тоже не берут, есть в этом колодце мудрости и такое. Слушай же внимательно.
— Я весь — одно большое ухо, джихангир.
— Нужно, чтобы Гюрга не сидел за стенами, а вышел нам навстречу. Выманим глупого пса за юрты аила — не вернётся, бедолага, назад. А после этого быстро, без таранов, возьмём твой бедный Рязан...
Тут голос Бату вкрадчиво зашелестел, как змея в траве:
— Бамут, мне нужно, чтобы послом пошёл ты. Кто ещё способен плясать на этом тонком острие и не сорваться?
— Это будет неправильно, хан. Моё лицо примелькается, — возразил Боэмунд. — Для такого дела нужен человек отсюда, урусут. Среди моих людей есть подходящие. — Боэмунд говорил нарочито медленно, чтобы его отказ не сочли за трусость.
— Хорошо, но только не урусут, предателей здесь не любят. А ещё я знаю — местные жители такие правоверные христиане, что боятся колдунов. Особенно чужих, непонятных. На страхе неизведанного и проскочим трясину, как духа болот оседлав, — Бату лукаво прищурился, таким Боэмунд не видел его давно, — вот и пошлём с ними... ха-ха, чародейку, шаманку джурдженьскую. Нечего ей зря побрякушками громыхать да над животами распоротыми ворожить — всё равно никакого проку. Попугаем, чтоб неповадно было руки распускать. — Бату ладонями обхватил голову с боков — этот жест он унаследовал от матери, так она думала. Будто бы забыв про Боэмунда, посидел какое-то время молча.
— «Не примелькаться»? — вдруг чуть не выкрикнул тот. — Нет, Бату, всё не так, я не прав, нужно именно примелькаться.
— ?
— Помнишь Джамуху-сечена? — вкрадчиво поинтересовался Боэмунд.
— Главный враг Темуджина. Все знали про это, все ему доверяли. Но всегда как-то так получалось... гм... где Джамуха, там Темуджинова победа. А он на самом деле был его андой и главным лазутчиком. Казалось бы — Джамуху должны были раскусить ещё после битвы в Ущелье дзеренов, когда тот в самый важный миг отвёл свои войска, но нет — его слава главного врага только росла от поражения к поражению. Смешно, но так устроены люди...
— Так устроены шептуны...
— Правда, потом Темуджин благодарно зашил его в сырую шкуру... ибо тот слишком много знал. Погоди, погоди, на что ты намекаешь, друг?
— Но ты же не зашьёшь меня в шкуру?
— Ты хочешь стать моим Джамухой? Но постой, сама по себе мысль неплохая — давно пора растить врагов своими руками, но Джамуха был нойон, а ты... Ну, богатым купцом мы тебя сделаем, это нетрудно — мало ли их шатается и вести таскает. Но вот здешним нойоном... или бурханом, как Джамуха был... Нет, невозможно. Тогда... кем?
— Пока в народе не погибла вера, он не безнадёжен. Понял ли? Так что, попом? Или как там у них называются? — развёл руками Бату...
— Бери выше...
Юрий Игоревич и другие. Рязань. 1237 год
Рязанское княжество стояло гордо и прямо, в стороны не клонясь.
Стояло, как ручной медведь, которого охотники на верёвке в разные стороны с одинаковой силой тянут... Хватало тут охотников и Владимиру покориться, и в лоно Черниговского княжества вернуться. Всё это делало положение князя очень шатким.
Князь Юрий Игоревич был из той породы людей, для которых худшим из бедствий была тревога за неясное будущее. Ещё не дослушав до конца татарские требования — «вашей земли нам не надо — воюем мы с половцами, покоритесь, лошадей, кормов и воинов дайте и живите, как жили», — он уже ощутил, как заходили под ним ходуном дубовые полы. Стало ясно: спокойной жизни больше не жди, а та, которой ждать — смола за шиворот. Желание уже сейчас кинуться в сечу, как в омут головой, — чтоб неясность хоть чем-нибудь, да завершилась — захватило всё его существо. Он не мог даже думать о позорной выдаче коней и воинов. И не княжеская гордость была тому виной, а липкая, как чёрная смола, боязнь позора.
Проклиная неладную долю, он чуть на заревел в голос от досады. Это ж надо: его непутёвое княжество столкнулось с напастью первым. Шли бы татары через землю суздальцев, можно было и присмотреться, приноровиться.
Согласился бы суздальский тёзка Георгий уплатить поганым дань, а мы бы тут из-за прясел посмотрели, куда ветер завернёт. Ежели татаровья не тронули бы никого, смело можно было и рязанцам лошадками да лёгкой данью от них отбояриться. И никто бы Юрия Игоревича не стал срамить.
Сказали бы: раз САМ Великий Князь «мудро сберёг свою землю от пустого разорения», и рязанцам не грех покориться. Тогда просто неуважением к владимирскому дому было бы само желание отбиться от татар. Получилось бы обвинением великого князя в трусости, наглый вызов бы получился.
А если сии моавитяне слово бы не сдержали и Владимир пожгли (князь зажмурил глаза, как кот на солнышке, явилось зрелище сладостное — нехристи Владимир за грехи красным петухом потчуют). Что тогда? Можно и Рязань без позора покинуть. Стольный не устоял — куда Рязани рот разевать!
Из розовых, с сизыми жилками ноздрей вылетел резвый выдох. Эх, грёзы! Всё не так, всё наоборот.
Батыга что? Покуролесит слегка в наших краях и унырнёт в солончаки... А с другом милым Георгием свет Всеволодовичем жить да меды хлебать многие лета. Это тебе не окаянные нехристи, от земнородцев суздальских никакими стенами не закроешься. Вновь город до головней пожгут, засадят в каменные мешки на хлеб да на воду.
Да ещё и епископ проклянёт, причастия лишит. Без причастия оно — пострашнее погрому.
«Только-только город после суздальских иродов отстроили, пепелища тут и там. А если ещё и татары по сусекам поскребут, то уж и вовсе потом от тёзки житья не будет. Ведь ослабнем».
На снем[100] собрались к вечеру. Долго подтягивались пронские с ижеславскими, и с Мурома — ой как не спеша — подъезжали княжата.
Хоть и подумывал мечтательно Юрий отделаться конями, но обсуждать такое с родичами постеснялся. Знать бы наверняка, что проскочит Батыга мимо них на землю суздальскую да и свалит тех навек, чтоб и не встали более с колен богопротивные Всеволодовичи, не грех на такое и коней дать, и воев... Только ведь отобьются, окаянные, отсидятся за стенами каменными. А уж какой повод суздальцам будет и вовсе истребить Рязань под корень за то, что татар поддержали. Да и митрополит сподобится анафему произнести. Нет, об этом и думать забудь.
Поначалу Юрий обговорил всё с родными. Как и положено было в роду рязанском, ещё со времён злополучного отравителя Глеба княжеские отпрыски меж собою ладили плохо. Племянник Олег по малолетству своему свёл-таки разговор к возможности позорного договора. Тряхнув красивыми кудрями — а красота, она, ей-же-ей, всегда речей убедительней — он завёл разговор в опасное русло.
— Я много про тех татар слышал, загремел в горнице его не по возрасту крепкий басок, — вязкие они в бою, купцы сартаульские и булгарские много про то рассказывали. Ежели уж начали с кем воевать, лягут костьми, а на полдороге не встанут. Разобьём — на их место другие придут. Уж лучше сразу с ними мир наладить.
— Уж не трусишь ли ты? — удало подбоченился Юрий. — Говорил великий воитель Святослав: «Только мёртвые сраму не имут».
«Как сказал? Хорошо сказал»,— понравился себе старый князь.
— Трусость и осторожность разные сани везут. Ежели с ними по-доброму, так они и правда слово держат. У них такой бог есть, Мизир зовётся. Он за клятвопреступничество татар карает. А ежели какой город не сдался — лютуют татары страшно, а ежели сдастся, так и ничего. Живут себе, как жили.
— Это кто ж тебе ентих сказок в уши надул? Купчишки безродные иноземные, нехристи?
— И то верно, что ратятся они с половцами много годов, не врут их послы, — не обращая внимания на вспышку отцова гнева, спокойно продолжил Олег. — Да и пусть бы себе учинили Котяну разор. Неоткуда было бы князю черниговскому головорезов зазывать на нашу голову. Что бы он делал, сокол сизокрылый, без ихних сабель?
— С Черниговом мир у нас, — не очень решительно напомнил Юрий.
— Не устоим мы, — печально вздохнул несносный племянник. — Народ здешний нас не больно-то любит. Что ему татары — собрал скарб да и ушёл в леса, ещё и рады будут.
— То есть как? — чуть не развалился надвое от гнева Юрий. — Что ты несёшь, репа недоспелая?! Смерды татарам обрадуются? Из-за нехристей поганых князя своего законного в беде бросят?
— Кто и обрадуется! — огрызнулся Олег. — Тиуны, сборщики монастырские — не мёд лесной. Чуть заимку распахал, энти с ложкою да с крестом тут как тут. Обрадуются, чего там. Степняк на огнища лесные не полезет. А наших тиунов повырежет с голодухи, землепашцу только польза. Слыхал, бают: как собак нерезаных — это про них. И уж если на правду пошло, так не такие они и нехристи. У них там есть те, кто Христу поклоняются. Только по не нашему обычаю.
Дрогнули разноцветные слюдяные оконца. Тут уж и сам князь, и братья от распирающего нутро смеха едва не раскололись. Видно, и вправду, молчок молчком, а переволновались все от невесёлых вестей. Хохотали смачно, как дружина после боя.
Только вот бой-то, бой-то был ещё впереди.
— Ой, держите... ой, умру до сроку назначенного, — тёр кулаком красные глаза князь, — татары — християа-не... Ой!
— По-твоему выходит, ежели те, кто крест в руках крутит, аки собака с костью им играется, так уж они и христиане, — покровительственно пожурил грамотный Роман, — владыку-то вполуха слушал, видать? У тебя небось и прелестники латынские христиане, и немцы заморские. Так выходит? Не стыдно, неуч ты стоеросовый...
— А что... — неуверенно буркнул Олег. Он уж и сам понял, что лишку хватил, о немцах-то. Да и говорил вовсе он несерьёзно, просто хотел батюшку позлить.
— Ох, держите ноженьки, — вытирал кулаком глаза Юрий. Он уже отсмеялся, полегчало. — Немцы у него — христи-яа-не...
Так или иначе, обстановка в горнице изменилась, стало как-то дружественнее, что ли. Вспомнив давно ушедшие времена, когда родня слушалась его просто так — как старшего, — князь отверз уста, уже успокоившись:
— Ныне, други мои, нету более Царска-града, латынами за грехи пленённого. А потому токмо одна осталась земля христианская — наша святая, наша Русская земля. А остальные земли ныне — суть адовы. И люди там — ровно живые мертвецы. Так-то! — торжественно произнёс князь прописную истину.
Впрочем, ежели бесово баловство ради важных дел отбросить, то и без его слов такое все знали. На непродолжительное время в горнице лежала — не шевелилась — согласная соборная тишина. И даже Олегу стало немного стыдно за своё ребячество.
На снеме взросло мужественное решение — сказать татарам прямо и честно: «Когда нас не будет, всё ваше будет».
Неуживчивый Олег хмыкнул, сказал напоследок:
— Невнятно это. Так можно понять, что, мол, дайте нам сбежать, и тогда всё ваше будет...
Но его уже никто не слушал.
Боэмунд. Рязань. 1237 год
Некоторые думают, что князья всегда гонят на войну мирную толпу — хорошо, ежели так. Но бывает на Руси и наоборот: народ гонит князей. И на войну, и просто... вон из города. Капризный тут народ и вспыльчивый. Например, как-то раз очередной «собиратель земли Русской, Всеволод Большое Гнездо осадил город Торжок. После скучной осады ему удалось уладить разногласия с соперниками-князьями, хотели уж было «сильные мира сего» разойтись по-хорошему, но пришедшие под эти злополучные стены простые ратники такое не одобрили. «Мы не целовать их пришли», — сказали сердобольные суздальцы. И пришлось бедному князиньке умилостивить своих смердов — устроить резню жителей Торжка.
Нравиться толпе — надо много хитрости, а вот чтобы жили в согласии и единении люди талантливые, цепкие, умные — надо много ума... Слишком много для просто человека. Счастлива та страна, где есть такое, но в поисках оной нужно сразу в райские края залетать — никак не ниже. А на земле царит согласие только в воинстве Сатаны.
И решил Боэмунд понравиться толпе, а уж толпа своих вожаков куда приведёт? Вот именно — туда, где царит согласие.
Так-то оно так, но что за напасть? Чем убедительнее выглядели его доводы, тем более тяжёлым, злобным недоверием наливались глаза здешних людей. Теперь он стал понимать, почему так часто убивают на Руси послов. Монголы того, далёкого Субэдэева посольства пытались спокойно растолковать выгоду. Но в том-то и дело, что выгоду тут считали грехом.
Если кто-то понимал, что его просят поступить «по выгоде своей», он реагировал так, будто его склоняли к воровству. Здешний обычай требовал просить людей поступать «по правде».
Всё усугублялось ещё и тем, что «по правде» — в местном понимании — это всегда против выгоды. Например, перебить посольство еретиков — дело богоугодное, но невыгодное.
Сначала он даже растерялся, но посидел, подумал и до него наконец дошло, откуда несуразица: тут всех с молоком матери приучали, что Диавол прельстителен и рассудителен. Он искушает «умными» речами.
Сам будучи родом из латынства, Боэмунд непроизвольно хотел вызвать симпатию. А это был худший из путей, тут скорее прислушались бы к убогому, обделённому... Видеть обделённого — это их настроение и доверие сильно увеличивало.
Любили тут каких угодно, только не разумных. Как будто разум — это сундук с золотом, все его хотят иметь, но соседу лучше не показывать. А на все эти причудливые узоры накладывалось и вовсе непонятное: при всём при том — тут было много людей ушлых и смышлёных. Гораздо больше, чем можно ожидать от страны, столь не уважающей разум.
Была тут и другая беда — книги. Чем больше здешний грамотей был заморочен книжной премудростью, тем меньше в нём оставалось ума. Дело в том, что Град Константина (по-здешнему Царьград), не так давно поверженный соплеменниками Боэмунда, принёс сюда, в «варварские земли», отнюдь не чеканные строчки Овидия и Софокла. Он перегрузил неокрепшие умы бездарной апологетикой базилевсов[101], надменными баснями стародавних блюдолизов про «Александра и Кесаря». И это в лучшим случае. А в худшем — точнее, в обычном — местные вивлиофики заполнялись неудобоваримыми житиями, житиями, житиями и ещё раз житиями.
У кого и была к учению тяга, от такого шарахаться будет, как от Змея свет Горыныча. А кто умишком некрепок, тот и вовсе заблудится.
Боэмунд с усмешкой признавался: и в его бедолашной Европе, увы, точно так же. «Загубит людей «говорящая бумага», ой загубит, зря мой Бату до сих пор от неё в восторге».
Да, всё-таки хорошо, что он не сунулся сразу. Хотел выдать себя за булгарского купца... но сообразил: ему, как нечестивому, могут не поверить. В здешних поселениях, не стоящих так близко к торговым путям, как северные города на Волге (о тех дума особая), бабы, видя иноземца, шустро загоняли своих любопытных детишек по домам, ибо любого неправославного считали чуть ли не чёртом — нечего пялиться на нечистую силу.
Такие дремучие формы почитания Христа в его родной Европе закончились много веков назад, и теперь там осмеливаются рассуждать о делах изящных: существует ли высказанное слово само по себе — после того как его произнесли — или нет? А если слово исчезает, то куда? «Вещь» оно или только «имя»?
Судя по воздействию слов на здешних людей, они и после произнесения существуют.
Каждый в отдельности представитель толпы — человек взрослый, но сама толпа — всегда как доверчивый ребёнок. Поэтому страны народоправные всегда во власти детского простодушия.
Достойные упоминания толпы стали таскаться за Боэмундом не сразу. Пришлось потрудиться помощникам. На такое дело отрядил джихангир десятка три шептунов и «очевидцев» из тех рабов-урусутов, которые были освобождены из хорезмийского плена ещё Джучи. Все они были язычники — явные или скрытые — из тех, которые ненавидели попов, князей и их тиунов. Ненавидели за то, что они секли топором родовые святыни, за то, что сжигали в амбарах тех, кто отказался Кресту поклониться. Ведь местные духи не всегда безропотны. И хорошо, если их месть обрушится на княжьих людей, а ну как на тех, кто такой разбой на своей земле безропотно допустил?
Будучи скрытыми или явными язычниками, эти люди охотно лгали про христианские чудеса и знамения, окружавшие Боэмунда (то есть того, за кого он себя выдавал). Возмездия за кощунство они не страшились, наоборот — свои обиженные духи только спасибо скажут.
Вовсе «здешним» не обернёшься никак — как языки ни учи, выдаст тебя говор, — поэтому Боэмунд представился сыном православного человека из Булгара. Всхлипывая, рассказывал слёзную историю о том, как продали его, малолетнего, злые мордвины в булгарскую сторонушку. Мордвы тут не терпели, точнее, не терпели её в вольном состоянии, но многие зажиточные рязанцы держали в хозяйстве мордовских рабов. Любить своё отражение — удел немногих. Поступок мордвинов показался им достаточно отвратительным для того, чтобы растопить первую корочку льда-недоверия к Боэмунду.
С удовольствием выслушивая, как измывались над ним мордвины, они доверительно крякали, внимая рассказу о том, как истязали беглеца булгары. Однажды присутствовавший тут же чернец испепелил Боэмунда такими волнами чёрной зависти, что он предусмотрительно сбавил пыл.
К булгарам тут тоже относились очень нежно. Зная про это, страстотерпец уважил почтенное собрание, нарисовав картины разорения бесерменской столицы войсками злого Батыги.
Искусство состояло в том, чтобы не переусердствовать в яркости красок. Здесь ещё жива была память о временах, когда не столь былинные булгарские головорезы взяли на копьё город Муром и поживились окрест с соседской дотошностью. В пламенном повествовании так нужно было ему извернуться, чтобы вполне законная радость от страданий «дальнего своего» не отыграла неуместной симпатией к татарам, жгущим гадких булгарских нечестивцев.
Похоже, он всё сделал верно. Сквозь удовлетворение от возмездия «нехристям» кое-где проскальзывало грешное сочувствие к людям, которые во всём мире страдают от разора одинаково. Рисуемые Боэмундом картинки Булгара напомнили многим пожилым рязанцам зверства суздальского князя Всеволода Большое Гнездо.
Возведя притихший народ на вершину страстей, сказитель наконец поведал о своём оскоплении в татарском плену. Дальше следовала душещипательная притча про то, как явилась к нему той же ужасной ночью Пресвятая Богородица и подучила: «Пойди, говорит, в стольный город Рязань и спаси, научи князей, как татар опередить, напав на них в чистом поле».
— Вот так и сказала, в стольный, мол? — крикнули из толпы больше с надеждой, чем недоверчиво.
С трогательным простодушием рассказчик развёл руками:
— Уж я не знаю... Что было мне, то и сказываю. Тут он, понятное дело, не сомневался ни в чём...
— Вестимо, стольный! — заволновались ближайшие. — Любо. Будем ещё стольным-то городом. Верно, а, узорочье рязанское, али нет?
Понятно, что с ними охотно и громко согласились дальние.
Народ зашумел вразнобой, но и тут не обошлось без опасного конфуза. Кто-то в вернувшейся было тишине растолкал толпу в кожухах, лукаво прищурился и заорал, тыкая в Боэмунда коротким перстом:
— А которая была из Богородиц? Ежели с Новгорода али черниговска Пресвята Дева, слушать ли нам, рязанцам, льстивы её речи?
— Да почём же я знаю? — растерялся Боэмунд.
Он вспомнил жалобы мелькитских священников из Самарканда. Все они сетовали, что в «Стране Рус» народу (да и многим тамошним клирикам) трудно растолковать, что Богородица — это не та большая икона, на которую молятся сообща в главном городском соборе, что икона — пусть святое, но не более чем изображение. Потому часто бывает — «чужих Богородиц» жгут и уродуют.
«Когда один урусутский коназ захватит город другого коназа, тамошние храмы обдираются до мяса. И таковое, по язычеству своему, не мыслят они богохульством. Бывает, «вражью Богородицу» повяжут да и увезут к себе, повесят в своей церкви. И таковые зовутся у них «полонянками». У нас так принято обходиться с джиннами, запертыми в медном сосуде. И джинн, и здешние иконы, похоже, мнятся волшебными слугами тех, кто ими владеет», — смеясь, рассказывали самаркандские учёные мелькиты.
Боэмунд растерялся было на какой-то миг, столкнувшись с местными особенностями воочию, но оправдываться ему не пришлось. На «неверующего Фому» тут же накинулись:
— Лапоть ты, Петрята, ей-ей. Мозгов, как в голове у кура[102] будильного. Будет тебе черниговска Богородица Рязань стольным градом величать...
— Верно! Верно бает... Пущай далее сказывает!
Боэмунд поведал, как чудесным образом ослабла у него верёвка, какой он был связан, как удалось ему сюда счастливо добраться.
В миг, назначенный капризной судьбой, из глубин народного моря выскочил оборванный юродивый. Отпрыгнув назад от своей пыльной пятерни, он завопил истошно тонким голосом:
— Стойте, православные, не верьте сему прелестнику! Истинно глаголю — никакой он не скопец праведный, а Дьявола порождение!
Это была главная задумка Боэмунда. Посрамление клеветника (понятно, что таковым был один из его людей) станет тем событием, которое сольёт чаяния народа в единый вселомающий порыв. Один человек способен задуматься о том, что вовсе не обязательно истинность увечья может быть доказательством правдивости в остальном. Народ же на такую удочку обязательно клюнет, а те, кто засомневается, поднять свой робкий голос против такой «соборности» не рискнёт — пусть только попробует.
Его заботило сейчас другое, как бы гнев окончательно прозревших радетелей справедливости не перекинулся на ЕГО человека, мужественно рисковавшего своей шкурой. Причём эта отчаянная смелость была настоящей. Толпы, которые гонят в бой на взаимную резню, таковой обычно не обладают... Только неопытный человек принимает «храбрость» в бою за настоящую, присущую человеку, храбрость. Но здесь-то был не бой.
Впрочем, волновался он зря. Как только первая волна правдоискателей подхватила Боэмунда в свои заботливые любопытные лапы, его помощник тихонько растворился в толпе — и след его в натоптанном снегу простыл. К вящему своему восторгу убедившись в «истинности» оскопления засланного хитреца, «узорочье рязанское» обернуло своё хищное многоголовье на простывший след клеветника... и совершенно безуспешно.
— В степь! — всколыхнулось море горячих голов...
— Обрежем хвосты коням татарским! Вспорем Батыге поганое брюхо!
— Попомнит, нехристь, рогатины рязанские...
Боэмунду вдруг сделалось пронзительно жаль этих людей, и он робко попытался оправдаться перед самим собой: «На их же благо. Ежели запрутся в городе, не иначе продержатся до стенобитных машин. А тогда — вырежут всех до сосунков. А так, глядишь, кто и уцелеет». Но легче от такой мысли не стало.
В Рязани боязнь бунта у князей в прожилках. Каждый претендент на власть, чтобы прежнего скинуть, начинает будоражить «обчество». В Рязани только свистни — побузить всегда охотников найдётся. Потому не скупится власть на подачки для буянов, чтобы «справедливый люд» не разорвал князиньку на части, как во времена укромные поступили со злополучным Игорем Ольговичем в стольном Киеве, да и не только с ним.
Рязань не какой-нибудь там Господин Великий Новгород, где с простыми горожанами-смердами никто не считается, где ничего толпа не решает. Это в Новгороде правит не слепая вольница, а разумное меньшинство из вятших горожан, купцов да бояр. Там, в полночном чудо-городе, собираются эти богатеи — всего несколько сотен — на узкие собрания, называемые по-здешнему «вече» , куда юродивых, бродяг и крикунов пущать не велено. Собираются и решают важные вопросы.
Конечно, было вече и в Рязани, но силы и власти реальной оно не имело. Здешние вятшие робели перед княжьей старшей дворней (дворянами по-здешнему). А те, заслонясь копьями дружин, тоже боялись, не только бунта. А от такой напасти ничего не спасёт, всех в ножи пустят, и такое уже не раз бывало на светлой Руси.
«Да, — подумал Боэмунд, — ничего нового. Даже великий Юлий Цезарь, даже император Нерон стелились перед толпой, хлебом и зрелищами кормили. А когда просила ненасытная толпа чью-то голову (пусть и голову друга), приходилось таковую выдавать».
Чтоб в стране тёмное большинство не крутило разумным меньшинством, очень надо стараться. С властью демоса (и её вездесущим побегом — тиранией) не всякому бороться по плечу. Удавалось такое в Венеции (где правил Совет дожей), в том же Новгороде, но уж никак не в Рязани. Впрочем, до таких глубин «народоправства», как, скажем, Великий Рим эпохи упадка, Рязань ещё не докатилась — была покуда слишком «дикая».
Юрий Игоревич народа боялся, а чем больше чего-то боишься, тем больше это скрываешь.
Во времена стародавние шли на стольный Киев половецкие полки, и — так же как сейчас — требовал у князя народ вести его на половцев. Не послушался Изяслав, не повёл войска во чисто поле, и чем же всё дело завершилось? Погнали киевляне болезного из столицы, не успел и чихнуть. А из поруба вытащили тогда смутьяны Изяславова врага Всеслава Полоцкого — веди, мол, нас в бой.
Да, задуматься есть о чём. Долго ли, коротко, был приглашён Боэмунд в круг более узкий (куда бы они делись). Теперь он за себя не боялся — народных любимцев, особенно тех, кого «Богородица коснулась», трогать опасно. Это тебе не послы иноземные. В Новгороде его пригласили бы на вече, и там пришлось бы Боэмунду совсем кисло — покрутился бы, как муха в кипятке, но здешний «узкий круг» состоял не из купцов и не из вольных бояр, а из княжьих доверенных людей, во всём от него зависящих.
Однако оборотень всё равно насторожился. Здесь были люди не то чтобы более трезвые, чем в толпе (хотя и не без того), но главное — их было меньше. А значит, говорить с ними нужно было по-другому. Не столько про знамения и чудеса, сколько о том, что «за Пронском главный табор татарский, а силы поганых рассеяны загонами малыми от него до Вороны-реки».
Так оно и было. Рассыпавшиеся вблизи пронских застав дозорные сотни рыскали по сёлам в поисках жратвы и сена. Неполные тумены Гуюка, Бури и Бату (половина людей ушли с сыном Тулуя Мунке на охоту за половецкими запасами) стояли отдельно. А между ними, увязая в рыхлом снегу, мотались, переругиваясь, утомлённые туаджи — порученцы. Расписывая в заманчивых красках богатства «главного табора», Боэмунд не упомянул только об одном — о том, что он нагнетает беду на разлюбезного Гуюка.
Рязанцы, конечно, пошлют людей на разведку, таковая покажет, что Боэмунд не соврал, — тут ему нечего бояться. А простой народ на площади нужно было будоражить для того, чтобы князь и его воеводы не столько думали, верить ли ему или не верить, сколько искали подтверждения тому решению, какого от них требовал народ. А под таким нажимом бдительность неизбежно притупится.
Стоянка Гуюка действительно самая пышная, крупная и яркая. Этот нетерпеливый сластолюбец потащил с собой в поход даже гарем. Злополучное нападение, в которое соглядатай джихангира пытался ввергнуть рязанцев, будет иметь и ещё один смысл: не грех попугать зарвавшегося царевича, потерявшего весь страх перед врагом. Его тумены состояли из кераитских и найманских ветеранов, для которых не было в жизни ничего более страшного (всё повидали), чем их драгоценный предводитель.
Своих и вправду нужно бояться больше, чем врага. Но не настолько же, в самом деле, бояться, чтобы сдаться в благодатное рабство кому угодно — только бы избавиться от невыносимой жизни на «свободе».
«Глаза и уши» Бату, рассеянные по тысячам Гуюка, с тревогой сообщали: если дотошный тайджи так и будет «драть кожу с лица, поскольку в задней части всё содрано», встреча с противником не принесёт ничего, кроме добровольной сдачи в плен всего войска.
Как и ожидалось, на княжеском снеме было дано «добро» на самоубийственный степной поход за Пронск — главное было сделано.
Олег. До 1237 года
Олег настолько не соответствовал образу княжеского отпрыска, каким его представляли в здешних местах, что его никто не воспринимал всерьёз... Если бы он был единственным, драгоценным дитём в семье, его воспитанием занимались бы строже. Но для светской гордости князя Ингваря Игоревича, батюшки, вполне хватало дотошного Романа.
Олега любили той снисходительной любовью, которую могут позволить себе те, чья родительская хищная потребность «оставить после себя своё продолжение» вполне удовлетворяется другими детьми. Так любит девочка тряпичную куклу... С такой доброжелательностью, отстранённой от уважения, тискают пушистого щенка. И в обиду не дают такого щенка особенно рьяно, и жалко такого больше других, но жалостью не гордой, не светлой, а той животной — местные попы сказали бы «земнородной» — которая не воспитывается, а рождается вместе с нами, как досадная помеха на пути настоящих правильных добрых дел.
Как известно, глупость определяется не тем, ЧТО человек сказал, а тем, КТО это сказал. Поэтому что бы ни говорил Олег, то и было глупостью.
Юрий Игоревич, не будучи искусным «душеведом», приглашая на важные княжеские советы вместе с серьёзными людьми ещё и «дурачка», поступал очень правильно. Поучая непутёвого братца, старшие как бы мирились между собой. Если есть против кого дружить и величаться — дружба всегда крепче. Да и, чувствуя своё явное превосходство над Олегом, старшие мало того, что о своих сварах забывали — они ещё и оборачивались к трудному делу самой лучшей своею стороной.
А Олег меж тем, от рождения зная, что он глуп и смешон, не тратил время на то, чтобы доказывать себе самому, мол, это не так... Если бы Олег был немного постарше, наверняка научился бы извлекать из такого отношения к себе должную выгоду. Так делали в разные эпохи великие интриганы. Но в том-то и дело, что интриганом он не был. Он жадно пил из необъятного корыта любознательности, что твой беззаботный смазливый поросёнок.
Как и положено сказочному сыну-дурачку, оттеняющему «стати» умных братьев, у Олега была разумная и пригожая жена. Евпраксия являла собою ходячее несчастье для Романа, ибо жестоко обманула его самые лучшие ожидания. Надо же так извернуться окаянной... Но теперь уж ничего не исправишь.
Известно, узы брака — золотые цепи, не пускающие на волю греховные страсти. Но с Олегом и Евдокией получился конфуз — эти цепи не позволяли отнять сокровище у «недостойного» и отдать «достойному». Поэтому остальные братья тихонько лязгали зубами.
А дело было вот в чём.
Евдокия — третья дочка невзрачного пронского князька. Не таким уж славным и влиятельным было Рязанское княжество, чтобы князья его не могли позволить себе маленькую слабость — женить своих сыновей не на родовитых уродинах, а на девках пригожих, правда, не из смердов, но всё-таки. Поэтому старшие женились на пышнотелых, аппетитных молодухах. Что касается до забавного медвежонка Олега, так его детский лепет никто и слушать не стал: женили и вовсе в малолетстве — ему-то, дурню, какая разница.
И вот тут Господь, которому смеяться и вовсе не положено, подстроил злую шутку. Пригожие пышки-жены старших детей несколько лет спустя после свадьбы расплылись на княжеских харчах, превратившись в сварливых и дородных свиноматок. А Евдокия, как назло, была из тех детей, на кого в детстве и смотреть противно. Зато потом что? Вот именно.
И стали старшие завистливо облизываться на стройную красавицу, прозванную за нездешнюю стать «ромейкой».
— Эй, княже, где тако сокровище высватал? — шутливо и восхищённо цокали любопытные. Распущенные слуги Олега держали себя с ним запанибрата. Но из любви ли к нему иль ещё чего непонятного, но всяких пакостей в хозяйстве было у него меньше, чем у его грозных родичей.
— Да в Цареграде, у самого царя ромейского. Иль не слыхали? — отшучивался Олег.
— Да как же... ромеев-то пленили давно, — разводил руки тот, кто поближе к премудрости книжной, но такого на подначке легче подловить. С книжным-то умом, известное дело, житейский не уживётся.
— Вот и пленили, потому как последнюю красу оттуда умыкнул, — весело скалился Олег, — с горя-то и пропили благочестие своё ромеи. Так ли? А Руси — оттого благодать.
Ещё б Рязани косопузой, средь лесов утонувшей, с цесарями родниться. Да и нет больше никаких цесарей, ибо Царский Град в руках у латынов. Однако красивая байка так и пошла гулять в народе. Олег, мол, из Цареграда невесту себе умыкнул, да не простую — царску дочь. Любо.
Евдокия Пронская и Олег, женившись ещё детьми, вместе играли, читали с бересты, разъезжали с гриднями по ближайшим городам. Ежели бы повстречал Олег Евдокию, такую недоступную и пригожую, в более взрослом возрасте, вряд ли смог бы её увлечь своими шальными думами. Но поскольку уже была она здесь, не больно-то он и стеснялся. И представал перед ней в самом искреннем своём обличии.
Был Олег из тех редких людей, которые при других — когда выкобениваются принуждённо — мало заманчивы, а вот наедине с друзьями весёлые и яркие. Поэтому миновало эту странную семью обычное разочарование. То самое, которое постигает многие семьи, когда муж и жена предстают друг перед другом в истинном своём обличии — пустом и заурядном. У Евдокии и Олега всё было наоборот.
Вылезая в большой мир из своего семейного мирка, они ничему и никому не завидовали, ничего не хотели... Всё у них и так было.
Может быть, этим во многом и объяснялась та бесшабашная развязность языка и ума, которую Олег мог себе позволить только в семье. Он не уподоблялся братьям, буйну голову сломавшим, как бы честь свою княжеску не уронить, время своё праздное проводил не только с праведными и высокородными. Любил он послушать чудные сказки бесерменских и латынских купцов, смердов, скоморохов, ушкуйников из Нова Города...
Черпая ересь о мире у того людского разноцветья, с кем уважающий себя христианин почёл бы за грех и словом обмолвиться (кроме как на базаре о цене товара спросить), он знал многое, в том числе и о татарах. Знал и складывал в свою копилку памяти просто так, не думая когда-нибудь использовать.
Просто интересно — и ладно.
Олег и Евпраксия. 1237 год и ранее
Подъехав к своему терему, он кинул конюху узорчатый витень, передал поводья. Сморщив покрытое оспинами лицо, старик повёл коня рассёдлывать.
Олег, миновав резные сени, взбежал по лестнице в горницу.
Евпраксия радостной собачонкой кинулась ему на шею — величавой и неприступной она была только вне дома. Её длинные «царские» брови удивлённо взлетели: что-то было в муже не так.
— Опять братцы поучали, дак и наплюй, — обхватив его за поясницу мягкими округлыми руками, она отстранилась, как будто для того, чтобы внимательнее заглянуть в лицо. Всегда вот так всматривалась, что-то ещё искала, опять новое, новое. — Тебе чего поесть? Я разом... Глаша! Олежа пришёл! Подсуетись-ка...
Внизу затопали резвые ножки горничной холопки — мордовки.
— Полно, — погладил он жену за белую, с синеватыми жилочками, холёную руку, — опосля снема уж так напичкали... уж так. По сей час в горло не лезет... Не о том забота. — Олег мягко расцепил руки жены, опустился на лавку. — Плохи дела. Уходить бы надо, Евушка, да вот куда? Как будто бы и позор сие, а не уходить — глупость того пуще. Опять мужиков из-за неё родимой, из глупости, помирать заставим. Эх, напиться бы как вчерась. Видеть ничего этого не могу, — он вздохнул так, будто бы всплыл из воды, — да и сделать ничего не могу...
— Суздальцы походом идут, да? Ну вот, жили — не тужили, — нерешительно пробормотала княгиня.
— Кабы так, оно бы проще. Нет, Евушка, татары послов прислали... Они через земли наши и суздальские на половцев ударить хотят. Вот и просят десяту часть от всего. — Помолчал, добавил. — Ну и покорности, само собой. Вдобавок к овсу для коней.
— Те самые татары, которые монголы? — вспомнила она прежние мужнины рассказы.
— Вот-вот, те самые монголы, которые татары... — привычно поддел Олег, она невольно улыбнулась. — Да ещё с ними небось с десяток языков, начиная с половцев, и бесермены, разве только — не латыны. Такая вот прибаутка, Евушка. — Олег снова стал серьёзным, а это ничего хорошего не предвещало. Серьёзность у Олега означала растерянность.
— Видать, справедливый князь у татар, ежели столько народу за ним идёт невесть куда. Всех кнутом не постегаешь. — Её мысли, как всегда, подскочили не с той стороны.
— Будешь тут справедливым на чужом горбу, — наконец улыбнулся Олег, — тако и мы, то бишь князья свет Рюриковичи. Ежели бы здешний народ за нас стеной стоял, за что и волноваться?
— Что же с нами будет? — Евдокия спрашивала, конечно же, не о судьбе этого города, который так и не стал для неё родным. Но у них был первенец, который заменил прежнюю свободу на желанное бремя.
Вместо растерянности на неё вдруг нахлынула радость. У них уже было за что беспокоиться — значит, жизнь проходит не мимо.
— Батя им, конечно же, ничего не даст — это ясно. А ещё того хуже — погонит дружину в чисто поле: славу себе искать на слезах несчастных смердов. Всё, как всегда. — Он легонько стукнул кулаком по столу, как бы боясь сломать. Стол-то был свой, не то что особая ценность, но часть их гнёздышка, которое скоро разорят.
Он звал её Евой, немножко от «Евдокии», но больше оттого, что они вдвоём действительно были тут как Адам и Ева, изгнанные из рая за то, что осмелились думать и говорить по-своему. Не так, как принято в здешнем раю. И рожала она тоже — в муках, как проклятая Ева... Тогда он сидел за стенкой и думал, что задушит этого ребёнка, если тот её убьёт, вылезая не свет. Такой ценой он становиться отцом не хотел.
— Господи! — В тот раз он молился очень пламенно. — Не мсти нам. Пусть и мёртвого родит, но сама, сама живая будет.
Уже потом он с запредельным ужасом подумал, что призывал такой молитвой нечистую силу — ведь новая жизнь всегда важнее старой. Ибо младенец пред Богом чист, а на ней лежит грех не только потери невинности, но и их общей с Евой сумасшедшей радости во время той важной потери.
Она осталась в живых, а после, когда он во всём тихо признался, уверенно произнесла:
— Волхвы в наших, пронских, лесах говорят: самый страшный грех — осуждение любви. Если Бог есть Любовь, он не может хотеть, чтобы её осуждали... Но... — она помедлила, — на нас не было греха — теперь есть. Из-за этой твоей глупой молитвы. — Потом ещё раз, всплеснув руками, посетовала: — Но разве можно просить, чтобы сын родился мёртвым... Кайся, долго кайся теперь...
Она не сердилась за сына, ведь всё тогда кончилось хорошо. Они были живы... пока.
С тех пор Олега не оставляло это чувство, что их счастье ненадолго.
— Слышал я много про этих мунгалов, не нам их одолеть. Князьям что? Покрасовался на поле сечи да и в бега. А знаешь, что про них, про татар-то сказывают?
— Ну. — Она слушала. Знала: ждёт от неё не утешения — совета.
— Ежели до кого они прикоснулись, тех уж не оставят...
Жена насупилась, и Олег усмехнулся, отшутился. Злая шутка всегда прибавляла князю разума и сил, сравнил:
— Это аки жизнь, да, аки жизнь: кто на свет народился, того уж она, окаянная, не оставит...
— До самой смерти, — продолжила супруга. Мягко, не скрипнув, как из воздуха сделанная, она присела рядом.
Олег вздрогнул, ему однажды приснилось, что она умерла, но продолжала прилетать к нему такая вот... бесплотная. Бесполезно трогать... только тоска, тоска.
Он испуганно притянул её к себе, сжал тугие запястья.
— Ты чего? — удивлённо встрепенулась.
— Да так, — вздохнул он, — надо бы дать мунгалам то, что они просят, — это немного. Их можно понять — любое наступающее войско сделало бы так же на их месте. Что же им ещё остаётся делать? Но, увы, они не только наступающее войско... — Олег опустил голову на покатое плечо жены. Усталость (не столько от дел, сколько от дум) напоминала о себе.
— А что ещё? Может, ты поспишь, Олежа, а?
— Сперва скажу, а потом и поспать можно. Вот послушай. В Ветхом Завете есть такое: Исус Навин стал лагерем на Моавской равнине и отправил в Иерихон соглядатаев. Семья распутницы Раав укрыла их у себя и не выдала. Она спасла свою шкуру ценою гибели своего народа. Так вот, теперь она святая и родственница другого, самого важного святого — Исуса.
— Я это знаю, Олежа... Владыко говорил, что так она спасла свою душу от ада. Предательство язычника — это не предательство.
— Ты с ним согласна, Ева?
— Нет, Олежа, нет. Зачем ты это рассказал? — тревожно всматривалась в лицо мужа княгиня. Оно как будто постарело.
Олег, похоже, опьянел от своих забот. Но, увы, слишком сильно. Не буйствовать — просто спать. Лицо жены то расплывалось, то сужалось, то двоилось. Но надо было сказать всё, иначе он просто не выдержит. Он — единственный человек в Рязани, знающий ЭТО. Теперь их будет двое, держащих ношу. Но Крест, Крест, кажется, надо нести одному, а он слаб. Слаб?
— Та библейская война была не просто война. Она велась от имени Бога...
— Нашего Бога?
Олег не ответил, продолжил:
— По законам священной войны города подвергаются заклятию. Это называется «херем». Всё, что находилось в отгороженном месте, принадлежало дающему победу Богу, поэтому Исус Навин принёс всё живое и неживое в жертву Господу, тому самому, нашему Саваофу. Они его тогда называли по-своему — Яхве.
— Зачем ты мне всё это рассказываешь? — тихо, как заклинание, шептала Ева, что-то в интонациях мужа её пугало слишком сильно. — Господь давно не требует жертв.
— Сейчас не требует, потом затребует. Пути Господни неисповедимы, разве нет? — горько усмехнулся Олег, спать уже меньше хотелось. — Но не в том забота, а в другом. Времена Исуса Навина возвращаются, а кто сказал, что наша Рязань менее грешный город, чем Иерихон? Ведь наши князья травят на пирах своих родичей? Мало тебе? Или ты тоже, подобно здешним инокам, уверена, что всесильный Бог помогает именно нашей Рязани в ущерб остальному миру, который, скачи на коне, и за год не перескачешь?
— О чём ты? И вовсе я так не считаю...
— Латыны тоже числят Библию священной, и ромеи, а у татар всякие священники есть, средь них и те, кто веруют во Христа. Ну, не по-нашему веруют, по-несториански, так и что с того? У них там есть совсем новый Бог, он уже на Небе, а зовут его Чингис. Монголы говорят — каждый идёт к Богу своим путём, и если их попы не верят, что Чингис — Божий Сын, то уж точно верят, что Чингисово войско — Божья кара.
— О... что ты болтаешь?..
— Исус Навин тоже не был Сыном Божиим, только его мечом... Противиться Божьей каре — ересь. Будут нас сечь, как траву, и наши епископы назовут борьбу с татарами грехом. Они это делают во всех странах, куда они уже пришли, а хан им за это даёт охранные пайдзы... И монастырей они тоже нигде не разоряют.
— Чего же ты хочешь?
Распалясь от собственной речи, Олег и вовсе о сне забыл. Его глаза воспалённо вспыхнули, как у Люцифера — «носящего свет». Ведь свет — это собственность не только Бога?
— Тут такое дело... Если мы будем сопротивляться Божьей воле слишком отчаянно, но не победоносно, наша рязанская земля превратится в этот самый херем... И мой отец всё делает для того, чтоб это было так. Теперь он хочет «разметать их в пух», глупец... Его-то не разметут, казны на бегство хватит, а вот мы... Пойми, это не набег за холопами, это — МИССИЯ, как говорят латыны. Они не остановятся, и не нам их остановить. Так же, как не мог остановиться Исус Навин.
— Откуда ты всё это знаешь? — сквозь страх, как зелёный побег из-под бревна, пробивалась гордость за мужа.
— Слушал купцов, слушал мудрецов....
— Но если мы, как ты говоришь, хе... херем... Значит, гибель всему... Но я не хочу, я...
Высказав всё своей Еве, Олег уже убедился в правильности задумки.
Посольство двигается подобно снежному кому, только ком нарастает, а оно, оставляя за собой след из ценных даров, постепенно худеет. Только самые важные из посольств доползают до самого джихангира. Всё верно: у кого мощи не хватило, не стоят его времени.
Обычай этот держался за неимением других способов отличить важное от неважного. Тот, кто ехал без даров, должен был долго объяснять ценность своей персоны. А уж там аталики и ближние нойоны, — если посчастливилось докарабкаться столь высоко, — решали: стоит ли это всё высочайшего внимания. Иначе донимали бы хана все кому не лень.
Восходил такой порядок не к Ясе, а ко временам стародавним, когда знать имела над ханом больше власти, чем писаные законы.
Олег (как-никак князь) был не настолько беден, чтобы не обвеситься дарами. Если бы за ним не следовали богатые сани со всякой приятной всячиной, его путь был бы более тернист. Главное, чтобы его не остановили свои, а уж с чужими он сам разберётся.
Затея, что и говорить, была дерзкая. По земле, где рыщут вражие конные разъезды, трёт полозьями снег беспечный обоз с небольшой охраной. Весёлые гридни Олега ещё и за тем приглядывают, чтобы никто из обоза не сбежал, не донёс о миролюбии сыночка герою-отцу и страшную тайну его не раскрыл.
А тайна заключалась в том, что никак он не был посольством от Юрия Игоревича... Что настоящее — какого ожидал с надеждой Бату — так и не появится, ибо отклонили гордые рязанцы все монгольские требования. Ате послы, вкупе с шаманкой джурдженьской, которые эти требования сообщили, ещё не выехали из Рязани, чтобы отвезти Батыю роковые слова: «Когда нас не будет, всё ваше будет».
Об этой грустной правде Олег рассчитывал поведать лично Батыю — никому больше, а уж там как кривая вывезет. А ныне кто узнает, что он не то самое посольство, которое с нетерпением ожидают?
Пока не отъехали, он и своим кметям[103] не говорил, куда и зачем они едут, когда все купцы по норам попрятались.
Добравшись до Вороны-реки, он столкнулся с дозорной сотней Гуюка. Как многие на Руси зная тюркский язык, князь растолковал угрюмому филину-джангуну, что поступит неправильно, если ограбит его. Не сегодня-завтра Великий Хан войдёт в Рязань, и тогда всё равно узнает о его, сотниковом, самоуправстве, даже если дотошный сотник их тут всех из жадности посечёт в капусту. На этот случай там, в Рязани, особые люди припасены, а что до этих вот роскошных соболей, то они благородному Батыеву сотнику от рязанского княжича Феодора — добровольный дар.
Рязань ещё можно было спасти, если бы вместо воинов Гуюка Олег столкнулся с удальцами Делая. Но, увы, такое, похоже, не предусматривалось в книге судеб.
Чудеса начались тут же. Князь забыл о своём достоинстве, когда этот дотошный разбойник отказался от дара, но ларец открывался просто...
Оказывается, джангун решил проявить разумное рвение и предъявить этих, возможно полезных, людей не Бату, а... своему повелителю.
Двигала им не любовь, а житейская мудрость. Слух о посольстве непременно дойдёт до Гуюковых ушей, а коли так — не вздёрнёт ли его любимый господин за то, что упустил удачу из рук?
А тех же соболей, с благословения Неба, от самого Гуюка получить — оно как-то полезнее... для некрепкой и единственной спины.
Гуюк. Под Пронском. 1237 год
— Великий тайджи, к вам посол, — выдохнувший это, распластался на бухарском ковре. Руки вытянуты вперёд, скрюченные пальцы подрагивают. Казалось, от возвышения, на котором восседал царевич, дует сметающий ветер, и пришедший, пытаясь вцепиться в ковёр ногтями, еле держится, чтобы его не сдуло к порогу.
Такое испытывали люди в юрте Гуюка...
Титул «великий» не прилагался просто к члену царского рода — тайджи. Только к ханам — чингисидам. Бату так стали называть после смерти Джучи, когда он получил в наследство часть его улуса. У Гуюка не было своих уделов: его отец Угэдэй был ещё жив. Это было одним из многочисленных поводов зависти к Бату. Подчинённые тем не менее называли Гуюка «великим», но это было не просто потакание его властолюбию.
Правила — как кого нужно называть — придумал и утвердил великий дед. А значит, всегда можно было вдоволь поиздеваться над подчинёнными, если настроение подходящее. Сейчас было как раз такое.
— Почему ты зовёшь меня «великим», Аучу? — Не то что царевич забыл про сообщение о посланце, как раз наоборот. Оно его удивило, и требовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями. Но Гуюк хотел показать, что его ничем не удивишь. К тому же приятно было понаблюдать, как несчастный заёрзал. — Знаешь ли ты, что этот титул мне не положено носить?
Вошедший задрожал сильнее: попробуй согласись, что не положено, попробуй скажи, что этого не знаешь, — оскорбишь Чингиса, Сына Бога.
— Ну? Отвечай?! — зазвенел Гуюк. Посетитель дрожал. — Отвечай... — Хан сменил тон: — Что за посол?! От кого? Сколько раз говорено — начинать нужно с главного? — По его нежному лицу вдруг скользнула хитрая улыбка.
— Из... из Резан, приехал коназ Олег, сын их коназа. Хочет говорить с джихангиром.
— Что ему надо? — Гуюк прекрасно понимал, что это тоже неизвестно простому слуге, но уж очень уморительно проступали на его лысине капли пота.
— Это... это он скажет только джихангиру, — с трудом выговорил посетитель, как свой смертный приговор.
— Ведите его сюда...
Посланец шустро пополз к выходу, привычно перекатился через порог.
Хорошо. Любого можно обвинить, что прикоснулся. Впрочем, чтобы перед высокородными расстилаться ниц — было тоже не по Ясе. Темуджин такого вообще не любил, но Гуюк постепенно приучал подчинённых общаться с ним на сартаульский лад: так ему больше нравилось.
Кто-то утверждал, что уважение подчинённых надо заслужить. Какая ерунда.
Уважение надо навязать. Люди верят в то, что им навязывают. Заставь людей ползать — и в их головах возникнет величественный образ того, кто заставил это делать. Через намозоленные колени и животы всё доходит быстрее, чем через мысли. Мысли ещё иметь нужно. А зачем они, например, харачу и боголам? Им же самим во вред.
Глупо приручать диких коней с помощью уговоров да поучений, так и с людьми. Слова, не подкреплённые страхом тела, вылетают из голов, не задерживаясь.
Выслушав Олега с непроницаемым лицом, тайджи отправил князя в гостевую юрту, а сам засуетился. Надо посоветоваться с аталиком Эльджидаем. Тот глупого не скажет — недаром обивал в своё время не только подножие нехитрого Темуджинова трона, но и пыль с его саврасого коня.
Гуюк и Эльджидай. Под Пронском. 1237 год
— Значит, с тобой говорить не хотел? Только с джихангиром?
— Ничего, разговорился. Он не посольство, он — предательство. Предлагает город, который ему не принадлежит! — Растерянность Гуюка ещё не успела отлепиться от его лица, и висела на нём как плохо подогнанная маска.
— Что просит взамен? — Ничего особо нового в услышанном не было, встречалось подобное в Хорезме... и в Китае бывало.
— В нужное время открытые ворота, а взамен...
— А взамен — жизнь и пощаду ему и его семье... — устало продолжил навязшее Эльджидай:
— Нет, не так... Пощаду городу, именно городу. Он, наверное, думает — мы пришли сюда за тысячи алданов[104] просто в гости. Впрочем, свежих лошадей, корм, воинов-добровольцев и всякое прочее обещает.
— Вот как... — И такое видел Эльджидай.
— Говорит, когда войско его отца пойдёт нам навстречу, поверенные из горожан откроют ворота, если часть туменов мы пошлём в это время туда. А люди... Что люди? Каждый в отдельности рад не умирать, сражаясь, а тихо жить. Он убедит оставшихся поступить по его воле. Узнав о взятии Рязани, войско главного коназа разбежится, поскольку будет, как голова без шеи.
— Да ну, так и разбежится, рассказывал ястреб селезню. — Как приятно обличать своего ближнего в коварстве, чувствуешь себя очень мудрым. Но похоже, так и есть, действительно разбежится.
— Землепашцы и охотники не любят нукеров Гюрги, так он говорит. А уж тех переловить — дело нетрудное. — Гуюка стал раздражать покровительственный тон Эльджидая.
— Так за чем же дело стало? Обещай ему пощаду города, пусть ворота откроют, а там посмотрим.
Гуюк недовольно вскинул брови:
— Кабы так, не стал бы тебя тормошить. Этот упрямец сказал, что пошлёт своего человека с тайным словом, чтоб его люди в назначенный час ворота открыли, только при одном условии. Если джихангир — именно джихангир, и никто другой, — торжественно поклянётся пред лицом Мизира и в присутствии ближних нойонов пощадить город.
— Вот как? Этот коназ знает про Мизира?
— Невероятно, но знает, — подтвердил Гуюк.
— Не такие они тут дикие, как о них говорят, — удивился Эльджидай, — у этого коназа голова не хурутом набита. Если после такой клятвы джихангир разорит Рязань, всё войско будет знать, что он клятвопреступник. Навлекать гнев богов в чужих нутугах, в самом начале похода, — Эльджидай на миг задумался, — нет, он не решится на такое. Вот что, тайджи, выхода нет. Придётся отправить этого хитреца к Бату.
— Ну уж нет, — нахмурился Гуюк, — это Бату нужны «габалыки» — ему тут править. А моим воинам нужна добыча, я не допущу добровольной сдачи города. Передушим хитрецов за дерзость и за предательство коназа Гюрги. Такова моя воля. Этот Олег предлагает открыть ворота врагу — нам, — в то время как его отец хочет мужественно сражаться.
— Не по закону это, убивать послов. Такое без джихангира не решают, — нахмурился Эльджидай.
— Какой он посол — самозванец. Всё по закону, по примеру великого деда. Когда люди Джамухи связали своего повелителя и привели к Темуджину, тот их не вознаградил, а казнил. И сказал при этом: «Пощадивший предателя предан будет». — В глазах Гуюка вспыхнуло злорадство, и он возвысил голос: — Эй, кешиктенов сюда!
Гневаш. До 1237 года
Слушая проповеди в деревенской церквушке, Гневаш не понимал, как можно утешаться, а не терять последнюю надежду от поучения: «Кесареву — кесарево, а Богу — Богово».
Его искания начались издалека. Во-первых, не очень ясно, кто такой «кесарь». Местный попик тоже не знал толком, а спрашивать — себе дороже. Отец Никодим любые вопросы воспринимал как недовольство своей проповедью, дулся и дрался палкой. Хозяин же Гневаша был убеждён, что так красиво, «по-праведному» называют косаря. В вечных спорах из-за сенокосов он потрясал кулачищами и орал: «Сказано в Писании: ежели не будет косарю кесарево, то не будет и Богу Богово». За это обделённые участками соседи кляли его «в три отца, три сына и три духа», чтобы загребущие руки отсохли.
С Богом из той поговорки тоже не очень ладилось, особенно неясно — с каким именно. Когда Гневаш спрашивал про это, ему отвечали, что «Бог — это троица», а ещё говорили, что Бог — един. «Так три или один?» «Чем больше, тем лучше, ежели нам они защита», — уверенно гудел хозяин.
Кабы так. Молитвы и наговоры мало меняли к лучшему жизнь огнищан. Кому-то было всё равно, кому и как молиться, но только не Гневашу. На что ещё уповать? Ежели плохо живут, стало быть, неправильно молятся, вот он и старался разобраться.
Как-то раз перехожий учёный чернец поразился этакому диву — интересу отрока к наукам церковным — да и объяснил ему и про кесаря, и про Бога, который, оказывается, трёхголовый (так на иконах и рисовали). А одна голова у него — голубиная.
Инок говорил много и мудрено, но у Гневаша в голове осталось главное: молиться бесполезно, трёхголовый Бог ему не поможет. Он хочет, чтобы Гневаш смирился со своей участью холопа: «холопу — холопово».
— А смирюсь, даст мне Бог волю?
— Что ты привязался с волею своей? — Разочарованный чернец топнул ногою: — На том свете воздастся за терпение.
— Зачем тогда молиться?
— Не будешь молиться — после смерти будешь мучиться вечно, — торжественно припугнул инок.
Bo-на как! Тогда его полузабытые «поганые» родичи были правы: христианский Бог похож на Змея Горыныча. Он сильнее Перуна и Хорса и всех прочих старых божеств, как меч дружинников рязанского князя сильнее деревянной рогатины. Этого Бога нужно неустанно ублажать молитвами, чтобы он тебя не покарал страшными муками. Такое, конечно, мало Гневашу приглянулось. И он тут неё записал Бога в число своих врагов вместе со злым хозяином.
Поскольку был Гневаш не робкого десятка, он сразу для себя твёрдо решил: будь что будет, а унижаться, умолять Бога каждый день не станет. Надо надеяться только на себя.
На том и кончилось его богоискательство.
Боэмунд и Прокуда. Дорога на Пронск. 1237 год
Обо всём этом Гневаш рассказывал сейчас Боэмунду с открытой улыбкой. Он шагал у обозной телеги с рогатиной, и, в отличие от остальных, его весёлость не была напускной. Он многого ждал от предстоящей сечи.
Вдоволь насмеявшись над здешними богословскими понятиями, Боэмунд спросил у бойкого парня, что именно «многое» он намеревается от предстоящего большого кровопускания получить.
Ответ был неожиданным:
— Хозяина мово татары посекут, любо. А я — ничейный стану, — мечтательно облизался доброжелатель.
— Ишь ты каков, а самого тебя — не посекут?
— Не-е, я ловкий, меня смертушка не любит, — простодушно заверил Боэмунда парень, — а ежели по-честному — в дружину княжеску страсть как охота.
— Возьмут тебя в дружину, жди, — подзадорил соглядатай, — всяк бы так...
— Из наших-то, из вятичей, чего не берут? Ежели недоимка какая, свой свово пожалеет, мечом не посечёт, а князю позор. А я матери не помню, в деревне и вовсе чужой. Ежели надобно, так и рубану — не жалко. Ныне после сечи в дружине народу недостанет, а то и вовсе полягут, а тут я с земным поклоном. Возьмут, не сумлевайся.
Похоже, он искренне во всё это верил. С простодушием варваров эти люди — Боэмунд от скуки походной со многими уже переговорил — легко и беззаботно выбалтывали всё о себе, вовсе не ожидая от него ответной откровенности. Да и неинтересно им, похоже, было всё то, что их не касается.
А ещё протрясала Боэмунда необъятная доверчивость. Стоило побожиться, стоило осенить себя крестным знамением, стоило чувственно закрутить красивое (не умное, а именно красивое) слово, — как порыв идти и действовать зажигал азартные глаза.
Он бы сам её не окликнул, потому что женщин всё-таки побаивался. Неизвестность его устраивала более всего, он боялся убедиться в том, что они его ещё волнуют. Но более его почему-то страшило другое: выяснить бесповоротно, что с этим всё кончено, казалось и вовсе непереносимым. Никогда — это страшное понятие, чего бы оно ни касалось своим ледяным посохом.
Так юный влюблённый предпочитает не открываться предмету своей страсти, чем получить отказ. Что он теряет признавшись, если и раньше ничего не имел? Теряет надежду.
Надеждой можно и не воспользоваться, но держать её в тороках — главное лекарство от тоски. «Чем тоска отличается от боли? Тоска остаётся с тобой и после смерти, боль — только при жизни», — говорил Маркуз. «Откуда ты знаешь, что будет после смерти, пока там не побывал?» — с наигранной весёлостью справлялся Боэмунд.
«Я там бывал», — строго и уверенно отвечал наставник.
Их знакомство началось в одну из ночей, которая выдалась особенно холодной. Спали на «лапнике» попеременно, бодрствующие кормили смолистыми ветками костры, остальные беспечно храпели, прижавшись друг к другу оголёнными по пояс телами — сверху эту ритмично вздрагивающую массу покрывали непрерывным слоем нагольные тулупы.
Боэмунд ворочался особняком, крутился и так и эдак, но всё равно постоянно открывал глаза от холода. Прижиматься к людям, которых он вёл на смерть, ему не хотелось, а все места поближе к костру были безнадёжно заняты. Не то чтобы он чувствовал себя перед этими людьми виноватым (он не был предателем, потому что не был одним из них), но всё-таки как-то... Такое чувствуешь не умом, не сердцем — просто кожей, которая бунтует против прикосновения единственным доступным ей способом — брезгливо выпячивая мурашки...
— Эй, булгарин... сразу видать, что городской, — услышал он женский шёпот, — ты одёжку-то верхнюю сыми — вона её у тя сколько — да сверху, сверху набрось, тогда и теплее будет... А то ровно дитя, в таких роскошных портах и дрожать. — И она тихонько рассмеялась.
Он разглядывал её не совсем раскрывшимися глазами, отчего увиденное слегка расплывалось от его полусонного взгляда. Отсвет костра у неё за спиной показался нимбом, обрамлявшим её лицо. Оно было круглое и румяное, из-за чего мало на самом деле походило на иконные лики Пресвятой Девы — здесь её обычно изображали с точкой-ртом и ненормально выпученными глазами.
В девушке было столько нахального здоровья вперемешку со смешной строгостью, что Боэмунд перестал дрожать.
— Ты святая... — сказал он то ли в шутку, то ли всерьёз, разжав сонные губы.
— С чего так? — вздохнула она по-матерински. — То-то бредишь.
— Сияние. — Он вытащил ладонь из-за пазухи, показал за её спину.
— Как у той, которая тебе во сне явилась, да? А что, похожа я на Божью Матерь? — Девушка хихикнула...
Ну что ты будешь делать — все его теперь знают, как тут скрыться.
Какое-то время она его оценивающе разглядывала, а потом, совсем просто, выдохнула:
— А и ладно, подвинься и раздевайся, ляжем вместях, оно теплее, а то и вправду не выспишься, да и я... тоже.
Окончательно проснувшись и, конечно же, мигом забыв о холоде, Боэмунд вдруг с ужасом понял, что все эти годы шарахался от женщин не напрасно — ничего в нём, оказывается, не изменилось. Впрочем нет, изменилось, стало плавнее, мягче. Непослушными от холода руками он стал снимать с себя овчинный тулуп.
Простодушие девушки не знало границ:
— Вот и ладушки, а то всё мужики кругом... А ты скопец — божий человек. Около тя пригреться — гулящей кто назовёт? Только благодать одна...
Наверное, он так отвык за эти годы думать о себе не как об оружии чьей-то воли, что, к своему удивлению, не почувствовал ни обиды, ни боли. Только желание не упустить свалившиеся на него блаженство и успокоение... «Так, значит, ничего? Завтра всё кончится, и я не буду выть и беситься, только свежесть, только силы. Довольствоваться малым — вот свобода».
Они укрылись тулупами, но сон, конечно же, не шёл. Проклятый церковью эллинский бог Гипнос церемонно удалился на свой забытый Олимп, оставив их наедине с сумбурными разговорами.
— Скажи, блаженный. А какая она... красиивая? — первой не выдержала она.
— Да кто? — Боэмунд боялся пошевелиться.
— Ну энта... Богородица твоя.
— Как тебя звать? — перебил липовый пророк.
— А, Прокудой, — махнула она рукой, будто ей совсем было не важно, как её зовут.
Он ждал, что, как налетают чёрные всадники на мирное поселение, так налетят на него зависть или жалость к себе... или ревность к этим мужикам, рядом с которыми сия пава не желает греться именно потому, что они мужики. Но оказалось: он слишком долго изучал этих людей, их предсказуемые дикарские порывы, чтобы с кем-нибудь из них себя серьёзно соотносить. Знания подарили ему отчуждение — это он знал про себя, они же оснастили Боэмунда добротным панцирем, позволяющим пить удовольствия без горечи утрат — таким он был приятно удивлён.
И тут на него нахлынули такие силы, которые он считал от себя отсечёнными, а они, оказывается, просто чувств тогда лишились. Оглушённый на поле боя и честь сберегает, и жизнь сохраняет. Главное — вовремя проснуться. Кто знает, может быть, и нужны были эти десять лет трудов, отвлечённых от своей собственной жизни, чтобы не очнуться слишком рано — когда по «полю поражения» ещё бродят враги и лениво добивают раненых.
А сейчас — в самый раз?
— Ночь-то какая, костры на небе... — опять заговорила Прокуда, забыв о предыдущем вопросе, — тоже небось небесные люди на сечу вышли.
— Они каждую ночь перед боем отдыхают, — продолжил Боэмунд.
— Евпатий говорил — это воинство Михаила Архангела у костров сидит, чтобы биться поутру с нечистой силой. — Оказалось, это сравнение она не придумала, просто вспомнила...
Эта ночь принадлежала только ему — не чужим делам, не преданности долгу, только ему... «Оскоплённые» сосны — сколько народу лапник с них драло — показались ему близкими и родными — даже в общем их несчастье. Единение с лесом — тяжкий грех. Леса — гнездовище чудовищ — нужно вырубать и разводить на их месте прекрасные сады. Так говорили ему давно. Дети города — тесного, каменного ковчега свободы — не любили леса. Да и не было рядом таких лесов. А те, что были, — почти как сады. Каждое дерево герцогу на учёт. А здесь бескрайние пущи, утешающие, спасающие. «Для нас пришельцев — убивающие».
Его же доля — греться у костра врага, есть хлеб из рук врага. Любой, узнав правду о нём, отдаст на муки и будет прав. И только эти обглоданные сосны, едва заметные во отблесках костров, казалось, не поступят с ним по справедливости. Они несправедливы. Как здорово, что в мире есть хоть что-то несправедливое. Значит, он всё-таки не такой безнадёжно правильный.
Наверное, он думал об этом не так долго, потому что ещё не прервалась ниточка их разговора.
— Экая ты глупая, — возразил он на здешний манер, — поутру нечистая сила вся прячется...
— Не, — замотала головой девушка, при её пышности и дородности этот детский жест выглядел смешно и трогательно, — Евпатий говорил не так. Он говорил: бесы сами придумали такое, что, мол, днём их нет. Днём-то как раз самые бесы...
«Опять этот Евпатий», — недовольно подумал Боэмунд. Он уже не мог разобраться, злится ли на то, что это имя напоминает ему о будущих, дневных, делах. Или... ну не ревнует же он? Глупо было бы.
— А спать-то и вовсе не хочется, пошли к костру, — вдруг встрепенулась Прокуда.
— Что костёр, на небе вон тоже. — Он осторожно сел. Примятый лапник недовольно захрустел, упруго выгнулся. Прокуда, словно повторив движение примятых веток, потянулась.
— Лапник-то абы как постелил, — улыбнулась, — эх, богомольцы... беда с вами.
— Да не богомолец я никакой... Беда просто... Ты на площади-то рязанской была? Видела меня? — обиделся Боэмунд на то, чем полагалось гордиться, то есть не гордиться, ведь гордость — это тоже грех... Да что ж у них не грех в конце-то концов!
Слава Всевышнему, здешний люд относится к монахам, точно к покойникам. Хоть и с почтением, а на его место, как в домовину, не больно-то охота. И ещё здешние князья один другого насильно стригут. А те, едва опасность миновала, расстригаются обратно.
Слава Всевышнему — мало ещё в этой стране культуры.
Режут по мотивам варварским, за власть, за маммону. Его родной Безье топтали правильно, культурно. В эту глушь такие нравы только ползут. Как сады на тёмный лес. А садовник, известно, и малой дикой травинке не даст на солнце смотреть. Но сейчас — ночь, сейчас солнце отдыхает.
И война тоже. Отсыпаются бесы в пёстрых кожухах и здесь, и в мирном лагере Гуюка.
Спите, а мы погуляем, если, конечно, «дама» согласится. Повернись судьба иначе, был бы он трубадуром...
Однако, спросив о себе, Боэмунд услышал такое, что уже никак не мог бездумно наслаждаться звёздами. Так бывает: всё о человеке известно любому, только не ему самому.
— Все вокруг тя кругами ходют, говорить боятся. А не смешно ли от благодати-то шарахаться? Иной раз в хате ей как следует намолишь, так все окна и двери затыкать надо, чтоб на холод не ушла. А тут — бери её даром. Перед боем-то в самый раз. А я и медведя не боюся, и тебя не боюся.
От исповеди такой у соглядатая всё более округлялись глаза, становясь похожими на те, что на иконах рисуют. Он узнал о себе много нового: оказывается, было ему, бывшему иноку, что Господь пошлёт Небесную Кару — полчища татарские — на землю булгарскую, ежели булгары всем народом в веру праведную не перейдут. Поняв предназначение своё, Боэмунд лишил себя добровольно плоти греховной да и запродался в бесерменские холопы — нести Слово Божие в земле булгарской. Нехристи его, знамо дело, не послушались и лишились града за грехи.
— А дальше? — с возрастающим интересом внимал Боэмунд.
Дальше всё было ближе к «правде». Только почему-то получалось, что он не бедная жертва, а чуть ли не сам татар наслал. Вот это да! Такого отклика на своё актёрство он не ожидал. И что теперь? Каждая собака в лицо знает — не кланяется, так шарахается. У него было такое чувство, что Бату им пожертвовал. Сейчас — этой свободной ночью — Боэмунд очень на него злился.
А может, оно и к лучшему? В конце концов, Джамуха-Сэчен — главный друг и соглядатай Темуджина — был в полном доверии у всех врагов Чингиса, ибо играл роль не просто его недоброжелателя, а опаснейшего из таковых. «То есть нужно, как со слухами, не опровергать, а раздуть и довести до полной нелепицы».
Думая о заботах, он предавал эту ночь, подаренную именно ему... «Ну уж нет, поразмыслю обо всём поутру, а в глазах этой юной кудесницы быть человеком «не от мира сего» не желаю». И он бросился в бой за себя, настоящего. Ну не совсем «настоящего» — жить тоже хочется, — но почти.
Рано или поздно понимаешь: есть только одна святыня на земле — человеческая жизнь. Какая именно? Твоя собственная. Эта мысль как дом родной. Всякий странник с трепетом подходит к дому, который некогда покинул.
Не противоречит сие и религиозной мудрости, ибо «устами младенца глаголет истина», а младенец — дело известное — любит только себя. Дьявольские силы ещё не заставили его любить всякий остальной вздор. И да пребудет высокое шкурничество главным зерцалом лика Господнего, аминь. Так хотелось думать Боэмунду в ту ночь в лесу под Пронском. Мысли о себе, любимом, которые он столько лет держал как раненых зверей в глухой клетке, отворили дверцу и выскочили на свободу. Но смогут ли «звери» снова жить в лесу... после стольких лет неволи?
«Завтра — как Бог даст. Сегодня, в этом лесу — смогут».
Он с трудом сдерживался, чтобы не раскрыться перед Прокудой, чтобы не сбросить с себя преждевременные похоронные «ризы» страстотерпца, чтобы не превратиться в мужчину и воина хотя бы на эту волшебную ночь. Облик непобедимого витязя — хозяина девичьих грёз — был ему до боли понятен. Что тут, в конце-то концов, понимать? Что там её Евпатий? Небрежные (но и не глупые, да) речи сего Евпатия «дама» пересказывает с придыханием?
Кто этот Евпатий такой? Дремучий боярин, тыкающий рогатиной медведя? Небось приезжал охотиться — красивый, статный, неудержимый. Пленил призраком той жизни, в которую ей попасть — только служанкой, да и то... Но что ведает тот Евпатий? Разве он видел, как аравийские рассветы ломают раскалённым шаром душистые южные ночи? Как набегают с Востока отряды лучей, лихо перескакивая горы Ливана? Слышал ли этот Евпатий, как воюет упругость с властным шагом в скрипе огромных осадных лестниц, как мечутся и ревут ослепшие слоны? Видел ли он чудные страны, где драгоценные камни падают в пески при обвалах, а реки путешествуют, как пилигримы?
«Рассказать ей всё о себе, прожить эту ночь в истинном обличии, а утром (она же его непременно выдаст) пусть растерзают», — клокотало всё в нём.
Растопчет он свою честь и клятву верности, оставив этих людей в живых, не заманив их в ловушку, зато проживёт эту ночь.
Он уже был готов так поступить, но она, как назло, всё продолжала щебетать про своего Евпатия. Боэмунд вдруг с глубокой досадой понял, что с этой дорожки её не свернёшь. Заговоришь о чём-либо другом, и она заскучает очень быстро. Закончится эта волшебная прогулка, а до утра ещё ой как далеко! Что же он будет делать тогда? Выть на луну как бездомный пёс?
О Евпатии? Ладно, будем о Евпатии. Он стал прислушиваться к музыке её речи.
— ...он и с рогатиной меня научил. Говорил — половецкие женщины мужу и на войне соратницы, а наши как квашня... — Её глаза плавали в восторге. — Знаешь, а там и сила вовсе не нужна, медведь-то сам на рогатину лезет. Держи её только, не трусь.
— Из берлоги поднимала? — искренне удивился Боэмунд. — Сама?
Богатырша стыдливо опустила очи долу:
— Да я уж и так и сяк его приворожить хотела. Телесами-то ему многие крутили, глазками моргали, а я вот — рогатиной на заимке.
— Приворожить? Кому «телесами крутили», медведю? — вконец обалдел мнимый святой.
— Не-е, Евпатию, — без удивления отмахнулась Прокуда, с таким же успехом она бы говорила о возлюбленном и с пнём. — То-то удивился, ладо, как медведя-то на острие взяла. Ты, говорит, соболь моя золотая, таковы слова и молвил. Таперича всегда на охоту берёт... сготовить чего, обстирать. Он со свитой-то не любит.
— Богатый? — Боэмунд уже без особой охоты поддерживал эту беседу.
— Да уж не бедный. Первый боярин у Юрия-то Игоревича, и воевода первый. Всё узорочье боевое вокруг себя собрал. Дружина — что на подбор, каждый десятерых стоит. Ты не слышал, поди, а в здешних местах иной отрок к нему и в холопы мечтает, а уж в гридни — почёт и честь. Да не всяких он берёт, ой не всех.
— Отчего ж не с нами пошёл? Не дело князя своего в трудную минуту бросать.
— Да поругались они на снеме... Ежели правду молвить, не надо бы войско в степь выводить — погибель это, так он князю и сказал.
— Вот как. — До этого мгновенья Боэмунд слушал её лениво, теперь насторожился.
— Ага, — кивнула девушка и с новой силой затараторила.
Оказывается, этому самому Евпатию пришло в голову единственно разумное решение: не запираться от орды в городах — «всё равно не удержим». Не ворочать, мол, надо по степным буеракам неповоротливое, непослушное войско, но сколотить отряды из летучих всадников и метких охотников, тысячи эдак с две. И тылы поганым тормошить. Даже ОДИН сплочённый и опытный отряд затруднит воинству Батыги жизнь по самое брюхо, «а то и проткнёт брюхо-то». Орда идёт «загонами малыми», растекаясь по лесам в поисках кормов, — иначе не может. По незнакомым лесам — тут бурелом, там засека — не очень-то наскачешься. А для здешних людей каждая тропка знакома. Так вот — нужно сперва отхватить руки загребущие, а уж потом и по голове — булавой. А в степь поганым поздно отступать, здешняя зимняя белизна — для них погибель.
Рязанский князь Евпатиеву роковую задумку, понятное дело, не поддержал. Такое разрешить — узду из рук упустить.
— Разругалися они, — с непонятной гордостью подытожила Прокуда, — Евпатий развернулся да и уехал в Чернигов — удальцов собирать.
— А ты-то чего с ним не пошла? — Дотошный соглядатай, окончательно проснувшийся в Боэмунде, растоптал «влюблённого витязя». «Что это? — встряхнулся он, — что это меня так околдовало? Еле вырвался».
— Поругалися мы, — вдруг заплакала великанша, всхлипы были тонкие. Её приятный голос, никак не вязался с ростом. — Не люба я ему, не взял с собою в Чернигов. Даром и медведя колола... Трёх. Это, говорит, тебе не ловы.
— Трёх?!
— Я и пошла с вами чего? Вот убьют, будет плакать... А ежели я татар с десяток уговорю, может, и сжалится. Как думаешь, блаженный? Тебе всё ведомо.
Ещё осенью, когда обсуждали план похода, Боэмунд, по своему обыкновению, задал Субэдэю привычный вопрос: «Что бы ты делал на месте урусутов?»
— Зная про нас всё? — Похоже, в том он и видел опасность.
— Я щедро засеял их землю «глазами и ушами», мы знаем многое о них. Они про нас — почти ничего, — на всякий случай успокоил Боэмунд. — Но если бы знали?
— На их месте я увёл бы людей из городов, увёз из них припасы — ведь в лесу всё можно спрятать. Города для них — не защита, а ловчая яма. Хорошо, что они этого пока не поняли. Хотели бы мы, нет ли, а пришлось бы рыскать по чужим буреломам.
— Хорошо, что дальше. Что бы ты сделал с войском?
— Наши отряды были бы, как волчья стая в лесу, где хозяйничает тигр. Знаешь ли ты, там, где тигр пастухом, волки не уживутся.
— Стая растерзает тигра, но поодиночке он их легко переловит, — Субэдэй даже улыбнулся, представив себе, как ловко сам себя громит, — а создать такого тигра — много ли надо? Хватило бы княжеских дружин как его головы, да ещё добавить быстрые удары лапами из засад. Для этого лесные охотники — в самый раз. Они из-за деревьев стреляют не хуже, чем мы с коня.
— В урусутских лесах не водятся тигры, только медведи, — сказал Боэмунд.
— Твоя забота, чтобы тигр не появился, — не моя, — испытующе посмотрел Субэдэй.
— Там скорее крокодилы, — улыбнулся Боэмунд, — пасть огромная — ножки маленькие, прыгает только вперёд.
— Если они не боятся нас настолько, чтобы сдаться без боя, пусть не боятся совсем. Потом опомнятся — поздно будет: мы успеем закрепиться, — пробурчал полководец.
Боэмунд тигра-то, похоже, проворонил. Ну да ничего. Самого страшного не случилось, залог тому — это войско-крокодил, напористо ползущее по снегу в степь. Он представил зелёного крокодила, ползущего по снегу меж сосен, и это его вдруг рассмешило.
Судя по тому, что Боэмунд услышал про Евпатия, тот был именно тем самым тигром. Собираясь в Чернигов за подкреплением, на что он надеется? Черниговские дружинники за князя Юрия Рязанского воевать не будут, не простят, что предал он Ольговичей ради суздальцев, но...
Но, подобно черниговцам, держались здешние «эллинские» племена вятичей, и доныне Крестом не шибко осенённые, туда же клонились местные бояре (такие же, как Евпатий) — утеснённые безвольным князем, певшим с голоса суздальцев.
Владимиру же тяготело большинство бойких горожан. Потомки переселенцев с Руси предпочитали за стены особо не «выныкивать». Вот именно они-то и идут сейчас в западню, как кабан от загонщика в яму. Ну и что с того? Черниговцам это даже выгодно.
Пообещает им Евпатий сковырнуть кое-каких здешних вятших, посулит возродить у местной муромской чади тоску по Чернигову — вот и поддержат его северянские удальцы против незваных гостей. Тогда — это будет уже не чужая, а их собственная война. Ведь Евпатий — это та самая чужая рука, какой Михаил Черниговский мечтает загребать рязанские угольки. За Юрия — помощь не даст, а против Юрия — очень даже подкинет.
«Нет, видать не «рязанска», а «черниговска» Богородица явилась ко мне вс сне, — усмехнулся Боэмунд. Новая мысль вонзилась ему в голову, как молния в одинокий пень на равнине, у него даже голова загудела. — Эх ты, так и есть пень пнём, о чём раньше думал? — выругал он себя с большой нежностью, так и поступим... Всем «нашим» чернорясым и юродивым и прочим «божьим людям» меняем «откровения». Будут они, любезные, гудеть, что войско рязанское оттого полегло костьми — пока не полегло, но поляжет, куда денется, — что наказал Господь рязанцев за грехи, за то, что к безбожным суздальцам от Чернигова качнулись...»
А эту пышную красавицу, решил он, нужно беречь как «десницу ока» (так тут у них, кажется, говорят). И в предстоящей резне им с Боэмундом обоим ой как надо уцелеть. Она, эта девица — ключик к Евпатию, а быть сейчас при нём — это, может быть, и есть самое важное. Бату дал своему соглядатаю золотую пайдзу с соколом — более могущественного знака не бывает. Покажи её любому монгольскому тысячнику, побежит исполнять любое повеление, как перепуганный заяц. Но ежели бы её у него в Рязани обнаружили — резали бы из кожи ремни, а ведь обыскивали не раз. Не стал Боэмунд рисковать — спрятал заветную пластинку в тайнике. Решил для себя — даст Бог, и без неё как-нибудь удастся избежать смерти в предстоящей сече. Жизнь свою он не очень ценил — думал, его рязанские козни станут для Бату последним подарком. Итак... нужно очень извернуться, чтобы, во-первых, вместе с Прокудой уцелеть в резне, во-вторых — избежать пленения людьми Гуюка, они его не очень-то знают в лицо. Пока разберутся. В-третьих, оставить Прокуду одну в безопасном месте, а самому добраться до Бату. Для этого придётся посетить тайник с пайдзой, иначе быстро не добраться. В-четвёртых, всё с джихангиром обсудить, снова найти Прокуду и дотянуться до Евпатия.
Да, многовато всего получается, ну да ничего: к нему возвращался тот азарт, который так часто прогонял мысли о самоубийстве.
Бату. Под Пронском. 1237 год
Бату был доволен. Если рязанское войско имело глупость выдвинуться в степь, оно было в его руках. Молодец, Боэмунд, не подвёл.
— Надо не дать им отступить обратно. Медведь не должен запереться в свою берлогу... — сказал Субэдэй то, о чём не переставая думал и джихангир и что и так было понятно и без него. Но это означало неизбежное прямое столкновение с противником, чего Бату очень не любил. Всех из луков не перестреляешь: увидят урусуты, что тычутся, как ножом в воду, — отступят в леса. Больше их на «спасительный» степной простор не выманишь. Даже дурак не повторяет явных ошибок дважды.
Всё так, но лобовые столкновения — это ещё и жертвы среди тяжёлой конницы, которую придётся послать тормошить фланги. А людей мало. Ох как мало, учитывая то, что им предстоит. Эх, хорошо, что нет у этих дикарей нормальной разведки, а то как бы они могли воспользоваться вечным их с Гуюком соперничеством?
О том, что урусуты обрушатся на лагерь Гуюка, можно было предупредить его, бедолагу. Не делая этого, Бату и Субэдэй, конечно же, совершали нечто, напоминающее измену. Всплыви такое — не оправдаться перед Великим Каганом. Ну так ведь не всплывёт: Субэдэй себе не враг. Зато от подобной утайки Бату получал неоценимые преимущества перед соперником.
Во-первых, можно всегда попенять излишне гордому царевичу, что тот проворонил противника.
Во-вторых, теперь Гуюк ему будет кое-чем обязан, ведь всегда ему можно сказать: «Хорошо мы вовремя подоспели, а ежели нет, что тогда?» Можно, например, по случаю и отмахнуться: «Молчи уж, видели мы, как ты воюешь без нас».
Самое главное — основной удар свежего войска лесовиков обрушится на Гуюковы тысячи, и, значит, поплатятся жизнями именно его воины, а не нухуры Бату.
Что-то было во всём этом не очень честное. Однако кто мешал Гуюку вовремя позаботиться о добыче нужных сведений? Кто заставлял отдалять свой лагерь так далеко от того места, на которое указал джихангир? «Ничего, смирнее будет. Соглядатай спасёт жизнь воину — это правда. Но своему воину — не чужому», — пытался найти себе оправдание Бату. Он вдруг невольно улыбнулся: «Против кого воюю? Против урусутов или при помощи урусутов с Гуюком? Ну дела».
Какое-то время джихангир даже подумывал, не обнаглеть ли ему совсем и не дать ли урусутам слегка поразорять Гуюков лагерь? Вот уж тогда они точно, опьянённые победой, будут совсем беспомощны против подоспевшего свежего врага. Бамут говорил: когда урусуты видят добычу — про всё забывают. У них там кто сколько нахватал, то и «святая олджа-добыча». Чудно. Впрочем, так было и у монголов, пока Темуджин не навёл надлежащий порядок, с тех пор всё захваченное делится после боя по справедливости.
Какое-то время Бату всё-таки тешился одной только возможностью такое допустить с лагерем Гуюка. То-то любезный друг покрутился бы, поёрзал... Но нет — это уж слишком. Убережёшь своих, зато войско в целом тут уж точно поредеет без нужды. Гуюковы кераиты и найманы не иначе полягут костьми, но в лагерь врага не пустят — они тёртые бойцы и ещё пригодятся. А поскольку каждый служит там, где судьба его поставила, то, получается, и пострадают они безвинно. Делать бывалых воинов жертвой семейных дрязг негоже.
Боэмунд и Прокуда. Сражение под Пронском. 1237 год
Середина — место безопасное и потому противное. У безопасных и противных мест обычно бывает ещё одно неотделимое свойство — их тяжело сменить на другие. Прокуда совершенно напрасно размахивала своим луком. Как будто нарочно — по подлому мужскому сговору — ей не дали занять «смертное» место где-нибудь на краю строя. «Я стреляю лучше вашего», — ярилась девушка... С ней не спорили, уважительно или снисходительно кивали, но она так и оставалась посерёдке — а с ней и Боэмунд — «живые мощи» этого угловатого похода. Он злился, но должен был оставаться при ней.
Хочешь посмотреть, сколько проживёт государство — брось орлиный взгляд на его середину, на его, так сказать, чрево. Если там порядок и покой — значит, бояться нечего. По тому как быстро недовольное шевеление превратилось в биение рыбы, когда её тащат раскидистой сетью, — он понял: то, к чему он так стремился, случилось. Ещё немного — и всё превратится в беспорядочное бегство.
Да место паршивое — ничего не видно, ничего не слышно. Если победа — подоспеешь к обглоданным костям. Если поражение — удрать не успеешь. Но, поскольку о победе и речи быть не может, хорошо бы подумать обо всём заблаговременно. В таком положении он уже один раз побывал, давным-давно, под городом Акра в Святой Земле — когда был оруженосцем у арбалетчика. Урок, правда, был не как надо, а как не надо... ибо тогда его пленили сарацины, но... Но кто сказал, что это не урок?
Как говаривал Субэдэй, ветка долго гнётся, но быстро ломается, пора вмешиваться. Ну что ж. Чему-то же его чародей Маркуз научил или нет? Он обернулся к Гневашу и заговорил резко, полушёпотом. Прокуда от неожиданности аж рот раскрыла, но перечить не решилась.
— Эй, внимание, всем слушать меня... Это понятно?
Когда сам растерян, послушаешь кого угодно. Ближайшие мужики-смерды (знатных тут не было) судорожно кивнули. Услышав деловую речь из уст «праведника», они и вовсе ошалели.
— Сейчас начнётся разброд, люди побегут! Кто-то бросится врассыпную, но не все и не сразу. Тогда татары начнут прицельно стрелять... Стреляют туда, где скопление, поэтому, поэтому... — Он замолчал на миг, чтобы привлечь внимание. Прокуда посмотрела на него с таким испугом, что Боэмунд поёжился. — Разбегаемся, но не теряем друг дружку из виду, бежим к лесу рывками, петляем, как зайцы. Оружье не бросать — это ваша смерть. Все поняли? Когда уже все вокруг побегут лавиной, не пугайтесь — это хорошо. Тут-то татары стрелять и перестанут — жалко стрел. Будут догонять, рубить и ловить одиночек. Этот миг пропустить нельзя. — Изо рта Боэмунда рывками вылетали причудливые комья пара, и он ощутил себя джинном из кувшина, тот тоже в дыму появляется. — Поэтому я снова махну, и все опять — ко мне. Встаём спина к спине. Колья, копья, рогатины наружу, делаем «ежа». Всадники на острия не сунутся. Шаг за шагом... отступаем во-он к тому леску. У опушки — снова бегом.
Он знал: люди Гуюка в лесок их пропустят (тех, кто добежать успеет), дадут там спрятаться и оцепят кольцом — до завтра. Полноценную облаву по колкам в день битвы устраивать не будут, не до того — управиться бы с теми, кто в поле. Поэтому, призывая мужиков отступать под защиту деревьев, он немного кривил душой. Это не спасение, это — плен... ну так хоть не гибель. Но думал-то он не о них, о себе и Прокуде.
«Ежа» из рогатин не получилось. Они втроём — Гневаш, Прокуда и он сам ощетинивались на иного всадника, но люди с саблями, не останавливаясь, пролетали мимо, окунув в молоко снежных брызг. Недалеко от приречных тальников из их троицы арканом выдернули, будто из грядки, Гневаша.
В хитром сплетении поджарых стволов пересидели до темноты. И Боэмунд, и Прокуда были ранены... А коли так — в лесу до утра закоченеешь в камень, даже если ночью их оставят в покое, то до утра без обогрева и перевязки не дотянуть. Лесок, конечно же, окружат вспомогательными сотнями, а по утряночке докончат начатое.
Что же делать? А всё просто. Как говорится, темнее всего под фонарём. В подсобных подразделениях у Гуюка народ ротозеистый — так, боголы. На это Боэмунд и надеялся. «Вот и погреемся у костра оцепления, перевяжемся, перекусим (не угостят — по Ясе смерть), поговорим о тяжкой жизни с часовыми. Мол, раненые из тумена, своих потеряли, ослабели. Прокуда прикинется немой — женщин тут и без неё хватает. А его какой проныра не примет за своего, когда он и есть — свой. Уже давно болтает по-монгольски без акцента».
...За полночь сытые, перевязанные и отогревшиеся они тихонько отволокли оглушённых кераитов из оцепления в их шалаш, подбросили веток в костёр и на краденых конях растворились в морозной тьме. К утру были далеко и в безопасности. Днём Прокуде стало худо — рана на плече открылась. Они ехали по буеракам бесконечного леса. С таким-то раздольем, Боже мой, кого к чему силой принудишь? Эх, Бату, какое уж тут завоевание!
— Все едем, едем и где ж твой стрый[105]?
— На ловах он, у Ярилина Болота... — пошевелила она непослушными губами, — ежели не заблудились, к ночи будем... Белок бьёт. Заимка у его там.
— Ты только гляди, не сникни совсем — один-то я не найду.
— Богородица подскажет, — слабо улыбнулась Прокуда, уже просто, по-человечески подтрунивая. Что-то изменилось после боя. Значит, с ним уже не как с живой иконой? В ответ на эту бесхитростную шутку девушки в груди Боэмунда вздыбилась пеной тёплая волна, и он подумал: нет, теперь он будет о ней заботиться не из-за того, что она — ключик к тому проклятущему боярину, а просто так.
Прокуда меж тем снова стала бредить (опять, сто чертей, про Евпатия своего болтала что-то) и клониться к гриве... Но тут из мягкого ельника вдруг обрушился гром десятков копыт...
«Эх, жизнь моя поганая, нарвались-таки на разъезд?» Чей? Урусутский или «наш»? Что хуже?
— А ну назад, — дёрнул он повод, — кажется, попались-таки...
Прокуда очнулась, вздрогнула и рассмеялась:
— Это туры! Ой...
Огромные пушистые серые быки остановились, покачивая длинными рогами. Передовой рыл копытом снег.
— Эх-ма... гляди, на башке-то ровно ухваты... Любовь у них теперича, опа-асные, бьются... У кого любовь, те завсегда опасные, — задорно улыбнулась девушка. Ей полегчало.
Измученные степные лошадки лихо отпрянули в сторону — таких чудовищ они никогда не видели. Это вам не волы, что тянут повозки в обозе.
Заимку Прокудиного стрыя найти не довелось — всё-таки заблудились. Девушке становилось всё хуже, она даже бредить перестала. Неизвестно чем бы всё кончилось, если бы уже под вечер не наткнулись на пустынь. Две ветхие хибарки трудно было отличить от окрестного бурелома... едва не миновали, не заметив. Им навстречу молча вышли трое в засаленной посконине, едва прикрывающей изъязвлённые руки. Боэмунд засуетился, закричал. Отяжелевшую девушку с трудом перетащили на студёный земляной пол (там отшельники спали — не брала их простуда). Боэмунд, суетясь, скинул с себя всё, что можно, подстелил... Бросился рубить лапник и разводить погасший очаг. Всю ночь не сомкнул глаз, судорожно взывая поочерёдно ко всем известным ему богам. Ничего другого он придумать не мог.
Хозяева оказались немыми... Поутру кое-как, знаками, старший стал что-то объяснять — похоже, выгонял... Боэмунд налился свинцом, и вдруг старец отверз уста:
— Пойди по этому ручейку... Там березняк и горушка. Живёт в землянке ведьма-половчанка, лекарка. Может, и пособит от греха.
Боэмунд аж присел:
— Чего ж ты раньше-то? Я думал — немой.
— Я и есть немой. Обет молчания мы дали... Из-за бестолковщины твоей гореть мне, окаянному... — И вдруг заорал: — Сгинь, черт паршивый, лишай конский! Более не слова не скажу. — Старец вдруг опустился на снег и тоненько заплакал.
Боэмунд бросился к лошадям.
Ведунья показалась ему необычной. Стройная не по летам. Хоть и высушенная. Не половчанка... что-то знакомое в чертах... Но что? Седые пряди ловко заплетены в косички. Смотрела пристально, слушала сбивчивую речь. Не спешила... Потом вдруг сказала уверенно:
— Нездешний.
— Булгарин я.
— Нет, не булгарин. Ну да ладно, поехали, страдалец... Поглядим на твою паву.
— Да и ты, бабушка, видать, не в этих кустах произросла...
— Ой, соколик, не в этих.
Прихватив пухлую котомку, она ловко, как юная, взлетела в седло.
От Прокуды не отходила два дня. Бормотала, притирала, молилась. Всё это время Боэмунд вертелся, как на углях: кончались скудные запасы... Отшельники, ужавшись по углам, по-беличьи грызли свои корешки.
К третьему позднему рассвету Прокуда разлепила воспалённые глаза, удивилась, улыбнулась:
— Ой, бабка Бичиха, а ты тут как?
— Вот те на... Знаете друг друга? — удивился Боэмунд.
— Тут все друг друга знают. Лес-то маленький, ровно семечко, — усмехнулась девушка.
Поутру знахарка отозвала Боэмунда, смерила взором, от которого возникло ощущение, что окунули в воду с головой.
— Непростой ты человек. Вижу, надо тебе куда-то. Ты езжай, я за Прокудкой погляжу. Только сперва в землянку ко мне заскочи. Охотники турью ногу приволокли, муки мешок. Вот и привези, ежели не лень. И езжай себе.
— Я вернусь.
— Возвращайся, коль не сгинешь...
Бату. Под Пронском. 1237 год
Под Пронском Юрий Игоревич развеял, как пух из подушки, свои лучшие полки, а заодно и полки своих бояр-нойонов. Наблюдая за битвой, Субэдэй морщился даже больше, чем когда уплывал на бурдюке воспоминаний на реку Калку. Это было больше похоже на истребление дзеренов на льду, чем на грозную сечу. Тем более что на месте дзеренов оказались великолепные урусутские воины. Субэдэй долго не верил, что рязанцы вышли в степь — открытую и ровную, как ковёр перед вежей, — не имея даже конных стрелков.
Да и Бату смотрел на это всё с привычного рукотворного холма из стянутых верёвками телег, какие возводят для джихангира, и думал, нет, не думал, чувствовал...
С чем такое можно сравнить? Возможно, с тем ощущением, когда жертвенный нож вспарывает кожу дорогого породистого коня, а ты вдруг понимаешь, что губят его зря.
Очень простыми уловками монголы разбили рыхлый строй, умотали конницу, а потом носились вокруг на недосягаемом для луков расстоянии и стреляли, стреляли, стреляли по лошадям издали, по неповоротливым пешцам почти в упор, с налёта. Далее как всегда: восторженно рубили бегущих, распустив веер неотвратимой лавы.
Оставшихся тянули на арканах. Рязанского князя взять живым, увы, не удалось.
Эти задубевшие холмы человеческого мяса на снегу будут вспоминать потом те, кто раздувает свою отвагу ненавистью к завоевателям, но не правильно ли было пенять на Юрия Игоревича?
Бату делал то, чего не делать не мог. Князь Юрий МОГ и должен был избежать сметающего самума, под который он швырнул своих невинных багатуров и сабанчи.
От этой победы Бату ждал для себя, по крайней мере, радости, но вот её-то как раз и не было. Что омрачало?
Во-первых, куда-то запропал Бамут, благодаря которому всё и состоялось.
Во-вторых, Гуюк через его голову устроил человеческие жертвоприношения, а это было полное самоуправство. Оставить такое без внимания нельзя, но и гневаться открыто тоже нельзя — мигом обвинят в богохульстве. Жертвы-то были «данью уважения к Великому». Эта выходка очень в духе Гуюка. Страх — его оружие. Во владении этим кнутом Бату с Гуюком не равняться.
При столкновении доброго вожака со злым люди всегда встанут на сторону злого. Почему такое будет? Да просто «добро» за борьбу против себя мягче наказывает. Оно ж «добро» — ему так положено поступать, чтобы оставаться «самим собой». «Доброго» поддержат только в том случае, если в его превосходстве нет сомнений. Совсем никаких.
А иначе поддержать испугаются.
Очень нужно было посоветоваться с Бамутом, но и без него ясно: если Гуюку удастся доказать, что эта победа — его заслуга, он будет настаивать, что им помогли боги, особенно дух Чингиса. А коли так — жертвоприношения необходимы. Не дополнение к остальному, не излишнее рвение, а то, без чего обходиться — недопустимая беспечность, если не халатность. Какой простор для жалоб. О Небо!
Джагатай может прислать прямой приказ, и тогда уже не отвертишься. Придётся казнить воинов и у себя, а его, Бату, сила как раз в том, что любой знает — ПРОСТО ТАК джихангир не наказывает. Стоит хоть в чём-то изменить самому себе, и его назовут не справедливым, а мягкотелым. Худшая из разновидностей славы для любого полководца.
Ну да ничего: само сражение прошло на редкость удачно. Эльджидай по-своему всё же молодец — очень жаль, что такой человек не среди его людей. Если быть честным до конца, это именно благодаря его задумке потери удалось свести до ничтожного числа.
Потери небольшие — часть в своих туменах, а в Гуюковых — половина урусутских коназов порублена, половина пленена. Этих, пленённых, тоже придётся казнить. Будь у него побольше сил, можно было бы подумать о выкупе, но и здесь мягкосердечность тоже неуместна. Да, рязанских князей придётся казнить...
Мало того, что найдётся кому донести в Каракорум о подозрительном снисхождении к врагу, не склонившему шею в покорности, так это ещё и повод остальным, недобитым, надеяться, что открытое сопротивление грозит только пленом с возможностью выкупа. А разве пленом запугаешь того, кто богат и родовит? Это можно понять и простить: здешние вельможи развлекались войнами друг с другом (почему бы на родной земле такого себе не позволить).
Однако он-то пока не «свой», он пока — жестокий завоеватель. Поэтому не позволит здешним багатурам безнаказанно вести войну с ним. Это, может быть, благородно, но никаких людей не напасёшься, если миловать врагов. Разве иногда, за особое мужество. Но — очень редко.
Судя по тому, что рассказывали о местных нравах, для князей война — будто игра в бабки. Опасности почти никакой, зато славы и почёта — полные тороки.
И пусть погибнут простые воины, всегда можно новых прикормить, у них тут привыкли к такому за много веков. Но теперь этого больше не будет.
В этих землях война отныне перестанет быть развлечением родовитых, проливающих кровь нищих. Такое безобразие надо прекратить раз и навсегда. С этой казни каждый из распоясавшихся будет знать: за игры, в которых гибнут люди, зачинщику не слава и честь, а смерть и позор.
А пленных воинов? Что делать с ними? Впрочем, теперь ему понадобится хащар для взятия крепостей, а с выступлением в глубь этих пугающих лесов больше затягивать нельзя.
Слухачи уже успели обрадовать предупреждением о том, как именно хочет представить Гуюк эту битву в очередном донесении в Каракорум.
Оказывается, Бату проявил преступную беспечность, позволив урусутам объединиться и ударить первыми, чем подставил его, Гуюка, под удар. Кроме того, он не пришёл вовремя им на помощь, из-за чего тысячи Сына Кагана понесли тяжёлые невосполнимые потери, и только героизм Эльджидая спас войско от полного разгрома.
Не так страшно это всё, как кажется на первый взгляд. Сообщения летят хоть и быстро, да всё равно не столь скоро, чтобы не ударить по самим кляузникам.
Урусутский слепой бык угодил в заготовленную для него ловушку. Перед Бату лежит беззащитная страна, богатая добыча. Пока долетит куда следует Гуюков донос, Бату уже не один город захватит.
Было, правда, ещё одно обстоятельство, от которого Бату слегка морщился. Придётся отдать рязанскую землю его воинам на щедрый грабёж, и тут ничего не поделаешь. Они ничего не получили от этой резни в степи, и теперь у его настырных нухуров зреет обида — многие пошли за ним в надежде на поживу, а где она, пожива?
Ещё и потому надо спешить вперёд, чтобы местные не попрятали всё и не пожгли.
Единственным человеком, которому хотелось оставить тут всё как молено более нетронутым, был он сам — будущий хан здешних мест. Кому охота владеть пепелищами? Но ничего не поделаешь: придётся разрушать свои же (уже можно сказать, завоёванные — ведь войско врага разбито) будущие владения. Обидно.
Упущен шанс склонить этих людей к мирной покорности. Теперь придётся грабить и вязать. А богатства этой земли ручейком потекут в Каракорум и будут усиливать его врагов.
Правда, может, оно и к лучшему. Заявления о покорности — вещь хорошая, конечно, для будущего лада с подданными, но войско, оставленное без добычи, потеряет азарт. Придётся поддерживать его в нём кнутом, а не щедростью и посулами. А это опять же на руку сопернику.
И всё-таки этот ход — его выигрыш, не Гуюка. Кроме беспомощного доноса, который померкнет, как только они успешно продвинутся вглубь, остальное — не так уж и плохо.
Тысячи Гуюка потрёпаны, вот и повод не пустить их на взятие Рязани. Этот город разграбит он сам. Рязанской добычей будут вознаграждены ЕГО тысячи. А погибнут при этом пленные урусуты.
Христианский Мессия пообещал как-то своим мюридам: «Будете ловить человеков». Своих «человеков» Бату часто ловил арканом на поле брани, а потом — приручал.
В памяти нет-нет да и всплывала нелепая картинка: ретивые охотники вылавливают в диких табунах его нынешних лучших подданных, он смотрит на них — этих укрощённых, но не сломленных жеребцов — и усталое сердце оттаивает.
Княжич был как раз из таких, понравившихся ему сразу, но по Ясе нужно истреблять всех «чужестранных вельмож, какие внушают опасение». Этот мальчик так зыркал молодыми дикими глазищами, что в «опасениях» сомневаться не приходилось.
Он стоял перед джихангиром, скрывая свой страх за слепой пенной яростью, звонко и тонко кричал явно не своё, несуразное. Что-то про то, что джихангир — безбожник и ещё, кажется, «враг рода христианского».
Это Бату позабавило.
— Переведите ему: у тех, кто пленил его, нательные кресты. Пусть покажут. И ещё — здесь нет никого, кто не верил бы в Бога. Но у Бога много имён.
— Воздастся тебе за нашу кровь, — перевели Бату очередной выкрик пленного.
Джихангир нахмурился:
— Переведите ему: виноват ли самум в гибели каравана или тот, кто завёл людей под песок?
— Виновата ли метель в том, что путник замёрз, или... — медленно забормотал толмач-урусут[106] на своём неуклюжем языке.
Рязань... первый город, на который Бату бросил свои собственные силы. Не те, что по окончании этой войны вернутся во враждебный Каракорум, а именно свои, доставшиеся в наследство от убитого эцегэ.
Говорят, город мужественно держал оборону пять дней... Написав такое, рязанские летописцы не обманут, но солгут. Ведь ложь не в словах, а в том, как эти слова понимает тот, к кому они обращены.
Размышляя об этом, Бату всегда вспоминал поучительный рассказ Субэдэя про пресловутую реку Калку. Он тогда тоже не обманул, но солгал. «Мы не прольём вашей крови», — пообещал Субэдэй закрепившемуся за городнёй киевскому коназу Мастилябу. И не пролили, просто сломали им хребты.
Что думал Бату, принимая утешительные донесения своих туаджи? Его обуревал детский страх... Не перед урусутами, нет. Страх остаться слабым и голым перед Гуюком и Бури, перед Джагатаем и его «стервятниками». Гибель своих людей в том бою Бату ощущал как-то по-особому. Как заблудившийся путник, который для того, чтобы добрести по колючему снегу до далёкой юрты (и при этом не околеть с голоду), съедает собственные уши, съедает куски собственной плоти.
Его люди — это всё, что он имел тогда, чтобы не умереть, это была его плоть.
Любой харачу, любой богол имеет право жить, оставшись один, без людей. Ханы лишены подобной милости Неба. Если они останутся без своих людей, соперники не преминут набить камнями их рты.
Бату боялся и отклёвывал кусочки собственной плоти очень бережно, поэтому Рязань держалась целых пять дней.
Нужно было засыпать рвы хворостом, нужно было подогнать осадные башни вплотную к стенам. Нужно было эти стены (слава Небу, деревянные) хорошенько растрясти. Как всегда бывает в таких случаях (будь то Хорезм или страна джурдженей), урусуты охотно терзали своих соплеменников из хашара, поливая кипятком и смолой, упражнялись в меткости, стреляя из ручных своих баллисточек: вольно выцеливать беззащитного соплеменника из-за безопасных заборолов.
На необходимые приготовления и ушли первые четыре дня. На пятый наконец подогнали передвижные деревянные башни с перемётами. По перемётам — почти сверху вниз — устремились его передовые алгинчи. По лестницам снизу вверх — под камни и кипяток — пополз тот же незадачливый хашар.
Бату. Рязань. 1237 год
Сопротивление горожан, подобно упругой ветке, долго гнётся, а потом враз ломается. В том-то и заключается чутьё полководца, чтобы уловить изощрённым ухом этот лёгкий треск, после которого сопротивление заканчивается и отдельные отважные смельчаки увлекаются единым безумием паники. От этого чутья и зависит — потеряешь ты при штурме несколько сотен или несколько тысяч. То же и на равнине.
Не владея этим умением в должной мере, Бату во всём доверился учителю. Субэдэй, как всегда, угадал верно — палка сломалась очень вовремя. Поэтому железные лбы пороков — чьи удары в этот раз не прозвучали неумолимым приговором — так и не попробовали на прочность рязанские крепостные ворота (их открыли без помощи таранов те ретивые алгинчи-передовые, которые заблаговременно пролезли в проломы).
Взятие города почему-то запомнилось Бату тем, как он загибал свои окоченевшие пальцы, — не обделить бы кого наградой. Этим, отворившим, достался мизинец... Надо же, какую пустяковину иной раз держит несносная память.
К счастью для кое-кого из жителей, монголы обошлись в этот раз без таранов. Субэдэй посматривал на пороки с явной болезненной неприязнью. Он после осады злополучной джурдженьской столицы Наньджоу не выносил штурмов. Право слово, надо было ему тогда сдержаться. Однако, если б он тогда сдержался, джихангир такого подарка, как Субэдэй, ни за что бы не удостоился. Царапался бы тут, под Рязанью, в одиночку и бесславно полёг, как сорняк под урусутской косой-горбушей.
И вот теперь — именно из-за тех таранов — Субэдэй был здесь, в снежном захолустье. Умница Юлюй Чуцай воспользовался удачным поводом, пошептался с Великим Ханом и перебросил Непобедимого из роскошного Китая в эту ссылку — заниматься скучной вознёй с кыпчаками и урусутами. В помощь Бату — опальному сыну убитого мятежника, джихангиру-смертнику, которого и в живых-то оставили только для того, чтобы сгинул не просто так, а с пользой для общего дела.
Что делать с городом, который взял? Казалось бы, всё просто. Ан нет — тут целая наука, как всякая другая, обвешанная противоречиями, лукавыми загадками и пылкими прозрениями.
Хорезм-шах обрекал взятые им мятежные города на трёхдневное разграбление. При всех неоспоримых достоинствах этого проверенного метода награждения достойных тут был один явный недочёт: не всякий, первый в сече, передовой и в грабеже. Получалось, что награда находила не столько багатура, сколько мародёра. Если по-хорошему, богатеть в таких делах должен не тот, кто успел нахватать, а тот, благодаря кому это хватание вообще состоялось. Вот тут и задумаешься.
Крестоносцы вырезали в Иерусалиме и Дамиетте всё подряд, вплоть до кошек. То же самое проделал с неблагонадёжным Минском любивший поучать детишек добру Владимир Мономах. Что тут сказать? Казалось бы, одно другого стоит, но не всё так просто. Этот способ хорош, если собираешься во взятом городе поселиться сам. Тут будущим рачительным хозяином движет не что-нибудь, а любовь к чистоте... Кто же захочет строить счастливую жизнь рядом с крысами и недобитыми нехристями? Хозяйственные крестоносцы так и сделали — на пепелищах осели надолго.
А вот Мономах в Минске, на свою беду, не поселился. И тут же результат: вырезанный, бесхозный город остался чёрным пятном на ризах (и белым пятном в истории).
Пока город ещё заселится-оприходуется, а молва-то, молва уж гуляет по покорённой им Руси. Попробуй бормотать о милосердии с таким-то пятном? Тем более что крестоносцы так поступали с нечестивыми, а Мономах — с единоверцами.
Вот и пример назидательный о том, как хороший, ценный опыт можно использовать неправильно, глупо, себе же во вред.
Всеволод Большое Гнездо дважды поступал с Рязанью так, как Джучи-хан с хорезмийским городом Джендом. Выводил население во чисто поле, здоровых, умелых и красивых на верёвочке в холопы, а все постройки и стены — сжигал. Лепо горят деревянные грады: дружине — загляденье, ворогам — назидание, чтоб знали, как противиться «собирателю Святой Руси Владимирской ».
Бату задумался крепко. Проявлять излишнее милосердие губительно. Если все города, которые предстоит встретить на пути, будут сопротивляться, а не сдаваться — много же он тут навоюет. Но ежели всё подчистую вырезать, то чем же наказывать за большие провинности? За расправу над послами, например, или за особо яростное сопротивление? Здесь переусердствуем — в другом месте людей потеряем.
Есть и ещё одно неудобство. Куда девать пленных? Гнать их по заснеженной степи в родной улус? Тогда какими силами, с каким сопровождением? И так людей наперечёт, а кто из здешних на его сторону перейдёт — неясно пока. Таскать за собой? Тогда чем кормить? Эх, вопросы, вопросы.
В Рязани, как назло, скопилось много народа. Нет, чтобы бежать из этой клятой ловушки, так они, наоборот, спасение тут себе искали, чудаки.
Ну да ничего, впредь другие поумнее будут, а путь впереди — ох неблизкий.
— Ну что? — спросил Бату у старика. — Жалеешь, что не гремели здесь тараны?
— Отчего ж, урусуты не джурджени. Окрестных людей за скот не считают. Глупые слегка, так ведь с убогих какой спрос?
— И что же мне с ними делать?
Выкупая пленных, немного выручали купцы. В основном это были булгары из Ульдемира. Давно ли братец Шейбан жёг их столицу, небось и клети отстроить не успели, а вот уже здесь, как утка всплывшая. Ходят, умелыми пальцами щупают дрожащий от холода товар. Успели уже и охрану нанять. Между прочим, — чтоб издалека не везти, — из местных, из вятичей: тех самых, чьи святые места секли топорами княжеские люди. Те, кто оставался предан вере отцов, были рады порушить гнездо ненавистного пришлого Бога. Воистину, куда стрелу пустил, туда она и упадёт. Но кто думает о завтрашнем дне?
Тут же, как в насмешку, расхаживали со своими бормотаниями урусутские попы. Вот бы кого на невольничьи рынки. Однако нет. Расплачивался, как и всегда, простой народ.
Живой товар шёл за бесценок, потому что Бату спешил. Всякий работорговец, который осмелился волочиться за войском в поисках поживы, теперь свой риск с лихвой окупил.
Мангуты, джурджени и кыпчаки того тумена, который был собственно его, слишком долго питались одними обещаниями.
Сражение в чистом поле — мечта для джихангира. Всем известно, что именно на равнине нам нет равных... Так-то оно так, но... Но есть одна издевательская гримаса превратности, всю изощрённость которой Бату понял только тогда, когда сам (ветераны об этом не говорили, даже Субэдэй) скрестил меч с осёдлыми народами.
А дело тут вот в чём: когда воюешь против таких же, как ты сам, степняков — кыпчаков, башкир, буртасов — нухуры сразу после боя обретают долгожданную добычу, которая одновременно с этим ещё и плата за мужество. Один из законов степной войны, увы, в том и состоит, что кибитки противников всегда рядом. Это происходит потому, что их основные силы не могут уходить от куреней очень далеко, не могут оставлять беззащитными своих жён, стариков и детей.
Такова уж наша доля, такова дыра в нашем защитном панцире.
Беседуя с осёдлыми людьми, Бату вдруг понял, что они завидуют тому, что есть у детей степи, чего те как раз и не имеют — неуловимости...
Не то у осёдлых... Если, например, урусуты, выводят свои дружины в чисто поле, с ними легче справиться, чем с вёрткими стрелками кыпчаков и башкир. Да вот только вся добыча укрыта за стенами их городов. Урусуты вполне могут позволить себе не тащить за собой на войну ничего, кроме необходимого для войны.
Воодушевляя воинов под Пронском, Бату уверял, что нужно поднатужиться сейчас, зато потом беззащитная страна возляжет перед ними покорной невольницей.
Не столько приврал, сколько слукавил. На самом деле не так уж всё гладко сложилось.
Дальше так продолжаться не могло. Тетива, натянутая сверх меры, рано или поздно лопнет. Тем более что шептуны Гуюка и Бури по наущению хозяев всеми силами напирали на скупость Бату. Это было очень выгодно, ведь можно говорить, вот, мол, я, Гуюк, жестоко караю, зато щедро награждаю, а Бату для своих людей козлиного копытца пожалеет.
Нухуров особо не запугаешь, а вот обделять их куда опаснее. Увы.
Поэтому Рязань нужно было своим нухурам скормить, причём скормить до косточки, чтобы дать им насытиться на долгую войну впереди.
Тем более вовсе не ясно, как повернётся с суздальцами, через земли которых лежит дальнейший путь. Может, и удастся склонить их к покорности, но что тогда?
Можно потребовать у них корма, коней и воинов, однако разве это награда? Это лишь то, что необходимо для жизни. Правда, будущие мои владения, будущие союзники в войне с Каракорумом останутся неразорёнными. А моим нухурам что с того, что даст это их семьям, к которым они обещали вернуться с возами, полными добра? Хлопок от кнута?
Нет, нельзя выбрать будущее отдалённое в ущерб будущему ближайшему.
«Возлюби ближнее своё» — так бы сказали мелькиты.
Если вдруг удастся договориться, воины так и не получат награды, а от договора отказаться нельзя.
Как с такими настроениями воевать дальше? Тем более война предстоит такая, что простыми усилиями не обойдёшься, нужны сверхусилия. Недовольства (даже среди тех, кто стоит в этой родовой распре за него) не избежать, а он не мог себе такого позволить. Чёрным грифом над судьбой висели думы о будущем.
Как тут ни выкручивайся, но рано или поздно настанет миг, когда каждый из тех, для кого именно он — не кто-нибудь — природный хан, должен будет для себя решать: воевать за своего хана или с облегчением отдать его на расправу?
Нужны были воины и советники, преданные лично ЕМУ, а не (ох, сколь там всего скопилось уже на иной чаше весов) Ясе, несторинам, «белоголовым», верховному кагану живущему и Верховному Кагану Воспарившему, совести, долгу своему роду-обоху. Случись что не так, все эти важные, святые для многих вещи опутают, как верёвки.
Всему этому он мог противопоставить только верность, а если эту верность не скрестить с выгодой, она рухнет.
Бату должен был создать именно из таких людей гибкий и верный костяк, и это его последняя надежда. Но — видит Небо — таких людей ещё так мало.
Кроме того, нужно было обязательно добиться невозможного: чтобы большинство уроженцев тех земель, куда ступили кони-хулэги, воспринимали его не как покорителя, но как — спасителя или, по крайней мере, как союзника против более важных своих врагов. А коли так, то кроме искренних друзей Бату ещё нужны те, кому выгодно, чтобы их угнетатели сменились.
С Рязанью такого не получилось. Хорошо это или плохо? Может, оно и к лучшему. Уж если кого нужно скормить, чтобы помириться с остальными, наверное, лучше Рязани не найти? Суздальцы её недолюбливают за то, что она только наполовину выкурила и развеяла сторонников Чернигова. Черниговцы за то, что она всё-таки наполовину их выкурила.
Ограбление взятого города, когда берут его тёплым, шевелящимся и визжащим (без скучного отчаяния обречённости на лицах будущих боголов), отличается от планомерного так же, как покорная сникшая наложница от той, которая ещё не успела растерять свободного человечьего стыда, та, у которой щёки ещё горят роскошным вкусным гневом на посягателя. Как отличается тёплое, ещё живое мясо от разогретого. Как отличается истребление лосей и сайгаков в загоне от тусклого забоя овец для нужд войска.
Воин, врывающийся в чужой дом, хочет приятной неожиданности, а не того, что потом достанется ему как ожидаемая подачка.
Бату хотел, чтобы состоялся долгожданный победный пир, но, кроме того, нужно было не загонять в дальний угол капризную мстительную справедливость. А для этого постараться, чтобы получили по заслугам отличившиеся в деле боевые отряды, а не те, кто рад поживиться, пока передовые алгинчи расправляются с последними очагами сопротивления.
Посовещавшись со своими ближними нойонами, он распределил очерёдность поживы между тысячами так, чтобы не забыты были их заслуги не только при взятии Рязани, но и под Пронском.
Нельзя было обойти вниманием и наградой те отдельные сотни, которые рыскали по окрестным сёлам, сгоняя хашар и добывая корма для отощавших лошадей. Этим сотням как раз и пришлось тяжелее остальных.
Наиболее отличившиеся устремлялись в замерший в ужасе город, пребывали в нём какое-то время, после чего уступали место следующим. И так далее.
Рискнув рассориться с хранителями, Бату изменил одно важное правило. Обычно ту часть добычи, которая предназначалась для отправки в Каракорум, отбирали особо приставленные для этого дела людьми. Выглядело это так: каждый воин должен был всё без утайки предъявить кешиктенам, которые сами, по своему усмотрению, отбирали себе как будто бы «четвертую часть», а на самом деле — сколько им заблагорассудится.
Спорить с гвардией никому в голову не приходило — себе дороже. Кроме того, «святая добыча» — это не деньги, не одинаковые серебряные слитки, которые можно разделить по закону. А тут разве отделить ровнёхонько четвертую часть, ведь чего только в этой куче не встречается: от драгоценного оружия и столешниц до кусков бухарских тканей зиндани и сорванных с дрожащего плеча шуб и отрезанных вместе с ушами дорогих серёг. К этому прилагались и девушки, и аргамаки, и перепуганные кречеты. Попробуй-ка узнай всему этому истинную цену... Поэтому всё и получалось легко. Пользуясь тем, что за укрывательство добычи полагалась смертная казнь, сборщики просто забирали у воинов всё самое ценное, и, само собой, не четверть, а добрые три четверти, это если повезёт.
Бату помолился Небу и положился на удачу. Конечно, последуют доносы (как без них), но пока с ними разберутся, много воды утечёт.
Он помолился и, пользуясь тем, что в походе даже «стервятники» обязаны ему подчиняться (кляузничать будут потом), безжалостно изменил порядок распределения добычи.
Теперь каждая сотня отвозила четверть взятого в городе в отведённое место, но... по своему усмотрению. Правда, во избежание воя, Бату всё-таки установил то количество, меньше которого дать нельзя. Если у кого не было и этого — сотня должна была покрыть его убытки.
Раньше открывалось широкое поле для злоупотреблений сборщиков, а теперь любые сомнительные случаи расчёта решались в пользу самих воинов.
Бату прекрасно понимал, что даже самый тупой и ленивый не отдал сборщикам настоящую четверть награбленного, но именно этого-то как раз и добивался. Благодаря этому отчаянному выверту он попал сразу в две важных для себя мишени. Ведь это был прекрасный задел на будущее.
Каждый его нухур, каждый джангун — особенно из новых, из кыпчаков — конечно же, прибарахлился в свою пользу, тем самым стал соучастником маленького бунта против верховной власти. Кроме того, они неизбежно сравнивали новый указ с прежним, и сравнение было явно в пользу нового. Если хранители надумают перетряхивать их котомки, это вызовет недовольство и сплотит их всех вокруг джихангира. Сплотит как раз против тех, кого надо.
Вырезать в городе всех подряд Бату приказа не давал. Ему было важно, чтобы уцелевшие рязанцы поняли, что бывает и хуже. Ко всем остальным невзгодам не хватало ещё и отчаянного сопротивления «обречённых»: нет ничего хуже слухов о беспросветной беспощадности.
Плодить загнанных в угол крыс ему вовсе не хотелось. Важно, чтобы враг думал, что может решить дело миром в любой миг. Даже после ожесточённой грызни.
Прямого приказа не хватать пленных он, конечно же, позволить себе не мог, но мог сделать так, чтобы количество сбежавших было немалым. Так и получилось: кто попался — того скупали купцы. Кто убежал, значит, так тому и быть.
Впрочем, воеводу и его ближайших подручных он всё-таки приказал казнить...
Бату смотрел сквозь растопыренные пальцы на то, как кольцо облавы — столь прочное, когда сопротивление ещё не окончилось, — вдруг разорвалось в нескольких местах.
С привычным для таких воспоминаний ехидством он, конечно же, вспомнил, что юный Темуджин в том самом первом своём сражении с меркитами тоже проявил великодушие. Тоже не преследовал бегущих в лесах. Избивать всех подряд он пристрастился гораздо позже.
Назначенные Бату люди, из тех немногих, кому он безоглядно доверял, позаботились о том, чтобы было кому бежать и куда.
Тем, кто уж очень был подобным озабочен, Бату позволил принести в жертву своим предкам некоторых рязанских девушек. Любовь к родичам — это святое. Не обошлось и без того, что вызывало особую неприязнь: джурджени из тех тысяч, что обслуживали осадные орудия, так пристрастились гадать на «живых внутренностях», что успели вспороть животы доброй сотне рязанцев прежде, чем он наконец взбесился и строго-настрого запретил подобное. Это вызвало было глухой ропот, но тут помог не переносящий джурдженей Субэдэй. С некоторой ревностью джихангир убедился — если тот берётся за дело, всякое нежелательное брожение сразу же замирает. Что бы он всё-таки делал без старика? Страшно подумать.
Перед тем как предать город огню, хан проехался по его улицам...
Похоронщики сносили погибших монголов к погребальному костру. Оказалось, что горожан посекли немало... При грабеже никогда не удаётся избежать резни. Многие запирались в здешних деревянных домах Бога и сжигали себя изнутри — Бату этому не препятствовал. У каждого народа свои отношения с богами. Здесь такие. Лезть во всё это было бы просто оскорблением. Тела местных не сжигали — вернутся беженцы и позаботятся о них. Но уцелевшим из хашара Бату всё-таки позволил похоронить своих павших по здешнему обычаю. Согнанные с разных мест они с видимой неохотой взялись за дело. Благодарности за эту милость джихангир в их глазах не заметил.
Сам он радости от этой победы тоже не ощутил — на душе было пасмурно и грустно.
Но воины, кажется, насытились и были довольны.
Бату и Боэмунд. 1237 год
Наконец появился Бамут, живой. Это обрадовало. После этого Бату нашёл в себе силы обрадоваться и из-за Рязани. Отдохнуть и насладиться победой было просто необходимо.
— Садись, Бамут, буду бояться.
— Чего?
— Того, чего не случилось. Иной купец разглядывает товары, а я умершие страхи: как-никак — они моя добыча. Эх, Бамут, я бы заполнил ими все сундуки, чтобы чахнуть над ними, как купец над шкурками собольими. Да вот беда: много соболей пока ещё скачет по веткам ближайшего будущего.
— И всё-таки я не понимаю...
— Тем хуже, анда Бамут, тем хуже. Каких стрел мы недосчитались в животе из-за того, что вовремя залегли за холмик?
— Я не умею себя хвалить...
— Похвала через отрицание похвалы? Надо запомнить. Ну, хорошо, я сам начну, а ты подпевай моему юролу. — И джихангир стал вожделенно загибать пальцы: — Если бы князь Юрий не вывел свои войска из лесу, как дичь под облаву, а? Ну, помогай мне, — с шутливой капризностью затянул Бату.
— ...сделал бы всё по уму, то имея... — подхватил Боэмунд с нарочитой неохотой.
— ...вышколенные дружины пронского, ижеславского, муромского князей, — расплылся джихангир, как кот, стащивший мясо, — да ещё прибавить к этому собственное войско, да, сверх того, засеки, знание здешних мест и вылетающие из-под лапника стрелы охотников, пришедших с лесных заимок... — джихангир в блаженном бессилии откинулся на шёлковую подушку, — то нас бы слопали красные мангусы уже сейчас, под Рязанью. Стой, стой... Сундук для мёртвых страхов ещё полупустой. Продолжаем бояться...
— Изволь, повелитель. Чего-чего, а запугивать — я всегда готов. Если бы каждый князь запёрся в своём городе...
— ...эти деревянные берлоги мы бы, конечно, взяли. Однако, теряя в каждой по перу, наш коршун превратился бы в ощипанного петуха, которого только вот в такой плов, — отчеканил Бату, отправляя в рот горсть пряного риса. — Хорошо боимся, с чувством... Надо ещё что-нибудь придумать...
— А вот такое если: эти рязанские герои наверняка упрямились бы до конца, до применения таранов, после чего...
— Пришлось бы вырезать всех подряд, от старухи до орущего комка.
— Ещё? — вошёл во вкус Боэмунд.
— Я уже и сам. Если бы ты навёл урусутов на наши тумены, а не на тумены Гуюка, он бы не был потрёпан. Значит, Рязань пришлось бы скормить его голодным войскам, а не нашим...
Про такое Боэмунд не подумал. Бату, видя его растерянность, охотно пояснил:
— Он имел на это право как старший сын Великого Кагана: разве не знаешь? Первый лакомый кусочек ему, а уж остальным, когда он насытится. Я использовал его собственный яд против него же самого, — хмелея, похвастался Бату со вкусным злорадством. Эту смешную детскую гордость он позволял себе только при Боэмунде.
— Это как?
— Просто приказал брать Рязань. Гуюк тут же начал шипеть, как щитомордник на тропинке, что я желаю его ослабить, что я вечно укрываюсь за спинами его воинов.
— Ты укрываешься за его спиной? Ты? — Боэмунд уже достаточно опьянел, чтобы даже удивиться.
— Он, кажется, даже не понял, что Рязань после той резни голая, как девка, брошенная в постель, — поднимай и бери. Стал кричать про потери в тумене, дурак, закапризничал.
— Тебе же того и надо было, — подытожил Боэмунд.
Но «сундук мёртвых страхов» был, похоже, не заполнен:
— У Гуюка ещё те волкодавы, все джурдженьские поля копытами перемесили, все сартаульские пески поворошили. Тумен родственничка взял бы Рязань ещё ретивее, чем мы, не особо при этом заметив защитников. Вся взятая на Эльджидаев меч олджа-добыча до шёлковой нитки досталась бы ему, а такое бы значило, что не миновать мне недовольства среди своих мангутов, и особенно джурдженей. Уж в который раз я их, бедных, голыми обещаниями кормлю.
— Вот теперь, кажется, всё перечислили...
— Нет, остался хвостик. — Глаза Бату устало заморгали. — На курилтае замышлялось как? Силы Гуюка и Бури приданы мне в помощь, а это очень выгодная для них вещь. Захотят лезть вперёд — я обязан пустить. Не захотят — не больно-то и заставишь...
— Ну и что?
— А вот что, друг Бамут. Рязань-то мы взяли, а это самый лакомый кусок. Гуюк его из-за гонора меж пальцев упустил. Но теперь-то я просто обязан дать ему повоевать, а то бы нам пришлось...
— Вот уж нет, повелитель, это ты перечисляешь не мёртвые страхи — живые выгоды...
— Если бы мы упустили даже мелкую песчинку, чаша весов качнулась бы в сторону Гуюка, — ухмыльнулся Бату и добавил, помрачнев: — А единожды качнувшись, уж не вернулась бы обратно.
Однако всего этого не случилось. Каждый шаг усиливал Бату. Дёрнув натянутый аркан за кончик, натянешь и петлю.
Потом пришло время разбираться с теми страхами, которые ещё скачут по ветвям.
— Коломна — земли князя Романа. Ну и семейка у них! Воз бы тянули, так он бы и с места не сдвинулся, — пояснял Боэмунд, — один в Чернигов норовит, другой — к суздальцам. Роман — к суздальцам.
— Разного желают?
— Скорее от разного шарахаются. Рязанский воз из тех возов, на котором не догнать, а убежать норовят. А Роман, что Роман? Ежели Гюрга Суздальский вновь захочет рязанскую землю покарать, он с Коломны начнёт — иначе никак.
— Плох тот конь, которого в бой приглашает плеть, — задумался джихангир, — а какие там силы?
— Владимирский великий князь прислал под Коломну сына с войском, — перечислил Боэмунд. — Туда же собрались остатки разгромленных нами под Пронском рязанцев, муромцев, ижеславцев. — Увидев, что Бату слегка помрачнел, Боэмунд закончил мягче: — Вести, понимаю, невесёлые, но всё же этих войск, несмотря на владимирскую помощь, куда меньше, чем было под Пронском.
— Долго же раскачивался ульдемирский коназ. Что ж он раньше-то рязанцам не помог?
— А зачем ему рязанцам помогать? Вот скажешь тоже. Они подданные неспокойные. Чуть сильнеют, враз на Чернигов засматриваться начинают. Чем они слабее, тем легче их в узде держать. Рязанцы в этой войне и нас слабее делали, и сами ослабли. Так что пока мы Георгию Всеволодовичу только помогаем... особенно если на этом и остановились бы...
— Но...
— Но в том-то и дело: ему известно — не остановимся. Он приютил булгарских беженцев... Тут и угорские проповедники паслись, так он через них передал уграм предупреждение, что мы собираемся добраться и туда.
— Какое ему дело до угров?
— Не до угров — до Папы Римского дело. После падения Константинополя, столицы мелькитской, латины Юрия охмуряют, чтобы тот в их веру перешёл со всем народом. А тот не хочет. Проповедников папских прогнал, да, видать, сам же и перепугался — вот и ластится. Может, думал, придётся помощи у них против нас просить?
Бату задумался:
— Раньше нужно было просить. Опомнился. Ну да ладно, после с ним разберёмся. Расскажи-ка поточнее про Коломну.
— Коломна — для суздальцев особый, последний заслон. Тут уж, хочешь не хочешь, а шевелиться надо На своей земле Георгий воевать боится — уж больно его ненавидят, а Коломна с одного боку — город рязанский, с другого — стеной за Владимир стоит. Хитро устроился здешний князь. И суздальцы его ублажают, чтоб, в случае чего, было на кого опереться, если непокорное Рязанское княжество к Чернигову качнётся, а с другого боку — и рязанцы на Коломну не давят. Знают, случись чего, она всегда к суздальцам переметнётся. Попробуй тронь. Отчего, думаешь, Юрий Игоревич коломенские дружины с собой под Пронск не забрал? Да оттого, что не посмел. Он Романа давно только просить может. Не приказывать!
— Ну что ж, всё, что ты рассказал, можно обернуть нам на пользу, — рассудил Бату. — Гуюк сетовал, что его обделили добычей, так пусть примет на себя первый удар. Отдадим ему Коломну на зуб: теперь его очередь. Кераиты Эльджидая вполне с этим справятся, пусть он потешится. — Круглое лицо Бату светилось довольством. — Как ты думаешь, Бамут, пошли урусутам впрок уроки прошлые или они опять выведут войско на равнину?
— Думаю, что выведут, повелитель, — улыбнулся Боэмунд. — Стены хороши, если уверен, что они прикроют, так ли? Суздальцы — народ самоуверенный, к победам привыкший, а рязанцев побили, так это для них не назидание: подумаешь, рязанцы. Суздальские удальцы хотят победы и добычи. А со стен смолу сливать — какая добыча?
— То-то коназ Юрий не воеводу — сына родного прислал на убой. Стало быть, уверен?
— Самоуверенность глупца — предмет зависти мудрого. Может, оно и так, а может... — задумался соглядатай, — просто прикрывается за сыновней спиной. Ежели правда то, что я про Юрия слышал, так с него станется и сыном пожертвовать, ежели надо. Ну, хотя бы для того, чтоб дружине показать: глядите мол, я в вас верю — родного сына не жалко.
— Так или иначе, а положения это не меняет. Но там ведь ещё и Роман?
— Роман запираться в городе тоже не станет. И оттого, что не пожелает перед суздальцами трусом предстать, и оттого, что на самом деле как раз струсит. Он же не забыл судьбу Рязани. Значит, пуганый. Думает: «Ежели рязанские стены врага не удержали, куда коломенским укрыть. А от битвы во чистом поле — случись чего не так — всегда ускакать можно».
— Всё это радует, друг мой, но давай теперь решать: кто нам нужен живым? Коломенский Роман, думаю, не нужен — вёрток больно. Да и потом: хватит нам и одного рязанского княжича — того Олега, что пленили под Пронском. Уж больно подозрительная у них семейка — ни лада, ни достоинства: только и знают друг друга теснить и травить. И нечего этот корень множить без нужды. А вот Владимира Юрьевича суздальского не помешало бы и живым взять. Этот может пригодиться как заложник или ещё для чего. Там видно будет. Поручим это Делаю: царевичей похищать как раз в его духе. — Бату улыбнулся, вспомнив обстоятельства их знакомства с Делаем. — Пусть его отряд, ни на что не отвлекаясь, занимается только этим. Думаю, задание ему понравится.
— Чем порадуешь меня?
— А на тебя, Бамут, опять вся надежда, — вздохнул тяжело Бату, — дал бы тебе отдых, да не время. Слушай же: если никуда не деться нам от суздальцев, надо их разобщить. — Бату посмотрел на помощника растерянно, только с ним он такое себе и позволял. — Как это сделать, я ещё не знаю... — С показной строгостью добавил: — Вот этим и займёшься. Понял ли? Ты теперь человек непростой — «Богородицы» тебе являются. Вот и думай.
— Возьмём Коломну сами, Гуюк скажет, что мы крадём его олджу-добычу, его славу. Пустим его вперёд, будет зудеть, как шмель, залетевший в юрту, что прячемся птенцами под его крылом, — посетовал Субэдэй.
На сей раз своим въедливым ворчанием он джихангира не смутил: и под солнцем иногда кусают комары, так неужто не радоваться солнцу?
— Пусть потешается, чего уж теперь... — Он сощурился под ласковыми лучами, рассекавшими звенящий мороз, но не удержался, снова стал подозрительным: — Ты всё о мелких щепках, которые съест костёр, а мне важнее, чтобы он другого не сказал. А ведь додумает, а это другое будет убедительнее и опаснее. Сам не догадываешься?
— Отчего же? — охотно отозвался Железный Старик. — Я бы на его месте сказал: «Как урусутские дружины бить — это Гуюк, как ослабевшие без войск города хашаром штурмовать — так это хитрая баба Бату».
Скучно с Субэдэем, что ни подумай, всё уже заранее знает. Бату даже слегка обиделся. Стал оправдываться, забыв даже, что аталик не сам так думает, а Гуюка изображает:
— Из Рязани в степь урусутские тумены мои люди выманили... — Его голос вдруг зазвенел, эти слова джихангир не раз говорил сам себе. — Главный город княжества взяли мы — не Гуюк.
Субэдэй слушал, одобрительно хмыкал.
— Я мог бы с его воинами олджой не делиться. Яса не заставляет. Так нет же, поделился. Кераиты такое не забудут. А ведь «святую олджу» получают те только сотни, которые участвовали в штурме, разве не так?
— Вижу, в снах к тебе приходит гуюкова душа, дразнит, — поддел полководец.
Это тоже была правда. Гуюк, Гуляющий по ночам, был умнее себя «дневного».
— Кроме того, скормим Гуюку и Коломну, разве мало? Или как он хочет? Мы будем войско разбивать, а ему — города на подносе?
— Это ты будешь петь не мне... — засомневался всё-таки аталик. Вот он всегда так: его похвала — когда он просто не ворчит. Небрежно бросил возражение, протекающее, как жир между пальцев: — Но под Пронском главный удар всё же пришёлся по Гуюку...
— Так и наши помогли. Что ж мы, там и не воевали вовсе? — неуверенно оправдывался Бату, лихорадочно соображая, как, в случае чего, будет оправдываться. Прав старик, опять прав. Есть у Гуюка эта хитрая зацепка. Отдышался, стряхнул нахлынувшее волнение: — Знаешь, Субэдэй, тут важно упредить. Ропот в нужную сторону раздуть... Своим шептунам в тумене родственничка именно это я и поручу. Пусть говорят так: «Бату взял Рязань, а Гуюк — Коломну. Какая крепость сильнее? Ясно и без слов, что Рязань...» И пусть они оправдываются, а не мы. Кто жалуется — тот и не прав. Главное, что мы людей сохранили.
Смотри, Бату, не перехитри самого себя, — всё же буркнул старик, но уже примирительнее.
Бату. Коломна. 1237 год
С Коломной получилось всё как нельзя лучше. Урусуты продолжали повторять прежние ошибки. До них не дошло, что поражение под Пронском было вызвано не глупостью соседа, а тем, что не тягаться урусутам с врагом в открытом поле. Эльджидаевы несториане разметали урусутов как пух по ветру.
— Почему так, Субэдэй, неужели они так ничего и не поняли? Ну, ладно бы впервой...
— Одного умного можно убедить, одного глупца увлечь. Когда же тех или других уже десять — одной шишки всегда мало. — Субэдэй и тут был не прочь сесть на своего любимого скакуна и показать преимущества строгого единоначалия. Однако сейчас Бату хотелось, чтобы он оказался прав.
— Значит, так будет продолжаться и дальше? — зажглись надеждой утомлённые от вглядывания глаза.
— Хорошо бы.
Значит, Субэдэй был не очень в этом уверен. — Бату уже не впервой задумывался над этим. Почему так получается. Почему, единожды стукнувшись лбом о притолоку, в следующий раз тоже не нагибаются? «Воистину лучше лоб разбить, чем спину согнуть, так, что ли?»
Оттого, что Георгий Всеволодович владимирский послал своего сына поддержать рязанцев, пользы получилось маловато. Вреда — сколько угодно.
Бату — тем более изловив его сына — имел право расценить это как объявление войны. Получалось, что суздальцы напали первыми, а это можно было при надобности раздуть.
На чьей стороне справедливость в глазах местного народа — а значит, и покровительство Неба, — это не самое пустое, когда воюешь вдали от дома.
У Бату было достаточно шептунов, родом урусутов, вот он и подумал: пусть пошатаются по ульдемирскому княжеству в одёжке чернецов или ещё кого, пусть по шепчут по постоялым дворам про справедливого Бату хана, желающего только мира. Про хана, на которого без повода напал алчный Георгий, и вот теперь Бату идёт наказать преступника.
Тут многие Георгия не любят — только факел кинь.
Да, теперь Бату имел прекрасный повод вторгнуться на Владимирскую землю, но всё же колебался: Владимир не Рязань. Там каменные города и сильное войско. Не ровен час, зубы поуродуешь, а оставшиеся выбьют не к ночи вспомянутые родственнички вроде Гуюка.
И всё же не попробовать ли выторговать покорность, имея заложником княжеского сына? Ведь такая удача.
Если меж Георгием и братом его Ярославом уже пролёг глубокий овраг, то по всей науке следует поддержать одного против другого.
Не прожевав кусок, его и собака не глотает.
Полководцы Гуюка тоже не подкачали — войска князей разбежались. Коломну взяли без труда и отдали на трёхдневное разграбление.
Под Коломной судьба улыбнулась Бату и ещё в одном: погиб последний уцелевший сын Чингиса хан Кулкан. Он был из тех, чья отвага шла впереди ума. Кулкан считал себя правоверным чингисидом и упорно не хотел замечать, что дедовы заветы существуют только в ритуальных призывах, что цвет времени безвозвратно изменился. Он был из тех, кто честно не разбирался в людях, и его слепая жестокость проистекала не из-за больного нрава, как, например, у Гуюка, а так — по простоте душевной.
Такой человек мог стать беспощадным орудием в руках кого угодно, и уж, конечно, случись что, стал бы на сторону Гуюка.
«Строгое следование заветам деда» — это был Гуюков меч, а Кулкан с трогательной честностью старался им следовать.
Глупая смерть Кулкана относилась и к случайному везению: если бы Бату тоже принимал участие в той злополучной битве, этот недосмотр мог бы стать для джихангира одним из тяжёлых обвинений. Теперь же ответственность за то, что недоглядели, всецело нёс Гуюк.
Когда возникнут в будущем споры, его всегда можно обвинить в том, что эта смерть не случайна.
— Знаешь, что он скажет? — испортил всю радость дотошный Субэдэй.
— Дело нехитрое: обвинит меня в том, что убийство Кулкана — это наш заговор, что мы заблаговременно послали в крепость человека, чтобы он оттуда выстрелил. Кто такой глупости поверит?
— Кому надо — поверят. Будут другие поклёпы, тогда для приправы кинут в котёл и это... — Субэдэй всегда предпочитал рассматривать самое худшее. — Обязательно другие найдутся, ты стервятников знаешь.
Гуюку теперь трудно было разжигать неприязнь к Батыю в своих войсках. Напоминать о Пронске он не мог — сам бы себя высек, а что до остального, то как-то получалось, что из-за Бату они получают добычу без большого кровопролития, а Гуюк их казнит перед строем. В этой ситуации против соперника работал излюбленный «метод ужаса» на него же.
Так или иначе, но, заняв Гуюковых кераитов Коломной, Бату освободил свои силы для более важной задачи: ловли «на живца» Евпатия Коловрата.
Оставив Прокуду на попечении бабки Бичихи, Боэмунд устремился к тайнику, вытащил пайдзу и поскакал в монгольский лагерь. Подъезжая к дозорной сотне, он заблаговременно обмотал лицо до глаз — знать его обличье должны были немногие, — показал пайдзу дозорным. После этого со скоростью, на какую только способны свежие кони, его доставили к джихангиру. Там он рассказал про отряд Евпатия, про то, что, кажется, сможет завоевать доверие вожака. Дальше дело за малым — искусить.
— Соблазн захватить тёпленьким самого джихангира должен опьянить и осторожного волка.
— А не опьянится, что тогда?
— В таких наспех сколоченных отрядах бывает много ухватистых удальцов. Цены им нет во время набега, а послушания мало. Я не я буду — вляпается багатур в петлю. А наши «шептуны» теперь пусть говорят, что явившаяся мне Богородица была «черниговска», впрочем, там уже и без того молва в нужную сторону побежала.
Боэмунд. 1237 год
Когда он возвратился в «пустынь» к Прокуде, девушка уже стала ходячей. Сборы были недолги. Узнав, что с ними едет (народ лечить) и знаменитая ворожея бабка Бичиха — она, оказывается, и Евпатия хорошо знала, — Боэмунд совсем воспрял духом. В такой компании лишние подозрения не страшны.
В походном лагере боярина его узнали — ибо уже утрамбовывалась слухами земля. Почему-то не про то эти слухи были, как пророчество не сбылось, а про то, как по пророчеству Бог за грехи Юрия Рязанского татарами наказал, о чём «Богородица черниговска» Боэмунда оповестила.
Прокуду Евпатий встретил приветливо, но... с доброжелательным холодком, из чего Боэмунд заключил, что их любовь больше существовала в грёзах девушки, чем на самом деле.
Тут возникла нежданная загвоздка. Оказывается, Евпатий всяких «чудотворцев» — а уж тем более скопцов — терпеть не мог. Он был воин и тянулся к естеству. Боэмунд резво изменил поведение, теперь он невинно утверждал, что всё про него просто придумали. Однако ему уже не верили, списывая отнекивания на скромность. Всё было точно так же, как в далёкой Монголии с Джамухой Сэчэном. И хотя вокруг Боэмунда стали собираться чудесно исцелённые одним только к нему прикосновением, Евпатий брать его с собой в отряд решительно не хотел.
На такой случай у лазутчика имелась запасная задумка, очень рискованная. Пришлось вспомнить юность и на глазах у вторящих своему вожаку дружинников он сделал весёлый вызов — аж у самого дух захватило:
— Ты не доверяешь Богу, Евпатий, — охотно верю. Но такие, как ты, верят в судьбу. Испытаем её, коварную бабу?
Огромный боярин удивлённо вскинул грозные брови.
— Ты воин... мужчина, а я скопец. Что мне жизнь. Вытащи меч и убей... Авось Пресвятая Дева меня помилует, попробуй...
В глазах Евпатия появилось замешательство. Боэмунд с удовольствием читал его нехитрые мысли. Убьёшь того, кому Богородица являлась, — не простят. Да и жалко убогого.
— Ага, боишься... Ты ж не веришь мне, так убей. Я хоть и скопец, а ты и вовсе баба трусливая, не так?
Недобрые огоньки в глазах великана пустились в пляс. Заинтересованные дружинники (этим море по колено) уставились подбадривающе. Ополченцы — с опаской, но и с жаждой чуда — не без того.
Закусив губу, боярин полоснул мечом морозный воздух...
— Смелее, — презрительно улыбался Боэмунд.
Стало так тихо, что слышно, как орудует неподалёку дятел.
Эта наука была не воинская, хоть и наведывался Боэмунд порой в сотню Делая — подучивал тамошних джигитов, но применять не советовал — слишком рискованно. Он сам — дело другое. В далёком Безье (было? не было?) его учили такому едва не раньше, чем ходить и разговаривать. Это были семейные тайны французских бродячих артистов вдобавок к наследственному чутью. Сотни, тысячи повторений каждый день, каждый час, всё детство.
Зрителям на уличных представлениях со стороны должно казаться, что меч тебя разрубает — так тесно он прилегал. Шестым, десятым, двадцатым чувством Боэмунд видел... по положению руки, по ухваткам, по глазам — куда пойдёт, куда завернёт клинок. При ударе сбоку (самое трудное), по замыслу этого представления, меч не отклоняли, он как бы прорубал насквозь... На самом деле уклон всё же был — мимолётный... и отвлекающее движение — чтобы взгляд публики метнулся в сторону. Глаза зрителей — так уж они устроены — следили за мечом, не за его уклона ми... и обманывались.
Он даже пожалел бедного Евпатия. С каким трудом тот решился на удар. Больше от отчаяния, растерянности...
Увидев стоящего как ни в чём не бывало обидчика, он опешил, губы задрожали... «Бедный, — понял его Боэмунд, — чудо узрел... А грехов небось?»
Ещё раз, ещё... Боярин растерянно отмахивался от нечистого, от своей судьбы. Толпа затихла в благоговении.
Утомившись, Евпатий отбросил меч. Тот с глухим стуком взрезал рукояткой утрамбованные следы от сафьяновых сапожек. Боэмунд тоже покрылся испариной — воспоминания юности дались ему тяжелее, чем он думал, — на грани срыва.
На героя-боярина было жалко смотреть — его обуял мистический ужас. Особенно тяжело такое переживают люди, которые в чудеса не верят... вся жизнь на глазах рассыпается, очень, знаете ли, поучительно. Ещё бы — фокус-то как раз в том, что самому рубящему кажется, что он рассекает воздух. «Ой, перебрал я, перебрал... Сейчас грохнется без чувств, а это лишнее».
Кусая ладошку, на Боэмунда уставилась простодушная Прокуда. Шевеля губами, как пристукнутая багром большая рыбина, боярин выговорил наконец:
— Кто ты?
— Я святой твоей войны... может быть... А может — это шутка, а?
Так они поладили. Боэмунд увлёк сладкой приманкой не столько самого Евпата, сколько его ближайшее окружение. Не ополченцев, конечно, а опытных дружинников.
Бату. 1237 год
Когда дело идёт о том, КАК организовать набег, боевой опыт каждого стекает отдельным ручейком в единое озеро здравомыслия. Иное дело вопросы вроде такого: КАКОЙ ИМЕННО набег? Тут ручейки порою разбегаются в разные стороны. Но вот случай — все быстроконные тумены ушли вперёд — зорить землю суздальцев, а ставка Батыги, тяжёлые осадные машины, обозы с награбленным добром неизбежно растянулись по узким зимникам. Туда бы и ударить. Но, соглашаясь на дерзкий рейд, мечтал Евпатий о другом: после такой победы, захватив такие богатства, можно попытать счастья и урвать... рязанское княжение. Тем более что князья природные показали себя — ни от ворога защитить, ни меж собой ладить не умеют. Гроза минет, люди вернутся, а кто с ним славой сравнится? А то, что он не князь, ну и что с того? Вон в Галицкой Руси пусть ненадолго, но выбрали как-то правителем боярина Владислава. «А мы, рязанцы, разве хуже?»
— Джихангир, облава замкнулась, — не выдержав, ещё издали прокричал кыпчак дозорной сотни, так ему не терпелось получить награду.
Новость действительно была долгожданной, но всё же Бату, сдерживая больше себя, чем вестника, напустил нарочитую строгость. Так же, издали, прокричал посланцу:
— Подожди, благородный нойон. Твои слова слишком далеки для меня. Не удостоишь ли ты своего джихангира великой чести подъехать к тебе поближе? И тогда он прильнёт к твоему божественному уху.
Мальчишка-гонец так перепугался собственной оплошности, что действительно осадил чёрного породистого жеребца. Видно, у его десятка дела шли неплохо, если он до сих пор разъезжал на таком красавце. Не уморил, не загнал. «Берикелля, нужно дать ему людей под начало». Бату чувствовал себя охотником, в азарте подбегающим к только что сражённому стрелой лосю. Понятно, что этим лосем был не испугавшийся парень, а тот отряд, который наконец заметался в расставленных силках.
Перепуганный, побелевший под стать снегу удалец давно сполз с коня и едва ли не на карачках приближался к неумолимой судьбе.
— Эй, храбрый воин, ты откуда?
— Из дозорной сотни хана Шейбана, Ослепительный, — постукивая зубами, (похоже, всё-таки не от холода), представился удалец. — Не губи, джихангир.
— Встань. Не странно ли, что боишься своего хана, желающего тебе добра, но не боишься врагов?
Наверное слегка устыдившись собственного испуга, парень нашёл в себе мужество ответить колко:
— Неужели великий джихангир хотел бы, чтобы было наоборот?
— Ведь недаром же Шейбан удостоил тебя милости стать добрым вестником. Заслужил? — ответил Бату вопросом на вопрос. Его настроение лавинообразно улучшалось.
— Великому джихангиру открыто всё под Вечным Небом, даже благоволение ко мне хана Шейбана, — тут же укрылся вестник за ловко выставленный шит ритуальной лести. Выпалив такое, он слегка ужался, но смотрел прямо.
— Скажи Шейбану, что я даю тебе под начало десяток. Рассказывай! — бросил джихангир. — Где теперь урусуты?
— Закрепились на холме. Поставили щиты — их у них, похоже, много. Лошадей — в серёдку. И чем-то прикрыли. Не достать. Прицельная стрельба по щитам бесполезна. Сверху тупым дождём — жалко запасов стрел. Они ухитрились даже облить холм водой.
— Дзе... дзе. Это уже не важно. От меня ты получил повышение, теперь скачи к Субэдэю, передай ему благодарность за облаву. Пускай подтягивается сюда...
— Что это, Субэдэй? Отчаяние обречённых или надежда на чудо? — спросил джихангир. Его жёсткая, круглая ладошка, лениво вспорхнув к сдвинутым бровям, встала на пути палящего «глаза Мизира», столь ленивого в этих краях.
— Думаю, они грезят о невозможном. О том, что основные наши тумены накинутся на Ульдемир. — Непобедимый не любил, когда планы врага не умещаются на его ладони, поэтому сердито, но не совсем уверенно проворчал: — А от той мелочи, что мы оставим на их уничтожение, Евпат, похоже, надеется ускользнуть, как ленок сквозь грубую сеть.
— Такие багатуры. Жалко. Нужно, чтобы они сдались на милость... Хорошо бы приручить этих проворных волкодавов. Но это забота не твоя, это — забота Бамута. — Произнеся это пожелание, хан мысленно прикрыл себе рот. Не прогневим ли благосклонное Небо тем, что слишком многого от него требуем? Аппетит меж тем разыгрался. Хан повернулся к заскучавшему было старику: — А что приготовил нам ты? Не брать же этот холм наскоком, в самом деле? — «Конечно брать», — осадил он себя уже вторично, но на всякий случай взглянул на воспитателя с надеждой: есть ли план или нет? А вдруг?
— Ясно и без Бамута, — с некоторой долей старческой ревности (которую Бату стал у Субэдэя в последнее время замечать) вскинулся Непобедимый, — пока они стоят и дышат друг другу в шею, решение Евпата — решение всех остальных. Перед лицом врага одна голова, одна гордость. Будут стоять перед нами связанными — подумают и своим умом.
— Трусливым умом, — подзадорил джихангир.
— Рассудительным, — не принял шутки полководец, — но я бы не стал разговаривать с ними сейчас. Что толку гладить волка против шерсти? Только оскалится.
Бату и раньше сомневался, что переговоры — это правильное решение: не те люди. Они готовы умереть (по крайней мере, пока стоят все вместе) — это одна печаль. Они никаким обещаниям не поверят — это печаль другая. Там черниговские дружинники. Бамут с досадой рассказывал, что некоторые из них десять с лишним трав назад сражались с монголами на Калке-реке. А раз так, теперь не поверят, поскольку прекрасно помнят: тогда сдавшимся воинам обещали жизнь и всё равно всех посекли. Так аукается через много лет несдержанное обещание.
«Мизир всё помнит, Мизир мстит». Несмотря на то что сегодня грозное воплощение Хормусты, которое карает не сдержавших слово, досаждало именно ему (причём именно ему совершенно ни за что), джихангир на Бога не обижался: «Пусть будут мелкие неудобства, зато торжествует мировая справедливость».
И всё же было трудно не воспользоваться таким прекрасным поводом, чтобы припомнить Субэдэю те старые грехи, и он таки не удержался, поддел: видишь, мол, ничего не бывает просто так. После такого на протяжении всего дня Субэдэй был с джихангиром подчёркнуто вежлив, и это, конечно, означало, что он обиделся. Впрочем, обида не помешала старому служаке изложить необычную задумку.
— Что? Джурдженьский огонь? Ты шутишь?
Большинство грубых катапульт, неуклюже и малоприцельно плюющих неповоротливые камни, было решено соорудить заново уже под Ульдемиром — всё равно не хватало лошадей тащить эти массивные уродины от города к городу. Но немногие — небольшие и точно бьющие — утомлённые мерины-тяжеловозы везли на скользких полозьях. Эти немногие швыряли не камни, а горшки. Из этих горшков, подобно джиннам, вырывался волшебный живой огонь. Он дышал своими весёлыми языками не куда-нибудь, а в чётко обозначенное место. Строить такое диво снова и снова было совершенно невозможно, да и пристрелка занимала не один день.
Отряд Коловрата, задумывая свой дерзкий рейд, явно принюхивался и к этим «джиннам», наверняка ему нашептали, а соблазн зело велик... и вот...
— Именно джурдженьский огонь. Подгоним, зашвырнём несколько снарядов туда, где у них лошади...
Белый снег, опоясанный вечной зеленью ельника, а под ними пылающим закатом носятся, трубно стонут, бросаются на дыбы огненные кони — джурдженьское зелье пылает на из спинах.
Старик угадал. Плотный щитоносный строй мало уязвим для стрел, а уж медленные метательные снаряды использовать в чистом поле — не в осаде — просто безумие, до Субэдэя никто не додумался. Тяжёлые камни и горшки с зельем ленивыми воронами летят, не стрижами. Не зевай, уворачивайся, отбегай. Но если враг стоит плечом к плечу, тогда ущерб такой, будто конь в поле ржи валялся. Куда ни глянь — кругом примятые колосья тел.
Загорелось и ограждение. Шум, гам, визг, мольба... Обезумевшие люди — живыми факелами — кидаются врассыпную... А Субэдэю того и надо. Тут уж дело стрелков «хоровода» носиться по кругу и жалить, жалить, намётанной рукой отводя огромные хинские луки за ухо. Всё, разгром... Заметались с арканами «ловцы человеков».
Евпатия взять живым не удалось. Поняв, что всё кончено, навалился боярин на меч.
В Ясе туманный указ — дарить пощаду и милость отличившимся воинам врага. Но тут пленных слишком много, даром, что ли, ловили? Непримиримых отпускать нельзя.
Уцелевшим черниговским дружинникам и гридням Коловрата предложили присоединиться к войску. Долго растолковывали им толмачи: да, их не будут использовать против Рязани и Чернигова, а после похода — воля, кто желает — выслуга. Если, конечно, поклянутся не воевать на стороне его врагов.
Полторы сотни дружинников изъявили покорность. Плохо ли? Воевать с суздальцами не противно, не скользко. Зуб на них давно клыком торчит. Это был, слава Небу, привычный для здешних людей договор, Бату же очень важно показать: в их жизни всё остаётся прежним — с переходом в подданство к новому правителю рабства не станет больше.
В случае отказа — по правилам древним, как мир, — дружинников поджидал неунывающий жертвенный нож. Считалось, что таких назойливых пчёл, как обученные воины врага, даже в обозе тащить опасно.
Не так чтоб много, но были среди гридней и те, кто выбрал смерть. Когда их тела сползли в снег, джихангир сглотнул появившийся в горле ком и пожалел о своей невольной твёрдости. Но хан уже знал: он не столь силён, чтоб разглаживать шрамы на лице превратности, бередить опасным милосердием и не Темуджиновы вовсе, а в души вросшие корнями неписаные законы.
Зато простых «ратоборцев», тех, кто явно не относился к числу дружинников, Бату распорядился оделить деревянными пайдзами (низшая из разновидностей пайдз, которая спасала от грабежа) и отпустить «ради мужества их».
Это тоже справедливо. Для дружины война не подвиг, а способ дышать — там люди особого склада. Для простых же, необученных сабанчи нет ничего тяжелее ратной страды. Вот для них-то как раз воевать — истинное мужество.
Что кроту хорошо — горностаю смерть. И всё же — не много отловишь случаев, когда можно (щадя врагов, не истребляя) опереться на Ясу.
Среди отпущенных на свободу были священники, юродивые, женщины. В том числе Прокуда, Боэмунд (понятно почему) и знахарка Бичиха.
Боэмунд и Даритай. 1256 год
— Да, Даритай, этого я не рассказывал никому. Появление Прокуды в моей жизни стало тем островком, где я был — только для себя. Кем она была? Она просто была — при мне, как послушница веры — в меня.
— Но ведь ты... — Даритай смутился, вопрос повис но кончике языка.
— Что, не знаешь, как спросить? — Боэмунд грустно улыбнулся. — Белые евнухи в гаремах ублажают наложниц, они — могут. Это ты хотел знать?
— И у вас с Прокудой... неужели?
На сей раз Боэмунд улыбнулся лукаво:
— Никогда ничего такого... Она смотрела на меня как на Бога. У неё вообще был этот дар отдаваться. Да нет же, охальник. Душой без остатка. Сначала Евпатию, потом — мне. Вот это бескорыстное служение, похоже, значило для неё больше, чем сплетение тел. В своём простодушии она и не знала, похоже, чем отличаются «белые» евнухи от «чёрных».
— И что же тогда? Что тебе мешало?
Боэмунд задумался. Мастер словесной вязи, он впервые не находил нужных слов.
— Знаешь, друг, с некоторых пор я просыпался, и в груди всходило маленькое наглое солнце. Каждое утро и на весь день, что бы я ни делал. И она была — рядом. Я даже не знал, что так бывает. Та самая благодать? Победа духа над плотью, о которой мечтают монахи? Она мне как-то сказала: у тебя сияние в глазах, да-да, это нахальные лучи изнутри — пробились. Я, ненавидевший монахов и всё, что с ними связано, сидел на облаке, свесив ножки... И... боялся спугнуть ту тёплую волну, что накатывала и медленно отползала назад. Мне было — достаточно... Не странно ли?
— Её возвышенный образ... — лицо Даритая стало недоумённо-туповатым.
— Да нет же, глупый, — рассмеялся Боэмунд, — очень даже возниженный: тело, изгибы, она, не стесняясь, ходила нагой. Я именно вожделел, но плавно. Как будто бы одно соитие растянулось на всю мою жизнь... Без перепадов на равнодушие. Поверь — мне было достаточно.
— А ей? — вдруг зашёл Даритай с неожиданной стороны.
— Ну как же я мог такое проверить, не рискнув погасить моё маленькое наглое солнце? Скажешь тоже, — вдруг рассердился Боэмунд. — Всё-таки моё увечье приносило в наши отношения привкус долга и бережности с её стороны, и это лежало меж нами, как серый змей.
— Этот змей благодати — мешал? — насупился Даритай.
— Нет, глупый. Он её охранял от нас обоих. Что с тобой, да ты дрожишь?
— А знаешь, что-то подобное было и в моей жизни. Всё по-другому, но всё — точно так же.
Даритай. До 1237 года
Если определять, к какому народу принадлежишь, по тому месту, где родился, то Даритай был китайцем. Джурджени пригнали его мать на рисовые поля Шаньдуна ещё тогда, когда её живот не был заметен. Потом, когда Даритай стал уже что-то соображать, мать каждый день исступлённо твердила одно и то же... Ей было важно внушить сыну, что уже носила его раньше, ещё до того, как ею походя полакомился один из джурдженьских людоловов.
Мать хотела рассказать ему это как можно скорее — пока она не умрёт — на плантациях долго не жили. Кто знает, может быть, именно эта навязчивая потребность — рассказать — позволила ей продержаться несколько лет — дожить до долгожданного мига, когда он подрос, когда ему исполнилось пять трав... Но травы здесь не отсчитывали срок жизни, они были вечные, одинаковые, твёрдые и мокрые. За временем в Шаньдуне следили не травы, а загадочные разноцветные животные, которых никто никогда не видел.
Так и получилось, что первым осознанно понятым для Даритая стало то, о чём дети обычно узнают в последнюю очередь. Знание о том, откуда они, дети, берутся.
Уверившись, что до сына наконец «дошло» ГЛАВНОЕ, его мать очень быстро сникла... Кто-то из больших сказал: «Истаяла». Даритай же никогда не видел снега, и это слово ничего для него не значило.
Он вырос среди побоев и смертей, не зная, что в жизни бывает что-то ещё. Однако его самого настолько не удостаивали внимания, что даже не били.
Не бить — это был верх безразличия, даже обидно. Поначалу Даритай удивлялся: почему все вокруг такие грустные? Воистину именно знания порой мешают нам быть счастливыми, а детство окрашивает в разноцветные краски всё, что угодно.
Даритай многому научился именно из-за того, что не знал ничего другого в жизни, в том числе — брезгливости.
Каждый вечер надсмотрщики забирали из тростникового барака одного из взрослых. «Угостить лапшой из палок» — так они это называли. Смысл загадочного слова — «лапша»— мальчик узнал гораздо позднее, совсем в другом месте, и очень смеялся.
Утром подвергнутый «лапше» неудачник всегда висел изодранным неподвижным куском во дворе... И это спасало Даритаю жизнь... Ведь его почти не кормили, как и всех детей, которые обычно умирали самыми первыми. Что с них проку? Мальчик через щель в стене барака пробирался перед рассветом к трупу, зажимая в руке острый кусок бамбука (нашли бы — убили сразу), взрезал разбухшее от ударов ещё тёплое тело и доставал мягкую тёплую печень. Давясь, глотал.
Потом надсмотрщики сменились, и он чуть не умер... однако судьба была к нему благосклонна — его в числе других освободили тумены Темуджина.
Они брели в родные степи пешком, отличаясь от вереницы пленных только тем, что рядом с ними не маячили всадники с кнутами. Впрочем, коней для них жалели, а еды — этого было вдоволь...
Дорога «домой», в загадочные «нутуги», была сладкой — такой и запомнилась. Они лакомились финиками из разорённых садов. Но Даритай грустил о трупах, криках и стонах, о мокрых рисовых стеблях. Ведь там, под слоем влажной жижи, осталась мама.
Ему исполнилось восемь или девять? Кто догадается?
Он многое узнал, пока они брели. Джурдженьские рабы-боголы, превратившиеся в людей, стали разговорчивы и доброжелательны. Он и не мог подумать, что люди бывают ещё и такими. Добравшись до Орхона, Даритай спросил про курень своего отца. Только это он зря сделал, поскольку такой вопрос дорого ему обошёлся. Судуя-Хасара из племени олхонутов, оказывается, сослали в дальние кочевья за «неточное изложение Великой Ясы» (до того он был агтачи-конюшим в одном из туменов Хранителя Джагатая). Почему только сослали, а не надломили, как положено, спину, Даритай не узнал и в кочевьях. Отца уже не было в живых, что вины с его рода никак не снимало. А из близких остался только один — он сам.
Его заставили драть овечьи шкуры, чем он и был занят все годы своего взросления. Наминая в жёстких руках очередную мездру, он размышлял о матери — женщине, которая не хотела умирать, чтобы сообщить ему ТО заговорённое слово, которое снова превратило его в раба. Теперь у «своих».
Знать бы только, за что он наказан? Что запретного осмелился ляпнуть эцегэ? Любопытство порой сжигало Даритая. И ещё досада на себя: зачем он рот-то раскрывал? Только потому, что мать это просила и он не мог предать её память?
Но однажды всё изменилось...
Чтобы напитать людьми тумены Бури, которые решено было отправить в поход на Вечерние страны, соскребали людей отовсюду. Прошлись и по северным кочевьям, где жили ссыльные.
Так Даритай ушёл на войну.
Войско — вещь непростая. Не всякий с врагом лоб в лоб сшибается. Для этого нужен добрый конь (и не один), доспехи — хуяги, щит и сабля. Кроме того, нужно, чтобы кто-то тебя научил всем этим владеть...
Любой в справедливой стране «Бога и Сына Его Чингиса» может стать кем захочет. Поэтому саблей размахивают только нойоны и нухуры. Из тех, что добыли славу разбоем. Ещё во времена, когда разбой был не низостью, а доблестью — до прихода к власти Темуджина. Теперь же его, увы, запретили. А как управиться без него, не рассказали.
Темуджин воевал за то, чтобы не право рождения выдвигало людей. Поэтому саблей размахивают ещё и дети нойонов и нукеров. А больше никто.
Войско — вещь неоднородная. Вовсе необязательно с врагом лоб в лоб сшибаться, большинство из воинов и не видели врага вблизи. Только потом, в виде тел и пленных. На то есть лук, добрый конь (и не один), войлочный хутангу-дегаль[107] («прочный, как сталь кафтан»), хаптаргак и саадак со стрелами, перемётные сумы. Да и шлем-дуулга не помешает, чтобы голову смертью не надуло.
Кроме того, нужен тот, кто научит натягивать лук до уха (иначе какой от него, лука, прок?). Кто научит стрелять на скаку? А это — годы и годы.
Всего-то и дел. Бросить выделку шкур и найти все эти мелочи, ибо каждый монгол своей судьбе поводырь. Каждый монгол рождается « гордым повелителем чужих народов».
Такое всем известно, попробуй возрази.
Войско — вещь разнообразная. Всегда найдётся место, чтобы показать свою доблесть. Даритай воевал долго. Он героически присматривал за ранеными на телегах, отлавливал змей, которых потом закидывали горшками в осаждённые крепости, топил человеческий жир (прекрасно горит), укреплял верёвками на обозных кобылах войлочные скатки и закоченевшие трупы — так они создавали видимость, что их больше, чем на самом деле.
Только вот никто почему-то не замечал, как доблестно он всё это делает. Никак не давали выдвинуться на должность попочётнее. Напротив, чем старательнее он вертелся, тем больше им были довольны и не желали его заменять на кого-то другого. Так он узнал, что старательность наказуема.
Тогда он стал всё делать абы как. И вот тут-то как раз, через побои и укоры (эка невидаль), в его жизни стало хоть что-то меняться. Например, из тумена Бури (где были желторотые новобранцы из Коренного улуса) его перевели в тумен Гуюка (где большинство составляли все огни прошедшие кераиты и найманы).
Но однажды ему повезло. Как всегда, помогла чужая свирепость.
Даритай. 1237 год
Хачиун пришёл к старику-агтачи под вечер. Сегодня, после очередного смотра, он всё никак не мог успокоиться.
Если не читаешь по лицам проверяющих — много не проживёшь. Сегодня стервятники слишком подолгу теребили каждый хаптаргак, слишком любовно крутили и взвешивали тороки с запасами сушёного Творога-хурута, проворачивали колеса телег — скрипят ли? Всё у его людей было как надо — не в первый раз родились, но... Но что-то буркнуть-рявкнуть стервятники должны обязательно. И тут нужно не прозевать ту опасную черту, когда ОНИ не распекают, а запоминают... Именно твой десяток запоминают, не надо бы такого.
В тысячи Бури-тайджи соскребли из Коренного улуса старших сыновей из каждой семьи — они ещё пушистые зайчата. Их смотрами хлещут только для того, чтобы разгильдяйство снизить, и ничего больше.
У Гуюка всё не так. В литых рядах ветеранов вкрапления новобранцев растворяются, как капли дождя, упавшие в жирный шулюн. Что проверять-то? Каждый огни и ветры прошёл. Эге, не всё так просто.
В тысячах Гуюка смотр — это для удержания власти. Сегодня с десятком Хачиуна стервятники вели себя особенно тихо, а на тонких губах (почему у этих всегда тонкие губы, или просто поджимают) он узрел самое опасное: «Слишком умными себя мните, да? Для вас ныне и Яса не указ? Ужо попомните...»
Ак-чулмысом («белым смерчем») в народе прозвали смотры перед жертвоприношениями. Они заканчивались требованием отдать одного из десяти своих подчинённых в жертву духу Чингиса. Бывало, что вызывались сотники-джангуны, которых «награждали» правом одарить Сульдэ Чингиса одним из их десятников... Бывало такое и для тысячников, тогда отщёлкивали сотника... но это уже совсем редко.
Некоторая неувязочка, лёгшая в основу ак-чулмыса, была, по большому счету, поблажкой. Получалось, что отсылали в «Небесные Тумены» худшего. Выходило — «нá тебе, Величайший, что нам негоже».
Однако никто не осмеливался обратить внимание на это крамольное несоответствие. Попробуй приносить в жертву лучших — это порушит всё служебное рвение. А так каждый нухур знает — нельзя становиться последним, и испуганно карабкается наверх, к спасению. И каждый десятник это знает, и каждый сотник.
Чтобы войско не поредело сверх меры, а только дисциплина в нём не ослабла, в «капкан» попадали не все десятки подряд, а только некоторые — по загадочному усмотрению стервятников.
Впрочем, Хачиун — как и некоторые другие — выкручивался и здесь. Когда в воздухе, будто дождём, начинало разить ак-чулмысом, он спешил к почерневшей юрте некоего конюха Дармалы и менял одного из своих людей на его человека.
Услуга стоила дорого, потому что этот человек мог перед смертью (когда уже нечего терять) выдать их всех с головой — в этом-то, казалось бы, и состояла основная трудность.
Дармала, давая рабам и харачу призрачную возможность «превратиться» в нухура (а нет, так лучше умереть наконец, чем влачить такую жизнь), брал с них страшную клятву перед лицом Сияющего Мизира не выдавать доверившихся. Какой монгол мог пренебречь ТАКОЙ клятвой и навлечь на свою душу и на Сульдэ своего рода гнев Мизира? Это было бы нечто небывалое.
Но дело было даже не в этом: Дармала, хорошо разбираясь в людях, прекрасно знал: те, кто ради призрачного шанса изменить судьбу на более интересную, идут на почти верную смерть, всегда достаточно горды, чтобы быть подлецами.
На что они надеялись? На то, что стервятник укажет в этот раз на другой десяток? Почему бы нет? И ещё на то, что до возвращения их обратно в конюхи (когда минует опасность и скрывающийся воин займёт надлежащее место в своём десятке) что-то произойдёт и их не выгонят обратно.
Такие подмены можно было делать лишь в том случае, если на это смотрит сквозь пальцы и джангун — ведь он обычно знает своих людей в лицо. Впрочем, сотник Хачиуна на это так и смотрел. Ему было выгодно, чтобы сотня не редела.
Десятник разъяснял недолго. Старый агтачи Дармала стал, как всегда, отмахиваться, охать и ужасаться:
— Ну и ну, Хачиун. Что ты со мной делаешь, негодник? Что ты творишь?
Хачиун рассыпал перед ним серебряные слитки. Зрение старика — самое слабое его место. Где уши устоят, там глаза дрогнут. Так часто бывает.
— Это урусутские гривны, — пресёк Хачиун возможные опасения. — Скоро у войска такого добра будет много. Никого не удивит, что и у тебя такие.
— А вдруг «сине-красные» проверят табунщиков, — зло отмахнулся он.
Старик немного разозлился. Это хорошо. Он всегда злится, оттого что не в силах преодолеть искушение. Потом ловким обезьяньим движением сунув серебро в недра нагольного тулупа, так же недовольно взглянул на Хачиуна:
— Веди своего. Мой — вон, со скребком, высокий такой.
— Жаловаться не побежит? — на всякий случай осведомился десятник. Он мог бы и не спрашивать. Старик имел достаточно связей, чтобы брать к себе в конюхи только людей определённой масти. Тех, для кого мечта о выслуге была дороже жизни.
— Слушай, — капризно взвился агтачи и обиженно полез за пазуху (как же, поверили, достанешь ты серебро назад). — На! — Его рука выжидательно застыла. — Бери его обратно! Не веришь мне? МНЕ!.. Забирай!
— Тихо, не кричи — всему я верю. Зови его сюда, — облегчённо вздохнул Хачиун и довольно ухмыльнулся: «Чего не сделаешь ради своих».
Он всегда нравился себе самому, надевая опасный халат спасителя.
«Приманка» подбежала охотно, даже с восторгом. «Дармала дело знает», — улыбнулся Хачиун. Дальше следовало разговаривать, как можно более доверительно:
— Как тебя зовут?
— Даритай. — Юноша тяжело, выжидательно дышал. Ему уже всё рассказали.
— Ты из ссыльных, да?
— Из всяких. — Дыхание стало ровнее...
Похоже, парня можно было бы воспитать, получилось бы что-то путное. Жаль, что он нужен для другого. Но... за возможность спасти нужно платить, в том числе и тем, что чувствуешь себя сволочью. Ну да ладно, не впервой.
Он спросил то, что от него давно с нетерпением ждали:
— Ты хочешь в настоящий боевой десяток, Даритай? Почему?
Спрашивать было излишним. Все они тут мечтают о боях, добыче, славе. Он всё-таки не понимал этих боголов. Чего не живётся? Риска никакого, так нет — надо подставить живот под копьё. Глупцы.
Он бы поговорил с ним ещё, Хачиуна всегда тянуло узнать о своих людях больше. Не знаешь людей — тоже долго не проживёшь. Но тут случай особый. Барана, которого готовишь под нож, нельзя узнавать и называть по имени — жалко будет резать.
Он ещё раз охватил цепким взором «приманку». Говорилось ЭТО всё-таки тяжело.
— Ну что же, Даритай, условия ты знаешь, да? — Переждал утвердительный жест и вкрадчиво продолжил: — С этого мига тебя зовут Чимбо. Настоящий Чимбо примелькался, он побудет вместо тебя конюхом — Даритаем.
— Это я понял. Как же иначе? — поддержал его юноша.
Есть люди, лгать которым приятно, — чувствуешь себя этаким хитрым умником, но Даритай, похоже, принадлежал к той породе людей, лгать которым было противно. Он сам смотрел на Хачиуна — всё-таки растерявшегося — с непонятной жалостью. Потом сказал то, что от него не ждали (и чего с затаённой надеждой всё-таки ждали).
— Хороший ты человек, Хачиун. Не думай ни о чём. Попадёшь в «капкан» — отгрызай меня смело, я тебя не выдам. А пройдёт ак-чулмыс — я вернусь обратно в конюхи. — Он помолчал и, не удержавшись, добавил: — Если к тому времени ничего нового не случится, если...
Десятниковы глаза забегали, как будто его уличили в воровстве. Он редко терял самообладание, именно поэтому совсем не имел навыка это потерянное самообладание быстро находить... Его лицо покраснело, что было заметно, несмотря на застарелый жёсткий загар...
— Я не думаю, что будет «капкан». Это вряд ли. У нас мало людей, а впереди — опасная война в чужой стране, — быстро заговорил Хачиун. Конечно же, он снова лгал, то есть даже не то — себя уговаривал, оправдывал. Ведь знал точно: будет ак-чулмыс, будет и «капкан» — как раз именно из-за всего перечисленного. Однако в порыве растерянной благодарности к Даритаю десятник всё-таки спросил: — Почему? Зачем тебе смерть вместо жизни? — Может быть, и зря спросил, рисковал. К тому же получалось, что невольно спрашивал себя: стоит ли эта загубленная жизнь той, другой, которую он хочет спасти.
— А ты когда-нибудь жил в овечьей шкуре, зная, что это навсегда?! Ты когда-нибудь во сне бился головой о стены чёрной пещеры, зная, что это — навечно? Ты чувствовал, как делаются всё слабее твои хищные зубы, стираясь об острую траву, которой кормят овец? — Даритая вдруг охватила ярость на этих зажравшихся нухуров, которые имели всё, что нужно для того, чтобы не задохнуться — битвы, врагов, кровь и ветер, а ещё — гордость воина. В своей разжиревшей наивности они даже не ведали, что бывает по-другому. Что кто-то живёт без войны, без риска, в пресной мути однообразного тягла.
Ничего не нашёлся возразить Хачиун. С ним случилось самое неприятное в подобных историях — юноша ему понравился.
Теперь он чувствовал себя не сволочью — палачом, что тоже не лучше.
Уж так устроен мир, что палачами себя чувствуют кто угодно, кроме тех, кто на самом деле ими являются. Настоящие убийцы и палачи представляют себя спасителями.
Один из таких — в подтверждение самых грустных ожиданий Хачиуна — вызвал его в ту самую, тёмно-синюю (под цвет Неба-Тенгри) юрту, вокруг которой все ходили правильными кругами, как светила по небесному своду. Дабы воля этого самого Неба не подтянула счастливчика поближе к себе.
Младший Хранитель Ясы (а по-простонародному — стервятник), тот самый, который так долго присматривался к его злополучному десятку на смотре, восседал на безликой кошме. Одет он был тоже скромно — без любимых Гуюком кричащих украшений. Так они подчёркивали своё презрение к пустой роскоши.
Хранители жили в войске вольготно. Даже сладострастные глаза Гуюка тускло гасли про виде этих тёмно-сизых, с красными обшлагами халатов. Они никому не подчинялись, кроме Верховного Хранителя Ясы — непогрешимого Джагатая. И, конечно же, имели привилегию советоваться напрямую с Сыном Божиим Чингисом, который, похоже, скучал на своих Небесах. Потому что не было ещё случая, чтобы тот, на кого упал доброжелательный выбор Хранителя, туда не попал.
Во времена Темуджина наказание неотступно следовало за проступком. Величайший всегда следил, чтобы никого не наказывали зря, иначе люди терялись и не ведали, как себя вести. Загнанный зверь должен точно знать, с какой стороны загонщики — иначе не выскочит под стрелу, уйдёт. К чему паника? К чему метания? Горный баран, например, должен гордо и уверенно следовать к той пропасти, которая ему судьбой суждена, и не отвлекаться.
Несторианским священникам такое не нравилось — и вот почему. Получалось, что люди сами выбирали свой путь, то есть от них самих во многом зависело, попадут они под наказание или нет. Это рождало излишнюю гордыню, которая всегда опасна.
Последующие события показали, что они были правы... Поскольку где у нас главный очаг строптивости и крамолы? Правильно... Среди монгольских ветеранов, тех самых, выпестованных и воспитанных ещё Чингисом.
Воин Христа (ох, простите, Великого Тенгри, пока ещё Тенгри, хе-хе) не должен был гордиться тем, что он дисциплинирован и непогрешим. Все погрешимы, кроме Всевышнего, никто не вправе об этом забывать. Воин должен не гордиться, а униженно благодарить Бога за то, что тот его не карает, не сегодня карает.
Итак, наказание не должно следовать за проступком. Оно должно опережать проступок. Так согласился устроить Гуюк, по крайней мере, у себя, в своих тысячах, послушав совета несториан. Впрочем, ему самому такое тоже очень пришлось по сердцу.
Сотник не распластался перед Хранителем так, будто перед ним сияющая вершина. «Уничижительность хороша перед Небом, а мы тут все — скромные его слуги, равные в своём ничтожестве». Именно такой ритуал ввели Хранители, по крайней мере, по отношению к самим себе. Они свято верили, что придёт время — потащат они на верёвочке в яму и этих зажравшихся светских ханов. Вот тогда и обвинят новые хозяева улуса в непотребной гордыне и Гуюка, и самого Угэдэя, и прочих подобных сластолюбцев и пьяниц. Но такое — в розовой дымке далёкой мечты, а пока они просто верные слуги не ханов, понятное дело, а Закона.
«Веселитесь, величайтесь, завоёвывайте для нас чужие народы...» — терпеливо выжидали Хранители.
— Отчего не заходишь в нашу юрту, — радушно расплылся хозяин, как будто любой десятник мог вот так запросто, по-соседски, сюда прийти, разве что с доносом.
— Солнце наблюдают издали, чтобы не сгореть в его лучах, — произнёс Хачиун обычную фразу лести и похолодел. То, что звучало в других случаях как безобидное приветствие, здесь, в стервятниковой юрте, было неслыханной дерзостью, прямым намёком.
«Погиб я, погиб. Что теперь будет?»
Но, похоже, Хранитель был слишком сосредоточен на чём-то своём...
— Солнце — там, — указал он пальцем в Небо, — а здесь не горячо, здесь по-дружески тепло. Не правда ли, Хачиун?
— Да... — спохватился тот, — тысячу раз «да». Для всякого честного слуги Бога и Его Сына Чингиса это так. — Хорошо пот под волосами не так заметен, а то ведь: «боишься — значит, виноват».
— Так-то лучше, — приветливо улыбнулся хозяин, — по итогам смотра твой десяток лучший в сотне, джангун тебя хвалит.
Хачиун облегчённо поклонился — может, на сей раз проскочит беда мимо?
— И поэтому я хочу, чтобы ты сердцем принял мою заботу, — продолжал Хранитель затягивать в болото. — Желаю тебе и впредь оставаться таким же добрым слугой, но...
— Но... — скрывая вновь налетевший испуг, повторил Хачиун.
— Разве не мудро наказать за проступок до того, как он совершён? Этим мы лишаемся ущерба от несостоявшегося проступка.
«Не проскочит», — приуныл десятник. И на сей раз предчувствие его не обмануло.
— Тебе выпала великая честь обезопасить свой десяток от преступления до того, как оно будет совершено. Завтра тот, на кого падёт твой выбор, отправится в небесное воинство и пополнит летучие тумены Божьего Сына. Иди, Хачиун, и гордись этой честью — не всякому она выпадает.
Последние слова звучали для Хачиуна как будто из облака. Он, покачиваясь, вышел на холод, грязный снег казался горячим.
На утоптанном снегу замерли тысячи. Пеший строй не производил впечатления литого — монголам привычно держать равнение стремя в стремя, а не плечо к плечу. Скорее строй напоминал пожухлую траву, дрожащую под слабым ветром.
Верхами только Гуюк-тайджи, тысячники и ближние нойоны. Царевич любил швырять свои чугунные фразы в бесконечное море голов — их сегодня хорошо видно с высоты седла. Мерлушковые шапки — не шлемы — были на большинстве стоящих, и Гуюк поймал себя на зыбкой мысли: незащищённые головы — это хорошо. Нечем укрыться от его тяжёлых слов.
— ...и пусть не сомневается Величайший из людей... вера и отвага не оскудела в сердцах... последователей его Нетленного Дела. Сегодня мы делимся с ним нашей удачей, нашей славой, чтобы она вернулась к нам удесятерённой...
Тишина проглотила последнюю рваную фразу. Резко вскинутый на дыбы саврасый — как у Чингиса — жеребец взболтнул морозный воздух точёными ногами.
— А теперь пусть выйдут те, кто обретёт завидную долю пополнить небесное воинство Потрясателя!
Под заревевшие вразнобой шаманские бубны стали выползать счастливчики. Имеющие силы поддерживали тех немногих, у кого отказали ноги. Им предстояло пройти меж двух очистительных костров, нырявших своими рыжими языками в уже вылизанные ими почерневшие проталины. Под капризными порывами ветра пламя металось как сумасшедшее. Волхвы Тенгри, а также татарские и джурдженьские шаманы вглядывались в огонь с неподдельным интересом. Они были похожи сейчас на поднаторевших знатоков, наблюдающих за праздничными скачками.
Даритай дрожал от холода. Почему-то казалось, что когда ему, по обычаю, резко вырвут сердце, сразу станет теплее. Вдруг вместе с дрожью нахлынула жалость не к себе, а к тому несчастном нухуру, вместо которого он сейчас умрёт. Ведь теперь тому несчастному уже никак из конюхов не выбраться. Нет больше в десятке воина с именем Чимбо.
«Вот дурачок, — подумалось вдруг Даритаю, — он вообразил, что я вместо него рискую, а мне что? Убьют, и ладно. А он попался. Узнает, каково прозябать боголом — ещё пожалеет. Это он из-за меня на самом деле рисковал, не я из-за него».
Даже сейчас Даритай ни минуты не жалел ни о чём: «Хотел стать воином земным, а стану воином небесным. Будучи ребёнком, я спасал себя любой ценой, дурак, теперь поумнел».
«Бессердечных» оттаскивали, складывали в ряд. Они лежали на брёвнах будущего костра, некоторые ещё продолжали выгибаться, будто танцуя лёжа, в такт бубнам. Облачённый в долгополую накидку жрец, побрякивая подвесками на ветру, сносил трепещущие сердца к отдельному алтарю. Его взмокшие, почерневшие руки никак не вязались с торжественной миной на лице. Одна из будущих жертв вдруг завопила, когда он к ней приблизился, — к ним заботливо кинулись кешиктены. Стоящий рядом с Даритаем долговязый парень презрительно хмыкнул и прикусил губу — с неё стекала багряная струйка.
Их, казнимых, было немного, не более ста человек: песчинка в море войска. Несмотря ни на что, Даритаю хотелось надеяться, что остальные будут воевать лучше ровно настолько, насколько они сегодня обезлюдели. Это тоже вдруг стало важно.
— Как тебя зовут? — обернулся Даритай.
— Сача, — разжал губы долговязый и попробовал улыбнуться.
— Как сюда попал?
— Жребий, — коротко отозвался сосед.
— Встретимся в туменах Темуджина? — спросил Даритай.
— Нет, я из рода Джурки. Темуджин вырезал мой род, буду искать обиженных предков.
— Ты думаешь, и там, на Небе, продолжается кровная вражда?
Сача дёрнул связанными за спиной руками, похоже, он привык размахивать ими при разговоре.
— Вот именно, её вытеснили туда, наверх.
Непонятно было: это шутка или убеждение.
И вдруг бесконечный строй воинов заволновался и рассыпался. Жрец застыл с очередным сердцем в руке, торжественное выражение на его лице сменилось растерянным. Сквозь его мокрые пальцы лениво капало. Казалось, он выжимает влажную тряпку.
— Что там такое? — встрепенулся Сача.
— Урусуты... урусуты, — глухо перекатывалось по распадающимся рядам.
В тысячах Гуюка народ был бывалый. Каждый из этих опытных нухуров кожей знал, что и когда ему делать при внезапном нападении. Да и не таким уж внезапным оно было: просто дозорные сотни, доскакав, сообщили о приближающемся большом войске.
Каждый знал, что делать. Кроме жрецов. Завершать важнейший обряд в условиях боевой тревоги никого из них никогда не учили. Они растерялись.
Спешно сжигать тела и этот, разом ставший кощунственно нелепым, слипшийся холмик из выдранных сердец? Не годится. Тогда что? Отложить «на потом» и размораживать после боя?..
О-о-о... Это ещё хуже.
Собравшись в кружок, пресвятые пастыри о чём-то беседовали, панически жестикулируя, сейчас они напоминали заспоривших рыночных торговцев. Так они стояли долго, шипели и жужжали друг на друга, как засунутые в коробочку шмели. Сача, наблюдая за этой кутерьмой, не выдержал, расхохотался, загремел облегчённым смехом проснувшейся надежды. Воспалённая весёлость неудержимо перекатилась от жертвы к жертве.
Один из шаманов бросился к их группе и в отчаянии завизжал:
— Молча-ать!
— Помолчать мы ещё успеем, — ответил ему Сача. Его выпад был встречен очередной порцией одобрительного хохота товарищей по счастью.
Кто-то из волхвов бросился к кешиктенам:
— Ну что вы застыли, как...
— Как что? — с враждебной показной невозмутимостью — но и не без намёка на возможные неприятности — поинтересовался их десятник.
Уточнять храбрый пастырь не решился: с этими волкодавами лучше не ссориться.
В ожидании указаний эти бесстрастные псы просто застыли, подобно кыпчакским каменным бабам. К делам этого рода они, увы, относились без должного рвения.
Жрец нерешительно колдовал над стремительно застывающими сердцами. Ему хотелось засунуть руки в рукавицы, но явно боялся таковые испачкать.
— Ты их свари, — окончательно ожил Сача.
Тут уже прыснули и кешиктены, не в силах сдержаться даже перед возможным Божиим гневом за кощунство. Для Сача же месть потусторонних сил не была, похоже, чем то достойным внимания.
Шевеля затёкшими запястьями, Даритай успел удивиться ещё и этому. По его разумению, если длинная жизнь ещё впереди, так можно с духами и повздорить: есть ещё время отмолиться, но когда остался миг до встречи с ними, можно язык-то и придержать. Впрочем, это забота самого Сача.
— А ну... разворачивайся спиной, — услышали они сбоку. В сияющем доспехе, будто в чешуе, снятой со сказочной золотой рыбы, к ним (не успели и заметить когда) подлетел на коне аталик Гуюка — могущественный Эльджидай-нойон.
Он держал свой прямой тангутский меч остриём вверх, как принято держать туги, оттого оружие сияло, словно отстранённый символ чего-то неразгаданного.
Сперва показалось, что он — будучи человеком не злым — хочет их, немногих оставшихся, безболезненно и быстро порубить, поэтому и отвернуться заставляет. Но убелённый ветеран (седины трепетали, щёткой выглядывая из-под шлема) поступил иначе. Не слезая с коня, он остро наточенным остриём разрезал верёвки, которыми стянули их руки.
— Нельзя... нельзя! — нерешительно кинулся впереймы испуганный жрец. — Что обещано Божьему Сыну, нельзя забрать назад...
Эльджидай осадил вороного иноходца, крикнул с седла так, чтобы слышали все:
— Я знал Чингиса при жизни, шаман, я был его другом! Мне ли не ведать его потаённых дум? Мы согрешили, шаман, убивая воинов просто так. Смотри: ведь это Он наслал на нас урусутов в гневе своём... не так? — Приглашая жреца с собой согласиться, он встряхнул диковинным мечом. — Нухуры должны уходить к Нему в поднебесную юрту, падая в бою, а не под ножом для баранов...
Похоже, жрец на самом деле был рад такому повороту. Он и возразил-то только для того, чтобы потом, в случае чего, не сказали, мол, не препятствовал безобразию. Сейчас шаман торжествовал в душе... Что бы ни случилось, с этого мига он просто исполнял приказ Эльджидая.
— А... а... — стал заикаться пастырь, тая надежду, что Эльджидай возложит на свои плечи вину и за нетрадиционное завершение жертвоприношения.
— Тела и сердца сожгите сейчас, и Потрясатель будет с нами в бою, — прочитав его мысли, распорядился аталик. — Жертва перед боем может быть и поспешной. Великому, как никому, известно, что такое внезапное нападение. Он поймёт...
Похоже, показавшись себе излишне великодушным, Эльджидай рявкнул на освобождённых, ещё не верящих своим ушам:
— Что рты поразевали? А ну разбежались по своим десяткам!
Если бы войско состояло только из подвижных всадников, имеющих бесконечный запас стрел, их столкновение с пехотой было бы тогда не войной — охотой вольготной. Степные воины с малолетства обучены поражать джейрана на скаку, разве можно промахнуться, стреляя по угрюмому мужику, не всегда успевающему спрятать бородатое лицо за тяжёлым щитом? Весёлая песня дальнобойной стрелы-годоли завершается коротким шипением, с которым взрезает она яркую крашеную кожу и деревянную основу. Её упрямое жало яростно прорывает кожу и дерево, проклёвываясь (иногда на половину своей длины) с внутренней стороны щита. И ты, впервые так стоящий, вдруг понимаешь — рука, держащая щит, беззащитна. Да и самому прижиматься к нему теснее, будто к невесте, больше уже не тянет. Держишь его испуганно, как гадюку за голову, норовишь не заслоняться — ловить им летящую в тебя дотошную дрянь.
Хорошо бы так, да нельзя — не одного себя заслоняешь, но и того, кто за тобой стоит тоже. Он тебе не даёт бежать в панике назад, а это сейчас — самое главное. У тебя же, стоящего в первом ряду, такое чувство, что ты и вовсе не облачен в доспехи, что нет у тебя в руках даже этой, обтянутой кожей доски. А будто бы голым стоишь, бедолага, под всепроницающим железным дождём и рвёшься... рвёшься всё бросить, скрючиться и голову руками закрыть. Но безжалостные — ты их ненавидишь сейчас — задние ряды заслоняют свою ничтожную жизнь твоей дрожащей плотью.
Можно ли долго вынести такое? Нельзя. Зачем же тогда гонять по степи ополчение? Только людей смешить? Всё так, да не так.
Не надо забывать, что стрелы — не комары, сами собой в болоте не плодятся. Каждую вырезать, выпарить, отлакировать. С одним наконечником сколько возни. А для того чтобы такой страх наводить — для мощных луков, позаимствованных монголами у покорённых джурдженей, нужны стрелы особые, их прозвали «хинскими» (от золотой империи «хинь»). Стрелами обычных степных луков — монгольских и кыпчакских — хороший щитоносный строй не разметаешь. А уж стрелы урусутские — и вовсе недоразумение: от них и краем щита заслонишься, они и кольчугу не всегда пробьют. Да и тетиву лесных луков не натянешь привычно за ухо.
Поэтому стрел всегда жалко, и выпустить их столько, чтобы как в сказке собою заслонили небо, можно только в сладких мечтах. А лучше бы и вовсе одну из колчана — только чтоб наверняка. Закончатся стрелы — степняк, который без них, как собака с завязанной пастью, беззащитен, останется только убегать. Сабли и мечи только у нукеров, кешиктенов да тургаудов. Это значит — хорошо, если у одного из десяти в войске.
Кроме того, всегда есть обозы. А в них — женщины, пища и добыча, раненые... Без обозов, еле бредущих в снежной степи, — верная погибель.
Поэтому, хочешь не хочешь, а придётся познакомиться с пешим войском поближе... Так что и лицо врага — своё кривое зеркало — не минуешь разглядеть. А в обороне пехота всегда сильнее конницы.
Войлочный хутангу-дегаль, перешедший Даритаю в наследство от Чимбо, оказался безнадёжно мал, но под ржание новых сотоварищей и их коней пришлось всё же его натянуть: поскольку какая-никакая, а защита.
Впрочем, добротный, из связанных друг с другом железных пластинок, ламеллярный[108] панцирь был только у Хачиуна. Остальные лучники напоминали укреплённые поверх седел войлочные шары, ведь стёганый войлок защищал только своей толщиной, более ничем. Впрочем, как бы в утешение носящим, он имел одно (увы, только одно) преимущество перед доспехами иного рода: сабля при ударе в нём увязала. Сверху, над «шарами», торчали пупырышками утонувшие в шерсти малахаев загорелые лица. Войлок сверху обшивался дешёвой тканью, у сотни, к которой относился Хачиун, — зелёного цвета. А кони у всех были рыжие.
В монгольском войске каждое подразделение имело только один, строго закреплённый за ним цвет боевой одежды. Это очень облегчало согласованность действий и поиск «своих» в кутерьме боя.
— А говорили-то, говорили, что все «коренные» монголы давно выслужились и сражаются в тяжёлой коннице, — ворчал Даритай, приноравливаясь к луку, оказавшемуся вдруг очень тяжёлым. Научиться обращаться с таким он мечтал всю жизнь, и вот теперь они — Даритай и лук — наконец встретились.
— Ну какие ж мы коренные монголы? — скорее с гордостью, чем с досадой, отозвался Хачиун. — Кераиты у нас тут, ещё найманы есть. Дружно молим Мессию, чтобы послал меткости. Иса хоть и учил: «Не убий», а помогает. А ты какому богу молишься?
— А я после нынешнего и не знаю, — отмахнулся Даритай, которому хотелось заняться луком, ничем иным. Он упорно не желал вспоминать то, что пережил недавно, а разговоры о боге тащили именно туда.
Лук капризничал.
— Попробуй натянуть, — поспешно встрял десятник, — да нет, не так. Большой палец согни, зацепи... Эх...
Даритай, внезапно взмокнув, потащил тетиву в сторону лица, от натуги ставшего грозным и страшным... О Небо, он никогда не думал, что это настолько тяжело.
— Хачиун, глянь-ка на него, — поддели справа. — Вот с такой рожей пусть и скачет, все урусуты со страху разбегутся.
Если научился чему, то чужая неуклюжесть просто невыносима. На свою-то, бывшую, всегда память коротка. Но Хачиун, приятно удивив Даритая, не взвивался, как всю Даритаеву жизнь взвивались по каждому поводу надсмотрщики. Объяснял терпеливо, спокойно, видно, и сам в своё время хлебнул лиха.
В жизни Даритая люди делились на две неравные части: на тех, кто издевался над подчинёнными именно потому, что когда-то издевались над ним, и других, которые были к ним терпимы и добры по той же самой причине. Таких, увы, всегда меньшинство, но Хачиун, похоже, принадлежал к этой меньшей половине.
— Стой, запамятовал я, — протянул ему десятник старый сыромятный ремень. — На вот, руку обмотай, а то по предплечью отыграет, отсушит. Попробуй ещё... так, та-ак. Ничего, привыкнешь.
Под его утешающее бормотание Даритай кривился и так, и эдак. Недовольный неумелым обращением, лук вертелся в руке.
— Ну ладно, — сдался десятник, — покуда стрелы мне отдай. В бою толку от тебя со стрельбою не будет. Сам понимаешь. — Он помолчал, как бы на что-то решаясь, опустил руку на пояс: — На вот, если что, отмахаешься, — протянул новому подчинённому собственную саблю, — после боя отдашь.
— А ты? — растерялся новичок.
— Издали отстреляюсь, не впервой. С тяжёлым всадником ежели Мессия сведёт, так всё едино не выгорит. Я-то знаю, а тебе спокойнее будет, с саблей. Будешь меня прикрывать — пользы больше.
Сабли в десятке были не у всех. Считалось, что лучники в прямое столкновение с врагом не вступают, а если случится такое — сами виноваты — нечего подпускать. Сабля — вещь дорогая, на всё войско не напасёшься. Впрочем, у кого из лучников они были, то и... были. Понятно, каждый разжиться саблей мечтал.
Увидев такое великое снисхождение к новичку, худощавый недовольно хмыкнул:
— Чимбо и стрелять умеет, а где он теперь — вызвать бы. И саблю этому отдаёшь. — Он обернулся к Даритаю с показной досадой, но по всему было видно — доволен. Не часто ощущаешь преимущество перед другими. В скучной жизни воина хоть этим утешится.
Теперь, когда опасность для Чимбо миновала, худощавому казалось: дунь на него, перешибёшь, резонно казалось несправедливым и глупым, что тот теперь прозябает в конюхах, когда именно в нём самая перед боем нужда.
— Хачиун, а Хачиун, поменяться бы им обратно, — загнусавил он больше для того, чтобы подразнить новичка.
Десятник обернулся, ответил серьёзно:
— Всё одно не успеем, это раз. Менять не будем — это два... — Хачиун явно был настроен взять Даритая под своё покровительство. — Этот кровью и страхом заплатил за то, чтобы быть с нами. А Чимбо, что Чимбо? Струсил, когда выпал ему жребий. Разве не так?
— Вроде и крепок ты, а рыхл, — на миг замолчав, худощавый тут же нашёл другой повод придраться к Даритаю. — Гляди, как надо! — Легко, без видимых усилий, он натянул тетиву за ухо. Не учил, не показывал, а красовался и унижал. — Вот так... — дерзко взглянул на насупившегося неумеху.
Уж чего-чего, а всяких способов унизить Даритай за свою жизнь богола насмотрелся, но и тут его заело. Он растерял мало свойственное ему смирение. И то сказать — сейчас слабину покажешь, так потом и вовсе заклюют.
— А ты у нас крепок, да? — на всякий случай покосился на Хачиуна — не вступится ли за своих. Нет, тот выжидательно улыбался.
Даритай притянул руку к тонкому запястью худощавого и тихонько сжал. Обидчик, не сдержав вскрика, не только выпустил лук, но и сам свернулся, как придавленная змея...
— Ох. Пу-пу... пусти же! — Во взгляде застыла с трудом сдерживаемая мольба...
Даритай разжал пальцы. Худощавый, вытирая взмокший лоб, нехотя поднялся.
— Неплохо, — сказал заметно скромнее.
Между тем Даритай, заставив округлиться глаза наблюдающих, будто бы невзначай отщипнул кусочек кожи от кончика сыромятного ремня. Порвать его рывком посередине, намотав на руку, могли тут многие, но отщипнуть кожу как бумагу?
Насмешливость худощавого сменилась восхищением:
— Ловко... Где научился?
Даритай не был злопамятен, скромно пояснил:
— Помял бы кожи с моё — тоже бы так сумел.
Он, конечно, умолчал о том, что силу кисти развивал намеренно, ублажая глупую мечту когда-нибудь выбиться в нухуры.
— Ну как же лук-то натянуть не можешь? — простодушно растерялся недавний обидчик.
— Просто разная сила, разная привычка, — охотно пояснил Хачиун, довольный исходом перебранки.
— Ничего... он быстро освоится, было бы желание. Лук натянуть — полбеды. Метко стрелять — вот что тяжелее... Кстати, Суду, — десятник указал на худощавого, — лучший наш стрелок. Где другой не попадёт в сайгака, угодит сайгаку в голову, вот он тебя и научит.
— Ну уж и лучший, скажешь тоже, — польщённо фыркнул Суду. Смутясь от похвалы, он вновь повернулся к новичку: — Не сердись, Даритай, будем друзьями, да?
Эльджидай-нойон, нахмурившись, выслушивал очередного туаджи. То, что стало ему известно о войске урусутов, мало способствовало панике, и всё-таки... Хотя он уже послал за подмогой к джихангиру, не отпускали подозрения, что Бату уж очень торопиться не будет. Дрязги между царевичами казались ему расплатой за полумеры, о губительности которых они давным-давно говорили ещё с Темуджином, в ту пору, когда с каганом можно было общаться, думая только о содержании разговора, а не о безопасности собственной шеи.
«Хан, ты поставил на важные должности заслуженных — не родовитых, восстановив тем самым попранную справедливость, — сказал ему как-то раз Эльджидай (он знал, что Темуджин любит, когда ему об этом напоминают) и, дождавшись довольной улыбки, продолжил: — Но хватит ли у тебя смелости быть верным самому себе до конца? Если нет, то наша с тобой борьба — временная отсрочка развала, не более».
Темуджин, ещё не утерявший в те годы человеческого, охотно подтвердил, что всего нужного ему хватит. Тогда Эльджидай задал ему несколько вопросов, из-за которых их отношения хоть и не испортились, но перестали быть столь безоблачными, как раньше. Вот такие это были вопросы:
«Сможешь ли ты уступить свой трон более достойному, буде такой найдётся? А если нет, чем ты лучше тех, кого свергал?» — это был первый удар ниже пояса, и Темуджин нахмурился. Да, здесь намечался тот рубеж, на котором заканчивались разглагольствования про «общую справедливость».
«Твои дети унаследуют улус по законам крови. Они возьмут его как подарок, не в трудах и лишениях это право заслужив. Разве не так? Сможешь ли ты передать трон не собственному потомству, а самому достойному?» — это был второй выпад.
Далее беседа шла уже на повышенных тонах, и Эльджидай тогда впервые почувствовал одиночество отчуждения. Он впервые понял: Темуджин защищает справедливость не по зову Бога, а просто потому, что именно сейчас это ему удобно.
«Нет! — распалившись, кричал каган, который в те годы ещё удостаивал друзей великой милости объяснить свои решения, потом перестал. — Для всех остальных — да, но только не для ханской семьи! Иначе каждый, поднимая голову к высокому трону, будет спрашивать себя: «А почему не я? »
Тогда Эльджидай кивнул, — мол, согласен — и они оба замолчали, наткнувшись на ту стену, которую не в силах были разрушить их молодые умы. Да и хан ведь во многом был прав — есть такая опасность, это верно.
В те годы Эльджидай только указал на дыру, а как заштопать — и сам не знал. Не знает и поныне. Он вовремя отказался от нездоровых споров: не знаешь, как чинить, не мешай другим ломать. Другие вовремя не остановились и попали-таки в немилость. Эльджидай хоть и стал осторожничать, но того разговора не Забывал. После смерти Темуджина произошло то, что и должно было произойти.
Завоёванная кровью возможность привести к власти достойных, (а не родовитых) с каждой травой всё уменьшалась и уменьшалась — это одна печаль. А есть ещё другая: как и следовало ожидать, царевичи меж собой не ладят. Правда, количество тех, кто осмеливался задать себе тот проклятый вопрос — «а почему не я» — всё-таки ограничивалось этим «кровавым» законом, законом власти по праву рода, ненавидимым выдвиженцами из разбойничьих низов. Не будь этого «несправедливого» права, сколько бы их было тогда? Страшно помыслить.
Хорошо ещё, что пока эта язва раздора ползёт по безобидной ложбинке, проявляясь в ревнивом состязании в том, кто более годен, чтобы разбить врага. Но увы, уже сейчас ревнивцы отталкивают локтями чужую славу, не давая ей проклюнуться. Сказкой, несбыточным улигером вспоминается золотое время Темуджина. Счастливые годы Эльджидаевой молодости, когда каждый знал: успех одного — это успех всех.
Подумав о таком, Эльджидай, конечно же, сразу вспомнил Юлюя Чуцая. Хитрый киданьский мангус не зря настоял, чтобы ВСЕ дети Темуджина послали своих сыновей в этот «вечерний поход». Неизбежно возникший раздор ему выгоден. Эта тонкорукая лиса тоже мечтает о создании державы, в которой умные правят глупыми. Для Чуцая умный — это тот, кто вызубрил их гнилые конфуцианские бредни.
А для нас? Тот, кто лучше умеет убивать?
Эльджидай, умеющий ценить иронию даже во врагах (вот и прискакали, канцлер ТВОЕЙ империи — уже враг), не мог не потешиться над этим остроумным вывертом джуншулина. Настаивая на своём, Чуцай объяснял это так: «Участие в походе объединённого войска из разных улусов империи укрепит наше единство, ибо ничто так не сближает и не мирит, как общий враг и общее дело».
Красиво, правильно. Не вдруг и поспоришь с таким. Простодушный Угэдэй, как всегда, клюнул. Вот так и надо интриговать: задумав сломать, объясняй свои действия желанием именно это «задуманное» сохранить. Это любого запутает. Эльджидай вдруг разозлился на себя за то, что должен ломать голову не о том, как выиграть это сражение с наименьшими потерями, а о том, как сделать, чтобы эта победа ослабила Бату и возвеличила его «природного» господина Гуюка. Да ещё так вывернуться, чтобы их общее «Дело Великого Чингиса» (никто уже не объяснит толком, что же это за «дело», но все понимают) неуклонно раздувалось, как жаба на чужом болоте.
«Ох, Темуджин, Темуджин, бедный друг мой. О том ли мы с тобой мечтали, утирая кислый пот? В каких-то краях летает твой неугомонный Сульдэ? — вздохнул ветеран. — Теперь ты кормишься вырванными сердцами своих верных нухуров, да? И не стыдно? Не пора ли отдохнуть от всего этого и разбить наконец урусутов? — спросил себя главный аталик Гуюка. — Дожили, докатились. Война стала отдыхом от интриг».
Сделав над собой усилие, Эльджидай вернулся, наконец, к мыслям о наступающих урусутах. Тем более что они уже на подходе, а в лагерь, к обозам (на радость Бату?) пускать их не следует.
— Дело дрянь, — поделился радостью Хачиун, — они остановились.
— Почему это плохо? — встревожился Даритай.
— Когда войско движется, оно не так кусается, а что ещё волнует лучника? — Хачиун отдышался. Его рыжий жеребец извивался в нетерпении, как угодившая в капкан огромная лисица. — Объясняю именно тебе, Даритай, потому что остальным всё понятно и так... Наша задача — не позволить урусутам засыпать стрелами тяжеловооружённые «тысячи», которые навалятся на пешцев с боков. Пускай отвлекутся на нас, а мы их тоже немного пощекочем. Не бойся, они никудышные стрелки.
— И очень даже кудышные, — возразил Суду. — Эти лесовики достают белку в глаз. — Он не любил, когда утешают ложью.
— Не в глаз, а в голову. Байки-то не повторяй, — пристыдил десятник, — и потом... — он нашёлся, — по неподвижной белке, понял?
Все они успели привыкнуть за последние годы к маневренной перестрелке с себе подобными лёгкими всадниками — кыпчаками и буртасами. Выскакивать мишенями перед тесно сгрудившейся толпой никто не рвался, и люди были излишне возбуждены.
— Почему плохо, если стреляют все сразу? — задал наивный вопрос Даритай и прежде чем получил ответ, уже и сам догадался.
— Чего тут не понять? Одна стрела летит прицельно и мажет. А так — будто снег на голову тяжёлым всадникам, во-он тем. — Суду азартно махнул назад, оскалился: — Хочешь туда, под снежок, а?
— Да нет. Не тянет, — подыграл ему Даритай.
Сигнальные стрелы-йори капризно заголосили, как стая чаек над осенним Итилем. Огненные рыжие кони, сомкнувшись друг с другом, слились в один пляшущий на ветру костёр. Даритаев жеребец — без дополнительных усилий со стороны всадника — занял надлежащее место (не успеешь — голову стрелку долой, потому давно приучен).
— Ну всё... урагша, помоги нам пресвятой Траян, — не скомандовал, скорее просто сказал Хачиун. Каждый из этих опытных воинов мог командовать десятком не хуже его самого (правда, никого из них производить в десятники не спешили), каждый знал, что и когда делать, за исключением этого довеска Даритая.
На вытянутом лице Суду проступили жёсткие складки. Он плавно протянул руку к висящему на спине саадаку, как будто замахиваясь для удара сверху. Красная лакированная стрела-годоли (длинный узкий наконечник для дальнего боя) легла на костяные рога-изгибы.
Премудрость стрельбы из большого костяного лука состояла в том, что тетиву не натягивали — от неё как бы «отталкивались» луком вперёд, задерживая тетиву у щеки, после чего рывком «добирали» её до уха.
С разгона на рысях сотня плавно перетекла в галоп. Остроконечные шеломы урусутских лучников, чудно не отороченные мехом, стремительно приближались и били в глаза своей чужеродностью. Густая растительность, покрывавшая низ лица, делала урусутов похожими на странных мохнатых животных, из-за чего все они казались на одно лицо. Даже тетиву они натягивали диковатым способом: сгибая руку в локте. От этих нечеловеческих ужимок Даритаю показалось, что все они целят именно в него. Это вдруг стало давить так сильно, что он напрягся, сжался, растёкся по седлу. Такой животный страх испытываешь перед зверем, перед существом иной природы, а не разумным человеком.
Луки у урусутов были меньше размером — подобные можно встретить у «лесных племён» за Селенгой, и это вдруг рассмешило, отчего на сердце заметно полегчало.
Обычно при походах в степь (чего не мог знать Даритай) рязанцы и суздальцы зазывали конных стрелков из половцев, но в эту неудобную зимнюю пору (спасибо великому Субэдэю) все наёмники грели кости в городках-зимовниках. Поэтому Юрию Игоревичу, чтобы обеспечить тяжёлым ратникам хоть такое прикрытие, пришлось спешно сгонять с ловов бельчатников и соболятников. Немногих, имеющих самострелы, князь собрал вокруг себя.
— Спокойно! — заорал в ухо Хачиун. — Не бойся! Тут все стрелы на излёте, не пробьёт — далеко! Разве что в глаз попадёт! — Он вдруг насупился. — А вот теперь осторожно, приближаемся!
Суду, не сбавляя хода, привстал на стременах. Всё произошло так быстро, что Даритай не успел, проморгал тот миг, когда из рук худощавого сорвалась багровая деревянная молния. Какой-то грузно сбитый урусут в кольчуге поверх кожуха припал на колено, будто желая найти что-то в снегу. Несущаяся под конским животом шустрая земля унесла эту картинку куда-то назад.
Прежде чем Даритай успел вздохнуть, они вылетели в место, недосягаемое для лесных стрелков.
Все были целы, но кони успели взмокнуть. Прижатыми к лошадиному брюху ногами Даритай ощутил, как оно потеплело. Из кожи баксона[109], подрагивая незнакомым оперением, торчала-таки одна угодившая мерзость. Обнаружив зацепившийся урусутский «привет» не сразу, новичок отпрянул, как от скорпиона, и густо покраснел даже сквозь многолетний свой загар. Но над ним не смеялись. Всё же он остро почувствовал себя сейчас бесполезным довеском, вроде того войлочного свёртка, какие прикрепляли к вьючным меринам, чтобы те издалека казались воинами.
Скрывая смущение за неуместным любопытством, он спросил-таки Суду о том, что на самом деле сейчас его занимало мало.
— Да, попал, иначе не стреляю, — спокойно, с видимым удовольствием ответил Суду. Похоже, ему нравилось об этом говорить. Старые друзья давно привыкли к его чудесному искусству, перестав удивляться и хвалить.
— А остальные?
— Остальные не рискнули. Что стрелы даром тратить? — отозвался теперь и Хачиун, — Не так уж их много, стрел. Главное, чтобы они в нас стреляли...
— Всё, отдохни, — вдруг бросил он строго, — сейчас пойдём на второй круг, а там этих упрямых сабанчи сомнут наши панцирные...
В этот раз они прошмыгнули гораздо ближе с вражескому строю, над головой Даритая уже отчётливо свистнуло. Теперь по бородачам выпустили по стреле почти все. Те заметно шарахнулись вглубь, к щитоносцам. «Ага, проняло», — невольно возликовал Даритай, как будто в этом была и его заслуга. Когда приближались к урусутам, он с азартной радостью охотника отметил; бугорки тел пятнали снег и там и тут. Едва не наткнулся и на «своего» мертвеца в таком же, как и он сам, зелёном дегале — лошадь умело, без его участия, перескочила. Труп лежал на животе, выгнув спину, его грудь опиралась на стрелу как на подпорку, на которую он текуче наползал. Он был, судя по цвету, из их сотни, и вот — не уберёгся. Жеребец погибшего скакал на своём месте в строю, будто и не заметив случившегося. Казалось, дух убитого так и сидит в седле, сбросив своё тело в утоптанный снег, как халат.
Мистический страх, которого не было, когда он стоял, ожидая жертвенного ножа, вдруг властно пробудился в Даритае.
Кони уже заметно устали, оставляя на снегу редкие капли мыла, пока ещё редкие. Ничто так не утомляет лошадей, как эти скоростные рывки галопом. Лучники их сотни — пока ещё почти целой — скопились на левом фланге, ожидая удара конных урусутских дружин. Их предстояло замотать и обессилить. Теперь жизнь Даритая, Хачиуна и остальных зависела от того, насколько их собственные лошади успеют отдышаться.
— Ну вот, начинается самое весёлое, — Хачиун весь как-то ужался.
На них скакали, вращая мечами в воздухе разноцветные, нарядно убранные чужие дружинники. Красные и лазоревые плащи за спинами недругов трепетали, подобно крыльям ангелов.
Похоже, для того, чтобы себя взбодрить, Хачиун вдруг разговорился:
— Эт-то вот самая гадость... Не тяжелы — не легки, в самый раз, чтобы угнаться. Догонят — порубят. А ведь догонят, ишь, жеребцы-то породистые, свежие — красота. А ты, — обернулся он к Даритаю, — ты вот что, а? Хочешь жить, значит, строго мне в хвост, будто повозка, понял?
— Эй, Хачиун, — прыснул Суду, — ты уж и хвостом обзавёлся, что та дрофа. Надо же, что страх с людьми творит — в птиц обернуться горазды.
— Не больно-то скалься, умник, — не принял шутки десятник, — поглядим, хорош ли сам без хвоста. А ну... отступаем, бежим! — скомандовал он, дождавшись нужного мига.
Когда урусуты уже дышали в затылок, сотня распалась по десяткам влево и вправо. Не сдержав ретивости, преследователи пролетели вперёд и слегка смешались, беспорядочно разворачиваясь. Даритай видел, как Суду — будто боясь не успеть — пускал стрелу за стрелой. Один раз он досадливо вскрикнул, словно его ужалили — кто-то сумел-таки заслониться ярко-алым щитом.
— Ну промазал, ничего страшного? — бросили ему на ходу горсть утешающий слов...
Суду помотал головой, как бы освобождаясь от наваждения:
— Нельзя мне промахиваться... уйдёт настрой.
Беспощадная и неожиданная гибель товарищей привнесла некоторый разброд в рядах врагов. Они замешкались. Когда дружинники опомнились — быстрее, чем надеялся Хачиун, — зелёная сотня снова рванула взапуски, но лошади уже устали. Какое-то время их выручала запредельная меткость Суду, которому неизменно удавалась обрубать те лапы смерти, которые оказывались к ним особенно близко. Разноцветный беснующийся зверь отдёргивал свои лапы назад, какое-то время зализывал, а монгольские лучники успевали перестроиться и отдохнуть.
— Что же они медлят, шакал их раздери, — досадливо бормотал Хачиун, — так мы долго не протянем.
— А что? — разлепил непослушные пересохшие губы Даритай...
— Где эти панцирные, с копьями? Им давно пора заняться делом. Ещё один рывок, и нас тут передавят, как волчат у логова.
Даритай, вздохнув, протянул Хачиуну саблю:
— На, возьми. Это будет справедливо.
— Дорогой мой, — мягко улыбнулся десятник, — ты поступаешь так, как я и ждал от тебя, но эта железка не спасёт. Эти урусутские воины вроде наших кешиктенов. Они тут орудуют мечами с детства, а саблей — ей рубить хорошо, а защищаться?.. И моргнуть не успеешь — слетит голова. Даже и не думай.
— Что же делать? — лихорадочно соображал Даритай.
— Умирать, — подсказал десятник.
— Э нет, — не согласился новичок, — это у меня сегодня уже было. Два раза в день — какая в том польза?
Суду, развернувшись, заорал:
— Все стрелы мне! Быстро! Все стрелы мне!
Теперь они стояли на месте, а дружинники кружили вокруг них, боясь приблизиться. Десяток спасался только тем, что Суду упорно и неотвратимо поражал всякого, кто приближался к ним ближе остальных или кто, на свою беду, пытался бросить меч и вытащить лук. Только нежелание каждого в отдельности урусута возглавить атаку (и умереть со стрелой во лбу) немного отдаляло развязку.
Впрочем, беспощадная резня в других десятках «зелёной сотни» уже началась. Наконец-то, дорвавшись до этих обессиленных назойливых комаров, дружинники самозабвенно расправлялись с беззащитными. Их дорогие аргамаки (за каждого стадо коров вынь да положь) скакали сегодня только вперёд, не петляли зигзагами, не кружили до того перед строем. Да и по породе своей были они резвее (хоть и менее выносливее), чем степные лошадки.
Кто-то из несчастных выхватывал саблю, которую тут же у него и выдёргивали. Такого разваливали мечом до седла с особым сладострастным остервенением. Меч ники наконец дорвались до своего прямого дела, которое — нужно отдать им должное — они знали хорошо. Не хуже, чем лучники своё.
И вдруг они забеспокоились и ослабили напор.
Хачиун и Даритай замотали головой, озираясь с угасшей было надеждой. С пологого склона, разливаясь по белому полю, как выплеснутая из бадьи вода (так укрепляют склон перед крепостью), неслась долгожданная подмога. Ещё непонятно — к ним ли, нет. Вот только как-то беспорядочно всадники растекались. Не отступают ли тоже? Неужели всё-таки разгром?
— Эти не похожи на копейщиков, ничего не понимаю, — растерялся Хачиун.
Впрочем, те, со склона, заворачивали куда-то вбок.
— Да что же они, — рыдающим голосом выразил общую досаду один из десятка.
Урусуты, уже было успокоившись, принялись за старое с прежним удовольствием. И тут Даритай хлопнул себя по шлему, собрал ладони у рта и загудел...
Все, кроме Суду (который, кусая губу, выцеливал очередного), удивлённо воззрились на такое диво, урусуты тоже. На лице Хачиуна появилось нечто, напоминающее жалость. Странно устроен человек: даже за минуту до смерти он способен пожалеть того, кто лишился ума — самой бесполезной вещи в этом мире.
Те, на склоне, вдруг повернули в их сторону, на ходу перестраиваясь в клин. Теперь было видно, что они спешат-таки им на выручку. Их было немало, куда больше, чем урусутов.
Вражеские мечники (это были гридни ижеславского князя и вятших его бояр) это тоже сообразили и тут же показали остаткам «зелёной сотни» свои спины. Это зрелище было для Даритая и его новых друзей желаннее всех других на свете.
Суду, выдохнув изо рта облако морозного пара, обессиленно опустил голову на шею коня.
И тут же, как последнее напутствие, прилетела неожиданная стрела и впилась в живот Хачиуну. Уронив лук на снег, он ухватился за неё руками, но выдёргивать не стал...
— Всё, немножко не дождался... — прохрипел он и слабо улыбнулся. Наконечник вошёл как раз между пластинок хуяга, погрузившись глубоко. Теперь Хачиуна ждала мучительная смерть, и он мог молить своего христианского Бога только о том, чтобы это случилось быстрее. Десятник закрыл глаза и сполз на снег. Даритай и худощавый Суду, стремительно спешившись, бросились к нему.
А помощь между тем приближалась.
На войне смерть товарища — дело обычное. Каждый из десятка Хачиуна, не колеблясь, отдал бы за него свою жизнь не только потому, что этого безоговорочно требовала Великая Яса, но и просто так, по-человечески.
А вот угрюмые, сочувствующие лица никак не помогли бы ему. Поэтому, увидев, какая именно помощь спасла жизни остальным, лучники долго рыдали и кисли от смеха. Пришедший в сознание Хачиун ржал вместе со всеми, что отразилось на нём благотворно — он быстро умер, может быть, что-то там у себя внутри окончательно разворотив судорогами.
Отозвавшись на зов Даритая, нёсся табун дойных кобылиц. На их спинах красовались войлочные скатки, которые издалека можно было принять за всадников.
— Почему они тебя послушались? — отдышавшись, спросил Суду.
— Да как же, — Даритай отвернулся от угасших глаз Хачиуна, — я ж сколько трав в дойщиках прозябал. Их кобылица-вожак мой старый побратим, и у нас есть свои сигналы, вот я её и позвал. А уж весь табун, известное дело, поскакал следом.
— И разрушил замыслы Эльджидая. Куда его гнали, ты знаешь? — непонятно было, хвалит его Суду или осуждает.
— Откуда же мне знать? — развёл руками Даритай. — Прости, мне нужно было подумать о благе войска, а я вот решил вас спасти...
— И себя, — хмыкнул великий лучник, — а там, может быть, кто-то более важный, чем мы, взял да и сгинул. .. Ну да ладно...
— Что ж, спасибо за «ладно». Спас нас ты... Если бы не твоя необъяснимая меткость, то... И ты, конечно, как честный монгол, сообщишь о моём самоуправстве стервятникам?
— Теперь-то уж что? — тягуче отозвался Суду. — Хачиуна вот жалко, он мне вместо отца был.
— И мне вместо отца, дал второй раз народиться. Из-за него я здесь, а не в боголах.
Суду посмотрел на вытянувшегося на снегу Хачиуна, на рассечённые зелёно-кровавые тела воинов, которых он знал всех по именам.
Раненых не было, только живые и мёртвые... Урусуты секли мечами наверняка — они своё дело знали. Среди погибших монголов, как свёртки дорогих тканей в зелёной траве — хотя кругом был только снег, — лежали подстреленные Суду храбрецы-урусуты. Их лошади стояли рядом с телами хозяев, уныло понурив длинные холёные шеи.
Что до низкорослых скакунов, принадлежащих порубанным монгольским лучникам, они вели себя по-разному. Одни, подтянувшись друг к другу, образовали тот боевой строй, к которому их приучали. Другие — меньшинство — застыли, подобно урусутским аргамакам над мало узнаваемым месивом, в которое превратились их боги; А некоторые бродили поодаль, увлечённо ковыряясь в снегу. И то сказать — проголодались за время боя. Тут же маячили дойные кобылицы. Войлочные скатки на их спинах колыхались, как будто отбивая поклоны.
— Ты хорошо знаешь лошадей, Даритай? — спросил Суду устало.
— Сегодня я узнал ещё кое-что, — вздохнул бывший дойщик, — посмотри, как по-разному они себя ведут, всё, как у людей, — каждый выбирает своё.
Суду, ставший вдруг неузнаваемо медлительным, повертел головой. Понял не сразу, но понял...
— И кто из них поступает правильно? — вдруг спросил Суду тоном прилежного ученика.
— Пусть каждый ответит сам для себя, — задумался Даритай. На него накатывала усталость, и он безуспешно пытался встряхнуться. Кто сказал, что бой уже закончен?
— Ну уж нет, — вдруг отозвался дотошный Суду, — ответ есть всегда, и он всегда прост... если правдив. Самый лучший, вызывающий зависть жеребец был у Хачиуна. Посмотри на него и пойми, как надо.
Конь Хачиуна не отходил от тела хозяина, но не стоял понуро. Он просто ждал, когда его бог отдохнёт и пробудится. Все его стати дышали спокойствием и уверенностью, что рано или поздно это пробуждение произойдёт.
— Он что, не понимает? — Глаза Суду были полны жалости.
— Понимает, но ожидает чуда!
— А мы?
Группа всадников с того же пресловутого холма налетела на них неожиданно... Чумазые, буро-серые, в дымленых козлинах они были безоружны и крикливы. Похоже, это те самые конюхи, которым приказали гнать табун в указанное место. Узнав о причине, по которой дойный табун поскакал не туда, куда следует, они долго и самозабвенно сетовали и ругались.
Даритай узнал агтачи Дармалу — того самого, с которым Хачиун договаривался о подмене. Впрочем, «двойник» Чимбо был тоже здесь. На его лице отразилась долгожданное облегчение, когда узнал Даритая.
— Слава Всевышнему, Пса меня не покинул, — бормотал он так, будто нашёл потерянную вещь, а не человека. На его круглом лице сияла незамутнённая детская радость. — Ну, — обдал он морозным дымом, — снимай дегаль, пересаживайся. Покрасовался воином — пора и назад...
Он, кажется, вовсе не ожидал возражений. Всю эту историю он рассматривал как попытку Хачиуна укрыть его от ак-чулмыса и в тонкости не вдавался. Спас его Хачиун, подставил раба, спасибо ему на этом.
Рыжий конь, узнав хозяина, заёрзал под Даритаем, самозабвенно и восторженно затрубил.
А лже-Чимбо растерялся и испугался, наверное, больше, чем перед жрецом и урусутскими мечами. Он просто онемел. Тело его сотрясала дрожь...
Но тут за него неожиданно вступился Суду:
— Погоди-погоди. А почему он должен возвращаться в конюхи?
Уж чего-чего, а этого Чимбо настоящий никак не ожидал и раскрыл рот от удивления:
— Как почему? Он же конюх? Да ладно вам шутить... Времени-то нет совсем — того и гляди, общий сбор протрубят.
— Какой сбор? Что там вообще делается? Где урусуты? — взвился нетерпеливо один из уцелевших стрелков.
— Да бегут урусуты, — отмахнулся от него Чимбо. Он сообщал о победе так, между делом. (Подумаешь, победа. Одной больше — одной меньше.) — Слезай, что мешкаешь?
Он говорил с Даритаем так, будто на торгу заплатил купцу за товар, а тот не торопился отдать купленное. На своего двойника он смотрел как на муху и даже не сердился — сердятся на равного, всё-таки он был «свободным», а Даритай — рабом. Он был просто рад, что Даритай наконец нашёлся.
— Слезай-слезай, ну, — не переставая тормошить бывшего (и будущего?) богола, Чимбо вдруг отвлёкся: — Эй, Суду, ну как вы тут без меня?
— Вот, видишь, — показал худощавый на остатки их сотни, на коченеющие обрубки. Багровые лужицы проели снег, образовав неглубокие ямки, казалось, степь вокруг переболела оспой. — Хачиуна тоже недосчитались...
— Хачиуна? — Он так и думал. — Ну да, жалко...
Суду вдруг насупился. Ему не хотелось возвращаться к доверительности, пока не иссякли все причины для перебранок. Из-за них-то как раз торжество победы и зависло в морозном воздухе, не опускаясь на землю.
— Чимбо, а Чимбо. Ведь тебя больше нет? Отдали в жертву, разве забыл? — ехидно спросил он.
— Да как же? Вот он я, — хихикнул тот и указал на Даритая. — Меня же помиловали.
— Ну уж нет, — пришёл в себя Даритай. К нему накатом возвращались силы. — Это меня, МЕНЯ Небо помиловало дважды! — Он оскалился и вдруг зашипел, как загнанная в угол змея. — Тогда — от ножа, теперь — от мечей! Дважды меня казнили, теперь всё... Не отдам своей судьбы... Не отдам!
— Ты что там бормочешь, богол? — досадливо отмахнулся Чимбо, он даже не вслушивался. — Давай слезай, не томи...
— Он не слезет, — с удивительной для него твёрдостью вдруг отчеканил Суду, — а будешь настаивать, всё про ваши перетасовки расскажем, понял?
Старший конюх Дармала побледнел, стал тревожно озираться, прыгая глазами с лица на лицо. Его-то подобные признания касались далеко не в последнюю очередь...
— Ну и сломают спину всем подряд, — нерешительно возразил Чимбо. Он ещё не понимал, что с ним не шутят.
— И тебе, тебе в первую очередь, как трусу. Что, не так?
— Так что ж мне, всю жизнь теперь в боголах? — понял наконец он. — Ах ты, мразь, слезай, давай. — Замахнулся Чимбо плетью.
— Струсил в «тумены Темуджина», оставайся теперь в конюхах, — злорадно подтвердил Суду.
Даритай, болезненно вслушиваясь, вдруг подумал: а не отголоски ли это старых счетов между ними?
Преодолевший растерянность Дармала поспешил успокоить:
— Да ладно вам, нашли о чём расстраиваться. Нас и так сегодня всех того... — он провёл рукой по горлу. — Не пригнали табун кобылиц куда просили, боевое повеление не выполнили. Эх! — Он, кажется, впервые подумал об этом и тут же сам запоздало перепугался.
— Если что, я признаюсь, мол, приманил кобыл, — попробовал уладить спор Даритай. — Это будет справедливо, и тогда вы отделаетесь палками по спине. — Он жалобно вздохнул. Суду смотрел на него беспомощно. — Меня сегодня уже дважды убивали, а ваш Мессия любит троицу, разве не так? — Он упрямо сжал губы. — Но в боголы я не вернусь, не вер-нусь...
— Хорошо бы отделаться палками, но как ты объяснишь, почему кобылы вдруг тебя послушались? — прервал его благородную речь забеспокоившийся Дармала. — Стервятники всё по нитке и размотают.
— Погодите, — растерянно бормотал Чимбо, — а как же я? Я-то как же? — Он совсем растерялся и чуть ли не плакал, это очень не вязалось с его воинственным видом.
Все растерялись.
— Ладно, — отозвался Суду, он уже остыл от неприязни. Раньше его разозлило равнодушие Чимбо к известию о смерти их старого доброго десятника, — джангуна нашего рассекли, Хачиуна пристрелили. Соберут всех оставшихся в новую сотню — кто там помнит по именам? Оставайся с нами, Чимбо, раз уж такое дело, только помалкивай.
— А как мы объясним, куда пропал один из конюхов?
Никак им сегодня не удавалось увязать концы с концами.
Вернувшись из Китая, Бату подумывал поставить Делая ханом над всеми кыпчаками, которых тот замирил. Это справедливо. Нахальная слава Делая гуляла по Дешт-и-Кыпчак, и те богатырские сказы, которые народ об этом удальце слагал, теперь были настоящими, а не шуточными, как те, которыми его потчевал когда-то Джучи.
К великому удивлению джихангира, Делай от такой чести... отказался и очень тем озадачил. С отлыниванием от ханского пояса Бату столкнулся второй раз в жизни... Но его братец Орду родился добродушной размазнёй, а Делай... Их даже сравнивать смешно.
— Не дело молодых тихим народом править, не дело жалобы табунщиков и дойщиков разгребать, как кучи мокрого аргала. Бремя власти — удел стариков: тех, у кого кровь холодная, как у пойманной рыбы. Не хочу быть ханом — хочу остаться Делаем. Что мне надо? Свежий ветер, пузырьки крови на острие, шершавая шкура врага под седлом, гладкая чаша из его головы... чтобы смерть дразнить, как младшую сестрёнку.
От слов Делая джихангир тогда приуныл. Сам-то он кто? Рыба с холодной кровью? В вечных заботах заплывает тело жиром — некогда сабелькой махать, недосуг лук натянуть — всё чужими руками. И к пьянящим напиткам пристрастился так, что и не может не хлебать, уже тугое лицо пятнами пошло. А что делать? С тем ритуальную чашу подними, с другим — вот и привык. Милостью хотел Делая оделить, наивный... в золотую колодку, подобную своей, вольного волка заковать.
— Да, ты прав, — вздохнул джихангир, — чего хочешь в награду за труды?
— Дай мне право отбирать из туменов тех людей, каких сам пожелаю. Создам из них сотню, только сотню, не боле. Да не простую, в ней каждый сотни стоить будет. В поражениях ли, когда слёзы ветер не слизывает, в пьяных ли победах всё едино будет. Куда пошлёшь — за то крыло спокоен. Бамут хитроумную сеть сплетёт — я накину.
Так с тех пор и повелось. Отбирал себе Бамут в лазутчики самых смышлёных, Делай — самых проворных. Были подобные отряды ещё с Темуджиновых времён, но Делаева сотня тем от них отличалась, что не гуляла там палка, не рвались сердца из виноватой груди хилой рукой палача. Один был страх у тех, кто в сотне, — как бы не выгнали.
Каждый там одевался, как хотел, говорил, что желал, по-своему молился, не смеялись в той сотне над неуклюжими новичками. Была для неё жирная еда, сабли, рассекающие шёлковый платок, круглолицые невольницы удальцов ублажали, а Джагатаевы «стервятники» дальней стороной облетали... Всё так, да только после каждого боя ездили её порученцы по усталым туменам и набирали новых людей, чтоб снова их было ровно сто, а не... сколько там их осталось? Не то что не берег Делай подопечных, очень берег, да только выходили они сырыми из такой воды, в которой обычная сотня до костей бы сварилась.
Под Пронском монголы поначалу слегка проворонили противника. Когда дрогнули и показали спины урусутские пешцы, Эльджидай не сдержал затаившийся радостный выдох, но не тут то было. Свежие панцирные дружинники ижеславского князя вырвались из любовно подстроенной для них ловушки, врезались в лёгких лучников «хоровода». Те уже успели утомить коней, почти вчистую опорожнили свои саадаки и превратились в ту обессиленную лису, какую хорт[110] схватил за хвост. Свежие хулэги ижеславцев легко настигли беззащитных стрелков и покрошили человек двести из тех, у кого и сабель-то не было. Неожиданный прорыв врага — как скорпион за пазуху. По самому святому, по обозам, прошлись бы наглецы без почтения. Не смертельно, но противно... как ноющий зуб.
Однако дружинники почему-то потеряли резвость и неожиданно прекратили накат, что оказалось для них роковым. Правда, обезвредили гридней всё же не сразу.
Показавшие незаурядную выучку ижеславцы заставили задуматься над тем, насколько монголы недооценили «нухуров здешних коназав». Гоняясь за зайцами, в который раз проворонили барса. Стало быть, не все тут слепые пешцы-кроты.
Нескольких дружинников всё же удалось не раздавить, как змею, заползшую в шатёр, а заарканить. После победы их дотошно допросили душевные стервятники. И Делай поговорил с пленёнными. Те в один голос пели, что растерялись, когда увидели, как на них угрюмой лавиной накатывает свежая конница. Оттуда налегает, где её и быть не должно... «Наша разведка перед боем подползала, каждую кочку разнюхала».
Послали разобраться. Да, так и есть, не было там никакой конницы.
Всё стало понятно, когда Делай проведал приговорённых — их после каждого боя наскребали десяток-другой — мало ли какие случаются провинности.
Среди ожидавших неотвратимого ножа он обнаружил некоего конюха Дармалу. Тот после стервятниковых пыток расчувствовался и признался во всех подменах одних людей другими. За эту верёвочку вытащили на расправу везучего Даритая и его «двойника» Чимбо. Под шумок, как «соучастник подлога», в эту же кучу угодил ни в чём не повинный лучник Суду.
На одну душу две смерти не повесишь, но Даритай, например, подлежал умерщвлению дважды.
Молодой стервятник отвечал на вопросы Делая, трещал гордой сорокой, раздувался бледной жабой. Ещё бы — откопал «такой мясистый заговор».
— Эльджидай-нойон повелел гнать табун кобылиц на левое крыло, чтоб засадные тысячи пожирнее врагу почудились, а эти... — он небрежно махнул худощавой рукой в сторону связанных, — не послушались, развернули не туда. Стали мы разбираться, на конюха поднажали, он запричитал, что не виноват. Мол, лучники лошадей преступно отманили. Слово за слово, извлекли за ушки того героя, — кешиктен указал на связанного Даритая, — тот во всём сознался, а потом... Мы уж было конюха-то отпустили, отвалив ему палок для острастки. Но тут подручный мой, глаз-золото, за рукав меня потянул. Смотри, мол, уж больно конюх дрожит не в меру, трусится, как собака из воды, что-то тут не так. А ну, думаю, отрежу ему ухо — может, ещё чего припомнит. Тут уж и я смекнул, несуразность приметил: отчего вдруг кобылицы чужого лучника послушались, а не конюха. Стало быть, знал лошадей тот лучник? Откуда? Пригрозили, конюх наш резво в ноги рухнул и такое рассказал! Даже резать этого хомяка жалко... — на глазах кешиктена заиграла добрая ребячья улыбка, — всю жизнь свою непутёвую мечтал что-нибудь этакое разгадать, и вот... повезло...
Захлёбываясь слюной, стервятник поведал Делаю ещё много диковинного про то, как людей меняют перед ак-чулмысами.
Долго молотил себя Делай волосатыми кулаками по бестолковой голове — эх ты... мох засохлый. Есть люди, которые, чтобы воинами стать, под жертвенный мор добровольно лезут. Такие-то как раз ему и нужны. Есть сверхжелание — будет и толк, воевать научим всё равно. Нет плохих учеников, коль учиться хотят. А скольких уже пропустил, разиня? Под недовольное кудахтанье надсмотрщиков он, посмеиваясь, выслушал историю Даритая от него самого и остался доволен. Вот и замена погибшим и искалеченным, один уже есть.
— Столько раз за пару дней из-под смерти выныривал — это ж покровительство богов. Ты нам удачу принесёшь. Но... змея ползёт к змее, кого ещё знаешь из таких?
— Никого... один я был из конюхов такой.
— Кого кожей чувствовал?
Стала верёвочка разматываться в другую сторону. Уяснив, куда их зовут, Даритай мигом вспомнил про Суду (вот возможность приятеля спасти), про то, как тот стрелял почти что рукою Бога. Сошлось — забрал Делай к себе и Суду.
Даритай откинул голову, задумался.
— Вот разве что среди тех, кого в жертву духу Чингиса... Стоял со мной в том ряду один такой. Сача его зовут...
Искали недолго — забрали и Сача.
Однако не так всё гладко прошло с приговорёнными. Из пасти Ясы людей вырывать — что из голодного рта кости мозговые. Легче всего решилась судьба Суду — онто вообще под горячую руку угодил. С виной Даритая пришлось повозиться всерьёз. Тем, что кобылиц вовремя отозвал, обозы спас, искупил он вину — так они вместе придумали. Именем джихангира Суду и Даритая помиловали, но злополучному агтачи Дармале не повезло, как и Чимбо.
Желая спастись, заблудился он, но к Воротам Смерти, поблудив, всё-таки вышел.
Мрачно улыбнувшись, Делай подумал: «Чимбо выпал жребий жертвой пасть, как ни крутился, а не миновал жребия. Теперь, однако, его казнили как преступника, а не вознесли как жертву. Так что в небесные тумены Темуджина он, похоже, не попал».
Даритаю казалось, что это сон. Ещё никто и никогда с ним так не нянчился. Ему выдали джурдженьский меч с тусклой костяной рукояткой и зацепом на перекрестье (не роскошный, но удобный), новенький пластинчатый панцирь сартаульской работы и поджарого туркменского коня, который слушался лёгкого прижатия ног и скакал, как полоумная газель.
Учить Даритая управляться с лошадьми не надо — сам кого хочешь научит, но его умения годились для любой другой сотни, только не Делаевой. Здешние джигиты то под брюхом лошадиным зависнут, то скачут задом наперёд и при этом ещё и стреляют.
Всё это по отдельности Даритай умел, но не в том была соль, а чтобы удалью такое не считать. Чтобы скакать так и о другом, более важном, думать и посадку менять быстрее, быстрее. Почему задержка? Видишь, ногу не успел убрать, тут-то тебе и конец. Не выходит? Рано взмах начинаешь... Отдохни. Ничего, жить захочешь — научишься. И никого крика, терпеливо, серьёзно. Десятник будто себя самого натаскивает, терпеливо, аж стыдно. Когда не орут — стыдно не сделать так, как надо, и душа, словно росток, навстречу тянется. С каждым движением отдельно, чтобы вник, а все остальные помогают, как дитяте. Лучше два раза правильно, чем десять раз неправильно.
Всё-таки нашёл и Даритай, чему может здешний народ поучить — никто не чувствовал настроение лошади, как он...
— Не будет она прыгать, видишь — обиделась. Да не на тебя, на вожака — ревнует. Убери соперницу в третий десяток — поменяйся, и всё будет хорошо.
Для стрельбы лучшего наставника, чем Суду, представить было трудно — и тот не скупился. Хитрости лучника, до которых сам годами доходил, какие оберегал ревниво, объяснял Даритаю за дни. Вот только натягивать лук было всё-таки тяжело. Суду был доволен — степной монгольский лук, с которым всю жизнь провоевал, он сменил на большой, дальнобойный джурдженьский. Показал Суду, как одной стрелой другую в воздухе ломать, — и тут же дали ему лучший лук. Теперь воин был занят: ходил, сиял от удовольствия, как медный котёл на курилтае, и всем, кто просит (и кто не просит), уроки давал.
Орудовать мечом их учил старый «знакомый» — пленный урусут, бывший ижеславский дружинник. Вместе с Даритаем и Суду переманил его Делай, из плена выкупил. «Против кого не хочешь — воевать не за ставлю, но мы идём на суздальцев, неужто не горишь посчитаться? Не заладится с народом — отпущу, только ты сам уходить не захочешь. Такие, как ты, от нас не уходят. Да и куда пойдёшь? Мы теперь тут, в этих землях, хозяева».
Красный петух, которого пустил в своё время на Рязань старый владимирский князь Всеволод Большое Гнездо, всё Глебово хозяйство светлым клювом склевал. Отец пришёл, пепелище увидал да и удавился тихонько, а с сестрёнки младшей суздальцы серьги рвали... вместе с ушами. Выбирая меж невольничьим рынком и местью, выбрал Глеб, понятное дело, месть. Тем более что князя ижеславского, кому он в верности клялся, не было уже среди живых.
За удаль в бою, как известно, не судят. Потому не гневался Глеб на Суду за то, что тот под Пронском трёх Глебовых друзей замолчать заставил. Ведь и Глеб поразвлёкся немало, людей из родной сотни Суду до седла разваливая.
У костра они кучковались вчетвером, тихая радость того, что попали они к «родственным душам»— так и называли сотню — очень сблизила монголов Даритая и Сача, кераита Суду и урусута Глеба. Позднее к ним прилепился низкорослый, толстенький кыпчак Гза — непревзойдённый охотник скрадом и следопыт. Ещё позже появились двое джурдженей из того тумена, где стенобитные машины и крепостные баллисты. Этих семерых — всех, кроме Даритая, бывалых людей — здесь считали новичками и окружали заботой, как опытная волчья стая новый слепой выводок. В пекло их пока не посылали, пусть, мол, освоятся, оботрутся. В Делаевой сотне не бросали людей с холода в кипяток, тепло нагнетали постепенно.
Под Коломной Даритаю впервые удалось увидеть вблизи, как это всё выглядит в деле. Сотня «родственных душ» озаботилась пленением суздальского княжича Владимира. Нужно было пробиться сквозь завесу из его лучших гридней, не дать уйти, не дать убить и самим уцелеть. Всё равно что из пасти волка выдрать язык... Ничего, справились без потерь, только несколько воинов были легко ранены. В бою всё получилось складно, потому что главная забота была — до боя всё выведать, всё учесть.
Даритай и Боэмунд. Кечи-Сарай. 1256 год
— Да, досталось тебе. Похуже, чем мне...
— Кто взвесит такое на весах...
— Постой, когда рассказывал я о Прокуде, ты сказал, что у тебя было что-то подобное.
Даритай вздохнул:
— Ах, вот ты о чём... Это случилось после штурма Рязани, Бамут. Незадолго до того Делай принял меня в свою сотню «родственных душ», после того как...
— Да-да...
— А потом, как всегда, — трёхдневное разграбление города. Я носился верхом среди стонов и руин, не зная, куда себя деть. Слишком недавно сам был рабом, чтобы вот так... бестрепетно грабить. А другие не стеснялись, и я, помнится, очень им завидовал... Ничего, думал, со временем научусь.
Так бы и остался тогда с дымом в тороках, но наш джихангир (помнишь ли) повелел распределять добычу по чести. Не кто сколько нахватает, а кто сколько заслужил. А приехал я в обозный курень, смотрю — стоит красавица, явно из знатных урусуток. Гордо так стоит, отрешённо, страх свой будто в стиснутых руках скомкала. Засмотрелся на неё — чуть с коня не грохнулся. А народ наш, из сотни, окружил меня и ржёт как непоёный табун. «Кто это,— спрашиваю, — для кого?» Подходит ко мне друг мой Сача и вкрадчиво так, словно будит: «Это ТЕБЕ, — говорит, — твоя часть добычи». Стою я, глазами хлопаю, мух отгоняю, ничего понять не могу. Вообще-то такие женщины только нойонам знатным, а мы кто? «А мы — особый отряд. А потому из добычи нам тоже не огрызки», — отвечают. И подбадривают, куражатся по-доброму. А меня вдруг вместо радости странное чувство обуяло. Представил, как эта девушка своему милому улыбалась. Вполгубы, лукаво. А теперь она... и моя, и не моя, только тело.
Так или иначе, кивнул. Что народ потешать? Отвели это дивное диво в мой шатёр.
Даритай вздохнул.
— Этой же ночью вместо того, чтобы сперва-наперво жёстко взнуздать наложницу, — как это делали те, для кого такое было не в диковинку, — я всё «мекал» и «бекал». Рука с плетью словно обморозилась, замерло на устах заколдованное повеление. — Он опять вздохнул и продолжил: — Первую нашу тьму промолчали с ней, как два каменных кыпчакских истукана. И вот что интересно, кому кого жалеть — неужто не ясно. Только такая у меня, видать, рожа была беспомощная, что стало казаться, это ОНА меня жалеет. Сидел, кумыс ей совал, всякие сладости, замусоленные в потной ладони, улыбался. Потом мы оба незаметно прикорнули, а зимние рассветы — они страсть какие поздние. Днём я бегал по куреню, как ветер оседлав, в угрюмом лесу надрывались летние птицы — так мне тогда казалось. На вторую ночь (благо отдыхала наша сотня в те дни от войны) лёд меж нами проломился. Что её пленитель не алчное чудовище, она ещё накануне поняла. И разговорились мы вдруг... Теперь-то я понимаю, была она тогда — как попона после недельной скачки изтерзанная. Столько у неё накопилось, что хоть бы и врагу, хоть бы и столбу выговориться, а тогда — удивился. Язык кыпчаков, известный нам обоим (ей — хуже, мне как родной), позволил немного понять друг друга. Так возникла наша многолетняя доверительность и моё проклятье. Помнишь, рассказывал ты о забытом мангусе Вечерних стран... Ант... антр...
— Об Антеросе — боге неразделённой любви.
— Вот-вот, и о каком-то вашем багатуре, который, после того как на него надели отравленную шкуру лошади, мир возненавидел. Всё, что раньше манило, стало мучить.
— Геркулес в шкуре кентавра Несса.
— А ещё есть злой дух в женском обличье, латынский.
— Суккуб, — подсказал Боэмунд.
— Именно. Так и накинулись на меня эти все твои, целой сворой. Только знай себе отбивайся. Я бы победил любого из живых, так мне казалось, но сражаться с душами умерших невозможно.
— Выражайся яснее.
— Как-то раз, взяв с меня клятву молчания, она рассказала о себе — это была опасная тайна. Оказалось, что не боярыня она, а... княгиня. Жена рязанского княжича Олега, погибшего в сече под Пронском. О Небо, как она о нём рассказывала! Слышал бы ты.
— Восхищённо...
— Нет, тихо так, но тишину эту не проломить и тараном джурдженьским. Причитала вот так: «Я безголовое тело с тех пор, делай со мной, что хочешь, но это не со мной. Моя голова — в кровавой пыли осталась. Там, в Рязани...» Рассказывала об Олеге много, не мне — себе будто. Так бы и камню, наверное, рассказывала. И улыбалась... не вполгубы, а по-детски. Но, не мне — ЕМУ.
— Постой-постой. Тогда, под Рязанью, никто не выдал, что она княгиня? Не может быть.
— Пока добычу делили, не обмолвился об том ни один комар — так к ней люди относились.
— А потом... — перебил Боэмунд, — огонь в хаптаргак не спрячешь... Бату наверняка всё узнал. Но его устраивало, что княгиня — у тебя, а не у Гуюковых людей. Похоже, молчать повелел, и все посвящённые в тайну молчали. Даже я не знал, ох, стыдно...
— Да, друг мой, так бывает. Знаешь про всё на свете, про соглядатаев врага, про всю паутину интриг, а тут... Так она, Евпраксия моя, куница золотая, никому не угрожала. А я, я был жрецом её храма, даже не так — рабом её храма. Но нельзя и сказать, как я ненавидел своего мучителя — зыбкий дух её сгинувшего мужа.
— И где она теперь?
Даритай вздохнул, прикусил губу своими мелкими зубами, уклончиво усмехнулся:
— Ну уж нет... Теперь твоя очередь рассеивать туман... Что ты делал после того, как завёл рязанские войска в западню под Пронск, как насадил на кол отряд Коловрата?
Подкрадывался к Ярославу...
Боэмунд и Ярослав. 1238 год
Насыпать на руку зёрнышки, чтобы птичка приземлилась именно сюда, — в этом и состоит основное искусство. От Ярослава зависело многое, очень многое, и здесь Боэмунд не мог ошибиться.
Но как подобраться к нему? Кружа по Переяславскому княжеству от деревни к деревни, он всё никак не мог придумать достойного повода. Между тем их слава росла. Очаровывался народ кто чем, кто — красотой Прокуды, кто — лекарским даром Боэмунда. Сам он, правда, лечить не умел — кроме тех, конечно, случаев, когда (о чудо!), прикоснувшись к нему, излечивались Сами. Но не было в том большой беды, ибо, плавно указав перстом, поручал Боэмунд страждущих попечительству бабки Бичихи, как «осенённой духом своим». Кроме того, он при случае прославлял Ярослава-князя, как «призванного во спасение земли» либо Христом Богом, либо Кереметом мерянским, либо... Всё зависило от того, кто к нему обращался за помощью: поганый ли, во Христа ли верующий. Это всё на тот случай, если люди князя сами к нему заявятся... с приглашением встретиться.
Ни Прокуда, ни Бичиха никогда не спрашивали: «зачем», «почему». То ли не интересно было, то ли... Но как-то раз старуха отозвала Боэмунда в сторонку, быстро зашептала на немного картавом, но быстром говоре этих мест — смесь русского, мерянского и тюркского. Боэмунд давно научился его понимать.
— В давние дни боярин Ярослава-князя Кирило Олексич на речке Липице изранен был. Уж кто его только не лечил. Долго ли, коротко, но поведал и про меня, грешную, один его старший гридень. Из мерян он был родом, гридень-то, с того огнища, куда ты Прокудку привёз еле живую из-под Пронска. Ярослав таких людей, с низов, часто привечает в дружину.
— И что с того?
— Перстень Ярослав мне тогда подарил, сказал: «Ежели что надо — всегда покажешь, и тебя ко мне допустят». Так-то. Бери уж, иди...
— Что ж ты раньше-то, — вместо благодарности возмутился лже-пророк.
— Да так, глядела-думала. Ладно ли будет?
Переяславский князь Ярослав Всеволодович был из тех страстотерпцев, с какими Бог разговаривал изнутри, а не с церковного клироса. Причём говорил он ему часто совсем НЕ ТО…
Люди благочестивые, столкнувшись с подобным, ударяются в панику. Те же, в ком гордыня — наистрашнейший из смертных грехов — оказывается сильнее священных догматов, впитанных с молоком матери, становятся «еретиками» и «богоотступниками». Если же им в схватке со святынями всё же удаётся одержать победу, эти отчаянные храбрецы из еретиков превращаются в пророков, земных наместников того же Бога, против которого восстали. А если очень повезёт — даже сыновьями Бога.
Продолжая богохульствовать в таком же духе, Боэмунд набрался храбрости... и выдал главную свою зацепку. Что-то подсказывало — и это пройдёт.
— Одной простой женщине в Вифлееме повезло ещё больше — она сподобилась стать даже Матерью Бога.
После такого откровенного глумления над Богородицей его могли вытолкать взашей. Он напрягся, готовый к прыжку, как обнаруженная в курятнике лиса. Но — слава Всевышнему — ничего не произошло. В глазах князя заблестел-таки пьяный восторг. Боэмунд рассчитал правильно — такие мысли ДОЛЖНЫ БЫТЬ близки и выгодны Ярославу.
— Забавный ты человек. Скажу тебе больше, кое-кто даже сподобился стать Божиим Сыном, — рассмеялся Ярослав и снова опрокинул наполненный вином рог.
— И не он один. У Единого Бога Саваофа много детей, — продолжал раскачивать мироздание Боэмунд.
— Эт-то как? — слегка протрезвел князь.
— Христос ходил по землям библейским, проповедовал мир и покой. А потом он вознёсся. И теперь Его нетленный дух летает над теми, кто его именем режет неверных. Там, на Небе, грозный Отец вмиг отучил Его от милосердия. Иначе откуда изображения Христа на боевых хоругвях? Милосердие может позволить себе только сын человеческий, и то... пока он не стал Сыном Божиим,. не вознёсся.
Похоже, вино слишком ударило в голову и Боэмунду.
— А кто ещё? Ты говорил — много детей. — В грозных глазах Ярослава плясало пьяное любопытство.
— Ещё? — Боэмунд, как учил его когда-то Маркуз, свёл глаза в точку на морщинистом лбу Князя. Он не рассчитывал подчинить Ярослава, только заинтересовать, сбить гордыню. После чего заветное слово было, наконец, произнесено.
— ЧИНГИС. Не слыхал про такого? Он тоже Сын Божий. Он тоже хотел мира, тоже вознёсся, и теперь его нетленный дух летает над теми, кто мечом приближает Царствие Божие на Земле.
Хмель мигом слетел с Ярослава. Он протёр глаза тыльной стороной ладони, сел прямее. Долго молчал, похоже, стараясь собраться с мыслями.
— Кто ты такой?
— Я — твой добрый ангел.
Ярослав. До 1238 года
Знал Ярослав: не дожить ему до великого княжения. Отца колом не убьёшь, старшие братья тоже не хворают.
Давно это было, в юности. Как-то заснул и видит: стоит перед ним отец, на правом его плече примостился ангел белый, а на левом — чёрный. И в этом, чёрном, узнал, конечно же, Ярослав себя самого.
Другой бы струхнул, а княжичу смешно стало: не иначе — видение. И что это Господь всё больше после пира с виденьями лезет?
Так и повелось с тех пор: тот, что справа, сладко нашёптывал отцу, что им движет забота о спокойствии и мире на Руси. А чёрная дрянь с плеча левого говорила несносными устами сына совсем другое.
— Тебе, батя, мир да изобилие по душе, ежели ТЫ САМ на куче тех даров восседаешь.
Вздыхал отец украдкой на таковы слова. Увы, что есть, того не отнимешь. Люди, от него не зависящие, вызывали зудящее желание всё перевернуть, разметать, растоптать, а потом, как водится, слёзы сострадания утерев, белого ангела от спячки растормошив, взяться за благое созидание.
Вздыхал отец — великий князь Владимирский Всеволод Большое Гнездо — и завидовал убиенному великомученику старшему брату своему Андрею.
При жизни Андрей денно и нощно молился, и не зря. Чёрного ангела в себе он благополучно удавил, с Богом подружился, за что и прозвали его «боголюбским». Что бы ни делал Андрей (обдирал ли до мяса стольный Киев, будто вражью столицу, изгонял ли заслуженных бояр за пререкания, заменяя их юными подпевалами), помогала ему высшая мудрость. Он знал, что именно он, а никто другой в мире — оружие высшего добра. Как же иначе — ведь он так чувствовал.
А кто вкладывает нам благие чувства в душу» как не Господь?
Когда Андрею сопротивлялись, когда его ненавидели, он только сочувствовал заблудшим. Он не мог втолковать им, что ему с Небес БЫЛО, а им НЕ БЫЛО.
Всеволод Большое Гнездо искренне хотел быть таким же, но... Но сколько же раз он видел ещё в Царьграде (где детство своё провёл изгнанником) людей, которые, подобно его брату, были уверены, что Бог с ними. «Как же иначе, ведь я чувствую», — говорили они, и глаза их сияли, как начищенные доспехи.
А потом вдруг выяснялось, что совсем он (Бог-то) в другом месте.
Но в том же Царьграде научился Всеволод незыблемой вере в абсолютное добро и зло. Только эта вера и спасала князя от сомнений (каковые сами по себе прелесть диавольская). Утешалка была простая: если он не добро, то, стало быть... зло? Но поскольку этого не может быть, стало быть, всё-таки добро. Так и крутился вокруг столбика.
Князь был безгрешен — грехи брали на себя приближенные. Он так не хотел устраивать резню в Торжке, но эти проклятые смерды... Он так страдал, когда пришлось ослепить рязанских князей, но эти настырные горожане... Он так сопротивлялся превращению Рязани в гору хрустящих головешек, но эти непонятливые бояре...
Ярослав был единственный, кто говорил отцу в глаза: «Признайся — ты этому рад». Добрым остаётся тот, кому посчастливилось стать самым удачливым аспидом, и нет на земле другой «праведности».
Однако как-то раз, рискуя собой, Всеволод не казнил, а отпустил восвояси пленённых рязанских князей. Торжествующе взглянул на сына. Что, мол, съел? «Какая мне выгода с того? »
Ярослав поступка не оценил, беспощадно усмехнулся:
— Ты, батя, прислушайся к струнам своим. Татей-князей отпустил, чтобы снова они набедокурили? А уж тогда с чистым сердцем и лёгким желудком можно сотворить рязанску землю пусту.
Всеволод прикусил губу и отвернулся, ещё бы. Признаваться себе в таком было опасно для души.
Рязанский бунт против отца не заставил себя ждать. Упрятав свою радость в тёмный сундук сострадания, Всеволод жестоко мстил непокорным. Но при этом, как положено, плакал чистыми слезами и сокрушённо хмыкал. Ярослава же (за неуместное понимание) он вознаградил тогда крепко. Посадил — как задницей на кол — княжить в усмирённом вражьем городе.
— Боюсь я за тебя, но если что...
— Не кручинься, — поддел Ярослав тогда отца, больше страх скрывая, чем от дерзости, — зато как приятно будет мстить за любимого отпрыска, как это будет сладко. Око за око.
— Нет в тебе искры Божией, — сетовал отец.
— Зато в тебе тех искр целое полымя. На семижды семь Иерихонов хватит — поджечь, — огрызался сын.
Долго ли, коротко, но стали рязанцы Всеволодовых людей живьём в родную землю закапывать и цепями пеленать. Их можно было понять — положенный в рот кусок не проглотить тяжело.
Нагрянувший со мщением великий князь в который раз орошал всё вокруг обильными слезами, бешено крестился... и поджаривал город на быстром огне, как половчанин — кусок баранины.
Ярослав уцелел тогда чудом. Тем самым чудом, в которые не очень-то верил. Как будто ревнивый Господь вместо того, чтобы покарать, взял его да и спас. Чтоб хоть так в него уверовали. Но не выгорело у Господа и на этот раз. Натерпевшись страхов в блёклом порубе, Ярослав понял совсем другое: ангелы карают куда страшнее демонов, только чужими руками. С тех пор он делил людей на «плохих» и «хороших».
«Хорошие» — это те, кто демона в себе не скрывают и занимаются не добром, а тем, как уцелеть способнее.
Понял княжич тогда крепко, что, если бы отец не искал оправдания перед самим собой, пепла вокруг было бы куда меньше.
А толку — больше.
Тогда Ярослав ещё не знал, что все его рязанские мытарства — это не добро, так — добришко. Добро налегало с Запада с красивыми древними (известными ему со дней учёбы в Успенском монастыре) словами латынов «культура», «цивилизация».
В те же годы, ещё при жизни отца, произошло небывалое. Уклад жизни, зализанный шершавым языком веков, раскололся, обнажив острые края. Все праведники осиротели, ибо еретики-паписты пленили Царьград.
Что теперь делать? На кого опереться? Ежели князь он — то это и его забота.
В Новгороде, где суздальцев не жаловали крепко (и было за что), Ярослав позднее уяснил, что и латыны — не одного камня кусок. Как-то на торговом дворе имел он беседу с доминиканским монахом, которая всё в нём перевернула. Началось с забавного.
— «Домини-канос»? «Псы Господни», что ли? — удивлённо перевёл княжич, вспоминая латынь.
— Можно сказать и псы, — без улыбки согласился чужой чернец, — добрые псы, охраняющие стадо Господне от волков.
— То-то вас, иноземцев, тут псами-рыцарями зовут, — не смог, да и не хотел Ярослав сдержать усмешки, — а я-то думал.
— Для воинов только одна задача: быть псами у доброго пастыря...
— Во-она как, — деланно удивился Ярослав, — стало быть, Господь — псарь. На Руси говорят: «Жалует царь, да не жалует псарь». Как сие понимать? Потому-то вы цареградского царя полонили, что не жалует его высший псарь?
Огромная немецкая челюсть монаха скривилась в подобии назидательной улыбки:
— Князь образован, умеет находить суть. Если откачнётся он от схизмы в пользу истиной веры, Господь, может быть, простит заблудшего.
Тут уж Ярослав не выдержал. Эка он, враз тура за рога.
— Нет, чернец, я — дикий воин. Я волков люблю... за верность, за хитрость, а псы мне не по нутру. Тем более — Господни. Думаю, что Бог — не псарь, Бог — вожак гордых волков... Что, не нравится такое?
— Доминиканцы — это не от «псов Господних», нет, — отвернул монах к примирению. — Они последователи Святого Доминика.
Обнаружив в варваре заинтересованного собеседника, вражий чернец стал увлечённо и картаво вещать по-русски. После третьей доброй чарки перейдя на латынь, он был уже не очень озабочен и тем, что перед ним враг, еретик. Нужны были свободные уши, а уж чьи... какая разница? Но латынь, на свою беду, Ярослав понимал прекрасно (спасибо плётке дотошного отца) и узнал то, что для чужих ушей не предназначалось.
Про Доминика монах говорил много и восторженно, но запомнилось больше всего то, что этот великий проповедник был как-то раз страшно, несмываемо обижен еретиками земли Лангедок. Умолял их Доминик, чтоб сатанинские отродья убили его не «нагло», а «повырывали члены один за другим», дабы в мученическом венце предстать у престола Его. И надо же, эти чудовища не только вырывать «члены» не захотели, а вообще убивать его не стали. И нет бы Доминику обидеться, ожесточиться (тут пьяное лицо монаха покрылось зыбким налётом нежности), а он, Святой, отомстил за издевательство милосердием — запретом на пролитие крови.
Конечно, оставлять еретика и грешника на земле — это совестью своей не дорожить. Ежели ты добр и сострадателен, то не должен спокойно взирать, как гибнет душа. Отправить еретика на Небо чем раньше, тем для него лучше, ибо, совершив меньше прегрешений, он и наказан там будет меньше, но... «Преступно кровь проливать, немилосердно. Огонь, только огонь душу очищает. Тронутых проказой вольнодумства должно сжигать на костре».
Опять же глубоким упущением прошлых времён было то, что позволяла церковь людям раньше, по ротозейству своему, сворачивать с верной дороги, и только потом — осуждала. А надо бы — предотвращать, не пускать, удерживать. Ежели понтифик и слуги его, наместники Бога на земле, то и земными делами управлять их прямая задача, а не безграмотных королей и императоров.
И всё же самое главное не это, а — просвещение. Люди заблуждаются, ибо пребывают во тьме невежества и мракобесия. А стало быть, надо растолковывать высшую истину, смолоду вырвать детей из рук грешных отцов и сажать за школьные парты. И тогда, осенённые знанием, они сами будут следить за своими отцами. Доносить на тех, кого нужно костром выручать.
Надо, чтобы каждый мог учиться, ибо безграмотность порождает вольномыслие.
«Посуди сам, сколь приятно смотреть на древо, ежели листочки на нём — все одинаковы. А в диких кущах каждый в свою сторону расти норовит как сорная трава. Срам. Но ничего, скоро доберёмся и сюда, растолкуем, научим».
Учиться полагалось сперва в школах, а потом — в диковинных университетах (Ярослав оцепенело повторил страшное слово, запомнил). Оказывается, несколько таковых основал папа Иннокентий Третий, а ныне правит в ихнем латынском мире его последователь Григорий Девятый.
Князь кивал, ёжился, подавлял накатившую тошноту и подумывал. Но не о том, куда его завлекал чернорясый, о другом он думал.
Это, значит, вот как у них. Это так, ежели бы здешним попам удлинили волю не токмо плеваться, укорять и проклинать... Вот... пляшут, к примеру, скоморохи, а им не хари-маски можно разбить, как водится, а отправить на костёр. Жалуется жена на излишнюю ретивость мужа на ложе — и его туда же — за блуд. Всякое земное ересью объявить и жечь.
Тут он удивился: как же ихняя земля жива ещё, как в едином благостном хоре с Господом не слилась, ежели у них все такие? Смотрит — ничего. Приезжают иноземцы, сукна свои на торжищах разворачивают, буянят, смеются, девок новгородских таскают за подол.
Стал Ярослав любопытствовать, и оказалось, что далеко не все из них думают так же, как тот монах. Многие считают, что не к лицу церкви лезть в мирские дела, а к лицу оставить эту грязь людям светским. Узнал он и о том, что первые со вторыми уж который год ведут непримиримую войну. Тех, кто за костры, зовут гвельфами, их врагов — гибеллинами. Потому ещё не всех усадили за парты, не всех загнали в эти жуткие «университеты», не каждый ребёнок на своего отца доносит, заколдованный просвещением.
Ярослав прозревал. Да, он сделает всё, что в его силах, чтобы в мире победил грех земной, а не праведность небесная. Он будет уберегать «плохих» людей от «хороших».
Разгуливая по тесовым новгородским мостовым, Ярослав обрёл себя.
Но что он мог — безвестный переяславский князь? Оказалось, то же самое, что и все, — рваться к власти. А что для этого надо? Давно придумано древними — разделяй, поддерживай слабейшего. Отец всё-таки смешон: всю жизнь строил железные терема единства, а лествичное право, по которому великий стол достаётся не послушному сыну, а сопернику-брату, не убрал. Потому не железные терема получились, а песочные, что после смерти рассыпятся? Ну да ничего — будет воля Ярослава — упущение он исправит.
Долгожданные раздоры разгорелись ещё при отцовой жизни и, смешно подумать, с какого угла? С самого светлого.
Если Ярослав был ангелом чёрным, то уж ходячей совестью Всеволода считался самый старший из его детей — Константин.
Всё пошло с того, что Константин встал стеной за гордость древнего Ростова. Кричал Константин, что «ежели мы защищаем Старую Русь, то должно подчинить всё вокруг старинному из городов Залесья. Старинным русским родам власть заповедана, а не скопищу безродных ремесленников владимирских. Это ж надо... Построили в кои веки «владимирский острожок» для защиты того нетленного, что являет собою Ростов, а сей острожек свои ручищи отрастил — не отрезать. А ежели батя опричь того желает Русь завоевать — пусть отдаёт святыни на поругание, пущай Владимир ставит стольным городом. Но чем же мы лучше тогда тех же половцев иль мордвинов? »
Песня Константина была не своя — пел он с голоса ростовских бояр и тамошнего клира, но от того не легче.
Так пролегла первая борозда в тяжёлом споре, стоившем немало жизней. И всё из-за чего? Из-за того что и пощупать нельзя, из-за служения какой-то там «Руси»... Никто не знает, что это такое, но все понимают. С тех пор Ярослав возненавидел эту кровавую химеру, «красно-украсную Русь», сталкивающую людей лбами, А мордвины что — не люди? А меряне? А кривичи? Да выходцами из них пестрит его, Ярослава, разухабистая дружина.
После смерти отца началось всерьёз. Железный доспех, надетый на окрестные земли бдительным Всеволодом Большое Гнездо, затрещал по швам.
За волю, за «древлюю правду» встали все, кому не лень. Сбросили ярмо радостные новгородцы (перекрывая хлебные поставки, отец когда-то поставил их на колени), поддержал давний враг Мстислав Удатный, приглашённый ими на княжение. Зашевелились оцепеневшие города ростовской земли, воспряла живучая, как кошка, Рязань.
Не остался в стороне и братец Константин, под хоругви которого слетались недовольные старыми (точнее, новыми, установленными Всеволодом и Андреем Боголюбским) порядками.
Люди радовались освобождению от тирана, как весеннему солнышку, только Ярослав всё больше мрачнел. Да, все хотели жить своим умом, но не видели в упор доминиканских костров, наползавших с запада.
И, кажется, только Ярослав понимал: коль так пойдёт, взрастут и здесь бледными поганками хищные «университеты», превращающие живой разум в мёртвую вязь латыни. Не иначе настанет рай наяву — не в грёзах.
Что делать? От любого чудовища одна защита — другое чудовище. Ярослав готов был стать таким.
Надеясь когда-нибудь отстоять свободу греха, должен он был теперь поддержать брата Георгия, смотревшего на власть, как свинья на лакомый кусок. Вышколенное войско отца вместе с Владимирским столом попало в руки именно ему. И неспроста. Владимир был единственным городом, не разделявшим всеобщую радость. Он распух на чужой беде.
От отца Георгий унаследовал только самое человеческое — властолюбие. Но именно такой Ярославу и нужен был.
Чем бы ни кончилась пря между старшими братьями — ослабнут оба. Но главное в другом: чем большими злодействами запятнает себя Георгий, тем больше народа поддержит Ярослава потом, когда настанет пора оттеснять брата от кормушки.
Но в какой голубой дымке это «потом»? Да и будет ли оно?
А пока, в битве на Липице, скрестили мечи ростовский зануда-книжник Константин (за плечами которого маячил Мстислав Галицкий) и владимирский ненасытный шкурник Георгий, за спиной которого стоял его брат Ярослав.
В случае победы Георгия, в которую Ярослав не верил (слишком неприкрыта для всех была алчность брата), он намеревался отторговать себе Новгород с Киевом. Это будет мудро и осмотрительно. А глупый Георгий пусть тешится великим княжением, пусть сидит на змеином клубке. Долго не усидит.
На Липице суздальцы резались с новгородцами. Всей душой Ярослав был на стороне врага. Желая спасти возможных соратников потом, пришлось убивать их сейчас. Убивать для того, чтобы когда-нибудь возглавить уцелевших.
Князь не любил вспоминать ту злополучную резню. Смердов с обеих сторон полегло немереное множество, а победил, как и ожидалось, Константин.
Расстроило не это, другое расстроило. То, что оба со перника-брата уцелели.
После поражения Георгия опечаленный Ярослав сглупил, как младенец, у которого отобрали игрушку. Вместо того чтобы вежливо сдаться, он долго отсиживался букой в своём Переяславле. Теперь стыдно и смешно вспоминать. Это сидение было несвоевременное и неумное.
Однако Константин прокняжил недолго. Прибрал его к себе Господь, которого тот так почитал. Мог бы и раньше прибрать. Всех бы благочестивых сразу на Небо, чтоб тут, на земле, взор не слепили.
Дальше всё складывалось как нельзя лучше. Георгий был необходим для грязных дел, светлые же и героические Ярослав потихоньку подгрёб себе. Был бы Ярослав великим князем, пришлось бы самому успокаивать восстания «поганой» мордвы и мери, отбивать нападения булгарских людоловов, гасить недовольство смердов, городские смуты и всякое такое прочее. Вся эта неблагодарная, но необходимая суета не прибавляет любви к «сильным мира», а непокорных — укрощает. А народ, что народ? Он всегда слагает хвалебные песни о тех, кто борется с врагом внешним, и ненавидит борцов с внутренним врагом.
То есть с самим собой.
Прежде всего нужно было мириться с новгородцами, затаившими обиду ещё с тех пор, как Ярослав стоял против них на Липице-реке. Но он знал, какую струну задеть. У новгородцев как раз были большие неприятности.
На землях покорённых чудинов построена была ещё во времена Ярослава Мудрого крепость Юрьев. Сидели там искони тиуны из «господина-града», грабили и обижали беззащитную чудь, свято соблюдая древлюю традицию Рюриковичей — «собирателей» земли. Так же как владимирцы терзали мерю и мордву, новгородцы развлекались здесь.
Всё знакомо до боли. Но с Запада медленно продвигались захватчики новые — немцы и датчане.
Когда кто-то у тебя на шее слепнем примостился и лакает кровушку, кажется, что уж хуже ничего не бывает. Поэтому встретили чудины немцев и шведов поначалу радостно, как избавителей от неволи новгородской. Старых русских нахлебников немцы не щадили. Под улюлюканье старожилов развесили их по окрестным перекладинам.
В Новгороде всполошились. И было с чего. Так близко латыны ещё не подбирались никогда. Для князей, желающих обрести симпатии Новгорода, появился удобный повод это сделать, немцев от Юрьева отогнав. Тут нужно было не зевать. Предлагал свою помощь старый враг Мстислав Удатный, который когда-то на Липице вёл тех же новгородцев на его, Ярослава, полки. Согласись новгородцы на его услуги, одержи они над немцами победу — и прощай Ярославовы объединительные надежды.
Повернулся бы Новгород к Залесской Руси задом на долгие времена.
Это даже неповоротливый братец Георгий смекнул, а Ярослав не возражал. Знал — всё равно толку не будет. Лезь, пробуй, ломай гнилые зубы.
Своей вышколенной дружиной Ярослав брату не помог — не для того вскормлены хорты, чтоб другой с ними охотился.
Под Ригой (нашёл куда лезть, как медведь на рогатину) братец был разбит. Думалось — уймётся глупый гордец, так нет — себе же на горе не унялся. Верных владимирских дворян за чужой интерес перемолол, так теперь сгонял под хоругви смердов.
Смерды догадывались, чем заканчивается воеводство Георгия, свежа была в памяти не к ночи помянутая речка Липида. Шли землепашцы в поход неохотно и правильно делали — и это воинство угостили немцы до икоты.
И Ярослав решил — пора показывать, кто есть кто на Руси.
Действовать нужно было с умом, ведь дело было не только в немцах. Что-то распоясалась в последние годы Литва... та самая, разноплеменная, безнадёжно «поганая», которую они, Рюриковичи, в лучшие времена разве что на четвереньках ходить не заставляли. Впрочем, ещё не так давно (и полвека не минуло) дальний родственничек по линии Мономашичей Роман Волынский запрягал литовцев в плуги вместо скотины — всё это было.
И вдруг эти лесовики столь обнаглели, что исцарапали набегами новгородцев и псковичей, смолян и полочан. Какой-то там князёк-кунигас по прозвищу Миндовг сколотил настоящее войско. Да такое, что и немцев из ордена покусывает, чудеса.
Той своей интригой Ярослав законно гордился. Он не полез на немцев нахрапом, как братец, нет. И то сказать, его дружина рождена была не для геройства — для мастерства. К восторгу капризных, не падких на похвалу новгородцев он не только разбил, наконец, рыцарей ордена в одном из сражений за Юрьев, но... заключил с ними мир и заманил с главным войском (против которого не устоял бы сам) крушить зарвавшуюся Литву, чтоб хоть немного немцы ослабли.
Одних врагов бил руками других. Такие вещи купеческий ум Нова-Города без похвалы оставить не мог.
И тут произошло чудо... Такого не ожидал никто. В Литве, под Шауляем войско латынов РАЗБИЛИ... начисто. А о них споткнулся его братец. Чего не могли новгородцы, совершили эти юркие дикари. Тут было о чём задуматься. Так или иначе, как сказал несколько веков назад их дальний родственник Мстислав Тмутараканский: «Вот немец лежит, вот — литвин. А своя дружина цела». А может, он такого вовсе не говорил?
Такая война Ярославу понравилась. Новгородцам тоже. Старое было забыто, больше того — впервые за долгие десятилетия боярское вече приняло князя из рук ненавистных суздальцев, не покоряясь силе, а добровольно.
Всё шло, как надо. Георгиева звезда закатывалась, а его — Ярославова — вырвалась из тумана. Оставалось свалить соперника и... с весёлым пирком да за княжение владимиро-суздальское. А там, глядишь, и до киевского рукой подать.
Но как? Неужели опять затевать междоусобную прю?
Он-то в ней победит, спору нет, но победа эта будет незаконна. Войско-то у братца слабое, но церковь, будь она неладна, церковь осудит, И это очень плохо. А кинжал, а зелье? Кто ж не догадается, откуда ветер дует?
Нет — Ярославу надобна безукоризненная слава, нечего уподобляться всяким там рязанцам. Нужно, как с немцами, — чужими руками.
А ведь чудеса иногда случаются. Вот, скажем, появились как-то раз откуда ни возьмись племена неведомые — «гоги и магоги», а по-иному — татары. Пришли, как ангел с небес на Калку-реку, и очень пособили... Пособили и пропали. Тогда, на Калке, были подорваны силы их южных и западных соперников. Был обескровлен Мстислав Удатный, который вёл в своё время на них с братцем Георгием новгородские полки. Поредели войска несносных, неугомонных галичан и черниговцев, с кем вечно грызлись за Киевский стол.
Сидел Ярослав в надоевшей переяславской горнице, мечтал о невозможном. Вот если бы сейчас пришли те самые татары да избавили его от неудобного брата. И от опеки владимирской холуйской дворни-дворян.
«Вот если бы... уж я бы... Но чудеса — это чудеса».
И вдруг...
Боэмунд и Ярослав. 1238 год
— Ты — человек Батыги? — догадался Ярослав, его поросшие бородой скулы напряглись.
Боэмунд едва заметно кивнул.
Хозяин посмотрел на гостя, будто видел его впервые, так оно, по сути, и было.
— Что ему надо? — неприязненно бросил князь через какое-то время. Видно было, что его застали-таки врасплох. От его покровительственного радушия не осталось и следа. Теперь он выплёвывал слова резко, рубленно.
— Я не переветник — лизать сапоги не буду. Придёте с ханом зорить мою землю — выйду с вами на рать. Уезжай, я не родился рабом, так и скажи своему господину.
Кроме нахлынувшей на князя законной неприязни в этой круговерти чувств были, конечно же, и простая человеческая обида и разочарование. Этого-то Боэмунд и добивался.
Гордые, угловатые в своей чеканности слова (выскочившие наружу, как заснувшая не вовремя стража) в обстановке официальной были бы твёрдым решением Ярослава-князя. Такое — переиначить невозможно. Иное во время застолья, где эта неуместная гневная отповедь выражала обиду Ярослава-человека.
Но высказанная обида желает быть успокоенной. Тут надо действовать быстро. Пока не дошло до трезвеющего ума, что обижаться-то не на что. Не на маску же, в которую облачился твой враг.
Лицо Боэмунда приняло самое искреннее, самое беззащитное выражение, на которое он только был способен. Боэмунд заговорил быстро как заклинание, заговорил таким тоном, каким парень уверяет девушку, что вовсе не заглядывался на её подружку.
— Мой хан не ищет рабов, что в них проку — это товар, а не живые люди. Он ищет друзей. И, поверь, не желает зорить Бату твои земли. Больше того, если ты придёшь на помощь своему брату, — мы погибнем. У нас просто не хватит сил на войну с вами. И ты своими же сапогами растопчешь великое будущее. — Гость резко, как ударив витнем застоявшегося коня, вдруг изменил тон: — Но помни, Ярослав, ангелы никогда на являются одному избраннику дважды. Их крылышки очень неж ны и не любят грязных подошв.
Князь слегка опешил. Признаваться врагу в отсутствии нужных для борьбы против него сил — это очень странно. Кто же, вторгаясь в чужие земли, лепечет о своей слабости? Что-то было не так.
— Какое же у меня великое будущее? — прищурился хозяин.
— Держать в руке своей всю Русь, всю Русь от Киева до лесов мордовских, — спокойно высказал гость незамысловатые чаяния хозяина.
— Уважил ты меня, Ахмед, насмешил. А что твоему хану останется? Кости? — Ярослав не скрестил свои мутные уголья-очи на точке меж бровями, но Боэмунд и без того закачался на воображаемых волнах неумолимой реки.
Важно было то, что не пропало желание у Ярослава спокойно говорить дальше. Причём уже знал он, кто перед ним.
Отчаянно барахтаясь, Боэмунд невпопад выпалил заготовленное:
— Все мы не вольны в поступках своих. Ты — не самодержец, и хан мой — лишь простой полководец великого Кагана. Он не хочет твоей земли — желает свободы себе.
— Уж больно ты вёрток, говори яснее, — увеличил силу течения князь.
Что-то Боэмунд делал не так, потому что отчуждение, казалось, снова нарастало. О Боже, что сейчас было совсем неуместно, так это усталость. Совсем вдруг стало непонятно — кто кого выводит на чистую воду, кто кого искушает? В первый раз в жизни Боэмунд не почувствовал своего превосходства и испугался всерьёз. То, что он пытался дальше лопотать, не влезало ни в какие доспехи. Что бы он ни выкручивал, всё получалось безнадёжно, сбивчиво.
— Яне зря именно к тебе пришёл... У нас — общие враги, так почему бы нам не стать друзьями? А помощь скоро понадобится тебе, ох скоро.
Лазутчик неожиданно для себя вытер со лба холодный пот, чего уж точно делать нельзя ни под каким видом.
— Ну, говори, — на глазах трезвел князь.
И вдруг на Боэмунда что-то снизошло...
Отбросив уловки, он рассказал всё без утайки — о себе, о Бату, о тех смешных и горьких причинах, которые привели Боэмунда в эти палаты. Он так, оказывается, устал лгать, что теперь наслаждался возможностью говорить одну только правду, и ничего больше. «Вот та наживка, на которую ловят народ христиане всех стран, — жажда исповеди». Только сейчас глотал крючок сам рыбак.
Похоже, этот князь неплохо читал по лицам. Кривляться перед ним было не только противно и, может быть, даже опасно.
— Да, Ярослав, я слуга Бату, но не слуга монголов. Это не одно и то же.
— Твой Бату — изменник? — всматривался в мнимого святого князь.
— А братец твой, Георгий, когда латынам через монахов угорских сведения про монголов пересылал — не предупреждал ли, не укреплял более страшных врагов? Это ли не измена? А когда булгарских беженцев во Владимире привечал — это ли не измена? Ведь за укрывательство врагов мы, монголы, мстим. Булгаров пожалел — через то своих не сберёг. О чём он думал тогда? Как ни живи — чему-то всегда изменяешь? Ни на одну кочку ногой не наступив, болото не перейти. Так ли, княже?
— Да, это так, — опустил глаза Ярослав, — всё правда...
Бату и Боэмунд. 1238 год
Давая отдых войскам (кроме отрядов, рыскающих по окрестностям за сеном), джихангир медлил с выступлением. Боэмунд опять, как уже бывало, пропал, и Бату привычно тревожится.
Через неделю главный лазутчик привёз ожидаемые сведения. Оказалось, не зря Бату сдерживал поводья.
— С Георгием Всеволодовичем мириться нельзя. Это всё равно что тушить жиром костёр... Мало нам Гуюка и Бури?
— Не мало, можно и выплюнуть, но при чём тут Гюрга?
Боэмунд задорно тряхнул отросшими космами:
— Будем друзьями этого самого Гюрги — больше ни с кем не сговоримся. Мир с ним — это мир с прокажённым... И его не спасёшь, и у самого кожа отвалится.
— Неужели с ним всё так безнадёжно?
— Спешил, коня едва не загнал. Всё думал — не вытерпишь, будешь с Гюргой про «габалыки» сговариваться. А он меж тем на том лишь держится, что и враги разобщены.
— Вот так-так... И за что же ему такая любовь?
— У кого как: каждый свой камень под полой лелеет. Кривичи, что на север тянут, у кого там родня или какой интерес торговый, не забыли, как он Новгород хлеба лишал. Меряне и мурома — как он их крестил мечом да арканом. Рязанцы — как его отец их город дважды до головней палил.
— Это хорошо насчёт рязанцев, — обрадовался джихангир, — стало быть, пусть уцелевшие из них одумаются и помогут нам свалить их настоящего врага. Глуп твой Георгий. Грабить тоже нужно с умом, — назидательно пояснил Бату. — Или уж истреби под корень, или дай уцелевшим надежду...
— То-то и оно, Георгий — грабитель глупый. Важно, что урусуты в здешних местах — чужие пришельцы вроде нас... только хуже. Мы-то уйдём, а эти на шее останутся. Вот и укрылись от недовольного народа за стенами каменных городов. Потому как только грабят, а взамен от них — что шерсти со змеи.
— Это хорошо...
— Даже и того лучше. Нету и меж городами согласия. Вот, скажем, Владимир и Суздаль. Когда-то Суздаль за старший город был, ещё не так давно суздальцы с рязанцам вместе против Всеволода Большое Гнездо за вольности свои боролись, вроде как родовые нойоны против Темуджина, — но шеи всё же склонили. А перед тем — Ростов в этих землях главенствовал.
— Чудно всё это. Меняют столицы, будто шах сартаульский халаты.
— А дело тут вот в чём: кого наместником ни поставь — рано или поздно корни пустит, будто палка в почве плодородной. Вот и начинают наместники больше князя великого владимирского местных жителей слушать. Туда-сюда ушами похлопал — глядишь, и дружина семьями обросла, детьми... Тут и князь им больше не указ. По столу уже не стукнет — враз руки отобьёт.
— Всё это хорошо, — одобрительно качал головой джихангир, — думать будем.
— Айв самой столице — лучше ли? Вольности под самым боком скребутся тараканами. Вот и приходится стольный город менять, как тот дырявый халат. А что делать, ежели подданные тобой недовольны и козни строят, ежели ты для них — загребущая рука далёких кровопийц? А у нас иначе ли было? Вот, скажем, отец твой Джучи... Едва удел получил — и тут же стал с Темуджином препираться. Вот и думай.
— Уже думал... Нужно не наместников заводить, а так всё устроить, чтобы наша власть для здешнего князя не в тягость была, а в выгоду. Иначе и мы будем прыгать как саранча из столицы в столицу. Этого Темуджин недодумал. Ну да ладно. Кто такой Савалд — Большое Гнездо? Уж не отец ли Гюрги?
— И ему, и ещё многим сыновьям. Тех нойонов-бояр, кто раньше сюда пришёл, склонили они копьём к покорности. С тех пор Владимир — княжеству голова. Да только тело у той головы непослушное — меж сыновьями, как водится, согласия нет. Из здешних раздоров — этот раздор для нас, похоже, самый важный.
— Поясни, — раззадорился Бату.
— Всеволод сделал ту же глупость, что и Темуджин: всюду своих правителей понаставил. И нам придётся поддержать кого-то из них. Выбирай...
— Рассказывай...
— Теперь у Георгия есть два врага. Один давний и непримиримый — это ростовчане, они ещё не забыли, что когда-то главенствовали. Эти тут больше других про росли, да вот только на рожон не полезут, больно корни длинные неповоротливые. Им бы, ростовчанам, сидеть да о старине беседы вести, слушать, подперев хмельную голову здешних улигерчи — баянов. Главное — чтобы самих не трогали, не ворошили, чтобы принесли в их земли долгожданный покой, — Боэмунд лукаво сощурился, — вот это, я думаю, будут тебе габалыки — «добрые города». Ростовчане, слава Богу, не рязанцы. Их Владимир и Чернигов не таскают каждый на себя, как одеяло в мороз. Ростовчане — люди тихие и степенные, ревнители — как тут говорят — «древлего благочестия». Но ежели им жизнь менять, как это суздальцы вечно норовят, — не будет врага непримиримее таких вот степенных. Такие мягко стелют, да жёстко спать.
— Вот и нужно себя вести так, будто мы сюда за тысячи алданов для того и явились, чтоб за покорность покой продавать. Пускай корма и лошадей предоставят — и живут себе, как жили... Мы и воинов у них брать не будем, ежели поведут себя по-умному, по-степенному. Радуешь ты меня, Бамут. Договоришься с ростовчанами — великое дело сделаешь. Проси тогда, что хочешь.
— Уже почти договорился.
— Да ты что? — встрепенулся Бату. — Как же тебе такое удалось?
— Это долгая песня, джихангир...
— Это ничего, пой свой улигер. Я не заскучаю, как разжиревший кот на празднике, да и мало похожи на праздник здешние наши похождения...
— Ну так слушай, повелитель... Двадцать с лишком лет назад ростовский князь Константин — ещё один птенец того же злополучного гнезда, а иными словами, очередной сын Всеволода — сошёлся не на жизнь, а на смерть со своим братом Георгием за власть на этих землях... Одних погибших в той битве на Липице был целый тумен. Та сеча закончилась полной победой Константина Ростовского. С его стороны воевали тогда новгородцы — Константин не стремился, как Георгий, подмять их земли под себя. Был там и старый знакомый Субэдэя галицкий Мстислав. Он-то как раз возглавил в этой сече новгородцев, потому что был их князем...
— Это тот самый Мастиляб, который рубил ладьи при отступлении: пропадай, мол, войско — лишь бы самому спастись.
— Тот самый... А ещё он был среди тех, кто перебил тогда Субэдэевых послов...
— Так на нём проклятье Мизира, и на Галиче, где правит его родня. Хорошего ты союзничка мне сыскал, Бамут. Да и потом: каков же был Георгий, если даже этот горе-полководец с ним расправился?
— На всё это я тебе вот что скажу, анда: в Галиче его родня не правит, там совсем другая кровь сейчас в ходу, а Мстислав давно в преисподней. Кроме того, не он нам сейчас интересен, а Константин Ростовский. Его с новгородцами что роднит? Георгий хочет править сам, а мешают ему здешние нойоны-бояре... и ростовские, и новгородские. Свою власть бояре проталкивают через вече — собрание местных влиятельных людей. На самом же деле правит серебро. Народ в здешних местах за того горланит, кто его купит или кто его обдурит... Георгий же хочет, чтобы всё было не так.
— Чтобы народ и в Новгороде, и в Ростове горланил за того, кто ему прикажет...
— Нет, он хочет, чтобы народ вообще молчал и гнулся в покорности... А лучше того — и с места не сдвигался без княжеского ведома. Всё бы хорошо. Да вот беда — помер ростовский Константин. Георгий вернул себе великое княжение и уж тут разгулялся: досталось от него боярам и ростовским, и новгородским — ужо припомнил он им разгром при Липице. Детей Константина он ненавидит, а те о том только и мечтают, чтобы от Юрия избавиться.
— Что... все?
— Василько тебе понравится. Да вот беда: женат он на дочери князя черниговского, и с врагами своего зятя не сговорится — уж больно гордый. Зато его брат Владимир... вот с ним-то я поладил.
— Чего хочет?
— Того же, что и ты... Чтоб Ростову вольности сохранить и не зорить, да ещё чтобы мы Владимир порушили...
— Рассчитаться с Георгием желает?
— Не без того, да не в этом суть. Владимир разрушим — Ростов воспрянет. Но войска они нам не дадут...
— А корма?
— Корма дадут, ежели их земли зорить не будем, а владимирские, напротив, пожжём...
— Ну что ж, Бамут. Быть по сему...
Бату улыбнулся: эко ловко анда всё повернул: выходило, что разрушение Владимира, в котором даже веча не было — давняя мечта очень многих. И за это его не проклянут, но, того и гляди, благословят. Правда, не вслух. С этим он уже встречался. Вслух его далее ростовцы проклянут — дабы подозрения от себя отвести.
— Но драгоценности в моём сундуке на этом не кончились, — продолжил соглядатай.
— Это ещё не всё? Ну, так рассказывай!
— Много лет Георгий Всеволодович сражался в этих землях со всеми подряд, и помогали ему в том не бояре, а дворяне, дворня — меньшая дружина. Те, кто без него никто — простые неприкаянные разбойники. Если ты ещё не понял, повелитель, — продолжил любивший сравнения Боэмунд, — бояре — это здешние родовые нойоны, а меньшая дружина подобна тем людям длинной воли, которые мельтешили вокруг Темуджина.
— Бамут, помнишь, давным-давно в горах Маркуз рассказывал нам, что Темуджин со своими разбойниками ничего бы не сделал, если бы его не поддерживала несторианская церковь?
— Вот именно. Георгий со своими безродными разбойниками из «меньшей дружины» был бы давно раздавлен, если бы мелькиты («православные» по-здешнему) не оказывали ему всяческую поддержку. Всё бы так, да вот беда: после того как латыны взяли главный румийский город, они и сами хромают на обе ноги...
Собеседники замолчали, погруженные в общие воспоминания о своей юности. Там, в горах Прииртышья, тоже были сосны. Но там они карабкались вверх по склону, здесь — лениво всосались корнями в равнину.
— Знаешь, как называют эти земли? «Украина Залесская», а жителей — украинцами, — вдруг, как бы не в связи с предыдущим, спросил Боэмунд.
— Ну и что? Мало ли окраин?
— Видишь ли, я подумал о наших несторианах... Прости, Бату, я не хочу тебя обидеть, но урочище Делюн-Болдох, где зародился твой род, был глухой окраиной могущественной державы джурдженей...
— Увы, это так, но почему ты об этом вспомнил?
— Почему несториане поддержали и возвеличили Темуджина — человека окраины... — Боэмунд невольно посмотрел на Бату тем взглядом, какому научил его Маркуз. Механически свёл глаза на воображаемой точке на лбу. Вздрогнув, преодолел искушение превратить друга в ведомого... Нет, этого он делать не будет. С усилием опустил глаза вниз. Нет, этого он делать не будет... никогда.
Бату, кажется, ничего не заметил, но мысли обоих поскакали стремя в стремя. Или за долгие годы их мысли научились пастись на одних полянах?
Джихангир нахмурился, как всегда при упоминании Темуджина, заговорил медленно, с усилием... То, о чём он сейчас подумал, подсказывало ему очень верный, но страшный путь.
— Загадки тут нет, Бамут. Кого гонят на окраину? Недовольных, обиженных, ненавидящих...
Бату вспомнил, как восставали племена против молодого Темуджина, вспомнил, как искали они поддержки у иноплеменников-найманов, и тут его осенило. Не выступить ли и здесь, на Руси, в роли найманского хана? Тем более что Темуджина и Георгия сближала почти всеобщая ненависть ревнителей старины. Правда, была и разница: Темуджин был умён, а Георгий, похоже, непроходимо глуп, да ещё к тому же и жесток без надобности. Кроме того, он не умел привлекать к себе людей, кто мог бы стать для него опорой, как стали опорой для Темуджина «люди длинной воли».
— Всё бы хорошо, Бамут, но нет у них своего Темуджина, того, кто вовремя поднёс бы мне соболью доху, как мой дед — хану найманскому.
— Не ценишь ты своего слугу, джихангир. Стал бы я с тобой беседу вести, если бы уже не нашёл такого «темуджина»...
— И кто же он? — встрепенулся джихангир.
— Строптивый брат Георгия, переяславский князь Ярослав — вот как раз тот, кто нам нужен...
— Вижу, ты хорошо поработал, анда...
С лицом купца, раздающего родичам долгожданные дорогие подарки, Боэмунд пояснил:
— С чего начал борьбу с родичами твой прадед Есугей? Он растил вокруг себя не рабов и блюдолизов, а повёл ретивую молодёжь в военный поход на врага за добычей. То же самое делает Ярослав... Теперь у него есть закалённое в походах войско.
— На нашу голову, — подсказал Бату.
— Будем глупцами — будет и на нашу. Георгию был нужен богатый Новгород — так он расположение новгородцев угрозами завоёвывал, хлебные поставки перекрывал. Вот и подумай, что из этого вышло?
— Догадываюсь, а что придумал твой Ярослав?
— Самое правильное. Он предложил новгородцам защиту от соперников-латынов и от разбойников-литовцев. И тут же в Новгороде у него появилось много союзников. Вот и думай, он хочет власти, чтобы «защитить», а Георгий — чтобы ей упиться. Георгий прохлопал подходящий момент, и всё мужское население, способное держать меч, переметнулось — не только, кстати, от Георгия Владимирского, и от Юрия Рязанского — к Ярославу. Этот «Темуджин» удила на воинов пока не надел — и они выбирают князя по своему хотению. Добычу делит по справедливости, а главное, так всё устроил, что попасть к нему в дружину — большая честь. Абы кого не возьмут. Правда, он никому и не отказывает. Крутись, учись, там видно будет... А службы в Переяславле достаточно. Вот так и границы уберёг, и надежду смердам подарил.
— Берикелля, — понравилось Бату, — так с кем же мы воевали под Пронском и Коломной? С огрызками? С теми, кто для Ярослава не сгодился и в конюхи? А наши-то перья распустили, багатурами себя почувствовали, дурачье. Думали, что урусуты все такие. А оно видишь как. Уважил ты меня, Бамут, ох уважил.
— Выходит, что так, — вздохнул соглядатай, но не больно-то печально...
— Только ты тоже не слишком радуйся, ни Владимир Ростовский, ни Ярослав Переяславский своих войск в подмогу всё же не дадут.
— Вот и зря. Имели бы добычу и милость мою...
— Ростовские князья всё-таки Георгия больше, чем нас, боятся. Все тут думают так: татары смердов да ратаев пожгут и удалятся восвояси, а нам тут жить. Не больно-то верят они, что ты сумеешь Георгия бесповоротно завалить. А хитрому Ярославу воины для другого нужны. Литва напирает на Смоленск, глядишь, и сюда доползёт — эти, если придут, так не уйдут. А в Новом Городе он люб, пока его от латынов спасает, да всякую пену удалую с новгородской похлёбки соскребает. Без войск — какой от него прок, он на том и держится. Уже то хорошо, что против нас воевать не станет...
Бамут задумался, добавил:
— Впрочем, есть у нас один общий с Ярославом враг — Михаил Черниговский. Ежели мы Георгия свалим, вот тогда он нам и Михаила свалить поможет. Но не вдруг, а когда руки от насущных дел развяжет.
Бату понимал, что военная поддержка Ярослава — это уж будет везение через край — и на том спасибо, что Боэмунд опять отвёл опасность.
Не стоит забывать: Ярослав, окажись он в числе врагов, — большая беда. Он не из тех, кто оцепенел бы от успехов монголов в Рязани. Если бы этот коршун поддержал своего рыхлого брата, грандиозный набег Бату захлебнулась бы ещё на землях Георгия Всеволодовича. Так или иначе, но бои с Ярославом, в которых не пришлось бы надеяться на глупость противника, обескровили бы войско.
Скорее всего, не хватило бы сил для рывка на юг через земли черниговские.
Выходило, что Бату придётся воевать с Георгием в одиночку, но только с Георгием. И то ладно.
А тот факт, что Ярослав и ростовчане обещали поддержать их кормами и пищей (а может, где и воинами) — тоже дело не из малых. Значит, в Переяславле, Ростове и Угличе он, Бату, найдёт тёплый приём, если, конечно, не будет трогать местных жителей.
Так Бату получил целое созвездие «габалыков», о которых давно мечтал.
Бату. 1238 год и далее
Однообразные заботы... как накормить коней, как людей? Он чувствовал себя взбесившейся лошадью, тщетно бьющей копытом по снегу — травы всё нет... Такое снилось тогда.
Озверевшие отряды рыскали по лесам, обгладывали деревни, как лоси осиновую кору, едва не вырывали сено изо рта здешней пришибленной скотины. В лесу они были, словно верблюд в кустарнике. Бату часто благодарил Небо за то, что погасили факел Коловратова отряда — вот бы где тому развернуться.
К счастью, сопротивление было слабым.
Ульдемирский коназ, как доносили мухни Бамута, не доверял и тени своей, потому натыкался на острые углы то там, то здесь. Как часто свойственно людям, смакующим сладость жестокости, Георгий был безоглядно храбр, только если верил в успех. Но стародавнее поражение на Липице загустило на долгие годы и без того ленивую кровь. Ведь тогда он никак не предполагал, что будет разбит. Георгий и теперь — до стука судьбы по загривку — верил, что удастся избежать самого худшего... войны в своём княжестве. Верил не потому, что так должно быть, а просто иного рассудок не допускал. Кто же его в этой войне не поддержит?
Сына Владимира с войском он послал в Коломну, отводя глаза, стыд втихаря за пазухой уминая. Даже себе боялся признаться, что родную кровь на заклание отдаёт, чтобы хоть немного задержать врага и успеть сбежать. Остаться со своей дружиной во Владимире он тоже не решился. И город, и семью бросил преследователям, как волк на бегу бросает украденную овцу.
Чувствуя, что и свои и чужие против него, Георгий бежал на Сить, как бежит обессиленый олень, уже не думая — куда, а только — от кого. На Сити тяжело отдышался, прикрылся поволокой из слов о «сборе войск для окончательного отпора».
Его дворяне осоловели: войско?! В мордовских-то лесах? Где извилистые тропки помнили, как тянули по ним княжьи гридни сникших полоняников, где, впитывая сладковатый трупный запах, тлели на месте селений тусклые уголья.
Шесть походов на Мордовию отшагал Георгий. Подумал, что там о его светлых подвигах во имя Христово забыли?
А где ещё собирать? Где растоптанному чувству островок? Только в домовине?
Скоро, скоро уже и туда.
А сердце-то, сердце-то, последний изменщик, попрыгало, попрыгало карасём на сковороде, да вдруг изжарилось, покрылось румяной корочкой равнодушия. Ладно бы к себе, но и к людям своим последним.
Он даже не позаботился о «стороже», а его гридни, привыкшие к тому, что любая вольность им дозволена, — сами не почесались. Из «людей нарочитых» сохраняли ему верность лишь те, кто, как и он, были забрызганы чужим горем по острие шелома. Люди, подобные его брату — Святославу Юрьев-Польскому.
Полки Георгий раскидал кляксой по окрестным деревням — не собраться по тревоге. Втайне желая, чтоб быстрее «всё кончилось». Ждал занесённого ножа, как казнимый перед ямой, и дождался.
Местные жители — из мордвы — охотно указали темнику Бурундую, посланному Бату вдогонку за князем, куда тот забился.
Когда появились монголы, Гюргу никто и защищать-то не захотел. Монголы Бурундуя скакали вдоль реки и рубили бегущих.
Так угас, будто уголёк, небрежно брошенный в снег последний великий князь вольной Руси — без славы, без почести... Остался в истории как «мученик нашествия».
Но не только такие, как Георгий, были в Залесье. Неподалёку, в Ширенском лесу «родственные души» Делая пленили ростовского князя Василько.
Витязи торжествуют в сказаниях, а обычная жизнь, где царят благообразные шкурники и хищные подвижники, обычно оставляет им только один грустный выход — показывать своей короткой и яркой судьбой, что ничего хорошего из благородства не получается.
Ничего, кроме бесплодной зависти юнцов и тихой ненависти взрослых. Такими восхищаются потомки — от таких шарахаются современники.
Не за то ли, что сами такими быть не в силах?
Василько был женат на Марии, дочери Михаила Черниговского. Жили супруги хорошо, в звёздных вспышках молодого чувства. Выгибая стройные ноги, скакали по жизни вороные кони их неправильного счастья...
Но тесть его, Михаил Черниговский был всеобщим врагом — упёртым, непримиримым. Врагом ростовских Константиновичей, свято уверенных в том, что кисло ныне на Руси, ибо брезгают «древлим благочестием»; врагом владимирских Всеволодовичей (и рыхлого, сквалыжного Георгия, и литого, с кабаньими клыками Ярослава); врагом татар (ибо половцев другом); врагом киевлян, потому как на Киев замахивался не раз, и не только замахивался.
В ростовской своей вотчине воспалённый, горячий Василько столкнулся с болотом всеобщего «единства в трусости», которое как мечом ни руби — снова гладью затянет. «Вестимо, нужно покориться Батыге», — вещало и рассудительное вече, и смирный, степенный народ... «Мы тебе не Рязань косопузая». К татарам тут — почти с симпатией. Те наказали сволочной Владимир, (ой, любо). Церкви не зорят, а вовсе даже наоборот — голова с плеч тому, кто кощунствует. Святые отцы очень татар хвалили: и за кару владимирцам «за грехи», и что к ним, к ростовцам, татары со «леготами».
О таких настроениях в меру скромных сил загодя позаботился Боэмунд со своими людьми.
«Не об вере, не об земле родной печётесь! Сундуков, теремов своих жалко! Ладно Углич, но вы...» — хрипло распалялся Василько. На площади весь в дыму морозного воздуха, он укорял, позорил.
«А ты о сучке своей черниговской, — огрызались шавки из толпы, — гордыню тешишь, город под топор отдать готов. Георгию Горынычу, что в слезах наших столько лет, подол целовать... Эх...»
Он в раже топал сафьяновым сапогом, разухабисто клялся, но оседала в груди гордая правда, которую и не выскажешь... И крикнуть хотелось, мол, «да», из-за неё не токмо город этот родной, а и Бога бы отринул. Родню жены, любимого её отца не мог Василько предать.
Показали бы князю «вон», но не стал ждать и сам. Плюнул презрительно (скрывая тем смущение), да и ушёл из не оправдавшего его надежд Ростова.
Ушёл на Сить не воевать — умирать.
А город... Что город? Сдался Батыю и вымолил зыбкую пощаду.
Василько и другие. 1238 год
С преданной своей дружиной (сливками лихой ростовской юности) жаждал князь Василько хлебнуть чистой воды боев. Всё бы славно, но вот Георгий Суздальский, союзничек невольный, был, как крошки в постели. И противно, и не отлепиться.
Несмотря ни на что, слаженный отряд Василька проявил древнюю доблесть, но второго Евпатия из него не вышло.
Желая жить — ещё поживёшь ли, стремясь умереть — умрёшь всегда.
То обстоятельство, что примкнул он к Георгию отыграло-таки граблями по гордому лбу — уж лучше бы один воевал, со своими.
Бату с трудом удалось захватить его живьём (в Делаевой сотне — потери), но вышло, что зазря. Ему предложили (как и Евпатию когда-то) перейти на сторону татар, но Василько предпочёл высокую смерть. Даже сейчас, перед нею, мучительной и лютой, он боялся презрительного взгляда Марии (какого живым не избежать, мёртвым не увидать). Подвергая его искусным ритуальным мукам, монголы в который раз истово молились: «Великий воин, если будешь рождаться вновь, делай это в наших нутугах».
От этой истории у Бату долго не проходил привкус полыни во рту, терпкий, брезгливо-вязкий. Не утешало даже то, что иные из людей Василька перешли на сторону Бату, пополнили тумен добровольцев-урусутов вместе с людьми Евпатия.
В стольном граде Владимире Георгий не оставил даже заслона, из-за чего неприступная крепость рухнула к ногам Батыя, как мелкий деревянный острожек.
Горожане могли хотя бы сдаться, сохранив тем самым свои жизни, но вмешался епископ Макарий. Знал владыка, что Батыево воинство пёстрое и не только простые поганые в нём, а и тошнотворные еретики-несториане, кои ненавидят «народ православный» по указке Сатаны, коих, словами Писания глаголя, должно «изблевать из уст своих». И решил епископ, что уж если «вера, едино праведная» сохранена не будет, тогда лучше народу владимирскому «убиту быти, но спасену», нежели «плотью уцелеть, но душой пропасть». Захлёбываясь от важности миссии своей, епископ призывал жителей умереть, но «нехристям и еретикам» не сдаваться.
В ясном пожаре сгорели палаты Всеволода Великого, однако Успенский собор, а также другие жилища местного Бога джихангир не тронул — со временем со здешними мелькитами надо будет мириться. Того и гляди, ещё и опираться на них придётся против несториан. Куда ни ткни — враги сплошь, как густой ковыль в щедрый год. Разве что семья Тулуя, вот, кажется, и всё. Более никто из слуг Христа его не любит.
Из-за того, что город не сдался вовремя, пострадал он довольно сильно. Но всё-таки с Владимиром обошлись мягче, чем с Рязанью. Насытившись, кусаешь лениво. Стольный исполин не выгорел дотла (и от густоты строений каменных), народ же — какой добротным стенам поверил, а какой и разбежался, спасаясь. Было обычное трёхдневное разграбление, но священников — кроме Макария — Бату трогать не дал.
В Рязани спасались за стенами, здесь тоже. А почему? Свирепость там мало показали... Свирепость — великая сила, спасающая народ от беды.
Всё же Бату запретил швырять пленников в поминальные костры, не позволил и людоловам порезвиться — везти рабов было некуда, кормить нечем, а народа для хашара и без того хватало.
Пообещав этот город (потом, после всего) Ярославу, Бату должен был всё устроить хитро: чтобы Владимир упал в своём величии, но не исчез с лица земли. Супруга Георгия — безропотная княгиня Агриппина устроила себе и своим приближенным самосожжение в одной из церквей — больше из отчаяния и обиды на предавшего мужа.
Так или иначе, обещание Ярославу и ростовским князьям было выполнено честно, и теперь джихангир ожидал от них ответных шагов навстречу, и не просчитался.
Ярослав не привёл войска на Сить — не поддержал обречённого Георгия, выступившего против Бату. Ему только того и надо было.
Бату. Торжок, Козельск, Чернигов. 1238 год и далее
Дальше путь лежал на север, и опять злой дух голода не покидал его тумены всю зиму. Давно ли зорили Владимир, а припасы снова на исходе. Распустили хашар, потому как кормить нечем — всё равно нехватка. Стали обозы бросать — не помогло. Выход из положения был, но скользкий выход, неуютный.
Впереди маячил богатый Торжок, тяготел этот городок-амбар к Новгородской земле, а значит, не надо бы с ним задираться. Бату вздохнул, призадумался. Нет, не выкрутимся. Хочешь не хочешь, а крепостицу потрошить — иначе лошадей падёт множество.
Но при взятии укреплённого города недосчитаемся немало воинов, как быть?
Подъехали к городку с требованиями, почти просьбами, мягко стелили слова, но случилось худшее. В Торжке упёрлись. «Падают ваши кони, так не наши же? Мы вас не звали». Наглость объяснялась просто — ждали подмоги от новгородцев.
Уж какая тут подмога, глупые. В Новгороде ратными делами князь заправляет, но Ярослав — тайный союзник Бату, а сынок его — юный Искандер — во всём ладит с отцом и перечить ему не будет. Чтобы не бросить Торжок в беде, надо новгородцам князя сменить, нового найти, а на это времени немало уйдёт.
Бату знал, что не будет помощи Торжку, а открыться торжичанам не мог. До поры до времени его с князем договор в тайне держать надлежало. Боялся князь (и правильно делал ), что новгородцы, про его лукавство пронюхав, рассердятся и погонят вон с княжения. За вольности свои испугаются.
То, что в Угличе с успехом прошло, здесь не увязывалось. А ещё, как назло, меж своих зашуршала опасная клевета. Слухи о переговорах Бату с князьями Ярославом и Владимиром Угличским выскочили из мешка, породили подозрение в измене. Полетел в Каракорум донос: «Джихангир, превышая власть свою, якшается с покорёнными, задумывая восстать против Великого Хана Угэдэя». Хорошо, что посланца от стервятников перехватили (тайное поручение Делаевой сотне), а то неизвестно, чем бы всё кончилось.
Это стало последней каплей. Значит, хочешь не хочешь, а город нужно брать. Хотя бы для того, чтоб беду не накликать. Вздохнул Бату ещё раз и послал утомлённые тумены на город. После того как пущена первая стрела, все переговоры о сдаче прекращались.
У Торжка застряли на три недели. Не дождавшись подмоги, осаждённые в конце концов сдались. Была бы полная воля Бату — взял бы необходимое для броска на юг, на том бы и остановился. Но кроме его желаний и дальних расчётов реяла над нами, увы, неумолимая Яса.
Торжок наказали согласно общим правилам: подпалили, перебили всех мужчин, какие выше колеса. Стариков, женщин, детей и умельцев за бесценок продавали булгарским, ярославским, угличским, костромским, хорезмийским купцам. Почуяв запах мертвечины, эта братия всегда тут как тут.
После, с досадой оглядывая шипящие головни почерневших стен и вереницы пленных, Бату всё хмурился, прикидывал, как теперь Ярославу в глаза смотреть? Не сдержал обещания совсем не трогать владений новгородских — в следующий раз договариваться будет труднее. Чего-то они недодумали.
Невзгоды в одиночку не гуляют. Не поладил Бату с чужими — это полбеды. Царевичи, ближние нойоны, простые воины, обнаглевшие от лёгких побед, обозлённые скитанием по заснеженным лесам, в которых вязнет взгляд степняка, как муха в мёду, мечтали о броске на Новгород. Покатились камнепады ропота — один за другим, один за другим. Веди, мол, нас дальше.
Гуюк и Бури слюной исходили, ещё бы, совсем рядом такая добыча. В Новгороде все насытятся от пуза, туда купцы из всех Вечерних стран товары везут.
Всё так, но как раз по этой причине не следует ссориться с Новгородом, пытался Бату на советах вдолбить эту истину устами Субэдэя. Это как колодец на караванном пути отравить. Только ли врагов без воды оставишь, того гляди, и друзей... Это таинственное гнездо рано ворошить, да и надо ли? Такое Бату говорил открыто, но сам о другом думал.
Была ещё одна причина (глубоко подумать, по совести, — главная). В Новгороде княжит сын Ярослава — молодой Искандер, стало быть, — по союзнику удар. Договорено с князьями устами Боэмунда — новгородцев оставить в покое. От них, от вольных и доброжелательных, больше пользы будет, чем от разграбленных. Кроме того — неподъёмно тяжёлой обещает быть эта битва, да и к чему она?
И на полдне врагов невпроворот, непримиримых. Похоже, без Ярослава не управиться.
Бату и воинов своих понимал (потому и медлил с решительным приказом повернуть на юг), но для себя уже всё решил бесповоротно. Думая на десять шагов вперёд — не на один, и выходило по всему — на Новгород идти нельзя. Но и отказать прямо тоже нельзя.
Тут Делай неожиданно подсказал, мол, скоро распутица. Вот и оправдание: не дойдём, утонем. Потом выяснилось, что могли и пройти, хватило бы на это крепости льда. Но упорные слухи (постарались люди Бамута) о ранней весне спасли ханов, тайджи и ближних нойонов от неминуемой ссоры.
Чуть забрезжили проблески весны, к воспрянувшему войску стали стекаться здешние «люди длинной, воли», жаждущие присоединиться к «походу на половцев и черниговских охальников». Всякие тут были. И рязанские погорельцы, оставшиеся без крова, и кровники половцев («угнанных семеюшек у половчан в кочевьях разыскать»), и огрызки разбитых дружин, и угличские купеческие дети, сбежавшие от отцов. Жаждали добычи, славы, забвения гибели близких, да и просто кормёжки из походного котла. Войско снова разрасталось.
Дорога на полдень, к будущей весенней степи (половцам Котяна в тыл и на соединение с Мунке-ханом), бежала краешком по владеньям Смоленска. Смоленский князь был одной из тех «крыс», которые давным-давно перебили людей Субэдэева посольства.
Препирательства, подобные тем, что возникли из-за Новгорода, вспыхнули с новой силой. Стервятники, воспрянув, бесновались. Гуюк требовал «навалиться, растоптать». Бату — уж в который раз — устало юлил, растолковывал: на Смоленск без отдыха сил не хватит, нужно спешить на юг, пока не воспрянули, не оттаяли после зимы куманы, надо соединяться с Мунке и, пока не опомнились, резко наносить удары по их тылам.
Советники неохотно вняли...
Дальше к югу тумены отсекли с востока край черниговской земли — тут враги сплошные, всех вольных и невольных союзников враги. Тут уж, изведённые снисходительностью джихангира к пленным, стервятники бесновались, всё громче кричали о неуважении к духу Чингиса. Струна противостояния натянулась до предела: вот-вот лопнет. Дальше дразнить судьбу было опасно. Нужно было бросить кость в её жаждущую пасть. И как же вовремя эта кость подвернулась. Да не только подвернулась, а в горле застряла. Как раз у кого надо застряла.
Крепость называлась Козельском. Была она небольшой и неудобно стоящей. Неудобно для нападающих.
Век бы того Козельска не видать. Бату бы мимо в степь проскользнул, не особо его заметив. До весенней степи доплестись хватало запасов, взятых в Торжке, но... представится ли ещё такой удобный город?
По Ясе полагалось мстить именно роду гостеубийцы, но со времён битвы на Калке многое изменилось на Руси. Повезло как Чернигову, так и Киеву. Дело в том, что черниговский Михаил не был прямым родичем Мстислава — одного из тех, кто Субэдэево посольство истребил, а был он сыном Всеволода Чермного. Не имел прямого отношения к Мстиславу Киевскому (и даже к Мстиславу Галицкому) и нынешний князь Киева Данило. А это значило, что с ними возможны мирные переговоры.
А вот якшаться с Козельском было непозволительно. В крепости сидел малолетний князь из проклятой черниговской династии Мстислава, некий Василий Козля. Он мешал всем подряд просто тем, что не в нужном месте родился. На его уничтожении настаивал Ярослав — расправа с черниговким родом была одним из условий его нынешнего невмешательства и будущего вмешательства в игру на стороне Бату. Туда же гнул Субэдэй, заявляя, что корень предательства нужно выдирать на месте «наших будущих владений» без остатка. Ну и потом... надо же было уважить и блюстителей чести — стервятников Джагатая, устроить им хотя бы один «злой город», дабы умаслить великого предка.
Избежать поручения наказать «изменников Неба» не мог, без вреда для шеи, никто — даже хан. Считалось, что отказ приносит неисчислимые беды от Мизира. Тут было важно обогнать соперника, поручить такое другому, пока не поручили тебе. Промедление было чревато.
«Поручаю тысячам Гуюка исполнить свой долг — искоренить злое семя, жителей истребить без пощады», — не без злорадства произнёс джихангир на одном из советов.
Сынок верховного хана хотел проявить суровость — так пусть проявит.
Сначала, предвкушая милое сердцу кровопролитие без границ, Гуюк сладострастно встрепенулся, но с каждым днём лицо его становилось всё более кислым. Остальные войска, кроме осаждавших злополучную крепостицу, тянулись мимо в степь, как отары к водопою.
Чем дольше всё длилось, тем больше посмеивался джихангир и бесился Гуюк — городок держался. День, неделю, вторую... припасов у осаждённых хватало, сдаваться — резону не было (всё равно помирать), а вокруг такие кручи, что пороки не подгонишь. Верный Гуюку Эльджидай, незаменимый в чистом поле, был в осадном деле не силён, да и кто тут будет силён? Такого удара по самолюбию Гуюк не получал давно, а осаду со «злого» жертвенного города снять не мог — это попахивало кощунством.
Всё это издевательство продолжалось полтора месяца — не один из крупных городов не держался столько. Не потому, что был слабее, просто в каждом случае находилось много способов не ломиться в лоб, а тут пришлось.
В конце концов джихангир завершил всё снисходительным жестом, от которого соперник в бессилье застонал: послал на подмогу Гуюку Делаеву сотню. Мол, ладно, уж покажу, как надо воевать, учись, сосунок. Делаевы молодцы ухитрились выманить осаждённых на вылазку — это козельцев и сгубило.
Михаил же Черниговский на помощь городу так и не пришёл, вёл себя тихо, словно мышка, как будто не его княжество мордуют.
Ещё неделю после того, как для осаждённых всё было кончено, Гуюк топтал и кромсал всё живое в городке, пока последняя крыса не перестала там дёргать лапками. Прибыл он оттуда чернее вороного скакуна, молчаливый, осунувшийся от позора. Но потери среди его кераитов были не такими уж и большими. Оказывается, вдумчивый Эльджидай всё это время не столько бросался на стены, сколько, облизываясь, вокруг них крутился, как лиса у добротного курятника, ожидал, что растопит весеннее солнце наледь на склонах укреплений.
С окрестными сёлами (одно из них славилось упорным язычеством, за что и прозвали его — Поганкино) удалось договориться. Поклонившись Гуюку, его жители добровольно помогали Эльджидаю, в надежде, конечно, что их пощадят, но и не только поэтому. Уж в который раз джихангир наблюдал стойкое нелюбие между общинами землепашцев и княжеской дворней, между потомками старожилов и пришлых. Тут было о чём подумать. Трогать поганкинцев джихангир строго запретил, и с сотней Делая передал это твёрдое постановление Гуюку, тот пофыркал, но смирился.
Так или иначе, но если всё вместе сложить, получилось совсем неплохо: и перед стервятниками оправдались, и Гуюка посрамили, и Эльджидаевых кераитов сохранили для серьёзной войны на юге.
Поход по суздальской земле оказался куда менее кровопролитным, чем думал Бату, — сплетение изворотливости и везения было тому причиной. В Залесье удалось сыграть на неурядицах между ростовским и владимирским князьями, добиться поддержки Ярослава в борьбе с его братом Георгием, настроить «поганых» вятичей и мурому против мелькитских христиан, пообещав им прекратить гонения за веру, которые тут процветали.
В своё время Темуджин также воспользовался издевательствами Кучлука над магометанами и с малыми потерями захватил государство Кара-Киданей.
В Залесской Руси не было и «злых городов», ведь Георгий Всеволодович не участвовал в убийстве послов перед битвой на Калке. Ни в одном городе сопротивление не длилось так долго, чтобы применять пороки, поэтому Бату удалось обойтись без поголовного избиения жителей.
Однако самое, может быть, главное - война велась зимой, и «дикие половцы» не пришли на выручку суздальским князьям, а половцы Котяна и Кончака, даже если бы прийти смогли, делать этого не стали, потому что были союзниками Чернигова и врагами суздальцев.
Летом соединились со старым другом — сыном Тулуя Мунке, успешно разгромившим половецкие зимовники. Цепкий юноша вышел из этой войны усиленным половецкими перебежчиками, уставший, довольный, гордый.
Отдохнув, навалились скопом на половецкого хана Котяна — «Темуджина» здешних степей.
Пришла очередь вкусить прелестей войны и коренным владениям Михаила Черниговского. По договору с Бату, Ярослав напал на крепость Каменец, пленив Михайлову семью. В это же время джихангир всей мощью войска, разбухшего от добровольцев, обрушился на сам Чернигов. Город был взят и разграблен безжалостно. Особенно постарались в грабеже пополнившее монгольское войско урусуты из Залесья — уж они-то помнили давние обиды.
Многие половцы — в том числе бывшие подданные погибшего на Волге Бачмана — охотно переходили на сторону Бату. Подобное тяготеет к подобному, как снег к снежному кому.
Чем больше было половцев в его войске, тем охотнее присоединялись к нему новые, чем больше было в его войске урусутов, тем более охотно к нему присоединялись другие урусуты.
Ярослав Всеволодович. 1238 год и далее
Пока Георгий Всеволодович метался ослепшим туром по мордовским лесам, его предусмотрительный брат Ярослав отсиживался в Киеве, откуда не так давно без достойного упоминания труда вытеснил Владимира Рюриковича Смоленского.
Дожила дряхлеющая столица до таких времён, какие уж лучше с того света наблюдать. Даже то, что сидевшие в стольном граде князья упорно прозывались в народе не киевскими — как во времена стародавние, — а по городу из которого явились: галицкий, черниговский. Ныне же — переяславский. Уж куда позорнее, чем быть под пятой у князька из города, который уж то, что не деревня, — и то хорошо.
— Поутру один князь киевский, а ввечеру уж другой пыжится-вышагивает. Потому и величают по старому чину, — куражились вездесущие скоморохи.
— Коль так пойдёт, доживём до тех времён, когда будут нами править уж и вовсе из Пронска, где три двора да боярин в шкуре сомовьей, аль из Москвы какой... — сетовали острые на язык киевляне, не успевающие запомнить в лицо переменчивых своих князей.
— Из Москвы — это да, — ухмылялись.
На Ярославовых гридней и тиунов поглядывали даже без привычной вековой ненависти к суздальцам — устали. Что черниговцы, что эти — один черт. Однако, как бы там ни было, а суздальцу в Киеве — как лисе в курятнике. Куры — вот они, но и псы того гляди...
Сидел Ярослав в Киеве, как на еже, и досидел-таки до долгожданных вестей. Слава те Господи... дождался.
Остался бы Ярослав в Киеве до Батыева прихода — открыл бы ворота подошедшим войскам тайного союзника, ожидало бы столицу лёгкое бремя Ростова, но он пожадничал. Узнав о гибели на Сити надоевшего братца и о том, что монголы, сделав главное (расправившись с его соперником), ушли, он покинул поседевшую Мать Городов Русских, которую от дряхлости и хворости не спасали уже и белила соборов и стен. Там, в Залесье, его ждали дела поважнее: упавшую власть поднимать, землю делить. Не обманул Батый — даже сторожи своей не оставил, не говоря об отрядах и наместниках.
Новым хозяином въехал Ярослав в стольный град и стал величественно делить бескровно завоёванную добычу. «И бысть радость велика христианам, и их избавил Бог от великыя татар». А главное — от неудобного старшего брата. Остальные братья изъявили поспешную покорность. Посадил Ярослав одного из них в Суздаль, куда уже успело возвратиться население, прятавшееся в лесах, другого — в Стародуб.
В самом же Владимире оставалось много сторонников и бывших слуг Георгия, и с этим нужно было считаться. Осторожный Ярослав не стал сводить счёты. Привезённые с Сити Георгиевы мощи можно было использовать хитрее, а заодно достойнее и богоугоднее. Их торжественно возложили в уцелевшей (как большинство соборов) церкви Богородицы на Клязьме. Ярослав дальновидно объявил Георгия мучеником за веру.
Задираться было не время. Летом предстояла большая война с черниговцами и галичанами за великое киевское княжение, которое обещал ему Бату. Но была ещё и Литва, от ударов которой предстояло себя заблаговременно обезопасить.
В то самое время, когда Гуюк ломал свои зубы под Козельском, Ярослав нанёс упреждающий удар по Литве. Оттуда вернулся, гоня перед собой вереницы крепкокостных понурых лесовиков. Теперь можно было не опасаться летних набегов и вплотную заняться своими южными врагами.
К сыну Александру в Новгород он со вторым своим любимым чадом, Андреем, отправил освободившихся воинов. Пусть мальчики повоюют, пусть руку набьют в стычках с датчанами и немцами, пусть славу добудут и столь важное благорасположение новгородцев.
Для Ярослава всё складывалось как нельзя удачно.
А как же Киев? Был бы мёд, а уж мух нальнёт. Узнав, что Ярослав увёл из столицы свои дружины, в город нагрянул Михаил Черниговский — не столько владеть, сколько мстить. И было за что.
Сколько раз Ольговичи пытались втолковать непонятливым киевлянам, что и «младеню сущему» понятно: именно их родовое «Святославово» древо самим Господом в киевскую почву посажено... Опять же и знамения про это... Куда уж яснее? Однако непонятливые жители строптивого града разорвали на кусочки Михайлова дальнего предтечу — «смиренного аки горлица» Игоря Ольговича. За что? А просто так. «Ольговичей не хотим», — сказали, а почему — не объяснили. Нам, мол, самими решать.
Но сказано в Писании: «Стучите — и откроется». И Ольговичи стучали упорно.
Участвовали в достопамятном разоре, учинённом Андреем Боголюбским, когда впервые со столицей обошлись как с чужеземным градом. Драли тогда с соборных стен иконы цареградского письма, как Прометееву печень Зевесов орёл.
Не запамятовали горожане и другое веселье — то, что учинили черниговцы в одной запряжке с Рюриком Ростиславичем и половцами.
Да и сам Михаил был князем богобоязненным. За это и причислен потомками к лику святых — на ниве убеждения заблудших киевлян постарался не хуже великих предков своих. Всего несколько лет назад грабил Михаил стольный город. Да не сам по себе, а загребущими десницами своего союзника — северского князя Изяслава Владимировича.
Так или иначе, но накопилось приятных воспоминаний у обеих сторон выше шапки любого мономаха.
Как назло, именно в это время явился под стены Киева хан Мунке. Постоял на левобережье Днепра и направил послов с требованием покориться.
Михаил, увидев монголов, понял, что надо уходить. Однако упустить такой случай отомстить городу, который столько его обижал и «предавал», он не мог. Многие нравы монголов были уже известны на Руси — и то, что бывает с городами, когда там убивают послов, тоже было известно.
Что ж, рассудил Михаил, не нам, так и не вам. Послы были перебиты его людьми с роскошным злорадством, а досада от потери стола стала заметно меньше. Теперь-то он посчитался с Киевом, которому теперь-то нет спасения, теперь Киев — «злой город».
Говорили, монголы не трогают священников. Что ж, если тут в живых останутся одни священники, надо, чтоб были они его, Михаила, священниками. Как ни крути, но после «пленения» латынами Константинополя для всех столица православия, увы, здесь, в Киеве. Так Михаил оставил в отмеченном смертью городе своего митрополита Петра Акеровича, а сам подался в Венгрию, надеясь сосватать сына своего за дочь короля Белы. Глядишь, венгры помогут отвоевать Киев.
Но и тут не сложилось. Вернулся из Галича князь Даниил и первым делом вышвырнул Акеровича со всей его благословенной братией.
Разобиженный ставленник Михаила отправился в Лион — просить у Папы помощи против татар, хотя в его судьбе были виноваты совсем не татары. Само это решение являлось вопиющей изменой «русскому делу» — любой договор с главным врагом православия был в глазах киевлян договором с Дьяволом.
С вокняжением в Киеве Даниила рухнула в одночасье задумка Бату опереться на киевлян против Чернигова и Галича. Но и Данило не усидел тут долго — сбежал к королю Беле, а Киев оставил на попечение своего воеводы Дмитра. По чести говоря, отдал город на растерзание.
Даниил тоже знал: после того как Михаил в прошлом году убил монгольских послов, самый важный на Руси стол словно пропитан ядом.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЗЛЕЙШИЕ ДРУЗЬЯ
Бату. Киев. 1240 год
Кива-мень[111] (а по здешнему — Киев) роскошно горел. Бату смотрел на зарево, самое большое зарево в его жизни, и вспоминал другие, поменьше. Он уже почти перестал отличать природные закаты от рукотворных, которые он творил как сумасшедший бог среди бела дня. А были ещё нудные переходы... от одного рукотворного заката к другому.
Переход от зарева в Коломне к пламени, лижущему владимирские каменные стены, маячит в памяти чем-то далёким, тусклым, будто не из его жизни. Столь много всякого случилось позднее. Бату смотрел на зарево, думал об упущенных возможностях.
Кива-мень горел. Жалость к бьющемуся в последних конвульсиях не то чтобы меньше, чем к здоровому и сильному, но душа стремится окончить его мучения умерщвлением. Тогда ты вполне с ней в ладах. Нетронутого и ладного слепо порываешься спасти.
Так и с городами. Ещё в начале штурма, почувствовав нетвёрдость духа, джихангир не поехал на этот холм. Он не хотел, чтобы загубленная его войском урусутская столица снилась живой и красивой, в золоте своих куполов — это больно. Теперь жалеет. Восхищенные рассказы Мунке уже сейчас порождают в нём воспалённые сияющие виденья.
Есть, наверное, где-то страна погибших городов, там утопают в облачной дымке прекрасные храмы. Он их видел сегодня во сне, он летал над ними и проснулся с мокрыми глазами. Ведь этой ночью к нему явился призрак СВОЕЙ несостоявшейся столицы. Наутро растерев жёсткими ладошками щёки, он дал себе слово построить прекрасный город, не уступающий величием Кива-меню.
Вдруг сообразил: Кива-мень погубил себя именно красотой. В своих стараниях сохранить этот город Бату не учёл только его красоту. «Смерть совершенства украшает совершенство», — с усмешкой вспомнил Бату тех важных мудрецов-даосов, подмазав которых великий дед увеличил войско своих лизоблюдов.
«Только начни смотреть на жизнь ТАК, не иначе окажешься на всеобщем кладбище — и сам не заметишь», — брезгливо подумал невольный губитель.
И всё же если бы Мунке страстно захотел эту красоту сохранить, да разве он отправил бы послов в самый невыгодный миг, когда Киев был в руках у престарелого завистника коназа Михаила Черниговского, а ведь послал всё-таки, на верную смерть обрёк.
Бату вдруг снова стало жаль Мунке. На мальчика давили слишком многие, а он ещё так неискушён в интригах. Одно утешение: этот случай его отрезвил, на всю оставшуюся жизнь, наверное, отрезвил. Думая о таком, Бату мог бы упрекнуть себя в том, что ясно и ребёнку: жалея врагов, он проявляет непростительную для джихангира мягкотелость. Мог, конечно. Если бы только то, что он «никудышный чингисид», уже давно казалось ему не болезнью, а выздоровлением.
Когда Мунке предстал перед джихангиром с серым лицом, Бату уже всё знал и успел успокоиться. И правильно сделал, ведь не сумей он сдержаться, ещё неизвестно, чем бы всё для Мунке закончилось, например, бросился бы сгоряча на меч, он ведь такой.
Вместо того чтобы распекать, джихангир — слегка неожиданно для самого себя — стал утешать, Тоже, конечно, мало успешно. Впрочем, утешай — не утешай, а после убийства послов город обречён, и Бату ничего тут уже не может поделать. Однако Мунке так верил, что они сдадутся, так хотел избежать ненужных жертв, а получилось ещё хуже. И всё же виновник он невольный.
Но на кого же падёт проклятие Мизира? Кто не удержал юношу от опрометчивого шага? Умышленно, между прочим, не удержал. Несториане? Это да. Расправиться с главным гнездом мелькитов — их давнишняя мечта, а в туменах Гуюка — несториан немало. Христианские священники благословляют войну со своими единоверцами во имя торжества Святого Креста. А там, за стенами, страстно нашёптывая последние молитвы, упрямые защитники умирают, уповая на того же распятого Бога.
Это могло вызвать удивление, если бы не было так страшно. Впрочем, разве о Хорезме Джучи рассказывал не то же самое?
Торжествуют, наверное, и куманы-половцы. Их сегодня тут особенно много. Куманам есть за что мстить надменной столице. Столько лет она пригревала у своей груди их вечных кровников — берендеев и «чёрных клобуков»? Сколько раз именно отсюда уходили кованые всадники в степь — зорили беззащитные против тяжёлой конницы куманские кочевья, тихоходные кибитки с женщинами и детьми.
Наверное, и коназ Ярослав радуется происходящему: с этого разгрома раз и навсегда великий стол Владимирский — самый могучий из столов. Не впервой владимирцам зорить киевскую землю, но чтобы с таким размахом? Ужо их дружины поживятся за эти дни, ужо потешатся.
Бату собрал под стенами урусутской столицы всех её давних врагов, а скажут... скажут, что разорили её монголы. Те монголы, которых здесь так мало, что трудно и отыскать их в этой кровавой свалке. А ведь наверняка скажут, что виновник этой резни он, Бату.
Подъехал Боэмунд. Увидев, что хан грустит, соглядатай хотел было оставить его на попечение одиночества, но джихангиру сейчас хотелось не того:
— Постой, друг. Давай подумаем вместе. Как разрешить дышать хоть кому-нибудь в этом городе?
— Я тоже этим весь день озабочен, анда, но что мы можем? Если какой-нибудь Бури предоставит Джагатаю неопровержимые доказательства нарушения Великой Ясы, нам обоим забьют камнями глотку...
Бату истерично рассмеялся:
— О, Вечное Небо, я никогда не смогу объяснить здешним людям, что даже при моём бескрайнем всемогуществе мне в любой момент могут отрезать ничтожную жизнь, как вихры у придирчивой красавицы.
— Сначала будет долгая дорога в Каракорум, хан, а уж потом...
— Утешил коршун селезня, — поблагодарил друга джихангир, — может быть, например, так оправдаться: «Жители Кива-меня не подданные ничтожного Михаила, он сбежал. Они — рабы коназа Данила. А Данил никогда не оскорблял Ясу»?
— Не выйдет, хан. «Князь сбежал — люди те же. Не отправив их души на суд Величайшего, ты оскорбил Единого Бога и его Сына Чингиса. Прощать такое не милость, прощать такое — кощунство», — угрюмо, с большим достоинством пролязгает Джагатай и отдаст тебя палачу. Он обязательно истолкует всё в свою пользу. Ты же знаешь, Бату, как он тебя нежно «любит». Тогда во главе войска поставят Гуюка, а он тут не только людей изведёт — все деревья повырубит. Не сомневайся, анда, будет только хуже.
Так они тщетно пытались спасти хоть что-то.
«О чём закручинился, повелитель?» — так спрашивают в сказках существа, наделённые волшебной силой. Боэмунд уже догадывался, о чём пойдёт разговор. Решение же его посетило поутру, после ночи раздумий.
— А то не знаешь... Цепкие лапы забот не отпускают меня, Бамут, — пожаловался хан. — То, что удалось в Ульдемире и Рязани, тут — не годится — всё другое. В Залесье были мурома, мордва и вятичи — ярые союзники против мелькитского Креста. А в здешних землях — мелькиты все... Остальных извели под корень.
Бату замолчал, собирая в клубок невесёлые мысли. Да, тучи снова сгущались. Галицкого князя с черниговским поссорить не удалось, а земля под ногами тлеет. Уйдёт войско на Запад, и всё тут, в тылу, всполошится, что тогда? Оставлять в городах своих людей — где их взять? Милостью Ясы они тут лихо порезвились. Козельск и Чернигов по ветру развеяли, а такое помнят долго.
Народ жжёт запасы, бьётся с отчаянием обречённых. Да и с Киевом тоже... Сподобился же Мунке договариваться о сдаче в такое неудобное время. Что ж о том сетовать — теперь не исправишь.
Поначалу люди Бату понадеялись на призрачную зацепку. Полтора века назад Олег Святославич Черниговский пытался наладить контакт с несторианами для борьбы с киевской метрополией. Но было это давно и закончилось неудачей. Попытки возбудить в людях память об этом склонили на сторону Бату (сколько несториан в его войске) кое-кого из местных бояр, но поддержки у остальных не обрели.
И тут у Боэмунда возникла идея воспользоваться застарелой незажившей враждой между общинами землепашцев и княжескими тиунами. Это была удачная мысль. Именно здесь многолетняя пря не тлела, а почти пылала. А всё потому, что во всех междоусобицах каждый хотел поселиться именно в этих землях. И если горожане предпочитали ту или иную княжескую династию, общинники-миряне мечтали вовсе освободиться от гнёта князей. Вняв неожиданному совету Боэмунда, Бату решил, что в этих землях стремление освободиться нужно всячески поддерживать.
Так возник договор с болоховскими князьями, которые даже и Рюриковичами-то не были. Они обещали снабжать войско зерном, местная молодёжь с готовностью пополнила поредевшие сотни. За это джихангир обещал оберегать крестьян от мести Даниила Галицкого.
Правда, горожанам всё-таки пришлось несладко, но трагедии Торжка, Чернигова, Киева и Рязани больше не повторились. Ведь теперь перед приходом монголов люди не спасались в городах, а, напротив, убегали из городов.
Бату. 1240 год и далее
Ирония истории. Монголы поддерживали князей против бояр в Руси Залесской, а в Западной Руси — наоборот — крестьян против князей.
После падения Киева, после пожара в своей «несостоявшейся столице» в Бату что-то надломилось — он перестал ощущать сладость войны. Хорошо бы отдышаться, наградить достойных, накормить голодных, примириться с разорённым народом, зализать раны, им же, Бату, причинённые. Ему — никому другому — править в этом урусутском улусе, и хорошо бы не костями вдоль пыльных дорог, но людьми живыми и преданными.
Как похожа в очередной раз оказалась его судьба на судьбу эцегэ Джучи, который унаследовал Хорезм, им же самим по чужому приказу разорённый.
Однако об отдыхе и мире можно было бы мечтать, будь он самостоятельным ханом, а не погонялкой чужого чудовища.
Если послушать сказителей (и историков), то получается, что монголы воевали с русичами. Вот, мол, стержень похода на Вечерние страны. Всё не так. Какую битву ни возьми, если бы выдернул некий великан вслепую всадника с одной воюющей стороны и всадника с другой — с удивлением обнаружил бы он, что оба они — кыпчаки. Зачерпнул бы огромной ладонью ещё раз: попался бы ему случайный русич, два джурдженя и снова целая куча кыпчаков, «иже рекомых половцев».
Задуман был монголами поход — против них... вездесущих, ископавших курганами безбрежные просторы. Их выбор — кого поддержать, кого предать — решал всё в этой войне.
Поводом успешно завершённого похода на Запад была «кыпчакская опасность» — мол, могут кыпчаки напасть на беззащитный монгольский Коренной улус в неудобное время, когда войска воюют вдалеке. «Ибо столько же алданов от реки Танаис[112] до Золотого Онона, сколько от Онона до Танаиса».
Бату и поначалу был одним из тех немногих, кто в эту опасность не верил — ему ли, прожившему столько на Иртыше, не знать этого странного народа. Какие там дальние походы? Им бы, кыпчакам, друг с другом разобраться, самих себя резать перестать.
А как они могли перестать, ежели своих лучших людей — таких, как его Делай например, — из племён изгоняли, в рабство продавали, «изблёвывали», как старец непереваренные куски.
Бату улыбнулся: Угэдэй и Джагатай послали его на эту войну, чтобы рассудительные иртышские кимаки хана Инассу, разбежавшиеся по пустыне хорезмийские грабители караванов, дикие половцы-разбойники Заитилья[113], отчаянные, но послушные нукеры хана Бачмана (здешнего очередного «Темуджина»), хитрые интриганы хана Котяна, греющие руки на усобицах русских «коназов»... чтобы все эти поросли тюркского племени, называемые в ставке Угэдэя общим именем кыпчаки, не объединились и не ударили по монголам. Смешно.
То смешно, что именно благодаря его походу эти разнопёрые тюрки только и могли собраться в один податливый и опасный кулак. Могли... и собрались.
Только немного иначе, чем в ставке полагали, ибо ОБЪЕДИНИЛ ИХ БАТУ.
Джихангир не мог не понимать, что мухни Гуюка не дремлют — разнюхивают и тревожно замечают, как ширятся ряды вновь принятых удальцов, подчинённых джихангиру, а не правительству в Каракоруме. Что в таком виде они впервые стали опасны для империи. Что под его началом они как раз и могут вторгнуться в монгольские степи.
Однако соглядатаи Боэмунда следили и доносили утешительное. Да, так и есть — Гуюк понял опасность только сейчас, только здесь, далеко от родных орхонских шатров.
Всего этого, слава Небу, не понимали там, в далёком сердце империи. Не догадывался об этом простодушный Угэдэй, недооценивал такого свирепый Хранитель Ясы Джагатай.
А канцлер Юлюй Чуцай? И он не догадывался. Он просто — знал. Твёрдо ведал, что гибелью для «Империи Ясы» станут не какие-то там несчастные кыпчаки. Кончиной для империи Угэдэя и Джагатая и для всего Чингисова наследия станет УСПЕХ вечернего похода, укрепивший Бату на землях Вечерних стран, а его, Чуцая — на Востоке. А как же? ДЛЯ ТОГО И ЗАДУМАН БЫЛ ПОХОД.
Да, именно о таком они долго говорили в Каракоруме, тогда, давно, после смерти Тулуя — всемогущий канцлерджуншулин, смотрящий далеко вперёд, и опальный, неприлично молодой Бату-хан.
Юлюй Чуцай понимал многое.
С одной стороны (улыбнись Бату удача), такой человек никогда не поведёт тумены, набранные из удальцов Вечерних земель, на него — своего союзника. Зачем ему это?
А с другой стороны, если вдруг зашатается Чуцай на зыбком высоком гребне (ой зашатается) — Бату его поддержит войсками.
Итак — по давнему с джуншулином замыслу — кыпчаков нужно было не покорить, а приручить, и русских — тоже. Это была их с канцлером тайна.
Была и ещё одна — третья причина похода: желание Юлюя Чуцая зашвырнуть подальше своих противников-несториан.
Была и четвёртая: заставить Субэдэя воевать в нужное время в нужном месте.
Одной сетью сразу четырёх дроф — это было в его, Чуцая, духе.
И вот — удалось. Пока утопали основные силы Бату в урусутских снегах, сын Тулуя, неистовый Мунке, сумел не столько разбить, сколько убедить здешних кыпчаков — называвших себя куманами — не поддерживать неудачника Бачмана (отловленного и убитого на одном из итильских островов), а искать свою судьбу в рукавице монгольского джихангира. Сын героя джурдженьской войны обрушился молниеносным рейдом на куманские зимовники, где хранились запасы сена.
Доброе слово, как известно, убеждает голодного быстрее, чем сытого, и после захвата зимовников Мунке сдавались охотно. Тем более что сдача эта означала не тяжёлое рабство, а манило будущей добычей в новых боях.
Теперь, после гибели несчастной мелькитской столицы Кива-меня, все кыпчаки от Иртыша до Борисфена благоволят джихангиру, но...
Но не обманывай сам себя. Все, да не все.
Сеть, накинутая на половцев-куманов, оказалась дырявой... Хитрый хан Котян с западного края степи успел-таки вырваться, ушёл в венгерские степи. Пытаясь влезть в его шкуру, Бату понимал: Котяну покоряться резону нет, и вот почему: на западе раскинулась мягкая, приветливая венгерская степь-пушта[114].
Знал хитроумный: не откажется король венгерский от тысяч верных сабель против своих нойонов—магнатов. Об этом они давно вели тайные переговоры — ещё до вторжения Бату вели.
Хотел туда Котян явиться не беглецом, а покровителем престола. Хотел к своим днепровским владениям ещё и венгерскую пушту приладить. Но явился всё-таки беглецом. Но ведь не последняя на Небе утренняя заря? Так он думает, не так?
Но и этим всё не ограничилось. Данило Галицкий — правитель самых западных княжеств, после падения великого града принял было мирные предложения монголов, но... Но тут-то как раз дошла до него весть, что соперник его Михаил венгерского короля охмуряет, породниться хочет. Такого допустить было нельзя. Что там монголы — с ними вроде и замирились. Но заграбастать венгерскими руками (при помощи тех же половцев Котяна) Волынь и Галич он Михаилу не даст. Ишь, разохотился.
И поспешил Даниил «за гору», в до боли знакомую Мадьярию разрушать коварные планы соперника. Породниться с королём Белой он желал и сам... Участие в этом деликатном деле настырных Ольговичей было ему, мягко говоря, не совсем по душе.
Так или иначе, но оба соперника собрались под крылышком злополучного короля, а это имело самые роковые последствия.
Про «досадное недоразумение» (то, что добрый косяк куманов во главе с Котяном из его загона ускользнул) Бату в послании Великому Хану осторожно умолчал. Только бы дали в Каракоруме «добро» завершить поход, пусть бы и набранные в Коренном улусе войска забрали — он тут не пропадёт. А с половцами Котяна потом, когда окрепнет, Бату договориться сумеет. Что им делить, если, по слухам, есть там, в Венгрии, ковыльные просторы, где Котяновым табунам раздолье?
Бату предвкушал отдых и мир, но люди хана Джагатая оказались не такими простодушными — ответили ударом на удар.
«Дальняя стрела» из ставки в ответ на послание джихангира, в котором он сообщал, что «кыпчакской опасности» больше нет — «Бачман разбит, половецкие степи покорены», — привёз отнюдь не то, что Бату с надеждой ожидал.
— Слышали мы, что хан Котян ушёл с народом своим в Угорскую Пушту и, заручившись поддержкой короля венгерского, замышляет недоброе. Туда же сбежал коназ покорённых тобой земель — Михаил, туда же устремился и галицкий коназ, оба союза против монголов ищут. Не знаешь об этом или утаил такое в послании своём? Смотри — не укуси себя за хвост. Отчего стремишься, где только можно, миловать врагов? Смотри, джихангир. Слышали мы также, что взятые в войско твоё инородцы присягали тебе, а не Великому Хану, — выдал «дальняя стрела» заученное слово.
Бату смутился от такой осведомлённости ставки и понял, что донос Гуюка опередил его, дясихангирова, посланца. А раз так, ногти поздно грызть, поздно сетовать. Любимому Гуюку, сыну Угэдэя, прямому наследнику империи, останавливать поход невыгодно, по крайней мере — сейчас. Думал Гуюк, что силы Бату в походе поредеют, а вышло наоборот, думал, что одни кости в будущих владениях соперника останутся — и тут не угадал. Ну да, Киев разорили, ещё кое-что...
Но страна урусутов жива, и видно всякому: воспрянет и раны залижет. А вот этого не надо бы.
Истощённое войско Бату, караваны с добычей в имперской ставке, горящая чужая земля под копытами туменов — вот Гуюкова выгода. А тех, кто присоединился к войску джихангира, нужно бросать вперёд, на новые завоевания, не позволять разрастаться гнезду мятежа.
Бату хмурился, примеряя к себе мысли соперника.
Всё это пронеслось в его голове чуть ли не до того, как «дальняя стрела» закончил свою речь приказом: «В Венгрию шли послов, требуй половцев из Пушты изгнать, хана Котяна — выдать».
И ведь не поспоришь, не возразишь. Перед тобой — живое сообщение, не более того.
Да, обыграл его Гуюк... Ещё как обыграл. А точнее — не Гуюк, а мудрый Эльджидай.
В свой шатёр Бату ступил мрачнее тучи и велел созвать ближних нойонов. Шее снова стало тесно, как будто обернулся этот новый пергамент с приказом очередной удавкой. В этот день он долго отчитывал Боэмунда — «почему не проследили», ругал Делая — «почему не перехватили тайного Эльджидаева гонца в ставку». Ближние нойоны обиженно оправдывались и были правы — всего не учтёшь.
— Венгры, настроенные против нас Михаилом, убьют послов, они такие, — обрадовал Боэмунд, — после чего мы, увы, нагрянем в Венгрию и вернёмся оттуда ощипанными.
— Никуда не денемся, — эхом отозвался приунывший Делай, — дело не в Венгрии, а в том, что поссоримся с Римским Папой, а стало быть — со всей Европой. Венгрия — его улус. А сориться нам не ко времени.
— Ну надо же, — нервничал Боэмунд, — а я думал, наш Делай только арканы бросать горазд, а он даже знает, кто такой Папа Римский.
— Если ухо соглядатая пробкой забито, как у дьявола мелькитского, — весело огрызнулся Делай, — если глаз его за столбами степи не видит, приходится и нам — рабам аркана — знаний набираться. Иначе и вовсе пропасть.
— Ну вот что, хватит препираться, — пришёл в себя Бату, — в Венгрию поедете оба, ротозейство своё исправлять. Делай забирает всю свою сотню Боэмунду в подмогу. Задача ближайшая — не допустить, чтоб хан Котян с королём венгерским спелся. Боэмунду же повеление особой важности — против Папы союзников найти на случай большой войны.
— Искать не надо, союзник всем известен, — отозвался соглядатай.
— Император Фридрих?
Боэмунд молча кивнул.
— Вот и заручись его поддержкой, не мне тебя учить. А мы с туменами пойдём вперёд — поближе к венгерской границе, а заодно покажем подданным Данилы Галицкого, что не тому они служат, коль скоро добрый коназ на опустошения свой край обрекает, осиное гнездо разворошив. Из Киева он сбежал, Волынь и Галич под копыта наши бросил, договор о мире презрев. Хороши же тут правители. Не хотел я того, но сказано: «Делаешь — не бойся, а боишься — не делай». Не так ли учил мой великий дед?
— Как же мог Даниил знать о наших планах, когда и мы о них не знали, — воззвал Боэмунд к справедливости, — не за войной туда уехал Данило, за чем-то другим.
— Воистину, страх предсказывает планы врага не хуже звездочётов, — буркнул Делай.
— За войной ли, нет, но поехал он к тому, кто враг наш ныне. Теперь войны не избежать.
Бела Четвёртый, король венгерский. 1237 год
На пиру у короля Белы Четвёртого показное веселье подошло уж к той поре, когда дворцовые слуги стоят наизготове, чтобы в нужный момент кинуться разнимать излишне буйных. В Венгрии благородных гостей не унижают — оружие у входа не забирают. Оттого слугам и страже забота: как бы высокие гости мечами да саблями друг дружку с перепою не посекли. Поглядывает король на приезжих — воспалённые мысли кружатся, как вороны над мусорной кучей. Но не знает повелитель, радоваться ли гостям. Да и не гости они вовсе — беженцы.
Вот пыхтит, вгрызается в лебединую ляжку захмелевший куманский хан. Появление в Пуште самого Котяна озадачило Белу несказанно. Это такой подарок, что от тяжести его руки дрожат.
Тысячи куманов Котяна убежища в Венгрии попросили и даже — согласились креститься всем народом по римскому обряду. Королю радость, патерам — назидание. Ибо раньше столь же легко бросались подданные Котяна в пропасть схизматической ереси, заигрывали с русскими князьями. Теперь иная погода на дворе.
Смешно подумать — папские проповедники сбивали по куманским кочевьям шершавые ноги, аж до Заволжья добредали, и что с того? Да ничего. Кроме издевательств не видали ничего горе-монахи в степях. Когда же подпалил надменным номадам взмыленные задницы таинственный враг — враз упрямцы мыслями о правильном Боге прониклись, потому как поняли, на чьей стороне сила.
Так или иначе, но великий Бела Четвёртый нежданно-негаданно сотворил духовный подвиг, о котором всяк подвижник мечтает. Надо же — целый народ обратил. Это ж скольких индульгенций недосчитаются?
Отсюда мораль: огненное слово — дело хорошее, палёная задница — лучше.
Это если духовное учитывать... А земное?
Неплохо обстоит и с земным. Такая силища против родных вассалов-магнатов привалила? Теперь-то Бела порядок в королевстве наведёт, вольницу магнатскую по перекладинам развесит с Божьей — то бишь куманской — помощью. Он им покажет «первого среди равных ».
Одно короля пугает: уж больно велик подарок, спину бы не сорвать, как дурному быку.
Вздохнул Бела и снисходительно окинул орлиным взором других гостей. Неподалёку за столом вот-вот вцепятся друг дружке в бороды два русских князя — Даниил с Михаилом. Король усмехнулся, не разжимая губ. Хана Котяна Бела уважал и слегка побаивался, а на этих двух неугомонных неудачников посматривал снисходительно.
Под утро великого короля мутило и крутило. Тут-то ему и доложили, что прибыли послы от того самого Батыя, из-за которого все всполошились.
Взяв себя в руки, Бела дал себя одеть и напудрить, вышел в главный зал. Подлокотники трона казались маленькими и неудобными, сев, махнул рукой, чтоб пропустили послов.
Он удивился, увидев не то, чего ожидал. Вошедшие трое послов были в европейских одеждах и говорили с ним без толмача. По-венгерски. Потом Бела узнал, что они — из миссионеров, трудившихся в недавние времена среди башкиров во славу понтифика. А теперь, значит, служат Вельзевулу, нечестивому поганцу? Хитро.
Это была ошибка монголов. Единая вера и язык не сблизили две стороны, а разделили и озлобили.
То ли от справедливого гнева, то ли с гудящей головы — короля вдруг охватила тихая ярость...
Бела с гневом отклонил требование монголов выдать хана Котяна, чем подошёл к краю пропасти войны. Но увы, не только подошёл, он и прыгнул в эту пропасть, приказав перебить послов.
Подошедший к обрыву может отойти от края. Летящий в пропасть — наверх не взлетит. Как только «чёрная весть» достигла ушей джихангира, он двинул к угорской границе войско, разбухшее от примкнувших к нему удальцов.
Вскоре Бату получил неожиданный подарок: магнаты, обеспокоенные усилением короны, убили хана Котяна. Возмущённые половцы покинули венгерские пределы, спустившись дальше к югу.
Лишиться могучего союзника ввиду вторжения врага — такую глупость было трудно предвидеть.
Олег Рязанский. 1237 год и далее
Рязанский княжич Олег не видел, как Рязань умирала. От этого было и легче (лучше такое не видеть), но и тяжелее — в воображении часто возникают картины страшнее, чем видят глаза.
Бесстрастные кешиктены Гуюк-тайджи перебили его людей, но самого не тронули. Дотошный Эльджидай-нойон, оценив хитроумие попытки Олега спасти соотечественников от гибели, убедил своего повелителя оставить княжича в живых. «Таких хитрецов среди урусутов немного — пригодится, а Бату и вовсе не обязательно его показывать».
Ещё до штурма Рязани Гуюк тем не менее нагло заявил своему недругу, что «казнил явившегося к нему сына рязанского коназа «за речи, оскорбляющие достоинство Бога и Сына Его Чингиса, не сочтя нужным беспокоить по таким пустякам».
Бату, едва не задохнувшись от злости, пытался напомнить, что бывает за подобное самоуправство!!! За вопиющее нарушение субординации!!! За...
Гуюк спокойно (торжествуя внутри) наблюдал, как джихангир кусает губы и остывает, понимая, что слепые угрозы — это не его оружие... Ну что он может сделать с сыном Великого Хана? Пожурить? Выгнать из войска? Так это ж надо основательно оформить жалобу. Пока она дойдёт, пока нехотя рассмотрят, пока посмеются над тем, как Бату не справляется с «подчинёнными». А прошение (ну ясно же) брезгливо оставят без ответа.
«Смотри, Гуюк, даже тайменя иногда хватают за скользкий хвост», — вот и всё, что Бату мог, только в бессилье шипеть.
Прозябая среди «особых тайных» пленных Гуюка, Олег узнавал новости искажёнными, будто известие, как река, рябью подёрнулось.
Через приставленного к пленным (исповедовать и докладывать) православного попа Протасия молодой княжич как-то раз услышал и про рязанскую княгиню: «Взошедши на колокольню с малолетним чадом своим, бросилась мученица вниз. И простил Исус невольное прегрешение ея, и подхвативши в падении вознёс на Небо... А звали ту княжну Евдокией... и была она дочкой кесаря цареградского».
Из юрты-церкви для полоняников Олег возвратился в «жилую юрту» бледным и как будто ослепшим. Ошибки быть не могло: это молодой княжич решил твёрдо. Слишком непосильное бремя в его положении — сомнение в правдивости давящей вести. Он уже знал — несбывшаяся надежда убивает быстрее отчаяния.
Как-то раз, едва не лишившись рассудка от нагрянувших воспоминаний — на фоне серого облака ОНА лукаво улыбалась, — пленник теперь стал жёстко уводить мысли в сторону при первом намёке на их появление.
Прошлой жизни нет, ложись пораньше — вставай попозже.
Дабы обмануть тоску, Олег пробовал разобраться в том, что происходит вокруг. Это было нелегко, но постепенно, по крайней мере, стало ясно главное: литое единство монгольского войска — сказка. Здесь, в кругу его пленителей, клубилась пена ненависти к Бату. Его обвиняли в том, что он изменник, что «старается за спиной великого хана якшаться с подчинёнными».
С дотошностью ненависти собирая в клубок обрывки фраз, Олег вдруг догадался — почему его не допустили к Бату-хану тогда, под Пронском.
Да, увы... именно потому, что переговоры с джихангиром о Рязани могли закончиться успешно, Гуюку же нужна добыча, а на землях, которые после завоевания должны отойти к его сопернику, следует оставить пепелища.
Боже правый, только подумать — если бы Олег вовремя попал к Бату, а не сюда... его жизнь наверняка не была бы растоптана вихрем.
Невозможно всё это исправлять, но не поздно мстить. Поняв это, Олег неожиданно обрёл утраченный смысл жизни. Его согбенная спина распрямилась, движения стали не рваными, а вкрадчивыми и резкими.
На него не обращали никакого внимания, и это продолжалось Долго, очень долго. Отметелила яростная зима, когда полыхали Суздаль, Коломна и давний мучитель Рязани стольный Владимир-град, отзвенело мечами стремительное лето, пылал Чернигов, корчился от застарелой боли (в который раз) вздорный старик Киев. А Олег всё ждал, ждал и слушал, ждал и жаждал действия.
Потом произошло странное: Гуюк со свитой был отослан джихангиром «за непочтительные разговоры и прямое неповиновение» домой, в Монголию. Вместе с ним в далёкий путь отправились и его «тайные пленники».
Олег трясся в кибитке и напряжённо думал: ясно, что эта размолвка грянула по взаимному согласию соперников. Захотел бы Гуюк — никуда бы не уехал. Даром что, напившись на пиру, обзывал Бату «старой бабой» и вообще вёл себя нагло и вызывающе — откровенно напрашивался.
В тавлейной игре[115] бывает, когда обмениваются фигурами — так, похоже, произошло и здесь. Бату облегчённо вздохнул, лишившись такого несносного «подчинённого», как Гуюк, а тот, получил возможность побывать дома для того, чтобы отдохнуть, перевести дух после похода. Но не только же для этого он бросил свои войска?
Бату между тем вторгся в Червонную Русь, потом — в «Угры и Ляхи». Тумены грызли европейские замки и зачем-то рвались к морю венецийцев.
А мимо Олега проносились сочные травы весенних степей, белые сны пустынь, причудливые незнакомые леса.
В дороге только и разговоров — про волшебный город Каракорум с его фонтанами и лаковыми дворцами, про юрты на колёсах, что вздымают свои жерди-уни выше Божьих церквей. Ставка Великого Хана «размажет вас, урусутов, как муравья по бесконечному дастархану своего величия». Так его шутливо пугала стража. Он ждал с трепетом: как наложница своего господина. Что бы ни было — но скорей бы, скорей.
Однако случилось негаданное: татарский змей сбросил старую кожу... вместе с одной из центральных огне дышащих голов. И очковая кобра беспомощна в такие времена, а уж держава...
Сгоняя улыбки с самоуверенных лиц рабов и нойонов, летела чёрная весть: умер Великий Хан Угэдэй! Умер... Солнце закатилось! Горе нам. Как внезапный смерч кружился сухой степной ужас. Трепетали красавицы, предвкушая удавку тризны на лебединой шее, дрожали «дальние стрелы»-гонцы — кому-то из них разносить «чёрную весть» по куреням и аилам... и многим отправляться вослед почившему в «Шатры Великой Этуген».
Так и не довелось доехать Олегу до таинственного города, более того — в общей неразберихе удалось бежать. Ему повезло: незыблемая охрана (почти сплошь состоявшая из несториан) перессорилась чуть ли не до резни. Одни стеной стояли за Гуюка, растерявшегося от гибели отца. Другие разузнали через сплетников (из «гонцов скорби») о том, что вдова Тулуя, обаятельная ханша Суркактени, собирает вокруг себя сторонников, а Гуюка чуть ли не анафеме предаёт.
Тут было о чём подумать, было о чём саблями позвенеть, до пленников ли?
Олег и Гневаш. 1241 год
Бежали они вдвоём с хватким парнем по имени Гневаш — тот и лошадей в суматохе раздобыл. Гневаш был ещё на Руси приставлен к нему как челядинец и доносчик...
Они спешили в родные края, держась перелесков и колков, где гремели, убегая, редкие стада зубров, уцелевшие от татарских загонов. Раньше, в полоне, Гневаш всё молчал, послушивал да посматривал, теперь — разговорился.
По его рассказам выходило, что из жалкого полоняника, которого гнали монголы в хашаре под стены Рязани, дослужился он до Эльджидаева соглядатая.
Родом Гневаш был из глухого мерянского огнища. Под Пронском угодил в полон и там не растерялся. Долго ли — коротко, но вырос до десятника в той сотне из русских охотников (сплошь бывших пленных), куда попасть не так-то просто. Из знаменитой сотни этой — простор выслуживаться наверх, к монгольским чинам.
— Как же ты такой ловкий?
Гневаш вспомнил страшные подробности ставшего уже далёким взятия Рязани. Расскажешь ли про такое? Нет, слово «ловкий» под такое не годилось.
Гневаш. Взятие Рязани. 1237 год
Хашар бывает разный. Ищущий в нём тёпленькое местечко может не стараться. Но ведь и у ада бывают разные круги. Можно попасть на обслуживание пороков и баллист. Неприятно, но терпимо. Можно — в ту невооружённую группу, которая забрасывает ров вязанками хвороста и собственными телами. Вот и лазейка: можно упасть заранее и под шумок сбежать... Правда, защитники могут всё это месиво поджечь.
Гневашу доля не улыбнулась. Когда стали раздавать плохо заточенные колья — жалкое подобие копий, — их десяток уже не сомневался, что предстоит самое страшное.
Посылать на штурм совсем безоружными — дело бесполезное: осаждённые будут резать и рубить передовые отряды, как серп траву. Но и вооружать раньше времени опасно. Отчаявшиеся люди нет-нет да и сподобятся повернуть колья совсем в другую сторону. Такие попытки всегда случаются. Поэтому вооружают в самый последний момент перед штурмом.
Как от бунта спасаться? У монголов здесь опыт большой, ещё с джурдженьской войны. Хашар разбит на десятки, которые идут не сплочённой толпой. Так и отстреливать людей труднее. Если бежишь в сторону стреляющих стен, строй — это только помеха. А главное, паника (или заговор) отдельного десятка — это не всеобщая паника. Да и лучники отрядов заграждения не дремлют. У них самая весёлая и безопасная доля. Кроме того, с каждым десятком идёт ранее провинившийся во оружейный воин из своих. Его задача — предотвращать слепой бунт обречённых. За поведение вверенного десятка он отвечает головой... если, конечно, таковая в бою уцелеет. Впрочем, следить за хашаром — это и так при говор, только отсроченный.
Пленные из десятка не верили в своё несчастье до последнего мига: маленький монгол, напоминавший в своём пластинчатом доспехе назойливого жука, проявлял завидное терпение... Похоже, поганые не спешили...
Он нерешительно хватал за рукав кожуха их громадного седовласого старшого. Тот всячески старался «не понять». Он вёл себя так, будто была возможность уговорить этого «нехристя» дать им другую судьбу.
— Ваше... ваше... Брать, — бормотал татарин.
— А? — бестолково улыбался муромский великан. — Чево хочешь, а?
— Брать, — уже нетерпеливо тыкал тот его в кучу кольев, как щенка носом в лужу, — ваше... ваше.
Похоже, он не очень понимал смысл этих урусутских слов, просто ему сказали, что нужно повторять именно их...
— Брось, Ваула, не поможет. Разбередишь только, ироды, прямо тут нас и посекут, — не выдержал Гневаш, но тут же понял, что огромный, такой суровый с виду мужик просто оцепенел от страха. Стрельнув краем глаза на лучников-«заградителей», Гневаш увидел, как ближайший лениво потянул тетиву.
— А ну, мужики, — взревел он, — раз-два, взяли палки. На том свете не мёд лесной, да и тут не лучше. Терять-то чего?
Десяток стронулся и разобрал колья. Седой богатырь-«старшой» продолжал тупо стоять.
— Ваула, Ваула, все, все пошли...
Гневаш взял его за огромную оцепеневшую пятерню, потянул, как тянут ребёнка спать (вечным сном?)... Тот нехотя стронулся...
Монгол вздохнул, Гневашу подумалось — облегчённо. От этого какого-то трогательного вздоха назойливого татарского слепня дохнуло чем-то очень человеческим. Как будто испугавшись своего порыва, монгол упрямо сжал губы, коротко ткнул в грудь Гневаша рукавицей:
— Ты... багатур, багатур... балшой.
«Я большой богатырь! Ого», — польщённо ухмыльнулся Гневаш. Но недоверчивый ум бывшего холопа тут же опустил его взлетевшую раньше времени душу на землю. До него дошло: его просто назначают старшим вместо этого расквасившегося велетня[116].
Гневаш кивнул, мол, понял... Запоздало подумал, что теперь все погибнут, потому что заранее не обговорили свои совместные действия — каждый за себя дрожал. Но, похоже, поздно. Стал судорожно думать — не за себя, за всех. Как в таких случаях обычно бывает, страх сменился ухватистой озабоченностью.
У них ещё было время, пока добегут на расстояние полёта стрелы из лука. Самострелов в Рязани мало: этого особо бояться не стоило. К тому же все хорошие стрелки полегли под Пронском.
Татары сбили пленных в десятки в последний миг, не дали посидеть вместе, обдумать, как действовать сообща. Страшились бунта.
Многие положили свои уже задубевшие тела на пути к стенам, чтобы новым легко перебегалось от одного бугорка к другому. Летом такое страшнее. Раненые ревут, ругаются и молятся, не желая осознать себя простым укрытием. Самое худшее, когда они умоляют о помощи. Чем тут поможешь? Теперь иное — мороз враз утихомирит любого, ослабевшего от потери крови.
Трупы лежали не вразброд, но холмами... Гневаш, замерев за одним таким навалом, ещё успел подумать о том, почему это происходит именно так, «Первые-то за телами хоронились, тут неё и гибли... Оттого и куча». Осадная лестница, с которой только что, вылив сверху котёл со смолой, содрали её «живую» кожу, казалась лишённым плоти скелетом и ужасала именно этой своей дикой обнажённостью. Под ней ещё шевелилось чёрное месиво из облитых. Их общий вопль долго отдавался мерзким эхом в ушах Гневаша. Один из несчастных, вспрыгивая в агонии, колотил кулаками по стене. В последний раз просмолённая рука не отлепилась... и он так и повис, будто пытаясь сдвинуть стену вперёд.
Они залегли удачно — это полдела. Главное в другом: нужно, наконец, хоть как-то сговориться. Ваула дёрнулся вдруг и заорал....
— Ты чего... ранили? — шепнул Гневаш куда-то в стылую землю.
— Нет, я не про то... Голову-то подними, подними... — Его голос дрожал.
Гневаш повернулся и едва не отпрянул от окоченевшего лица. Из остатков кожи на подбородке торчал в жуткой надменности остаток бороды...
— Не боись... это кипятком его со стен угостили... Оно тогда... таво слезает ровно порты, — утешили сзади знающие.
Кое-где под лестницами, и верно, сизые проталины — места, куда приземлился кипяток. Но не время думать о том... «Свой» татарин пока лежал смирно — никуда не гнал. Тоже, поди, человек, боится, черт смолёный. Он лежал как раз меж ними с Ваулой. Они переглянулись с Ваулой и как-то сразу поняли друг друга. Гневаш успел-таки слегка порезать руки, но чужой кулак, сжимавший саблю, всё-таки удержал. Проморгал её хозяин. Ваула закусил губу и, навалившись всей массой, прижал задёргавшегося и загудевшего жука к земле. Его ноги в степных сапожках болтались потом ещё долго.
— Добро, — прошептал Гневаш. — Ну-ка, тащи с него панцирь.
— Да не налезет ни на кого, — прошипели сзади в ответ.
— Сымай давай, невелика беда. Навроде щита сгодится.
Круглый плетёный шит нехристя лежал тут же... А уж саблю Гневаш из рук не выпустил. Хоть и орудовать ею не умел совсем, но было такое чувство, что у него вырос спасительный коготь. Мысль заработала азартно.
— А может, того, так и пролежим здеся... А ночью и сбежать не грех? — посыпались советы.
— Энти-то, энти сказали, мол, ежели кого тут живым после взятия города найдут, враз голову долой, — взвился от чужой глупости Гневаш. — Ну-ка слушайте, что скажу... — прошептал он, но, оглянувшись, обнаружил, что говорить уже некому. Стрелы поражают бесшумно, и оба его собеседника были уже мертвы. Заёрзав ужом, он прикрылся их телами и стал напряжённо ждать.
Олег и Гневаш. 1241 год
— И что потом?
— Как татары ворота открыли и на прясла позалезали, надел я тихонько татарскую бронь, шелом, сапожки с мертвеца-жука натянул и ринулся в город... Тут уж не зевай.
— Это то есть как, «не зевай»?
— Да по мне, княже, что рязанцы, что татары. В Рязани боярина знатного, гадюку, — он в порубе тайном хоронился — на верёвке притащил... Ещё тогда заприметили. А после вызывает Эльджидай-нойон. Полоняников градских предо мной поставили дюжину и саблю мне в руки — руби, мол, доказывай преданность. Что ж, порубил охотою, долго ли? Да и говорю: «Ежели что, так ещё давай. Сабля не каравай, сколь ни махай — острия всё столько же». Ихний толмач перевёл, засмеялись, взяли в сотню. После уж и в Козельске жёнок-детей рубали... и в Чернигове. А знаешь — мне в охотку, я ли хоровод затеял?
Рассказывал Гневаш всё это запросто, а Олег дивился. Слушает попутчика, где и подхихикивает ему, а неприязни, презрения, брезгливости вроде и нет. Видно, и вовсе сердце после гибели Евпраксии замёрзло... В иные-то времена таких, как Гневаш, и взглядом бы не удостоил. А с другого боку — лучшего слугу ещё поискать. Он на охоту, и состряпать, и от лихих людей раза два уберёг, вовремя заметив.
— Я, ежели кому служу, то честно, — похвалялся парень.
Понял, глядя на него, князь, чем ум от смекалки отличается, только вот смекалка тогда оказалась мудрее ума.
На привалах Гневаш налегал:
— Надо бы нам, княже, сразу к Батыю податься, по то и выручил я тебя.
— Отчего к Батыю? — удивлялся князь.
Гневаш между тем не терялся:
— Ему ныне рязански али ещё какие князья законные в самый раз. Пошто так? А оттого, что Гуюк — враг ему первейший. Значит, князей по всем городам захочет Батый от себя утверждать. Это, стало быть, пока в Каракоруме суматоха да власти делёж. — И, заглядывал Гневаш молодому князю в глаза нахально, без тени смущения: — Не тушуйся, княже, проси грамоту на Рязань... Ингварь-то, что на Рязанском столе ныне, Гуюков подпевала. Так гнать его, и войска хан даст, ей-ей.
— А ты? Тебе какая с того печаль? — уже не удивляясь «державной» хватке бойкого Гневаша, устало бросал Олег.
— А я у тя ближним человеком буду али гридней воеводою, а то и в бояре. Вот те крест — не пожалеешь.
«Мальчишка... в чужой крови до ворота рубахи, а всё равно мальчишка, чудно», — думал князь, глядя на него. У самого же были другие задумки о будущем. Власти не хотелось — пустое это всё. А жаждал он узнать всё доподлинно о гибели Евпраксии. Потому рок, нетерпеливый и упрямый, как вол, напористо гнал его домой, в Рязань... Вернее сказать, в тот Новый Град, что спешно возводился её уцелевшими погорельцами совсем в другом месте.
Однако нетерпение и тоска — советчики никудышные. В Новой Рязани всё было ой как непросто, и этого молодой князь знать не мог.
Старший брат Олега Ингварь отсидел в Чернигове нашествие, отчего — единственный из князей — оказался и живым, и не в плену. А в дальнейшем повёл он себя неосторожно и глупо. Вернувшись на пепелище, устроил молебен в честь «радости» избавления от «безбожного царя Батыги», и вообще, плясал на животе уснувшего льва с такой весёлой беспечностью, будто сей лев уже мёртв.
Вообще-то это была давняя традиция Рязани — радоваться нынешнему без думы о грядущем. Привыкшая жить от разорения к обдиранию и не мечтать о другой, лучшей, доле, рязанская земля таких князей понимала лучше дальновидных.
Понятное дело — всё сразу стало известно Бату. Сначала джихангир подумал — это урусутская неспособность понять зимою, что придёт весна. Вот ведь глупец этот Ингварь! И вправду поверил, что монгольское войско пронеслась по Рязанщине как тупая гроза и сгинет в других землях.
Сперва монголам было не до распоясавшейся Рязани. Они, истекая кровью (не только хашара, но и своей собственной), штурмовали польские и венгерские замки. А там сопротивлялись, не в пример Руси, отчаянно. Потом на уставшие от бесконечных боев плечи обрушилась нежданная смерть великого хана Угэдэя, и грозная империя вляпалась в междуцарствие в не самое подходящее время.
В Каракоруме ханша Дорагинэ — вдова Угэдэя и мать Гуюка — удержать власть не сумела. Тщательно оттачиваемая ещё со времён Чингиса пирамида принуждения досталась откровенным шкурникам во главе с пленной персиянкой Фатимой. И началось.
Этого не ожидал никто, по сложно переплетённой паутине интриг стали гвоздить неуклюжей, но мощной булавой. Без толку, без разбору. На завоёванных просторах воцарилась откровенная продажность.
Вот тут-то и несториане — из тех, что когда-то так много сделали для укрепления власти «величайшего из людей» — и монгольские ветераны, и приверженцы пронырливого Юлюя Чуцая добрым словом помянули мягкого, добродушного, предсказуемого Угэдэя.
Плохо стало всем. Кроме Гуюка, который решил, что настал его звёздный час.
Такое творилось в Коренном улусе, но беспечный Ингварь Ингварьевич обо всё этом не ведал, строил себе Новую Рязань и радовался, что не осталось у него соперников — все от сабель татарских полегли. И не думал, что иные из соседей видели в этом свою будущую выгоду. Каждый мнил, что Рязань в новой схватке за власть на их чашу весов довеском упадёт.
На западе Михаил, вернувшийся в разорённый Чернигов, надеялся, что Ингварь (старый союзник Ольговичей) поддержит его против «безбожных татар». Поддержит в той большой войне, которую затевали два великих правителя: непокорный черниговский князь и Папа Римский. А точнее сказать — не в обиду тщеславному Михаилу — войну, которую затевала римская курия, желая бросить на передовые рубежи резни кое-кого из скифских князьков, соблазнив их блестяшками корон. Михаил и Ингварь — в их числе.
И с востока на Рязань посматривали с надеждой. Змеиному гнёздышку ханши Дорагинэ и её сыночку Гуюку приглянулось в этих молебнах слово «Батыга». В Рязани гремят мелькитские (православные) юролы? Пусть гремят... пока, что с того? Мелькиты сейчас нужны союзниками для второго похода на папистов. Чего их раньше времени дразнить? А натравить на Бату не вредно. Пусть думают в Рязани, что борются с татарами — детям Угэдэя, обнаглевшим джучидам лишняя палка в колесо.
Вот тут-то — нежданно-негаданно — явился к Ингварю геройски погибший под Пронском милый брат его Олег.
Ингварь с Олегом и при батюшке не ладили... Удивился правитель Новой Рязани воскресшему покойнику... да и запер его на всякий случай в поруб, ибо место мертвецам не среди живых, а под землёю. Это решение было тяжёлой ошибкой. Надо было или уж придушить братца втихаря, пока никто об его возвращении не дознался, или дать ему жить. Тем более что к власти Олег вовсе не рвался, всё про Евпраксию свою дознаться хотел: «Как погибла, где?»
Перед тем как спустить родственничка в подземелье, Ингварь подтвердил про Евпраксию всё, что и раньше Олегу слышать доводилось... Тот аж в лице изменился, будто про смерть любимой узнал не давным-давно, а только что. Оказывается, где-то там, на донышке души, трепетал нежный росток надежды. Опустив руки, он покорно дал отвести себя в узилище, где бы и сгнить ему по давней традиции рязанской, но...
Спустя месяц с лишком скрипнули ржавые засовы, и Олега — полуослепшего, полуистлевшего — вытащили на безжалостный Божий Свет.
Среди спасителей, одетых сплошь в знакомые до боли ордынские тегиляи, князь с удивлением узнал Гневаша, разнаряженного в роскошный куяк (пластинки от розового лака искрятся). Знатный нойон — да и только. Старый приятель надуто и бойко раздавал короткие приказы по-русски и по-татарски, а рядом... (чудны дела, Господи) стоял и трясся, потеряв остатки княжьего достоинства, злополучный князь Ингварь.
Раскрыв рот от такого дива, Олег всё никак не мог его закрыть, пока волокли наверх, потом с крыльца.
— Верхами-то можешь? — заботливо спросил Гневаш освобождённого узника уже на ослепительно-солнечном дворике.
— Что всё это, а? — удивлялся тот.
— После обскажу. Так можешь ли, нет, комонным-то[117]?
— Авось сдюжу, куда едем-то? — Ему было всё равно, лишь бы из поруба.
— Не близко, друже, за Волгу. В Батыев Юрт[118], что под Булгаром ныне... Слыхал?
— К Батыге?! Так ты от него, что ли? — наконец догадался. — То-то я гляжу, братец-то мой затрясся, ровно больная собака.
— А то как же, глянь-ка вот...
И Гневаш показал Олегу новенькую пайдзу.
В дороге всё разъяснилось.
После того как полтора месяца назад расстались они уже поблизости от рязанских заборол, поспешил Гневаш сразу в Батыеву ставку:
— Знал, что повяжут тебя, княже, а убивать не станут. Коль упёрся в своё... ну, думаю, хочешь лоб расшибить — расшиби, умнее будешь, — говорил Гневаш в обычной своей манере — заботливо, но хамовато... и уж вовсе без почтения к родовитости.
— И пустили тя? — успокоившись от удивлений, выспрашивал слугу ли, друга Олег.
— Да вот, пролез, — довольно осклабился тот. — Грозился всякому поперечному: не приведёте пред светлы очи самого, в котлах вам бултыхаться. — После этих слов правдивый Гневаш, пустого бахвальства не любивший, немного стушевался. — Ну... не вдруг... Где и держали, голодом морили, где и меж костров водили. Долго ли, коротко, добрался-таки до главной юрты.
Многое он тогда занятного Батыю рассказал. И про то горестное Олегово «посольство» перед штурмом Старой Рязани... И как угодили Олеговы доброхоты вместо джихангира к Гуюку. И как порубил Гуюк всех, а Олега — приберёг. Всё рассказал Гневаш... и про остальные их невзгоды, и про побег, и про склоки в Гуюковой охране, а главное — что держит Ингварь своего соперника в порубе.
Бату слушал, молнии метал, руки кусал с досады на себя...
Гневаша за службу и верность щедро одарил и немедленно послал людей выручать несчастного князя из беды.
Бату. 1241—1243 годы
Правильно рассчитал Гневаш: крепко нужны были тогда Батыю свои князья. На волоске его власть висела, хоть и немногие это видели. На востоке, в Каракоруме, Гуюк ядом истекает, а западе Вечерних земель правители с Римским Папой во главе ножи точат.
А все войска после «вечернего похода» обратно в Монголию отозваны. А «своих» сил у Бату — от плети ремешок. Тут хочешь не хочешь, а соратников и со дна котла будешь выскребать.
Если придётся с Гуюком войско на войско схлестнуться (а дело, видно, к тому идёт) — кто его поддержит? Есть на Западе союзник могучий и верный — император Фридрих, этот бы помог — он такой. Тем более что Фридрих как никто ему обязан. Сколько монгольских, кыпчакских, аланских, урусутских воинов легло под стенами малопольских, мадьярских, силезских крепостей? За добросовестное разорение папистов во всех этих землях, за взятые города и измотаные осадой города, за гниющих под землёю Лигницы и Шьявы рыцарей, что никогда уже не встанут под знамёна Папы Григория Девятого, надо платить честь по чести.
Во время той тяжёлой войны его измученное войско (не видавшее и в Китае такого сопротивления, как у этих небольших каменных твердынь) упрямо рвалось через предательские горы к Адриатике, к чужему морю. Горели неохватные погребальные костры и в небо улетали его, Бату, верные воины. Всё меньше становилось тех, кто знал его отца, и уж подавно тех, кто помнил молодым Темуджина.
Бату смотрел на эти костры, смотрел, и обида скребла горло. Кто же кого перехитрил? С одной стороны посланцы Бамута утешали: радуйся, воюешь на стороне одного врага против другого, а не с обоими сразу, радуйся, ведь в боях редеют и Гуюковы силы, радуйся и тому, что имеешь теперь союзника на Западе. Он не даст папистам ударить потом, когда война завершится, радуйся — этот бок твоего будущего улуса в покое будет, и, когда грянет тревожная пора, спокойно обернёшься на Восток.
Фридрих ничем не помог ему тогда, не имел возможности он его — «язычника, исчадье тартара» напрямую поддержать — отшатнулись бы многие союзники. Но всё равно многие рыцари шли к нему в тумены, намереваясь воевать не за него, а «хоть с чёртом, но против Папы». Пусть хоть так, но... хорошие это были воины, крепкие. Бату зауважал этих людей, кого и возвысил до тысячника, как тамплиера Петера. Когда после той несчастной битвы под Олюмцем гвельфы взяли этого Петера в плен, то-то у них удивления было: в татарском войске, да вдруг европейцы. Да мало ли их было, хотя бы тех же угров да ляхов.
Нет, не так все: Фридриху и без того войны на своих рубежах хватало. Значит, на самом деле всё-таки он помогал, да ещё как. Его победа над гвельфами в Ломбардии (после чего Иннокентий Четвёртый сбежал в Лион и предал их обоих — Фридриха и Бату — анафеме) не была бы возможна, если бы сили гвельфской Польши и гвельфской Венгрии не были скованы джихангиром.
Несмотря на все потери, тумены Бату рвались к морю. Фридрих обещал корабли, чтобы переправиться в Италию, и тогда... Они объединятся... Тут уж папизму конец. И Яса не нарушена. Можно потом взяться и за врагов на Востоке — поддержать Чуцая против Джагатая и его отпрысков, но...
Но Небо переменчиво.
Ох уж эти монгольские законы. Смерть великого хана Угэдэя — как палка, брошенная под ноги на бегу. Закон — воронёное железо, его не затупишь — это установление ещё от «Бога Чингиса».
Они ушли с морского побережья, не дождавшись кораблей. Они бросили Фридриха в самый неудобный миг. Они дали Папе собраться с силами...
Не ушли бы тогда, можно было ждать от Фридриха поддержки против Каракорума, а так — он снова увяз в борьбе с недобитым врагом, а Бату ничем не может ему помочь. Он больше не джихангир, а войска отзывают в Монголию. Не ровен час, могут ударить против него самого.
Согласно Ясе, все дела, кроме самых неотложных, должны быть приостановлены до выбора нового хана. Не желая лишиться головы, Бату в Каракорум не поехал, а закрепился в низовьях Итиля на притоке Ахтубы.
Вверенные ему люди таяли на глазах. Ушли прошедшие все огни кераиты и найманы, которые были в прямом подчинении у Гуюка. Ушли птенцы из Коренного Улуса, воевавшие под началом второго его врага — Бури. Только сейчас, расставаясь с этими возмужавшими мальчишками, он вдруг осознал, что они перестали быть птенцами, а он постарел. Прощание с Мунке и его людьми было тяжёлым. Сын Тулуя — единственный из тайджи, кто не смотрел на Бату с завистливой ненавистью.
Долг велит вернуться и хинам-джурдженям — мастерам взятия крепостей, но у многих не было ни семьи, ни дома. Кроме того, их соотечественники давно побеждены. В Китае плохо стало джурдженям. К приятному удивлению Бату, большинство из этих людей изъявило желание остаться.
Разбредались по домам и дружинники урусутской части войска. Многие клялись возвратиться обратно по первому зову. Кто-то обещал только повидаться с семьёй (у кого она уцелела) и — назад.
Радостно уползали в родные предгорья остатки аланов, растекались бродники. Таяли ряды нагруженных добычей тюрок и туркменов из Хорезма. Воевать они умели и до того, но Бату научил этих джигитов тому, что им снова придётся забыть, — дисциплине.
Бату остался с неизменными мангутами (племенем из коренных монголов) и хинами-джурдженями. И конечно же, кыпчаками, душой которых оставался неунывающий Делай.
Всего около четырёх тысяч, не считая такого же количества верных кыпчаков. Восемь тысяч — даже не тумен — против сотен завоёванных городов. Против Запада и Востока, дышащих угрозами. И ещё неизвестно какая из этих угроз страшнее.
Ну и, конечно, с Бату остался вечный, верный Боэмунд.
Одно хорошо: с Запада удара пока не будет, Фридрих связывает силы Папы... пока.
Что думает кесарь о внезапном уходе Бату с Адриатики? Понял ли, счёл ли за предательство? Так или иначе, нужно тщательно следить за Востоком. А там — и того веселее.
Союзник Юлюй Чуцай после смерти великого хана Угэдэя потерял опору, и теперь он больше не джуншулин. Говорят, Чуцай потерял веру, доносят: совсем старик сломался. Ещё бы не так! При Чуцае народ вернулся из бегов и стал подати платить, а теперь Гуюкова мать Дорагинэ выколачивает из сабанчи-землепашцев подати не хуже чем в худшие травы Чингиса. Эти умники и купцов грабят, как хотят, и вот результат: неселение снова стало разбегаться. Однако, может, это к лучшему, ведь растёт недовольство торговцев, стонут боголы, и надо бы, как говаривал Маркуз, «чтобы это недовольство не по ветру развеялось, а вокруг кого-то осело». Надо, чтобы люди знали: и на Гуюка есть управа.
На другой день после того, как Бату добрым словом помянул Маркуза, приехал гонец с Иртыша, сообщил, что плохи дела на Иртыше.
Прискакали люди Гуюка в его родную ставку (где вместо братца Орду правили Уке-хатун с Маркузом} и забрали Маркуза как будто в заложники...
Вот тут Бату испугался всерьёз — петля сжималась... Так и без улуса иртышского остаться недолго. Не растеряется без Маркуза ли мать? Нужен человек в помошь — знающий места, проверенный, надёжный. Не хочет Делай правителем быть, желает вольным скакуном шарахаться. Ну что ж. Мало ли кто чего не хочет! Нынче не до жиру в шулюне...
И жалко с Делаем расставаться, да придётся. Вот только сотня его нужна здесь. Править же на Иртыше будет мать, а в поддержку ей — Делай, как в доброе старое время.
Уставший от войны и соскучившийся по родным местам удалец принял указ хана без недовольства, чем очень удивил хана, ожидавшего долгих увёрток.
Осталось решить — на кого оставить «сотню родственных душ». И тут, после долгих проволочек, улыбнулась судьба Даритаю: он получил этот знаменитый, лучший в войске отряд под своё начало.
Из возможных союзников был ещё Ярослав, и с ним пора пришла поспешать. Бывший джихангир послал за князем «дальнюю стрелу» и, вызвав в ставку, наделил (от своего имени, а не волею Каракорума) властью над всей русской частью своих владений. Ярослав получил от Бату такую власть над Русью, о которой и его предки не мечтали: мало того — Киевский и Владимирский стол.
Одаривание Ярослава милостью от своего имени — было прямым вызовом центральной ставке и наглое самоуправство, но пока там разберутся, травы пожухнуть успеют.
Гонцы сменяли один другого (получил указание, ускакал, следующий). Так много их было в эти тревожные дни, что уже и лиц не разбирал. А ведь все дела важнейшие — другим не поручишь.
Пролетело несколько лет. Не ярких — как при походах, но в пелене однообразных забот. Опускались руки: на войне было легче. Эх, самому бы поехать в Каракорум, да нельзя. Живо там с ним — с бессильным — расправятся.
Но как там учил Маркуз и что ему, Бату, всегда удавалось?
Поддержи недовольного. Слабого из двух — усиль. Он усилил Делая против хана Инассу на Иртыше, он усилил Ярослава против Гюрги Ульдемирского — на Руси, он протянул руку помощи Фридриху против папистов... И вот — жив пока... а казалось бы.
Но кто, кто там, на Востоке его друзья сейчас?
Хранитель Ясы Джагатай и сын его Бури — лютые враги... Но старому другу Мунке сейчас ой как несладко.
Дети Тулуя, любимого сына Чингиса — как бельмо в глазу у всех остальных чингисидов. Бату вспомнил унылое детство и яркую вспышку в том детстве: юрту Суркактени-хатун, мягкого приветливого Тулуя и... Мунке, который всегда был ему верен, и на войне, и... Но что же Бату раньше-то его не разглядел? Нужда не приспела? Ой-е... стыдно. А не разглядел вот почему: всегда считал его мальчишкой, несмышлёнышем. Не пора ли узреть в Мунке багатура? Только вместе они устоят. Чтобы семья Тулуя его поддержала, много ли нужно? Самую малость. Объяснить им: Бату Мунке не соперник, Бату не нужен пояс Великого Хана. Слишком много зачерпнёшь, прольёшь на штаны. Надо, надо обещать мальчику Восток... когда-нибудь.
Будет друг Фридрих — на Западе, а друг Мунке — на Востоке. А он, Бату — он займётся обустройством своих новых земель.
Пока Бату суетился и судорожно плёл паутину, его соперник тоже не дремал. Первым делом (не иначе мудрый Эльджидай подсказал) Гуюк объявил себя врагом Папы Римского, войну с которым хоть и приостановили из-за великого горя (смерти Угэдэя), но при первой же возможности её надлежит продолжить.
Вторым стало объявление о лояльности Гаюка православным-мелькитам Рума, Шама[119] и Руси, после чего он вызвал в свою ставку всех крупных церковных иерархов «для обсуждения крестового похода против еретиков».
Третьим хироумным решением был указ о «примирении несториан и мелькитов» — пред лицом истинных еретиков.
Всем, кто примет участие в походе, обещалась добыча и власть над «заблудшей Европой под сенью единого Бога и сына его Чингиса... покровителя христиан».
Не успел Бату оглянуться, как владетели множества душ — православные иерархи — откачнулись от него к Гуюку. Одно утешало — не все.
Доносили Бату, что некоторые несториане не согласны считать своих заклятых врагов-мелькитов друзьями и собираются такие вокруг семьи Тулуя. Да, не бывает худа без добра.
С указом против Папы Гуюк поступил мудро (для себя), а с указом о примирении двух ветвей «служителей Мессии» явно поторопился. «Воистину тяжёлый урок и для нас, — подумал тогда Бату, — нельзя объединять людей «за что-то», только «против кого-то».
Так или иначе, многие несториане, не согласные с Дорагинэ и Гуюком, откачнулись к семье вдовы Тулуя. А это было на руку Бату.
Весёлые настали времена. Где-то меж всем этим «библейским кружением» затерялась, как блоха в косичках, гордая, великая Яса. Она превратилась в слепой меч, а точнее в дубину, коим одни «служители Мессии» потчевали других.
В очередной раз несладко стало мусульманам, и на их поддержку мог Бату тоже вполне рассчитывать. Эта мысль вдруг понравилась его брату Берке, который всё уговаривал обратиться за помошью к багдадскому халифу. Но Бату не спешил: с друзьями рассоришься, а халиф не поможет — у него своих забот... Зато отдал приказ всячески помочь людям Булгарии, им же когда-то разорённой. Тамошние «белоголовые» — случись чего — его опора и против накалённых мелькитов Запада, и против пламенных несториан Востока.
Союзником оставался Ярослав, у которого вышколенное войско, за которым — богатства Новгорода. А если всё-таки поддержит Фридрих... ох, не поддержит.
Удар получился внезапным, но такое можно было просчитать. Огласили указ матери Гуюка регентши Дорагинэ (явно без сына не обошлось). Князь Ярослав немедля должен ехать в Каракорум. Настойчивое приглашение написано было мягкими словесами и полно прозрачных намёков на великие милости, ожидающие князя в столице империи «за помощь в войне».
Пришлось Ярославу — хочешь не хочешь — ехать в Центральную Орду. Если ослушаешься — это стало бы даже не вызовом, а прямым неповиновением. Ссориться с быстро набиравшим силу Гуюком — безумие.
Хитрый урусутский князь ходил понуро, изображал озабоченность и недовольство, но не ликовал ли внутри? Такая ли уж это была для Ярослава обуза?
Бату ночей не спал, чесал огрубевшим пальцем щёку. Думы его были не сладкими. Ярослав — воин, он ненавидит папистов, так вот они — воюй. Конечно, Бату щедро его одарил (впрочем, права на это не имея), но Гуюк сейчас пообещает честолюбивому князю нечто большее, чем власть над Русью (например, добрый кусок завоёванных в будущем Вечерних земель). Когда Бату был джихангиром, Ярослав имел все резоны с ним считаться, а что теперь? Не закружится ли у Ярослава всегда трезвая его голова. А ведь закружится...
Нужно ли быть великим мудрецом, чтобы понять: Ярослав (со всей мощью своих сбережённых сил) его предаст, примет в этом противостоянии сторону Гуюка.
Так или иначе, но у Бату выбора нет. Ничему он помешать не в силах. Сиди и жди — чем обернётся поездка в Каракорум князя, которого сам же усилил, сдержав данное когда-то слово. Слово — оно важнее сиюминутной выгоды.
Так-то оно так, но сдержит ли Ярослав своё?
В таких-то думах и застал хана освобождённый из рязанского полона Олег. Их встреча — после долгих кружений — наконец состоялась. Но поздно, слишком поздно. Евпраксию уже не воскресить, Рязань не вернуть. Говорили они наедине, по-тюркски. Бату вставлял и русские слова, которые узнал за эти годы — урусутский язык он тщательно учил с толмачами.
Бату и Олег Рязанский. 1243 год
Наверное, выглядил Олег после ласковой темницы далеко не богатырём... Потому его затравленный взгляд был истолкован Бату не совсем верно.
— Не смотри ты на меня глазами раненого лося. Зла тебе на меня не за что держать. Гуюк все эти годы — первейший мой враг. Кто я был тогда под Рязанью твоей? Джихангир — кусачий пёс на цепи... из тех псов, кто не самые верные.
Олег поднял голову, глаза Бату светились добродушным лукавством:
— А знаешь ли, как мужественно ты погиб?
— Я? — совсем потерялся князь от этого лукавства, неуместного на лице повелителя, как слово любви в устах Вельзевула... Привыкший к подобным выходкам Гуюка, способного в любой миг сменить гнев на милость, он обжёгся об одно лишь слово «погиб».
«Значит, всё-таки смерть, всё-таки...»
— Ваши рязанские улигерчи-сказители уже позаботились о твоей судьбе, коназ. Ты мужественно погиб тогда под Пронским, разве не помнишь? Я дохнул на тебя «огнём мерзкого сердца своего» и повелел «дробить тебя ножами острыми». Каган Гуюк предложил бы не расстраивать твой добрый народ, не лишать его красивой небылицы... и удавить тебя прямо здесь...
Он выдержал паузу — это была последняя проверка. Князь сжался, но не задрожал.
— Я не Гуюк, но всё-таки расстрою твоих сказителей. Я злой, потому живи. И ещё мы тогда, в той войне, посекли всех «рязанских пискупов», такое у вас поют, — добавил хан, — хотя, как мне помнится, епископ был один, да и тот сбежал. А про соборы будут говорить — не верь. Подожгли их ваши сами, с собою вместе.
Олег поднял глаза в недоумении, не оправдываются ли перед ним?
— Не веришь, так знай: согласно Ясе, я должен был спасать, а не палить храмы чужих богов. — В Бату поднимался пафос от слова к слову, будто перед войсками вещал. — По мне, так всё вперекор надо делать: безвинных людей щадить, а соборы ваши хищные как раз и выжечь дотла.
Он замолчал, вспоминая подробности того штурма.
— А и с храмами, если по чести сказать, наших христиан против ваших еретиков как было удержать? Никакая Яса не в подмогу. Латыны вон тоже чужие храмы жгут при случае, особенно те, что с крестами, да не на их папский лад. Где христиане меж собой дерутся — никакие «моавитяне» с «тартарами» не спасут. Не так? А и то сказать, — разошёлся Бату, — когда ваш великий хан Ярослав Мудрый (коего ваш древний епископ Иларион «ханом» величает) на Киевский стол взошёл, что было?
— Что было? — глухо повторил Олег.
— Плохо летопись чел, а мне читали... «Погоре церкви» от вашего Ярослава, вот что было... — Хан вздохнул. Этот всплеск оправданий его утомил. Он продолжил тихо: — Чем я хуже Ярослава? Тоже ханом звался, тоясе Русь собираю и князей мирю, «аки младеней сущих». — Про «младеней» Бату вставил по-русски, не по-кумански. — Говорю тебе сие не исповеди ради. Что мне ваша исповедь. А чтобы знал, как наветам противиться. А то знаю я ваших, знаю. Но за писания противные мнихов не трогаю пока, цени.
Резвясь, Бату не спускал с Олега глаз, следил за его лицом. Потом вдруг из многословного, почти беспечного — стал вдруг серьзным и жёстким.
— Знаю, что ты хотел спасти Рязань от погрома, это достойно похвалы. Но как знал, что я слово сдержу? Не слишком ли доверяешь незнакомцам?
— Не людям, хан... — несколько оробев, признался Олег. — Я послал бы весточку, чтобы открыли ворота только при одном условии. Ты должен был пред лицом твоих нойонов поклясться именем вашего Мизира, что не тронешь город. Такую клятву не смог бы нарушить и джихангир.
— Да, ты мудрец, и про Мизира знал уже тогда. И мужества тебе не занимать, — одобрил Бату. — Доехал бы до меня в тот раз — цела бы сейчас стояла твоя Рязань, а ты — князем в ней был бы. Веришь ли?
— Под сенью Ярослава? — вдруг, осмелев, дерзко ответил Олег. — Не слишком-то сладко. Зря ты дал ему узду над Русью, хан. Он — предаст тебя и переметнётся к Гуюку.
— Ты и это знаешь? — нахмурился Бату. — Как же советуешь поступить? На кого ещё опереться?
— Слишком мало знаю, хан. Будет второй поход на Запад, снова запылают и наши города, — ушёл от ответа Олег.
— Запылает и мой улус, коназ. Ну, а ты? Ты не предашь меня?
— Кто я такой, чтобы предавать? Пыль серая. Разве на такие вопросы отвечают, хан?
— Что верно, то верно, — вдруг засмеялся Бату, — хочу тебя, князь, отправить туда, куда ты с Гуюком не доехал — в Каракорум. Нужны мне там союзники из князей, знающие русские дела. Ты из таких, ибо много я слышал от соглядатаев про ум твой и знания. Гуюка же не бойся: к другу моему Мунке-хану поедешь, а он в обиду не даст. Найди там человека по имени Маркуз и жди... Я нухура твоего, Гневаша, пристроил в гридни к Ярославу — жди от него вестей — он человек хваткий.
«Ну надо ж, пострел. Уже и в лазутчики к Бату пролез», — подивился Олег вёрткости своего знакомца. Ему стало весело.
Бату и Михаил Черниговский. 1246 год
Увидев князя Михаила, хан всё-таки был разочарован. Собирая по крупинке сведения об этом человеке, он ни разу не поинтересовался возрастом. И вот перед повелителем стоял высокий костлявый старик. Чем-то (ростом-ли, повадкой) князь напомнил Бату самого Чингиса. Правда, тот — горбился, а не выгибался грудью вперёд. Это сходство, с Потрясателем Вселенной ещё больше усилило неприязнь.
Приехавший вёл себя странно: то ли испуганно, то ли надменно. Он желал выклянчить у Бату грамоту на владение Черниговом, и по всему видно было, князю невыносимо тяжело склониться перед «дикарём и нехристью». Отсюда и нарочитая, а потому глупая величавость.
«Экий петух, — подумал хан, — гордец — не проси, просишь — не гордись».
Хан смотрел на князя и не мог ему надивиться. Не так давно Боэмунд, застрявший в Европе со времён «вечернего похода», передал со своим лазутчиком из города Лиона занятное: Михаил выпрашивал у папистов помощь, чтобы ударить на Бату скопом, всех обиженных в кулак собрав. Бату встревожился и всё думал-гадал, как Михаила (имеющего по старой памяти немалый вес на Руси) то ли выкрасть, то ли заманить в сети. Вызывать князя к себе в юрту прямым указом было бы неумно: зная свои грехи, наверняка не приедет, сбежит. Бату был уверен, что у Михаила хватит ума не явиться на явную расправу, и думал даже отрядить за ним «родственных душ», чтоб привели его на аркане.
Князь приехал сам. Просить Черниговский стол. Вот это да!
Сначала Бату думал, что это мужество, но потом понял: князь, считая хана дикарём, действительно настолько слеп и полагает, что Бату ничего не известно про его интриги на Лионском соборе.
Мстительным Бату не был, но от этой встречи ожидал много приятного для себя. Редко бывало в последние годы, чтобы тупые, как таран, устремления беспощадной Ясы столь совпадали с вожделениями души.
Выслушав просительную речь, хан стал медленно разматывать длинный, пропитанный ядом ответ:
— Переведите ему: ты просишь Чернигов, князь, но память твоя коротка. Кто не знает простого: есть силы — сражайся, рука ослабла — покоряйся. Если, конечно, о народе своём думаешь, не о жабьей гордыне. Так нет же — защищать свой улус ты, коназ, не захотел, — хан нахмурился сильнее, красные пятна выступили на щеках, как крапинки на коже змеи, — и сдаться не пожелал. А семью свою бросил в Кременце — это как? Глупая дрофа не делает такого. Чернигов свой оставил без панциря нагрудного, уведя дружины, и стало там — куда ни ткни — мягкое брюхо. В этом ли доблесть правителя?
Услышав толмача, Михаил побледнел и покачнулся. Безжалостный дятел совести вдруг забарабанил по вискам.
Тогда, в тот страшный год, семью своего врага тут же пленил вёрткий союзник Бату Ярослав, а Чернигов монголы взяли без труда и хорошенько там поживились. Город брали кераиты Гуюка, и он сполна отыгрался за упрямый острожок Козельск, что был у того же Михаила в подчинении. Бату думал тогда: ладно уж, пусть Гуюк потешится.
Растерзав черниговские владения, джихангир отдал долг Ярославу Всеволодовичу за то, что тот не воевал против в суздальской земле. И тем ещё отплатил, что утопил козельского малолетнего княжича Василия Козлю в его же собственной крови — княжич тоже мог претендовать на киевский великий стол. К тому же Бату позволил захватить в заложники Михайлову семью; Чернигов был обессилен и зубов лишился.
Разор в Черниговском княжестве был выгоден Ярославу: ещё бы, теперь Ольговичи не скоро воспрянут, а Ярославова дружина цела. Выгоден он был Гуюку, тот и нахрапистых нухуров наградил, и будущие владения Бату обескровил.
А вот самому Бату, который стал подумывать о заключении мира со всей Русью, это всё было не очень-то надо. К чему бессмысленные разорения? Покоритесь (на словах) и живите, как жили. Вот про это — что «на словах» — говорилось кому тайно, кому намекали. Умному достаточно.
В Смоленске, где войск черпай не перечерпаешь, его поняли. В неприступном Новгороде пораскинули купеческим умом, согласились. Сильный не о гордыне думает, а как людей своих уберечь, оттого и сильный. Бату проникся симпатией к этим городам. Толковые там люди, поняли его послов с полуслова. Вот на них и обопрёмся против Угэдэя и Джагатая, когда будет надо. Именно они могли против него сражаться и победить. Но именно они его поняли.
С Галичем и Волынью всё оказалось сложнее. Хоть и бегали глаза у коназа Даниила, а величаться не стал. Правда, не столько он не стал, сколько действительные правители тех западных земель — толковые бояре, коим Бату обещал «древлие вольности».
За Галичем стояли союзники-венгры и тогда ещё здравствующий хан Котян. Им тоже было что выставить против уставших туменов. Но и здесь гордыня не перекусила разум.
У коназа же Михаила, засевшего в Киеве, где его терпеть не могли (и за то, что Ольгович, и за то, что гордец и дурак), у Михаила, лишённого семьи и родного города, смысла сопротивляться не было никакого. И надо же так случиться, что именно этот ублюдок отказался от мирных предложений, убил послов Мунке, чем сгубил Киев, сожжённый из-за этого дотла как «злой город». Но это ещё полбеды. Кроме того, он добрался до Венгрии и сумел напугать венгерского короля тогда ещё несуществующим замыслом «Батыги» идти на Венгрию.
Эта ложь была из тех разновидностей лжи, что впоследствии становятся правдой.
Кто знает, может, если бы король выгнал Михаила восвояси, всё для Венгрии бы сложилось иначе. Но, приютив злополучного черниговского князя, мадьярский повелитель усилил сторонников продолжения войны, засевших в тех краях, о которых и не слыхивал толком... В далёком далеке, за тридевять земель, в каракорумской ставке.
Тогда на бедного великого хана Угэдэя с одной стороны давили люди Чуцая (считавшего, что нужно остановиться), а с другого боку — Хранитель Джагатай, желавший слепо идти вперёд, к Последнему морю. Великий хан колебался упругим стеблем то в одну, то в другую сторону. Ничтожный князь Михаил оказался песчинкой, качнувшей весы в сторону новой войны, камешком, вызвавшим лавину.
Мысли об этом пронеслись в мозгу хана стремительно, и он вдруг понял: князь не ведал что творил. Бату вдруг совсем расхотелось глумиться, и он спросил о главном:
— Знаешь ли ты, что латыны не только иноверцы, но и лютые враги Руси?
Величественный старик дёрнулся, услышав перевод, — кивнул.
— Ведаешь ли ты, что желают они обратить всех урусутов в своих боголов, суть холопов, и поселиться на ваших землях навеки?
Михаил кивнул уверенно.
— А мы на ваших землях не селимся. А те ваши княжества, что сразу покорились Богу и Великому Чингису, даже данью не облагаем. А то, что берём в Руси Черниговской по беле[120] со двора — так сами виноваты... вовремя надо было покоряться.
В глазах Михаила сверкнули молнии. Думал ли князь тем хану возразить, что не всё так безоблачно, сказать, что с тех пор, как не стало Юлюя Чуцая, измываются над здешними землями Гуюковы «откупщикио-баскаки, приезжающие издалека? Вместо строгой «бели со двора», назначенной когда-то Чуцаем, берут, что кому вздумается, сколько кто увезёт — так Гуюк своих приближенных награждает. «Езжай на Русь, бери, что пожелаешь» — так он своих людей одаривает. Впрямую не говорит, намекает. Эти каракорумские откупщики стали хлеще чёрного мора. Угоняют в рабство людей, всех, кого хотят: умельцев ли, несемейных ли, красивых девиц. Селяне, завидя откупщиков, в леса разбегаются. Ничем хорошим всё это закончится не может.
Нет, так нельзя: рабов — с боя берут, боголов — на рынке покупают. Подданные-сабанчи должны защиту чувствовать. Но что для Гуюка Русь? Кобыла дойная. Иссохнет, сдохнет — дальше, к Последнему морю пойдём.
И ничего тут Бату поделать не может: люди великого хана — неприкосновенны... А что до бунта скоро дойдёт, что вот такие, как Михаил, уже и под латынов качнуться готовы — такое не по Гуюку, а по Бату ударит.
Лишь Залесскую Русь откупщики не трогают покуда, не ездят туда грабители с пайдзами. Ярослав — у него войска не растрёпанные... у него в Новом Городе княжит сын Искандер, такого в союзники хотят для новой войны.
Бату отвлёкся от мыслей и посмотрел на Михаила... Это ли хочет возразить? Да нет... Что для таких народ? Им только власть подавай. Сам эти земли зорил не хуже монголов.
— Знаю я, что Ярослав — твой враг, семью пленил. Но он воевал с папистами за веру вашу. Его сын разбил оных на озере Чудском, во Пскове вешал тех, кто с латынами в сговор вступал.
Михаил опять кивнул.
— А ты на Лионском соборе с Папой против меня крамолу ковал! Погибель мою замышлял. Не так ли?! — вдруг возвысил голос хан, почти крикнул.
— Не было того... — отпрянув, промямлил Михаил.
Толмач медленно перевёл.
Бату сжал губы, стал строгим, угрюмым, страшным.
— Провести его меж двух костров, по обычаю Великой Ясы. Ежели лжёт — огонь покажет. Иди, князь.
Услышав слова толмача, Михаил гордо выпрямился. После отповеди Бату князь как-то стал сникать, и вот опять вернулась прежняя стать.
Гордость в жизни — обуза для окружающих, трудно жить с гордецами. Гордость же перед смертью уваженья достойна. Выпрямился князь и заявил, что обряды «поганые» — языческие то есть — выполнять не будет, ибо вера в Христа в нём сильна.
— Ах вот как! Латыны — еретики для вас, «мертвецы живые». Как же ты, этакий праведный, на Русь их желал навести, перед Папой стелился? Отчего тогда о Боге своём не думал? — поинтересовался хан, который неожиданное мужество князя одобрил и оценил, однако виду решил не подавать.
За непокорность у монголов предусматривалась казнь искусная: осуждённого медленно забивали пятками. Такое досталось и Михаилу, вместе с ним ту же смерть принял и сообщник его по лионским козням — Андрей Мстиславич.
Князь Андрей, сын погибшего на Калке Мстислава Черниговского, подлежал уничтожению ещё и за другое: как отпрыск рода предателей, истребивших когда-то Субэдэево посольство.
Однако Бату не желал широко разглашать истинную причину казни. Обоим князьям было предъявлено обычное ложное обвинение, покрывающее туманом все оттенки тайных интриг: «за кражу лошадей».
Бату и Даниил Галицкий. 1246 год
Даниил поднёс к обескровленным губам пиалу с кумысом. Тяжёлым усилием богатырской воли он на какой-то миг слегка подавил в себе брезгливость. И тут, как ангел с утешающих Небес, снизошла вдруг на гордого князя очень уместная в этой скользкой ситуации идея: «Сие — не позор, нет. Сие — испытание позором».
Когда-то Бог, произнеся нужное слово — а именно назвав себя по имени — закрутил великую круговерть набухающего Сущего. Ныне же, подсказав правильное название для Даниилова уничижения, мгновенно избавил страстотерпца от страданий духовных.
«Слово сие — а именно: «Испытание» — да породит Царство счастливое Русское под Божиим небом, аки Слово Изначальное «Бог» породило весь Мир Сущий», — это пророчество прогремело в голове князя так отчётливо, что он даже перепугался. Не услышит ли его Батыга?
Однако Господь, сняв с князя тенеты духовные, не позаботился о телесных. Жидкость эту, подобную странной белой моче, ещё предстояло испить и обратно не извергнуть... Уф-ф, легко сказать. Не найдя в себе должного мужества, Даниил дёрнулся было к назидательным примерам из истории мученичества. Обратив свой мысленный взор на первых христиан, страдавших от гонений Нероновых, он обнаружил в себе лишь зависть и досаду. Святого Лаврентия, например, всего лишь жарили на решётке. Добрый римский кесарь не заставлял его пить всякую неудобь и сдерживать спазмы греховной плоти. А плоть — она такая, она есмь дьявола порождение. И гадость эту кислую упорно желает исторгнуть наружу.
В неподвижных глазах свирепого Батыги Даниил вдруг прочёл немыслимое — детский озорной блеск. Или только почудилось?
Округлив белки словно пойманная рыба, галицкий князь глотнул остатки из пиалы, чтобы одним махом закончить наконец мучения. Только это он зря сделал: улежавшаяся уже было жидкая дрянь поднялась из капризных глубин чрева и снова наполнила рот. Преграждая её дальнейший опасный путь, несчастный князь раздул щёки, как будто намереваясь трубить в несуществующий рог. Его тонкие волевые губы накрепко сомкнулись, как врата неприступной крепости перед лицом настырного ворога. Под русыми половецкими волосами немедленно набухли крупные капли пота. Извергнуть ритуальное угощение было страшно — за это могли убить. Такова Яса. Оскорбление ханского величества могло повлечь очередные набеги, а, значит, его судорожные сжатые губы были сейчас поважнее градских укреплённых ворот.
Ужас, наполнивший его существо, помог преодолеть брезгливость. Ему наконец полегчало. Сердце всё меньше напоминало боевой барабан — скорее звуки кузнечного молота. Отдышавшись, он почувствовал, как неудержимо краснеет.
Стоящие вокруг хана тургауды, не стесняясь, веселились вовсю. Кто-то хмыкнул. Бату повернул голову, зыркнул на стражу так, что лица снова в мгновение стали медными масками. Этого мига хватило Даниилу, чтобы окончательно овладеть собой. Он хорошо научился это делать за последние годы.
Щадя его достоинство, Бату презрительно улыбаться не стал. Понял, что Даниил из тех мнительных людей, которые будут мстить за унижения всю жизнь. И все-таки улыбку сдержать было трудно. Чтобы не вышло хуже, хан решил превратить её в доверительную:
— Хорош наш кумыс? Не налить ли ещё?
— Отчего же, освоимся, — с деланой бодростью отозвался Данило, — и воин не сразу привыкает к вкусу крови врага.
Ответ содержал в себе замаскированную дерзость, мол, подожди, привыкнем ещё пить вашу кровь, как сейчас привыкаем к кумысу, дай срок. И всё-таки, несмотря на случившийся с ним конфуз, Данило не вызывал к себе высокомерной жалости — это Бату понравилось.
— Мудрый воин отличит кровь врага от крови друга. Правду ли я говорю, Данил?
Услышав от толмача ханский ответ, князь не смог сдержать невольный выдох облегчения. И всё-таки видно было и другое: гость-невольник, неумело скрывая ужас, ожидает: вот сейчас преподнесут вторую пиалу.
— Садись, коназ, — пригласил Бату по-урусутски. Ему очень хотелось произнести это слово правильно. Кажется, опять не получилось.
— Кланяйся. Повелитель обращается к тебе на твоём родном языке. Это — великая милость, — быстро зашептал толмач на ухо опешившему урусуту.
— Вижу, ты уже наш, татарин, — снова по-русски указал ему хозяин на почётное место, — не бойся. Больше не будет кумыс.
Даниил — видно было — опять приложил все усилия, чтобы не опуститься на шёлковую подушку так, будто ноги у него подкосились.
«Гордец, — мимоходом отметил хан, — гордецы, как глухари на току, — не слышат поступь охотника». Впрочем, то, что хан на сей раз намеревался предложить Даниилу, ни в коей мере не делало князя дичью.
Бату, склонный подвергать людей испытаниям, всегда стремился вознаграждать тех, кто эти испытания выдержал с каким-никаким, а достоинством. Крикнув баурчи, он небрежно махнул рукой. К облегчению Даниила ему наконец налили вина. Рука, подносящая чашу ко рту, с трудом преодолела дрожь. В последний момент князь сообразил, что чуть не выпил чашу, опережая хана. Бату освободил его от мук, быстро подняв свою, и, наконец опрокинул её в улыбающийся рот.
— Ты умеешь говорить по-кумански, Данил?
Тот кивнул, показав, что понял вопрос, и хан отпустил толмача.
— Коназ, ты из тех людей, кто не побоится говорить правду. Забудь о заботах. Всё позади. Что бы ни сказал сегодня, слово хана — уедешь живым домой, а твои владения останутся за тобой. Вижу, Данил ты не веришь, думаешь, я дикое чудовище или, как у вас говорят, «идолище поганое». Как видишь, я знаю даже это. Скажи мне Данил, почему вы так боитесь быть дикими? Что в этом дурного?
Даниил был рождён для мужественного преследования врага, но первую половину жизни побегать пришлось самому. С младых ногтей гоняли Даниила по свету белому все кому не лень — черниговцы, венгры, поляки, а более всего — свои родные бояре.
Когда венгры, опираясь на доброхотов из местных бояр, выгнали князя Романа, отца Даниила, с галицкого княжения, остался там за наместника молодой королевич Андраш. Галичане к тому времени устали от жестокости Романа и сластолюбия его предшественника, «законного» князя Владимира (насильника жён чужих и доброжелателя жены, ставшей своей, но отнятой у живого мужа). Они были рады хоть кому, только б не из тех... Андраш доверие оправдал, показав себя государем справедливым, но вот беда — неправедным. Не очень был озабочен Андраш главной своей задачей перед папским престолом, чьим леном была несчастная Венгрия, а именно обращением в истинную веру еретического народа. Проповедники рьяно взялись за благое дело, вырывая схизматиков из греховных пут. Подстрекаемая ими, распоясалась и Андрашева друясина, вспомнившая, что с еретиками любезничать — дело недоброе и Христом наказуемое, ибо «возлюби ближнего своего», но никак не дальнего.
Если бы не этот преждевременный «благочестивый» порыв, Венгрия вполне могла бы усилиться за счёт благосклонного к ней Галича (а там, глядишь, и Волыни, а там, глядишь, и поляков подвинуть). Но не сложилось... «Небесная» вражда раздавила «греховную» дружбу.
Узнав о недовольстве низов, изгнанный боярами развратник князь Владимир на польских мечах ворвался в город (ляхам только повод дай) и занялся привычным делом — кутежами и безобразиями, да так, что венгров помянули добрым словом. Вечный вопрос о том, кто лучше — разбойник или проповедник, — заставлял закипать расчётливые боярские головы. Увы, хлебнули лиха из обоих кубков.
Спор решился просто, едва Господь прибрал сластолюбца Владимира на Суд.
Снова явился (безо всякого спросу) старый знакомый — «великий» Роман Мстиславич. Прискакал на плечах тех же поляков (этим только свистни), и... и с тех пор перевелись в Галиче венгерские доброхоты. Удалой князь кого в землю живьём зарывал, кому кожу сдирал, кого — на кол, кого приглашал воротиться, обещая разные милости, а уж потом предавал легковерных сладостной казни. Перед этой блистательной расправой померкли все неприятности венгерских гонений и Владимировых художеств. Уже никто не спорил в вольном городе, какая власть лучше, ибо все споры замерли в предсмертном оцепенении. Тихо стало в Галиче, как на погосте, или как... в далёком Владимиро-Суздальском княжестве, «новыми» обычаями коего галичане своих детей пугали, как некогда половцы Мономахом.
(Через несколько столетий, подробно описав в своём труде расправу над боярами, маститый историк Николай Иванович Костомаров на той же странице скорбит о безвременной кончине Романа, ибо «много ещё можно было ожидать от такого князя для судьбы Юго-Западной Руси». Тут не поспоришь — лучше пусть свои закопают живьём, чем чужие «душу народную вынут». Но и современникам Роман тоже пришёлся по душе, ибо «ходил по заповедям Божиим», летописи разъясняют: был «гневен как рысь, губителен как крокодил»).
Данило отца не помнил. Четырёх годков ему не было, когда сгинул «святой крокодил» — родитель где-то в ляшских пределах. Ну да невелика беда — другие напомнили. Унаследовал Данило всех врагов, коих плодить был его отец большим охотником. Оттого и пришлось повидать свет белый в бесконечных бегах, по времени княжил Данило на Волыни да в Галиче куда меньше, чем в изгнании скитался.
Незадолго до Батыева нашествия очередной раз согнали Данилу с Галицкого стола — на сей раз Михаил Черниговский. Сам Михайло в Галиче не осел — есть и поважней дела — сына своего там оставил кукушкой в чужом гнезде.
Выгнав очередного обидчика из злополучного города, Данило там тоже оставаться не стал. Галич стал для него, словно как холка коня дикого. Облюбовал князь для покоя и дум небольшой городок Холм и оттуда, как охотник из укрытия, пристально на Галич посматривал.
В давней тяжбе Данилы с Михаилом удача склонялась то к одному, то к другому. Каждый понимал: самое главное — благоволение короля венгерского. Союз с ним — залог прочной власти и над Галичем, и над Киевом. А там, глядишь, и куда подале можно взор обратить — всему свой час. Но нет прочнее скрепы, нежели династическая: это вполне оба соперника понимали.
Уже отбивала тысячекопытную дробь Батыева конница в ближних пределах, а Даниил с Михаилом все думали не про оборону, а как с венграми породниться. Вот что главным казалось для них.
Не судьба была Даниилу с венграми породниться, обскакал его пронырливый Михаил и выдал-таки своего сына Ростислава за королевскую дочку. С таковою великою бедою разве сравнится та мелкая докука, что разорили злые моавитяне-татаровья и Киев с Галичем, и куда как много мелких городишек. Одним утешился тогда Даниил — не поздоровилось от нехристей и Венгрии, на которую столько надежд возлагал галицкий князь. Всё ж таки зело приятно, когда и соседа жареный петух поклевал, не только тебя самого.
Данило вернулся из очередного изгнания и с теплом душевным узрел, что, ежели кто и пострадал от Батыевой беды, то прежде всего ненавистные недруги-бояре. А смердам кабы ещё и не лучше стало. В строптивой болоховской Земле Батыгу-поганого, Христа не стесняясь, «добрым царём» меж собой кличут. Тут-то и Даниил помянул Батыгу словом, если и не добрым, то уж и не совсем злым. Куда больший зуб вырос у князя на обидчиков венгров.
С тех пор много чего случилось, но не думал Данило, что будет он вот так сидеть пред очами монгольского нехристя и дрожь греховную унимать.
— Воевода твой Дмитр, коего в Киеве оставил мне на съедение, добрым воином стал в туменах моих. Ходил со мной на угров и ляхов. Негоже, коназ, хорошими людьми бросаться. Тканями шёлковыми пыльных дорог не устилают.
— Дмитр — жив? — тихо удивился Данило.
— Служит у меня — не тужит, спасибо тебе за него. Пощажённый под Киевом за мужество, много пользы мне принёс твой храбрый нухур. А ты берикелля, молодец. Землю свою отстраиваешь, беглецов из Рязанщины и Черниговщины привечаешь. Я рачительных хозяев люблю. И враги у нас с тобой теперь — общие, что ж за помощью не ехал, иль робел?
«Какие там ещё общие враги, — передёрнулся князь, — час от часу... Ещё и воевать заставит. Не пойду — притомилась дружина».
Дальнейшие слова свирепого варвара заставили Данила удивиться его осведомлённости в таких делах, что и не мнилось. Правда, говорили они — опять через толмача.
— Отец твой, Роман, сгинул в земле ляшской. Шёл он на выручку гибеллину Филлипу Швабскому, врагу папистов, и пал от руки поляков Лешко и Конрада. Но предсмертный его путь был верным путём. Как видишь, князь, я знаю даже это... — Переждав растерянное удивление гостя, Бату улыбнулся, продолжил: — Я рад, что ты, наконец, перестал пресмыкаться перед венграми — прихлебалами латынов и вступил на отцовскую дорогу. Она принесёт тебе удачу. Теперь угодное Небу дело Филиппа продолжает кесарь Фридрих — он мой друг.
Даниил всё никак не мог прийти в себя. Услышать о таком здесь было выше его разумения. О расколе между папистами и защитниками императорской власти (гвельфами и гибеллинами) знали все русские князья. Всякий влиятельный из них поддерживал то тех, то других — куда в нужный миг парусам попутно. Понтифик римский в свою очередь соблазнял варварских князьков королевскими коронами — её предлагал в своё время и Роману. Но тот, разобиженный и венграми, и поляками (и те, и эти воевали за гвельфов-папистов), решил поддержать другую сторону, за каковое дело и сгинул.
Поначалу Даниила пытался опереться на венгров против Чернигова, потому и был как будто за понтифика. Но с тех пор, как венгры предпочли ему Михаила, разобиделся и пошёл по стопам отца.
Вернувшийся после Батыева нашествия в Чернигов, Михаил тоже не дремал. Оперевшись на тестя и его войска, сговорившись с малопольским королём Болеславом Стыдливым, старый враг задумал снова оттянуть себе многострадальный Галич. За спиной Михаила в далёком итальянском далёке, одобрительно кивая, стоял главный священник Европы. Но на сей раз не сошлось.
Поняв, что против Беса надобно разбудить Вельзевула, обратился Даниил за поддержкой к союзникам Фридриха — Конраду Мазовецкому, да ещё и литвин Миндовг пособил. Ему латынов бить не в новинку. Так или иначе, но под градом Ярославом руками поляков и русских гибеллины очередной раз разбили гвельфов.
Даниил торжествовал, а тут, как гром средь победного неба, повеление от Батыя: «Дай Галич».
— Черниговцам, врагам твоим, я спесь укротил. Михаила отправил к предкам. Отчего не благодаришь за помощь?
— Благодарствую, великий хан, — выдавил Данило, услышав слова толмача.
— Три стрелы по душу мою, имена которым Бела, Болеслав, Ростислав, ударили в твой щит, Данил. За битву ту, под Ярославом, особое моё благоволение. Не карать тебя я вызвал — наградить. Теперь ты под моей защитой, князь. Владей своим Галичем и живи как жил. Паписты ли новые нахлынут, а то и коназы ваши строптивые, только скажи — пошлю войска. Ну а ежели на меня с Востока милый друг Гуюк тумены двинет — жду помощи твоей. Другом мне будешь — хозяином на Руси заживёшь. Предашь меня — пожалеешь. Но я верю в твой разум, коназ.
Даниил расправил плечи, осмелел:
— Грозят нам паписты крестовым походом с Запада, а того пуще — грозят несториане Гуюковы крестовым же походом — с Востока. А суздальский Ярослав, Гуюком в ставку вызванный, того и гляди, предаст меня. Чует душа, так оно и будет. А я ему Киев пожаловал, — вкрадчиво добавил хан, — может, зря пожаловал?
Князь встрепенулся.
— Ежели свалим Гуюка, за верность и помощь — кому Киев отдам? А Данил? Подумай о том на досуге... Подумай и о том, что откупщики, которые в землях твоих свирепствуют, — не моя вина. Они из Каракорума, а не из Сарая моего. Свалим Гуюка — не будет никто сабанчи твоих обижать. Поборы сверх меры и вины — мягкой данью заменю, чтоб воинов кормить вам же на защиту. Вот о чём думай, Данил. Всё, иди с миром.
Ярослав Всеволодович. Каракорум. 1246 год
— Ну что, коназ, неужели сменишь ты будущее величие на слюни сострадания к тем, кому не доступны думы великих? Неужели предпочтёшь упустить коней своей славы ради той травы, которую они потопчут? Русью владеть будешь, земли ляхов и франков восходных жалую под крыло. Счастливы будут потомки твои, милость такая — раз в жизни бывает, выбирай. — Гуюк смотрел на Ярослава торжествующе. Он уже не сомневался.
— Я дал слово Бату, — неуверенно проговорил Ярослав, и это признание уже было равносильно согласию.
Гуюк усмехнулся. Урусут хочет, чтобы его уговорили.
— За верность слову, данному врагу моему, пострадает спина.
— И лишишься войск урусутских, — осторожно напомнил князь. — Под моей рукой пойдут воевать за тебя. Без меня — соскребай не соскребёшь.
Гуюк усмехнулся вторично. Урусут торгуется — уже хорошо.
— Ваши попы благословили мой поход на еретиков-папистов.
Ладони князя ползали по холодным коленям, как два белых непослушных паука. «Всякая мука не вечна», — робко попытался он себя утешить, но только усугубил мучения. К тому же вылезло из глубин ужасное уточнение: «Всякая мука, кроме одной... той, что начинается с проклятья тебя Богом».
Ему стало вдруг пронзительно тоскливо, и если б он мог надеяться, что достаточно разбить голову и наступит вечное забытье, — князь бы сделал это немедленно. Однако, как человек православный, он знал — вечным будет что-то другое. Или — или.
Все города, что пощажены были в прошлой войне, будут воевать за Батыя — не за Гуюка. И не отстраняться придётся как в той войне, а своими же войсками жечь не черниговские, поля родные.
Неожиданно возниколо видение: перед ним Переяславль, город, знавший Ярослава задорным мальчишкой; угрюмые смерды на стенах, родные бородачи, с кем столько походов прошагал; и он... он стоит пред стенами с войсками из верных и к вечеру убьёт и этот город, и этого мальчишку.
Авраам, поднимая жертвенный нож над связанным сыном, мог сомневаться в праведности действий своих... Но Всевышний сжалился над любимцем — отвёл дрожащую руку, чем оставил Аврааму высокий дар сомнения.
К Ярославу он не так снисходителен, чёрных ангелов Гуюка не остановишь, как стрелу в полёте. Поздно. Теперь князь наконец получит власть, утратив вкус к ней, получит победу, навсегда попрощавшись с животной радостью от победы.
Неотвратимая рука холодной справедливости аккуратно вспорола кожу, она приближается к его ничтожному сердцу, — оно пока только маленький кусочек мяса — приблизится, сожмёт его и сделает золотым. Суетное естество слепо трепыхается, как заваленный на бок баран. Ещё мгновение, мгновение — дело сделано. Превращение состоялось.
Сияющий, прекрасный в своей непреклонности витязь врастает в истомившегося жеребца. Теперь он — высокое орудие всезнающего Господа, теперь он — святой. На долгие века вперёд.
Клочья похолодевшей лошадиной пены текут на землю, как насмешка над теми слезами, которых больше не будет.
Потом огромный живой и тёплый город отдают на трёхдневное разграбление и насилие. Отдельные крики на расстоянии не различимы — слишком много их. Однако опытное ухо ценителя-ветерана, влюблённого в своё дело, различит в сладком гуле неповторимые оттенки, характерные именно для этого места — ни для какого другого.
Кажется почему-то Ярославу, что переяславский гул похож на мычание испуганного бычка. Подумав об этом, ставший «орудием Неба» князь даже улыбнулся: так оно и есть. Ведь городу придётся выдрать его древний болтливый язык — язык вечевого колокола. И языки всех других городов.
«Вот он и мычит как немой».
Строптивым горожанам — которых Ярослав знал ещё с раннего детства — отрежут носы и уши. Но новое его, медное, прекрасное лицо уже не исказится при виде этих досадных сцен. Не изуродуется безобразными гримасами сомнения в Высокой Правде своего возмездия.
Теперь он — святой. На долгие века вперёд.
Ярослав встряхнул головой, отгоняя виденье. Так или иначе, Бату — обречён. Поддержать его сейчас — потерять всё. Кто же этого не видит?
Сказал почти шёпотом:
— Да, великий хан, я принимаю твои условия.
Суркактени и Мунке. Каракорум. 1246 год
В сказочном краю, где бушуют жёлтые сухие моря, где реки выползают, как змеи из песчаных нор, где драгоценные лалы[121] и нефриты падают обвалами с угрюмых полночных скал, жила-была древняя страна оазисов — бедный, бесплодный край. Там издавна поселились чуть ли не самые богатые в мире люди — посредники караванной торговли.
В том краю искони пролегал блистательный путь, позволяющий владыкам Мира Западного и Мира Восточного щедро оплачивать тот кнут, при помощи которого они добивались, чтобы подданые были им покорны, чтобы они были «шёлковыми». Из-за того и прозвали эту жаркую дорогу Великим шёлковым путём.
Или, может, не из-за того? А просто везли по нему на Запад шёлк-сырец и шёлк-одежду, а обратно на Восток — иранскую краску для тех бровей, что и так красивы, вавилонские ковры в те дома, где и без того не жёстко, кораллы и жемчуга в те сундуки, что и без оных не пустовали.
Династии посредников тянули свою родословную в необозримую даль времён и были поначалу чем-то единым — народ тут рождался всё больше рослый, бородатый, светловолосый с отливом в рыжину, а глаза у них были — голубыми, как окаменелый лазурит из соседних гор.
Внешность свою они очень почитали — узнавали по ней породу. Ходили гордые, важные и знали силу свою: кому они мошну свою откроют, тот и будет в мире царь. Обидеть их самих опасались: кто же рубит ту чинару, под которой тень. Окрестные народы меж собой бодались, а к ним — с улыбочкой заученной.
Всё это так, и должно так быть, да вот беда... в мире здравый смысл не всегда торжествует. Ежели правду молвить, кто посредников обижал, сильно потом об том каялся Но в том незадача, что сначала-то обижал, а уж после — каялся. Доставалось оазисным старожилам и с Востока и с Запада.
Как-то раз, во времена укромные, пришлось бежать рыжебородым из Турфана — одного из «шёлковых» оазисов, спасаясь от ошалевших головорезов Срединной Равнины, Китая. Занесло их тогда, породистых, аж за Байкал. На родине этих людей называли чешисцами, а в новых землях — «мень-гу», или, иначе говоря, «монголы».
На Западе посредников тоже не всегда боготворили — то нахлынут арабы, то тюрки меру забудут... Однако местные жители не унывали, породу сохранили в чистоте. Это, конечно, правда, но не вся — кое-где попортили-таки окрестные дикари и породу.
Ведают мудрецы — вначале было Слово, меч — позднее. Потому пытались увещевать здешних толстосумов Божьим Словом, чтобы затем, в других местах мечом орудовать сподручнее было. Да только Бог един, а слово-то его кругом разное, и это бы ещё полбеды — кроме того, оно ещё «единственно верное». Кого только не переслушали оазисные жители за многие века, каких споров не насмотрелись.
Теперь же, ко времени, о котором речь, победило почти везде на Западе великой пустыни откровение Магомета, а на Востоке — христианское учение в том виде, как излагал его когда-то гонимый византийский патриарх Несторий. Потому-то и церковь их называлась — несторианской.
Всё это знала ещё с детства дочь хана Тогрула, красавица Суркактени-хатун — будущая жена Тулуя. Здешний настоятель Илия, тёзка того патриарха, что утвердил несторианскую метрополию в Кашгаре, был человеком образованным, поднаторевшим в диспутах с «белоголовыми» и еретиками-мелькитами. Настоятель был родом из того самого Турфана, откуда сбежали когда-то в Забайкалье чешисцы, и обладал как раз той самой внешностью, которую считал отмеченной Богом. По его мнению, и Адам таким был, и пророк Муса...
«А вот Мариам Магдалина, — говорил он Суркактени, — была, наверное, похожа на тебя, девочка».
А всё потому, что в дочери хана тоже была эта южная кровь. Кровь тех, кто приходил сюда когда-то с Божьим словом — первых подвижников-миссионеров. Приходили же они из Уйгурии, той самой страны оазисов. Сравнивал ли себя Илия с Христом (тайная гордыня) или просто нашёл подходящие уши, но говорил он царевне такое, чего другим не говорил.
Про то, как явился первому хану кераитов в пустыне Святой Сергий и крестился хан со всем народом, знали все здешние прихожане. А вот про другое...
— Дедушка Илия, а отчего в те времена кераиты крестились легко, а ныне меркитов и монголов и мёдом в веру не затащишь?
— В ту пору наказал Бог степные народы за грехи великой сушью, а уйгурские оазисы возблагодарил. Тогда голодные кераиты под нашими воротами нищими болтались... вот и крестились... Тяжко было здешним степнякам. Что у них, что у церкви нашей — общие клубились враги. Стиснули нас со всех сторон, со Срединной Равнины выгнали. Магометане, люди Кун-дзы, служители Будды — все мечи точили. Тогда под знаменем Святого Креста мы всю степь объединили. И ведь что обидно — всех крестили тогда, кроме того народа меньгу, который огненной Божьей внешностью отмечен.
— Да как же так? Может, у Бога для них какой замысел был? — хлопала огромными глазищами девушка.
— То-то и оно, что был, доченька. Теперь-то это ясно видно. К тем временам, о которых речь веду, у них и рыжие рождаться перестали, и вдруг... у хори-туматки Алан-Гоа, которую какой-то монгол в жёны взял, стали дети рождаться... от света. Такие же рыжие, голубоглазые, рослые...
— Род Рыжих Борджигинов, откуда Есугей, Темуджин и...
— А вот об том не болтай, — лицо священника стало серьёзнее, — слушай, а не болтай... Смекаешь, Пресвятая Мариам от кого Христа родила? От Святого Духа. И здесь Алан-Гоа снова рыжего родила — от Святого Духа.
— Так вот почему мы, христиане, через дядю Тогрула тогда Темуджина поддержали, вот почему по всей степи собирали к нему удальцов...
Настоятель поднёс ладонь к её губам...
— Тише, тише... На то Божья воля... Монголы считают Борджигинов своими, а ведь родила их хори-туматка, не монголка... Нет... и кераиты, и монголы — только вехи, и даже Темуджин тоже только веха. Веха на пути Христианского Царства...
Илии теперь нет. Темуджина воспевал — от него и погиб. Убит нечаянной стрелой в тот день, когда воины Чингиса окружали их курени. Правда, потом убийцу казнили... Так что с того.
Просил Илия, умирая, назначить её вместо себя. Это был бред. И вдруг её действительно назначили преемницей. Её, юную, не монахиню даже. Вот это да!
Она встрепенулась, как райская птица. Думала — это награда за ум... теперь мыслит иначе. Увы, это для того было, чтобы сделать её чей-то послушной собачкой... «Вот тут вы просчитались, — сжала она холёные кулачки, — вы ещё поймёте, как во мне ошиблись».
А потом страна Уйгурия — сердце здешнего христианства и самый увесистый золотой мешок посредников — добровольно присоединилась к улусу Темуджина... В тот день Суркактени ликовала. Всё сбывается. Всё, что пророчил Илия, свершается. И она с утроенными усилиями взялась за пропаганду веры среди родственников повелителя, благо и сама таковой стала.
Когда встречалась с очередным посланцем митрополита, думала — её похвалят. А её вдруг резко отчитали, как щенка в лужу тыкали, распекали. Она дар речи потеряла. Да как же так? Ведь чем больше, тем лучше, но... «И запомни, — сказал посланник, прощаясь, — кто быстро бежит, тому ямы не миновать, поняла?»
С тех пор прошло немало трав, но и теперь вдова Тулуя — несмотря на приобретённые годы — по-прежнему величественно красива, только порывистость сменилась плавностью да в цепких глазах затаилась несмываемая печаль. Раннюю смерть любимого мужа она пережила тяжело ещё и потому, что не пролила ни слезинки. С облегчающими слезами уходит и память.
Теперь она с невольным напряжением узнавания всматривалась в сына, вернувшегося из похода на Вечерние страны. Мунке стал очень похож на отца... и знакомыми повадками, и тем, как сидел, как плавно взмахивал рукой. Этот загорелый, колючеглазый воин — таким не знала его мать — заставлял хатун до боли вцепиться в войлок потерявшими гладкость руками (только они и выдавали возраст), чтобы не броситься ему на шею. По-женски — не по-матерински. «Успокойся! Это не Тулуй, это — Мунке! А ты — ты уже хатун... и старуха». Сказать себе такое — невелико усилие. Послушаться мудрых слов души куда труднее. Но Мессия милосерден до поры, а уж потом как накажет — только держись. Одними всхлипами в одинокой ночи от кары не отделаешься.
А кару очень странную навлекла на себя могущественная Суркактени-хатун.
Почему-то один и тот же день возвращал милосердный Бог её памяти... Ничем не примечательный, бесконечно далёкий день в её жизни... раз за разом, раз за разом. Почему именно его?
Она уже начинала подозревать: в тот день — многажды-много трав назад — она была счастлива единением, но не с ревнивым Богом, а с противоположностью его — с язычником-мужем, с Тулуем. Ведь знала же: Мессия, мучая видениями, требует отречься от неправедного блаженства далёкого дня. Отречётся — и закончатся еженощные муки тоски.
Но она — не могла. Даже ради обожаемого Мессии не могла отринуть скорбную тень Тулуя. Даже промасленный онгон — уступка язычеству — не в силах была убрать из юрты с глаз долой. Как будто дух её раздвоился на себя молодую и себя прежнюю.
В который раз видит она полог обширной юрты-церкви — впрочем, она не изменилась с той поры. Наяву юрта уже не соперничает своими размерами с самыми большими здешними сооружениями. Разжился с тех пор город Каракорум и не такими святилищами, а тогда и самого Каракорума не было в здешних местах.
А во сне опять гордо возвышается церковь — лаковый дворец... Изнутри тянулся ароматный дымок курений, как будто нарочно заткнули дымоход, а пленённый дым всё равно пробивает себе дорогу. Дневное богослужение только что завершилось.
А вот и люди: царевна Никтимиш, передав упирающегося сыночка Орду домашней служанке, спешит к сиденьям-олбогам у обшитого шёлком войлока.
...Нет уже давно на свете глупой сестрицы Никтимиш — ненадолго пережила она своего мужа Джучи-хана, любимого, да не любящего. А сын её Орду теперь живёт не тужит в иртышских степях, растолстел, облысел, обрюзг. Все страсти бурного времени мимо его очага пронеслись, не задев. В мать удался Орду — добродушный, бесталанный, из тех бесталанных, кто другим не вредит. Редко встречаются такие, побольше бы таких.
...А здесь, во сне, он ещё совсем сосунок и, гляди-ка, упирается, от матери отойти не хочет — только в такие годы и проявлял упрямство. А у Никтимиш глаза блестят — ещё не знает сестрица, как незаметно истаивает надежда обрести то, чего не сотворишь (ибо от Бога), а именно — живую любовь мужа.
Вокруг расстеленного войлока каждый день после службы собирались главные прихожанки главного храма: царевны-несторианки, выданные за сыновей Великого Кагана Темуджина.
Одна из сестёр, Абике-Беки, удостоилась чести повыше — стала очередной женой самого Темуджина. Остальные, не удостоенные наивысшей господней милости стать жёнами главного язычника, всеми силами демонстрируют своей счастливой сестре, как они ей завидуют.
Искусство очень тонкое: будешь равнодушным — враги скажут, что «не оценили великой чести, выпавшей на долю родственницы, чем оскорбляют достоинство Кагана».
Кроме того, сам Рыжий Демон (да продлит Господь его дни) очень любит, когда ему завидуют... но не выносит, когда сие открыто показывают, вот и крутись — поспевай.
Абике-беки радуется, нарочитую зависть как должное принимает. У остальных сестёр мужья молодые. Желают того сёстры или нет, а бездна подневольного плотского греха калечит их хрупкие души. Её же Темуджин всего раз посетил, и уж тут она почувствовала всю тошнотворную мерзость соития. А теперь (довольная, что одним разом всё и ограничилась)... считает Абикебеги себя преодолевшей ничтожные позывы плоти.
...После «вознесения» Великого Кагана Чингиса — попала страстотерпица Абике-беки в ясены его брату Хасару... По «вознесении» оного — угодила в юрту к ставшему великим ханом Угэдэю, а когда и тот «вознёсся» — к Хранителю Ясы Джагатаю. У монголов жёны умершего — братьями и сыновьями наследуются. Так и передавалась Абике-беки из рук в руки подобно почётному девятихвостому бунчуку. Но милосерден Бог — сколько ни кочевала она от мужу к мужу — так и не коснулась её более «бездна подневольного плотского греха».
Вот кто в рай-то уготован воистину. Уготован — это да, но и на тварном свете всех переживёт Абике-беки.
«А вот и я», — с материнской снисходительностью подумала нынешняя Суркактени, увидев во сне себя молодую. Была та «она» свежая, подтянутая, румяная — сколь ныне ни старайся, вожжи времени не удержишь. Хорошо ещё — когда спишь, себя, теперешнюю, не видишь. В те годы юная хатун руководила (впрочем, как и теперь) каждодневными собраниями — а заодно и ведала церковными делами многочисленной Общины Креста.
Но самое главное — из-за чего и сон к ней ныне накатывает — было в другом. Снова ветер, дующий на запретной вершине чувств, уж в который раз закружил Суркактени.
...Суркактени повезло куда меньше других — супруг её Тулуй разумен, смел, умён. Всеми силами христианской души противится она погружению в геенну страсти с головой, но, вопреки всему, безобразно счастлива с язычником. Вот уж попала так попала. Поэтому делами смиренными, заботой об их общине стремится она сей великий грех замазать. Жене Тулуя, скрипя зубами, «сочувствуют». Поэтому с доброжелателями среди единоверцев ей не повезло, но она не унывает.
Благочестивых разговоров довольно и под сводами храма — в тот день, в окружении изысканных яств, всё очень быстро перетекло в обычные женские сплетни. Большинство молодых жён ханов и нойонов — кераитки. Они были знакомы друг с другом задолго до того, как хан Темуджин присоединил владения Тогрула к своим скромным нутугам... Кроме разве что меркитки Дорагинэ — супруги Угэдэя. Поэтому остальные относились к ней с тёплой снисходительностью.
Ибо какое у них на Селенге Слово Божие? Смех один. Отдельные проповедники добираются туда в поисках заблудших душ, да так усердно радеют о их спасении, что в скором времени и сами теряются в потёмках диких кущ. Говорят, и молитвы там под бубен читают. А ведь сказано, что ересь — опаснее простого незнания.
... Смеялись тогда, и кто особое внимание обращал на эту самую простушку Дорагинэ? Кто ж знал, что именно её смерч рока вознесёт под тучи? Теперь выше её нет человека в империи. Наследница великого хана, регентша, мать матерей. А сын её Гуюк (коего в тот день, который снится, ещё на свете не было) — прямой претендент на место Темуджина и Угэдэя.
Эх, Всевышний, и что же ты молящихся тебе истово прозрением заблаговременным не награждаешь? Сказано — ересь опаснее простого незнания. Эту мысль, нынешняя Суркактени выдернула из сна и перенесла в позднюю явь.
Всё верно. Разделилась христианская община с тех далёких времён. Теперь митрополит благоволит не ей — Суркактени, а этой почти откровенной язычнице, даром что крещена. И возобладало в общине Нестория мнение: не лечить надо от скверны души еретиков на этом свете, а отправлять их такими, как они есть — тёмными, заблудшими, — на тот свет, а уж там Мессия разберётся.
Там, во сне, Дорагинэ ещё о свой дальнейшей судьбе на знает и ведёт себя смирнёхонько. Там, во сне, жалуется на Джучи молодая Никтимиш... Эх, юность, старые, забытые слова, старые умершие заботы. Прислушаемся в который раз.
... — Тогда, давно, чтобы не видеть, как эта драная коза наконец разродится, Джучи в ужасе сбежал к лесным варварам, — выплеснула Никтимиш накопившуюся обиду, — Господь посылает новые испытания — мало ему моего унижения. Сын этой твари на отца плюёт, а Джучи вчера вернулся с войны и снова на нас с Орду не посмотрел. Сразу к ней... к ней.
— Молись за ненавидящих тебя, — усмехнулась Дорагинэ.
— Ну-ну, тише, с таким не шутят. Не говори, чего не знаешь, — строго перебила меркитку Суркактени. — Смирением и страданием, Никтимиш, проложишь дорогу, угодную Небу. Твой Орду — первенец, чего боишься? — сделала она экивок как бы невзначай и снова заговорила как ей должно: — В каждой новой душе, волею Господа воссиявшей в этом кровавом мире, отблеск Мессии. Надежда, что отринет и он тенеты земные. Не должно ненавидеть его лишь из-за чрева нечистого, его породившего. А о том помнить должно, что сказал Мессия, услышав: братья и мать стоят за дверями дома и желают видеть Его.
— За чем? За... дверями? — запуталась Дорагинэ.
— За пологом юрты, — терпеливо пояснила Суркактени. — А изрёк он то, что и запомнить пора: «Кто матерь Моя? И кто братья Мои? И, указав рукою своею на учеников Своих, сказал: вот Матерь Моя и братья Мои». А коль отринул даже Иса чрево, его породившее...
— Не понимаю я, — растерялась Никтимиш.
— Было Всевидящему Несторию: «У Бога нет матери». Нет матерей и у истинных праведников. Бату, как и Орду, — сын мужа твоего, а не плод нечистого чрева. Вот о чём помнить должна христианка. А осияет ли над этим младенцем Небесная Благодать или пойдёт он сорной травой в огонь — от твоих забот зависит. Более ни от чьих. Все дети Джучи — твоя паства, твоя слава и твои упущения.
Суркактени говорила для всех, на будущее. Не для этой тугоумной овцы. С ней она потом потолкует отдельно, на понятном языке.
Строгая царевна оглядела собрание. Все поняли? Ничего, не все — так повторим. Много раз повторим. Недалёк тот час, когда в семье рыжего Чингиса будет много внуков. Её христианский долг — вырвать чистые души младенцев из языческих тенёт. Тогда победа чёрных служителей Тенгри над её народом обернётся поражением. Она сделает то, чего не смогли сабли багатуров. Она сумеет пройти путём Мариам Магдалины.
«Что это во мне, гордыня... или пламя страсти», — одёрнула себя молодая хатун. Монотонные жалобы сестры заставили её очнуться.
— Джучи всё время на войне. Орду не воспитывал, не лез, до того ли? — жалобно загнусавила Никтимиш. — Я сделала, что могла, легко ли было?
— И за то воздастся тебе...
— Но к своему отпрыску эта линялая лисица не позволяет приблизиться.
«Ещё бы, конечно, не позволяет. Я бы тебя, убогую, и котлы чистить не допустила, — ухмыльнулась про себя жена Тулуя и вслух сказала: — Ничего, ты поняла главное. А главное — не переносить оправданную неприязнь к одержимой бесами хунгиратке на её невинного сына. Больше от тебя, несчастная, ничего пока не требуется».
Привычно воздев руки к Небесам, молодые женщины спешно пробормотали «Абай-Бабай» и стали расходиться. Когда боголы, опасливо оглядываясь на хозяйку, уже сворачивали войлок, Суркактени-беги коротко, приказом бросила:
— Задержись.
Ей подчинялись беспрекословно, как нойону. Старшая жена Джучи отделилась от группы, смиренно подошла к сестре.
— И всё же не понимаю, что мне забот до этого Бату? — недовольная, что ею помыкают, взбрыкнула Никтимиш.
— А голову тебе для чего Создатель к плечам прирастил? Хурут жевать? Джучи — старший сын, ему верховным наследником быть, так?
— До того много трав пересохнет, — вздохнула Никтимиш.
— Мудрый судьбу заблаговременно готовит, глупый — вослед бежит. Пешком скакуна не догонишь. Твой сын Орду даром что малолетний. Он старший в роде из колена внуков. Все к нему присматриваются, все тебя холят-лижут. Он — забота нашей общины, её надежда. — Суркактени остановилась, чтобы медовые слова успели осесть на глухих ушах, и безжалостно резанула: — Но тебя и ненавидят, разве не знаешь?!
— К-кто? — шарахнулась Никтимиш.
— Язычники. Джучи — их человек, бесам куренья возносит. Уке — монголка из рода жены Темуджина... тоже язычница. А великий Чингис не спешит обращаться лицом к Кресту. Не так?
— Да я...
Жена Тулуя снисходительно хмыкнула:
— Сидишь в семье, как утка линялая в камышах — не взлететь, так ещё и крякаешь. Бату — сын язычницы. Пока не было его, чем зацепились бы враги. Теперь не то. Что им нужно, подумай?
— Н-не знаю, — совсем запуталась перепуганная Никтимиш.
— А надо бы знать. Им выгодно, чтобы ты на Уке и на Бату дурной собакой бросалась. Чтобы он от тебя, — а заодно и от Креста — с раннего детства шарахался, а уж там — найдётся кому утешить. А ну как перестанет Темуджин с общиной нашей заигрывать? Сейчас он бунта боится, в силу не вошёл, а войдёт, что сделает? Если победят служители Тенгри, что предпримут, не знаешь?
— У-у, — стала заикаться Никтимиш.
— Раздавят пальцем вас обоих, и тебя, и Орду твоего.
Суркактени вдруг стало жалко эту бедную недалёкую женщину, угодившую в ханши, как просо в ступку, ведь и не спрашивал бедолагу никто. «Зря разговор затеяла, не по кибитке груз. Надо самой шевелиться». Повинуясь порыву, царевна вдруг обняла чуть не плачущую сестру:
— Ну всё, всё, прости меня. Я уж больно строго. Но не ссорься с ними, дружи. Не открывай волкам дорогу в кораль.
...Кто же думал в те годы, что эта самая Уке — как будто бы соперница — станет союзницей. Кто же думал, что совет не восстанавливать против себя Бату — данный из простой осторожности — обернётся благодарностью и будущей дружбой. «Не ссорься с ними — дружи», — это было сказано, чтобы верней соперницу сгубить, а вышло иначе. Из дружбы показной расцвели тюльпаны дружбы настоящей.
Подружились Уке и Суркактени благодаря чародею Маркузу.
Когда-то давно пришёл мальчик Тулуй вместе с Маркузом (и самим Темуджином) из земли Золотого Дракона. Чародея побаивались все... о пришедших много слухов в ту пору ходило, но Тулуй относился к Маркузу не как другие. Связывала их странная, но искренняя дружба, замешенная на тайне, о какой и Суркактени не рассказывали. Может, из-за той тайны и привязалась так сильно любознательная Суркактени к мужу своему. Загадка и Любовь — известное дело — в одной упряжке бегут.
А потом стал к ним Маркуз приходить в юрту не один, а с воспитанником своим — тем самым Бату. Позднее, заметив, как пробуждаются у Тулуя отцовские чувства к подраставшему сыну хитрой язычницы Уке, Суркактени прониклась ревностью, но ненадолго.
Вскоре у них с Тулуем появился первенец Мунке, но Мунке не заменил Бату, а дополнил. Отцовской привязанности Тулуя хватало с лихвой и на своего и на чужого сына.
Спустя некоторое время Тулуй последним из братьев был отозван Темуджином на войну с джурдженями. Суркактени по-женски скучала, незаметно для себя перестав отдавать всю душу церковным делам, которые ещё недавно казались ей важнейшими.
Уныние одиноких ночей усугублялось вечными капризами Мунке — он тоже скучал. С тех пор как уехал Тулуй, Маркуз больше их не посещал, а вместе с ним пропал и Бату, к которому Мунке успел привязаться как к старшему брату.
И куда было деваться от этих джучидов? Делать нечего — пришлось устроить детям встречу. Пока они возились в осенней траве, матери судачили меж собой, осторожненько уминая увесистый камень недоверия за пазухой, и... прониклись друг к другу невольной симпатией. Их смешило одно и то же, возмущало одно и то же. Так началась их дружба, совсем невыгодная для обеих, если глядеть на это всё с высоты династической грызни.
А после... Бату увезли в «учёную яму», через какое-то время туда же угодил подросший Мунке. А что до Уке, то судьба забросила её в Иртышский улус — новые владения Джучи, ставшего ханом.
Потом много всего под Небом случилось: нелепо и так закономерно погиб Джучи, закатились дни Темуджина, а ещё через столько-то лет на Суркактени обрушилось её главное в жизни горе — она лишилась любимого мужа.
Бату, как очевидец гибели, приезжал в Коренной Улус к тете, почтительно рассказывал про последние мгновения Тулуя, и, забрав повзрослевшего Мунке в «поход на Вечерние страны», снова на долгие годы исчез. Порою из Улуса Джучиева доходилй весточки про Уке, которая, говорят, вместе с Маркузом стала настоящей повелительницей улуса на Иртыше.
После смерти великого хана Угэдэя начались времена особенно неласковые... Сыновей Тулуя всё больше оттесняли куда-то в восточный угол, а джучидов — в угол западный. Отношения их с детьми Джагатая и Угэдэя накалялись всё больше, и как-то раз в Каракоруме появился Маркуз, взятый Гуюком в почётные заложники.
Суркактени тут же сообразила, что, выручив чародея из такой беды, она получит не только надёжного союзника здесь, но и поможет Уке и Бату — там. И это всё пойдёт на пользу ей и её детям в дальнейшем.
У тулуидов было одно очень веское преимущество перед джучидами... и перед всеми остальными.
Тулуй, не замешанный ни в каких мятежах, любимый сын обожествлённого Чингиса, репутацию перед Ясой имел безупречную. Его семья числилась «хранительницей очага империи». Прямых угроз под таким благодатным колпаком можно было не опасаться — Гуюк понимал, что, рассорившись с «родом Очигина», он лишится поддержки доброй части своих сторонников.
Стараниями Суркактени Маркуз из почётного заложника превратился в человека вполне свободного. После чего благодарно пополнил собой свиту Тулуевой вдовы.
А тут как раз после долгого отсутствия подоспел и Мунке. В неприкосновенной юрте «хранительницы великого очага» собрались на очередной совет противники тех порядков, которые возобладали в империи после смерти Юлюя Чуцая.
И вот Суркактени-хатун смотрит на Мунке и, видя в нём Тулуя, еле сдерживает порывы — не материнские, женские... А сын между тем говорит занятные вещи:
— Закатные христиане — и не христиане вовсе, а скрытые язычники. Однако, — добавил Мунке с прямотой нухура, — это не мешает им быть достойными воителями.
Упустив вторую часть реплики (подумаешь, и дикий зверь «достойный воитель») Суркактени строго поправила сына:
— Не язычники, Мунке, — еретики. Разницу знаешь ли?
К её удивлению, сын не смутился и даже возразил:
— При всём почтении, ихе, ведаешь ли о тех людях лучше меня? Меня, чей утомлённый конь окунал брезгливую морду в воды Фряжского моря? Видела ли ты море, ихе?
— Но...
— Нет, я не забыл, не увожу разговор. Еретики искажают старое ученье новой ересью. Язычники же прикрываются христианскими названиями, как чалмою вёрткий мухни-соглядатай, а внутри остаются теми же, что были до крещения.
— Поясни, — с некоторой гордостью за ум сына заинтересовалась мать.
— Они молятся христородице Мариам как Богине. Она — на всех хоругвях, всех иконах. И я бы даже осмелился сказать, что... сам Мессия для них не так важен, как Она — эта родившая его женщина, которая при том вечная Дева. Мессию всегда изображают несмышлёным младенцем в её руках и почти никогда грозным мужем.
— Дева? Родившая Мессию — дева? Как же родила, через ухо? — задорно улыбнулась Суркактени.— Это глупая ересь, не язычество, сынок.
— Как сказать. Наша языческая Алан-Гоа тоже родила от Света, от Святого Духа. И ещё — мы, монголы (и кераиты до крещения), молились пресветлой Этуген... заступнице, умножительнице стад. Кераиты ещё и сейчас тайно молятся старым богам, на всякий случай.
— И что с того? — притворно нахмурилась мать.
— Так и жители Вечерних стран, — охотно продолжил Мунке, — просят уберечь их от невзгод земных не Мессию, нет. Но Великую Мать, Прародительницу, нашу Этуген, которая предстаёт в образе не женщины-христородицы, но Богини и Богоматери Пресвятой Девы Мариам.
— Ты убедил меня, сын, — вздохнула вдова Тулуя. — Это верно. Так уж мир устроен, что молятся о благополучии здесь... языческим богиням, пусть и в христианских личинах. Оно и понятно... Мессия не даст благ земных... Он печётся о душах, для жизни там, жизни горней, небесной. А на земле — надлежит страдать.
Мунке упрямо сжал тонкий рот. Поперечные складки — след страданий и тяжёлых решений — сделали его особенно похожим на отца. Тысячи лиц, искажённых ненавистью и смертельной мукой, пронеслись перед взором его истерзанной памяти. Он почувствовал себя старше матери.
— Много ли ты видела страданий, ихе? Сладко ела, сладко пела молитвы. Неужто множить то, чего и так через край? И может ли хотеть такого Мессия... сын Бога, мир сей создавшего?
— Мир проклят, мир — юдоль горя и слёз, — строго резанула Суркактени заученное. Впрочем, для неё он был не так уж плох. И «юдолью горя» он стал лишь после смерти любимого мужа. Могла ли она возражать его сыну, который так похож на...?
— Мир благ, — отпарировал Мунке. — Силы, разрушающее покой и счастье, не Дьявола ли порождение? Не может Мессия проклинать своё творение. И пусть молятся люди разным богам, когда они молятся за покой и мир — они взывают к Нему, кем бы Он себя ни называл — Ярилой, Тенгри, Аллахом или Мессией.
Что-то в Суркактени подзуживало её взвиться в традиционном возгласе, коим бы ответил на этот выпад любой грамотный священник. Надо бы воскликнуть: «Как смеешь ты ставить на одну доску Мессию и... демонов тьмы, таких как Аллах и...» Но её Тулуй — тоже был по вере — монгол, почитатель старых богов. И она любила его больше (о, ужас), чем Мессию.
«Да нет, — вдруг возразила ей другая часть её души, — я любила Мессию — в нём».
Маркуз, внимательно слушающий спор матери и сына, вдруг бросил нужное слово в нужное время:
— Мессия — это любовь. Нельзя любить пустоту, это лицемерие. Притяжение к Творцу — через привязанность к близким своим. А имена... да, у него разные имена.
Суркактени взглянула на гостя благодарно. Как всегда, будто походя, он поселил мир в её душе. Мир с самими собой, с сыном... и с «еретиками и язычниками», готовыми поддержать их шаткое положение. Она — нашла оправдание и утешение.
После такой затравки собравшиеся в её юрте новые и старые друзья вернулись к яствам на дастархане — весьма сладким. И к делам земным, которые складывались, наоборот, очень кисло. По ободряющему знаку Маркуза заговорил этот странный урусутский нойон или хан, называемый в Вечерних странах — коназ. Это был Олег Рязанский.
— Среди людей Ярослава мой доброжелатель и друг. Он доносит: Ярослав готов поддержать Гуюка в походе, готов ударить и на Бату, предательство свершилось.
Мунке презрительно фыркнул:
— Бату дал Ярославу власть над урусутами, он — сдержал обещание. И что же взамен? Все ли урусутские коназы так платят за добро? Но ничего — Мизир не дремлет.
Упомянув карающего за предательство языческого бога, Мунке с вызовом посмотрел на мать.
— Иуда выдал Мессию на муки, за это проклят навеки. Тут Мизир и Мессия едины, — вдруг смиренно отвела глаза Суркактени.
— Нет, не всё, хан, — ответил Олег Мунке, сдерживая раздражение, — а те из русичей, кто падал под вашими саблями, не желая предать господина тогда, в той войне? Разве они не умирали со словами верности на устах?
— Да, это так, — согласился справедливый Мунке, — тем обиднее разочаровываться в тех, кому доверяем. Если договор состоится — плохо будет всем. Дорагинэ увеличила дань во всех подвластных землях, народ нищает...
— И кое-кому это на пользу, — вздохнул Маркуз, — когда в своей юрте пыль в котле, особенно тянет ограбить чужую.
— Да, Гуюк собрал молящихся Кресту со всех земель. С Шама, Армении, Рума и Руси. Только и разговоров, что о новом походе на Запад. Забыты все распри пред лицом великого грабежа Европы. Что не получилось тогда — мыслят осуществить теперь. Только снова ничего не выйдет, — решительно заявил Мунке.
— Отчего же? — удивилась Суркактени. — С малыми силами Бату разметал войска венгров и ляхов. Если бы не смерть великого хана Угэдэя, всё бы ему удалось. А много ли войск было у джихангира Бату? Всего три тумена. Теперь же, если к походу присоединятся урусуты Ярослава со всех тамошних городов (а с ним с некоторых пор считается вся Русь), да и те несториане, кто хочет похода, и армяне, и сирийцы... Кроме того, многие магометане Самарканда и Бухары, задавленные налогами. Те, что больше не верят в торговлю и надеются только на войну, покроющую их убытки хотя бы на скупке добычи... И потом, теперь есть чем платить войскам. И всё с благословения их священников, коим за поддержку тоже обещаны богатства и милости... и простор для проповеди.
— Да, это так, — согласился Маркуз, — ни Юлюй Чуцай, ни Угэдэй, ни даже Темуджин не могли себе позволить одним махом ограбить пастухов-харачу, дехкан, сабанчи-землепашцев, купцов и горожан настолько. Гуюк хочет возместить убытки за счёт богатой добычи в Вечерних странах... А обнищавшие опять же охотно пополняют его войска. Только вот чего Гуюк не видит, так это того, что, если война затянется, ограбленную империю нашу поразит небывалый мор... Она надломится от военных усилий.
Мунке терпеливо слушал — пусть выговорятся. Он знал то, чего не знали они. И сейчас он намеревался это сказать...
— Европа не едина. Кесарь Фридрих был нашим союзником в той войне. Мы разоряли земли лишь тех, кто стоял за Римского Папу, и ему это было на руку. Но Фридрих знал: Бату не пойдёт дальше, поэтому и не вмешивался. Ведь между ними был тайный договор... Но и так, даже так мы вышли к морю (не Последнему, увы) на последнем издыхании.
— Бату разделял и властвовал, — одобрительно кивнула Суркактени, — водил Гуюка за нос.
— Для себя, для своего покоя... и для вашего. Он хочет править на своих землях — ему не нужны завоевания. Но пока тут хозяйничает Гуюк, нет ему покоя. Что до людей Вечерних стран, то они могут ослаблять друг друга только в одном случае — если опасность не грозит всему их дому. Они, подобно нам, могут заключать временные союзы даже для нападения, а уж для обороны — тем более. Теперь же франки испугались всерьёз...
— К чему ты ведёшь?
— Соглядатаи Бату передали мне сведения о том, что, прослышав о готовящемся новом походе монголов — таком, перед которым прежний будет казаться жалким набегом, — кесарь и Папа готовы помириться. А уж если они выступят совместно, война, по меньшей мере, станет затяжной, если не победоносной для них.
Воспользовавшись паузой, Маркуз закончил мысль Мунке:
— И тогда ноги нашей державы подломятся сами по себе. Потому как будущая добыча не возместит нынешний Гуюков грабёж своих подданых.
— Каракорум полон гласных папских людей и тайных мухни, — улыбнулся Мунке, — недавно прибыл один из них — некий Плано Карпини, и что же, вы думаете, он привёз Гуюку?
— Я уже знаю, — сказала Суркактени, — он просит креститься со всем нашим народом по латинскому обряду. Покориться Папе Римскому — могущественнейшему из государей. Смешные...
— Не обольшайся, ихе, — возразил Мунке, — это полог, скрывающий тайные телодвижения, не более. Ну и зубы показывают, не без того. Вдруг Гуюк одумается да и отложит поход. А меж тем папские люди охмуряют Ярослава, тайно обещают ему корону и почести. Всё, что угодно, только бы он не присоединился к гуюковым туменам.
— Да, хорошо быть маленьким слитком, способным склонить равновесие весов, пусть и нагруженных сверх меры.
— Тем более что этот слиток не так уж мал. Но послушаем же нашего урусутского доброжелателя и, как следует из его слов, верного союзника Бату. У него есть хитрая задумка.
Олег, получив разрешение говорить, собрался с мыслями не сразу. Слишком проницательными были те глаза, которые разом на него обратились. Да и, к слову сказать, не самым незначительным людям принадлежали эти глаза. За плечами этих людей — оружные воины, золото, власть. А кто он? Если бы ему сказали, кто же он?
— Мой человек в свите Ярослава доносит: средь людей князя единства нету. Дети евойные — Ярослав с Андреем — опасаются Гуюка, в поход сквозь Русь не хотят. Дорагинэ тревожится, как бы Ярослав не перекинулся на сторону папистов. Вон их тут сколько шастает, посланцев и мухни.
— Ярослав не прельстится, и не ждите. Его нухуры вскормлены в боях с латынами. Склонившись к Папе, лишится опоры верных, — тихо буркнул Мунке.
— Сие так, — согласился Олег, — но ханша Дорагинэ того не знает и за сына боится. Всё чудится ей, что Гуюк переветниками обсажен, аки мухами мёд. Так ведь и обсажен. Каждый в свою сопелку дудит. А ещё того пуще: пригрелся у порога ханши давний недруг Ярослава, Фёдор Ярунович — боярин. А уж он-то дорого бы отдал за взаправдашние доказательства того, что Ярослав с латынами снюхался.
— Какие же могут быть доказательстсва, если он латынов избегает? — насторожился Мунке.
— Вот что я придумал, — пояснил Олег, — сам Ярослав страшится латынов, словно чёрного мора. Понимает, чем может кончиться недоверие к нему великой хатун Дорагинэ. Но подозрительность — рыба мелкая. Её ловят не на крупный, а на мелкий крючок. Мой человек, Гневаш, — птица невысокого полёта, но он — гридень князя, старший нухур по-вашему.
— Погоди, коназ, при чём тут гри-ден? — растерялась Суркактени.
— Дорагинэ и Гуюк знают, что Гневаш — человек Ярослава. Но ни они, ни Ярослав не знают, что он ещё и мой человек. Для моей задумки не хватает одного звена: тайного соглядатая папистов.
— Продолжай, — ободрил Олега Маркуз.
— Но такого, чтобы слухачи Гуюка и Дорагинэ знали, — это папский мухни. Из тех, кого раскрыли, но не разоблачили, которого ведут.
— Это по твоей части, Маркуз. — Мунке начинал кое о чём догадываться, — есть ли у тебя на примете такой человек?
— Не было бы, не привёл бы сюда этого коназа, — охотно согласился Маркуз, знавший заранее то, о чём будет говорить Олег. Теперь вожжи разговора оказались в руках Маркуза.
Олег, облегчённо вздохнув, прислонился к расписной стенке юрты.
— Коназ Олег предлагает осторожно довести до сведения Фёдора Яруновича, что есть некто, способный доказать: Ярослав с папистами строят козни против Дорагинэ и Гуюка. Тот, не будь дурак, в ханские уши нашепчет, мол, «там-то и там-то» человек Ярослава встретится с разоблачённым (но не знающим об том) папским слухачом.
— Но в таком случае надо известить эти папские «глаза и уши», что Ярослав якобы готов с ним договориться. Что желает тайной встречи, — вскинул брови Мунке.
— И это я сделать смогу, — кивнул Маркуз.
— А «человеком Ярослава» будет мой Гневаш, — сказал, совсем осмелев, Олег, — все знают, что он из его свиты. Хоть договариваться-то он будет «от имени Ярослава», да вот только...
— Ярославу не будет об этом ничего известно — продолжил Маркуз. — О разговоре станет ведомо Гуюку. И как бы Ярослав ни оправдывался, ему уже больше не поверят. Опала и кара ждут его.
— Его убъют, и это отвратит детей погибшего от Гуюка, убийцы их отца, — выдохнул Олег, — тогда дети Ярослава качнутся к Бату. Законы родовой мести живы в душах русичей, как и здесь.
— А если твоего Гневаша просто схватят и он под пытками всё расскажет? — спросила вдруг Суркактени.
— Тебе жаль этого урусута? — снисходительно спросил у матери Мунке.
Показывать озабоченность судьбой низких людей — не самое вежливое. На то они и слуги, чтобы рисковать, но Суркактени подумала именно об этом. Да, ей стало жаль неизвестного доброжелателя, готового рискнуть ради их дела головой. Однако вслух ханша сказала другое:
— Под пытками он признается во всём. Разве нет?
— Уверен, что его не схватят, — бросил Маркуз.
— Почему? Само Небо велело схватить.
— Нет, — терпеливо пояснил Маркуз, — глупо показывать папскому мухни, что он раскрыт. Мало ли ещё на кого выведет?
— Значит, у вашего Гневаша будет время скрыться?
— Именно так.
Получив доказательства двуличности Ярослава, Дорагинэ поступила необычно. Ярослав не был ни схвачен, ни проведён, как положено, меж двух костров. Честолюбивый князь, сделавший такой незадачливый выбор, так и не узнал об этом тихом заговоре за своей спиной.
Щадя самолюбие сына — ведь он ошибся и теперь будет шарахаться от всех союзников, — Дорагинэ тихо отравила Ярослава на одном из пиров. На всякий случай.
Дело было сделано. Ошпаренные тупой жестокостью ханши, дети Ярослава — Андрей и Александр — решительно отвернулись от Гуюка.
Так отомстил Олег Ярославу за то, что тот, предав Бату, примкнул к человеку, из-за самоуправства которого погибла олегова Рязань...
И Евпраксия.
Боэмунд. Кечи-Сарай. 1256 год
Я читал самаркандскую рисовую бумагу урывками, с конца, с середины, узнавал времена и имена. Вот это — о том, что предшествовало нашей с Бату последней встрече.
Бату (рукопись). 1248 год
«Мира законы — круги на воде», — такое говорят мудрецы Срединной Равнины. Я понимал это по-своему. Чтобы скакать навстречу своему старому пути, вовсе не обязательно разворачивать коня.
Я всегда был верен тем, кто снял передо мной панцирь настороженности. Однако именно жаждущий прямой дороги блуждает по кругу. Это известно каждому, чей взор застят угрюмые лесные деревья или степной горизонт. Даже острый взгляд кочевника неволен заглянуть за его неумолимую черту. Иногда этого не стоит делать, чтобы хоть последние дни прожить с надеждой. А у меня никакой надежды, увы, не осталось.
Предстоящая битва, в которую я ввязывался скорее от безнадёжности, имела одну очень важную особенность: я вёл её САМ, от своего имени...
С этим грозным именем связаны десятки громких кровавых сражений. Но тогда я просто скакал на ребристой спине огромного, малоуправляемого дракона, который лишь по недоразумению назывался именем Бату. Взывая к справедливости, стоит попросить эту капризную колдунью вернуть великому Субэдэю украденную славу полководца. Но также стоит потребовать у этой бесстрастной женщины отцепить от будущей памяти обо мне, Бату, прилипчивую славу палача.
Просить бесполезно, можно только поблагодарить милостивое Небо за то, что оно дало мне возможность умереть в своём собственном, а не в чужом бою.
А вот и приметы круга превратности — полюбуйся, посмейся напоследок.
Тогда, много лет назад, кыпчаки держали стойкую оборону именно здесь, имея за спиной Итиль. А тем, кого звали татарами (и кого вёл сюда я), казалось так невероятно важно пройти назойливыми лесами урусутов, грызть стены их городов, чтобы в конце концов накрыть-таки тяжёлой руковицей Двуединого Бога и Его Сына Чингиса здешние беззащитные кочевья. Дабы такого не случилось, многие взлетели вверх, покидая погребальные костры. Ещё больше народу истлело по буеракам и балкам, чтобы это, наоборот, состоялось.
И вот выросли и опали травы — не так уж и много трав, — а всё как будто не менялось. Те же куманы-кыпчаки стоят за Итилем, ожидая подхода безжалостного врага, те же урусутские кованые рати в который раз пришли им на помощь. Только вместо павшего хана Бачмана, вместо сгинувшего хана Котяна это не столь слаженное войско, говорящее на местных языках, возглавляю опять же я, превратившийся из гонителя в невольного повелителя.
Меня никто не поднимал на войлоке, как Темуджина, никто не выражал мне доверия и клятвенно не обещал делиться добычей... Но люди — уж так сложилось — слушаются меня, и в глазах у них нет того страха, который великий дед считал необходимой частью порядка. Они верят своему хану, хотя я как будто ничем не доказал, что нужно верить именно мне.
А с Утренних краёв снова катится самум, а на гребне его — великий хан Гуюк. Язык не поворачивается произнести эти три слова вместе, всё кажется, вот проснусь с тяжёлой похмельной головой, и растворятся сырые сгустки сна. Но нет — мне не приснилось. Тот самый красный мангус моей судьбы, с которым мы грызлись ещё в «учёной яме», с которым всю жизнь были связаны одним сыромятным ремнём, теперь идёт войной в открытую. И нет спасенья.
Знают ли мои нухуры про то, что они обречены? Ведают ли верные подданные, из коих немногие — монголы, кераиты и джурджени (по-здешнему — хины), а остальные, многие — урусуты, кыпчаки, куманы, угры, франки, фряги, аланы, ясы и прочие языки — кого только нет в моём войске, — что они пришли умирать? Многие, конечно, догадываются.
Всех их вместе теперь зовут татарами. Прилипло — не отлепишь. А идут на них стотысячным валом те, кто любит называть себя монголами. Хотя они такие же монголы, как мои люди — татары.
Смешно, «монголы» против «татар». Ещё один шуточный круг превратности. С давней войны мелких племён моей родины, с родовой войны настоящих монголов и татар закрутился этот вихрь во времена Темуджина. И вот опять...
Я оглядел тоскливым взором шатры отдыхающего войска и вдруг увидел всадника, которого невозможно было перепутать даже издали.
Боэмунд. Кечи-Сарай. 1256 год
Нет, я не мог это всё спокойно читать. Нужно было прерываться и умерять биение меж рёбер — тем всадником был я. И, надо сказать, вёз повелителю добрые вести.
Бату и Боэмунд. Заволжье. 1248 год
Скользя меж стеблей рослой травы, к нему приближался долгожданный Бамут. Хан был рад видеть друга снова, но каким-то странным образом он знал и другое: его анда сейчас — вестник судьбы. С некоторых пор хан ненавидел такие состояния догадки — соприкосновения с законами Неба.
Бату уже прочно забыл о тех временах, когда не был правителем: он привык к навязчивому почтению, однако его ближайшие друзья не стелились перед ним ниц. Однако Бамут вдруг поклонился подозрительно низко — чего раньше никогда не делал, — протянул повелителю привычную кожаную трубку, запечатанную воском с обеих сторон.
— Маркуз наказал, чтобы я передал это строго в твои руки.
— Маркуз, учитель... — вздрогнул Бату. — Что с ним? Ему удалось бежать?
— Об этом поговорим после. Он передал на словах, чтобы ты прочёл это сразу, немедленно, до всех разговоров со мной.
Бату ухмыльнулся, извлёк из трубки свёрнутый свиток, с нетерпением развернул и погрузился в уйгурскую вязь.
Показалось, что голос учителя поднимался над строчками, как дым над залитым водой костром, звучал так отчётливо, будто ещё вчера они с Бату расстались:
«Сын мой. Прости, что называю тебя так, не являясь твоим отцом. Робко надеюсь, что Небо наделило меня правом говорить такое хотя бы в шутку. Что бы ни судачили обо мне и матери твоей шептуны, для себя знай: ты не обманулся, позволив нам быть вместе. Ибо не чёрное колдовство соединило наши души — напротив, вспыхнувшее меж мной и Уке чувство растопило (как глаз Мизира ночь) многие злые чары, засевшие в моей душе.
Теперь о главном: надеюсь, твои ночи станут теперь спокойнее. Скромными трудами моими и Бамута великий хан Гуюк отправился к предкам. Как ты понимаешь, без головы его войско беспомощно, а потому обязательно приостановит свой накат.
Отныне всё в твоих руках. Советую поддержать старого доброжелателя Мунке. Он не будет копать яму для тебя, если и ты не позаришься на то, что принадлежит ему по праву. По праву того, чей отец Тулуй был любимым сыном Чингис-хана. Пусть правит он на Востоке, в Коренном улусе. Это хорошо. Ты же замиряй хищный Запад.
И помни — твоя сила в тех, кто любит людей больше богов... слишком много их, небожителей, развелось. Прощай».
Предчувствие ожгло Бату бичом. Он даже забыл о той, самой главной вести, которая просто выпрыгивала из письма.
— Говори...
— Да, хан, именно так, — прошептал Боэмунд, они понимали друг друга с полуслова, — Маркуза больше нет.
— Опять как тогда... с Мутуганом. «Пусть, читая послание, видят меня живым», — прошептал хан, ещё не осознавая до конца смысла навалившихся известий, — и о великой победе, не стоившей ни одного воина, и о... — Значит, всё-таки часом смерти распорядился он сам, а не судьба. Не как с моим несчастным Мутуганом — наоборот. Маркуз хотел такого... Смерть старика и юноши, вот между ними разница.
Онгон Мутугана — войлочная кукла, намазанная самыми дорогими благовониями, место, куда прилетает его душа, — сопровождал Бату неуклонно все эти годы, через снега урусутов, ковыли куманов, ощетиненные замками холмы франков... Но всё реже его дух являлся на «советы ближних нойонов» — указать; всё реже прилетал в сырость одиноких ночей — утешить. Удивляться нечему: Бату взрослел, мужал, матерел, старел... Мутуган же остался тем задорным мальчишкой, зачарованным первой своей войной и кипящими вокруг неё «нешуточными» страстями.
Перечитывая то давнее письмо раз за разом, Бату всё чаще сменял скорбь и приятную сладкую боль на покровительственную улыбку отца к сыну. Живого «отца» к мёртвому «сыну»... Но вырос и свой сын, а войны... Что войны? Резануть по старому рубцу — так и кровь не потечёт.
— У тебя необычный выбор, хан, — что-то было непривычное в словах Боэмунда. Ах, да, он назвал его ханом, как подчинённый, а не по имени... как друг, — я привёз тебе две вести, одна из них — чёрная, как тогда, много лет назад. Другая — счастливая. Но странно твоё счастье, Бату, — («Бату», теперь Бамут был самим собой), — даже счастье для тебя замешано на убийстве.
— Так вы... убили его. Убили Гуюка — вы?
— И «да» и «нет», хан, — голос Боэмунда снова звенел отчуждённостью, — этот подвиг совершила женщина, заплатив за это жизнью. Можно сказать и так. Но и моя цена — тоже была велика.
— Ты рисковал? Ты спасся чудом? — встрепенулся хан.
— Увы, всё гораздо хуже. Я положил на пути копыт твоего врага чужое доверие... и растоптал его. Так я прогневил вашего монгольского Мизира. Я положил на пути копыт своё сердце... и растоптал его. Так я убил право любить, а значит — продал свою душу нашему дьяволу. Настоящему, а не тому, о котором говорят священники латынов. Помнишь, что я сказал тебе при первой встрече? То же самое скажу и теперь: займись моей судьбой, и ты отвлечёшься от своей утраты. Она ещё настигнет тебя, поверь. Она пошлёт не одну и не две красные стрелы в твоё незащищённое горло. Ты добрый человек, Бату, но поверь, не всякий, сохраняющий никчёмную жизнь, добр... Ах, если бы ты мог убить меня за «чёрную весть». Или кончина Маркуза для тебя не важнее победы? Но ты не сделаешь этого, увы.
— Что у тебя за горе теперь?
— Горя нет — счастье. Никакие цепи не держат меня здесь.
— Расскажи об этом, и мы подумаем, что нам делать. Один раз я уже возвратил тебе причину жить, — тихо сказал хан.
— Поэтому я посчитал, что эта «причина» принадлежит тебе по праву. И пожертвовал этой «причиной» ради спасения твоей жизни, ради спасения твоих людей и владений. Но избавь меня от рассказа об этом, просто отпусти.
Бату помрачнел. Зная своего друга много лет, он вдруг понял, что спорить, просить, приказывать — бесполезно...
— Ты покидаешь меня, Бамут? Вот и Маркуза больше нет. С кем же я останусь?
— Со своим народом, хан, и с воспоминаниями. Прощай.
Когда-то смерть одного человека — великого хана Угэдэя — остановила поход на Европу, теперь смерть только одного человека — великого хана Гуюка — опять изменила судьбу мира.
Великая миссия правителей — вовремя умереть.
Даритай и Боэмунд. Кечи-Сарай. 1256 год
— Одно оставалось — Гуюка жизни лишить. Тогда и поход остановится...
— Но Маркуз... он же чародей, на эти дела мастер, — удивился Даритай. — Ты же сам говорил про то, как он проходил сквозь джурдженьскую охрану. Тогда, много трав назад, чтобы освободить Темуджина из плена. Кто ведает, как освободить, тем более может убить.
— Знающий, как пороть, редко ведает, как шить, — насупился Боэмунд и стал терпеливо растолковывать.
Тогда, с Темуджином всё было не так: много людей, много времени, а тут — иное. Всю охрану в одиночку не зачаруешь, никакого волшебства не хватит... Чтобы колдовать — надо ухватить страсть и усилить, а потом — исказить в нужную сторону. А какие у Гуюка страсти? Одна известна — сластолюбие. Отовсюду женщин и девок ему хватают — ив гарем... Просто красавиц уже и не надо — объелся, как халвы... Вот и поймали его на Прокудины прелести, как на живца: высокая, крупная, обратить внимание нетрудно. Она пред очами его в нужное время мелькнула служанкой Боэмунда, а уж Маркуз внимание повелителя куда нужно направил и вот тут уж, вправду, слегка зачаровал — долго ли? Тем же вечером от хана приехали, затребовали Прокуду на ночь... Боэмунд в ногах у Гуюковых туаджи валялся, на брюхе ползал, рыдал, чтоб всё подостовернее было. А про себя знал — отобранная женщина (лучше чья-то жена, сестра, наложница любимая) для Гуюка многократ слаще любой рабыни.
— Но ведь для тебя, как я понял, в ней тогда вся жизнь была? Отчего не кого другого на смерть, а именно её?
«Да, это верно», — подумал рассказчик, и заползшие в глубокую нору видения былого зашевелились, проснувшись.
Там, в Каракоруме — где он появился под личиной купца-работорговца — сговаривались с Маркузом о предстоящем заговоре. Побелев от самой мысли о таком, Боэмунд задал учителю тот же вопрос. Спросил, уже зная ответ, но не желая верить ответу.
«Выход у нас только один, — спокойно отразил тот. — Кого ещё? Всякая иная девушка поймёт — такое поручение никакой наградой не окупишь, ибо некого будет потом награждать. А того хуже — испугается и донесёт? Ведь тут-то ей и награда и жизнь. А мы? Единожды ошибившись, последнюю возможность потеряем. А Прокуда твоя — верит тебе как Богу, так ли? Стало быть, есть мне какую страсть усиливать... Встречу, поколдую... Она тебе поверит, что спасёшь, не дашь пропасть. Она тебя не выдаст, разве под пыткой... Объяснять ли ещё?» — «Но так солгать — Мизира прогневить, доверившегося обмануть?» — «Веришь ли ты в Мизира, Боэмунд? Но ты не солжёшь, нет... Чтобы уговоры твои от сердца шли, дам тебе надежду». — «Какая уж тут надежда?» — «К Гуюку пробраться — нет у меня путей, а после смерти джихангира — всегда суматоха. Попробую спасти твою Прокуду потом».
— Как же бы она пронесла яд? — удивился дотошный Даритай. — В походе за джихангиром — глаз да глаз — он себе не принадлежит. Любую наложницу догола разденут да обыщут, вплоть до «ножен наслаждения».
— Она на исповеди ноготь отравой намазала... как причащалась. Через священника из людей Маркуза.
— Ноготь?
— Ей нужно было слегка царапнуть Гуюка, ну, скажем, по спине. После чего он непременно умер бы на другой же день.
— А что потом?
— Когда всё случилось... ты же знаешь, что в таких случаях бывает. Перерыли всё, перепытали всех наложниц, а под пыткой правду не удержишь: она призналась, и её замучили.
— А что Маркуз?
— Маркуз, и верно, пытался спасти — не ради неё, ради меня, но не смог. Он тоже был схвачен: его человек успел мне рассказать, как его вели на казнь. Ждать было больше нечего — и я помчался к Бату...
— Сообщать добрую весть о гибели Гуюка и войне, которая не состоится?
— Именно так.
Бату (рукопись). 1256 год
«Рязан». Хочется обрубить урусутскую мягкость на кончике слова. Даже привыкнув к их языку (третьей моей «родной» молви после монгольской и тюркской), я всё же делаю усилие: «Рязан...ь»,
По моей просьбе Мунке отпустил из Каракорума их последнего князя. Олег Игоревич прозябал в заложниках у Гуюка четырнадцать трав.
Урусуты не любят кланяться. Они думают, что достоинство человека в том, насколько высоко от земли висит его голова. При этом они очень оскорбляются, когда их называют псами. Странно и смешно, но нет более презрительной клички для урусутского боярина или коназа, чем «пёс». Они выговаривают это слово брезгливо. Здешнее «пёс» звучит совсем не так, как наше «нохай» или кыпчакское «ит».
Один из нойонов гордо величался Иесун Нохай... А какой чеканной похвалой звучат строчки седовласого улигерчи:
Лбы их — из бронзы, А рыла — стальные долота, Шило язык их, а сердце железное, Плетью им служат мечи! Ездят на ветрах верхом, Мясо людское в дни сечи едят, Да, то они, подбегая, глотают слюну, Спросишь, как имя тем псам четырём...Я не прошу улигерчи писать такое про моих людей — ханский наказ не рождает звезду вдохновения. Но я мечтаю, чтобы и о нас кто-то сказал так. Просто, без наказа сказал — ведь многие того заслужили.
Почему я об этом вспомнил сейчас? Потому что всё чаще приходится напоминать нукерам самое простое и мудрое: пёс — это звучит гордо. Пёс — это самое важное, на чём стоит земля — верность.
Я старею, и, может быть, поэтому мне кажется, что проходят те времена, когда слово «верность» звучало гордо, а не смешно. Сейчас всё больше разговоров о «воле» — не о верности. Это плохо. Под разговоры о «воле» куются самые крепкие, самые беспощадные удила.
Не стоит забывать, что удила Чингиса надевались на рваные рты поверженных людьми самой что ни на есть «длинной» воли.
Если урусуты так не хотят походить на собак (на собак настоящих, вон тех, бегающих у юрты в ожидании кости), пусть их души не разрушаются на куски от простого поклона. Ведь это только звери боятся того, кто выше тебя ростом. Людям же пристало понимать: не тот страшен, кто ростом выше — совсем другой страшен.
Отчего вдруг потянуло рассуждать о поклонах? Наверное, оттого, что Олег Ингварьевич поклонился легко и низко. В этом поклоне — почти подползании — было редкостное гордое достоинство, как у крадущегося барса. Кажется, он понимал разницу между глупой дрофой, выпячивающей грудь (как иной черниговский князь), и опасным волкодавом. «Хороший человек, душевный, — подумал я с удовольствием, — и душу хранит, где положено, а именно в пятках, в самом защищённом месте, подобно главному румийскому герою. Как там называл Маркуз? Ага, вспомнил, А-хил-лес».
Вечное Небо... Русские попы, нарочно вооружились этим неодолимым румийским языком, чтобы никто их не мог поймать на бессмыслице. Одно это чего стоит: «Ме-та-но-и-тэ», то есть «передумывайте». Я нарочно достучался с толмачами до правильного перевода, чтобы не темнили. И не зря. Оказывается, они врут, переводя это слово «покайтесь». «Не каяться — думать надо», — так я сказал недавно своему христианскому сыночку Сартаку. Но он, похоже, опять не внял.
Воистину, говоря по-румийски, урусутские попы убивают ртом, — все бесы разбегутся.
Олег был, как и ожидалось, меднолицым и облачённым в добротный полосатый халат хорезмийского толка. Нет, всё-таки они — эти северные люди — не похожи на обезьян, как утверждают китайцы. (Обезьянка — подарок персидского ильхана Хулагу — у меня есть, присматривался, сравнивал.) Кроме того, давно уже не кажутся они неразличимыми между собой. За годы общения и войны с ними я понял главное: урусуты — народ хоть и тёмный, и отсталый, и в действиях предсказуем, как сосущее дитя (вот и в этом страхе перед поклонами, перед кумысом, перед деревяшками своих диких амулетов-икон), но всё же, подобно нам, монголам, у всякого своя особина.
А иные — и вовсе не глупее наших... особенно некоторых, от самоуверенности последний ум за пловом сожравших.
Бату и Олег. Кечи-Сарай. 1256 год
— Садись, коназ. Помнишь ли меня? — Бату знал, что тот помнит. Помнит и, похоже, ненавидит. Но что-то же понял там, в великом городе Потрясателя, наверняка понял.
Глядя на его медное, высушенное невзгодами лицо, повелитель подумал: печать страданий может быть благородной, вот как у этого мученика, или не очень благородной. У него самого, например, всё лицо в красных пятнах. Плано Карпини уж так перед ним изгибался, так егозил — а ведь наверняка (в том числе за то, что не получил от него ничегошеньки) эти пятна в доносе понтифику латинскому отметил. Мелочь, а всё-таки обидно.
Это ни о чём не говорит. Ни о чём, кроме того, что Небо обделило кожей, подарив полмира. Но, увы, за эти полмира не купишь даже кожи без пятен.
— Помню, — спокойно согласился Олег. И в этом «помню» надо было услышать недосказанное: «Ничего не боюсь, даже ненавидеть вас всех устал. Годы, нахальным ветром развеянные, мне теперь уже никто не вернёт».
— Справедлив ли мой друг и воспитанник Мунке к подданным своим? — Бату поймал себя на том, что нужно усилие, чтобы говорить не вкрадчиво, тем паче — не зловеще, и получилось, вопрос задал таким тоном, будто давеча посылал Олега с проверкой — исполняет ли Мунке свои обещания? Не тот тон, неправильный.
Бату смотрел, как борется в князе желание сказать им всем (наконец-то!!!), что накопилось — другого случая не представится, — и гордо умереть освобождённым. Однако под всем этим — как вода под сапогом на болоте — проступает застарелый испуг: родная земля уже так близко. Если его усталое подползание к ней завершится не встречей, а новым бесконечным прозябанием теперь уже в этих, волжских тенётах — он не сдюжит, разум потеряет. Ему, наверное, нашептали, что Бату любит, когда ему говорят правду, а это, как известно, худшее, что можно придумать. «Все они любят, чтоб им говорили правду, но обязательно приятную правду, ни слова лести. А где её такую сыскать? »
Олег всё-таки попытался начать «за здравие», но сорвался «на упокой». Если бы ему не сказали в Каракоруме, что он едет домой, может быть... Но теперь нет, больше не будет пресмыкаться. Он не хочет возвратиться домой тем, раздавленным, распростёртым: эта маска осталась там, далеко. Снова её нацепи — не снимешь. Это тебе не «хари» скоморохов, тут всё без смеха. Он не хотел везти домой это отринутое холопство. Привезёшь, а оно как «мор прыщем» пойдёт гулять и по родной земле.
— Мунке велик и справедлив. Всякая вера в Господа — магометанская ли, другая — «дорога для него, будто собственный палец» — он любит говорить такое... — Голос горемыки прокатился по мягкой юрте, словно у неё были каменные своды — глухо и величественно, потусторонне.
— Но... — подсказал продолжение Бату, уловив, что Олег ещё и сам не знает, высказать возражения вслух или нет, но интонация выдала его — не удержался. Бату очень хотел, чтобы князь не удержался, от этого зависело — поможет он ему или нет. Трусы и лизоблюды Бату не нужны, он не Гуюк.
Впрочем, они никому не нужны, а их всегда — полны тороки.
— Но... — повторил за ханом заложник. «Прыгнуть в этот омут или не прыгнуть», — плясал вопрос в глазах, устало глядящих из-под выцветших бровей. И он «прыгнул». — Господу угодна только одна вера. Остальные — ереси... Поддерживать всех — стало быть, не бороться за свою.
Олег решился — и поток слов полился, будто лавина, сметающая мимоходом и тоску по близкому дому:
— Пальцы на руке всегда меж собой согласны, но нельзя одновременно верить в то, что Мессия — Бог, и в то, что он Пророк, и в то, что он Бодисатва (как это делают служители Будды). Отрежь чужой палец, пришей... Всё одно загниёт как труп, — князь вздохнул, — потому и трупы кругом.
— Ого, — разочаровался Бату, такое он слышал не раз, — и, разумеется, Господу угодна именно твоя вера, мелькитская. Откуда такое знаешь? Не забудь, что «неисповедимы Его пути ».
Однако Олег сумел удивить хана, сказал не то, что от него ожидали.
— Раньше, когда юнцом был, думал и такое, грешным делом. А ныне, ныне уж и не знаю, кто ближе к Богу. Ежели Он есмь Любовь, так и все далеки. — В глазах заложника на миг проклюнулся испуг, как мордочка щенка, которого топят, и пропал. Совсем пропал.
— Ну, а если неизвестно, так и правильно делает Великий Хан, что все церкви поддерживает. Разве не так? А как бы поступил ты?
В Олеге-заложнике, кажется, стал просыпаться Олег-правитель... «Нет, пока не правитель. Пока — простой книгочей», — осадил себя Бату, но взглянул на собеседника внимательнее. Превосходство во взгляде хана растаяло...
— Какая вера правильная, в бдениях души и ума постигается. Затем и молятся, чтобы от Господа ответ получить. А церковь, всякая церковь, мешает тому. Хочет она, каждая, чтобы от неё самой, не от Господа... Как указ об их поддержке понимать должно? Токмо так: «Не важно, каким манером ты молишься, — важно, чтобы своей головой не молился, токмо чужой, той, которая за хана молебен творит».
«Ого», — князь растормошил самое больное место. Оставалось понять — взялся за него как лекарь или как бунтарь.
— Слова твои — пустая дерзкая хула, если не объяснишь, чем такие указы Великому Хану вредят.
— Чего проще? Каждый верующий (всё равно какой), коли думать приучен, обязательно помыслит: власть хана не от Бога, ежели он и еретикам, и нам одинаково мирволит. Она, власть-то, — лишь испытание Божие. Она — не голова, токмо меч, который следует из рук неверных перехватить. Что поощряет справедливый Мунке? Проповеди того, что людей Ясы, Тенгри и Мизира нужно крестить или же обратить в Магометову веру... или ещё в какую. Не крамола ли сие?
Олег так разошёлся, что забыл, где находится. Или не забыл? Может, пользуется случаем без даров и долгих подползаний донести свою правду до ушей повелителя? Доведётся ли ещё?
Нет, он не книгочей. Он уже сейчас — князь. И готов быть задавлен, отравлен тут же, ежели его не услышат. Если бы из тёплого благополучного дома сюда за грамотой на княжение приехал, так лебезил бы и пугался, как разбуженный в норе барсук. А он привык, что жизнь кончена, и не успел ещё стать от сытости (и оттого, что за семью в ответе) осторожным, стать обычным заботливым трусом.
— Будет хан Мунке все церкви ровно поощрять, как и делает он, — растащат эти самые церкви державу по кускам. — Чего и соединять было Чингису? Ещё сказать? Хулу на православие под страхом смерти произнести нельзя, так ли? А намаз магометанский, а споры меж священниками в ставке — чем не хула? Стало быть, можно... только не от своей вольной головы. А головы сии — как раз те, какие бы державу от развала спасали. А ещё сказать: Ясу твои нукеры почитают, разве сие не хула на Православие? Так что же? Самого себя казнить надобно? И вовсе несуразица... Ещё сказать?
«Ого, — подумал Бату, — Мунке бы сюда, чтоб послушал».
— Твои слова — будто стрелы отравленные, хорошо говоришь, — засмеялся хан глазами. — А что бы ты сам делал на месте Мунке? Легко прорехи замечать, сшивать их куда тяжелее.
По тому, с какой готовностью князь выпалил ответ, было понятно: давно он обдуман.
— Мунке — ВСЕ церкви поддерживает, с клира податей не берёт. А я бы так, наоборот, НИКОГО не поддерживал. Однако же и не гонял бы иноверцев, как наши урусутские иереи — от гонений-то чёрный народ страдает, а этим — что с гуся. Наложил бы я на церквы (любые) двойную, тройную подать — это полдела. А сверх того кинул бы клич: «Покайтесь, Господь дал нам душу для трудов и дум, не для псалмов слепого мычания, а благодать — она не зерно в амбаре. Ежели грешен — бормочи не бормочи, расплата гряде».
— Ты не любишь попов, князь, а сам говоришь как они, — остановил Бату поток красноречия. — Кто заставляет людей думать, ими ненавидим будет. Думать — нет хуже пытки для человека простого. Псалмы — не те, так другие — будут всегда: такое не изменишь.
— Значит, рабы, опять рабы — Олег, кажется, и вовсе позабыл, с кем говорит.
— Не тот богол, кто под кнутом, а тот богол, кто делает не предназначенное Небом. И хан может быть рабом, если он не хан внутри. Аты смелый, коназ... берикелля. — Похвала получилась несколько снисходительной.
Всё-таки Бату слегка разочаровался: то, что вещал этот страстотерпец — обычное марево разумных, но одиноких людей. Те, в кого Небо вдохнуло страсть, хочет, чтобы и окружающие тоже доросли до таких высей. И что же это будет? Земля взорвётся, как горшок с джурдженьским огнём. Но пусть книгочеи думают о таком, он — хан. Для него важно другое. Куда бы ни качнулась в очередной раз мелькитская церковь, этот князь не будет слепо преклоняться перед их патриархом. Чем больше у власти людей, для кого румийский патриарх не помазанник Божий, а заблудший фарисей, тем лучше.
Бату поморщился. Здешние попы в который уж раз изменяют себе. Тогда, во время большой войны, они позорно бежали из городов, оставляя свою паству на поругание воинам врага — его, Бату, воинам. Даже владимирский епископ Макарий — вроде не такой, как другие, а что предложил доверившимся ему людям взамен позорного бегства? Бесполезную смерть в огне, а что с неё толку? Они обзывали Батыево воинство «зловещими гогами и магогами», клеймили пришедшими из ада «тартарами» (будто не носила половина его нухуров нательные кресты), и чем же всё кончилось?
Как только выяснилось, что их, черноризых, не тронут — мелькитские попы стали подобострастно служить молебны за победителей, налегая на то, что «всяка власть от Бога». Зачем и против кого тогда оружные дружины, которые они благословляли на рать? Благословляли, прежде чем самим покинуть опасное место? Одни из них восторженно лизали сапоги Гуюку, когда тот прикармливал их в Каракоруме, вызвав для договора о совместном с урусутами походе против Папы... А другие — меньшинство — в ту же грозную пору увивались вокруг латынов.
Хан шумно вдохнул пропитанный курениями воздух, медленно, как урусуты «намоленную благодать», выдохнул обратно. В который раз почувствовал обиду. Почему же онг Бату, пришлый завоеватель, «моавитянин», «божий бич» изворачивался, как мог, чтобы уберечь их паству от страшной войны с Европой (которая должна была разразиться опять-таки на урусутских землях). А их церковные пастыри в этой будущей войне (на стороне одних еретиков-несториан против других еретиков-латынов) узрели одно лишь благолепие.
А всё просто: ему, коварному хану, нужны живые подданные, а им — служителям истины — живая вера (и «леготы» монастырские). Если всё вокруг от войны пострадает, так им даже лучше. Сами-то, укрывшись за охранными пайдзами, всяко уцелеют, как Нух в ковчеге. Ежели мир кругом, земля не кажется «юдолью горя и слёз». Отчего на Небо тогда бежать?
Есть другой конец у палки: здешняя мирская власть ослабнет, чем для них не благодать? Каган Гуюк десять шкур через откупщиков с мирян снимал, так даже и радовались. Такое тут бывало и раньше — до них, монголов. Заставил как-то Бату своих слухачей в здешние давние «летописцы» заглянуть. При их чтении возникло такое чувство, будто книжники мелькитские (все из мнихов) только тогда разор городов осуждали, когда вместе с мирянами их самих щекотали. А иначе будто и разора нет — так, дела семейные.
Бату решился, не стал изводить Олега сомнениями. Тихо оповестил:
— Даю тебе грамоту на Рязань, но с условием. Не позволяй у себя усердствовать ни тем, кто под латына клонит, ни тем, кто с несторианами на стремени коротком. Отныне — я твоя защита. Я, — повысил он голос, — не сын мой, Сартак. Понял ли? Он молод, авось изменится. Как мне тут говорил, так и правь народом своим.
У князя задрожали руки... Ага, Не чаял, что так обернётся. На этот раз Олег не спешил, боясь резкими движениями расположение хана вспугнуть, как дичь, к которой крадёшься. Уже почти у порога услышал:
— Кромолу зачнёшь ковать, стойно галицкому Данилу, — пожалеешь.
Олег замер от этого голоса. И тут как нечто вовсе не значимое прозвучало:
— Тебя ждут у входа, чтобы проводить к нойону по имени Даритай. Там ты найдёшь свою молодость. Если вместе с ней найдёшь ещё и счастье — возьми его от меня в подарок. И передай Даритаю — моя воля, чтобы отдал он то, что ему и так не принадлежит. Иди.
Олег стал растерянно отползать к порогу. Почему-то от этих слов его бросило в мелкую дрожь. Только одно могло воскресить его молодость, но это невозможно.
И навалился на него чёрный плащ тоски, ибо, что бы ни имел в виду мрачный шутник хан — всё было только мираж, мираж. Он не стал переспрашивать, уточнять, знал — тупая, наперекор всему, надежда скрутит его в узел, а потом — раздавит разочарование. И всего этого уже не избежать.
Да, что ни говори, всё-таки диавол — этот «добрый» хан.
От небрежных слов повелителя то, о чём Олег приказал себе не вспоминать никогда, вырвалось, как долго сдерживаемая запрудой вода каракорумского фонтана. И родная Старая Рязань, которой нет уже на свете (ведь город отстроили совсем в другом месте, а на прежнем, говорят, даже тела по сей день не убраны). И его скромные хоромы, и конюх-мордвин с заботливым, истыканным оспой лицом, и... И даже не молодость, а юность, сожжённая песками безбрежного, как вечность, восхода.
А самое главное — ОНА...
Годы развернули коней — стремительно метнулись назад, в прошлое.
Даритай и Боэмунд. Кечи-Сарай. 1256 год
— Видишь ли... всё встаёт на свои места, если допустить, что и сам Бату считал, что он живой мешает тому делу, за которое боролся всю жизнь, — освобождению от опеки Каракорума. Хорошо всё свалить на нетерпимость мусульман Булгара и Сарая, подвластных Бату, но где же она раньше-то была? Пряталась в мелком шипенье?
— Это верно, Бамут, — согласился Даритай. — Я понимаю здешних людей. Тут и без нетерпимости голову сломаешь. Попробуй-ка останься в стороне, когда пару лет назад халиф Багдада объявил против монголов священный джихад. И все знающие понимали — дело не в монголах. Монголы — это ширма. Мог ли халиф и дальше наблюдать, как христиане-несториане всё больше и больше становятся хозяевами востока империи.
— Ты и такое понял... — удивился Боэмунд.
— Сколько ни утверждай, что все веры «одинаково любимы», но Мунке вырос в семье христианки... — продолжил хозяин. — А недавно случилось самое страшное: волхвы Креста уговорили его огласить «жёлтый крестовый поход» на Багдад в ответ на джихад халифа. А куда бы он делся? Тогда от него сюда, в Кечи-Сарай, послание пришло, странное такое послание.
— Наверное, уверял, что не на земли Бату с походом идёт, а только на Багдад. Бедный Мунке, каково ему пришлось, — без иронии вздохнул Боэмунд.
А каково Бату? Дружба дружбой, клятвы верности в те же тороки на запасного коня, но: мусульмане в городах по Итилю требуют у своего хана порвать с Каракорумом, поддержать Багдад против христиан, снова сверкающих саблями.
Бату всю жизнь хотел освободить своих подданных от ярма империи. Вот он, случай! Поддержи ислам, халифа — и освобождай. Чего же ты ждёшь? Но кривая палка прямой тени не даёт.
Прежде в Каракоруме клубились враги: убийца отца великий дед Чингис, наследники дедовой свирепости — Джагатай и Гуюк. Мунке — дело другое. Ведь он великодушен и справедлив, не чета выродку Гуюку. Он лучше халифа, Бату всем сердцем на его стороне. И потом — белоголовые первыми объявили джихад.
Но что же делать с его урусутскими друзьями, с джурдженями, с выходцами из Вечерних стран? С теми монголами, которые остались верны вере отцов, верны Тенгри и Этуген?
Пожертвовать ими всеми ради халифа? Братец Берке, похоже, готов на такое.
Как бы хан ни поступил — это стало бы обманом доверившегося, — обманом той главной веры, которой Бату следовал всю жизнь.
— Брат мой, как же случилось, что жизнью своей ты укреплял ненавистное, и только смертью можно достичь желаемого, — говорил ему запутавшийся Берке. Он тоже не мог бороться с друзьями своего брата, пока тот был жив, — этим бы он его предал.
А улемы нагнетали: пора сделать выбор — Аллах или узы родства.
— А отрава во время пира?
— Баурчи под строгим наблюдением, все яства вкушают сами, прежде чем подать, — пояснил Даритай очевидное.
— Но, может, всё-таки?
— Нет, не может...
— Никто не смог бы прорвать сеть моей охраны, — задумался Даритай, — даже если бы подкупили одного, этот один под наблюдением остальных. Ты же знаешь мою охрану?
Впрочем, всех тургаудов той смены уже пристрастно допросили... так, как умеют допрашивать монголы.
— Остаётся только колдовство, — перебрав, что можно, развёл руками Боэмунд и вдруг, насупившись, медленно проговорил: — Да, именно колдовство.
Друзья переглянулись. Оба знали, что именно они подразумевают под этим словом. После долгого суеверного молчания Даритай вкрадчиво прошелестел:
— Я знал только одного человека, способного на такое. Но его уже нет в живых.
Оба, конечно, поняли, о ком речь.
— Но, — встрепенулся Боэмунд, — по здравом размышлении, разве он такой один на свете? Впрочем, — вздохнул он мгновением позже, — и Маркуз бы не справился тут.
— Можно заколдовать одного, но... столько человек охраны?
«Одного, одного», — крутилось в голове Боэмунда, и вдруг — как прожгло.
Он пристально взглянул на соратника, потом медленно, вкрадчиво, с бьющимся сердцем произнёс:
— Всё, что я скажу, конечно, глупости. Но поведай, друг мой, тем утром у тебя были причины для ненависти к Бату?
Даритай уставился на Боэмунда сначала недоумённо, потом его голос задрожал от обиды, удивления, растерянности. Таким его не видел никто...
— Значит, ты думаешь, что... что я бы... — сбивчиво забормотал он. — Но как ты... — Он стал багроветь. — Даже Берке, даже он не взял меня на подозрение... Может, позовёшь палачей с железом? Давай, давай... — Губы Даритая стали жёсткими.
Боэмунд мягко положил руку на плечо:
— Успокойся. Тут дело даже не в том, что я тебе верю, как себе, тут в другом дело. Ваши разговоры с ханом не слышны, но они — видны. Как бы ты мог, убив хана, выйти незамеченным своими же людьми? Но, но всё-таки припомни, не пробежала ли между вами тень... накануне?
Стало слышно, как в цветное стекло бьётся мотылёк.
— Нет, Боэмунд, не тень, чёрная туча, — неохотно признался Даритай после тяжёлого молчания. — Но об этом не расскажешь в трёх словах.
— Так расскажи в ста словах, — мягко нажал Боэмунд.
— Придётся начать очень издалека, — смутился начальник охраны и лучшей в войске сотни, — но... зачем тебе? Ладно, хватит изображать удивление. Её ненаглядный князь Олег не погиб тогда, а прозябал в заложниках у Гуюка. Вот ты слушал мою боль, а ни одной ресницей не пошевелил, змей. А ведь знал, что Олег — жив.
— Что жив — знал, ну и что? Мне важен сейчас твой душевный порыв, не прерванный ничем. Продолжай.
— Так вот Евдокия теперь с ним, в Новой Рязани. А он — рязанский князь, ибо получил от Бату грамоту на княжение вместо Ингваря. Неужто и это не знал?
— Знал... про князя, но не про Евдокию твою. Погоди-погоди, дай теперь угадать. Стало быть, Мунке-хан после гибели Гуюка отпустил его заложников, в том числе — Олега. Он явился к Бату... и тот пожаловал ему рязанское княжение. А чтобы обеспечить полное верноподданство, хан подарил ему счастье... Да, это очень в духе нашего повелителя. Вернул жену, которую тот считал погибшей. Долго ли? Просто приказав тебе отдать невольницу, слишком для тебя роскошную. Получается, ты был сундуком, в котором спрятали жемчужину... — Во взгляде Боэмунда промелькнула не обидная жалость, он вздохнул: — И про благоговение твоё перед ней Бату тоже наверняка знал. Вот и не забирал её у тебя. До поры до времени.
Даритай затрясся мелкой дрожью.
— Да, Бамут. Ты всё рассказал так ясно, как и я этого не видел. Пришли нухуры в сопровождении коназа Олега и передали мне приказ: её... вывести. — Даритай чуть ли не всхлипнул. — Понимаешь, тут ещё так совпало, что стала она за последний месяц оттаивать, замечать меня стала как-то по-особенному. И ещё... появилась эта самая улыбка вполгубы. Голова после той улыбки совсем у меня загудела. А надежда как дрофа, бредущая в силки — только бы не спугнуть, и вдруг... Видел бы ты их встречу.
— Лишилась чувств твоя звезда...
— Если бы. Увидела его... и спокойно так говорит: «Ну вот, наконец-то, а я уж заждалась». А я смотрю, она на ступеньке на одной ноге стоит, а вторая как была на весу (чтобы ниже спуститься), так и замерла.
— А он?
— Ну, просветлел весь. Стоит, молчит. Тут его сопровождающий нухур тронул за плечо: проснись, мол. И мне с нажимом говорит: «Даритай, тебе повеление хана Бату. Невольницу эту отдать князю немедленно. Завтра получишь из казны за неё, как за урусутскую княжну».
— И...
— И тут она подошла к Олегу, тихо, медленно. Они взялись за руки... как слепые, как дети. И пошли от дверей моего дома,— мрачно закончил Даритай. — А я стоял как побитый пёс... Она не оглянулась даже... в мою сторону не взглянула. Будто я и всё, что со мною было, — просто чёрный морок.
— Счастье — вещь слепая, несострадательная. Чужие судьбы калечит не хуже войны.
— Да, Боэмунд. Я тоже о чём-то таком подумал. И впервые рассердился на повелителя. Столько я для него сделал, а он так со мною поступил.
Боэмунд напрягся, спина натянулась струной:
— Встречался ли ты после этого с ним?
— Да, он вызвал меня этим же вечером, и мы долго говорили о случившемся. Надо же, кто я и кто он?
— Помнишь ли ты этот разговор? — резко нажал Боэмунд. — Не бойся. Я знаю, что ты не убивал хана.
— Да, я всё прекрасно помню... почти. Кажется, он оправдывался. Но легче мне не стало. Представь себе мышь, перед которой оправдывается тигр.
— Пили архи... — всё более заинтересованно налегал Боэмунд.
— Не так, чтобы опьянеть, но... да. Великая милость пить с ханом...
— Многого ли ты не помнишь с того вечера?
— Не очень. Н... но... Мы встречались и потом.
— А теперь, Даритай... о другом. Приходил ли кто-то неизвестный к тебе ещё? В тот последний день.
— Нет.
— Вот так дела. А ну-ка вызови тех, кто стоял тогда на охране твоих ворот.
Вызвали стражу. Нет, ничего такого, вот разве длинный вонючий старик-пилигрим. Вещал и причитал, жаждал видеть хозяина, кричал что-то невразумительное.
— И что, вы решили не беспокоить меня по пустякам? Мало ли бесноватых, — сердито спросил Даритай опешившего нухура.
— Ты забыл, господин. Шума было слишком много, и ты вышел из дома... Вы отошли в сторонку и о чём-то говорили. Недолго... Потом ты рассердился и прогнал его прочь.
Даритай вдруг похолодел и переглянулся с Боэмундом... В глазах прыгал испуг. Он ухватил Боэмунда за руку и прошептал:
— Я этого не помню... НЕ ПОМНЮ.
Боэмунд стремительно бросился к нухуру в надежде, которая не должна была сбыться:
— Этот, старик... Его можно найти?
И гром грянул...
— Нет ничего проще. Я тогда, на всякий случай, послал проследить. Он и сейчас там, среди паломников, за рынком, в землянке для рабов... с какой-то женщиной... Схватить? Привести сюда?
— Нет, ничего такого. Покажи мне его... Покажи мне эту хижину. И... и всё... дальше я сам. А вы... издалека. Скорее всего — это мираж, моя глупость. Моя досада, что не могу взять след.
Дождавшись, пока женщина с кувшином скроется внутри хижины, он последовал за ней. Откинув верблюжье покрывало, прикрывающее саманный вход, осторожно вошёл.
Она сидела на земляном полу. Лицо — наглухо закутанное арабской куфией, только глаза. Что-то знакомое в глазах. Но нет, этого не может быть.
Боэмунд выпрямился, как барс перед прыжком... И вдруг голос, который он ни с чем бы не спутал, едва не сбил его с ног:
— Здравствуй, Бамут... Я ждала, что ты придёшь... Ждала и не ждала. Да, ты всё правильно понял, про Бату. Но лучше уйди сейчас.
— Почему, Прокуда, почему?
— Что у тебя осталось в жизни? Только воспоминания... Если ты откинешь полог за моей спиной — лишишься воспоминаний. Стоит ли истина того, чтобы лишиться воспоминаний?
Не узнавая своего голоса, он прошелестел:
— Прокуда, ты ли это? Раньше ты не умела говорить ТАК.
Родной звонкий голос. А интонация — чужая, жёсткая, как сушёная кожа.
— А теперь — научилась...
Белый смерч перевернул его и властно закружил, вытер им, как тряпкой, белопыльные улицы Кечи-Сарая. Маленьким, словно песчинка, понёсся Боэмунд за красные горы, за жёлтые песчаные реки, путешествующие как люди, за колючие леса. «Я ещё стою, но где я, где?»
— Ты в прошлом, — усмехнулись сквозь куфию, — сладко ли?
Ватными ногами он шагнул, отдёрнул вторую завесу... Постаревший, всё с теми же мятущимися волосами и бородой, перед ним стоял Маркуз.
— Ты удивлён, забыл ли главное? Я не умею ничего, только одно мне даром дано: усилить ту страсть, которая есть и без того.
Боэмунд был не в силах произнести ничего внятного, слишком потрясён.
— Давным-давно, в горах иртышских говорили мы с Бату о смерти. Я сказал: «Слово владеет всем, душа лучше знает час ухода, чем разум. Хочешь ли, чтобы я подчинил твою душу колдовскому слову?
Кто произнесёт его в должный час, отодвинет твой суетный разум в сторону будто глупого тургауда, не пускающего в юрту важного гонца? Кто произнесёт его — откроет тайники судьбы твоей. Мягкое, как шёлк, мудрое беспамятство окутает тебя, и ты выпьешь тот яд, что будет с тобой всегда, яд блаженной смерти. Я дам тебе такой.
Не пугайся. Это слово не предаст, как перекупленный слуга. Ибо только в одном случае действенно будет: если все нити отрезаны. Останутся ли стремления, друзья, любимые — ничего не получится. Тварный мир не отпустит в небытие, и заклятье скользнёт по душе, как капля воды — безвредно.
Но зато... блажен, кому вовремя уйти удалось. Не заберёт он с собой в Верхний Мир тоску. Очищенный, быстрее возродится дух его для новой жизни. Не станет он неприкаянным духом скитаться по ночам».
Боэмунд, убаюканный проникновенным голосом Маркуза, умиротворённо кивнул:
— Заманчиво умереть так, и не каждому это удаётся. Все мы уходим в небытие либо раньше должного срока, либо позже. Но скажи, Маркуз, трудно ли насадить душу на колдовское слово?
— Трудно. Тогда, в горах, мы с Бату целый день не выходили из шалаша. Тут нужен мой колдовской дар, его доверие, а ещё — узы отеческой любви. Потом нужно сделать так, чтобы человек обо всём забыл — иначе тоже не будет толку. Но ещё труднее другое: тот, кто скажет это слово потом, должен в этот миг сам желать смерти того, кому он его говорит. Либо из сострадания, либо из неприязни. Иначе — ничего не выйдет. И ещё — нужно доверие к тому, кто это слово произнесёт.
— Но ты не мог не замыслить слово заговорённое достойному передать.
— Это верно, Бамут. Тогда, в иртышских горах, Бату был молод, я почти стар, но не дряхл. Потом, когда ты и Прокуда появились в Каракоруме, подумывал отдать это слово тебе.
— Отчего не отдал?
— Всё изменилось. Жертва, на которую ты шёл ради погибели Гуюка, не делала твою душу способной взять на себя ещё и эту ношу.
— Но видишь, я вернулся. А как же вам удалось спастись тогда?
— Люди Мунке подоспели вовремя... Почти вовремя.
— Отчего «почти»? — встрепенулся Боэмунд.
— Это ты узнаешь после, от Прокуды.
— Хорошо. Но как же Бату?
— А что ты понял сам? Ведь всё-таки нашёл нас? — Маркуз говорил просто и чётко. Без придыхания, без надрыва, даже немного с лукавинкой, не по-чародейски. Сколько знал его Боэмунд, эта манера Маркуза никогда не менялась. Но за напускным легкомыслием скрывались истинные переживания и радости, не заметные окружающим, даже друзьям.
— Сейчас уже многое, учитель... — вздохнул Боэмунд. — Ты решил, что Бату пора сказать заветное слово, проверить, не пришло ли время его. Для этого нужен человек, которому Бату доверяет. И ещё такой, который испытывает к Бату смертную обиду. Кто же это может быть? Только Даритай. Бату отдал его любимую наложницу рязанскому князю. Отдал по справедливости, может быть, но Даритаю от того не легче. «Можно только усилить ту страсть, которая уже есть». — Ты усилил обиду Даритая. Заколдованный тобой, он пришёл на встречу с повелителем и сказал ему то самое слово. И после — ничего об том не помнил, как и быть надлежит.
— Что ж, не зря тебя учил, говори ещё...
Боэмунд нахмурился, продолжил:
— После ухода Даритая повелитель выпил яд, который всегда носил с собой. Получается, что убил его ты. Чужими руками, но всё-таки...
Слишком резко, слишком властно отчеканил Мир куз ответ, чтобы не разглядеть осадок сомнения в его словах.
— Нет. У Бату, кроме меня, много убийц.
— Даже я, — охотно согласился бывший соглядатай, — потому как, если бы я не покинул повелителя, он не выпил бы яд. Привязанность ко мне могла удержать неотвратимую руку.
— А ещё — болезнь. Кричащие ноги не давали покоя.
— Иначе уцепилась бы воля к жизни за стремя.
— Но самая сердцевина не в том, — с несколько растерянной назидательностью нажал чародей, — Бату хотел примирить непримиримое: людей разных богов. Но ревнивы боги, как ни поступи, всё равно напорешься на предательство, будто на ветку в тесном стланике. Он жил и умер как хан, настоящий хан, неспособный дышать без такой ноши. Потому выпил яд.
После сказанного долго молчали.
— Если бы хоть что-то оставалось, хоть маленькая привязанность, он был бы жив сейчас. А там — тучи разбегаются от свежего тепла.
— Мрачна погода над землёю, не осилить пустыню одиночества без верблюда надежды. С душой, омрачённой предательством, испятнанный струпьями тоски, оказался бы он там, где и ныне пребывает. Лучше ли?
Снова налегла чугунная тишина. Потом Боэмунд произнёс, как сундук закрыл:
— Одному Всевышнему известно, Маркуз, — убийца ты или спаситель.
— Я был для Бату — вторым отцом. И держать буду ответ перед Богом, какой он там ни на есть. Но, — просветлел он вдруг, — остаётся ещё одна возможность. Бату выпил яд — не из-за заклятия — а своею волею.
— Да, мы никогда не узнаем.
Боэмунд и Прокуда. Кечи-Сарай. 1256 год
— Увидела и растаяла вновь, зачем нашёл?
— Обманул. Бросил тебя в ваалову пасть, нет мне прощенья.
— Не так всё. Знала, что на погибель иду, всё одно было.
— Отчего так?
— Ты смотрел на меня, будто на сестру... а то — на лик Богородицын. А я жалела тебя... всего: грешным делом, грешным телом. Как мы ехали тогда по лесу после Пронска... с тех пор. Ещё туры выскочили, все в снегу. Помнишь ли? Я призналась тебе легонько, отмахнулся.
— Нет же, нет, — задрожал Боэмунд, — это ты ко мне так. А я — скопец, урод.
— Да разве ж в том дело, глупый? И поздно — красоты моей уж нет.
Они сидели у саманной землянки. Жаркий воздух обволакивал их неуютным теплом. Почувствовав чуть ли не кожей, с каким горестным усилием скинула она куфию (чтобы спустя мгновение закрыть), он не испытал ни ужаса, ни отвращения.
Вся нижняя половина её лица была изрезана и обожжена — хорошо постарались кешиктены-дознаватели. Раны стали рубцами, и только глаза и нетронутый лоб, на который падали поседевшие космы, были прежними.
Но вдруг глаза, лоб, эти нетронутые локти с гладкой кожей... дай не в них даже дело. Может, голос... Да и голос ли? Словно отвалился камень той сырой пещеры, где он бродил с тех пор, как они расстались.
Солнце — беспощадный глаз монгольского Мизира — ворвалось в проем нагло, весело. Боэмунд неожиданно улыбнулся, как не улыбался с тех пор, когда покинул сожжённый папистами родной город Безье, счастливо и беззаботно. Он сжал её руки (палец один неправильно сросся) и откинул куфию. Она вскрикнула невольно.
— Нет, теперь мы вместе... Мука твоя позволила мне подняться смело в твой роскошный терем.
— Нет, тебе ко мне спуститься, — задохнулась она от пробившей запруду радости и снова вдруг смутилась: — Вот только не одна я... с сыном...
— Сыном? — отшатнулся Боэмунд. — От кого?
— Знали бы от кого — не было бы мне покоя, удавили. Монгольская кровь в нём, царская. Как Мунке-хан власть захватил, всю родню Гуюкову до младенцев истребили — у них теперь так. Всю... да не всю.
— У тебя сын?! От Гуюка?! Великий тайджи?
Прокуда улыбнулась покореженным ртом, но Боэмунд ясно вспомнил ту, прежнюю улыбку.
— Так ведь ночь-то была у нас с этим иродом твоими трудами. Но никто про ребёнка не знает. А про себя решила: не он отец — ты. Бамутом назвала. Думала, уж не увижу тебя боле, прости.
Мальчик посапывал на мерлушковой подстилке, а Боэмунд непослушными губами пробовал на вкус новое, запретное, наглухо запретное для него, скопца, слово — «сын». Он повторял его на всех языках, какие знал, хоть и не ведал уже — через столько лет, — какой из них родной.
Рядом, прижавшись — как не было у них в той жизни, — стояла сияющая Прокуда.
Вот ведь как судьба закрутила. Жертва та, главная, последняя (на которую ради Бату пошёл, ради которой от Бату ушёл), причудливой змеёй извернувшись, его укусила ядовитыми зубами счастья, простого, мирского.
Он вышел из землянки под прозрачный безбрежный купол. Залихватски запрокинул бледное лицо. Там, в Небесах, — или показалось ему — одобряюще улыбался его друг и повелитель, ушедший из жизни ВОВРЕМЯ.
И, может быть, сбросивший с себя все заботы.
ЭПИЛОГ
Расчётливый правитель победил в Берке сострадательного подвижника, и он (дабы не ссориться с урусами) разрешил строительство в Кечи-Сарае мелькитской епископии.
На сетования улемов Булгара и Сарая гневался:
— Чего добьёмся? В лоно праведности неверных не приведём — только жизнь им и себе в войне сократим. Если ждут их мучения бесконечные, пусть хоть миг земных радостей продлится для них. Я не Магомет, я сам бывший грешник. Только пророки достигают таких вершин чистоты, что изблёвывают из души своей всякое сострадание.
Улемы недовольно фыркали, они хотели войны без предела. Берке, стыдясь слабости, беспомощно оправдывался, но его поддерживали правоверные купцы.
А между тем в Самарканде несториане затеяли издевательский диспут с мусульманами. Пользуясь покровительством Мунке, они решили покрасоваться. И то сказать: настрадались, бедные, за годы угэдэевского равноправия церквей.
Но любое равноправие с нечистью — оскорбление Бога.
Самаркандские улемы и кази убедительно выиграли словесный поединок, это их и сгубило. Богословие — такая игра, выигравшему в которой частенько достаётся смерть. Устроив спорщикам унизительные издевательства во время намаза, христианская толпа приступила к главной аргументации всех времён — погромам.
Уже оставалось совсем немного трав и до «Жёлтого крестового похода», блестящего в замысле и исполнении монгольского удара в самое сердце земель, подвластных халифу. Скоро, очень скоро, монгольские служители веротерпимой Ясы будут резать мусульман Багдада ИМЕННО ЗА ТО, что они — мусульмане-сунниты. Впервые будут отдавать мечети в истомившиеся христианские руки, чтобы те превращали их в Храмы Мессии. Самаркандское пиршество безнаказанной ненависти было искрой, из которой, казалось, и возгорелся очередной «пожар вселенной».
Суркактени-хатун вполне могла торжествовать. «Религия Любви» наконец-то получила преимущество над «Религией Послушания». Однако, радуясь задело жизни своей, что представляла ханша, когда любимый сын Мунке рассказывал о падении столицы халифов? Предсмертный кашель побеждённых или светлую радость освобождённых узрела она в своих видениях? Чем было заполнено её сострадательное воображение? Наверное, думала Суркактени о разном, ведь Мессия не обделил эту достойную женщину умом.
Впрочем, перед тем суждено было многому случиться. Вступив на стезю честного служения Аллаху, Берке не мог щадить врагов, даже уважая память любимого брата.
Возражая слишком «правоверным» любителям пылающей войны-джихада, Берке опирался на купцов — почитателей покойного брата-язычника, так и не удостоенного рая. Купцы всегда за мир, за исключением тех особых случаев, когда мир даёт преимущество их соперникам по торговле.
Жизнь очередной раз скроила злую тонкогубую гримасу.
Позволив Александру Невскому истребить откупщиков каракорумской дани, Берке наконец сорвал ненавистную кангу зависимости с шеи своего улуса. С тех пор на алчный, далёкий Восход не отправлялось ни единой шкурки, ни единой серебряной гривны.
Такова была свобода: первая, призрачная «свобода» от имперского ига. Так Джучи-хан спустя много лет после гибели своей руками потомков всё-таки победил Чингиса.
Но кислой на вкус была такая победа.
По иронии судьбы, истреблённые Александром каракорумские откупщики оказались... из магометан. Тот, Без Кого И Волос Не Упадёт С Головы, добивался торжества своего учения, снова истребляя правоверных руками неверных...
Рязанский князь Олег прожил недолго, но зато эти два последних года стали самыми счастливыми в его странной жизни.
Маркуз вернулся в Иртышский улус, где обрёл долгожданный покой с Уке-хатун. Им предстояла старость — неожиданно длинная и ровная.
Окончательно разругавшись с Берке-ханом, Даритай в одну из ночей поднял «сотню родственных душ» в седло и увёл в Египет — воевать на стороне Мунке с мамлюками-мусульманами. В несчастной битве при Айн-Джелуде он потерял кисть руки... Но ему ещё предстояло многое, даже участие в знаменитом рейде Урянх-Кадана по Южному Китаю. При хане Хубилае Даритай достиг больших чинов. А умер, к собственной досаде, на ложе — не в бою.
Боэмунд и Прокуда перебрались в Европу, к императорскому двору, где бывший соглядатай хана стал советником кесаря по делам Востока. Подросший сын Прокуды превратился в блестящего рыцаря — гонителя сарацин — и вот однажды...
Впрочем, это уже совсем другая история.1206 г. — Великий Курилтай в Монголии. Темуджин, получивший титул Чингис — «обнимающий», выбирается верховным ханом. Торжество монгольского закона «Ясы». У Джучи (старшего сына Темуджина) рождается второй сын — Бату.
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1206 г. — Великий Курилтай в Монголии. Темуджин, получивший титул Чингис — «обнимающий», выбирается верховным ханом. Торжество монгольского закона «Ясы». У Джучи (старшего сына Темуджина) рождается второй сын — Бату.
1219—1221 гг. — война в Хорезме. Джучи становится ильханом Хорезма и прииртышских степей.
1222 г. — приезд Бату к отцу на Иртыш.
1227 г. — убийство Джучи, смерть Чингис-хана.
1229 г. — избрание Угэдэя (второго сына Темуджина) великим ханом Монголии.
1236 г. — Курилтай принимает решение выступить в западный поход. Бату избирают джихангиром «похода на Вечерние страны».
1236 г. — взятие Булгара.
1237 г. — падение Рязани.
1238 г. — взятие и разрушение монголами Владимира. Ростов и Углич сдаются без боя и пощажены.
1240 г. — разгром Киева. Подчинение Галиции. Половецкий хан Котян отступил в Венгрию.
1241 г. — поход Бату на Запад. Разгром польско-немецкого войска. Рейд к Адриатике. Смерть Угэдэя.
1243 г. — Бату утверждает Ярослава Суздальского великим князем.
1245 г. — Михаил Черниговский просит на Лионском соборе помощи против татар.
1246 г. — казнь Михаила Черниговского Батыем. Заключение в ставке Батыя союзного договора с Даниилом Галицким.
1246 г. — избрание Гуюка великим ханом. Ярослав Суздальский отравлен в Каракоруме ханшей Дорагинэ по наговору Фёдора Яруновича.
1248 г. — поход на Запад Гуюка и его неожиданная смерть. Поход прерван.
1251 г. — избрание великим ханом Мунке.
1256 г. — смерть Бату в Кечи-Сарае.
Примечания
1
Улус — стойбище; страна или область, находящаяся под единым управлением.
(обратно)2
Курилтай (курултай) — у монголов и татар всенародный съезд знати для решения важнейших государственных вопросов.
(обратно)3
Джиганхир — в значении, близком к слову «полководец», употребляли в отношении члена ханского рода, назначенного командовать фронтом или исполнявшего обязанности верховного главнокомандующего; имело значение, близкое к слову «император», который изначально « главнокомандующий ».
(обратно)4
Каракорум — центральная ставка империи в Монголии.
(обратно)5
Хашар — пленные, которых монголы, наступая на противника, гнали впереди себя.
(обратно)6
Несториане — христианская секта, основанная в V веке в Сирии патриархом Несторием, от имени которого и получила название. Несторий был низложен на Вселенском соборе в 431 г., а проповедуемое им учение о человеческом естестве Христа объявлено ересью.
(обратно)7
Нутуги — кочевья.
(обратно)8
Богол — раб.
(обратно)9
Тургауд — телохранитель.
(обратно)10
Сульдэ — дух умершего, витающий над живыми, иногда его ошибочно называли богом войны.
(обратно)11
Гутулы — войлочная обувь.
(обратно)12
Курень — селение, состоящее из нескольких аилов.
(обратно)13
Хурут — сушёный творог.
(обратно)14
Онгон — войлочная кукла, которую, по поверью, посещал дух умершего.
(обратно)15
Улигер — сказ.
(обратно)16
Очигин — хранитель очага. По монгольским законам, коренные земли наследовал младший сын, остальные дети — завоёванные земли.
(обратно)17
Сартаулы — мусульмане или сартагулы, так монголы назвали жителей Средней Азии. Название «сарты» восходит к санскритскому «sartha», что значит «торговец».
(обратно)18
Тайджи — царевич.
(обратно)19
Белоголовые — мусульмане-сунниты, прозванные так из-за головных уборов — белой чалмы.
(обратно)20
Меркиты — одно из крупных монгольских (тюркских) племён, обитавших в бассейне реки Селенги.
(обратно)21
Мангусы — злые духи.
(обратно)22
Гулям — профессиональный воин.
(обратно)23
Олджа-хатун — буквально «добыча-жена» — пленница, взятая в жены.
(обратно)24
Анда — побратим.
(обратно)25
Обох — род.
(обратно)26
Улемы — в мусульманском мире учёные, правоведы и богословы, занимающие высшую ступень в церковной иерархии.
(обратно)27
Самум — горячий сухой ветер, дующий в пустынях весной и летом; песчаная буря в пустыне.
(обратно)28
Дарагучи — представитель монгольской администрации.
(обратно)29
Кешиктэн (кэшиктэны) — личная гвардия.
(обратно)30
Хуяг — доспехи из железных пластин, прикреплённых на кожаной основе.
(обратно)31
Джэтэ — разбойники, разбойничья банда.
(обратно)32
Мизир — один из основных богов, он наказывал за вероломство; глаз Мизира — Солнце.
(обратно)33
Нухур (нукер) — воин-телохранитель.
(обратно)34
Баурчи — повар.
(обратно)35
Вечерние страны — Европа.
(обратно)36
Агтачи — конюший.
(обратно)37
Баллиста — древняя метательная машина.
(обратно)38
Джурджени (чжурчжэни) — племена тунгусского происхождения, населявшие восточную часть современного Северо-Востока Китая (Маньчжурии) и Приморья.
(обратно)39
Ромеи — здесь, в романе, так названы христиане греческой (православной) ветви.
(обратно)40
Найманы — одно из наиболее крупных и сильных монгольских (тюркских) племён, занимало территорию от рек Тамира и Орхона до Иртыша.
(обратно)41
Тумен — десять тысяч человек.
(обратно)42
Мелькиты — название православных христиан (от араб, «мелик» — князь) в Сирии, Египте, в Туркестане, Средней Азии. Совершали богослужение по греческим обрядам, но на арабском языке.
(обратно)43
Искандер — Александр; Искандером Двурогим на Востоке называли Александра Македонского.
(обратно)44
Мухни — шпион, соглядатай.
(обратно)45
Калям — тростниковая палочка для письма.
(обратно)46
Сабанчи — землепашец.
(обратно)47
Харачу — простолюдин.
(обратно)48
Эцегэ — отец.
(обратно)49
Ихе (эхэ) — мать.
(обратно)50
Архи — молочная водка.
(обратно)51
Аргал — овечий помет, использовался в степи вместо дров для костра.
(обратно)52
Олджа — военная добыча.
(обратно)53
Бахтаг — головной убор замужней женщины.
(обратно)54
Хатун — жена; женский титул, который носили жены и дочери хана.
(обратно)55
Этуген — Земля, богиня земли.
(обратно)56
Нойон — правитель рода, управлявший улусом, отдельной кочевой ордой.
(обратно)57
Белая Вера — Христианство.
(обратно)58
Дзерен — зобастая антилопа.
(обратно)59
Срединная равнина — Китай.
(обратно)60
Пардус — животное, упоминаемое в летописях, некоторыми отождествляется с барсом (пантерой, леопардом), а другими — с рысью.
(обратно)61
Колок — небольшой участок леса среди степи.
(обратно)62
Канга — шейная колодка.
(обратно)63
Туг — своеобразное знамя, украшенное конским хвостом.
(обратно)64
Мергэн — охотник.
(обратно)65
Аил — хутор.
(обратно)66
Ширдэг — лежанка.
(обратно)67
Берикелля — молодец.
(обратно)68
Джиутхури — условно «наместник провинции».
(обратно)69
Шаньдун — провинция Китая, где располагались государственные рисовые плантации.
(обратно)70
Хаптаргак — походная сума.
(обратно)71
Аталик (аталык) — учитель, воспитатель ханских детей, иногда важное лицо в государстве.
(обратно)72
Джунду — Пекин, в описываемое время одна из столиц Китая.
(обратно)73
До свидания.
(обратно)74
Евражка — суслик.
(обратно)75
Трава — год.
(обратно)76
Бух — бык.
(обратно)77
Черби — интенданты.
(обратно)78
Сейхун — Сырдарья.
(обратно)79
Ильхан — хан завоёванной страны (земель), находящейся в составе Монгольского улуса.
(обратно)80
Лимбэ — род флейты.
(обратно)81
Мангуты — одно из племён, входивших в состав коренных монголов.
(обратно)82
Катары — религиозная секта на юге Франции и в Испании, её представители верили в переселение душ и считали материю злом, от которого нужно освободить дух.
(обратно)83
Ховчур — единоразовый налог.
(обратно)84
Алтан-хан (золотой хан, он же «Золотой Дракон», «СынНеба», «Хуанди») — император джурдженей (чжурчжэней), народа, захватившего в описываемое время Северный Китай. Алтан-хан считал монгольские степи «варварской окраиной» Китая.
(обратно)85
Хулэг — дорогой породистый боевой конь.
(обратно)86
Куяк — доспехи (панцирь или кольчуга), с крупными металлическими пластинами, которые закрывают грудь и спину воина.
(обратно)87
Итиль — Волга.
(обратно)88
Урусуты — русичи.
(обратно)89
Куяба — Киев.
(обратно)90
Коназ — князь.
(обратно)91
Борисфен — Днепр.
(обратно)92
Куд-дзы( Кун-цзы ) — Конфуций.
(обратно)93
Еке-нойон — буквально «старший нойон», регент.
(обратно)94
Куманы — самоназвание западных кыпчаков — половцев.
(обратно)95
Мастиляб — Мстислав.
(обратно)96
Гурджии — грузины.
(обратно)97
Гюрга — Юрий, Георгий.
(обратно)98
Резан — Рязанское княжество.
(обратно)99
Ульдемир — Владимир.
(обратно)100
Снем — съезды, «думы князей».
(обратно)101
Базилевс — император.
(обратно)102
Кур — петух.
(обратно)103
Кметь — дружинник, конный воин; слово имело и значение «лучший» (лепший) воин.
(обратно)104
Алдан (алда) — маховая сажень (около 1,76 м).
(обратно)105
Стрый — дядя.
(обратно)106
Толмач — переводчик.
(обратно)107
Хутангу-дегаль — буквально «прочный как сталь кафтан» — самые дешёвые доспехи из стёганого войлока. Русские называли их — тегиляй.
(обратно)108
Ламеллярный — слоистый, чешуйчатый, пластинчатый.
(обратно)109
Баксон — перемётная сума.
(обратно)110
Хорт — борзая собака.
(обратно)111
Кива-мень — Киев.
(обратно)112
Танаис — Дон.
(обратно)113
Заитилье — Заволжье.
(обратно)114
Пушта — венгерская степь.
(обратно)115
Тавлеи — шахматы.
(обратно)116
Велетень — великан.
(обратно)117
Комонный — конный.
(обратно)118
Юрт — ставка.
(обратно)119
Рум и Шам — православные Византия и Сирия.
(обратно)120
Бела — денежная единица, названная от стоимости беличьей шкурки.
(обратно)121
Лал — древнерусское название рубина.
(обратно)


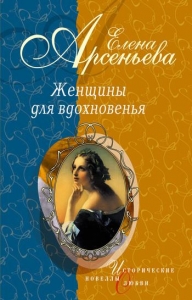

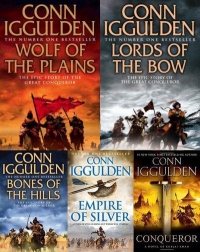

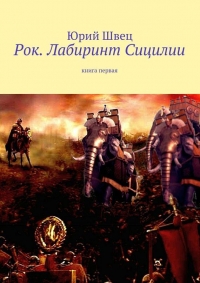
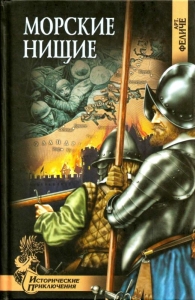
Комментарии к книге «Батый. Полет на спине дракона», Олег Борисович Широкий
Всего 0 комментариев