Золотое на чёрном. Ярослав Осмомысл.
Из энциклопедического словаря.
Изд. Брокгауза и Ефрона.
т. LХХХII. СПб., 1892.
рослав Владимиркович - князь галицкий (1187), сын Владимирки Володарьевича. В 1153 г. воевал с Изяславом II Мстиславичем, великим князем киевским, из-за городов, захваченных на Волыни его отцом, которых Ярослав не хотел возвращать. Бой у Теребовля был нерешителен, но Изяслав отступил, не отобрав у Ярослава спорные города. В 1158 г. у Ярослава произошла ссора с Изяславом Давидовичем, сидевшим в Киеве, из-за изгнанного галицкого князя Ивана Ростиславича Берладника, врага Ярослава, которого Изяслав поддерживал в его стремлении вернуть утраченные галицкие волости. В союзе с другими князьями, при поддержке короля венгерского и князей польских, Ярослав требовал от Изяслава выдачи Берладника, но напрасно. Изяслав, видя беду, примирился с Ольговичами черниговскими и расстроил союз, но потом, подстрекаемый Берладником, которого приглашали княжить недовольные Ярославом галичане, вместе с половцами, торками и берендеями пошёл на Ярослава. Последний, с союзным князем Мстиславом Изяславичем волынским, запёрся в Белгороде. Вскоре вследствие измены берендеев Изяслав должен был бежать от Белгорода. Ярослав и Мстислав отдали киевский стол Ростиславу Мстиславичу (1159). Иван Берладник умер в изгнании на чужбине, и Ярослав до самой смерти без соперников владел Галицкой землёй, пользуясь большим значением среди тогдашних русских князей. Дружины его участвовали в походах против половцев, и он был грозою этих кочевников. Ярослав был в близких и родственных отношениях с византийскими императорами. В Галиче нашёл убежище византийский принц Андроник (1164), гонимый императором Мануилом и приходившийся по матери, кажется, двоюродным братом Ярославу. Вскоре Андроник помирился с императором Мануилом, и Ярослав заключил с последним союз против венгров (1167). В 1170 г. Ярослав помогал изгнанному из Киева Мстиславу II Изяславичу возвратить этот город. Вообще Ярослав имел большое влияние в спорах князей за великокняжеский киевский стол. О могуществе Ярослава можно судить из слов современника, певца «Слова о полку Игореве»: «Галицкий Осмомысле Ярослав! Ты высоко сидишь на своём златокованном столе; подпёр горы Угорские своими железными полками, заступив путь королю (венгерскому); затворил ворота Дунаю… Гроза твоего имени облетает земли; ты отворяешь ворота Киеву и стреляешь с отцовского золотого стола в дальних салтанов (половецких)…» Не меньшее уважение у современников приобрёл Ярослав и своими заботами о благосостоянии Галицкой Руси. При нём торговля, промышленность и земледелие процветали; Галицкая земля поддерживала торговые сношения с Болгарией и Византией; владея Малым Галичем, Ярослав держал в своих руках ключ дунайской торговли. Недаром за его заботливое, мудрое правление Ярослава получил прозвание Осмомысла (т.е. думающего за восьмерых). Несмотря на всё могущество, Ярославу пришлось испытывать противодействие со стороны галицких бояр, которые по примеру соседней польской и венгерской знати сплотились в могущественную и богатую аристократию. Распря между Ярославом и боярами особенно обнаружилась во время разрыва Ярослав со своей женой Ольгой, дочерью Юрия Долгорукого, которую он в 1172 г. принудил к бегству вместе с сыном её Владимиром. Ярослав в это время любил другую женщину, какую-то Анастасию, и отдавал предпочтение ей и её сыну Олегу перед законными супругой и сыном. Партия недовольных бояр устроила в Галиче мятеж, схватила и сожгла живой Анастасию, а князя заставила дать клятву, что он будет жить в согласии с супругой. В следующем году, однако, Ольга с сыном должны были бежать из Галича во Владимир-Суздальский. Ярославу удалось восстановить свою власть над боярами и примириться с сыном Владимиром, но он продолжал оказывать предпочтение Олегу и, умирая (1187), оставил главный стол (Галич) незаконному сыну Олегу, а старшему и законному Владимиру - маленький Перемышль. Земское вече галичское не смело ослушаться этого распоряжения.
«Галичкы Осмомысле Ярославе! Высоко седиши на своём златокованнем столе, подпёр горы Угорскыи своими железными плки, заступив королеви путь, затворив Дунаю ворота, меча бремены чрез облакы, суды рядя до Дуная. Грозы твоя по землям текут, отворявши Киеву врата, стрелявши с отня злата стола салтани за землями…» Слово о полку ИгоревеЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРСТЕНЬ С ЯДОМ
Глава первая
1
алицкий князь Владимирко Володарьич был человеком не без странностей. Время от времени на него нападала злая меланхолия: он бродил по палатам своего дворца, натыкался на людей и предметы, вскрикивал, не мог никого узнать, не притрагивался к еде и питью, что-то бормотал, иногда заламывал руки и, забившись в угол, плакал. На попытки родных и близких уложить больного в постель отвечал отказом. Угрожал вонзить себе в сердце нож, если кто-то с ним попробует спорить, обвинял всех в желании причинить ему боль, отомстить за содеянные грехи. «Да какие ж такие особенные грехи? - спрашивал епископ Кузьма, княжий духовник, приведённый нарочно к занемогшему. - Ты ведь свят, аки агнец Божий!» - «Будто сам не знаешь! - криво усмехался Владимирко. - Я ж тебя убил!» - «Как - меня?» - делал шаг назад священнослужитель и крестился в ужасе. «Да, тебя. Ты ведь брат, убиенный мною, Ростислав Володарьич? Вижу, что оброс бородой по пояс, поседел и обрюзг, но глаза и губы всё те же. Что, пришёл посчитаться, отплатить за отраву, подсыпанную в вино, привезённое от меня в подарок? Знаю, знаю. Я давно дожидался этого часа. Целых двенадцать лет. И уж лучше сам покончу с собою, нежели позволю, чтобы ты утащил меня в преисподнею!» Выхватив кинжал, князь пытался нанести себе рану. Но проворная челядь, перестав церемониться, отбирала у господина оружие, пеленала несчастного по рукам и ногам и несла в одрину - княжескую спальню. Тот визжал и брыкался, всем сулил расправу, обещал снести неугодным голову, посадить на кол и прилюдно высечь. Но потом стихал, забывался сном, спал не менее суток, а затем просыпался хоть и отощавший, но здравый, начинал питаться, постепенно приходя в норму. Приступы безумия каждый раз продолжались у галицкого владыки около недели.
Хворь досталась ему от прадеда, младшего отпрыска Ярослава Мудрого.
Впрочем, и в спокойные дни повелитель Галича был непредсказуем. Как любой коротышка (по сегодняшним меркам, рост не более 160 сантиметров), он завидовал сильным и высоким и желал ими помыкать. Вероятно, отсюда - и невиданная жестокость князя. Вид чужих страданий, боли, мук приносил ему чуть ли не животное удовольствие. В кровь разбить лицо зазевавшемуся слуге, самолично выпустить кишки кабану, пойманному на охоте, и колоть булавкой грудь своих наложниц было для него в порядке вещей. Никого не жалел, никому не спускал провинностей.
А в историю всё равно вошёл не Владимиром, а Владимирко - как его называли с детства за карликовый рост и бранчливый, петушиный характер.
Разумеется, и в семейной жизни был не сильно счастлив. Он женился не по любви, а беря в расчёт политику, по желанию своего отца, на единственной дочери половецкого хана Вобугрея - Бурче. Та не приглянулась Владимирке с первого мгновения: бледная, худющая, длинноносая и какая-то бесцветная, чем-то напоминала моль. И молодожён посещал одрину супруги редко, по необходимости создавая впечатление, что союз вполне полноценен. В результате их ребёнок появился на свет лишь на пятое лето после свадьбы - в сентябре 1130 года от Рождества Христова.
В честь великого предка назван был Ярославом. А по святцам получил имя Христофора.
Бурча умерла год спустя, не сумев разрешиться от второго бремени. Бабки-повитухи извлекли новорождённую, но малютка не протянула и нескольких дней. Так что матери своей Ярослав не знал. А Владимирко больше никогда не женился.
Сын был точной копией половчанки: худощавый, бледный, с редкими прядями бесцветных волос, бледно-голубыми глазами и прямым удлинённым носом. И характером пошёл в мать - тихим, некрикливым, религиозным. Не особенно любил прогулки верхом, разливанные пиры и оружие. Им предпочитал книги и науки. И особенно преуспел в овладении языками: кроме русского, мог читать по-гречески, на латыни и иврите, понимал по-венгерски и по-польски, а по-половецки разговаривал вовсе бойко. Лишь немецкий давался ему с трудом.
Как и с Бурчей, князь Владимирко с сыном виделся редко. Рассуждал обыденно: для ребёнка есть мамки, няньки, учителя. Пусть себе растёт. А потом видно будет.
Может, нелюбовь к покойной жене перенёс и на Ярослава? Или просто был лишён отцовского чувства?
Жизнь родителя наполняли иные страсти. Он ведь стал галицким владыкой не сразу. В юности сидел в захолустном, забытом Богом Звенигороде - несколько южнее современного Львова. Но когда скоропостижно скончался старший брат Ростислав (может, в самом деле отведав отравленного вина?), переехал в крупный и зажиточный Перемышль. Дело стало за малым: устранить двоюродного брата Ивана. Тот и был вскорости убит - неизвестно кем пущенной стрелой на охоте. И теперь, как старший в роду, князь Владимирко завладел ключевыми городами - Теребовлем и Галичем.
Местные бояре, правда, не слишком жаловали нового правителя, буйного и жадного. Да и внешних врагов хватало: Польша и Венгрия с запада, Византия с юга, половцы и Киев с востока - все смотрели с вожделением на богатое и обширное Галицкое княжество. Словом, князь проводил в седле, в битвах и походах, много дней и месяцев, а вернувшись в Галич, в кремль на горе у Днестра, усмирял, как мог, ропщущую знать. И до сына руки не доходили.
Но однажды, а именно по весне 1144 года, встав с постели после очередного приступа чёрной меланхолии, похудевший и обессиленный, он молился часа четыре в небольшой дворцовой часовенке, вышел с мокрым от слёз лицом и велел истопить ему баньку. А тем временем отправился в правое крыло к сыну - узкой галереей на втором этаже, крыша которой подпиралась толстыми квадратными балками, почерневшими на влажном днестровском ветру. Шёл согбенный и сумрачный, маленький и лысый, будто и не князь вовсе, повелитель смердов, а какой-нибудь жалкий скоморох, шут гороховый.
В горнице, где сидел Ярослав, было жарко и от этого слегка душновато. Сын, увидев отца, сразу же вскочил, зацепив столешницу, за которой писал, выронил перо, и чернила из бронзовой чернильницы растеклись по скатерти чёрными зловещими пятнами. Княжич поклонился и пролепетал слова здравицы.
Посмотрев на него снизу вверх (сын в свои четырнадцать лет перерос родителя чуть ли не на целую голову), галицкий властитель цокнул языком:
- Ты совсем взрослый стал! Скоро женим. Юноша зарделся, опустил глаза. Скромно произнёс:
- Как на то будет Божья воля. И твоя, тятенька. Улыбнувшись, Владимирко потрепал его по щеке:
- Молодец, хвалю за такое подобающее детям послушание. А сейчас моя воля такова: будет уж порты протирать, сидючи за пергаментами да книгами; нынче же идём с тобой в баню, вечеряем вместе, а с утра отправляемся на охоту. Чай, доволен, да?
Снова поклонившись, Ярослав ответил:
- Благодарствую вельми за такую честь.
- То-то же, дикарь. Время делать из тебя настоящего князя. Верного помощника и опору в делах. Стойкого соратника. В чьи окрепшие руки я не побоюсь передать бразды правления. Жду тебя внизу. - И, повеселев, он покинул горницу.
- Господи, помилуй! - прошептал юнец и перекрестился. - Принесла нелёгкая… Мне охоты с женитьбой только и не хватало теперя… - Пожевал губами и, возвысив голос, крикнул, не скрывая досады: - Тимка, где ты там? Прибери на столе, скатерть замени. Я ужо спешу, тятенька зовут…
2
Но ни князь, ни тем более княжич не имели понятия, что у них за спиной зреет заговор.
Во главе его были три галицких боярина - Вонифатий Андреич, Серослав Жирославич и Олекса Прокудьич. Все они невзлюбили Владимирку после запрещения им городского веча. Нарушать традиции предков не позволено никому. Править, не советуясь с уважаемыми людьми и пренебрегая мнением стариков, просто не допустимо. А без веча нет и пригляда за воеводами, тиунами, мытниками[1]. Вековые связи нарушены. Нет пригляда - начинается ералаш, общее хозяйство трещит по швам, не работает, как положено. И, само собой, разные поборы и взятки утекают из собственных рук. Как смириться с этим?
Собирались втроём в доме Серослава, пили терпкое фряжское вино[2], привозимое купцами из Константинополя, гурундели в бороды: надо что-то делать, срочно исправлять положение. Князь не внемлет челобитным бояр, вече восстанавливать не желает. Значит, надо этого Владимирку убирать. Звать его племянника - сына убиенного Ростислава. Тот сидит в далёком Звенигороде, тоже точит зубы на дядю, хочет отомстить за отца. Говорят, и умён, и красив, и статен, на коне гарцует искусно, а в кулачном бою может зашибить любого богатыря. Правда, слишком молод (только двадцать лет) и ещё даже не женат, ну да не беда - молодым повелителем легче помыкать; женим на какой-нибудь киевской княжне - укрепим ослабевшие было связи с великим князем и получим союзника против расхрабрившихся венгров…
Словом, ждали только случая. И когда Владимирко по весне впал в очередное безумие, в общей кутерьме, не заметно от прочих глаз, снарядили Олексу Прокудьича в путь-дорогу. Тот скакал вдоль Днестра на северо-запад и к исходу второго дня прибыл в град Звенигород.
Князь Иван Ростиславич принял галицкого боярина настороженно. Может, провокатор? Может быть, нарочно послан Владимиркой, дабы выманить племянника из родной вотчины и заставить напасть на дядю, а потом дядя его захватит, голову снесёт? Нет, спешить с ответом не следует… И, пока угощал именитого гостя яствами и винами, выслал для разгляда верного гридя[3] - потолкаться в Галиче, разузнать, что да как.
Гридь вернулся спустя неделю и заверил своего господина: в городе спокойно, рать не кличут, не подковывают коней; а Владимирко, говорят, собирается с сыном на охоту, - стало быть, уедут оба в леса на несколько дней.
Тут Иван уж действительно призадумался по-серьезному. Отчего бы не попытать счастья? Если верить Олексе, галицкие бояре впустят его с дружиной без боя, сразу соберут вече и торжественно узаконят смену князя. А коль скоро Владимирко попытается Галич отвоевать, горожане поддержат нового владыку - сил и средств, чтоб отбить нападение, хватит наверняка. Может быть, рискнуть? Понадеяться на Бога и на удачу?
Молодой правитель Звенигорода, вопреки слухам, вряд ли мог считаться писаным красавцем: глубоко посаженные глаза при излишне массивном подбородке и толстенной шее портили его внешность. Но фигуру имел действительно ладную, крепкие умелые руки и могучую грудь. Да и говорил веско. Как появится из ворот, сидя на коне, как сверкнёт очами, крикнет с жаром: «Братья христиане, за мной!» - сразу видно: князь. Обладал способностью увлекать людей.
Вот и в этот раз - вышел к мечникам, преданной дружине, рассказал честно, без утайки: есть возможность полонить Галич; но опасность велика, шансы победить или проиграть приблизительно равные; я хочу испытать судьбу, кто меня поддержит? И дружина сказала: все! Никаких сомнений. Ты наш голова и веди куда хочешь - хоть в полымя, хоть в Иерусалим воевать Гроб Господень!
Что ж, Иван улыбнулся - а улыбка у него, в самом деле, была чудно хороша, белозубая, светлая, задорная, - и ответил с чувством:
- Любо, ясны соколы! Вместе не пропадём! С добрыми друзьями даже голову сложить - и то в радость!
Сели на коней и числом не более двухсот человек понеслись менять княжескую власть.
Где-то в пяти вёрстах от столицы встали походным лагерем. Выслали дозор, а Олексу Прокудьича не пустили вперёд: пусть пока посидит в заложниках; если всё же выявится предательство и Владимирко нападёт из засады, тут же обезглавим боярина, чтоб другим неповадно было проявлять такое коварство; впрочем, поторговаться с противником, цену жизни назначив видному галичанину, тоже можно.
Но подобные опасения оказались напрасными: вместе с их дозором прискакал бывший главный подвойский Серослав Жирославич. Он сказал Ивану, что Владимирко и сын отбыли на охоту день назад, путь давно свободен, городская власть наготове, встретят Ростиславича хлебом-солью, а посадник Вонифатий Андреич облачается уже в дорогой кафтан, дабы самому открыть новое собрание веча.
- Коли так - вперёд! - ухмыльнулся звенигородец и вскочил в седло. - Галич будет наш!
Вот он показался из-за поворота Днестра: славный, удивительный город, видный центр Древней Руси, о котором знали купцы всей Европы. Толстые дубовые стены, башни по углам, маковки соборов золотятся на солнце. Колокольный "вон! Тучи голубей взмыли в небо, и челны на реке вроде захотели воспарить вместе с ними - замахали приветственно белыми крыльями ветрил. Это вам не крошечный тараканий Звенигород! Райский уголок, за который хочется сражаться изо всех сил!
Вдруг откуда ни возьмись перед самыми городскими воротами на дороге появился почтенный старец в белых одеждах. Волосы седые до плеч были скреплены серебристым обручем-диадемой. А в худой жилистой руке незнакомец сжимал толстый посох. Гриди придержали коней, крикнули прохожему: «Эй, куда лезешь под копыта? Жить не надоело ли, старче?» Тот не внял отъявленной грубости, отыскал глазами Ивана, выставил вперёд указательный палец и спросил дребезжащим голосом:
- Ростиславов сын?
- Ну, допустим, - выехал вперёд храбрый витязь.
- Отступись, возвращайся к себе в Звенигород. Не губи себя и своё потомство. Верно говорю. - Старец замолчал и устало опустил набрякшие веки.
Князь презрительно дёрнул головой:
- Что за прорицатель? Кто таков? Серослав Жирославич быстро разъяснил:
- Местный знахарь, волхв и ведун. Сам из половцев. Некрещёный. На ножах с епископом, нашим отцом Кузьмою.
- Как зовётся?
- Чарг.
Конь всхрапнул под Иваном, стал переминаться с ноги на ногу. Щурясь от слепящего солнца, юноша опять обратился к путнику:
- Значит, коль вернусь, обещаешь спокойствие и семейное счастье?
- Точно так, - поклонился старец. - Многие лета, деток и внуков и кончину в своей одрине.
- Ну, а коль сяду в Галиче, беды да тревоги?
- Горести, скитания, смерть в чужих краях. Жизнь короткую, как полёт звезды.
- Так тому и быть! - Молодой человек сжал кулак и взмахнул им в воздухе. - Лучше чиркнуть по небу яркой вспышкой, чем едва гореть где-то на задворках. Галич мой! Никому его больше не отдам! - Встал на стременах, свистнул, гаркнул: - Гей, орлы! За мной! - И дружина с места в карьер ринулась к городским воротам.
Чарг едва успел отскочить к обочине. Посмотрел вслед несущимся скакунам, стер с лица дорожную пыль, взбитую копытами, грустно произнёс:
- Ах, зачем не внял он моим предостережениям? Всё теперь пойдёт наперекосяк! - И, вздохнув, обречённо побрёл тоже по направлению к Галичу.
А Ивана встречали, словно долгожданного избавителя. Девушки в цветастых нарядах пели величальные песни и мели дорогу перед носом его скакуна; галичане, теснясь в растворах своих ворот, низко кланялись и ломили шапки; из соседних улочек выбегал народ и глазел на нового повелителя, радостно кивал: молодость и сила звенигородца людям нравились. Лишь одни собаки яростно брехали на проезжавших; да на то они и собаки, чтобы лаять попусту.
На торговой площади Ростиславова сына встретил Вонифатий Андреич - в дорогих одеждах из парчи и бархата, отороченных мехом, золотых застёжках и массивных перстнях с бриллиантами. Но высокую горностаеву шапку, по обычаю, не снимал, только поклонился, приложив руку к сердцу. Вся его свита сделала то же самое.
Молодой правитель спрыгнул наземь (сам, без помощи стременного, протянувшего ему руку), подошёл к посаднику. Тот вручил Ивану символический ключ от города - весь усыпанный дорогими каменьями. Взяв почётный дар, новый князь прикоснулся к нему губами и прижал ко лбу. А потом с хитрецой воскликнул:
- Видно, дядюшка обходился с вами круто, коли мне устроили этакую встречу!
- Ох, не говори! - дунул в бороду вечевой глава и развёл руками. - Каждое мгновение ожидали с его стороны какой-нибудь пакости, казней да разору. Будто на иголках сидели.
- Ну, а как вернётся обратно? Вонифатий Андреич выпучил глаза:
- Ни за что на свете! Лучше сразу в гроб! Рассмеявшись, Иван ответил:
- Да, сдаваться пока не станем. Потягаемся силушкой - кто кого сбороть сможет. - И пошёл к раскрытым воротам церкви Пресвятой Богородицы, где его приветствовал сам епископ.
После богослужения во дворце состоялся пир, где рекою лилось вино и хмельное пиво, подавались бесконечные яства, а затем удалые воины-звенигородцы показали сноровку в овладении - не вообще населением города, но отдельными его лицами (разумеется, женскими.) Длились эти буйные схватки до зари.
Лишь один человек из знати не участвовал в пиршестве - сын Подвойского Серослава Жирославича - Константин (в просторечии - Кснятин). Он считал с самого начала, что Ивана звать не годится, выйдут только распри, новые несчастья; будучи, не в пример отцу, человеком тонким, проницательным, он решил сделать ставку на другого возможного правителя - Ярослава; тот, с его умом и спокойствием, вдумчивостью и мягкостью, представлялся молодому боярину наилучшим князем. «Сын Владимирки далеко пойдёт! - убеждал Кснятин родителя. - Мальчик скоро станет семи пядей во лбу!» - «Ты ещё скажи - Осмомыслом!» - издевательски отвечал Серослав. (Слово «Осмомысл» было переводом с половецкого языка - «Сериз-кырлы» - то есть ловкий, «восьмигранный» джигит, - и носило в то время у русских ироничный оттенок.) «Да, вот именно: Осмомысл! - не сдавался отпрыск. - Восемь граней, восемь мыслей и разумен за восьмерых!» Но Подвойский от него отстранялся, слушать не желал: «Перестань! Ты о чём? Ждать ещё три-четыре года, прежде чем юнец оперится? Нет, Владимирку надобно сейчас заменять, мы устали от его самодурства! Призовём Ивана!» Словом, разругались.
И теперь Кснятин не желал сдаваться. Как стемнело, по подземному ходу выбрался из кремля. На крутом берегу Днестра в зеленеющей буковой рощице дожидались его два надёжных помощника - оба на лошадях, третьего скакуна вели под уздцы - для боярина. Тот поднялся в седло, натянул поводья, развернул коня и пришпорил. В загустевших сумерках тройка устремилась на юг - в благодатные тысменицкие леса, где охотился Владимирко Володарьич с сыном.
3
В полторы недели князь собрал ополчение из окрестных мест - Василева, Коломыи и Торопца - численностью в полторы тысячи; да ещё собственной дружины было человек триста; словом - сила немалая, чтобы выкурить Ивана из Галича.
В эти дни ратных приготовлений сумасбродный правитель преображался: от безумца-меланхолика не было и помина; энергичный, жёсткий, он командовал вдумчиво и сурово, расставлял людей на ответственные участки, доверял молодым командование полками, но и спрашивал по всей строгости. В первый раз Ярослав увидел отца таким - не крикливым по пустякам, а расчётливо-деловым, искушённым в военных премудростях. Дни охоты их сблизили - вместе грелись возле костра, вместе загоняли зверя в силки и ямы, вместе ели поджаренное парное кабанье мясо, сочное и душистое. «Вкусно?» - спрашивал родитель, усмехаясь, глядя, как юноша с аппетитом обгладывает большущий мосол. «О, чудесно! - соглашался сын, чуточку смущаясь. - С этих пор охота на туров и секачей станет главным развлечением в моей жизни!» - «Ты не зарекайся, - продолжал балагурить князь, - в жизни много и других удовольствий». Говорили на разные отвлечённые темы - об истории, мировом устройстве, христианстве и на самые конкретные - о политике, мире и войне с соседями. Лучше всех галицкий правитель отзывался о суздальском владыке - князе Юрии (Георгии) по прозвищу Долгорукий - сильном и разумном; нравился ему и черниговский Святослав из клана Ольговичей; но зато киевского Всеволода ненавидел от всей души - за его желание заграбастать и Галицию, и Волынь. «Киев - главный противник наш, - поучал он единственного наследника. - С унграми[4] теперь мы в союзе, а в Цареграде прынцессой - наша с покойным Ростиславом сестрица Ирина Добродея - и твоя, получается, тётка. Тут бояться нечего. А от Киева надо ждать всяких неприятностей. Помни это крепко, сынок».
Но удар пришёл с неожиданной стороны - от Ивана Звенигородского и проклятых изменников-бояр. Прискакавший Кснятин Серославич сообщил о событиях в их столице. У Владимирки пятна пошли по лицу; он сидел какое-то время молча, лишь катал желваки в углах скул и довольно громко сопел; а потом сказал тихо, но яростно: «Раздавлю, как вшу. Вот племянничек - сучий потрох! Знал бы - отравил бы вместе с его папашкой!» Поднял налитые кровью глаза на докладчика-витязя и спросил с издёвкой: «Ты-то как? Тятьку продал - не боязно?» Кснятин даже не моргнул: «Если тятька продался сам - он мне не тятька!» Князь невесело рассмеялся: «Надо же, каков! За усердие - от меня спасибо. Но за отречение от отца родного - от меня хула. Вот и разумей о моём к тебе отношении». Молодой вельможа лишь почтительно согнулся в поклоне.
Выступили две недели спустя после воцарения узурпатора в Галиче. Юный Ярослав ехал на коне сбоку от Владимирки и едва не терял сознания, представляя, как ему придётся поучаствовать в настоящей битве. Вдруг стрела пробьёт горло? Или неприятель проломит шлем? Умереть, ничего не увидев в жизни, очень, очень обидно! Не прочесть всех заветных книг… не познать любви женщины… не почувствовать себя полноправным владыкой княжества… Разве можно? Нет, бежать, бежать, спрятаться за чужие спины! Но тогда отец его проклянёт, и дружинники станут издеваться, а друзья обзовут заячьей душонкой. Этак не годится… Надо было терпеть, прикусив губу. И надеяться, что Бог не допустит подобной несправедливости.
Рано утром 16 марта воины-дозорные разглядели со стены Галича, что огромная рать Владимирки окружает город.
Быстро доложили Ивану. Он в одних исподних портах выскочил из одрины, где роскошным стёганым одеялом прикрывала наготу от досужих глаз перепуганная растрёпанная деваха, и охрипшим, непроснувшимся голосом рявкнул: «Подымать народ! Всем раздать оружие! Ляжем тут костьми, а братоубивца не пустим!»
Началась осада. Трижды нападавшие принимались штурмовать стены, но бесстрашные галичане отбивали атаки. Дважды выезжала дружина звенигородцев во главе с сыном Ростислава из ворот столицы, но в открытом поле перевес был на стороне у законного князя, и подобные вылазки оборачивались ненужными жертвами, бегством смельчаков, чудом успевавших проскочить обратно в ворота.
Между тем на подмогу к Владимирке подошли ещё около полутора тысяч ратников, собранных в Рогатине и Подгайцах. Ситуация складывалась не в пользу Ивана. Вонифатий Андреич умолял его не сдаваться и стоять до последнего. Серослав Жирославич и епископ Кузьма предлагали послать для переговоров с Владимиркой нескольких старейшин, возглавляемых нестарым, но достаточно опытным Олексой Прокудьичем. А Олекса, заперевшись с Иваном в отдалённой горнице дворца, так сказал:
- Коли ты поклянёшься взять меня с собою и по избавлении не снести мне голову, я тебе покажу тайный путь из города по подземному ходу.
У того вспыхнули надеждой глаза:
- Есть подземный ход? Что же ты молчал до сих пор, скотина? Мы пройдём по нему с дружиной и ударим противника с тыла!
Но боярин отрицательно мотнул бородой:
- Ход старинный, может обвалиться в любой момент. Многим не пробраться. Чудо будет, если мы спасёмся вдвоём.
Молодой человек взад-вперёд прошёлся по горнице, опустился на колени перед иконой в красном углу. Быстро перекрестившись, пылко прошептал:
- Господи Иисусе! Вразуми, наставь! Как мне поступить?
- Что тут сомневаться, Иване? - вместо Бога проговорил Олекса. - Смерть твоя от полков Владимирки в дверь уже стучит. Мёртвым ты ему уже отомстить не сумеешь. А живой, целый-невредимый, наберёшь людей да и вдругорядь попытаешь счастья! Или я не прав?
Обернувши к нему лицо - злое, раздражённое, - Ростиславов сын процедил с упрёком:
- А дружину бросить?
- Можешь не бросать, если есть желание вместе с ней погибнуть.
Сморщившись, поникнув, самозванец продолжал стоять на коленях. Но потом поднялся и, не глядя в глаза вельможе, коротко ответил:
- Искуситель. Змей. Уломал меня. Нынче ночью приходи сюда. Вместе побежим.
Весть об исчезновении нового правителя Вонифатий Андреич сохранял в тайне от простых горожан пару дней. Галичане сражались храбро и отбили ещё одно нападение. Но потом возроптала дружина звенигородцев: где Иван, отчего нет его в бою? А когда Серослав Жирославич рассказал всю правду - начали буянить и отказывались дальше обороняться. Более того: снарядили посольство из трёх человек в стан врага - мол, откроем ворота, если обещаете нас, звенигородцев, не трогать. Радостный Владимирко заявил:
- Обещаю помиловать, коли вы до единого перейдёте на мою сторону.
- Слово чести, княже.
Галич пал. Обезумевший от победы Ярославов отец жаждал крови. Он убил Вонифатия самолично, выхватив из рук его символический ключ от города и воткнув заострённую бородку в правый глаз боярина. Труп вельможи целый день возили по улицам, чтобы устрашить население. Тысячу простых горожан, защищавших Ивана, с ходу умертвили - воеводам отрубив голову, рядовых утопив в Днестре - связанными, с камнем на шее. Одного только Серослава жить оставили: сын последнего, Кснятин Серославич, у Владимирки валялся в ногах, умоляя пощадить его тятеньку. «Ну, пускай, пускай, - отмахнулся владыка. - Отблагодарю тебя за твои заслуги». Тем не менее Кснятинова отца всё же наказал - выпорол прилюдно меж других шибко провинившихся.
Город подчинился безропотно. Сделал вид, будто бы не хочет больше буйствовать. Погрузился в тишину и смирение. Но обид не забыл. Вроде затаился на время.
Ярослав же, взволнованный от всего происшедшего, долго не мог вернуться к прежним своим наукам. Говорил своему подручному Тимофею:
- Мне в лесах охота понравилась, даже очень, потому как зверье убивать не грех: нам оно дано Вседержителем к пропитанию нашему и забавы для. Но вот ратное дело - происки лукавого. Ибо сказано: «Не убий». А коль скоро люди созданы по подобию Божьему, посягать на Господень образ - преступление тяжкое. Всем убивцам гореть в огненной геенне.
Тимка возражал:
- Так-то так, да не совсем так. Коли ближний твой посягает на тебя самого, на твоё добро, на твою жену и детей, как ему тогда не ответить? Если не убьёшь, то убьют тебя. И такое убивство праведно.
- Нет, не может быть праведного убивства, - упирался княжич.
- Да с такими мыслями надобно в монахи идтить, - ласково подкалывал слуга господина.
Юноша сердился, губы надувал:
- Может, и пойду! Вот возьму и пойду! Стану за вас за всех, грешников, молиться.
- Нет, нельзя, нельзя, - беспокоился Тимофей уже по-серьёзному. - У отца твоего больше нет наследничков. Ты - надёжа Галича. Без тебя мы останемся неизвестно с кем.
- Власти княжьей не бывает без крови. Мне же кровь противна!
- Что ж поделаешь! Мир стоит на сем. Не ты первый и не ты последний.
- Ах, как грустно, Тимка! Отчего миром правит не любовь, но вражда?
Глава вторая
1
Удирая из Галича, беглецы вышли из подземного хода возле буковой рощицы. Были в паутине, земле, сапоги - в мокрых комьях глины. Из волос вытряхивали песок. Вдруг заметили меж стволов белую фигуру.
- Свят, свят, свят! - испугался Олекса Прокудьич. - Это ж призрак старого князя Володаря! - И перекрестился. А потом замахал руками: - Тьфу, проклятый! Брысь, изыди, окаянный!
А фигура не только не исчезла, но направилась прямо к ним. Присмотревшись к ней, Ростиславов сын сжал плечо напарника:
- Стой, не дрейфь. Зрю воочию: то не привидение, а старик-ясновидец Чарг. Погляди внимательней.
- Верно, чародей.
Прорицатель подошёл вплотную и сказал спокойно, словно знал, где и как Олекса с Иваном побегут из города:
- Ну, теперь убедились в правоте слов моих? Для чего было затевать весь сыр-бор?
У звенигородца сжались кулаки:
- Ты не понимаешь, болван! Отомстить за отца - мой священный долг!
- Что ж не отомстил?
- В этот раз не вышло. Я ещё вернусь.
- На свою погибель. Откажись от задуманного, прошу. Не беги в Звенигород, там тебя Владимирко всё равно поймает. Отправляйся-ка лучше на низовья Дуная, где стоит городок Малый Галич и живёт моя внучка, половецкая княжна Тулча. Коли женишься на ней, то она родит тебе сына. И живи с нею на здоровье, богатей, собирая дань с проезжающих мимо купцов. А на Русь не суйся, мой тебе совет.
Молодой человек произнёс теплее:
- А не шутишь, дедка? Ворожей ответил со вздохом:
- Коли речь идёт о жизни и смерти, о судьбе народов, я шутить не имею обыкновения. - Он достал из-за пазухи медную табличку - чуть поменьше ладони, протянул Ивану: - Вот, бери сей ярлык. Будет вместо охранной грамоты тебе. Здесь написано половецкими рунами, что являешься ты другом Чарга и тебя обижать не след.
Озадаченный юноша поблагодарил, взял зеленоватый в лунном свете прямоугольничек, повертел в руках и затем спросил:
- Хороша ли собою Тулча?
- Точно маков цвет.
- Вот зачаровал! Точно ведь - колдун! Так и быть, побегу на юг. Даже если внучку не встречу, то, по крайней мере, схоронюсь от Владимирки. А уж там подумаю - возвертаться ль на Русь.
- Сохрани тебя Небо от подобного шага.
И старик, отступив за дерево, вроде бы растаял.
- Ну и чудеса! - прошептал Олекса, снова перекрестившись. - Сам нечистый верховодит проклятым. Нешто ты поддашься на его уговоры?
- Хоть бы и нечистый! - хмыкнул тот, заправляя за кушак медную табличку. - Я и дьяволу продам душу, лишь бы мне помог выполнить замысленное!
- Тьфу, окстись! Мерзко говоришь.
- А не слушай, коли не нравится. Лучше помоги лодку отвязать. По реке поплывём, чтоб успеть уйти до рассвета.
Сели в первый же попавшийся чёлн, обрубили верёвку, за которую он был привязан, парус не подняли, а работали вёслами. Медленно, но верно вырулили в фарватер Днестра. И течение понесло их на юг, к Понтийскому (или Чёрному) морю.
Находились в пути целую неделю, приставая к берегу только изредка, добывая себе пропитание по окрестным селениям - где воруя, а где покупая овощи и кур. В первых числах апреля оказались у стен Белгородской крепости (ныне город Белгород-Днестровский) и без малого двое суток отсыпались в келье монастыря Иоанна Предтечи. За приют отплатили монахам тем, что украли у них двух коней, и уже верхом устремились вдоль берега к озеру Кундук. Тут же угодили в лапы к половцам и предстали перед ханом Чугаем. Тот велел отрубить им голову, но Иван вытащил ярлык, и при виде таблички степняки моментально растаяли, начали суетиться, потчевать гостей разными диковинными яствами, надавали подарков и сопроводили вплоть до устья Дуная. А оттуда до Малого Галича (он теперь - румынский Галац) и всего ничего, пять часов езды.
Но в его предместьях беглецов схватили болгары, враждовавшие с половцами, и, поскольку убранство коней и повозок, дорогая одежда на обоих всадниках были половецкими, их, естественно, приняли за врагов, отобрали имущество, а самих здорово побили. Медная табличка лишь испортила дело: предводитель болгар князь Борис, увидав ненавистные ему руны, с ходу распорядился бросить двух лазутчиков неприятеля в яму, а затем казнить на рассвете.
В яме было смрадно, холодно и сыро, по ногам пробегали крысы, а отвесные скользкие глинистые стены не давали ни малейшей возможности выбраться наружу без верёвки или шеста.
- Ну и влипли! - оценил положение Иван, выдирая ноги из топкой жижи на полу. - Обманул нас дедок. Посулил счастье и надул.
- Нехристь потому что, - согласился Олекса, шумно облегчаясь в углу ямы. - И слуга лукавого.
- О-о, конечно: быть повешенным братьями-христианами много справедливей, не так ли?
Галицкий боярин ничего не ответил, только сплюнул.
Неожиданно где-то наверху раздались звуки боя - крики, топот, звон клинков и ругательства. Замелькали факелы. В яму заглянуло несколько голов, и высокий женский голос спросил на русском:
- Это вы от Чарга?
- Мы, а что?
Головы о чём-то залопотали по-половецки и спустили вниз верёвочную лестницу. Радостные пленники тут же стали по ней карабкаться. Избавители подхватили узников, помогли выйти на поверхность, поднесли огонь к лицам.
- Вы спасители наши, и за это вам - низкий поклон с благодарностью, - приложил руку к сердцу звенигородец. - С кем имеем честь?
Невысокая стройная женская фигурка выступила вперёд. В свете факела было видно, что её волосы стянуты небольшим узлом на затылке, а продолговатое смуглое лицо с тёмными очами дивно привлекательно. Просто улыбнувшись, девушка ответила:
- Милости прошу в Малый Галич. Он в моей власти. Тулча я, внучка Чарга.
2
Оказалось, что у князя Бориса служит при конюшне половецкий лазутчик. Подобрав с земли затоптанный ярлык, найденный при захваченных странниках, он с надёжным человеком передал его своим соплеменникам, закрепившимся в Малом Галиче. Ну, а те немедля бросились на выручку Чарговым друзьям.
После смерти отца - хана Кырлыя - местными кочевыми отрядами управляла Тулча. Боевая, дерзкая, дравшаяся не хуже мужчин, внучка чародея пользовалась доверием, и суровые воины слушались её, словно мальчики. В подчинении у них находились благодатные земли в междуречье Прута и Сирета, а на них - городки Берлад с Малым Галичем.
Девушка приняла Ивана и его приятеля с половецким гостеприимством, накормила и напоила, всё это под звуки бубнов, рожков и комузов[5], отвела в лучшие покои и приставила лучшую охрану; но сказала так:
- В медном ярлыке про тебя написано, что ты храбрый воин и достоин стать моим мужем. Я ценю дедушкин совет. Но хочу проверить сама, можно ли связать с тобой жизнь. Мы должны отогнать болгар за Дунай подальше, скоро выступаем. Присоединяйся. Докажи в бою ловкость и отвагу.
На её щеках расцветал румянец. Как горящие угли, вспыхивали глаза. А пунцовые губы в самом деле напоминали распустившийся мак. Не увлечься такой было невозможно. И, взбодрённый вином, Иван, сильный, мощный, с богатырской шеей и прекрасной белозубой улыбкой, пылко пророкотал:
- Я согласен, Тулча! За тобою - в огонь и в воду! Не страшны никакие болгары, если за победу над ними мне назначено твоё сердце в качестве награды!
Тихо рассмеявшись, половчанка опустила ресницы:
- Говоришь красиво. Будет хорошо, если так же ты орудуешь булавой и мечом! - Пожелала спокойной ночи и оставила взбудораженного влюблённого - переваривать всё, что было им съедено и услышано.
Впрочем, размышлять долго не пришлось, потому что болгары первыми напали. Рано утром третьего дня затрубили в рог на дозорной башне: неприятель приближался по суше (флота у болгар не было, и пространство рек Дуная и Сирета, на слиянии которых и находился Малый Галич, оставалось свободным.) Половцы сражались отчаянно, но, застигнутые врасплох, запертые в крепости, не могли отбиться. Их стихия - вольные степные просторы, там они побеждали любого; в города заходили только на время, совершая набеги; а держать оборону не умели, в тесноте улочек терялись. Несмотря на призывы Тулчи перейти в наступление, небольшой гарнизон уступал позиции, с каждым шагом теряя новых людей; и подмога подойти не успела. Рядом с Тулчей истово рубился Олекса. И хотя его ранили стрелой в левое плечо, из которого кровь текла изрядно, галицкий боярин что есть силы продолжал наносить удары боевым топориком, сжатым в правой, невредимой руке. А Иван отгонял противника на соседнем участке и весьма в этом преуспел: ни один болгарин не прорвался сквозь ряды его небольшого грозного отрядика. Окровавленные тела валялись вокруг. Он и сам был забрызган кровью - непонятно, собственной или чужой. И когда к нему подбежала Тулча, обернул к ней чумазое, перепачканное лицо:
- Плохо, да?
- Отходи, Иване, - крикнула она, задохнувшись. - Ты один ещё держишься, остальные дрогнули. Надо уносить ноги.
- А Олекса где?
- Он упал без сил, но его потащили к лодке. Отступаем к северу.
- Не везёт мне на Галичи, - криво улыбнулся молодой человек, - и большой потерял, и малый…
В это время здоровенный болгарин, вспрыгнувший на стену, чуть не поразил мечом Тулчу. Но Иван бросился к нему, оттолкнул ногой, выбил меч из рук и чудовищным ударом палицы оглушил неприятеля, отчего на поверхности шлема оказалась жуткая вмятина.
- Я твоя должница, - благодарно воскликнула девушка, - ты ведь спас мне жизнь!
- Это я твой должник, - возразил Ростиславов сын, - ты меня освободила из ямы.
- Хорошо, после рассчитаемся. А теперь бежим! Хлынувшие болгары быстро растворили ворота. Князь Борис на красивом вороном скакуне победителем въехал в город. Но пленить остатки половецкого гарнизона не смог: Тулча и не более сотни её соратников плыли уже по Сирету вверх, к городу Берладу.
3
Этот древний славянский городок, хоть и переводится приблизительно как «Медвежий Угол», был на самом деле весьма приметен в середине XII века, и о нём знали повсеместно. Дело в том, что сюда стекались беглые холопы и другие бесприютные люди - с Южной Руси, Венгрии и частично Польши. Постепенно здесь сложилось боевое сообщество, некое воинское братство - наподобие будущей Запорожской Сечи. При поддержке половцев, а порой и самостоятельно, небольшие группки бесшабашных берладников нападали на торговые суда, отнимали товары, убивали владельцев, а рабов отпускали на волю или принимали к себе в отряды. Не чурались они и отдельных налётов на болгарские деревеньки, угоняя скот и насилуя женщин. Слава о берладниках шла дурная. Встать у них на дороге не решался никто.
Только половцы были с ними в дружбе. Прежний хан Кырлый уважал молодчиков из Берлада за весёлый нрав и невиданное бесстрашие, постоянную готовность драться и кутить. Вместе они пограбили не один купеческий караван, разделяя полученное богатство по справедливости. Часто хан брал в такие набеги дочку Тулчу, и берладники относились к ней с восхищением, никогда не трогали, даже выручали. После гибели предводителя половцев, павшего от руки болгарского князя Бориса, во главе кочевников встала девушка - как единственная наследница титула отца. Правда, грабежи теперь она устраивала нечасто, все свои помыслы направив на месть Борису. Прошлым летом ей сопутствовала удача - степняки и берладники отогнали болгар далеко за Дунай, даже основали на одном из протоков его дельты небольшую крепость, названную Тулчей. Но с весны 1144 года счастье от неё отвернулось: князь Борис начал наступать и в конце концов, как мы знаем, занял Малый Галич. Побеждённым половцам только и осталось, что уплыть по Сирету, завернуть направо - в реку Берлад - и пристать к причалу одноимённого города.
Во дворце здесь жила вдовствующая ханша Карагай - дочка Чарга, тоже знахарка и ворожея. Выйдя встретить Тулчу, стройная сорокалетняя женщина, в тёмных одеяниях, с чёрными пронзительными глазами, долго всматривалась в Ивана, а потом произнесла сдержанно:
- Здравствуй, русе. На погибель нашу или на радость ты приехал к нам?
Девушка протянула матери медную табличку с половецкими рунами, но вдова отвела её руку:
- Нет нужды читать: я и так всё знаю. Нынче говорила с моим отцом.
Ростиславов сын даже поперхнулся:
- Как? Ведь он за тысячу вёрст отсюда!
- Чарг приходит ко мне во сне и даёт советы. Мой родитель сказал о твоём приезде и предупредил, что коль скоро не вернёшься на Русь, сделаешь счастливыми и себя, и нас. А решишь вернуться - будет много горя.
По лицу Ивана пробежало облачко:
- Поживём - увидим… - А потом быстро поменял тему разговора: - Мой товарищ плох. Надо бы его полечить.
- О, об этом не беспокойся, вьюнош, - ласково ответила Карагай. - Он поправится - очень, очень скоро. У меня от подобных ран ни один ещё не погиб.
- Матушка, а где же Якун? - в нетерпении задала вопрос дочка. - Почему не приехал к нам на подмогу? Без его берладников мы позорно оставили Малый Галич!
Ханша произнесла с горечью:
- Низкий человек. Обещал и не выполнил. Я напоминала ему, посылала слуг, чтобы передали мои слова. Но они возвращались несолоно хлебавши: у Якуна загул и к нему не пускают.
- Подлый вор и тать[6]! Он за это заплатит! - топнула ногой Тулча.
Поселили русского в гостевых палатах дворца и кормили щедро, не отказывали ни в чём. Городок Берлад оказался небольшим и довольно грязным, улочки кривые и узкие, сточные канавы воняли, а в огромных лужах лежали свиньи. Иногда телега застревала в грязи, и её вытаскивали всем миром, а поклажа сыпалась то вправо, то влево, и мальчишки норовили стянуть побольше, приговаривая на радостях: «Что с возу упало, то пропало!»
Вскоре Иван увидел и того пресловутого Якуна, атамана берладников. Встреча произошла на реке, где Якун купался под охраной своих сообщников, а звенигородец ехал на коне вдоль по берегу, совершая утреннюю прогулку, и его сопровождали двое степняков, выделенных Тулчей. Одному из них предводитель беглых рабов и крикнул, стоя по колено в воде:
- Эй, Татур, ты кого пасёшь? Уж не женишок ли несравненной княжны? Судя по ветвистым рогам, несомненно, он. Мы с его невестой развлекались изрядно, брали, кто хотел. Что ж, пускай теперь и ему что-нибудь достанется!
Дружный гогот берладников оглушил Ивана. Стиснув зубы, молодой человек не дрогнул, но, дождавшись окончания смеха, произнёс решительно:
- То, что ты, Якуне, был с моею невестою, надо ещё проверить. А вот в том, что я тебя поимею с хрустом, можешь не сомневаться.
От подобной наглости атаман разбойников прямо остолбенел. В мокрых, прилипших к телу подштанниках, с бритой головой и мочального вида слипшимися усами, тот напоминал таракана, облитого из ковша. А охрана кругом хихикала, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться в голос.
- Цыц! Молчать! - наконец заорал обиженный, и его подручные испуганно онемели. - Ах ты, смрадный пёс! - Он теперь говорил, обращаясь прямо к Ивану. - Сукин сын! Убирайся в Галич! Если я хоть раз увижу тебя в Берладе, то своими руками вырежу мужское достоинство, а затем тебе затолкаю в рот!
- Что ж, посмотрим, - выдержал его молнии из глаз Ростиславов сын, - поглядим, кто кому что отрежет. И кому что засунет в рот. Или же в другие места!.. - И поехал прочь как ни в чём не бывало, слушая отборную брань за своей спиной.
На обратном пути половец Татур так сказал:
- Я, конечно, не имею права судить, но позволю себе заметить моему господину: господин мой играет с огнём. Вам теперь с Якуном на одной земле тесно будет. Или он, или господин. Кто-то один из вас будет скоро мёртвый.
У звенигородца растянулись губы в улыбке:
- Ну не я же! - Он взмахнул рукой. - Поединка не избежать, это верно. И чем раньше его устроим, тем лучше. Потому что иначе не Якун станет драться с Иваном, но берладники и половцы друг с другом. Выйдет много крови. То-то ужо порадуются болгары! Нет, вести себя надо мудро. Победить Якуна и увлечь за собой его войско.
Но Татур произнёс печально:
- Сказано неплохо, только выполнимо с трудом. Победить Якуна вряд ли кому под силу. Даже господину. Я видал, как Якун сражается. Это зверь, а не человек.
- Очень хорошо. Человек обязан быть умней и проворней зверя.
А дела у Олексы пошли на поправку: он не только вставал с постели, но уже взбирался на лошадь, чтобы прогуляться, хоть пока и держал больную руку на перевязи. Ханша Карагай говорила о его здоровье без опасений. «К лету станет целее прежнего», - утверждала она.
Встал вопрос о крещении Тулчи. Девушка приняла предложение, сделанное Иваном, согласившись на брак, но менять веру не хотела. А звенигородец настаивал на венчании в церкви. Убеждал невесту: «Ты пойми одно: на Руси никто не признает прав за моим наследником, если он родится в семье, не благословлённой именем Господа». - «А при чём тут Русь? Или ты надумал вернуться?» - с недоверием выпытывала княжна. Отпрыск Ростислава отвечал уклончиво: «Я-то нет, только сын может захотеть». - «Мы ему закажем дорогу». - «Вряд ли он послушает».
Посреди этих препирательств во дворец нагрянуло четверо сватов, засланных Якуном. В праздничных нарядах, в лентах через плечо, изъяснялись они прибаутками-шутками, как положено в таких случаях («ваш товар - наш купец» и тому подобное) и нахваливали своего жениха. Смысл был такой: для чего враждовать, если разногласия можно разрешить полюбовно? Дескать, выходи замуж за отважного главаря берладников и посей мир между ними и половцами. А бесстыжий русич пусть отваливает, куда пожелает, мы его не тронем. Более того: атаман просит передать, что совсем не настаивает на христианском обряде, он согласен жениться по языческим правилам.
Тулча попросила на размышление день и уединилась в своих покоях.
- Что, готовиться в путь-дорогу? - спрашивал Олекса, едучи на лошади рядышком с Иваном по безлюдному берегу Берлада.
Тот не отвечал, глядя на тропинку насупленно.
- Не переживай, - приобадривал его галицкий боярин. - Мало ли на свете невест! Новую тебе сыщем.
- Да какую новую! Или ты не видишь: сердце прикипело к степнячке, думать ни о ком больше не могу. Это Чарг проклятый, видно, наколдовал.
Наконец дочь Кырлыя объявила о принятом решении. Чуть заметно волнуясь и слегка краснея, девушка сказала:
- Будь что будет, но останусь с Иваном. Так желает дедушка, так велит моё сердце. Галичанина полюбила крепко. Я пойду покрещусь, а потом мы поженимся. - Подняла глаза, посмотрела на суженого-ряженого и спросила: - Счастлив, чай?
Молодой человек стоял, словно кряжистое дерево посреди дубравы, ясно улыбался. От избытка чувств вымолвил одно:
- Ладушка моя, Тулча! Я навеки твой! Та спросила с ироничным прищуром:
- Ой ли? Не изменишь ли?
- Вот те крест, что не вру! Пусть иначе отсохнет моя рука!
Завертелись приготовления к свадьбе: резали баранов и кур, шили дорогие одежды, лентами и цветами украшали дворец. Приходской священник церкви Николая Угодника побеседовал с половецкой княжной накануне крещения, объяснил ей смысл будущего обряда, рассказал о сути учения Иисуса. На другое утро совершилось таинство, и к Ивану, дожидавшемуся на улице, вышла его нареченная, получившая имя Акулины. Чинно раскланялись друг с другом и расстались на сутки - до венчания, чтоб, согласно обычаю, проводить холостую жизнь: на «мальчишнике» и «девичнике» соответственно.
Но как следует погулять не позволило неожиданное известие: в горницу к Ивану ворвались двое стражников-половцев и, коверкая русские слова, сообщили, что из терема украли невесту.
- Как - украли? - приподнялся из-за стола жених. - Кто украл?
- Люди Якуна, однако. Их узнал Татур. Бросились в погоню, но, конечно, никого не догнали: похитителей след простыл. А наутро во дворец притащился поп и, упав на колени, стал молить о прощении: ночью в дом к нему ворвались берладники и заставили силой, угрожая покалечить попадью и детей, обвенчать Якуна и Акулину. Стало быть, они теперь - по церковному канону - супруги.
Бедный Звенигородец ничего сразу не сказал, только походил взад-вперёд по горнице, заложив руки за спину, поглядел в оконце, покачался с пятки на носок и обратно, а затем, обернувшись, хрипло произнёс:
- От жены до вдовы - шаг один. Это я устрою.
4
Тулча-Акулина приоткрыла глаза и увидела, что лежит на лавке в небольшой угрюмой избе, а в углу сидит отвратительная старуха, прямо Баба Яга, с шишковатым бородавчатым носом и неимоверно большими зубами, выпиравшими из-под нижней губы, как клыки кабана. Дочь Кырлыя села и спросила в смятении:
- Где я? Кто ты? Ведьма прокряхтела:
- Мы в лесной избушке, вдалеке от Берлада. По наказу Якуна, станешь жить при мне и охранничках-берладничках, что тебя стерегут снаружи. Просидишь на воде да хлебе, коли будешь и впредь упрямиться и не сделаешься его супругой на деле.
Потерев лоб ладонью, половецкая атаманша постепенно восстановила в памяти: как её скрутили трое неизвестных, залепили рот, вытащили из терема, бросили поперёк седла и умчали в ночь; как в лесной пещере, в отблесках костра, под всеобщий гогот и посвист полупьяных разбойников, обвенчали с Якуном насильно; как она отказалась с ним уединиться и ударила его по причинному месту носком сапожка; как Якун едва не упал, но потом очухался и ответил страшным ударом в голову… Больше она ничего не помнила.
Бабка продолжала:
- А когда не будешь зловредничать, он тебя простит и возьмёт к себе, чтобы ты жила за ним припеваючи.
Тулча огрызнулась:
- Ишь чего! Раскатал губу! Век ему меня женой не видать. Лучше пусть убьёт.
А карга на такие её слова даже бровью не повела. Чуть ли не зевнула:
- Стало быть, убьёт. У него это просто.
Обе помолчали. Наконец Акулина тоном избалованной девочки объявила:
- Я хочу до ветру! Выведи меня!
- Завсегда пожалуйста. Подымайся. Но учти, касатка: убежать от нас у тебя не выйдет. Нам Якун наказывал: лучше застрелить, чем позволить улепетнуть. Мы головушку свою подставлять не можем.
На дворе только рассвело, веяло прохладой, и огромные сосны окружали домик со всех сторон великанами из старинных сказок. У крыльца сидели двое сторожевых, вставших от скрипа дверных петель. Увидав старуху, а за нею Тулчу, преградили путь:
- Стой! Куда? Нам пущать не велено.
- Тихо, ирод, - шикнула охранница на берладника. - Может, ей в избе надо оправляться?
Стражники, подумав, позволили:
- Ладноть, пусть к ближайшим кустикам отбежит. Только ты и мы вкруг стоять будем.
- Не посмеете! - ощетинилась девушка. - Стыд и срам какой! Я при вас не сяду.
- Как желаешь, матушка. Коли хочешь терпеть - мы не возражаем.
Сидя под кустом, половчанка сказала сама себе:
- Ничего, ничего, срок ещё придёт, вы за всё ответите…
Между тем Иван во главе половецких воинов, подчинившихся ему по приказу ханши Карагай, окружил квартал, где обычно обитали берладники. Но нашёл в домах только стариков и жён с малыми ребятами. По рассказам, их мужчины усвистели вчера с Якуном на охоту. Поразмыслив, звенигородец обратился к Татуру:
- Слушай, брате, что тебе скажу. Выбирай подручных - одного-другого - и скачи с ними в дальний лес. Разыщи Якуна. Передай: все дома с домочадцами берладников у меня в руках. Заживо спалю, коли не отдаст мне обратно Тулчу. И ещё добавь: коли ты с подручными не вернёшься к вечеру, я начну сбрасывать в колодцы детей. Пусть не сомневается: воли у меня хватит.
И степняк отправился исполнять задание.
К вечеру разбойники подвалили к городу, но ворота перед ними открывать не спешили. Ростиславов сын крикнул сквозь бойницу:
- Я впущу одного Татура, чтобы передал мне ответ Якуна.
Отворили дверку, врезанную в створку ворот. Половец зашёл и сказал:
- Дело плохо, однако. Он княжну отпускать не хочет. Но боится и пожара на своих улицах. И поэтому предлагает решить дело поединком. Кто из вас победит, тот и станет не токмо мужем Тулчи, но и править в городе.
Молодой человек нахмурился, размышляя сосредоточенно. А потом кивнул:
- Так и быть, согласен. Бьёмся на ножах. Никакого иного оружия при себе иметь не положено.
У посредника погрустнели глаза:
- Ох, Иване, ты идёшь на смерть. Тот пожал плечами:
- Хватит, хватит, не каркай. Прочь ступай. Драться будем полчаса спустя.
Первым из ворот появился небольшой отряд половецких воинов во главе с Олексой: он прокладывал путь, обеспечивая проезд Ивану. Наконец на караковом скакуне[7]промчался сам звенигородец - двигался как можно скорее, чтоб уменьшить берладникам возможность поразить его стрелою из лука. По краям открытой каменистой площадки оба единоборца спешились, сбросили кафтаны и остались в нательных вышитых рубахах.
Безусловно, Якун выглядел мощнее: плечи шире, туловище крепче, ноги колесом. Он вращал глазами, скалил зубы и рычал, как рассерженный медведь. Вислые усы трепетали от ветра.
Но зато Ростиславов сын был моложе на десять лет. А по толщине рук и шеи мог соперничать со своим противником. Только рост был намного меньше да и ноги тоньше, не такие тумбы.
Заходящее солнце красным пятнышком промелькнуло на лезвиях их ножей. Медленно, пригнувшись, оба воина обошли место схватки по часовой, а затем и против часовой стрелки. Тяжело дышали от напряжения. Сплёвывали наземь. Ни один из них не решался нанести удар первым.
С севера площадку окружали берладники, с юга - половцы. Те и другие подбадривали дерущихся:
- Ну, Якуне, давай! Врежь князьку! Отомсти за простой народ!
- Вай, Иване, почему уходишь? Нападай скорей! Покажи, как волки задирают ослов! - И свистели в два пальца.
Всё же атаману разбойников изменила выдержка: с воплем «Зарублю!» он шагнул вперёд и размашистым жестом полоснул соперника по груди. Нож рассёк полотно рубахи и слегка задел тело: из царапины выступила кровь.
- Так! Ага! - обрадовались берладники. - Повтори! Ещё!
Тот не замедлил повторить, и другая царапина оказалась на левом плече Ивана, обагрив распоротую рубаху. Половцы слегка приуныли, а когда неудачливый жених Тулчи получил третью рану - самую глубокую, поперёк брюшины, поняли, что дело проиграно.
Судя по всему, четвёртый удар должен был решить дело. Но Якун промахнулся, чуточку промазал и, вспоров воздух вместо живота неприятеля, даже потерял равновесие. Истекая кровью, молодой человек пригнулся и, вложив уходящие силы в рукоятку ножа, что есть мочи вогнал его в подреберье похитителя. И упал на колени, утирая сукровицу.
А Якун запрокинул голову, выронил оружие, сделал шаг назад и, свалившись на спину, начал мелко дёргать руками и ногами, испуская дух.
Подбежавший к звенигородцу Олекса обнял его за шею:
- Поздравляю, друже. Мы теперь на коне!
- Да, спасибо, - просипел Иван. - Выручай княжну… Это главное… Половцы дотащат меня до одрины… - И уткнулся носом в песок, потеряв сознание.
5
Но княжна и сама сумела за себя постоять. На обратном пути со двора неожиданно напала в сенях на свою охранницу и засунула её голову в бочку с колодезной водой. Фурия побулькала и обмякла.
- Так, - сказала Тулча. - Неплохое начало. Осмотрела окошки и убедилась, что они заколочены снаружи - значит, выбраться незаметно для караула было невозможно. Что ж, пришлось тогда идти в «лобовую атаку»: выудить из холодной печки крупный чугунок и, подняв шум, спрятаться за дверью. Забежавший со света берладник ничего не увидел в полутьме избы, начал озираться растерянно, и немедленно его голова оказалась внутри чугуна. Паренёк заметался, широко растопырив руки, загудел в «шеломе», но удар скамейкой по донышку сосуда успокоил его мгновенно.
Акулина сняла с пояса разбойника полусаблю-полутесак, села на корточки возле двери и, когда в проёме появился второй охранник, мастерским ударом поразила его снизу вверх - прямо в сердце. Третьего дозорного удалось вывести из строя пущенной с крылечка стрелой. Лишь четвёртый одержал верх над Тулчей: конный всадник, объезжавший окрестности, он, приблизившись сзади, заарканил половчанку петлёй и стянул верёвку поперёк груди. Как ни силилась девушка разорвать ненавистный шнур, как ни сбрасывала его с себя, ничего не вышло. Всадник спешился, закрепил пеньковые путы, примотав её руки к телу, а конец аркана привязал к столбику крыльца. Вытер пот со лба, гадко улюлюкнул:
- Что, попалась, птичка? Не была б ты женой Якуна, я б тебе устроил… за моих погибших братков… У, проклятая! - замахнулся с сердцем, но стегнуть не посмел.
- Дуралей, - сделала гримаску княжна. - Лучше отпусти, а не то мой жених Иван из Большого Галича сделает из тебя кашу-размазню.
- Руки коротки. Пусть сначала одолеет Якуна.
Так и просидели до вечера. С наступлением сумерек появились полчища мошкары, облепившей лицо и голые кисти Акулины. Дочь Кырлыя взмолилась:
- Заведи в избу. Нешто самому не противно? Тот, отмахиваясь от гнуса, радостно ответил:
- Может, и противно. Но глядеть, как ты мучишься, очень приятно.
- Вот Якун увидит меня покусанной и тебя прибьёт.
- Как сказать! Может, наградит ишо за мою ему преданность?
Вдруг из леса послышался конский топот. Караульный встал со ступенек крыльца и сощурился, силясь в темноте разглядеть, кто приехал. Человек пятнадцать вооружённых людей появились из-за деревьев. Замелькали факелы.
- Тут! Гляди!
В центре оказался командир отряда. Он узнал невесту Ивана, спрыгнул с лошади и приблизился к Тулче. Ошарашенно произнёс:
- Господи помилуй! Что с твоим бедным личиком?
- Это ты, Олекса! Слава Богу! - слабо пошевелила она вспухшими губами; щёки, подбородок и веки до того раздулись, что смотреть на красавицу без боли было невозможно. - Развяжи скорее… Ничего, пройдёт… Как вам удалось?.. Где Якун?
Галицкий боярин рассказал обо всех событиях. А охранник Акулины, услыхав, что его главаря больше нет в живых, рухнул на колени и, рыдая, стал молить победителей о пощаде.
- Измывался над тобою, паскудничал? - обратился к девушке её избавитель.
- О, не то слово! Задушила бы своими руками, да нелепо пачкаться.
- И не надо, поквитаемся сами. - Он кивнул своим приближенным: - Вздёрните подлюку. А потом догоняйте нас. Мы в Берлад возвращаемся.
Тем и кончились эти беспокойные дни. Свадьба половчанки и русского состоялась через две недели. И берладники признали Ивана новым своим атаманом. Летом разгромили князя Бориса и вернули себе не только Малый Галич, но и крепость Тулчу, стали контролировать всё низовье Дуная. Слава о разбойниках снова прокатилась по Южной Европе. А главу преступников перепуганные купцы называли просто: Иван Берладник.
С сентября он не брал с собой в налёты супругу: в августе она ему сообщила, что под сердцем у неё - их ребёнок.
Глава третья
1
Суздальский князь Юрий Долгорукий (по крещению - Георгий, а в народной молве - Гюргей) был женат дважды. Первым браком - на дочери половецкого хана Аепы, от которой произвёл на свет нескольких детей, в том числе и Андрея, более известного в истории как Андрей Боголюбский. Резвая и смешливая половчанка обожала охотиться, но однажды раненый кабан сбил её с коня, а затем набросился на упавшую из седла княгиню. От полученных ран женщина скончалась.
Вскоре киевский князь Владимир Мономах сговорил за сына, Юрия Долгорукого, дочку византийского императора Иоанна II Комнина. Звали её Еленой, и она была наполовину гречанкой, а наполовину венгеркой. Свадьба состоялась в 1125 году, и от этого союза появились новые дети - восемь сыновей и две дочери. Старшая из них, Ольга, отличалась вредным, непослушным характером и довольно непривлекательной внешностью. Но зато младший сын - Всеволод - был всеобщим любимчиком, добрым и приветливым.
После смерти Владимира Мономаха киевский престол занимали разные его сыновья и племянники, Юрий же Долгорукий, помогая одним и враждуя с другими, в целом был доволен своей судьбой и наделом: Суздальское княжество процветало, богатело и крепло. Но зато Елене, его жене, не хотелось жить в стороне от главных событий, где-то в захолустье. И она без конца подзуживала супруга: надо перебираться в Киев, чтоб занять престол предков Юрия, средь которых были и Владимир Красное Солнышко, и, конечно же, Ярослав Мудрый. Долгорукий реагировал на неё вяло: человек не честолюбивый, больше охочий до женского пола, нежели до военной славы, он сгорал от любви к подданной своей - первой красе Суздальской земли - Анастасии, бывшей замужем за боярином Кучкой. Ну, понятное дело, Кучка не испытывал большой радости от своих ветвистых рогов и в одно прекрасное утро укатил из Суздаля, увезя супругу в собственное имение на реке Москве. Юрий рассвирепел, бросился в погоню и, поймав боярина в чистом поле, с ходу зарубил.
Поле с той поры называлось Кучковым. А село, по имени речки, Москвой. Дату же убийства Юрием Долгоруким мужа своей любовницы - 1147 год - мы теперь всенародно празднуем, отмечая как время основания им будущей российской столицы. Неисповедимы пути Господни!
Впрочем, это к слову.
Наконец нудьба Елены возымела действие: Долгорукий в пятьдесят восемь своих лет всё-таки решился завоёвывать Киев.
На престоле же в «матери городов русских» находился в то время Юрьев племянник - Изяслав. Чтобы его свалить, нужно было создать мощную коалицию нескольких князей, и к тому же не помешала бы помощь половцев.
Непростые переговоры шли с Владимиркой Володарьичем Галицким. На словах он поддерживал Долгорукого, так как враждовал с Изяславом, но идти в поход не хотел, не отчётливо понимая получаемой выгоды. И тогда от Юрия пришло обещание: если дело сладится, если сяду в Киеве при твоём участии, выдам дочку Ольгу за наследника твоего - Ярослава; мало того, что этим браком закрепим союз наших княжеств, так ещё получится, что их дети станут племянниками нынешнего византийского императора - ведь родной брат Елены, Мануил I Комнин, около восьми лет уже правит в Константинополе.
Поразмыслив, Владимирко согласился. Более того: отрядил посланников к королям Венгрии и Польши, чтобы те прислали подмогу. И решил сына взять с собой на войну: пусть увидит Киев, воздухом подышит военным и конечно же познакомится с будущим тестем - Юрием Долгоруким.
2
За прошедшее пятилетие Ярослав ещё больше вырос. К девятнадцати годам это был высокий близорукий юноша с Длинными бесцветными волосами, убранными под кожаный обруч-диадему, говоривший, как правило, мало и негромко. Прозвище «Осмомысл», данное ему с лёгкой руки Серослава Жирославича, так и закрепилось за княжичем; несерьёзное на первых порах, обрело оно со временем подлинное значение - молодой человек действительно был умён и разносторонне начитан, мог на равных вести беседу с богословами или послами. А за кроткий, добрый нрав люди относились к нему с симпатией.
Лишь отец Владимирко говорил о нём с сожалением: никудышный воин и вообще тюфяк; дескать, не сумел закалить его тело и характер, воспитать себе смену; пропадёт Галич без меня!
Да и сам Ярослав с содроганием думал: вот умри отец - что с ним будет? Сможет ли управлять, оградить княжество от недругов - внутренних и внешних? Мысль о бегстве от мирской жизни в монастырь часто посещала его.
Но идея жениться на Долгорукой неожиданно понравилась Осмомыслу. Он ещё сохранял девственность и о брачной жизни знал немного, самую её суть, но не более, и фантазия рисовала красочные сцены близости с супругой, ласки и восторг обладания.
- Тимка, расскажи, как ты в первый раз был с девицею? - обращался княжич к своему помощнику, старшему и опытному.
- Так известно как, - неохотно отвечал тот. - На Ивана Купалу, в стогу.
- Ну, и что? Ты ея уламывал?
- Не, она меня сама затащила.
- Дальше, дальше! Говори в подробностях.
- Да не помню я, вот те крест - не помню. Пьяный был зело. Помню, что пондравилось, а куда, чего - хоть убей, не помню! - Он краснел и старался не смотреть господину в глаза.
- Ну, а после? Ты ведь жил ещё с бабами?
- Жил, конечно.
- Здесь-то помнишь?
- Ой, да полно мучить меня, свет мой, княжич. В краску всего вогнал. Не могу я в первородных своих грехах признаваться. Стыдно.
- Тьфу, какой дурак. Я ж тебе не поп, не прошу покаяться. Об одном поведай: что берет в душе верх при сем - разочарование или радость?
Тимофей молчал, размышляя. И произносил, наконец:
- Поначалу - похоть. Тут не до стыда. Забываешь обо всём, лишь бы добиться цели. Как добился - радость: вот оно, свершилось! А потом - разочарование: вроде и не стоило затеваться, глупость всё и блажь. На себя досада, что не смог совладать с безнравственным вожделением. Господи, спаси и помилуй! - Он крестился с чувством.
А наследник Владимирки думал: «Коли Бог велел: «Плодитесь и размножайтесь!» - отчего мы считаем сие нечистым? И того, кто не ведал брака, почитаем святым? Может, наоборот, он как раз и есть грешник, что не смог продолжить свой род? Почему Ева согрешила, плод вкусив запретный? Для чего было создавать женщину не такой, как мужчина, и затем осуждать их взаимное влечение? Есть ли в этом смысл? Не кощунственны ли мысли мои? Как понять, не прослывши еретиком?»
Но в поход на Киев собирался с большим подъёмом. Даже его отец, занятый делами по сбору войска, обратил внимание: сын уже иной, не пытается всеми правдами и неправдами увильнуть от битв, а, наоборот, с нетерпением дожидается часа выступления. Нешто повзрослел? То-то было б счастье!
В сорок пять своих лет галицкий правитель выглядел значительно старше. И мешки под глазами, и лысина, и седина в бороде делали его почти пожилым. Приступы безумия с ним случались реже, да и кровожадность теперь проявлял нечасто. Года три назад уничтожил человек двести - и всё. Но ведь как было не свирепствовать? Понукаемый киевлянами, взбунтовался Звенигород, не желая подчиняться Владимирке. Лишь благодаря воеводе Ивану Халдеичу удалось подавить измену: трёх бояр-зачинщиков воевода собственноручно казнил и тела их скинул с городской стены. Тут и сам Владимирко с войском подоспел, круто обошёлся с непокорным городским вечем: всех, кто проявлял симпатии к прежнему правителю - Ивану Ростиславичу - и хотел подчиняться непосредственно Киеву, или утопил, или обезглавил.
И теперь Галицкое княжество по устройству своему отличалось от других на Руси: ни в одном из крупных городов больше не было веча; и боярам, старикам негде стало спорить, выяснять отношения, проявлять недовольство. А с другой стороны, у Владимирки перемерли все ближайшие родичи - кроме сына; он не мог рассадить на местах никого из клана, опирался только на друзей-наместников. Но известное дело: кто сегодня друг, завтра может сделаться неприятелем и возглавить объединение ропщущих бояр… Да, не слишком спокойное хозяйство оставлял родитель наследнику…
Впрочем, в мае 1149 года думали совсем о другом: о походе на Киев. Собирали рать, создавали запасы фуража, перевязочных материалов, лекарств. Ждали появления союзников - венгров и поляков. Выступление намечалось на конец месяца.
В то же самое время Изяслав Киевский не сидел и не ждал покорно своего смещения. Первым делом он отправил доверенных бояр к королеве Венгрии с просьбой повлиять на мужа и не помогать Галичу. А поскольку королевой была Евфросинья Мстиславна - старшая сестра Изяслава, это удалось. Во-вторых, он женил собственного сына на одной их польских принцесс, чем предотвратил полновесное участие Польши в этой кампании. В-третьих, сговорился с теми из половцев, что давно осели в Поднепровье (назывались они по-разному - торки, берендеи, ковуи, турпеи; на Руси же им было имя одно - «чёрные клобуки»: по высоким чёрным цилиндрическим шапкам, очень напоминавшим головные уборы православных священников). Да и собственное войско в Киеве собралось приличное - три с половиной тысячи. И поэтому Изяслав без раздумий выступил первым: он решил вначале разделаться с непокорным Владимиркой, посадить сына в Галиче и уже затем потягаться силой с Юрием Долгоруким.
А от Киева до Галиции переход небольшой, трое суток на лошадях. Главное - миновать Чёртов Лес, простирающийся вдоль верховий Южного Буга, и уже за ним - городок Теребовль, находящийся во владении у Владимирки. Там прямая дорога к его столице.
Утром 21 мая княжича Ярослава срочно вызвал к себе отец. У родителя на щеках горел лихорадочный румянец, он взволнованно дышал и покусывал нижнюю губу. Крикнул сыну:
- Прохлаждаешься? Дрыхнешь? А враги не дремлют, топчут Галицкую землю конскими копытами!
- Как сие возможно? - обомлел Осмомысл. Князь мотнул головой, раздражённо бросив:
- «Как, как»! Я и сам не верил. Мне намедни Чарг сказал: будто бы привиделось ему, что его племянник, чёрный клобук Кондувей, приближается с полчищами с востока. Думал: врёт старик, выжил из ума. Но на всякий случай отослал дозорных. Час назад они прискакали: Теребовль окружён Изяславом, а отряды половцев разоряют сёла по течению Стрыпы.
- Господи Иисусе!
- То-то и оно. Не сегодня-завтра будут у наших стен. Мы должны отбиться.
- Чем? Какими силами? Унгры не пришли, а от ляхов-то всего ничего, жалких два полка…
- Сами справимся. - Он схватил наследника за запястья, больно сжал: - Ногу в стремя, сыне! Я зайду с севера и ударю половцев от Бучачи. Ты с Избыгневом проберись по югу Чёртова Леса, где Подольская Скала, чтобы выйти к Гусятину Броду. Там и встретимся. Изяслав не успеет глазом моргнуть, как мы сбросим его в воды Збруча!
Побледнев, Осмомысл ответил:
- Как прикажешь, отче. Голову сложу, но не отступлю. - И не произнёс, но подумал: «Коли Богу угодно видеть меня с Ольгой Юрьевной, то моей погибели не допустит!»
3
Воевода Избыгнев Ивачич (или Иванович) приходился сыном наместнику Звенигорода Ивану Халдеичу. Своего отца он на дух не выносил; объяснял это так: «Сам на сундуках с золотом сидит, а сестру и меня с братьями держит в чёрном теле. Хоть бы в чём помог! Нет, скорей удавится, чем пожалует к Рождеству гривну серебра!» Но в военных премудростях разбирался лихо и не раз проявлял в бою храбрость. «На тебя надеюсь, - говорил ему Ярослав с детской откровенностью. - Я силён в науках, а седло мне чуждо; но назвался груздем - полезай в кузов: коль хочу стать князем, должен закаляться в походах. И твоё ратное искусство мне поможет в сём». - «Да и ты меня после не забудь, - ввёртывал Избыгнев. - Как получишь бразды правления после батюшки - награди достойно». - «Уж не сомневайся - сделаю тебя тысяцким!»
Первый день ехали спокойно, даже любовались буковыми рощами, зеленеющими полями, слушали трели птиц и стреляли в уток. Но когда начался Чёртов Лес, на любой тропе которого можно было встретиться с неприятелем, сразу посерьёзнели и подобрались. У Подольской Скалы встали лагерем и заночевали. А с утра опять двинулись на север, вверх по течению Збруча. Вдруг дозорный протрубил в рог: он заметил на горизонте незнакомых всадников. Растерявшемуся княжичу воевода велел:
- Оставайся с войском. В гуще ратников ты находишься в безопасности. Я же с десятью гридями поскачу вперёд для разгляда. Если выйдет схватка, вышли мне подмогу.
Сидя на коне, Осмомысл вглядывался в даль, щурился, растягивал пальцем веко, чтобы приуменьшить свою близорукость, но картину перед собой видел весьма расплывчато.
- Что там, что? - то и дело спрашивал у стременного Онуфрия. - Говори скорее!
- Так ведь что? - отзывался мечник, заслоняя глаза ладонью от солнца. - Те от наших дали стрекача, а Избытка с людьми полетел вдогон. Ежели пымает - изрубит.
- Не поймал ещё?
- Не, у них лошади резвее. Судя по клобукам - степняки, турпеи… Не догнать их, видно.
- Ну и ладно. Главное, что мы без потерь.
- Ладно-то ладно, да ничего ладного: эти как прискачут к своим, да и возвернутся с подмогой. Тут нам несдобровать.
- Не пугай же, Нуфка.
- Что ж пужать-то, княжич? Говорю по правде.
И глядел как в воду: сам главарь турпеев Кондувей навалился на них два часа спустя. Половцы с налёта врезались в головную конницу галичан, но слегка завязли в пехоте. Сеча пошла жестокая. Ярославов конь - серый в яблоках - гарцевал на месте, ощущая запах горячей крови, и храпел от ужаса. Стременной Онуфрий и другой телохранитель - мечник Турляк (тоже из половцев) отгоняли от господина неуёмных противников, рвавшихся к нему то слева, то справа. Вдруг Онуфрий вскрикнул и схватился за шею, из которой фонтаном брызнула кровища. И упал лицом в гриву лошади. Оттолкнув его, к Осмомыслу прорвался грозный неприятель с чёрной бородой и, по-видимому, в прежних боях перебитым носом. «Кондувей!» - промелькнуло в голове молодого человека; он слегка пригнулся, и движение это, инстинктивное, безотчётное, сохранило его от меча врага - лезвие едва не снесло Ярославу локоть. А Турляк, воспользовавшись моментом, выставил вперёд щит: и второй удар турпея, вновь направленный на сына Владимирки, тоже не достиг цели, чиркнув по заклёпкам щита. Тут в их круг ворвался Избыгнев: булавой он сбил с половца клобук и поранил его бритую макушку. Но добить не успел: Кондувей, наподобие наездника в современном цирке, моментально сиганул под брюхо коня и, держась за сбрую, оказался недоступен для мечей и булав. Раз! - и нет его, выученный скакун вынес хозяина с места схватки. Вот пройдоха!
- Как ты, Ярославе? - посмотрел на него Ивачич, проводя рукавом поперёк взмокшего лица. - Цел, не ранен ли?
- Слава Богу, в порядке. - И подумал про себя: «Лучше в монастырь, чем в князья. Что за доля - вечно быть в походах? Жуть какая-то. Нуфка вон погиб ни за что…»
Степняки ускакали так же внезапно, как и появились. Галичане подсчитали потери: 61 человек убит, свыше сотни раненых. Закопали мёртвых, помянули их души и, перекрестившись, двинулись на северо-запад, к Теребовлю.
Оказались на месте вовремя: возле города шла вооружённая стычка киевлян с войсками Владимирки. Влившись в бой, потеснили захватчиков к Чёртову Лесу. А когда прошёл слух, что напуганный Изяслав убежал от собственной рати в неизвестном направлении, ликованию победителей не было предела. В Теребовль они входили героями.
Там же состоялась памятная встреча галицкого князя с не успевшим скрыться и взятым в плен Святославом Ольговичем - из черниговского Новгорода-Северского. Осмомысла позвали тоже.
Святослав доводился Владимирке «четвероюродным» Дядей, хоть и был его младше на двадцать лет. Рыжий, конопатый, зеленоглазый, он не выглядел подавленным, а наоборот - говорил довольно непринуждённо. Спрашивал «племянника»:
- Что ты злишься, Володимере, обзываешь предателем? Изяслав нам отец как великий князь. Он меня призвал на рать, я и подчинился. А предатель - Гюргей, возжелавший его свалить, и мой тёзка Святослав Всеволодович, поступивший к нему на службу.
- Изяслав - мерзкая собака, - продолжал пьяно возмущаться Владимирко. - Я не успокоюсь, покуда он коптит небо в Киеве. Отвечай, Святославе, ты меня и Гюргея в сём поддержишь? Коли да - будем заодно. Коли нет - я велю тебе выколоть зеницы[8].
Ольгович смеялся:
- Не стращай, родимый, мы одной крови как-никак. А ответ будет мой таков: супротив Изяслава не пойду. Но поскольку твоя взяла, я в твоих руках, обещаю возвратиться со своими полками в Новгород-Северский и не встать ни на чью сторону в этой буче. А посадите в Киеве Гюргея - подчинюсь ему как старшому, хоть и не люблю - за сластолюбие и обжорство.
Ярослав подумал: «Он мне нравится. Надобно иметь немалую смелость, дабы так дерзить моему родителю. Я попробую его защитить», - и возвысил голос:
- Отче, не дозволишь ли речь держать? Удивлённый Владимирко посмотрел на сына:
- Ну, держи, попробуй.
Осмомысл поднялся и, отбросив за уши пряди тонких светлых волос, покраснев от приличного волнения, тихо, но отчётливо произнёс:
- Полагаю, что слепой Святослав нам не принесёт пользы. Но отпущенный с миром восвояси станет нашим другом. И когда не поддержит Изяслава, он тем самым поддержит нас. Пощади его, отче.
Мудрые слова отпрыска явственно понравились галицкому князю. Он сменил гнев на милость, благодушно проговорил:
- Любо, сыне, любо! Что ж, устами младенца глаголет истина… Можешь, Святославе, отправляться на все четыре стороны. Лишь одно помни хорошо: упаси тебя Боже снова оказаться средь моих противников. Во второй раз спуску не получишь. - И отдал приказ челяди:
- Кто-нибудь принесите кубки! Я хочу выпить с «дядей» мировую.
После выпитого и съеденного Ольгович с наполненным кубком подошёл к Ярославу. Сел напротив и улыбнулся:
- Разреши возблагодарить за твою доброту. Попроси у меня всё, что пожелаешь.
Осмомысл зарделся:
- Ничего мне не надобно такого. Я сказал, что думал. И давай тебе Бог здоровья.
Положив ладонь на его плечо, тот ответил проникновенно:
- Ты не только умён и добр, но ещё и скромен. Предлагаю вот что. У меня растёт сын - он по святцам Георгий, а по-русски Игорь. Коли будет у тебя дочка, то давай их поженим.
Юноша польщённо кивнул:
- С превеликой радостью! - А потом игриво отметил: - Но сначала мне надобно жениться на Ольге Юрьевне. А для этого посадить ея отца в Киеве!
Святослав с нарочитым вздохом пробормотал:
- Извини, но тут не моя печаль. Озаботься сам. Коль не будет дочки, уговор наш теряет силу.
4
Весь июнь шли дожди, и по галицким дорогам невозможно было ни пройти, ни проехать. А потом у Владимирки приключилась новая болезнь, приступ длился долго, а выздоровление шло ещё дольше, так что выступить на соединение с войском Долгорукого удалось только в августе. Князь, ввиду своей немочи, ехал не верхом, а в повозке, был довольно бледен и вял. Без конца заговаривал о смерти. Ярослав, как мог, успокаивал родителя. Он, в отличие от отца, шёл в поход с радостным подъёмом. Страхи, пережитые в драчках под Теребовлем, очень быстро забылись, горечь от утраты Онуфрия постепенно ушла, жизнь брала своё, и желание обручиться с Суздальской княжной вытеснило обычную его робость. 23 сентября Осмомыслу должно было исполниться девятнадцать лет. И ему хотелось встретить эту дату женихом Ольги Долгорукой.
Вместе с княжичем ехали его гриди: и Турляк, и Избыгнев Ивачич, и Гаврилко Василич, заменивший Онуфрия. У последнего в Галиче оставалась молодая жена: свадьбу они сыграли накануне похода, и весёлый мечник оказался в седле, не остыв ещё от жарких объятий новобрачной; но присутствия духа не терял, а на шутки друзей говорил, бровью не поведя: «Че кручиниться зря? Возвернусь - продолжу».
Чёртов Лес обогнули с севера, на вторые сутки переправились через Южный Буг и к исходу третьего дня вышли к Тетеревиной речке. А по ней идти - мимо Киева не проскочишь.
Не успели миновать Белую Криницу, как навстречу выехал гонец от Юрия Долгорукого. Суздалец просил поспешать: он уже завладел Переяславлем, но остановился, так как одолеть Изяслава в одиночку сил его может не хватить; надо ударить с запада по Белгороду, и тогда противник будет взят с двух сторон в тиски.
Выслушав это сообщение, галицкий правитель покашлял:
- На моих плечах возжелал в Киев въехать? По сему не быть.
- Отче, ты про что? - изумился сын. - Изменяешь слову? Разрываешь узы?
- Замолчи, дурак! - И лицо Владимирки разом побагровело. - Нет, не изменяю! Уговор был один - сбросить Изяслава. А насчёт того, кто потом сядет княжить, разговор особый. У меня прав не меньше, чем у Гюргея!
- Сам желаешь?
- Хм, а то! Чай, не лаптем щи хлебаем, не дурнее прочих.
Ярослав померк:
- Но тогда расстроится наша с Ольгой Юрьевной свадьба.
- Отчего же? За великого княжича выдать дочку замуж каждый посчитает за благо. Долгорукий приползёт ко мне на коленях… Словом, так: ударять буду не по Белгороду, но по Киеву.
- Аль не страшно?
- Семь бед - один ответ. Если не теперь, больше никогда!
Изяслав не ожидал нападения с запада, быстро отступил. 21 августа галицкий правитель, сидючи уже на коне, въехал на гору Щекавицу. Здесь когда-то находилась могила княгини Ольги - до того как Владимир Красное Солнышко, окрестивший Русь, отдал приказ упокоить прах своей бабушки в Десятинной церкви. Этот храм виднелся за стеной старинной части города - рядом с собором Святой Софии. Чуть левее располагался Боричев спуск - шедший прямо к Подольским воротам, а за ними горели на солнце купола Михайловского собора. Красота, открывшаяся глазам галичан, поражала воображение: буйная зелень киевских садов, величавый Днепр и сусальное золото луковок церквей.
Осенив себя крестным знамением, восхищенный родитель повернул лицо к сыну:
- Лепота? Так бери ж ея! Мой тебе подарок ко дню ангела!
Молодой человек низко поклонился:
- Благодарствую, отче. Токмо как же взять, коль ещё не наше? Видит око, да зуб неймёт.
У того дёрнулась щека:
- Нынче ж будет наше! - И, хлестнув коня, резво поскакал к Подольским воротам.
Вскоре стало ясно, что столица Киевского княжества оказалась без руководства: правящее семейство убежало из города. После быстрых переговоров киевляне, не желая кровопролития, нехотя открыли ворота, и дружина Владимирки не спеша заехала внутрь. Тут отец Осмомысла допустил непростительную ошибку. Посчитав своё дело выигранным, он не сразу занял княжеский престол, а сначала поехал на богомолье: посетил Десятинную церковь, поклонившись останкам Ольги, Владимира и его жены Анны, а в Святой Софии бил земные поклоны у могил Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха; наконец отправился к старцам в Печерский монастырь, чтобы те отпустили ему грехи. Всюду его сопровождал отпрыск. И пока они объезжали святыни, Юрий Долгорукий, прибывший из Переяславля, захватил со своими гридями центр города, запёрся в кремле-детинце и провозгласил себя киевским правителем. Более того: повелел схватить вероломных галичан и доставить на великокняжеский двор.
В келью к старцу Харлампию, где вели беседу Осмомысл и ещё четыре монаха, забежал Гаврилко Василич, взмыленный как конь:
- Княжич, скорей отсюда! Мы окружены! Юноша в испуге поднялся:
- Где отец? Что произошло?
- Люди от Гюргея. Требуют вашей с батюшкой выдачи. Рядом с князем скачет Избытка - оба хотят прорваться сквозь отряды половцев. Нам с тобой туда уже не пролезть.
- А куда?
- Я не ведаю. Слышал, будто можно пройти сквозь монашеские пещеры далеко за Киев, ко Днепру.
Ярослав повернулся к инокам:
- Так ли это?
Старец Харлампий покивал:
- Вероятно, так. Но дорогу знает лишь один чернец - брат Климентий. А теперь он при смерти.
- Проводи к нему, старче. Умоляю!
- Проводить нетрудно. Толку выйдет мало… Попетляв по лабиринтам монастыря, оказались в келье умирающего. Тот лежал на одре неподвижно, запрокинув голову, но ещё дышал.
- Брате, брате, слышишь ли меня? - наклонился Харлампий к его лицу.
У Климентия приоткрылись веки. Равнодушно посмотрев на вошедших, он проговорил слабым голосом:
- Кто вы? Друзи?
- Друзи, друзи. Растолкуй, как пробраться им под землёю к берегу.
- Под землёю к берегу? - с тенью удивления произнёс монах. - Невозможно се.
- Отчего, ответь?
- Труден путь… Без проводника заплутают, выход не отыщут. Проводник один: аз есмь. Но уже не встану.
Княжич опустился перед ним на колени:
- Встань, Клименте, встань! Не губи меня, прапраправнука и тёзку Ярослава Мудрого!
- Ярослава Мудрого… - повторил недужный. - Сил уж нет моих. Даже коли встану, сам боюсь потом заблудиться. - Помолчав, он прошелестел: - Но попробовать можно.
Пленники монастыря радостно вскричали:
- Слава Богу! Подымайся скорее!
- Нет, не торопите, погодьте. Пусть мне принесут красного святого вина и четыре просфоры. Должен подкрепиться.
Юркие монахи притащили булочки и кубок. Умирающий привстал на локте, выпил, пожевал беззубыми дёснами и опять откинулся на подушку. Постепенно щёки у него стали розоветь, губы потеряли оттенок синюшности. Он открыл глаза и взглянул на сына Владимирки совершенно незамутнённым взором. И спросил не без удивления:
- Значит, ты и есть прапраправнук Ярослава?
- Верно, я. Род веду от его родимого сына Володимера, что сидел в Галицкой земле.
- Разумею, да. От кого ж бежишь?
- От другого отпрыска Ярославовой чади - сына Мономаха, Георгия Суздальского.
- Охо-хо, вот ведь скорбь земная, - повздыхал Климентий, - чем окончит Русь, коли брат преследует брата? Ну, да я сего уже не узрю - слава Богу! А тебе помогу, коли обещал. Дайте посох. Надобно идти - до скончания сил моих.
Немощного инока с двух сторон поддерживали старец Харлампий и Гаврилко Василич; первые несколько шагов делал он с трудом, жалобно кряхтя и шатаясь, но потом пошёл более уверенно, даже стукал палкой по каменистому полу с некоторой лихостью. Вчетвером покружили по галереям и переходам, забираясь под землю всё глубже и глубже, наконец попали в небольшую церковку, называемую Введенской, и остановились возле потаённой дверцы за аналоем. Тут Харлампий начал прощаться, говоря, что дальше сопровождать их не будет. Беглецы поблагодарили его от души, а чернец их перекрестил на дорогу.
- Некогда, пошли, - торопился Климентий. - Путь ишо неблизкий.
Запалили факелы и с тревогой двинулись под своды пещер. Вырытый тоннель был довольно широк, так что Ярослав и Гаврилко семенили за иноком не гуськом, а вровень друг с другом; да и высота позволяла не нагибаться. Под ногами хрустели камешки. Стены были тоже из мелких известковых частиц палевого цвета, воздух свеж - тут не пахло прелью, как обычно в подвалах, а прохлада не сковывала мышц. У одной из ниш провожатый остановился и, сурово взглянув на юношей, поднял палец кверху:
- Здесь покоятся мощи брата Нестора, переписчика древних летописных страниц; он довёл труды сии до событий нашего времени, а его ученики подхватили дело. Пусть покоится с миром. Царствие Небесное! - И перекрестился.
Дальше помянули нескольких других выдающихся деятелей, захороненных в прочих пещерах, - врачевателей Агапита и Дамиана, богомазов Алимпия и Григория; рядом с их могилами различались фрески с ликами святых, многочисленные надписи - изречения из церковных книг. Осмомысл разглядывал их с благоговением, то и дело крестился и жалел, что торопится и не может поклониться святыням как следует.
У одной из очередных развилок их сопровождающий опустился на камень. Был он снова бледен, посох в руке дрожал, а лицо покрывали капли пота.
- Что такое, Клименте? - бросился к нему Ярослав. Привалившись спиной к стене, тот проговорил еле слышно:
- Немочь одолела… Ноги меня не держат…
- Хочешь, мы тебя понесём?
- Нет, не выйдет, друзи… Ни к чему… Половина пещер уже пройдена… Коль пойдёте направо, скоро выйдете на поверхность в двух вёрстах от Киева… Коль пойдёте налево, проберётесь под Днепром на тот берег… Но идти под рекой опасно - плывуны да осыпи… Можно оказаться заживо погребённым… Выбирайте сами…
- Как, а ты?
- Я останусь. Перейти в мир иной посреди печерских угодников - это ли не счастье? - На его губах возникла улыбка, он вздохнул и осел, словно потеряв последние силы.
- Кончился, - безрадостно заключил Гаврилко и перекрестился. - Здесь его бросать не по-христиански.
- Закопать не сможем, больно твёрдый грунт, - возразил ему княжич.
- Просто занесём в одну из пещер. Мы уже под землёю; даже не закопанный, будет всё равно что в могиле.
Так и сделали. А затем, побоявшись углубляться под Днепр, повернули направо. Вскоре факелы догорели, и пришлось идти в полной темноте. Изредка натыкались на стены, временами спотыкались на бугристом полу.
- Что-то нет конца нашему пути, - сетовал наследник Владимирки. - Мы не две версты вроде миновали, а, наверное, пять. Вдруг Климентий ошибся?
- Отрицать не берусь, - отзывался из темноты Василич. - Дедка не в себе пребывал, мог и перепутать.
- Может, мы блукаем под речкой? И над нами воды?
- Это полбеды - значит, рано или поздно выйдем на другом берегу. Много хуже, если завернули в тупик и упрёмся в стену.
- И вернуться нельзя, потому что развилки впотьмах больше не найдём.
- Нет, одна дорога - только вперёд. Господи, помилуй! Шли какое-то время молча, а затем Осмомысл спросил:
- То ли от ходьбы шибко взмок, то ли стало теплее?
- Как, и ты вспотел, княжич? Значит, не померещилось… Тут одно из двух: либо мы к поверхности ближе - солнце греет почву, а пещеры кончаются, либо углубились настолько, что уже на пороге преисподней и на нас веет адским пеклом.
- Тьфу, охальник! - сплюнул в темноте Ярослав. - Не язык у тебя, Гаврилко, а помело. Взгрею вот сейчас!
- Ладно, ладно, молчу. Пошутил нелепо.
Неожиданно оба наткнулись на твёрдую преграду. Стали щупать её вверх и вбок: перед ними были не камни, не лёсс, а обструганные доски.
- Чуешь, нет? - обратился к господину дружинник. - Дверь какая-то.
- Точно - дверь?
- Да, железом окована. Должен быть засов.
- Ну, ищи, ищи!
- Вроде есть. Не могу открыть - проржавел наскрозь.
- Дай-ка я попробую.
Пальцы стёрли в кровь, обломали ногти, но запор не давался.
- Ой, гляди-кось! Щёлка, - выдохнул Василич.
- Где? Пусти! - отпихнув приятеля, он прильнул глазом к узенькой полосочке света. - Ничего не вижу.
- Не беда. Главное, что снаружи - воля! - Мечник отстранил господина, взял его за плечо: - Осторожно, княжич. Я попробую высадить ногой.
Было слышно, как гридь отступает и с разбега бьёт в дубовые доски сапогом. Дверь слегка покосилась, пропустив из-под притолоки новый лучик - толще, ярче.
- Солнце! Солнце! - крикнул Осмомысл. - Ну, ещё разок двинь ея! Что есть мочи, друже!
Снова разбежавшись, тот вложил во второй удар всю свою богатырскую силушку. Сорванная с петель, створка вылетела наружу, вместе с ней Гаврилко, перекувырнувшись, распластался на сыром днепровском песке.
- Боже, спасены! - Ярослав появился вслед за ним из зияющей дырки подземелья, щурясь от дневного резкого света и вдыхая запахи воды, водорослей, ракушек; сделал несколько шагов, зацепился за лежащую дверь и упал рядом с телохранителем. Оба хохотали от счастья, не вставая.
Вдруг, нежданно-негаданно, молодых людей окружили кони и послышалась гортанная тюркская речь. Сын Владимирки повернул голову и увидел людей в чёрных клобуках. Он поднялся, отряхнул с одежды песок и сказал довольно спокойно на приличном половецком:
- Я - наследник галицкого престола. Отвечайте, чьи вы?
Бородач, в котором галичанин сразу же узнал Кондувея, чуть не ранившего его под Теребовлем, заявил, гарцуя на изящном кауром скакуне:
- Мы ничьи, мы сами по себе. Служим киевскому князю. Прежде - Изяславу, нынче - Долгорукому.
- Я сговорён с дочерью его.
- Нам сие неведомо. Мы тебя доставим на двор Гюргею, а уж он пускай разберётся сам.
- Дайте мне коня. И дружиннику моему.
- Мы коней лишних не имеем. Сядете вдвоём - или же пойдёте пешком.
- Ты за это поплатишься, Кондувейка. Половец расплылся:
- Знаешь Кондувея? Очень хорошо. Кондувей не поплатится, потому что волен, как сокол. Мне никто не указ, что хочу, то и ворочу.
5
Долгорукий сидел в длинной светлой гриднице - главной зале княжеского дворца. Стены были расписаны разноцветным орнаментом, сценами из жизни киевских правителей, их семейств. Вдоль огромного длинного стола пировали дружинники, местные бояре и старейшины города. Сразу по правую руку от Юрия восседал в белом клобуке митрополит всея Руси. Подавальщики разливали в кубки вино, уносили блюда с объедками, приносили новые яства; распоряжался действиями слуг специальный боярин - стольник.
Из дверей появился княжеский глашатай и торжественно объявил, что турпеи привезли галицкого княжича, пойманного за городом на речном берегу. По рядам пирующих прокатился одобрительный ропот. Юрий, развалившийся в здоровенном кресле красного дерева, толстый, некрасивый, вытер сальные пальцы, как тогда было принято, о бороду и не слишком трезво потребовал:
- Пусть его введут!
Осмомысл взошёл по ступенькам и предстал перед кие-во-суздальскими вельможами - долговязый, бледный, в перепачканных глиной одеяниях; близоруко разглядывал пьющий и жующий народ. Жирный Долгорукий с дряблыми щеками в розовых прожилках сразу показался ему малосимпатичным. Тем не менее юноша склонил голову и приветствовал всех, приложив руку к сердцу:
- Здравия желаю князю Георгию и честному собранию.
- Киевскому великому князю, - подсказал ему кто-то из сидящих.
- Киевскому великому князю, - согласился молодой человек, не смутившись. - Аз есмь Христофор-Ярослав, Володимеров сын, что сидит в Галицкой земле. И вельми сожалею, что родитель мой, изменив посулам, не пришёл с войсками к Переяславлю, как и было между вами гово-рено. Коли можешь - прости его. Он бывает горяч не в меру.
Кротость и смирение княжича обществу понравились. Юрий улыбнулся:
- Где ж теперь твой папашка буйный, этакий подлец, сукин кот?
Пропустив ругательства мимо ушей, галичанин ответил:
- Ведать сие не ведаю. Знать, шмыгнул через окружение, поскакал на родину. Он ещё раскается, вот увидишь, станет просить о мире. Как и я прошу ныне. Ибо враг один у меня с тобою - Изяслав. А иных не зрю. И тебе готов подчиниться как отцу второму.
Долгорукий развёл руками:
- Лучше и не скажешь. Ты смышлён, как я погляжу. Верно, будто кличут тебя меж своими Осмомыслом?
Тот потупил очи:
- Э, пускай себе кличут, всё едино. Ить собака лает, а ветер носит…
- Нет, считаю, прозвище не зряшное. А слыхал ли, сыне, что желал я выдать дщерь мою, Ольгу, за тебя?
- Слыхивал, конечно.
- И согласный взять ея в жены?
- Был бы рад зело. Коли ты не против.
- Я подумывал о разрыве - после вероломства Владимирки. Но теперь, заведя знакомство с тобою, снова предлагаю. Так когда ж венчание?
- По твоей воле, княже. У меня именины вскорости, и неплохо было бы совместить оба эти празднества.
- Почему бы нет? Так сему и быть. Нынче же пошлю в Суздаль за невестой. А сейчас присаживайся за стол вместе с нами, выпей, закуси. Дай тебя обнять, будущий зятёк! - Стиснув Ярослава, уколол его щёку бородой, подышал ему в нос винным перегаром и, не выпуская из лап, громко провозгласил: - За тебя, жениха моей Ольгушки, славного наследника галицкого престола!
- Любо, любо! - поддержали гости.
В ходе пира многие подходили знакомиться. Первым оказался Святослав Всеволодович - сын того Всеволода, что сидел раньше в Киеве и всё время конфликтовал с Владимиркой; после смерти отца Святослав возжелал занять его место, но престол захватил дядя Изяслав; ненависть к Изяславу и соединила наследника Всеволода с Юрием Долгоруким.
- Разреши приветствовать тебя на святой киевской земле, - обратился тот к Осмомыслу. - Мы с тобой почти что ровесники, и за нами будущее: старики уйдут, нас оставят княжить. Надобно дружить, а не ссориться, дабы Русь не делить на вотчины. Так ли?
- Вне сомнения, Святославе, - согласился молодой человек. - Наши с тобой родители враждовали, ну а нам до того дела нет. Я на Киев не претендую. Коли станешь великим князем - голову склоню пред тобою без колебаний.
Собеседник сжал его руку. Коренастый, молодцеватый, с пышными усами и широким, чуть приплюснутым носом, он смотрел в глаза прямо, улыбался кончиками губ и казался намного более зрелым мужчиной, чем Ярослав, хоть и был всего на три года старше. И не выглядел столь себе на уме, как его рыжий тёзка Святослав Ольгович из Новгорода-Северского.
А одним из последних возле галичанина появился круглоголовый крепыш с толстой бычьей шеей и широкой грудью богатыря. Красный сабельный шрам разрезал его лоб сверху вниз и, минуя глаз, небольшой полоской безобразил правую щёку. Усмехнувшись, незнакомец спросил:
- Что, не признаёшь?
Сын Владимирки близоруко сощурился и ответил:
- Нет, прости, вроде не припомню.
- Да куда тебе помнить-то! Был совсем щенком, как сбежал я из Галича и осел в Берладе…
Осмомысл приоткрыл от удивления рот:
- Ты - Иван? Ростиславов сын?
- Наконец-то понял! - Витязь скрестил руки. - Да не бойся, не укушу. Коли мы с тобой в дружбе с Долгоруким, я тебя не трону. И вообще, ты мне безразличен. Зуб имею на родителя твоего. Наш расчёт с ним ещё грядёт… - Быстро наклонившись к уху юноши, с жаром проговорил: - Но не смей занимать галицкий престол. Это место моё! Не уступишь - убью!
Сердце заколотилось в груди жениха Ольги Юрьевны; а когда он пришёл в себя, то Берладника рядом не увидел: тот уже давно затерялся среди пирующих. «Да, - подумал Ярослав, - запросто убьёт. У него лицо душегуба». - И перекрестился, глядя на иконы в красном углу.
6
Ольгу привезли 21 сентября, за два дня до венчания. Поселили в тереме старого дворца, стены которого помнили её тёзку - ту княгиню Ольгу, что одной из первых на Руси приняла христианство. Суздальской княжне шёл уже двадцать пятый год, и она слыла старой девой; ей идти было всё равно за кого, лишь бы вырваться из отчего дома. Там, в дому, дочку Долгорукого не любили - за самодовольство и лень, вечное презрение к окружающим и недобрый нрав. Да, она была равнодушна к своим родителям, братьев и сестёр презирала, выделяя только новорождённых. Бессловесные, те казались ей непорочными существами, и княжна мечтала, что когда-нибудь у неё появятся вот такие же дети. Впрочем, с каждым годом упований становилось меньше и меньше.
Вдруг отец по весне нынешнего года объявил: Ольгу выдают за наследника из Галича. Бог ты мой! Счастье-то какое! Ничего, что моложе невесты - больше чем на пять лет. Ничего, что, по слухам, не богатырь и не воин, а затворник-бука: станет чаще дома сидеть, у жены под юбкой. Ничего, что Галич не Киев, - говорят, богатства не меньше, благодатный край, да и к Византии поближе, где её греческая родня (то, что Ольга доводилась племянницей самому императору Мануилу I Комнину, грело сердце девушки всегда).
Собиралась в дорогу быстро. И куда исчезла вечная медлительность, ипохондрия, раздиравшая рот зевота? Бабочкой порхала по горницам и сама наставляла горничных, что в какой сундук складывать. Попрощалась с матерью сдержанно; та сказала: «Хоть попервости не капризничай в доме свёкра, сразу-то на распри не лезь. Покажи себя заботливой супругой и дочкой. А как первенца народишь на свет - там уж сможешь дать себе волю: чай, с ребёнком-то на руках не отправят к родителям!»
Рано утром разместилась в повозке и помчалась на запад - через юрьевские леса и московские болота с их мошкарой (через это и название - «мошква»!), прямиком на Смоленск. Там её ждала расписная ладья под белым парусом, присланная нарочно отцом из Киева, на которой доплыла по Днепру до Вышгорода. Здесь сестру поджидал сводный брат Андрей - смуглый, узколицый, в половчанку-мать; он всегда относился к Ольге без особой симпатии, но теперь, по велению Долгорукого, встретил пышно, угостил отменно, усадил в украшенный лентами и цветами свадебный поезд из десятка колясок и отправил далее, в стольный град, до которого было не больше часа езды.
В тереме дворца её искупали в каменной лохани с розовой душистой водой, завернули в мягкую простыню, уложили почивать. Но невеста, несмотря на усталость, не сомкнула глаз: думала о будущей церемонии и пытала служанок - Ярослав не дурен ли, не свиреп ли и не Змей ли Горыныч? Те по глупости прыскали в кулак, не могли толком объяснить; Ольга злилась и гнала их взашей.
Ярослав, которому тоже до свадьбы видеть свою нареченную не пришлось, спрашивал Гаврилку Василича, бегавшего на княжеский двор для разгляда, какова княжна, очень ли уродлива. Гридь, желая не слишком огорчать жениха, говорил уклончиво: дескать, не успел рассмотреть как следует, слишком быстро её сводили с возка.
- Ну, хоть в целом-то что запомнил? - наседал Осмомысл. - В теле и в соку или же костлява?
- В теле, в теле, шибко даже в теле.
- Что, толста? В батюшку пошла?
- Ну, не так, чтобы очень в батюшку, но смотреть явно есть куда.
- А лицо какое? Нос велик?
- Вроде бы немал.
- Говори же яснее, олух! Значит, не красавица? Витязь морщил верхнюю губу:
- Красота - вещь такая… То, что одному - глаз не оторвать, для другого - кикимора.
Сын Владимирки хмурился:
- Стало быть, кикимора… Так бы и говорил с самого начала.
- Ой, да вечно ты разумеешь в словах больше, чем сказали! Не кикимора, нет, но и не Царевна Лебедь - баба как баба; то есть, извиняюсь, княжна как княжна.
Таинство свершил сам митрополит. Весь обширный Софийский собор был забит знатью; многие, опоздав к началу, дожидались выхода молодых у притвора. Мелодично звонил главный колокол. От его звуков киевские голуби то и дело вспархивали ввысь, и казалось: в тёмно-синее небо кто-то беззаботно швыряет ветки сирени с распустившимися цветами. А в садах цвела настоящая сирень и благоухала возвышенно.
Наконец, растворились ворота храма, и на солнце вышли новобрачные: оба в красном, аксамитово-парчовом, шитом золотом; Ярослав в долгополом нарядном кафтане без кушака и в плаще-корзне с золотой застёжкой на правом плече; Ольга в душегрее и кике[9], с длинными височными колтами-подвесками; не спеша ступали по лепесткам, щедро рассыпанным сверх ковровой дорожки, кланялись гостям. Что и говорить, Долгорукая не пленяла воображения; крупные черты рыхлого лица при достаточно мелких глазках и неровно растущих зубах делали её похожей на раскормленную медведицу; а худой, длинный Осмомысл чем-то напоминал журавля; оба друг другу не понравились в первое мгновение и теперь чувствовали скованность, холодок в груди, разочарование. «Он, конечно, не пугало огородное, - думала она, - и глаза ничего, большие; но уж больно худ - если не поправится, будет к старости вылитый Кащей!» Сын Владимирки рассуждал тоже в этом духе: «Вот не повезло! Толстая, нескладная. Да ещё пушок на лице. Фу, какая гадость! Как лобзать такую? От брезгливости может в спальне вытошнить».
Но потом успокоились, даже улыбались. А когда за столом под крики «Горько! Горько!» стали целоваться, оба ощутили некоторую приятность.
Впрочем, вскоре, в одрине наедине, вновь почувствовали неловкость. Ольга лежала под шёлковой простыней в белой ночной рубашке тонкого полотна этакой горой, у которой от частого дыхания верх ходил ходуном. А жених всё не мог раздеться, путаясь в одежде, - или время тянул специально, отдаляя развязку? За окном, занавешенном плотной тканью, солнце вовсю светило, было жарко, душно, у стекла звенела недовольная муха.
Наконец Ярослав, оказавшись в одних подштанниках, юркнул под простыню и закрыл от страха глаза. Вдруг почувствовал, как рука невесты гладит ему живот, опускается ниже, ниже - и проделывает такое, что он сам себе не решался делать, будучи ещё мальчиком.
- Ну, не бойся, милый, - нежно прошептала она. - Что ты весь трепещешь? Это же приятно… очень, очень приятно, правда?.. А теперь попробуй - соверши со мной то же самое.
Протянув ладонь, он скользнул вдоль её тёплого бедра, запустил пальцы под материю, начал поднимать руку выше, выше - и затем ощутил нечто мягкое, влажное, горячее, от чего запрыгало его сердце; Осмомысл приоткрыл глаза и увидел, как его жена сладко дышит, смежив веки, опрокинувшись на подушку; и чем больше его перста шевелят её плоть, тем ей больше нравится, и она уже тихо стонет, изгибаясь в истоме под простынёю… Так они ублажали друг друга, доводя тела до точки кипения, а потом, позабыв про стыд и недавнюю робость, отдались всецело буйству вожделения, оглашая одрину то вскриками, то рычанием зверя…
Свадьбу праздновали три дня. Вслед за тем молодые уселись в пёстрые повозки и поехали в Галич.
Глава четвёртая
1
С Тулчей-Акулиной прожил Иван Берладник меньше года. Их семейная жизнь складывалась неплохо, муж держал в подчинении половцев и берладников, собирал дань с проезжих купцов (тех, кто упирались, просто грабил), привозил во дворец сундуки с добытым добром, а жена ждала первенца, радуясь его толчкам внутри живота. Улыбаясь, говорила супругу: «Будет непокорный, как ты». - «Нешто я непокорен? - удивлялся он. - Я сама незлобивость и добродушие, век готов провести у тебя под боком». - «Ну, посмотрим, посмотрим», - ласково смеялась она.
В первых числах марта разрешилась от бремени мальчиком. Получил новорождённый имя Ростислава - в честь убитого Владимиркой деда, а в среде половцев звался Чаргобаем - в честь другого деда, знаменитого ясновидца. Был здоровенький и сосал молоко, с аппетитом чмокая.
Но потом повивальные страсти улеглись, сына окрестили, и, когда дороги по весне окончательно высохли, у Ивана в душе зародилось беспокойное чувство. Маялся, бродил по дворцу, думал то и дело: ну, а дальше что? Новые набеги, новые сундуки и шубы? Благочинная жизнь отца-семьянина в выводке детей? Смерть вдали от родины? Неотмщённый отец? Но, с другой стороны, он ведь обещал - Чаргу, Карагай, Акулине, - что не тронется с места, не вернётся на Русь, чем предотвратит новые напасти… Разве обещал? Или говорил неопределённо и обтекаемо: поживём - увидим, нечего, мол, загадывать?.. Как же поступить в этом случае? Подавить в сердце недовольство и остаться на Дунае или бросить сына, любящую жену и сбежать?
Тосковал, терзался. А потом, ни к чему не склонясь, двинулся с ватагой берладников грабить новые караваны. И однажды, сидя в Малом Галиче, после пира с друзьями, так спросил Олексу Прокудьевича, верного своего подручного:
- Что печален, брате, словно на поминках собственной матери?
Тот ответил невесело:
- Может, на поминках. Мать моя стара, а отец и того старее. Живы ли, в себе ли? И по деткам шибко скучаю, у меня их пяток. Чай, забудут скоро отца, возвернусь - не признают уж.
Посерьёзнев, атаман берладников произнёс:
- Хочешь - поезжай, я тебя не неволю. Но боярин отрицательно мотнул головой:
- Без тебя не тронусь. Вместе унесли из Галича ноги, вместе и вернёмся.
- Ох, не знаю, не знаю, право. Как ни поступи, всё выходит худо.
- Ну, решай, Иване. Я пойму и приму, что бы ты ни сделал.
И спустя какое-то время бывший звенигородец написал жене:
«Милая моя Акулинушка, дорогая Тулча!
Видит Бог: ничего не люблю я на свете больше, чем тебя и нашего Ростиславку. Но желание уйти в родные края, отобрать у ворогов взятое ими неправедно, расквитаться за оскорбления не даёт мне покоя. Не могу без этого жить. Не сердись, прости, потерпи чуток. Я ещё приеду за вами, увезу на Русь, подарю вам счастье. Ну, а вы иногда молитесь за мою удачу.
Остаюсь всегда ваш - верный муж, любящий отец».
Снарядил гонца с грамотой в Берлад, отдал распоряжения сотоварищам - как себя вести без начальника, сел на лучшего из своих коней и на пару с Олексой пустился в путь.
Двигались они сначала той же дорогой, что и раньше - через Прут и Днестр, но потом свернули не в Галич, а поехали дальше, переправились через Южный Буг и направили стопы в Киев. Потому как знали: лишь одна сила может сокрушить подлого Владимирку - князь тогдашний великий киевский Всеволод.
Бросились к нему в ножки, стали молить о помощи. А поскольку Всеволод сам терпеть не мог галицкого князя, принял их тепло и, недолго думая, выступил в поход на Звенигород. Чем кампания кончилась, нам уже известно: вече звенигородцев приняло решение подчиниться Берладнику, но наместник Иван Халдеич, разобравшись с ними сурово, удержал в своих руках крепость. Подоспевший с дружиной Владимирко отогнал киевлян. Всеволод простудился на обратном пути, заболел и умер в ночь с 30 июня на 1 июля 1145 года.
Новый правитель Киева Изяслав недоверчиво отнёсся к приближенным и близким предшественника, так что Берладнику и Олексе ничего не оставалось, как податься к Всеволодову брату - Святославу Ольговичу в Новгород-Северский. Но и там они плохо прижились, стали кочевать от князя к князю и, в конце концов, поступили на службу к Юрию Долгорукому.
Тот доверял галичанам, поручал им ответственные дела - например, бросал на войну со своим противником - князем из Великого Новгорода, - а потом взял с собой завоёвывать Киев.
После свадьбы княжича Ярослава с Ольгой и отъезда их восвояси в Галич, между двух друзей пробежала чёрная кошка. Первым начал возмущаться Олекса. Он сказал:
- Ты, я погляжу, примирился со своим положением, хочешь оставаться изгоем, на чужих задворках. Мне сие не по нраву. Будь что будет, но хочу вернуться домой.
У Ивана от гнева побелели глазные радужки:
- Предаёшь? Сбегаешь?
- Называй как знаешь. Я надеялся долго. Но теперь, когда Долгорукий не пойдёт на свата и зятя, не видать нам Звенигорода и Галича как своих ушей. Так чего терять?
- Есть ещё надежда! - закричал Берладник неожиданно звонко.
- Где, какая? - усомнился вельможа грустно.
- Изяслав.
Оба замолчали, вперившись глазами друг в друга.
- Изяслав? - наконец повторил Прокудьич. - Но каким боком - Изяслав? Он тебя не любит и в союзники брать не станет.
- Он меня не любит, конечно, - согласился приятель, - но намного больше ненавидит Владимирку с Долгоруким. Если Изяслав мне поможет разделаться с первым, я ему помогу разделаться со вторым и усесться в Киеве.
Думая о сказанном, галицкий боярин спросил:
- Разве это не грех - задружиться с Гюргеем, принимать от него почести и блага, а потом оказаться в стане его врага?
- Может быть, и грех, - согласился Иван. - Но нельзя жить и не грешить! Мы грешим уже своим появлением на свет. Тем, что дышим, забирая у других воздух, и едим, и пьём, обделяя ближних, женимся на чужих невестах, вызывая зависть… Рыба ищет, где глубже, человек - где ему сподручней… Мне теперь сподручней у Изяслава. Он подался во Владимир-Волынский, к собственному сыну. Я поеду туда же. Ты со мною, Олексе? - И Берладник, взяв его за лоб, запрокинул голову товарища, заглянул в глаза: - Или нашей дружбе конец?
Собеседник не выдержал тяжёлого взгляда, смежил веки и проговорил:
- Я не верю больше в твою удачу. И как другу даю совет: вспомни о словах Чарга. Возвращение наше на Русь ничего хорошего не дало. Надо образумиться. Всё вернуть на круги своя. Мне - обратно в Галич, к детям и жене. А тебе - в Берлад. Больше нет спасения.
Оттолкнув соратника от себя, Ростиславич сказал с презрением:
- Ах ты смерд, холоп! Покидаешь меня в трудную минуту. Столько вместе перенесли, столько пережили… И, выходит, напрасно? - Он шагнул к окну, посмотрел наружу. - Что ж, ступай, катись! Прыгай на жену, сделай ей шестого ребёнка. Но учти одно: ни одна супруга не заменит тебе друга, побратима, наперсника. Ни один из твоих наследников не пожертвует жизнью ради тебя, как я. Помни это, Олексе. Помни, помни, что не я, а ты ушёл первый. И не забывай до последнего вздоха. Всё, прощай!
Галичанин встал. Посмотрел в спину приятеля, отвернувшегося к окну, сделал шаг вперёд - видимо, желая обнять, но махнул рукой, отвернулся сам и уже от двери бросил через плечо:
- Что ж, прости и ты, коли пожелаешь…
2
Городок Владимир-Волынский был намного беднее Галича. И сама Волынь, примыкая с юга к Пинским болотам, средь дорогобужских и луцких лесов, не имела таких угодий и пастбищ, виноградников и садов. Но, с другой стороны, находясь посреди пути между Киевом и Польшей, занималась торговлей и играла не последнюю роль в жизни Западной Руси. А волынский князь Мстислав Изяславич обладал не меньшим влиянием, чем его, допустим, черниговская или новгородская родня.
Изяслав, изгнанный из Киева, убежал к сыну во Владимир-Волынский.
Оба они - отпрыск и родитель - внешне чрезвычайно похожие, по характеру сильно отличались. Большеротые, пучеглазые, в бородавках, смахивали на жаб; ели много и шумно, к чужакам относились подозрительно; но отец, более агрессивный, злой, жестокий, жить не мог без борьбы, интриг, столкновений с врагами; а наследник поступал не столь импульсивно, осторожнее, хладнокровнее. Говорил неспешно: «Для чего суетиться, если Долгорукий и сам не продержится в Киеве больше года? Киевляне суздальцев не любят - или прогоняют, или травят. Скоро ты вернёшься на Днепр». - «Нет, - кричал Изяслав, - не могу ничего не предпринимать! Я поеду к королю ляхов Мешке: он вдовец и пускай берет в жены младшенькую мою - Евдокию. А взамен пришлёт войск и денег. А затем подамся к королю унгров Гейзе, моему зятю, тоже за подмогой. Против нашей силы у Гюргея кишка тонка будет!» - «Да зачем теперь ехать-то? - сомневался Мстислав. - В зиму глядя? По весне уж - куда ни шло». - «По весне поздно будет!»
Неожиданный приезд во Владимир беглеца из Киева - Ивана Берладника - сильно озадачил обоих. Поначалу подумали, что ему доверять опасно, - вдруг его заслал Долгорукий для разведки? Или, вероятно, для убийства соперника? Ухо надо было держать востро. Но потом случилось событие, изменившее отношение волынян к звенигородцу.
Дело было на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября. Евдокия Изяславна накануне отъезда в Польшу посетила женский Святогорский монастырь, где молилась долго, а когда возвращалась во Владимир, неокрепший лёд на Буге не выдержал, и её сани угодили под воду. И княжне бы не выплыть, если бы несчастье не узрел с берега Иван. Не раздумывая нимало, он рванул к полынье и нырнул за девушкой. Перепутав, поначалу вытащил подругу-боярышню, а потом, со второго раза, и саму дочку Изяслава. Мокрых и продрогших, их доставили во дворец, отогрели в бане, отпоили тёплым вином и растёрли барсучьим жиром. Как ни странно, но никто из принявших ледяную ванну не схватил даже насморка. А Берладник сделался отныне героем и первейшим другом княжеской семьи.
- Вот что, мой любезный, - говорил ему отец Евдокии, - я пробуду в Кракове месяца полтора, не меньше. Свадьба, переговоры, всё такое. И боюсь упустить драгоценное время, не успею посетить унгорского короля. Отправляйся-ка лучше ты к нему, приложи все силы, чтобы он решил мне помочь. Кстати, заодно и себе поможешь: общим войском по пути на Киев завернёте с унграми в Галич, разобьёте пакостного Владимирку. Что, согласен?
Благодарный сын Ростислава, опустившись на правое колено, преклонил перед князем голову: этот жест означал, что Иван признает его первенство и отныне будет повиноваться.
3
Он, конечно, мог Звенигород обогнуть, не дразнить гусей, но азарт и ребячество взяли верх. «Кто меня узнает через столько-то лет? - размышлял Берладник, приближаясь к собственной старой вотчине. - Поглазею на родные места, загляну к Людмилке - как она провела эти годы, подурнела, чай? День да ночь, не боле, а затем опять в путь-дорогу». И велел своим провожатым дожидаться его в небольшой деревеньке Пустомыты, что в полуторе вёрстах от заветной крепости.
А Людмилка была его прежняя любовь - из зажиточных горожан, но отнюдь не боярышня. О женитьбе у них речь не шла: он как Рюрикович взять себе простую не мог. В общем, крутили шуры-муры, о которых судачила вся округа.
В Пустомытах Иван облачился в типичное крестьянское одеяние - свиту из сермяги, шубу, валенки и треух, в руки взял котомку и посох; а поскольку день тому назад наступили Святки, толпы колядующих шастали по дворам и улицам, то и присоединиться к одной из них и пройти в город незамеченным не составило для него труда.
На Торжке было, как всегда, многолюдно, лавки пестрели тысячами товаров - от горшков и бочек до заморских тканей и кож, от куриных яиц до сегодня выловленных рыб. Слышались крики зазывал, поросячий визг и ругня торговок. А на паперти нищие приставали к прохожим, христорадничая напористо, и бессовестно сплёвывали вдогонку тем, кто из жадности им не подавал.
Вроде бы и не было этого пятилетия; время шло, а в Звенигороде ничего не менялось.
- Ты откуда, дядя? - обратился к нему торговец квашеной капустой и мочёными яблоками.
- Я-то? Из Пустомыт, - отвечал Берладник.
- Из Пустомыт? - почесал в затылке папаша. - Что-то я не помню тебя. Из каковских будешь?
- Не, из Пустомыт я теперь, а вообще-то из Теребовля.
- И-и, не ближний свет! И каким же ветром тебя занесло-то в наши края?
- Дочку навещал. Дочка замужем за звенигородцем.
- Сколько ж лет тебе, коли дочка замужем?
- Скоро сорок стукнет.
- А на вид не дашь больше тридцати.
- Значит, хорошо сохранился.
Оба посмеялись. Тут Иван и сам вроде между прочим спросил:
- А наместником кто у вас? Всё Иван Халдеич?
- Нет, Халдеич помер. Князь прислал из Галича нового болярина - звать его Олекса Прокудьич.
- Что? Олексу? - выкатил глаза собеседник; но потом, опомнившись, пояснил своё удивление: - Он, слыхал я, убегал от гнева Владимирки с бывшим звенигородским князем… Что ж, теперь прощён?
- Знамо дело, прощён. Во грехах покаялся, в ножки князю падал. Послан управлять нашей стороной. А Ивана жаль.
- Что, Халдеича?
- Нет, другого, молодого, Ростиславова сына. То-то был задорный да шустрый! На тебя похож. Просто одно лицо. Только шрам…
- Надо же! Случается… - Шапку натянул по самые веки и поспешно скрылся в гуще покупателей.
К дому своей зазнобы выбрался под вечер. Сумерки сгущались, и резной верх её ворот выглядел причудливо, как орнамент заглавных букв в рукописных книгах. Деревянным молотком постучал в специальную плошку. Гавкнула собака, но совсем не злобно, больше для порядка. Выглянувший из дома мальчик на посылках спросил:
- Кто тама?
- Дома ли хозяйка?
- Где же ей быть - дома, ясно дело.
- Передай, что пришёл человек издалече. И принёс привет от ея давнего знакомца Ивана.
- Передам, коль не шутишь.
Мальчик убежал, и, наверное, полчаса не было заметно никакого движения. Наконец на крыльце появилась женская фигура - стройная, в повойнике и убрусе[10] поверх него. Ростиславов сын сразу угадал в ней свою бывшую зазнобу. Вот она слегка приоткрыла створку дверей, врезанных в ворота, устремила на Берладника всё такие же ясные лазоревые глаза. И грудным низким голосом, чуточку картавя, спросила:
- Чей привет? От какого Ивана?
- Нешто позабыла? От того, что тобою прозывался «медвежонком-проказником».
Охнув, женщина прижала пальцы к губам. Стала всматриваться в его лицо:
- Ваня, ты? - А потом поправилась, низко поклонившись: - Извиняюсь, мой свет, батюшка княже Иван Ростиславлевич…
- Тихо! Полоумная… Я ведь тайно здесь. Мало ли - услышат…
- В дом-то не взойдёшь?
- Кто там у тебя?
- Кроме челяди да меня с дочкой - никого.
- Так ты замужем?
- Да… была…
- Овдовела, значит?
- Вроде этого. Я «соломенная вдова». Был супруг да сплыл.
- Где ж его нелёгкая носит?
- Бог весть!
В горнице накрыла обильный стол, но сама не ела, только потчевала Берладника и разглядывала его, глаз не отрывая. Он со смехом задал вопрос:
- Шибко изменился? Шрам на лбу и щеке. Безобразно, да?
- Нет, пожалуй, самую малость. Как-то посуровел. Ну, а я? Очень пополнела?
- То, что надо. Стала краше прежнего.
- Льстишь, поди?
- Правду говорю. - Отхлебнул вина. - Дочку как зовут?
- Яночкой, Янинкой.
- Сколько ей?
Покраснела, смутилась и сказала неторопливо:
- Да шестой пошёл…
- Как - шестой? - удивился он. - Это ж получается… - Молодой человек привстал: - Получается, что она - моя?
У Людмилки горели уши, пальцы нервно перебирали кисти по краю скатерти:
- Ванечка, оставь… Ты пришёл - ушёл… А душа болит!
- Нет, признайся прямо!
- Ну, твоя, твоя… Как не быть твоею?
- А про мужа - вранье?
- Отчего ж вранье? Я «соломенная вдова» и есть. Разве что не венчана…
- Ах ты господи! Вот ведь незадача! - Он вскочил, обнял женщину и, прижав к себе, нежно поцеловал. - Милая, хорошая! Надо же - Янинка!.. Можно повидаться?
- Погляди, не жалко. Только не говори о себе: девочка считает, что ея отец убит на войне.
- Хорошо, смолчу.
Кликнули служанку и велели привести кроху. Та вошла в горницу - пухлая, как шарик, голубые глазки блестели капельками финифти, - и уставилась на Ивана вопросительно. Вдруг сама спросила:
- Ты мой тятя?
У Берладника защемило сердце, он ответил с извиняющейся улыбкой:
- Нет, родная, не тятя. Выручила Людмилка:
- Это друг его, с той же самой войны. Видишь на челе шрам?
- Нет, неправда, - заявила малышка. - Мне Маруська по секрету сказала, что мой тятя жив, потому что князь, скоро он приедет за нами и возьмёт к себе во дворец.
- Я вот взгрею Маруську, чтоб не распускала язык! - рассердилась мать. - Забивает ребёнку голову неизвестно чем!
А лицо Янки неожиданно вспыхнуло гневом, точь-в-точь как у Ивана - при принятии главных решений. Дочка произнесла:
- Значит, не хотите признаться? Оба взрослых удручённо молчали.
- Не хватает храбрости? - продолжала девочка, и в её тонком голосе зазвенели слёзы. - Что же ты за князь, коли трус такой?
- Замолчи! - рявкнула Людмилка и ударила ладонью по скатерти. - Вырасти сначала, а потом суди.
Та уже рыдала, но смогла проговорить напоследок:
- Вырасту, конечно… И сего не забуду… Отольются кошке мышкины слёзки!..
Прибежавшая нянька увела её в детскую. Бывшие любовники чувствовали неловкость.
- Может, и не надо было скрывать? - повздыхал Берладник.
- Вот ещё, придумал! Завтра ты уедешь - поминай как звали! Ну, а мне расхлёбывать?
Он опять подошёл к голубушке, вновь поцеловал и спросил:
- Завтра, говоришь? Эта ночка - наша? Женщина ответила:
- Чёртушка такой… Наша, наша, само собою…
Но уйти в одрину им не удалось: за окном послышался конский топот, и в ворота дома начали дубасить: «Открывать! Немедля! И не сметь бежать! Все пути отрезаны!» Это был люди Олексы Прокудьича. Видимо, торговец, что узнал Берладника, сообщил властям, а в Звенигороде ведали, у кого искать пропащего князя, если он объявится…
Как ни умоляла Людмилка схорониться в подпол или попытаться уйти огородами, тот не уступил. На его лице, повторявшем дочкино, появилась хищная, упрямая мина: «Не тревожься, душенька. Я ещё вернусь. Мне Прокудьич причинять вред не станет», - и безропотно вышел за ворота.
Во дворце наместника галицкий боярин с нетерпением ожидал сына Ростислава. И когда его привели, принял холодно, но без злобы. Обратился вежливо:
- Здравия желаю, Иване. Ну, какими судьбами? Прежний друг уселся напротив:
- Ехал мимо - вот и завернул.
- А куда путь держал, если не секрет?
- Далеко, отсюда не видно.
Наглый тон царапнул Олексу. Он сказал с нажимом:
- Не дерзи, сделай одолжение. Тут командую я. Захочу - закую в колодки и отправлю в Галич.
- А посмеешь?
- Коли надо - глазом не моргну.
- Верю, верю. Так и быть, оставим препирательства. Предлагаю уговориться: я тебе излагаю всё, как есть, ну а ты не станешь чинить препятствий и отпустишь меня подобру-поздорову. Ладно?
- Коли не увижу, что ты опасен.
- Если так - заковывай сразу.
- Ох, каков петух! Будет, не ершись. Слушаю тебя.
И Берладник рассказал без утайки: про намерение Изяслава сколотить союз против Долгорукого, про замужество Евдокии и про миссию его в Венгрию.
- Против Долгорукого, говоришь? - произнёс задумчиво княжеский наместник. - Но не против Владимирки?
- Ишь, чего захотел! Ты мои намеренья знаешь.
- Да, спросил по-глупому. У тебя с Владимиркой счёты старые… Но за откровенность спасибо.
- Кушай на здоровье.
Несколько мгновений каждый из двоих думал про своё. Наконец Иван оборвал молчание:
- Значит, я свободен?
- Погоди, не спеши. Ночь тебе придётся провести в яме. Я ведь присягнул галицкому князю и, понятное дело, отпускать его недругов не имею права. Утром, как пойдёшь ко мне вроде для допроса, двинешь караульного по лбу (да не зашиби его насмерть) и сигай через частокол. Там увидишь приготовленного коня… Это всё, что могу сделать для тебя.
У Берладника отлегло от сердца:
- Я не сомневался, Олексе.
- Полно, полно, ступай. - Он взмахнул платком, а потом добавил: - Лучше б ты уехал в Берлад, право слово… - И совсем напоследок сообщил: - А насчёт моей жены будто в воду глядел: ждёт уже шестого дитятю…
Ростиславов сын рассмеялся:
- Ты, Прокудьич, скоро переплюнешь Гюргея!
- Не, его обогнать в этой части сложно…
4
В жизни Осмомысла всё произошло, точно в поговорке: «Стерпится - слюбится». Мало-помалу безобразность Ольги перестала его сильно задевать, а медовый месяц, проведённый в любовных игрищах, окончательно умиротворил и привил потребность в частом исполнении супружеского долга. Это вошло в привычку. Более того: перерывы в общении тяготили, вызывали досаду, выливавшуюся затем в приступы неуёмной страстности. Их объединила постель. А потом к альковным делам присоединились взаимные интересы - начиная от прогулок и вкусных яств и кончая книгами. Дочка Долгорукого была неглупа, понимала по-гречески и латыни, знала много библейских притч. Но, конечно, видела, что её молодой супруг несравненно более начитан и образован, любит постигать новое и делиться этим с другими; и она сыграла на подобной слабости: часто задавала ему вопросы из различных областей знаний и наук и внимательно выслушивала его объяснения. Ярослав считал, что жене действительно интересно, а княжна искусно исполняла роль верной ученицы. Так они и беседовали долгими вечерами: он - листая книги, а она - сидя за шитьём.
Да и внешне Ольга сделалась приятнее: галицкие фрукты, тёплый южный воздух, регулярная интимная жизнь помогли её коже очиститься, потерять желтоватый оттенок и порозоветь, а движения стали мягче, плавнее, женственнее, взгляд приобрёл теплоту и лукавость. Словом, сын Владимирки не жалел о своей женитьбе, даже временами считал, что ему повезло: на жену-некрасавицу вряд ли кто польстится…
Благодатные перемены наблюдались и в самом Осмомысле: он мужал, делался спокойнее и контактнее, чаще улыбался и уже не слишком боялся реальной жизни. Чувствовал: если что случится с отцом, не останется на свете совершенно один.
А Владимирко, убежавший из Киева при содействии Избыгнева Ивачича в город Перемышль и узнавший, что его не преследуют войска Долгорукого, а, наоборот - в Галич возвратился наследник с Ольгой Юрьевной, поспешил домой в объятия сына и любезной снохи. Как-то на охоте, греясь с княжичем у костра, даже откровенно признался: «Если бы не ты, если бы не свадьба, мне пришлось бы туго - супротив Гюргейки и Изяславки. Ну, а то, что она красотой не блещет, это не беда. Я ведь тоже с матерью твоей, половчанкой, жил не по любви. У правителей любовь и женитьба не всегда совпадают». Ярослав ответил: «Понимаю, о чём ты.
Но хочу сказать, что свою супругу я люблю по-своему. Женщина она неплохая». У отца загорелись в глазах ироничные искорки; он проговорил, помешивая золу: «Ладно, я не спорю… Но боюсь, что ты пока плохо представляешь, какова она - истинная любовь…»
В ночь под Рождество - 25 декабря 1149 года - умер Чарг. Накануне вечером он пришёл во дворец и довольно долго настаивал, чтобы князь его принял. Галицкий владыка, опасавшийся чародея, так как верил, что искусство колдуна - от нечистого, а обидное слово, не понравившееся кудеснику, может обернуться порчей и сглазом, вышел с неудовольствием и старался не смотреть на пришельца. Ноги держали половца с трудом; бледный, высохший, тот едва стоял, опираясь на посох; кожа выглядела прозрачной, и в потухших зрачках не светилась жизнь.
- Что случилось, старче? - обратился к нему Владимирко, отводя глаза.
- Разреши, я присяду, княже, дабы не упасть? - очень тихо произнёс прорицатель.
- Сделай милость. - И уселся тоже. - Слушаю тебя.
- Я дерзнул потревожить твою светлость, ибо нынче ночью усну вечным сном. А уйти, не предупредив, полагаю опасным. - Он передохнул, собираясь с мыслями. - Первое - про Галич. Опасайся унгров. Изяслав не страшен, если не придёт король Гейза. Коли так случится - должен нанести удар первым, а иначе погибнешь.
Перепуганный князь сглотнул, но сказать ничего не смог. Чародей продолжил:
- Далее - про Киев. В нём опять воцарится Изяслав. Но не прерывай связей с Долгоруким, он твоя опора и закончит дни киевским владыкою. Третье, и последнее: у меня две внучки. Старшая в Берладе, и тебе до нея дела нет. Младшая, Настасья, появившаяся на свет от любви моей дочери-покойницы и беспутного болярина Микиты Куздеича, проживает в моём дому. Ей всего только шесть годков. Я умру, и она останется с нянькой-половчанкой Арепой да Другими слугами. На ея отца нет надежды - он распутник и мот. А поскольку девочка крещёная, наши половцы будут с нею недобры. Приюти ж дитя, не позволь погибнуть. Я ведь дал тебе дельные советы, и они тебя смогут сильно выручить. Обещаешь, княже? - У него слезились глаза и Дрожали руки.
Галицкий правитель облегчённо вздохнул: понял, что старик ничего дурного ему не сделает. И ответил весело:
- Можешь быть спокоен: я беру Настасью под своё покровительство.
Чарг с трудом поклонился:
- Да хранит тебя Небо. Ухожу бестрепетно. - И, едва волоча ноги, удалился из залы.
В ту же ночь он скончался. Половцы, проживавшие в Галиче, а именно: Вобугревичи, Улашевичи и Бостеева чадь - увезли его тело в степь, где стояли их священные идолы - знаменитые половецкие бабы, - справили по кудеснику тризну, труп сожгли, а пепел развеяли. Внучку же и няньку по приказу Владимирки привезли к нему в кремль.
Князь сошёл с крыльца, направляясь в церковь Святого Иоанна, где обычно молился, и увидел в санках всю закутанную в шубу и платок девочку - смуглую, чернобровую и черноглазую. Пальцем указал на неё:
- Чаргово отродье? Поселите ея в северном крыле. Должный уход составьте. Пусть пока живёт. После поглядим. - И забыл о существовании Настеньки навсегда.
Новые заботы переполнили ум Владимирки. Из Звенигорода прискакал человек Олексы Прокудьича и доставил от наместника грамоту. В ней писалось, что боярином был отловлен князь Иван Ростиславич по прозвищу Берладник, пробиравшийся по приказу Изяслава в Венгрию. На допросе показал, что весною во Владимире-Волынском соберутся силы Мстислава, венгров и поляков и пойдут на Киев. Можно эти планы нарушить, если подстеречь королевское войско где-нибудь в Карпатах. Большего ж разведать не получилось, так как пленнику, брошенному в яму, удалось бежать.
Смяв пергамент, Галицкий владыка подумал: «Прав старик оказался-то. Вот ведь леший! Ну, спасибо ему: встречу унгров теперь во всеоружии. Не пройдут к Волыни мимо Галича!»
Зиму и начало весны провели в подготовке к бою. Знали, что венгерское войско спустится с Карпат либо через Дуклу, либо по Верецкому перевалу, а затем пройдёт мимо Перемышля. Соответственно, выставили дозоры, а на речке Сане скрытно расположили несколько ударных полков. Оставалось ждать.
Первые дозорные прискакали с Дуклы: разглядели тысячную рать во главе с самим Гейзой II; якобы венгерские рыцари встали лагерем у верховий Днестра - видно, ожидая пополнения, следующего для безопасности по иному пути. «Не дадим им соединиться! - приказал Владимирко. - Нападём внезапно и порубим до одного!»
Этот план реализовали великолепно. Тёплым майским вечером рыцари сидели в своих шатрах и, не слишком заботясь об охране, пировали напропалую. Тут на них, полупьяных и беззащитных, налетел отец Ярослава. Конники рубили сплеча перепуганных, мечущихся мужчин. Удалось ускакать только Гейзе и десятку его приближенных: через Дуклу они возвратились на родину. Галичане же уничтожили около девятисот человек, самый цвет венгерской аристократии.
Правда, с гор спустились свежие силы, предводимые Иваном Берладником. Сталкиваться с ними было уже опасно, и Владимирко отступил, улизнул в прикарпатские леса. А его племянник без поддержки конницы Гейзы нападать на Галич тоже побоялся и проследовал мимо Перемышля на Волынь. Здесь он встретился с Изяславом. Сделав дочь польской королевой, тот приехал из Кракова тоже с многотысячной ратью, и ничто уже не мешало двинуться на Днепр - отвоёвывать «матерь городов русских».
В середине лета весть о битве за Киев докатилась до Галицкого княжества: Юрий не смог выстоять и бежал к себе в Суздаль. Стало ясно: вот теперь уж настанет черёд Владимирки. Началась подготовка к большой войне. Ярослав помогал отцу, но не забывал и беременную супругу: ведь она летом сообщила, что под сердцем носит ребёнка.
5
Жизнь Ивана Берладника складывалась в Венгрии замечательно. Мало того, что его вскоре по приезде милостиво приняла королева - Евфросинья Мстиславна (как и брат, внешне напоминавшая земноводное, - но скорее не жабу, а простую лягушку) и представила мужу - королю Гейзе; Мало того, что Гейза согласился воевать на стороне шурина Изяслава, лично возглавив конницу мадьярских вельмож и Доверив Ивану провести пехоту по Верецкому перевалу; здесь Берладник встретил собственного дядьку - перемышльского боярина Петра Бориславича.
Дядькой он был не в родственном смысле, а по должности - как наставник, учитель и пестун. Человек образованный, тонкий и порядочный, тот пытался привить сыну Ростислава все премудрости предыдущих столетий; и хотя получалось это не особенно плодотворно - мальчик откровенно скучал над пергаментами и книгами, отдавая предпочтение верховой езде и кулачному бою, - тем не менее оба относились друг к другу с теплотой и любовью.
После смерти родителя юный князь взял Петра в Звенигород, где боярин помогал ему заниматься делами вотчины. А когда галичане предложили Ивану захватить престол и сместить Владимирку, Бориславич рьяно его отговаривал; не сумев добиться успеха, не поехал со своим подопечным; так они поссорились и расстались.
Вскоре сын Ростислава потерпел поражение и бежал в Берлад. А боярин-учитель, испугавшись, что направленный из Галича наместник - Иван Халдеич - будет над ним измываться, сам уехал в Венгрию, где жила его двоюродная сестра, будучи женой рыцаря-мадьяра.
При дворе короля Пётр тоже преподавал, обучая, по желанию Евфросиньи Мстиславны, принцев Иштвана и Белу русской грамоте.
(Будучи не чужд сочинительства, Бориславич вёл подробный дневник. Несколько позднее многие куски из его пергаментов станут частью сводов русских летописей. И события, о которых речь пойдёт впоследствии, нам известны только благодаря записям Петра).
Словом, обретение дядьки очень обрадовало Ивана. Прежние обиды забылись, и наставник с учеником весело болтали, сидя за кружкой светлого токайского. За прошедшее пятилетие пожилой пестун изменился мало - был таким же добродушным и рыхлым, с бабьим голосом и пальцами-колбасками. На одном из пальцев, как и прежде, отливал зелёным толстый перстень с крупным изумрудом.
- А скажи, Петро, - посмотрел на драгоценность Берладник, - там внутри всё ещё находится яд?
Дядька начал кудахтать - это у него означало смех:
- Фу, Иване, ты уже большой мальчик, а по-прежнему веришь в глупые небылицы! Это ж я говорил нарочно, чтоб ученики предо мною трусили.
- Нет, я знаю верно. Кто-то из холопов, нанятых Владимиркой, влез к тебе в светёлку, снял у спящего перстень и достал отраву, а затем подсыпал моему отцу.
- Чушь какая! Яд как был на месте, так и есть до сих пор…
Молодой человек захлопал в ладоши:
- А, купился, купился! Я тебя поймал! Пётр конфузливо опустил глаза:
- И не стыдно подлавливать старика-учителя, подпоив его вином?
- Ладно, не сердись. И скажи по совести: для чего тебе этот самый яд?
- Может пригодиться.
- Ой, не ерунди: нешто ты способен кого-нибудь отравить?
- Боже упаси!
- А тогда зачем?
У боярина пролегла на лбу печальная складка;
- Для себя храню. Коли заболею смертельно. Чтоб не множить мук - ни своих, ни близких людей.
- Вот чудак! - произнёс Иван укоризненно. - Самому травиться - превеликий грех.
- Будто я не знаю! Так, на крайний случай - если допечёт…
А весной 1150 года, собираясь в поход на Русь, ученик уговорил Бориславича ехать вместе с ним. И хотя наставник не терпел насилия, был далёк от схваток и битв, мысль вернуться на родину, вновь увидеть дорогой Перемышль и уйти не в чужую землю, а в свою, отцовскую, захватила его всецело. Так он оказался рядом с Берладником на Верецком перевале через Карпаты.
Но разгром галицким правителем лучших частей венгерского войска изменил планы боярина: опасаясь за свою жизнь, он проследовал вместе с Иваном мимо Перемышля и попал во Владимир-Волынский, где и познакомился с Изяславом. Пётр Бориславич, умный, благообразный, очень ему понравился, и они много говорили на различные философские темы. «Я беру тебя с собой в Киев, - накануне похода объявил свою волю князь. - Коль откажешься - затаю обиду. Мне зело будет не хватать наших задушевных бесед». Раз такое дело, то пришлось согласиться. В общем, вместо западной оконечности Галицкого княжества дядька Берладника оказался в сердце Руси, во дворце великого князя, в лучших его приятелях.
Осень и зима прошли незаметно, а весной появился гонец из Венгрии: Гейза сообщал, что в апреле двинется на Галич, и просил Изяслава присоединиться. Киевский правитель начал собираться в поход и однажды заявил перемышльскому боярину:
- Ты, Петро, поедешь со мною. Может, посоветуешь что премудрое или развлечёшь на досуге. Я к тебе привык. И скучать стану от разлуки.
- Вот попал я, как кур во щи, - думал пожилой педагог, едучи в повозке княжеского обоза. - Лучше бы сидел в Венгрии. Нет, оно, конечно, милость Изяслава почётна, ем и пью от пуза… но уж больно хлопотно. Нет уединения и покоя. А в мои годы это поважнее вина да пищи».
Возвращаясь на Русь, венгры поступили благоразумнее: выставили дозоры и следили за возможным перемещением неприятеля; но отрядов Владимирки видно не было, и мадьяры беспрепятственно подошли к речке Сану. Встав походным лагерем, Гейза распорядился выслать навстречу Изяславу пышное посольство из числа лучших рыцарей. Вскоре появился и шурин - во главе пяти тысяч киевлян. Два владыки встретились у Ярославля Перемышльского (ныне это польский городок Ярослав, так же как и старый Перемышль - ныне польский Пшемысль), отобедали вместе и произвели смотр вооружённых сил. Пиром и парадом остались довольны.
- Где Владимирко? - обратился король к великому князю.
- Донесли, будто с войском движется сюда. Мы ему устроим самую достойную встречу!
- О, не то слово! - Гейза опустил вислые усы в винный кубок. - Как здоровье Петра Бориславича? Мне Иван давеча сказал, что старик простужен.
- Да, хандрит и кашляет. Просит отпустить его в Перемышль - поклониться могилам предков, помолиться в монастыре и, приди его смертный час, хочет умереть на родной земле.
- Он хороший человек.
- Умный, незлобивый. Я его люблю.
- Да, и я. Буду опечален, коли в гроб сойдёт.
- А моя печаль станет неизбывна.
- Но противиться воле боярина, видимо, не стоит. Раз его душа тянется домой - пусть поедет.
- Ты, наверное, прав. Я позволю ему уехать.
- Может быть, отеческий воздух исцелит беднягу?
- Дал бы Бог, дал бы Бог!
А поскольку от Ярославля до Перемышля можно легко доплыть по Сану на лодке, то Петра Бориславича быстро довезли до знакомой пристани. Он, увидев очертания дорогого города, даже прослезился, долго утирал красные глаза вышитым платком. Поселился вельможа в старой обители Архистратига Михаила, и услужливые монахи, многие из которых знали его родителя - княжьего ловчего Борислава Захарьича, помогли избавиться пожилому книжнику от недуга. Не прошло и недели, как наставник Берладника начал посещать храм, выходить во двор и гулять по берегу Сана. Здесь-то он и увидел, как в ворота города залетает на полном скаку небольшая княжеская дружина - вся в пыли, кони загнаны, стяг разорван. «Ба, ба, ба! - изумился Пётр. - Да, никак, это сам Володимерко? Стало быть, разбит?»
Да, его догадка оказалась верной: Изяслав и Гейза нанесли галицкому войску небывалое поражение; только крохотному отряду во главе с князем удалось под конец сражения убежать с поля боя и укрыться в Перемышле. Город затворился, но, не подготовленный к длительной осаде, мог в любой момент сдаться. Побеждённый Осмомыслов родитель должен был на что-то решиться. Но на что? Просто сдаться киевлянам и венграм он не мог из гордости и, естественно, боязни положить голову на плаху. Ведь ни Гейза, ни Изяслав просто так его теперь не помилуют, - только лишь почувствовав крайнюю свою выгоду… Но какую? И кому поручить миссию посредника? Как найти верные ходы?
Поздним вечером Пётр Бориславич, помолясь, собирался уже лечь в постель, как к нему в келью постучали. И вошедший перепуганный инок сообщил:
- Батюшка, мой свет, призывают тебя к себе настоятель отец Мефодий и какие-то светские, понаехавшие к его преподобию.
У боярина вспотели ладони:
- Кто такие? Для чего я им?
- Не могу знать, не сподобился.
- Передай: я сейчас оденусь и выйду.
Светскими оказались галицкий боярин Кснятин Серославич и ещё двое гридей. А приехали они в монастырь по приказу Владимирки - князь велел привести престарелого учителя пред свои ясны очи.
- Что, немедля? - удивился вельможа. - До утра не терпит?
- Ни мгновения, - отрубил Кснятин. - Наши жизни - в твоих руках.
- Господи помилуй! Отчего же так?
- Скоро всё узнаешь.
Вид Владимирки поразил наставника: бледный, потный, с синими кругами под глазами; на владыку богатейшего княжества он не походил, а скорее напоминал испуганного ребёнка. Бросившись навстречу боярину, повелитель Галича взял его за оба запястья, с силой сжал и проговорил:
- Ты моя надёжа, Петро. Коли сделаешь, как я попрошу, будешь есть на золоте и ходить в шелках да сафьяне! Обещаю!
- Княже, княже, - не спеша произнёс Пётр Бориславич, мягко отнимая у него руки, - не части, я ж пока и в толк не возьму, что ты хочешь от меня, недостойного.
Тот отпил из чаши вина, вытер бороду, начал объяснять более спокойно. Первое: как ему доложили, у боярина прекрасные отношения с Изяславом и Гейзой, и другого посредника трудно подыскать. Далее: обращаться не к ним самим, а сначала передать покаянное письмо от Владимирки - для венгерских рыцарей и венгерского архиепископа, находящегося в расположении войск. Убедить их изустно. Смысл один: мир и жизнь на любых условиях. Наконец последнее: если ничего не получится и зловредные победители ответят отказом, отравить обоих - ядом из фамильного перстня с изумрудом.
Бориславич ахнул и невольно закрыл одной ладонью другую, защитив от света роковое кольцо.
- Да откуда ж тебе про отраву известно? - вымолвил вельможа.
- Слухами земля полнится. Ты ведь в Перемышле человек известный… Ну, Петро, говори скорее: что, согласный ли мне помочь, сделаешь по совести?
Престарелый учитель ответил:
- Нет, светлейший княже, от сего уволь. Мухи пальцем не трону и на склоне лет убивать никого не стану. Прямо говорю. А доставить грамоту архипастырю и унгорским рыцарям - это попытаюсь. И скажу ещё от себя, дабы убедить. Но получится, нет ли - на то воля Божья. У Владимирки прояснилось лицо, просияли глаза. Даже улыбнулся немного:
- И на том спасибо. Вот, бери письмо. Под покровом очи выйдешь незаметно из города - на воротах стражники предупреждены. Ну, а там уж - на своих на двоих. - И слегка пальцем погрозил - больше в шутку, чем серьёзно: - Но без доброй вести не возвращайся. Лучше сразу травись из этого перстня!
- Понимаю, Володимере. Приложу весь остаток сил.
6
Лагерь киевлян охранялся неплохо, но Петра Бориславича знали все, и его пропустили без промедления. Поначалу он зашёл в шатёр к своему ученику - Ивану Берладнику. Тот, увидев пестуна, чуть не подавился зелёными щами, поданными на завтрак. Удивлённо пробормотал:
- Господи, Петро! Вот не ожидал! Ну, садись быстрее и рассказывай, как ты очутился у нас. Рад вельми, что недуг твой минул. Кушать хочешь?
Но когда узнал о письме Владимирки, сразу помрачнел. И глаза сделались колючими, волчьими. Медленно спросил:
- Что ж ты станешь делать? Хлопотать за гадину? Пожилой учитель замялся:
- Но ведь я же дал ему слово…
- …за ублюдка, отравившего собственного брата, моего отца?
- Ваня, это слухи. Мы ж не знаем точно!
- …за мерзавца, погубившего безоружных унгорских лыцарей?
- Да, но он считал их своими врагами!
- …за проклятого самозванца, княжащего вместо меня?
- Нет, по старшинству он имеет право!.. Ростиславов сын резко встал из-за невысокого походного столика; а поскольку в руке его был зажат хлебный нож, вид рассерженного Берладника не внушал особого благорасположения.
- Отдавай письмо! - прорычал Иван. - Живо! Ну? На скатерть!
Оскорбительный тон боярину не понравился. Он хотя и выглядел тютей, тюфяком, мягкотелым созданием и старался сглаживать все конфликты, но не забывал о достоинстве и своём знатном происхождении; грубо помыкать собою никому позволить не мог. Встав напротив, Пётр Бориславич негодующе потряс дряблыми щеками:
- Я не смерд, Иване. Под твою дудку не пляшу.
- А под чью? - Капелька слюны, вылетевшая изо рта Берладника, описав дугу, оказалась на мясистом носу учителя.
Тот демонстративно вытер её ладонью:
- И плеваться в меня не след. Видно, плохо я тебя обучил достойному поведению.
Пальцы бывшего его подопечного сжали рукоять хлебного ножа - так, что ногти сделались белыми:
- Не отдашь, Петро?
- А иначе - убьёшь?
- А иначе - убью.
У вельможи вырвался досадливый вздох:
- Не стращай и очами не зыркай, вьюнош. Не тебе и не мне решать, прав Володимерко или нет. Я письмо доставлю по назначению. А уж там - не моя печаль. - С сожалением покачав головой, пожилой наставник повернулся к нему плечом.
- Коли не отдашь, нашей прежней дружбе - конец! - как-то жалобно крикнул молодой человек.
Дядька не ответил и направился к выходу. А Берладник поднял руку с ножом, чтоб вонзить его в спину Бориславича, размахнулся - и воткнул с обидой в столешницу, продырявив скатерть. И склонил низко бычью шею, чуть не плача…
Ну, а покаянная грамота, побывав у архиепископа и венгерских рыцарей, сделалась предметом долгого разговора Гейзы с Изяславом. Первый не желал поддаваться посулам (а в письме галицкий правитель обещал горы драгоценностей королю и все спорные вотчины - киевскому князю) и настаивал на суровом наказании; а второй склонялся взять богатый выкуп, присоединив к сыновьей Волыни целиком Перемышльскую землю - с Ярославлем, Звенигородом, Городком и Вишней.
- Володимерко вскоре и сам помрёт, - говорил киевлянин венгру, - он ведь пишет, что сильно ранен.
- Я ему не верю.
- Мы на слово полагаться не будем. Пусть вначале привезёт обещанное добро, золото, меха. Грамоты составим об его отказе от владения заветными волостями. Приведём к кресту…
- К моему кресту! - неожиданно горячо сказал Гейза. - Ибо есть патрикула!
А патрикулой назывался крестик, сделанный, по преданию, из частиц Креста, на котором был распят Сын Божий. Эта священная реликвия находилась при венгерском дворе больше двух веков и всегда бралась королями в походы.
- К твоему кресту, - согласился Изяслав, - крестоцелование он нарушить не сможет. А тем паче - патрикулы!
В общем, договорились. И отправили Петра Бориславича в Перемышль - передать Владимирке свой ответ. Тот, узнав о решении победителей, чуть ли не в присядку пошёл - всплёскивал руками, хохотал и тискал посредника, мало походя на израненного воина, отдающего Богу душу. Радостно гудел:
- Всех озолочу - и тебя, и их. Подпишу любые пергаменты. Поклянусь на любом кресте - лишь бы вырваться из этого плена, голову спасти. Потому как золото - дело наживное, вотчины - сегодня нет, завтра снова есть, а вот новая голова вырасти не сможет: лично проверял на других!
Пётр Бориславич, чувствуя себя невольным участником недостойной игры, лишь смотрел с укором, но владыке Галича возражать не смел.
Около недели ушло на посылку Избыгнева Ивачича в стольный град на Днестре, сборе там под присмотром Осмомысла требуемых богатств и доставку их обозом к Перемышлю. Церемония крестоцелования проходила в замке Голые Горы, где присутствовал и Пётр Бориславич, всё подробно описавший в своём дневнике. Побеждённого князя привезли лежащим на дрогах, он был бледен и стонал от Несуществующих ран. Поднимали его под белые ручки Кснятин Серославич и Избыгнев Ивачич. Поклонившись собравшимся рыцарям, Изяславу и Гейзе, галицкий правитель шёпотом попросил у них извинения, выражал покорность и едва ли не на коленях умолял короля и великого князя по-отечески отнестись к Ярославу-Христофору, сделав его вассалом Венгрии и Киева. «Не сегодня-завтра я умру от ран, - лепетал Владимирко, - и мой долг - позаботиться о единственном сыне…» Многие при этих словах понимающе вздыхали. Наконец появился венгерский архиепископ с патрикулой в руках и поднёс её к губам повелителя Галича. Тот облобызал этот крошечный крестик столь благоговейно, что никто не усомнился в искренности его помыслов.
Вскоре победители удалились: венгры в Венгрию, киевляне в Киев. Изяслав уговорил Петра Бориславича вновь отправиться вместе с ним на Днепр и ещё пожить у великого князя во дворце. А Ивана Берладника он назначил собственным наместником в Перемышле. Здесь и состоялась памятная встреча дяди и племянника (князя галицкого с Ростиславовым сыном).
У Владимирки больше не было причин притворяться раненым, и, сбежав с крыльца, он стоял, подбоченясь, глядя, как Берладник спрыгивает с лошади.
- Ты пошто приехал, Иване? - вроде с удивлением произнёс отец Осмомысла. - Мы тебя не ждали.
- Отчего ж не ждали, коли я наместник? - дерзко отозвался племянник.
- Ты - наместник? Чей же, право слово?
- Так известно чей - киевского великого князя Изяслава Мстиславича.
- Нешто есть такой князь? - поднял брови галицкий правитель. - Долгорукого помню… Изяславку как-то не очень…
Захлебнувшись от ярости, молодой человек воскликнул:
- Погань, тать! Ты ж патрикулу целовал, христопродавец!
- Я? Патрикулу? А-а, такой малюсенький деревянный крестик? Он и силы-то не имеет никакой, кто ж в него поверит! - И, сцепив руки на груди, посоветовал: - Так что отправляйся, Иване, с моего двора. Я сегодня добрый и велю отпустить тебя с миром, а не колотить и не затравить псами. Коль не нравится - можешь забирать Перемышльскую землю, если сможешь… Где они, твои спутники по рати? Киевляне да унгры? А-у-у!.. Что-то не видать… Эх, не думал я, что покойный братец выродит на свет подобного простофилю. Смех и грех!
А Берладник вскочил в седло и сказал на прощанье - тихо, но отчётливо:
- Смерть твоя, Володимере, на пороге. Долго тебе не жить.
И на этот раз как в воду глядел…
7
Ярослав не участвовал в отцовой кампании, а сидел безвылазно в Галиче весь минувший год. Было на то несколько причин. Первая, и самая главная: князь боялся подвергать Осмомысла слишком большой опасности в случае провала задуманного. Даже разработал план отпора, если враг будет осаждать их столицу. И оставил в городе неплохую дружину. Во-вторых, зрение у княжича становилось хуже, близорукость явно росла. По совету лекаря снарядили человека в Константинополь: тамошние медики научились шлифовать драгоценные камни столь искусно, что недужный, глядя через линзы, видел все предметы более отчётливо. Но посыльный куда-то запропастился - может, загулял с казёнными средствами, может, умер. А вояка без глаз никому не нужен в походе - или сразу убьют, или попадёт в плен. Ну и, в-третьих, молодой супруг оставался дома при беременной Ольге, ждал рождения первенца. Юрьевна носила свой большой живот с гордостью, думала о будущем чаде беспрерывно и мечтала часто, чтобы появившийся отпрыск был пригож и лицом, и телом. «Вот бы хорошо, если бы не взял ни моей дородности, ни излишней худобы Ярослава, - рассуждала она, - стал бы вроде Гаврилки Василича - сильный да фигуристый, кровь с молоком! Но умом и усидчивостью в отца. А в меня - крепостью характера и смекалкой. Нам ведь, Долгоруким, в смётке не откажешь. А унгорская и греческая кровь моей маменьки даст ему спокойствие в сочетании с южной пылкостью…»
Роды начались вечером 17 марта 1151 года, и течение их было быстрым, лёгким, так что хлопец выскочил, точно Маслом смазанный. Повивальная бабка показала его княжне: толстый, тёмно-розовый, в сгустках крови и слизи, он сучил ножками и ручками, не крича, а хрюкая. «Ой, какой потешный, - улыбнулась мать. - Мальчик, мальчик! Словно по заказу!»
Кликнули отца. Ярослав появился на пороге одрины взволнованный, чуть ли не дрожащий, словно сам рожал; первым делом обратился к жене: «Как ты, душенька?» - но ответа не слышал, потому что с ужасом смотрел на новорождённого, омываемого в тазу. «Господи, какой безобразный! - оценил Осмомысл про себя. - Ровно головастик. Это есть моё продолжение? Ни за что б не поверил. И к тому же - мальчик. Значит, не породниться вовек с новгород-северским князем Святославом Ольговичем, как он предлагал! Вот не повезло!»
- Что, не нравится? - догадалась Ольга, уловив его взгляд.
- Ой, да отчего же? - спохватился тот и натужно растянул губы. - Замечательное дитя… Будет новый князь. Маленький Володимерко…
Женщина согласно моргнула:
- Хорошо, Володимерко. В честь твоего родителя и великого моего деда - Володимера Мономаха.
- Володимера Крестителя, Красно Солнышко тож, нашего общего предка.
- Да. А по святцам как?
- Можно Марком, а можно Яковом. Я смотрел.
- Лучше Яковом: Яша, Яшенька… Так оно приятнее.
- Я перечить не стану. - И потом пошутил: - Назови хоть горшком, только в печь не сажай!
- Тьфу, типун тебе на язык! - рассмеялась Юрьевна. Выйдя из одрины, Осмомысл прошёл по галерее дворца, освещённой несколькими факелами, и спустился с крыльца во двор. Ночь стояла звёздная, тёплая и тихая. От конюшни тянуло конским навозом, сеном; где-то за трубой надрывался ополоумевший мартовский кот. И журавль колодца выглядел в полутьме таинственно.
Молодой папаша повернул налево - к северному крылу дворца. А поднявшись в терем, постучал в одну из дверей. Низкий женский голос недовольно спросил:
- Кто? Какого лешего? Полночь на дворе!
- Это я, Арепа, открой, - отозвался юноша.
- Батюшки светы, не признала со сна светлейшего… Не гневись уж, родименький, не ругай старуху-то…
- Ладно, не сержусь, отворяй.
Внучка Чарга и её нянька занимали две уютные горницы; жили не роскошно, но сносно и ни в чём не знали нужды. А поскольку княжич помнил о своей матери-половчанке, то всегда испытывал интерес к быту её соплеменников. И особенно - к древним их обычаям, ворожбе. Знал, конечно, что Святая Православная Церковь недолюбливает язычников, а епископ Кузьма с амвона не один раз призывал прихожан положить конец дьявольским действам старика-чародея, даже договорился однажды до того, что безбожника Чарга следует живьём сжечь; самосуд едва не свершился, но вмешательство Владимирки пресекло безумие; вскоре ясновидящий умер, поручив заботу о Насте и няньке князю, а его наследник иногда заходил к пожилой половчанке - поболтать на её языке и послушать, как она поёт.
Запалив свечу, Арепа щёлкнула запором. В приоткрытой двери княжич разглядел, что она босая и в исподней рубахе; волосы, несмотря на тонкую седую косичку, после сна в беспорядке. А во рту у няньки был один-единственный нижний зуб, да и тот жёлтый и кривой. Посмотрев с прищуром, бабушка спросила:
- Уж, никак, княженушка тоя опросталася?
- Верно: мальчиком, - улыбнулся тот.
- Радость-то какая! Дай твою ручку облобызать, батюшка! Здравия желаю новому колену светлого твоего рода! - И, повысив голос, повернула голову: - Настя, Настя, не спи! Вылезай проздравить его светлость: сын у них родился!
- Да не надо было внучку будить, - укорил её Ярослав.
- Как же можно спать, коли радость такая в доме!
Из соседней горницы появилась заспанная восьмилетняя девочка в длинной ночной рубашке: чёрные волосы тоже заплетены в косу, в чёрных глазах отражается красное пламя свечки; поклонилась низко:
- Здравия желаю - и тебе, и наследнику твоему любезному.
Он не удержался, подошёл и поцеловал её в лоб:
- Вот спасибо, голубушка; да и ты не хворай, хорошая. - И опять повернулся к няньке: - Я ведь что зашёл? Погадай, Арепушка, предскажи судьбу моему сыночку.
Бабка испугалась, начала отмахиваться ладонью:
- Вот чего надумал! Нешто вам, крещёным, се дозволено?
- Так ведь не узнает никто.
- Как, а Бог?
- Бог простит.
- Нет, никак нельзя. И тебе негоже, и меня ещё, чего доброго, за такие дела захотят изжечь!
- Брось, Арепка, не причитай. Чарга мы спасли, и тебя спасу в случае чего.
- Ох, не знаю я… И не ворожила давно. Всё уже забыто. - На её морщинистом, высохшем лице промелькнула некая загадочная игривость.
- Как же можно сие забыть? Ты ж впитала с молоком матери, Чаргу помогала. И не удивлюсь, если вдруг поведаешь, что и Насте передала своё мастерство. - Он взглянул на девочку, а она хихикнула:
- Ну уж мастерство!.. Так, по мелочам… Мамушка Арепушка, уступи же княжичу, погадай, пожалуйста…
Нянька ещё упрямилась и придумывала всякие увёртки, но в четыре руки её уломали. Посерьёзнев, бабка проговорила:
- Так и быть, попробую… Не люблю я этого, потому как силы много теряешь, цельный день потом пролежу пластом… Ну да как тебя не уважить, княжич, особливо коли сам наполовину половецких кровей? Но скажи по чести: сообчить всю правду или токмо одно хорошее?
Осмомысл тревожно хрустнул пальцами:
- Нет, сполна.
- Что же, вольному воля, светлейший… Настя, подсоби. Как решусь рассудка, спрашивай меня постепенно, плавно. А потом щёлкни по затылку, чтобы я очнулася.
- Хорошо, Арепушка, так и сделаю.
Старая колдунья взобралась на стол и легла на него, руки перекрестив, как покойница. И велела девочке:
- Ты держи свечку ровно, над моим лицом, но чтоб воск не капал на лоб, а не то проснуся.
- Знаю, знаю, не беспокойся.
Та прикрыла глаза, начала шептать какие-то заклинания. Постепенно её лицо, жёлтое в отблесках свечи, сделалось восковым совершенно. Нос и подбородок страшно заострились, а глаза запали. «Господи, помрёт!» - испугался княжич и хотел было осенить себя крестным знамением, но не стал, боясь, что оно сорвёт ворожбу.
- Мамушка Арепушка, слышишь ли меня? - ровным голосом произнесла Настя.
Женщина ответила через сжатые губы:
- Слышу…
- Видишь ли младенчика, маленького княжича, народившегося сей ночью?
- Вижу… вижу…
- Хорошо ли будет расти, сделается ли отроком, а потом и мужем?
- Хорошо… сделается справным…
- Добрым али злым?
- Добрым… но упрямым…
- Станет ли он слушаться родителев?
- Плохо… Вижу их раздоры великие… скверные раздоры…
- Будет ли женат?
- Да, два раза… наплодит детей - мальчиков троих…
- Доведётся ль ему покняжить?
- Да, не слишком долго…
- Отчего недолго?
- Происки врагов… Много лет проведёт у чужих людей…
- Доживёт ли до старости?
- Не успеет…
- Отчего не успеет? Что, его убьют? Нянька тяжело задышала:
- Нет, нельзя, нельзя… ничего не вижу… Ярослав прошептал:
- Про меня спроси: молодым ли умру?
- Матушка Арепушка, а про Осмомысла расскажешь ли? Но пророчица больше не могла говорить, только мелко вздрагивала всем телом. Внучка Чарга вздохнула:
- Не серчай уж, княжич, но ея силы на исходе… Надоть пробуждать, - и довольно сильно шлёпнула Арепу по темечку.
Ясновидящая открыла глаза. Перестала дёргаться, и её лицо начало оттаивать, возвращаясь к жизни. Наконец, поймала молодого отца в поле зрения и спросила мягко:
- Вышло, нет? Ты остался довольный? Он погладил старуху по худому плечу:
- Благодарен, милая. Ты открыла мне многое… Я велю, чтобы вас обеих потчевали сытнее.
- Нет, спасибо, не нужно… Нам хватает всего…
- Перестань: от хорошего хуже не бывает. - Посмотрел на девочку: - До свиданья, Настя. Позаботься о нянюшке. Я потом ещё загляну.
- Будем рады, княжич.
По дороге в свою одрину сын Владимирки думал об услышанном. В целом предсказание его успокоило: мальчик не умрёт в детстве, вырастет большой, народит ему внуков; ну, а то, что нравом будет непрост, это ничего - у кого из нас характер примерный?
И уже в одрине, помолясь, отходя ко сну, напоследок отметил: «А Настасья вырастет красавицей. Вот кому-то повезёт с молодой женою… Жалко, что не мне!» Да, в отличие от Арепы, он пророком не был. И не мог предугадать последующие события…
8
А судьба Осмомысла предрешилась в Киеве: Изяслав велел уничтожить Владимирку за его своеволие и постыдное вероломство. Он сказал Берладнику: «Делай с ним что хочешь. Я на все твои действия закрою глаза. Ибо не желаю выглядеть посмешищем перед Гейзой. Мне король поверил и не стал продолжать войну. Что ж, выходит, зря? Нет, терять союзника-унгра не могу. А тем более - мужа сестры. Выручай, Иване». Вместе с тем двигаться походом на Галич оба не имели ни времени, ни возможностей. Значит, приходилось искать новые пути. И тогда Ростиславов сын вспомнил о кольце Петра Бориславича.
Навестив старого учителя, жившего опять во дворце киевского князя, он радушно воскликнул:
- Ну, давай мириться! Я в шатре у себя непотребно вспылил и теперь жалею.
А наставник ответил:
- Ты вспылил-то правильно. Это я жалею, что позволил себя уговорить галицкому прохвосту. Видишь, как оно обернулось всё. Перемышль вновь не наш, я у Изяслава вроде прихлебателя. Тяжело, Иване.
- Тяжело, конечно. Но исправить можно. Дядька посмотрел с недоверием:
- Ты к чему это клонишь, не пойму?
- Надо подсобить Изяславу, чтобы он вернул себе Перемышль.
- Да каким же боком?
- Съездить в Галич и забрать у Володимерки крестоцеловальные грамоты, раз он их нарушил.
- Ну, забрать - и дальше?
- Дальше ничего. Остальное с ним сделают другие. В том числе и я.
- Ты поедешь тоже?
- Уж само собою. Только под другим именем, в платье простого мечника, изменивши внешность.
Пётр догадался о возможных последствиях и поник. Помолчав, сказал:
- Ладно, с Володимерком расквитаешься, это дело святое. Сядешь в Перемышле. Я с тобой поселюсь, это хорошо. Но куда денешь Ярослава? Он не виноват, убивать его жалко.
Бывший ученик рассмеялся:
- С Володимерком меня не равняй, я своих братьев не травлю… Прогоню, и всё. У него жена - Ольга Долгорукая, вот и пусть едут в Суздаль.
- Обещаешь?
- Слово тебе даю. Памятью клянусь моего родителя - убиенного Ростислава Володарьевича: пальцем Осмомысла не трону.
- Ну, тогда больше нет сомнений. По рукам!
Сборы получились недолгими. Проводить боярина вышел Изяслав - в шапке с горностаевой оторочкой, шубе нараспашку. Трижды поцеловал и заверил:
- Положись во всём на Ивана. Я ему доверяю. Как избавится от злодея и ворога, присоединит к Волыни Галицию, купит для тебя в Перемышле дом. Сможешь коротать свою старость. А захочешь возвратиться ко мне - милости прошу.
- Благодарствую, княже. Надо будет обдумать. Ехали неспешно: Пётр Бориславич сидя в санях, как ребёнок, укутанный волчьими и медвежьими шкурами, а десяток всадников по бокам - в том числе и Берладник. Ночевали в монастырях и на несколько дней задержались в Теребовле, ожидая окончания сильной вьюги. К Галичу приблизились в самый разгар крещенских морозов.
В городе Болшеве (ныне - Болыповцы) Ростиславов сын перекрасил бороду и усы, сделав их из светлых тёмно-рыжими, и подстриг на иной манер, а поверх шрама на левый глаз повязал чёрную широкую ленту - вроде бы кривой. В платье простого мечника, на себя прежнего он теперь действительно походил мало.
- Ох, гляди, распознает Володимерко, заподозрит неладное и убьёт, - сетовал наставник. - Может, и меня заодно.
- Не узнает, - усмехался Иван. - Я ему попадаться-то на очи не стану. Наше дело простое - состоять при конях дружинных, задавать им овса. И в палаты носа не покажу.
- В чём тогда твоя доля будет?
- Тайна за семью печатями. И никто о ней знать не должен.
В Галич въехали около полудня. О прибытии киевлян вскоре доложили Владимирке. Он вначале от встречи с Бориславичем отказался, но прогнать не прогнал и велел разместить в гостевых палатах кремля. В том-то и состояла его ошибка. Потому как из гостевых палат можно при желании посетить винный погреб. Или поварню. Завести дружбу с виночерпием. Или стряпками. Словом, получить доступ к яствам и питью князя…
А отец Ярослава принял посетителей лишь к исходу недели, в постный день - пятницу, что позволило ему по закону не выставлять на стол ни вина, ни мяса, ни птицу, - лишь одни овощи да каши, - и такой приём был, конечно, издевательством, оскорблял чувства старого боярина. О, ему пришлось вытерпеть многое, многое другое: и презрительный тон галицкого князя, и всё ту же тираду о незначимости патрикулы, на которой он клялся, и солёные шуточки об уме Изяслава. Галичанин ухмылялся похабно: «Ну, попробуйте, бляшки-киевляшки, отымите у меня все мои волости! На чужой каравай рот не разевай!» - и в конце швырнул чуть ли не в лицо перемышльцу крестоцеловальные грамоты. С тем вельможа и удалился.
В тот же вечер он с дружиной выехал из города, снова заночевал в Болшеве. Перед сном спросил у Берладника:
- Что, не вышло? Тот сказал загадочно:
- Может, вышло, может, и нет. Скоро мы узнаем.
И действительно: рано утром в горницу к боярину заглянул слуга:
- Батюшка, мой свет, там внизу во дворе дожидается твоей милости нарочный из Галича.
- Али что случилось? - удивился учитель.
- Ой, случилось, случилось, страшно произнесть!
- Ну, давай, говори скорее.
- Вроде князь помре.
- Как это - помре? Я же полдничал с ним вчерась.
- Ой, не знаю, не знаю, наше дело холопское.
Неожиданная мысль посетила наставника. Он дрожащей рукой надавил на тайную кнопочку своего знаменитого перстня. Щёлкнула пружинка, изумруд откинулся. И под ним яда не было.
- Господи, - прошептал старик. - Да когда ж Иван у меня его выкрал? Не во сне ли? Ах, какой проказник! Вот ведь оголец!..
9
А когда Владимирке накануне вечером стало худо, сразу все подумали, что опять начался припадок с помутнением разума, и, как водится, принялись его согревать в тёплой ванне - «укропе»; раньше такие ванны очень облегчали состояние князя, но на этот раз он в себя не пришёл, а наоборот, вскоре испустил дух.
Пётр Бориславич вместе со своим охранением быстро возвратился в главный город Галиции. Во дворце все придворные были, как на подбор, в чёрных одеяниях - «мят-лях», а на троне в гриднице как-то боком сидел юный Ярослав, тоже в чёрном. Опершись на локоть, он рукой заслонял лицо, и обычные его длинные бесцветные волосы свешивались слева и справа щёк - вроде занавесок. Услыхав, что к нему вошли, он очнулся и порывисто опустил кисть. Перемышльский боярин разглядел красные припухшие веки.
- А-а, тебя вернули, Петро? - произнёс Осмомысл с некоторой радостью. - Слава Богу! Это я просил. Потому как знаю, что уехал ты в ссоре с покойным батюшкой… - Губы его скривились, и из глаз побежали слёзы. - Видишь, как случилось все… Вот беда какая! - Вынув из рукава вышитый платок, он утёр ноздри и белёсые светлые усы. - Думаешь, его отравили?
Пожилой учитель залопотал:
- Свят, свят, свят! Что ты говоришь?
Молодой наследник Владимирки посмотрел на него в упор:
- Ой ли? Никого не подозреваешь?
- Да откуда ж мне, пришлому, стороннему, знать сие?
- То-то и оно, что стороннему… Я велел замкнуть всю твою охрану, ты уж не серчай… Больно мне и Кснятин Серославичу, тысяцкому, не по нраву один кривой… Или не кривой? Чем-то он похож на Ивашку Берладника. Или ошибаюсь?
Пётр Бориславич был готов хоть сквозь землю провалиться и закрыл глаза, чтоб себя не выдать.
- Что молчишь, болярин? - вновь заговорил Осмомысл твёрдым голосом. - Нечего сказать? Ну, так я скажу. Ни тебя, ни его я не трону, коли поклянётесь не мешать мне сидеть на княжеском столе. Перемышльская земля ваша - коли так решили, я оспаривать сейчас не берусь. Можете владети. И великому князю подчинюсь без больших сомнений. Он - глава Руси, наш отец и заступник, мы его сыновья и молодшие братья… Но на Галич не посягайте! То моя вотчина. И отстаивать ея стану люто! -А потом закончил спокойнее: - Крестоцеловальные грамоты можешь ворочать. Я на них поставлю свою печатку. Так и передай Изяславу. А Берладника забирай в охапку и смотри, чтоб не попадался мне боле. В первый и в последний раз говорю.
У вельможи как гора с плеч свалилась. Он открыл глаза, посмотрел на юношу с воодушевлением, низко поклонился:
- Рад услышать словеса не мальчишки, но мужа… Разойдёмся полюбовно. Мыслю, что великий князь Изяслав Мстиславич не забудет ни твоей доброты, ни житейской щедрости. Многие лета, Ярославе. Хай живе новый галицкий князь!
Тот кивнул и взмахнул платком, ставя точку в беседе. Киевский посланник, кланяясь, ушёл. Он отдал крестоцеловальные грамоты княжескому печатнику, медленно спустился во двор, глубоко вдыхая чистый морозный воздух. Думал с облегчением: «Вот и слава Богу. Сын мудрее преставившегося родителя. Да и что греха таить - Ваньки моего тоже!.. Ванька больно горяч. И нетерпелив. Для Звенигорода хорош или Перемышля. Но в Галиции нужен человек рассудительный, незадиристый, благочинный. А иначе всё пойти может прахом».
Под конвоем галицкой дружины киевлян препроводили из города. Разумеется, Берладник был вне себя, проклинал Осмомысла и невезение. А наставник утешал его по возможности:
- Погоди, Иване, охолонись. Главное дело сделано: больше нет Владимирки, новый князь отказался от спорных земель и склонил главу пред Киевом. Это ль не удача? Сразу не бывает всего. Надо потерпеть, подождать,..
- Да куда терпеть! - вновь негодовал Ростиславов сын. - Мне уже двадцать осемь. Столько лет впустую! Вечно на задворках. Галича хочу, Галича!
- Вот чудной! На краю гибели ходил - узнанный да схваченный. Ярослав не желает ссориться с Изяславом, вот я проявил милосердие. А ведь право имел убить - отомстить за батюшку. Радуйся тому, что имеешь!
Но Берладник всё не мог успокоиться. Скрежетал зубами, плевался. Заверял, что ещё вернётся, и тогда Ярославу несдобровать…
Резво бежали кони, чуть поскрипывали полозья саней. Колкая позёмка мела в лицо. Киевские гости уезжали домой, посадив на княжение юного Осмомысла. Кончилась эпоха Владимирки, начиналась новая - тоже полная потрясений, блеска, величия, но и крови, крови…
Глава пятая
1
Первое серьёзное испытание выпало на долю молодого галицкого правителя год спустя.
Этот год миновал относительно спокойно: после смерти отца сын довольно долго вживался в новый образ, много времени проводил в церкви, в разговорах с монахами. Он оценивал обстановку в своём княжестве и в других, дальних и соседних, в сопредельных странах. Взвешивал, прикидывал. Вспоминал родителя. Понимал: чтобы укрепить свою власть, надо подружиться (лучше - породниться) с Венгрией и Польшей, не терять связей с Византией; взять назад перемышльские земли, захватить Волынь… На востоке поддерживать союз с Долгоруким и двумя Святославами - Всеволодовичем и Ольговичем… И тогда ни один Изяслав против них не пикнет.
Осмомысл расставил на главные посты преданных людей. Тысяцким сделался Избыгнев Ивачич, первым телохранителем - Гаврилко Василич, а печатником - Кснятин Серославич. Этой тройке мог всецело довериться. А они держали в повиновении прочих бояр - дворского, стольника, седельничего и других воевод.
Новым духовником князя согласился стать игумен монастыря при церкви Святого Иоанна - архимандрит Александр. Был он человек аскетичный, жёсткий и сурово осуждал вольнодумства; вместе с тем ценил остроумие и считал, что весёлый нрав не противоречит церковным догмам. Архипастырь Владимирку не любил, а епископа Кузьму презирал за пристрастие к неумеренным возлияниям; с молодым же владыкой Галича спорил с удовольствием и надеялся превратить его в некий идеал самодержца - мудрого и не кровожадного, образованного и по-настоящему верующего. А владыка Галича восхищался чистотой помыслов отца Александра и умением доказательно говорить.
Как-то Ярослав заявился со своим давнишним вопросом:
- Если Бог есть любовь, отчего Он не разрешал Еве и Адаму познавать друг друга в Эдеме?
Настоятель взглянул на него из-под пышных седых бровей и ответил:
- Ибо плотская и духовная любовь не одно и то же, сын мой. Дух бессмертен, а плоть конечна. Дух возвышен, а плоть низка. Дух божествен, а плоть греховна.
- Плоть греховна? - чуть ли не вскричал Осмомысл. - Как же так, я не понимаю! Ведь она тоже сотворена Вседержителем, по Его образу и подобию! Для чего было разделять людей на мужчин и женщин, а затем осуждать их за взаимное плотское влечение?
Богослов улыбнулся:
- Осуждается не любое плотское влечение, а не освящённое браком.
- Но Адам и Ева жили без церковного брака.
- Потому и грех назван первородным.
- Но без брака - в нашем понимании - жили все пророки Ветхого Завета! Тем не менее Бог им подарил Пятикнижие, Десять Заповедей и спасал от разных напастей.
- Тем не менее иудеи не уверовали в Мессию и за то получили наказание, утеряли палестинские земли и рассеялись по всему свету.
- Хорошо, допустим. Но вернёмся к браку. Если брак, освящённый церковью, священен, отчего монахам жениться запрещено?
- Дабы жили не плотью, но духом.
- Значит, брак не духовен? Отчего аскеза духовнее? Умерщвляя плоть, не наносят ли аскеты вред Его Образу?
Александр отрицательно помотал головой:
- От рождения плоть чиста, но затем лукавый начинает вводить людей в искушения, и отсюда возникают грехи.
- Как не впасть в искушение, если ты мужчина, а кругом столько привлекательных женщин?
Рассмеявшись, игумен проговорил:
- Жить с одной женой и молиться. - Помолчав, спросил: - Или ты присох к кому-то на стороне?
- Нет, спаси Боже! - осенил себя крестом Осмомысл. - Я люблю Ольгу Юрьевну. И она ожидает от меня второго ребёнка. Но порой как увижу красивую болярышню, сердце защемит: почему не моя? Ажио стыдно.
- Хорошо, что стыдно. Ибо это не любовь, но похоть. Похоть от нечистого. А любовь от Бога.
- Но без похоти не рождались бы дети. Похоть без любви нечиста, но любовь без похоти тоже бесплодна! Вот что часто мучит меня, не даёт покоя.
- Надобно молиться прилежнее, и тогда благодать снизойдёт на твою мятежную душу…
Их беседы доставляли обоим немалое удовольствие, помогая анализировать жизнь и Святое Писание, продвигаться к истине.
И семейный быт умиротворял князя. Сын почти не болел, рос весёленьким и здоровеньким, в год уже пошёл, Удивляя мамок и нянек исключительным аппетитом. Ольга носила новое дитя, и беременность красила её, делая сговорчивее и мягче. Говорила мужу: «Спорим, будет девочка? Чую по толчкам: Яшенька брыкался, проявлял нетерпение, а она так ласково - тук-тук, тук-тук, вроде извиняется. Уверяю: девочка!» Осмомысл отвечал: «Я желал бы сего. Обвенчали бы ея с княжичем Игорем Святославичем Новгород-Северским, как и было сговорено». - «Лучше бы с каким-нибудь прынцем - ляхским или унгорским. Может - из Царя-града!» - «Может быть, и так…» - соглашался князь.
Роды начались сразу на праздник Воздвижения Креста Господня, длились вечер, ночь и утро, измотали всех - Ольгу, повитух и переживавшего за стеной Ярослава - и благополучно закончились в полдень 14 сентября. Появившаяся на свет девочка выглядела маленькой, беззащитной, хрупкой, но при этом плакала так громко, что звенели стекла в окнах. И за это получила русское имя Доброгнева, а по святцам, после крещения, стала Евфросиньей. Впрочем, в обиходе, мамки и няньки говорили, улыбаясь, просто: Ярославна.
Тем и кончился этот год. А в начале следующего, 1153-го, прискакали посланцы от Юрия Долгорукого. Суздальский владыка, несмотря на шестьдесят своих лет и немалую тучность тела, был ещё хоть куда: продолжал беспрерывно плодить детей и гулял на пирах, как в юности; но уже понимал, что здоровье может вскоре кончиться и на Киев не хватит сил; потому и продолжил подготовку к новому походу, собирал союзников. Получалось так (и об этом нарочные из Суздаля рассказали в Галиче): венгры заняты войной с Византией, им не до Руси; у поляков тоже на западе неприятности - немцы зарятся на их земли, и германский король Фридрих Барбаросса вскоре может начать боевые действия; словом, Изяславу нечего ждать помощи ни от тех, ни от тех, за него одни «чёрные клобуки» во главе с Кондувеем. А зато с Долгоруким - Новгород-Северский князь Святослав Ольгович и степные половцы. Если бы Осмомысл начал первым - выгнал бы Берладника с Перемышльской земли и отвлёк бы на себя силы киевлян, Юрий бы легко занял их столицу и ударил бы с тыла. И тогда останется один оплот неприятеля - собственно Волынь. Одолеть сына Изяслава не составит труда. Русь падёт к ногам зятя с тестем.
Ярослав взволновался от этих слов, стал держать совет со своими боярами. Те склонялись к войне, видя собственные выгоды в случае победы. «Да какой из меня полководец, вы же знаете, - сокрушённо говорил князь, - зрение прескверное; даже привезённый из Царя-града отшлифованный изумруд мало помогает - вижу чётко лишь на расстоянии вытянутой руки». Но Избыгнев Ивачич рвался взять руководство войсками на себя: «Я командовать стану, поведу вперёд ополчение и конницу. А тебе останется токмо ожидать в походном шатре, освящая своим присутствием наше дело». - «И за Галич беспокоиться нечего, - вторил Кенятин Серославич, - я его держу в руках крепко, за твоё отсутствие никаких беспорядков да измен приключиться не может, голову даю». А последний камушек на чашу весов положил Олекса Прокудьич. Он сказал:
- У Ивашки Берладника проживает в Звенигороде сударушка. Звать ея Людмилкой. Обретается вместе с дочерью, прижитой от него же. Коли их обеих схватить и послать письмо к нему в Перемышль: дескать, убирайся отседа в Киев, а не то зарежем и ту и другую, он и сдрейфит. Ну, а мы убьём тем самым сразу нескольких зайцев: отберём назад наши земли, сохраним войска от возможной стычки с Берладником и окажем помощь Гюргею.
Этот план воодушевил Осмомысла. Утверждая его, сын Владимирки лишь одно заметил:
- Молодец, Олексе. Доказал свою преданность в полной мере. От твоей привязанности к Ивану, видимо, и следа не осталось?
Тот пожал плечами:
- Як нему отношусь по-дружески, как и раньше. Но Иван - неудачник. У него на роду так написано. А дружить с неудачником - значит самому оставаться в дураках.
Все бояре одобрительно посмеялись. Только князь вздохнул:
- Верно сказано, но тревожит мысль: коли завтра от меня тоже отвернётся удача, я могу остаться, как Берладник, один. Вы уйдёте все к более счастливому…
- Что ты, что ты! Кто из нас посмеет? - зашумели Друзья.
- О, ещё как посмеете! Только вас и видели… Ну, да зря рядить нечего. Время нас рассудит…
Выполнить задуманное поручили Прокудьичу - он ведь знал Звенигород как свои пять пальцев. Взяв с собой десять человек, самых удалых, галицкий боярин, вместе с Ними переодевшись в платье простых крестьян, въехал в город на двух санях, груженных дровами. Отпустив дрова Подешевле нескольким дворам, завернули к гробовщику и приобрели у него два простых похоронных ящика, чтобы не вызывать подозрений. А затем под покровом ночи, влезли в дом к Людмилке, повязали челядь, кое-кого пристукнув, но не насмерть, а хозяйке с дочкой повелели одеваться теплее. На рассвете затолкали им в рот по тряпке, спеленали, скрутили и заколотили в гробы, предварительно провертев незаметные дырки для дыхания. И благополучно вывезли обеих за ворота Звенигорода.
Несколько дней спустя Ростиславов сын, выйдя в Перемышле на крыльцо своего дворца, был едва не убит пущенной неизвестно кем стрелой: та воткнулась в дерево возле самого его уха. На стреле болтался скрученный пергамент. От письма Берладник позеленел: он узнал о похищении Яны вместе с матерью и ему предлагалось убираться в Киев немедля, а иначе за жизнь дочки и любовницы поручиться никто не сможет.
Но Иван не был бы Иваном, если б пасовал в трудных ситуациях. Для него Перемышль оказался дороже близких людей. Он не тронулся с места. И послал гонцов к Изяславу и соседним князьям - во Владимир-Волынский, Дорогобуж и Берестье (современный Брест). А уже Изяслав, поднимаясь на войну против Галича, взял с собой не только «чёрных клобуков», но и силы, пришедшие по его зову из Чернигова и Вышгорода. Рать сложилась немалая. Через Чёртов Лес двигались весёлые, с песнями и шутками, зная: Ярославу в одиночку не выстоять.
Пунктом сбора был назначен городок Тихомель, что стоял в верховьях реки Горыни. Здесь же встретились Изяслав и Берладник. У Ивана всё внутри кипело от злости, а великий князь его успокаивал, говорил, что Осмомысл - размазня, ни за что не посмеет порешить взятых в заложницы женщин и вообще побежит с поля боя, лишь завидев грозные силы киевлян и союзников.
Тут пришло донесение, что войска из Галича подошли к Теребовлю; с ними князь, он обосновался в кремле-детинце, а полками командует тысяцкий Избыгнев Ивачич.
Разработали предстоящую операцию: основные силы атакуют Теребовль с ходу, а Берладник заходит с тыла, обогнув неприятельские войска по течению реки Сереты; в плен никого не брать - убивать на месте, даже если захотят сдаться.
В первые часы всё как будто бы шло по плану: две враждующие стороны встретились на севере Теребовля и пошли врукопашную. Галичане оборонялись отчаянно, но союзники их теснили по всем участкам. Больше остальных отличался Кондувей со своими турпеями, отрубая лёгкой саблей головы противников на скаку. К середине дня поражение Избыгнева стало неминуемым.
Спас кампанию Олекса Прокудьич. Зная хорошо своего бывшего товарища, он сообразил, что Берладник попытается совершить обходной маневр, и поехал ему навстречу с небольшим полком по долине Сереты. Вскоре оба войска увидели друг друга и остановились на приличном расстоянии. Первым выехал всадник галичан и направился к середине поля. Там к нему приблизился витязь от Ивана и спросил задиристо:
- Что, решим исход поединком?
- Поединка не будет, - отвечал галичанин и под ноги коня бросил небольшой холщовый мешок. - Передай своему начальнику. А уж там - как Бог пожелает.
Витязь с недоумением подчинился. Он привёз мешок командиру, и Берладник, развязав тесьму, в тот же миг застонал от от горечи. В тряпку была упрятана голова Людмилки. А на шее её висел кусок бересты со словами: «Коли не отступишь, то второй получишь голову дочери».
Сев, Иван заплакал. Процедил сквозь зубы:
- Отступаем. Дело проиграно.
Высвободив силы, воевода Гаврилко Василии бросил к Теребовлю подкрепление. Ближе к вечеру киевляне дрогнули. Первыми покинули поле битвы «чёрные клобуки». Вслед за ними побежали черниговцы с волынянами. Лишь один Изяслав тщетно собирал остатки полков и пытался вдохновить их на бой. Ничего не вышло: ратники разбежались кто куда.
Возвращаясь в Киев, разъярённый великий князь вымещал досаду на простых мирных жителях, грабя по дороге города и деревни, забирая в плен молодых женщин и мужчин, - будто не по Руси следовал, а по вражеской, Иностранной земле. Летописец упоминает об этом с ужасом: «плач велик стоял по всей Галичьстеи».
Вскоре в «матерь городов русских» прискакал Берладник. В день своего позора на реке Серете волосы его сделались как лунь, он их сбрил безжалостно и теперь ходил совершенно лысый. А глаза лихорадочно блестели. Изяслав не желал его принимать, но Иван чуть не с кулаками всё-таки пробился в главные палаты. Разговор вышел нервный, резкий, неуважительный.
Киевский владыка чувствовал себя плохо, часто кашлял, кутался в высокий меховой воротник, несмотря на май. И губастое лицо в бородавках, круглые глаза делали его похожим на жабу чрезвычайно. Ростиславов же сын, крепкий, толстошеий, подбоченясь стоял напротив, не выказывая почтения. Шрам поперёк лица отливал багровым.
- Отчего ты, великий княже, бросил Тихомель, не дождавшись моих полков? Отчего не ударил снова по Ивачичу? - упрекал Берладник.
- Ты во всём виновный. Дочку пожалел, а победу отдал.
- Растерялся, да. Но потом, тем же вечером, выступил в твою сторону. На другой бы день взяли Теребовль.
- Было поздно. Галичане оказались проворнее.
- Никогда не поздно вновь помериться силой. Лето на носу, а к началу осени можем повторить.
- Нет, казна пуста. И друзей больше не докличешься. Как-нибудь потом… коли не помру…
Шрам на лбу Ивана покраснел ещё больше:
- Ой, не лги мне, княже. В ожидании смерти не замысливают женитьбу. Нетто я не знаю, что послал ты в Обедь нескольких бояр, чтоб они просватали за тебя ихнюю царевну?
Изяслав молчал, раздувая ноздри. А звенигородец закончил:
- Я тебе служил только потому, что надеялся отвоевать Галич. А когда ты лишаешь меня мечты, веры в справедливость, то пути наши разойдутся. Хочешь этого? Вопрошаю в последний раз: вместе али порознь?
Тот взглянул презрительно:
- Ты дурак, Иване. Даже если б я прогнал Осмомысла, то не подпустил бы тебя близко к Галичу, посадил бы там своего наследника. Перемышль и Звенигород по тебе, но не Галич… Убирайся вон. Мне сегодня тошно. А с тобой вообще головная боль. Скройся с глаз моих. И скажи спасибо, что живым отпускаю и невредимым.
Ростиславов сын задрожал от гнева:
- Наконец-то я услышал от тебя правду… Всё и объяснилось… всё твоё ко мне отношение… Между тем ты не именитей меня. Мы с тобой на равных. А с такими, как я, лучше не браниться. Друг я верный, а противник безжалостный. Вспомни Володимерку. Следующий - ты! - И, крутнувшись на пятках своих сапог, уходя, показал великому князю спину, что считалось тогда страшным оскорблением.
Проводив его взглядом, Изяслав прокашлял: - Скатертью дорога… От тебя только неприятности… Я от них устал…
2
Ярослав получил от тестя длинное письмо, привезённое с нарочным. Юрий поздравлял молодого князя с выигранной кампанией и возвратом Перемышля. О своих делах рассказывал так:
«Сожалею, сыне, что не смог я навалиться на Киев этим летом. А причиной тому - распри между Святославами - Ольговичем и Всеволодовичем. И мои сыновья - Глеб с Андрейкой тоже не в ладу, надо замирять. А когда у твоих сторонников пересуды да дрязги, тут не до войны. Но отчаиваться рано: верую, что ещё возблагодарю Небесного Отца за Его ко мне милость, стоя во храме Святой Софии Киевской. Помолись и ты за успех моих начинаний.
Может, и рассердишься, но скрывать не стану: принял я у себя прежнего твоего недруга и соперника Ваньку по прозвищу Берладник. Он расстался с Изяславкой, надерзил ему на прощание и покинул Киев. Покружился с месяц при дворе Святослава Ольговича в Новгороде-Северском, а затем оказался в Суздале. Обещал вести себя смирно, на твои уделы рот не разевать и помочь всемерно, не жалея живота своего, в притязаниях моих на великокняжеский стол. Я по-христиански его простил и приветил. С миру по нитке - голому рубаха, хочет мне помочь - возражать не стану. А начнёт озорничать, своевольничать - и прогнать недолго. Под моим присмотром опасаться его не след».
И заканчивалось послание неизменным отеческим благословением - зятю, дочери и любимым внукам, пожеланием всем долгих лет жизни, благоденствия и счастья. А внизу виднелся оттиск княжеской печати (ведь писал грамоты писец, брать гусиное перо князь считал ниже своего Достоинства и всего лишь «прикладывал ручку» - то есть Печатку).
С тем же нарочным Осмомысл отправил ему ответ. Поблагодарив Долгорукого за родственную заботу и посожалев, что поход на Киев расстроился, перешёл к упрёкам - мягким, но определённым:
«Отче, отче! Ты пошто поверил Ваньке Берладнику? Это ж змей подколодный, каин, иуда. Я виню его в смерти батюшки. И зело кручинюсь, что тогда по глупости и в расстроенных чувствах дал ему уйти, не прибил на месте. Прогони ж его! Пусть уходит к себе в Берлад иль куда подале. Или выдай мне. Мы уж тут Ростиславово чадо приветим по-свойски, десять шкур спустив. Чтобы жизнь мёдом не казалась!
Между прочим, во моём во дворце приютили мы дочь Иванову, незаконнорождённую Янину (Иоанну), бо дитя за родителя отвечать не смеет. Девочка смышлёная, хоть и бука. И отца ненавидит люто, обвиняя его в жестокосердии, по причине которого и была убита ея родительница, Людмилка. Можешь передать се Берладнику. Чтоб ему провалиться, вору, в преисподнюю!»
А в конце письма шли поклоны от Ольги Юрьевны, Фроси и Володи, «многие лета» и другие добрые, сердечные пожелания.
Ясно, что всего в пергаменте не изложишь, да и на словах не всегда поделишься - даже с близкими тебе, сочувствующими людьми. Угнетало же молодого галицкого правителя многое.
Первое - бояре. Заявились к нему с просьбой восстановить упразднённое Владимиркой вече. Больше остальных разорялся Феодор Вонифатьич - сын убитого князем девять лет назад Вонифатия Андреича. Говорил, что предки были нас не глупее, и собрание лучших галицких людей выйдет всем на пользу, а особенно Ярославу, ибо страсти, выплеснутые на сходе, много безопаснее сохранённых в душе тайно. Осмомысл обещал подумать. Он боялся усиления власти бояр. Знал, что в Великом Новгороде те вообще помыкают князем, вече может его сместить. Но, с другой стороны, ясно понимал: лучше так, чем перевороты и заговоры. Колебался, взвешивал, ни на что в конце концов не решаясь.
Во-вторых, удручали дела на юге княжества. Там шалили половецкие племена, возглавляемые ханом Чугаем. Не встречая на пути никаких серьёзных преград, поднимадцсь по Днестру всё выше и выше, контролируя даже такие важные крепости, как Ушица и Коломыя. Грабили купцов, воровали скот. Появились даже первые беженцы. А война с Изяславом отвлекла силы, не дала возможности дать достойный отпор степнякам. Положение было скверным.
В-третьих, начались неурядицы в семье. После рождения дочери Ольга Юрьевна располнела ещё сильнее, не влезала ни в один из прежних нарядов и страдала одышкой. Это отрицательно повлияло на характер княгини: вздорность, мнительность, подозрительность, ущемлённое самолюбие, кое-как подавляемые ею вначале, - неожиданно вылезли наружу, расцвели пышным цветом. Женщина превратилась в фурию. Всем и вся она была недовольна, била слуг, упрекала мужа, что теперь от него ласки не дождёшься. Ревновала дико. И закатывала скандалы по малейшему поводу.
- Значит, это Ульянка Олексовна? - спрашивала у князя нервно.
- Что - Ульянка Олексовна?
- Та, с которою ты живёшь скрытно?
- Да с чего ты взяла, родная? - удивлялся он.
- Отпираться глупо. Я своими очами зрела. При словах: «Христос воскресе!» - «Воистину воскресе!» - ты облобызал ея трижды не в ланиты, но устами в уста.
- Да Господь с тобою! Не было такого.
- Было, было. И она зарделась почище красна солнышка. Мне ль не понимать: просто так сего не случается.
- Вот ещё придумала! Дочери Олексы Прокудьича нет ещё пятнадцати!
- Тем греховнее, что ты ея соблазняешь.
- Матушка, окстись! Я невинен перед тобою, аки агнец Божий.
- Не лукавь, голубчик. На твоём месте каждый бы польстился на ея красоту, гибкость стана да лебяжью выю! Я-то сделалась вон какая. Толстая, противная, старая. И тебя потянуло к этой паве.
- Хочешь, поклянусь Христом Богом, что и в мыслях не держал?
- О, не поминай имя Господа всуе. Да ещё по такому поводу. Он тебя покарает, покарает, я знаю! - И плакала.
Неизвестно, чем бы кончились эти постоянные стычки, если бы не новая беременность у княгини. Как и раньше в такое время, дочка Долгорукого становилась мягче, умиротворённее, посещала храм, жертвовала средства на монастыри. И теперь тоже загорелась мыслью основать при женской обители Варвары Великомученицы школу для девочек из богатых семей. Муж не возражал, даже обещал присутствовать на открытии. Он задумался только об одном: верно ли жена предлагает - вместе с первым набором взять и Янку с Настей. Обе подружились, за обеими присматривала Арепа, и владыка Галича не был уверен, надо ли столь круто изменять их быт - ведь занятия в школе требовали, чтобы ученицы жили в монастыре. Но княгиня настаивала: дескать, это станет хорошим примером для боярских семей, кто пока боится расставаться с дочками, - коли сам Осмомысл посылает воспитанниц, находящихся под его опекой! Чтоб не нарушать хрупкого спокойствия, воцарившегося в семье, Ярослав согласился. И пошёл лично сообщить о своём решении.
При его появлении девочки и нянька низко поклонились, а когда услышали о его высочайшей воле, сильно испугались. Старая половчанка сразу стала выть:
- Ой, да за что ж такая немилость, для чего ты нас разлучаешь, разрываешь сердце, в чём мы провинились, чем не угодили?
- Дура, замолчи! - рассердился князь. - Никакой немилости и в помине нет. А наоборот: в этой школе соберутся лучшие болярышни города, их обучат многим языкам, разбираться в древней истории и в священных книгах, шить да вышивать, управляться с домом. И любой жених впоследствии будет считать за честь взять себе такую образованную невесту. Так заведено в Киеве, и в латинских странах Иеропии, и в Царе-граде. Мы не хуже.
- Понимаю, батюшка, - утирала слёзы старуха, - но душа-то болит. Как я без нея, как она без меня? Да и к Яночке тоже прикипела…
- Не беда, привыкнете. По воскресным дням можно приходить в гости… А тебе, Арепа, я придумал новую обязанность: станешь обучать княжича и княжну половецкому языку, сказки им рассказывать, песни ваши петь. Тоже не без пользы.
Та благодарила, целовала своему господину руку, но по-прежнему не могла сдержать вздохов. А девицы отнеслись к новости по-разному. Дочь Берладника, круглолицая десятилетняя коротышка, с голубыми глазами-омутами, безразлично моргала, стоя истуканом. Но зато внучка Чарга - радостно, с улыбкой. Ей исполнилось тоже десять, и она походила на прекрасный лесной цветок - нежный, благоухающий, выросший без помощи садовника и поэтому не тепличный, а жизнестойкий. Чёрные глаза весело горели на продолговатом смуглом лице. В первое мгновение стала утешать пожилую наставницу, обнимала, гладила, а потом обратилась к князю - просто, без смущения, как к хорошему другу:
- - Вот ведь как чудесно! Я люблю учиться. Каждый Божий день открывать для себя что-то новое, важное и умное. Люди столько всего придумали! Страшно умереть, так и не узнав ничего из этого.
И опять Ярослав не сдержался, взял её головку в ладони, заглянул в зрачки и поцеловал в переносицу. Отстранившись, перекрестил и напутствовал:
- Сохрани тебя Бог, Настасья. Мы тебя привечаем. Будь достойна нашего внимания.
- Постараюсь, батюшка, мой свет, княже. Я люблю тебя и твоё семейство от всего сердца. И молюсь во здравие ваше.
Он кивнул и вышел.
Посетив открывшуюся школу, осмотрел учебную залу, вышивальные мастерские, трапезную, кельи, сад и огород при монастыре и остался доволен. Поблагодарил Ольгу за душевные хлопоты об устройстве этого дела и пожертвовал игуменье - матери Манефе - несколько серебряных гривен. На обратном пути подумал: «Отчего мои мысли неотвязно возвращаются к сей обители, школе, ученицам? Будто бы других забот мало! Отчего судьба крошки-половчанки трогает меня? Только ли в ея ангельском лице скрытая причина? Или в чём-то другом, более глубинном?» И не смог ответить. Может - побоялся.
3
Да, само собой, в письмах обо всём не напишешь (мало ли кому невзначай попадётся в руки пергамент!), и предусмотрительный Юрий Долгорукий остерёгся указать в послании к Ярославу главную причину своего радушного отношения к Ивану Берладнику. А причина была проста:
Ростиславов сын предложил суздальскому князю помощь в истреблении Изяслава. Для чего тратить средства, силы, воинов, чтоб ходить в походы, если можно тихо-мирно застрелить его на охоте или задавить в одрине подушкой? Риск велик, естественно, но игра стоит свеч. И Берладник брал его на себя - при условии, что, в случае воцарения Юрия в Киеве, он ему подарит Волынь. Правда, у Долгорукого были другие виды на обширное Волынское княжество, но решил согласиться: пусть сначала покончит с соперником, а уж там видно будет! И ударили по рукам.
Первое, что пришло в голову Ивану, это подменить Изяславу невесту. Ту должны были привезти из Обези (современной Осетии) на ладье через море и днепровское устье, а затем, у порогов, намечалась встреча с выехавшим из Киева пожилым женихом. Небольшим отрядом головорезов можно было бы напасть на охрану, перебить, настоящую царевну зарезать и, переодевшись в платья покойных, выдать за претендентку на место княгини специально привезённую из Суздаля девушку. Трудность состояла в последней: где найти такую, чтобы согласилась, не выдала, с мастерством сыграла иноземку-южанку и не побоялась убить своего «нареченного»? Нет, на подготовку ушло бы слишком много времени, а его как раз и не хватало. Шансы на успех оказывались ничтожными.
Что ж, тогда был придуман ещё один хитроумный план. У прославленных суздальских ювелиров заказали перстень - точную копию кольца с изумрудом, что принадлежал Петру Бориславичу (Ростиславов сын собственной рукой сделал по памяти набросок). И резную шкатулку. Написали послание - якобы от имени перемышльского боярина. И уговорили одного местного монаха, тощего, но крепкого, выдать себя за путника из Галицкой земли…
А тем временем Изяслав как ни в чём не бывало сочетался законным браком с осетинской царевной. В Обези её сватал старший сын великого князя - Мстислав Изяславич - и, как было намечено, три недели спустя появился с нею у днепровских порогов. А туда из Киева прискакал с многочисленной свитой отец. Девушке едва исполнилось восемнадцать, а державному суженому - аж на сорок лет больше, но ни ту, ни другую сторону это не смущало. Свадьбу отпраздновали пышную, а медовый месяц «молодые» провели в загородном сельце. Новобрачный чувствовал себя превосходно, вроде даже морщины разгладились на его бородавчатом лице, парился с женой в бане, а затем сигал нагишом в холодную воду Днепра - и хоть бы что. Прежних болезней не было и в помине.
Безмятежного настроения киевлянина не смогли испортить неприятные сообщения из Новгорода Великого: тамошнее вече, недовольное правлением младшего сына Изяслава, попросило его убраться, пригласив к себе для ведения дел князя из Смоленска. Изяслав тогда отдал младшему сыну Волынь, а Мстислава Изяславича посадил в Переяславле, чтобы тот ограждал Русь от степняков.
И когда 10 ноября доложили о приходе перемышльского странника, у которого на руках - грамота и подарок от Петра Бориславича, киевский правитель согласился принять его лично. Вышел на крыльцо, посмотрел со ступенек сверху вниз. Странник был худой и замерзший, с фиолетовым носом. Изяслав спросил:
- Как там мой приятель, жив-здоров ли? Поклонившись, путешественник произнёс:
- Нет, увы, свет мой, княже, уходя, я видал его на смертном одре. А теперь уж наверняка помер.
У владыки «матери городов русских» кончики жабьих губ опустились книзу:
- Ай-яй-яй, вот ведь незадача! Жаль беднягу. Что же он велел передать?
- Многие лета, добрые приветствия, сей резной ларец и письмо.
- Ну, тащи сюда. - Он вздохнул. - И благодарю, братец, за исправное исполнение воли умершего. Царство ему Небесное! А тебя покормят в людской. Будь здоров и ступай себе с Богом.
Сидя в горнице, новобрачный развернул грамоту. Почерк был неровный, дрожащий (явно человек нетвёрдо держал перо); а поскольку в те далёкие времена, по традиции, все слова писались без интервалов, слитно, разбиралось послание с трудом. В целом Изяслав понял, что его старый собеседник, чувствуя кончину, хочет попрощаться, выразить приязнь, пожелать всего наилучшего и на память об их задушевных разговорах подарить свой фамильный перстень. Князь открыл шкатулку: изумруд засиял загадочным, удивительным светом - смесь зелёного с голубым. Удержаться, чтобы не извлечь его из коробочки и не водрузить на один из пальцев, было невозможно. На руке кольцо смотрелось ещё прелестнее. «Красота, - восхитился новый его хозяин. - Пётр был чудак, но добрый и принёс много пользы. Стану носить подарок, не снимая». Приближенные повелителя Киева и его юная жена - тоже все отметили, что такую ценность мало кто из них в жизни видел, чем немало порадовали пожилого супруга.
Но спустя двое суток палец под кольцом посинел и заметно вспух, стал колоть и жечь. Перепуганный Изяслав попытался стянуть его с перста и не смог. Кликнули на помощь лекаря - тот сказал, что отёк не даёт изделию сдвинуться с места, надо отмачивать кисть в отваре тысячелистника. Процедуры, однако, не принесли облегчения, а наоборот, посинение и опухоль захватили другие пальцы. Вызванный мастер-ювелир стал распиливать перстень, но закончить ему не дали, так как князь потерял сознание. Первый раз, очнувшись, он проговорил: «Отрубите длань. Что моргаете? Больно жжёт», - и опять забылся. Во второе просветление у него из уст вырвалось: «Здесь Берладник! Разыщите, схватите! Смерть идёт за спиной Берладника!» Бросились искать, но, конечно, никого не нашли. Да и тощий монах сгинул уже давно.
Киевский владыка отдал Богу душу в ночь с 13 на 14 ноября 1154 года. Тело упокоили в церкви Святого Феодора при монастыре, что когда-то был основан его отцом - Мстиславом Владимировичем (сыном Мономаха). Траур длился несколько дней, и немалое число горожан, именитых и мало знатных, искренне плакали над могилой князя.
А потом встал вопрос о претенденте на трон. Первым был старейший из Мономашичей - дядя Изяслава, Вячеслав. Дальше следовал Юрий Долгорукий (тоже дядя, но младший), младший брат Ростислав Смоленский и троюродный дядя Изяслав Черниговский. И пошла-поехала катавасия: оказавшись на троне, Вячеслав вскоре тоже неожиданно умер, не проуправляв и семидесяти дней. Ростислав опередил Юрия и провозгласил себя киевским князем раньше. Но и он не закрепился надолго: вскоре, при поддержке половцев и киевских бояр, сбросил его Изяслав Черниговский. Просидел он не больше полугода; Юрий Долгорукий отписал ему грамоту (мы теперь бы сказали - «ультиматум»), где поставил вопрос ребром: или же черниговец добровольно отдаёт ему власть - и по старшинству, и по справедливости, - или пусть готовится к страшной битве. Перепуганный родственник не замедлил покинуть Киев. Наконец мечта тестя Осмомысла сбылась: он опять занимал престол Мономаха. Думал, что надолго. Вышло, что на год с небольшим.
4
Третьим ребёнком Ярослава Галицкого оказалась тоже девочка. По-славянски её назвали Верхуслава, а по святцам - Ирина. Первый же месяц жизни чуть не сделался для малютки последним: на дворе стоял промозглый ноябрь, кроху застудили, и она едва перенесла лихорадку. Но уже ближе к Рождеству совершенно поправилась, радуя родителей зверским аппетитом.
Радость приносили и старшие дети: Фрося лопотала вовсю, а Володя отличался прекрасной памятью, зная наизусть и народные песенки, и частушки, и не слишком мудреные молитвы. А с женой у владыки Галича хоть и происходили регулярные ссоры, но до крупных размолвок больше не доходило. Просто с каждым годом Ольга Юрьевна сдерживала себя всё меньше, от давнишней покорности ничего не осталось, и она была в доме полновластной хозяйкой, требовала, кричала, распускала руки по отношению к челяди. Все её боялись. Мужа ревновала, как прежде, он её ругал, а потом навещал одрину и доказывал делом, что не тратил сил с посторонними женщинами. Это на какое-то время примиряло супругов, но потом опять у княгини возникали новые подозрения, и она опять начинала донимать Осмомысла.
Тот спасался от семейных скандалов по-разному: уезжал на охоту, разбирал челобитные горожан, философствовал с отцом Александром или со своим наперсником Тимофеем. Давний вопрос о созыве боярского веча разрешил сурово: запретил устраивать сход, а зачинщику Феодору Вонифатьичу пригрозил острогом; оскорблённый вельможа удалился в свои владения, пробубнив в усы, что ещё с князем поквитается.
Близорукость правителя Галича, слава Богу, не усугублялась, но и так достигла приличной величины - и поэтому он, как правило, не ходил в походы, только направлял с Полками собственных воевод. Например, Избыгнев Ивачич отогнал от Ушицы половцев, взял под постоянный контроль Коломыю. А Гаврилко Василич попытался, по наущению Долгорукого, отобрать у Волыни Луцк, но кампания провалилась, и пришлось возвращаться несолоно хлебавши.
Тем не менее Долгорукий не успокоился и забрасывал зятя письмами: мол, должны навалиться на детей Изяславки и присвоить их земли. Осмомысл отвечал невнятно, неотчётливо представляя собственную выгоду. Переписка их длилась бы, наверное, долго, если бы не Юрий: он собрал немалое войско и уже в марте 1156 года выступил один. Ярослав был припёрт к стене: отсидеться у себя он уже не мог, а послать воеводу или тысяцкого во главе ополчения тоже не имел права - по тогдашним понятиям, это оскорбило бы киевского князя, главного среди остальных. И пришлось скрепя сердце собираться в поход.
Накануне отбытия посетил отца Александра в монастыре и покаялся на дорожку в грехах. А потом сказал:
- Страшно, отче: коль убьют меня в этих битвах, то получится, что и жил-то зря - не останусь ни у кого в памяти.
Духовник ему возразил:
- Сыне, ты печалишься зря: правишь по-христиански, понапрасну не губишь души людские, помогаешь сирым. Заложил несколько церквей. Но оно конечно: мог бы делать больше. И задумайся о сём. Коли не убьют, будет время приумножить свои старания.
- Ах, не знаю, не знаю, - грустно произнёс Ярослав. - Иногда руки опускаются от неясных мыслей. Для чего родился на свет Божий, в чём моё земное предназначение? Воевать, бороться с соседями? Это не по мне. Своего не отдам, но чужого тоже не трону. Продолжать учиться? Но в могилу не заберёшь ни богатств, ни знаний. Обучать других? Но когда другие не хотят просвещаться сами, вдалбливать им науки бессмысленно. Вот и получается, что брожу в потёмках.
Он сидел поникший: бледное лицо, тусклые глаза; с хрустом разминал холодные пальцы. Настоятель монастыря ласково ответил:
- Коли так рассуждать, выйдет, что вообще все живут напрасно. Но Господь не зря посылает нас в мир. Цель одна: возлюбить друг друга. Взявшись за руки, стойко переносить выпавшие трудности. Самому не пасть и спасти своих братьев и сестёр от падения, от невзгод, от нежданной смерти. Больше ничего. Нет иного смысла.
- Понимаю, да… И при сем иду на войну, чтобы убивать!
- Помоги кончить дело миром. Объясни Долгорукому тщетность его усилий.
- О, легко сказать!
- Что поделаешь, в жизни всё непросто. Надо уметь сражаться за свои убеждения.
По дороге домой Осмомысл завернул в женский монастырь Варвары Великомученицы и зашёл в келью матери Манефы. Та не знала, где его усадить, чем попотчевать, как приветить. Он от угощения отказался, ибо очень спешил, только задал вопросы, как живут его подопечные - Настенька и Янка. Настоятельница ответила:
- Слава Богу, примерно. Иоанна не слишком усидчива, часто отвлекается, но зато хватает знания на лету и способна без подготовки рассказать заданный урок. С удовольствием трудится в саду. А Анастасия преуспела в пении да чтении. У нея сильный звонкий голос, мы ея просим запевать. Девочка живая, весёлая, даром что из половцев.
- Половчанка мать, а отец-то русский…
- Приходил намедни.
- Кто, родитель?
- Да, он самый, Микита Куздеич.
- Что ему было надобно? - Князь заволновался.
- Возжелал дочку поглядеть и спросить, не захочет ли она переехать к нему домой. У него жена померла, а детишек нет. Из родных только Настенька и осталася.
- Вот чего придумал! Раньше знать не знал, не считал своею, а теперь опомнился! Без моей на то воли Настеньку не трогать!
- Уж само собою, - согласилась игуменья. - Я ему то ж сказала. Но увидеться им дозволила - под моим приглядом. Не чужие они, грех не допустить… Так молодка прямо ему отказала: ты, конечно, мой родитель по крови, но по духу мой тятенька - Ярослав Володимерич, и его люблю, как отца родного!
Осмомысл опешил:
- Да неужто такие слова и произнесла?
- Совершенно точно.
- Вот душа-то святая!.. Значит, отказала Куздеичу?
- Без обиняков.
- А Микитка на это что? Осерчал небось?
- Нет, горючими слезами залился.
- Ба, ба, ба! Ну и чудеса!
- Да и то, признаться: был не слишком тверёз - может, от сего.
- Не исключено… Кликни-ка Настасью. Надо попрощаться накануне похода.
- Сей момент пошлю, не тревожься, княже… Галицкий правитель не видал свою подопечную более полугода и весьма удивился происшедшей в ней перемене. В келью заглянула не девочка, но уже девушка, прямо-таки невеста на выданье, - стройная, подросшая сразу на несколько вершков, и уже с недетским выражением в магнетически-чёрных глазах; вместе с тем оставалась настоящим ребёнком - непосредственным, простодушным. Посмотрев на владыку, вспыхнула, смутилась, опустила веки с длинными ресницами, преклонила колени и коснулась тёплыми, влажными губами тыльной стороны его длани - машинально поданной для поцелуя. Чёрное закрытое платье до пят, белый глухой платочек, схваченный узлом сзади шеи, очень шли ей. А нечаянный завиток, выбившийся из-под платка, придавал ученице монашеской школы невообразимую прелесть. Князь, опомнившись, отнял руку и проговорил в некотором смятении:
- Поднимайся, душенька… сядь на лавку… неча на коленке стоять…
- Я не смею, княже.
- Ну так смей, коли я велю.
Девушка присела на край и смиренно положила руки на платье, снова опустила глаза. Он спросил:
- Как вы тут живете?
- Славно, благолепно. Лучше и мечтать невозможно.
- Слышал, что в науках прилежна?
- В меру сил моих.
- Будто бы отец тебя навещал.
- Да, намедни.
- Будто бы сказала ему, что меня любишь больше, чем его?
Та совсем зарделась, от волнения облизала губы:
- Мне ли не любить тебя, княже? Ты такой добрый, великодушный. Лучше всех других, с кем мне доводилось встречаться. О простых печёшься. Столько сделал для меня и для Янки! Я твоя раба по гроб жизни.
Ярослав рассмеялся не слишком естественно:
- Ой, наговорила с три короба! Даже неудобно. Это ж долг мой христианский - быть отцом всему сущему в Галиче… Вот иду в поход на Волынь. Может, не вернусь. Ты хоть вспоминай меня иногда.
Настя подняла взволнованные глаза:
- Может, не ходить?
- Нет, никак нельзя. Наш великий князь Георгий Киевский, что приходится тестем мне, призывает под стяги. Попытаюсь убедить его кончить миром, но не знаю, сумею ли.
- Убеди, пожалуйста! - И она сложила руки молитвенно. - Ведь война - это богомерзкое дело. Бог велит любить, а не убивать.
- Если б все правители рассуждали по-твоему!.. Вдруг она воскликнула с жаром:
- Коли ты умрёшь, мне ведь тоже ни к чему жить!
- Милая, окстись! Что ты говоришь? - изумился он. У неё из глаз побежали слёзы:
- Да, поверь. Кто тогда за меня заступится, приголубит и обогреет? Ни от матушки Манефы (многие ей лета!), ни от Янки, ни от прочих сестёр-послушниц, ни тем более от Микиты Куздеича - нет ни от кого мне такой заботы и ласки. Только от Арепы да от тебя! Княже, княже! Не погибай!
Осмомысл не выдержал, подошёл и провёл ладонью по её платку. Девушка упала перед ним на колени, стала целовать его сапоги. Сын Владимирки наклонился, взял Настасью под мышки, поднял, как пушинку, и поставил перед собой. Вытащил платок, вытер мокрые от слёз щёки, утешающе произнёс:
- Будет, будет, голубушка. Успокойся, ну! Этак не годится. Вон какие глазыньки ясные, пригожие - выплакать их жалко. Я тебе запрещаю, слышишь? Князя же ослушаться - грех большой. Ты со мною согласна?
- Как прикажешь, княже… - выдохнула она.
- Вот и превосходно. А теперь пора. Пожелай мне удачи, и распрощаемся.
Настя проникновенно посмотрела на него снизу вверх:
- Батюшка, мой свет, Ярослав Володимерыч! Береги себя! Возвращайся с Богом! Все мы молимся за твоё здоровье!
Он поцеловал её в лоб и стремительно вышел из кельи. А садясь в седло, приказал провожавшей его матери Манефе:
- О моём приезде - никому ни слова. Особливо - княгине Ольге Юрьевне.
Та склонилась в пояс:
- Понимаю… не беспокойся… онемею, как рыбица… (И конечно же продала князя с потрохами - на другой же день по его отбытии. Но об этом позже).
А владыка Галича, возвращаясь теперь в кремль-детинец, думал о Настасье. Всё никак не мог успокоиться, убеждал себя: «Что я в самом деле? Ведь она - дитя! Я отец семейства, христианин, не имею права даже помыслить… Ей четырнадцать, а мне двадцать шесть - вон на сколько старше! Нет! Забыть! Навечно! Вырвать из души с корнем!» Только жилка в мозгу билась непрестанно: «Любит, любит, любит!» И копыта лошади выбивали в такт: «Ах, как хороша! Чудно хороша! Нет ея прелестней!»
5
Ярослав с войском подошёл с юга к Владимиру-Волынскому и остановился в селе Хвалимичи. А затем с небольшой дружиной поскакал в Свинтусяхи, где расположился Юрий. Там они и встретились.
Тесть нашёл зятя возмужавшим, не такого болезненного вида, как семь лет назад, ещё более рассудительным, ну а зять отметил, что на тесте эти годы совершенно не отразились, разве что добавили жира - на щеках и на брюхе. Обнялись и расцеловались, сели полдничать - хлебосольно и неумеренно (с точки зрения Осмомысла), - поросятами с хреном, стерлядью, цесарками и ковшами вина. Долгорукий спросил:
- Пригласить ли Берладника?
Галицкий правитель чуть заметно поморщился:
- Дело, конечно, хозяйское… но вполне можем обойтись…
Юрий улыбнулся:
- Ну, задира! Чай, сражаться вместе. Ссориться негоже.
- Что уж ссориться, отче, коли ссора между нашими семьями длится больше четверти века!
- Вот пора бы и замириться!
- Как замиришься, если он убил моего родителя?
- Доказательств нет.
- Доказательств нет, что и мой родитель отравил Ростислава. Но, однако ж, знают об этом все.
- Надо положить конец распрям. Он в Волыни, ты у себя - заживёте дружно.
- Вряд ли, вряд ли: для него Волынь - только половина успеха. Он мечтает о Галиче.
- Мало ли чего! Помечтать невредно. Если на тебя сунется, мы ему укорот быстро совершим. Ничего не бойся.
- Не в боязни суть. Повода не нужно давать с самого начала.
Долгорукий, обгладывая крылышко цесарки, посмотрел на него исподлобья:
- Ты об чем, зятёк?
- Обложить Владимир-Волынский, припугнув тем самым Изяславовых отпрысков, и пойти на мировую с нашей выгодой. Юг Волыни присоединить к Галичу. Остальное же, меньше половины, будет их. А Берладника - в шею!
Киевский владыка сделался невесел. Бросив кости на серебряную тарелку, мрачно произнёс:
- Знаешь, Ярославе, мысли мне твои не по нраву. Коль пришёл воевать - воюй. А мириться с Изяславичами задумал - лучше убирайся обратно, не мути воду. Я и без тебя справлюсь.
Осмомысл быстро сдал назад:
- Нет, моё дело - предложить. И предупредить о последствиях. А уж ты решишь как великий князь. Ты отец нам, а мы - сыны. Подчиняемся твоей воле.
Юрий жадно выпил вина и утёрся ладонью. Понемногу оттаял:
- Так и быть, прощаю. Только впредь разговоров о мире не заводи. И с Ивана бери пример - он один, с голыми руками, выступит вперёд на Владимир.
- Я не сомневаюсь…
Вскоре Ольгин муж вернулся в Хвалимичи, чтобы не встречаться с Берладником. Но Берладник посетил его сам. Прискакал по вечеру и вошёл в избу к Ярославу как ни в чём не бывало, дверь открыв ногой. На пороге встал, криво усмехнулся:
- Примешь гостя? Иль велишь схватить?
Сын Владимирки ощутил внутри неприятный холод; руки задрожали, к горлу подкатил ком; проглотив его, прохрипел негромко:
- Мы гостей не вяжем. Коль пришёл - входи.
И велел принести вина, что-нибудь из снеди. А потом спросил:
- Прибыл по Гюргееву наущению?
Тот уселся за стол напротив, шапку снял и провёл ладонью по бритому черепу:
- Нет, учить не учил, но поведал о вашем давешнем разговоре. Я и захотел тебя повидать. Дабы устранить все неясности.
- Говори, слушаю внимательно.
- Ну, во-первых, о наших распрях. В части кровной мести мы с тобой расквитались: твой отец заплатил за смерть моего отца, а моя Людмилка заплатила за смерть твоего. Это дело кончено, больше не хочу жертв. И тем более знаю: ты приветил Янку, дщерь мою несчастную, я ценю по достоинству твою доброту. Нам с тобой делить больше нечего.
- Как, а Галич? - удивился его соперник. - Кто сулил меня уничтожить, если я посягну на княжество?
Ростиславов сын отрицательно помотал головой:
- Это было в прошлом. Мне нужна Волынь. Надоело зваться изгоем и прислуживать при чужих дворах. Стану полновластным правителем - ни на чьи уделы больше не посягну. Мирно заживём по-соседски. Мы же родичи, двоюродные братья.
- Был бы рад вельми. Но не слишком верю…
- У тебя нет иного выхода.
- Отчего ж?
- Оттого, что не хочешь враждовать с Долгоруким. Я с ним заодно. А не веря мне, ты повздоришь с тестем.
Ярослав задумчиво поболтал вином в кубке. Искоса взглянул на Берладника:
- Ну, допустим… Если мы посадим тебя княжить во Владимире, ты про Галич забудешь… Ну, а если нет? Если не посадим? На войне можно не добиться успеха…
- Я не сомневаюсь в победе. Изяславичам никто не поможет. А без чьей-либо помощи победить они не сумеют.
- Да, скорее всего. Ну, а если?
У Ивана побагровела толстая бычья шея и надулся шрам; серые глаза стали как у волка:
- Замолчи, братишка, или я обижусь.
- Обижаться неча. Сам же говорил: надо устранить все неясности. Вот и знать желаю: если не получится взять Владимир, будешь ли опять посягать на Галич?
Раздувая ноздри, тот какое-то время молча перекатывал желваки на скулах. Наконец изрёк:
- Повторяю для непонятливых: нет иного выхода. Либо я владею Волынью, либо убирайся из Галича. Мне в изгоях больше не жить. Осмомысл ответил:
- Что ж, спасибо за откровенность. Знаю теперь, как себя вести в случае провала похода.
- Интересно, как же?
- Сразу тебя зарезать, дабы сохранить вотчину. Гость расхохотался нарочито громко, но в зрачках его сверкала явная досада. Резко замолчал, рот утёр платком, встал из-за стола:
- Вот и поговорили.
Ярослав продолжал сидеть, глядя на противника близоруко:
- Бог тебе в помощь, брате. Я свои полки не верну и тебя с Долгоруким поддержу, как смогу. Но вояка из меня никудышный, ты ведь понимаешь.
Тот кивнул и вышел, слова не проронив на прощанье. На душе у обоих был какой-то липкий осадок. Каждый понимал: это не конец разногласий, а начало их нового витка.
6
В первые дни кампании им везло. Подойдя к волынской столице, Юрий встал против Гридшиных ворот, а со стороны луга, у Киевских, встал его зять. Вылазки осаждённых пресекала конница Ивана Берладника, а резервные полки возглавляли сын великого князя - Борис Юрьевич - и племянник Долгорукого - Владимир Андреевич. И ничто бы действительно не спасло город от измора, если бы не помощь из Венгрии. Оказалось, что Изяславичи вовремя послали гонцов к королю Гейзе и его жене Евфросинье Мстиславне, своей тётке, при дворе которой в воеводах обретался и дядя - Владимир Мстиславич. Он-то и пришёл на выручку племянникам. На него бросили Берладника и Владимира Андреевича. Общими усилиями удалось оттеснить венгров к югу, вдоль течения Буга, к городу Червеню. Те укрылись за крепостными стенами, и достать их оттуда не представлялось возможным. Сами жители Червеня, между прочим, поддержали венгров, а не пришлых киевлян и орали сквозь бойницы бранные частушки, проходясь по матушке Юрия Долгорукого. А когда однажды юный Владимир Андреевич, рассердившись, слишком близко подъехал на коне к городским воротам и потребовал их немедля открыть, так как именно он собирается править Червенем, кто-то из бойницы выпустил стрелу, и она вонзилась в не прикрытое доспехами горло витязя. Захлебнувшись кровью, тот упал с седла и повис на стремени. Испугавшийся конь понёс, окончательно добивая умиравшего всадника. Вслед за ним помчался Берладник; вскоре скакуна удалось поймать, но от головы племянника Долгорукого оставалась одна кровавая каша.
Смерть Владимира неожиданно подкосила самого великого князя. Он велел никого к себе не впускать, пил вино бочонками и всё время плакал. Наконец уснул, прохрапел часов двадцать, а проснувшись, объявил, что кампания кончена, воевать больше не желает и уходит в Киев. Ярослав, не веря своему счастью, горячо поддержал решение тестя. Лишь один Иван продолжал упорствовать, не хотел уводить полки от Червеня и едва не убил посланного к нему для переговоров Бориса Юрьевича. Но Борис обратился к воеводам помельче и благополучно отбыл к отцу чуть ли не со всей представленной ратью. Оказавшись под Червенем в одиночестве, с несколькими конниками, Ростиславов сын бросился на венгров, вышедших из города, чтоб померяться силой, и, конечно, не выдержал, отступил, потерял друзей, чудом вырвался из кольца врагов, поскакал, не разбирая дороги, на юго-запад, оторвался от погони, переплыв Сосновку, потерял коня и, оборванный, грязный, совершенно подавленный, день спустя появился у Перемышля. Постучал в ворота монастыря Архистратига Михаила и спросил, жив ли Пётр Бориславич, поселившийся здесь много лет назад, после взятия города галичанами. Да, ответили иноки, но давно болеет и уже не встаёт с постели. «Можно его увидеть?» - «Отчего ж нельзя? Добрым христианам грех отказывать в милосердии».
В келье старого учителя было полутемно и душно. Приглядевшись, Иван увидел, что его наставник, похудевший вдвое, неподвижно лежит на лавке, вытянув костлявые руки на простыне вдоль тела. И на пальце правой руки изумрудной искрой блистает перстень.
Наклонившись к лицу больного, ученик прислушался. Нет, боярин дышал, и Берладнику сразу стало легче - от того, что успел повидать Петра до его кончины. Тот, оказывается, не спал и, открыв глаза, глухо произнёс:
- Кто здесь? Кто пришёл? Посетитель назвался.
Складки на щеках у вельможи разгладились, почерневшие губы растянулись в улыбке:
- Господи, Иване!.. Как я рад вновь тебя увидеть!
- Да, и я, и я! - Он упал на колени и по-детски уткнулся лбом в тощее плечо старика. - Ты мой друг единственный на этой земле. Все меня покинули… Больше нет надежды…
Бориславич взял его за руку:
- Полно убиваться, дружище. Тридцать лет - разве это возраст? Самый цвет для такого мужа, как ты…
- Ах, не тридцать, а тридцать два, да не в этом дело… Я раздавлен, разбит и утратил веру. Ничего впереди не вижу… Только мрак один.
- Не греши на свою судьбу. И терять надежды нельзя. Я вот умираю, а и то надеялся - встретиться с тобою в последний час. И Всевышний внял мольбам моим. И теперь нет в моей душе скорби и тревог. Так и ты должен ждать и верить.
- Боже мой, во что? - Князь-изгой приподнял лицо, мокрое от слёз.
- В лучшее и светлое. Ты все годы жил мыслью об отмщении, черпал силы в злобе, тёмные вынашивал планы, и поэтому счастье обходило тебя стороной. Отрешись, забудь. Жизнь начни сначала. Праведную, добрую. Возвратись в Берлад - там твоя супруга и сын. Встреться с ними, стань заступником и главой семейства. В церкви помолись, исповедуйся батюшке. И тогда благодать, я уверен, снизойдёт на тебя, и поймёшь, чем заполнить остаток жизни.
- Уж не знаю, смогу ли. Всё внутри черно, будто пепелище…
- Вспомни о птице Фениксе, возрождающейся из пепла. Так и ты должен возродиться.
- Я, увы, не Феникс…
Говорили долго. Пётр Бориславич вдруг спросил:
- А который час нынче?
- Да уж полдень, думаю.
- Солнце высоко! А в моей распроклятой келье - словно вечер, сыро и темно. Очень хочется подышать свежим ветерком. Сделай милость, Иване, вытащи меня на простор.
- С превеликой радостью.
В прошлом грузный, похудевший пестун весил мало, и Берладник с лёгкостью поднял его с лавки. Нёс неторопливо и аккуратно, чтобы не задеть за простенки длинной внутренней галереи. Медленно сошёл по ступенькам, пнул подошвой дверь - и безумный солнечный свет брызнул им в глаза, ослепил, объял, тёплый ветер ударил в ноздри.
Сладостно зажмурившись, престарелый учитель пробормотал:
- Божья лепота! Господи Иисусе! Вот ведь благодать! - Он смотрел на милые, с детства знакомые поля, речку Сан и буковый лес на другом её берегу, лодки на воде, птиц над водою; он глядел в бескрайнее голубое небо и на белоснежные облака, улыбался и повторял: - Что ещё в жизни надо? Есть ли более весомое счастье?
Нежно посмотрел на ученика:
- Милый мой Иване… ты мне вместо сына… Как же хорошо, что мы свиделись!.. Чай, устал держать? Сделай милость, дай мне прикоснуться к земле.
Подогнув колени, тот неспешно посадил его у края тропинки.
- Тёплая, душистая! - восхищённо пролепетал старик, гладя землю ладонями. - Из нея мы вышли и в нея уйдём… Это правильно. В этом высший смысл. Мы - песчинки земли, мироздания, космоса, и негоже мнить себя царями природы, будучи песчинками. А гордыня - грех. Ибо так же бренна, как всё остальное. Мы песчинки, частички, но частички великого, необъятного и бессмертного! Целое немыслимо без частей, но и части без целого. Кто сего не понял - глупец! - Тихо улыбнувшись, он прикрыл глаза и, внезапно откинувшись, умер.
А Берладник, поддерживавший спину наставника, осторожно положил его на траву и заплакал в голос, неожиданно осознав, что любил Бориславича более отца своего.
Постоял, помолился, стоя на коленях, осеняя себя крестами.
Но потом, сразу успокоившись, снял с руки покойного изумрудный перстень и засунул себе в калиту[11], что висела на поясе. Встал и пошёл звать монахов, дабы те позаботились о теле усопшего и похлопотали насчёт похорон.
А отпев и похоронив старого боярина, Ростиславов сын вскоре скрылся из Перемышля. Путь его лежал на восток. Мудрые слова, сказанные Петром перед смертью, совершенно не просветили его. Он опять жаждал мести. И своей новой жертвой выбрал Юрия Долгорукого.
7
А Иванов план был довольно прост: устранить великого князя и тем самым расчистить место для нового - Изяслава Черниговского. Тот уж не спасует и пойдёт воевать западные земли - Галич и Волынь. Что-нибудь изгою непременно перепадёт!
Кое-как добравшись до Киева, он отправился в дом к боярину Петриле Громадьевичу, давнему противнику Юрия, и, назвавшись звенигородским странником, попросил о встрече. «Да скажите хозяину, - наставлял холопов, - что имею важные для него вести от опального Ивашки Берладника». Те пошли докладывать.
Вскоре гостю разрешили войти. Видимо, вельможа лишь недавно проснулся - был какой-то заспанный, с мятым, одутловатым лицом, борода всклокочена, волосы на пробор не расчёсаны. Запахнув домашний кафтан (на простых деревянных пуговицах-«кляпышах», но, как видно, пальцы ещё не слушались, и застёгивать его оказалось долго, а холопы привести одежду в порядок не успели), посмотрел на пришельца исподлобья:
- Кто таков? И какие вести?
Мнимый странник сделал шаг вперёд и стянул с головы мужицкую шапку:
- Аль не признаёшь? Киевлянин вздрогнул:
- Свят, свят, свят! Да неужто сам Берладник и есть?
- Ну, а то!
- Говорили, что ты повздорил с Гюргейкой и бежал в Берлад.
- Как бежал, так и воротился.
- Ведь узнают же - схватят.
- Коли выдашь - схватят.
- Я не выдам… - У него на лице возникло смущение. - Но пойми меня правильно: предоставить кров тоже не могу. Больно уж опасно.
- Крова мне не надо. Более того: ты меня схватишь сам и повяжешь, как полагается. Под конвоем и отправишь к Гюргею.
Челюсть у Петрилы отвисла:
- Ты в своём ли уме, Иване? Лезешь на рожон!
- Семь бед - один ответ! - усмехнулся тот. - Как-нибудь смогу отвертеться… А вот для тебя это будет козырь - заслужить доверие его светлости. Пригласить на пир… И попотчевать лучшими из яств… - Он извлёк из мешочка-калиты изумрудное кольцо с ядом.
- Ба, да это ж перстень покойного Изяслава Мстиславича! Он его в могилу унёс…
- Он унёс подделку, поразившую кожу злой отравой… не без нашей помощи… Здесь отрава тоже, но внутри, под камнем, и ея надо высыпать в питье…
Покраснев, Громадьевич замахал руками:
- Нет, уволь, этого не сделаю!
- Ты ж терпеть не можешь Гюргейку? - удивлённо посмотрел на него Иван.
- Ну, так что с того! Убивать-то зачем? Сам подохнет.
- Иногда не лишне помогать Провидению. Киевлянин упорствовал:
- Не возьму греха на душу.
- Ладно, не бери. Я, с кем надо, договорюсь. От тебя надобно одно: чтобы выдать меня великому князю и потом его пригласить на пир. Остальное устрою.
- Ох, не знаю, не знаю, однако, - продолжал качать головой вельможа. - Думаешь, получится?
- Меньше трепещи, и тогда выйдет в лучшем виде.
Вскоре Долгорукому слуги донесли: именитый боярин Петрила Громадьевич задержал у себя Ивана Берладника и велел свести того в княжеский дворец. Киевский владыка развеселился и сказал, что желает лично побеседовать с баламутом. Подкрепившись доброй чаркой фряжского вина, распушив усы и высморкавшись наземь (что тогда не считалось предосудительным), Юрий вышел во двор.
Начинался май, и окрепшее после зимней спячки солнышко жарило вовсю. На деревьях трещали клейкие листы. Споря с ними, заливались радостные птахи.
Под крыльцом стоял связанный Берладник - в зипуне я простых портах; на ногах его были сапоги, но не новые и поэтому просящие каши. Поглядев на задержанного, повелитель Киева произнёс:
- Ну, хорош, ничего не скажешь! Настоящий князь! Все кругом засмеялись. Но Иван ответил ему спокойно:
- Князь-изгой так и должен выглядеть.
- Ой, не прибедняйся. Если бы служил мне безропотно, то нужды б не знал.
- Как же не роптать, коли посулил подарить Волынь, а затем сбежал с поля боя как наскипидаренный?
Долгорукий нахмурился. Во дворе повисла напряжённая тишина. Наконец владыка проговорил:
- Подарю, подарю. Только не Волынь - тебе, а тебя - моему любезному зятю Ярославу. Пусть поступит с убивцей его родителя по закону. - И взмахнул перстами: - Уведите прочь, стерегите зорко. И немедля направьте в Галич гонца - пусть пришлют за Берладником людей, забирают к себе и делают что хотят! Он мне опостылел. Видеть не желаю.
Да, такой поистине царский подарок дорогого стоил. Осмомысл оценил его по достоинству и буквально в тот же день отрядил в стольный град небольшую дружину во главе с боярином Кснятином Серославичем, чтобы привезти узника в колодках. Но пока они добирались до Киева, там пошёл ропот: мол, каким бы ни был плохим Иван, выдавать его галичанам постыдно, не по-христиански. Долгорукий отмахивался от подобных мнений, гнал заступников из дворца, обрывая на полуслове. Те решили действовать по церковной линии и уговорили нового митрополита - грека Константина (он всего лишь год как приехал из Византии) - с несколькими игуменами достучаться до совести великого князя и спасти Берладника. Тут уж Юрий не мог не принять ходатаев, выслушал их сумрачно, а потом ответил: «Коли сам митрополит Киевский и всея Руси сделался заступником, вынужден смириться. Не отдам Ивана в Галицию. Но и отпускать не хочу. Пусть пока посидит у меня в остроге в Суздале. А потом решим». Так и сделал.
Пленного в колодках и в сопровождении восьмерых всадников повезли на телеге вдоль Десны на северо-восток. Двигались небыстро и, едва миновав городок Остер (он стоит при впадении речки с тем же названием в Десну), оказались окружёнными гридями черниговского князя. Те сказали: «Или вы отпустите его добровольно, или же отправитесь к праотцам». Караул сразу покорился и в момент разбежался кто куда. А с Ивана сбили колодки, разрешили сесть на коня, и во весь опор кавалькада поскакала в Чернигов. Там приезжих встретил князь Изяслав Давыдович и повёл в гридницу за стол. Улыбнулся гостю:
- Видишь, как просил, так и поступили. А когда ждать вестей из Киева?
Ростиславов сын рассмеялся радостно:
- Думаю, что скоро.
И не обманул: к вечеру 17 мая появился гонец, посланный киевскими боярами. И поведал о недавних событиях: Юрий Долгорукий побывал на пиру у Петрилы Громадьевича, а вернувшись, упал и умер. Отпевают его в Киево-Печерской лавре и должны похоронить там же, в церкви Спаса на Берестове. А по городу прокатилась волна избиений суздальцев - окружения великого князя и его приспешников; чуть не покалечили даже сына покойного, проживавшего во дворце, - Василия Юрьевича, - тот едва унёс ноги; но зато в сельцах за Днепром, где усопший проводил часы в неге со срамными девками, называя эти места земным раем, не оставили бревна на бревне, в щепки разнесли. И теперь городская знать призывает Изяслава Давидовича на княжение.
Удовлетворённый черниговец встал из-за стола, подошёл к Берладнику, крепко с ним обнялся, произнеся:
- Любо, Иване, любо! Ты мой первый друг и товарищ ныне.
- Дашь ли править Галичем и Волынью?
- Дам, конечно, разговору нет! Посажу в Чернигове Святослава Ольговича, а другому Святославу, Всеволодовичу, предоставлю Новгород-Северский, - оба за нас в огонь и в воду пойдут. Вместе с ними раздобудем на западе для тебя владения.
Тот склонился в пояс:
- Я сего не забуду до конца дней моих. - А потом поднял кубок и крикнул: - Слава новому великому князю киевскому!
И дружинники гаркнули в ответ:
- Слава! Слава!
Глава шестая
1
Перемены в Киеве потрясли Ярослава. Он, конечно, был немало унижен поведением тестя - посулить ему в подарок схваченного Ивана Берладника, а затем быстро передумать и отправить галицкое посольство во главе с Кснятином Серославичем домой, даже не особенно извинившись! Но внезапная смерть Долгорукого перекрыла эту обиду. Ситуация на Руси сразу изменилась не в пользу Осмомысла: он лишился главного своего защитника, покровителя и союзника. Старшие дети Юрия (те, что от матери-половчанки, прежде прочих - Андрей Боголюбский) относились к младшим (от матери-византийки), и к Ольге в частности, более чем прохладно. Оба Святослава - Всеволодович и Ольгович - продолжали лавировать, присоединяясь то к этим, то к тем. А Иван Берладник без конца науськивал нового великого князя на Волынь и Галич.
И в самой Галицкой земле было неспокойно: с юга давили половцы, с севера грозил старый недруг - Мстислав Изяславич и его дядя Владимир в союзе с венграми. А внутри колобродили бояре, помышляя опять призвать на княжение Ивана Берладника. Как спастись, усидеть на троне? Сын Владимирки лихорадочно искал выход.
Тут ещё семейная жизнь отвлекала мысли. Возвратившись домой из ничем не кончившегося похода, он узнал, Что в его отсутствие мать Манефа донесла жене о свидании с Настенькой. Ольга разъярилась и велела выслать мнимую соперницу в город Василёв, в тамошний женский монастырь Покрова Богородицы; заодно услала туда же Янку и Арепу. Встретила правителя благодушно, долг супружеский исполнила с жаром, но на следующее утро не утерпела и попробовала съязвить:
- Так ли я стара, что тебя тянет на молоденьких?
- Что? О чём ты? - полусонно спросил её благоверный.
- О твоей любви к Чарговой писюхе.
Тот едва не подпрыгнул на одре; сон как будто рукой сняло. Начал возмущаться:
- Что ты там несёшь? У тебя с умом, часом, не болезнь? А жена больше не могла себя сдерживать и ничтоже сумняшеся вывалила всё - и о донесении матери Манефы, и о ссылке опальных в Василёв. Потрясённый муж просто онемел. А потом с такой непрязнью вперился в супругу, что она даже испугалась: вдруг прибьёт? Но владыка Галича только задышал часто и проговорил с отвращением:
- Дура. Ненавижу.
Ольга засопела, прикрываясь простынкой:
- Ничего, остынешь. Мы обвенчаны по закону. Жить со мной обязан.
- Я верну сосланных тобою сегодня же.
- Не смеши людей. У тебя с боярами и без этого отношения скверные, не даёшь им веча. За любой предлог могут ухватиться. А супружеская измена - чем не повод? Феодор Вонифатьич спит и видит.
Он потряс беспомощно кулаками:
- Да пойми ты, глупая, - я ея как дочку люблю! Между нами ничего не было и быть не могло!
- Вот и хорошо. Пусть сидит подальше отсюда. С глаз долой - из сердца вон. Чтоб действительно ничего не могло случиться. Для твоей же пользы. О спасении тебя от греха пекусь.
Отвернувшись, князь ответил угрюмо:
- Не переборщи. Палку перегнёшь - я тебе умышленно изменю.
- А вот это вряд ли. Мне твой нрав известен. Можешь пасть по слабости, но не по злобе.
Осмомысл смолчал. И подумал только: «Плохо ж ты меня знаешь, дорогуша…»
Но заботы о судьбе княжества захлестнули его надолго. Ярослав вызвал во дворец Кснятина Серославича и велел собираться в дорогу:
- Снаряжаю во Владимир-Волынский. Будешь бить Мстиславу челом. И просить союза. Ведь поодиночке - и его, и меня - Киев разобьёт. А коль скоро мы сплотимся, да ещё призовём его дядю с венграми, тут уже Давыдович много раз отмерит, прежде чем отрезать - для Ивашки Берладника!
У боярина вспыхнули глаза:
- Княже, я любуюсь тобою! Ты нашёл единственно здравый ход. И скупиться на посулы нельзя - соглашусь на всё, что попросят волыняне.
- Злата, серебра, дорогих мехов дам с тобою не мерено.
- Я толкую не про богатство. Посулить им надобно Киев.
- Ба! Конечно! Молодец, Кснятине!
- Скинем Изяславку и посадим Мстиславку - тем обезопасим себя с трёх сторон.
- И тогда оба Святослава в нашу пользу заговорят.
- Кто бы сомневался!
Долгих две недели путешествовало посольство и благополучно возвратилось домой: с соглашением о взаимопомощи. Правда, сам Мстислав не хотел княжить в Киеве, но готов был расчистить путь для другого дяди, правившего в Смоленске; галичане не возражали. А ещё Мстислав предложил послать для начала в «матерь городов русских» пышное посольство от всех земель: если Изяслав выдаст им Берладника, виноватого в смерти трёх князей (Юрия Долгорукого, Изяслава Мстиславича и Владимирки Володарьича), то войны не будет; если же не выдаст - пусть пеняет на себя. Осмомысл после этих слов лишь развёл руками:
- И желать лучшего нельзя! Правду говорят: сам не знаешь, где найдёшь, а где потеряешь!
Кснятин спросил:
- А кого пошлёшь за Иваном? Надо, чтоб надёжный и знатный.
- Да вот хоть Избытка Ивачич - чем не родовит и не предан?
- Говорить-то уж больно не мастак.
- За него скажут остальные. А присутствие галицкого тысяцкого сделает посольство солиднее.
- Ладно, будь по-твоему.
Волыняне взяли на себя всю организацию предприятия. И сумели уговорить большинство князей. К Изяславу Давидовичу собрались посланцы не только западных земель, но и даже двух Святославичей, а ещё представители польского и венгерского королей, находившихся со Мстиславом в родстве. Санный поезд прибыл в Киев по весне 1158 года. Приняли их красиво, угощали отменно, одарили богато. Но на главный вопрос - о Берладнике - Изяслав ответил с недоумением:
- Да с чего вы взяли, что он у меня? Выдал бы его с превеликой радостью, но никак не в силах, бо ещё осенью возвратился в Берлад. И вообще - стоит ли о нём толковать? Кто такой Иван? Жалкий князь-изгой, никому не нужный. Ссориться с соседями из-за этой шавки? Я не уважал бы себя, если б сделал так. Словом, не взыщите. И расстанемся в мире.
Но Избыгнев Ивачич разузнал у своих киевских друзей: князь великий сказал неправду. Или - полуправду: сына Ростислава в Киеве действительно не было, но не с осени, а всего лишь с третьего дня - услыхав о приезде посольства по его душу, ускакал на юг, под прикрытие «чёрных клобуков» Кондувея. А когда представители разных княжеств разъедутся, то вернётся назад.
Прямодушный галицкий тысяцкий ляпнул на прощальном пиру во дворце Изяслава без обиняков: ваша светлость соврамши, стало быть, прощения просим, но придётся «пойти на вы». Глазом не моргнув, князь предупредил: ну, так пожалеете - одолею вас, шелудивых, Ваньку посажу на княжение, а иных нынешних превращу в изгоев! И расстались в ссоре.
Обе стороны начали усиленно готовиться к схватке. Киев попытался раскачать враждебную коалицию: отдал в вотчину Святославу Ольговичу крупные города - Мозырь и Чичерск; оба Святослава поклялись Изяславу в верности и пообещали поддержать его в случае войны. На совместном пиру в городе Лутаве даже написали грамоту Осмомыслу: если не пойдёшь против нас - мы тебя не тронем, если же пойдёшь - уничтожим.
Получив письмо, Ярослав переполошился. Он не знал, как себя вести - то ли оставаться в союзе с волынянами и совместно с ними выступить в поход не позднее июня, то ли отсидеться, потянуть время, выждать.
Тут ещё перехватили гонца, посланного Феодором Вонифатьичем в Киев, а при нём обнаружили послание, обращённое к Ивану Берладнику. Галицкий боярин призывал последнего поскорее отвоёвывать стол у проклятого Осмомысла, обещая прямо: «Как завидим у наших стен твои стяги - так отступим от Ярослава!»
Сын Владимирки приказал Гаврилке Василичу захватить Феодора, привезти в княжеский дворец в кандалах для суда и казни. Но боярин был предупреждён доброхотами и сумел вовремя исчезнуть. Ситуация складывалась опасная, отлучаться из города князь боялся, предпочтя этим летом на Киев не наступать.
И немедленно был наказан за трусость.
Потому что Киев сам напал на его владения. В августе 1158 года Изяслав и Берладник при поддержке войск Святослава Всеволодовича и половцев, миновав Чёртов Лес, захватили Теребовль и Коропец. Брошенная им навстречу дружина во главе с Избыгневом обратилась в бегство. Осмомысл послал Кснятина во Владимир-Волынский, умоляя помочь, сам же затворился в столице и почти не выходил из церкви Святого Иоанна, призывая силы небесные не позволить врагам одержать победу.
Целый месяц длилась осада. Наконец с севера ударил подоспевший Мстислав с дядей Владимиром и венграми. Изяслав и Берладник откатились к городу Василёву, возле стен которого и произошло решающее сражение. Бились крепко - с перерывами двое суток. Первым дрогнул Святослав Всеволодович: раненный в плечо, он велел своим полкам отступать. Вслед за ним отступили и половцы-турпеи. А под вечер 25 сентября окружение с Василёва было снято.
Ярослав, сопровождаемый Гаврилкой Василичем, поскакал в женский монастырь Покрова Богородицы. Было уже темно, и монашка-привратница, увидав в свете фонаря кавалькаду вооружённых дружинников, от испуга чуть не лишилась чувств. Побежали доложить матери-игуменье, та вскочила с постели, бросилась встречать дорогого гостя. Запылённый, нервный, он уселся в трапезной, от еды отказался, но вино пригубил и сказал, чтобы привели половчанку Арепу, Янку и Настасью.
Те вошли гуськом, поклонились, встали. Князь достал из мешочка на поясе отшлифованный изумруд и взглянул сквозь него на женщин.
Старая служанка сделалась седой совершенно, выпал последний зуб, и лицо изменилось, вроде его приплюснули.
Янка подросла, и в её чертах стало больше женского, от покойницы-матери; только узкие, плотно сжатые губы повторяли в точности выражение губ рассерженного Берладника.
Настя похудела; отблески горящих свечей делали её узкое лицо очень смуглым, удлиняли нос и усиливали глазные тени; вроде бы она недавно болела и ещё не успела прийти в себя.
Осмомысл прокашлялся и спросил:
- Что, Арепа, как вы тут живете?
- Слава Богу, батюшка, нас не забижают. Но, само собою, у тебя во дворце было много слащей. - Шамканье старухи выглядело потешно, отчего галицкий владыка сразу успокоился и повеселел.
- Ну, а ты, Иоанна, сожалеешь о чём-нибудь?
- Сожалею, княже, что войска киевлян не вошли в Василёв.
- Вот как? Почему же? - поразился он.
- Я б тогда смогла увидеться с тятенькой.
- А-а, понятно… Ну и что б ты ему сказала?
- Что такой муж, как он, недостоин жить. И воткнула бы ему ножик в сердце.
Настя перекрестилась, а у князя вырвался смешок:
- Так бы и воткнула?
- С удовольствием.
- Да ведь это грех - убивать отца!
- Он приносит людям только несчастья. Не отец, а диавол. И убить такого - благое дело.
Покачав головой, Ярослав заметил:
- Ну и мысли отроковицы!.. Аж мороз по коже!
- Да она дикарка вообще, - встряла служанка-половчанка. - Слушается плохо. И порой сестрицам-черницам непотребно дерзит.
- Старая доносчица, - огрызнулась Янка. Князь прикрикнул:
- Цыц! Разговорилась! Кто Арепу тронет - дело будет иметь со мною. И тогда шутки плохи!
Дочь Ивана потупилась. Осмомысл опять поднёс к глазам изумруд:
- Ну, а ты, Настасьюшка, что такая грустная?
- За тебя и за галичан тревожилась больно.
- Наложила на себя добровольную епитимью, - вновь пожаловалась Арепа.
- Что за епитимья, да ещё добровольная?
- Ой, она вечно перепутает! - засмущалась девушка. - Никакая не епитимья, а простой обет: жить на хлебе и на воде до победы наших. - И слегка поправилась: - До твоей победы, дорогой княже…
Сын Владимирки сделал вид, будто пропустил это уточнение, а вернее, тот акцент, что был сделан на словах «твоей» и «княже», и вздохнул печально:
- Нет пока победы. Вот когда возьмём Киев…
- Вы пойдёте на Киев? - встрепенулась Янка.
- Со Мстиславом Волынским решили тако.
- И отловите моего родителя?
- Коли Бог поможет.
- А тогда казните?
- Может, и казним.
- Жаль, что я сего не увижу. Вот бы посмеялась! Ярослав поднялся:
- Ты в себе ли, Янка? Слушать не желаю! Прочь поди, глупая охальница! Проводи-ка ея, Арепа.
- Слушаю, мой свет.
Оказавшись наедине с Настей, он приблизился к ней вплотную, чтобы видеть выражение глаз воспитанницы без шлифованного камня. И спросил негромко:
- Значит, вспоминала меня?
- Нет, не вспоминала, - помотала головой внучка Чарга, - ибо не забывала ни на мгновение. Все мои молитвы - только за твоё здравие.
Осмомысл дотронулся до её руки - маленькой, холодной.
- Ты замёрзла, душенька?
- Что-то зябко нынче… скоро месяц жовтень…
- Дай-ка я согрею. - И поднёс пальчики к губам. - Нежные какие… шёлковая кожа… - Подышал и, не выдержав, робко поцеловал.
Настенька стояла ни жива ни мертва, от волнения прикрыв веки. Продолжая сжимать тонкое запястье, повелитель Галича произнёс:
- Ольга подозревает нас… Оттого и велела выслать за тридевять земель…
У несчастной затрепетали ресницы:
- Ты меня вернёшь к матери Манефе?
- Нет. Не знаю. Ведь она наябедничала княгине.
- Бросишь снова тут?
- Может, на какое-то время… Уж не знаю, что делать. Перед Господом Богом я женат. И как христианин… не имею права… Но душа-то болит!
Он привлёк её худенькое тельце к себе и держал, обняв, точно дорогую реликвию. Девушка прижалась виском к его бороде, прошептала в ухо:
- Стало быть, и ты вспоминал?
- Часто, часто… Говорил супруге, будто между нами - лишь отеческая любовь… Но хочу признаться, что тебя люблю… не совсем как дочь…
- Ах! - воскликнула она. - Я умру от счастья!
- Ты ведь тоже любишь меня, голубушка?
- О, всем сердцем, княже! Я твоя всецело… Неожиданно Ярослав поник, отпустил её плечи, даже отстранился, пробурчал угрюмо:
- Нет, грешно, грешно… мой священный долг… у меня княгиня - жена… трое деток…
Настенька сказала:
- Я ведь и не хочу сделаться княгиней. Сё не мой удел. Просто быть с тобою - не больше.
- Ты не понимаешь! Бояре… точат на меня зубы… мы с тобой не можем… - Он взглянул на неё как побитый пёс. - Душенька, прощай! Нам не суждено быть вдвоём.
- Ошибаешься, суждено, - тихо проговорила она, густо покраснев.
- Что? О чём ты? - вздрогнул Осмомысл.
- Мне Арепа гадала.
- Ну? И дальше?
- Вышло, что мы будем точно муж и жена. И у нас сын родится.
- Я тому не верю.
- У нея гадания все сбываются. Испугавшись, повелитель Галиции замахал руками:
- Нет! Сему не быть! Вы с Арепкой - ведьмы! И нарочно приворожили меня!
Девушка закрыла лицо руками:
- Ох, какой навет! Господи, за что?
Но влюблённый князь продолжал безумствовать:
- Убирайся! Сгинь! Ты - исчадье ада! Я себя презираю! - И сломя голову выбежал из трапезной.
Встретивший его Гаврилко Василич выкатил глаза:
- Что такое случилось, батюшка, светлейший? На тебе лица нет!
Тот вскочил в седло:
- Едем, едем отсюда! Мы не можем медлить. Завтра снова в бой! - Он таким воинственным раньше не выглядел никогда.
2
Но, увы, до победы было пока что далековато. Изменивший на поле брани Святослав Всеволодович роли не сыграл: основную силу Изяслава Давыдовича составляли половцы - около двадцати тысяч всадников. Да ещё - дружина и ополчение Киева. У Волыни же вместе с Галичем рать не превышала пятнадцати тысяч. Вот и победи после этого!
Нет, разгром киевлян возле Василёва, безусловно, поел на пользу: неприятеля удалось прогнать с Галицкой земли. Но, пройдя Чёртов Лес, Изяслав Давидович и Берладник привели в порядок войска и закрыли путь на столицу. Не вступая с ними в новое сражение, Осмомысл и Мстислав повернули к югу, взяли город Белгород и замкнулись нем. Между ними и дружиной великого князя находился лагерь половцев. Если б удалось подкупить берендеев - дело было б выиграно! Возникал вопрос: что сулить и на чём сыграть?
Берендеи, или торки, тоже именовались «чёрными клоунами», но другим их крылом, не подвластным турпею Кондувею - со своими вожаками, зачастую враждовавшими друг с другом. Вот и в октябре - ноябре 1158 года, стоя между Белгородом и Киевом, половцы переругались между собой: Кондувей и Башкорд сохраняли верность Изяславу, не желали идти на мировую с Галичем и Волынью; но другие ханы - Каракоз, Тудор и Карас - были бы согласны уйти, если бы Мстислав наградил их богато, подарив несколько заманчивых городов. Споры заходили в тупик. И тогда ещё один командир берендеев, Кокен, взяв ответственность на себя, снарядил гонца в Белгород - с предложением о переговорах. Встреча не замедлила состояться. Вскоре соглашение было заключено, и довольные половцы той же ночью, даже не убрав походных палаток, ускакали в степи. Путь на Киев оказался свободен.
Изяслав Давидович, узнав о подобной низости берендеев, не желал поверить. Он схватил Берладника и помчался посмотреть на покинутый лагерь. Грустная картина открылась перед ним: догорающие костры, пологи шатров хлопающие от ветра, на земле - черепки, покрываемые мелким снежком… Словом, запустение.
- Что же это, Иване?! - с горечью воскликнул великий князь. - Наше дело проиграно? - И едва не заплакал.
- Нет, нельзя падать духом! - продолжал упорствовать Ростиславов сын. - Не имеем права! Киев не сдадим ни за что!
Но Давидович думал о другом:
- Я поеду к дружине, посоветуюсь с воеводами. А тебя прошу об одном: вывези из Киева княжичей, княжон и княгиню. Пусть пересидят в Вышгороде.
Между тем в стане киевлян поднялась настоящая паника. Воеводы, отвернувшись от Изяслава, сдали моментально без боя все свои позиции и вернулись в город. А Берладник уже не застал во дворце августейшее семейство: дети с матерью убежали, по слухам, то ли в Переяславль, то ли в Ропеск… Главный город Руси пал к ногам победителей.
Волыняне и галичане вскоре торжественно въехали в знаменитые Золотые ворота - самые широкие из остальных и самые неприступные для врагов. Сверху возвышалась многоярусная церковь Благовещения с позолоченным куполом, а народ толпился за высокими зубцами крепостной стены и размахивал шапками. Осмомысл, едучи верхом, то и дело поднимал руку с изумрудом и разглядывал сквозь него церкви и дворцы, вспоминал о своём прежнем посещении Киева - девять лет назад. Сколько же воды утекло в Днепре с тех пор! Сколько пережито и пройдено! И отца Владимирки больше нет на свете, Ярослав не тот юноша, что спасался от людей Долгорукого по подземным ходам и пещерам, он давно женат, трижды стал отцом и влюблён в прекрасную внучку Чарга… «Нет, о Насте больше не думать, - приказал себе галицкий правитель. - Это грех, а грешить я отныне не намерен».
Миновали Ирининскую церковь («о десную» - по правую руку) и Георгиевскую («о шую» - по левую), встали на площади у Святой Софии. Люди, теснившиеся кругом, пали ниц. На высокой звоннице загремели колокола, и навстречу двум князьям вышел митрополит Константин с многочисленной свитой. Победители спешились, получили благословение иерарха и отправились на молебен в собор; поклонившись могилам предков - Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха, вскоре проследовали на пир в княжеский дворец. Снарядили людей - сообщить Ростиславу Смоленскому о падении Изяслава Давыдовича и о том, что державный трон великого князя для него приготовлен…
Так была поставлена точка в бесконечной смене киевских владык: забегая вперёд, отметим - внук Владимира Мономаха Ростислав Мстиславич пробыл центральной фигурой на Руси целых восемь лет. Человек спокойный и мудрый, он всегда будет помнить, кто ему помог прийти к власти, добровольно уступив место, - любящий племянник Мстислав Волынский и расчётливый Осмомысл Галицкий. Он в долгу не останется и не раз поможет и тому, и другому…
Ну, а что же Берладник? Первое время князь-изгой оставался по-прежнему на службе у Изяслава Давыдовича. Вместе с ханом Башкордом помогал ему выгонять из Чернигова Святослава Ольговича, и победа была уже рядом, как пришедшие из Киева и из Галича войска расчленили рать нападавших и рассеяли их по окрестным землям. Тут дороги бывших союзников разошлись. Озверевший от этих неуспехов Иван убежал в Олешье, что в низовьях Днепра, сколотил, как в Берладе, банду из числа «бродников» - беглых смердов и нищих, начал грабить купеческие суда. Но терпеть подобное безобразие у себя под боком новый великий князь Ростислав Мстиславич не пожелал. Он собрал крепкую дружину, разместил их в ладьях-«насадях» и отправил вниз по течению реки. Киевляне с лёгкостью разбили разношёрстные группки головорезов и едва не отловили самого главаря. Но, как много раз до этого, князю-изгою удалось ускользнуть в последний момент. С ним бежали ещё несколько друзей. Миновав Днепровский лиман на дырявой барке-«кубаре», из которой без конца приходилось вычерпывать прибывавшую воду, храбрецы оказались в Белгородской крепости.
- Не податься ли нам в твой заветный Берлад? - обратился к Ивану новый его подручный - одноглазый Губан, от которого всегда пахло выгребной ямой, даже после бани. - Там, рассказывают, богато. Можно поживиться.
- Да, богато, - элегически согласился его предводитель, глядя в даль морскую. - Там жена моя, половчанка, и подросший сын. Ведь ему пятнадцатый год пошёл… Удивительно - пятнадцатый! Бреется, поди…
- Ну, тем паче! Что раздумывать?
- Ты не понимаешь, Губане. - Он скрестил руки на груди, сразу как-то набычившись; шрам на лбу выступил багровым шнурком. - Тут мои враги. Тут мой главный враг - подлый Ярославка. Тут моя земля! Вон за теми холмами - устье Южного Буга и уже Галиция. Я ея хозяин. Я, не он! И уйти, смириться, уползти, как побитый палками? Нет, скорей умру, чем признаю, что остался ни с чем.
- Так-то так, Иване, но откуда ж силы взять для войны с этим Осмомыслом? Ни людей, ни денег…
- Будет, будет всё! - повторил упрямо Берладник. - Недовольных много, и они побегут ко мне. Денег раздобудем - здесь живут рыбаки, мы обложим их данью… и купцов с товарами… А в Берлад - никогда не поздно. Это наша последняя гавань.
- Ну, гляди, гляди. Как решишь, так оно и будет.
- Значит, остаёмся. Коли сам недолго покняжу - то хотя бы сыну Ростиславу-Чаргобаю передам по наследству стол в Галиции. Никого иного не допущу. Пусть и не надеются.
3
В марте 1160 года Настенька и Янка, будучи ровесницами, справили своё семнадцатилетие. Обе сделались совершенно взрослыми: первая повыше, потоньше, с яркой красотой южной женщины, плавными движениями рук и гибкого стана; а вторая пониже, потолще, вылитая мать - синеглазая и курносая, перенявшая от отца грубоватость жестов и слов; внучка Чарга говорила высоким звучным голосом, а её подруга - низким и слегка вроде бы простуженным. И характерами они тоже отличались: половчанка жила чувствами, не умела их прятать, а зато русская всё держала в себе, говорила немного, поступала, заранее хорошо обдумав.
Старая служанка Арепа искренне любила и ту и другую, посвятив им жизнь, заговаривала болезни, отгоняла нечистую силу и следила, чтобы девушки не опаздывали на службы в церкви. Если и покрикивала порой, то не злобно, а просто строго, как и подобает наставнице.
Много раз Настенька и Янка обсуждали между собой, как себя вести дальше: оставаться в монастыре или уходить в мир? И, в зависимости от возраста, их обуревали разные мечты - то отправиться к половцам, кочевать вместе с ними по степям и делить добычу от набегов на русские селенья; то удачно выйти замуж за богатых и знатных молодых людей, нарожать детишек и вести хозяйство; то постричься в монахини, дать обет безбрачия и молиться за тех, кого любят. Но весной 1160 года Иоанна, отведя подругу в дальний уголок монастырского сада, где они работали, зашептала, чтоб никто из посторонних не слышал:
- Водовоз Брыкун мне сказал намедни: в Понизовье объявился родитель мой. С ним ватага бродников, и они орудуют возле Кучелмина. Я решила туда бежать.
- Как? Зачем? - испугалась Анастасия.
- Есть одна задумка, - сузила глаза дочь Людмилки. - Кое с кем надо посчитаться…
- Ах, опять ты за старое! «Мой отец такой, мой отец сякой, не прощу ему маменьку!» И не надоело? Мой отец, Микита Куздеич, тоже поступил с моей маменькой бесчестно - ну, так что с того? Я же не мечтаю его зарезать!
- Каждый рассуждает по-своему. Мне с отцом тесно на земле.
- Ну, сама подумай! Он - вожак разбойников, грабит, убивает людей. Как его найдёшь, как вотрёшься в их круг?
- И сомнений нет: назову себя, он меня и признает. Обживусь, привыкну, а потом - выпущу кишки.
- Ой, не говори, страх Господень! Слушать не желаю.
- …или отравлю…
- Перестань сейчас же! Гадости какие… Погляди сама, Божий свет каков: яблоньки цветут, пчелы прилетели, муравьишки выползли. Воздухом весенним нельзя надышаться! Разве же не чудо? И лишать себя этой прелести, думать о могильных делах? Ты его убьёшь, а тебя убьют те его дружки. И кому от сего станет лучше?
Дочь Берладника помрачнела:
- Маменьке-покойнице. Будет отомщена.
- Ну ведь глупо, глупо! Маменьке-покойнице станет Хорошо от того, что живёшь ты в радости, сытая, счастливая, а не рыщешь, точно бродница, по разбойничьим логовам. Говоришь азартно: «отомщу, зарежу»! А попробуй доберись до отца: по пути злые люди могут ведь прибить да и ссильничать тож. Вот уж угораздит тебя!
- Не накаркай, дура! - обозлилась Янка.
- Дура не дура, а тебе уйти помешаю.
- Интересно, как же?
- Расскажу о твоих намереньях матери-игуменье. И Арепке.
- Только попытайся! Сразу пожалеешь.
- Ой, а что такое?
- Отлуплю тебя, как последнюю сучку.
- Ты - меня? Да поди допрыгни, каракатица, клуша! Я тебе сначала выцарапаю глаза и волосья повыдергаю по одному!
- Погань половецкая!
- Воровское семя!
И, вцепившись друг в друга, дали волю рукам и ногтям, яростно сопя, плюясь и кусаясь. Рухнули на землю, принялись кататься. Наконец более проворная Янка повалила противницу на спину и, схватив за шею, начала душить. Настенька хрипела и дёргалась:
- Отпусти, погубишь!.. Глупая, отстань!..
- Попроси прощения.
- Ну, прости… пожалуйста…
- Поклянись, что не донесёшь на меня.
- Жизнью своей клянусь… задыхаюсь… ах…
- Не своею жизнью клянись, а любезного тебе Осмомысла!
- Нет… не стану… жизнью его - не стану!..
- Ну, тогда прощай. - И сдавила горло до последней возможной степени.
- Хр… шо… кл… сь…
- Что? Не слышу? Громче!
- Жизнью… Ярослава… пусти…
- Жизнью Ярослава клянёшься?
- Да!..
Иоанна разжала пальцы. Та хватала воздух губами, точно выловленный из речки пескарь. Утирала рукавом царапины на лице. Отползала прочь. И бубнила обиженно:
- Ну и полоумная… чуть не порешила… мерзавка… Дочь Берладника выглядела не краше, перепачканная в сукровице и соплях. Отвечала с нотками раскаяния:
- Ладно, не серчай, это я вспылила… Ты ж меня в гневе знаешь… ничего не помню, злоба застилает глаза…
- Знаю, знаю…
- Ну, прости, Настасьюшка. Не сердись, хорошая.
- Не подлизывайся - противно!
- Ты скажи, что простила, я и отлеплюсь.
- Вот ведь приставучая! Так и быть: прощаю.
Обе помолчали. Но потом Янка не без гордости задала вопрос:
- Но теперь уж веришь, что смогу убить? Внучка Чарга судорожно закашлялась:
- Верю, верю, очень даже верю!
- А сбежать отсюда поможешь?
- Как же не помочь? Я ж тебя люблю, дуру окаянную…
Было решено сделать следующее: подпоить водовоза Брыкуна (при обители, кроме сада, был ещё большой виноградник, и послушницы вместе с сёстрами во Христе сами изготавливали вино, зревшее потом в погребе), облачить Иоанну в его одежду и на водовозной подводе выехать за ворота города - в сумерках, под вечер, чтобы караульные на воротах не заметили такого обмана. Вряд ли бы этот план удался - слишком уж несбыточным он выглядел, слишком много условий надо было выполнить для его успеха, и реальных шансов оставалось ничтожно мало; но сама действительность помогла безумной мечте дочери Людмилки. Не успели девушки подступиться к своей задумке, размышляя над возможностью выкрасть у старицы, что заведовала хозяйством монастыря, ключ от винного погреба, как разнёсся слух: к Василёву подошло ополчение Осмомысла - князь пошёл воевать Берладника. И тогда Настенька отправила к Ярославу Арепу - с просьбой о свидании. На куске бересты накорябала так: «Божья раба Анастасия бьёт тебе челом. Окажи помощь Янке, и она поможет Галичу. Дай добро на встречу». Прочитав записку, сын Владимирки ощутил, как усиленно стучит сердце, рассердился на себя самого и, вспылив, накричал на посыльную:
- Что ещё за встреча, Арепка? Вы опять задумали меня соблазнить? Так сему не сбыться!
Та не знала, что и отвечать, кланялась всё время и шамкала:
- Ой, про что ты толкуешь, батюшка, мой свет, я не ведаю. Мы ж от чистого сердца преданы тебе. Ничего дурно го в мыслях и не держим… Он слегка смутился:
- Будет, не скули. Лучше-ка поведай, как живёте-можете?
- Да живём по-старому. Жаловаться грех, а и хвастаться особливо нечем. Слава Богу, что в здравии.
- Это верно. Девочки, поди, взрослые совсем?
- Взрослые, вестимо. Днями справили ужо семнадцатую весну.
- Охо-хо, семнадцатую! Годы так бегут, просто не угнаться… Настя хороша?
- Точно зорька ясная.
- Женихов-то нет?
- Да откуда ж взяться, коли мы сидим взаперти, в монастырских стенах сутки напролёт? А из мужеского рода видим токмо Брыкуна-водовоза!
- Понимаю, да. Ну, ступай, Арепа. Насте передай, что подумаю над ея челобитной. Может, и приму.
Ярослав как чувствовал: надо было дома остаться и послать в поход одного Ивачича. Ольга отговаривала его: не ходи, уймись, тысяцкий управится без тебя; после Рождества и Крещения перенёс лихоманку - вдруг опять застудишься? И детей-погодок не хотелось бросать - младшей скоро семь, а Володьке девять. Осмомысл подолгу с ними возился - обучал грамоте и счету, заставлял пересказывать гимны, сочинённые великим певцом прошлого - Бояном и передававшиеся изустно, а порою просто играл - в чижика и куклы. Отпрыски души в нём не чаяли.
Но внутри неотвязно билось: «Василёв, Василёв, Василёв…» И решимость не вспоминать, и желание навестить, вновь увидеть. Он, вполне возможно, справился бы с собой, никуда бы не ездил, если б не донесения с южных рубежей княжества: шайки бродников во главе с Иваном захватили Понизье, рыбаков и купцов обирают до нитки, похищают девушек, умыкают живность; и когда Кснятин Серославич обратился с вопросом, кто из воевод сможет навести там порядок, князь ответил: «Я». - «Сам пойдёшь?» - удивился печатник. «Да». - «Но ведь ты заверил Мстислава Волынского, что прибудешь к нему под Мунарев - сообща прогонять обнаглевших берендеев?» - «Нет, сначала Берладник». У боярина подскочили усы от улыбки: «Не причиной ли тому пава, что заключена в Василёве? Говорят, она тебе по сердцу пришлась?» Покраснев, Ярослав бросился на него с кулаками: «Сплетник! Пустомеля! Как ты смеешь, тля? Я тебя ужо взгрею!» - чем себя выдал окончательно.
А теперь, после разговора с Арепой, продолжал гадать: встретиться, не встретиться? Если встретиться, как себя вести? Вон уже болтают чего: записали Настю в его наложницы. Даже до отца Александра дошло. Он спросил на исповеди, накануне похода: «Обо всех ли грехах ты поведал мне, сыне?» - «Обо всех, владыка, от тебя не смог бы таиться ни в чём, даже в самом крохотном». - «А не в крохотном, а вполне приметном?» - «В чём же, отче?» - «Грех прелюбодейства не лежит на тебе? Люди бают…» - «Нет, клянусь, точно перед Господом: чист, невинен - телом и душой». - «Не грешишь ли в воображении? Ибо восхотеть чужую жену запрещал Создатель даже в помыслах своих». - «В помыслах грешил, - повинился князь. - Но давно отверг сии искушения. Всё забыто». Духовник усомнился: «Поостерегись, укроти лукавство. Мне солгать нетрудно. Но своей душе? Но Ему, который всё видит? Оправдаться сможешь ли в свой смертный час? » - «Я не знаю, отче…»
И теперь, в доме Василевского воеводы, совершенно потерял голову. Находиться от Настеньки на соседней улице и не сметь увидеть, выслушать её просьбу, просто угостить сладким пряником? Что он за властитель, раз всего боится - слухов, пересудов, смешков? Ярослав уж и в мыслях греха не держит - посему при встрече не приблизится к девушке совсем. Шага к ней не сделает. Будет говорить вежливо, но холодно. Как и подобает правителю. Ведь она не стала бы снаряжать Арепу по пустячному поводу! Долг его - принять, разобраться, оказать поддержку, позаботиться о благе подданной своей. Что же здесь Дурного? Это богоугодное дело…
И не мог решиться. Потому что знал, чем всё может кончиться.
И уже накануне выступления войск дальше - по течению Днестра ниже, к городу Ушице, осаждённому силами Берладника, Осмомысл не выдержал, кликнул паренька на Посылках, распорядился привести к нему из монастыря Покрова Богородицы их послушницу Анастасию… А когда уже отослал, чуть не передумал, не вернул с полдороги, и опять передумал - не вернул… Ждал, молился:
- Господи, прости! Обещаю Тебе: я ея не трону. Я люблю жену. Пусть у Ольги непокорный нрав и лицом не больно красна, телом не заманчива, но куда ж деваться? Я поклялся у алтаря ей не изменять. И детей люблю, а особенно - Фросю. Лапушку мою. Заиньку, цветочек. И Володьку тож, хоть он и шалун. Мне семьи иной вовсе и не надобно. Я любуюсь Настенькой просто со стороны - как красивой птичкой, как хорошей песней… Разве это грех? - И ведь понимал, что кривит душой, что его чувства глубже, шире, непонятней, и не мог их унять, и крестился, и причитал.
Даже вспомнил о давешних словах Владимирки, сказанных ему как-то на охоте: «Ты пока плохо представляешь, какова она - истинная любовь». Неужели он теперь представляет? Эти муки - и есть любовь?
Доложили о приходе Настасьи. Он уселся в деревянное кресло, волосы поправил на лбу, пододвинул ниже обруч-диадему. Проглотил комок, вставший в горле. И велел негромко:
- Пусть она войдёт.
В тёмных очертаниях возникшей фигуры Ярослав узнал свою ненаглядную. Вынул изумруд из мешочка, приложил к глазам. Пальцы у него чуть заметно тряслись.
Сердце затрепетало пеночкой в силке: «Господи Иисусе, как она прелестна! Сё Твоё творение, Вседержитель! Я, Твой раб, недостоин обладать сим».
Настя поклонилась, начала что-то говорить о записке-бересте, принесённой Арепой, извинялась за беспокойство. Он её прервал:
- О делах потом. Сядь, не трепещи. Хочешь ли вина? Девушка смешалась:
- Мы его не пьём, только причащаемся…
- Ты уже большая. И тебе позволено всё, коли это в меру. Я, пожалуй, выпил бы с тобою немного. Или не согласна?
- Воля твоя священна, княже.
- Ах, не говори столь витиевато. Ты да я - давние друзья. Вот и потолкуем по-дружески.
Вызванный слуга не спеша наполнил их кубки. Ароматное крепкое вино чуть кружило голову, помогало подавлять непонятную внутреннюю дрожь. Внучка Чарга сделала глоток боязливо, но потом расслабилась, даже улыбнулась.
- Ну, поведай о своей Янке, - разрешил правитель.
- Просит дозволения вместе с ополчением двинуться на юг.
- Те-те-те! Это для чего же?
- Воевать с отцом. Хочет отмстить за кончину матушки своей.
Ярослав скривился:
- Снова те же глупости! Нет, сие немыслимо. Женщины не ходят на брань.
- Но ея дома не удержишь. Собиралась сбежать, чтоб добраться до тятеньки и его зарезать.
Князь перекрестился, встал из-за стола и прошёлся, заложив руки за спину, взад-вперёд по горнице. Посмотрел задумчиво:
- Значит, говоришь, что полна решимости отомстить?
- Ни о чём другом больше не мечтает.
- Хм, занятно… Может пригодиться… - Из кувшинчика он подлил вина в кубки. - Так и быть, я ея беру. Выпьем за удачу похода и чтоб Янка возвратилась назад без единой царапины!
- Грех за сё не выпить. - Сделала ещё несколько глотков.
- Нет, до дна, до дна! - настоял владыка.
- Не могу больше, княже. У меня и так уже мысли вперемешку. ..
- Коль подруге ты желаешь добра, то нельзя оставлять ни малейшей капли. Есть такое поверье.
Девушка с трудом подчинилась. Неуверенной рукой отняла кубок от лица, понесла к столу и, поставив на край, уронила на пол. Захотела поднять и едва сама не упала. Осмомысл её подхватил, обнял, заглянул в беспомощные глаза. Пылко произнёс:
- Любишь ли меня?
- Больше, чем люблю. Ты моё светило…
- Станешь ли моею?
- Я почту за высшее благо.
- А не станешь ли раскаиваться потом?
- За мгновение любви твоей предпочту гореть в огненной геенне!..
Он шагнул к дверям и замкнул щеколду. А затем, вернувшись, опрокинул девушку на стол и с такой страстью овладел, что она, вскрикнув, удивилась: неужели это наяву с нею происходит? - и волна сладострастных спазм пробежала вдоль её позвоночника, замутила голову. Настя, изгибаясь, ощущая испарину, что-то зашептала невразумительно, закатила глаза и на пике судорог потеряла сознание. Но потом довольно быстро очнулась.
Князь стоял над нею, хлопал по щекам и смотрел встревоженно. Облегчённо проговорил:
- Слава тебе, господи, задышала! - И, прикрыв её наготу, быстро навёл порядок в собственной одежде.
Внучка Чарга села и схватилась пальцами за виски, так как всё ещё не могла избавиться от недавнего опьянения. Ярослав помог ей спрыгнуть со столешницы, притянул к себе, звонко поцеловал в губы. Улыбнувшись, заметил:
- Душенька, голубушка, ненагляда! Ты моя навек!
- Я твоя навек, - повторила Настя, вроде находясь в сладком полусне.
- Я построю для тебя дворец где-нибудь в Тысменице, окружу сотней слуг, искупаю в роскоши, наезжать стану каждый месяц или даже чаще.
- Или даже чаще, - согласилась она.
- И ничто нас не разлучит, ни земля, ни небо…
- Ни земля, ни небо…
- Потому что мы созданы друг для друга.
- Да, - ответила половчанка радостно. - Мы друг другу сужены Провидением. И Господь не накажет нас за эту любовь.
- Бог и есть любовь. Как же можно наказывать за себя самого?..
4
Целый год безраздельно правил Иван Берладник на бескрайних землях от Белгородской крепости до Ушицы, что находится чуть южнее современного украинского города Каменец-Подольского. С ним в союзе был и хан Чугай. Вместе они ограбили не один купеческий «кубарь», разорили не одну днестровскую и прутскую деревеньку, а рабов и рабынь запродали византийским грекам около пятнадцати тысяч. Все отребье стекалось к ним в отряды. Здесь была вольница, никакой работы, кроме разбоя, делай что хочешь и живи с кем попало!
Вскоре тут появился и боярин Феодор Вонифатьич. Он давно скрывался от суда Осмомысла, уличённый в измене, и давно хотел поменять в Галиче правителя. У Берладника он пришёлся ко двору, сделавшись вдохновителем Ивана и его печатником. Говорил, что Ушицу брать надо обязательно - ведь она ворота галицкого юга, отомкнув которые можно беспрепятственно двигаться на север, вплоть до Василёва. Но Губан резко возражал: воевать Ушицу - значит нарываться на большую войну с ополчением и дружиной князя, а такое столкновение неизвестно чем кончится. Лучше уж синица (в виде понизовской вольницы) в руках, чем журавль (Галицкое княжество) в небе.
И пока Ростиславов сын думал и гадал, что же предпринять, под Ушицу прибыл его сиятельный двоюродный брат во главе своей рати. Разделяла их одноимённая речка Ушица, впадающая в Днестр. Но ни та, ни другая сторона не пыталась её преодолеть.
В первую неделю противостояния счастье было на стороне разбойников: более 300 жителей городка и его окрестностей переплыли к Ивану, а с востока прискакали всадники, присланные Чугаем. Можно было атаковать крепость, как на лодке приплыл простой рыбак с грамотой от галицкого владыки. Прочитав её, князь-изгой побледнел как смерть.
- Что такое? - обратился к нему Феодор Вонифатьич в беспокойстве.
Тот ответил глухо:
- У него в заложницах дщерь моя, Янка. Коли не отступим, он ея убьёт.
- Не убьёт, пужает.
- Ты забыл, как с Людмилкой вышло? Хочешь повторения?
Феодор вдруг сорвался, заорал непочтительно:
- Ну, давай, Иване, сдавайся! Отводи войска, попрощайся с Галичем! Если ты такая кислятина, размазня и рохля! Если эта девка для тебя важнее княжения!
У Берладника на лбу вздулся красный шрам. Он схватил вельможу за бороду, притянул к себе и сказал сквозь зубы:
- Ты, ублюдок, пёс… Я, конечно, грешник и душегуб, но остатки совести не утратил покуда… в жилах моих течёт светлейшая кровь, не твоей чета… и губить своё дитятко не позволю!
Вырвавшись, вельможа проговорил:
- У тебя одно законное дитятко - Ростислав во Берладе. Остальными понасеяна половина Руси… Что ж, за каждого теперь печься?
Предводитель бродников произнёс, набычившись:
- Есть ли, нет ли - с ними не знаком. Дети не любви, но греха. А Людмилку любил всем сердцем. И она - меня. Дочку назвала именем моим - Иоанна. Нешто я злодей, позабуду это?
- Неужели отступишь?
- Да.
Вонифатьич запахнул кафтан, встал и вышел. Но потом вернулся и с порога с издёвкой бросил:
- Нет, перевелись князья на Руси. Два двоюродных братца - оба охламоны. Никому служить больше нет желания.
- Да пошёл ты, вор! - И Берладник бросил в него подвернувшейся под руку крынкой с молоком.
Но боярин дверь уж захлопнул, глина, врезавшись в дерево, брызнула черепками в разные стороны, молоко потекло на землю. «Так и жизнь моя, - горестно подумал Иван. - Разлетелась вдребезги, утекла, никому не принеся радости. Лишь пятно осталось, мокрое да грязное… Да, Губан оказался прав: надо возвращаться в Берлад. Бог противится моему стремлению править в Галиче».
Тем же днём он отвёл своих людей от Ушицы. Удивлённые половцы развернули коней и подались обратно к хану Чугаю. Вместе с ними уехал Феодор Вонифатьич. Лишь один Губан радовался этому повороту событий. Он, как мог, приобадривал главаря, уверяя, будто счастье их ещё впереди, на дунайских землях.
Неожиданно предводителю бродников доложили, что к нему по Ушице приплыла на челне какая-то молодица, уверяющая всех, что она - его дочка. Князь-изгой вскочил:
- Где же, где она?
- Тута дожидаетси.
В горницу зашла Янка - в кожаных штанах всадника, сапогах под колено и мужской куртке; мокрые её пшеничные волосы были перепутаны и висели сосульками. Он узнал эти голубые глаза и курносый нос - в точности Людмилкины; и себя узнал в выражении плотно сжатых губ.
- Здравствуй, отче, - вроде бы простуженным голосом пробасила она. - Не прогонишь ли?
- Господи, о чём ты! - И родитель раскрыл объятия. - Ну, иди ко мне, дай поцеловать моё чадо! - Заглянул в лицо. - Хочешь кушать? Я сейчас распоряжусь. Как ты добралась до меня?
- Убежала от Осмомысла и добралась, - дёрнула плечами она.
- Ну, садись же, садись. Ах, какая ты молодчина, что убежала! Мы теперь поедем в Берлад, я тебя познакомлю с мачехой и братом. И уже никогда больше не расстанемся, вплоть до самой смерти.
- Вплоть до самой смерти. - Дочка посмотрела в упор и, себя не сдержав, рассмеялась громко.
Но Иван не понял истинного смысла её веселья.
Глава седьмая
1
Обустройством дворца в Тысменице, по приказу князя, занимался его приспешник Тимофей. Он когда-то хотел стать попом и учился на богослова, но потом сбежал в Киеве из-под стражи, обвинённый в убийстве боярина (в пьяной драке) и пошёл во служение к галицкому Владимирке - в качестве прислужника-компаньона княжича. Отличался недюжинным умом и обширными книжными познаниями. Никогда не имел семьи, а детей Осмомысла боготворил и любил с ними заниматься. О случившемся между Настенькой и правителем он узнал в числе первых. Так сказал: «Коли есть любовь, это не Преступно. Венчаны не венчаны - дело второстепенное. Пусть меня попы за подобную крамолу ругают». И с большим увлечением взялся за строительство дома, где влюблённые могли бы встречаться. К осени хоромы были готовы, и слуга съездил в Василёв, перевёз бывшую послушницу и Арепу в новое их жилище. Внучка Чарга прыгала от радости, хлопала в ладоши и кружилась с Тимофеем по горницам.
Князь её проведал в сентябре и нашёл совершенно счастливой, беззаботной и намного более женственной, чем прежде. Всё глядел и не мог налюбоваться, как она щебечет, потчует его и ласкается, преданно заглядывает в глаза. А об их бушующих, ненасытных ночах, полных хмельно страсти, легендарный Боян мог бы спеть под гусли новый потрясающий гимн.
Можно сказать одно: оба обожали друг друга. Не могли расстаться. И клялись в любви при каждом прощании. Обещая дни считать до очередной встречи.
Но, конечно, княгиня не осталась в неведении - ей не преминули тут же передать. Интересно, что раньше, не имея оснований ревновать мужа, Ольга закатывала ему скандалы, плакала и ругалась. А теперь, зная точно - и о выстроенном дворце, и о переезде юной соперницы из монастыря в новый дом, и о частых свиданиях, - повела себя хладнокровно, твёрдо. Дождалась Ярослава с охоты (по его словам, он в Тысменицу ездил бить оленей и туров), заглянула в двери, поклонилась вежливо:
- Здравия желаю, с возвращением, Бог в помощь. Он ответил рассеянно:
- Благодарствую… Как вы без меня?
- Добре, добре… Ты, я вижу, поохотился всласть? Много настрелял дичи?
Осмомысл почувствовал, что в словах жены есть второе дно, и забеспокоился. Посмотрел с укором:
- Ты, никак, смеёшься?
- Я? Смеюсь? Да чего ты выдумал? Нешто мне дозволено над тобой смеяться? Просто я стараюсь шутить, чтобы не сказать лишнего.
- По какому поводу?
- О твоей охоте. Видно, очень тебе охота, что уже не таясь ездишь к потаскухе. Позабыв о долге, о моём достоинстве, о семье, о детях. Всё себе в охотку!
Князь пробормотал:
- Ты пойми, прошу…
- Понимаю, как же! - не дала ему досказать дочка Долгорукого. - У тебя присуха! Прикипел, прилип. Жить без нея не можешь. Свет один в окошке. «Милушка-зазнобушка»! Как поют в народе: пламень сердца и пожар души. Ничего не скажешь. Мне вот Бог не дал. И велел не глядеть на чужих мужей. Думать о твоём благе. Я и думаю. Говорю крыто: никаких обид. Полюбовница тебе всех дороже - оставайся с нею. Но меня больше не тревожь. В Болшев перееду вместе с детьми…
- Нет, детей не дам! У неё сузились глаза:
- Тут уж извини. Либо я и дети, либо эта краля. Третьего не дано.
Ярослав ломал пальцы с хрустом. Подошёл к окну, поглядел на двор. Тихо попросил:
- Погоди чуток. Не могу решиться.
- Я годить не желаю! - заявила Ольга. - Коли расставаться, так сразу! Сколько можно жилы тянуть, резать по живому? Назначай мне выплату, на которую я стану отдельно кормиться. Больше ничего не прошу.
Он вздохнул печально:
- Что ж, тогда разъедемся… Видно, суждено… Но учти: буду наезжать в Болшев постоянно, дабы видеть деток, говорить с ними и играть, дабы не забыли отца…
- «Не забыли отца»! - сморщившись, передразнила княгиня. - Да такого отца и забыть не грех, право слово!..
Их разрыв был воспринят в Галиче с осуждением. Многие считали, что владыка не прав. Даже Кснятин Серославич, самый преданный из бояр, близкий человек, управляющий канцелярией и хранитель печати, долго убеждал Осмомысла одуматься. Говорил, волнуясь:
- Что нашло на тебя, господина здравого? Помрачение разума? Приворот? Болезнь? Нет, понять могу - все мы не безгрешны и порой даём волю чувствам, изменяем супругам на стороне, - но семей не бросаем, возвращаемся в их святое лоно! Девки девками, а жена женой! И не надо путать одно с другим.
- Я не путаю, - мрачно отвечал сын Владимирки. - Я люблю Настасью. И своих детей. Ольга мне противна.
- Понимаю тож. Но князья, цари тут не в силах что-либо менять. Вы должны слыть примером для подданных. А уже шепоток пошёл: «Ярославка заговорённый», «половецкие ведьмы его охмурили»! Как бы не пошла смута.
- Это Вонифатьич и его люди распускают слухи.
- Очень может быть. Только семя брошено в благодатную почву! Галичане не довольны твоим поступком. И во имя замирения в обчестве должен ты прогнать полюбовницу, вновь объединиться с Гюргевной.
- Не могу. Не стану!
- Ну, а как толпа пойдёт на Тысменицу - жечь колдуний, испоганивших князя?
- Брошу на толпу конницу!
- Ну, а если конница развернёт удила супротив тебя?
- Кликну на подмогу половецкую чадь - Вобугревичей, Улашевичей и Бостеевых отроков. Постоят ужо за Чаргову внучку!
- Ох, опасный путь - стравливать православных и нехристей. Может завертеться такая буча, что костей не соберём после!
Галицкий правитель от отчаяния падал на колени перед образами и, сплетя пальцы, воздевал их к лику Богородицы:
- Помоги! Вразуми! Спаси!
- Замирись с женой, замирись с женой, - продолжал настаивать на своём Серославич.
Что уж говорить об отце Александре! Осмомысл ни разу его не видел столь несдержанным. Старец негодовал, потрясал кулаками и грозил проклясть, призывал страшным голосом:
- Во имя Отца и Сына и Святаго Духа одумайся! Повелитель тьмы искушает тя. Принял образ молодки-чаровницы. И завлёк в свои сети. Осознай, отринь. Замоли грехи, истово покайся. И тогда Бог тебя простит. А иначе - вечные муки в преисподней!
Ярослав подавленно возражал:
- Нет, неправда, Настя - не исчадие ада… Добрая и ясная, точно лучик солнца. Точно соловьиная трель! И к тому же она крещёная, ходит в церковь, соблюдает посты. А вина её только в том, что меня любит больше жизни. Разве ж сё погано?
- Геть отсюда, из чертог моих! - пальцем указывал на дверь духовник. - Видеть не желаю, слушать ереси. Станем говорить после возвращения Ольги в галицкий дворец. А теперь - ступай!
Сын Владимирки мог бы, разумеется, и побить его за неуважение к князю, вырвать бороду, бросить в яму (многие правители того времени мало церемонились с неугодными церковниками), но, как человек мягкий и незлобивый, не хотел даже думать о таком способе выяснения отношений. Только, повздыхав, уходил из кельи духовника.
Кроме Тимофея, лишь один боярин с пониманием отнёсся к страсти повелителя - перемышльский его наместник Олекса Прокудьич. За последние годы он слегка обрюзг, нагуляв солидный животик, а число собственных детей довёл до восьми. Старшего из отпрысков - девятнадцатилетнего Миколу Олексича - и привёз ко двору владыки, чтоб пристроить на приличное место в свите князя. Парень был плечистый, здоровый, но ещё теленок телёнком, опускал лаза и робел в присутствии Осмомысла, заливаясь красой. А родитель его расхваливал что есть мочи: мол, покладистый, исполнительный, не свистун, не бражник.
- Плод моей любви с жёнушкой Глафирой, - сообщил е без удовольствия. - От любви самые прекрасные дети рождаются. Потому как любовь суть добро и благо.
- Суть добро и благо, - повторил Ярослав. - Ну, а коль любовь незаконна? Не освящена Господом?
- Не бывает незаконной любви! - объявил вельможа. - Ибо нам ниспослана свыше. Ибо животворяща! Пасть в любви нельзя. Лишь возвыситься, сделаться мудрее и чище… Сам подумай, княже: дикари и нехристи любят не меньше нашего и детей рожают, может быть, проворней, чем мы! Стал бы Бог это допускать, если б осуждал, проклиная? Значит, дело не в вере. Я вот верую, что в любви, в истинной любви, в детях от любви, мы и приближаемся к смыслу бытия.
Ярослав приветливо улыбнулся:
- У тебя, смотрю, целая теория, как сказали бы греки!
- Почему бы нет? Чай, мы тут на Руси не дурнее прочих мудрецов!
- Ну, а сын твой какого склада? Книжник или воин?
- Отвечай, Миколка, - обратился к тому отец, - что тебе милее?
Теребя шапку, юноша ответил:
- Книг читал немало, но могу и мечом махать, коль нужда заставит. Помогал тятеньке по хозяйственной части - надзирать за плотниками и мостовщиками. Наводил порядок на гульбищах…
- Да, по части порядка на него можно положиться, - подтвердил Прокудьич.
- Любо, любо. Я поставлю его под начало Гаврилки Василича; ну, а выкажет себя в службе молодцом - сделаю седельничьим.
Оба благодарили, кланялись почтительно. Вызвав Тимофея, князь велел ему проводить юношу к Гаврилке, просветить по части галицких порядков, а тем временем стал с Олексой беседовать о делах. Спрашивал с тревогой:
- Что там Перемышль и Звенигород? Не бунтуют ли? Не желают ли отложиться из-за неспокойствия в Галиче?
- И-и, какое там, батюшка, мой свет! - заверял наместник. - Про твои здешние невзгоды я узнал только по приезде. Там у нас о раздоре князя с княгиней слыхом никто не слыхивал. А и то: милые бранятся - только тешатся. Наш народ это понимает.
- Говорят, Вонифатьич где-то объявился. А его влияние на бояр местных велико. Всяко может статься.
- Нет, о Перемышльской земле можешь не болеть: мы тебя не оставим. Я бразды держу крепко.
Ярослав сказал с благодарностью:
- Очень, очень славно! Надо бы тебя наградить, да не знаю чем. Назови - постараюсь выполнить.
Тот взмахнул рукой:
- Мне богатств не надобно, всё моё богатство - это дети. Разреши при монастыре Архистратига Михаила школу завести - и для девочек, и для мальчиков из богатых и просто зажиточных семейств. Им наука, и тебе вырастет подмога.
- Да о чём разговор! Заводи, бесспорно. Я пришлю много новых книг. - Он пожал ему локоть, с чувством произнёс: - Эх, Олексушка, милый, как мне не хватает башковитых помощников! Всё наперечёт - то туда, то сюда бросаю, а кругом одни беды да напасти! Только-только от внешних врагов отбились - глядь, внутри завелась зараза… Стыд!
- Потому как народишко тёмный и чего хочет, не разумеет. Надо просвещать! Сызмальства выкармливать деловых людишек.
- До всего руки не доходят. Но твои слова верные. При монастырях будем открывать школы, выпишем учителей из Царя-града. И собрания книг устроим, как у греков, - библиотеки. Только б денег на всё хватило!
- На такое благородное начинание урезать казну нежелательно.
Не успел Прокудьич ускакать из Галича, как примчался гонец от Настеньки. Та просила князя поскорее приехать: при смерти лежит, хочет попрощаться. «Господи, никак, отравили? - ахнул Ярослав. - Если она умрёт, я и сам руки на себя наложу». Несмотря на вечер и дождь, не раздумывая, отправился в путь - вместе с Тимофеем и рубаками Гаврилки Василича. Ближе к полночи были уже в Тысменице; мокрые, продрогшие, грязные, ворвались во двор Настенькиного дома.
- Как она? Проводи скорей! - бросился правитель к вышедшему дворскому. - Что, плоха?
- Бегали за батюшкой. Он ея соборует.
- Боже, соборует! Лекарь был? Говорил о чём?
- Лекаря у нас сроду не водилось, есть одна знахарка смышлёная, да Арепка никого подпущать к Настасье Микитичне не хочет. Акромя попа.
- Вот ещё паскуда! Я сейчас ей всыплю!
Пробежав по дощатой галерее, Ярослав распахнул двери спальни и увидел на одре свою ненаглядную: та лежала ничком, руки на груди, а дородный священник мазал ей елеем губы и виски.
- Настенька, любимая! Слышишь ли меня? - Князь рванулся к её постели, наклонил лицо к изголовью. - Это я, родная!
Приоткрыв глаза, та смотрела на него с отчуждением.
Но потом узнала.
- Батюшка, мой свет… - прошептала радостно. - Ты приехал! Вот как хорошо!.. Не серчай, что побеспокоили…
- Ай, о чём ты! Только поправляйся скорее.
- С Божьей помощью… Мне теперь, после елеосвящения, стало много легче.
- Слава тебе, господи! Я пойду надену сухое и вернусь к тебе.
- Приходи быстрей.
Обнаружив Арепу в смежной горнице, он едва ли не с кулаками набросился на приспешницу: отчего не пускает знахарку, отчего не лечит сама? Та сидела поникшая, вроде в полусне; отвечала невнятно, сбивчиво; но наследник Владимирки понял главное - силы свои потратила на спасение заболевшей и сейчас жизнь его зазнобы вне опасности.
- Что с ней было-то, говори скорее!
- Было, что и есть…
- Я не разумею.
- Твоего ребёночка носит под сердцем… первый месяц покуда… чувств лишается то и дело… ничего есть не может - всё наружу лезет… видно, сглазил кто… порчу я сняла, Настю заговорила… лучше всякой знахарки…
Осмомысл, счастливый от полученного известия, крепко обнял старую:
- Ты прости, Арепка, что журил тебя понапрасну. Я ж не знал, отчего Настасья недужна!
- Ничего, касатик, не извиняйся. Ты гляди сам не захворай: мокрый весь до нитки. В баньке пропотей да горячего вина выпей. А меня отпусти соснуть. Не в себе я что-то…
- Ну, иди, иди. Бог тебя спаси!
После бани он опять поднялся к подруге. Молодая женщина не спала и смотрела на него с умилением. Ярослав поцеловал её в щёку и почувствовал на губах вкус оливкового масла, сохранившегося после соборования. Произнёс негромко:
- Душенька, голубушка… Мне Арепка открыла тайну…
- Так ты, стал быть, знаешь? - засмущалась она.
- Знаю и спешу успокоить: я невиданно, несказанно счастлив.
- Правда, что ль?
- Правда, правда. Это дорогое и очень желанное для меня дитя…
- …но побочное.
- Но побочное… Отчество моё он носить не сможет. Ну, да что с того? Ведь необязательно быть наследным княжичем. Я его и так обеспечу как законного отпрыска.
- Или, овдовев, женишься на мне… Осмомысл усмехнулся:
- О, такие мысли грешны! Смерти никому не желаю, даже Ольге Юрьевне. И вообще, - иронично добавил он, - я подозреваю, что она переживёт нас обоих!
- Не накличь беды! Через левое плечо трижды сплюнь.
- Ох уж эти твои приметы! - Но повиновался и сплюнул.
2
Янка не ожидала, что отец обрадуется её появлению, и была немало обескуражена. Много раз она представляла, как свершается придуманное ею отмщение: нож под самую рукоятку в животе у Берладника, в крайнем случае - яд в бокале вина; и заранее приготовленные слова: «Ты упрёшь как червь, ибо никогда благородным не был!» Но фантазии рассыпались в прах от приветливых и весёлых слов Ивана, от гостеприимства и того неподдельного удовольствия, что блистало в его глазах при общении с дочерью. Он предстал в совершенно новом свете: не холодным убийцей, не зловещим татем, а неглупым молодцеватым дядечкой с белоснежной улыбкой и красивыми сильными руками. Идеально сидел в седле и за словом в карман не лез. После некоторых раздумий девушка решила с казнью повременить; съездит пока в Берлад и подышит воздухом половецких степей, поживёт, посмотрит, а потом видно будет.
Ростиславов сын объявил своим бродникам, что намерен искать счастья на Дунае. Кто захочет с ним - с радостью возьмёт; для кого Днестр краше и родней - зла держать не станет и отпустит с миром. И, в конце концов, с ним отправились полторы тысячи разбойников, остальные растеклись по южным рубежам Галицкой земли.
По совету Губана, поостереглись заходить во владения хана Чугая - тот держал обиду за невзятый город Ушицу. И поэтому двинулись не на юг, а на запад, к речке Сирету. А поскачешь берегом по её течению вниз - обязательно окажешься рядом с Берладом: ведь река Берлад и впадает в Сирет. Очень даже просто.
Одного не учёл Губан (заодно с Берладником): отношения болгар к беглым русским смердам. Ведь недаром же слово «сброд» одного корня с «бродником»! Не успели люди Ивана отвести душу в первом же попавшемся болгарском селе, поозоровать и поизмываться, как мужчины соседних сел их подкараулили и отделали почём зря. Загоняли в реку и нещадно топили. Ноги унесли человек четыреста. А по мере продвижения к цели шайка продолжала редеть: кто-то погибал в новых стычках с болгарами, кто-то уходил грабить в паре, в тройке, а кого-то убивал сам Берладник за непослушание. И к заветному городу подошли самые упорные и надёжные, около сотни, вместе с ними - Янка.
Несмотря на трудности, девушке понравилась эта жизнь - полная опасностей, рукопашных, скачек, вздыбленных коней и забрызганных кровью сабель; жар костра, обжигающе горячее мясо только что застреленного и зажаренного оленя; удалые песни, подожжённые соломенные крыши болгарских хат… Об убийстве родителя дочка больше не помышляла - он ей очень нравился, и она его почти что любила. Ростиславов же сын просто с ней носился, опекал во всём и держал в обозе во время схваток; но такую сорвиголову-то не больно удержишь - много раз она надувала телохранителей и, вскочив в седло, вламывалась в гущу сражения; получала от отца нагоняй, но гордилась своей отвагой, тем, что не отставала от мужчин-соратников.
А уже в Берладе ожидало Ивана грустное известие: половчанка Тулча, окрещённая Акулиной и обвенчанная с ним в православной церкви, умерла восемь лет назад. Но была жива ханша Карагай - мало постаревшая, всё такая же прямая и строгая; посмотрела на князя-изгоя с укоризной: где ж ты был, дорогой зятёк, отчего не прислушался к предсказаниям моего отца - чародея Чарга? Он, склонив голову, спросил:
- Сможешь ли простить? А она ответила:
- Я простить смогу. Но простит ли Небо?
За её спиной стоял пятнадцатилетний отрок, чем-то неуловимым в лице схожий с Настенькой; общая порода чувствовалась во всех - в Насте, в Карагай, в этом мальчике - тот же профиль, чёрные глаза, матовая смуглая кожа…
- Здравствуй, Ростиславе, - произнёс Берладник и шагнул вперёд. - Хочешь ли обнять блудного отца? Или тоже сердишься?
Наклонив голову почтительно, тот проговорил без какого-либо смятения:
- Мне сердиться не за что. Я тебя судить не могу. Коли странствовал столько времени, стало быть, имел вескую причину. Рад, что ты вернулся. И обняться могу с превеликой радостью.
Ханша не препятствовала этому порыву родственных чувств, только наблюдала со стороны с плохо скрываемым недовольством. Наконец, мужчины наобнимались, разглядели друг друга как следует, и Иван сказал:
- А теперь я представлю вам дочь мою Янку - Иоанну. Я любил её матушку, Людмилу, сидючи в Звенигороде, до побега из Галича, до венчания с Акулиной. И не знал о её рождении. После многих лет, после страшной и безвременной Людмилкиной смерти, мы соединились. И, Бог даст, надолго. Будьте с нею как с равной, привечайте, как я. А коль скоро кто обидит Янку, дело станет иметь со мною.
Девушка заметила гордо:
- До тебя дело не дойдёт, мой любезный тятенька: за себя постоять сумею и обидчики от меня получат весомо!
Все заулыбались, даже Карагай. А Иванов сын, протянув руку единокровной своей сестре, произнёс по-доброму:
- Разреши мне по-братски поцеловать тебя, Янка. Я всегда тужил, что расту один. И поэтому радуюсь вельми твоему обретению.
- Да, и мне неплохо, - подтвердила она. - Я жила взаперти в женском монастыре и внезапно вырвалась на свободу, а к тому же заполучила столько милых родичей! - И, как старшая, с долей снисходительности, щёку подставила, чтобы Ростислав-Чаргобай её чмокнул.
Словом, поселились под одной крышей.
Городишко Берлад чем-то напоминал Василёв: небольшой, в меру грязный, с православным храмом и монастырём, узкими горбатыми улочками и гусями в пруду. Янке он не слишком понравился, и она бы затосковала, если бы не дружба с братом. Чаргобай к ней благоволил, приглашал кататься на лошадях и показывал местные красоты. Между делом говорил откровенно:
- Я в Берладе долго не засижусь. Здесь - медвежий угол, «берлога», дикари, светлой дали не видно.
- И куда подашься? - спрашивала девушка.
- Для начала - в Константинополь. Или ты не знаешь: наша с тобой двоюродная бабка Ирина-Добродея - тётя ныне правящего императора?
- Ох, неужто? Не знаю.
- Да, представь себе. Прадед Володарь трёх имел детей: старшего сына - Ростислава, нашего с тобой деда, в честь него меня и назвали; среднего - Володимирко, от которого произошёл Осмомысл; и Ирину-Добродею, дочку. Вот её-то и выдали за принца Исаака Комнина, дядю императора. Правда, тот скончался четверть века тому назад. Но она-то жива-здорова!
- Верно знаешь?
- Верно. Спрашивал заезжих купцов. Проживает в загородном поместье и ругается с сыном Андроником, страшным женолюбом.
- Женолюбом, ха! - посмеялась та. - Да ведь он, наверное, тоже пожилой?
- Нет, немногим старше нашего отца. Значит, чуть за сорок.
- Вот ведь интересно! Ну, приедешь - и что? Скажешь: здрасьте, я внучатый племянник! А они: не желаем знать, прогоните прочь!
- Нет, не думаю. Ибо мне от них ничего не надо - ни жилья, ни денег; лишь замолвить одно словечко при дворе императора, чтобы взял на службу. Послужу, проявлю себя по достоинству и войду в доверие. Захочу - останусь в Царе-граде, захочу - поскачу на Русь, требовать себе вотчины. У меня не меньше прав на Галицию, чем у отпрысков поганого Осмомысла!
Янка сдвинула брови и произнесла холодно:
- Ну, во-первых, Осмомысл не поганый, а очень добрый. То, что он в раздоре с нашим родителем, не вина его, а беда. Ярослав отнёсся ко мне отечески, приютил, приветил, воспитал при монастыре. Я ему за сё вечно благодарна… Во-вторых, на Русь соваться тебе не след: коли батюшка ничего не смог, ты, я думаю, и подавно не сможешь. Там сильны боляре. Только те князья управляют, за кого большинство боляр. А тебя, с чужбины, вряд ли кто поддержит.
Ростислав молчал, перемалывая в уме сказанное сестрой. Наконец ответил:
- Поживём - увидим. Что вперёд загадывать! Первым делом надо пробиться в Константинополь…
- И когда поедешь?
- Вот весной шестнадцать исполнится - и тогда решусь.
- Может быть, вдвоём?
Натянув поводья, он остановил рысака и уставился на неё испуганно:
- Тоже хочешь?
- Почему бы нет? Мне одной в Берладе сделается скучно. А увидеть Царь-град… «Рим второй»… и столицу православного мира!.. Разве плохо, разве не заманчиво? Помогу тебе на первых порах, а потом, Бог даст, выйду замуж за богатого грека. Лучше на Босфоре, чем в Василёве!
- Да, наверное, ты права. Надо всё обдумать как следует…
Но обдумать не получилось: город внезапно атаковали сыновья болгарского князя Бориса - Фёдор и Асень. Началась осада, длившаяся полторы недели, и берладники, плохо вооружённые, не умеющие вести длительных сражений с хорошо обученными войсками, начали сдаваться. Почерневший Иван призывал их к сопротивлению, не смыкая глаз, днём и ночью метался от бойницы к бойнице, сам участвовал в отражении штурма, но не смог в конечном итоге изменить положения. Неприятель оказался в Берладе.
Ханшу Карагай пощадили: половцы в ту пору были союзниками болгар и расправу над вдовой знаменитого хана Кырлыя им бы не простили. Но зато Ивана и его детей взяли в плен. На телегах, в колодках, повезли на юг, в древний болгарский город Тырнов, чтоб затем продать в рабство византийцам.
3
Жизнь в уютном Болшеве протекала размеренно: поднимались довольно поздно, кушали неспешно, расходились по горницам - дети на занятия, а княгиня толковать с тиуном о хозяйских делах либо принимать посетителей. Завела дружбу с попадьёй Матрёной и ходила с ней часто париться в баньку. Ездила молиться в женский монастырь Великомученицы Татианы, жертвовала ему средства. И ждала известий из Галича - не одумается ли князь, не решит ли восстановить погубленную семью?
Дети Осмомысла относились к разрыву родителей по-разному. Младшая Ирина-Верхуслава как-то равнодушно - то ли в силу непонимания (ей недавно исполнилось только семь), то ли в силу своей меланхоличной натуры; на уме у неё были только яства - девочка любила вкусно поесть. Фрося, средняя, слывшая всегда «тятенькиной Дочкой», «Ярославной», очень переживала за князя; добрая, порывистая, то и дело плакала, спрятавшись в какой-нибудь тёмный уголок; а когда Ольга начинала при ней обливать мужа грязью, сильно обижалась, затыкала уши, иногда даже убегала; мать она любила не слишком, и в душе считала, что с такой сварливой женой грех не разойтись. Но зато Владимир-Яков целиком был на стороне брошенной родительницы. Внешне он во многом походил на отца: худощавый, бледный, с негустыми светлыми волосами; но глаза и мясистый нос приобрёл у матери. Для девятилетнего мальчика он искусно говорил и неплохо читал, но науками занимался без вдохновения, вроде через силу. Им предпочитал возню с кошками, собаками, кроликами, птичками. Лошадей не любил, а вот мелкой живностью тешился, мог с утра до вечера обучать скворца говорить человечьим голосом или заставлять дворового пса прыгать через палку. Но бывали дни полного равнодушия ко всему; княжич куксился, не хотел пить и есть, огрызался на окружающих и смотрел, уставившись в одну точку. И среди старых слуг, знавших о причудах его деда, князя Владимирки, крепло убеждение: внуку свойственна та же меланхолия, что передаётся по мужской линии через поколение, - времена помрачения разума.
У княгини первенец был любимчиком. Верхуславу-Ирину она не жаловала и покрикивала порой, чтобы та меньше ела. К Фросе-Ярославне тоже относилась с предубеждением, часто придиралась. А зато сына боготворила, целовала, гладила и, была б её воля, до сих пор бы давала грудь. И юнец пользовался обожанием матери, без конца капризничал, зная наперёд, что малейшие его прихоти выполнят немедленно. Повторял вслед за Ольгой: «Наш отец - иуда, разлюбил жену и детей и поддался ведьминым чарам, продал душу нечистому. И за сё ему гореть в вечном пламени». А когда Ярославна, слыша это, со слезами в глазах кричала: «Сам иуда, сам! О любезном тятеньке такое не говорят!» - мог её ударить.
Ближе к Рождеству Болшев посетил Феодор Вонифатьич. Он приехал под вечер и зашёл с заднего крыльца, чтобы не мозолить глаза окружающим; а поскольку о встрече с княгиней договорились заранее, то она приняла мужнего врага без сомнений. У себя в покоях усадила за стол, угостила брагой, выпила сама и внимательно выслушала. А вельможа говорил об одном: надо отстранять Осмомысла от власти и провозглашать Владимира князем; а пока тому не исполнится восемнадцати лет, править будет Ольга - при его, Вонифатьича, поддержке.
- Как же отстранишь? - спрашивала Юрьевна, промокая платком выступивший пот. - За него Гаврилко Василич и надёжные гриди, Ярославку в обиду не дадут.
Тот смотрел с прищуром. У него было хитрое лицо зайца, а передние верхние резцы, длинные, с расщелиной, упиравшиеся в красную нижнюю губу, придавали сходству полную законченность. Чмокая, давал пояснения:
- Без Гаврилки Василича обойдёмся. Вон Избытка Ивачич колеблется. Ваш раздор ему явно не по нраву. Он пока не решился изменить тем словам, что давал, присягая сыну Володимерки. Но его мы живо уломаем, недотёпу, дурня.
- Ну, допустим, всё у нас пройдёт ровно бы по маслу. Как поступим с опальным князем? Пострижём насильно в монахи?
- Лучше бы - того… - Феодор откровенно провёл указательным пальцем по горлу.
- Нет, ни в коем случае! Запрещаю, слышишь? Сокрушённо покачав головой, Вонифатьич предупредил:
- Ох, своей добротою, матушка, мой свет, ты погубишь дело.
Но упрямая Долгорукая проявила твёрдость:
- Никаких убивств! Коли не захочет ко мне вернуться - станет иноком. А иначе и со мною у тебя разговора не выйдет.
Он ответил грустно:
- Подчиняюсь, княгинюшка, подчиняюсь. Ты мне выбора не даёшь. Но потом уж не сетуй, что тебя не предупреждали о возможных последствиях твоего милосердия…
Это посещение выбило жену Ярослава из колеи. До утра она не сомкнула глаз, то ворочалась на одре, то, накинув шаль, мерила шагами спальню и крестилась, глядя в красный угол, где горела лампадка. Ей конечно же очень хотелось досадить мужу, посрамить его и унизить; но такую ответственность взваливать на себя - Галицкое княжество! - с внешними и внутренними врагами, неурядицами, только-только поднимающимся хозяйством, - сможет ли, осилит ли? А случись война? Половцы нагрянут? Венгры набегут? Где искать защиты? Кто придёт на помощь? Хорошо было за спиной у супруга, тихо, безмятежно… Не рискует ли она жизнью, соглашаясь на сговор с необузданным Феодором? Может, посидеть, потерпеть, помолчать в тряпочку и дождаться замирения с князем, проглотив обиду? Ну, бывает: загулял, разбуянился - всё-таки мужчина, падкий на соблазны, - эка невидаль! - приползёт, покается. И простить, и начать с чистого листа?
В этих мыслях и застал Юрьевну рассвет. Вышла к завтраку с покрасневшими веками, молчаливая и рассеянная. Ела творожок без обычного аппетита, запивала молоком как-то безучастно. Лишь прикрикнула на младшую Ирку, пожелавшую новую порцию сметаны со ржаным хлебом:
- Неча, неча, погляди на себя, душа моя: скоро станешь как колобок, щёчки треснут!
Фрося рассмеялась, а сестра надула толстые слюнявые губы.
- Ну, поели с Божьей помощью? Кыш тогда отсюда, живо заниматься! - Задержала Володю-Яшу, провела ладонью по его белым волосам и сказала, любуясь: - Взрослый уж совсем… настоящий князь… Хочешь править Галичем?
Тот пожал плечами:
- Ну, как подрасту… я пока не думал. А что?
- Ничего, ничего, беги.
И опять погрузилась в раздумья.
Неожиданно доложили: прискакал нарочный от Кенятина Серославича (у печатника и княгини был секретный уговор: если новости случатся от Ярослава, если он уйдёт от Настасьи и решит вернуть Ольгу, то боярин сообщит ей с гонцом) - Долгорукая заохала, раскраснелась от счастья и велела, чтобы человека впустили. Приняла скрученную в трубочку грамоту, протянув расслабленно-нетвёрдую руку, сорвала печать и прочла, раскатывая свиток; сразу изменилась в лице, побледнела, даже не наградила посыльного за его труды небольшой монеткой, повернулась и вышла, на ходу ругаясь. А письмо говорило, что у Настьки родился сын, названный Олегом; но коль скоро «Ярославичем» быть не может, сделается «Настасьичем»; Осмомысл находился при роженице до последней минуты, а затем три дня праздновал в Тысменице.
У себя в одрине, запёршись одна, Ольга яростно порвала пергамент, разбросав клочки, била кулаками в стойки балдахина, изрыгая проклятия.
- Сын! - хрипела. - Сын! Господи, за что?!
Смысл её отчаяния был таков: сын - наследник престола; да, сегодня - побочный ребёнок, говоря на латыни - «бастардус»; но ведь завтра галицкий владыка может по церковной линии узаконить его рождение и тогда завещает трон не Владимиру, но Олегу!
Долгорукая села на постель, вытерла платком мокрое лицо и сразу успокоилась, посуровела и нахохлилась. Бросила негромко, но внятно:
- Мы ещё поглядим - кто кого! Поскрипев зубами, добавила:
- Вонифатьич прав… надо соглашаться…
И, подобно боярину, выразительно провела указательным пальцем поперёк горла, точно лезвием.
4
Трудно передать те страдания, что перенесли Берладник и его дети. В Тырнове их запродали в рабство состоятельным грекам, проживавшим в Пловдиве (Янку одним хозяевам, а Ивана с Чаргобаем другим). Девушку приставили к тяжело больной даме, не встававшей с постели, - состоять сиделкой, совершать ежедневный туалет, выносить горшки и кормить с ложечки. А отец и сын трудились в камнедробильной мастерской - старший подвозил вырубленные в каменоломне глыбы, младший их распиливал; это был строительный материал для дворцов и общественных зданий. Так они проработали больше года, лишь однажды осенью обменявшись двумя записками, принесёнными мальчиком-рабом: дочка извещала, что жива-здорова и уже привыкла к своему положению, но с трудом представляет, что случится с ней в случае кончины хозяйки - видимо, опять попадёт на невольничий рынок; а отец ответил, что они в худшем положении - кормят плохо, заставляют ишачить с утра до вечера, гонят на работу даже больных; но в конце добавил, что Господь их выручит, надо только верить.
И Господь помог: умирающая матрона завещала, чтобы, после её ухода в мир иной Янке дали вольную и приличную сумму денег, нужную для выкупа брата и родителя. Смерть пришла к старушке в середине марта 1162 года. А в начале апреля выкуп состоялся - даже ещё дешевле, чем предполагалось: дело в том, что Берладник, подхватив чахотку, был уже совсем плох и ушёл за бесценок.
Он почти не вставал и всё время кашлял, сплёвывая кровь. В нём, осунувшемся, худом, слабосильном, труднобыло узнать прежнего Ивана - пышущего здоровьем добра молодца. С помощью детей уселся на купленной телеге а потом и лёг, прикорнув в соломе. Янка села рядом, свесив ноги вниз, Ростислав-Чаргобай подхлестнул запряжённую кобылу, и они поехали к югу - прямиком к Эгейскому морю, чтобы в крупном греческом городе Фессалоники (по величине - втором после Константинополя) сесть на морское судно и отправиться в сторону Царь-града, к августейшей родственнице. Двигались небыстро, опасаясь растрясти хворого отца. А ему с каждым днём становилось хуже. Да ещё при тяжёлой переправе через реку Стримон их подвода перевернулась, и Берладник после купания в холодной воде впал в горячку. Бредил и хрипел, звал на помощь Янку, а когда она над ним наклонялась, в ужасе шарахался, принимая её за покойную Людмилку.
Целую неделю заняла дорога. И 11 апреля наконец прибыли в Селун (так по-русски звали в ту пору Фессалоники). День был по-настоящему летний - тёплый, мягкий, с моря дул лёгкий ветерок, и оно, бескрайнее, неестественно синее, умиротворённое, по-щенячьи лизало волнами белый крупитчатый песок.
- Тятя, погляди, мы у моря! - радостно воскликнула дочка. - Слава Богу, доехали! Ну, теперь ты надышишься исцелительным воздухом и пойдёшь на поправку! Греческое солнышко вылечит тебя! Тятя, слышишь, да? - И внезапно вскрикнула: - Славка, Славка, он умер!
Сын приник к бездыханному телу, начал щупать шею; кожа была ещё тёплая, но артерия не билась. Так, за тридевять земель от желанного Галича, в тридцать восемь лет, дни свои окончил неуёмный двоюродный брат Осмомысла, князь-изгой. Храбрый воин, сильный муж, он в иной ситуации мог бы принести много пользы. Но судьба оказалась к нему сурова, превратив в разбойника, главаря беглых смердов. Тем он и вошёл в русскую историю. А его кончина ознаменовала собою завершение первого периода в жизни Ярослава - детства, юности, становления; начиналась зрелость…
Дети же Берладника упокоили родителя на простом сельском кладбище близ Эгейского моря, заказав отпевание в местной церкви. Оба плакали. Оба привязались к Ивану, уважали за смелость и дерзкий ум; да и сам Иван в эти последние годы своей жизни вдруг открылся с неожиданной стороны - добрым главой семейства, искренне любившим сына и дочь. Вот ведь странное, удивительное дело: Янка с юных лет думала о мщении, представляла его в деталях, а потом полюбила отца и была полна скорби в траурные дни. Чаргобай тоже сильно переживал, но как брат Я мужчина всячески старался поддержать сестру, хоть и старшую, проявлял твёрдость духа и желание ей помочь справиться с печалью.
Фессалоники за громадными толстыми стенами потрясли молодых людей основательностью и величиной. Сколько здесь было необычных каменных зданий и церквей! Как бурлил базар на центральной площади! Сколько кораблей стояло в гавани! Громкий разноязычный говор, сотни лиц, дорогие одеяния и обноски, смрадные запахи выгребных ям и благоухание расцветающих персиковых деревьев - всё перемешалось в их головах! А в одной из древних базилик - Святой Софии - долго стояли на коленях и молили Деву Марию защитить их в опасной дороге к Константинополю.
За оставшийся у Янки последний солид[12] получили места на судне, отплывавшем в Царь-град. Ранним утром 14 апреля их корабль отвалил от пристани. Море волновалось несильно, мелкие облака-барашки разбрелись по синему полю неба, чайки гоготали при виде рыбы, а огромный парус надувался от чувства собственного Достоинства.
- Ну, плывём? - в первый раз за последние дни улыбнулась Янка.
- Кажется, плывём, - подтвердил Ростислав и приобнял её за плечи.
Новые приключения ждали их впереди - в Византии, Болгарии и на Руси.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КОСТЁР ДЛЯ ВЕДЬМЫ
Глава первая
1
сем хорош был Андроник Комнин - рослый, мощный, плечи - косая сажень, талия - семь вершков. Кочергу завязывал в узел, укрощал строптивого скакуна одной левой. Пышные курчавые чёрные волосы падали картинно на его лоб и шею. А густые брови уходили одна в другую на переносице. Нос не выглядел слишком грозным, несмотря на явственную горбинку. И пунцовые губы в обрамлении тёмных усов и бороды выделялись ярким пятном. Но особенно выразительно смотрелись глаза - словно две оливки. Говорил Андроник тоже великолепно - мягким бархатным баритоном или, точнее, баритональным басом, формулировал просто и легко, излагал убедительно и веско. Был невероятно смешлив, хохотал заразительно и громко, удивляя окружающих неиспорченностью прекрасных зубов. А ещё любил танцевать, никогда не ел до отвала, никогда не напивался до скотского состояния и всегда соблюдал посты. Страсть имел одну, но пламенную и неодолимую - женщины. Он умел завоёвывать их стремительно, темпераментно, на одном дыхании, поражая силой, умом, напором, не давая ни малейшего шанса на сопротивление. И прекрасный пол отдавался ему самозабвенно, откровенно порочно, вожделенно и сладострастно, не жалея потом о своём поступке, даже если связь вскоре прерывалась. Может быть, один из его потомков - Дон Жуан? Или Казанова? Как знать! Ведь Андроник оставил после себя многочисленное потомство, разлетевшееся по свету…
Византийский император Мануил I Комнин, правивший в Константинополе с 1143 года, доводился ему двоюродным братом. Мальчики росли и воспитывались вместе, с детства дружили и почти одновременно женились: Мануил - на немецкой графине, а Андроник - на грузинской царевне. Впрочем, если брак будущего владыки империи оказался не слишком удачным - у него родилась только дочь Мария, а наследника престола Бог не дал, то, напротив, его кузен отличался плодовитостью, заимев несколько мальчиков и девочек. Молодые люди продолжали хорошо относиться друг к другу, и когда двадцатидвухлетний Мануил взошёл на престол, то назначил родственника на одну из ключевых должностей в правительстве. Но беспечный Андроник не любил работать и почти не занимался делами - в основном соблазнял жён своих подчинённых. Самодержец терпел долго, но в конце концов разозлился и отправил приятеля из столицы вон - в некое подобие почётной ссылки - собственным наместником в Сербию, завоёванную греками.
На чужбине весёлый византиец не только не одумался, но ударился во все тяжкие окончательно. Он устраивал шумные поездки в загородные имения, где на лоне природы затевал немыслимые оргии, а когда мужья или родственники обесчещенных дам начинали возмущаться, отрубал недовольным голову. Мало этого: начал интриговать против самого императора.
Дело в том, что монарх, не имея сыновей, вознамерился выдать замуж дочь Марию за венгерского принца и провозгласить его собственным преемником. Но такой план Андроника не устраивал. Он считал, что константинопольский трон, в случае смерти Мануила, должен перейти к нему - единственному прямому потомку зачинателя династии Комнинов по мужской линии. И отправился ко двору Венгерского короля (благо, ехать из Сербии было близко), чтобы отменить поездку юного отпрыска в Византию.
Миссия окончилась неудачей: принц не только уехал, но и пожаловался будущему тестю-императору о коварных происках беспутного родственничка. Разъярившийся Мануил вызвал Андроника к себе, моментально разжаловал из наместников и, арестовав, бросил в самое страшное константинопольское узилище - башню Анемы. Гнить бы до скончания века этому красавцу мужчине в заточении, если бы одним из охранников башни не служил Ростислав-Чаргобай, сын Берладника…
2
Брат с сестрой прибыли в Царь-град по весне 1162 года, не имея в кармане ломаного дирхема. А без денег в столицу не войдёшь (надо было платить пошлину охранникам на воротах). Но, по счастью, их двоюродная бабка, Добродея-Ирина Володарьевна, ныне - вдова принца Исаака Комнина и родная мама Андроника, проживала за городом, в собственном поместье. До него добрались на своих на двоих, пыльные, усталые и голодные.
Объяснили на ломаном греческом, кто они такие. Долго ждали в караульной каморке, прежде чем явился страшного вида евнух (как потом выяснилось, управляющий хозяйством) и велел идти вслед за ним. За оградой простирался чудесный парк с живописным прудом и тенистыми кипарисовыми аллеями. Сам дворец не блистал новизной, но его обшитые мраморными плитами стены были сплошь покрыты плющом и от этого выглядели уютно, по-домашнему. На ступенях был расстелен ковёр. На террасе, в тени, за накрытым фруктами столом восседала дама лет шестидесяти - невысокая, с небольшими мешками под глазами, одетая в просторный балахон византийской матроны. Звук её голоса поразил пришедших - был таким же, как у Янки, - низким, хрипловатым… Женщина спросила по-русски:
- Значит, вы - внуки моего братца Ростислава? Словно эхо, тем же тембром, Янка подтвердила:
- Точно так, матушка мой свет. Только Славушка, мой братец, от законного церковного брака, а меня, Иоанну, тятенька прижили на стороне.
Бабушка вздохнула:
- До меня доходили слухи, что отец ваш и мой племянничек Иоанн сделался разбойником и, осев на Дунае, грабит караваны купцов. Верно ли сие?
- К сожалению, верно. Он ведь был изгоем. Не найдя счастья на Руси, мыкался по чуждым пределам… Мы его похоронили неделю назад около Селуна. Пусть ему земля будет пухом!
- Царствие Небесное! - Володарьевна осенила себя крестом. - Ну, а вы - добрые христиане или тоже насильники-убивцы?
Ростислав, заливаясь краской, на высокой ноте ответил:
- Горько слышать подозрения в наших злонамерениях. Коли так - лучше мы пойдём. А не то случись какая пропажа в доме, сразу обвинят, что стянули мы!
Дама рассмеялась:
- Ну, огонь! Узнаю молодого брата, в честь которого тебя и назвали. Средний наш, Володимерко, тоже был горяч, вся порода такая… Только, говорят, нынешний правитель Галиции, сын Володимерки - Ярослав, чересчур рассудителен и невозмутим?
Янка закивала:
- Истинная правда. После смерти маменьки он меня приютил, отдал в школу для девочек при монастыре и всегда поддерживал - делом и советом. Я ему вовек буду благодарна. И недаром ходит за Ярославом прозвище - князь Осмысленный, Осмомысл.
- Осмомысл… - раздумчиво повторила Добродея. - Я порой по Руси скучаю. Здесь, конечно, жизнь разнообразнее и богаче - всё-таки «второй Рим». А философы, богословы, стихотворцы и правоведы зачастую во многом превосходят древних авторов. Только на Руси как-то подушевнее, точно у детей, - ненавидят и любят с сердцем!.. Но, возможно, я преувеличиваю - ведь уехала из Галича больше сорока лет назад. А воспоминания юности - самые прекрасные… - Мягко улыбнулась: - Как же я могу не приветить дорогих для меня внучатых племянничков? Проходите, располагайтесь. Чувствуйте себя как под отчим кровом. Вы с дороги голодные? Вас ужо накормят, переоденут… вымоют, приготовят ложа… Отдыхайте и набирайтесь сил. Встретимся за ужином. И готовьтесь отвечать на Мои многочисленные вопросы…
Вскоре они крепко подружились. Янка превратилась в бабушкину наперсницу - одевала её по утрам, помогала служанкам делать ей причёску, вслух читала книжки и сопровождала во время прогулок. Вместе принимали гостей, посещали церковь… К этой работе девушка привыкла, будучи рабыней, но теперь её возвели на ступеньку выше: хоть и не ровня господам (дочка незаконная), но уже не горничная, а почти компаньонка. Безусловно, иногда капризы Ирины раздражали девушку - так и подмывало схватить старуху за горло, жилистое, дряблое, и тряхнуть прилично, чтобы охолодить. Но она себя сдерживала, мысленно читая некую проповедь: «Время не пришло бунтовать… Надо угождать и терпеть… потакать и кланяться… Час настанет, и уже иные рабыни будут омывать мне ступни…»
Брата определили в школу для мальчиков из богатых семей, где он проучился полтора года, до совершеннолетия, быстро опередив многих сверстников по таким предметам, как математика, геометрия и география; греческий и латинский языки, письменный и устный, были для него камнем преткновения, а к Закону Божьему, рисованию и музыке относился достаточно равнодушно. В гимнастической зале и на ипподроме тоже делал успехи; самым его любимым оружием стала короткая сабля. Ею на скаку мог рассечь стоящий на каменной подставке арбуз - так рассечь, по горизонтали, что верхушка не падала, а ложилась плавно на своё основание.
В 1164 году, по ходатайству двоюродной бабушки, поступил на службу к эпарху - градоначальнику Константинополя. Тот не только заведовал хозяйственной жизнью столицы, но и исполнял полицейско-судебные функции, у него в подчинении состояли целые полки вооружённых людей, контролирующих порядок в городе, стороживших важные государственные объекты, в том числе и тюрьмы. Первое время Чаргобай состоял телохранителем самого эпарха, но однажды, при проезде патрона около Царского портика, не сумел предотвратить покушение: выскочивший из толпы сумасшедший кинулся под ноги лошади городского головы и метнул в него нож; лошадь затоптала беднягу, но вельможа был сильно ранен в предплечье. Ростислава понизили в звании и перевели заместителем начальника башни Анемы.
В первый раз он и Янка встретились с Андроником год назад в доме Добродеи. Сын остановился у вдовствующей принцессы на неделю, посещая императора с докладом о военной ситуации на Балканах. Этот чернокудрый красавец, их двоюродный дядя, поразил отпрысков Ивана неуёмной весёлостью и задором. Янка слушала его заворожённо, а когда он при встрече на террасе, без свидетелей, неожиданно резко привлёк её к себе и поцеловал в губы - крепко, горячо, - чуть не потеряла сознания. В тот же вечер он залез к ней в окно (на дворе стоял август, и взобраться по выступам мраморных плит на второй этаж для физически сильного человека было делом нехитрым), и у них произошло то, в чём Андроник превосходил остальных мужчин. С той безумной ночи дочь Берладника потеряла голову: беспрерывно думала о своём возлюбленном, разрабатывала планы бегства в Сербию, но потом, через пару месяцев, обнаружив свою беременность, отложила поездку до более удачных времён.
Бабушке поведала о грехопадении, заливаясь слезами и валяясь у неё в ногах. Та вначале вспылила, разразилась гневной тирадой, но потом остыла, обняла и поцеловала, обвинив во всём сластолюбца-сына. «Ничего, ничего, девочка моя, - успокаивала она будущую мать-одиночку, - я тебя в беде не оставлю. А родившееся дитя возлюблю вдвойне - ведь оно мне придётся, с одной стороны, внуком или внучкой, а с другой - двоюродным правнуком или правнучкой. Чудеса, да и только!» В мае 1165 года Янка родила девочку, получившую имя Зоя. А в июне Андроник^ вызванный из Сербии, не успев повидаться с матерью, был отправлен в заточение в башню. Челобитные, посланные Ириной Володарьевной племяннику Мануилу I, оставались без ответа. Собранный вскоре Верховный суд под председательством самого самодержца вынес приговор: 10 лет тюрьмы. По тогдашним византийским понятиям это считалось лёгким наказанием - государственных преступников сплошь и рядом ослепляли (на один или оба глаза), отрубали конечности или же насильно постригали в монахи. Но, конечно, ни Андроник, ни его родные не могли смириться с подобной участью. А поскольку новые ходатайства о помиловании ничего не дали, было решено организовать заключённому побег.
Приглашённый на семейный совет Чаргобай с ходу отказался участвовать в этом предприятии. Он смотрел на Ирину и Янку исподлобья, перекатывал желваки на скулах и давал ответы тихо, но твёрдо:
- Только-только вошёл я в доверие к моему начальнику и не стану сим злоупотреблять. Вскоре он уйдёт на покой и меня порекомендует на своё место. А потом - как знать! - можно дослужиться и до управляющего всеми тюрьмами!
Вдовствующая принцесса говорила на это с нотками презрения:
- Постыдись, голубчик! Ты - потомок Рюрика и Владимира Красно Солнышко! Ярослава Мудрого и великих половецких князей! Возмечтал о чём? О ничтожной должности управляющего тюрьмами? Горько, горько слышать! Между тем мой сын - при всех его недостатках - главный законный наследник нашего престола. Мануилке завещать державу и скипетр некому. Прибывший из Унгрии малолетка - не соперник, гвардия сковырнёт его быстро. А тогда Андроник станет императором. Представляешь, кем он тебя назначит, если ты сегодня поможешь ему бежать?
Ростислав с тяжёлым сердцем внимал, глаз не поднимая от пола. Тут вступила Янка:
- Быть неблагодарным - позор! Нас благожелательно приняли, относились тепло, дали тебе закончить учёбу. И меня не прогнали с новорождённой девочкой… Чем же ты намерен отплатить за сердечность? Нежеланием помочь незаслуженно брошенному в темницу? Он твой дядя, он отец моего ребёнка! Неужели тебе дороже должность начальника башни?
Наконец он пробормотал:
- Да, а вдруг заговор откроется? Ведь меня же тогда казнят! Это тебе не важно? Кто тебе дороже - я или Андроник, соблазнивший тебя и бросивший?
- Замолчи! - крикнула она, покраснев. - Я люблю вас обоих! Что прикажешь делать?
Бабушка вмешалась:
- Горлом убедить никого нельзя. Поспокойнее, дети, порассудительней. Слуги не должны слышать наших тайн. Отвечай, Ростиславе, каково твоё окончательное слово?
Внук поёрзал в кресле, произнёс неопределённо:
- Ну, допустим, дело сладилось… Мне придётся убежать вместе с ним, так как возвращаться на службу будет опрометчиво. А куда отправиться? Где найти пристанище?
- На Руси, - моментально ввернула Добродея.
- На Руси? - удивился молодой человек. - Кто приветит нас?
- Ярослав, сын Володимерки. Мне - племянник, а Андронику - двоюродный брат. Нешто родственные узы для него ничего не значат?
- Он женат на Ольге Долгорукой, дочери Елены Комнины, что доводится родной сестрой Мануилу! - возразил Чаргобай. - Осмомысл, верно, не захочет ссоры с императором.
- Осмомысл с женою в раздоре, - подсказала Янка, - и назло ей задружится с противником ея брата!
- Может быть, может быть… - Он вздохнул и с досадой покачал головой. - Видимо, иные пути для меня заказаны…
Дочь Берладника воскликнула с чувством:
- Я была уверена, что не струсишь! Вот ведь молодец! Тятенька на Небе гордится тобою.
Вдовствующая принцесса спросила:
- Как нам всё устроить? Сын Ивана снова посерьёзнел:
- Я не представляю. Мой начальник гордится тем, что за тридцать лет его службы из Анемы ни один преступник не смог бежать. Если и пытался, то его убивали.
- Господи помилуй!
- Стража опытная, надёжная. Беспрепятственно миновать все посты нельзя. Распилить решётку и спуститься по верёвочной лестнице тоже невозможно: караульных так много, что один из них непременно заметит.
- А подкоп? - предложила Янка.
- Со второго этажа башни?
- А нельзя ли перевести узника на первый?
Чаргобай задумался. Встал, пригладил бороду, выросшую недавно, и прошёлся по зале. Произнёс не слишком уверенно:
- Можно попытаться…
3
Лето 1165 года было очень знойным. В середине июня весь Константинополь плавился от пекла, и с одиннадцати Утра до пяти вечера город вымирал, люди выходить из домов боялись, так как солнечные удары унесли в могилу несколько сотен человек. Состоятельные граждане покидал^ столицу, уезжали в усадьбы на море или в хвойные прохладные леса Ираклии. А начальник башни Анемы, человек грузный и поэтому невероятно потеющий, плохо переносящий жару, разрывался между долгом службы и желанием отправиться в своё имение на другом берегу Босфора. Вдруг его молодой заместитель, этот странный русский присланный по приказу эпарха, без него не справится? Вдруг нарушит режим, что-нибудь напутает? Но, с другой стороны, мальчик он толковый, исполнительный и дисциплинированный, а порядок в тюрьме отработан до мелочей, и захочешь - ничего не изменишь… Словом, главный надсмотрщик, поразмыслив, решился и, оставив для Ростислава список поручений, отбыл на отдых. На другой же день сын Ивана посетил заключённого со второго этажа и имел с ним секретный разговор, от которого у Андроника сразу загорелись глаза. Молодой человек говорил по-русски, чтобы не смогли понять другие тюремщики, а поскольку грек знал язык своей матери неплохо, отвечал впопад.
- Ваша честь должна нынче же устроить у себя в камере небольшую драку, - наставлял его юный друг. - Выплеснуть еду надзирателю в лицо или просто, к чему-нибудь придравшись, оскорбить, ударить. В наказание я переведу вас в карцер на первом этаже. А к нему уже роют подземный ход. Я вам передам инструменты, чтобы вы смогли по ночам рыть навстречу. Где-то в районе акведука[13] надо будет встретиться.
- Скольким временем я располагаю?
- Мой начальник собирался отсутствовать около месяца. Впрочем, если похолодает, может возвратиться и раньше.
- Почва здесь песчаная, не исключены осыпи, обвалы.
- Ничего не могу поделать, как вы понимаете. Каменистый грунт рыть зато намного труднее.
- Тоже правильно. Как моя мамаша, Янка, Зоя?
- Слава Богу, здоровы. Янка помогает копать с другой стороны.
- Ох, а это для нея не опасно?
- Всё опасно в нашем положении.
- Так скажите ей, чтобы не особенно рисковала.
- Разве ж она послушает! На устах одно: выручить Андроника…
У мужчины-красавца губы растянулись в улыбке:
- Прелесть, чаровница… Я ея обожаю!
Чаргобай с трудом сдержал в себе ироничную реплику.
Рыли три недели. Самым трудным для заключённого оказался первый этап - раскачать несколько камней, выстилавших пол, вынуть их, но так, чтобы не заметила стража, и выбрасывать извлекаемый из подземного хода песок сквозь решетчатое окно (благо, оно выходило к морю, находясь над отвесной кручей, и гора из грунта не росла внизу). Но когда два идущих навстречу друг другу тоннеля были уже готовы соединиться, возвратился из отпуска начальник тюрьмы. Выслушав доклад Ростислава, он одобрил его работу и велел завтра утром возвратить брата императора на второй этаж: «Три недели в карцере за фонарь под глазом караульному - мера вполне достаточная для особы такого ранга, - пояснил его командир. - Надо быть деликатным в таких вопросах, здесь тебе не Русь!» Тем же вечером, разламывая горбушку, заключённый увидел в ней скрученный в трубочку небольшой пергамент. Развернув его, он прочёл: «Этой ночью! Или всё пропало!» Взволновавшись, Андроник съел на всякий случай не только хлеб, но и записку.
Ночью хлынул ливень. Гром гремел, и сверкала молния, море волновалось, а охранники прятались под навесы и смотрели больше на небо, чем на арестантов. Это помогло беглецу: чиркнув огнивом, запалил самодельный факел (палку с намотанной на неё промасленной тряпкой) и извлёк из-под лавки два заветных булыжника. Погрузившись в лаз, он предусмотрительно возвратил эти камни на место, даже навалил изнутри песок, чтоб они не выпали - вышло вроде прочно. Развернувшись в тесной норе, наследник трона Византии, потный, грязный, с затухающим факелом, энергично пополз в сторону акведука. Мягкий грунт осыпался от его движений, а намокший песок оседал Целыми пластами. И случилось самое страшное: от очередного удара грома задрожала земля, стены тоннеля обвалились, преградив дорогу Андронику и вперёд и назад. Тут же факел погас. Узник императора превратился в узника земли - в темноте и удушье не знал, как теперь выбраться на воздух.
Между тем под утро караул опомнился и немедленно выявил отсутствие заключённого в карцере. Потрясённый начальник башни лично осмотрел стены и решётку, простучал камни пола и не обнаружил никаких признаков побега. Значит, кто-то отомкнул двери? Но охранники божились, что всю ночь стояли в двух концах коридора и, хотя гремел гром, не могли бы пропустить ни одной души - ни туда, ни обратно.
Стали рыскать в окрестностях и вблизи акведука обнаружили двух людей, вылезавших из заваленного подкопа - женщину и мужчину. Это были Янка и один из слуг Добродеи-Ирины, помогавший ей в подземных работах. Их доставили в башню.
Дочь Берладника находилась в полуобморочном состоянии - и не столько из-за ареста, сколько из-за уверенности, что Андроник погиб, задохнувшись в песке. Отвечала невнятно, точно ненормальная, отрицала свою вину и смотрела на всех мутными глазами. Но зато слуге быстро развязали язык - вмазав пару раз по его мужскому достоинству; он сознался по каждому из вопросов: кто копал, для чего и как долго; лишь не выдал Ростислава, будучи не в курсе его роли в этом деле.
Крайне раздражённый начальник Анемы (тяжело восприняв первое чрезвычайное происшествие за свою многолетнюю безупречную службу) поспешил к эпарху доложить о случившемся. А его заместитель, лично выполняя распоряжение командира - заключить арестованных в помещение карцера, - сделал это так, что сестру поместили в ту же самую камеру, из которой сбежал Андроник. И шепнул, склонившись к её уху: «Камни под лежанкой… постарайся выбраться…» Янке захотелось воскликнуть: «Господи, а ты? Ведь тебя в любой момент могут заподозрить!» - но благоразумно смолчала. Только посмотрела на него с нежностью и грустью.
А её возлюбленный, взяв себя в руки, понял, что ползти к акведуку много дальше, чем обратно в тюрьму. И решил возвратиться в камеру: лучше быть в неволе живым, чем в подкопе мёртвым! Отыскал в темноте и ощупал потухший факел: помня, как он упал, попытался определить направление предстоящего движения. Начал разгребать глину и песок. Вскоре его рука провалилась в пустоту - значит, с пути не сбился! - и с удвоенной силой продолжал выползать из завала. Вскоре сделалось попросторнее - больше воздуха и меньше обрушившейся земли. Наконец оказался в конце своего тоннеля. Только стал скрести плохо поддающийся грунт, что поддерживал камни под лавкой, как услышал шорох. Кто-то явно копал сверху вниз. Испугавшись, что это тюремщики, сын Ирины попятился, затаил дыхание, мысленно прикидывая тактику будущей обороны.
Грунт осел, и кромешная тьма уступила место будто бы полумраку - в плохо различимом отверстии промелькнула фигурка, лезущая под землю. Тут же Андроник услышал вздох: «Господи, помилуй!» Голос показался ему знакомым. И, по всей вероятности, не мужским…
- Янка? - произнёс узник башни, больше наобум, нежели действительно веря, что судьба приготовила ему этакий роскошный подарок.
- Пресвятая Богородица! - донеслось до него радостно-истошное. - Слава Богу, жив!
Несколько мгновений - и они уже вместе, гладили друг друга, целовали перепачканные грязью лица, плакали, смеялись.
- Как тебе это удалось? - восхищался её любовник.
- Ой, не спрашивай, расскажу потом! Надо торопиться - как бы караульные не опомнились и не бросились в погоню.
- В середине пути завал. Я едва вылез из него.
- Попытаемся раскопать. А иначе погибнем.
- Как я рад, что мы снова вместе!
- Да, теперь ничего не страшно!
В то же самое время Чаргобай отобрал из охранников четырёх наименее смышлёных и отправился вместе с ними к спуску в подземный ход возле акведука. Сделав озабоченное лицо, он сказал:
- Мы с начальником Анемы верно угадали, что мятежник, сбежав из карцера, оказался заваленным под землёй. Наша задача - раскопать и извлечь его оттуда. Двое из вас работают внизу - двое караулят снаружи. И наоборот. Под Моим присмотром. При обнаружении тела - мёртвого или живого - никаких увечий не наносить, а доставить в целости на поверхность. Есть вопросы? Ну, тогда приступаем.
Ход, проделанный Янкой и слугами, был намного шире норы, вырытой Андроником: можно было не только ползти, но и слегка подниматься на четвереньки. Кроме того, для прочности стен и потолка там и сям стояли крепёжные чурбачки - так что грунт во время грозы не осел и не рухнул. В свете факелов добрались до конца подкопа, начали раскидывать землю. Каждый час Ростислав уходил подышать свежим воздухом и сменить подручных. День уже был в разгаре. Арки акведука высились над их головами - древние, замшелые, а в его желобах журчала ключевая вода, доставляемая в Константинополь; примитивный водопровод работал исправно, хоть и не справлялся уже с возрастающими потребностями многолюдного города; на Руси подобных сооружений не строили - пользовались одними колодцами. Вытирая пот, сын Берладника думал: «Господи, спаси и помилуй! Дай им выбраться из тюрьмы. Помоги и мне избежать неволи. Капельку везения - больше ничего не желаю!»
Опустившись снова под землю, он услышал звуки борьбы. Бросился вперёд и увидел в отблесках воткнутого в стену факела страшную картину: первый из двух охранников весь в крови корчится на земле, уворачиваясь от ударов Янки, бьющей его лопатой, а второй караульный душит Андроника. Что ж, пришлось поспешить на помощь и прикончить сообща двух тюремщиков. Сделав это чёрное дело, трое заговорщиков обнялись и расцеловались. Чаргобай сказал:
- Наверху ещё двое. Их придётся тоже прибить, а иначе не вырвемся.
- Мы с тобой лезем впереди, а за нами Янка, - распорядился возможный будущий император.
- Да, сначала я заговариваю с ними - вроде ничего не случилось, отвлекаю внимание, а тем временем ваша честь нападает сзади.
- Прекрати говорить мне «ваша честь». Перейдём на «ты». А тем более в русском языке, в отличие от ромейского, форма «вы» не принята, если не ошибаюсь?
- Нет, не ошибаешься.
- Вот и превосходно.
Часовых сняли быстро, без особого шума. Сбросили тела в лаз подземного хода, и что было сил устремились в имение Добродеи-Ирины: раздобыть коней и скакать, скакать от преследователей - гвардии эпарха.
4
Зная, что побег был намечен на эту ночь, мать Андроника не сомкнула глаз до зари. Подходила к окну, вздрагивала от молний и ужасных раскатов грома, истово молилась под образами. Но рассвет не принёс облегчения: ни сынок, ни внучатые племянники так и не появлялись. Вдовствующая принцесса, чтобы как-то развеяться, заглянула в детскую, пожелала маленькой Зое доброго утра и поцеловала р темечко. Та смотрела на бабушку точно тем же взглядом, что и Янка когда-то, в первый раз увидев отца; но глаза были чёрные, от Андроника; что-то гурундела на своём, не доступном для взрослых языке.
- Где ж твои родители? - прошептала женщина по-русски. - Отчего замешкались?
Дама отказалась от завтрака, от обычной прогулки по парку. Сидя на террасе, ждала. Даже сорвала раздражение (что обычно не позволяла себе) на своём управляющем - евнухе. Понимала здраво: если до полудня беглецы не появятся в имении, значит, их затея провалилась; но надеяться продолжала, не спуская глаз с вымершей аллеи.
Вдруг послышался конский топот, перебранка у въезда, челядинин-привратник распахнул ворота, и отряд гвардии эпарха поскакал к усадьбе. Около террасы ни один из воинов не соблаговолил спешиться, не приветствовал пожилую аристократку, а наоборот - командир отряда, еле сдерживая себя, проорал по-гречески:
- Где ты прячешь этих ублюдков? Добродея встала и сказала невозмутимо:
- Прочь пошёл отсюда, мерзость, сукин сын! Довожусь тёткой его императорскому величеству! Ты, нарушивший мой покой и неприкосновенность жилья, будешь гнить в тюрьме до скончания века!
- Кто из нас заживо сгниёт - мы ещё посмотрим! - совершенно не испугался он. - Если мы докажем, что они сбежали при твоём содействии, можешь собираться в Анему. Не спасут родственные связи. - И велел подручному: - Покажи ей ордер его высокопревосходительства господина эпарха на обыск. Всю усадьбу перевернём, но укрывшихся тут преступников непременно выявим.
- Господин эпарх ответит за это тоже, - холодно сказала хозяйка.
Рослые гвардейцы стали шуровать во всём доме, жутко Напугав слуг и девочку. Зоя плакала, а борзые собаки - внуки тех, что Ирина привезла когда-то из Галича, не приученные кусаться и драть добычу, - жались по углам и смотрели на непрошеных посетителей ничего не понимающими глазами.
Разумеется, ни Андроника, ни его друзей обнаружено не было. Командир отряда, раздосадованный и взмокший, даже не извинившись за грубое вторжение, вспрыгнул на коня и хотел было дать сигнал об отъезде, как раздался выкрик: «Вот они, вот они - за деревьями!» Между кипарисов действительно промелькнули белые одежды. Добродея похолодела, понимая, что наследник и внуки попались. Всадники рванули с места в карьер. С гиканьем и свистом бросились в погоню, оставляя облачка пыли, выбитые копытами из посыпанной на аллеях красной кирпичной крошки. «Вот не повезло, - думала матрона, медленно садясь в кресло на террасе. - Я-то уже считала, что они далеко… Дурачки, дурачки… Не могли догадаться, что эпарх пошлёт собственных людей именно сюда…»
Посреди имения, возле пруда, находилась декоративная пещера. К ней и двинулись трое беглецов - верховые не проедут сквозь её входное отверстие, вынужденно спешатся; а борьба на земле лишена преимуществ конного боя. До сооружения оставалось всего несколько шагов, как шальная стрела, выпущенная кем-то из догонявших, угодила Янке между лопаток. Дочь Берладника охнула и упала лицом в траву. Ростислав обернулся, протянул ей руку, и другая стрела тут же пробила его предплечье. «Убегаем! Живо!» - чуть ли не насильно потащил русского Андроник. - «Янка! Там! Не могу оставить!» - «Ей уже ничем не поможешь. Надо уберечься самим!»
В затемнённой пещере от ручья, струившегося по картинно поставленным друг на друга валунам, веяло прохладой. Оба мужчины кинулись к воде, сполоснули лица и успели сделать несколько отчаянно-жадных глотков. Кровь текла по левой кисти юноши, он согнул локоть, перекрывая сосуд, - перевязывать рану было некогда.
- Приготовься! - крикнул ему двоюродный дядя. - Я их встречу камнями первый. Ты меня поддержишь.
Неширокий вход пропускал только одного (максимум двоих, если люди тонкие); это обстоятельство было на руку осаждённым: первому же гвардейцу двинули в лицо обломком скалы, с ходу уложили; тем же способом справились ещё с четырьмя, шедшими за ним следом. Нападавшие отступили. Наконец командир отряда проревел, не входя в пещеру:
- Эй, вы, там, слышите меня? Если не появитесь добровольно, мы сюда подвезём «греческий огонь» и спалим вас заживо. Выбирайте.
«Греческим огнём» называлось некое подобие нынешнего напалма - смесь смелы, нефти, серы, селитры и других горючих веществ; применялся он при морских сражениях и осадах крепостей; это было грозное оружие, так как не гасилось водой.
- Что ж, попробуйте, - крикнул в ответ Андроник. - Мануил, при всей нелюбви ко мне, за такое варварское убийство вас не погладит по головке!
- Победителей не судят!
- Если победа не Пиррова[14]!
Обменявшись этими колкостями, обе стороны призадумались. Сын Ирины и её двоюродный внук завалили вход крупным валуном и, тем самым получив передышку, не спеша перевязали раненую руку Чаргобая. Он спросил:
- Как быть?
Чернокудрый красавец криво улыбнулся:
- Не имею понятия. Но, сдаётся мне, мы попали в ловушку.
- Бедная Янинка!
- Не напоминай!..
Из-за валуна потянуло дымом.
- Чуешь? - приподнялся озадаченный русский. - Кажется, горим.
Дядя стал усиленно втягивать носом воздух:
- О, проклятье! Разожгли костёр, не иначе.
- Видимо, решили обойтись без «греческого огня».
- Мы пропали.
Вскоре дым повалил целыми клубами. Осаждённые начали усиленно кашлять, вытирали слёзы, закрывали рот рукавами.
- Делать нечего, - пробубнил Андроник, - надо идти сдаваться.
- Лучше умереть!
- Не дури. Умереть мы всегда успеем. Может быть, удастся как-нибудь потом выкрутиться.
Вдруг за их спинами ржаво заскрипело железо. Пленники пещеры вздрогнули, инстинктивно приготовились отражать нападение с тыла. В фиолетово-сизом дыму было невозможно ничего разглядеть.
- Ваша светлость, вы здесь? - произнёс писклявый голос по-гречески. - Это я, Лука…
- Господи, Лука! - чуть ли не подпрыгнул от радости претендент на императорский трон. - Как ты сюда проник?
Из удушливого синего марева показалась худая фигурка управляющего имением. Кашляя в платок, он ответил:
- Дом и пещера связаны тайной галереей… Госпожа, узнав, что вы тут, повелела прийти на помощь…
- Слава Богу! Так идём же скорее!..
Средь огромных валунов зияло отверстие, скрытое до этого мастерски заделанной дверцей; оба беглеца, а за ними евнух устремились к спасительному выходу; управляющий нажал на какой-то рычажок, и проем закрылся.
Дым успел наполнить галерею тоже, но дышалось в ней легче. Наконец все они добрались до усадьбы, вылезли из-под мраморной плиты, вделанной в пол хозяйского кабинета. Там их ожидала вдовствующая принцесса.
Обняла дорогих ей мужчин и сказала живо:
- Отсидитесь дома до темноты, а затем уйдёте через парк и сад. А в условном месте наши слуги вас посадят на лодку и помогут оторваться от возможной погони.
Сын поцеловал её в щёку, а двоюродный внук спросил:
- Тело Янки так и осталось лежать на аллее парка?
- Да Господь с тобою! Мы перенесли ея в спальню. Ведь она жива!
- Как - жива?
- Рана, безусловно, серьёзная, потеряла немало крови, так что убежать вместе с вами не сможет. Но в сознании и переживает за вас.
- Что же ты молчала! Мы должны с ней увидеться.
- Это слишком опасно. Пусть сначала уедут люди эпарха.
С наступлением вечера к Добродее явился командир гвардейцев. Перемазанный сажей, вымотанный, гневный, он опять начал угрожать:
- Мы им не дадим далеко уйти. В кандалах возвратим в узилище. Вместе с ними и ты ответишь, ведьма старая.
Но Ирина только усмехнулась ему в лицо:
- Догони попробуй, неотёсанное полено!
Он ушёл, изрыгая проклятья, и отряд покинул имение.
Наконец Андроник и Чаргобай повидали Янку. Та лежала бледная, в перепачканных кровью бинтах, но её глаза светились любовью. Ссохшимися губами проговорила:
- Да хранит вас Небо! За меня не бойтесь, я поправлюсь я вместе с дочкой буду ожидать вашего возвращения из Галича.
- Мы молиться станем за вас обеих, - вымолвил её брат.
- Сердце моё - вещун, - улыбнулся отец Зои, - мы ещё наверняка встретимся.
- Эх, скорее бы!
- Долго на чужбине усидеть не смогу. Здесь у меня важные дела…
Вскоре они покинули спальню и переоделись в недорогое платье простых византийцев. Евнух проводил их до задних ворот, а уж там они сели на приготовленных лошадей и помчались к морскому берегу, чтобы, сев на лодку, пересечь Босфорский пролив: в Малой Азии и укрыться легче, и нетрудно нанять рыбацкое судно для отправки на Русь.
Но, как видно, враги тоже не дремали. Караульная служба эпарха нарвалась на них на самом побережье, прямо на виду у стоящей под спущенным парусом барки.
- Кто такие? Что здесь делаете в ночное время? - окружили охранники двух опешивших беглецов.
Тут Андроника выручило его остроумие и врождённые способности лицедея. Заикаясь и утрируя русский акцент, он сказал по-гречески:
- О, спасите нас, благородные служители справедливости! Мы - рабы, бежавшие из Хризополя. Нас преследует наш хозяин - он сидит в этой барке. Помогите укрыться, защитите от кабалы и насилия!
- Беглые рабы! - моментально повеселели гвардейцы. - Мы и в самом деле поступим по справедливости: возвратим вас хозяину! Да ещё потребуем от него вознаграждения!
Словом, тонкий психологический расчёт оказался верен: стража потащила обоих к лодке. Не ударили в грязь лицом и встречавшие Чаргобая с дядей: с ходу подключившись к затеянной игре, отвалили якобы за беглых рабов неплохую сумму - двадцать номисм (серебряных монет) и, пока караульные не уехали, натурально колотили «провинившихся» кулаками и палками.
- Кажется, спасены, - облегчённо вздохнул Андроник. - Поднимите парус! Надо убираться, пока не поздно! - А затем обратился к двоюродному племяннику: - Чтобы изменить внешность, мне придётся сбрить бороду и усы, а тебе, наоборот, отпустить подлиннее.
- Это дело нехитрое. В Галич попасть значительно труднее.
- Ничего, осилим.
Глава вторая
1
В сорок лет Долгорукая выглядела старше и вполне могла бы сойти за мать тридцатипятилетнего моложавого Осмомысла. Одиночество в Болшеве не пошло ей на пользу: растолстела, подурнела ещё сильней, начала закрашивать первую седину. Мучилась от частых простуд и мигрени. А своей товарке - попадье Матрёне, лёжа на полке в бане, голая, распаренная, жаловалась тайно: мол, ночами снятся ей разные непристойности - вроде её насилуют косари в скирде, а она не сопротивляется, уступает с радостью. «Это от воздержания, матушка, мой свет, - отвечала та и хлестала княгиню берёзовым веником, - надо с муженьком замиряться, а иначе свихнёшься, не дай Господь!» - «Нет, он в Наське души не чает, и отвадить не удаётся… Посильнее, матушка, посильнее бей. Ты же знаешь, родимая: мне от боли полегче». Да, удары её будоражили, напрягали мышцы - живота, ягодиц и бёдер, иногда провоцируя спазмы гениталий; а Матрёна видела это и понимала; ей самой доставляло удовольствие управлять плотью Ольги Юрьевны, чувствуя приятное томление; так обе женщины развлекались в неделю раз, по пятницам. А потом, по субботам, ездили молиться.
Дети Ярослава росли. Младшая, Ирина-Верхуслава, повторяла мать - и фигурой, и леностью, и брезгливым отношением к окружающим; вкусная еда да наряды - вот и все её интересы в жизни. Фрося-Ярославна превращалась в очень миловидную девушку. Ей уже минуло тринадцать, и она сторонилась шумных ребяческих забав - хороводов, горелок, пряток; но зато её занимали древние мистические обряды и гадания, отчего душа уходила в пятки. По всему выходило, что она проведёт красивую и долгую жизнь, полную как счастья, так и тревог. «Поскорее бы выйти замуж, - думала девица, - и уехать из этого постылого Болшева. Только не в Иеропию. Средь чужих народов я зачахну. А куда-нибудь в Киев али же в Чернигов. Бают, там привольно». И ещё мечтала навестить тятеньку, чтобы получить отеческое напутствие и сказать, как сильно и беззаветно его любит. И поцеловать ему руку. И ни словом не намекнуть, что, быть может, именно она спасла Осмомысла от гибели.
Дело было позапрошлой весной. К Ольге Юрьевне неожиданно нагрянули её родичи из Суздаля - мать, сестра и братья. Старший сын Юрия Долгорукого - Андрей Боголюбский (в честь основанного им города Боголюбова близ Владимира, что на Клязьме) не любил свою мачеху, византийку Елену Комнину, и её детей. И при жизни отца бесконечно они ругались, а теперь и вовсе не смогли примириться. Боголюбский сказал, чтобы духу их не было у него в княжестве. И тогда Елена захотела возвратиться на родину, в Константинополь, благо приютиться ей было у кого - у родного брата императора Мануила I Комнина.
По дороге не могла не заехать к старшей дочери в Болшев. Там их и увидела Фрося - бабушку Елену, одиннадцатилетнюю тётку Марию и дядьёв - восемнадцатилетнего Василько, шестнадцатилетнего Мстислава и девятилетнего Всеволода. Фросе больше всех понравились двое - Всеволод и Мария. Оба такие светлые, непосредственные, весёлые. Всеволод незамедлительно объявил, что присох к племяннице и, когда вырастет, женится на ней. А Мария украдкой спрашивала, правда ли, что отец Фроси, Ярослав Осмомысл, «продал душу диаволу и женился на ведьме»? Ярославна со слезами на глазах уверяла, что её тятя - лучший человек на земле, добрый христианин, мудрый, честный, а кругом одни недоброжелатели и желают зла ему. «Знаешь, я подслушала, - сообщила Фрося Марии, - и открою тебе тайну страшную, коли поклянёшься молчать». - «Матерью Еленой клянусь!» - «Приезжал к маменьке намедни главный тятин враг - Феодор Вонифатьич. И они с маменькой шушукались. Всё у них уже решено: тятеньку зарежут, а его полюбовницу Наську заживо сожгут на костре как колдунью половецкую. А на стол же посадят братца моего, Яшку». - «Что же ты молчишь, ничего не делаешь?» - испугалась Мария. «Что же я могу? - сокрушённо ответила Фрося. - Только плакать и молить Господа о защите тятеньки». - «Вот Господь меня к тебе и послал. Мы ведь будем проездом в Галиче, я отца твоего извещу о кознях. Дабы знал и готовился». Дочка Осмомысла опустилась перед ней на колени и, рыдая в голос, начала целовать её руки, приговаривая при этом: «Душенька, голубушка, Машенька, любимая, помоги, спаси! Я всю жизнь за твоё здравие буду свечку ставить!» - «Вот ведь глупая, поднимайся живо! Я ведь хоть и тётка тебе, а на самом деле ровно сестра. Как же не помочь и не отвести гибель от Ярослава?»
А в итоге Фрося не знала - то ли Маша сумела предупредить Осмомысла, то ли сам по себе он сумел уберечься, - но коварный план Феодора и Ольги ни к чему не привёл, все остались живы-здоровы, на своих законных местах…
А Владимир-Яков, маменькин сынок, продолжал капризничать, не любил учёбу, заставлял менять наставников (в основном потому, что они пытались усадить его за пергамент и книжки), а свободное время проводил на псарне или же в крольчатнике. И ещё держал говорящего скворца в клетке. Тот здоровался с ним по утрам, спрашивал в жару: «Не испить ли квасу?» - и, когда появлялась Ольга, начинал хлопать крыльями и орать: «Матушка княгиня, сделай князем Володьку!» - отчего Юрьевна смеялась и грозила смышлёной птице пальцем. Сам же четырнадцатилетний Владимир, переросший мать на целую голову, но пока худющий, как жердь, не желал отцу ничего дурного. Лишь однажды сказал сестре Фросе, защищавшей родителя: «Да какой же он добрый, если любит охотиться, убивает лосей и туров?» Девочка ответила: «Ну, а ты, коль на то пошло, если любишь скворца, отпусти на волю». - «Это другое дело. Я его кормлю и пою, убираю за ним помет. Без меня бы он помер». - «Лучше стать добычей охотника или хищника, чем всю жизнь провести за решёткой». Мальчик захихикал: «Где ты, Фроська, этой чепухи нахваталась? В книжках такого нет». - «Нешто я своим умом не могу понять?» - «У тебя уж ум! У курей и то больше».
Так текла их жизнь, и ничто не предвещало близких перемен. Но они ворвались в Болшев в мае 1165-го года: прискакавший гонец доложил княгине, что к полудню пожалует сам владыка Галича для серьёзного разговора. Ольга испугалась: «Что-нибудь стряслось?» - «Не могу знать. Зелено, чтоб ждали».
А поскольку Долгорукая думала только об одном, бросилась одеваться и прихорашиваться, дабы князь не раздумал с ней мириться. И ругала горничных, если кто из них плохо заплетал ей косицу или неумело румянил щёки.
Наконец, сообщили: «Едут! едут!» Юрьевна вышла на крыльцо - вся в парче и золотном бархате, горностае и чернобурке, опиралась на золочёный посох, и на каждом пальце горели перстни, а на некоторых - даже по два. За спиной стояли разодетые дети: равнодушная младшая, озабоченный старший и взволнованно-счастливая средняя.
Растворились ворота. Въехали головные гриди, а за ними - Ярослав в тёмно-синей шапке, отороченной мехом, тёмно-синем плаще, тёмно-синих сафьяновых сапогах. Было ясно: прибыл по какому-то важному случаю, а не то не стал бы чересчур наряжаться. Сердце Ольги сжалось: не мириться ли в самом деле прибыл?
Муж с женой не виделись около пяти лет. Он почти что не изменился за эти годы: только волосы начал стричь короче да лишился двух боковых зубов (видимо, больных, удалённых лекарем); а смотрел по-прежнему на всех близоруко, иногда поднося к глазу отшлифованный изумруд.
Стременной подал князю руку и помог сойти с лошади. Дети и княгиня поклонились в пояс. Осмомысл взошёл по ковру, устилавшему ступени крыльца, коротко и холодно поклонился Юрьевне, отчего она побелела, потрепал по щеке Якова и поцеловал Фросю. Обратился к ней:
- Как живёшь, родная?
- Слава Богу, тятенька.
- Повзрослела как! Прямо-таки невеста на выданье.
- Так твоими молитвами, батюшка, мой свет.
- Мы о сём ещё потолкуем.
Два родителя сели в гриднице - зале для пиров, выпили вина. Ольга начала первой:
- Как ты там один, без меня и без детушек? Ярослав насупился:
- По детишкам скучаю… Но Олег Настасьич помогает развеяться…
- А по мне, значит, не скучаешь?
Он взглянул на свою бывшую жену с укоризной:
- Ой, не начинай, право слово. Это дело решённое - окончательно и бесповоротно. Зла тебе не желаю, развестись через патриарха не имею поводов и причин - стало быть, жениться на другой не могу. Но и разлюбить ея силы нет.
- Понимаю, что ж, - загрустила Долгорукая. - Бог тебе судья.
- Именно что Бог. Слышал о твоих встречах с Вонифатьичем. Люди донесли. Смею говорить: ты-то, матушка, тоже не без греха.
- Я? Да полно! Это всё наветы…
- Тихо, тихо, не кипятись. Вонифатьич сидит в узилище, а тебя простил. Вспоминать боле не желаю. За другим приехал. - Он глотнул вина. - Замирение у меня вышло с унграми после смерти короля Гейзы. Дружба превеликая и союз. Предложил его сыну, молодому королю Стёпке Третьему (по-унгорски - Иштвану) выдать за него нашу Евфросинью. Он ответил согласием. Надо собирать Фросю под венец.
- Свят, свят, свят! - испугалась княгиня. - Ты в своём уме? Да она - цыплёнок совсем, от горшка два вершка, в куколки играет. И ея - в унгорские королевы? Смех один!
- Никакого смеха, - твёрдо заявил Осмомысл; да, такого жёсткого тона Ольга от мужа раньше не слышала; это был не прежний нерешительный юноша, с кем она любила кувыркаться в одрине, но суровый и решительный князь. - Через две недели помолвка. Будет жить во дворце короля, изучать язык и церковные каноны по латинскому образцу. А по следующей весне справят свадьбу. Я скрепил уговор собственной печаткой.
Неожиданно у неё потекли слёзы, и она стала причитать:
- Господи, помилуй! Господи, помилуй! Ярославище распроклятый, полоумный, злой… Что ж ты с нами делаешь, нечестивец подлый? Мало тебе моего унижения, горя и позора - видано ли где: при живой жене жить открыто с полюбовницей-ведьмой? Так ещё и дочку вздумал у меня отобрать, увезти к мерзким латинянам, чуть ли не из люльки просватать? Как сие назвать? Можно ли смириться?
Галицкий владыка резко отодвинул от себя золочёный кубок с недопитым вином. Тот запнулся о складку скатерти и, упав, покатился; красное пятно стало растекаться, как море.
- Ах! - воскликнула Ольга и вскочила из-за стола, чтобы капли не испачкали её платья. - Вот ведь неуклюжий!..
Осмомысл тоже встал, стукнул сжатыми в кулак пальцами по столешнице:
- Хватит голосить! Звон в ушах от визга твоего. Надоела! Я с тобой не советуюсь, между прочим, а всего лишь ставлю в известность о своём решении. Коль не подчинишься - будешь мною наказана.
Та упёрла руки в боки, сузила глаза:
- Как же это? Выпорешь?
- Вышлю вслед за матерью твоей в Царь-град.
И слова прозвучали до того убедительно, что жена поняла: непременно вышлет. И скрепя сердце покорилась:
- Воля твоя, батюшка, мой свет. Подчиняюсь тебе смиренно.
Про себя ж подумала: «Погоди ужо, Ярославка гадкий! Ты за всё заплатишь. Я в долгу не останусь».
Слуги заменили грязную скатерть и по зову князя пригласили Фросю. Девочка вошла - щупленькая и немного ещё нескладная, как подросток, но с приятным миловидным лицом и живым выражением серых добрых глаз. Поклонилась в пояс.
- Подойди сюда, доченька любимая, Доброгневушка, - подозвал отец и прижал к себе; Евфросинья, не привыкшая к родительской ласке, засмущалась и покраснела. - Ты ж Моя голубушка, кисонька, зайчонок! Как же удивительно: я ведь красотой не блистаю, Ольга Юрьевна тож, а такое чудо получилось совместное!
Дочка прошептала:
- Тятенька, родимый, мне неловко слушать сии слова. Я их недостойна.
Он поцеловал её в щёку:
- Да не просто красавица, но ещё и скромница. Лепо, лепо! Хочешь ли о чём попросить меня?
- Да, хочу, но боюсь разгневать.
- Полно, я отец твой - что ж меня бояться? Говори без страха.
- Можно ли дерзнуть длань твою покрыть поцелуями? Мать презрительно фыркнула и пробормотала: «Вот ведь дура, Господи, прости!» - а счастливый Осмомысл рассмеялся:
- Нет, нельзя! Я желаю, чтоб поцеловала меня в уста.
- Я не смею, тятенька! - Краска поднялась у неё до самых корней волос.
- Слушай мой приказ. Ну, целуй: чай, не укушу.
И она, дрожа, робко прикоснулась нежными холодными губками к тонким, но горячим губам Ярослава. Он опять её обнял, а потом, отстранив, сказал:
- Жаль такую прелестницу отдавать незнакомым людям, ну да что поделаешь, интересы Галича требуют от нас жертв. Доченька любезная, ты уже большая и должна понять. Будь достойной именоваться Галицкой княжною, а затем и унгорской великой самодержицей.
- Как унгорской? Отчего унгорской? - вытянулось Фросино личико.
Осмомысл объяснил. У неё подогнулись колени, и она едва не упала на пол. Но отец подхватил наследницу, начал успокаивать:
- Что ж ты так расстроилась, лапушка? Унгрия страна неплохая. Много виноградников и скота. Лошади прекрасные. А унгорской конницы лучше только половецкая, да и то не всякая. И опять же - Иеропия, связи с главными монаршими домами. Вот и нам надо породниться, приобресть на Западе верного союзника.
Девочка промолвила:
- Мне бы лучше с русскими…
- Понимаю, ласточка, но уж, видно, так написано у тебя на роду. Да не бойся: не одна поедешь - горничных и мамушек сколько хочешь прихватишь, а сопровождать тебя будет моя дружина во главе с Ивачичем - посылаю ея на подмогу унграм в их войне с Царём-градом.
Повздыхав, слёзы промокнув, Ярославна произнесла:
- Коли пожелал сие, я приму безропотно.
- Умница-разумница!
- Сколько ж лет ему, этому Степашке?
- Минуло шестнадцать.
- Ой, совсем немного! Я-то думала - пень замшелый! - оживилась дочка.
Ярослав покатился со смеху, даже Ольга заулыбалась невольно.
- Вьюнош он пока, - пояснил отец, - и державой на деле правит тёзка твоя, Евфросинья Мстиславна, вдовствующая королева. Женщина она мудрая, дальновидная: младшего сына Белу сговорила с дочкой императора из Царя-града, а коль скоро у Мануилки нет своих сыновей, он престол завещает Беле. Вот и с Русью она упрочает узы. Вы, как русские женщины, думаю, поймёте друг дружку.
Фрося покивала:
- Дал бы Бог! Пресвятую Богородицу попрошу о сём.
Но потом всё равно долго плакала у себя в одрине. Неожиданно Болшев и вообще Галич, Русская земля, стали ей такими родными, близкими, покидать которые не хватало сил. Как там, за Карпатами, на Дунае, сложится её жизнь? Не жестокий ли этот Иштван? Будет ли свекровь-тёзка милостива к ней? Не запрут ли молодку во дворце, в четырёх стенах, ровно в заточении? Неизвестность терзала робкое сердечко.
Фрося, Фрося! Знала бы она, сколько перемен уготовано ей судьбою в дальнейшем!
Сборы заняли около недели. В первых числах июня свадебный поезд из возков и телег двинулся из Галича в сторону Верецкого перевала.
2
Огорчил Ярослава сын Владимир. Посещая Болшев, Осмомысл имел с ним беседу. Лоб у отрока был усыпан мелкими прыщами, белые головки проступали также на крыльях носа и на подбородке. Видимо, юнец их стеснялся и нещадно давил перед зеркалом, а они от этого разрастались гуще, покрывая кожу красными разводами. Но, конечно, не внешность мальчика послужила причиной недовольства его родителя, а финал разговора, вышедшего резким, недобрым. Говорили с глазу на глаз, в горнице у Якова. В ней отец отметил беспорядок на полках с книгами и чернильницу с обломанным гусиным пером на столе. В клетке прыгал скворец и, при виде князя, громко прокричал: «Ой, какая Птица к нам залетела!» Повелитель Галича усмехнулся:
- Выучка твоя? Тот ответил нехотя:
- Да, сперва учил. А теперь и сам умеет новые слова складывать.
- Чудеса!
- А по мне, так чудес не видно. Звери не глупее людей. - Помолчал и добавил глухо: - А зато иные люди пострашнее зверей.
Галицкий владыка сел за стол, посмотрел на сына через отшлифованный изумруд:
- Ты кого имеешь в виду?
- Тех, кто мучает и зверей, и близких своих.
- Кто же, например?
Но, дойдя до опасной черты, отпрыск не решился произнести имени отца. Ярослав сказал:
- Не робей, давай! Обещаю, что наказан не будешь. Я карать за мысли не расположен - только за дурные поступки.
Молодой человек продолжал переминаться с ноги на ногу. Осмомысл вновь заговорил:
- Хочешь, помогу? Это я, по-твоему? Убиваю живность во время охоты? Разошёлся с матерью? Вас годами не вижу? Так?
У Владимира с перепугу стало мокро под носом; он достал из-за пояса вышитый платок и утёр потёкшую влагу.
- Ладно, не трясись, - посочувствовал ему Осмомысл. - И пойми, как взрослый. Я женился на вашей матери по необходимости - нас устраивал союз с Долгоруким. До сих пор испытываю к ней уважение - вместе прожили почитай десять лет, трёх детей родили… И она - моя жена перед Богом… Только сердце неровно бьётся по другой… Сердцу не прикажешь!
Сын не реагировал, лишь стоял понурясь, ковырял носком сапога край ковра на полу. А отец как бы подытожил:
- Правда у каждого своя. У тебя, у матери, у меня. И никак не получается всех объединить.
Юноша взглянул неприветливо:
- Верно ли болтают, будто ты решил завещать галицкий престол этому Олегу Настасьичу, но не мне?
Удивлённый родитель вылупил глаза:
- Господи Иисусе! Вот ведь негодяи!
- Кто? О ком ты?
- О зловредных тварях, распускающих сии сплетни. Можешь быть покоен: ты - наследник единственный, править станешь после меня. Но для этого должен много знать И уметь, а иначе хитроумные бояре обведут тебя вокруг пальца.
Яков завздыхал:
- Верно, обведут. Я зело доверчивый.
- Ничего, повзрослеешь - и поумнеешь.
- Ох, не знаю, не знаю, тятя, - откровенно признался отрок. - Мне иной раз так страшно: править целым княжеством! Миловать и наказывать! А кругом - зависть да измены. То ли дело - кролики да собачки: любят всей душою, преданы до гроба! Но уйти в монастырь и отдать добровольно власть Настасьичу тоже шибко жалко.
- О монастыре и не думай. Лучше я тебя оженю в скором времени. Ух, какой пужливый! Задрожал, будто бы осиновый лист.
Парень снова вынул платок и опять промокнул увлажнившийся нос. А потом спросил, сильно заикаясь:
- Присмотрел ли кого уже?
- Есть одна княжна на примете.
- Коли не секрет, кто такая?
- Про черниговского князя Святослава Всеволодовича слыхал?
- Про того, что умер нынешней зимою?
- Тьфу, окстись, не накаркай, дурень! Умер Святослав Ольгович, тот, за сына которого, Игоря, я давным-давно вроде бы шутя сватал Ярославну. Это дело прошлое. На его место сел теперь Святослав Всеволодович, много раз воевавший с Долгоруким. Он - один из наследников киевского престола, коли с Ростиславом, князем великим, что-нибудь случится, не дай Бог! Хорошо бы с ним заранее породниться. У него дочка Болеслава на выданье.
Было видно, как Владимир обдумывает сказанное. Наконец он проговорил:
- А не выйдет ли, тятенька, точно бы с тобою?
- Ты про что? Ответь.
- Женишь по нужде, из соображений галицкой выгоды. А любить Болеславу эту я не стану и присохну к какой-нибудь бабе на стороне?
Тут уж выдержка покинула Осмомысла. Он поднялся в гневе:
- Ты опять мне в глаза тычешь моей любовью? Сукин сын, щенок! И не надоело? Как решу, так и будешь делать! Рассуждать с тобой боле не намерен!
Княжич бросился к отцу в ноги, стал хватать его руки для поцелуя:
- Тятенька, прости! Я без умысла, но по глупости брякнул. Просто получается схоже - как тебя женили, так теперь меня… Вот и не сдержался. Не серчай, прошу!
Ярослав, всё ещё кипя, отнял кисть и сказал негромко:
- Полно, полно, не хнычь. Не давай волю чувствам. Я и сам вспылил понапрасну. Но вперёд учти: коль начнёшь бередить мои раны - не спущу, а и прокляну!
- Нет, не надо, я вести себя буду смирно!..
Уходя от сына, галицкий правитель подумал: «Не в меня пошёл. Сам не знает, чего желает. Боязно оставить на такого княжество. Может быть, действительно завещать Настасьичу? Ну, посмотрим, посмотрим, кто из них вырастет достойнее…»
Новые события отвлекли его мысли.
3
Не успел Ярослав проводить дочку в Венгрию, как ему доложили о прибытии двух вельмож, утверждавших, что один из них - брат его двоюродный, грек Андроник Комнин, а второй - двоюродный, но племянник, Ростислав-Чаргобай Иванович. Якобы бежали они из Константинополя, привезя привет от тётки - Добродеи-Ирины и другой двоюродной племянницы - Янки.
Подивившись, Осмомысл разрешил впустить.
Перед ним предстали молодой человек и уже достаточно зрелый мужчина, облачённые в несвежее, кое-где порванное платье, оба давно не бритые, в стоптанных и разбитых сапогах. Вид у них был довольно жалкий.
Повелитель Галича задал вопрос:
- Милостивые государи, как могу я поверить вам, что вы те, за которых выдаёте себя? Чем докажете?
Взрослый мужчина заявил:
- Никаких верительных грамот при себе не имеем. Брать с собою их было бы опрометчиво: не единожды нас задерживали враги и буквально чудом удавалось спасаться.
Юный подхватил:
- Но сестрица единокровная Янка много мне рассказывала о милости твоей, всемогущий княже. И о школе для девочек при монастыре, и о жизни их в Василёве вместе с Настасьей Микитичной… А жива ли ещё Арепа?
- Как не быть ей живою, старой губошлёпке? - пошутил галицкий владыка. - Мне сдаётся, что она вечна.
- А моя матушка и твоя тётка, дорогой Ярославе, мне доведала одну тайну. Я, раскрыв ея, видимо, смогу тебя убедить, что не самозванец.
Осмомысл уже понял, что пришельцы не лгут, но слова о тайне его озадачили. Он кивнул:
- Раскрывай, пожалуй.
- Есть на женской половине этого дворца, в тереме, небольшая горница, где жила сама Добродея. Там стоит печка изразцовая. И на каждом изразце свой рисунок. Коли приоткроешь плитку с нарисованным красным петушком, то найдёшь за ним кладик. Именно: шкатулку, где лежат драгоценные камушки. Матушка забыла их взять, уезжая в Константинополь.
- Я вельми сожалею, друзи, - продолжал улыбаться князь, - но проверить истинность сих слов ныне невозможно. Лет пятнадцать назад, как привёз я из Киева молодую жену Ольгу Юрьевну, стали мы тогда подправлять женские покои, а печные мастера перекладывали многие теремные печки…
- Ах, какая досада! - вырвалось у Андроника.
- …но в одной из них мы открыли кладик… где как раз красный петушок… в точности такой, как поведал ты! - Он поднялся с трона, подошёл к гостям и тепло их приветствовал: - Милости прошу в Галич! Рад обнять двоюродного братца! А с отцом твоим, Ростиславе, мы всегда враждовали. Ну да дети за отцов не ответчики. Янку я люблю, как родную дочь. И тебя от души привечу, коли ты не станешь знаться с недругами моими.
- Упаси Господь! - искренне ответил молодой человек. - Мы пришли к тебе с миром. И когда ты услышишь нашу гисторию, то поймёшь, что в себе не вынашиваем Умыслов недобрых.
- Счастлив слышать сие.
Дорогим гостям отвели лучшие покои. Те сходили в баньку и переоделись в чистое, поднесённое им от имени князя. Вечером втроём собрались отужинать. Ели знаменитых днестровских стерлядей и белуг, жареных фазанов и молочных поросят с хреном; пили крепкое вино многолетней выдержки из подвалов княжеского дворца; слушали, как поют юные чернобровые красавицы в шитых разноцветными нитками душегреях и с венками на смоляных волосах. «Можно ли зазвать одну из прелестниц к себе в одрину?» - распалялся Комнин, не сводя с женщин глаз. «Отчего ж нельзя? - ухмылялся князь. - Для родной души ничего не жалко. Выбирай любую!» - «Коли Чаргобай не доложит Янке», - забавлялся Андроник. «Так и быть, я оставлю сие в секрете, - пьяно отвечал Ростислав. - Да и сам не прочь с кем-нибудь из девушек разделить своё холостяцкое ложе…»
Беглецы из Царь-града рассказали о своих приключениях. В Малой Азии сели на корабль и поплыли по Понтийскому (Чёрному) морю на север, к Белгородской крепости. Но в порту Констанцы кто-то из береговой стражи указал пальцем на Андроника и назвал его имя. Сына Добродеи моментально схватили, Чаргобай же бросился в море с причала и успел добраться к своему отплывавшему судну. А красавца мужчину привели с завязанными руками к византийскому коменданту города. Тот сказал, что он лично не имеет ничего против Андроника, но не далее как вчера получили с гонцом депешу из Константинополя: отловить государственного преступника, убежавшего из башни Анемы, - и не подчиниться приказу он теперь не имеет права. Пленника повезли из Констанцы в Царь-град по суше.
Впрочем, претендент на верховный византийский престол проявил и тут недюжинную смекалку. Зная особенность своего желудка - через час расстраиваться после выпитого некипячёного молока, - с ходу осушил на одном из привалов целую крынку. И затем извёл своих конвоиров бесконечным требованием отлучиться в кусты. Те вначале стояли рядом, но в десятый или одиннадцатый раз разрешили отойти ему одному, наблюдая издали. Скрывшись в зарослях, он воткнул в землю палку и надел на неё плащ и шляпу, сам же отполз по-пластунски в ближайшую рощу да и был таков. Вскоре охрана забеспокоилась, бросилась к кустам и увидела, что её надули. Стала рыскать по лесу да куда там! - обнаружить Андроника византийцам не удалось.
Он пробрался в другой черноморский порт - Варну, нанялся матросом на купеческую ладью, плывшую в Тавриду (Крым), и благополучно добрался до заветной Белгородской крепости. Там увидел пришвартованным то самое судно, на котором они с Ростиславом отбывали из Малой Азии. Капитан его рассказал, что племянник Андроника, расплатившись за путешествие, собирался приобрести себе место на торговом судне, направлявшемся вверх по Днестру. Поиски не заняли много времени; и хотя судно с Чаргобаем отбыло уже по реке, сыну Добродеи удалось настигнуть его, двигаясь по берегу на коне. Встреча состоялась в двух вёрстах от Днестровского лимана. Далее они следовали вместе.
Подивившись этой замечательной повести, Ярослав сказал:
- Оставайтесь у меня сколько захотите. Я вам дам в кормление несколько моих деревень. Вот поедем охотиться в Тысменицу, там и вступите во владение. Заодно познакомлю с ненаглядной моей Настасьей. Ведь она родня тебе, Ростиславе: ваши матери были внучками ворожею Чаргу. Да у вас и в лице нечто общее: и глаза, и брови… кожа смуглая… Ты-то не ясновидишь?
Молодой человек мотнул головой:
- Матушка, как сделалась православной, ворожить перестала. И меня не учила. Но порой и без ворожбы я чую, что должно случиться в ближайшем будущем.
- Например?
- Накануне нашего с отцом избавления из неволи в Тырнове, мне во сне явился старец и заверил, что я скоро окажусь на свободе, а затем поплыву до Константинополя. Так оно и сбылось на деле.
Осмомысл цокнул языком, а потом заметил:
- Настя тоже ворожить опасается, дабы не гневить Господа. Но зато Арепку можно уговорить. Впрочем, она стара, а ея пророчества отнимают уж больно много сил. Может забояться.
- Мы уговорим, - легкомысленно заявил Андроник, - Нам, таким уважаемым людям, отказать не посмеет. Надо ж знать, что грозит каждому из нас!
Выехали из Галича целой кавалькадой - с трубными звуками рога, с развевающимся бело-красным знаменем галицких князей. А кругом стояли буковые леса первозданной красоты. В безупречно голубом небе истово палило солнце, ярко-жёлтое, как новорождённый цыплёнок. Высоко порхали стрижи, явно не предвещая ливня. В терпком, мятном воздухе деловито гудели дикие пчелы, располневшие от собранного нектара. А борзые собака князя, родовитые и степенные, иногда не выдерживали и как шавки, облаивали прыгавших по веткам белок и птиц.
- В райских кущах менее роскошно! - пошутил Комнин.
- Отчего? - спросил Ростислав.
- Чаровница была одна - несравненная Ева, да с не съеденным ещё яблочком Познания. А у нас впереди - целая Тысменица любострастниц!
- Кроме моей возлюбленной, - поднял палец кверху правитель. - На чужой каравай рот не разевай!
- Понимаем, вестимо. И Настасья Микитична для нас - существо святое, на которое покуситься грех.
- То-то же, приятели.
И сама охота на туров выдалась на славу. Уж на что Андроник был весьма искушён в королевских забавах, а и то получил много новых незабываемых впечатлений - от выслеживания зверя, травли, окружения; право победного выстрела из лука предоставили ему, и Комнин выполнил его с честью; крепкий красно-коричневый бык исподлобья смотрел, выставив вперёд закруглённые крупные рога; ноздри вздрагивали слегка, хвост вздымался и нервно падал, на губах были хлопья пены; выпученный глаз наливался кровью; и стрела, просвистя, пробила его висок; ничего не поняв, тур какое-то время простоял неподвижно, а потом сложился, как карточный домик, подогнув задние колени и упав на передние; а потом затих, подрожав в предсмертных конвульсиях. Жареное на костре его мясо было сочное, пахучее, девственно прекрасное. Жир струился по губам и ладоням охотников, капая с бород. Рядом грызли кости собаки. Искры от костра улетали в чёрное небо, превращаясь в звёзды.
То была незабываемая для Андроника ночь.
А потом весь отряд приехал в Тысменицу. Город оказался маленьким, тихоньким, уютным, весь в цветах я фруктовых деревьях. Купола церквушки, выкрашенные тёмно-синей краской (а не золочёные, как в Киеве или Галиче), представлялись игрушечными, детскими. И дворец Настасьи Микитичны, утопающий в зелени, вроде не деревянный, а пряничный, завораживал своей сладкой красотой.
На крыльце появилась сама хозяйка - в летнем длинном платье, красных шёлковых туфельках и венце, обтянутом дорогой тканью; глядя издали, каждый изумлялся её талии - рюмочной, осиной; приближаясь, видел тонкие изящные руки, кисти-лодочки, необычной долготы пальцы с длинными, искусно заточенными ногтями; а потом бросал взгляд и на лебединую шею, возвышающуюся над стоячим воротом, стиснутым дорогим ожерельем; наконец любовался самим лицом - чуть продолговатым, смуглым, чёрными глазами-омутами и прелестным рисунком алых губ, словно распустившейся алой розой. Да, в свои двадцать два года внучка Чарга не могла не заставить волноваться каждого мужчину - от четырнадцати лет и старше. Именно про таких говорят в народе: «Писаная красавица».
Что уж говорить про Андроника - ненасытного женолюба, возбуждавшегося от малейшего шороха и запаха юбок! От подобного совершенства он стоял словно громом поражённый, ел Настасью глазами и, как мальчик, чувствовал биение своего сердца. А Берладников сын узнавал в чертах Настеньки многие черты своей матери, и ему хотелось расплакаться и, упав на колени, скрыть лицо в складках её платья.
Неожиданно из дверей показался худенький невысокий мальчик, стриженный «под горшок», очень напоминавший Ярослава, только с густыми тёмными бровями и карими глазами. Оба поклонились приезжим.
Осмомысл поднялся на крыльцо первый и, поцеловав красавицу в щёку - смачно, звонко, взял сынишку на руки, тоже поцеловал и на землю не отпустил. Повернулся к гостям с улыбкой:
- Вот знакомьтесь с моими дорогими людьми. Нет на свете никого для меня любимей! Да простит мне Господь эти не слишком праведные слова!
Настенька тепло раскланялась с Чаргобаем и при том отметила:
- Я прадедушку Чарга помню смутно, но, сдаётся мне, ты вельми на него похож.
- Ну, а ты похожа на мою маму Тулчу, - покраснев, признался молодой человек.
- Половецкая кровь сильна! Вот ведь кукушата, подброшенные в разные гнезда, вытесняют других птенцов, так и кровь диких степняков подавляет все остальные, что текут в наших жилах. Правда ли, Андроник? - И она взглянула на красавца мужчину, не скрывая кокетства.
Не сводя с неё обезумевших глаз, он ответил:
- Нет, славянская кровь тоже не слаба. Я, пожалуй, больше чувствую себя русским, чем ромейским греком.
- А по цвету волос не скажешь! - рассмеялась женщина, намекая на то, что Комнин брюнет.
- Но зато в душе русский. Полюбил охоту на туров всей душой. И к Тысменице, данной мне в удел дорогим двоюродным братом Ярославом, тоже привяжусь всем сердцем.
- Значит, получается, мы теперь твои подданные? - повела бровью Настя. - Можно ли рассчитывать на твою благожелательность к нам?
- Если я увижу взаимность…
- О, христианскую - безусловно. «Возлюби ближнего своего, как себя самого».
- О другой взаимности я и думать не смею.
- Именно: не смей! - И, взмахнув юбками, молодая женщина поспешила вслед за другими мужчинами.
Проводив её взглядом, сын Ирины подумал: «Смею, смею. Только надо действовать тонко, мягко, ненавязчиво, чтобы не узнал Осмомысл».
День прошёл прекрасно: лакомились домашними пирогами, пили домашнее пиво, отдыхали в саду под отягощёнными зрелыми плодами яблонями и грушами, забавлялись игрой в кости (побеждал исключительно Андроник), любовались вечерней зорькой - как огромное красно-рыжее солнце прячется за кронами деревьев дальнего леса. А в вечерних сумерках вспомнили про Арепу - стали уговаривать её погадать. Та вздохнула тяжко: «Ох, уморите вы меня этими проказами», - но покорно легла на стол - погружаться в транс. Настя держала свечку у её изголовья.
- Мамушка Арепушка, слышишь ли меня? - спрашивала она тихо.
- Слышу…
- Видишь ли Андроника, грека из Царя-града?
- Вижу, вижу…
- Что ты видишь? Долго ли скитаться ему?
- Нет, недолго… В скором времени он отбудет на родину…
- Станет ли затем императором?
- Станет, но не сразу… тысячу невзгод прежде перетерпит…
- Много ли процарствует?
- Года два, не боле…
- А потом? Отчего оставит престол? Нянька промолчала, крепко стиснув зубы.
- Мамушка Арепушка, слышишь ли меня?
- Слышу… - очень слабо проговорила старуха.
- Видишь ли Ростислава, что доводится племянником Осмомыслу?
- Вижу…
- Долго ли скитаться ему?
- Очень долго. Почитай что цельную жизнь…
- Стает ли он князем в Галиче или же в других землях?
- Нет, не станет. Токмо у других князей служить будет.
- Много ль проживёт он на свете?
И опять колдунья не ответила на главный вопрос.
- Мамушка Арепушка, - в третий раз произнесла Настя, - слышишь ли меня?
- Слышу, слышу…
- Видишь ли Олега Настасьича, сына моего дорогого?
- Вижу…
- Вырастет ли в здравии?
- Вырастет, вестимо…
- Станет ли он князем в Галиче или же в других землях?
- Станет… обязательно станет…
- Много ли прокняжит?
- Нет, немного, меньше полугода…
- А потом? Отчего оставит престол?
Старая женщина скрючилась, начала подёргивать шеей, бить руками и ногами в крышку стола. Испугавшаяся правнучка Чарга шлёпнула её по темечку, чтобы вывести из самогипноза, но уже было поздно. У Арепы начались предсмертные судороги и удушье. Изогнувшись и ударившись затылком о твёрдое, чародейка затихла. Как ни звали её по имени, как ни тормошили, - к ней сознание больше не вернулось. Настя, плача, целовала покойницу и молила простить их всех. А подняв зарёванное лицо, с ненавистью сказала:
- Сё Андроник виновен. Ты пошто заставил няньку гадать?
- Мы ж не думали… - принялись оправдываться мужчины. - Разве ж кто желал ея смерти?
- Убирайтесь, слышите? Дайте мне одной попрощаться!..
Удручённые Ярослав, Чаргобай и Андроник вышли на крыльцо. Ночь стояла тёплая, звёздная, безлунная. Где-то между брёвен стрекотал сверчок - тонко, жалобно, вроде бы оплакивал половчанку-волшебницу.
- Жаль несчастную, - сокрушённо сказал галицкий правитель, - добрая была и весёлая, с Настеньки пылинки сдувала…
- А однако же кое-что поведала любопытное, - отозвался Комнин. - Будто бы добьюсь императорства… Ха! Занятно!
- А меня, судя по гаданию, ждёт нелёгкая доля, - сумрачно вздохнул сын Ивана. - Княжить, вишь, не стану…
- Так ещё неизвестно, что слаще - княжить иль не княжить, - бросил Осмомысл. - Средь князей истинно счастливых людей немного… Про Настасьича тоже напророчила странное: коли станет княжить, стало быть, Володька помрёт? Али отречётся? Ох, тревожно мне, друзи, боязно!..
Во дворе у кого-то залаяла собака, ей ответила вторая и третья. Но потом всё смолкло. И Тысменица, и Галиция погружались в сон. Надо было набраться сил, чтобы выдержать все дальнейшие испытания.
4
Главным врагом Ярослава в то нелёгкое лето сделался, как ни странно, византийский император Мануил I Комнин. Надо сказать, что его сестра Елена, изгнанная Андреем Боголюбским из Суздаля и переживавшая за судьбу своей дочери, Ольги Юрьевны, поливала зятя почём зря. А к самой сестре Мануил отнёсся очень нежно: поселил её с дочерью и младшим сыном у себя во дворце, старшим же её сыновьям выделил во владение несколько византийских городков в среднем и нижнем течении Дуная. И прислушивался к тем оценкам, что она давала галицкому князю.
Тут ещё пришли два недобрых для императора известия. Первое - о готовящемся бракосочетании Евфросиньи Ярославны с Иштваном III, упрочающем союз между Венгрией и Галицией. И второе - о прекрасном приёме, что оказан был Ярославом Андронику Комнину, убежавшему из башни Анемы. Этого стерпеть Маниул не мог.
Посоветовавшись с сестрой и своим помощником - евнухом Фомой, он отправил в Киев своего посла, близкого родича, чтобы тот уговорил великого князя не поддерживать Галич и Венгрию в случае войны с Византией, сохраняя нейтралитет. Князь, польщённый столь высоким визитом и богатыми, ценными дарами, с радостью согласился выполнить все условия.
Далее правитель Константинополя вызвал к себе из Австрии герцога Генриха Язомирготта (тот был женат на племяннице Мануила) и послал его с аналогичной миссией к Фридриху Барбароссе, императору Священной Римской империи. В эту империю входили Германия, часть нынешней Швейцарии и Север Италии. Герцогу также удалось заключить соглашение - если и не поддерживать Византию открыто, то и не сражаться на стороне её недоброжелателей.
В-третьих, глава Царь-града снарядил посольство к самому Осмомыслу, предъявив ему следущие требования: а) не поддерживать Венгрию в её войне с Византией; б) разорвать помолвку Евфросиньи и Иштвана; в) возвратить Андроника на родину.
Состояло посольство из двух византийских митрополитов - Дионисия и Григория. Прибыли они в конце августа 1165 года и остановились в покоях старого епископа галицкого Кузьмы. Тот отправился во дворец к князю, чтобы доложить обстановку. Но навстречу ему вышел Кснятин Серославич и сказал, что владыка не принимает, так как нездоров и находится у себя в одрине.
- Что такое с их светлостью? - испугался церковный иерарх.
Оглядевшись по сторонам, не подслушает ли кто из челяди, и понизив голос, первый из бояр вопросил:
- Ты не знаешь разве?
- Нет, не ведаю, истинно не ведаю! - и перекрестился.
- Тимофей донёс, будто бы Настасья спуталась с Андроником.
У епископа перехватило дыхание:
- Да не может статься! Ведь такая присуха у них была…
- Получается, что сплыла…
- Слава Богу! Может, образумится Ярославка-то, проклянёт сию ведьму половецкую и вернётся в лоно семейства?..
- Надо уповать. А пока света Божьего не видит, плачет и не ест ничего. Страшно поглядеть.
- Хорошо, хорошо, пусть покается. Поблудил - ответь. За грехи-то положены муки да терзания. - Он огладил совершенно белую бороду, покачал головой в синем клобуке и продолжил: - Лишь бы смертоубивство не учинил по глупости.
Кснятин криво усмехнулся:
- Ой, какое смертоубивство! Нешто он способен на сё? Прежде чем букашку прихлопнуть - трижды повздыхает да передумает. А Настасью он любит, несмотря на измену.
- Но Андроника теперь вышлет. Собственно, посольство за сим и прибыло.
- Вероятно, вышлет, - согласился вельможа. - Остальные претензии Мануилки вряд ли выполнимы. Мы ж уже отправили нашу дружину во главе с Избышкой - драться на стороне унгров супротив греков. Там и половцев ещё - видимо-невидимо вместе с нами… Да и Фросю не вернёт, знамо дело. Коль уже сговорено…
- Жалко, жалко. Нам с Царём-градом воевать не пристало. Мы ведь православные, веру приняли по греческому канону. С латинянами-унграми русским не по пути.
А боярин же только отмахнулся:
- Я твердил Ярославу много раз. У него одно на уме: «Иеропия, Иеропия»! «Унгрия да Ляхия»! Срамно слушать… Но теперь, ежели расстанется с Наськой да помирится с Ольгой, Мануилковой племянницей, может быть, одумается, переменит взгляды.
- Помоги Господь! Мы молиться станем за сё. А уж ты, Кснятинушка, подсоби встрече Ярослава с митрополитами. Ить они послание к нему привезли от его императорского величества…
- Постараюсь, отче.
Да, вначале Осмомысл не поверил сообщению Тимофея об измене Настеньки и, схватив его за грудки, чуть не задушил, повторяя: «Врёшь! Не может быть!» Тот хрипел и боясился: «Истинно, поверь! Вся Тысменица уже знает… Над тобою смеются…» Князь обмяк, сморщился, затих. Глядя вдаль, в окно, сам себя спросил: «Что ей не хватало, дурёхе? Нешто я любил ея мало?» Тимофей, поправляя вылезшую из-за пояса рубаху, сокрушённо ответил: «Может быть, и мало. Бабы - существа непонятные. Сами зачастую не ведают, что хотят. Сладкого объевшись, наслаждаются горьким. Всё у них не так, как у нас, мужей…» - «Может, возжелала стать императрицею? Так Андроник женат…» - «Мало ли чего ей наплёл!» Галицкий правитель голову откинул назад, смежил веки и проговорил одними губами: «Настя, Настя! Как же ты обидела меня больно… отплатила злом на добро… Никогда не смогу простить - никогда, никогда…» - и заплакал. А его слуга и товарищ подумал: «Сможешь, к сожалению. Приползёт, покается - и простишь».
Целую неделю пролежал он пластом, никого не желая видеть, ни о чём не желая слышать и отказываясь от пищи, только воду пил. Но к концу недели кое-как опомнился, съел овсяной каши и позвал к себе Серославича для доклада. Выслушав его, а особенно - о посольстве из Византии, повелел позвать двух митрополитов, чтобы получить от них послание императора.
Встреча состоялась день спустя. Ярослав уже во многом воспрянул, хоть и выглядел довольно бледным, говорил приветливо, потчевал приезжих гостеприимно. Те отметили его дружелюбие и учтивость, совершенное отсутствие спеси, тонкие замечания по соотношению сил в Европе и по интересам Галиции в этой связи. «Если Его Величество не гнушаются заключить союз с бусурманами-сарацинами, то сам Бог велел не вести войну с братьями-христианами - будь то латиняне унгры, будь то православные мы, - говорил им русский. - А тем более что я родственник Комнинов - через Добродею-Ирину и Ольгу Юрьевну. Мы с последней были в ссоре, но в ближайшее время сможем замириться и восстановить разрушенную семью». Прочитав письмо византийца, писанное по-гречески, собственными глазами и поняв его совершенно без переводчика (это обстоятельство также удивило Дионисия и Григория), Осмомысл сказал:
- Что ж, Андроника мы отправим восвояси вместе с вами. Здесь даны гарантии его безопасности, я им верю и надеюсь, поверит мой двоюродный брат. Наши с ним отношения осложнились, и задерживать у себя доле не хочу. - Он задумался на одно мгновение, а потом продолжил: - с Унгрией сложнее. Боевые действия уже начались, отзывать Избыгнева и дружину поздно. Но в дальнейшем обещаю не поддерживать короля Иштвана в распрях его с Константинополем… А касаемо судьбы дочери… - Ярослав раскатал пергамент. - Здесь написаны такие слова… «Знай, что ты отдаёшь свою дочку за злонравного и бесчестного человека, ибо никогда не внимал он ни праву, ни истине… Коли брак состоится, мы его не признаем законным, а сочтём лишь любовной связью…» Что имеет в виду император?
Дионисий ответил:
- Двоежёнство не поощряемо Церковью Святой.
- Двоежёнство? О чём вы?
- Иштван уже сговорён с дочерью герцога Эррика Остерайхского.
- Полно, это шутка. Евфросинья Мстиславна, вдовствующая королева Унгрии, не пошла бы на подобный обман.
- Видимо, боялась, что Галиция не поможет иначе войсками, - объяснил Григорий. - Унгры - клятвопреступники, верить им нельзя.
Потрясённый князь нервно скручивал и раскручивал свиток грамоты. Произнёс подавленно:
- Всё равно не верю. Ведь ко мне приезжали из Унгрии бояре, привозили дары от ея величества… приглашали дочь - сами приглашали!.. - и при сём договаривались с другой?
- Наше дело - предупредить, а решать будет ваша светлость.
- Я пошлю к унграм своего вельможу, дабы он проверил весть. Да и в случае чего - вывез дочку обратно в отчий дом. Обещаю, господа: коли свадьба Ярославны расстроится именно по причине вероломства Иштвана, я порву с ним союз и, пожалуй, перейду на сторону Царя-града в битве вашей за город Землин и владения унгров в Сербии.
- Несомненно, его императорское величество был бы весьма рад этому повороту взглядов у владыки Галича…
Мастера интриги, византийцы умело вели тонкую игру. Кснятин Серославич, по приказу Ярослава приехав в Тысменицу, заявил Андронику, что ему в приюте отказано; что митрополиты привезли послание Мануила, где он заверяет двоюродного брата о помиловании и восстановлении добрых отношений; что для возвращения в Византию нет препятствий.
Сын Ирины-Добродеи выслушал сообщение с кислой миной, а потом спросил:
- Чем я вызвал неудовольствие Осмомысла?
- Нас не уполномочили говорить о причинах.
- Но твоё собственное мнение?
- Мне неловко его высказывать. Ваша честь и сама знает.
- Ты про что?
- Про отдельные обстоятельства личной жизни вашей чести в Тысменице.
- Стало быть, о них доложили князю? Серославич развёл руками:
- Земли наши невелики, Русь - большая деревня, все друг друга знают, и секреты сохранять невозможно.
- Но в таком случае не грозит ли опасность для небезызвестной тебе особы женского пола, если я уеду один? Видимо, она подвергнется унижениям и опале?
- Я бы не исключал данной вероятности, - скромно ответил Кснятин. Он, всегдашний противник связи Ярослава и Настеньки, умирал от желания удалить её с глаз правителя - и чем дальше, тем лучше.
- Хорошо, мы отбудем вместе.
- Князь предвидел и это. Он просил передать, что Олег Настасьич с вами не поедет и останется дома.
Рассердившись, Комнин ответил:
- Ярослав жесток. Забирать ребёнка у матери! Да она не захочет расстаться с мальчиком.
- Пусть подумает и сделает выбор.
У Андроника глаза сделались колючими:
- Мы обсудим и решим в ближайшие дни.
- Дело не терпит отлагательств. Послезавтра в путь.
- Послезавтра?! - с удивлением повторил византиец. - Осмомысл смеётся надо мною, человеком одной крови с императором?
- Осмомысл не прощает нанесённых ему обид.
Сын Ирины нахмурился и проговорил недовольным тоном:
- Послезавтра так послезавтра. Передай, что я выполню все его условия.
Вскоре судно с двумя митрополитами и другими членами константинопольского посольства отбыло из Галича. Их до устья Днестра провожал епископ Кузьма. Близ Тысменицких лесов на ладью сел Андроник с Настасьей. Ростислав-Чаргобай, испросив дозволения князя поступить к нему на воинскую службу, получил согласие и в дорогу не собирался. Только обнял обоих путников и сказал на прощанье:
- Я вельми переживаю за Янку. Как она воспримет, что с тобою прибудет иная женщина? Очень мне прискорбно сие. Жаль, что не смогу поддержать ея сам.
- Янка сильная, - отвечал Андроник, - безусловно, справится.
- Ой, не знаю, не знаю. В ней отцова кровь, а она такая: если возненавидит кого, то безудержно, яростно и зло.
- Не убьёт же она меня! - снисходительно улыбнулся красавец мужчина.
- Может, и убьёт.
Настенька едва не теряла сознания от переживаний, опиралась на руку любовника и старалась не смотреть в глаза окружающим. Если бы спросили её: как же ты смогла, отчего решила круто изменить свою жизнь? - то, наверное, внучка Чарга не нашла бы достойного ответа. Всё произошло неожиданно, бурно, странно…
Да, конечно, Андроник ей понравился с первого же взгляда. И не столько правильными чертами лица, умными глазами, белозубой улыбкой, сколько бархатным басовитым голосом, словно бы клокочущим у него в горле, и заветными сладкими словами, что он говорил. Став главой в Тысменице, часто заезжал, оставался ужинать. Рассуждал занятно, строил фразы необыкновенно красиво, остроумно, образно - женщина могла его слушать часами. Ярослав, разумеется, был не хуже, мудрый, тонкий, ласковый, - но уже привычный, без интриги, без неизвестности… А Комнин притягивал неразгаданной тайной, силой, темпераментом… И однажды она сдалась. Это было жаркой августовской ночью. Византиец приехал ужинать и остался. Может быть, они слишком много выпили? Или эта ночь, душная и знойная, явно предгрозовая, притупила их волю и дала распахнуться чувствам? Как определить?.. Он ласкал её страстно, сильно, даже грубовато, чем весьма отличался от всегда с нею нежного Осмомысла, целовал-кусал, а потом внезапно погрузил своё лицо в её лоно и губами начал втягивать возбуждённую до предела плоть, отчего стало так приятно, что она даже закричала от наслаждения. Мысли перепутались, и кипящая любовная лава обожгла обоих, захлестнула, утопила в себе… и уже не позволила выбраться наружу, жгла всё время, не давая расстаться… Чад, угар, сумасшествие…
И когда встал вопрос: уезжать ли с возлюбленным или же остаться с ребёнком, Настя предпочла первое. И не потому, что боялась гнева князя, и не потому, что была плохой матерью. Просто не могла без Комнина больше. Словно заболела, словно попала в гипнотическую зависимость, постоянно испытывая ненасытную жажду общения с ним, ни о чём другом думать не хотела.
Но, вступив на корабль и уже отчалив, видя, как бурлят за бортом синие днестровские воды, а фигурка Ростислава на берегу отдаляется, уменьшается и теряет чёткость, вдруг похолодела: «Боже, что я делаю?! Для чего покидаю эти края? Кем я стану в Царе-граде? Новой императрицей, как сулит мне Андроник, или брошенной надоевшей наложницей? Что скажу Янке? А Олежка? Он пока маленький, поревёт и забудет, - а потом, через много лет, сможет ли простить?» - и представила его бледное, унылое личико, полные слёз глаза, плачущий безутешный голос: «Мама! Маменька! Не бросай меня! Мне тут без тебя будет сильно плохо!..» - и едва не бросилась головою в волны, чтобы возвратиться назад. Сын Ирины понял её состояние, обнял, поцеловал:
- Полно, не терзайся, поверь: он не пропадёт. Ты нужнее мне.
- Нет, неправда, - сокрушённо сказала Настя. - Маленький, беззащитный… без отца и матери… кем он вырастет?
- Ярослав его не покинет. Помнишь ли гадание старой няньки? Твой Настасьич сделается князем.
- На короткое время…
- И короткого времени иногда бывает достаточно, чтобы люди тебя навсегда запомнили. Мне она тоже предрекла недолгое царствие. Лучше быть кометой на небе, чем свечой в склепе.
- Ах, Андроник! - с горечью воскликнула внучка Чарга. - У меня сердце разрывается на две половинки. Понимаю, что поступаю дурно, но иначе поступить не могу.
- И не надо. Мы нашли друг друга, и у нас родятся новые дети. Не простые, а принцы крови, будущие повелители необъятной империи. Это ли не счастье?
Настенька уткнула лицо в складки его кафтана и глаза зажмурила, словно бы боялась белого света; тихо произнесла:
- Счастье, счастье… Будет ли оно?
В тот же день Осмомысл, как ему доложили об отъезде матери Олега, поскакал в Тысменицу. Ехал и скорбел, каждый миг вспоминая: тут они с Настенькой катались верхом, тут купались в речке, тут сидели на траве, ели вишни и стреляли косточками - кто дальше… Первая и последняя его любовь в жизни. Больше такой не будет. Впереди - только пустота, вялое примирение с Ольгой, возвращение её в Галич, внешнее благообразие, появление на людях вдвоём; но в душе останется вечный холод, незаполненность никем и ничем, одиночество и неверие; невозможность никому открыться начистоту… Старшие дети к нему безразличны; только Ярославна была привязана, но она теперь в Венгрии; а Олег ещё слишком мал… Но оставить всех и уйти в монастырь тоже не получится - совесть не позволит, стыд пред галичанами, перед Русью; коли взял на себя ответственность - не пасуй, тяни; как Господь Бог Иисус Христос крест на себе понёс на Голгофу, падал, но тащил; каждому положено крест на себе нести, на котором тебя же распнут…
Город был по-прежнему тих. На дворе дворца князя приветствовала дворня, Ростислав-Чаргобай низко поклонился и возвестил:
- Все, кто собирался уехать, отбыли. Дом пустой.
- Где Олежка?
- У себя в светёлке.
- Я пройду к нему.
Мальчик бросился на шею к отцу и обвил ручонками ворот его рубахи. Радостно сказал:
- Тятенька, родимый! Ты меня не бросишь? Галицкий правитель нежно поцеловал сына в щёку и провёл ладонью по каштановым шёлковым волосам:
- Нет, как можно! Мы с тобой навек вместе.
- Да, а маменька нас покинула. С этим противным греком. Я ея ненавижу!
- Милый, так нельзя говорить. Что бы она ни сделала, будет неизменно твоею маменькой. А родителей почитать нам наказано свыше. И ругать, проклинать их - тягчайший грех.
Паренёк надул губы:
- Как ея любить, если нас она любить не желает?
- Нет, она по-прежнему любит. Уж тебя-то во всяком случае. А с другой стороны, у любви нет правил; можно любить и безответно.
- Ты ея любишь безответно? - Мальчик с интересом заглянул в глаза Ярославу.
Тот слегка смутился, голову склонил. Но ответил твёрдо:
- Не люблю. - Поразмыслив, поправился: - Мне теперь до нея дела нет.
- Ну, а коли она вернётся - что, простишь? Улыбнувшись, родитель снова поцеловал его в щёку:
- Пусть сперва вернётся. Там посмотрим!
Усадил Олега на лавку, рядом с ним устроился, начал разговаривать как со взрослым: мальчик будет жить во дворце в Тысменице, при наставнике Тимофее, слушаться которого должно беспрекословно, тот отчитываться начнёт перед князем каждую неделю, а как выдастся у отца свободный денёк, он и посетит любимого отпрыска, чтобы вместе провести время.
- Приезжай-ка почаще! - попросил малыш. - С Тимофеем-то я в ладах, только он не родитель мой, мне бывает с ним скучно. Ни тебе попрыгать, ни тебе порезвиться…
- Я тебе привезу борзого щенка. Вот ужо с ним набегаешься как следует!
Сын вздохнул:
- Борзый пёс - это хорошо. Я его любить стану. Только всё одно не заменит ни маменьки, ни тятеньки…
5
Самодержец Византии Мануил I одержал победу на всех Фронтах. Несмотря на поддержку половцев и дружины Избыгнева Ивачича, Венгрия потеряла город Землин и свои владения в Сербии. Иштван разорвал помолвку с галицкой княжной и женился на дочери Генриха Язомирготта (Эррика Остерайхского), родича императора. А мятежный Андроник возвращался на родину. Дипломатия Осмомысла потерпела крупное поражение.
Впрочем, единственным русским человеком, кто обрадовался этому повороту событий, оказалась, как можно догадаться, Евфросинья-Ярославна. Девочка светилась от счастья, щебетала и пела, целовала своих мамушек и нянюшек, повторяя торжественно: «Едем, едем обратно в Галич! Господи Иисусе! Как же я довольна!»
С самого начала путешествие в Венгрию ей не нравилось. Ехала и плакала, даже буйство зелени на Карпатских горах, запах земляники и чудесные трели птиц не могли отвлечь безутешную Фросю от печальных дум. А дворец короля выглядел суровым и мрачным - с тёмными зубчатыми стенами, узкими бойницами и глубоким рвом. Тёзка - Евфросинья Мстиславна, вдовствующая королева, - хоть и приняла её с живостью, любопытством, радушием, не внушала особой симпатии своей внешностью, характерной для рода Мстиславичей, чем-то напоминавших жаб. Иштван выглядел получше, переняв от покойного отца, Гейзы II, тонкий профиль и красивый, чуть раздвоенный подбородок; но зато вёл себя надменно, а на будущую невесту свысока поглядывал (судя по всему, вариант женитьбы на галичанке, посетивший его мамашу, сына не вдохновлял). Он сказал на ломаном русском (видимо, уроки Петра Бориславича не пошли ему впрок):
- Отчего ты такой худьючий? Кушал мало каши? - и залился язвительным смехом, радуясь своему остроумию.
Фрося ему ответила кротко:
- Я ещё потолстею со временем. Маменька у меня полныя.
Тот немедленно сморщился:
- Фи-и, не надо! Полная, как свинья, есть намного хужей!
Девочка потупилась:
- Ваше величество, вам не угодишь.
- Угодишь - можно угодишь! Надо стать не полный и не худый, а красивый и стройный, как я!
В общем, невеста и жених друг от друга не были в восторге.
Ярославну поселили на женской половине дворца и приставили к ней нескольких наставников - двух мужчин и трёх дам. Первые обучали её языкам и Закону Божьему, а вторые - светскому этикету, музыке и пению. Педагоги отмечали усидчивость дочери Осмомысла, аккуратность и живой, ясный ум. Правда, католические каноны оставляли её достаточно равнодушной (золотая пышность православной церкви выглядела наряднее), а латынь нагоняла скуку; но зато правила хорошего тона в обществе, верное построение речи, хоровой вокал под орган занимали княжну немало. И ещё она любила коротать время в садике дворца, поливать цветы и кормить королевских голубей.
Неожиданный приезд Олексы Прокудьича всё переменил: галицкий боярин, прибывший со свитой, долго беседовал с королевой-матерью и ушёл от неё рассерженный, оскорблённый, выяснив, что действительно Иштван отдаёт предпочтение новой невесте. Заглянув в покои княжны, заявил угрюмо:
- Матушка, мой свет, собирайся в дорогу. По приказу его светлости князя Ярослава должен возвернуть тебя в отчий дом.
- Ой! - захлопала ресницами девочка. - Значит, что, Стёпка не жених мне боле?
Потряся седой шевелюрой, пожилой вельможа ответил:
- Стёпка твой - болван и прохвост, мы ему тебя не дадим, даже если станет в ножках у нас валяться!
- Боже мой, Олексушка, дорогой, можно я тебя поцелую?
Тот заулыбался:
- Фросюшка, голубушка, я почту за честь! - И они крепко обнялись, хохоча от счастья.
Всю обратную дорогу юная наследница Ярослава ликовала, то и дело шутила, балагурила, с удовольствием показывала Прокудьичу, как её выучили петь на латыни, как она танцевала однажды в городской ратуше, и комично изображала королеву-мать и её надменного отпрыска. А боярин хватался от смеха за живот, слёзы утирал, причитая: «Ты меня уморишь, матушка, мой свет! Я давно так не веселился, ей-богу!»
Наконец приехали в Болшев, где на Фросю обрушился ворох новостей: ведьма Наська охмурила заезжего византийца Комнина и сбежала с ним, бросив в Тысменице своего ублюдка; князь пошёл на мировую с Ольгой Юрьевной, и они всем семейством перебираются в Галич; братца Владимира-Якова сговорили с дочерью черниговского князя Святослава Всеволодовича, и весной будущего года состоится свадьба. И дворец в Болшеве шевелился, как муравейник: в сундуки складывались вещи, в кузне подковывались кони, на поварне готовилось столько еды, словно дорога предстояла неблизкая, а не час всего. Мать была озабочена, наблюдая за сборами, но приветствовала дочку тепло и произнесла в утешение:
- Не переживай, что пришлось вернуться. Свет на унграх клином не сошёлся.
- Ой, да что ты, маменька, я вельми довольна. Лучше остаться в девках, чем страдать за этим Степашкой-замухрышкой!
Долгорукая хмыкнула:
- Скажешь тоже - «в девках»! Ты у нас красавица, если уж не в Киев и не в Новгород Великий, то в Смоленск али Новгород-Северский непременно пристроишься.
- Да, а вдруг там засомневаются: дескать, коль ея в Унгрии отвергли, то и нам брать не след?
- Чепуху городишь. Породниться с лучшим домом Руси, с князем, что собой подпирает юго-западные границы и соперничает с Царём-градом, честь любому. Бабка у тебя императорской крови! Надо понимать! - А потом опять вспомнила про собственные дела: - Чем вздыхать да охать, присоединяйся к хлопотам нашим. Завтра на рассвете выезжаем к отцу.
- Радость-то какая! Тятенька-то что? Весел аль уныл?
- Как же, весел! Ходит чёрной тучей, злится на себя и на всех. Ничего, привыкнет. И отец Александр то же говорит. Обчими потугами выдавим из сердца его заразу.
- Было б хорошо. - А сама подумала: «Нешто же присуха - зараза? Но, с другой стороны, если от нея дети страдают и жена, то она хуже хвори. Бедный тятенька! Помоги ему излечиться, Господи! Накажи проклятую половчанку, чтоб ей пусто было! Извела и его, и маменьку, и нас…»
Встретила сестрицу Ирину. Та за эти месяцы откормила живот и щёки ещё сильнее, смачно ковыряла в носу, запустив в ноздрю половину пальца, и смотрела на мир сонными глазами. Столкновение на лестнице с Евфросиньей совершенно её не тронуло.
- Перестань сейчас же! - закричала Ярославна от ужаса. - В Унгрии меня обучили: ковырять на людях в носу, ухе и зубах, ветры пускать и рыгать не пристало августейшим особам, коими мы являемся.
Младшая дочка Осмомысла вытащила палец вместе с леноватой «козой», вытерла её о перила лестницы и проворила, зевая:
- В Унгрии одно, на Руси другое. Нам до этой Иеропии дела нет.
- А коль скоро выдадут тебя замуж за какого-нибудь емецкого прынца? Опозоришь всех!
- Чья б корова мычала, а твоя б молчала! - И толстуха сунула язык. - Не меня, но тебя из Иеропии выгнали. Так что не особенно задавайся!
Старшая едва не расплакалась от подобной несправедливости.
Но зато брат Владимир неожиданно обрадовался появлению Фроси, обнял горячо и воскликнул:
- Не грусти, сеструха, жизнь у нас токмо начинается! Завтра едем в Галич! А в отцовой псарне собак - настоящая свора! Он меня теперь будет приглашать на охоту.
- Вот те раз! - удивилась девочка. - Ты всегда считал, о охотиться - значит поступать не по-божески?
- Получается, что впадал в заблуждение. Диких зверей жалко. Диких убивать не грешно.
- А по мне, так любую тварь надо уважать.
- И клопов? И мух? А когда тебя комары кусают - хлопать их не смей? - Он развеселился. - Нет, моя голубушка, доброты не напасёшься на всех. А охотясь, я войду в доверие к тятеньке. Он и не откажет мне в троне.
- Поступай как знаешь. Только всё равно кабанов и туров отчего-то жаль.
Галич встретил их колокольным звоном, вынесенным боярством хлебом-солью и благословением от епископа Кузьмы, что успел вернуться от низовий Днестра, проводив митрополитов из Византии. Кснятин Серославич, поклонившись княгине, живо облобызал её пухлые перста и сказал:
- Наконец-то, матушка, ты покинула Болшев. Галич был всегда за тебя. А теперь, на радостях, будем бить челом - отпустить Вонифатьича на волю. Пусть живёт в имении, нежели в узилище.
- Как он там, здоров?
- Похудал, но жив.
- Мы его в беде не оставим.
Осмомысл спустился с крыльца, а приезжие стояли, склонившись; челядь же упала перед ним на колени. Он приблизился к Ольге, обнял и коснулся трижды щекой щеки, но поцеловать не соблаговолил, - это все отметили. Лишь облобызался с детьми, Якова по-дружески ущипнул, а любимицу Ярославну удостоил словами:
- Рад, что ты совсем не кручинишься по несостоявшейся свадьбе.
- А чего ж кручиниться, коли Господу было так угодно?
- Правильно толкуешь. Женихов и у нас - пруд пруди. Подберём достойного.
Девочка откликнулась:
- Только не из Мстиславичей. Больно они похожи на жаб.
Все вокруг рассмеялись. А отец ответил с улыбкой:
- Интересное наблюдение. Я его обдумаю.
На дворе чуть поодаль стоял Ростислав-Чаргобай; Галицкий владыка дал ему в правление земли близ Тысменицы, он хотел уехать ещё вчера, но решил задержаться, чтобы посмотреть на Ольгу с семейством. Молодой, стройный, загорелый, с угольями глаз, перешедшими к нему от матери Тулчи, с крепкой шеей от отца Ивана, витязь был пригож и ловил на себе взоры многих женщин. В том числе и Фроси. Та взглянула и тотчас опустила веки. И подумала: «Вот бы за кого я пошла!» «Как же хороша юная княжна! - в то же самое время оценил её троюродный брат. - Я бы взял такую. Может быть, посвататься? Нет, остерегусь. Доброты Ярослава для меня достаточно. Как бы не прослыть наглецом!» Но приятное личико Евфросиньи не давало ему покоя много дней. Да и он часто приходил к ней во сне. Встретились они зимой 1165 года, после Рождества, в пору Святок.
6
Новый-старый быт в княжеском дворце постепенно наладился. Ольга Юрьевна вновь командовала вовсю - и хозяйственной жизнью, и приёмом гостей; правда, Ярослав так ни разу и не соизволил заглянуть в женины покои ночью - даже днём избегал подниматься в терем. Но приличия соблюдались полностью: вместе выходили на люди, вместе посещали заутрени в воскресенье, сообща принимали важные решения по дому. А княгиня желала большего. Иногда, одиноко лёжа в постели, даже представляла, как в юности: вот супруг появляется на её пороге, обнимает, целует и нетерпеливо ласкает, прежде чем решительно овладеть; и от этих откровенных мечтаний у наследницы Долгорукого даже набухали и твердели соски, а возникшее напряжение удавалось снять, только выпив ковш холодного квасу или встав под прохладный ветерок из окна. Наконец, нe выдержав, завела разговор с Осмомыслом первая. Он устроился за столом и, читая толстую философскую книгу, привезённую из Царь-града, делал выписки на пергаменте. Ольга села рядом и спросила мягко:
- Не помешаю?
Князь ответил рассеянно:
- Нет… пожалуйста… оставайся… - продолжая заниматься любимым делом.
Вид сосредоточенного супруга умилил её: эта погружённость в себя и работа мысли, одухотворённость лица и божественный свет в глазах; вместе с тем было что-то детское, ученическое, забавное в том, как вполне серьёзный и взрослый мужчина, повелитель необъятных земель, медленно и старательно покрывает пергамент буквами кириллицы. Долгорукая слегка улыбнулась. Он заметил и проговорил, продолжая трудиться:
- Что смешного?
- Ничего решительно. Просто ты мне люб.
У него подпрыгнули брови. Галицкий владыка вперил очи в жену:
- Может быть, не будем - «люб», «не люб»?
- Отчего не будем?
Муж вздохнул - грустно, глубоко:
- Ты плела заговор с Вонифатьичем, я тебе изменял, чем нарушил клятву перед алтарём Господним… Тем не менее мы нашли в себе силы примириться. Для чего же бередить не зажившие ещё раны?
Та заволновалась:
- Боже ж мой, я наоборот - прошлое вспоминать не думаю, пусть быстрее зарастает быльём. Надо наново строить жизнь.
Ярослав отложил перо, снова посмотрел удивлённо:
- Да неужто переменилась, хочешь настоящей семьи?
- Я мечтаю о сём. Быть соломенной вдовой очень неприятно. Размышляешь все: в чём была не права, что явилось причиной размолвки?.. И поверь: прежней Ольги нет - своенравной, крикливой, мерзкой. Есть другая - кроткая, уступчивая, тихая. Любящая мужа безмерно. Мать его детей…
Помолчав, он спросил ещё:
- Обещаешь не чинить козней супротив Олега Настасьича?
Долгорукая всплеснула руками:
- Господи, зачем? Пусть себе растёт, жалко, что ли? Можешь даже поселить его с нами… Или нет? В общем, как захочешь.
- Видимо, в Тысменице для него покойнее.
- Возражать не стану. Как тебе угодно. Но и в Галиче я приму его без косого взгляда.
- Ты и впрямь иная…
- Столько лет прошло! Мы с годами умнеем… Не желаешь ли сходить в баньку? Вспомнить молодость? У меня и берёзовые венички наготове.
Осмомысл расплылся:
- Ух, какая шустрая! Дай в себя прийти… Впрочем, распорядись, затопи. Это мысль хорошая.
- Апосля отдохнём с пивом да галушками…
- …с вяленым рыбцом…
- …да с варёными раками…
- Любо, любо! Ну, ступай, ступай, я ужо закончу… Словом, их супружество сделалось во всех отношениях полноценным. И когда на исповеди у отца Александра Осмомысл откровенно в этом признался, духовник возблагодарил Небо:
- Слава Богу! Колдовские чары утратили силу, плачет лукавый у себя в преисподней, ибо потерял над твоею душою власть! Ты опять в лоне Заповедей Господних. Весь народ Галича ликует!
Ярослав ответил:
- Может быть, и так. Но смириться с тем, что Настасья - ведьма и творила злые дела именем нечистого, не желаю. А Олег Настасьич? Порождение зла?
- Он дитя греха. И живой укор твоему безволию.
- Грех на мне, но не на ребёнке. Сын мой свят, как любой младенец в возрасте невинности.
- Но на нём печать матери-безбожницы. И не смей перечить! Ибо, возражая, ты опять погружаешься в бурную пучину прежней ереси. Ты раскаялся, вновь обрёл семью, освящённую Церковью, и негоже оправдывать гнусные поступки.
Князь упрямо пробормотал:
- Пусть меня сжигают живьём, но и на костре я не отрекусь от Олега.
Александр покраснел от негодования:
- Богохульствуешь, Господа гневишь!
- Нет, неправда. - Осмомысл поднялся. - Бог любое чадо своё лелеет и любит. А Олег раб Божий, ибо был крещён. Вот и я любить его буду, несмотря ни на что. Ибо в нём - искра Божья.
Пожилой игумен перекрестился:
- Поживём - увидим, чья в нём искра… А теперь молись. Прежние твои грехи отпускаю, а речей греховных воспринять не могу. И пока не осознаешь сего, мы с тобой не помиримся.
- Что ж, спасибо и на том, отче. Оба разошлись недовольные.
А на Святки приехал в Галич Ростислав-Чаргобай, чтоб договориться с князем о традиционной январской охоте. Ярослав брал с собой впервые в Тысменицу Якова и хотел, чтобы всё устроено было с честью. После разговора вышел сын Берладника на крыльцо и увидел Фросю, возвращавшуюся из церкви. В шубке из куницы, милой шапочке, отороченной горностаем, красных рукавичках и румяная от мороза, юная княжна с новой силой ранила его сердце. Он сказал, низко поклонившись:
- Здравия желаю, матушка, мой свет! С праздником тебя Рождества Христова.
- И тебя, троюродный братец, и тебя, - улыбнулась девушка. - С нами ли пробудешь до Крещения Господня?
- Я не смею, ибо приглашён твоим батюшкой не был.
- Ну, а коли я замолвлю словечко?
- Нет, не хлопочи. Поспешу готовить лесованье, чтоб не острамиться и оставить его довольным. А уж коли не подкачаю, то на Масленицу непременно приеду.
- Буду очень рада. Вот ужо поездим тогда на тройках, поиграем в снежки и полакомимся блинами с белорыбицей!
- Ив мечтах своих не могу представить о подобной милости.
- Отчего же нет? Мы с тобой ровня ровней, общих имеем предков. И сейчас мог бы править Галичем, повернись жизнь иначе.
Чаргобай закатил глаза, кисло хохотнул:
- Если бы да кабы, да во рту росли грибы… Ярослав - благодетель мой и Янкин, я его люблю не меньше родителя, хоть родитель с ним и враждовал.
- Вспоминать не станем. Главное, что тятенька и ты в дружбе, зла не держите друг на друга. Приезжай на праздник.
- Обещаю верно.
Между тем охота прошла на славу. Снега было много, и борзые собаки вязли в нём по брюхо, но травили зверя ретиво. Осмомысл со своим ловчим, Чаргобай и Яков завалили лося, кабана и косулю, не считая зайцев и глухарей. Отдыхали во дворце - бывшем Настенькином, и наставник Олега Тимофей доложил об успехах подопечного.
- Где ж он сам, отчего не спустится? - удивился князь.
- Ждал тебя вчера, стоя на крыльце, и, как видно, трошки застудился. Кашлял и сморкался с утра, лекарь повелел быть в постели. Еле удержали, когда ты приехал.
- Так пошли к нему! Я зело соскучился. - Он взглянул на Владимира, гревшегося у печки: - Хочешь познакомиться с братцем?
Тот вначале замешкался, но потом посчитал, что ответить отказом - значит вызвать неудовольствие Ярослава, и покорно поплёлся следом.
Мальчик на одре лежал с завязанным горлом, но при виде гостей он вскочил, словно на пружинке, и, в одной рубахе - чуть повыше колен, босиком, бросился к отцу. Осмомысл схватил его на руки, смачно расцеловал. Глядя на их лобзания, Яков недовольно подумал: «А меня так вот редко привечал. У, поганец маленький, чтоб ты от недуга подох, гадостный заморыш!»
- Вон гляди, Олеже, кто к тебе пришёл, - обернулся правитель Галича. - Это старший братец твой, звать его Володимер, а по святцам Яков. Мамки ваши разные, но зато я один, потому и братья.
Сидя у него на руках, паренёк посмотрел на подростка без особого интереса, грустными глазами больного ребёнка. И спросил Владимира:
- У тебя мамаша тоже сбежала? Княжич усмехнулся:
- Слава Богу, нет. Ярослав заметил:
- У тебя ещё единокровных две сестры - Фросюшка и Иринушка.
- Две сестры? - повторил малыш. - Отчего они никогда ко мне в гости не приедут? Я сижу тут один, всеми брошенный. Нешто сёстры меня не любят?
Осмомысл нашёлся:
- Ну, пока с тобой не были знакомы, видимо, не больно любили, но теперь полюбят.
- Я их тоже от души полюблю. Ты мне обещал подарить собаку и не подарил. Что, забыл?
- Не серчай, запамятовал. Но пришлю немедля со своим дружинником - Миколкой Олексичем. Поправляйся быстрее - станешь пёсика обучать да натаскивать. Яшка тебе расскажет, он большой мастак по собачьей части.
И уже потом, после ужина, галицкий владыка обратился к старшему сыну:
- Ну, Олежка тебе понравился?
Юноша уткнулся в пустую тарелку, глаз не поднимал и ответил вяло:
- Да, забавная кроха…
- Ты уж не ревнуешь ли? Брось ершиться, он тебе не соперник.
Тот с сомнением посмотрел на отца:
- Верно, тятя?
- Слово князя. - Но потом добавил: - Лишь учись прилежно да веди себя чинно. И тогда непременно унаследуешь Галич.
У Владимира оттопырилась нижняя губа:
- Значит ли сие, что, учись я плохо и веди себя непотребно, ты престол передашь Олегу?
Ярослав подмигнул хитро:
- Зарекаться трудно… Ну, сынок, не дуйся. Я же пошутил. Просто мне хотелось бы зреть в тебе надёжного, сильного витязя, приносящего родимой земле только пользу.
- Я стараюсь, тятя.
- Вот и молодец. Не ослабевай.
Вскоре княжич ушёл в одрину, а за кубками вина продолжали сидеть только Осмомысл с Чаргобаем. Молодой человек, видя благодушное настроение повелителя, воздуху набрал в грудь побольше и отважился завязать важный разговор. Он сказал:
- Батюшка, мой свет, не вели казнить, а вели слово молвить.
- Что-то пышно начинаешь, голубчик. Уж, никак просьба у тебя?
- Точно, просьба. Или даже мольба. Или предложение…
- Излагай, не трусь.
- Полюбилась мне дочь твоя, Евфросинья, Фрося… В ней души не чаю. И хочу просить ея выйти за меня замуж.
Узкое лицо повелителя Галича сделалось серьёзным. Он провёл пальцами по усам, мокрым от вина, пощипал бородку. Вперил острый взгляд в отпрыска Берладника. И проговорил:
- Не серчай, дружок, но сему не быть. Побледнев, Ростислав спросил:
- Отчего же, княже? Али я жених недостойный?
- Э, куда хватил! Ты достойнее прочих, даром что доводишься мне двоюродным племяшом… И в иных обстоятельствах был бы рад вельми вашей свадьбе. Но пойми, не могу я не думать о княжестве. Я уйду, Ростислав Киевский уйдёт - как сберечь нашу землю целой, сохранить и обогатить? С унграми союз не удался, с ляхами неплохо бы породниться… Володимера я женю на черниговской княжне" - ведь ея отец, Святослав Всеволодович, может сесть на великокняжеский стол не сегодня-завтра. Молодой Игорь Святославич из рода Ольговичей тож подрос… За него бы Фросю отдал… А с тобою не сладится.
Слушая правителя, Чаргобай из бледного становился красным - запылали щёки и уши, даже шея побагровела. Сын Ивана пробормотал:
- Ты меня лишил счастья… и, не вытащив занозы из сердца, глубже ея задвинул, до гнетущей боли…
Ярослав подлил ему вина в кубок:
- Говоришь цветисто. Никогда не пробовал петь былины да гимны под гусли?
- Ты смеёшься, княже, - сокрушённо произнёс молодой человек, - а внутри меня всё горит и стонет.
- Выпей, успокойся. На любую рану можно подыскать живляющее лекарство. Ты уж мне поверь! Я едва не сошёл с ума, как узнал об измене Настеньки. Небо стало с овчинку, и не видел белого света. Но воспрял, как видишь. А твоё увлечение Фросюшкой - нешто это любовь? Улетучится быстро.
Тот упрямо помотал головой:
- Я не знаю. Но одна дума, что она пойдёт за другого, вызывает во мне отчаяние. Ярославе, добрый, справедливый, измени решение, и в моём лице ты найдёшь слугу, преданнее которого трудно подыскать. Жизнь за тебя отдам!
Осмомысл ответил уже без улыбки:
- Перестань скулить. Будь не тряпкой, но мужем. Я решений своих продавать не исполнен. Даже ценою жизни преданных мне людей. - Широко зевнул. - Спать давно пора. Утро вечера мудренее. Завтрева, на свежую голову, мир тебе покажется много веселей.
Оба поднялись - дядя не спеша, чувствуя нетвёрдость коленок от разлившегося по телу вина, а племянник резко, словно и не пил.
- Ну, спокойной ночи, голубчик, - пожелал ему галицкий владыка. - Можешь не провожать, мне Миколка Олексич поможет раздеться… - И, слегка шатаясь, вышел из гридницы.
Витязь поднял кубок, в несколько глотков осушил до дна, вытер губы вышитым зарукавьем и одними губами пробормотал:
- Больно ты обидел меня, Ярославе… Больно и напрасно. Прямо скажем: зря!..
7
Разговор с отпрыском Берладника тут же выветрился из Памяти князя. Но однажды, в середине зимы, встретив во дворце Фросю, повелитель Галича, рассмеявшись, бросил:
- Да, забыл тебе, душенька, поведать! На охоте в Тысменице у меня просили твоей руки.
Девушка заулыбалась в ответ:
- Кто же, тятенька?
- Ростиславка Ивачич - помнишь ли такого? У неё в глазах вспыхнула тревога, и улыбка сделалась помощной, вроде бы растерянной.
- Что ж ты испугалась, деточка моя? Нешто я тебя дам в обиду? Повода печалиться нет.
- Ты ему отказал? - с дрожью в голосе прошептала та. Знамо, отказал! - И хотел пройти дальше, но, заметив, что она замерла ссутулившись, повернулся на пятках, взял её за плечи: - Фрося? Что такое? Ты, никак, готова слёзыньки пролить?
Нос княжны действительно покраснел, подбородок дёрнулся, но усилием воли Ярославна сдержалась и попробовала опять улыбнуться:
- Нет, соринка попала в око… Всё уже прошло.
- Не обманывай. Без обиняков говори: по сердцу тебе Чаргобай?
- Нет, ни капельки, тятя… Он, само собой, видный да пригожий, но какая мне пара? И к тому ж троюродный братец. Лучше остеречься.
- Вот и умница. - Осмомысл поцеловал дочку в лоб, а потом отцепил от пояса костяное писало (палочку из слоновой кости в золотой оправе и на золотой же цепочке) - им писали по деревянной дощечке, покрытой воском. - На тебе награду. Будет обо мне память.
Евфросинья приняла дар с поклоном и припала губами к его руке. Он её ещё раз погладил и, заторопившись, поспешил по своим делам. А княжна, сжав писало в жаркой ладони, всё-таки расплакалась, жалобно и тоненько завывая, как обиженная собачка. Всхлипывая, твердила:
Нет, нельзя, нельзя… Тятя поступил мудро… Лучше сразу, чем присохнуть навек… И печалиться из-за чепухи недостойно… - Но никак не могла усмирить рыданий, лобызала писало нежно, будто бы оно олицетворяло самого Ростислава.
А когда день спустя ей сказали, что Микола Олексич по приказу галицкого владыки скачет в Тысменицу - отвезти Настасьичу борзого щенка, повелела разыскать гридя и позвать его к себе для беседы. Тот пришёл, выпучив глаза, настоящий теленок, и губами шлёпал в недоумении:
- Кликала меня, свет мой, матушка?
Да, хотела видеть. - Отвела глаза, посмотрела в сторону. - Ты умеешь ли хранить не свои секреты?
- Отчего ж, умею. Предан его светлости всей душой.
- Ну, а мне?
- Так само собой. Ты и князь - единое целое, плоть от плоти, как говорится.
- Можешь ли в Тысменице передать свиток небольшой одному человечку?
- Отчего ж нельзя? Передам, конечно.
- Только чтоб никто не узнал про то?
- Даже Осмомысл?
- Батюшка - особенно.
Юноша нахмурился:
- Нет, сие не по правилам. Я таиться от князя не желаю.
- Господи, Миколка! Что же в том дурного? У княжон от отцов могут быть загадки. Или ты не хочешь меня уважить?
Он смутился ещё сильнее:
- Я тебе, Евфросинья Ярославна, в чём угодно помочь готов! Эх, была не была, сделаю, как скажешь. Где твоя заветная грамотка?
- Вот она, держи. - Девушка достала из рукава скрученный пергамент. - Значит, в самые его руки, больше никому.
- А кому - ему-то? - удивился Олексич.
- Разве ты не понял? Ростиславу Ивачичу, моему троюродному братцу.
- Будет сделано. - Улыбнувшись, запрятал письмо за пазуху. - Не тревожься, матушка. Лучшего гонца трудно подыскать.
- Очень я на сё уповаю.
Но Микола знал свою службу справно: прямо из покоев молодой госпожи полетел доложиться её отцу. Повелитель Галича сильно помрачнел, взял послание, раскатал и прочёл:
«Здравие тебе, Ростислав Иванов! Шлёт тебе привет Е.Я., до которой ты имел дело с тятенькой. Не беда, не жалься о происшедшем. Мы с тобою друзья. Приезжай на Масленицу, как ты обещал. Буду ждать!»
Содержание записки успокоило Ярослава, даже развеселило; он скрутил её снова и отдал Миколе:
- Передай, кому велено. А получишь ответ - мне опять покажешь.
- Слушаюсь, батюшка, мой свет!
Посещение Тысменицы оказалось удачным - и щенка Доставил в целости, чем весьма порадовал мальчика, и пергамент вручил. Сын Берладника взял его нетвёрдой рукой (изо рта молодого человека доносился запах спиртного), отошёл к окну, где светлее, и читал какое-то время. Проворчал: «Друзья»!.. Радость-то какая!» - и сказал посыльному:
- Я писать не стану. На словах скажи, что меня на Масленицу в Галиче не будет. Впрочем, и в Тысменице тож…
- Как сие понять? - озадачился парень.
- Покидаю вас, подаюсь в дальние края.
- Коли не секрет, то куды? Тот сверкнул очами недобро:
- На кудыкину гору! Так я и откроюсь! Чтобы ты немедля донёс Ярославу?
- Мне-то что? Раз не хочешь - не говори.
- Он вельми обидел меня. Указал на дверь. Я такое стерпеть не в силах. Быть под ним доле не желаю.
- И столкуешься с недругами его?
- Кто приветит лучше - с теми и столкуюсь. Княжеский приспешник заметил:
- На опасную, друже, ты вступаешь стезю. Воевать с Осмомыслом худо. Он обламывал и таких, кто тебя сильнее.
- Да заткнись, Олексич! Мне твои советы даром не нужны.
- Просто предупредил. Поперёк батьки в пекло не лезь.
- Прочь ступай, а не то поссоримся. А поссорившись, даже подерёмся!
- Ой, была охота мне с тобой махать кулаками!
Так и разошлись. Выслушав Миколкин отчёт, галицкий владыка вздохнул:
- Чаргобайка глупой. Ничего не уразумел. От отца унаследовал буйный нрав. Он его и погубит.
- А княжне как про сё сказать? - обратился к нему подручный.
- Так и объясни. Чай, не слишком расстроится, дурочка.
Фрося перенесла известие об отъезде юноши внешне благопристойно, только переспросила:
- Говоришь, попахивало вином?
- И, признаться, сильнёхонько.
- Горюшко какое! Вот ведь дуралей! Можно же и спиться.
- Не переживай, матушка, мой свет, - попытался успокоить её Микола. - Скоро ты и думать о нём забудешь.
Девушка взглянула с вопросом в глазах:
- Ты о чём, касатик?
- Знаю один секрет. Но тебе поведаю. Моего Олексу Прокудьича направляет отец твой на Черниговщину, в Новгород-Северский. Удочку закидывать про-насчёт тебя - князю Игорю Святославичу. Дескать, если он к нам зашлёт сватов - мы не будем против.
Та заволновалась:
- Господи, помилуй! Каждый Божий день какие-то вести… Игорь Святославич… баяли, он славный?
- Баяли, гордец, но пригожий.
- Лучше свой гордец, чем унгорский.
- Тоже правда.
Глава третья
1
По приезде в Константинополь хитроумный Андроник не повёз Настю за город, к матери в имение, где жила Янка, а устроил свою новую любовницу в небольшом, но приличном доходном доме, сняв для неё этаж. Насте путешествие очень понравилось. Боль о сыне, разумеется, никуда не делась, но дорога, яркие впечатления и внимание византийца помогли ей поменьше вспоминать о разлуке. А митрополиты Дионисий и Григорий были с ней подчёркнуто вежливы, задавали вопросы на церковные темы - как в Галиции относятся к православным священникам, как живут монахи и грешат ли монашки. Время было летнее, жаркое, хорошее, ветер невеликий, а ладья плыла не спеша, но без остановок. В целом путь занял десять дней.
Главный город империи поразил внучку Чарга. Нет, она слыхала рассказы о его величии, красоте построек и немыслимом количестве горожан, но того, что предстало перед ней, молодая дама не могла и вообразить. Грандиозный Порт Золотого Рога простирался от горизонта до горизонта. Кораблей оказалось столько, что иные не могли добраться До пристани и причаливали бортами друг к другу. Берег кишел людьми всех оттенков кожи. Вонь стояла жуткая - и от выловленной рыбы, и от грязных рабов, разгружавших судна, и от выгребных ям.
Каменные стены Царь-града потрясали высотой, толщиной и фундаментальностью; после Второго крестового похода, проходившего в 1147-1148 годах (в ходе которого братья-католики попытались взять штурмом столицу братьев-православных и не смогли), византийцы отстроили заново многие бастионы и сторожевые башни, укрепили мосты, углубили ров.
А какие церкви! Бог ты мой, одного лишь храма Святой Софии для тогдашнего человека, несомненно, хватало, чтобы ощутить чувство благоговения. Кованые ворота открывались величественно, как врата рая. В полутьме собора даже в самый знойный полдень веяло прохладой. Витражи под куполом неизменно переливались всеми цветами радуги. Купол и апсида[15], выложенные золотистой мозаикой, вспыхивали жёлтыми искрами от зажжённых свечек. А колонны и стены во фресках и иконах останавливали на себе любопытный взгляд. Но, конечно, завораживали и сами размеры церкви - вышина её, впечатление, будто купол парит, не соприкасаясь с опорами, и сливается с самим небом! И когда на хорах начинали петь, а ведущий службу иерарх обращал слово к пастве, голоса, усиленные пространством и полусферами, заставляли трепетать даже безразличное сердце; запахи елея и ладана довершали эффект.
Многие другие храмы Константинополя выглядели не хуже.
Восхищение вызывал и дворец императора - Вуколеон. Также обнесённый толстыми стенами, он сиял на солнце золотой крышей, длинными рядами застеклённых окон, куполами, мозаикой. Женская его часть называлась Порфирой, и рождённые там наследники самодержцев получали титул «порфирородных». А среди служителей и помощников августейшего дома больше половины составляли скопцы. Иногда они занимали и высокое положение: например, первым советником Мануила I по вопросам внутренней и внешней политики подвизался евнух Фома. Во дворце его не любили и вполне справедливо называли подлым интриганом. Но монарх уважал Фому за живой изощрённый ум и прислушивался к даваемым им оценкам - положения в мире и стране. Именно скопец предложил расстроить свадьбу Евфросиньи Галицкой с королём Иштваном Венгерским и послать на Русь за Андроником двух митрополитов. А потом долго уговаривал императора ослепить вернувшегося двоюродного брата и насильно постричь в монахи. Но у Мануила были иные планы на этот счёт. Он сказал:
- Пусть вначале мне поможет окончательно отобрать у Венгрии Южную Далмацию и Хорватию. У Андроника немало неистраченных сил. Надо их направить в нужное государству русло.
- А потом? - проскрипел Фома. - Вдруг пойдёт войной на Константинополь?
- Не успеет. Я его переброшу на другой конец империи - в Антиохию и Киликию. Там, в жаре, между крестоносцами и магометанами, он забудет об интригах и женщинах.
- Сомневаюсь, ваше величество. Говорили, будто бы приехал с чужбины не один, а привёз русскую наложницу.
- Что, красивая?
- О, не мне судить… Люди утверждали, что якобы глаз не отвести. Он её не прячет, а выводит в свет, даже в воскресенье на Гипподроме усадил с собой рядом.
- Любопытно взглянуть.
- Трудностей не вижу: попросите сестрицу вашего величества, её высочество принцессу Елену - как вдову русского князя Георгия Долгорукого - пригласить обоих к себе на обед. Мол, хотела бы узнать новости - как там на Руси… и так далее… ну, а ваше величество вроде невзначай там появится…
- Неплохая идея. Мастер ты, Фома, на такие штуки! А поскольку Мануил овдовел год назад, женский вопрос для него стоял остро. И отбить любовницу у соперника (да ещё такого!) захотелось ему не меньше, чем сгноить самого Андроника где-нибудь в песках Малой Азии…
Первое известие о званом обеде напугало Настеньку. У неё задрожали пальцы, и она произнесла нервно:
- Вдруг узнает твоя мамаша? От неё, несомненно, Янка. Это же скандал!
- Перестань, любимая, - обнял её Андроник. - Я уверен, что они уже обе знают. Мы ведь не таимся, злые языки донесли… Ну и что такого? Янка для меня уже в прошлом. Ты теперь моя звёздочка.
- Как же дочка - Зоя?
- А при чём здесь дочка? Да ещё незаконная? Я законных-то детей не успел ещё повидать… равно как и жену… Мы давно живём порознь.
- Интересно, быстро ли наскучу и я тебе?
Грек расхохотался:
- Никогда, никогда!
- Ох, не зарекайся.
Тут же начала думать о наряде - в чём пойти на приём к вдовствующей княгине. Утром встала ни свет ни заря вымылась в большой каменной лохани, и служанка натёрла хозяйку ароматным маслом; привела в порядок волосы, облачилась в шерстяную византийскую тогу с вышитой каймой, а на ноги надела кожаные туфельки с золотистой пряжкой; голову прикрыла накидкой. Около полудня прикатил в коляске Андроник, и они отправились во дворец.
Интерьер Вуколеона поражал не меньше, чем его фасад. Мраморные лестницы в ковровых дорожках, золотые светильники в виде птиц, росписи стен и потолков, высоченные позолоченные двери и служители-негры; зала для приёмов была в Порфире не слишком велика, но мила. Мраморный стол утопал в цветах, а приборов стояло пять - для Елены с детьми и двух гостей.
У сестры императора оказалось малопривлекательное лицо - грубоватое, чересчур мужское. И глаза бледно-голубые, недобрые. Многие черты её перешли к Ольге Юрьевне, только мать была и стройнее, и выше. Долгорукая-старшая познакомила визитёров с младшими детьми: дочерью Марией и сыном Всеволодом, жившими с нею в Вуколеоне. (Двум другим сыновьям, вместе с матерью покинувшим Русь, Мануил преподнёс наделы - несколько городов по Дунаю и в Отскалане.) Поначалу беседа не клеилась: Настенька стеснялась княгини, брат с сестрой молчали, и обменивались репликами лишь Андроник с Еленой. Он рассказывал об охоте на туров у Ярослава, восхищался чудесной галицкой природой.
- Этот Ярослав… - пробурчала вдова Георгия. - Русские купцы с Поднестровья, что торгуют здесь пушниной и мёдом, говорили моим служанкам, будто Осмомысл вновь сошёлся с Ольгой.
Настенька потупилась ещё больше, сильно покраснев. Я была бы счастлива, - продолжала принцесса. - Детям нужен отец. Вот мои сиротинушки столько лет растут без мужской руки - разве хорошо? Пусть хотя бы Володимер-Яков не почувствует себя обделённым… Впрочем, уж не знаю, можно ли ему взять у Ярославки что-нибудь достойное. Вечно жил как блаженный. «Книги, книги!» Знание, конечно, вещь необходимая, но в разумных пределах. Мы же не философы, не учёные, не библиотечные крысы. Нам написано на роду управлять другими. Твёрдая рука и железная воля тут намного важнее разной схоластики. Например, мой покойный супруг, Царствие ему Небесное: книжек не касался и писал по-гречески с ошибками, но зато прокняжил - дай Бог каждому!
Запивая свинину итальянским вином, гость пытался защитить Осмомысла - за недюжинный ум и прекраснодушие.
- Мы, конечно, с ним чуточку рассорились, - говорил Андроник, расправляясь с мясом двузубой вилкой и столовым ножом, - по понятным причинам… Но другого такого князя, или короля, или императора я пока не встречал - доброго, открытого, светлого. Мы должны брать с него пример. Уж не знаю, как бы я повёл себя, если б у меня увели подругу… Видимо, велел бы изменницу придушить. Или сам убил бы. А правитель Галича мало того, что позволил ей уехать вместе со мною, так ещё и разрешил своему епископу проводить нас до Белгородской крепости. Вот что удивительно!
- Просто он безвольный, - расценила Елена.
- Нет, не думаю. Умный человек, князь не снизошёл до банальной мести. И уверен, если бы Настасья к нему вернулась, он её бы простил.
Молодая женщина, вздрогнув от этих слов, выронила вилку, и слуга-скопец тут же подал новую, чистую, а другой мгновенно подхватил с пола грязную.
- Нет уж, пусть не возвращается, - заявила хозяйка, - и оставит в покое семейство моей драгоценной доченьки.
Гость ответил с улыбкой:
- Я и сам её не пущу, не тревожьтесь… Неожиданно двери распахнулись, и вошедший церемониймейстер провозгласил:
- Его императорское величество Мануил Первый Комнин собственной персоной!..
По бокам в дверях выстроились гвардейцы, и меж ними прошёл коренастый мужчина средних лет в тёмно-красном Плаще с вышитыми на нём золотыми львами, а на голове его был надет лавровый венец, выкованный из чистого золота. Волосы он явно подкрашивал, а пигментные пятна на лице запудривал. И глаза имел как и у сестры - бледно-голубые, ехидные.
Все присутствующие преклонили колени. Император сдержанно улыбнулся и взмахнул перстами:
- Ничего, садитесь. Я не знал, Елена, что к тебе пришли посетители… Здравствуй, братец. Ты давно ли прибыл?
- Скоро две недели.
- Надо же! Не знал… И за это время ты ко мне не выбрался, не проведал и не поприветствовал? Ай, нехорошо! Я тебе простил все твои проступки, разрешил вернуться, даровав свободу, а в ответ вижу пренебрежение…
Поклонившись, Андроник отвечал с придыханием:
- Не хотел тревожить ваше величество собственной ничтожной особой…
- Ну, не скромничай, ты у нас фигура! Человек разносторонних талантов. Дипломат, военный, оратор… Я бы не хотел, чтобы эти твои способности пропадали втуне. И поэтому назначаю главнокомандующим нашими войсками в Далмации. Отправляйся туда немедленно.
- Ваше величество… - удивлённо пробормотал сын Ирины-Добродеи. - Вы так милостивы ко мне… даже чересчур… не уверен, справлюсь ли с подобной ответственностью…
- Постарайся справиться. И тогда моя милость будет в самом деле безмерной… А теперь представь мне эту юную незнакомку, с коей ты дерзнул появиться в Порфире.
Настенька смешалась вконец, но зато Андроник произнёс не без гордости:
- Русская аристократка из Галича. Мы с ней прибыли вместе - по причине взаимной склонности друг к другу.
- Понимаю, да… - Мануил подставил руку для поцелуя, и трепещущей внучке Чарга ничего не оставалось, как, склонившись, облобызать монаршие пальцы. - Как тебя зовут, чаровница?
- Я Анастасия, ваше величество.
- О, какое милое имя! Ты позволишь ли мне называть тебя по-гречески Анастасо?
- Как вам будет угодно, это для меня честь и счастье.
- Не стесняйся, милая. Здесь, в Вуколеоне, рады твоему появлению. Можешь приходить, как захочешь. А тем более что Андроник скоро уедет и твоё свободное время будет не загружено…
- Ваше величество, я хотел бы взять Настасью с собой в Далмацию, - вставил фразу двоюродный брат.
- Даму? На театр военных действий? Ты с ума сошёл! - возмутился правитель. - Запрещаю, слышишь? Анастасо отныне под моею эгидой [16]. Отправляйся с Богом и не волнуйся: мы её в обиду никому не дадим.
Отпрыск Ирины-Добродеи моментально понял, что его обыграли по всем статьям. Он едва не набросился с кулаками на коварного императора, но присутствие двух десятков гвардейцев принуждали к благоразумию. Между тем развеселившийся Мануил сказал:
- Ну, сестрица, не стану тебе мешать. Тот вопрос, по которому я зашёл, можно обсудить позже. Кушайте спокойно. И приятного всем аппетита!
Но обед, конечно, сразу расстроился. Как ни прилагала Елена усилий, чтобы возобновить разговор, гость ей отвечал коротко и сдержанно, а потом и вовсе поднялся:
- Да простит меня ваше высочество, к сожалению, нам уже пора: мысли о походе не дают мне покоя, надо собираться.
- Жаль, что всё так случилось, Андроник. Я не ожидала сама, - тоже встала хозяйка. - Но сердиться грех: на Руси недаром говорят, - тут она перешла на русский, - «человек предполагает, а Бог располагает»… вместе с императором… - А прощаясь с Настей, не забыла повторить приглашение: - Заходите, душенька, когда пожелаете. Покровительство самодержца дорогого стоит.
- Польщена весьма… и воспользуюсь этим непременно…
На обратном пути в коляске, сидя рядом с любовницей, грек заметил зло:
- Поздравляю: ты теперь - его фаворитка.
- Господи, о чём ты! Я тебя люблю, и буду ждать. Он скривил верхнюю губу:
- Ты не понимаешь… Это дело уже решённое. Воля Мануила священна.
- Перестань! Без тебя не будет в Вуколеоне моей ноги.
- Твоего желания спрашивать не будут. За тобой пришлют.
- Не поеду.
- Увезут насильно.
- Посели меня где-нибудь в другом доме.
- Люди эпарха моментально разыщут. Настенька вскричала:
- Что же получается - у меня нет выбора?! Тот ответил с грустью:
- Никакого. Мы с тобой в ловушке. И, пока я не стану императором, возражать бессмысленно.
Женщина сказала упрямо:
- Выход есть всегда. Например, свести счёты с жизнью.
- Разве это выход! Это малодушие. А вот сделаться любовницей императора и подсыпать ему яд в бокал, чтобы привести к власти милого тебе человека - совершенно другое дело…
Галичанка смотрела на него широко раскрытыми, перепуганными глазами:
- Ты… меня… подбиваешь… на преступление? Я должна тебе изменить, чтобы отравить императора?
Он смутился:
- Нет, не подбиваю, а так - размышляю вслух… Ехали какое-то время молча, а потом внучка Чарга холодно спросила:
- Говори честно: ты не можешь ничего сделать или же не хочешь?
- Я в смятении, Настенька, потрясён, раздавлен. И не знаю, что с нами дальше будет.
- Но зато знаю я: нашей с тобой любви конец, - помертвевшим голосом высказала она и заплакала.
Сын Ирины-Добродеи облизал высохшие губы:
- Да, боюсь, ты права. Мы всего лишь пешки в чужих руках…
2
Не прошло и недели после отъезда Андроника в Далмацию, как привратница доложила Насте:
- К вашей милости с визитом знатная дама.
- Кто такая?
- Говорит, будто бы от матушки его светлости господина Андроника. Разрешить войти?
- Да, проси, конечно. - И минут через пять появилась в гостиной зале.
Там сидела Янка. Около шести лет, что они не виделись, изменили девушку сильно: угловатый коротконогий подросток, больше напоминавший мальчика, превратился в миловидную женщину с хорошо развитыми формами. Но она по-прежнему была мускулиста и энергична, а глаза сияли тем же необузданным светом; только если раньше дочь Берладника жаждала убить своего отца, то теперь, надо полагать, собиралась разделаться с бывшей подругой - нынешней соперницей. Оглядев Настасью с головы до ног, не могла тем не менее не признать:
- Хороша, чертовка!
- Что? - спросила та возбуждённо-звонко.
- Говорю, такой павой сделалась - глаз не оторвать. Я Андроника теперь понимаю.
- Ты зачем приехала?
- Повидать старую товарку.
- И уговорить меня оставить его в покое? Ну, так мы и так уже порознь. Я, должно быть, скоро вернусь в Галицию. Здесь меня никто и ничто не держит больше.
- Даже император?
- Ты и это знаешь?
- Накануне отъезда сын проведал матушку… объяснил мне и ей открыто…
- Вы не подрались?
- Не было печали! Я давно живу ради дочери. Коль убью его, или же тебя, или вас обоих, и меня закуют в колодки, с кем она останется?
Сделав паузу, Настенька сказала:
- Я не верю ни единому твоему слову.
- Это ясно - где тебе понять материнские чувства! Если ради любовника бросила родное дитя…
- Янка, замолчи!
- Или что? Спустишь с лестницы?
- Может быть, спущу.
- Не в твоих интересах. Ты подашься на Русь, я останусь тут, и мы обе будем обесчещены. А хотелось бы задеть Андроника за живое.
- Что ты предлагаешь?
- Сделать тебя императрицей. Настя рассмеялась:
- Очень остроумно!
- Сядь и выслушай, пожалуйста, до конца. В чём беда и забота Мануила? Он мечтает о сыне, чтобы передать ему трон. Даже объявил собственным наследником жениха своей дочери, принца Белу из Унгрии. Но коль скоро ты родишь ему мальчика, император захочет его узаконить и немедленно женится на тебе, сделав императрицей. И тем самым отомстим Андронику, ибо он потеряет какой-либо шанс оказаться владыкой Вуколеона.
Внучка Чарга озадаченно размышляла. Посмотрела на Янку настороженно:
- Ну, а если родится девочка? Та захохотала:
- Ты уж постарайся, подруга. - Но потом сделалась серьёзной: - Это, конечно, риск. Самое слабое звено в нашем плане. Станем уповать на Господа и на удачу.
- На удачу… - неуверенно повторила бывшая любовница Осмомысла. - Думали ли мы, сидя в Василёве, что окажемся посреди Царя-града, обсуждая вопрос, как родить сына императору? В голову прийти не могло!
- Неисповедимы пути Божьи.
- …обе матери, но не жены… обе преданы одним и тем же мужчиной… обе на перекрёстке дорог, как и раньше!..
- Хорошо, что не в тупике. Мы ещё найдём своё счастье.
- Думаешь, найдём? Янка пошутила:
- Без надежды и веры лучше не заниматься любовью! У ворот послышался конский топот. Снова прибежала привратница, перепуганная, взволнованная:
- Ваша милость, ваша милость! Там внизу гвардейцы его императорского величества! Говорят, что прибыли с экипажем для вас! Требуют, чтобы вы поехали во дворец.
- Вот она, судьба! - поднялась дочь Берладника. - Цокает копытами у твоих дверей.
- Тьфу на тебя, охальница! - осенила себя крестом внучка Чарга. - Знаешь, кто цокает копытцами? То-то и оно!
- Я в хорошем смысле. Ну, держись, подруга. Наше общее будущее у тебя в руках.
- Ой, мне страшно, Янка!
- Ничего, ты сильная, справишься и с этим. Поцелуй от меня императора в щёчку. Говорят, он хотя и вредный, но не очень злой. После Андроника остальные мужчины - сущие ангелы!..
Вечером Вуколеон выглядел загадочно: чёрные высокие каменные стены, уходящие в темноту, освещённые отдельными факелами, и чарующий запах распускавшихся в сумерках цветов. Слуги помогли галичанке сойти с экипажа, провели к заднему крыльцу и сопроводили по винтовой задней лестнице. Называли пароль караульным: «Золотая птичка», - те произносили отзыв: «Золотая клетка», - и пропускали. Настю завели в небольшую комнату, где на мраморном столе возвышалась серебряная ваза с фруктами, усадили в кресло и, откланявшись, бросили одну. Та, ломая пальцы, медленно приходя в себя, начала разглядывать обстановку - на окне плотные гардины, свечи в массивных бронзовых канделябрах, слишком тяжеловесная мебель красного дерева… Молодая женщина протянула руку, отщипнула от ветки крупную синюю виноградину и отправила в рот; сладкий сок освежил высохший язык, побежал по горлу и слегка даже успокоил.
Дверь открылась, и в проёме бесшумно появилась мужская фигура. Это был император в тёмно-синей тоге и такого же цвета небольшой шапочке с золотым шитьём. На устах его играла улыбка.
- Как я рад, несравненная Анастасе, вновь тебя увидеть в наших чертогах! - Он приблизился к даме, взял её ладони в свои; Настя захотела поцеловать ему руку, но монарх не позволил: - Будет, будет, мы не на торжественном вечере для вельмож, а на дружеской встрече, где не надо соблюдать церемоний… Сядь, моя хорошая. Отчего ты грустна? Волноваться нечего. - Мануил налил из кувшинчика вино. - За твоё здоровье, русская красавица.
- Благодарна вашему величеству, удостоившему меня… обратившему взор… благосклонно… - Внучка Чарга запнулась.
- Пей, пей. И не трепещи. Потому что твоя красота мало уступает моему величию. И ещё неизвестно, кто кого удостоил своим вниманием… - Самодержец вздохнул. - Знаешь, Анастасе, я порой тягощусь этой мишурой. Славословием, преклонением. Государственной ношей. Иногда накатывает печаль, возникает жажда простого человеческого тепла… Можешь ли поверить: я, всегда на глазах у сотен людей, чувствую себя страшно одиноким. И супруга не понимала меня - Берта Зульцбахская, глупая немецкая Кукла; с ней мы встречались только в спальне да ещё на выездах из дворца… Ты совсем другая. У тебя в глазах жизнь!
Ты меня поймёшь! И поможешь выбраться из душевного кризиса, из тоски и уныния - правда? На щеках у Насти разгорелся румянец:
- Постараюсь, ваше величество… Вы мой господин…
- Если ты родишь мне наследника, я женюсь на тебе.
- Мне неловко и думать об этом, вы меня смущаете…
- Императоры - практичные люди. Я из их числа. Но скажу тебе без лукавства: дело не только в сыне. Просто ты мне нравишься. Я почти влюблён. И не исключаю, что влюблюсь в дальнейшем по-настоящему. Выпьем же за нашу любовь.
- За любовь, - согласилась женщина.
А потом они прошли в спальню и, раздев друг друга, опустились на мягчайшее пуховое ложе. Безусловно, Андроник был искуснее в интимных делах и намного сильнее - Мануил не выказал себя беспощадным бойцом на амурном фронте и довольно быстро иссяк; но Настасья, не испытывая к нему ни малейшей симпатии, даже порадовалась тому обстоятельству, что не надо больше имитировать страсть. Самодержец, насытившись, быстро задремал. А она, лёжа рядом, думала о превратностях собственной судьбы. Кое-что она заранее знала - по гаданиям покойной Арепы: и о близости с Осмомыслом, и о сыне от него, и о путешествии в дальние края. Но о связи с византийским монархом старая наставница никогда не упоминала. И всегда скрывала, как и где внучка Чарга завершит свои дни. А самой погружаться в транс половчанке было боязно. Да, она умела раскладывать карты Таро, знала кое-какие магические приёмы, но страшилась колдовать, веря в Иисуса и открещиваясь от языческих тёмных сил. Так что галицкая молва называла её ведьмой совершенно безосновательно.
«Хорошо ли теперь всё устроится? - размышляла Настя. - Если я рожу ему мальчика и затем выйду замуж, то уже никогда не вернусь в галицкие земли и не повидаюсь с Олежкой… Бедный мой сыночек! Как он там один? Плачет ли, болеет ли, кормится ли сытно? Коли стану императрицей, непременно его выпишу к себе. В случае чего - выкраду. Пусть в Вуколеоне живёт под моим присмотром. Этак выйдет лучше…» И, совсем успокоившись, тоже смежила веки.
Снился ей зеленеющий берег Днестра, Галич на горе, золотой песок и прохладная речная вода, где она девчонкой плещется со своими подругами из Бостеевой чади. Солнце, брызги, смех! То-то замечательно! Как давно это было! Трудно сосчитать лета…
На заре её разбудил безобразный евнух:
- Ваша милость, вам пора подниматься. Женщина открыла глаза и увидела, что лежит в постели одна, а неплотно сдвинутые гардины пропускают бледный утренний свет.
- Вам пора уезжать, ваша милость, - повторил слуга. - Лошади заложены, экипаж дожидается внизу у крыльца.
- Да, конечно. Выйди - я сама оденусь.
Возвратившись домой, Настенька пришла в весёлое настроение. Пела, танцевала. Даже написала записку: «Дело сделано! Будем уповать!» - и отправила с мальчиком-помощником за город, во владение Добродеи-Ирины, для Янки.
Вскоре ей доставили целую корзину алых роз.
- От кого? - задала вопрос привратница. - Что сказать госпоже?
- Госпожа сама знает, - отвечал посыльный с улыбкой.
3
Целый год провёл Андроник в Далмации, вёл решительные бои с венграми и половцами, в результате чего, захватив основные города вдоль всего побережья Адриатики, вышел к правому притоку Дуная - Саве. И рапортовал императору о своих победах. Мануил прислал благодарственную грамоту и велел: не теряя ни дня, плыть с войсками на кораблях к отдалённому Кипру, взять там подкрепление и принять под своё начало дальнюю провинцию в Малой Азии - Киликию. Надо удержать её до следующей весны, отгоняя с одной стороны крестоносцев, а с другой - мусульман (турок, курдов, арабов). А весной к нему на помощь подоспеет сам Мануил, и двоюродные братья станут биться с врагами империи бок о бок.
Тут необходимо прояснить ситуацию в этом регионе. После Первого крестового похода, состоявшегося на рубеже XI - XII веков, в Антиохии и Иерусалиме было образовано христианское (католическое) королевство, возглавляемое выходцами из Франции. Им приходилось воевать на два фронта: против византийских греков (православных), не желавших отдавать свои юго-восточные земли, и месопотамского атабека Нуреддина Зенгида. В середине XII века королевство едва не пало (поспешившие на выручку новые крестоносцы из Европы, организовав Второй крестовый поход, не сумели даже добраться до Малой Азии и позорно ретировались с полпути), но невероятным образом выстояло. Осаждаемый противниками со всех сторон, нынешний король Амальрих (прежний, Балдуин III, умер незадолго до описываемых событий) тем не менее не терял присутствия духа, был весёлым малым и любил пожить на широкую ногу. До Андроника доходили слухи об этом; и когда он узнал, что ему надлежит стать наместником императора в соседней с Антиохией Киликии, в первый момент сильно рассердился (новая «почётная ссылка», без сомнения!), но потом вспомнил об Амальрихе и решил: очень хорошо! Будет с кем объединить силы против Мануила! Вместе с крестоносцами он пойдёт на Константинополь. И сполна расквитается с обнаглевшим братцем.
Поначалу действовал по приказу императора: прибыл в главный город Киликии - Адану (современный турецкий порт с тем же именем), взял руководство провинцией на себя и для устрашения местного чиновничества отрубил голову нескольким зарвавшимся, как бы мы сегодня сказали, «коррупционерам». Но на этом административное рвение сына Добродеи-Ирины завершилось. Осень и зиму он провёл в кутежах, оргиях и таких бесчинствах, что молва о них докатилась до Вуколеона. Раздражённый самодержец распорядился арестовать обезумевшего родственника и везти в столицу. Тот не покорился, занял оборону, а потом, видя, что не выстоит, прыгнул с башни крепости в реку, под покровом ночи выбрался на берег, пересёк на лодке залив и причалил во владениях крестоносцев.
Здесь его схватила пограничная гвардия и, узнав, кто он такой, переправила к королю в Иерусалим.
Повелителю местных крестоносцев было в то время чуть за сорок; выглядел Амальрих полной противоположностью Андроника: невысокий, полный, голубоглазый и светловолосый; но характером они походили друг на друга - оба обожали разгульную жизнь и хорошеньких женщин. Это их и сдружило. В пьяном угаре выходец из Франции даже предложил византийцу, чтобы тот женился на его юной дочери - несравненной принцессе Марии. Грек ответил отказом: он, во-первых, был официально женат, а, во-вторых, закрутил немыслимый роман с первой красавицей королевства - молодой вдовой бывшего короля Балдуина III - Феодорой. Огорчившись, Амальрих вскоре успокоился и по доброте душевной наградил своего нового приятеля богатейшими землями Средиземноморья с резиденцией в городе Верите (современный Бейрут, столица Ливана). Вместе с Феодорой сын Ирины-Добродеи отправился к новому месту жительства.
Впрочем, его идиллия продолжалась недолго. Летом в Киликию прибыла армада византийских кораблей, во главе которой стоял Мануил. Началась война с Амальрихом за владение Антиохией. Длилась она два месяца, обе стороны потеряли массу народа, но никто не смог победить. И тогда уставший король предложил императору мирный договор: поделить провинцию на две части и закончить на этом распри. В качестве залога будущего мира обещал владыке Константинополя выдать за него принцессу Марию. Поразмыслив, грек согласился, но поставил одно условие: передать ему Андроника. Или хотя бы ослепить. Крестоносец ответил, что он сделал бы это с радостью, но Андроник сбежал к мусульманам. Подосадовав, Мануил не стал проверять, правду ли сказал друг-католик.
Свадьба состоялась в Иерусалиме в августе 1168 года. В сентябре союзные войска крестоносцев и византийцев осадили египетский город Даметту, взять не взяли и вернулись ни с чем. Вскоре сиятельная императорская чета уплыла в Царь-град. А Амальрих остался один - воевать против мусульманского окружения… Ведь Андроник действительно, чтобы избежать пленения и выдачи Мануилу, скрылся на территории, контролируемой атабеком Зенгидом. Скрылся не один, а с любовницей Феодорой и родившимися от неё детьми… Что случилось с ними, как Андроник стал в конце концов императором, мы расскажем чуть позже.
4
Про женитьбу Мануила Настя узнала у себя во дворце под Константинополем, где жила третий год с дочкой Евдокией.
Этот двухэтажный каменный особняк на лазурном берегу Мраморного моря император подарил ей в марте 1166 года - по известии о её беременности. Самодержец был в то время образцом галантности и предупредительности - каждый день присылал корзину цветов, наезжал с визитами по субботам, исполнял малейшие прихоти возлюбленной и о прочих возможных своих невестах думать не желал. Видимо, действительно собирался жениться на русской в случае рождения мальчика.
Но на свет появилась девочка. Да ещё малютке при родах повредили бедренный сустав, и она, сделавшись постарше, при ходьбе заметно прихрамывала. А зато лицо имела прелестное - нежные, тонкие черты, карие глаза, острый носик и пунцовые губы. Говорила пока ещё плохо, путая согласные буквы, и могла часами не тревожить мамок и нянек, занимаясь своими куклами.
У монарха сразу изменилось отношение к «Анастасе» - начал посещать её реже, дорогих презентов не делал, на ребёнка смотрел безо всякого интереса, словно на чужое дитя. А потом и вовсе, по причине подготовки к дальнему походу, перестал появляться. Хорошо хоть усадьбу не отобрал и оставил слуг, не урезал денег на еду и одежду!
Янка навещала подругу часто. Сидя на балконе, пили оранжад и по-прежнему спорили о своей дальнейшей судьбе.
- С Мануилкой не вышло - не беда, - говорила дочка Берладника. - Даже к лучшему, я считаю. Судя по всему, в императорах долго не просидит.
- Да с чего ты взяла? - удивлялась её товарка.
- Коли говорю, значит, знаю. Был в гостях у Ирины-Добродеи Фёдор Кантакузин - богатей, каких мало. Спрашивал о планах Андроника - претендует ли тот на трон. Потому как если не претендует, все враги Мануила сделают ставку на другого порфирородного - Алексея Ангела.
- Да неужто переворот?
- Это само собой. Вот бы тебе сойтись с младшим братом Алексея - Исааком. Он ведь холостяк!
- Тоже мне, придумала! Я от нынешней царственной особы не могу опомниться!
- Перестань трендеть и послушай. Фёдор со мной любезничал и заманивал к себе на обед. В одиночку идти неловко, даже как-то двусмысленно, а с тобою - ничего, полне. А потом, через Кантакузина, мы набьёмся в гости ; Исааку. Познакомитесь да посмотрите друг на дружку - может быть, поладите. Человек при деньгах, с положением - очень пригодится, даже если его брат и не сделается монархом.
- Ты опять меня втягиваешь в подозрительную гисторию, - упрекала подругу внучка Чарга.
Та кипела негодованием:
- Нет, ну надо же, я «опять ея втягиваю»! Если бы не я, ты бы не имела ни такого дворца, ни таких нарядов и слуг!
- Ни хромой Дуняши…
- Глупая, Дуняшка - счастье твоё, отрада, а не наказание!
- …я бы вернулась в Галич, Осмомысл бы меня простил…
- Размечталась тоже! Как из древних греков кто-то сказал: невозможно два раза в ту же самую реку вступить.
- Нет, простил бы, простил, я чувствую!..
- Хорошо, согласна. Отчего не едешь?
- О, теперь уже поздно. Время давно упущено.
- То-то и оно. Надо жить не прошлым, но будущим. В эту же субботу едем обедать к Кантакузину. Отдадим свою жизнь воле рока.
- Не могу. Всё во мне восстаёт против этого.
- Господи, нам с тобой скоро двадцать пять, а ведёшь себя как послушница монастыря о тринадцати лет!
- Ты зато ретивая чересчур.
- Что же в том дурного? У меня натура такая. И меня обстоятельства вынуждают.
Энергичная Янка своего добилась: Настю познакомили с Исааком.
Он происходил из знатного рода Ангелов - крупных Землевладельцев в Малой Азии, а по матери был Комнин - Приходился правнуком знаменитому императору Алексею I Комнину (дедушке Мануила и Андроника). Стало быть, и брат его, Алексей, и он сам тоже могли бы претендовать на Престол. Но другое дело, что монаршая власть совершенно Исаака не интересовала. Человек не самого храброго десятка, толстый, добродушный, он любил тишину, безмятежность, разговоры за бокалом вина и обильную вкусную еду. Жил с одной из своих рабынь и имел от неё детей, но к тридцатилетнему возрасту не стоял ни разу в церкви под венцом. И противники Мануила, возглавляемые самим патриархом, недовольные тем, что монарх женился на католичке («латинянке») из крестоносцев, отдавали предпочтение старшему Ангелу, Алексею. В крайнем случае - Андронику, окажись он в Константинополе. Но следы последнего затерялись где-то в Месопотамии, и теперь ставку делали на Алексея. Он же то решался, то не решался на путч. Ситуация оставалась неопределённой.
Младший, Исаак, жил в своих владениях на другом берегу Босфора, в городе Никее (современный турецкий Изник). Для поездки к нему собралась целая компания - пять мужчин и шесть женщин, в том числе Фёдор Кантакузин, Янка и Настасья. Сели на двухпалубный парусник и поплыли по Мраморному морю, синему, как небо, и сонливому, как араб в жару. Через два с половиной часа бросили якорь в живописной бухте, где их ждали повозки, посланные Ангелом, и ещё через час подкатили к Никейскому озеру с удивительно прозрачной прохладной водой. Пересели в лодки и опять поплыли, видя крепостные стены города в сизой дымке на горизонте. Это было похоже на библейское чудо.
Во дворце, походившем больше на сераль восточного шаха, нежели на дом византийца, по лужайкам с изумрудной травой величаво расхаживали павлины, по ветвям фруктовых деревьев прыгали мартышки, а изящные, грациозные косули ели лакомства прямо с руки. Краснощёкий хозяин, улыбаясь гостеприимно, вышел навстречу приезжим с распростёртыми объятиями, говоря высоким, бабьим голосом:
- Дорогие друзья, как я рад видеть у себя столько новых приятных лиц! Мы оторваны здесь от мира, ничего не знаем, варимся в собственном соку, и любой визит превращается для нас в праздник и событие! Не стесняйтесь, располагайтесь, отдыхайте с дороги. Пусть часы, проведённые под моим скромным кровом, будут вам не в тягость, а в удовольствие!
Познакомившись с Настей, он проговорил:
- Счастлив несказанно, что такая особа удостоила меня своим посещением. Я весьма наслышан о неповторимой вашей прелести. Не потомок ли вы Елены Прекрасной, о которой поёт Гомер? Не начнётся ли из-за вас новая Троянская битва?
- О, надеюсь, что нет, - улыбнувшись, ответила внучка Чарга. - Войны - самое худшее, что бывает на свете. Я их ненавижу.
- Я, конечно, тоже. Как удачно, что мы обнаружили нечто общее между нами. Это вселяет в меня надежду.
- Да? На что?
- На развитие нашей с вами дружбы. Или даже большего.
- О, да вы шутник!
- И не думал вовсе. Я вполне серьёзно.
- У меня ни богатств, ни положения в обществе, ничего, что могло бы объединить наши судьбы.
- Но зато ваша красота стоит всех богатств, положений и титулов, вместе взятых. Верьте мне, и не пожалеете.
- Постараюсь, елико возможно…
В ту же ночь оба задремали в общей постели. Исааку мешал выдающийся живот, но Анастасия, на «отлично» окончившая академию амурных наук у преподавателя Андроника, захватила инициативу в свои ноги, сделавшись подобием амазонки, и скакала верхом столь усердно, что её битюг быстро выдохся и едва не пал. А потом долго целовал её чресла, полный восторга.
Надо сказать, что и Янка не потратила время зря, сделавшись любовницей Фёдора Кантакузина. Правда, в отличие от Ангела, тот имел семью, шестерых детей, но её это не смущало. Ведь она не хотела замуж: статус фаворитки одного из самых богатых людей империи соответствовал желаниям дочери Берладника.
Глава четвёртая
1
Сговорившись о свадьбе, Ярослав сам повёз дочку в Новгород-Северский. Мало кто из князей удостаивал своих отпрысков столь высокой чести (посылая обычно для таких дел младших родичей или старших бояр), но владыка Галича захотел развеяться, лично передать Фросю из рук в руки, а затем, на обратном пути, побывать в Чернигове и забрать с собой невесту Владимира - Болеславу. Княжий поезд, состоявший из множества повозок, отбыл в мае 1166 года.
Фрося, разумеется, страшно нервничала, но не плакала а наоборот, ехала с охотой: Игорь Святославич не пугал её так, как венгерский король, и к тому же она желала поскорее забыть Ростислава-Чаргобая. Провожать вышли многие: Ольга Юрьевна в пышных плотных дорогих одеждах, нарумяненная, подсурмленная; весь в прыщах Владимир-Яков; полунепроснувшаяся Ирина-Верхуслава; Кснятин Серославич и епископ Кузьма; всякие вельможи да челядь. А с собой Осмомысл брал не менее трёхсот человек - личную охрану во главе с Гаврилкой Василичем, приближенных, слуг. Тут же на коне гарцевал Микола Олексич.
Солнце только-только встало из-за стен галицкого кремля. Ветерок шевелил гривы лошадей. Там и сям позвякивали жёлтые колокольца. Пахло молодой зеленью, свежим конским навозом и весенней отдохнувшей землёй.
Ярослав произнёс прощальное слово, сделал распоряжения и последние кое-какие наказы. Фрося облобызалась с родными. Мать сказала:
- Не печалься, девонька. Знать, пришло время покидать отчий дом. Мужу не дерзи, но и воли ему много не давай, пусть не забижает.
- Постараюсь, маменька.
Брат Владимир крепко сжал в объятиях и, на удивление, даже прослезился:
- Ты держись, сеструха. Мне тебя будет не хватать.
- Да неужто?
- Правду говорю. Я к тебе привык. Ты такая добрая.
- Может, Болеслава твоя будет ещё добрее!
- Ай, не знаю. Неохота мне жениться чего-то - погулял бы ещё маненько. Но нельзя: судьба.
А Ирина поцеловала её формально, без малейшего чувства:
- Бог тебя спаси.
- И тебя, сестрица.
Долго ещё махали друг другу платочками. Уезжая, девушка пыталась рассмотреть и запомнить, увезти с собой мысленно все детали и мелочи дорого родительского дворца, сотни раз виденные милые стены, домовую церковку, кузницу, колодец, ворота… радостно тявкающих собак, растревоженных отъездом не меньше хозяев… и народ на улочках, ломающий шапки… храм и колокольню… синюю полоску Днестра… Мир её детства!.. Год назад покидала.
Болшев как-то по-иному - тот дворец не слишком любила, и вообще, всё казалось не всерьёз, нереальным, ненастоящим, - и действительно, вскоре возвратилась назад… А теперь остро понимала: больше никогда в Галич не вернётся. И расплакалась уже на скаку, сидючи в возке, горько и беззвучно. Только шевелила вздувшимися губами: «Господи, помилуй! Как же тяжело расставаться!..»
Путь им предстоял довольно нелёгкий: в сторону Гусятина, через Чёртов Лес; дальше, минуя Киев, с остановками в Переяславле и Нежине. А оттуда до Новгорода-Северского полтора дня езды. В общей сложности двигались неделю.
Но уже около Холмов поджидал их Игорь Святославич со своими гридями.
Был он красивее своего отца, Святослава Ольговича, виденного Осмомысл ом двадцать лет назад в Теребовле: не такой ярко-рыжий и уж вовсе не конопатый; нос прямой и недлинный, губы узкие; лишь зелёные родительские глаза говорили о его принадлежности к роду Ольговичей - их ведь и дразнили нередко: «очи будто в ряске».
Ярослав и Игорь раскланялись. Новгород-северский князь говорил с улыбкой:
- Батюшка мне сказывал часто, как вы с ним ударили по рукам - буде у тебя дочка, непременно ея выдать за меня. Только я считал это прибауткой-потешкой. А оно обернулось правдою.
И владыка Галича отвечал:
- В жизни ничего не бывает случайно. Ибо наше слово имеет силу. Раз оброненное, прорастает вдруг неожиданно и затейливо. Истина сия мною подтверждена не единожды.
Молодой человек познакомился с Фросей. Та стояла ни жива ни мертва, но смотрела прямо, не конфузилась, не стеснялась, только ощущала, как горят её щёки и подрагивают под платьем колени. А жених при виде славной, обаятельной девушки приободрился ещё больше, спрашивал любезно:
- Как доехала, душенька, мой свет? Не устала ли? Не порастряслась ли в дороге?
- Слава Богу, сносно. Только через Днепр переправа была трудна: плот один отнесло течением и едва его удалось поймать.
- Главное, что всё уже позади. Я вельми рад, что моя невестушка так пригожа лицом, а ея речи так складны и занятны. Видимо, ты в тятеньку своего пошла, Осмомысла.
- Хочется надеяться. Но и матушка у меня тоже говорить мастерица, даром что наследница Долгорукого и Елены Комнины.
- А в моих жилах - кровь родной дочери хана Осолука!
- И во мне половецкой крови тоже достаточно.
- Кем же мы друг дружке доводимся, коли разобраться?
- Я про сё думала ужо. Я твоя пятиюродная внучатая племянница.
- Ух ты! Мудрено!
Новгород-Северский был поменьше Галича, поскромнее и поспокойнее. На торговой площади не кричали восточные купцы; не ходили цыгане с учёными мишками на цепи; не шумели пьяные. Жизнь текла чинно-благородно и провинциально. Северяне (сверцы, севера), проживавшие на севере от Чернигова, отличались вообще неторопливостью. Говорили «окая» и растягивая гласные звуки. Сплошь светловолосые и зеленоглазые, мылись в общих банях (женщины и мужчины совместно), поклонялись наряду с Иисусом и языческим мелким божкам (Масленице, Купале, Коляде), а засоленным огурцам в массе предпочитали маринованные грибочки и мочёную репу. Из последней, из репы, делали немного хмельной прохладительный напиток - нечто среднее между пивом и квасом. А вообще были добросердечны и хлебосольны.
Свадьбу справили в первых числах июня. В храме над невестой держал венец младший брат Игоря - Всеволод Святославич, более широкий в кости и с толстенным бычьим затылком, а над женихом - новгород-северский воевода Рагуил (он происходил из крещёных половцев - ковуев; их здесь было немало). На пиру гуляли три дня. После первой ночи новобрачный, разглядев оставленное супругой красное пятно, был приятно удивлён и сказал:
- Я о сём не чаял - зная, что ты ездила к унгорскому королю невестой.
- Ездила-то ездила, но себя соблюла, - пояснила Фрося; помолчав, спросила: - Как же ты, сомневаясь, девушка ли я, согласился взять меня в жены?
Он пожал плечами:
- Разве это главное? Мне тебя описали, кроткий нрав и природный ум. Я решил, что с такими дарами Божьими остальное не важно.
- А ещё дары моего тятеньки - в качестве приданого, - усмехнулась та.
- А ещё приданое… Отрицать не стану. Как приехал ко мне Олекса Прокудьич да назвал величину, у меня аж дыханье спёрло! Но теперь, познакомившись с тобою, душенька-голубушка, я готов признать, что тебя любить стану за твою красоту тела и души, а не за богатство. Вот те крест святой!
- Будет, будет, голубчик, - успокоила его Ярославна. - Я тебе поверила. И поверь мне тоже: ты мне полюбился с первого же взгляда. Брак у нас не только по расчёту будет, но и по взаимной приязни. И такая мысль наполняет меня превеликой радостью.
- И меня, и меня! - согласился Игорь, наклонился к ней и поцеловал в приоткрытые сахарные уста.
Погостив у зятя неделю, тесть отправился дальше, юго-западнее, в Чернигов, но уже не по суше, а по крупной реке Десне, погрузившись в ладьи. На вторые сутки были уже на месте.
За шестнадцать лет, что не виделись Осмомысл и Святослав Всеволодович, оба изменились изрядно, превратившись из зелёных нескладных юношей в благородных отцов семейств. Галичанину исполнилось тридцать шесть, и его лицо бороздило несколько морщин - две от носа к губам, а другие на лбу; близорукий взгляд несколько блуждал, только изумруд, поднесённый к правому оку, помогал ему видеть собеседника; изначально же негустые волосы сделались ещё реже, открывая взору крупные залысины. А черниговец приближался к сорока; он ходил по-прежнему с гордо выпрямленной спиной и любил покручивать пышные усы; но в усах появилось много седины, под глазами намечались мешочки, и слегка приплюснутый нос весь покрылся сеточкой из ярких кровеносных сосудов. Два правителя встретились радушно, несмотря на прежние стычки в боях, выпили прилично, обсудили много насущных дел. Кто наследует киевский стол в случае кончины нынешнего великого князя Ростислава? Претендентов несколько: старший сын Долгорукого Глеб Юрьевич, и Мстислав Изяславич Волынский, и, конечно, сам Святослав Всеволодович Черниговский. А кого поддержал бы Осмомысл? Гость в душе предпочёл бы своего соседа - волынянина Мстислава, но для вида сказал, будто Святослава; тот размяк и заулыбался. Перешли на половцев: степняки в последнее время донимают, чаще остальных - ханы Гзак и Тоглий; сможет ли Ярослав подсобить войсками против них? Повелитель Галича обещал.
Осмотрели достопримечательности Чернигова: Болдины горы с княжьими курганами «Чёрная Могила» и «Гульбище» со священной Перуновой рощей; златоглавый Спасско-Преображенский собор в кремле-детинце и не менее величественный Борисоглебский; каменный терем в центре и обширные городские посады на красивых холмах правого берега Десны. Побывали и в другом княжеском дворе, с дубовыми башнями, что стоял при выезде из Чернигова - на Любечской дороге. Время провели с пользой.
Поначалу Болеслава будущему свёкру не особенно приглянулась: маленькая, худенькая и невзрачная, чем-то напоминавшая белую мышь, как и мать её - Марья Васильковна из Полоцка. Но когда отец, Святослав Всеволодович, попросил дочку спеть и она, помешкав, затянула старинный гимн древнего сказителя Бояна о походе князя Буса на северный Дунай, в девушке случилась чудная перемена: загорелись глаза, засияло личико, а высокий звонкий голос, многократно усиленный сводами дворцовой палаты, зазвучал торжественно и чарующе. «Ай да девка! - подумал Осмомысл. - Вот ведь хороша! Точно соловей: с виду серенький, неказистенький, а свистит - заслушаешься!»
А потом ещё на обратном пути в Галич стали разговаривать, сидючи в ладье. Ярослав ей задал несколько вопросов на разные темы - из Святого Писания, по славянской и греческой истории, и она отвечала бойко, без затруднений, чувствовалось - знала, получила дома неплохое образование. «А ведь мой-то пожиже будет в части своей учёности, - рассуждал родитель. - Как бы эта пичуга не заткнула его за пояс! Но, с другой стороны, даже хорошо: может, образумится, переймёт от неё что-нибудь полезное, кроме как ухода за кроликами и собаками».
Из Десны завернули в Днепр и остановились на полдня в Киеве, дабы засвидетельствовать почтение великому князю. Долго ожидали приёма: Ростислав болел, но сказал, что выйдет. Осмомысл, Болеслава и их окружение напряжённо сидели в гриднице и потягивали выставленное вино. Целых шестнадцать лет назад был владыка Галича на пиру у Юрия Долгорукого в этой зале. А по ощущению - вроде бы вчера. И поди ж ты: направляется восвояси с молодой княжной Святославной, чтобы выдать её за Владимира-Якова! Чудеса, да и только!
Двери распахнулись, и в проёме возник похудевший правитель Киева. Галичанин едва узнал прежнего удальца-молодца из Смоленска, огневого, шустрого, в этой развалине. Видимо, его точил злой недуг. И слова черниговца о преемнике были не пустой болтовнёй.
Поздоровавшись, обменялись поклонами, сели за длинный стол: Ростислав во главе, остальные справа и слева. Киевлянин спросил:
- Ты не злишься ли на меня, Ярославе, за послов из Царя-града, что интриговали против тебя и унгорского Иштвана?
- Полно, всё давно позабыто, - улыбнулся приезжий.
- Это добре. Нам теперь враждовать не след. Будто саранча, налетают половцы на русские южные рубежи. Надо собирать войско, дабы навалиться на них всеми силами.
- Полюбовно решить нельзя? Каждый из нас так или иначе с половцами связан; да и ты, я знаю, сына женил на Белуковне, дочке ханской.
- Наседают другие: Гзак и Тоглий. Если дотяну до весны, то поход возглавлю. Ты прибудешь ли?
- Я как все. Или сам прибуду, или сына пришлю. Для начала женю, а потом отправлю на рать.
Повелитель Киева стал разглядывать Владимирову невесту, а потом обратился к ней:
- Сколько ж лет тебе, девонька, исполнилось? Покраснев, Болеслава ответила:
- Да пятнадцатый год пошёл.
- А на вид не скажешь. Твой родитель-то не хворает, нет?
- Слава Богу, здоров. Кланяться просил, а ещё - заверить, что в войне против степняков обязательно поучаствует со своею дружиною.
- Любо, любо. Я желаю счастья Володимеру Ярославичу и тебе, многие лета и детишек поболе. Мой-то младшенький, Давыдка, мне уже четвёртого внука подарил. А ты знаешь ли, Ярославе, кто у сына подвизается в воеводах?
- Нет, а кто?
- Твой племяшка двоюродный Ростислав, сын Берладника. Очень зол на тебя и грозится отомстить при малейшей возможности. Так что берегись.
- Он щенок, ничего не сделает.
- Иногда щенки могут укусить побольнее взрослого пса. Но пока служит у Давыдки, для тебя нет угрозы. Я и старший мой сын Рюрик Ростиславич не допустим свары. А потом - как знать! Ну, да после нас - хоть потоп! - Он вздохнул. - Я теперь соблаговолю удалиться. Мне неможется что-то. С осени болею, весь уже извёлся, ни одно снадобье не лечит. Да на то воля Божья! Оставайтесь с миром!
Выехав из дворца и направившись к Боричеву спуску к Подолу, а затем и к Притыке (киевской пристани), Осмомысл подумал: «Князь великий, судя по всему, не жилец. Снова наступают смутные времена. Господи, помилуй! Надо подготовиться, выдержать удары и оборонить Галич. В случае чего, коли сунется, Чаргобая-племянника разотру в порошок. На моём троне ему не сидеть, сыновьям отдам - Яшке или Олежке. Надо бы последнего узаконить… Лишь бы Ольга Юрьевна не обиделась… Нет, пожалуй что, пока рановато».
Плыли по Днепру, обогнули пороги волоком по суше, из лимана попали в море, задержались на сутки в Белгородской крепости, чтобы отдохнуть, искупаться и понежиться на июльском солнышке, а затем по Днестру устремились вверх, к дорогой Галиции.
Болеслава по дороге совершенно освоилась и уже не робела перед будущим свёкром, а беседовала по-дружески, задавая вопросы: славный ли человек Владимир, будут ли новобрачные жить в отеческом доме или у себя, в отдельном дворце, строго ли соблюдают у них предписания церкви и так далее. Иногда Ярослав просил её спеть, и она охотно подчинялась, так что голос её полнозвучно звенел, разносясь над гладью реки. Но по мере приближения к Галичу девушка мрачнела, становилась неразговорчивой, плохо ела. Видя это, князь советовался с черниговскими боярами, составлявшими свиту невесты, вёзшими приданое, и, пытаясь развеселить будущую сноху, взял и рассказал, что живёт у него в Тысменице младший сын, происшедший от незаконной жены.
- Здесь вот, за этими вот лесами. - И правитель кивал на берег, весь поросший стройными вековыми соснами. - Пятый год ему - милый, смышлёный мальчик, я его люблю, как и Яшку.
А княжна внимала с тревогой, как-то озадаченно, а потом спросила:
- Но ведь изменять жене - грех? - Поняла бестактность вопроса, покраснела, начала произносить оправдания: дескать, не в укор и не в осуждение сказано сие, токмо с богословской, христианской позиции…
Осмомысл ничуть не смутился, даже хохотнул:
- Я и не сержусь, можешь не казниться. Говорю открыто: грех, конечно. Но когда любишь, о законах не думаешь.
Дочка Святослава не поняла:
- Можно ли любить человека иного, кроме как супруга твоего перед Господом?
Тот пожал плечами:
- Нежелательно, прямо скажем. Но порой сердцу не прикажешь.
- Да любовь ли это?
- Коли не любовь, так что?
- Вожделение, диавольский искус. Он помедлил, сразу посерьёзнев:
- Вот мои церковники тоже говорили: диавольский искус, даже собирались жечь Настю на костре как колдунью. Чепуха. Никакая она не ведьма, просто красота ея завораживает, чарует… - Он, задумавшись, замолчал. Плыли мимо них тысменицкие леса, иссиня-зелёные, непролазные, как душа Настеньки. «Как ея душа, - в голову пришло Ярославу, отчего под ложечкой тонко засосало и кольнуло сердце. - Молодая, свежая, словно эта чаща. И такая же дикая, неуёмная, и такая же ласковая, добрая. Разве это наущение сатаны? Разве счастье бывает от сатаны?» Вслух же произнёс: - Безусловно, грех. Отчего-то всё, что приятно, грешно!
- Нас лукавый испытывает на прочность, - философски проговорила девушка.
- Но нельзя питаться лишь водой и хлебом! - с вызовом воскликнул владыка Галича. - Хочется и мяса, и вина, и дичи!
- Искушение грешных душ…
- Мы не святы… Ни о чём не жалею, нет. Настя - это солнышко, лучик, освещающий серость бытия. Пусть сегодня светит не мне. В том, что она сбежала, есть и моя вина. Если бы Не я, может быть, судьба у неё по-иному сложилась… - Князь тяжело вздохнул, горько улыбнулся: - Ты меня не слушай. Ты невеста на выданье и должна думать правильно. А мои досужие измышления - не для юных твоих ушей.
- А ещё вопрос? Напоследок?
- Задавай, пожалуй.
- Коли Яков-Володимер изменять мне почнёт, как себя вести?
Осмомысл даже растерялся, ничего сразу не ответил. Но потом сказал:
- Ты своею к нему любовью не должна довести до сего позора.
- Нет, а коли присохнет он к кому-то на стороне? Галицкий правитель, недовольный тем, что вообще затеял этот разговор, раздражённо бросил:
- Мне пожалуйся! Я ему мозги вправлю!
- Как же вправишь, если он заявит, что его новая любимая - не искус, не грех, но прелестный лучик, освещающий серость бытия?
Ярослав уставился на черниговскую княжну, столь смышлёную и острую на язык. И пробормотал:
- Те-те-те! Ты не забывайся, голуба. Помни, кому дерзишь.
Дёрнув плечиком, молодая фыркнула:
- Разве ж сие ответ?
- Никаких ответов больше не будет. Я тебе не учитель, ты мне не ученица. Коль такая умная, поступай по своему разумению.
- Видимо, придётся. Если он изменит. Ну, да, может, обойдётся ещё…
В середине июля сыграли свадьбу. Новобрачные мало понравились друг другу. Болеславу коробил внешний вид княжича: красные бугры на лице, белые головки прыщей и не слишком здоровые зубы, от которых шёл неприятный запах. А Владимира смущал её ум, колкие суждения и обширные книжные познания. «Рассуждает, как поп на проповеди, - сокрушался он. - В простоте-то слова не вымолвит. А меня, судя по всему, за моих борзых и кроликов презирает. Ну, да ничего. Чай, в одрине-то как-нибудь поладим». - От подобных мыслей молодой человек сильно нервничал.
Праздник вышел на славу. Бракосочетание совершил престарелый епископ Кузьма, а бесплатным вином и пивом угощали всех, кто собрался на торговой площади поприветствовать молодожёнов. В угощеньях не было недостатка. Одному объевшемуся боярину стало за столом сильно плохо, и его едва успели утащить из палаты, дабы он, возвращая проглоченное, не изгадил скатерти и гостей. А другой боярин в сильном подпитии разжевал на спор фарфоровую китайскую чашечку, проглотил - и остался жив.
К сожалению, Яков перебрал тоже очень здорово, начал материться и бросать в гостей грецкими орехами. Старики сказали: «Это скверный знак. Коли молодой напивается на свадьбе, то семейная жизнь у него может не заладиться». Гриди вывели пьяного княжича, взяв под белы руки. Вслед за ним вышла и невеста, красная от гнева и унижения.
Положив Владимира на одр, слуги удалились. Он какое-то время шевелился, что-то бормотал и икал, призывал Болеславу: «Эй, черниговка, подь сюды, помоги раздеться», - но потом быстро засопел, провалившись в сон. Болеслава крестилась под образами, думала с отчаянием: «Господи Иисусе! Пресвятая Дева Мария! Что же делать мне? Как себя вести с этим олухом, животиной, дурнем? Гадкий галичанишко! Смрадный недоумок! Коли он теперь вытворяет всякие непотребства, дальше будет хуже. Как его унять? Как найти управу?» Ничего не решив, лишь измаявшись, прикорнула на другой половине ложа, сбросив только летник[17] и кику. Но жених потревожил её под утро: запустив одну руку под рубаху, тискал грудку, а другой рукой развязывал гашник - шнур, который крепил понёву[18] вокруг талии. Девушка начала брыкаться, верещать и в конце концов укусила его за ухо. Он отпрянул, ухватившись за мочку. Посмотрел на ладонь и увидел кровь. Жалобно воскликнул:
- Ах ты сучка! Я же муж тебе и имею право.
- Сильничать во сне? Грубо брать? Княжич согласился:
- Ладно, извини, сделал, не подумав. Хмель ещё не вышел. Ну, давай по-хорошему? Мне зело неймётся!
- Ничего, потерпишь, - огрызнулась та. - Дай мне хоть раздеться. Не в одежде же!
- Да не всё ль равно? Ить меня всего распирает прям, и боюсь не выдержать, лопнуть, как пузырь! - Навалившись и кряхтя, неумело начал тыкаться в её лоно; Болеславе пришлось помочь и направить.
Он зашёлся в рефлекторных движениях, точно кобелёк и пыхтел ей в лицо смачным перегаром. Наконец закатил глаза, взвизгнул и остановился, изогнув хребет, а она ощутила, как внутриее пульсирует мужнина одеревеневшая плоть, быстро разряжаясь.
Новобрачный обмяк, в благодарность принялся покрывать лицо молодой жены поцелуями. Норовил попасть в губы, но черниговка поворачивала голову и не позволяла. Княжич опечалился:
- Что ты прям, будто не родная! Али не довольна?
- Да довольна, довольна, счастлива! - процедила брезгливо.
Он ответил с обидой в голосе:
- Строишь из себя! Будто бы хрянцузская королева! А видали мы этих королев - голышом враскоряку!
- Много ли видали?
- Для меня - достаточно.
- Вот и поздравляю. Стало быть, черниговская княжна лучше королев, коль на мне женился. Иль тебя из Хрянций тож прогнали, как твою сестрицу из Унгрии?
Княжич замахнулся, чтобы съездить ей по лицу, но потом раздумал и не ударил. Но предупредил:
- Ты мою сестрицу не трожь. Я ея люблю больше всех. Даже больше маменьки. Мой единственный родной человечек.
Дочка Святослава, поправляя одежду, произнесла:
- Ну и на здоровье. Мне до Фроськи твоей дела никакого. Просто к слову сказала, не со зла.
Ярославич кивнул:
- Упаси тебя Бог говорить со зла. Мне шлея под хвост попадёт» - и пиши пропало. В бешенство впадаю. И себя не помню. Страх! Бают, что мой дедушка был таким же, князь Володимерко.
- Хорошо, что предупредил.
- Как не предупредить? Стать женоубивцем не хочется.
В целом торжества удались, если не считать одного обстоятельства: перепившаяся охрана острога не смогла отбить нападения неизвестных вооружённых людей; те ворвались внутрь и, схватив заключённого боярина Феодора Вонифатьича, увезли с собой. Кто, зачем - неясно. Говорили, что в одном из налётчиков опознали Чаргобая. Но наверняка сказать не могли.
Осмомысл наказал виновных - распорядился высечь прилюдно на торговой площади. И велел усилить дозоры вокруг города. Даже не поехал охотиться, дабы не бросать Галич без присмотра.
2
Не ошибся один из караульных острога: похищением вельможи в самом деле руководил Ростислав - сын Берладника. Год назад, убежав из Тысменицы, он прибился к смоленским князьям: Рюрику и Давыду. Старший вёл дела слабо, больше занимался семьёй и детьми, да ещё любил помечтать, сидя на крылечке: вот отец в Киеве помрёт, и его, наследника, киевляне призовут на великое княжение. Без борьбы, конечно, не обойдётся, но его дружина всех размечет. И войдут в историю Руси оба Рюрика - старый, основатель династии, и смоленский, Рюрик Ростиславич. Правда, чем таким особенным люди могли бы его запомнить, он не знал. И не думал. Просто сам факт возможного воцарения в «матери городов русских» грел ему душу.
Младший же, Давыд, был совсем другим: забияка, балагур, кутила. Заведя дружбу с Чаргобаем, он устраивал охоты в смоленских лесах, а зажарив мясо пойманных животных, молодые люди ели, пили, веселились от пуза и куражились над бабами из окрестных сел. Даже помышляли убежать на Дунай и пойти по стопам Берладника - сколотить отряды бродяг, грабить караваны и натягивать нос болгарам. Сдерживало одно: прежде чем уехать, сын Ивана жаждал отомстить Осмомыслу за отказ выдать за него Евфросинью.
Главный враг Ярослава, Феодор Вонифатьич, находился в остроге много лет. И тогда было решено его выкрасть. Двигал юношами исключительно азарт, и конкретных планов вроде бы не строили. С небольшой дружиной обогнули пинские и туровские болота, без особых трудностей миновали Волынь и слегка передохнули в маленькой Козове, от которой до Галича - три часа на коне. Стольный град праздновал свадьбу княжича, перебить подгулявших охранников на воротах ничего не стоило, ну а там до узилища - торная дорожка.
Вонифатьич спросонья даже не успел испугаться, а потом подумал, что его по приказу князя повели казнить, и заплакал. Но когда Ростислав объяснил суть происходящего, сразу успокоился и едва не пустился в пляс. В той же самой Козове Феодора помыли, постригли, дали чистое платье, накормили досыта. Он сидел, развалившись за столом пил хмельное пиво и, захорошев, громко срыгивал. А Берладников отпрыск спрашивал его, как больнее уязвить Ярославку.
- Ты меня вывез - этого достаточно, - отвечал боярин, чмокая по-заячьи. - А на большее сейчас рассчитывать нечего. Нам его не свалить.
- Мы валить и не думаем, - подключался Давыд, пивший вместе с ними. - Просто уколоть, подразнить. Что для Ярослава самое заветное? Дети? Золото? Может, выкрасть ещё и маленького сына из Тысменицы?
- Ерунда, - морщился вельможа. - Сына он, конечно, любит, но не оголтело, навещает его нечасто, поручив воспитание дядьке Тимофею. Самая большая привязанность для владыки Галича, думаю, Настасья Микитична. Но она сбежала…
- Можно отыскать в Царе-граде…
- Ну? И дальше?
- Привезти сюда. И посеять смуту в сердце Осмомысла. Закрутить всё по новой…
Вонифатьич задумался. Сунул палец в бороду, почесал скулу и уселся прямее. Хмыкнул с хитрецой:
- В этом что-то есть… Предположим, она возвратится к своему пацанёнку. Князь узнает… вновь начнёт метаться. Ольга Юрьевна будет недовольна. И пойдёт-поедет - полыхнёт пожар! Во полымени которого кое-кто сможет больно обжечься. Кто-то - вовсе сгорит. Ну, а кто-то погреет ладошки… Нет, определённо, предложение дельное!
Тут засомневался Давыд:
- Как ея найти на Босфоре? Столько лет прошло!
- А моя сестрица на что? - продолжал фантазировать Ростислав. - Что-нибудь подскажет. Да и я изучил Константинополь неплохо. - Посмотрел на товарища с вызовом: - Или трусишь, хочешь во Смоленск ворочаться?
Друг обиделся:
- Я не трушу, но скакать за три моря - никакого желания. Вместе с Вонифатьичем повернём оглобли. Станем дожидаться на моей родимой сторонке, где ему и мне обломится счастье.
Чаргобай сказал:
- Ну, как знаете. Я сидеть сложа руки не могу. Надоело! Коли не найду в Царе-граде Янку и Настасью, так подамся в Берлад, Русь оставлю. Погуляю вволю.
- Исполать! - пожелал Давыд.
- Исполать! - подтвердил Феодор. - И надеюсь, что ещё заварим в Галиче кашу, расхлебать которую Ярослав не сумеет!
На другой же день поделили гридей и разъехались в разные стороны: бывший заключённый с Давыдом - на север, а наследник Берладника, князь-изгой, на юг. И никто пока что не знал, сколько слёз и боли принесут последствия их нетрезвой беседы в маленькой Козове.
3
Летний поход 1167 года против половцев стал поистине общерусской акцией: большинство князей или сами пожаловали на съезд под Киевом, или же прислали своих воевод. Например, от Галича прибыл с войском Избыгнев Ивачич и привёл с собой восемь тысяч рати. Даже Ростислав Киевский, чувствуя себя скверно, превозмог болезнь и доехал по Днепру на ладье до Канева, пограничного городка, за которым начинались половецкие становища. Но солидной стычки с неприятелем в этот раз не вышло: ханы Тоглий и Гзак, испугавшись несметных русских сил, предпочли отвести своих всадников, растворившись в приднепровских степях. Делать стало нечего: по домам отправились и удельные князья. Эта встряска плохо повлияла на правителя Киева: он по возвращении больше не вставал с ложа, встретил Рождество в полубессознательном состоянии, а 14 марта 1168 года отдал Богу душу. Упокоили его в Церкви Святого Фёдора в монастыре.
19 мая в стольный град въехал новый великий князь, приглашённый киевлянами, - из Владимира-Волынского прискакал Мстислав Изяславич, давний друг и сосед Ярослава Осмомысла. В тот же год он уже в одиночку ходил на половцев и разбил хана Гзака на реке Ворскле. Но потом налетел хан Тоглий и отнял полученные трофеи. Тем бы лето и кончилось, если бы не клан Юрия Долгорукого: сыновья его - Глеб Юрьевич и Андрей Юрьевич Боголюбский очень бы хотели сами заправлять на Днепре, и для этого начали подговаривать всех своих союзников чтобы свергнуть Мстислава. Оказался между заговорщиками и супруг Фроси (Евфросиньи-Ярославны) - Игорь Святославич.
Получилось вот как.
И его покойный отец, Святослав Ольгович, и он сам, по наследству, не терпели своего родича и старшего князя (он, по-западному, был «сюзереном», а они - «вассалами») Святослава Всеволодовича Черниговского (нам известного как отца Болеславы). Часто ссорились, дулись друг на друга, даже враждовали; замирялись и снова ссорились. А когда до Игоря докатилась весть, что владыка Чернигова отказался выступить против Киева заодно с Долгорукими, тут же поспешил с ними объединиться.
Фрося упрекала супруга:
- Для чего тебе эти распри? Жил бы мирно. А смещать великого князя - дело недостойное.
- Ты не понимаешь! - петушился он. - Долгорукие больше прав имеют на киевский стол, по закону! А Мстислав - самозванец!
- Но его призвали лучшие люди Киева.
- Недоразумение. Мы должны восстановить справедливость.
Ярославна вздыхала:
- Думаешь, Долгорукие будут к тебе щедрее? Сомневаюсь. Только Мстислава выставят - о союзниках и забудут.
Муж смеялся зло:
- Что-то ты не жалуешь собственных дядьёв!
- Мне они дядья сводные. Боголюбский бабушку изгнал. Так с чего я должна его жаловать?
Каждый оставался при своём мнении. Человек упрямый, вспыльчивый, Игорь иногда обижал Евфросинью резкими словами, но она не отвечала, просто уходила в свои покои. Через день успокоившийся князь приходил вымаливать у жены прощение, что, однако, не мешало ему через пару дней обижать её снова.
Но при всём при этом оба они друг друга сильно любили. В середине июня 1167 года Фрося родила мальчика. Роды были тяжёлые, длились долго, но окончились, слава Богу, благополучно. По желанию Ярославны пацанёнка нарекли в честь её любимого брата - Владимиром, а затем, окрестив, дали имя Пётр.
Поначалу она хотела выкормить сама, но на третьем месяце молоко закончилось, и пришлось взять кормилицу. Игорь оказался заботливым родителем и на первых порах просто не отходил от люльки; дальше чуть остыл, посещал детскую два раза на дню - утром, пожелать сыну здравия, и по вечерам, перед сном, чтоб благословить. Говорил супруге:
- Мы на нём ведь не остановимся, душенька? Я хочу иметь много-много деток. Человек пять, не меньше. Та смеялась застенчиво:
- Дай передохнуть.
- Я не тороплю. Жизнь у нас ещё впереди. К Масленице 1169 года стало ясно, что она опять на сносях. Провожала мужа в поход на Киев, будучи уже с заметным животиком. Плакала, прижавшись к его груди:
- Ох, не покидай нас, родимый! Без тебя пропадём! Мы с тобой - одно целое. Режешь по живому!
Он едва сам не плакал:
- Успокойся, милая. Не могу иначе. Долг зовёт.
- Да какой там долг! Долгорукие - душегубы, тати, голову тебе задурили.
Игорь хмурился:
- Нет, не смей! На прощанье, гляди, поссоримся.
- Ну, прости, пожалуйста, вырвалось нечаянно… Коли ты решил - поезжай. Только поклянись, что опасностей станешь избегать, в пекло не стремиться. Вспомни обо мне, о Володечке и о новом дитятке. Ради них вернись.
- Обещаю, лапушка. Возвращусь обязательно.
Возглавлял союзное войско сын Андрея Боголюбского - Мстислав Андреевич. Он сплотил под своим началом неплохую рать: кроме собственных, суздальских, и пришедших из Новгорода-Северского Игоревых дружин, были ещё смоленские силы (Рюрик и Давыд) и отдельная половецкая конница хана Кончака. Навалились на «матерь городов русских» с трёх сторон, предъявили Мстиславу Изяславичу Волынскому, как бы мы теперь сказали, ультиматум: Добровольно оставить трон до 12 марта. Видя, что противник сильнее, тот не стал рисковать и поспешно скрылся из Города. Нападавшие въехали в столицу и в отместку за то, Что киевляне приглашали править не Долгоруких, а Изяславича, учинили грабежи и насилия, даже подпалив Печерский монастырь. Безобразия длились около недели, но потом, после всех бесчинств, в княжеский дворец въехал новый повелитель - Глеб Юрьевич, правивший до этого в Переяславле.
Так опять на Днепре поменялась власть. Целых девять лет будет длиться страшная чехарда великих князей, состоящая из заговоров, убийств и военных переворотов, - прежде чем победит Святослав Всеволодович Черниговский, кум Осмомысла и недруг Игоря. Но об этом - ниже.
А пока, весной 1169 года, Игорь возвратился домой без единой царапины. Хвастался своей удалью и не отходил от беременной жены. В августе она подарила ему нового сынишку. В честь основателя династии Ольговичей назван был Олегом. Как и в прошлый раз, Фрося написала отцу письмо с извещением, что теперь он сделался дважды дедом, и послала в Галич с гонцом. Но посыльный не застал князя: тот гостил во Владимире-Волынском у сбежавшего из Киева Мстислава Изяславича: оба строили планы, как разделаться с Долгорукими окончательно.
4
Дружба Ольги Юрьевны с попадьёй Матрёной не иссякла с годами. Став опять хозяйкой галицкого дворца, благоверная Осмомысла упросила епископа Кузьму дать отцу Георгию (мужу Матрёны) новый приход - в церкви на окраине Галича. И тогда подруги снова начали часто видеться.
А в семье попа было трое детей, только девочки - Поликсения, Миликтриса и Олимпиада. Все похожи на мать - пышнотелые и дородные, в каждом кулаке по полпуда. При гостях краснели, прыскали в ладошки, теребили толстые пшеничные косы. Самой озорной была Ксюша, Милька ей во всём подражала, но сама по себе проказить боялась; младшая же Липочка отличалась богобоязненностью и суровостью нрава. Поп учил их грамоте и Закону Божьему, а за прегрешения сильно не наказывал, справедливо считая: «Выйдя замуж, нахлебаются ещё строгостей, пусть хотя бы в девках жизнь у них будет хороша». Старшие же дочки пользовались родительским снисхождением и без разрешения убегали на посиделки с местными парнями или на купальские празднества.
А весною 1169 года провожали княжну Ирину-Верхуславу в Польшу - сговорив замуж за королевича Одона - князя познаньского и калишского - сына короля Мешко III. И княгиня Ольга пригласила на пир во дворец всё попово семейство. Собирались долго, тщательно, выбирали платья получше - скромные и чинные, но и без особого аскетизма. А отец Георгий наставлял дочерей в последний раз: пить вино, лишь разбавленное водою, и большие куски пирогов сразу не запихивать в рот. Те хоть и хихикали, но внимали.
Княжеский дворец посреди кремля на горе был увит ранними цветами, пёстрыми шёлковыми лентами, а на толстых древках трепетали именные стяги. На втором, сенном этаже находился стол Осмомысла и его приближенных; там же пировали польские вельможи, прибывшие сопровождать юную невесту. Вся в мехах и плотных материях, та потела и прела, красная и взмокшая, отдувалась тяжко. Ярослав сидел в белой горностаевой мантии, золотой диадеме и бриллиантах на каждом пальце; иногда прикладывал к правому глазу изумруд, изучая гостей.
Гости же попроще, в том числе и поповичи, разместились за тремя длинными столами во дворе. Здесь же, сбоку, услаждали слух присутствующих придворные музыканты - гусляры, сопельники (те, что дудели в дудки-сопели) и звонцы с колокольцами. У столов сновали бесчисленные слуги, то и дело меняя яства, подливая вино и настойки. Блюда пахли так аппетитно, что, наевшись досыта, трудно было не попробовать новые.
После третьего часа застолья Милька шепнула матери на ушко:
- Я хочу до ветру!
Та взглянула на неё с недовольством:
- Ничего, терпи.
- Силы больше нет! Правда! Не дурачусь.
- Ну, сходи вместе с Ксюшкой. Мне вставать неловко.
- Почему со мной? - возмутилась старшая. - Чуть чего - сразу «Ксюшка, Ксюшка»!
- Хватит стрекотать. Коли мать велела - ступай.
Девушки покинули стол и направились к боковым дверям, за которыми было отхожее место: дырки над выгребными ямами. Только заголили зады, сев бок о бок, как открылась дверь и вошёл молодой человек в дорогих одеждах. Обе подскочили будто бы ошпаренные. И узнали в нём княжича Владимира-Якова, хорошо им знакомого по болшевскому детству. Он слегка смутился:
- Ох, простите, голубушки… Отчего не закрылись? Есть вон тут крючок…
- Извини, батюшка, мой свет, не подумавши. В первый раз во дворце у князя, - покраснела Ксюша.
- Ну, мешать не стану. Я сюда случайно зашёл. Нам положено оправляться в горшки у себя в палатах, но идти было неохота. - Повернулся и вышел.
Сёстры никак не могли опомниться от досады. Выйдя на свежий воздух, княжича уже не увидели и с тяжёлым сердцем обе потащились к своим местам. Неожиданно он спустился с боковой галереи, заступил им дорогу и спросил с улыбкой:
- Девоньки, а хотите, по старой памяти, я вам покажу своих кроликов?
- Будем очень рады. Только вдруг тятенька и маменька станут беспокоиться?
- Ничего, вы вернётесь мигом. - И повёл их на задний двор, где рядами стояли клетки с многочисленными зверьками.
- Ой, какие славненькие! - восхитилась Милька. - Лапочки и киски.
- Нравятся? - обрадовался Владимир.
- Да кому ж они могут не понравиться? Он вздохнул:
- Например, Болеславе, жёнушке моей. Говорит, что это ребячество - проводить время с кроликами и псами, - «лучше бы за книжкой сидел»! Только я над книжками засыпаю. Сердце радуется только на охоте, или тут, иль во псарне.
Старшая поповна ответила:
- Ей, княжне, конечно, виднее, а по мне, так забота о тварях бессловесных - дело благородное и богоугодное.
- Как же хорошо, что ты меня понимаешь! - весь расцвёл Яков.
Милька обратилась к нему:
- Можно дать морковку этому, лопоухому?
- Сделай милость! Пожалуйста!
Весело болтали и кормили животных. Княжич доставал их из клеток, гладил, целовал. А девицы брали на руки только самых маленьких. В общем, не заметили, как прошёл целый час.
- Нам пора, нам пора, а не то родители заругают, - сразу заторопились сёстры.
- Не посмеют, коли назовёте, кто вас задержал. - И сказал на прощанье: - Приходите в гости. Я ещё собачек вам своих покажу.
- Так ведь нас не пустят. В шею выставят, если мы зайдём.
- Ну, так я за вами сам пришлю. Что, приедете?
- Будем только счастливы.
Поп и попадья изумились рассказу дочек, не поверили поначалу, но обильная кроличья шерсть, прилепившаяся к их платьям, неопровержимо свидетельствовала, что девицы не врали.
- Вот ведь чудеса! - оценила Матрёна. - Княжич задружился с нашими балаболками!
А отец Георгий перекрестился:
- Так на то воля Божья. Ничего случайного на земле не бывает.
Проводы Ирины длились дотемна. Через день она целым караваном из возков и телег отбыла в Краков, бывший тогда столицей Польши. Миновала ещё неделя, но Владимир-Яков вроде бы забыл про дочек священника. Те сначала часто вспоминали о забавном случае, происшедшем с ними, а потом стали забывать, отвлекаясь будничными делами. И поэтому появление возле дома приходского батюшки расписной таратайки с запряжённой в неё парой гнедых, а отдельно, верхом - посыльного в шитом серебром охабене[19] и высокой шапке с меховой оторочкой оказалось громом среди ясного неба. Нарочный сказал, что его светлость княжич ожидают юных поповен у себя в покоях и просили не медлить. Сёстры бросились одеваться, прихорашиваться, Липочка умолила взять её с собой, и они втроём покатили в гости. Княжьи хоромы поначалу подавили их своей мощью, дорогим убранством и невиданными фресками по стенам, а в большой зале - польскими гобеленами на библейские темы. Но Владимир, вышедший не в парадном одеянии, а в обычном кафтане, и его невычурный разговор успокоил девушек, и они начали осваиваться. А на псарне и вовсе развлекались, тиская щенков да лаская взрослых гончих, и борзых, и овчарок. Яков прямо-таки светился от гордости - видимо, внимания и признания окружающих ему в жизни не хватало. Но вообще-то за последние годы Осмомыслов отпрыск сделался получше: выровнялся, посолиднел, и прыщей стало много меньше, а по настоянию Болеславы по три раза на день прополаскивал рот душистой водой, так что запаха практически не было. Он слегка рисовался перед поповнами и пускал пыль в глаза; девичьи восторги, ахи и охи грели его сердце.
Словом, провели время с удовольствием. Княжич обещал приглашать их и впредь. Молодухи благодарили и кланялись.
Безусловно, с первого мгновения приглянулась Владимиру именно Поликсения. Да и то: младшие на её фоне выглядели не вполне оформившимися отроковицами, хоть и крупной кости; а она плыла как лебёдушка, плавно покачивая бёдрами, несравненная грудь нагло выпирала даже из просторного платья, а глаза были цвета морской волны, страстные, туманные. Уж не говоря о губах! В них любому хотелось впиться, ощутить тёплое дыхание, мягкую податливость… Этот образ без конца витал в голове наследника галицкого престола. Молодой человек попытался заглушить его Болеславой, заходил в её спальню чаще, был горяч и нетерпелив в любовных утехах, но избавиться от навязчивой мысли до конца не сумел. Мучаясь, бродил по дворцу. И никто не заметил его терзаний: мать уехала в дальний монастырь под Рогатином, а отец с Кснятином Серославичем снаряжал войска, посылая их в поход под водительством Мстислава Волынского, дабы тот опять воцарился в Киеве…
Как-то рано утром княжич кликнул Миколу Олексича и велел ему седлать лошадей: вместе прогуляться. И добавил к слову:
- Да оденься, пожалуй, как-нибудь попроще, чтоб не привлекать обчее внимание.
Выехали в боковые ворота и неспешно двинулись по весенней буковой рощице. А примерно в версте от кремля Яков обратился к подручному:
- Вот что, братец: дальше я один. У меня здесь одно секретное дельце, при котором посторонние глаза не нужны.
Тот забеспокоился:
- Да, а как ненароком что случится? Скажут, что Миколка не углядел.
- Не боись, это безопасно. Через час вернусь. Отдохни рока, поваляйся на травке и покарауль наших сивок.
Сам же поспешил к оконечности леса: на пригорке там стояла церковка, где как раз и служил батюшка Георгий…
Шла заутреня, в храме находилось человек двадцать. Прикрываясь высоким воротником, чтоб его не узнали, молодой человек приобрёл у свечницы свечку, подпалил от уже зажжённых и, крестясь, встал поодаль, в затемнённом углу. Поп рассказывал о святых деяниях апостола Павла, излагал его послание к коринфянам и втолковывал, что спасения можно достичь через обновление духа, покаяние и смирение. «Господи, - подумал Владимир, - не карай мя за то, что с мирскими мыслями я сюда явился. Но желаю зреть рабу Твою Поликсению - тайно, издаля, бо на большее мне рассчитывать не положено».
Старшая поповна находилась неподалёку - тоже держала свечку, слушала отца, осеняла себя крестным знамением. Видимо, почуяла устремлённый на неё страстный взгляд, повернула голову и увидела худощавую мужскую фигуру с полускрытым лицом. Но глаза показались ей знакомыми; странная догадка промелькнула в мозгу - снова обернувшись, Ксюша убедилась: это княжич! - и затрепетала, сразу ощутив, что колени её не держат. Больше уже е слышала слов священника. Лихорадочно рассуждала: «Для чего? Здесь? В такую рань? Нет, не может быть. У него жена. И вообще - я простая поповская дочка, он же - сын самого Осмомысла! Мне, конечно, лестно его внимание, но меня на мякине не проведёшь, я отдам свою честь токмо после свадьбы…» А сама покрывалась потом и шептала слова жалобных молитв. Кое-как решившись, в третий раз посмотрела в угол: соглядатая там уже не было. «Слава Богу! - с облегчением вздохнула она. - Этак много лучше. Уж не диавол ли смущает мя? Может, это он предстал в образе Володимерки? Или померещилось? В самом деле! Скуки ради приглашал с сёстрами на псарню, не имея ничего такого в виду. А уж я, как дурочка, возомнила! Замуж мне пора. Видно, на роду написано выйти за отца Дмитрия». А отцом Дмитрием был священник из Болшева, овдовевший не менее года тому назад, с четырьмя детьми на руках; говорил с батюшкой Георгием о возможной Исенитьбе на Поликсении, но пока предложения не делал. После службы подошла к тятеньке, чтоб спросить, соизволит ли он вместе с домочадцами завтракать или у него дела в церкви. А Георгий начал ей пенять: дескать, ты чего извертелась вся во второй половине проповеди? Та призналась: мол, почудилось, что в углу стоял человек, очень уж похожий на княжича.
- Не умом ли ты тронулась, дщерь моя? - удивился поп.
Опустив глаза и зардевшись, девушка ответила:
- Вот те крест святой: как тебя, видела его!
- Прочь отсед, не скверни глупыми речами пресвятого места! Завтракайте сами, я приеду к обеду. - И покинул её, скрывшись в Царских Вратах посреди иконостаса.
Старшая поповна, подтянув узелок платка под подбородком и поправив волосы, осенила себя крестом в последний раз, поклонилась и пошла из церкви. Сделала всего несколько шагов, как услышала позади себя:
- Здравствуй, Ксюшенька, милая голубушка.
И узнала голос. И едва не лишилась чувств от забившегося в горле сердца. Еле-еле проговорила:
- Здравствуй, батюшка, мой свет.
- Тихо, тихо, не называй по имени. Я здесь тайно.
- Отчего же так?
- Нешто непонятно? Людям моего положения неудобно бегать, дабы поглазеть на поповых дочек. Пересуды, толки никому не нужны.
- А зачем же бегаешь?
- А затем, что, видно, я к тебе присох.
У неё в глазах сделалось темно. Губы прошептали:
- Ты, наверное, надсмехаешься надо мною, бедной, честной девушкой?
- Нет, нимало, молвил истину. Мне запала в душу. Ни о ком другом думать не могу. Даже о супруге.
- Свят, свят, свят! Да ведь это грех!
- Да ещё какой! Но пожар в груди застит мне глаза. Признавайся: люб ли я тебе?
Та мотнула головой, замахала ладошками, будто отгоняя от себя наваждение:
- Совестно такие вопросы задавать, право слово!
- Мне теперь всё едино.
- Слушать не хочу. Будь ты кем не знаю, императором, Римским Папою, я скажу одно: Заповедей Господа нарушать не желаю.
- Стало быть, не люб, - вырвалось у Якова с нотками отчаяния.
Ксения ответила мягко:
- Нет, конечно, люб - как владыка наш, Галицкой земли, и наследник самого Осмомысла. Мы его почитаем как отца родного.
- Я же не про то. А по-человечески, просто?
Дочь отца Георгия ничего не произнесла и шагала молча. У развилки тропинки остановилась; видимо, уже успокоившись, весело взглянула в глаза:
- Не печалься, княжич. Поживём - увидим, как оно всё ещё обернётся.
Ощутив в её словах некую надежду, он схватил её за руки, выдохнул в лицо:
- Приходи в буковую рощицу нынче вечером.
- Нет, не смею. И меня тятя не отпустит. Чем я оправдаюсь?
- Значит, завтра в это же время, как пойдёшь с заутрене.
- Завтра приезжают из Болшева маменька и сёстры. Надо их встречать.
- Значит, послезавтра.
- Может, послезавтра… Но не утром, а вечером. Я отправлюсь на посиделки… коли доведётся уйти тайком… Но не обещаю! Зряшно не надейся. И не обессудь, коли не приду.
- Стану ждать, сколько ни придётся. В буковой рощице, у ручья на камушках… Не забудешь?
Хохотнула, вильнула юбками. Бросила насмешливый взгляд:
- Ну, прощай! И не поминай лихом!
- До свиданья, милая, до свиданья…
Два с половиной дня показались вечностью: отпрыск Ярослава маялся ужасно, всё валилось у него из рук, даже кролики и собаки не развеяли грусти и тоски, только раздражали. Приглядевшись, Болеслава спросила:
- Ты чего такой?
- Я? Какой?
- Вроде сам не свой, и в глазах тоска. Уж не занедужил ли, часом?
- Нет. Спасибочки. Чувствую себя сносно.
- Может быть, влюбился в кого-нибудь?
Княжич вздрогнул и похолодел. Но изобразил удивление:
- Да Господь с тобою! Я тебя люблю.
- Ой, не притворяйся. Мы друг дружку терпим, ласково относимся и проводим ночи совместно, как положено мужу и жене. Коли Бог позволит, заведём детишек. Но любовью между нами не пахнет. Ты прекрасно знаешь.
Взгляд Владимира сразу потеплел:
- Ты такая умная, Славушка! Во сто крат умнее меня! Та заулыбалась невесело:
- Умная не значит счастливая… Счастье не в уме.
- В чём же, ты считаешь?
- Счастье - принимать мир таким, как он есть, и не задавать себе слишком умных вопросов. Ведь тогда на них надо отвечать. А ответы зачастую не бывают приятными.
- Значит, ты со мною несчастлива?
- Вот ещё один бесполезный вопрос, голубчик. О моём ответе можешь догадаться.
Помолчав, он проговорил:
- Что ж, из нас двоих попытаюсь я сделаться счастливее. Болеслава похлопала его по руке:
- Бог тебе судья. Я не осуждаю и не препятствую. Но учти и ты: если срок придёт прикипеть мне к кому-нибудь, не ревнуй и не злобствуй. Обещаешь?
- Да.
В обусловленный день и час, бросив Миколку Олексича караулить коней, Яков поспешил в буковую рощу к ручью. Ждал довольно долго, перекатывал камушки и писал щепкой на песке имя «Поликсения». А когда стал накрапывать дождик, понял: не придёт. Начинало смеркаться. Княжич встал с травы, отряхнул одежду. Сделал шаг, чтобы уходить. И увидел тёмную фигуру за стволами деревьев. Сразу догадался: она!
Дочь попа Георгия подбежала взволнованная, раскрасневшаяся, с прерывающимся дыханием, от чего грудь её под платьем живописно ходила ходуном; через силу пробормотала:
- Извини, батюшка, мой свет… я насилу вырвалась… и теперь не знаю: коли хватятся - донесут родителям - те устроят взбучку!
Он схватил её плечи, мягкие и покатые, с удовольствием стиснул:
- Ничего не бойся, голубушка. Ты теперь под моей защитой. Как я рад, что смогла прийти! - Обнял горячо, страстно, торопливо. - Никому больше не отдам! Лишь моя, моя! - И хотел поцеловать в губы.
Та откинула голову назад, изогнув по-лебяжьи шею, и платок свалился с её волос; прошептала не без тревоги:
- Нет, не надо, пожалуйста… Мы должны остаться друзьями…
Но Владимир не слушал, проникал губами за воротник, сладостно впивался в шёлковую кожу под подбородком.
- Что мы делаем? - говорила она бессвязно. - Этак не годится… если кто узнает? - А сама уступала и поддавалась, безотчётно приникала к нему, а его рука ощущала, как невольная дрожь пробегает вдоль ложбинки её спины, слышал частое жаркое дыхание, видел возбуждённые раздутые ноздри; распалялся сам и терял рассудок от вожделения.
- Ах! - Последний вскрик, жалкий, чуточку обиженный, и уже ненужный протест: - Княжич, княжич… что ты делаешь? - А сама понемногу вторила его ритмичным толчкам, отдаваясь всецело; что-то ещё шептала, совершенно неразличимое, точно детский лепет, и закатывала глаза, упираясь локтями в землю, и хватала траву, и рвала, сжав её в пучки.
Наконец конвульсии стали угасать, стихли, прекратились. Оба, обессилев, повалились бок о бок и смотрели в небо, в тёмные, застывшие сверху кроны буков, ощущая на потных лицах дождевые брызги.
- Господи!.. - воскликнула Поликсения с теплотой и негой. - Вот ведь хорошо… Отчего это называют грехом? Это счастье!..
- Счастье, счастье… - повторил Владимир. - У меня такого никогда ещё не было…
- Как, а с Болеславой?
- С нею всё не так. Я один упражняюсь, а она вроде не со мною…
- Стало быть, не любит, как должно.
- Стало быть, не любит, как ты!
И опять потянулись друг к другу, но уже просто целовались - нежно, ненасытно.
А когда поднялись с травы, молодой человек спросил:
- Завтра вновь увидимся?
Девушка сказала со вздохом:
- Нет, не выйдет, милый.
- Значит, послезавтра?
- Больше никогда. Он опешил:
- То есть почему?
Старшая поповна виновато молчала, свесив голову. Взяв её за плечи, Яков произнёс в нетерпении:
- Говори, дурёха. Что ещё такое?
- Замуж отдают… да, за батюшку из Болшева… нынче сговорились… а в субботу свадьба…
У него глаза полезли на лоб:
- Как же ты?! И ни слова!.. Почему тогда ко мне прибежала?
Всхлипнув, Ксюша пролепетала:
- Напоследок хотела… вольной жизни хлебнуть… чтобы было, что вспомнить в старости… - И заплакала, и заголосила с отчаянием. Будущий правитель Галиции как-то неуверенно стал её успокаивать, уверял, что печалиться рано, свадьбу он расстроит и никто им не помешает встречаться.
Вдруг она сверкнула очами:
- Нет, не надо! Я дала согласие. За него пойду!
- Почему пойдёшь? - Он оторопел.
- Чтобы сделаться попадьёй и женой замужней. Так оно вернее!
Между ними повисла пауза. Княжич посулил неуверенно:
- Но ведь я тебя в Болшеве найду. Не угомонюсь. Та кивнула:
- Поищи, конечно! А пока - прощай! - И, привстав на цыпочки, чмокнула его в губы. Усмехнулась, промокнула щёки кончиком платка и в одно мгновение скрылась за стволами.
- Ну, дела… - Рукавом он утёр пот со лба. - Ну, чертовка!.. Все они, бабы, одинаковы!..
5
Неизвестно, кто донёс на Владимира - может быть, Миколка Олексич, верный пёс князя Осмомысла, может быть, пронюхавшая что-либо Матрёна (ей нетрудно было пожаловаться княгине, близкой своей подруге, ну а та забила тревогу), то ли кто из прихожан отца Георгия. Как бы там ни было, сына вызвал к себе родитель, мрачный, неприветливый, и сказал твёрдым голосом:
- Вот что, мой хороший, хватит дурью маяться. Скоро девятнадцать годков! У тебя ж на уме - только псы да кролики да ещё красивые незамужние поповские дочки! Нешто это жизнь моего наследника?
- Тятенька, пойми… - попытался оправдаться молодой человек.
- Ничего не желаю слушать! Я повелеваю: ты отправишься во главе галицкого войска на подмогу Мстиславу Волынскому, дабы Киев отобрать в его пользу. Ясно, нет?
Тот развёл руками, начал отговаривать неуклюже:
- Да какой же я ратник? Сам ведь знаешь: только и сноровист, что на охоте. Ни в один поход не ходил пока.
- Вот и начинай. Делом докажи, что не зря тебе передам престол.
Юноша покрылся красными пятнами. С придыханьем выдавил:
- Ну, а как убьют?
- Стало быть, Галицию передам Настасьичу. Сын вскричал:
- И тебе не жалко будет меня? Ярослав поморщился:
- Что ж ты голосишь, точно баба? - Но добавил мягче: - Да не бойся, бестолочь. Направляю вместе с тобою Кснятина Серославича. Он у нас тоже засиделся, пусть слегка развеется. - Вынул изумруд, посмотрел на отпрыска сквозь шлифованный камень и проговорил вовсе примирительно: - Ну, иди сюда, дай облобызать и благословить на дорожку! Не чужие, чай!
Судя по всему, Серославича в равной степени не порадовала воля Осмомысла об отправке его на ратные подвиги. Он хоть был ещё человеком не старым - сорок восемь лет, - но давно не брал оружия в руки, не питался походной кашей и не спал в шатрах в полевых условиях. Предлагал Гаврилку Василича бросить вместо себя - тот моложе и боевитей, - но владыка Галича продолжал настаивать на своём. Убеждал печатника:
- Ты пойми, Кснятине, друже, сей поход не такой уж Военный, а скорее просто для устрашения. Биться, полагаю, вам и не придётся. А зато - встречаться с противной стороною, обсуждать условия, принуждать к отходу. Это по твоей части. А какой из Гаврилки переговорщик? На коне лихой, а в беседе - раззява.
Словом, возражать было бесполезно.
Сборы заняли всего лишь несколько дней: рать была готова заранее, только ждала сигнала к выступлению. Отслужили молебен и попировали на посошок, проводили Якова с Кснятином по всей форме. Ярослав сказал напутственные слова. Болеслава, целуя мужа, кротко произнесла:
- Возвращайся целым и невредимым. Он уныло спросил:
- А тебе не лучше ли, коли не вернусь вовсе? Выйдешь снова замуж, за какого-нибудь достойного витязя.
- Кто ж меня с дитенком теперь возьмёт!
- Что ещё ты мелешь? - Княжич хлопал ресницами, как телок, выпущенный впервые из хлева.
- С нашим с тобой дитенком. Бабка-повитуха уверена, будто третий месяц пошёл.
- Не обманываешь нарочно? Дабы успокоить, развеселить?
- Чтоб мне провалиться, ей-бо!
- Ну, вот это новость! - И поцеловал её с удовольствием, улыбнувшись радостно. Обнимая мать, не сдержался, брякнул: - Слышала, что Славка моя чревата?
Ольга Юрьевна, продолжая сердиться на Владимира за его связь с поповной, отвечала сумрачно:
- Знаю, знаю, доложили ужо. Наш пострел не с одной успел…
- Ой, да что ты, маменька! Это всё меняет!
- Я была бы рада. А не то подумала: яблочко от яблоньки…
Но наследник, пропустив эту шпильку мимо ушей, задал другой вопрос:
- Коли встречусь со своими дядьями, а твоими братьями, Долгорукими, передать им привет?
На лице у княгини появилось злобное выражение:
- Не привет, а плевок в глаза! И Андрейке, и Глебке, и сучатам их. Семя чёртово, половецкое. Не даёт житья русским людям. А мою матушку прогнали. Ненавижу!
Выехали из Галича во второй половине мая. Началась гроза, хлынул дождь, и они промокли до нитки. Княжич уверял, что теперь простудится и умрёт. На ночлег остановились в какой-то хате, затопили баньку и, пропарив наследника до изнеможения, напоили горячим красным вином. Тот сидел закутанный в одеяло и обильно потел. А боярин Кснятин Серославич, тоже сильно выпивши, наставлял его:
- Ты меня держись. Я плохого не посоветую. Много лет назад тятьку твоего возвёл на престол, а потом, Бог даст, и тебя возведу ещё. Не Настасьича же сажать! Лучше уж тогда Чаргобайку, сына Берладника…
- Я те дам Чаргобайку! - огрызался Яков нетрезво. - Коли упомянешь его хоть раз, не снесёшь тогда головы, утоплю в Днестре! Понял ли, Кснятине?
- Понял, понял, батюшка! - деланно пугался вельможа. - Это к слову только, никаких на него видов не имею.
- То-то же, гляди! У меня баловаться станет недосуг. Всех прижму к ногтю. Я не Осмомысл. Он у нас учёный, начитался глупостей из ромейских книжек, тютькается с вами; Вонифатьича, видишь, проворонил… Я щадить никого не стану. Провинился - голова с плеч!
- Ты уж больно крут, как я погляжу, - говорил Кснятин, маскируя улыбку бородой.
- Уж таким уродился, - принимал как должное захмелевший княжич. - В тёзку моего и предка - Красно Солнышко. Он, бывалоча, никому не спускал, ни родным, ни близким. Потому как цель имел - Русь крестить. Кто крестился по доброй воле - был ему приятелем, а противников принуждал силою - огнём, как говорится, и мечем. Настоящий князь. И во мне его кровь бурлит. - Голова Владимира-младшего падала на грудь, и сомлевший молодой человек с ходу засыпал.
- Нет уж, милый, - бормотал боярин. - Чаргобай-то покрепче будет. Не исключено, что его и посадим.
Тем не менее трудности похода их сблизили. В трезвом состоянии юноша держался спокойно, любовался природой, даже напевал старинные песни; во хмелю делался несносен, злобен и придирчив, то хотел отрубать всем головы, то просил привести к нему несколько красавиц из местных, дабы провести с ними ночь; Кснятин едва его успокаивал; а наутро Яков ничего уже припомнить не мог и, когда ему рассказывали, как он буйствовал, очень удивлялся. И давал зарок больше не прикладываться к чаше с вином. Но потом крепился не больше двух дней.
Галицкое войско встретилось с дружинами волынян возле Луцка и совместным маршем совершило переход мимо Дорогобужа и Малина к Киеву. Там они разделились: князь Мстислав осадил столицу, а Владимиру посоветовал обложить ближний Вышгород…
Тут пора прояснить ситуацию, что сложилась в центре Руси. Прежний великий князь Глеб Юрьевич Долгорукий был отравлен боярами на пиру, как когда-то его отец, и затем похоронен в той же самой Спасской церкви на Берестове. Вновь пошла чехарда князей, в результате которой закрепился в Киеве нам уже известный Рюрик Ростиславович из Смоленска. Младшему же брату Давыду он пожаловал город Вышгород, что всего в нескольких вёрстах севернее столицы. А Давыд взял с собой Феодора Вонифатьича, бывшего при нём после освобождения из острога…
В целом же на Киев претендовали три клана: с запада - Мстислав Волынский; в центре - братья Ростиславичи Смоленские; а с востока - Долгорукие, в этот раз объединившиеся не только с Игорем, мужем Фроси, но и с князем черниговским - Святославом Всеволодовичем (кстати, последний тоже лелеял мысль самому оказаться на великокняжеском троне!). Половцы во главе с Кончаком поддерживали Долгоруких, а другие, «чёрные клобуки», - Мстислава…
Каша заварилась крутая. И когда засвистели первые стрелы, а среди галичан появились первые убитые, Яков запил беспробудно и валялся без сознания у себя в палатке с ночи до утра и с утра до ночи. В это время Кснятину тайно передали грамотку из Вышгорода. Раскатав её, Серославич увидал, что написана она от имени Феодора Вонифатьича. Бывший заключённый предлагал увидеться и потолковать об условиях перемирия. А в конце намекал: мол, обижен не будешь, наградим по-царски! Это грело душу.
Встреча состоялась ночь спустя, на пустынном берегу Днепра, с каждой стороны - по пятёрке всадников. Два боярина спешились, подошли друг к другу, сели на расстеленный коврик. Бледная луна серебрила воду реки. Кони склоняли шеи и щипали траву. Воевать ни с кем жутко не хотелось.
- Как ты мыслишь это уладить? - первым задал вопрос печатник, глядя в сторону, на торжественный ночной Днепр.
- Проще некуда. У тебя печать с ликом князя. Или нет? Или не посмел взять с собой в поход?
- Ну, допустим, взял. Что же из того?
- Напиши пергамент - якобы от имени Ярослава. Якобы с велением уходить восвояси. Покажи Володимеру. Если надо - Мстиславу. И отчаливайте себе подобру-поздорову, нам и вам на радость. А когда придёт пора валить Осмомысла - только свистни, прибежим на помощь.
- Думаешь, такая пора придёт?
- При безвольном сыне будет наша вольница.
- При безвольном сыне можно загубить княжество.
- Надоест - кликнем Ростиславку Берладника. А пока что шесть серебряных гривен станут для тебя утешением. - Феодор потряс кошельком, прикреплённым к поясу.
Кснятин вздохнул:
- Больно уж похоже на тридцать серебреников… Феодор ответил:
- Я не знаю, как Иуда израсходовал свои деньги, а вот ты на эти сможешь купить себе новое имение со дворцом!
- Искушаешь, бестия… - Помотав головой, заметил: - Ни за что бы не взял, если бы считал, что воюю я за правое дело. А Мстислав не Мстислав - нам какая разница? Хорошо, попробую изготовить грамоту… Но цена будет - осемь гривен!
Вонифатьич сделал кислую мину, зачесался:
- Режешь без ножа. Мне Давыд задаст… Ну, да ничего: выложу свои, коль на то пошло!
- Вот и молодец. Но учти: половину - сейчас, в задаток, половину - в ночь накануне отвода войск. Что, согласен?
- Ладно, по рукам. На, держи четыре.
Через день, проснувшись, Ярославов сын увидел у своей постели по-дорожному одетого Кснятина. Ничего сразу не поняв, княжич сел и рыгнул со стоном. На его одутловатом, мятом лице было лишь одно выражение: дайте опохмелиться. Потерев кулаком правый глаз, он спросил хриплым голосом:
- Ты куда собрался?
- Уезжать пора, свет мой, батюшка.
- Как? А я?
- И тебе пора. И другим галичанам. Утром прискакал Осмомыслов гонец и доставил волю твоего родителя. Почитай-ка сам.
Взяв нетвёрдой рукой пергамент, юноша его развернул и увидел печатку князя. Но витиеватые строчки кириллицы расплывались перед глазами. Он сказал с досадой:
- Ничего не вижу спросонья. Расскажи своими словами.
- Слишком много пьёшь…
- Не твоя печаль! Говори живее.
- Наш владыка и господин распорядилися снять осаду с городка Вышгорода и идти домой.
- Да не может быть!
- Выведено чёрным по белому.
У Владимира сразу же прочистилось в голове. Посмотрев на вельможу с удивлением, снова попросил грамоту. Раскатал, вгляделся. Поднял усмехающиеся глаза:
- Уж не сам ли ты это настрочил, признавайся? Тот забормотал:
- Вот напраслина… нешто я могу?.. свет мой, батюшка, я теперь обижусь…
Княжич громко фыркнул и отбросил пергамент:
- Я, конечно, дурень, но, к несчастью, не такой, как ты думаешь… С кем встречался тайно? Не с Давыдкой ли?
Посрамлённый боярин нехотя признался:
- С Вонифатьичем, что живёт при нём…
- А, тогда понятно… Сколько он даёт гривен?
- Шесть серебряных.
- А на самом деле? Выторговал осемь? Кснятин, потупившись, согласился и здесь:
- Еле уломал…
- Ну, и кто ты есть после этого, Серославич? Не Иуда ли?
- Точно так: Иуда.
- И какой участи достоин?
- Быть повешенным на осине.
- Любо, любо! Так мы и поступим. За предательство положена смерть. - Он откинулся на лежанке и смотрел, хихикая, как печатник покрывается потом; наконец сказал: - Ладно, не трясись. Предлагаю уговор: из осьми этих гривен - пять мои, и подлог останется между нами. А отца уверим,- что ушли, увидав тщету помощи Мстиславке.
- Как, а вдруг волынянин выиграет?
- Очень сомневаюсь. Долгорукие сильнее в два раза. Нам и в самом деле надо уносить ноги. Почему бы при этом не разбогатеть?
- Ты, мой свет, хитроумнее самого Улисса[20]!.. Между тем события шли по нарастающей. При поддержке «чёрных клобуков» князь волынский захватил столицу. Рюрик убежал в свою смоленскую вотчину. Но с востока навалились суздальцы и черниговцы вместе с конницей хана Кончака. Прав был Яков: даже если бы галичане е ушли из-под Вышгорода, вряд ли бы Мстислав выстоял, пару дней он сопротивлялся и держал оборону в садах близ Великих киевских Золотых Ворот. Но, поняв, что силы не равны, предпочёл убежать с поля боя. (Видно убедившись, то ему уже никогда больше не удастся стать правителем а Днепре, он серьёзно заболел и скончался у себя во Владимире-Волынском тем же летом.) А фактическим правителем Киева сделался Андрей Юрьевич Боголюбский… Но надолго ли?
Возвращение Кснятина и княжича было тихим и скромным, как и подобает полкам, не снискавшим победы на поле брани. Осмомысл уже знал о разгроме Мстислава, встретил сына и печатника без улыбки, сумрачно спросил:
- Что, не вышло? - Но излишне горячные и сбивчивые их доклады слушать не желал, только отмахнулся: - Будет, не сержусь. Главное, что живы и людей в боях потеряли мало. Отдыхайте, приходите в себя. Потолкуем позже. А тебе, сыне, сообщу новость невесёлую: приключился у Болеславки выкидыш. Ты уж с ней поласковей - мучится, бедняжка, и себя казнит зряшно. Успокой, скажи, что в иной раз непременно доносит.
По приезде рассказали Якову и другое: Поликсения вышла замуж за отца Дмитрия и уехала в Болшев. Но о том, что она носила под сердцем дитя Владимира, сделалось известно не сразу.
Глава пятая
1
Наконец-то личное счастье улыбнулось византийскому императору Мануилу I: у его молодой супруги, антиохийской принцессы Марии, летом 1169 года появился сын, нареченный в память о великом основателе их династии Алексее Комнине - Алексеем. Счастью родителя не было границ. С ходу он объявил, что младенец - наследник его престола, и расторг помолвку дочери с венгерским принцем Белой. Оскорблённый венгр в тот же день покинул Константинополь и вернулся на родину, под крыло своей матери - Евфросиньи Мстиславны.
Надо сказать, что рождение мальчика в царственной семье принесло радость далеко не всем жителям страны. В частности, Фёдор Кантакузин, не оставивший мысли возвести на трон Алексея Ангела, очень огорчился и какое-то время пребывал в апатии, скрашиваемой только любовью к Янке. Та ему родила двух детей - мальчика и девочку, и они вчетвером жили у него во дворце в Малой Азии. Старшая же Янкина дочка, Зоя, от Андроника, оставалась по-прежнему под опекой бабушки - Добродеи-Ирины.
Но зато любовь Исаака Ангела к Настеньке длилась много меньше. Их разрыв случился в том же 1169 году после бурного выяснения отношений: женщина узнала, что толстяк продолжал тайно посещать прежнюю наложницу, от которой у него дети. Исаак винился, говорил, что не может без них обеих, что запутался окончательно и просил прощения. Настенька сказала: должен выбирать - я или она; если я, то женись на мне по Канону Церкви и удочери Евдокию. Ангел попросил день на размышление. А потом ответил: нет, к церковному браку с русской не готов, это ведь на целую жизнь, а судьба может повернуться по-всякому, и обременять себя никчемушними узами не желает. Что ж, тогда прощай, заявила та. Он молил, чтобы внучка Чарга не уходила, предлагал кучу драгоценностей, землю и рабов, но она была непреклонна: или под венец, или разойдёмся. В общем, разошлись.
Жить одной, без поддержки любовников, было нелегко. Постепенно распродавала имущество, золото и камни - те, что ей подарили в разное время; наконец продала усадьбу, распустила слуг и сняла для себя, дочери и няньки три убогих комнатки на окраине города Хризополя. Дом был неуютный, мрачный, продуваемый всеми босфорскими ветрами, отчего девочка не могла никак избавиться от простуд, кашляла и хандрила с осени до весны. Деньги убывали. Но идти на панель Настя не решалась, несмотря на то, что считала себя в душе порядочной дрянью; думала пока только о приличных занятиях - поступить в дом к богатым грекам служанкой, или переписчицей книг, или, на худой конец, уйти в монастырь вместе с Дуней. А потом решила попробовать ворожить, как её учила Арепа. Поначалу ведьмино ремесло стало приносить немалый доход - люди потянулись к ней косяком, жаждя заглянуть в своё будущее, исцелиться от хворей или же избавиться от «венца безбрачия». Но потом кто-то «настучал» на колдунью церковным властям, и пришлось бежать из Хризополя посреди зимы, скрыться, затеряться в Константинополе.
Приютились они в каморке на втором этаже доходного дома. На служанку уже денег не хватало, и пришлось остаться вдвоём. Жили впроголодь, героически преодолевая дочкины простуды. Наконец Настю взяли посудомойкой в трактир, а потом перевели в подавальщицы. Посетители-мужчины приставали к ней, но она ловко избегала двусмысленных ситуаций, большей частью шутками, иногда прибегала к помощи хозяина. Как-то, посмотрев на сидевшего в углу продавца овец и почувствовав некое наитие, иногда посещавшее её, Настенька сказала: «Не ходи завтра на площадь Тавра - там тебя убьют». Он ответил: «Не могу не пойти, у меня назначена встреча с покупателем». - «Ну, как знаешь. Я предупредила». И действительно: в разгоревшейся драке бедолагу зарезали. Слава о ясновидящей снова разнеслась по кварталам столицы. Многие приходили теперь в трактир только для гадания, и сметливый хозяин брал за ворожбу подавальщицы крупную плату. Вроде бы дела её стали постепенно налаживаться, как случилось непоправимое. Евдокия одна, без присмотра матери, днём спускалась по полусгнившей лестнице со второго этажа и, понятно, при своей хромоте оступилась, кубарем полетела вниз и разбила голову. Без сознания пролежала несколько часов, и была обнаружена престарелой соседкой. Та послала в трактир за Настенькой. Перепуганная мать прибежала, привела дочку в чувство, трое суток кормила с ложечки. Но смертельной оказалась не травма головы, а жестокое воспаление лёгких, схваченное девочкой из-за долгого лежания на холодных камнях. Все усилия, заговоры и чары ничего не дали: Дуня умерла. Прорыдав у неё на груди, женщина решила тоже уйти из жизни.
Взяв верёвку и соорудив из неё петлю, перекинула через потолочную балку, помолилась тихо, влезла на табурет и уже готова была повеситься, как открылась дверь, и в проёме появилась рослая мужская фигура. Это был Чаргобай. Он стащил её на пол, начал успокаивать. А с его двоюродной тётушкой началась истерика - с воплями, слезами и судорогами. Даже потеряла сознание, но потом очнулась, сразу стала паинькой, выпила вина, подкрепилась булкой и по-деловому заговорила о похоронах дочери.
На печальную церемонию неожиданно прикатила Янка, извещённая братом. Вся была в дорогих нарядах, олицетворяя собою счастье и достаток: видимо, Фёдор Кантакузин удовлетворял все её запросы. Настя по сравнению с нею выглядела нищенкой - жалкая, худая, в более чем скромной одежде и с коричневыми кругами возле глаз. Обе обнялись и заплакали. Так и стояли, взявшись за руки, до конца заупокойного слова батюшки и во время опускания гроба в яму. А потом у подруги не было слов от негодования: «Почему не пришла и не попросила меня о помощи? Я тебя искала, но никто не знал, где ты прячешься, убежав из Хризополя». Та понуро молчала. Наконец ответила: «Зря меня вытащили из петли. Жить не хочется! Никому не нужна, ни на что не способна!» - «Как, а сын? - произнёс Чаргобай, наблюдавший эту сцену на кладбище. - У тебя есть сын, ждущий встречи с матерью!» - «Сын… - проговорила она и слегка воспрянула. - Маленький Олежка…» - «Не такой уж маленький: скоро десять лет». - «Скоро десять… Ты давно его видел?» - внучка Чарга подняла на двоюродного племянника жалкие, с неизбывной грустью глаза. Он сказал уклончиво: «Да давненько: мы ведь с Ярославом рассорились. Но запомнил мальчика непоседой и смышлёным не по годам». Женщина задумалась, посмотрела на Янку: «Нет, потом, потом… Я теперь без сил. Можно, у тебя заночую?» Та воскликнула: «Что ещё за вопросы! В доме Кантакузина места хватит всем». - «Он не станет против?» - «Кто вообще будет спрашивать этого болвана?!» - и она рассмеялась хищно.
Незаметно пролетело несколько месяцев. Ростислав уговаривал Настю возвращаться на Русь, но она то хотела, то не хотела, что-то сдерживало её внутренне - тайное предчувствие или просто робость? Угадать нельзя… Под опекой близких людей самочувствие молодой женщины явственно улучшилось: щёки порозовели и округлились, волосы опять заблестели, а во взгляде вновь читались доброта и лукавство. Много времени теперь проводила с Янкиными детьми - мальчиком и девочкой, четырёх и трёх лет соответственно. Выполняла фактически роль гувернантки - обучала, прогуливала, воспитывала. А подруга не возражала: у неё и без детей находилась масса забот - светские приёмы, скачки, бани-термы, покровительство ряду монастырей и богоугодных заведений, посещение ювелиров и портных… Жизнь бы так и катилась по наезженной колее, если бы не новость, принесённая Янкой: в городе Андроник Комнин!
Выяснилось вот что. Перейдя на сторону мусульман, сын Ирины-Добродеи проскитался со своей любовницей Феодорой и совместными детьми по крупнейшим исламским городам - от Каира до Басры, долго жил в Багдаде, а потом обосновался в Алеппо. Здесь проходили торговые пути из восточных стран в Византию и обратно, и наследник императорского престола занялся тем, что, собрав под своим началом банду головорезов, по примеру Берладника начал грабить проходившие караваны. Действия его отличались крайней жестокостью: мусульман-купцов отпускал, а купцов-христиан резал без зазрения совести. Вскоре об этом узнали в Константинополе. Патриарх отлучил Андроника от Церкви, а рассерженный Мануил бросил на кузена собственную гвардию. И хотя новоявленному бандиту удалось скрыться за Евфрат, он попал в ловушку: командир гвардейцев захватил Феодору с детьми и сказал, что прикажет их вздёрнуть, если тот не сдастся в течение суток. Ровно через сутки появился Андроник с белым флагом капитуляции.
В кандалах его доставили к императору. Самодержец сидел в тронной зале у камина и смотрел на огонь. Пленника швырнули к его ногам. Босиком, в жалком рубище и колодках, поседевший и полысевший красавец мужчина корчился на мраморных плитах, словно дождевой червь, выуженный из почвы. Мануил, даже не желая взглянуть на Двоюродного брата, сделал жест рукой: пусть освободят глею и запястья. А когда приказание было выполнено, тихо произнёс:
- Что мне делать с тобой, Андроник? Ты в который раз опозорил наше семейство. Убивал, грабил и развратничал… Вот и евнух Фома убеждает тебя убить… Брат ответил:
- Делай со мной что хочешь, но оставь в покое Феодору с детьми.
- Я её не трону. Бедная вдова Балдуина тем уже наказана, что жила с тобою… Что они находят в тебе? Негодяй и мерзавец, обагрённый христианской кровью. А поди ж ты - летят, словно бабочки на огонь… Ну, да это к слову. Я повелеваю: если ты покаешься и торжественно, на Святом Кресте присягнёшь на верность моему наследнику - принцу Алексею, я тебя прощу и сошлю на вечное поселение в горы Пафлагонии. Что, согласен? Это твой единственный шанс. А иначе - смерть.
Потрясённый благородством повелителя Византии, тот упал на колени и поцеловал край его одежд. Пылко прошептал:
- Ты великодушен… Бог тебя спаси! Выполню любое твоё решение… Можно ли увидеться с престарелой матерью? Ведь потом вряд ли когда-нибудь встретимся. Годы её такие…
- Дозволяю.
Это всё Насте с Чаргобаем рассказала Янка. И добавила:
- Добродея мне разрешила быть в имении при визите сына. Думаю, Андроник выразит желание посмотреть на Зою. Как же без меня? Да и ты могла бы поехать тоже.
- Я? Зачем? - удивилась её подруга. - Никаких чувств больше не осталось. Лишь одна досада. Если бы не он, я жила бы в Тысменице… и растила бы сына…
- Но зато сколько приключений!
- И врагу не пожелаю таких.
- Можно мне поехать? - вдруг прорезался Ростислав. - Мы с Андроником давние друзья. Был бы рад пожелать ему счастья.
- Очень хорошо, милый братик. Мне с тобой будет поспокойнее. Сделай одолжение: пусть закладывают коней завтра ровно в девять утра.
2
Добродея-Ирина родила Андроника в четырнадцать лет и теперь, глядя на него, постаревшего, приближающегося к пятидесяти пяти годам, не могла поверить, что вот этот немолодой, но ещё импозантный мужчина - её сын. Было видно, что он устал: уголки губ опущены книзу, верхние веки - набрякшие, налитые сном. Говорил неторопливо, иногда двумя пальцами массировал переносицу, дабы сосредоточиться. За столом ещё находились Чаргобай и Янка. Шестилетняя Зоя мало тронула сердце отца: посмотрев на девочку, он поцеловал её в лоб и велел не шалить, слушаться родных, а минуту спустя совершенно о ней забыл. Шутка ли сказать: девять отпрысков! Трое от грузинской царевны, двое от Феодоры и по одному ребёнку от ещё четырёх любовниц. Всех не сразу вспомнишь. Да и надо ли, если разобраться? Мать спросила:
- Как ты будешь жить в Пафлагонии? Там такая жара и сушь.
Сын ответил:
- Отосплюсь и воспряну духом. А потом посмотрим.
- Я надеюсь, ты не собираешься больше воевать с Мануилом?
- Он был добр ко мне. Я поклялся на Кресте в верности ему и царевичу. И пока бунтовать не стану.
- Ах, «пока»? До каких же пор?..
- Извини, нечаянно вырвалось. Пожилая дама воскликнула:
- Умоляю, Андроник, оставь! Что ты говоришь? Посмотри на себя: поседел, полысел, а по-прежнему рвёшься в Вуколеон, как мальчишка! Хватит, успокойся. Трон не для тебя.
У него растянулись губы в улыбке:
- Поживём - увидим. Помнишь, Ростиславе, мне одна половчанка нагадала? Буду императором под конец жизни - хоть и мало, но буду.
- Хо! И ты поверил? - усмехнулась Ирина.
- Как ты думаешь, Ростиславе? Молодой человек сказал:
- В жилах моих - кровь кудесника Чарга. Не могу не верить. Многие пророчества наших ясновидцев сбываются.
Гость повеселел:
- Видишь, ма! Кстати, а жива ли внучка этого Чарга и твоя двоюродная тётка… как ея?.. та, с кем я вернулся с Руси?
- Ты уже забыл имя? - удивилась Янка.
Он потёр лоб ладонью:
- Столько лет прошло… Настя, Настенька! Господи конечно! Где она? Вы ведь были подругами.
- Мы подруги по-прежнему. И она живёт со мной в доме Кантакузина.
- Да не может быть! Вот ведь удивительно… Значит, она одна?
Дочь Берладника вкратце обрисовала жизнь её товарки.
- Мы должны встретиться, - заявил Андроник, странно оживившись. - Если будет согласна, заберу Настасью с собой в Пафлагонию.
- Как? А Феодора с детьми? - поразилась мать.
- Именно - с детьми! Не могу же я обрекать их на муки, зной и неудобства? Нет, они останутся тут, в Константинополе. Пусть растут и учатся…
- Но Настасья собиралась возвратиться в Галицию, - вставил Чаргобай. - К маленькому сыну.
- От нея Галиция никуда не уйдёт. Я теперь важнее. Хороша ли она по-прежнему?
Янка произнесла сдержанно:
- Годы не украшают нас… Но отец её дочери не поверил:
- Это ты нарочно клевещешь, потому что ревнуешь.
- Я? Ревную? Не смеши меня! Он отрезал:
- В общем, решено: едем к тебе домой, и немедленно! Добродея покачала головой грустно:
- Ты, мой мальчик, не меняешься совершенно. Будто бы юнец, а не убелённый сединами муж. - Поднялась и поцеловала его. - Неужели больше никогда не увидимся? Я похлопочу: может, Мануил разрешит перебраться поближе к Царю-граду?..
- Был бы очень рад. Но боюсь, это невозможно. Ничего, мама, не печалься. И прости за всё. Я не лучший сын, часто попадал в дурные истории, но считал и считаю тебя самым дорогим человеком на свете. - И поцеловал её с нежностью.
А она, прижавшись к необъятной его груди, повторяла мягко:
- Береги себя. Не доставь мне несчастья получить известие о твоей смерти.
- Постараюсь, ма…
Нет, Ирина доживёт до восьмидесяти лет и скончается на руках Андроника - императора Андроника I… Но случится это очень и очень ещё не скоро…
3
Настенька гуляла в саду с Янкиными детьми и учила их называть по-русски разные цветы, как служанка кликнула её в дом. Внучка Чарга ничего сначала не поняла, а потом, по дороге, обратила мысленный взор в тот заветный уголок подсознания, что порой посылал ей импульсы-наития. И в мозгу возникли четыре слова: «дальняя дорога», «море», «горы», «надежда». И сама себе задала вопрос: «Возвращение в Галич?» - и сама себе же ответила внутренним сомнением. Нет, не Галич. Может быть, потом. Не сейчас.
Поднялась по лестнице и попала в залу. А увидев профиль крупного лысоватого мужчины - волевой подбородок, нос горбинкой, - сразу ощутила сердцебиение. Он взглянул на неё - быстро, испытующе и, довольный, расплылся, не разочаровавшись; встал, пошёл навстречу:
- Здравствуй, дорогая… - и хотел обнять, но она отстранилась:
- Нет, прости… не желаю, не надо.
- Всё ещё злишься на меня?
- Вряд ли, ни к чему…
- Я готов искупить вину. Оба мы стоим на руинах прошлого. Предлагаю начать сначала. - Усадил её напротив себя и налил вино в чашу из кувшина.
- Как - начать? - продолжала теряться в догадках Настенька.
- Взять тебя с собой в Пафлагонию. У неё на лице появилось недоумение:
- Янка, слышишь? Почему молчишь? Та пожала плечами:
- Все свои возражения я ему сказала по пути сюда. Он и слушать меня не хочет.
- Слава, ты? - обратилась к двоюродному племяннику. Ростислав ответил:
- Я - как ты. Или вместе поедем на Русь, или вместе отправимся за Андроником в ссылку. Больше потерять тебя не хочу. Помогу, когда вы опять рассоритесь.
Будущий император хмыкнул:
- Русские такие смешные! Из всего делают трагедию… Что ж, согласен ехать втроём. Назначаю Чаргобая собственным оруженосцем.
Молодой человек огрызнулся беззлобно:
- Как-нибудь обойдусь без таких должностей… Послужили - хватит!
Выпили вина, и Андроник спросил!
- Ну, так что ты решаешь? Внучка Чарга не могла поднять глаз:
- Я должна подумать. Он проговорил с жаром:
- Думать некогда! Мануил разрешил задержаться в столице только на сегодня, чтобы встретиться с матерью. Завтра на рассвете должен уезжать.
- Не могу поступать столь скоропалительно…
- Только так! Здесь тебя ничего не держит. А меня - тем более! Я войду в этот город как триумфатор - или не войду вовсе. В Пафлагонии дождусь своего заветного часа. Соберу немало сторонников. И хочу, чтобы первыми из них были вы с Чаргобаем.
Настя сделала ещё один крупный глоток из чаши. Улыбнулась невесело:
- Но ведь ты не можешь на мне жениться, потому что состоишь в браке с первой своей супругой.
- Разве это для тебя важно?
- Из-за этого я рассталась с Исааком Ангелом.
- Господи, сравнила! Он же холостяк и не захотел под венец, потому что всего боится. Я бы согласился немедленно, но меня вынуждают обстоятельства.
Галичанка в замешательстве посмотрела на Чаргобая:
- Слава, ты действительно мог бы с нами отправиться?
- Безусловно. Если уж называться оруженосцем, то твоим, и больше ничьим!
Растерявшись вконец, молодая женщина низко склонила голову и, прикрыв глаза, прошептала:
- Право, я не знаю… Тут вмешалась Янка:
- Умоляю, Настя, не поддавайся, выстой. Я тебя толкала в объятия Мануила и Исаака - потому что считала их порядочными людьми, но теперь говорю: одумайся! Ты же знаешь Андроника, он тебе изменит с первой же попавшейся юной пафлагонкой. А в моём доме будешь независима и спокойна…
Настя усмехнулась:
- Приживалкой? Нянькой?
У подруги дёрнулась нижняя губа.
- Ты неблагодарна…
- Нет, прости, не хотела тебя обидеть - вы с Кантакузином сделали для меня очень, очень много, вашу доброту не забыть вовек… Но пришла пора делать выбор. Завтра на рассвете еду в Пафлагонию.
Одобрительный возглас вырвался из груды Андроника. Он схватил запястья бывшей своей возлюбленной, с воодушевлением крепко сжал и сказал:
- Душенька, спасибо!
Чаргобай ничего не выразил, про себя же подумал: «Это ненадолго. Он её действительно скоро бросит. И тогда мы отправимся с ней на Русь. Я свалю династию Осмомысла, чтобы самому сесть на галицкий трон!»
А зато Янка, не перенеся глупости подруги, встала и пошла к выходу. Ни к кому конкретно не обращаясь, бросила с досады:
- Мир сошёл с ума!.. Вразуми ея, Господи! И не дай погибнуть!
4
Пафлагония - это часть современной Турции, побережье Чёрного моря от Эрегли (а по-гречески - Ираклии) до Синопа. И едва ли не всю её территорию занимают Понтийские горы, высота которых достигает четырёх тысяч метров. Климат жаркий, а осадков до обидного мало. Жизнь - не сахар, короче. А особенно - в XII веке, без горячей воды в водопроводе, кондиционеров и шоссейных дорог.
Городок Эней, бывший когда-то крепостью, взятой с ходу Александром Македонским на его пути в Индию, прилепился к берегу горной речки, неширокой, но бурной, с обжигающе холодной водой, вечно вспененной на неровных бурых камнях. Древние городские стены, кое-где разрушенные и поросшие деревцами, представляли невесёлое зрелище, создавая образ одичания и убогости. Гарнизон насчитывал четыреста человек. Комендант города олицетворял собой основную византийскую власть в радиусе нескольких сотен вёрст. До ближайшего крупного Черноморского порта - Амастриды - надо было ехать несколько дней верхом.
Появление в Энее ссыльного Комнина потрясло до основания местное общество. Не Андроник ходил на поклон к коменданту, а семейство коменданта почитало за честь посещать пристанище императорского родича, говорить о погоде и о политике, угощаться вином и тушёной свининой с лигурийской капустой, - благо, им идти было близко, через сад, где опальной августейшей особе выделили небольшой домик. Все считали, что Настя - его супруга, а Берладников сын - их телохранитель. Но когда настоятель местной церкви, нарушая тайну исповеди, сообщил коменданту полученные им от внучки Чарга сведения - что она вовсе не жена, а наложница, - тот вначале был весьма шокирован и отказывался поверить, а потом решил, что, должно быть, в столице так принято, нравы там иные, а порфирородным виднее, как жить. И с кем.
Обживались медленно. Настя, продолжая внутренне сомневаться, правильный ли выбор она совершила, огорчалась по пустякам, раздражалась, плакала. То её выводила из себя слишком острая местная еда, то бегущий по ложу скорпион, то гортанный выговор смуглых пафлагонцев. Наконец она начала ревновать Андроника к дочке коменданта - рыхлой семнадцатилетней девице, у которой таз был примерно вдвое шире плеч. И хотя в свои двадцать девять Настя оставалась такой же красавицей - стройной, моложавой и нещадно выдёргивала возникавшие то и дело белые волоски, юная соперница очень волновала её, вплоть до неприличия, безобразных сцен, устраиваемых любовнику. И однажды на исповеди призналась:
- Батюшка, грешна.
- В чём же, дочь моя?
- Пожелала смерти Гликерии, дочери Хрисанфа. Но потом одумалась и молила Господа о прощении.
- А за что же ты не взлюбила ея?
Были на обеде у коменданта, и Андроник обменивался с нею тайными намёками.
- Да неужто? Какими?
- Говорил, что она похожа на языческую богиню Кибелу, плодородную и животворящую, и пророчил ей выводок детей.
- Да ведь он шутил, полагаю.
- Да, теперь я тоже так думаю. Но тогда не смогла сдержаться и послала Гликерии мысленные проклятия.
- Нынче перед сном десять раз прочти «Отче наш», и тебе полегчает.
- Непременно, батюшка.
Тем бы это нелепое откровение Настеньки и кончилось, и забылось навсегда, если бы у дочери коменданта не возникла жесточайшая лихорадка. Поп, в очередной раз нарушив тайну исповеди, рассказал Хрисанфу о былом признании иноземки - как она желала девушке зла. И по мере ухудшения состояния заболевшей подозрения в Настенькином сглазе только возрастали.
Как-то раз Андроник, появившись дома в сильном подпитии, сел напротив своей наложницы и сказал:
- Коли ты не снимешь порчи с этой заболевшей и она умрёт, то энейцы схватят тебя и сожгут заживо как ведьму.
У неё от ужаса пробежали мурашки вдоль спины. Губы прошептали чуть слышно:
- Ты меня пугаешь.
- Говорю, что знаю. Комендант вне себя. И священник на его стороне. Стоит им обратиться к пастве, возбудить толпу, и тебя никто уже не сможет спасти.
- Что мне делать, ответь? Я ведь ворожу редко, не умею, не обучалась. Кое-что помню из приёмов Арепы… И клянусь, что не насылала напасть на хворую, просто совпадение!
- Разбираться поздно, время дорого. Чародействуй, как можешь.
- Мне не удалось и родную-то дочь спасти, а с Гликерьей и подавно ничего не получится.
- Начинай, не медли.
Настя запёрлась в комнате без окон и, поставив на столик блюдо с водой, разместила по его окружности шесть Церковных свечек. Запалила их фитильки, положила в воду золотое кольцо с тем расчётом, чтобы отражения всех шести огоньков оказались в его центре (а она смотрела, стоя на табурете). Находясь как бы в фокусе заповедного пламени, начала читать заклинания, заговаривать блюдо-чару, колдовать, волхвовать. И в какой-то момент в отблесках на воде проступили черты седовласого Чарга. Он проговорил:
- Помогу тебе… исцелю недужную… Но не ворожи боле никогда. А не то сгоришь. - И пропал из виду, точно растворился. Свечки ж на столе стали гаснуть поочерёдно.
Бледная как призрак, половчанка вышла к Андронику протянула чашу с заговорённой водой и произнесла:
- На, пойди в дом к Хрисанфу, пусть Гликерья выпьет.
- Ты считаешь, поможет?
- Будем уповать.
В ту же ночь заболевшая сильно пропотела, жар уменьшился и к утру спал совсем. Через день она встала с постели а неделю спустя вышла подышать свежим воздухом в сад.
Радости родителей не было границ. Но зато комендант со священником и другие энейцы, слышавшие о чуде, совершенно поверили, что Настасья - ведьма.
5
Лето и сентябрь 1172 года миновали спокойно. Зной превозмогали, прячась в самую жару по домам или по садам под деревьями, часто купались в речке и с большим удовольствием пили свежее холодное молоко. А в конце сентября жизнь дала трещину: в комнате Андроника Настенька нашла женскую заколку, явно не свою. Разумеется, сын Ирины отрицал вину и не признавался в измене, но когда она пригрозила, что нашлёт на него ослабление мужской силы, нехотя открылся: мол, случайно у него была близость с молочницей, приносящей к ним в дом продукты каждое утро. Умолял простить, уверяя, что не получил от связи ни малейшего удовольствия и давно раскаялся. Внучка Чарга простила, но замкнулась в себе, погрустнела и подолгу теперь молилась под образами. Тут явился молочник и сообщил, что его жена умерла; перед смертью она поведала ему о грехе с Комнином и о подозрении, что её сглазила русская колдунья. Если же они не хотят огласки, пусть заплатят приличную сумму. Начался скандал с криками и руганью. На подобный тарарам прибежал Чаргобай и попробовал выставить молочника вон; выхватив из-за пояса нож, тот напал на сына Берладника; защищаясь, последний оттолкнул обманутого мужа ногой; падая, несчастный напоролся на штырь железной оградки, окружавшей клумбу, и скончался на месте.
Доложили Хрисанфу. Комендант был весьма раздосадован происшедшим и впервые высказал Андронику недовольство ссылкой порфирородного именно в Эней. Но потом остыл и заметил, что попробует замять инцидент, если Настя и Ростислав их покинут. А иначе будет вынужден передать убийцу судебным властям, равно как и ведьму - властям церковным. Выхода иного никто не видел: внучка и правнук половецкого мага стали собираться в дорогу.
Уезжали вечером, под покровом тьмы, чтобы не мозолить глаза любопытным энейцам. Настя и Андроник обнялись на прощанье. Он сказал:
- Я тебя никогда не забуду. Женщина вздохнула:
- Я тоже. - А потом добавила: - Пусть твоя мечта сбудется. Царствуй справедливо и не обижай подданных. А иначе они тебя свергнут. От любви толпы до ея ненависти - шаг один.
- Ты мне это пророчишь? - улыбнулся он.
- Понимай как знаешь. - Ростислав подсадил её в седло, и уже с коня чародейка бросила: - Будешь в Царе-граде - не забудь про Янку; я люблю подругу и ея детей, в том числе и Зою. Позаботься о них.
- Слово рождённого в Вуколеоне.
Сын Берладника тоже дружески стиснул руку аристократа:
- Янка моя сестра, и надеюсь, что ей не придётся туго под твоей властью.
- Ты об этом говоришь как о деле решённом, словно завтра мне въезжать в Константинополь императором! Может, ничего не получится и умру в Понтийских горах?
- Я на всякий случай. - Вспрыгнув на коня, молодой человек воскликнул: - Счастлив будь, Андроник!
- Да и вы не держите зла, - отвечал вельможа с грустью в голосе.
Цоканье копыт смолкло в темноте.
Будущий монарх чувствовал: с этими двумя он уже не встретится.
Глава шестая
1
Болеслава доносила второго ребёнка и благополучно разрешилась от бремени в сентябре 1172 года. Мальчика назвали по-славянски Ярославом, а по святцам Василием.
Но его родители вскоре разошлись окончательно. Мать и новорождённый продолжали находиться в княжеском дворце в Галиче, а Владимир-Яков, поругавшись с отцом переехал в Болшев. Вскоре к нему от мужа-священника убежала попадья Поликсения с сыном Георгием. Ничего подобного общество не знало давно, со времён любви Осмомысла и Настеньки.
Ольга Юрьевна попыталась было всех примирить. Первым делом посетила супруга, вставшего недавно после простуды и поэтому слабого ещё, бледного и хмурого. Князю исполнилось сорок два, стригся он теперь коротко, а зато отпустил довольно длинную бороду. Видел хуже прежнего, даже изумруд плохо помогал, а другой, посильнее, заказали в Царь-граде недавно и ещё не доставили. Посмотрел на вошедшую княгиню тусклыми глазами и не поздоровался. Женщина спросила:
- Как себя чувствуешь, батюшка, мой свет? Галицкий правитель неопределённо взмахнул рукой.
- Выглядишь получше. Третьего дня вовсе походил на покойника.
- Вот спасибо, утешила!
- Говорю без обиняков. Коль уж ты пошёл на поправку, можно потолковать о делах. Как нам Яшенькину совесть пронять, прямо не приложу ума - тошно, неприятно. Чем его прижучить?
Ярослав огорчился ещё больше. Тяжело вздохнул:
- Он давно отбился от рук. В том вина моя. Проглядел, не понял. Не увлёк примером. Не наставил на путь истинный. Не сумел воспитать, занимался собою и заботами княжества, а родному сыну не привил уважения ни к делам, ни к наукам.
Долгорукая не стала отрицать очевидного, потому что была с ним согласна. И ещё со своей стороны с лихостью добавила бы целый ряд обвинений. Но в раздоре не ощущала надобности и поэтому произнесла философски:
- Что ж теперь себя упрекать! Прошлого не вернёшь. Надо думать о настоящем. Может, по церковной линии действовать? Нового епископа Кирилла упросить отправиться в Болшев и поговорить с охламоном? Заодно пристыдить дуру Поликсению?
- Можно, да не думаю, что поможет. Коль у них любовь…
- Ах, «любовь, любовь»! - наконец не выдержала она.
Что папаша, что сын - только про любовь и толкуют! Не любовь, а похоть - коли говорить своими словами! - Ты опять за своё… Потому как не ведаешь настоящей любви, к сожалению.
- А моя к тебе - нешто ложная?
Он молчал, не желая ввязываться в ничего не стоящий спор. Женщина решила тоже не развивать скользкой темы и опять свернула на сына:
- Значит, ты оправдываешь Якова?
Осмомысл обхватил туловище руками и сидел согбенный. Произнёс негромко:
- По-житейски я его понимаю. Но по-княжески и по-христиански извинить не могу. Примирюсь, если бросит пить и блудить, возвратится к Ваське и Болеславе. А иначе власть ему завещать не вправе.
Ольга Юрьевна сразу ощетинилась:
- Всё-таки Настасьич?
Муж взглянул на неё близоруко, холодно:
- Почему бы нет? С новым епископом Кириллом я провёл уже разговор. В случае чего, Церковь узаконит Олегово положение, я издам указ…
- Коли ты пойдёшь на такое, - жёстко отрубила княгиня, - мы с тобой снова разойдёмся. И уже навсегда.
- В монастырь уйдёшь? - кашлянул правитель.
- Может, в монастырь.
- Ладно, не горячись раньше времени. - В голосе его прозвучали добрые нотки. - Лучше поезжай в Болшев, потолкуй с Яшкой, попытайся усовестить, пронять. Вдруг получится?
- Хорошо, подумаю.
Но сначала она пошла к Болеславе. Та сидела на лавке и внимательно наблюдала, как малыш сосёт тучную белёсую грудь кормилицы, с жадностью хватая тёмно-красный сосок. Подняла на свекровь серые в зелёную крапинку глаза:
- Здравствуй, маменька.
- Здравствуй, здравствуй, доченька. - Подошла, коротко коснулась щекой щеки, села рядом. - Васька-то прожорлив, как я погляжу.
- Шалопай да буян. Что ни час, просит титьку. Скоро нам одной кормилицы станет мало.
Бабушка рассыпчато рассмеялась:
- Да хоть десять! Лишь бы вырос настоящим орлом. Не в пример отцу… - Выждала мгновенье и заговорила опять: - Князь меня направляет в Болшев. Буду увещевать сына. Может быть, вдвоём?
У черниговки на лице появилось брезгливое выражение словно бы княгиня предложила ей что-то неприличное:
- Не подумаю даже! И тебе, матушка, мой свет, не советую. Не послушает да ещё унизит; будучи в подпитии - даже обхамит. Или ты не знаешь? Мне, по правде сказать, без него даже лучше: меньше огорчений, больше времени для родного дитятки.
- Так-то так, - согласилась старшая, - да не так-то вовсе. Муж с женой должен проживать вместе. А тем более - княжич и княжна. Осмомысл без конца грозит завещать престол своему Настасьичу. Надо что-то делать.
Как желаешь. Я и пальцем пошевелить не хочу. Выдали меня по расчёту, словно вещь продали на торжище; стало быть, какая тут сердечная склонность? Только равнодушие. Ну, уехал, живёт с другой, мне от этого ни жарко ни холодно.
- Но у вас Васятка. Как он без отца?
- Как-нибудь осилим. Я ему передам свои знания, чем живу и о чём мечтаю. Может быть, и дедушка Ярослав мудростью поделится.
- Он поделится, как же! - зло ответила Долгорукая. - Думает о себе одном. Или книги читает из Царя-града, или туров гоняет в Тысменице. А семья для него - нуль без палочки.
Болеслава ей возразила - мягко, но уверенно:
- Ты несправедлива, матушка, мой свет. Галич Ярославом может гордиться. Да, в отличие от других князей, он не ходит в походы, не воюет со степняками, не пирует с дружиной по многу ден. Но хозяйство его в порядке. Правосудие вершится исправно. На границах спокойно. Урожаи отменные, и торговля идёт привольно. Люди богатеют! Ну, а то, что Бог не создал его образцовым родителем и мужем, - ничего не поделаешь. Совершенных людей не бывает.
Ольга Юрьевна только фыркнула:
- Расписала - ух! Настоящее житие святого! Иль сама к свёкру прикипела? - посмотрела едко.
- Ой, о чём ты! - вспыхнула невестка. - Он в отцы мне годится. Я его уважаю как родителя и великомудрого князя. Боле ничего.
- Знаю, знаю, просто так съязвила. Складно говоришь - хоть сегодня его причисляй к лику праведников, а со стороны глядючи, он и впрямь выглядит солидно. Но попробуй, поживи бок о бок с таким блаженным!.. Ну, молчу, молчу. Значит, не поедешь со мною в Болшев? Что да, тогда не сетуй, коли у меня ничего не выйдет!
В тот же день заглянула княгиня в дом батюшки Георгия, чтобы посоветоваться с Матрёной: как им быть с Поликсенией? Попадья сидела при разговоре вся пунцовая, только причитала:
- Вот позор-то, позор, лучше провалиться сквозь землю! Ведь такая дочечка была славная, все молитвы знала назубок и по дому всё делала. Ну, конечно, по молодости захохочет прегромко, или побежит за околицу с девками водить хороводы, или заупрямится, коли не по ней. Так и мы были не спокойней в юные года! Но сынишку прижить от княжича? Да сбежать от родного мужа? Это ж страх Господень! Мы с отцом от этих вестей поседели аж!
- А поехали вместе в Болшев? - предложила гостья. - Каждая со своим чадом будет толковать. Может, так надёжней получится?
- И отца Дмитрия привлечь! Он ея супруг, пусть употребит власть. Коли надо - отхлестает вожжами! Чтобы знала, паршивка, как сбегать к полюбовничкам, Господи, прости!
- Нет, давай сначала по-бабьи, по-простому да по-хорошему. Вожжи припасём напоследок. Пусть сперва княжич от нея отвернётся.
- Неужели же отвернётся, матушка, мой свет? - с беспокойством спросила та, неизвестно чего желая больше на самом деле.
Ольга крякнула:
- Ах, понятия не имею, душенька, - может, с лестницы меня спустит.
- С лестницы? Тебя? Долгорукая отмахнулась:
- А с него станет, с губошлёпа! Ну, так едем, да?
- Я готова хоть сей момент.
- Значит, поутру завтра.
Был уже ноябрь, а погоды стояли нехолодные, снега не предвиделось вовсе, и колеса повозки грязь разбрызгивали в разные стороны, иногда увязая в липкой глине по самую ось. Голые деревья вроде бы стеснялись своей наготы. Рыже-бурый ковёр из опавших листьев набухал от сырой земли. Лишь вороны, не желавшие улетать на юг, бесконечно кружили в небе, каркали, как лаяли.
Болшев показался тоже каким-то набухшим, серым и простуженным. Княжич вышел на удивление трезвый, вымытый, с подстриженной бородёнкой. От души облобызался с княгиней, ласково сказал «здравствуй» попадье. Но предупредил - вроде балагуря, но веско:
- Коли просто проведать - милости прошу. Коли уговаривать разбежаться с любушкой моей - и не затевайте. Только поругаемся.
- О делах потом, - увильнула Ольга. - Дай с дороги-то отдышаться: все кишки растрясло по этим дорогам.
Он ответил:
- Сделайте любезность, отдыхайте, выходите к столу. Я велю накрыть.
Во дворце беспорядка не наблюдалось: чисто, ладно и проветрено - ни тебе паутины, ни сора. Челядь бегала резво. Кто наладил жизнь? Сам Владимир? Или молодая наложница? Оставалось загадкой.
Долгорукая выслала попадью для разгляда. Та пошла искать дочку и нашла в зале для пиров, называемой гридницей: Поликсения отдавала распоряжения слугам, как чего ставить на столе. Увидав Матрёну, сразу застыдилась, краской залилась, начала бормотать нечленораздельно:
- Маменька… ну вот… здравствуй… извини…
Мать, ни слова не говоря, подошла к наследнице и с размаху вмазала ей такую пощёчину, что холопы рты раскрыли от изумления, а потом засуетились, опустили глаза, вроде ничего и не видели, стали убираться из залы торопливо.
- Сучка! Потаскуха! Блудница! - продолжала неистовствовать родительница. - Зенки-то забегали, стыдно стало! Не меня бойся, дура, но суда Божьего. Рано или поздно за всё ответишь.
Горько всхлипнув, слёзы утерев рукавом, дочка прошептала:
- Люб он мне, мамусенька, шибко, шибко люб… Жить я без него не могу… И дитя у нас… Гошенька, Георгий… в честь папусеньки нашего…
- «В честь папусеньки»!.. У тебя супруг! Надо ж понимать!
- Он хороший человек, отец Дмитрий… добрый, славный… но чужой. Не смогла, не переборола себя… опостылел он…
Сев на лавку, попадья распустила узел платка. И произнесла мягче:
- Аж вспотела, тут с тобой споря… «Опостылел»! А зачем замуж шла, коли не хотела?
- Так уж вышло, само собою.
- Дура - прости, Господи! Дура и есть. Поликсения тяжело вздохнула:
- Тятенька-то что? Сильно переживает?
- Нет, плясал на радостях! - съерничала Матрёна. - Знамо, убивается. Выпороть велел.
- Что ж, пори, я согласна. Только от Ярославича не уйду по моей доброй воле. Если сам вдруг захочет - ну, тогда придётся. А иначе буду с ним до могилы.
- «До могилы»! - снова передразнила мать. - Вот ведь полоумная… Ну, иди сюда, дай хоть поцелую. Щёчка-то горит? Ничего, остынет. Я же от души и за дело. Не смогла сдержаться.
Между тем и княгиня, поскучав у себя в палатах, разыскала сына. Он смотрел, как дворовый парень чистит его сафьяновые сапожки, обернулся к Ольге и пошёл ей навстречу:
- Отдохнула? И слава Богу. Что там в Галиче? Все меня бранят?
- Кто бранит, а кому дела нет. Возвернуться бы тебе, Яшенька. Попросить прощения у отца, он уже остыл, больше не ругается. С Болеславкой тоже договоримся. Восстановим мир.
Тот слегка поморщился:
- Умоляю, не начинай. Я решил окончательно. Лучше быть простым галичанином, но с моей любушкой-голубушкой, чем правителем-бобылём или с нелюбимой женою. Тут вопросов нет.
Женщина взглянула на отпрыска кротко, с некоторой грустью, провела пальцами по его скуле и виску, наклонилась, поцеловала в плечико:
- Мальчик мой хороший… Как же всё теперь сложится? Княжич улыбнулся:
- Разве ж угадаешь! Как написано на роду, так оно и выйдет. Хочешь поглядеть на внучка? Он такой резвун!
- Младший, от Болеславки, тоже ведь игрив. Ест за четверых - словно ты в детстве. Без него не скучаешь?
- Матушка, пожалуйста, не трави душу.
- Хорошо, хорошо, не буду.
Посмотрела на двухлетнего Гошку: белобрысого, с оттопыренными ушами. Что-то лопотал и периодически сосал пальчик. А потом напустил в штаны. Молодой папаша беззаботно смеялся, тискал отпрыска, помогал прислужницам переодевать ребёнка в сухое. А княгиня подумала: «Он и вправду счастлив. Надо ли ломать ему жизнь? Может быть, оставить в покое? - Но потом сама себе возражала: - Как, отдать Настасьичу княжество? Ни за что на свете. Я, наследница Юрия Долгорукого и великих императоров из Царя-града, никогда с этим не смирюсь. И костьми лягу, но любезного Яшеньку посажу на стол. Видимо, чуть позже. Он теперь ещё не готов…»
Словом, их поездка кончилась одним семейным обедом - к удовольствию обеих сторон. Ольга и Матрёна уезжали весёлые, без обид на детей, с лёгким сердцем. Но по возвращении в Галич всё переменилось.
Кснятин Серославич бросился к владычице, хлопая глазами и тряся бородой; выпалил растерянно:
- Ой, беда, беда, матушка, мой свет!
- Что случилось? - похолодела она.
- Ярослав… князь наш дорогой… нас покинул…
- Умер? - У неё ком поднялся к горлу.
- Да Господь с тобою! Слава Богу, живёхонек. Он поехал в Тысменицу…
- Тьфу ты, лиходей, Кснятинка! Напугал меня! Что же в том дурного - в Тысменице? Нешто он не ездил туда и раньше?
- Ездил-то он ездил, да не за тем.
- А зачем теперь?
- Тимофей прислал весточку: из Царя-града прикатили Настасья и Ростислав, сын Берладников…
- Господи, Твоя воля!..
- Понимаешь, нет? Ярослав как прочёл, так и побелел. Глазыньки - что блюдцы, губки затряслись. Заметался по клетям, точно раненый ирбис[21]. А потом Гаврилку Василича кликнул: мол, седлай коней, едем, едем! И умчались как ветер.
Ольга Юрьевна, осенив себя крестным знамением, тихо оизнесла:
- Вот и кончилась моя жизнь. Потеряла мужа. Во второй, и в последний, раз.
2
Путешествие внучки и правнука Чарга длилось больше месяца. Доскакав из Энея до черноморского порта Амастриды, около недели провели в ожидании попутного корабля. Плыть на запад, к Константинополю, побоялись и отправились на восток, в сторону Синопа, от которого при хорошей погоде - около трёх дней и ночей на север до Таврического (Крымского) города Херсонеса. На другом корабле добрались к Белгородской крепости и на третьем - вверх по Днестру, до тысменицких лесов… Планов на будущее не строили. Настенька желала встретиться с сыном и молить Осмомысла разрешить ей остаться с Олегом, на любых правах, даже горничной. Ростислав же хотел (ну, во всяком случае, на словах) возвратиться под крыло Давыда Смоленского и служить в его войске; но сначала собирался увидеть, как решится судьба двоюродной тётки: если Насте не удастся осесть рядом с сыном, взять с собою в Смоленск.
Не найдя коней, шли пешком через лес около пятнадцати вёрст. На одной из тропок чуть ли не в упор, нос к носу, налетели на мишку - средней величины и паршивости; испугавшись друг друга, разбежались в разные стороны, а потом долго хохотали, сидя на пеньке. Отдыхали в охотничьем домике, жарили подстреленных Чаргобаем зайцев, запивали простой ключевой водой из лесного ручья. К городку вышли вечером. Заплатив караульным на воротах за вход, устремились к бывшему дому Настеньки - княжеским хоромам. Озадачив привратников, стали ждать разрешения войти. Появился Тимофей - всё такой же, не от мира сего, с волосами, как раньше, «под горшок» и с лицом состарившегося отрока. Удивлённо воскликнул:
- Батюшки светы! Вы откель такие?
- Из Царя-града, вестимо. Переночевать пустишь?
- Заходите, не жалко.
Настя с трепетом поднималась по лестнице. Ей казалось, что сейчас не выдержит, упадёт без чувств. Вздрагивала от звука любых шагов: может быть, Олежка? И увидела его, появившегося на другой стороне сеней, - худощавого и высокого для одиннадцатилетнего мальчика, смугловатого, кареглазого. Он смотрел настороженно, спрашивал безмолвно: ты ли это? У неё потоком хлынули слёзы горло задрожало, и произнесённая фраза вышла клочковатая, куцая:
- Здравствуй, сыночка… Не узнал меня?
Паренёк моргал и не двигался, глядя на красивую чернобровую тётеньку, плачущую навзрыд; наконец до него дошло, и слетевший с его уст вопрос получился тоже коротким:
- Маменька? Неужто? - И не выдержал, бросился к ней в объятия. Повторял всё время: - Отчего ты долго не ехала? Я соскучился за тобою - страсть!
- Не могла, ну никак не могла, любимый, - отвечала женщина. - Ведь была я за тридевять земель. Хорошо, что теперь примчалась.
- Хорошо вельми.
Он не отходил от неё и, заглядывая в лицо, умилительно улыбался:
- Ты такая дивная. Никого нет тебя прекрасней.
- Да и ты у меня уродился славный. Тятенька-то ездит, навещает тебя?
- Реже, чем хотелось бы. Чаще присылает подарки. Отчего вы не вместе и живете порознь?
- Так нельзя же, Олеженька, коли у него супруга-княгиня, Ольга Юрьевна. Быть женатым сразу на двух не позволил Господь.
- Но ведь я - Осмомыслов сын всамделишный?
- Ну, само собою.
- Разве ж можно быть сыном не от жены?
- Получается, можно.
- И от этого я не княжич, как брат Володимерко?
- Да, поэтому.
Лоб гармошкой собрав, что-то вспоминал. А потом спросил:
- Что такое «бастардус»?
Настя покраснела и попробовала уйти от ответа:
- Это нехорошее слово, заморское. Лучше его не произносить.
- Нет, а как истолковать?
- Да на что тебе? Где ты слышал?
- Про меня так вельможи бают. Стало быть, не любят?
- Болтуны, охальники. Плюнь на них.
- Отчего ты боишься изъяснить?
- Не боюсь нимало. Изъясню, изволь. Так латинцы называют отпрысков короля или императора, появившихся не в его семье, а на стороне.
- А-а, ублюдков?
Рассердившись, внучка Чарга проговорила:
- Как тебе не стыдно ругаться? Вот не ожидала! Мальчик не смутился, а печально определил:
- Значит, я бастардус. Потому-то меня и держат в лесах, а не в Галиче.
- Ну и что? - Мать ладонью распушила его волосы. - Чем в Тысменице плохо?
Он сказал задумчиво:
- Да не знаю. Вроде бы ни в чём не нуждаюсь. С Тимофейкой мы живём душа в душу. Но внутри червячок сосёт: для чего я не княжич, а какой-то бастардус?
- Значит, так Господь захотел. Испытание, ниспосланное с Небес. Чтобы ты, пострадав, сделался духовней и чище. Сын кивнул:
- Понимаю, маменька. Надо не роптать, а терпеть. Ибо ничего случайного нет и на всё воля Божья.
Так они прожили два чудесных дня - в разговорах, прогулках, трапезах, и Олегов Трезорка следовал за ними по пятам неизменно, тявкал радостно, хоть и был уже в собачьих летах, приближаясь к восьми годам. А на третьи сутки прискакала кавалькада из Галича: князь, его подручные и охранники. Осмомысл взбежал на крыльцо, почерневший от пыли, нервный, увидав Настеньку, выкрикнул со злостью:
- Как ты смела воротиться назад? Убирайся прочь к своему Андронику! Лучше уходи добровольно, или я спущу на тебя борзых.
У неё подогнулись колени, и, упав к ногам Ярослава, Женщина взмолилась:
- Пощади, батюшка, мой свет… не казни, прости! За вое легкомыслие я уже наказана - смертью малой дочери и скитаниями по свету… Разреши остаться в Тысменице при Олежке, родной моей кровиночке!..
Но её бывший покровитель рассердился ещё сильнее:
- Слушать не желаю! Об одном прошу: не вводи в искус и не вынуждай вышвыривать тебя силою. Собирайся живо!
Тут вперёд вышел Чаргобай. Он за время отсутствия в Галиче очень возмужал, превратившись в зрелого, кряжистого витязя, перенявшего от Берладника бычью шею и крепкие ноги. Твёрдо и весомо проговорил:
- Не замай, Ярославе, или дело будешь иметь со мною. Осмомысл рассмеялся едко:
- Я? С тобою? Не было печали мараться! Не встревай, племяш. А не то свистну верным гридям, и они тебя затопчут копытами лошадей.
- Пусть попробуют. Прежде чем затопчут, уложу их с десяток, как пить дать! - И со звоном выхватил из ножен короткий меч.
Князь немедленно кликнул молодцов из отряда Гаврилки Василича: те, стуча сапогами, побежали по ступеням крыльца и, держа сабли наголо, окружили хозяина, только ожидая сигнала к схватке.
- Стойте! - вдруг раздался тонкий мальчишеский голос. - Я не дам тронуть маменьку и троюродного братца! - И Олег встал посередине, между двух враждебных сторон. - Прежде чем изрубите их, вам придётся изрубить и меня!
Галицкий правитель вроде бы проснулся и тряхнул головой. Произнёс на тон ниже, чем раньше:
- Сынка, отойди. Дети не мешаются в распри взрослых. Но парнишка ответил дерзко:
- Мне плевать на других детей! Я - бастардус, и закон мне не писан. Отступить меня никто не заставит. Лучше сам решай: коли маменьку выставишь за двери, я поеду с нею. Потому что она меня не стесняется. Потому что жить один в Тысменице доле не желаю!
Подивившись на эти речи, повелитель взмахнул рукой, и дружинники опустили сабли, хоть и продолжали толпиться за его спиной полукругом. Меч упрятал в ножны и Чаргобай.
- Будь, Олеже, по-твоему, - примирительно сообщил родитель. - Разрешаю Микитичне оставаться. Но не во дворце: у кого-нибудь из простых горожан. А тебе, Ростиславе, места тут не сыщется. Отправляйся подобру-поздорову, покуда цел.
Тот пробормотал:
- Уж не задержусь. Наши главные встречи впереди.
Осмомысл провёл в Тысменице до утра, лично проследил, как уехал наследник Берладника, и дождался доклада Тимофея, что Настасья временно разместилась в доме у попа. Пожелав отобедать, пригласил за стол сына. Тот явился мрачный, глаз не смел поднять. Попросил прощения за вчерашнюю выходку, но оправдываться не стал, лишь сопел угрюмо. Князь ему сказал:
- Ничего, не трусь, я уж не сержусь. Более того: я тобой доволен. Ты себя повёл, как и подобает настоящему княжичу.
Мальчик покраснел и ответил:
- Благодарен, отче, за сии лестные слова. Но, увы, я напомню, что не княжич есмь, но презренный бастардус.
- Был бастардусом, да теперь не будешь. Новый епископ Галича, что приехал из Царя-града вместо отошедшего в мир иной преподобного Кузьмы, обещал узаконить твоё рождение. Станешь ровней Володимерке.
Личико парнишки просияло от счастья. Он, упав на колени, с жаром поцеловал отцу руку. И, подняв глаза, восхищённо спросил:
- Коли так, я смогу, как и он, унаследовать престол в Галиче?
Улыбнувшись, Ярослав усадил его по правую руку от себя, начал потчевать, а потом заметил:
- Можешь унаследовать ранее, чем он. Тот опешил, даже бросил есть:
- Не уразумею… Володимерко ведь старший из нас?
- Старший, да нелепый. Ты мне больше по сердцу.
- Ой, да это ж страх - взять и управлять целым княжеством! Вон меня Трезорка и тот слушаться не любит.
Осмомысл с улыбкой проговорил:
- Не беда, научишься. И потом, я пока помирать не решил. Лет ещё пятнадцать протяну как-нибудь. Ты и повзрослеешь.
- Ну, тогда я спокоен, тятенька.
Глядя на него, Ярослав подумал: «Как похож на Настю! Та же смуглая кожа и коричневые глаза. Нос точь-в-точь ея. Маленькие ноздри… А она стала только краше. Нет уже того юного создания, нежного и хрупкого, что любил я всем сердцем; но она, как хорошее вино, сделалась с годами более изысканной, впечатляющей… Этот удивительный взгляд, мягкий голос… Слёзы - будто скатный жемчуг… - Он вздохнул. - Но она предала меня. Наши чувства, нашего сына… Убежала с Андроником, как гулящая девка. А теперь приползла, точно пёс побитый. Поделом же ей! Справедливость есть. - Пригубив вина, сам себя спросил: - Неужели прощу? - Сам себе ответил: - По-христиански обязан. Ну, а если не по уму, а по сердцу? - Сам собой возмутился: - Стыдно различать! Сердце и должно жить по-христиански. Коли я зовусь православным! - Окончательно сделал вывод: - Стало быть, прощу. Но любови меж нами быть уже не может. Рушить снова семью, озлоблять бояр? Упаси Господь! Никогда не стану. Буду восхищаться ею издалека. Да падёт на меня проклятие Вседержителя, коли отступлюсь!» И смотрел на сына, как он ест и пьёт, с теплотой и радостью.
Ах, напрасно зарекался отец Олега! Ибо сказано: не клянись, чтоб не нарушать клятвы, а нарушив, жди неотвратимой небесной кары. Бедный Ярослав!..
3
Ольга Юрьевна посетила Осмомысла в расстроенных чувствах, с покрасневшей шеей и покрытой бисеринками пота верхней губой. «Боже, вот уродина! - промелькнуло в голове князя. - Этот нос, как репа, в точечках-угрях… эти щёки дряблые… Господи, а пузо! Словно на сносях… Лучше не глядеть». - И уткнулся в книгу. Долгорукая сразу поняла его мысли, прошипела гневно:
- Уж смотреть не хочешь! Ну, понятное дело, где нам до прельстительной потаскушки! Всё забыл: прошлые обиды, вероломство, подлость - полетел к зазнобе голову сломя. Честь, супругу побоку! Полюбовница - свет в окошке!
Он ответил, не повернув головы:
- Что ты мелешь, глупая? У меня там сын. Должен был узнать, разобраться. Оградить его, коли нужно…
- Ну и разобрался? Оградил дитятю?
- Ростиславку выслал к свиньям собачьим. Вот ведь негодяй! Руку поднял на меня, на князя!
- А ея тоже выслал? Галицкий владыка сухо произнёс:
- Выслал. Из дворца…
- «Из дворца до крыльца»! Где ж она теперь?
- В доме у тысменицкого попа.
У княгини болью исказилось лицо:
- Всё с тобой мне яснее ясного. Снова здорово… Муж заволновался:
- Прекрати! Молчи! «Ясно ей» - видали! Что ты разумеешь - куцым своим умишком, не способным заглянуть в душу? Как тебе вдолбить? Только время тратить!
Женщина присела на лавку - грузная, нескладная. Маленькие слёзки, выкатясь из глаз, задрожали на её коротких ресницах. И она их утёрла пальцем, толстым и кургузым. Жалобно сказала:
- Грех так говорить, Ярославе. Я ли не любила тебя? Я ли не люблю до сих пор? Да, конечно, ссорились, разъезжались, говорили гадости. Зубы точили друг на друга. Но потом одумались, помирились, съехались. Дочек выдали за хороших людей… И опять сначала? - Вынула платок, вытерла под носом. - Если я ревную, стало быть, люблю. - Повздыхав, добавила: - Хоть грызёмся часто, но давно срослись. Порознь не можем. Не руби по живому-то.
Отшвырнув книгу, Осмомысл поднялся, подошёл к окну. Коротко ответил:
- Я не собираюсь рубить. Всё идёт по-старому.
- Мне-то видно, что нет.
- Всё идёт по-старому! - повторил он с нажимом. - Никаких Настасий больше не будет.
- Утешаешь? Обманываешь?
- Я сказал - не будет! Это решено.
- Уж хотелось бы верить. А не то слух пошёл - ты Настасьича пожелал узаконить… - Мягко так ввернула. Да испуганно осеклась, не договорив: обернувшись, князь прожёг её недовольным взглядом. Прорычал, как тигр:
- Пожелал, и что? Станешь возражать? Женщина промямлила:
- Так ведь больно нехорошо, право слово. Для чего тебе? Мало ли единственного наследника?
- Пьяницу, гуляку? Шалопая и олуха? Не прочетшего и десятка книг? Знающего только псарню с крольчатником?
Ольга защитила Владимира:
- Он ещё исправится и возьмётся за ум.
- Вот тогда и получит княжество. А пока что замена не помешает.
Тут в княгине тоже взыграла гордость. Встала и сказала упрямо, словно и не плакала, не скулила униженно:
- Этому не быть.
- То есть как - не быть? - поразился он. - Кто мне помешает? Уж не ты ли?
- Я. - И уставилась на него - жёстко, хищно.
- Да каким же образом?
- Хоть каким. Упрошу владыку Кирилла не потворствовать сему. Челобитную отпишу в Киев к митрополиту. А понадобится - к самому патриарху в Царь-град! Я костьми лягу, но Настасьича в княжичи не пущу!
Осмомысл скрестил руки на груди. Отозвался холодно:
- Ты считаешь, что я допущу твои козни? Долгорукая усмехнулась:
- Если только бросишь меня в острог. Но не думаю, чтобы ты решился.
Князь проговорил:
- Нет, в острог не брошу. Но прогнать - и тебя, и Владимирку с его попадьёй - с Галицкой земли запросто могу.
- Не посмеешь. Побоишься позорища.
- Вот увидишь, курица. Только пальцем пошевели, только рот раскрой супротив намерений моих - полетишь как пробка из бутылки. Вместе со своим недоноском!
Тяжело дыша, Юрьевна пошла к двери. Проворчала через плечо:
- Ты ещё припомнишь это мгновение. И особенно - слово «недоносок». Ох, не в добрый час ты его сказал!
- Не стращай же ты, кикимора болотная!
- Сам лешак и упырь!
В общем, разругались. Князь в Тысменицу больше не совал носа, но указ о признании Олега собственным сыном издал, получил благословение от епископа Кирилла и отправил грамоту с нарочным в Киев к митрополиту. И как раз накатило Рождество, Святки и Крещение. Ольга и Матрёна отправились помолиться в женский Благовещенский монастырь, что вёрстах в тридцати от Галета (ныне украинский город Монастыриска), а оставшийся в одиночестве Ярослав всё не мог решить - ехать на охоту или пропустить. В принципе хотел, Всей душой стремился, но, с другой стороны, очень опасался молвы: дескать, под предлогом охоты поскакал навестить Настасью. Да и если до конца откровенно, сам боялся её увидеть - и не устоять, вновь польститься. А ещё зашёл Кснятин Серославич и подлил в огонь масла:
- Лучше отложи, батюшка, мой свет, лесованье, не серди боляр. Многие и так не довольны распоряжением твоим по Настасьичу. Говорят: виданное ли дело - узаконивать побочных детей! Сроду такого не было. И размолвка ваша с княгиней тоже всем известна. Поостерегись.
- Ишь чего! - возмутился тот. - Будут мне указывать, как себя вести! Вновь зашевелились? Я их приструню. Мой отец жаловал вельмож-то не больно, да и от меня пусть не ждут милостей. Завтра уезжаю в Тысменицу.
- Говорят, объявился Вонифатьич… - неожиданно признался печатник.
- Где? Когда? - ахнул Осмомысл.
- Вроде в Болшеве. Володимер же вроде его не принял. Может быть, и врут.
- Врут, что объявился или что не принял?
- Не имею понятия, - взор отвёл подручный. Князь прошёлся по клети, потерев пальцами виски. Начал рассуждать:
- Уж не сын ли Берладника свистнул ему? Феодор сидел у Давыдки Смоленского, ничего не предпринимая. А теперь - пожалуйста, запах жареного учуял. Мерзость. Тать. Баламутить боляр не дам! - Замер посреди горницы. - А княгиня? Точно ли поехала на восток? Или же на север, тоже в Болшев?
- Исключать нельзя.
- Вот что, милый Кснятинушка: разошли дозорных. Пусть разведают всё до мелочей. А потом доложишь.
- Будет сделано, батюшка, мой свет.
Посидев один, Ярослав послал за Олексой Прокудьичем, занимавшим в последние годы место дворского - управляющего княжескими делами, ведавшего казной и судебными приговорами; после Серославича - первое лицо. Тот пришёл взволнованный, и седой хохолок на его лысой голове то и дело подпрыгивал, поднимаясь вопросительным знаком.
- Слышал, Феодор объявился в Болшеве? - обратился к нему владыка.
- Как не слышать! Володимер-княжич его не принял, но потом имел тайное свидание в роще за рекой.
- Ух, паскуда!
- И княгиню-матушку примечали в городе, но встречалась ли она с Вонифатьичем - бог весть.
- Да наверняка.
- Делать-то что будем?
Осмомысл подошёл к старому приятелю, взял его за плечи:
- Ты-то сам не ропщешь, что хочу Настасьича сделать княжичем? Кснятин одобряет через силу: на словах не против, но в душе, вижу, недоволен.
У вельможи покраснели надбровные дуги, часто заморгали глаза:
- Батюшка, мой свет, я ж как верный пёс… ты же знаешь… что бы ты ни сделал, за тебя жизнь отдам. И Миколка тож. И другие детки. Мы тебе преданы всем сердцем.
- Знаю, дорогой. И благодарю. Коли Серославич слабину даст, сделаю тебя ещё и печатником.
Охнув, собеседник замотал головой:
- Лучше бы не надо. Он гордец известный. Прикипел к печати. Сросся с нею. Добровольно ея не выдаст.
- И не на таких находил управу. Есть, кому отнять.
- Смута выйдет. Ежели Кснятин столкуется с Феодорой, быть большой беде.
- Ты уверен, что они уже не сносились? Не теперь, но раньше? Кое-кто мне на ушко молвил: в том походе на Киев, вместе с княжичем, был подкуплен Давыдкой и Вонифатьичем; по подложной грамоте развернул войска. Я сего не забыл…
Лысина Олексы заблестела от пота. Он достал платок и, кряхтя, утёрся. Нерешительно произнёс:
- Но не пойман - не вор.
- Надо, чтоб они себя проявили. И тогда накрыть!
- Как? Наставь, вразуми.
- Очень просто. Вроде бы ничтоже сумняшеся я поеду в Тысменицу на охоту. Это даст им повод развернуться открыто. Ты за мной пришлёшь своего Миколку. Я вернусь внезапно и бестрепетной дланью вырву скверну с корнем.
- Ну, а как не успеешь и они верх возьмут?
- От Избыгнева Ивачича и тебя зависит. Коль не подкачаете - сдюжим.
- Страшно, княже!
- Да давно ль ты сделался трепетным таким? Помнится, что был витязем отважным.
- Я с годами остепенился.
- Так тряхни стариной. Не в бирюльки играем, чай. В нашей обчей игре ставка - Галич. Одолеют они - никому спуску не дадут, и тебе - заодно со мною.
- Знамо дело. У меня противников среди галипких боляр - пруд пруди.
- И друзей немало, в том числе и половцы - Вобугревичи, Улашевичи, Чаргова да Бостеева чадь. Новый епископ Кирилл. Нет, покуда нас больше.
- Дай-то Бог, дай-то Бог.
Покидая город, князь подумал: «Вдруг затея не выйдет и не я, а враги победят меня? Может быть, вернуться, не обострять, ведь ещё не поздно?» Но под ложечкой всё сосало: «Настя, Настя, Настя…» - и махнул рукой, положившись всецело на волю случая.
4
Осмомысл и ведать не ведал, сколь серьёзно накаляется обстановка. Кснятин, разумеется, вёл двойную игру, до поры до времени угождая «и нашим и вашим»: рассказал о возникновении Феодора, дабы, в случае чего, козырнуть своей преданностью князю, но одновременно помогал и той стороне, сообщая о продвижениях и намерениях Ярослава. Вонифатьич шастал по окрестным усадьбам, подговаривая бояр, подбивая их поддерживать Владимира-Якова и княгиню, оскорблённых отцом и мужем-распутником, нехристем, спутавшимся с ведьмой и желающим посадить на трон незаконного сына, половца, ублюдка. Многие внимали сочувственно.
В то же самое время Чаргобай объезжал северных соседей - Луцк и Владимир-Волынский. Там у Осмомысла тоже накопилось недругов достаточно. После смерти Мстислава Изяславича во Владимире правил его наследник - Святослав Мстиславич. Он поссорился с галицким владыкой из-за четырёх спорных городов, в том числе и довольно крупного Бужска. А Берладников сын обещал: если Яков заступит место отца, он вернёт Бужск с окрестностями Волыни.
В Луцке проживал дядя Святослава - Ярослав Изяславич. Сам он к тёзке из Галича относился нейтрально, но его подручный - Святополк Юрьевич - люто ненавидел и желал Осмомыслу смерти. А причиной была давняя история приключившаяся девять лет назад.
Святополк тоже был одним из потомков Ярослава Мудрого, а точнее - правнуком князя Святополка II, правившего в Киеве в 1093-1113 годах. Но затем их клан уступил место более удачливым братьям и дядьям - Мономаху и Долгорукому. Правнук Святополк, князь-изгой, переменно служил разным повелителям на Руси, и в начале 60-х появился в Галиче. Неказистый, маленький, с глубоко посаженными крохотными глазками, он производил отвратное впечатление; но за ним закрепилась слава ловкого наездника и рубаки, а такие воины на дороге не валяются. Взяв его на службу, Ярослав произвёл князя в воеводы и поставил под начало Избыгнева Ивачича. Вместе они ходили на половцев, и благодаря стремительному прорыву конницы Святополка степняки под Мунаревом бросились в рассыпную, что в итоге и решило исход кампании, полный разгром кочевников и пленение их вождей.
И в других, не таких заметных, но немаловажных походах молодой вояка проявлял доблесть и сноровку. Вскоре он женился на княжне из Луцка, и она родила ему четверых детей (мальчика и тройняшек-девочек). Фаворит Осмомысла, князь имел один из лучших домов, где любил пировать и поил гостей с тем же пылом, что и воевал, приводя их в состояние совершенного изумления, отчего они падали под стол и пускали лужи. А ещё неизменно ездил с покровителем на охоту и участвовал в травле зверя ревностнее всех.
Но потом приключилась ссора.
По весне 1164 года Днестр вышел из берегов настолько, что селения до великих Быковых болот были напрочь смыты или затоплены. Ярослав отправил дружину Святополка выручать людей. Тот сопротивлялся, ехать не хотел, говорил, не его это дело: саблей махать - пожалуйста, на врага ходить - за милую душу, но младенцев вылавливать из воды да тащить поклажи купеческих караванов - не обучен, не умеет, не снизойдёт. Галицкий правитель вспылил и едва не побил строптивца: мол, и слушать ничего не желаю, есть приказ, и его надо исполнять. Воевода обиделся (он в душе считал, что ничем не ниже по происхождению своего владыки или даже выше, ведь у Осмомысла - мать-половчанка, а в его крови иноземных примесей нет), но поехал. Разумеется, действовал без особого рвения и не спас многих тех, у кого ещё имелся шанс. Например, с опозданием выслал суда, чтобы вывезти купцов, двигавшихся с солью из Удеча, и не менее трёхсот человек утонуло. А купец Нажир Воиборич, уцелев, кое-как добрался до Галича и пожаловался князю. Тот велел Святополка высечь.
Это было страшное оскорбление. Представителей не то что княжеского, но боярского рода сечь не полагалось. Их за преступления дозволялось казнить, заточать в темницу, принуждать к уплате крупной дани, изгонять в чуждые пределы; но прилюдная порка - только для простого сословия, уж не говоря о холопах. Тем не менее экзекуция состоялась, да не где-нибудь - на торговой площади, перед храмом, при стечении люда! Святополка вывели в холщовой рубахе ниже колен, босиком, со связанными руками. Княжий кат[22] Шваран Одноглазый дёрнул его за ворот и содрал одежду, предоставив толпе возможность увидать все достоинства князя. Кое-кто даже захихикал. А преступник стоял на ветру зажмурившись, вытянувшись в струнку, и лишь крестик поблескивал на его не слишком широкой волосатой груди. Наконец казнимого прикрутили к лавке, по рукам и ногам, вниз лицом, и Шваран принялся стегать его адской плетью, в кожу которой были вделаны металлические колючки, сразу кровенившие спину, поясницу и ягодицы. Сто ударов ею считались смертельными, семьдесят переносились с трудом, после сорока выживали все. Осмомысл назначил восемьдесят один.
Святополк не умер, но лежал пластом больше двух недель, у себя в одрине, и домашние прикладывали к его зияющим ранам тряпочки с настоем целебных трав. До сих пор ужасные шрамы и бугры покрывали спину князя-изгоя, и смотреть на них без смятения было невозможно. Мог ли он простить позор Ярославу? Разумеется, нет.
И когда Чаргобай появился в Луцке, не пришлось обиженного долго уговаривать. Сразу загоревшись идеей мести, выдвинул условие: «Только обещай - если мы захватим Слепца, то назначим ему сто ударов плетью!» (Меж собой заговорщики называли Осмомысла Слепцом, подразумевая его близорукость.) Ростислав же ответил: «Да хоть двести. Он и двадцать пять вряд ли вытерпит, неженка, червяк».
Вместе поскакали во Владимир-Волынский предлагать союз Святославу Мстиславичу. Тот сказал, что к большой войне сейчас не готов, но дружину в полторы тысячи выделить сумеет. С гридями Святополка и Ростислава это получался мощный ударный отряд. Галич не возьмёшь, а Тысменицу - можно.
Было решено, что мятежники стянут силы к Козове в первых числах марта. И сюда же убежали из Болшева Кснятин Серославич, окончательно сделавшись предателем, Ольга Юрьевна и Владимир-Яков с попадьёй и трёхлетним Гошкой. К сожалению, княжич вновь сорвался и ушёл в жестокий запой. Но откладывать из-за этого боевые действия было некогда. На военном совете все подстёгивали друг друга. Кснятин говорил:
- Как сие терпеть, Господи Иисусе! Ярослав безумен. Бросил Галич и сидит в Тысменице. Ждёт, когда привезут грамоту из Киева от митрополита, чтоб провозгласить Настасьича собственным преемником. Надобно спасать отчий край и избавить родину от владыки, у которого туман в голове.
- Колдовство, - уверяла Ольга. - Половецкая ведьма его охмурила. А иначе объяснить не могу. Сжечь ея, проклятую, на костре! А несносному бастардусу выколоть глаза!
Ростислав задавал вопрос:
- Надо ли устраивать бучу в столице или, обогнув город, двинуться к Тысменице и расправиться с князем там?
Святополк настаивал:
- Лучше разделиться: я захватываю Слепца и его наложницу, а одновременно Ольга и Феодор принуждают епископа Кирилла объявить Володимерку галицким правителем.
Вонифатьич кивал:
- Так вернее всего. Большинство боляр нас поддержат или, по крайней мере, тихо отсидятся. Пробил час! Дело всей моей жизни близко к завершению. Прах загубленного отца вопиет из могилки. Отомщу за него!
В целом постановили: выступить немедля, поутру 4 марта.
5
Что греха таить - Ярослав действительно потерял голову в Тысменице. Чувствовал себя молодым и счастливым, позабыл об угрозе переворота и витал в облаках. Сердце, как говорится, не камень, а тем более - его, любящее и доброе.
Вроде бы сначала он приехал охотиться. Но нежданно-негаданно поднялась метель, ветер дул ужасный, на аршин впереди ничего не видно, - о каком лесованье речь могла идти? Князь сидел в истобке своего дворца, грелся и играл в кости с сыном. Тот выигрывал, радовался, визжал. Вместе с ним радовался Трезорка, разгонял пыль хвостом и лизал хозяина в ухо. Где-то через час Осмомысл спросил:
- Мамка-то захаживает?
- Да, намедни была, провела со мною время от обеда до ужина.
- Ничего, здорова?
- Ой, такая красивая, как Царевна Лебедь!
У родителя пересохло во рту. Он налил себе пива из жбанчика, сделал несколько коротких глотков. Мальчик произнёс:
- А давай ея на завтра на обед позовём? Галицкий правитель насупился:
- Ни к чему. Не нужно.
- Ты не хочешь ея увидеть?
- Не хочу. Не знаю. - И опять отпил.
- Может, опасаешься?
Брови у отца удивлённо вспрыгнули:
- Я? Чего?
- Что опять полюбишь ея. Как раньше. Помолчав, Ярослав ответил:
- Может, и боюсь.
- Что же в том дурного? Мы тогда будем вместе трое.
- Я не волен в сём. Галичане не поймут и осудят.
- Эка жалость! Что тебе до всех галичан?
- Я им князь. Я им как отец.
- Но допрежде отец ты мне. Кто тебе дороже?
- Так нельзя рассуждать. Долг превыше любви.
- Кто это сказал? Ничего на свете нет превыше любви. Осмомысл отрицательно покачал головой:
- Но моя любовь не освящена Богом.
- Бог благословляет любую любовь.
Искренне растрогавшись, он привлёк Олега к себе, обнял и прижал к сердцу. Нежно прошептал:
- Мальчик, мальчик мой! Ты, конечно, прав. Я и сам так всегда считал. Но обычаи и поверья сильнее нас. Мы не вольны действовать по свободному произволу. И тем более правящее семейство, на виду у всех. А ребёнок воскликнул с горечью:
- Что ж, давай, делай нас несчастными!.. - Посидел, насупившись, но потом его осенило: - Хочешь, бросим кости? Коли выйдет у меня больше, позовём маменьку обедать. Коли у тебя - то не позовём. Пусть решает жребий!
Рассмеявшись, родитель дал согласие:
- Хорошо, будь по-твоему. - Кинул кубики с точками в бронзовый стаканчик, поболтал, потряс и выкатил на серебряное блюдце. Получилось вот что: два по шесть, третий - пять.
- Ох, семнадцать! - приуныл парнишка. - Мне не обыграть.
- Нет, попробуй.
Было видно, что сын волнуется: и мешал нетвёрдой рукой, и шептал над стаканчиком что-то заговорщицки, даже поплевал в него, - наконец накрыл блюдцем и перевернул. Поднял медленно.
Кубики лежали все тремя шестёрками.
Ярослав смутился, а Олег начал танцевать и хлопать в ладоши:
- Вышло, вышло! Бог помог! Ты не можешь теперь не выполнить!
И Трезорка прыгал вокруг него, ласково потявкивал. Князь проговорил:
- Ну, деваться некуда, надо приглашать. - А в сердцах подумал: «Боже, что я делаю?» - Завтра же с утра пошлём человека.
Мальчик возликовал:
- Любо, любо! Тятенька, родной, дай мне руку твою облобызать.
- Будет, не дури. Коли хочешь - поцелуй в щёку.
- С удовольствием!
Накануне обеда Осмомысл одевался сам, сидя перед зеркалом (вычищенным до блеска серебром в ободке), подстригал усы и расчёсывал бороду, даже маленький прыщик выдавил на ноздре. Золотистой пилочкой правил ногти. За обшлаг рукава сунул изумруд. И, надев шапку с оторочкой, вышел.
В те далёкие времена все обедали рано - около полудня. Но метель пока что не прекращалась, света белого не хватало, и в большой пиршественной гриднице по углам горели светильники. У стола стояли Олег и Настасья. Мальчик улыбался широко и открыто, радуясь случившейся встрече, а зато внучка Чарга выглядела бледной, озабоченной, не решаясь глаз поднять. Сев на тронное место, галицкий владыка сказал:
- Здравия желаю. Можете садиться.
Слуги засуетились, начали накладывать блюда в тарелки, наливать питье. Тягостная пауза затянулась. Первым нарушил её Олег:
- Тимофей считает, что метель на убыль пошла.
- Да, похоже на то, - согласился князь, разрывая руками крылышко фазана. - Коли так и будет, завтра же поедем охотиться.
- А меня возьмёшь?
- Нет, тебе ещё пока рано. Лет с тринадцати, может быть… Коли доживём.
- Отчего не доживём? - удивился мальчик.
- В жизни бывает всяко… В Галиче боляре бунтуют: недовольны указом о молодшем наследнике и моей поездкой в Тысменицу.
Тонким голосом Настенька спросила:
- Не уехать ли мне отсюда? Для всеобщей пользы? Ярослав, помедлив, ответил:
- Для меня пользы в том не станет. А во имя сына останься. - Пригубив из кубка вина, с невесёлой полуулыбкой отметил: - Да и ехать тебе разве есть куда?
Женщина заплакала, наклонившись к блюду. Вытерла платочком покрасневшие веки, пересилив себя, тяжело вздохнула:
- Путь на Небо никому не заказан.
Галицкий правитель, видимо решив, что она говорит нарочно, вознегодовал:
- Шутки, что ли, шутишь? Хочешь меня пронять? Ничего не выйдет, сразу заявляю.
Та произнесла:
- Я не покривила душою. И уже пыталась однажды. После смерти Дунюшки, девочки моей бедной. Только Чаргобай помешал, вынул из петли.
У Олега вырвалось:
- Как же ты могла, маменька?! Про меня забыла?! Но родительница молчала, смахивая слёзы платком.
- Не по-христиански это, - наставительно сказал князь. - Церковь осуждает самоубивства. - А потом смягчился: - Ну, да что вспоминать плохое. Ты в кругу друзей. Не дадим пропасть.
Настя подняла глаза робко:
- Да храни тебя Боже, Ярославе Володимерич… - И опять уткнулась в тарелку. - Что бы я без вас двоих делала!
Сын поведал отцу:
- Маменька боялась спросить - можно ль ей чаще приходить ко мне во дворец, раза два или три в неделю? Мы могли бы с ней заниматься разговорным греческим языком…
Улыбнувшись в усы, Осмомысл ответил:
- Дозволяю, сыне… а тем более за уроки следует жалованье платить. Ты ведь издержалась небось, Настасья?
Женщина смутилась и кивнула неловко:
- Есть слегка… Здешняя попадья смотрит на меня косо - мол, живу задаром, объедаю их…
- Стало быть, решим: переедешь к нам во дворец. Но, понятно, не в княжеские палаты - хватит пары горниц в левом крыле. Будешь на правах наставницы княжича. А за сё получать кров и стол. Больше для тебя сделать не могу.
- И на том спасибо, милостивый княже…
К вечеру метель улеглась, и властитель Галича на другое утро вместе с ловчими отправился на охоту. Им благоволила судьба: завалили тура и двух секачей[23], ехали назад, распевая песни. И затем пировали в гриднице, заедая вино мясом свежеприготовленной животины.
Князь уже не помнил, кто довёл его до одрины, кто помог раздеться, уложил и укрыл. Помнил только сон: солнечное утро, жёлтый песчаный берег Днестра, он сидит отчего-то в камышах и украдкой смотрит, как Настасья раздевается для купания; обнажённые её прелести, матовые, смуглые, непередаваемо сладкие; тонкий гибкий стан и глубокая ложбинка спины; на затылке собранные тёмные волосы, а из них торчит коричневая костяная заколка в виде оленя, но отдельные завитки и пушок на шее свободны, придавая женщине особое обаяние; а глаза, глаза! - что за чудо эти глаза, карие, лукавые, - смотрят на него и смеются, - да, она, обвернувшись, видит в камышах Ярослава, и скрывать больше нечего, он встаёт, идёт, хочет её обнять, но она бежит и ныряет в воду; уплывает и удаляется, а ему отчего-то нельзя догнать, он стоит, плачет и кричит: «Настя, дорогая, вернись! Я люблю тебя!»
Осмомысл проснулся, резко сел на ложе. Понял: это сон, и вздохнул с облегчением; Настенька жива, никуда не делась, Тимофей накануне ему доложил, что перевезли её вещи в левое крыло; стало быть, ночует под одной крышей с ним… Галицкий правитель прилёг, смежил веки и опять увидел внучку Чарга в красоте её наготы; попытался отогнать навязчивое видение, повернулся на другой бок, но оно не исчезло, продолжало будоражить плоть, заставляя сердце биться учащённо. «Ну уж нет, не поддамся этому искушению», - проворчал мужчина, встал с одра и, набросив шубу на плечи, запалил свечу. Взял какую-то византийскую книжку, наугад раскрыл. Это был сборник стихотворений светского поэта Христофора Митиленского, жившего за столетие до описываемых событий; на глаза Ярославу попались следующие строки, писанные по-гречески: «Что наша жизнь? Игра, не более. Так покорись судьбе и поступай, как выпадут из стаканчика на блюдо игральные кости…» Вспомнив вечер с Олегом и его предложение бросить кубики - звать Настасью или не звать, - даже содрогнулся от внезапного совпадения. Отшвырнул книжку прочь, сел и вытер выступивший на лбу пот. «Может быть, она действительно ведьма? - неожиданно родился вопрос. - Насылает чары, ворожит, колдует, и моя любовь - только колдовство? - Он перекрестился. - Нет, невероятно. Я ея знаю с детства, выросла на моих глазах. И Арепка не была ведьмой, лишь умела кое-что предсказывать из грядущего. Так чего ж бояться настоящей любви? И зачем противиться зову сердца? - Князь поёжился в шубе и уставился на пламя свечи. - Как узнать - хорошо или плохо? Кто подскажет? Намекнёт хоть немного? - Посмотрел на книжку, лежащую на полу. - «Покорись судьбе, поступай, как выпадут из стаканчика кости…» А? Попробовать? Если только в шутку…» Руку протянул к резному ларцу, вытащил стаканчик и кубики. Загадал: если вдруг окажется больше девяти, посещу Настю; если меньше - кликну челядь, пусть затопят баньку, чтобы вместе с паром вышло из меня это наваждение.
Постучал в стакане костями, выбросил на столик: вышло - три, четыре и два - ровно девять! Ну, не издевательство?
Он махнул рукой: коли так - никаких Настасий, стану мыться в бане! Растолкал охранника, задремавшего на посту возле входа в спальню, сделал распоряжение. Но когда доложили, что парная готова, можно начинать, сухо бросил: «Поднимите в левом крыле Настасью. Пусть приходит тоже».
Это было продолжением сна… Жаркая душистая баня, клубы пара, пахнущие полынью, он сидит в просторной рубахе, ждёт нетерпеливо, слышит хруст шагов по ночному снегу, скрип дверной петли, и в тумане появляется Настя, раскрасневшаяся, взволнованная, недоверчиво спрашивает его: «Звал ли, княже?» - «Звал, конечно звал!» они бросаются навстречу друг другу, И целуются бессчётное количество раз, плачут и смеются, и одежды падают на дощатый пол, и тела соединяются радостно, живо, молодо, победившая женщина раскрывается перед ним всецело, позволяя делать с собой любое…
«Господи, свершилось, - думал Осмомысл на вершине неги. - Как же хорошо! И теперь - будь что будет!»
Так прошёл февраль, а 6 марта прискакал из Галича Миколка Олексич:
- Худо, худо, батюшка, мой свет! Полчища врагов движутся на нас. Во главе их - Святополк Юрьевич с Ростиславкой Ивачичем. А княгиня и княжич в городе шуруют, заодно с Кснятинкой и Феодоркой…
Ярослав улыбнулся:
- Это ничего, всё идёт, как надо. У меня Избыгнев Ивачич и Гаврилко Василии наготове. Мы устроим изменщикам неплохую баньку!
6
План удался. На пути к Тысменице войско волынян и дружина Берладникова наследника были атакованы ратью Осмомысла. У мятежников сдали нервы, и они побежали прочь. Лишь одни гриди Святополка продолжали рубиться рьяно, но и их тоже быстро смяли. Чаргобай увлёк своего соратника в рощицу, и они скрылись за сугробами, опасаясь погони, но никто за ними не поскакал. А Гаврилко Василич действовал в самом Галиче: окружив кремль, взял под стражу четверых заговорщиков - Серославича, Вонифатьича, Ольгу и Владимира. И пошёл докладывать Олексе Прокудьичу: дело сделано, можно отдохнуть, ожидая князя.
- Молодцом, Гаврилко! - похвалил его старый дворский. - Выше всех похвал. А надёжны ли засовы да твои караульные?
- Хо, а то! - засмеялся тот. - Таракан не пролезет.
- А в какой палате разместил негодников?
- В дальней, Перемётной.
У вельможи от ужаса хохолок на лысине стал, будто восклицательный знак. Замахав на Василича руками, быстро-быстро проговорил:
- Ты с ума сошёл! Быстро переведи, коль ещё не поздно!
- Что такое? - подивился дружинник. - Ведь палата глухая, там и окон нет!
- Дурень! Есть подземный ход! По нему я бежал когда-то вместе с Ванькой Берладником, уходя от гнева князя Володимерки!
- Свят, свят, свят! - побелел Гаврилко; кинулся спасать положение, бросил на ходу: - Ничего, догоним!..
Не догнали. Перемётная палата оказалась пуста, а преследование под землёй и снаружи ничего не дало - баламутов и след простыл. Видимо, смогли перейти по льду через Днестр. А куда поскакали - отгадаешь разве?
Ярослав, конечно, рассердился вначале, поругал Прокудьича и Василича, но потом быстро отошёл и сказал:
- Бросить небольшие дружины по всем сторонам. Если не догнать, то хотя бы не дать укрыться в Галиции. Пусть бегут куда захотят - на Волынь или к ляхам. На моей земле быть их не должно.
Тут как раз привезли грамоту с Днепра: митрополит Киевский и всея Руси благословлял указ Осмомысла о признании Олега законным княжичем. Радость была великая. Князь велел привезти сына из Тысменицы, чтобы жил он отныне в Галиче, пользуясь правами наследника. Заодно разрешил и Насте переехать с отпрыском… С ней, Понятно, он не появлялся на людях как с женою-княгиней, в храм ходил отдельно, но во всём остальном поступал, будто бы с супругой, даже разрешал спать в одной одрине. Все об этом знали. И нельзя сказать, чтобы одобряли. Недовольство продолжало бродить в умах, сплетнях разговорах. Многие церковники и бояре кривились. С новой силой сочувствовали изгнанным Владимиру и его матери. Говорили тайно: «Даже после благословения патриарха не признаем бастардуса. Ведьму эту поганую, падо устранять Ярославку. Больно намозолил глаза». Самые бесстрашные пробовали снестись с Волынью, посылали гонцов: там, по слухам, обретались убежавшие Святополк с Чаргобайкой.
Возвратились гонцы во второй половине мая, сообщили вот что: Юрьич и Берладников сын собирают силы для второго нашествия на Галич; с ними Феодор Вонифатьич; а княгиня, княжич с поповной и Кснятин Серославич ускакали в Польшу и живут в замке у принцессы Ирины (младшей дочери Осмомысла), взявшей католическое имя Агнесса (Агнешка), и по первому зову могут вернуться. Взбудораженное боярство вновь зашевелилось, обретя надежду.
Страшные события развернулись осенью.
Глава седьмая
1
Замок, где нашли прибежище Ольга и Владимир с семьёй, находился в городе Калише. Младшая дочка Ярослава, выйдя замуж за польского принца, проживала с ним не так далеко отсюда, в Познани. Увидав приехавших мать и брата, вовсе не удивилась, словно бы рассталась с ними вчера, а не семь лет назад; полусонно проговорила: «Это вы? Что-нибудь случилось? Ну, ступайте в Калиш, в замке его высочества вас никто не тронет». Даже не догадалась показать бабке внуков, а когда Долгорукая попросила её о том, дёрнула плечами: «Да смотри, не жалко. Ничего особенного, дети как дети». И сама на племянника Гошку никак не отреагировала.
В Калише действительно было тихо: мирная река Просна в зелени окрестных лесов, домики крестьян, кони на зелёном лугу. Вежливые слуги. Несколько недель прожили спокойно, отходя от недавних приключений, а потом снарядили Кснятина в дорогу - ехать во Владимир-Волынский на разведку. Он отправился в середине мая и как будто бы в воду канул.
Княжич успокоился, вышел из запоя и с немалой охотой занялся обустройством псарни и крольчатника. В сотый раз объяснял Поликсении: «Понимаешь, у меня душа отдыхает, если я гляжу на домашних зверей. От людей ждёшь подвоха, а от них ничего, кроме радости». - «А тогда не знаю, - отвечала поповна, - как ты отнесёшься к появлению в мире нового не кролика или пса, но ребёночка». «Что? Откуда?» - не догадывался Владимир. «Я опять чреватая». - «Господи, неужто? - радовался он. - Ну, конечно, счастлив! Надо известить матушку. Племя Долгоруких растёт, нету нас могучее!» Не произносил «племя Осмомысла», будучи, как прежде, маменькиным сынком.
На макушке лета неожиданно прискакал Серославич и привёз хорошие новости. Князь волынский Святослав Мстиславич продолжает оказывать им поддержку. Вновь за обещание возвратить ему бужские земли, отнятые Галичем, разрешает Якову взять в кормление пограничный город Червень, переехать туда и копить силы для разгрома отца. Вместе с Яковом там поселятся Святополк с Чаргобаем, станут помогать. Феодор Вонифатьич в облике монаха окопался в монастыре возле Болшева и ведёт работу среди церковников. Осенью, Бог даст, можно будет выступить.
Это сообщение так взвинтило княжича, что не мог он ни пить, ни есть двое суток, по прошествии которых впал в безумное состояние, близкое к тому, что случалось иногда с его дедом. Внука тоже вязали по рукам и ногам, окунали в укроп, натирали виски разными маслами и читали над ним молитвы. Дня четыре спустя приступ миновал. Молодой человек приходил в себя, постепенно набирал силы. А к исходу июля мог уже садиться в седло.
В августе они с Серославичем поспешили в Червень (нынешнее село Чермно в Польше), так как время действительно поджимало. Женщины пока оставались в Калише - до Победы над Ярославом и особой весточки от мужчин, позволяющей вернуться на Русь безбоязненно.
Объявление княжича в Червене окончательно воодушевило его сторонников. Во главе собранного войска снова встал Святополк. Кснятина послали в Болшев - помогать.
Феодору разлагать изнутри боярство и духовенство. Чаргобай собирал средства для кампании.
Выступление намечалось на 20 сентября. Но внезапно разведка донесла: Осмомысл бросил против них галицкую рать во главе с Избыгневом Ивачичем. На военном совете было решено: основным полкам под покровом ночи выйти из Червеня и кружным путём устремиться к Галичу; а Избышку с дружиной пропустить, чтобы осаждал пустой город; и пока расчухает правду, дело будет сделано.
Под дождём, в темноте уходили заговорщики на решающий бой. Двигались лесами на юг, дабы, миновав Перемышль, погрузиться в ладьи возле Городка и уже по Днестру понестись в стольный град своего вожделенного княжества.
2
Это лето стало самым счастливым в жизни Ярослава. Вроде бы опять обрёл молодость - несмотря на сорок три года, ухудшающееся зрение и косые взгляды бояр. Выходил к людям с ясными очами, весело кивал на приветствия и судебные споры разрешал с лёгкостью. Заложил новый монастырь. А калекам и нищим на паперти подавал щедрее обычного.
Много времени уделял Олегу. Вместе с ним катался на лодке по Днестру, обучал верховой езде и рассказывал о героях древней истории. Например, утверждал, что троянцы - старое славянское племя, жившее в Малой Азии, названное в честь былинного князя Трояна, предка русичей, а Троянская война разразилась между греками и русколанами. И ещё восхищался князем Бусом-Белояром, жившим в Киеве-Кияре, но не нынешнем, на Днепре, а в другом, у Алатырь-горы (Эльбруса), и разрушенном гуннами. Этот Бус-Белояр, полубог-получеловек, был женат на прекрасной деве Эвлисии, от которой имел сына, прозванного Бонном (или Баюном) за умение петь великие гимны под гусли. Бус-Белояр вместе с князем Словеном победил на Дунае готского (германского) короля Германариха, мстя за гибель своей сестры, Царевны Лебеди, и убил его мечом, и про то Боян сложил прекрасную песнь. Но потом готы победили славян и распяли на кресте Буса, словно бы Иисуса Христа… И о старых богах рассказывал сыну - например, о боге Велесе[24] (или Волосе, Волохе, Волхе), в честь которого названы реки Волхв и Волха (Волга), а его жрецы называли себя волхвами.
- Но Белее - языческий бог, поганый, - говорил Олег, - почитать его - грех. Или нет?
- Почитать не надо, - соглашался родитель, - но не помнить тоже нельзя. Наши предки его любили, ставили кумиры-идолы, называли себя велесовыми детьми. Как ни относись, мы с тобой - велесовы внуки. Забывать о предках нельзя.
Часто днём заходил в клети к Настеньке и смотрел, как она склоняется над шитьём, оттопыривая нижнюю губку, любовался молча; или же она заходила к нему и, пристроившись в уголке, наблюдала, как её повелитель пишет, близоруко щурясь, самый кончик пера обмакивает в чернила, чтоб не сделать кляксы, и, лизнув указательный палец, шумно переворачивает пергаментную страницу.
Вчетвером вечеряли - князь, Настасья, приглашённая ими Болеслава и Олег. Иногда звали скоморохов, чтобы те их потешили (церковь не любила бродячих артистов и гоняла с ярмарок, видя в них отголоски язычества, но для Осмомысла делалось исключение). А потом, помолясь, расходились по спальням. И о том, что происходило между Ярославом и его возлюбленной, промолчим деликатно, но заметим, однако, что она расцвела в то лето необыкновенно, рассыпая искры счастья из глаз, прямо-таки светилась от переполнявшего её ликования, отчего недоброжелатели продолжали цедить сквозь зубы: «Чисто ведьма. Нешто красота такая от Бога? Нет, от диавола!»
К сведениям, доходившим до галицкого владыки о приготовлениях в Червене, относился пренебрежительно: что они вообще могут, червяки, букашки? Этот Святополчишка-замухрышка? Неудачливый отпрыск Берладника? Выживший из ума Феодор? Никакой опасности. Сунутся - побью. Наконец разрешил дворскому Олексе Прокудьичу, беспокоившемуся больше остальных, снарядить дружину Ивачича и отправить к Червеню. А потом опять пребывал в полной эйфории.
Лишь Кирилл, новый епископ галицкий, относившийся к Ярославу сочувственно, продолжал свои отрезвляющие речи:
- Действуешь неправедно, княже. Паства недовольна. Зреет смута. Коли полыхнёт - обожжёт любого.
Но правитель не верил:
- Ничего не будет. Всё в моих руках. А твои речи нудные, как покойного отца Александра, моего бывшего духовника.
- Он, глаголя о преступной твоей любви к половчанке, изрекал истину. Мы Олега признали княжичем, но на большее не отважимся и развод с Ольгой Юрьевной не благословим никогда.
- Ну, так я отпишу челобитную патриарху в Царь-град.
- Не позорься, одумайся. Виданное ли дело - вознамериться узаконить двоежёнство!
Тот настаивал:
- Своего добьюсь! Силой постригу Долгорукую в монахини и тогда женюсь на Настасье.
Иерарх крестился:
- Замолчи, несчастный! Как тебе не совестно? Обезумел в своём греховном вожделении. Ты учти, Ярославе: коль толпа не выдержит и захочет увидеть ведьму на костре, Церковь помешать не сумеет.
Князь внимал с улыбкой:
- Где уж Церкви! Как-нибудь и сами управимся. Значит, не предчувствовал до последнего дня.
Но зато Настенька не могла найти себе места: беспрерывно молилась у образов, заклиная Пресвятую Деву Марию защитить своих любимых мужчин - Ярослава с Олегом. Плакала, крестилась. А потом запиралась в горнице и пыталась колдовать, как Арепа, - возжигая свечи и шепча заклинания над священной чарой.
В полусне и полубреду ей явился Чарг. Он смотрел на внучку печально, говорил устало:
- Будь тверда, дорогая. Ты нарушила мой запрет и опять ворожила. Я тебя спасти не сумею.
- Смерть моя близка? - спрашивала та, холодея.
- Ближе не бывает.
- А Олег? А князь? Им какая уготована участь?
- Час их ещё не пробил.
- Слава Богу! От одной этой мысли делаюсь спокойнее.
- Пусть она, эта мысль, утешает тебя и дальше.
- Деде, ответь одно: мне гореть в адском пламени? Он молчал, опустив очи долу.
- Деде, не терзай: ты считаешь, что я потратила жизнь напрасно?
Прорицатель покачал головой:
- Я не знаю. Ты любила - и это главное. Тот, кто любит, существует не зря.
Половчанка заплакала:
- Но любовь принесла столько тягот!
- Что поделаешь! Тот, кто любит, страдает.
- Разве ж не бывает любви без мук?
- На земле ничего не бывает без мук. Ибо жить на земле - уже мука. Но священная, великая мука!
Лишь 8 сентября Настенька решилась заговорить с Осмомыслом о возможном бегстве из города.
- Да с какой стати, душенька? - удивился владыка Галича.
Та ответила неопределённо:
- Было мне видение… очень нехорошее.
- Говори яснее.
- Не могу, нельзя. Ты мне не поверишь. Об одном молю: заберём Олежку и уедем в Тысменицу для начала.
- Никогда.
- Я тогда погибну.
- Ничего не бойся.
- Я не за себя, но за вас боюсь.
Утром 9 сентября зазвонил колокол на площади. Что такое? Прибежал дрожащий от ужаса Миколка Олексич: тятеньку убили! Как, чего? Чернь, подзуживаемая боярами, стала драться с местными половцами - Вобугреевой и Бостеевой чадью; дворский попытался унять обе стороны, и его разорвали в клочья. Требуют им выдать Чаргову Настасью, чтобы сжечь её на костре.
- Где Гаврилко? - крикнул Осмомысл, поднимаясь.
- Держит оборону кремля. Но бунтовщиков больше. Князь схватился за голову:
- Ах, не в добрый час отпустил я Ивачича! Без него не выстоять.
- Говорят, будто Кснятин в городе.
- Негодяй! Удавлю поганца.
- Сила на его стороне.
Город сошёл с ума. Галичане жгли дома половцев, избивали их жён и детей. Дым пожарищ заволакивал небо. Люди Кснятина распахнули ворота и впустили конницу Святополка. Он прорвался к кремлю, начал штурм, смял охрану Гаврилки Василича (самому Гаврилке проломили булавой голову и обезображенный труп сбросили со стены в ров), пробежали в палаты Осмомысла. Но навстречу им вышла Болеслава - бледная, суровая, на руках с маленьким Василием; грозно произнесла:
- Стойте, заклинаю! Я жена Володимера Ярославича это сын его. Коль хотите двинуться дальше, то убейте обоих!
Из толпы нападавших вышел Чаргобай; утирая пот, тяжело сказал:
- Отойди, княжна. Мы тебя не тронем. Пощадим дитя. Нам нужны ведьма и Слепец, вместе с их бастардусом.
- Ни за что! Не смейте!
- Извини. Подвинься. - И её отстранили, сами бросились дальше.
Разумеется, никого не нашли, так как по известному уже подземному ходу четверо беглецов (с ними был ещё Миколка Олексич) устремились к буковой роще за городом. Но поскольку Кснятин Серославич этот вариант просчитал заранее, их уже ожидали при выходе на поверхность воины-мятежники. Несмотря на сопротивление, всех четверых схватили и поволокли в Галич. По дороге обезумевшая толпа, лишь недавно падавшая ниц перед Осмомыслом и превозносившая его доблести, чуть не растерзала свергнутого владыку. Еле-еле дружинникам Святополка удалось оградить захваченных от сиюминутной расправы. Пленников препроводили в острог, бросили в раздельные ямы. Сверху ям задвинули каменные плиты. И, довольные собой, с шутками и руганью победители удалились.
Ярослав упал на колени, стал молиться и плакать. Повторял бессчётно:
- Господи, прости! Сохрани и помилуй Настеньку, Олежку и меня, грешного. Не дозволь сгинуть опозоренным. Не карай сурово!
По плите тарабанил дождь. Взбунтовавшийся город насыщался горячей кровью.
На другое утро, серое, холодное, вымокшего и продрогшего Ярослава извлекли на свет Божий и доставили во дворец. Там сидел синклит[25]: Святополк, Чаргобай, Кснятин и Феодор с преподобным епископом Кириллом. Все, за исключением иерарха, встретили захваченного правителя с неприязнью, нескрываемым отвращением и оставили стоять посреди палаты, словно подсудимого. Начал Кснятин:
- Не взыщи, Володимерич, но в случившемся ты один виновный. Я тебе внушал многократно - отступись, одумайся, призови из Болшева сына и не затевай дела о признании бастардуса. Ты ж нарочно настаивал! И открыто жил с ведьмой! Вот народ и восстал!
Глядя исподлобья, Осмомысл ответил:
- Если б вы народ не мутили, он бы не посмел. Тут вступил Вонифатьич:
- Семя наше взошло на заранее подготовленной почве. Ты не разрешал веча, не давал вольности болярству, правил самочинно. Как сие терпеть?
- Вольность вам? - возмутился князь. - Вы б нагородили с три короба! Об одном жалею: что тебя не отловил, пёс поганый, и не кинул в Днестр с камнем на твоей вые![26]
Феодор забулькал, обращаясь к сообщникам:
- Слышали? Вы слышали? Что ещё с ним нянькаться? I Бесполезно!
- Совершенно согласен, - поддержал Святополк. - Сто ударов плетью на площади. А когда дух испустит, тело бросить собакам!
- Погодите, чада мои, - оборвал его священнослужитель. - Он покуда - законный князь…
- Никакой не законный, - вставил Ростислав. - По закону - мой родитель Иван и я должны были править!
- Он покуда - законный князь, - повторил епископ, глядя своими ясными голубыми глазами на Осмомысла, словно говорил: слушай, что скажу, и запомни, - и до той поры, как мы не получим подписи его под составленной хартией, что он отрекается, призывать Володимера не имеем права.
- Хартия готова, - сообщил Кснятин, - пусть ея подпишет.
Ярослав оскалился:
- Лишь с одним условием: коли Святополк трижды поцелует меня между ног!
Заговорщики зашумели, начали ругаться, лишь один Кирилл укоризненно покачал головой в фиолетовом клобуке.
- Если же серьёзно, - продолжал правитель, - то у вас единственная возможность избежать собственной погибели: отпустить меня и моих родных и убраться из Галича как можно скорее.
- Он ещё будет угрожать! - крикнул Святополк. - Мерзкая мокрица! Или ты подписываешь отречение, или мы сожжём на костре и сучонка, и сучку! Выбирай!
Поиграв желваками, бледный, задыхающийся от гнева, Осмомысл сказал:
- Нет! Не подпишу. Чтоб вы сдохли, христопродавцы!
- Уведите, - приказал Чаргобай. - Бросьте снова в яму. Пусть ещё подумает.
И когда князя удалили из залы, Серославич обратился к епископу:
- Отче, соглашайтесь. Галичане требуют этой жертвы. Мы покажем силу, Ярославка поймёт, что деваться некуда - вслед за Наськой мы погубим Настасьича. И тогда подпишет.
Опустив глаза, иерарх ответил:
- Соглашаться не стану, но и воспрепятствовать не могу. Бо на всё воля Божья. Поступайте как знаете.
3
На торговой площади возвели дощатый помост, посреди которого высился только что обструганный столб. И со всех сторон его обложили хворостом и соломой. Горожане стекались загодя, занимая лучшие для обзора места; в разговорах и шёпоте слышалось одно: «Ведьма, ведьма, это справедливо, ведьму надо сжечь!» Вскоре же народу набежало такое количество, что какую-то бабку сдавили насмерть, но она, умерев, продолжала вертикально стоять, стиснутая телами. Капал мелкий дождь. Небо было обложено тучами.
Ровно в семь утра появились на паперти заговорщики во главе с Кснятином и Святополком; не было епископа: тот сказался больным. По помосту к столбу вышел Шваран Одноглазый: кто бы ни пришёл к власти, он старательно исполнял свою работу и казнил любого приговорённого.
- Вон - ведут, ведут! - прокатилось среди зевак. - Ведьма, ведьма!
И дружинники Чаргобая вывели Настасью в долгополой рубахе, бледную, простоволосую, босиком, но великолепно прекрасную даже в это трагическое мгновение. Чёрные волосы по плечам в сочетании с белизной кожи были дьявольски хороши. А овальное, похудевшее лицо с тёмными кругами возле глаз чем-то отдалённым напоминало лик Спасителя на Голгофе.
Женщину подтолкнули к столбу, и палач прикрутил её руки верёвками к дереву. В тишине раздался голос бывшего печатника; Серославич проговорил:
- Галичане! Люди добрые! Наконец торжествует справедливость. Мы казним колдунью, диаволопоклонницу, заговорами и чарами помутившую разум князю Ярославу и внёсшую раскол между ним и княгинею. Но теперь будет замирение. Пусть огонь очистит нашу землю от зла. Сам епископ Кирилл не противится этой жертве. Так свершится же воля Небес! Ибо все мы - слепые орудия в битве Света и Тьмы! Будем счастливы!
- Любо! Любо! - согласились люди, и волна одобрения прошла по толпе.
- Дайте мне сказать! - крикнул Чаргобай. - Довожусь ей двоюродным племянником. И моё сердце обливается кровью, глядя на нея у позорного столба. Но помочь ей не в силах. Ибо я православный и отрёкся от поверий и волхвований предков-половцев. А Настасья продолжала колдовать - я тому свидетель: в Пафлагонии напустила порчу на младую деву в городе Энее, а потом сняла хворь своим чародейством. Потому как одержима нечистым. А у княжеского престола не должно быть исчадий ада! Пламя этого костра сделает наш дух крепче и спокойнее!
- Любо! Любо! - поддержали его галичане, кто-то с Удовольствием свистнул.
- Пусть теперь она скажет, - разрешил Святополк Юрьевич. - Может, хоть покается перед гибелью.
- Нет, не надо! Не желаем слушать! - зароптали жители.
- Будьте великодушны, - продолжал настаивать Князь-изгой. - Поступайте по-христиански. Ибо Он учил возлюбить врагов. - И велел Настасье: - Говори, несчастная.
Все взглянули на половчанку. Та смотрела в небо, и обильные слёзы заливали ей щёки. Красные сухие губы произнесли:
- Господи, помилуй мя… Ты же знаешь, что я не ведьма… Если и ворожила, то не со зла…
- Ворожила! - ахнули в толпе. - Слышали? Она ворожила!
- …но пытаясь спасти людей от хвори и боли… не мутила разума Ярославу… только лишь любовью своею…
- А-а, любовью мутила!.. - подхватили люди. - Ведьма, ведьма!
- …родила ему чадо, признанное княжичем…
- Нет! Не княжич! Не верим!
- …и осталась до конца Твоею рабою, ибо нет святее великой Троицы - Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа!
- Подлая! Лукавит! Жечь ея!
- Господи! - воскликнула осуждённая. - Всемогущий Боже! Коли Ты так решил, я и рада, что уйду не по собственному почину, как нередко думала, но по Промыслу Твоему. Мне мучения не страшны. С радостью приму избавление от земных оков, от того, что мешала всем, никому не нужная… Я перед Тобою чиста. И приду к Страшному Суду без малейшего к тому трепета. Господи, прости!..
- Жечь ея! Жечь немедля! - разнеслось над площадью, и толпа стала наседать, приближаясь к помосту.
Кснятин Серославич взмахнул платком. Кату поднесли запалённый факел, и Шваран Одноглазый сунул пламя в солому. Но она оказалась влажной, разгоралась нехотя, с дымом и шипением, вроде бы противясь незаконному делу. Чаргобай что-то приказал своим гридям, те ещё принесли огня, стали поджигать хворост с четырёх углов. Наконец костёр вспыхнул, как положено, охватил помост, быстро подбираясь к столбу.
Вдруг вперёд выскочил пожилой мужчина и, тряся бородой с проседью, начал голосить:
- Дочка! Доченька! Не пущу! Не надо!
Это был Микита Куздеич, Настенькин отец. Бросился к костру, стал расшвыривать горящие ветки. Но сияющий смерч взвился к небу, отчего толпа, ахнув суеверно, схлынула назад, распахнула глаза от благоговейного ужаса, силясь рассмотреть, что творится с ведьмой и её родителем. Но уже не видела ничего, кроме алых обезумевших языков пламени и слепящих искр…
Кое-кто из зевак после утверждал, будто в тот момент разглядел, как из туч возник призрак старого Чарга, протянул костлявую руку и увлёк за собой наверх собственную внучку. Но другие, не узревшие чуда, им не верили, обвиняли болтунов, что они с утра слишком много выпили.
Тем не менее день спустя дворские холопы, убиравшие площадь от ужасного пепелища, обнаружили в золе лишь один мужской обгоревший костяк, женского найти не смогли. Но, с другой стороны, слишком и не искали…
Казнь произошла месяца сентября 11 числа 1173 года от Рождества Христова. Город был по-прежнему под пятой мятежников.
4
Осмомысл, услышав о сожжении своей ненагляды, только рассмеялся: ишь, чего брешут, негодяи, чтоб меня дожать! Но тогда к нему привели Болеславу, и она подтвердила: сказанное - правда, Насти больше нет и сейчас заговорщики угрожают уничтожить Олега.
Ярослав сидел словно истукан. Неожиданно вздрогнул, тихо застонал и упал без чувств. Болеслава бросилась его поднимать. Он открыл глаза, приподнялся, скорбно обнял невестку и заплакал тихо. Повторял одними губами: «Вот несчастье, Господи… Как мне жить теперь?»
Женщина взмолилась:
- Подпиши отречение, сохрани сына.
- Подпишу, изволь. Всё уже едино…
Быстро принесли грамоту. Ярослав приложил к ней руку, не читая. И опять сидел с Болеславой, плакал и дрожал, будто бы от холода. Спрашивал её:
- Как ты думаешь, больно было Настеньке? Та его утешала:
- Я надеюсь, что нет, при таком-то пламени умирают мгновенно.
Промокал глаза и сморкался. Сам с собой рассуждал:
- Но ея-то за что? Благо бы меня… я во всём виновный… - Поворачивался к жене сына, говорил уверенно: - Не колдунья, но мученица святая. Слышишь, да? Страстотерпица и раба Божья. Солнышко моё, любушка, соловушка… Как мне одиноко и больно! - И, упав ей на грудь, разражался слезами.
На другой день привезли Владимира-Якова. Перед въездом в ворота новому правителю Галича подали белого коня, и наследник возник перед взорами столпившихся горожан, словно триумфатор, с гордо поднятой головой и закрученными кверху усами. Правда, у дворца конь споткнулся и упал на передние колени, чуть не вывалив всадника в грязи. Но Владимир удержался в седле, натянул поводья и поднял скакуна с земли. Все кругом приветствовали молодецкий этот поступок.
Отдохнув и помывшись с дороги, он созвал соратников за накрытый стол, чтобы за едой обсудить положение дел. Те ему доложили обстановку в городе, описали умерщвление Настеньки. Новый князь спросил:
- Что отец? Убивается, плачет?
- Нет, уже получше. Всё благодаря Болеславе: утешала его, чуть ли не за руки держала два дня.
Молодой правитель ответил:
- Да, она женщина душевная. Настоящая христианка.
Рассказал друзьям, что послал гонцов во Владимир-Волынский и Калиш. В первой грамоте сообщал Святославу Мстиславичу о смещении Осмомысла и о передаче города Бужска с его окрестностями в подчинение Волыни. А в другой приглашал Ольгу Юрьевну и поповну с детьми возвратиться в Галич.
- Как же будет с твоей поповной? - обратился к нему Кснятин Серославич. - Ты сидишь на престоле, должен жить с Болеславой и забыть прежних полюбовниц. А не то выйдет срам: от одной избавились, а вторую - здрасьте пожалуйста! - тут же приютили.
У Владимира вспыхнули от злости глаза:
- Вот ещё, придумал! Как хочу, так и поступлю. - Но, отпив вина, быстро помягчел, - Ладно, там посмотрим. Может быть, верну Поликсению отцу Дмитрию. Четверо его деток, двое от меня - вместе веселее им будет.
Тут же он раздал должности: Святополка сделал своим тысяцким - во главе дружины, Чаргобая - дворским, Кснятина вновь назначил печатником, Феодору поручил созывать боярское вече, а епископа Кирилла попросил провести заупокойную службу по погибшим в этой смуте с той и с другой стороны.
Разгорелись споры вокруг Осмомысла. Святополк жаждал мести и настаивал на публичной порке. Многие его поддержали. А глава Галицкой епархии возражал, говорил, что с отрёкшегося князя и сожжения Настеньки достаточно. Яков быстро взял сторону священника:
- Да, согласен. Хватит разных бесчинств. Выделю ему Коломыю - пусть сидит вдалеке отсюда, на реке Пруте, вместе с маменькой мирно доживает свой век, за любимыми книгами древних авторов. Да такой судьбе можно позавидовать! Я и сам был бы рад провести подобную старость.
Святополк, разумеется, надулся, но смолчал. Пир закончился далеко за полночь. Пьяного правителя отнесли в одрину, уложили в постель и оставили отсыпаться до утра.
Но подняли раньше: во дворце были топот, крики, зарево пожарища освещало чёрное небо; полусонный князь, ничего не соображая с похмелья, хлопал перепуганными глазами, спрашивал стоящего напротив Ростислава:
- Ась? Какого лешего? Тот орал и топал ногами:
- Да вставай, придурок! Мы ужо пропали! Полчища Избыгнева в город ворвались! Вонифатьич убит, Святополк ранен. Надобно бежать по подземному ходу!
У Владимира от ужаса приключился приступ медвежьей болезни, и желудок сработал прямо на ложе.
- Господи, засранец! - сплюнул Чаргобай. - Ну, идём скорее! Подмываться некогда! - И они устремились к Перемётной палате.
Прилетевшая из-под Червеня конница Ивачича быстро овладела кремлём. Гриди перебили охрану у дверей Ярославовой клети и освободили пленённого князя. Он их обнял, крепко расцеловал, поблагодарил за служение долгу. Приказал подоспевшему Избыгневу:
- Живо дуйте в острог. Там Олег и Микола Олексич, надо вызволять. А ещё людей - в рощу, где дыра от подземного хода. Захватите смутьянов - всех, кто уцелел!
Вышла Болеслава со слезами радости на глазах:
- Счастье-то какое, свет мой, батюшка! Не гадали, не чаяли… Ты опять полновластный князь!
Взяв сноху за локоть, Осмомысл поцеловал её в щёку:
- Доченька, голубушка. Я всегда им был. Отречение ложное, ибо взято под принуждением. Всё теперь восстановим по-старому. - Горестно добавил: - Нет, по-старому уже не получится. Настенька погибла, нет в живых Олексы Прокудьича и Гаврилки Василича… Кончилась одна полоса жизни, начинается новая.
Женщина ответила:
- Постараемся выдюжить. Помнить о невинно загубленных и любить живых.
Он поцеловал её снова:
- Я тебя люблю, золотая. Ты меня поддержала в трудную годину.
Опустив глаза и зардевшись, та проговорила:
- Я тебя никогда не брошу.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. УЗКИЕ ВРАТА
Глава первая
1
есять лет прошло. Многое, очень многое изменилось за эти годы в мире и на Руси. В Византии правил новый император - нам уже известный Андроник I. Вот как это случилось.
Находясь в горной Пафлагонии в ссылке, он развил кипучую деятельность, собирая сторонников. Но открыто выступить против Мануила всё же не решился, зная, что тот после смерти евнуха Фомы отошёл от дел, увлекается астрологией и готовится постричься в монахи. Ситуация разрешилась 24 сентября 1180 года: император скоропостижно скончался. Во главе государства номинально встал его одиннадцатилетний сын Алексей, опекуншей сделалась вдовствующая императрица Мария Антиохийская, а фактически правил их родственник - протосеваст Алексей, тёзка Молодого монарха. Оппозиция сразу зашевелилась, справедливо считая, что страна огромных размеров, протянувшаяся от Южной Италии до Армении, от Дуная до Кипра, быстро развалится на части, будет поглощена турками и арабами, если не воцарится в Константинополе сильный муж, настоящий политик, а не желторотый юнец. Многие к тому же недолюбливали Марию - ведь она была дочерью иерусалимского короля, крестоносца значит - католичка, «латинянка», «не наша». Ей не доверяли. А в условиях близкого Третьего крестового похода, о котором уже шли разговоры по Европе, греки побаивались, говоря современным языком, «пятой колонны» у себя в столице.
Вспомнили тогда об Андронике. Лидеры оппозиции устремились к нему в Эней для переговоров. Но согласия сразу не достигли, год ушёл на работу в других провинциях, на сплочение сил и средств. Лишь в июне 1182 года мощная, хорошо вооружённая армия, собранная в Понтийских горах, выступила в сторону Босфора. По пути к ней стекались массы народа, а в районах Вукеллария и Оптиматов население встречало сына Ирины-Добродеи как освободителя, музыкой и цветами.
Разумеется, протосеваст Алексей тоже не дремал. По его приказу в Малую Азию перебросили несколько тысяч ратников императорской гвардии. Но, столкнувшись с боевыми частями оппозиции, многие бежали, кое-кто перешёл на сторону восставших, несколько полков было уничтожено. Протосеваст тогда заблокировал пролив сотней военных кораблей, на которых установили специальные катапульты, лихо забрасывавшие противника «греческим огнём». Нападение на столицу удалось задержать на месяц. За неделю до Рождества вспыхнуло восстание в самом Константинополе. Началось, как в Галиче: там народ громил половецкие кварталы, здесь же православные греки разоряли дома итальянских купцов - «латинян», католиков, - находившихся под защитой Марии Антиохийской. От ножей и камней погибли две с половиной тысячи мужчин, а примерно такое же количество взятых в плен женщин и детей были проданы впоследствии в рабство туркам. Вскоре пал и Вуколеон - императорский дворец. Протосеваста схватили и железным раскалённым прутом выжгли ему оба глаза. Алексея II заключили под стражу. С ним арестовали и его тринадцатилетнюю невесту - прибывшую из Франции принцессу Анну. А Марию Антиохийскую бросили в башню Анемы.
На Крещение 1183 года в главный город Византийский империи под фанфары и барабаны въехал Андроник со своими войсками. Он не тронул малолетнего самодержца и его невесту, только перевёл их в загородное поместье и не выпускал из-под караула. А публично называл себя «недостойным советником» юного монарха, распоряжаясь тем не менее от его имени.
Постепенно заменили половину всех чиновников министерств и прочих государственных служб: тех, кто так или иначе возмущался новыми порядками, приговаривали к каторжным работам или ослепляли. Вскоре недовольных не стало.
Осенью Андроник задумал короноваться как «соправитель» Алексея II до его совершеннолетия. Патриарх Феодосии отказался провести противозаконную церемонию, и тогда патриарха сместили, а обряд свершил один из митрополитов. Но и этого показалось мало. В ночь с 9 на 10 ноября в загородном поместье тетивой от лука был задушен молодой император. А спустя неделю казнена Мария Антиохийская, обвинённая в государственной измене (то, что её отец, иерусалимский король Амальрик, привечал Андроника, слыл его другом, не сыграло никакой роли).
В довершение ко всем безобразиям новый самодержец вознамерился сочетаться церковным браком. Он уже давно был вдовцом, и его дожидалась из ссылки верная Феодора с детьми. Но женился Андроник вовсе не на ней, а на… тринадцатилетней Анне Французской! Если же учесть, что ему в то время исполнилось шестьдесят четыре, этот мезальянс выглядел чудовищно. Впрочем, наслаждавшегося властью тирана ничего уже не смущало…
Тут владыке империи доложили, что плоха Добродея и желает проститься с сыном. Он отправился к ней в имение.
Мать действительно умирала. Лёжа на подушках, жёлтая, больная, с изменившимся одутловатым лицом, что-то говорила самой себе в полудрёме-полубреду. У её изголовья стояла Янка, располневшая, сильно подурневшая, и смотрела на Андроника с нескрываемым удивлением. Властелин спросил:
- Что, не нравлюсь?
Женщина потупилась:
- Очень изменился.
- Да, волос убавилось, - с огорчением подтвердил монарх. - Может быть, ходить в парике, как ты думаешь?
- Нет, парик смешон. И, в конце концов, лысина не портит мужчину.
- Но при крошке-жене не совсем красиво…
- Я об этом вообще молчу.
Неожиданно Ирина очнулась и взглянула на отпрыска просветлённым взором. Улыбнувшись, произнесла по-русски:
- Мальчик мой любимый… Слава Богу, что ты пришёл!
- Здравствуй, матушка. - Он поцеловал её кисть, находившуюся поверх одеяла, а она свободной рукой провела по его блестящему темечку. - Господи помилуй! Где ты потерял все свои прелестные кудри?
- В дальних странах, мама. В бесконечных волнениях и борьбе…
«Ив чужих постелях», - чуть не вырвалось из уст Янки.
- Да, борьба… - с огорчением сказала старуха. - Извини, что оторвала тебя от великих дел. Но уж больно хотела увидеться напоследок.
- Что ты, что ты! - лицемерно завозмущался наследник. - Нас переживёшь…
- Не юродствуй. И послушай мать. Будь благоразумен. Не перегибай палку. Настроение черни изменчиво. Если возненавидит, то пощады уже не жди.
Император ответил:
- Государство у меня под пятой.
- Недовольных всегда хватает. Самые опасные - близкие друзья. Потому что думают, что тебя умнее. И в удобный для них момент обязательно предадут.
- У меня нет друзей. Лишь одни подчинённые.
- Эти тоже опасны. Потому что жаждут выйти из подчинения.
- Такова жизнь правителя. Словно бы на бочке с «греческим огнём».
- Разве это жизнь?
- Да! За один миг ея, ощущения своего могущества, трепета всего окружения, целого народа, умереть не страшно!
Добродея вздохнула:
- Понимание сего недоступно моему разуму… Ну, да всё равно. Я довольна, что вижу тебя счастливым. Наклонись ко мне. Дай поцеловать в лоб и благословить…
Полчаса спустя матери не стало. Выйдя на террасу и смахнув слезу, сын заметил Янке, появившейся вслед за ним:
- Ас другой стороны, умереть вот так, у себя в постели, тихо, но достойно, в окружении близких, тоже счастье.
Дочь Берладника всё-таки съязвила:
- Радуйся, что не всё население империи составляют брошенные тобой жены, а не то был бы ими растерзан, словно дикими львицами!
У Андроника дёрнулась нижняя губа:
- Даже в эти печальные мгновения ты не можешь не уколоть. Забываешь, что жизнь твоя, как и всех моих подданных, у меня в руках.
- Ну, давай, зарежь, ослепи, сошли. И меня, и дочь…
- Ладно, не сержусь. Кстати, где она? Как ея дела? Почему не простилась с бабушкой?
- Дома, с моими младшими. Побоялась вида умирающей и не захотела поехать. Ничего, на похороны прибудет.
- Сколько Зое лет?
- Скоро девятнадцать.
- Ох ты боже мой! Надо выдавать замуж. Мы найдём ей достойную партию.
- Да за этим дело не станет. Дочка наша красавица, глаз не оторвать. Греческая и русская кровь. Русской даже больше.
Самодержец кивнул:
- Больше половины. О, святая Русь! У меня с ней связано очень много.
- Слышал ли, что Настя погибла?
- Да, слыхал. А кузен Ярослав вроде бы живой, правит, как и раньше. Задушил недовольство бояр бестрепетно. Вот и молодец. Так и надо. Между прочим, можешь передать своему Кантакузину, что я знаю о его дружбе с братьями Ангелами. Пусть не затевает против меня. Голову снесу.
Янка проворчала:
- Я не понимаю, о чём ты, но конечно же передам Фёдору дословно.
Отпевали Ирину-Добродею в главном константинопольском храме - Святой Софии. И затем упокоили в императорском склепе. А когда Янка рассказала Кантакузину об угрозах Андроника, тот пришёл в ярость:
- Мы ещё посмотрим, кто кого. Эта мразь на троне не засидится. Кроме Алексея Первого, вся династия Комнинов - выродки и мерзавцы. Надо её менять, ставить Ангелов. Лишь они спасут империю от развала.
2
Первый год правления нового императора ознаменовался строительством нового водопровода и борьбой с коррупцией. Он поставил во всех министерствах и управлениях своих сторонников, положив им жалованье втрое выше прежнего, чтобы те не стремились брать взятки. Если же они всё равно воровали и вымогали, отправлял на скамью подсудимых; целая волна публичных процессов захлестнула страну; головы катились, как созревшие яблоки с веток. Повсеместно вводилась военная дисциплина, даже в гражданских ведомствах. За малейшую провинность карали. Перепуганные чиновники в самом деле притихли, на открытый грабёж населения больше не решались. И какое-то время эта политика приносила положительные плоды. Но террор длиться долго не может. Люди устают. И хотят послаблений.
Вместе с тем Андроник продолжал вести разгульную жизнь, не отказывая себе в изысканных удовольствиях. Выстроил шикарные новые дворцы, стены которых были украшены необыкновенными гобеленами, где изображались сцены его охоты на туров в тысменицких лесах. Несмотря на годы, он по-прежнему любил менять женщин, приглашал на свои загородные оргии высокопоставленных византийцев с супругами и, споив мужей, прямо по соседству развлекался с их благоверными; не гнушался и незамужних дев, заставляя их. вначале забавляться друг с другом по-лесбийски, а затем сам вступал в игру, превращая всё в свальный грех. Слухи об этих вакханалиях медленно ползли по империи. Над сластолюбивым монархом начали смеяться, называя его не иначе как «лысым Приапом» - древнегреческим богом плодородия и чувственных наслаждений, в честь которого в старину проводились ритуальные совокупления на природе. Это подрывало авторитет самодержца. Ведь давно известно: если над политиком начали шутить, то его больше не боятся…
Первыми восстали города на востоке - те, которые приветствовали Андроника на его пути к власти. Император сохранял ещё силы и возглавил сам карательный поход против недовольных. По его личным чертежам сконструировали метательные машины с «греческим огнём». Штурмовые отряды брали крепости. Заговорщиков беспощадно вешали, обезглавливали, заживо сжигали и сажали на кол. Византия содрогнулась от ужаса. Это было затишье перед бурей.
Государство затрещало по швам. Венгрия заняла Далмацию, отнятую у неё Хорватию, оккупировала Белград. Сицилийские католики, взбудораженные рассказами спасшихся купцов о разгроме «латинских кварталов» Константинополя, двинули войска на восток, быстро отвоевали всю Южную Италию и Диррахий вплоть до Фессалоник. Отсоединился Кипр. Мятежи вспыхивали один за другим. Чем безжалостнее вёл себя правитель, тем скорее множились выступления против него.
Летом 1184 года он сражался с бунтовщиками из Пруса, как ему доложили о заговоре в Никее, во главе с Фёдором Кантакузином, жаждавшим привести к власти Алексея Ангела. Деспот рассвирепел и помчался с войсками к Никейскому озеру. Начался штурм крепости. Бастионы её загорелись, подожжённые «греческим огнём». С поднятыми руками из ворот вышли сдавшиеся противники, в том числе Исаак Ангел и Фёдор Кантакузин (старший брат Исаака Алексей очень своевременно убежал до начала осады). Первого, как родственника Комнинов, император простил, но велел держать у себя под стражей во дворце. А второго приговорил к отсечению головы на площади Тавра.
Накануне казни секретарь передал Андронику прошение о помиловании от лица некой дамы, утверждавшей, что она - родственница преступника.
- Кто такая? - недовольно поморщился самодержец.
- Мы её не знаем. Говорит, что была компаньонкой покойной матушки вашего величества. Русская по имени Иоанна.
- Янка, - догадался монарх. - У неё от Кантакузина дети.
- Говорит, что от вашего величества тоже. Византийский правитель цыкнул на него:
- Слишком много будешь болтать - можешь лишиться языка. - И махнул рукой: - Отказать. Фёдора казнить.
- Но она просит аудиенции. Ждёт в приёмной.
- Этого ещё не хватало! Прогони.
- Но она угрожает себя убить прямо тут, перед дверью, если её не впустят.
- Вот несносная! Запросто убьёт, я не сомневаюсь. Хорошо, зови.
Та вошла без тени смущения на лице, с твёрдым, холодным взглядом, сжатыми узкими губами. Поздоровалась и сказала:
- Пощади его. Замени убийство изгнанием, как когда-то сделал Мануил по отношению к тебе. Мы уедем на Русь и не станем тебе мешать.
Он спросил:
- Я предупреждал, чтобы Фёдор не боролся со мною?
- Да, предупреждал.
- Я предупреждал, что сотру его в порошок, если будет крутиться у меня под ногами?
- Да, предупреждал.
- Что ж ты хочешь от меня? Все претензии - к недалёкому Кантакузину.
- Прояви великодушие. Заклинаю тебя именем покойной Добродеи.
- Ах, не поминай ея всуе.
- Именем покойной Настасьи.
- И ея не трожь.
- Именем твоей Зои!
- Дочка ни при чём.
- Вспомни, как я и ты любили друг друга. Как совместно с Чаргобаем убегали из башни Анемы!
- Что ж с того? Молод был и глуп.
- Не казни же Фёдора! У меня на руках - его дети!
- Почему я должен думать о его детях? Почему он сам о них не подумал, становясь на опасный путь заговорщика?
- Умоляю, Андроник! - И она, упав на колени, стала целовать край его одежд.
Император потянул за материю, сделал шаг назад. Глухо произнёс:
- Ни к чему истерики. Мы не отменяем отданных приказов. Завтра утром Фёдор умрёт. - Позвонив в колокольчик, вызвал секретаря: - Проводите даму. Ей пора идти.
Встав с колен, Янка объявила:
- Умертвив Кантакузина, ты себе подпишешь смертный приговор.
Самодержец хмыкнул:
- Уж не ты ли меня казнишь? Женщина ответила:
- Если Бог поможет.
Оказавшись дома, первым делом дочь Берладника отвезла Зою с младшими детьми в загородное имение, где жила семья брата Фёдора - полководца Андроника Кантакузина, воевавшего на Балканах. Там, в имении, и узнала о казни на Тавре своего сожителя (Фёдору отрубили голову, а потом носили её на пике, устрашая константинопольцев). Возвратившись в город, Янка продала дом, драгоценности, лошадей. И, зафрахтовав небольшое судно, поплыла в Фессалоники, где рассчитывала связаться с тем же полководцем Андроником, чтобы отомстить его тёзке - императору.
3
В то же время драматические события разворачивались у южных границ империи. Воевавший от имени атабека Нуреддина Зенгида, знатный курд Салах-ад-Дин ибн-Эйюб - он же, по-европейски, Саладин (мы для краткости тоже будем называть его так) - занял не только Египет и Йемен, но и большинство крепостей крестоносцев. А когда Зенгид умер, захватил все его владения в Сирии и Месопотамии, став единовластным султаном. Под угрозой оказался Иерусалим - главный оплот христиан на Святой Земле. Бедный король Амальрик хорошо понимал, что один не выстоит, и послал гонцов к монархам Европы - к императору Фридриху Барбароссе в Германии, королям Франции, Англии и Венгрии, к Папе Римскому - отдельно. Но правители были заняты своими делами; согласившись на словах организовать в будущем Третий крестовый поход, в этот раз - против Саладина, не предприняли ровным счётом ничего.
У границ Галиции, в Венгрии, ситуация была тоже непростая. Повзрослевший король Иштван III (тот, что отказался жениться на Ярославне) вышел из подчинения и опеки матери - вдовствующей королевы Евфросиньи Мстиславны - и поссорился с ней смертельно. Именно смертельно, потому что младший из принцев, Гейза, не без наущения мамочки, отравил сидевшего на троне старшего братца.
Тут как раз в Венгрию вернулся из Византии изгнанный средний сын Евфросиньи - Бела. Общество раскололось на три части. Первые хотели видеть королём Белу. Многие выступали за Гейзу и Евфросинью. Третьи предлагали подождать, кто родится у вдовы Иштвана III, оказавшейся беременной: если мальчик, то провозгласить королём его. Но решительный Бела ждать не стал и, сплотив сторонников, захватил престол. А враждебно настроенную к себе мать выслал в крепость Бранчево, на границу с Болгарией.
Евфросинья (ей в ту пору не исполнилось ещё и шестидесяти), будучи женщиной энергичной и деятельной, не могла смириться с пленом. Подкупив охрану и переодевшись в мужское платье, выбралась из крепости и благополучно сбежала на болгарскую территорию.
Там болгары продолжали воевать с византийцами. Города переходили из рук в руки, и никто не мог окончательно победить. Греками командовал Андроник Кантакузин, штаб которого находился в городе Пернике. Здесь и встретились обе женщины - Янка, кое-как добравшаяся с юга, из Фесалоник, и Мстиславна, прискакавшая верхом с севера, из-за Дуная. Эта встреча, ничего не значившая сама по себе, стала поворотным моментом в жизни Европы и Малой Азии, предопределила судьбы многих политиков. Бойтесь же разгневанных женщин, господа, вставших на тропу вооружённой борьбы!
Встретившись и представившись друг другу, целый вечер провели в разговорах. Дочь Берладника рассказала свою историю и открыла карты: цель её - подбить младшего брата казнённого Фёдора на мятеж против императора. Под началом Кантакузина - многотысячная армия, надо повернуть её на столицу, по дороге собирая сторонников, а таких немало, в том числе и в самом Константинополе, среди них - и обманутые, опозоренные мужья, жены которых пали жертвой «лысого Приапа». Шансов на победу немало.
- Ну, а ты, матушка, мой свет, собираешься искать помощи против Белы Третьего? - догадалась Янка.
Евфросинья растянула губы (толстые и широкие, как у жабы, характерные для рода Метиславичей), отрицательно покачала головой:
- Надоела Унгрия. Отдала ей молодость, а взамен получила изгнание. Пусть живут без меня как знают. Я туда больше не вернусь.
- А куда? На Русь?
- Этого ещё не хватало! Там возня ещё мельче. Все потомки Ярослава Мудрого перегрызлись между собою. Слава Богу, Святослав Всеволодович Черниговский, севший, наконец, в Киеве, положил предел недостойным распрям. Галич замирился с Волынью, киевляне - с суздальцами. Но такое положение шатко. И его раскачивают смоляне… Нет, мои планы посерьёзнее.
- Не могу понять.
- Отправляюсь в Рим, чтобы убедить Папу защищать не словесно, но на деле Гроб Господень от бессовестных сарацин. Вот задача, достойная бывшей унгорской королевы! Разрешению ея посвящу остаток дней моих.
- Ох, непросто сплотить столько латинян! И пропустят ли греки новых крестоносцев по своей земле?
- Ничего невозможного не бывает, коль берёшься за дело ретиво.
- Помогай тебе Бог, матушка, мой свет.
- И тебе, голубушка.
День спустя Евфросинья уехала в Фессалоники, чтобы сесть на корабль, отбывающий к берегам Италии. Янка же осталась уговаривать военачальника; став его любовницей, вскоре она добилась успеха.
4
Император Андроник I знал уже об измене Кантакузина-младшего, о восстании в западных провинциях - Фессалониках, Стримоне и Македонии, о движении в сторону Босфора взбунтовавшейся армии и примкнувших к ней добровольцев. Но беспечно бездействовал, проводя лето 1185 года в загородных имениях со своим постоянно сменяющимся гаремом. Ненадолго появившись в столице, на взволнованные доклады секретаря и министров отвечал равнодушно, с полузевотой: дескать, ничего, ничего, повода для паники я не вижу; распорядился так:
- Их идея - заменить Комнинов на Ангелов. Если мы убьём Алексея, Исаака и членов их семей, выбьем почву у мятежников из-под ног. Действуйте, друзья. Мне ж хотелось ещё понежиться под последними жаркими лучами сентябрьского солнышка. Становлюсь сентиментален. Даже плачу иногда под жалобные мелодии флейты. Жизнь уходит! Как не насладиться ея остатками?
И уехал. Жизнь действительно быстро уходила. Он не представлял, с какой скоростью.
Поутру 10 сентября флот мятежников занял боевые позиции на Босфоре, а восставшие войска окружили город. Толпы простолюдинов хлынули к воротам, смяли караульных гвардейцев, сбросили засовы и приветствовали отряды Кантакузина, заходившие в Константинополь. В это время императорские клевреты попытались придушить Исаака Ангела, всё ещё сидевшего под арестом в Вуколеоне, но толстяк и его охрана защищались стойко, отразили несколько атак нападавших и дождались наконец помощи извне: во дворце появились их сторонники. Те сломили противников, вывели Исаака на балкон, и Андроник Кантакузин объявил его новым самодержцем.
Янка же, в мужском платье, во главе группы всадников поскакала арестовывать «лысого Приапа». Но, увы, опоздала: сын Ирины-Добродеи, взяв с собой юную жену-француженку и любимую наложницу-флейтистку, скрылся из имения. Он переоделся в наряд русского купца, в русские кафтаны облачил своих женщин и на русской ладье беспрепятственно отчалил от пристани Золотого Рога. Впрочем, далеко им уйти не позволили: корабли бунтовщиков, перекрывшие Босфор, их догнали и остановили. Кто-то узнал Андроника Комнина. Беглецов связали и препроводили на берег. Там уже ждала Янка с своими головорезами. Увидав её, бывший император рухнул на колени и, сложив ладони молитвенно, возопил:
- Не казни! Пощади, любимая!
В кожаных штанах, широко расставив ноги и скрестив руки на груди, та напоминала своего отца - князя-изгоя Ивана Берладника перед схваткой его с Якуном. В голубых глазах русской можно было прочесть крайнюю брезгливость. Женщина задала вопрос:
- Помнишь, как я просила тебя помиловать Фёдора? Свесив лысую голову, свергнутый владыка молчал.
- Помнишь, как заклинала именем твоей матери, именем Настеньки и нашей дочери Зои?
Он стоял на коленях не двигаясь.
- Помнишь, как я сказала, что тем самым подпишешь себе смертный приговор? Этот час настал. У меня к тебе не осталось никаких чувств - лишь одно презрение.
У Комнина потекли из глаз слёзы. Посмотрев на Янку, жалобно сказал:
- Каюсь. Виноват. Прояви великодушие, отпусти меня и мою жену. Мы уедем на Русь, к брату Ярославу. Больше никогда на Босфор не сунусь.
Но она только рассмеялась ему в лицо:
- Посмотри на себя, Андроник. Ты, имевший всё, от рождения награждённый Богом красотой и талантами, силой и здоровьем, воплотивший в себе мудрость древних эллинов и энергию русских! Мог бы стать выдающимся императором и войти в историю как объединитель земель, преобразователь страны. А стоишь в пыли на коленях и скулишь, как обделавшийся кобель, старый, лысый, мерзкий. Нет прощения тем, кто потратил зря свой господний дар! Тем, кто промотал такое сокровище, жаждя удовольствий для себя, ничего не давая людям. Все, обиженные тобою, жаждут мести. И от имени их и себя говорю тебе: будь же проклят и умри в мучениях!
Люди, окружавшие Янку, одобрительно заревели. Обращаясь к черни, дочь Берладника заявила:
- Отдаю его вам. Делайте что хотите. - Повернулась и, вскочив на коня, ускакала прочь.
Действия толпы трудно описать без смущения. Бывшему правителю отрубили правую кисть и проткнули ножом левый глаз. Догола раздев, посадили на хромого верблюда и возили по улицам. Без конца забрасывали палками и камнями. Иногда сволакивали на землю и пинали ногами. Родственники обесчещенных женщин мазали его ноздри калом и мочились прямо в лицо. Кто-то обдал Андроника кипятком. Оказавшись на ипподроме, горожане привязали Комнина за ноги к перекладине, принялись опять избивать и колоть в пах кинжалами. Между тем сын Ирины-Добродеи не терял сознания ни на миг. Лишь стонал и молился. Но в конце четвёртого часа не стерпел издевательств и забился в агонии. Всё кругом радостно захлопали. Неожиданно он опять очнулся и с каким-то детским удивлением стал разглядывать целым правым глазом окровавленную правую руку, поднеся её непосредственно к носу. Голос из толпы крикнул: «Во, глядите, он и перед смертью жаждет напиться крови!» Люди бросились на несчастного и топтали яростно. А потом в ужасе отхлынули, кто куда разбежались, бросив посреди ипподрома кучу растерзанного мяса и внутренностей, некогда называвшихся всемогущим владыкой Византийской империи.
Так в Царь-граде поменялась правящая династия.
Новые заботы сразу навалились на Исаака Ангела. Как предохранить страну от развала? Уберечь от нового нашествия крестоносцев? Усмирить непокорную Болгарию?
Только Янке не было уже до этого дела. Выполнив свою миссию, отомстив сполна, женщина собиралась на Русь, чтобы со своими детьми поселиться у брата Чаргобая. И, возможно, подсобить ему сесть-таки на принадлежавший Ивану Берладнику вожделенный галицкий трон.
Глава вторая
1
Это десятилетие изменило многое и на Руси.
Осенью 1173 года, убежав по подземному ходу из кремля, Чаргобай и Владимир-Яков подались на Волынь. Вновь нашли прибежище в Луцке. Вскоре туда прибыла из Польши Ольга Юрьевна с Поликсенией, Гошкой и родившимся незадолго до этого Гришкой. Луцкий князь Ярослав Изяславич обещал им выделить волость, чтобы жили себе в спокойствии и зализывали нанесённые Осмомыслом раны.
Но правитель Галича справедливо считал, что мятежники нанесли ему раны покрупнее. И весной 1174 года бросил к Луцку несколько полков во главе с Избыгневом Ивачичем (вместе с ним воевали наёмники из Польши). Испугавшись разорения своего города, Ярослав Изяславич вежливо, но настойчиво попросил Долгорукую и её родных удалиться. Те бежали на юго-восток, через Чёртов Лес мимо Киева, и прибились к младшему брату Ольги - Михаилу Юрьевичу, правившему в городке Торческе, рядом с Переяславским княжеством.
Всё бы ничего, и Михалка (так в семье называли князя) принял сестру с подобающим пиететом, а племянника с удовольствием потчевал собственным домашним вином; но Владимир поссорился с Чаргобаем, и нормальная жизнь пошла наперекосяк. Главное, повздорили из-за ерунды - Ростислав обозвал Якова горьким пьяницей, двоеженцем и недоумком, Яков же Ростислава - выродком и дубиной. Завязалась драка, и конечно же сын Берладника страшно отметелил сына Осмомысла: поломал ему челюсть, два ребра и подбил оба глаза. Ольга Юрьевна с братом Михаилом не могли стерпеть: по её наущению Долгорукий-младший приказал Чаргобаю убираться из Торческа.
Янкин брат решил отправиться в город Туров, где сидел Святополк Юрьевич. (Раненный в сражении за кремль в Галиче, тот лишился ноги и едва не умер; Осмомысл пожалел увечного и позволил слугам увезти его восвояси.) Но до Турова Чаргобай не доехал: по дороге был захвачен гридями Избыгнева Ивачича и доставлен пред ясны очи Ярослава. Зная о его роли в мятеже и в сожжении Настеньки, галицкий правитель повелел отрубить ему голову. (Подавляя восстание, князь казнил многих непокорных, в том числе и предателя Кснятина Серославича).
Но за Чаргобая неожиданно вступился давний друг последнего - князь смоленский Давыд…
Тут необходимо сделать отступление.
Если помните, много лет назад старший сын Долгорукого - Андрей Боголюбский, не терпевший мачеху - византийку Елену, выставил её со своей Суздальской земли, и она с младшими детьми подалась на родину в Константинополь. Ну, так вот: в 1173 году самый юный из детей Долгорукого - Всеволод Юрьевич - возвратился на Русь. Он ни у кого не нашёл прибежища - ни в Галиции, полыхавшей распрями, ни у старшего брата в Суздале. Поскакал к Михаилу Юрьевичу в Торческ, но нежданно-негаданно угодил в лапы к Давыду Смоленскому, враждовавшему с Боголюбским.
Но теперь Давыд предложил Осмомыслу обменять Чаргобая на Всеволода, благо тот - брат его супруги. Ярослав вначале повелел отказаться (Ольга Юрьевна находилась в бегах - надо ли вообще помогать её родичу?), но потом решил совершить, словно в шахматах, комбинацию в два хода. Первый - отдать Чаргобая и заполучить себе Всеволода. А затем выменять его на скрывающегося в Торческе сына Якова…
Несколько месяцев длились переговоры. Ольга Юрьевна требовала заочно у мужа клятвы на кресте, что не сгубит их отпрыска, а позволит жить, как и раньше, в Болшеве, под «домашним арестом». Осмомысл обещал, но поставил своё условие: чтобы сын приехал один, без поповой жены и её детей.
В результате обмен состоялся. Чаргобая отпустили в Смоленск. Всеволод Юрьевич оказался в Торческе и припал к груди Ольги Юрьевны. А Владимир-Яков отправился в Галич. Он, конечно, огорчался от разлуки с матерью, Поликсенией и ребятами, но надеялся скоро вырваться на свободу или же забрать их к себе в Болшев.
2
Зимний Галич встретил Якова мокрым снегом и раскисшей грязью. Кое-где виднелись остатки прежних пожарищ, но за целый 1174 год многое отстроили - начиная с крепостной стены и кончая боярскими дворами. Ярослав уничтожил оппозицию беспощадно. И боярские сынки, чьи отцы были казнены, от одной мысли о возможном бунте приходили в трепет. Но забыть не забывали. Час придёт, и они ещё припомнят правящему семейству смерть своих родных…
А тогда Осмомыслу было сорок четыре. Он сидел у горящей печки, завернувшись в шубу, и глядел на огонь скорбными глазами; перед ним трещали поленья, князь же видел Настеньку…
Доложили о прибытии княжича Владимира.
- Пусть войдёт, - разрешил правитель безразличным голосом.
Перейдя порог, сын остановился, не решаясь посмотреть на родителя. Только поздоровался. Но отец не ответил, продолжая наблюдать за горящим пламенем. Наконец он проговорил:
- Так она горела… По твоей вине! Изменившись в лице, Яков пробормотал:
- Тятенька, я что? Я ведь ехал ещё из Червеня. В городе меня не было. Мне потом только сообщили…
- Не оправдывайся, подлец, - оборвал его князь. - Всё равно виновен. Кто затеял бучу? Кто стоял во главе смутьянов?
- Да, ей-богу, не я! Вонифатьич главный тать. Кснятин Серославич тож. Чаргобайка да Святополчишка…
- Цыц! Молчать! Лишь бы отвертеться. Не умеешь ни выигрывать, ни проигрывать. Извиваешься, будто уж! - Кочергой закрыл дверцу печки. - Убивать я тебя не стану. Слишком много чести. Убирайся в Болшев и живи, как барсук в норе. Под охраной, под караулом! И пределы дворца покидать не смей.
- А охота? Прогулки? - жалобно спросил тот.
- Никаких прогулок. Ты мой узник. И не вздумай порываться бежать: вот тогда милостей не жди.
Сын склонил голову и стоял убитый.
- Всё, ступай, - приказал отец. - Нет, постой, я хочу сказать кое-что ещё. Мной подписан указ, по которому, в случае моей смерти, править будет Олег. В случае его смерти - твой законный сын Ярослав-Василий, опекуншей которого назначается Болеслава. Я тебе отказываю в наследстве при любых обстоятельствах.
Страшно побледнев, отпрыск закричал:
- Лучше б ты убил меня, отче! Осмомысл криво усмехнулся:
- В этом и состоит моё наказание. Вот теперь иди. - Проводив его взглядом, глухо проворчал: - Олух Царя Небесного. Нет, моя надежда - Олег.
Характерно, что раздавленный горем Владимир, уезжая в Болшев, даже не проведал сына и жену. Впрочем, и она не хотела бы встретиться с мужем. Что сказать ему? Что давно любит Осмомысла и уже полгода, как его наложница? И с тех пор ни разу не ходила на исповедь, опасаясь признаваться в грехе? Ведь узнай подобную новость супруг, или духовник, или кто-то ещё, снова князя будут мазать грязью, называть «снохачом», распутником и грозить отлучением - от престола и Церкви. Лучше уж молчать. Сохранить в себе.
Да, она любила его давно, не решаясь признаться даже себе. Уважала, восхищалась взглядами галицкого князя, образованностью, умом. Слушала советы. И завидовала Настасье - но не потому, что хотела оказаться на её месте, а вообще, в принципе, - что у той такая красивая, яркая любовь, поклонение такого неординарного мужа; а в её, Болеславовой судьбе, нет подобного человека. И, наверное, никогда не будет.
Тут случились события осени 1173 года. Ярослав остался один, победивший врагов на деле, но разгромленный внутренне - без любимой женщины, без семьи, без друзей. И тогда Болеслава протянула ему руку помощи, сделалась его любящей дочерью, сестрой и поклонницей. Управляла всем дворцовым хозяйством. Хлопотала о еде и напитках. Иногда, по особо секретным делам, выполняла обязанности писаря. И заботилась об Олеге, о его занятиях. Сделалась незаменимой для Осмомысла. И однажды летом, жарким июльским вечером, стоя на крыльце и любуясь звёздами, услыхала, как он вышел из палат и остановился бок о бок. Ласково спросил:
- Что, красиво, да? Болеслава кивнула:
- Дух захватывает порой. Мироздание! Бездна! Чувствуешь себя мелкой блошкой по сравнению с ними.
Князь ответил:
- Мы и есть блошки, муравьи, таракашки. Строим из себя всемогущих, пыжимся, кричим. А на самом деле - пыль. Никому не нужны на свете, кроме нас таких же, брошенных в этот мир. - Повздыхав, продолжил: - Копошимся, убиваем себе подобных, мучим друг друга. А в финале что? Чёрная могила, мрак и небытие.
- А загробная жизнь? Ты в нея не веришь? Галицкий правитель помотал головой:
- Я не знаю. И никто не знает. Я про эту, земную юдоль. Странно всё, если разобраться. Кто мы суть? Боги или звери? И чего в нас больше - духа или плоти? Отчего боимся мы жизни духа, подавляем его вином и дурманом, чтоб побыть зверьми? Зверем быть проще. Голос плоти примитивнее голоса духа…
- Бог вдохнул в нас душу…
- Для чего? В тленной плоти нетленная душа? Сознающая, что её плоть должна погибнуть? Дух, живущий во плоти, каждодневно питающейся другой плотью - мясом, рыбой, растениями? Как сказали бы греки - парадокс ! Мы едим говядину, а коровы едят траву, а трава растёт на навозе, на останках иных животных, насекомых, червей… Стало быть, питаемся падалью? Мы, сосуды души, созданные по Образу и Подобию? Как сие понять?
- В чём же смысл нашей жизни, княже? - трепетно спросила она.
- Каждый решает для себя. Я считаю так: надобно понять, кто ты в этом мире, для чего пришёл, осознать своё место и не рваться занять чужое. Смысл - в гармонии данного тебе Богом и твоими поступками. Потому как гордыня у букашки-таракашки смешна. «Бо из праха вышли и во прах уйдём»! Смысл жизни - в простоте и любви. В помощи друг другу. Коли так случилось, что мы родились, что без нашего спроса оказались мы в сём безжалостном земном царстве, наш священный долг помогать таким же, как мы, несчастным не пропасть до срока. Остальное, как сказано в Екклезиасте, «суета суетствий».
Посмотрев на него снизу вверх, та взволнованно прошептала:
- Я тебе помогу. Я твоя.
Он приобнял её за талию и прижал к себе:
- Девочка моя золотая… Это невозможно. Ты моя сноха. Стало быть, как дочь.
Но она продолжила:
- Дочь, сестра, жена. Я желаю быть всем для тебя. Дабы ты не чувствовал себя одиноко в сём безжалостном земном царстве.
Осмомысл поцеловал её в щёку:
- Любушка-голубушка… Нет, нельзя, нельзя.
- Знаю, что нельзя. Но каков мой брак? Лишь одно название. Да и твой не лучше. Отчего же мучить себя глупыми запретами? И бояться подарить себе хоть частицу счастья?
- Ты смущаешь меня.
- Я сама в смятении. Но моя любовь выше всех преград.
Взяв её за плечи, заглянул в глаза:
- Славушка, родимая! Да неужто любишь?
- До беспамятства, княже, до самозабвения.
- Хочешь быть моею?
- Я твоя раба.
Он сомкнул объятия и затрясся, плача. Испугавшись, она спросила:
- Ты не рад? Я тебя задела? Ярослав, рыдая, ответил:
- Ничего, ничего… Пустяки… Просто не ожидал… что ещё найду родственную душу…
- Значит, таково расположение звёзд…
Так они сошлись, несмотря на статус и большую разницу в возрасте - двадцать лет. Привязались друг к другу сильно. И старались скрыть от окружающих эту криминальную связь. Но известно: шила в мешке не утаишь…
В Торческе узнали осенью 1174 года. Ольга Юрьевна, поражённая этой вестью, долго не могла успокоиться, проклинала мужа и всё время спрашивала брата, Всеволода Юрьевича:
- Как сие возможно? Как земля ещё его терпит?
Погруженный в свои заботы, молодой человек отвечал невнятно:
- Да, нехорошо… Не уйти ему от кары Господней…
- В Галич не вернусь боле никогда! - объявляла княгиня. - Можно мне с тобой поселиться, в Суздале? На родной сторонке?
Он не возражал:
- Сделай милость, сестрица. Буду очень рад, коль поедем вместе. И живи сколь захочешь. Я люблю большую семью…
Дело было вот в чём. Святослав Всеволодович Черниговский - Болеславов отец - сделался в то время князем великим киевским. До него стольный град много раз переходил из рук в руки, посидели в нём и смоленские князья, и суздальские, постоянно ведя взаимную войну; наконец 29 июня 1174 года в Боголюбове был убит глава рода Долгоруких - Андрей Юрьевич Боголюбский. И, воспользовавшись сумятицей, при поддержке «чёрных клобуков» Святослав занял главный трон на Руси.
Чтобы примириться с суздальцами, он женил старшего своего сына на дочери Михаила Юрьевича и позволил Всеволоду Юрьевичу возвратиться в родную вотчину. Тот как раз и ехал, глядя в зиму 1175 года.
- Ну, а мне как быть? - хныкала Поликсения. - Мне к кому прибиться с малыми ребятами?
Ольга успокаивала её:
- Ничего, как-нибудь уладим. У меня есть одна задумка. Напишу-ка Яшеньке. Мы найдём управу на Ярославку!
И действительно. Вскоре Осмомыслу привезли из Болшева грамоту. Сын ему сообщал, что извёлся от одиночества, но согласен впредь стойко переносить муки заточения, если Болеслава к нему приедет. Ведь она супруга! Разлучать жену с мужем не по-христиански!.. Впрочем, продолжал княжич (судя по всему, наученный матерью), зная кое-какие детали жизни галицкого кремля, он вполне понимает, что родитель не отпустит сноху от себя; пусть тогда хотя бы позволит возвратиться поповне. И в таком случае обе стороны разойдутся с миром…
- Негодяй, - вышел из себя отец, - он пронюхал о нас с тобою и теперь играет на сём! Я велю бросить его в яму!
- Успокойся, княже, - ласково смотрела на него Болеслава. - И не обостряй. К чему? Он ея любит, и у них детишки. Разреши Поликсении возвернуться. Так для всех будет лучше.
Ярослав смягчился и уступил:
- Да, права, права! Мне, живущему во дворце из стекла, грех бросаться каменьями. Ты мой добрый ангел. Что бы я делал без тебя! - И отдал распоряжение: - Подготовь, голубушка, грамоту Володимеру. С положительным ответом на его просьбу. Ну, да ты сама знаешь. Я ея подпишу.
Так поповна приехала в Болшев, а сестра и брат Долгорукие возвратились в Суздаль. Вроде бы конфликт был исчерпан. Но внезапно вспыхнула ссора на другой стороне: Игорь Святославич Новгород-Северский (Осмомыслов зять) окончательно повздорил с нынешним киевским князем Святославом Всеволодовичем. Эта распря навсегда вошла в русскую историю - породив собой «Слово о полку Игореве».
3
Фросина семейная жизнь складывалась неплохо. Выйдя замуж в 1165 году, родила за десять лет пятерых детей. Старший, Владимир, был похож на неё (и одновременно - на деда, Осмомысла) - тихий, вдумчивый, аккуратный; хорошо учился и невероятно любил древние сказания, старые гимны; обладая замечательным музыкальным слухом и приличным дискантом, с наслаждением пел под гусли разные былины, удивляя всех. «Будет новым Бонном», - ласково пророчили слышавшие его. Он смущался и убегал. Но в душе лелеял мечту - сочинять красивые песни. Даже делал первые опыты - а потом говорил, что они чужие якобы слышанные от дворни. Игорь в восхищении верил, а зато Ярославна догадывалась: дело тут нечисто, но высказывать сомнения не хотела, не желая вгонять сына в краску.
Следующим ребёнком был Олег, на три года младше Владимира. Названный в честь Олега Гориславича, основателя клана Ольговичей, он и унаследовал семейные черты Игорева рода: вспыльчивость, капризность и властолюбие. В драку лез без сомнений. А когда боролся, портил воздух с такой силой, что противник тут же поднимал лапки кверху, лишь бы побыстрее унести ноги с поля боя.
Третьим родился Святослав, получивший имя деда по отцовской линии. Года в два его напугала здоровенная сторожевая собака, и с тех пор мальчик заикался. Но когда пел, подражая старшему брату, то не дёргался и произносил согласные плавно.
Наконец на свет появилась девочка, и её в честь бабушки нарекли Ольгой. Впрочем, по счастью, ни в характере, ни во внешнем облике Долгорукие в ней не проявились: худенькая, бледненькая и невозмутимая, дочка Ярославны большей частью молчала и вела себя смирно, скромно, подчиняясь взрослым без возражений.
Пятым стал снова мальчик - Ростислав. Игорь не знал о давней влюблённости Фроси в сына Берладника и, когда она предложила это имя, не почувствовав подвоха, согласился. Карапуз чуть не умер от лихорадки в полтора года, но, как говорится, Бог миловал, и малыш рос вполне здоровым, радуя родителей беззаботностью нрава.
Мать едва успевала с ними, пятерыми, справляться, несмотря на многочисленных нянек. Няньки няньками, а она хотела уделить каждому больше ласки, нежности и внимания, квохтала над ними, как заботливая наседка. А тем более что отец, обожая своих детей и гордясь женою, занимался больше политикой, отношениями с соседями, тяжбами, раздорами, войнами. В Новгороде-Северском появлялся от случая к случаю, непрестанно с кем-то сражаясь.
Помогал смолянам и суздальцам в их борьбе против волынян за киевский трон. С Боголюбским братался, а со Святославом Всеволодовичем (собственным двоюродным братом!) постоянно был на ножах. Но порой мирился и с ним, выступая заодно против половцев. А порой вместе с половцами нападал на русских князей-соседей…
Как мы знаем, половецких ханов тоже было много. Часть из них вела более оседлый образ жизни (берендеи, турпеи, ковуи), а другие кочевали и устраивали набеги на Русь. (Что, однако, не мешало им, в промежутках между набегами, выдавать своих дочек за русских князей.) Во второй половине 70-х годов ряд кочевых племён слился под началом хана Кончака. Войско его стало очень сильным, боеспособным; в Византии был закуплен «греческий огонь» вместе с метательными орудиями, а ещё нападавшие половцы применяли огромные луки-самострелы на телегах (тетиву каждого из них приходилось натягивать до пятидесяти воинам вместе). И однажды, в союзе с Кончаком, Игорь ходил на Киев, где тогда правил Рюрик Смоленский. «Чёрные клобуки», поддерживавшие Рюрика, приняли первый удар на себя и, не выдержав натиска, побежали. Но тогда смоляне-киевляне дали главный бой под городом Долбском и разбили половцев в пух и прах. Игорь уцелел чудом, впрыгнув в лодку убегавшего по реке Кончака.
А когда на киевском троне оказался Святослав Всеволодович, он призвал Игоря под свои знамёна против половцев. Общерусский поход намечался в конце марта 1184 года: ратники плыли на челнах-надсадах, конница же шла берегом. Ждали Игоря с новгород-северской дружиной, но она не пришла… Святослав Всеволодович, обозлясь, подумал, что двоюродный брат - предатель и не хочет биться против прежнего своего союзника. Игорь же оправдывался тем, что была весна, гололёд и его конница не смогла вовремя пройти к месту сбора русского ополчения… В общем, обошлись без него. Поражение половцев оказалось грандиозным: пленены 7 тысяч воинов, в том числе 417 князей, среди них - Кобяк и два его сына, Башкорд, Корязь и тесть Кобяка - Турундай. Захватили также осадные луки-самострелы и, как указывает летопись, «бусурманина, сведущего в стрельбе живым огнём».
Ну, а что же Игорь? То ли позавидовав шумному успеху Святослава, то ли в доказательство, что он не предатель, а Кончак ему больше не союзник, год спустя решил выступить один, небольшими силами, с братом Всеволодом и двумя старшими сыновьями… Но об этом - чуточку ниже. Надо предварительно рассказать, как случилось, что в поход провожали Игоря не только Евфросинья-Ярославна, но и её родной брат Владимир-Яков…
4
Ольга Долгорукая умерла в женском монастыре в Суздале в феврале 1183 года.
Поселившись в доме младшего брата, Всеволода Юрьевича, помогала его молодой жене в воспитании маленьких детей - та была беременна постоянно и рожала практически каждое лето. Многим из племянников тётка стала крестной матерью. Но потом заболела неизлечимой женской болезнью, и однажды ночью ей привиделся ангел, возвестивший: если она пострижётся в монахини, хворь отступит. Ольга так и сделала, несмотря на протесты брата; но недуг не прошёл, и княгиня галицкая отдала Богу душу, не дожив трёх дней до Великого поста.
Погребли её на кладбище той же обители.
А когда скорбное известие докатилось до Болшева, княжич горько плакал, проклиная судьбу, что не смог с матерью проститься. Даже написал грамоту отцу, где просил отпустить его ненадолго в Суздаль - поклониться свежей могиле и поставить свечи за упокой. Осмомысл ответил, что поставить свечи можно и дома, а могилам кланяться нечего, если ты лиходей и сидишь под охраной.
Это шёл уже восьмой год пребывания Якова в качестве арестанта. И теперь он не снёс обиды.
Хорошо разговевшись в ночь на Пасху, угостил караульных с княжеского стола - загодя подсыпав в вино сонный порошок. Тех сморило быстро. Ольгин сын усадил в повозку Поликсению и детей, сел на облучок и погнал из Болшева на север - в сторону Волыни. Православные праздновали Пасху, и никто не заметил их пропажи.
Ярослав узнал о бегстве через сутки. В первое мгновение он вспылил и велел высечь всю охрану. Во второе - вызвал Миколу Олексича, чтобы тот бросил добрых молодцев по пятам преступников. В третье - успокоился, отменил предыдущие указания и махнул рукой: «Да пускай катится на все четыре стороны. Этот пьяница и блудник мне не страшен. Ничего не может, ни на что не способен. Станет жить как знает».
Между тем беглецы пробирались во Владимир-Волынский. В светлое время ехали, ночевать набивались в монастыри по дороге. И на третий день добрались до цели. Но Роман Мстиславич, князь волынский, не желая портить отношения с Осмомыслом, их не приютил. Посоветовал вернуться домой, помириться с тятенькой, а спустя, скажем, три-четыре года, засылать сватов - чтобы поженить княжича Василия с дочерью Романа - Феодорой. Обозлись, Яков ничего не ответил и поехал дальше - в город Дорогобуж, где сидел двоюродный брат Романа - Ингвар Ярославич. Тот, узнав о приезде опального галичанина, да ещё с любовницей и побочными детьми, моментально сказался хворым и не вышел даже навстречу. Отдохнув на постоялом дворе, бедные изгнанники потащились в Туров на Припяти, к давнему приятелю - Святополку Юрьевичу.
Прежний союзник сильно изменился. Похудел, усох и передвигался на деревянной ноге с трудом, постоянно морщась от боли. Появлению княжича и поповны с ребятами не обрадовался ничуть. А наоборот, начал вспоминать старые обиды: как могло случиться, что ворота Галича не замкнули перед войском Избыгнева Ивачича, кто виновен в сём? Скрежетал зубами и кричал, хрипя: «Мы могли бы выстоять, сохранили бы город, я бы не лишился ноги!» Разговаривать с ним было бесполезно. А тем более - жаждать поселиться под одной крышей и обречь себя на бесчисленные попрёки. Беглецы предпочли уехать побыстрее.
Двинулись тогда в сторону Смоленска - там ведь жил Чаргобай, тоже давний товарищ по сражениям за галицкий трон, и Давыд Смоленский, не любивший Владимирова отца. Но и тут ситуация повторилась: князь навстречу не вышел, а Берладников сын появился рассерженный, неприветливый, весь в своих заботах. Говорил со злостью: дескать, сам живу на птичьих правах, предоставить кров не могу без указа повелителя, а ему до вас дела нет.
Что ж, тогда оставалась одна дорога - в Суздаль к Всеволоду Юрьевичу. Слава Богу, солнце припекало по-летнему, грязь подсохла и болота реки Москвы можно было по гатям пересечь безбоязненно. Да и дядя встретил племянника лучше остальных: обнял, расцеловал и посетовал: «Горе-то какое - Ольгушка преставилась. Царствие ей Небесное! Хоть и своенравная была женщина, но сердиться долго не умела и добром отвечала на добро. Бог ея и взял - не иначе как в райских кущах ныне пребывает». - «Мучалась бедняжка перед смертью-то? » - спрашивал Владимир. «О, вельми! Исхудала вся, почитай что кожа да кости. Чёрная лицом. Но молилась истово, и в глазах просветление великое. Всех простила нас. И тебя особо. Кроме Ярослава. Даже на краю разверстой могилы не желала забыть обиду». - «Оттого что любила сильно». - «И любила, и ненавидела, у таких натур, сильных духом, это всё едино».
Княжич посетил монастырь, постоял и поплакал у креста, на котором значилось имя матери с датами её жизни, исчисляемыми не от Рождества Христова, а от Сотворения Мира, как тогда было принято. Заказал заупокойную службу и поставил свечки. А затем напился до такой степени, что, себя не помня, приставал к беременной жене Всеволода, делая ей гнусные предложения; та едва отбилась.
Протрезвев и узнав, что сиятельный дядя в гневе и желает скорейшего отъезда племянника, попытался исправить положение и молил о прощении. Но наследник Юрия Долгорукого изменять волю не хотел. Надо было покидать Суздаль.
Погрузились в возок в середине мая. Миновали город Владимир, отдыхали в монастыре Иоанна Предтечи на реке Москве у села Коломны, а затем перебрались в Тулу. Здесь застряли на две недели, так как заболел Гришка, и, остановившись в доме приходского священника, ждали выздоровления одиннадцатилетнего мальчика. Наконец в середине июня поскакали дальше - мимо Мьченска (ныне - Мценска) и Севска до реки Десны. Там-то и стоял Новгород-Северский, где жила сестра Фрося с мужем - князем Игорем. «Коли уж она мне откажет, ехать дальше некуда, - сокрушался Яков. - В Киеве тесть мой, Святослав Всеволодович, видеть меня не с собственной дочкой, Болеславой, а с другой женой не захочет. А к отцу в Галич не вернусь ни за какие коврижки. Лучше головой в реку!» - «Ох, несчастные мы, разнесчастные, - плакала Поликсения. - Всё кругом христиане, а никто не подаст руку ближнему». Княжич усмехался: «Да какие мы христиане! Многоженцы, язычники… Ничего святого. Вот нас Бог и не жалует».
Впрочем, опасения не сбылись: Ярославна при виде брата с криком радости бросилась его обнимать, тискать, целовать, и детей облобызала, как собственных, и поповну приветствовала по-родственному. Так сказала: «Можешь оставаться, сколько ни захочешь. Мой дом - это твой дом. В честь тебя мы назвали первенца. Вы наверняка с ним подружитесь. Ну, а с Ксюшей мы сойдёмся по-бабьи, и она мне поможет с малыми моими ребятками». (Фрося родила ещё и шестого отпрыска - мальчика Романа, и ему уже шёл пятый год.)
Игорь тоже отнёсся к шурину неплохо. Нет, скорее, просто безразлично: он был озабочен будущим походом на Кончака, а поскольку Яков ничего не смыслил в военных делах, сразу потерял к нему интерес. Если Фросе по сердцу, пусть живёт, не жалко. Лишь бы не мешал.
А Владимир действительно очень хорошо отнёсся к тёзке-племяннику. Несмотря на близкое восемнадцатилетие, тот пока ходил холостым и готовился переехать в Путивль - вотчину, выделяемую ему отцом. Игорь обещал: «Сходишь со мной в поход, ратного духу понюхаешь, переломишь копьё на краю поля половецкого, выпьешь донской воды из шелома - станешь настоящим мужчиной. А тогда женишься и вступишь во владение собственным наделом». Юноша со всем соглашался. Он по стати напоминал Осмомысла - тонкокостный, высокий, с удлинённым лицом. Но славянская северская кровь сделала его ярче, колоритнее - рыжеватые вьющиеся волосы, не усы и не бородёнка, а пока редкая щетина, изумрудно-зелёные радужки глаз. Улыбался, как Фрося, - ясно и немного застенчиво. «Не страшишься похода-то?» - спрашивал его дядя. «Так, слегка, - отвечал он правдиво. - Интерес превышает страх. Стану при отце летописцем. И сложу песнь о его победе над степняками». - «Ну, а как степняки вас побьют?» - дружески подтрунивал Яков. «Быть того не может, - обижался молодой человек. - Мы наследники ратной славы предков. Поражения не допустим. Примем смерть от врага, но не побежим!» - «Ну, дай Бог твоими устами мёд пить», - искренне желал родственник.
Игорь брал с собой и второго, четырнадцатилетнего Олега. Выразили желание также примкнуть к кампании: Всеволод - Игорев родной брат, князь трубчевский и курский; Святослав - Игорев племянник, князь рыльский; а ещё - черниговские ковуи под началом Ольстина Олексича. Сам поход был намечен на конец апреля 1185 года.
5
Холостым оставался и другой молодой человек, нам не безызвестный, - галицкий бастард Олег Настасьич. К двадцати четырём годам превратился он в хорошо развитого мужчину, рослого, широкоплечего, с пышной каштановой шевелюрой и короткой, но густой бородой. Говорил рокочущим басом, а смеялся, как покойная Настенька, звонко и заливисто.
Не имея склонности ни к чему особенно, занимался всем понемногу - и скакал на лошади мастерски, и умело орудовал саблей, и со ста шагов попадал стрелой в яблоко; вместе с тем владел тремя иностранными языками (половецким, греческим и венгерским), изучал древних авторов, мог вести богословский спор; петь не пел и на гуслях не играл, но в народных танцах был большой мастак и плясал на чужих свадьбах залихватски. Только вот своей свадьбы не спешил справить. И не то чтобы он чурался женского пола (потерял невинность лет в пятнадцать и водил к себе девушек из дворни довольно часто), но венца избегал всячески. А отец не настаивал: знал, что женитьба без сердечной склонности ни к чему хорошему не приводит. Осмомысл вообще очень трепетно относился к младшему сыну, пережившему в детстве страшное потрясение - Настенькину смерть на костре, - и боялся его обидеть хоть словом, хоть делом. Баловал, конечно, но в меру.
И Олег обожал родителя, а ещё - тётку Болеславу, заменившую ему мать, и наставника Тимофея, от которого не имел секретов. И когда Тимофей однажды сказал: «Батюшка тебя к столу просят», - попросту велел:
- Да наври что-нибудь. Словно голова у меня разболелась и лежу, отдыхаю. Не хочу обедать. Переел малины, аж живот трещит.
- Нет, никак нельзя не ходить, - возразил слуга. - Бо у князя гости. Хочет познакомить тебя.
Княжич недовольно поморщился:
- Кто такие?
- Так покуда ты шастал по малинникам, аки мальчуган желторотый, прибыла твоя троюродная сестрица Иоанна с детями.
Он попробовал вспомнить:
- Иоанна, говоришь? Это из каких же?
- Незаконная дочь Ивана Берладника, пусть ему земля будет пухом. Близкая подруга маменьки твоей. Вместе они учились в монастырской обители в Василёве.
- Те-те-те, мне она говорила - точно! Жили под одной крышей в Царе-граде.
- Вот оттеда она и следует. К брату своему Чаргобайке, во Смоленск.
Молодой человек нахмурился:
- К этому паскуднику? Я его участие в гибели моей матушки хорошо знаю. И сестрица небось такая же. Не желаю видеть!
- Да при чём тут одно с другим? - продолжал спорить Тимофей. - Женщина приличная и благообразная…
- …все они, Берладники, одним миром мазаны! Не хочу!
- …а уж дочка у нея раскрасавица - ни словами сказать, ни пером описать, - я таких никогда не видывал.
Юноша взглянул на наставника с любопытством:
- А не брешешь? Хочешь заманить меня на обед под таким предлогом? Поклянись, негодник!
Тот перекрестился:
- Не сойти мне с этого места!
- Да чего ж такого в ней красивого, объясни?
- Всё красиво. Стройная берёзка. Волосы - как смоль. А глаза - точно васильки. Губки - вишенки, кожа побелее лебяжьего пуха. Нос прямой, как у папеньки ея.
- Папенька-то кто?
- Нешто ты не знаешь! Давний твой знакомец - грек Андроник Комнин, бывший императором, а теперь покойный.
- Да ведь он маменьку увёз! - чуть ли не подпрыгнул Олег. - Я его помню смутно: борода курчавая да орлиный взор… Леший его возьми!
- Взял ужо недавно.
- Так ему и надо, распутнику. Нет, представь, Тимофеюшка, кровь какая у этой девки: смесь Берладника и Андроника! Обожжёт «греческим огнём»! Нет, не выйду. Ни за что не выйду. Можешь не просить.
- Ну, как знаешь, княжич. - Тимофей повернулся к выходу из клети. - Токмо неудобно. Кто бы ни были, всё же гости.
- Тоже мне, подумаешь! Гости не мои, а отцовы. - Посмотрел, как слуга удаляется, и в последний момент спросил: - Лет-то этой девушке сколько?
Усмехнувшись, наставник проговорил:
- Чай, не маленькая ужо. Думаю, что двадцать.
- И не замужем? Как такая прелестница может быть не замужем?
- Ты ж, такой прелестник, не женатый пока?
- Я - другое дело. Я вообще - мужчина! Нам жениться не поздно никогда. Женщинам - другое, им рожать пристало.
- Ну, так что - поглядеть пойдёшь? Вроде нехотя, молодой человек поднялся:
- Ох, разбередил ты мой интерес. Так и быть, взгляну. Но учти, голубчик: коли ты солгал насчёт красоты, я тебя побью.
- Поступай как хочешь. Токмо несомненно: ты ещё мне «спасибо» скажешь!
В гриднице сидело княжеское семейство: Осмомысл во главе стола, сильно поседевший за последнее время и с большой белой бородой, с диадемой на голове; справа от него - Болеслава и её единственный отпрыск Василий Яковлевич, худощавый подросток лет тринадцати, маловыразительный, молчаливый; слева - кое-кто из бояр, вновь назначенных Ярославом на важные должности после событий 1173 года. Наконец Олег увидел гостей: невысокую полноватую даму с голубыми ясными очами и действительно необыкновенно яркую, вызывающе красивую девушку; рядом с ними сидели отроки - девочка и мальчик. Княжич поздоровался, приложив руку к сердцу.
- Вот и младшенький, - улыбнулся князь. - Что, похож на Настю?
Янка рассмотрела его придирчиво:
- Да не так, чтобы очень сильно. Губы, цвет волос…
- От меня - лоб высокий да глаза… Тоже не один в один… Ты в кого ж такой уродился, сыне?
Молодой человек с ходу пошутил:
- Ни в кого: самородок я!
Гости засмеялись, а красавица удостоила его продолжительным взглядом.
- Но зато моя Зойка - вылитый Андроник, - сообщила дама. - И с таким же норовом: никого не слушает. Столько женихов было - всех отвергла. При такой-то пригожести засидеться в девках грешно!
- Да, пора, пора, - с некоторой игривостью поддержал галицкий владыка. - Ну, так мы жениха ей сыщем. Вот хотя бы Олежка: чем жених плохой?
Юноша, усевшийся рядом с Болеславой, укоризненно ответил отцу:
- Что ты, тятя, право! Не смущай гостей. Им ведь неудобно тебя обидеть, хоть и в мыслях не держат выдавать Зою за меня.
Неожиданно Янка заявила:
- Ты напрасно так думаешь, милый. Если дочка не станет против, я почту за честь породниться с князем галицким и с любезной моему сердцу Настенькой - Царство ей Небесное!
Ярослав спросил:
- Ну, а что невеста?
Было видно, что девушка взволнованна, но ответ свой произнесла без запинки и обычного в таких случаях прысканья в ладонь; только голос немного дрогнул, да и русская речь ей давалась непросто - мыслила по-гречески, а потом переводила в уме:
- Коль Олег мне сделает предложение, как положено, я, возможно, приму его с благосклонностью.
Все присутствующие одобрительно загудели.
- Слово за наследником, - развивал наступление на сына отец.
Тот сидел с красными ушами и смущённо водил ложкой по тарелке:
- Это всё внезапно… Не готов сказать…
Вдруг его перебил племянник - Болеславов Васька; петушиным ломающимся голосом он воскликнул:
- Да чего жеманишься, точно баба? Счастье в руки лезет! Я б и сам женился на ней, будь слегка постарше!
Гости грохнули дружным смехом. Виновато подняв глаза, княжич произнёс:
- Дайте хоть обмолвиться с нею несколькими словами. Мы ж совсем не знаем друг дружку!
- Что ж, обмолвитесь, это правильно, - согласился князь. - Янка погостит у нас до конца недели. Время есть у вас.
Было бы неплохо молодым отправиться на прогулку - там и поболтать; но осенняя погода не позволяла, зарядил непрерывный дождь, и соваться из дворца не хотелось вовсе. И тогда Олег выбрал библиотеку родителя: пригласил дочку Янки посмотреть на старинные фолианты в кожаных переплётах, многие окованные железом. Полки занимали три стены снизу доверху, и любитель чтения мог бы впасть в экстаз от такого богатства. Девушка действительно изумилась, хлопала ресницами:
- О, да здесь, я смотрю, лучшие греческие авторы… богословы и знатоки римского права… Сочинения Анны Комнины, эпистолография!..[27] А вот это что? - указала пальчиком на другой стеллаж.
- Латиняне и древние иудеи. Чуть повыше - половецкие и варяжские руны. И совсем наверху - руны руссколанские.
- Не слыхала про них.
- И немудрено: Церковь не одобряет чтение по-язычески, до кириллицы. И почти все пергаменты уничтожены. Кое-что сохранилось чудом. Например, «Велесова книга» и «Волховник».
- Магия, наверное? - испугалась та.
- В том числе и магия… Знаешь, что матушку мою на костре сожгли как колдунью?
- Да, мне говорили. - Зоя перекрестилась. - Страх Господень! Нешто это правда и она колдовала?
- Нет, конечно. Недруги ея опорочили. Те, которые желали тятеньку сместить… Но тебе признаюсь: у меня бывают моменты, вроде просветления, и могу точно угадать, что произойдёт в следующий миг. Колдовство ли это? Не ведаю…
Улыбнувшись, византийка спросила:
- А сейчас предскажи, что произойдёт в следующий миг? Улыбнувшись в ответ, он кивнул:
- Предскажу наверное.
- Что же?
- Я тебя поцелую. - Быстро привлёк девушку к себе и как будто бы отпил с жадностью из её уст.
Зоя отстранилась рассерженно:
- Вот ещё, придумал! Сам хотел вначале поговорить…
- Я и говорю: будь моей супругой!
- Ну, ты распалился, дружочек! - засмеялась она. - То не мог глаз поднять, на меня посмотреть в упор, а теперь погнал лошадей галопом! Нет, давай постепенно… Почитаем книжки, поведём умную беседу… Говорите ли вы по-гречески, сударь? Как относитесь к мистической теологии и возможности высшего познания?
Молодой человек вспылил:
- Не дразни меня! Книжки почитаем потом. Выйдешь за меня - сможешь приходить сюда каждый Божий день. Стать хозяйкой во дворце и во всём нашем княжестве. Я - наследник папенькиного престола! Сделаешься княгиней галицкой! Ну, согласна?
Дочка Янки сохраняла молчание и водила рукой по тиснёному корешку одного из томов. Вроде бы раздумчиво задала вопрос:
- Если соглашусь, твой отец выделит для маменьки и сестрицы с братцем городишко в кормление?
- Разве же она к Чаргобайке не едет? - удивился Олег.
- Коли мы поженимся и мои родные обретут вотчину, не поедет.
- Надо потолковать с князем. Думаю, ответит согласием.
- Значит, потолкуй. При таком условии я пойду под венец. Он схватил её за руки:
- Зоинька, голубушка! У меня от счастья всё перед очами плывёт, словно бы напился вина! Подари мне ещё один поцелуй!
Но красавица увернулась:
- Больно ты шустёр! Погоди чуток. Нацелуемся мы ещё. - И, захохотав, быстро вышла вон, предоставив Олегу в одиночестве осознать сказанное и сделанное.
6
Войско князя Игоря вышло из Путивля во вторник, 23 апреля 1185 года. Город провожал ратников торжественно, с колокольным звоном, выносом из церквей икон и хоругвей. Рядом с князем ехали оба сына и его племянник, чуть поодаль - половец-ковуй Ольстин. Настроение было лёгким, праздничным. Пели песни, отпускали шуточки, балагурили. У Владимира Игоревича накануне болел желудок, он боялся, что в походе часто станет бегать под куст, вызывая улыбки прочих воинов, но живот вроде успокоился, только вялость в членах осталась и какая-то противная сухость во рту. Старший брат немного завидовал младшему, Олегу: несмотря на пятнадцать лет, тот как будто бы родился в седле, вёл себя уверенно и невозмутимо, правил конём умело, подпевал в полный голос, и отстёгнутая тетива лука колыхалась за его спиной легкомысленной ниточкой. А зато у Владимира точно камень лежал на сердце. Он пытался отвлечься, наблюдая природу, степь, зеленеющую после зимней спячки, вспархивающих дроф; а в мозгу всё равно всплывала картина: плачущая маменька, грустный дядя Яков - чуть хмельной, как всегда; братья и сестричка машут ладошкой вслед… Плохо расставаться! Скоро и земля русская закончится - за холмами уже будет половецкая, неприятельская, чужая… Да какие ж, с другой стороны, половцы чужие? Ведь его, Владимирова прабабка - половецкая ханша. И Ольстин - тоже половец, хоть и ковуй, союзник. И давно ль отец братался с ханом Кончаком, прыгал к нему в лодку? Только год назад. Для чего ж тогда это выступление, неминуемо несущее половцам и русским новые мучения, плен или даже смерть? Непонятно, странно. Вон былинные герои знали, для чего бороться. И Боян пел о них пусть и велеречиво, слишком многословно, растекаясь мыслью по древу, но зато справедливо, подобающе их подвигам. А какой может выйти гимн у Владимира об Игоревом походе? Да и место ли гимну здесь? Или даже песни? Может, и не выйдет вообще ничего хорошего, если они погибнут в сражении…
Не успели к 1 мая появиться на берегу Донца, не успело солнышко выйти из верхней точки, как его яркий диск начал вдруг темнеть, гаснуть, затухать, и кругом степь оцепенела, притихла, погружаясь в сумерки. Самая темь пришла в половине четвёртого пополудни. Ужас, недоумение! Ополченцы крестились и читали молитвы. Кое-кто бубнил: знак беды, знак беды! Не к добру помрачается Хоре Красно Солнышко. Лучше бы вернуться… Но потом темнота рассеялась, и опять золотые лучи светила брызнули на землю. От души вроде отлегло. Игорь заявил: сё не знак беды, а всего лишь предупреждение - «будьте начеку!». Вот соединимся с братом Всеволодом, и сам черт будет нам не страшен!
Ждали Всеволода два дня, стоя на берегу Оскола. Эту речку назвали в честь старинного киевского князя, убиенного Вещим Олегом (по-славянски - Оскол, по-варяжски - Аскольд). Та далёкая смерть означала захват Киева Рюриковой родней. Но не Рюриковичи подчинили себе полян и древлян, а древляне с полянами постепенно растворили собой варяжскую кровь, стали только крепче. Так что смерть Оскола и Дира не была напрасной. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним!
Дядя Всеволод прибыл со своей ратью вовремя. Был он таких же статей, что и братец Олег, - оба крепыши, чем-то напоминали диких быков, только дядя - заматерелый, ярый, а Олег ещё молодой, неокрепший бычок. Вместе двинулись дальше - к речке Сальнице. Думали застать половцев врасплох, но разведчики, высланные «для разгляда», возвратившись, сказали, что противники готовятся к бою, удалив подальше от становищ вежи[28], и оставили только воинов - лучников и конников. Шепоток пошёл между русскими: может, вернуться, пока не поздно, и не лезть на рожон? Но у Игоря честолюбие победило разум: лучше умереть, он сказал, чем покрыть себя позором! Эта мысль оказалась гибельной.
Впрочем, поначалу нападавшим вроде везло. Ехали всю ночь и к обеду следующего дня у реки Сюурлия встретились с неприятелем. Выстроились напротив половцев - шесть полков. В центре - Игорь, у него по правую руку - Всеволод, а по левую - Ольстин с ковуями и княжичем Владимиром. Первыми с обеих сторон действовали лучники - обменялись тучами стрел. Неожиданно степняки развернулись и побежали. Русские от изумления замерли, лишь ковуи начали преследование, и небезуспешно - взяли много добычи, в том числе и пленных. Вечером и ночью праздновали победу, а зря: войско Кончака применило излюбленный свой приём, усыпило бдительность, заманило врага на свои земли и уже рано утром бросилось в атаку. Что тут началось! Никакого боевого порядка, никаких красных стягов и белых хоругвей, общее невообразимое месиво. Падавшие кони давили пеших. Всадники рубились со звериными рыками. Груды окровавленных тел покрывали траву. И казалось, половцам несть числа: как у сказочного Змея Горыныча вместо одной отрубленной головы появлялись две новых, так и здесь - вслед за уничтоженными бойцами возникали новые, вдвое крепче прежних. Несколько суток пробивался Игорь с полками к Донцу, чтобы напоить лошадей и самим напиться, и не смог. Раненный в правую руку, он уже не сражался, только отдавал указания. Видя, что ко-вуи с Владимиром отступают, бросился за ними, даже шлем стащил с головы, чтоб его узнали, но предотвратить бегства не сумел. Ольстина убили, а несчастного княжича захватили в плен. Выручая его, Игорь пал с коня, выбившись из сил от потери крови; тут и его тоже окружили, потащили в шатёр к хану Кончаку. Всеволод, сражаясь, как былинный герой, был бессилен помочь им. Поражение оказалось чудовищным. Мало кто остался в живых. Вся кампания получилась самоубийственной, вздорной и нелепой…
А в шатре у Кончака спорили о жизни и смерти Игоря и Владимира: умерщвлять обоих, или только князя, или же оставить в плену? Громче всех кричал хан по имени Гзак; маленький и юркий, вылитая крыса, он махал кулачками и свирепо скалил длинные жёлтые зубы:
- Никакой пощады! Год назад в Киеве Святослав не помиловал хана Кобяка, тоже взятого в плен. Мы обязаны отомстить. Кровь за кровь!
Многие ему возражали:
- Поквитаться, разумеется, надо, но тогда казнить только Игоря. Сына мучить нельзя, от него опасности никакой.
Наконец последнее слово взял Кончак. Круглолицый, степенный, хан неторопливо огладил бороду и сказал:
- Добивать раненых - не в моих правилах. Надо побеждать в чистом поле, чтоб сражаться на равных, а лежачих не бьют. Трогать вьюношу тоже мы не станем. Пусть живёт у нас и выхаживает отца. А потом решим. Перед нами задачи посерьёзнее - отомстить Святославу Киевскому. И не только за Кобяка, но и за предков наших - ханов Боняка и Шарукана, погибших от русов. Я иду на Киев. Кто со мной?
Гзак ответил зло:
- Ты не хочешь внять моим доводам, я не хочу твоим. Если оба руса не заплатят нам жизнью, мы с тобой воевать заодно не станем, а пойдём отдельно. Одному мне больше достанется пленных - женщин и детей.
- Ну, как знаешь, хан, - отвечал Кончак неприязненным тоном, - но твоей кровожадности потакать я не стану. Войск у тебя немного, и решающего значения они не имеют. Можешь уезжать за своими пленными. Я отправлюсь к Переяславлю-Южному с собственными силами.
Ссора вышла крупная. Оба расстались молча и не пожелали друг другу удачи, как того требовал обычай. Эта размолвка повлияла на следующие события.
7
Весть о разгроме русских и пленении Игоря с Владимиром докатилась до Путивля к середине мая. Город находился в южной оконечности Новгород-Северского княжества, на реке Сейме, Фрося с братом Яковом и его семейством провожала отсюда сына и мужа в поход и ждала их возврата. А вернулся только Олег с тысяцким Рагуилом - бледные, измученные, потрёпанные. Услыхав о беде, женщина упала на руки Якова, и её с трудом привели в сознание; после этого она долго плакала и кляла судьбу, многие боялись за рассудок княгини. Но потом дочка Осмомысла постаралась взять себя в руки и сказала брату:
- Надо выручать княжича и князя. Кто поедет помочь им бежать?
Тот слегка растерялся и проговорил:
- Как сие возможно, сестрица? Храбрецов поймает первый же разъезд степняков. Это верная гибель.
Но безумная в своём горе Ярославна слушать не хотела:
- Я пошлю таких, кто не попадётся. Ловких да смекалистых, из ковуев-половцев! - Думала какое-то время, а потом воскликнула: - Есть один такой - Овлур. Он проворный гридь. Матушка его русская, а отец - ковуй. Настоящий витязь, а Десну переплывал в несколько саженок. Сватался недавно к дочке Рагуила, да ему отказали по причине его незнатности. Лучшего найти трудно!
Кликнули Овлура - он пришёл, смуглый, узкоглазый, чересчур серьёзный. Поклонился, спросил, что за надобность приключилась в нём. Фрося объяснила. Молодой человек стал ещё серьёзнее, но отказываться не стал, только пожевал нижнюю губу:
- Сколько дашь подручных?
- Впятером управитесь?
- Больше и не надо. Тут не силой придётся брать, но сноровкой. - И насупил брови, размышляя сосредоточенно.
Ярославна решила его умаслить:
- В случае удачи, Овлуре, я не поскуплюсь на награду! Гридь пробормотал:
- «В случае удачи, в случае удачи…» Я не за награду служу, матушка, мой свет, а за совесть.
- Тем не менее. Князь тебе пожалует болярство и просватает за тебя дочку Рагуила.
У него вспыхнули глаза:
- Да, награда достойная… За нея и жизнью рискнуть не грех!
Фрося покивала:
- Вот и с Богом. Я молиться стану за вашу удачу - днём и ночью.
Опустившись на правое колено, он припал к руке женщины и заверил:
- В чистом поле лягу костьми, но доставлю княжича и князя пред твои очи ясные.
Потрепав плечо витязя, Осмомыслова дочь сказала:
- Поспешай, дружочек. Медлить не должно.
8
А условия половецкого плена оказались для Игоря и Владимира несуровыми: их не держали взаперти, а напротив, позволяли ездить верхом и участвовать в соколиной охоте, вечерами сидеть у костра, слушать песни девушек и питаться не хуже, чем сам Кончак. Но при узниках постоянно находилась охрана - двадцать сторожей. И сбежать было невозможно.
Рана князя быстро затянулась под воздействием половецких бальзамов из степных трав. Пользоваться правой рукой он пока не мог, но довольно ловко управлялся левой.
У Владимира и вовсе жизнь повернулась удивительным образом. На охоте он заметил симпатичную молодую половчанку: та скакала верхом не хуже мужчин и свистала в два пальца, заложив их колечком под язык; иногда бросала на княжича любопытные взгляды. «Кто такая?» - показал на неё своему охраннику Фросин отпрыск. Тот прижал ладони к груди: «О, сиятельный рус! Разве ты не знаешь молодую ханшу Аюль, дочку нашего великого господина Кончака?» - «Дочка Кончака? - удивился он. - Как, без мамушек и нянюшек, без особой свиты?» - «А зачем бояться? Ведь никто не посмеет ея обидеть. Если вдруг отважится - вмиг получит секир-башка!» Юное дерзкое личико Аюль, стройная фигурка, серебристый голос - взволновали княжича. Он искал с нею встречи - и довольно быстро нашёл, побывав у ночного костра в степи, около которого пели и плясали девушки и парни, жарили барашка, пили кумыс и потешили друг друга страшными историями. Неожиданно Аюль сама к нему обратилась, протянув пиалу с молоком кобылы:
- А теперь пусть рус что-нибудь расскажет или споёт. Молодой человек с благодарностью принял напиток, опрокинул в себя, не поморщившись, вытер губы и произнёс:
- Я спою вам о моём знаменитом деде, галицком князе Ярославе, по прозвищу Осмомысл, что по-половецки значит «Сериз-кырлы».
- О, Сериз-кырлы! - засмеялась ханша. - Очень хорошо.
Юноша откашлялся и запел, как бы мы сегодня сказали, «а капелла»[29]:
- Как во граде во Галиче на высоком златокованом престоле восседает Ярослав, столь же мудрый, как Ярослав Мудрый, столь же всемогущий, как Рюрик! Он своими железными полками горы подпёр Унгорские, заступив дорогу королю Беле, затворив Дунай и Карпаты. Он грозит, если надо, Киеву, он грозит, если хочет, бусурманскому султану Саладину. Трудны были годы его. А особенно однажды, как болярство взбунтовалося, захотело князя известь, бросило его самого в темницу и сожгло на костре Ярославову ненагляду Настасью… Горькими слезами плакал Осмомысл. А потом поднялся, аки сам Сварог[30], и взмахнул перстами, аки сам Стрибог[31], и из одного его рукава заскакала конница - дети Сварожьи, а изо второго - рать побежала, внуки Стрибожьи. И побили смутьянов, и низвергли в Тартар.
И опять блистает князь на престоле, молится за потомков своих. Я молюсь в ответ за его здравие, моего дорогого деда, и горжусь, что течёт в моих жилах кровь его горячая, буйная!
Слушатели засвистели в знак одобрения. А молоденькая ханша сказала:
- Ты поешь, словно жаворонок в небе! Половецкие акыны - очень уважаемые у нас люди. И, должно быть, у себя на родине ты, Володимере, пользуешься всеобщей любовью?
Он смущённо ответил:
- Нет, на родине мало кому известно, что я пою. Только самым близким.
- Отчего же так?
- Для меня это развлечение, не боле. И тягаться с самим Бояном совестно.
- Ну, не скромничай. Можешь вполне считаться его наследником. Приходи к нам в круг завтра. Мы послушаем тебя с удовольствием.
Так у них завязалась дружба, вскоре переросшая в нечто большее. Ну, во всяком случае - у Владимира. Он влюбился в Аюль со всей страстью поэтической натуры и однажды признался в этом выздоравливающему отцу. Игорь поддержал его выбор:
- Вот вернётся из похода Кончак, я к нему пойду свататься. Отчего бы нет? Породниться с Ольговичами почётно. А коль так, мы из пленников превратимся в родичей хана. И тогда беспрепятственно возвратимся на родину - ты, понятное дело, с молодою женою.
Но подобному плану сбыться было не суждено: потерпев поражение под Переяславлем-Южным, хан вернулся рассерженным на всех русских, и ходили слухи, что на этот раз Гзак одержит верх и добьётся казни княжича и князя. Положение их заметно ухудшилось, им не разрешали кататься на лошадях и кормили более простой пищей. А однажды вечером, под покровом сумерек, Фросиному сыну передали записку от Аюль: «Тятенька желает выдать меня за Гзака. Я сего не желаю, я хочу за тебя. Сделай что-нибудь!» У Владимира голова пошла кругом. Побежав к отцу, он застал его тоже чрезвычайно взволнованным. Оказалось, из-за Донца тайно сюда пробрался гридь Овлур - предлагает бежать из плена этой ночью. Главное - пересечь реку: там стоят наготове кони. Князь вначале ответил отказом: мол, позор улепётывать, как трусливый заяц; но теперь, в свете предстоящей женитьбы Гзака и Аюль, пленников действительно могут умертвить, и побег выглядит уже благом. Игорь заключил:
- Собирайся, сыне. В полночь поползём. Неожиданно Владимир промолвил:
- Отче, я останусь. Тот вначале не понял:
- Как - останешься? Что ещё за речи? Сын сказал упрямо:
- Без Аюль я не вижу жизни. Или помешаю свадьбе с Гзаком, или с равнодушием приму смерть от руки безбожников.
Как ни уговаривал его князь, он стоял на своём. Но тогда и муж Фроси объявил наследнику:
- Значит, я останусь с тобою. Вместе победим или вместе погибнем. Как я посмотрю в глаза матери, если возвращусь без тебя? И не возражай!
- Стану возражать, - произнёс Владимир. - Ты вернёшься на Русь, обратишься к соседям, к Святославу Киевскому, - вместе нападёте на степняков и вернёте себе воинскую славу. Коль останусь жив - и меня спасёте. Ты Руси нужнее, чем я.
Ни о чём не договорились. Рассердившись, его родитель крикнул сгоряча:
- Леший тебя возьми! Не желаешь - не надо! Побегу один.
- Вот и слава Богу, - хладнокровно отвечал юноша. - Помолюсь за твоё спасение.
Перепив кумыса, в эту ночь охранники захрапели быстрее, чем обычно, предоставив пленных самим себе. Игорь приподнял полог вежи, слез с телеги и змеёй юркнул в ковыли. Облака то и дело закрывали луну, так что темень была приличная, прямо для побега. Новгород-северский правитель, пробираясь сквозь осоку возле реки, оцарапал скулу и кисть, но не обратил на это никакого внимания. Бултыхнулся в воду и поплыл что есть силы к противоположному берегу. Рана на руке сразу заболела. «Не хватало ещё утонуть посреди Донца, - промелькнуло у него в голове. - То-то же позор выйдет!» Стиснув зубы, продолжал грести, фыркая и сплёвывая. Наконец почувствовал песок под ногами. По-утиному крякнул - подал для Овлура условный знак. Тут же появились посланные Фросей ковуи. Мокрому князю сохнуть было некогда - быстро оказался в седле и сдавил пятками конские бока.
- Где же Володимер? - удивился Овлур.
Ничего не ответив, князь махнул рукой и понёсся в ночь. Вслед за ним поскакали другие гриди.
9
Справедливости ради надо отметить, что ни за какого Гзака выдавать дочку замуж хан не собирался. Это была маленькая женская хитрость. Ведь Аюль понимала, что Владимир с отцом может убежать - разумеется, без неё, - и тогда их брак точно не свершится. А она очень привязалась к именитому русскому, так красиво поющему собственные песни. И ладонь у него оказалась такая мягкая, явно без мозолей от меча или булавы, значит, никого не убил и не запятнал себя кровью половецкой. Как не захотеть за такого замуж?
И когда разнеслось известие, что владыка Новгорода-Северского скрылся один, без сына, девушка возликовала от счастья: получается, он её действительно любит! И отправилась говорить с Кончаком. Но момент выбрала плохой: тот не отошёл от недавнего поражения под Переяславлем, а ещё, как на грех, сбежал пленник, и пока неизвестно, смогут ли брошенные в погоню половецкие всадники отловить его снова. В общем, к появлению дочери отнёсся равнодушно.
- Знаешь, из-за чего Володимер остался? - обратилась она к нему.
- Потому что дурак, - отозвался хан. - Я теперь за голову княжича выкуп такой потребую, что придётся собирать и свозить богатства с половины Руси.
- Ты не сделаешь этого, - нагло сказала дочка.
- Как - не сделаю? Что ты говоришь?
- Он остался из-за любви. Я ему солгала, будто ты намерен выдать меня за Гзака, и прошу спасти.
Рассмеявшись, Кончак ответил:
- Я ж и говорю, что дурной. Сосунок. Сопляк. Как он мог бы тебе помочь, если б я задумал действительно породниться с Гзаком?
- Да какая разница - мог не мог? Главное, остался! Оттого, что не чает во мне души. Кстати, и я в нём тоже.
- Вот ещё - придумала!
- Да, люблю. И хочу выйти за него. Половец скривился:
- Выбрось из головы. Лучше уж за Гзака. Хоть и старый, да свой.
- Русич не чужой тоже - он праправнук хана Осолука. И со стороны Осмомысла тоже половецкая кровь. Только это второстепенно. Мы с ним заживём ладно, замечательней голубка и горлицы. Или ты не хочешь счастья собственной дочери?
Тот мизинцем поковырял в ухе, вытащил комок рыжей серы и стряхнул его на ковёр, выстилавший юрту. Буркнул озабоченно:
- Гзак меня не поймёт. И другие ханы возропщут с ним.
- Да подумаешь - Гзак! - взорвалась Аюль. - Лысый старикашка. Вредный мухомор. Как-нибудь сама разберусь, от кого мне рожать детей! И советов Гзака слушаться не стану.
Он взглянул на неё теплее:
- Необъезженная ты лошадка… Мастерица взбрыкивать… Володимирке достанется своенравная жёнушка…
Девушка хихикнула:
- Ничего, поладим, я думаю…
Вскоре сыграли свадьбу - по обычаям половцев, обводя жениха и невесту вокруг идолов («половецких баб»). А крещение Аюль и венчание в церкви отложили на более позднее время - ехать за ближайшим священником было далековато.
Глава третья
1
Евфросинья Мстиславна, бывшая венгерская королева, побывала у Папы Римского Урбана III в декабре 1185 года. Престарелый понтифик был серьёзно болен, не вставал с постели, и аудиенции пришлось дожидаться больше трёх недель. Тем не менее встреча состоялась. Высший иерарх Католической церкви принял её в библиотеке, сидя за столом над раскрытой книгой. Поднял голову в белой шапочке-пилеолусе и дрожащим указательным пальцем правой руки указал на кресло. Русская, поклонившись, села. И произнесла на латыни:
- Ваше высокопреосвященство, я пришла говорить о новом крестовом походе… надо что-то делать… Иерусалим в опасности…
- Да, я помню вашу записку, сударыня. - Он вздохнул, и в его больных полусонных глазах не было ничего, кроме утомления. - Возразить вам нечего, но откуда взять столько сил и средств? С императором Фридрихом мы в раздоре. Он неуправляем, и его пора предавать анафеме. Но без войск Германии и Италии никакого похода не выйдет…
- Может быть, привлечь православных? Почему католики бьются за Гроб Господень в одиночку? Я сама была православной до восшествия на венгерский престол и могу сказать, что ортодоксальные греки на определённых условиях станут заодно с нами. В том числе и русские…
Урбан усомнился:
- Греки - подлецы, не хотят признавать римский доминат. В лучшем случае, только пропустят наши полки по своей территории. А вот русские?.. Может быть, действительно обратиться к ним? И в процессе похода отколоть от православия?
- Я не исключаю такой возможности.
- Кто из соплеменников ваших представляет для нас наибольший интерес?
- Княжества на западе - Галич и Волынь.
- Не желаете съездить туда и поговорить?
- Если ваше высокопреосвященство благословит… Будет ли моя миссия неофициальной?
- Да, огласки не нужно. Ну, а если сладится, я пошлю туда нескольких легатов для скрепления договора по всей форме. - И понтифик кивнул, обозначив окончание встречи.
- Разрешите припасть устами к вашей священной длани?
Папа разрешил. И перекрестил её на прощанье.
2
В Галиче она появилась лишь в начале марта, задержавшись в Италии из-за зимних морозов и непогод. Ехать через Венгрию ей претило, и она отправилась окружным путём - огибая по морю Грецию и Болгарию, а затем, на судне же, вверх по Днестру.
Город показался Евфросинье Мстиславне хоть и небольшим, но невероятно красивым - в распускающейся зелени, ладных теремах с черепитчатыми крышами и с кремлём на горе, где сиял позолоченными пластинами на стенах княжеский дворец. Это был сытный край. И на площади перед кафедральным собором нищих оказалось немного.
Ярослав принял родовитую гостью с почётом. Вышел, облачённый по этикету в дорогие одежды, в горностаевой мантии, опираясь на резной золочёный посох с набалдашником в изумрудах и бриллиантах. Был седым как лунь и от этого казался старше своих пятидесяти шести лет. А смотрел на княгиню доброжелательно, без какого-либо намёка на спесь.
Евфросинья объяснила причину своего посещения. Осмомысл задумался, а потом ответил:
- От Египта и Иерусалима до Галича далеко. Вроде нет и дела до событий там. Но когда речь идёт о Гробе Господнем, то отсиживаться по своим норам грех. Коли латиняне соберут войска, чтобы двинуться на Восток походом, я не окажусь в стороне. Несколько полков непременно выделю.
Бывшая венгерская королева горячо поблагодарила. И спросила мнение Галицкого князя, будут ли волыняне столь отзывчивы к её предложению. У того на лице отразилось сомнение:
- Ох, не знаю, матушка. Мы в последнее время хоть и не воюем, даже породнились - поженили внука моего, Ваську, с дочерью Романа Волынского, Феодорушкой. Скоро, видимо, стану прадедом. Но дела в их пределах вроде бы идут скверно. Недород третье лето. При таких невзгодах могут отказать.
- Несмотря, что мой прямой родич?
- Коль казна пуста, не до родственных связей. Извини уж за прямоту. - Он достал шлифованный изумруд и взглянул сквозь него на Мстиславну.
- Извиняться нечего. Будь что будет, а поеду к Роману непременно… - Посмотрела с грустью: - Нам-то вот с тобой породниться не удалось. Я о сём до сих пор жалею - больно Фрося мне твоя по душе пришлась. Как ея дела?
- Слава Богу, здорова. Подарила мужу шестерых детишек. Старший-то женился на половецкой ханше.
- Надо же! Отменно.
- Он ея крестил и назвал Агапья. В переводе с греческого - Любовь.
Евфросинья цокнула языком:
- Рада за них вельми. А сыночек твой?
- Княжич Олег в жены взял троюродную племянницу и живёт при мне. Я ему передам престол.
- Нет, а старшенький, с кем ты воевал?
Ярослав померк. Было видно: эта тема ему болезненна. Сухо произнёс:
- Непутёвый. Вертопрах. Не хочу слышать про него. Та вздохнула:
- Дети, дети! Мы растим их, лелеем, думаем, что будут нам опорой под старость. А они нас терпеть не могут, прогоняют и сживают со света. Ты мою гисторию знаешь.
Он ответил:
- Да, сочувствую. Я ж надеюсь только на младшего. И ещё на внуков. - А затем, прощаясь, задал вопрос: - Посетив Романа Волынского, ты куда?
- В Ляхию, Неметчину, Галлию. Стану уговаривать королей.
- Ежели не выйдет и поход не задастся? Бывшая венгерская королева развела руками:
- Брошу всё и подамся в Иерусалим. Постригусь в монахини на Святой Земле. Коли сарацины ея захватят, смерть приму у Гроба Господня.
Князь поцеловал Евфросинью в бородавчатую щёку:
- Ты великая женщина. Я. горжусь знакомством с тобою.
Гостья повздыхала:
- Ты один из немногих, кто сие может оценить.
3
Выдав дочку за Олега Настасьича, Янка зажила в Болшеве с младшими детьми и полгода провела безмятежно, Галич только по праздникам. Написала весточку брату Чаргобаю в Смоленск, но без приглашения в гости: обострять отношения с Осмомыслом, ставшим её сватом, не хотела. Но нежданно-негаданно Ростислав сам свалился как снег на голову - прискакал тайно, вызвал для секретного разговора. Встреча состоялась в первых числах 1186 года у заброшенной водяной мельницы, поздно вечером.
Сын Берладника выглядел каким-то взъерошенным, похудевшим, злым. От него несло винным перегаром. Неуклюже обнял сестру, ткнулся ледяным носом в её шею. И заговорил торопливо:
- Сделала отлично. Как змея, проползла в дом врага, усыпила бдительность. Галич наш!
- Ты о чём?
- Ярославку отравим. Дочь твоя задавит бастардуса у себя в одрине подушкой.
- Да Господь с тобою! Ты ополоумел, сидючи в Смоленске? Никого травить я не собираюсь. И давить тем боле. А Василий, внук, тоже ведь наследник, - и его зарезать? А прискачет Яков? Всех не перебить.
Он обиделся. Часто задышал:
- Стало быть, отказываешься помочь?
- Чаргобаюшка, дорогой! - ухватила его запястье женщина. - Перестань мечтать о галицком троне. Наше дело проиграно. Ни отец не сумел, ни мы. Видно, не судьба. Надобно смириться, жить, как есть. Я тут в Болшеве горя не знаю, с удовольствием воспитываю детей. И тебе пора завести семью. Глянь-ка - сорок лет! А один, как сыч.
Ростислав ответил:
- Значит, предала. Род Берладника предала. Помять о родителе. Как мы поклялись на его могиле в Се луне - завершить начатое им.
- Обстоятельства против нас. Осмомысл - благодетель мой: дважды приютил - в детстве и теперь.
- «Благодетель»! - фыркнул младший брат. - Нешто не его люди матушку твою погубили?
Женщина вздохнула:
- Да, конечно. Но в ответ на упрямство нашего отца. И считаю, князь передо мной искупил вину.
- Стало быть, простила.
- Получается, так.
- Ну, а я не простил - то, что не позволил мне жениться на Фросе. - Губы плотно сжал. - До сих пор забыть ея не могу. Больше не встречал таких дев… - Головой тряхнул и провёл рукой по плечу сестры: - Янушка, голубушка. Не бросай меня. Никого роднее в жизни не имею. Помоги завоевать Галич.
Та перехватила его ладонь, дружески пожала:
- Я с тобой во всём - только вот не в этом. Родственник отпрянул и сверкнул очами, полными презрения:
- Ну, так прочь, паскуда! Доле не хочу тебя знать.
- Дорогой, не надо…
- Прочь, сказал, с дороги! У меня сестры больше нет! - вспрыгнул на коня и умчался.
Дочь Берладника проводила его грустным взглядом. Прошептала с горечью:
- Бедный, бедный братик. Разве во вражде счастье? В вечной погоне за химерами? Счастье в покое и любви. Я теперь это поняла.
4
Старый Чарг посетил Олега во сне. Правнук никогда не видел прадеда в жизни, но Настасья рассказывала сыну о нём и описывала внешне. Именно таким чародей и явился пред ним - седовласый, седобородый, в белом балахоне, диадеме и с посохом. Отдалённо напоминал одряхлевшего Осмомысла. Оба образа как-то спутались в голове молодого человека.
Чарг проговорил:
- Здравствуй, внуче.
- Здравствуй, деде, - отозвался спящий. - Как там поживает маменька в небесных чертогах? Вы с ней видитесь?
- Ничего, ничего, отдыхает от земных бурь. Кланяется тебе.
- Передай и от меня мой поклон. Отчего она сама не явилась?
- Время не пришло. Я пока один. Дабы предупредить о грядущей опасности.
У Олега от страха застучало сердце:
- Что-нибудь с отцом?
- Верно угадал. Год ему отмерен. Должен завершить начатые дела, и допрежь всего помириться с сыном Володимером, братом твоим старшим.
Помолчав, Настасьич спросил:
- Но коль скоро они помирятся, Володимер и сядет на престол после тятеньки?
- Это главное, что хочу сказать. Что бы ни случилось, не оспаривай трон. Откажись от Галича добровольно. А иначе - смерть.
Княжич огорчился:
- Я мечтал о сём. Думал, что полажу с болярством.
- Не поладишь. Отпрыски казнённых отцом вельмож расквитаются с тобою, если примешь власть.
Молодой человек от растерянности ничего не произносил. Чарг продолжил:
- И не доверяй Зое. Правнук испугался:
- Что ты говоришь?!
- Ведь она тебе тайно изменяет.
- Не могу поверить…
- С гридями Усолом и Перехватом. Ты в Тысменицу на охоту, а она на прелюбодейство.
- Я ея убью!
- Убивать не надо, но имей в виду. И веди себя с нею осторожно. Тот, кто предал единожды, не надёжен и в остальные разы. - Предок посмотрел на него сочувственно. - Будь разумен, внуче. Ходишь на краю бездны. Не сорвись.
Осмомыслов наследник многое хотел ещё расспросить, но проснулся. Было раннее утро. У открытого настежь оконца прыгала какая-то птаха, радостно чирикая.
- Кыш, мерзавка! - крикнул ей Олег.
Та обиженно пискнула и, вспорхнув, улетела. Вспомнив о словах старика, княжич перекрестился. Боязливо пробормотал:
- Тятеньке один год… Зойка изменяет… Верить ли сему?
Верить не хотелось. Он накинул кафтан и отправился в одрину к жене. Женщина спала, разметав по подушке спутанные чёрные волосы. А под простыней колыхалась от мерного дыхания хорошо прорисованная пышная грудь. Муж бесцеремонно отбросил простынку и с каким-то остервенением, дико, по-животному, овладел супругой. Испугавшись, очнувшись, Зоя затрепетала, начала сердиться, гнать его, скулить. А Олег только распалялся, действовал грубее, озлобленней, вроде бы хотел отомстить, продырявить её насквозь. Наконец, поняв бесполезность сопротивления, дочка Янки отдалась ему безучастно-расслабленно. А когда он, закончив, откатился на бок, судорожно прикрылась и пробормотала с укором:
- Нешто любящие мужья поступают так? Ссильничал меня, словно бабу на сеновале. Грех, Олежка, грех!
Он ответил хмуро:
- Лучше бы молчала. Мне известно всё.
- Что? Не разумею.
- Про твою «преданность» любимому мужу.
- Ты меня в чём-то подозреваешь?
- Не подозреваю, а точно знаю.
- Говори.
- Говорить неохота. Я - в Тысменицу, а ты к малолеткам…
- Ложь! - У неё вспыхнуло лицо, и от этого она стала ещё прекрасней. - Плюнь тому в глаза, кто сказал такое!
- Пересохло во рту, и слюны не хватает.
- Хочешь, поклянусь - чем угодно? Жизнью, здоровьем? Чтоб язык отсох! Чтобы громом меня убило!
- Не смеши.
- Я чиста перед тобою и живу во время твоих охот как Христова невеста! - Зоя перекрестилась.
Княжич посмотрел на неё внимательней:
- Мне сказали точно, что ты злодейка.
- Врут! Нарочно! Дабы нас поссорить. - Молодая женщина прильнула к нему, начала гладить, целовать. - Милый мой, единственный. И всегда желанный. Верь мне, я твоя безраздельно. Обожаю. Боготворю!
Он вначале без удовольствия принимал её ласки, не хотел сдаваться, но потом природа взяла своё, плоть восстала, и супруги уже целовались страстно, растворялись друг в друге совершенно и стонали, изнемогая от вожделения… Так Олег пренебрёг одним из советов Чарга. А ведь зря: Зоя в самом деле иногда позволяла себе маленькие вольности. Зная добрый характер мужа, ничего не боялась; чувствовала власть над ним, презирая в душе за его доверчивость. Повторяла мысленно: «Никуда не денется. Захочу - буду вить верёвки». И вила постоянно.
Но второй совет не давал княжичу покоя - об отце и брате. Говорить родителю напрямую, что тому обещано жизни только год, сын, конечно, не стал: побоялся перепугать, смутить. Лишь однажды, помогая ему разбирать накопившиеся дела - жалобы-челобитные, - вроде между прочим сказал:
- Вот родится у Васькиной Феодоры княжич или княжна… Не позвать ли братца Якова на крестины? Всё ж таки его внук… или внучка…
Ярослав обычно относился к упоминаниям об опальном отпрыске с раздражением, доходящим порой до вспышек ярости. Но на этот раз неожиданно встретил предложение младшего наследника с интересом, даже как-то радостно:
- Знаешь, я и сам давеча подумал… Годы мои преклонные, а уйти в могилу, не простив уродца, было бы прискорбно. Ты не сомневайся: данному мною слову изменять не хочу - и ему престола не завещаю. Галич только твой! Но зачем совсем уж упорствовать и гноить несчастного? Хоть какой-никакой, а сын. Дам в кормление, например, Перемышль. Пусть переберётся со своей попадьёй окаянной, коли так случилось… Я ведь тоже разрывался между Ольгой Юрьевной и Настасьей… Эхе-хе, грехи наши тяжкие!.. И коль скоро ты сам поднял этот вопрос, я, пожалуй, пойду навстречу. Нынче же отправлю гонца в Путивль. Как ты думаешь?
Младший вида не подавал, что ему разговор этот неприятен, шелестел пергаментами по-прежнему, кротко покивал:
- Так и надобно поступить, отче. По-христиански, по-человечески. Я тобой горжусь, ты великий князь!
Осмомысл поёжился:
- Мальчик мой, мальчик мой! Как нам мало отпущено жизни! Не успел оглянуться - весь уже седой и в морщинах. «Всё ещё впереди!» - казалось. Без конца откладывал «на потом». А упущенные мгновения никогда не вернутся. Ты себе представь: ни-ког-да! Недодумал, недолюбил, недостроил, недоузнал… Лишь сыра-земля впереди. И забвение - моментальное, неизбежное забвение - мир уйдёт вперёд, про меня забыв…
Сыну стало жалко отца - встал перед родителем на колени и поцеловал край его кафтана. Произнёс душевно:
- Не забудут, отче. Галич станет помнить всегда. Славное твоё время, возведённые храмы и монастыри, школы и приюты. Силу, мощь, достаток! Бедную мою маменьку… Ты войдёшь в анналы.
Ярослав невесело усмехнулся:
- Если только крохотной строчкой!
- От иных не остаётся ни единой буковки… Растворилась дверь, и вошёл взволнованный Миколка Олексич:
- Батюшка, мой свет! Горюшко у нас. Не вели казнить, а вели слово молвить.
- Так скорее ж молви! - разрешил правитель.
- Болеславушке Святославне дурно сделалось. Где стояла, там и упала, болезная. Отнесли в одрину и хлопочут возле нея, но она покуда без чувств.
Сделавшись бледнее извёстки, Осмомысл поднялся:
- Что ж такое, Господи? Вроде не хворала ничем… Вызвать лучших лекарей, знахарей - всех, кто понимает. Умереть не дадим! - И заторопился к снохе (а фактически - жене) в терем.
Вскоре к Болеславе возвратилось сознание, но с постели встать уже не смогла - что-то жгло её изнутри, подрывая силы. Никакие средства не помогли. За неделю растаяла как свеча и скончалась в муках. Мы теперь бы сказали - скоротечное белокровие; но тогда просто говорили - «трясовица» и «потягота». В общем, «Бог забрал».
Для владыки Галича это было страшным ударом. Он едва стоял на ногах во время заупокойной службы. А когда гроб с покойной опускали в склеп церкви Пресвятой Богородицы, князь упал на колени и в слезах воскликнул:
- Славушка моя дорогая… Не хочу прощаться… Скоро мы увидимся…
Шёпот пошёл в народе. Бормотали: «Смерть себе пророчит!» Нескольким боярыням стало дурно.
5
За три года жизни в Путивле старший сын Осмомысла успокоился совершенно, даже меньше пил. Всё прошедшее виделось ему каким-то далёким, незначительным, даже смехотворным. Для чего было бороться с отцом, доставлять родителям неприятности, мучить - и себя и других? Счастье не во власти, не в решений чужих судеб; счастье в тихой семейной жизни, воспитании детей и собак, в собственном крольчатнике. Да, Владимир отдался любимому делу с новой силой, целое хозяйство завёл, шкурки отдавал на продажу. Помогал сестре пережить разлуку с супругом и сыном, а потом вместе с нею радостно встречал возвратившегося Игоря. Правда, отругали Овлура, не сумевшего вызволить обоих, и хотели вновь его направить - за Владимиром-младшим. Так бы и случилось, если бы не вестник-половец, прискакавший с грамотой от хана Кончака. Из неё узнали, что в донецких степях поженились княжич и ханша и молодожёны в скором времени собираются приехать на Русь. Радость была великая, Евфросинья больше не плакала, не стенала, стоя на городской стене и часами вглядываясь в даль, а порхала бабочкой и могла говорить только о наследнике.
- Как ты думаешь, - спрашивал её брат, - мне племянник разрешит остаться в Путивле? Я уже прикипел к этому уютному городку. А перевозить кроликов и борзых в Новгород-Северский - значит потерять по дороге половину зверья. Жалко Божьих тварей.
- Да конечно же разрешит, - уверяла Фрося. - Вы с ним ладите. И приглянешь за ним на первых порах, посоветуешь что-нибудь, поддержишь. Мне спокойнее будет, если ты останешься.
Так и получилось. Новобрачные прибыли по весне 1186 года. Княжич выглядел повзрослев прежнего, вёл себя степенно и вдумчиво, а его юная супруга оказалась уже с приличным животиком, пребывая на седьмом месяце. Всем она понравилась очень - обаятельная, живая, птичка пеночка. Вскоре её крестили, нарекли Агафьей, а потом провели бракосочетание по церковным канонам.
Дядя и племянник вновь установили тёплые отношения, вместе проводили свободное время и рассказывали друг другу разные байки: старший - о жизни в Галиче, Польше, Червене, младший - о половецком плене. Только петь под гусли не пел, сколько ни просили, - говорил, что сейчас сочиняет некую песнь о походе отца и не хочет показывать работу незавершённой.
Но в июне у Агафьи-Аюль родилась прелестная девочка, и крестить её приехал Игорь вместе с семейством. Торжества были шумные, весь Путивль гулял, а на третий день пира молодой отец попросил принести ему гусли. Извинился перед родителем - дескать, вещь ещё не совсем закончена, есть неточности и провалы, но по случаю праздника хочет обнародовать.
- Что же это, гимн? - улыбнулся князь. А Владимир-младший потупился:
- О, какое! Не с моими скромными силами гимны слагать. Это простое Слово… о твоём, тятенька, полку… - И, пройдясь пальцами по струнам, затянул проникновенно: - «Не пришло ли время, братие, начать, по обычаю предков, трудную повесть о полку Игореве, Игоря Святославича?..»
Все притихли и внимали сосредоточенно. При повторных строках: «О, Русская земля! Ты уже за холмом!» - на глаза многих наворачивались слёзы. А проникновенный плач Ярославны Фрося не могла выслушать без рыданий; еле сдерживала себя, чтоб не прерывать сына. И Овлур, возведённый в бояре, сидя с новобрачной - дочкой тысяцкого Рагуила, заливался краской, слушая те места, где упоминалось его участие в бегстве Игоря.
Несмотря на печальный сюжет, песнь окончилась здравицей в честь владыки Новгород-Северской земли - на подъёме, на высоком звучании.
Долго в тишине звенела струна. Все молчали. Не было сомнений: «Слово» хорошо, ярко, сочно; но понравится ли оно самому герою? Ведь поход его провалился, столько человек погибло впустую. Надо ли об этом упоминать? Может, лучше смолчать?
Игорь Святославич тяжело дышал, глядя на узор белой скатерти. Наконец посмотрел на отпрыска с болью, мрачно произнёс:
- Ну и песнь… я не ожидал… думал, снова будет что-то цветистое, неуклюже-льстивое, как обычно… Ты ж отважился правду сказать о моей ошибке… Как сие назвать?
Сын ответил сухо:
- Называй как знаешь. Я иначе не мог. Пусть поход твой послужит уроком для других горячих голов.
У отца на устах промелькнула улыбка:
- Чепуха. Люди не учатся на чужих ошибках. Посему вот мой приговор: «Слово» твоё прекрасно, спору нет, но забудь его навсегда, да и всё забудьте, кто слушал. Вроде его и не было. А узнаю, Володимере, что в другой раз кому-то спел, - мы с тобою рассоримся. Коль не хочешь со мной ругаться, вычеркни из памяти навсегда. Обещаешь?
- Обещаю, отче.
Прибежали скоморохи, начали потешить пирующих, и досадное впечатление от творения молодого князя постепенно изгладилось. Лишь потом, после завершения праздничного застолья и ухода Игоря, несколько человек подошли к Владимиру, чтобы выразить ему своё восхищение «Словом». В том числе и Фрося - обняла наследника, крепко поцеловала в щёку:
- Душенька, сыночек! Не грусти, не переживай. Ты же знаешь отца - вспыльчивый не в меру. Он обдумает и поймёт, будет благодарен ещё.
Тот спросил её радостно:
- Значит, тебе понравилось?
- Очень, очень! Я была растрогана и поражена. Ты действительно не хуже Бояна. Диво дивное - кровушка моя, мой родной комочек, - а слагает песни, как никто не сумеет!
Отцепив от пояса давний дар Осмомысла - костяное писало, - протянула отпрыску:
- На, возьми, мой милый, дедовский подарок. Ты его заслужил по праву!
- Матушка, спасибо. Мне твоё одобрение - лучшее из похвал!
Евфросинья подмигнула ему и шепнула на ушко:
- То, что я скажу, может быть и скверно, только скрыть не сумею: не стремись выполнить отцовский наказ - «Слово» не забывай. Петь другим не пой, но из памяти не вычёркивай. Бог даст, и пригодится.
У Владимира от счастья засверкали глаза. Он расцеловал дорогой родительнице руки.
Дядя тоже на другой день похвалил племянника. А потом предложил:
- Коль отец запретил тебе «Слово» петь, ты его запиши.
- Как это? Зачем? - удивился юноша.
- Чтоб не затерялось. И навек не исчезло. Грех выбрасывать такой самоцвет!
- Нет, опасно. Вдруг дойдёт до тятеньки? Огорчать его не желаю. Ссориться - тем паче.
- Даже если дойдёт, как он догадается, что ты сам записывал? Кто-нибудь другой, кто сидел за столом. Слушал - записал.
- Дядечка, страшуся.
- Ничего не бойся. А запишешь - оставь у меня. Схороню в ларце, сохраню как зеницу ока. И никто посторонний про сё знать не будет. Ты обдумай.
- Хорошо, обдумаю.
Две недели спустя молодой человек сунул родичу скрученный в трубочку пергамент. Евфросиньин брат покивал ему с удовольствием, вновь заверил: «У меня - как за каменной стеною!» А затем в течение месяца дважды переписал стихотворный текст - для себя и для Фроси. Между прочим, кое-что подправив, кое-что убрав… И замкнул на ключ оба списка у себя в сундуке.
Плавно бы и дальше текла жизнь Владимира-старшего у Владимира-младшего в Путивле, если бы гонец не привёз из Галича весточку от отца. Ярослав заверял беспутного сына, что его прощает, даже на сожительство с поповой женой смотрит не сердясь, так как нет больше Болеславы, и зовёт вернуться, обещая отдать не бразды правления княжеством, но бразды Перемышля.
Рассмеявшись радостно, Яков проговорил:
- Постарел, однако. Чувствует, что силы его уходят. И решил смириться.
Рассказал о грамоте Поликсении. Та воскликнула:
- Да неужто едем?
- А то! Перемышль пожирнее Путивля будет. Перестану сидеть за хребтом племянника. Да и Галицкая земля всё же мне милее Северской.
- А когда в дорогу?
- Съезжу навещу Фросю напоследок. Может, не увидимся больше, а она столько для меня сделала. Да к началу жовтеня двинемся ужо.
В качестве одного из подарков сестре он повёз список «Слова о полку Игореве».
6
Вдовствующая венгерская королева-мать Евфросинья Мстиславна выполнила задуманное - побывала в Польше, Германии и Франции, уговаривала тамошних правителей защитить Гроб Господень. К сожалению, дальше разговоров дело не пошло. Обозлившись, русская княгиня села на корабль во французском Тулоне и отправилась на Землю Обетованную. В Иерусалиме женщина постриглась в монахини и вступила в орден иоаннитов (госпитальеров) - он базировался в госпитале (доме для паломников) святого Иоанна. Вместе с братьями и сёстрами во Христе помогала укреплять стены города, чтобы отразить возможное нашествие мусульман.
Но случилось самое печальное: Саладин пошёл в наступление и при Тивериадском озере разгромил основные силы короля крестоносцев Амальрика, захватил Яффу, Бейрут, Аскалон, а 2 октября 1187 года взял Иерусалим. Евфросинья покинула крепость одной из последних, вместе с иоаннитами и остатками армии. Многие монахи погрузились в суда и отплыли в Европу. Цель была одна: всколыхнуть народы на обещанную правителями кампанию.
Евфросинья вновь попала в Рим, к Папе Урбану III. Тот из-за болезни не вставал с постели - принял гостью в своей опочивальне. Выразив ей поддержку, день спустя отправился к праотцам. Ждали выборов нового Папы. Им оказался тоже очень почтенный старец Григорий VIII, протянувший на священном престоле не более месяца. Наконец избрали более молодого - Климента III. Он незамедлительно принял Евфросинью и со всей горячностью взялся за устроение нового похода. Результатом его усилий стало формирование флота крестоносцев.
Постепенно зашевелились и короли Англии и Франции. Император Фридрих Барбаросса был уже в почтенных летах (приближался к шестидесяти пяти) и никак не мог примириться со своим заклятым врагом - архиепископом Филиппом Кёльнским. Но собравшийся 1 декабря 1187 года в Страсбурге рейхстаг обязал пожилого монарха прекратить распри и объединить светские и духовные силы для борьбы с мусульманами.
27 марта 1188 года на собрании представителей Священной Римской империи Фридрих и Филипп торжественно примирились. Там же было решено: выступить крестовым походом в день Святого Георгия - 23 апреля 1189 года. Выбрали путь первых крестоносцев - через Венгрию и Константинополь. Снарядили послов к Беле III и Исааку I Ангелу, чтобы те разрешили войскам проследовать по их странам. Заодно направили полномочных представителей к двум исламским султанам - турку Килыч-Арслану (для возможного союза против Саладина), да и к самому Саладину - с ультиматумом: если не отдаст Иерусалим, вся Европа двинется против него.
В разговорах с устроителями похода Евфросинья Мстиславна много раз говорила об Осмомысле. Но, в отличие от Урбана III, западные владыки связываться с русскими не хотели, выгоды особой не видели. Неожиданно Фридриху Барбароссе доложили: прибыл русский князь, именующий себя Яковом Галицким, просит помощи в войне против венгров, а взамен обещает выделить серебро и золото на борьбу за Гроб Господень. Император согласился его принять…
Как Владимира-Якова занесло в Германию? Почему он сражался с венграми? Чем закончился Третий крестовый поход? Скоро мы узнаем…
7
Блудный сын Владимир возвратился в Галич накануне зимы 1186 года. Проводить дядю и увидеться с дедом Осмомыслом вызвался Святослав Игоревич - средний Фросин отпрыск, и родители отпустили его с лёгким сердцем. По дороге заехали в Овруч и Белгород: в первом проживала невеста Святослава, и они окончательно назначили свадьбу на весну будущего года. А зато в Белгороде Яков предложил сосватать тамошнему князю дочку Всеволода Юрьевича Долгорукого, и согласие было с радостью получено.
Добрались до Галича поздней осенью. Ярослав на крыльцо не вышел, опасаясь простудиться на холодном ноябрьском ветру (он в последнее время сильно сдал и порой неделями проводил в постели), но приезжих встретил в гриднице, обнял сына и внуков, а особенно тепло поприветствовал Святослава, похвалив его молодецкий вид; а насчёт заикания сказал: «Не беда, люди и слепыми живут, и глухими. Это тебя не портит». Обещал ему зимнюю охоту в Тысменице, на которую поедет княжич Олег.
Сам Олег и Владимир встретились неплохо: без особой душевности, но и без враждебности. Пожелали друг другу здравия.
Накануне отъезда старшего сына в Перемышль Осмомысл снова с ним говорил. У отца заметно дрожала правая рука со шлифованным изумрудом, и вообще он выглядел бледнее прежнего раза. Говорил негромко, словно бы берег уходящие силы. Посмотрел на Якова элегически:
- Побывал на могилке-то Ольги Юрьевны?
- Как же, обязательно, - покивал наследник. - Поклонился от нас двоих.
- Ладно, не свисти - от двоих! - усмехнулся родитель. - Чай, меня в ту пору обзывал низкими словами. Али нет?
Тот не стал лукавить:
- Поначалу было. Но потом быльём поросло.
- И на том спасибо. Фрося как, не тужит?
- Нет, живёт душевно. Волновалась зело, ожидаючи супруга и сына, а теперь цветёт. Детки ея прелестные - все как на подбор. А единственная дочурка, Ольгушка, чем-то напоминает бабушку, да, пожалуй, потоньше и попригожей. - Вытащив из рукава скрученную в трубочку грамоту, он продолжил: - Но особо башковит ея старшенький, тёзка мой, Володимер. Песни сочиняет - прямо как Боян. Вот привёз тебе в дар одно его «Слово», им самим записанное, мною переписанное не единожды. Тут и про тебя, батюшка, мой свет, строки есть.
Ярослав оживился:
- Сделай милость, зачти.
- Целиком или только место?
- Нет, сначала. Любопытно вельми. Раскатав пергамент, сын заметил:
- Я-то петь не мастак. У племянника вышло бы красивей. Ну да делать нечего - как-нибудь осилю… - И, стараясь сохранить интонацию, принялся озвучивать рукопись.
Осмомысл обратился в слух. Иногда просил снова повторить какой-то кусок. А когда дошло до него самого, весело ввернул:
- Ну, горазд выдумывать! Будто я какой великан. «Горы подпираю и султанам грожу»! Но - приятно, не скрою.
А в конце расплылся:
- Да-а, вот это сказание! Золото, смарагд в словесах! Надобно послать к внуку, поблагодарить.
- Ой, не делай этого, отче! - спохватился Владимир. - Можно оказать племяшу медвежью услугу.
- Почему такое?
Сын поведал о решении Игоря - позабыть про «Слово», вытравить из памяти.
- Вот ещё чурбан! - рассердился князь. - Думает, оно очернит его имя. А того не уразумеет, что, вполне вероятно, люди о нём самом будут вспоминать только благодаря «Слову»! Я б ему сказал, если б увидал… Впрочем, хорошо. Внука обижать мне негоже. Передам через Святославку - так, изустно. А тебе велю: дай ещё размножить. Посажу писцов, пусть готовят списки. Разошлю на Волынь, в Новгород Великий, Белгород и Киев.
- В Белгород не надо, - вставил отпрыск. - Там переписали ужо. Всеволоду Юрьевичу в Суздаль тоже послано.
- Молодец, хвалю.
Завершилась встреча более чем дружески. Ярослав обнял на прощание Якова и сказал:
- Скоро перейду в мир иной. На престоле будет Олежка. Обещай не искать Галич под Олегом.
- Обещаю, отче, - твёрдо заявил он. - Но клянусь и в другом: коли он не высидит, коли что случится, - не отдам княжества в чужие, посторонние руки, сам его возглавлю. А потом уж - Васька мой.
Осмомысл кивнул:
- Правильно, сынок. Я уже и завещание уточнил точно так. Вижу, что чужбина воспитала тебя. Сделался разумнее, твёрже. Хорошо! Ты прощён за всё, что меж нами было. А меня прощаешь?
- Быть иначе не может, батюшка, мой свет.
Долго ещё смотрели в глаза друг другу - чтобы сохранить в памяти надолго.
В Перемышль семейство Владимира прибыло к Рождеству. Поселились, обосновались, зажили в своё удовольствие. А когда из Болшева поступило известие о кончине отца Дмитрия, мужа Поликсении, то уже ничто не мешало попадье и княжичу обвенчаться, узаконить своих детей. Что ещё желать? Только устроения новой псарни с крольчатником, чем и занялся Яков по весне.
А затем были радостные его поездки: в Белгород - взять невесту Ярославу Рюриковну и доставить Святославу Игоревичу в Новгород-Северский; а затем в Суздаль - взять другую невесту, Верхуславу Всеволодовну Долгорукую, и прибыть с нею в Овруч к жениху, княжичу Ростиславу Рюриковичу… Все теперь уважали сына Осмомысла, принимали тепло, заботливо. Пил он мало (говорил, что больше душа не приемлет), вёл себя достойно. Вроде просветление на него снизошло. Вроде чувствовал, что дела ему предстоят серьёзные…
И не зря. 23 сентября 1187 года Осмомысл послал за ним в Перемышль - звал к себе, чтоб проститься накануне кончины.
8
Главных недоброжелателей Ярослава было ныне четверо: сын Кснятина Серославича - Афанасий, младший брат Феодора Вонифатьича - Пахомий, сын Избыгнева Ивачича - Иннокентий и епископ Кирилл. Внешне почитали, низко кланялись, но забыть обиды, нанесённые их семействам, не могли. Например, Иннокентий считал, что на место погибшего тятеньки тысяцким надо было назначить его, а не низкородного Миколку Олексича. А епископ знал, что правитель Галича ненавидит Кирилла за сожжение Настеньки, и платил князю тем же. Бунтовать в открытую не хотели и копили силы для решающей битвы - после смерти владыки. Благо, этот час приближался неумолимо…
В сентябре Ярослав уже терял два раза сознание, но потом поправлялся, выходил на прогулки, даже посещал храм. А в двадцатых числах повелел собрать в церкви Пресвятой Богородицы высшую галицкую знать и своих наследников - для обряда крестоцелования.
Церемония состоялась 25-го. Новый печатник князя - младший сын скончавшегося Олексы Прокудьича - Филимон Олексич огласил последнюю прижизненную волю повелителя: все бояре вместе с княжичем Владимиром присягают на верность Олегу; а семнадцать тысяч серебряных монет поровну раздать всем простым жителям города и его окрестностей; а четыре тысячи золотых монет - лучшим людям. Это завещание было принято с противоречивыми чувствами: денег хотелось всем, а терпеть на троне бастардуса соглашались немногие; но решили не прекословить болезному, выжившему из ума Осмомыслу, - а потом видно будет…
Князь присутствовал на крестоцеловании - для него поставили золочёный трон. Он смотрел на горящие свечи, видел их размыто, в жёлтом ореоле, иногда нетвёрдой рукой подносил к глазу изумруд. Думал о своём: вот они, галичане… добрые и злые, честные и подлые… сгрудились, толпятся, делают вид, что любят… а когда было можно, взбунтовались, восстали и сожгли Настеньку… замечали промахи и судачили, за спиной часто издевались… многие считают князя полоумным… но богатство княжества им по нраву… а не замечают хорошего, вечно недовольны… Ярослав перевёл взгляд на икону Божьей Матери, обратился к ней мысленно: «Пресвятая Дева! Видишь, как я слаб. Помоги мне уйти достойно. Не возненавидеть в последний миг никого, до конца быть примерным христианином, преданным Твоему Сыну. Ты же знаешь, сколько мук претерпел я в жизни. Не хотел быть князем, но пришлось, и взвалил эту ношу на себя. Неподъёмную ношу… Никому не дано выполнить задуманное в полной мере. Как простой человек, я грешил… Но иначе не получалось. Ничего теперь уже не изменишь. Видимо, судьба! Об одном молю: защити Галицкую землю, не позволь ей погибнуть без меня!» Вытащил платок и утёр навернувшиеся слёзы. С острой, щемящей болью вновь подумал: «Господи, как жалко оставлять этот мир! Пусть несправедливый и злобный, но такой прекрасный в лучших своих моментах!.. Больше никогда ничего не знать… никого больше не любить… Не дышать этим воздухом и не ощущать биения сердца!.. Но таков закон. Надо уступать молодым. Осмомыслов век кончен. Что ж, мужайся, княже! Впереди твоё прощальное слово».
И сказал, обращаясь к подданным, дребезжащим немощным голосом:
- Люди! Галичане! Дорогие мои собратья!.. Жили мы непросто. Я порой был излишне суров, обижал, наказывал. Это доля любого князя. И хочу попросить прощения. Потому что хотел, но не смог сделать вас счастливыми. Я не Бог… А всего лишь раб Его… Уходя, оставляю вам нашу землю. Как она щедра, как по-матерински относится к нам! Берегите ж ея, не давайте на разграбление, поругание, сами не губите и не скверните. То богатство, что собрали мы за последние годы, можно промотать в одночасье. А потом? Что достанется внукам? Только нищета и презрение! Если от чего Галич и погибнет, так от распрей и глупости.
Будьте же достойны славы наших предков. Да хранит вас Господь. Аминь!
После этих слов паства опустилась перед ним на колени, низко поклонилась в знак благоговения. Неожиданно одна из боярынь стала голосить, протянув руки к Ярославу:
- Батюшка, мой свет! Не бросай нас, сердечный, не покидай, Христом Богом тебя мы просим!..
И толпа одобрительно зашуршала: «Не бросай, не бросай!»
- Пропадём без тебя, отца и владыки! По миру пойдём!..
«Пропадём, пропадём», - поддержали все. Женщины рыдали.
- Не серчай на нас, диких, неразумных! Виноваты перед тобою, но прости, прости! Поживи ещё!..
«Поживи, поживи», - умоляли люди. Осмомысл неопределённо взмахнул рукой, тихо улыбнулся:
- Я бы с удовольствием… Но увы, увы! Так устроен мир. Мы над ним не властны. - И перекрестил свой народ. Князя увели, с двух сторон поддерживая под локти.
День спустя он слег, двое суток находился в беспамятстве, пребывал между бредом и явью. Иногда звал Настасью, иногда - Ольгу, а порой кричал, что не видит выхода из подземного лабиринта Киево-Печерской обители.
Рано утром 1 октября 1187 года Ярослава не стало.
Умер он в возрасте пятидесяти семи лет, тридцать четыре из которых правил княжеством.
Отпевали покойного в той же церкви Пресвятой Богородицы и затем опустили в тот же самый склеп, где уже была похоронена Болеслава.
Оба брата - Яков и Олег - рядышком стояли у гроба, горько плача. Вскоре жизнь развела их - далеко-далеко…
Глава четвёртая
1
Ох, напрасно не поверил Олег предсказаниям Чарга! Говорил себе: ну, подумаешь - сон! Может и не такое привидеться! Взять и добровольно отказаться от власти? Уступить право на престол? Лучше отрубить себе руку!
А события развивались по печальному варианту.
Нет, остаток 1187 года пролетел безмятежно. Знали, что Саладин захватил Гроб Господень, но не волновались особенно сильно. Крестоносные страсти трогали их не слишком.
После Рождества умер Тимофей, и Олег похоронил его со многими почестями, отдавая дань своему наставнику. А затем, чтоб избавиться от прискорбных мыслей, молодой повелитель Галича ускакал в январе на обычное зимнее лесование в Тысменицу. Но на третий день охоты конь его споткнулся, князь упал на землю, подвернув себе ногу. Местный лекарь быстро её вправил, но она всё равно болела, и веселью пришёл конец. На повозке, поздней ночью, без предупреждения, возвратился младший сын Осмомысл а в стольный град. И, прихрамывая, отправился в терем к Зое. В женской опочивальне слышались какие-то выкрики, смех, возня. Вырвав из держателя на стене факел, муж ворвался в спальню к жене. И увидел на одре сразу четверых - гридей Перехвата, Усола, Миляту и свою драгоценную благоверную. Бросившись к распутникам, начал жечь их огнём. Те едва спаслись бегством. А княгиню он так ударил древком в лицо, что сломал ей нос. Отшвырнул затухавший факел и, не обращая внимания на рыдающую супругу, удалился прочь.
В то же утро вышел Олегов указ: недостойных дружинников утопить в проруби на Днестре, а неверную Зою выслать в Болшев к матери. Вскоре били челом к владыке несколько заступников: тысяцкий Миколка Олексич, воевода Захарка Гаврилыч (сын Гаврилки Василича) и епископ Кирилл. Не оправдывая виновных, уговаривали правителя заменить утопление поркой; пятьдесят ударов - достаточно.
- Семьдесят, - отрезал Настасьич. - Это моё последнее слово.
Экзекуция состоялась. Перехват и Милята вскоре умерли от полученных ран. Выживший Усол обещал отомстить бастарду.
Снова Болшев сделался местом сбора заговорщиков. То, что князя надо свергать, было ясно всем - проведённое Осмомыслом крестоцелование в пользу младшего сына никого не смущало: клятвы клятвами, а дела делами. Спорили только о преемнике. Янка, Зоя и Пахомий Вонифатьич (младший брат покойного Феодора) выступали за Чаргобая. Остальные - за Владимира Ярославича. Афанасий Кенятинович заикнулся: может, сразу поставим Ваську, сына Владимира? - но его обсмеяли. В общем, остановились на Владимире. Посланный к нему Иннокентий Избыгнич возвратился с ответом: слова, данного покойному тятеньке, не нарушит и стола галицкого под Олегом искать не будет; но коль скоро Олег умрёт или отречётся - вот тогда согласен.
Начали обдумывать, как спихнуть Олега. «Я убью его, я убью его!» - петушился Усол. «Правильно, убей!» - говорила Зоя; нос её сросся благополучно, но слегка неправильно, нарушая гармонию безупречного в целом лица.
- Запрещаю! - возмутилась Янка. - Сына моей подруги, бедной Настеньки, запрещаю трогать! Прогоню вас всех из Болшева, если что такое замыслите! - А затем сказала спокойнее: - Надо вынудить убежать. Пусть живёт где-нибудь в изгнании. Как мой тятенька Иван Ростиславич жил…
Датой переворота назначили 1 июня 1188 года.
25 мая молодой Галицкий правитель вновь отправился на охоту в Тысменицу, за себя оставив Миколку Олексича. Погуляли славно, настреляв много жирной дичи, а затем закатив во дворце шумный пир с местными бесстыдницами-прелестницами… Спьяну Олег не понял, что от него хотят; но потом протрезвел и услышал:
- Княже, княже, вставай! Прискакал Захарка Гаврилыч! Заваруха в Галиче!
- Что такое? Пусть войдёт немедля!
Тот промок под дождём, по лицу текли капли, весь дрожал - то ли от холода, то ли от страха, выбивал зубами барабанную дробь. Еле доложил: в городе убили обоих Олексичей - Филимошку с Миколкой, а епископ Кирилл с Иннокешкой Избыгничем тут же переметнулись к заговорщикам. Во главе мятежа - Афанасий Кснятинич и Пахомий Вонифатьич; объявили народу, что Олег сбежал, и послали в Перемышль за Владимиром.
- Господи Иисусе! - вырвалось у Настасьича. - Как быть, Захарушка?
- Ой, не знаю, батюшка, мой свет, но дела твои плохи. Возвращаться в Галич не след, бо убьют или бросят в яму. Силой одолеть их не сможешь - у тебя слишком мало гридей. Надобно действительно скрыться.
Бледный, потрясённый бастард продолжал сидеть на одре, обхватив голову руками. Говорил вроде сам с собой:
- Но куда скакать? К Янке в Болшев мне путь заказан, там змея Зойка, может отравить. На Волыни тоже меня не любят. Может, к Ярославне, сводной моей сестрице? Говорят, Фрося добрая и на дверь не укажет.
- Да позволено будет мне сказать, - отозвался Захарка. - Лучше уж к другой дочке Осмомысловой - ляхской прынцессе. Там, по крайней мере, можно попросить помощи, чтоб отвоевать Галич.
- Так и сделаю, коли Евфросинья прогонит.
И, собравшись быстро, оба устремились на северо-восток, через Чёртов Лес. По пути остановились в Овруче и от тамошнего князя, Фросиного свата, узнали, что соваться в Новгород-Северский нелепо: князь с княгиней поссорились из-за списков «Слова», якобы рассылаемых ею по Руси, и она уехала жить в Путивль, к старшему своему сыну; Игорь же навряд ли будет обрадован родственнику жены. Что ж, решили тогда ехать в Польшу. Правнук Чарга двинулся на запад. Он ещё не знал, что теперь из охотника превратился в дичь: несмотря на Янкин запрет, Зоя и Усол собирались мстить. Витязь обещал привести возлюбленной голову убитого мужа, и она поклялась в этом случае стать его женой.
2
Между тем не был равнодушен к происходящему и Роман Мстиславич Волынский. Он хотя и доводился сватом старшему сыну Осмомысл а (дети их, Феодора Мстиславна и Василий Яковлевич, состояли в браке и имели дочь), всё равно зарился на южное княжество и вынашивал планы воедино слить Галицию и Волынь. Только ожидал смерти Ярослава. А когда тот умер, начал готовить войско. И как раз в июне 1188 года, в самый разгар смуты в Галиче, чуть опередив призванного боярами Якова, бросил свои дружины на Днестр. Этого никто ожидать не мог. Паника и растерянность воцарились в городе, Иннокентий Избыгнич с Афанасием Кснятичем попытались организовать оборону, но никто им не подчинялся. А епископ Кирилл, чтобы предотвратить напрасные жертвы, приказал отомкнуть ворота. И Роман Мстилавич беспрепятственно въехал в галицкий кремль.
А Владимира завернул с полдороги поскакавший ему навстречу Пахомий Вонифатьич. Старший сын Ярослава тоже в первый момент не поверил своим ушам: как, Роман, северный сосед и добрый приятель, родич, поступил так подло?! Что ж на нём - креста нет?! Но потом спросил у Пахомия:
- Как теперь поступить и куда податься? Тот ответил:
- Выход вижу токмо один: заручиться помощью от унгорского короля Белы. Он давно с Романом Волынским в ссоре. Не преминет дать ему по рукам!
- Ты со мною поедешь в Унгрию?
- Коли не побрезгуешь.
- А куда Поликсению и молодших детей? Возвернуть в Перемышль?
- Думаю, не стоит. Да и некогда. Пусть там остаётся Василий со своей Феодорой - чай, на зятя-то с дочкой вероломный Ромашка ратью не пойдёт. Мы ж тем временем отправимся к Беле. Надо торопиться.
И они, развернув повозки, понеслись на юго-запад, к перевалу Дукле через Карпаты. Если бы наследник галицкого престола в тот момент узнал, на какие муки обрекает себя и своих земляков, то, наверное, наложил бы на себя руки. Но, не ведая ни о чём, думал, что ему теперь повезёт, и мечтательно улыбался. Лишь поповна, чувствуя недоброе, то и дело плакала.
3
Королю Беле было в ту пору тридцать девять. Он уже шестнадцатый год находился у власти, чувствовал себя прочно, незыблемо, истребив врагов; даже собственную мать, Евфросинью Мстиславну, он заставил скитаться. Знал о её приключениях - в тщетной попытке сколотить кампанию против Саладина, относился к этому иронически. Но послов от Фридриха Барбароссы принял тепло, подобающим образом, и не возражал, если армия крестоносцев по определённым маршрутам двинется к Константинополю через территорию Венгрии. Но в душе не верил в возможность нового похода.
Поначалу поморщился, выслушав доклад о прибытии беглецов из Галича (русских он считал дураками, несмотря на то, что и сам был наполовину русским). После некоторых раздумий разрешил последним войти.
Яков, поздоровавшись, был изрядно удивлён видом короля: длинные немытые пепельные волосы, широко расставленные глаза, жабий рот и бесчисленное количество бородавок. И скорее Бела не говорил, а квакал. По сравнению с ним отпрыск Осмомысла, далеко не красавец, выглядел былинным богатырём.
Венгр говорил по-русски неважно, а Владимир по-венгерски ещё хуже, так что им помогали толмачи. В целом же беседа выглядела так.
- Значит, волыняне захватили вашу столицу? - вяло переспрашивал самодержец. - Ох, нехорошо… Да Роман Мстиславич подлец известный, хоть и родич мне… Помощь оказать? На каких условиях?
- Коли сяду на трон, обязуюсь тебе выплачивать целый год по две тысячи гривен серебром.
- Это справедливо. Надобно обдумать. Отчего ты не ешь и не пьёшь, голубчик?
- Благодарствую. Что-то нет охоты.
- Так нехорошо. Обижаешь хозяина.
- Я не пью уже больше четырёх лет. Не приемлет тело.
- Ерунда. Понемножку можно. Как не выпить за успех нашего похода?
- Да, не выпить за успех не могу.
- Вот и превосходно. Пусть удача сопутствует нам!.. Надо ли говорить, что, сорвавшись, Яков целую неделю беспробудно пьянствовал, и никто - ни Пахомий, ни Поликсения, ни дети - привести его в чувство не смогли. Он безумствовал, как его родной дед, князь Владимирко Володарьич. А когда проспался, почерневший, осунувшийся, с головной болью и тошнотой, оказалось, что с семьёй и боярином отвезён в замок Эстергом и сидит под охраной в башне.
- Как же так? - недоумевал Осмомыслов отпрыск.
- Ах, вот так, Володимер свет Ярославич! - сокрушался брат Феодора Вонифатьича. - Обманул нас Белка, продувная бестия, как мальчишек, обвёл вокруг пальца!
- Не пойму. В чём же обманул?
- Запер нас вот в этом узилище, зорко стережёт. Сам же с войском кинулся Галич воевать.
- Ну, так хорошо. Выкинет оттуда Романа.
- Выкинуть-то выкинет, да посадит сына своего, Андраша, чтобы сделать провинцией Унгрии.
- Быть того не может.
- Вот те крест, батюшка, мой свет. Не сойти мне с этого места!
У бедняги аж волосы стали шевелиться на голове. В страхе он воскликнул:
- Господи, святый Боже! - зарыдал, завыл от отчаяния. Вдруг замолк, поднял на боярина посерьезневшие глаза: - Где темница сия находится, говоришь?
- В Эстергоме, что вблизи Дуная, чуть на север от Буды да Пешта.
- До Неметчины, значит, рукой подать?
- Уж недалеко.
- Надобно сбежать. Ехать к королю Фридриху. В ножки кинуться, умолить помочь.
- Час от часу не легче! Из огня да в полымя! Фридрих-то не лучше этого Белы. Тоже рот раззявит на наш каравай. Да и как сбежишь-то? Я глядел: башня прочная, караулы кругом.
- Что-нибудь придумаем.
4
Бела в это время со своей знаменитой конницей совершил стремительный бросок через горный Верецкий перевал и пронёсся по Галицкой земле как опустошающий смерч. А поскольку в военном хозяйстве княжества наблюдался полный разброд (воеводы и дружинники Осмомысла частью разбежались, частью были перебиты Романом Мстиславичем), а пришедшие с севера волыняне тоже не готовились к обороне, никакого сопротивления нападающим оказать никто не пытался. Главный город пал в считанные дни. По подземному ходу князь Роман убежал из кремля и с остатками рати ускакал к себе во Владимир-Волынский. Да не тут-то было! Младший брат его, Всеволод Мстиславич, заменявший старшего на престоле, вдруг не захотел уступить нагретого места и ворот не открыл; даже пригрозил изготовленной к бою дружиной. Старший брат уехал несолоно хлебавши и подался искать прибежища в Овруче, отложив идею слияния Галича и Волыни на далёкое будущее.
А король мадьяр выполнил задуманное: посадил на Днестре своего сына Андраша. Молодой человек (а ему в то время исполнилось девятнадцать) по отъезде венценосного папочки стал вести себя хуже, Чем некрещёный: отнимал у местных жителей скот и добро, умыкал и насиловал женщин, православные церкви превращал в конюшни. Даже отцу Кириллу двинул в челюсть: иерарх пришёл к нему с жалобой на венгерских дружинников, испоганивших погост, поломавших кресты и плескавших нечистоты на могильные камни, а наместник Белы даже слушать не стал - прямо кулаком в зубы. Крикнул: «Прочь пошёл, русский боров! Мы Галицию обратим в католичество, Папе подчиним, а тебя подвесим к берёзе за причинное место!» И епископ убрался, вытирая кровь с бороды.
В Болшеве у Янки собрались бояре: Иннокентий Избигнич с Афанасием Кснятиничем. Возмущались произволом захватчиков, обсуждали возникшее положение. Дочь Берладника высказалась прямо:
- Что судить да рядить бесцельно? Брата надо звать, Чаргобая. Он законный преемник галицкого стола. Должен унгров прогнать и принять бразды. Кто к нему поедет?
- Я отправлюсь, - поддержал её Афанасий. - Мы с ним были прежде знакомы и относимся друг к другу неплохо. А Избыгничу надо заняться воинскими сборами в Болшеве. Обчими ударами сбросим супостатов.
- Половцев неплохо привлечь, - заявил Иннокентий. - За приличные гривны выступят за нас.
- Исполать вам, боляре, - подытожила женщина. - Православие, попранное в Галиции, вопиет. Лишь на вас надежда.
На прощанье Кснятинич пробормотал:
- Видя все бесчинства нехристей-унгров, вспоминаешь о времени Осмомысла как о рае земном. Благодать, покой и достаток!
И другой вельможа, усмехаясь, поддакнул:
- Не ценили, не дорожили. Вечно мы добро ищем от добра! А теперь вот расхлёбываем, как малые дети…
- Прошлого назад не вернуть, - жёстко оборвала их кряхтение Янка. - Надо о грядущем подумать. С Богом, господари. Благо родной земли зависит от вас.
Возвратившись в свои покои, встретила Зою. Дочь была оживлена больше, чем обычно, и глаза прятала от матери. Заподозрив недоброе, та схватила её голову в ладони и насильно заглянула в зрачки:
- Говори! Что проведала?
- Ничего, матушка, мой свет… Видно, показалось тебе.
- Не обманывай! Я тебя знаю хорошо. Что-то про Олежку?
Дочь Андроника всё никак не решалась сказать, но потом ответила:
- Да. Убит. Мой Усолка выполнил зарок. Охнув, Янка села. Прошептала с горечью:
- Господи, зачем? Я же вас просила… Зоя дёрнула плечиком:
- Ой, подумаешь, велика особа! Только всем мешал. Я теперь за Усола выйду.
- Рассуждаешь, как последняя тварь. Хочешь обвенчаться с убивцей собственного мужа!
Молодая дама поморщилась:
- Не тебе, матушка, судить. Нешто ты не отдала сброду на растерзание моего родителя? Мы с тобой обе хороши.
Дочь Берладника сидела поникшая, только повторяла одними губами:
- Настенька, прости… Настенька, прости…
А с Олегом вышла следующая история. Вместе с Захаркой Гаврилычем он поехал в Краков - к польскому королю Казимиру II, доводившемуся ему, через сводную сестру Ирину-Верхуславу-Агнешку, дальним родственником. Но король принять бастарда не захотел, и несчастный князь устремился к самой Ирине, в Познань. Несмотря на свою флегматичность, дочка Осмомысла встретила его с интересом, начала расспрашивать: «Нешто правда, папенька и маменька померли? Вот не ожидала - мне казалось, их ничто не возьмёт!» Начала читать список «Слова о полку Игореве», привезённый братом, но свернула свиток на середине, широко зевнув: «Надо ж - Фроськин заморыш смог сложить такую длинную песнь! Но она мне не по зубам». Разрешила жить в замке в Калише, но протекцию к королю составить не захотела: «Мой супруг с ним не дружит. Мы его не любим. Больно лебезит перед немцем Фридрихом».
В Калише Олег заскучал, думал даже отправиться к крестоносцам - отвоёвывать Гроб Господень, - но узнал, что явился в Краков князь Роман Мстиславич, чтобы бить Казимиру челом о помощи - возвратить себе Владимир-Волынский, незаконно захваченный братом. «Собирайся! Скачем к нему! - загорелся Настасьич. - Мы поможем Роману одолеть Всеволода, он поможет нам разметать моих недругов!» И, вскочив на коней, понеслись в тогдашнюю польскую столицу.
Поначалу затея складывалась удачно. Встреча с Романом произошла, и волынский князь, в свою очередь, нанял у Казимира несколько полков. Ранней осенью 1188 года выступили в поход. Вскоре обложили Владимир-Волынский, стали требовать сдачи города. Но засевший в нём Всеволод уступать не желал, совершал удачные вылазки, и во время боя был смертельно ранен Захарка Гаврилыч. Не успел Олег оплакать потерю друга, как поляки, решившие больше не участвовать в безнадёжной кампании, снялись и ушли восвояси.
У Романа оставался один путь - возвращаться в Овруч, где его дожидались младшие дети и жена. А Олег не знал, что теперь предпринять, и в конце концов решил всё-таки направиться к Фросе в Путивль. И поскольку Овруч был ему по дороге, то поехал вместе с Романом.
На вторые сутки заночевали в Дорогобуже, и, изрядно выпив, Ярославов сын, чуть шатаясь, потащился во двор до ветру. В небе светила яркая луна, но осенний морозец стоял приличный. Не дойдя немного до выгребной ямы, князь услышал за спиной подозрительный шорох. Обернувшись, Олег спросил:
- Кто здесь? Что вам надо?
Тёмная фигура отделилась от стены сруба:
- Аль не узнаешь, батюшка, мой свет?
Тот действительно в интонациях хриплого голоса уловил нечто, слышанное уже, но припомнить сразу не смог.
- Жаль, - сказал загадочный человек, - а вот я забыть не могу, как меня ты унизил. И меня, и Миляту, и Перехвата - Царствие им Небесное!
- Господи, Усол! - догадался Настасьич.
- Да, он самый. За тобой не первый месяц охочусь. То терял след, то брал, наконец-то встретил.
- Что ты хочешь? - содрогаясь, задал вопрос бастард.
- Что хочу! - хмыкнул гридь. - Жизни твоей хочу, больше ничего.
- Да зачем тебе моя жизнь? Нешто, отомстив, сделаешься счастливее?
- Знамо дело, счастливее. Я женюсь на Зое. И мои раны на спине будут не так саднить.
- Но ведь ты был наказан по справедливости, мне наставив рога. Ни один муж не стерпел бы такое. И потом, женившись на Зое, сам окажешься в моём положении. Потому что она и тебе станет изменять.
Враг занервничал, начал кипятиться:
- Ох, Олеже, не зли меня. Лучше помолись напоследок. Князь не отступал:
- Убивать безоружного - разве по-мужски? Дай мне меч, и сразимся в честном поединке.
Но Усол тоже не поддался:
- Вот уж насмешил! Вдруг удача будет на твоей стороне? Нет, я должен бить наверняка. Притащить невесте в подарок голову твою.
- Ты забыл, что я правнук Чарга?
- Что ж с того?
- Коль меня убьёшь, он тебя с небес покарает. Витязь не поверил:
- Руки коротки. Сказки мне рассказывать нечего. Будешь ли молиться?
- Да, конечно. По-свойски. - И ударил его ногой. Тот упал, но поднялся быстро и пошёл в наступление.
Лезвие ножа блеснуло в его руке. Взмах, удар - увернувшись, Олег пропустил противника мимо, сам ударил лиходея по печени. Отлетев, неприятель устоял на ногах. Оба обходили друг друга, приготовившись к новому нападению. Неожиданно распахнулась дверь, на пороге вырос Роман Мстиславич и спросил, крикнув в темноту:
- Эй, Настасьич, где тебя черти носят?
Ярославов сын на мгновенье отвлёкся, и вот этого мига оказалось достаточно: гридь вонзил клинок ему в сердце. И, мелькнув за бревенчатую стену, скрылся.
У бастарда в глазах замелькали языки пламени. Между ними вдруг возникло Настенькино лицо.
- Мама, маменька! - прохрипел Олег. - Помоги мне! Меня убили!..
- Ничего, ничего, родимый, - вроде бы сказала она, тихо улыбаясь. - Всё уже позади. Мы теперь никогда не расстанемся.
Закачавшись, он упал в лужу крови. Набежавшие люди галичанину помочь уже не смогли.
Так бесславно погиб младший сын Осмомысла. Но не зря перед смертью он пророчески предсказал, что Усол жестоко поплатится за содеянное. Вскоре его слова стали явью.
5
Чаргобай жил по-прежнему при дворе Давыда Смоленского, числился воеводой, но с дружиной занимался нечасто, больше проводя время за кувшином вина. И поэтому когда Иннокентий Избыгнич вырос у него в горнице, князь-изгой, будучи в серьёзном подпитии, долго не мог понять, кто это такой и чего желает. Наконец в голове у сына Берладника стало проясняться, он велел слуге принести ушат ледяной воды, снял кафтан и, оставшись в одной рубахе, вылил на себя. Заорал как резаный, начал вытираться вышитым белым рушником, вновь накинул кафтан, выпил поднесённую чарку с соком кислой капусты, вздрогнул, перекрестился и взглянул на боярина просветлённо:
- Так про что речь вели? Сызнова начни. Выслушав приезжего, начал бегать по клети, хлопать себя по ляжкам и выкрикивать, словно полоумный: «Я дождался, дождался! Господи Иисусе! Батюшка с Небес смотрит на меня в радости!» Замер перед гостем и спросил деловито:
- Сколько войск у нас и сколько у Андраша? Серебро и золото раздобудем? Мой Давыдка - отзывчивый, но задаром много рати не даст. - Сел, задумался. - В зиму глядя, в наступление не пойдёшь. Опозориться не имею права. Мне судьба даёт единственную возможность. Я ея использую до конца. Или сяду на галицкий стол, или жизнь отдам. А в Смоленск больше не вернусь.
Подготовка к походу заняла время с ноября по апрель. Но и силы сколотились немалые: шесть полков галичан и половцев, собранных Афанасием Кснятиничем, да ещё два полка, нанятых у Давыда. Венгры имели меньше. Впрочем, приготовления не прошли для Андраша и его людей незаметно. В марте он послал верхового к отцу - с просьбой о срочной помощи. А пока надеялся отсидеться за высокими городскими стенами.
Чаргобай двинулся на Галич сразу, как подсохли дороги. От Козовы шли без всяких преград, радостно встречаемые жителями попутных селений. Отдохнули в Болшеве и стремительно окружили столицу княжества.
Первую неделю изредка обменивались выстрелами из луков и взаимными перебранками. Небольшой отряд, выехавший из города, чтобы пощипать неприятеля, был разгромлен начисто. Сын Берладника лично снёс его командиру голову. Это вдохновило войска нападавших и заставило венгров слегка притихнуть. Вкус победы ощущался уже на языке Ростислава, как внезапно прискакала из-за Карпат конница Белы III. Тут пошли уже настоящие схватки. Первыми, как обычно, дрогнули половцы и, оставив ряды союзников, возвратились в степи. Вслед за ними брызнули с поля боя смоляне - унесли ноги подобру-поздорову. Венгры наседали, и дружинники Чаргобая стали умолять его отступить. Но упрямый изгой не желал сдаваться. Словно бес какой вселился в него! Встал на стременах, зыркнул грозно очами, крикнул страшным голосом: «На врага! Кто ещё не празднует труса? За отечество умереть не страшно!» - и, хлестнув коня плёткой, бросился вперёд. Большинство его конников устремилось за предводителем.
Свой последний бой он провёл отменно. Красный плащ его и блестящий шлем вспыхивали на солнце, словно молния. Не одна голова покатилась с плеч от ударов наследника Тулчи и Ивана. Не один всадник рухнул с лошади. Но суровым венграм, несмотря на это, удалось окружить отряд Ростислава и практически всех уничтожить. Раненого сына Берладника притащили к Андрашу. Тот, расхохотавшись, плюнул ему в лицо. А потом спросил лекаря, перевязывавшего рану:
- Выживет мерзавец?
- Безусловно выживет. Становые жилы не тронуты.
- Жаль: хотелось бы видеть его убитым, - развернулся и вышел.
Что ж, как говорится, желание князя - закон для его подручных. И один из наиболее рьяных притащил какую-то склянку с тёмной жидкостью, намочил тряпицу и заставил лекаря приложить её к ране русского.
Врачеватель, вздыхая, выполнил приказ. Вскоре у больного началась агония, а спустя несколько часов он скончался.
Развивая успех, Андраш захватил Болшев, город сжёг, а гнездо оппозиции разорил. Защищая терем, пал Усол. Янка тоже пыталась сопротивляться, и её проткнули мечом. Иннокентий Избыгнич был казнён на торговой площади. Только Афанасию Кснятиничу удалось бежать в Перемышль. А ещё уцелели Янкины дети: младших из них венгр не тронул, но зато Зою взял с собой, чтобы сделать наложницей.
6
Больше полугода просидели Яков-Владимир и его близкие в башне Эстергома. Лишь в конце февраля 1189 года старший сын Осмомысла попытался бежать. Дело было так.
Заключённым не разрешалось выходить на прогулки даже во внутренний дворик замка; но зато они могли беспрепятственно подниматься на последний этаж башни - там и воздуха свежего много, и гарантия полная, что никто не уйдёт из-под стражи. Для защиты от ветра, солнца и дождя на конечной площадке даже установили шатёр. Пленники короля Белы проводили в нём целые часы. И однажды Владимир, убедившись, что никто из охраны его не слышит, обратился к Пахомию Вонифатьичу:
- Как ты думаешь, друже, если нам изрезать шатёр на не слишком широкие, но достаточно прочные полосы, хватит до земли?
Тот обдумал ответ, а потом утвердительно кивнул:
- Думаю, отсюда не хватит, но чуть ниже, из окна лестницы, может и хватить.
Поликсения закудахтала:
- Я боюсь! У меня от высоты голова закружится.
- Мы тебя привяжем к кому-нибудь из мальцов.
(А мальцам, Гошке с Гришкой, слава Богу, шли уже двадцатый и шестнадцатый год соответственно).
- Надо только выбрать ночку потемнее и поненастнее, чтобы караулу было бы противно нос казать на улицу, - посоветовал старший брат, Георгий.
- Главное - добраться до Дуная, - подхватил младший брат, Григорий, - сесть на лодку и доплыть к противуположному берегу. Там уж мы уйдём от погони.
- Хорошо, что не все драгоценности отняли у нас, - заявил отец. - Будет чем расплачиваться в пути.
Подходящую ночь поджидали долго. Наконец обстоятельства сошлись одно к одному: венгры праздновали день рождения короля и достаточно поусердствовали по количеству возлияний в честь его величества; дул холодный ветер с дождём и снегом, так что даже собаку было совестно выпустить во двор; крыша башни от порывов и шквалов громыхала сильно, заглушая прочие звуки. Словом, лучший момент трудно было выбрать.
Ткань шатра, несмотря на дождь, резали втроём - старший княжич, князь и Пахомий. Младший успокаивал мать. Ко второму часу после полуночи самодельная верёвка была изготовлена и сброшена из окна внутренней винтовой лестницы наружу. Ровно в два начали спускаться: первый - Вонифатьич, вслед за ним - Ярославич, Гришка вылез третьим, а Георгий, привязанный к матери, последним. Поликсения, чуть живая от страха, только коснулась пятками земли, как расплакалась в голос от счастья.
- Тихо ты, вопилка! - цыкнул на неё муж. - Это всего лишь треть пути. Впереди - Дунай.
Шли до берега больше часа. В небольшом рыбацком посёлке многие люди оказались тоже пьяными по случаю праздника, а другие отказывались везти беглецов в такую погоду. После уговоров и посулов расплатиться золотыми серёжками попадьи согласилась одна толстая рыбачка - тоже не совсем трезвая, но, по-видимому, именно из-за этого и смелая.
Волны Дуная поднимались почти как на море в шторм, и рыбацкий баркас швыряло из стороны в сторону, словно скорлупку грецкого ореха. Но венгерка искусно орудовала кормилом, ухитряясь проскакивать между катящимися валами. Только единожды их почти накрыла водяная стена, и уже все готовились захлебнуться, как судёнышко, вновь вильнув, не пошло ко дну, а продолжило скользить по поверхности.
Долгожданная твердь показалась избавлением от всех мук. Мокрые, продрогшие, сбившись в кучу, русские расплатились с рыбачкой и пытались её отговорить возвращаться в такую бурю обратно - во второй раз ей может не повезти. Но она слушать не желала; взяв серёжки, прыгнула в баркас и спустя мгновение скрылась среди волн. Что с ней сталось дальше, доплыла ли домой счастливо - Бог весть!
Беглецы шли не разбирая дороги и к исходу следующего часа оказались в ещё одной деревушке, но уже немецкой, где их встретили более приветливо, а за золотое колечко разрешили не только отогреться у очага, но и накормили бобовой похлёбкой. Утром они купили трёх коней, взгромоздились по двое - Гришка с матерью и Георгий с Пахомием, а Владимир ехал один, - и, узнав у местных дорогу, поскакали в сторону Вены. А оттуда до Германии - и всего ничего.
Между тем Фридрих Барбаросса был загружен подготовкой к крестовому походу денно и нощно. В декабре прошлого, 1188 года возвратились послы, направленные в разные страны. Венгрия и Сербия дали добро на проход крестоносцев по их территории. Византийский император Исаак Ангел тоже согласился, но при условии - если не допустят грабежей мирных греков и не будет попыток захвата Константинополя (как случалось в первых двух кампаниях). Даже турецкий султан Кылыч-Арслан обещал выделить войска против Саладина. Только Саладин стоял на своём: никаких ультиматумов от католиков не приемлет, отдавать Иерусалим и другие священные для христиан места не намерен; более того - сделал совершенно наглое предложение: если остатки прежних крестоносцев, продолжающие занимать кое-какие города в Сирии, перед ним капитулируют, он вернёт европейцам Крест Иисусов и освободит все захваченные монастыри; даже разрешит паломникам посещать Гроб Господень. От такого нахальства проходивший в Нюренберге рейхстаг просто ошалел. Кто же стерпит подобные оскорбления? Выходило ясно: Третий крестовый поход неизбежен.
Фридрих встал во главе общих сборов. Численность европейских войск доходила до ста тысяч человек! Эту громадину надо было организовать и дисциплинировать, обеспечить всем необходимым, разработать маршруты следования… И в разгар трудов императору доложили о прибытии князя из Галиции. Тот вначале только отмахнулся: «Некогда, некогда!» - «Он - законный наследник Ярослава Осмомысла, обещавшего Евфросинье Венгерской оказать содействие в крестовом походе; сын сулит много средств». Самодержец почесал в рыжей бороде («Барбаросса» в переводе с латыни - «красная борода») и велел впустить.
Князь ему понравился - полноватый, чуть застенчивый, с добрыми живыми глазами; лет ему было тридцать восемь - тридцать девять, но уже первые морщинки пробегали по лбу, да и зубы могли бы выглядеть не такими жёлтыми, ну да это не имело значения. Коротко поведав свою историю, русский предложил за помощь в отвоевании Галича дорогую нашейную гривну - всю в бриллиантах и изумрудах - и затем, победив, в течение года до двух тысяч гривен серебром. Это были громадные деньги по тем временам. Фридрих выслушал Владимира с пониманием, а затем сказал:
- Сам помочь не смогу, так как вскоре выступаю с войсками на Ближний Восток. Но попробую надавить на союзника нашего - польского короля Казимира. Он в крестовом походе не участвует, пусть хотя бы так послужит делу справедливости.
- Вы мудрейший из всех монархов на свете! - пылко воскликнул Яков. - Чем-то напоминаете моего покойного батюшку. Тоже был великим Правителем - благородным, великодушным и дальновидным.
Император ответил:
- Да, я много слышал о нём. Жаль, что нам не довелось встретиться. Без Руси нет Европы. Хорошо, что вы внесли посильную лепту в наше святое дело. Тонкости вероучений не должны разделять Восток и Запад. Христианская цивилизация, ойкумена[32], у нас общая. Так и надо жить.
Этой встречей оба остались чрезвычайно довольны.
Десять дней спустя Ярославов сын подъезжал уже к Кракову. (По дороге он заехал в Познань, навестил сестрицу Ирину-Верхуславу-Агнешку и оставил в Калише Поликсению и Григория, а Георгия и Пахомия Вонифатьича взял с собой.) Казимир II с уважением отнёсся к просьбе Барбароссы и уже в июне выступил с войсками в сторону Галича. К счастью, до сражений дело не дошло: Бела III, не желая обострять отношений с Фридрихом, срочно отозвал Андраша домой. Венгры убрались с Галицкой земли так же неожиданно, как и появились.
1 июля 1189 года, после всех мытарств отпрыск Осмомысла наконец-то вернулся к родным пенатам. Видя на горе кремль, слёз не мог сдержать. Даже произнёс:
- Святый Боже, да неужто это наяву? Мне не снится? Я опять в тятенькином граде? И могу продолжить дело отца? Слава Тебе, Господи! Нет меня счастливее!
Галич встретил его колокольным звоном, радостными лицами горожан и благословением епископа Кирилла. Иерарх сказал:
- Княже Володимере! К твоему приезду мы тут вычистили всё, что смогли, от презренных иноземных захватчиков. Осмомыслова усыпальница в полном порядке. Можешь убедиться.
- Да, конечно, владыка, немедля.
В церкви Пресвятой Богородицы опустился на колени перед склепом. Поклонился Болеславе, упокоенной рядом, и ладони положил на чёрную мраморную плиту, на которой золотом были выбиты имена Осмомысла - Христофор и Ярослав, отчество Владимирович, годы его правления в Галиче и святые слова из Евангелия от Матфея: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их».
- Отче, ты нашёл их, - произнёс Владимир одними губами, смежив веки, - ты нашёл врата в жизнь, узкие, но праведные. Многие не понимали тебя, я и сам порой считал дела твои блажью, но теперь вижу ясно: ты был прав, но не остальные! Ты нашёл свой путь. Дал пример благородного служения ближним, сирым, страждущим. Преклоняюсь перед тобою. Обещаю править княжеством справедливо, чтоб не бросить тени на твоё великое имя. Спи спокойно, тятенька. И прости нас, грешных, за всё! - Слёзы потекли у него из глаз и закапали прямо на чёрный камень; так ему одиноко и скорбно стало в этот миг, холодно и страшно! Но потом успокоился, прочитал «Отче наш», встал с колен, низко поклонился и сказал, крестясь, напоследок: - Я горжусь, что во мне - частица твоя… И в твоих внуках… Ты не умер, ты жив. Мы бессмертны. Ты бессмертен!
Выйдя из храма, полной грудью вздохнул - просветлённо, воодушевлённо, - улыбнулся благостно:
- Господи, радость-то какая! Я дома! И никто меня отсюда больше уже не выгонит!
В тот же вечер он послал гонцов: в Калиш - за княгиней и младшим княжичем, да ещё в Перемышль - за Афанасием Кснятиничем, чтоб назначить его печатником (а Пахомия Вонифатьича он назначил дворским). Янкину дочку Зою, не уехавшую с венграми из Галича, он простил и позволил вместе с младшими братом и сестрой, по их просьбе, удалиться в Византию, попытать счастья в Константинополе.
Сразу целый ворох забот навалился на князя. Даже и не знал, с какой стороны приняться. Шутка ли сказать - землю предков поднимать из руин! Но фундамент, заложенный отцом, оказался цел; это помогло понемногу набирать силу.
7
В Киеве по-прежнему правил Святослав Всеволодович, но его угнетал смертельный недуг, и фактически центр Руси, как и раньше, при Андрее Боголюбском, отодвинулся во Владимир и Суздаль, к младшему брату Боголюбского, Всеволоду Юрьевичу. Он, вернувшись из Византии, где оставил могилы матери Елены и сестры Марии, постепенно стал главой клана Долгоруких. А за плодовитость (сделался отцом двенадцати детей) получил прозвище Большое Гнездо. Княжество его бурно развивалось, обогнав другие, и приобрело нешуточный вес. Например, Яков-Владимир Галицкий обратился к Всеволоду (собственному дяде), чтобы тот помог ему закрепиться на княжеском престоле, и за эту услугу обещал почитать как отца родного; Всеволод откликнулся и привёл к крестоцелованию не только всех юго-западных князей, но и польского короля, - те торжественно обещали больше не «искать под Володимером Ярославичем Галичской земли».
А великий князь киевский Святослав Всеволодович умер в 1194 году. Началась борьба за трон, в ней участвовали и Рюрик Ростиславич из Овруча, и Роман Мстиславич Волынский, и Давыд Ростиславич Смоленский, и другие, помельче. Их мирил Всеволод Большое Гнездо, продолжая управлять Русью со своей Клязьмы. Лишь Владимир Галицкий не совался в дрязги, тихо жил на Днестре близ Карпат, без особого интереса наблюдая за соседями - византийцами, венграми, половцами, поляками… Выплатить обещанные деньги Фридриху Барбароссе Яков не успел - из-за смерти последнего в палестинских землях во время похода…
Да, поход состоялся, но желаемых результатов не принёс. После неудачных сражений, многих лет бесполезной борьбы 1 сентября 1192 года крестоносцы подписали мирный договор с Саладином. Это был жалкий документ. По нему христиане теперь владели лишь одной небольшой прибрежной полосой - от Яффы до Тира. Иерусалим оставался у мусульман, и Святой Крест католикам вновь не принадлежал; им позволено было только молиться у Гроба Господня в качестве мирных паломников… Словом, Третий крестовый поход оказался очередной авантюрой, глупой тратой времени, сил и людских жизней…
Ну, а что же бывшая венгерская королева, Евфросинья Мстиславна? Дни она свои закончила на Святой Земле, оставаясь монахиней и молясь за то, чтобы в следующих крестовых походах европейцам повезло больше…
8
Князь Владимир-Яков Галицкий умер в 1199 году, просидев на своём престоле около девяти лет. Время его правления было тихим. Он расставил деятельных бояр на ответственные участки, те трудились не покладая рук, а владыка лишь надзирал за ними, иногда поправляя, но по большей части не вмешиваясь. Сам он продолжал интересоваться в основном только кроликами и борзыми собаками. К этому добавилось сочинение «Жития Ярослава Осмомысла» - жизнеописания отца. Сын работал прилежно, проводя в библиотеке с дьяком-писарем долгие часы. Восстанавливал по крупицам главные деяния родителя, не скупился на похвалы и восторги. Разумеется, в рукопись включил и переработанный список «Слова о полку Игореве», не забыв подчеркнуть, что в основе произведения - песня, сочинённая внуком Осмомысла, а затем дополненная близкими ему людьми (подразумевая себя). А в конце разразился горестной тирадой: как Руси не хватает князей, равных по величине Ярославу Галицкому! Нам, конечно, нужны и хорошие полководцы, продолжал Владимир, и умелые управляющие хозяйством, и примерные христиане; но особо недостаёт прозорливых правителей, образованных, выдержанных, видящих дальше собственного удела и не строящих собственную славу на костях простых подданных.
Смерть настигла Якова неожиданно: у него на псарне взбесилась легавая, покусав в том числе и князя. Лекари боролись за его жизнь, но помочь, увы, не смогли.
Быстро обнаружилось, что беспечный и наивный отпрыск Ярослава не подумал о завещании, словно собирался управлять вечно. Из-за этого начались споры о преемнике. А пока судили-рядили, ситуацией воспользовался тот же северный сосед - Роман Мстиславич Волынский. При поддержке своего польского друга - князя Ляшка - снова вторгся в Галицию и стремительно взял её главный город. Сыновей Владимира он насильно постриг в монахи (кстати, вместе с собственной дочерью Феодорой), а бояр, проявлявших недовольство, не задумываясь, казнил. Так исполнилась его давняя мечта - слить Волынь и Галицию в единое княжество. Так Галиция навсегда утратила независимость…
Ну, а как сложилась дальнейшая судьба Ольговичей - новгород-северских князей? Игорь Святославич сделался главой рода в 1198-м, сев на трон в Чернигове. Правил там всего лишь четыре года - и скончался в возрасте пятидесяти трёх лет, так и не простив до конца сына за его обидное, по мнению отца, «Слово». Фрося постриглась в монахини и окончила свои дни в Спасо-Преображенском монастыре. Дочь их Ольга вышла замуж за внука Святослава Всеволодовича Киевского и жила с ним счастливо.
Удивительно сложились жизни сыновей Игоря и Фроси. Младший, Роман, мирно правил в Курске и ушёл к праотцам из своей постели. А Владимир Игоревич в 1205 году, после смерти галицко-волынского князя Романа Мстиславича, заступил на его место по призыву бояр и благополучно провластвовал около шести лет. Интересно и вот что: он всю жизнь казнил себя за обиду, нанесённую родителю сочинением «Слова» о его походе; без конца пенял матери и дяде за распространение списков по Руси; и, упрямясь, больше никогда не брал гуслей в руки, не сложив ни единой песни.
Умирая, старший сын Фроси завещал престол братьям: Галич - Олегу, Перемышль - Святославу, а Волынь - Ростиславу. Но подросший сын Романа Мстиславича Даниил, со своей матерью укрывавшийся в Польше, допустить этого не мог - занял княжье место (кстати, Святослав, Ростислав и Олег перед тем были казнены местными боярами, продолжавшими бороться за свои привилегии). Но и сам Даниил Романович продержался недолго: началась полоса смуты, и его периодически сгоняли с трона - то венгерский принц Коломан, то Мстислав Удалой, то другой венгерский принц - Андраш…
Всех их опрокинула беспощадная конница Чингисхана и Батыя, и в огне пожарищ не спаслись ни библиотека Осмомысла, ни его кремль, ни его могила…
Не смогли устоять и половцы - частью погибнув, частью подчинившись завоевателям, частью превратившись в южных татар…
В битвах с Батыем сгинули потомки рода Ярослава. Лишь наследники Всеволода Большое Гнездо уцелели, и его внук, Александр Невский, навсегда вошёл в русскую историю как великий и святой князь.
Галич так и не смог возродиться в прежней своей славе. После татаро-монгол эти земли подчинялись полякам и литовцам, а столицей сделался Львов. Мы теперь их зовём югом Западной Украины. Здесь своя культура, свой генотип и особенные взгляды на мир. Оказал ли на них какое-то влияние Ярослав Осмомысл? Быть может…
Он вошёл в историю Древней Руси как один из лучших представителей Рюриковичей. Как один из самых просвещённых людей той эпохи. Как отец Ярославны, плакавшей на стене города Путивля.
Собственным прозвищем он принёс новые слова в наш язык - «осмысление», «осмысливать», «осмысленный»…
Разве этого мало для одной человеческой жизни?
Князь Осмысленный, золотыми буквами он вписал своё имя в чёрные скрижали того времени. Золотое на чёрном - так его и запомнят люди.
Хронологическая таблица
Ок. 1130 г. Рождение Ярослава (отец - галицкий князь Владимирко Володарьевич).
1150 г. Ярослава женили на Ольге, дочери Юрия Долгорукого.
1151 г. Рождение их первенца, Владимира Ярославича.
1152 г. Смерть отца, восхождение Ярослава на княжеский престол.
1153 г. Участие в княжеских междоусобицах.
1155 г. Помощь тестю, Юрию Долгорукому, в его войнах с соседями и в борьбе за Киев. Попытки Ярослава расправиться с двоюродным братом - Иваном Берладником.
1157 г. Смерть Долгорукого. Союз Галича и Волыни. После многих сражений союзники посадили на княжение в Киеве Ростислава Смоленского.
1161 г. У любовницы Ярослава, галичанки Настасьи, родился от него сын, Олег Настасьич.
1165 г. Ярослав принимал у себя византийского изгнанника - своего двоюродного брата Андроника Комнина, будущего императора. Тогдашний император, Мануил I, путём интриг расстроил свадьбу дочери Ярослава с венгерским королём и добился возвращения Андроника на родину.
1166 г. Женитьба Владимира Ярославича на Болеславе, дочери черниговского князя Святослава Всеволодовича.
1167 г. Смерть Ростислава Смоленского, участие Ярослава Осмомысла в междоусобицах.
1173 г. Смута в Галиче. Бояре организовали побег Ольги Юрьевны и Владимира Ярославича в Польшу. Ярослава Осмомысла и его верных слуг бросили в яму. Олега Настасьича арестовали. Настасью публично сожгли на костре. Князя заставили присягнуть на верность Ольге Юрьевне.
1174 г. Месть Ярослава Осмомысла своим врагам. Ольга и Владимир вновь бежали: остановились у её брата в Торческе.
1179 г. Ольга Юрьевна перебралась к другому брату, Всеволоду Большое Гнездо, в Суздаль.
1182 г. Смерть Ольги Юрьевны, постригшейся в монахини.
1183 г. Новая размолвка Ярослава Осмомысла с сыном, который в открытую жил с чужой женой и имел от неё детей. Владимир с побочной семьёй нашёл прибежище у своей младшей сестры, Ефросиньи Ярославны, в Новгороде-Северском.
1186 г. Примирение отца и сына: Ярослав Осмомысл посадил Владимира княжить в Перемышле, а Галич завещал Олегу Настасьичу.
1187 г. По велению Ярослава Осмомысла Владимир и княжьи бояре поклялись в верности Олегу. Чувствуя близкую кончину, князь раздал много золота и серебра знати и горожанам.
1 октября. Смерть Ярослава Осмомысла.
ОБ АВТОРЕ
Михаил Казовский родился в 1953 году в Москве. Окончил факультет журналистики Московского университета. Свою творческую биографию начинал как сатирик - работал редактором в журнале «Крокодил», издал семь авторских сборников пародий, фельетонов, рассказов и стихов; его комедии «Новый Пигмалион» и «Каскадёр» ставились в семи театрах СНГ; по произведениям Казовского сняты художественные фильмы «Внимание: ведьмы!» (Одесская киностудия) и «Личная жизнь королевы» («Мосфильм»).
С 90-х годов увлёкся исторической прозой и драматургией: отдельными книгами вышли его роман «Дочка императрицы», посвящённый крещению Руси, и трагикомедия «Поцелуй Джоконды» (сцены из жизни Леонардо да Винчи).
М. Казовский - лауреат нескольких литературных премий, в том числе ФРГ (1991).
«Золотое на чёрном» - новое произведение писателя. Печатается впервые.
Примечания
1
Тиун - княжеский или боярский слуга, управляющий хозяйством в Древней Руси и русских княжествах XI-XV вв. Мытник - сборщик налогов, податей.
(обратно)2
Фряжское вино - иноземное, иностранное, в данном случае - итальянское.
(обратно)3
Гридь - в Древней Руси княжеский дружинник, телохранитель князя (IX-XII вв.).
(обратно)4
Унгры - венгры.
(обратно)5
Комуз - тюрский трехструнный щипковый инструмент типа лютни.
(обратно)6
Тать - душегуб, разбойник.
(обратно)7
Караковый - тёмно-гнедой, почти вороной.
(обратно)8
Зеницы - глаза.
(обратно)9
Кика - старинный русский головной убор замужних женщин.
(обратно)10
Повойник - старинный русский будничный головной убор замужних женщин, шапочка из ткани или полотенчатый головной убор. Убрус - старинный русский женский полотенчатый головной убор, платок, полотенце.
(обратно)11
Калита - кожаная сумка для денег в Древней Руси, носилась на ремне у пояса.
(обратно)12
Солид - византийская золотая монета.
(обратно)13
Акведук - сооружение в виде моста с водоводом; акведуки обычно строят в местах пересечения водовода с оврагом, ущельем, рекой и др.
(обратно)14
Имеется в виду царь Эпира Пирр (319-273 гг. до н.э.), одержавший победу при Аускулуме ценой огромных потерь.
(обратно)15
Апсида - в христианских храмах - алтарный выступ.
(обратно)16
«Под эгидой» - под защитой, покровительством (эгида - в древнегреческой мифологии - щит Зевса, символ покровительства богов).
(обратно)17
Летник - плащ с широкими рукавами.
(обратно)18
Понева - старинная одежда замужних женщин - запашная юбка из трех полотнищ шерстяной ткани.
(обратно)19
Охабень - старинный русский широкий кафтан с четырехугольным отложным воротником и длинными прямыми, часто откидными рукавами.
(обратно)20
Имеется в виду Одиссей (по-латински Улисс) - в греческой мифологии царь Итаки, участник осады Трои, славящийся умом, хитростью, изворотливостью и отвагой.
(обратно)21
Ирбис - снежный барс.
(обратно)22
Кат - палач.
(обратно)23
Секач - кабан.
(обратно)24
Велес - в славяно-русской мифологии - бог богатства и покровитель домашних животных («скотий бог»).
(обратно)25
Синклит - в Древней Греции собрание высших сановников. В переносном смысле (обычно иронически) - полный состав высокопоставленных лиц.
(обратно)26
Выя - шея.
(обратно)27
Эпистолография - вспомогательная историческая дисциплина, изучающая типы и виды личных писем древнего мира.
(обратно)28
Вежи - кочевые жилища на телегах.
(обратно)29
А капелла - т. е. без сопровождения музыкальных инструментов.
(обратно)30
Сварог - в славяно-русской мифологии - бог неба, небесного огня.
(обратно)31
Стрибог - в славяно-русской мифологии - бог воздушных стихий (ветра, бурь).
(обратно)32
Ойкумена - обитаемая часть суши; в переносном смысле - «цивилизованный мир».
(обратно)


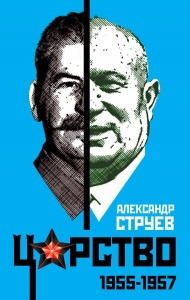

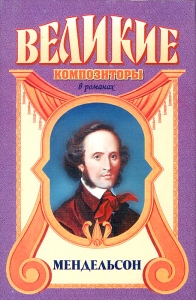
Комментарии к книге «Золотое на чёрном. Ярослав Осмомысл», Михаил Игоревич Казовский
Всего 0 комментариев