Вадим Петрович Полуян Кровь боярина Кучки
Книга первая. КРИК ФИЛИНА
ПРЕДДВЕРИЕ.
В лето от сотворения мира 6652-е, а от Рождества Христова в 1144 году киевляне увидели, как три солнца засияли над ними, три столпа поднялись к небу от земли, а ещё выше дугой встал месяц. Страшно сделалось очевидцам от такой красоты. И их можно было понять. Жизнь держалась непрочно, как изба на мёрзлом болоте. Держава, собранная варягами из покорённых славянских племён, вот-вот готова была распасться. То, что объединил Вещий Олег, чадолюбивый Владимир Красное Солнышко разделил между сыновьями. Нужды правящего рода возобладали над интересами страны. И дом Рюриковичей, и Киевская Русь от этого проиграли. Закон о престолонаследии, согласно которому великокняжеский стол по смерти правителя переходил не к старшему сыну, а к следующему по старшинству брату, перессорил и братьев, и дядей, и племянников. Набухающие злом распри стали решаться не на ковре, то есть путём переговоров, а на поле брани. Последним блеском сверкнула Киевская держава при Ярославе Мудром. Но, сумев собрать государство в одних руках, он повторил ошибку родителя, вновь по кускам роздал собранное, ублажая властолюбивых детей. Удельная обособленность восторжествовала сызнова. Дядья с племянниками, как гарпии, дрались за лакомые куски - кому сегодня достался постный, тот завтра алкал урвать пожирнее. Владетели стали временщиками в своих уделах. Пирамида Рюрикова дома шаталась. Очередная смена хозяина в Киеве влекла перемену власти в южном Переяславле, Владимире Волынском, Турове и других поместных столицах. Перемены эти были непродолжительны. Необузданные аппетиты росли, исполчались дружины, осаждались города, грабились села. Призываемые на бойню хлебопашцы с конями не успевали хозяйство поставить на ноги. Но голодали-то не князья, а народ. «Мир стоит до рати, а рать до мира», - беспечно приговаривали многочисленные вожди, привыкшие не трудиться, а воевать. Привычка эта была пострашнее засухи. Ещё недавно в Новгородчине осьминка ржи стоила гривну, люди ели липовый лист, берёзовую кору, мох и солому, родители отдавали детей проезжим купцам, на улицах не успевали убирать трупы. Десяти лет не хватило новгородцам в себя прийти, а уж земной владыка суровостью превзошёл небесного. Дотянулся обиженный долгорукий Гюргий, взял Торжок - и перестал поступать хлеб из Суздаля. Цены скакнули вверх. За что ж князь такое нелюбье наложил на своих соседей? Новгород отказал в княжении сыну Гюргия Ростиславу. Хотя и выбрало его вече, когда новгородцам удалось вернуть свою демократию, отвоевать отчее право самим избирать посадников, тысяцких, старост, даже епископа с князем, да все это туманом развеялось перед силою власть предержащих. Опять в златоверхом Киеве перемены! Всеволод Ольгович Черниговский рассудил, что Мономашичи не по праву захватили великокняжеский стол. Его дед старше их деда. Значит, надо вопиющую несправедливость исправить. И без лишних разговоров великий князь, Мономахов сын Вячеслав, изгоняется из столицы удельным Всеволодом Ольговичем. Совсем иная ветвь Рюрикова дома воцаряется наверху. Отростки этой ветви тянутся в ключевые города, в том числе и в Великий Новгород. Вот у новгородцев и главоболие: что выбрать - голод или войну? Выпроводить Гюргиева сына - голод, не принять Всеволодова отпрыска - война. Бог помог избежать того и другого. После длительных препирательств стал княжить в Новгороде Святополк, Гюргию племянник, Всеволоду шурин. Однако надолго ли этот «мир до рати»? Мономашичи затаились, не ответив на внезапный удар Ольговичей. Другой племянник Гюргия - Изяслав даже «стал ездить около великого князя» - похитителя власти, целовал крест его брату Игорю Ольговичу как наследнику великокняжеского стола. Глубоко спрятал свои тайные мысли младший Мономашич. А мысли-то были, как булыжник, просты: вернуть Мономахову роду великое княжение тем же способом, каким оно было отнято, то есть силой. Если дядья опростоволосились, племянник им нос утрёт. И утёр Изяслав Мстиславич, внук Владимира Мономаха, утёр - но какой ценой! Все княжества содрогнулись вскоре от такой цены. Не потом, а кровью запахло на славянских землях. О недолгом правлении Владимира Мономаха взбаламученные люди вспоминали как о золотой поре. Умел внук Ярослава Мудрого держать родичей в узде. Всего-то десятилетие минуло, как выпала эта узда из крепкой руки, и какой занялся разор! Жизнь человеческая стала дешевле векши[1], хотя свеча стоила одну векшу. За два года до Всеволодовой кончины пыль надвигающейся бури уже вызывала в людских гортанях першение. Вот почему знамение, увиденное киевлянами, многих повергло в ужас. В церквах священнослужители успокаивали народ, а в лесах волхвы предрекали тьмы тысяч смертей. Вот уж полтора века невозбранно воздвигались христианские храмы в Киевской Руси, в Новгороде Великом, на землях кривичей, вятичей, а капища с идолами все глубже прятались в дебрь. Но для необозримых лесоболотистых пространств полутора веков мало. Греческая вера хотя и входила в силу, однако пращуровская ещё тлела незатоптанным костром. Потому проповеди священников о небесном знамении чаще всего бледнели перед пророчествами волхвов. Рассуждая о трёх столпах, трёх солнцах и серповидном месяце над ними, простолюдины чесали в космах и теребили бороды: не к добру!
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЦА
ГЕОРГИЙ (ЮРИЙ, ГЮРГИЙ) ВЛАДИМИРОВИЧ (прозвищем ДОЛГОРУКИЙ) - пятый по старшинству сын Владимира Мономаха, князь Ростово-Суздальский; род. в 1090 г., с 1155 г. - великий князь Киевский, ум. в 1157г.
Его сыновья:
РОСТИСЛАВ (ум. в 1151 г.)
ИВАН (ум. в 1147 г.)
АНДРЕЙ (прозвищем БОГОЛЮБСКИЙ) - князь Владимирский, с 1169 г. - великий князь; убит в 1174 г.
МИХАИЛ - великий князь с 1174г. ум. в 1176 г.
ГЛЕБ (ум. в 1171 г.)
ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ - князь Туровский, старший брат Юрия Долгорукого; ум. в 1154 г.
ИЗЯСЛАВ МСТИСЛАВИЧ - внук Владимира Мономаха, племянник Юрия Долгорукого, с 1146 г. - великий князь Киевский; ум. в 1154 г.
МСТИСЛАВ ИЗЯСЛАВИЧ - сын Изяслава Мстиславича, с 1167 по 1169 г. - великий князь Киевский; ум. в 1170 г.
РОСТИСЛАВ-МИХАИЛ МСТИСЛАВИЧ - брат Изяслава Мстиславича, с 1154 по 1155 и с 1159 по 1167 г. - великий князь Киевский
ИГОРЬ ОЛЬГОВИЧ - в 1146 г. - великий князь Киевский; убит в 1147 г.
СВЯТОСЛАВ ОЛЬГОВИЧ - брат Игоря Ольговича, князь Новгород-Северский; ум. в 1164 г.
ОЛЕГ СВЯТОСЛАВИЧ - сын Святослава Ольговича, первым браком был женат на дочери Юрия Долгорукого, князь Новгород-Северский; ум. в 1180 г.
СВЯТОСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ - племянник Святослава Ольговича; ум. в 1194 г.
ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ - князь Черниговский; погиб в 1151 г.
ИЗЯСЛАВ ДАВИДОВИЧ - брат Владимира Давидовича, с 1157 г. - великий князь Киевский; убит в 1161 г.
ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ - муромский изгой, затем князь Рязанский; ум. в 1161 г:
ИВАН РОСТИСЛАВИЧ (прозвищем БЕРЛАДНИК) - галицкий изгой; отравлен в 1161 г.
ГЛЕБ АНДРЕЕВИЧ - младший сын великого князя Андрея Георгиевича Боголюбского; ум. на 20-м году жизни.
ДМИТРИЙ ЖИРОСЛАВИЧ,
АНДРЕЙ ЛАЗАРЕВИЧ КОСНЯТКО - бояре князя Святослава Ольговича.
ГРОМИЛО - воевода князя Георгия Владимировича Долгорукого.
ШВАРН - воевода князей Изяслава Мстиславича, затем Изяслава Давидовича.
АЗАРИЙ ЧУДИН - тысяцкий князя Владимира Давидовича.
МИХАИЛ (МИХАЛЬ) - боярин князя Владимира Мстиславича.
ГЕОРГИЙ СИМОНОВИЧ (ШИМОНОВИЧ) - ростовский тысяцкий.
СЕВЕНЧ - сын половецкого князя Боняка.
ЖИРОСЛАВ - воевода половецкий.
ФЁДОР (ФЕОДОРЕЦ) - епископ ростовский АНАНИЯ - игумен Федоровского монастыря в Киеве КЛИМЕНТ - митрополит киевский.
ЛАЗАРЬ - киевский тысяцкий.
РАГУЙЛО ДОБРЫНИН - тысяцкий князя Владимира Мстиславича.
УЛЕБ - боярин великого князя Изяслава Мстиславича.
КУЧКА СТЕПАН ИВАНОВИЧ - боярин московский.
УЛИТА - дочь боярина Кучки.
ЯКИМ - сын боярина Кучки.
ПЕТР - зять Якима Кучковича.
АНБАЛ, ЯСИН, ЕФРЕМ, МОИЗОВИЧ, КУЗЬМА, КЫЯНИН, ПРОКОПИЙ МИХН - Приближенные великого князя Андрея Георгиевича Боголюбского
КОНДУВДЕЙ - князь черных клобуков.
АБУ ХАМИД ал-ГАРАНТИ - испано-арабский путешественник (1080-1169 гг.)
РАЗРЫВ-ТРАВА
1
Впервые охота не задалась. Три года городской жизни дали о себе знать. Мало того что кожа на лице понежнела и лесной гнус, прежде непривязчивый, теперь обнаглел. Главное - перестали быть послушными стрелы. Колчан почти пуст, но и заплечная охотничья сума пуста. Стыдно без удачи возвращаться домой, в Букалову келью[2]. Юный охотник вытянул непромокаемые долгари[3] из топкой кабаньей тропы и поднялся на крутой берег. Как раз на расстоянии одного дострела[4] у речной заводи журавль целился клювом в самую беспечную из лягушек. «Журавль не каша, еда не наша», - отвернулся охотник. Судя по солнцу, был пятнадцатый час[5]. И хотя дно лесное уже в сумраке, вершины ещё светлы. Зазевавшийся тетерев может дождаться меткой стрелы до наступления ночи. И юноша углубился в чащу.
Вдруг он застыл как вкопанный. То, что из-за ветвей увидел на тесной приречной поляне, не очень-то удивило. На палом бревне в греющих лучах солнца, пропуская сквозь пальцы длинные льняные волосы, сидела нагая русалка. На маленьких грудях, на округлых бёдрах блестели капли. Видимо, она только что из воды. Жителю леса таких дочерей водяного доводилось встречать не однажды. И голых, и волосатых, как лешие. Но леших он не боялся, они без докуки не тронут. А эти подобия человеческих женщин, обитательницы рек, озёр и болот, так и бегут с подманом. Опасны их завывающие хороводы, весёлые по-звериному глумы[6]. Говорят, хоронятся они от людей. Но третьегодняшним летом, как увидели, что он в лесу один-одинёшенек да возрастом ещё не вышел, окружили, едва ноги унёс от хохочущих щекотуний.
На сей раз русалка, кажется, без подружек. Опасность невелика. Но юноша поторопился уйти подобру-поздорову. Сделал вроде бы осторожный шаг, а гнилая ветка под дол гарем - хрясь! Нагая шутовка обернулась, вскочила, резко скрестила ладошки ниже живота. Русалка так никогда не сделает, у той кет стыда. И взгляд не русалочий, не стеклянно-звериный, а по-человечески внятный: в нем испуг и надменность. Так, выскочив оснежиться из бани, глянет на неуместного челядинца голая госпожа. И в чертах лица русалочьей дикости нет, в них породистость, как в огранённом алмазе.
Непонятна была охотнику такая встреча в лесу: уж слишком далеко от жилья. И все-таки юношу обратили бы в бегство невиданные женские прелести, не сделай он сразу открытия: да она девчонка! Тут уж ясно: случилась беда, уходить нельзя.
- Чего глядишь? Голую не видал? - осадил его сочный и властный голос.
Он отступил вниз, к реке, и узрел на прибрежном кусту пёстрый лепест[7] тонкого сукна, рядом досыхали вышитая сорочка, юбка-понёва. На камне грелись серебристые башмачки нежной кожи. Такое украшение женских ножек видел он в имполах[8] Господина Великого Новгорода в красных рядах.
Осторожно взяв чужую одежду, он взошёл на поляну, готовый услужить нечаянной диве. Она тем временем собирала бесконечные волосы в косу шёлковой соломы. Серьги-одвоенки, прежде скрытые волосами, теперь брызнули ему в глаза каменьями-голубцами в каждой из двух подвесок. Невсамделишная русалка при серьгах не обрадовалась его возвращению.
- Опять ты, окаянный? - И вырвала свою одежду. - Отвернулся хотя бы…
Он спешно покорился, уплывая взглядом по изумрудной реке.
- А я ведь тебя за русалку принял.
- А я тебя за лешего, - уязвила она.
Не скорый на обиду, он миролюбиво заметил:
- Вот и обменялись любезностями.
- Что ж ты спиной стоишь? - не переставала она сердиться, - Не много же от тебя чести!
Он робко обернулся и едва перевёл дыхание.
- Хороша!.. Откуда ты здесь взялась?
Она смотрела чистейшей воды глазами, отражающими и лес, и реку.
- А ты откуда здесь взялся? Я в Красных сёлах похожего замарая не видела.
В течение истекших грех лет ему, новоуку[9], а потом грамотею, в Новгороде доводилось из любопытства бывать на Неревском конце[10], где кедровыми шишками громоздились друг на друга боярские терема, а красавицы с няньками, с мамками, как на ложках играя, проносились по бревенчатой мостовой в расписных повозках. Он не смел глаз на них поднять. Иное дело теперь, у себя в лесу. В лице этой заплутавшей девчонки из Красных сел он находил смешные черты, которые делали её проще, ставили на одну с ним доску. Губки - домиком, носик - уточкой, щеки опрокинутыми блюдцами прикрывают скулы.
- Не бывал я в твоих Красных сёлах, - без смущенья заявил он.
И тут же впервые задал себе вопрос: почему за всю его пятнадцатилетнюю жизнь с непререкаемой отеческой строгостью Букал, не желавший брать его ещё дитём с собой в Красные села, впоследствии запретил ему появляться там. Даже старому другу, новгородскому волхву Богомилу Соловью, которому на три года отдал юношу в обучение, строго-настрого запретил проезжать на Новгород и обратно Старо-Русской дорогой, что вела мимо Красных сел, приказал сделать крюк. Странный это был запрет, который Букал объяснить отказывался.
- Где же ты бывал? - спросила между тем девушка.
- В Новгороде Великом.
Она посмотрела так недоверчиво, что он, ожидая трудных расспросов, поспешил переменить разговор.
- Сколько я с тобой говорю, а имени твоего не знаю.
- Улита меня зовут, - вскинула она подбородок с ямочкой. - Улита! Запомни.
- У-ли-та, - медленно повторил он. - А я… я Род.
- Род? - не поняла она.
- Род, то есть Родислав.
- А порекло?[11]
Род смущённо потупился:
- Не крещён.
- Ха, презренный язычник! - возмутилась она. - И потому в лесу прячешься?
- Не прячусь, просто живу в лесу, - пробормотал он.
- В Красные села боишься нос показать - значит, прячешься, - очень просто объяснила она.
- А вот и не боюсь, - примирительно улыбнулся Род, - Сейчас отведу тебя домой. Ведь ты заблудилась. - И он взял её за руку.
- Не тронь мою руку, смерд! - приказала Улита и спорхнула с крутояра к самой воде, как будто у реки искала скорой заступы.
Род, следуя за ней, больше удивился, чем рассердился.
- Ты очень важная птица, да?
Девушка, хотя и была много ниже ростом, гордо глянула снизу вверх.
- Я дочь боярина Кучки!
Род слышал о таком, знал, что село Кучково да и все Красные села - его владения. Но решил не ударить лицом в грязь перед боярышней.
- А вот я сейчас проверю, боярская ли ты дочь.
Вынул из колчана стрелу, начертал на приречном песке: «Род + Улита=любовь». Она вырвала у него стрелу, изобразила свой ответ: «Поди прочь».
- По христианским книгам училась, - заметил он некоторую несхожесть в написании букв.
- Иной учится от книг, а иной от плутыг, - озорно прищурилась Улита.
- Ну-у, - усмехаясь, протянул Род, - мой учитель Богомил Соловей, новгородский волхв, не плутыга. Он и в Царьграде живал, и в Висби на Готланде у варяжских купцов. Все, что было и будет, ему ведомо.
Улита презрительно хмыкнула.
- Что было, всем учёным людям ведомо, а что будет, никто не знает.
- Он знает, - настаивал Род.
- Да-а? - Заядлая девчонка засверкала глазами. - А он тебе говорил, что будет… что будет… ну хотя бы через сто лет?
уничтожительная война. Легионы тысяч врага нападут на нас. Те, кто в живых останется, попадут в ярмо и вызволятся весьма не скоро.
- Ну и ведалец! - возмутилась Улита, - Матушка Ксения, у которой я обучалась в киевском монастыре, ничего подобного не говаривала. Любопытным она твердила: только Бог знает будущее!
- Не хотела тебя расстраивать, - догадался Род. И переменил разговор: - Никогда не был в Киеве. С Новгородом бы его сравнить.
Улита устремила мечтательный взгляд к багряному пиршеству заходящего солнца.
- Киев-град на красе стоит! - Но тут же тряхнула головой: - А наше Кучково мне всех городов милее.
- Вот и отведу тебя сейчас в ваше Кучково, - обрадовался предлогу Род.
Они поднялись на крутояр, на поляну. Улита неожиданно опустилась на палое бревно, на котором изначально сидела.
- Не пойду домой. Оставь меня здесь.
- Да ты что, объюродела? - стал терять терпение Род.
Улита долго молча смотрела на него, потом тихо сказала:
- Чтоб не считал меня сумасшедшей, я, так и быть, объясню: с мачехой у меня немирье. В нелюбках держим друг друга. Вчера решила: нет больше моей мочи, нет! Батюшка на её стороне. Братец мне не верит. А она всех, всех обманывает! Такая от неё зледь! И вижу её насквозь. И знаю: не будет мне никакой избавы. Ой как не люблю ягоды собирать, а пошла сегодня с домочадцами в лес. Такого задала стрекача! Остановилась, когда все крики затихли. Брела незнамо куда. В зыбель[12] попала. Хорошо, до куста дотянулась. Выбралась, мокрая, склизкая, и вправду русалка. Вот отмылась в реке, обсушилась на солнышке…
- Что же теперь с тобой делать? - вслух раздумывал Род.
- Иди, добрый юноша, своею дорогой, - со вздохом вымолвила Улита, - Я же отсюда никуда не пойду. Место красивое, мне здесь любо. Решила сгинуть в лесу - и погибну от голода. Вот уже день ничего не ем…
Род мигом извлёк из охотничьей торбы окорёнок сала с краюхой хлеба.
- Поешь.
Улита жадно поглядела и отвернулась.
- Убери с глаз долой. И уйди.
Юноша тяжело вздохнул.
- Ночь-то как в лесу одна проведёшь?
- Пусть меня звери съедят, - не дрогнула Улита. И вдруг призналась: - Только одного я очень боюсь: а если василиски прилетят?
- Кто? - переспросил Род.
- Нянька рассказывала: на втором от восхода солнца острове живут василиски. Лица и волосы у них девичьи, от пупов змеиные хоботы, а за спинами огромные крылья.
- Басни, - успокоил Род.
А сам вскинул палец, навострил слух, бросился на тропу, прянул ухом к земле…
Улита рывком поднялась с бревна. На Рода с мольбой смотрели большие зелёные глаза.
- Не бойся, - поднялся он, - Это не василиски. Просто услышал, два всадника лесной тропой скачут. Кто знает, худые или добрые люди. Надо поберечься на всякий случай.
Он ловко и хорошо укрыл в зелени снятые долгари и охотничьи принадлежности, метко приглядел дерево с пышной кроной, с толстым сучком пониже. Не успела Улита опомниться, Род принял её под мышку левой рукой, как кудовичок ржи, а правой ухватился, подпрыгнув, за нижний сук и, впиваясь босыми ступнями в ствол, вознёсся со своей ношей в густоту кроны.
Прочно устроившись в лапах дерева, он посадил девушку на колени и вынужден был прижать к себе. Наливная девичья щека ненароком коснулась его губ. От такого прикосновения у юноши, лишь издали наблюдавшего женский пол, перехватило дыхание.
- Лазаешь, аки пардус, - похвалила Улита.
Спокойствие, с каким это было сказано, успокоило и его. Будучи с Богомилом в гостях у новгородского купца, он видел на широкой лавке барсову шкуру, и теперешнее сравнение польстило ему.
- Ты меня не боишься? - попытался пошутить Род.
Улита, отстранясь, рассмеялась ему в лицо.
- А чего бояться? Ты же меня не подевичишь на дереве?
- Болтаешь, как девка-дуравка, - сразу же рассердился Род. - Мне ли тебя девичьей чести лишать? Дите неразумное.
- Это я дите? - взбунтовалась в его объятьях Улита. - Голоус недоспелый! Мне уж тринадцать минуло.
Род готов был расхохотаться.
- О! Заневестилась! А и на землю спустимся, я на тебя посяга[13] не допущу. Я ведь - презренный смерд, ты - боярышня.
Топот копыт и грубая речь раздались внизу.
- Замри и молчи, - велел Род.
Тринадцатилетняя невеста покорно замерла в его объятьях, а молчать не смогла.
- Знаю, что ты не смерд, - обжёг его ухо горячий шёпот, - только кто ты, пока не знаю.
Двое всадников, вооружённых, как княжьи отроки перед боем, остановились под деревом.
- Где эта лярва[14] Бараксак? - пропищал один из них. - Попади он мне в руки, всю бы змиевину с гада содрал.
- Прочесали лес вдолжки и вширки, а проклятым булгарином и не пахнет, - отозвался скрипучий голос.
- Не ропщи, Лухман[15], - приказал писклявый. - Раз атаману ведомо, что Бараксак где-то тут, стало быть, ищи.
- Уж к Невзору лучше возвращаться мёртвым, чем пустым, - ворчал тот, что прозвищем Лухман. - Да ведь ночь входит в лес. Ночью одни совы видят.
- Доберёмся до Красных сел, - понужнул коня спутник Лухмана. - Нутром чую: он где-то там.
Едва топот стих, Род соскользнул на нижнюю ветвь, пересадил к себе Улиту и таким образом стал спускаться вниз. Став на землю, протянул руки.
- Падай на меня. Не страшись.
Она, неловко примерившись, качнула головой. Потом вцепилась в ветку, спустила ноги и, повиснув, зажмурилась.
- Ой!.. - Оказавшись на земле в объятиях Рода, забилась пойманной птицей: - Отпусти немедля!
Тут-то его власть и окончилась. Так спешно отпустил, что девушка едва устояла на ногах.
- Кто это? - выдохнула она.
- Бродники, - нахмурился Род.
- Бродники? - не поняла Улита.
- Ну, крадёжники из бродячей шайки. Кого-то скрадывают в лесу.
Он вступился в долгари, закинул лук за спину, повесил колчан на правый бок, подхватил охотничью торбу и деловито велел:
- Идём. У меня под береговым тальником каюк спрятан. Отплывём без промешки. Они могут воротиться.
Долблёный однодеревый вятский каюк едва вместил Рода и Улиту.
- Этих бродников я больше, чем посинильцев, боюсь, - призналась покорная своему избавителю беглянка.
- Каких ещё посинильцев? - поинтересовался Род.
- Ну, мертвяков-утопленников, - удивилась его незнанию девушка, - Посинильцы ходят ночами по речным берегам… Что так смотришь?.. А говоришь, лесной житель!
Род мотнул головой, оттолкнулся единственным веслом, и река ласково замурлыкала под кормой.
2
Серебряная июньская ночь уже накрыла и лес, и реку. Путешественники, занятые собой, не заметили исчезновения дня. А он в пору самого долгого солнцестояния и впрямь исчезал незаметно. Теперь оба глянули вверх.
- Звёздный хоровод! - восхитилась Улита.
- Небо открылось для смотрин, - поддержал её восхищение Род. - Зодии совершают беги небесные…
Он стал рассказывать о двенадцати созвездиях зодиака. Звездословцы нарекли их именами зодий, то есть животных: Овен, Лев, Скорпия, Коркин[16], Водолей… Каждому месяцу - своё.
- Вот ты, Улита, в каком месяце родилась? - спросил Род. - Мой месяц - березозоль. Значит, я Овен. А твой месяц?..
Улита взглянула на него с крайним неодобрением. И вместо ответа спросила:
- А Водолей - животное?
Род растерялся и не нашёл ответа.
- То-то! - назидательно изрекла она. - Все это кощуны. Греховные слова, шутовство и вздор. В «Послании к Филофею» сказано: о двенадцати зодиях и о злых или добрых часах рождения человека, то есть в которую звезду кто родился, - все это суть кощуны и басни. Понял? - И, не дождавшись ответа, приговорила: - Овен ты овен и есть.
Каюк почти неслышно скользил по свинцовой воде. Тяжело греблось вверх по течению. И ещё заботила мысль: где причалить? Никогда не ходил он на каюке выше тех сосен, в которых нашёл Улиту. А как войти с ней в Кучково, нарушив запрет Букала?
- Куда мы плывём? - прервал его мысли подозрительный вопрос.
- Я доставлю тебя домой, - пообещал Род.
- Кто об этом просил? - изумилась Улита.
- Это мой долг.
- Ты слышал: я не хочу… Не надо!.. Не смей! - молила и приказывала она.
Род продолжал грести, думая о своём.
- Мало ли что не хочешь…
Вдруг Улита - вот уж чего он не ожидал! - вскочила кошкой и, если бы Род мгновенно не ухватил её за ноги, бросилась бы в воду. Во всяком случае, таковы были её явные устремления. Потеряв опору, она плюхнулась на дно, едва не перевернув каюк. Просто чудом удалось выровнять мелкое, неостойчивое судно.
Улита бурно ревела, сжавшись в комок. Род всей душой пожалел её:
- Ну зачем ты так рюмишь?[17] Ну, успокойся. Разве я хотел тебе худа? А ведь утопла бы…
- Плаваю, как рыба, - выпалила она сквозь рыдания.
Каюк вертелся на одном месте. Улита утёрла слезы концами своего лепеста, села, выпрямившись, и, как истая боярышня, приказала:
- Поворачивай лодку вспять!
Род сразу повиновался, чтобы строптивица не повторила своего отчаянного поступка. Каюк, как лошадь в родное стойло, помчался вниз по течению. И это подсказало юноше трудное, но единственное решение. Не бросать же сумасбродку в лесу… Конечно, Букал не обрадуется чужой гостье, да к тому же Кучковой дочке. Придётся принять на себя его укоризны.
- Куда мы плывём? - опять засомневалась Улита.
- Домой, - сказал Род и тут же испуганно пояснил, встретившись с ней глазами: - Не к тебе, а ко мне.
- Где твой дом? - допрашивала она.
- На реке Быстрице да в подвязье[18] на глушице[19].
На сей раз беглянка угомонилась и замолчала надолго.
Если днём бог Ярило обходил южный край земли, держа голову высоко и гордо, то в краткую июньскую ночь, не покидая планеты, прятал лик за окоёмом. Лишь белый нимб его зримо двигался северной стороной, пугая тьму.
Лодка ткнулась в низкий пойменный подберег. Оттащив каюк подалее от воды, Род подхватил на руки Улиту, чтобы не замочила дорогих башмаков.
- Планощь, - объявил он о наступлении полночи.
Девушка обвила его шею, как в сладкий миг, когда оба укрылись на дереве.
- Откуда знаешь, что сейчас планощь? А пладень как узнаешь? - ворковала она.
- Планощь - по звёздам, пладень - по солнцу, - робко пояснил он, опасаясь обвинения в новой кощуне.
Они поднялись на высокий коренной берег, взметнувший сосны к самому небу.
- Был бы ты познатней, - пошутила Улита, опускаясь на землю, - я бы стала твоей подружней.
- Очень уж злая ты, - простодушно ответил он на девичью шутку. - Лучше железо варить, чем со злою женою жить.
Она резко обернулась, но промолчала, только насупилась.
Род тут же пожалел о своих словах. Искал, как сгладить оплошку. Улита очень кстати помогла ему:
- Такое главоболие, мочи нет! - остановилась она, прижав ладони к вискам.
- Это от голода, - догадался Род. - Ты весь день не ела! - и полез в свою торбу, - Сейчас достану естьё…
Улита, видимо, ещё и не думала сменить гнев на милость.
- Хочешь показать свою доброту? - неприязненно отступила она, - Ты слишком добр для мужа, а я для подружии слишком зла. Вот и ешь один!
И бросилась в чащу. Род, сокрушаясь, что беглянка много натерпелась за день и теперь не в себе, поспешил вслед за ней. Бегуньей боярышня оказалась изрядной. Только у большой поляны удалось её настичь. Да и на поляну она выскочила первая.
- Смотри! - внезапно вскинула руку девушка.
Он взглянул по направлению её пальца и увидел в дальнем конце поляны розовый цвет, будто солнце сквозь ночь ясный взгляд уронило на этот маленький кусочек земли. Все краски вокруг пригашены, все будто синей кисеёй покрыто, лишь у самого края - розовая прореха в кисее…
Род озарённо воскликнул:
- Разрыв-трава!
И тут же в голову пришло, что нынче необычная планощь. Это полночь в канун Ивана Купалы. И оба они так счастливо попали на заветное место! Прежде тысячу раз этой поляной ходил. Посветлу и потемну. В голову не могло прийти, что вон в том дальнем углу, в подвязье… как раз и может быть… Он ринулся на розовый цвет, срывая рубаху на бегу, оставляя по пути долгари, чтобы взять волшебную разрыв-траву босым и полунагим, иначе в руки не дастся.
Улита камешком из пращи пролетела мимо, тоже без рубашки и босиком.
Оба, прянув на землю, упоительно запустили пальцы в призрачное растение. А трава-прыгун, травка - не-тронь-меня так и норовила ускользнуть из-под рук.
- Скорей, скорей! - зашептала девушка. - Разрыв-трава держит цвет не долее, чем успеешь «Отче наш», «Богородицу» и «Верую» прочитать.
Род не слышал об «Отче наш», «Богородице» и «Верую», но спешил, тоже зная о краткой жизни сказочного цветка.
Цвет погас внезапно. Счастливцы успели! Улита стояла, сладостно прижимая свежее зелье к обнажённой груди, сама как молочно-восковой цветок. Род смущённо отводил от неё глаза, бережно держа в ладони колкую травку.
- Замки и запоры от разрыв-травы распадаются, клады даются, - возбуждённо шептала Улита.
- Если в кузницу её бросить, кузнец не сможет работать, - припомнил Род.
Соединив свою добычу, укутав её в лепест с Улитиной головы, оба оделись и перевели дух.
- Дальше нас ждёт непутьма[20], - вздохнул Род. - Понесу тебя в заболотье. Я нитечку знаю. Буду твоим ношатаем…
- Ты сильный, - доверчиво вымолвила Улита. - Нынче испытала, какой ты сильный.
- Букал называет богатырём, - не утерпев, похвалился Род.
- Кто такой Букал?
- Там увидишь…
Уже привычно он подхватил на руки свою найдёну и погрузил непромокаемые долгари в густую на вид, страшную темной неподвижностью воду.
Болото встретило их лягушачьим полногласием. Чем дальше, тем становилось тише. Только пузыри взбулькивали то там, то сям, словно болотная утроба дышала, почмокивая во сне многочисленными губами.
- Род, мне страшно, - прижалась к его груди Улита.
- Ничего. Ты доверься. Я нитечку знаю.
Двигался он неспоро, хотя уверенно. Впереди, на востоке, нимб над макушкой бога Ярила стал наливаться огнём.
- А вдруг все это нам померещилось? - закрыла глаза Улита.
- Что померещилось?
- Разрыв-трава, розовый цвет…
Род не ответил. Он видел перед собой край болота, подступившего к подберезью, и согбенную длинную фигуру Букала, опершегося о суковатый посох.
- Идёт детинец, несёт гостинец, - гулко сказал старик.
3
Миг только глянули друг на друга Улита и старик - сплошь в морщинах. Улита - с насторожённостью волчонка, исподлобья, старик - с беркутовой цепкостью. У неё коса соломенная полурасплелась, у него - седые космы на глазах и на плечах. Улита молча уронила голову на грудь. Старик вскинул кулаки к лицу, глухо произнёс:
- Принёс голубу на свою погубу!
Отвернулся, зашагал первый. И, как бы подчёркивая страшные слова, заходил на нём длинный, вздувшийся на спине емурлак малинового сукна, обычно защищающий от дождя, а нынче, в ведреный день, видимо, служивший вторую службу: в этой одежде волхв совершал жертвоприношения. Род понял: моление было о нём, чтобы возвратился живым, невредимым.
Улита нехорошо покрутила пальцем у виска и спросила:
- Кто это?
Род вздохнул:
- Это и есть Букал.
Молча шли они за малиновым пятном, колеблющемся в серебре рассвета. Роду хотелось рассказать об испытанной Букаловой прозорливости, да не вовремя показалось заводить речь об этом.
А вот и лесная росчисть, Букалово новцо[21]. А посреди него - келья, сложенная из пластья[22]. Дверь распахнута. Чернота внутри. А из дверного верха вьющимся чубом - седой дым.
- Богомил Соловей затопил очаг, - пояснил Род своей спутнице.
Когда входил в избу, поддыменье[23] уже прошло. Огонь ярко пылал, освещая убогую обстановку - полати, скоблёный стол, лавки, поставцы для посуды.
- Дышать трудно, горло жжёт, - пожаловалась Улита.
- Не претерпев дымной горечи, тепла не увидишь, - откликнулся Букал.
У очага стоял маленький кряжистый человечек, весь лысый, лишь от висков седая каёмка. В правой руке он держал кочергу, левой сжимал клинышек бороды. Чёрное полукафтанье и блестящие сапоги выглядели щегольски в лесной глухомани. Впившись в Улиту щёлками глаз, он повёл рукой в красный угол:
- Милости просим, Улита Стефановна!
- Откуда ты меня знаешь? - отшатнулась девушка. - Я тебя не знаю.
Ведалец засмеялся заливистым певческим тенором.
- Мы для тебя - дресва[24] дорожная, а ты для нас - гостья именитая, сама боярышня Куцковна!
Он говорил как истый новгородец: вместо «ч» произносил «ц» и наоборот. Его выговор, видимо, развеселил Улиту.
- А, так ты в Красных сёлах бывал! - засмеялась она. - А я подумала, вправду ведалец… Должно быть, купец?
- Новгорочкий купеч Богомил Соловей, - гордо назвался обладатель приятного тенора. - Только в Красных сёлах отродясь не бывал. В Тьмутаракани бывал, в половечкую Шарукань попадал, даже в Цудь Заволочку меня заносило. А вот в Куцкове быть не сподобился. Хотел было мимо проехать…
- Ты, Соловей, гостью баснями не корми, - резко перебил хлопочущий у стола Букал. - Она как из дому сбежала, ещё крошки не держала во рту.
- Да откуда вам обоим все ведомо? - допытывалась Улита, усаживаясь за стол. Знала, что Род неотлучно был рядом и не мог старикам о ней рассказать.
Застолье оказалось скудным. Хозяин выставил миску посконной каши из жмыха, оставшегося после выбивки конопляного масла. Как ни была голодна боярышня, она лишь единожды погрузила в это хлёбово свою гостевую ложку, в отличие от других - расписную. Букалом это было замечено.
- Холщовая рубашка - не нагота, посконная каша - не голод, - наставительно молвил он.
Зато после каши, которую гостья не жаловала, выставил блинчатый каравай, а к нему по глиняной кружке кислощей[25].
- Нам, старцам, каравай на сыворотке, а вам, отроку с отроковицей, - молочный, в масле да в меду…
- Люблю кислощи! - пел тенором Соловей, отхлёбывая из кружки. - На нашей уличе Людогощей знатный кислошник Цкунка Исаев! Я ему в месяч рубль даю, чтобы мне кислощи приносил исправно.
- А Родислав сказал, - обратилась Улита к Соловью, - что ты изрядный видок, далеко в будущее заглядываешь.
Богомил, смутясь, не поторопился с ответом. За него ответил Букал:
- Я хоть и не далеко гляжу, близкое твоё предреку…
Улита резво устремила на него любопытный взор.
- Почивать ты скоро пойдёшь, - возвестил Букал. - Я на повети медвежью шкуру постлал. Дышится там легко, сено молодое, душистое… Пусть приснятся тебе батюшка, боярин Степан, да братец Яким. Небось сбились с ног, свою ненагляду ищучи.
Все встали из-за стола. Улита поискала глазами икону и не нашла. Привычно перекрестилась в пустой красный угол.
Выйдя на зады избы, где была лестница на поветь, гостья внезапно остановила взгляд на лесной опушке.
- Кто это там?
В подберезье чернел саженный кузнец, казавшийся ещё выше оттого, что стоял на широком пне. Правой рукой он поднимал молот, в левой держал железную полосу. Перед ним была чёрная наковальня с обгоревшими костями.
- Это наш бог Сварог, - смущённо пояснил Род, - Покровитель ремесла…
- А почему кости на наковальне? - испуганно недоумевала Улита.
- Это каменный жертвенник. Букал на рассвете ягнёнка на нём заклал, чтобы я вернулся подобру-поздорову.
Улита - чего уж он никак не мог ожидать - заплакала.
- Опять ты рюмишь! - расстроился Род.
- Как же мне не рюмить? - всхлипывала она. - Я попала в вертеп язычников!
Он помог девушке взобраться по лестнице на поветь.
- Не уходи, - попросила Улита. - Я побоюсь заснуть близко от чёрного кузнеца.
Пришлось присесть рядом. Она крепко держала его руку, уже прикрыв глаза. Златовласая овечка на бурой медвежьей шкуре…
- Ты должен креститься, - сонно вымолвила Улита. - Иначе какой меж нами посяг? Не сможешь стать моим мужем…
Когда она глубоко заснула, Род осторожно спустился с повети. Старики сидели за столом. Он развернул Улитин лепест с волшебным зельем.
- Вот… в самую планощь оба разом нашли…
Букал мудрым глазом определил:
- Разрыв-трава!
Богомил восторженно восклицал:
- Она!.. Она!..
- Скажи, всем ли приносит счастье разрыв-трава? - задумавшись, обратился к нему Букал.
- Цего не знаю, того не знаю, - отнекнулся Соловей.
- Будем оба просить Сварога, чтобы ей и ему помог, - сказал один старый волхв другому.
Юноша залез на полати и крепко заснул…
Низкое солнце окрасило багрянцем оконный пузырь, когда Род проснулся. Тихий разговор внизу у стола слышался на полатях явственно.
- Цто теперь станешь делать? - спрашивал Богомил.
- Поменяю своё обиталище, - ответил Букал, - Расчищу новцо за Куньим мхом, все туда перенесу. Мужики из Олешья помогут. Улита, как пить дать, отцу расскажет о нас. Сама кметей[26] не приведёт. Да они без неё начнут рыскать, не возрадуешься. Суздальский князь больно крут к нашей вере. Боярин ему потрафит. Хотя не терпит Кучка варяжскую кровь пришлого Мономашича, не желает быть его подданцем, а и пращурову веру не жалует. Ишь Кучковна какая истая христианка!
- Меняются времена! - вздохнул Соловей, - Предок его Вятко, как и древний вождь вятицей Ходота, верен был нашим исконным богам. А потомок Стефан Иваныц - поди ж ты! - гонит нас, аки лев. А ведь и он, и его Улита, как и ты с Родиславом, - вятици!
- Родислав не вятич, - вставил Букал.
- Ах, прости, из памяти вон, - спохватился Богомил, - Родинька не твой, он мой земляцёк. Хо-хо-хо…
Юноша вздрогнул и не поверил ушам. Вот так поворот разговора! Всегда считал себя как сын Букала природным вятичем, и вот поди ж ты! Решив, что неправильно понял сказанное и при случае разъяснит недоразумение, Род спустился с полатей.
Букал посмотрел на него сочувственно. Соловей тяжело вздохнул.
- Молили мы бога Сварога, чтобы беда, которую ты нашёл и принёс, покинула тебя, - мрачно сказал Букал, - Сварог наши мольбы отверг. Жертвенные кости сказали, что беда хотя и уйдёт, да не минет. Ты сам устремишься к ней на терзанья и муки. И умрёшь страшной, позорной смертью.
Род невозмутимо выслушал это чёрное пророчество. В хижине воцарилась вязкая тишина.
- Что мне вам сказать, и тебе, отец, и тебе, учитель? - наконец поднял голову юноша. - В таких случаях народ говорит одно: чему быть, того не миновать.
- Помозибо на добром слове, - поблагодарила она стариков по-христиански. Хотя им ближе было не современное «помози, Бог» («помозибо») или «спаси Бог» («спасибо»), а древнее «благодарствую».
Девушка задержалась глазами на мрачном Роде.
- Ты плохо спал…
- Круцина его гнетёт, - пояснил Соловей. - Завтра расставаться со своей ладой…
Улита, сразу закаменев лицом, подозрительно оглядела стариков и с вызовом обратилась к юноше:
- Как тебе это любится? Совет старейшин все за нас решил!
Букал поднялся из-за стола, отечески улыбаясь, подошёл к гостье.
- Волга тычет наполдни, Двина - на полунощье. Каждый идёт своею дорогой, милая. Завтра Богомил Соловей едет через Красные села в Новгород. У него с тобою попутье.
Улита выскочила из избы и побежала к болоту. Богомил с несвойственной его возрасту прытью заторопился следом.
- Отчаянная!- покачал головой Букал. - Да… толку-то!
- Почему ты сказал Соловью, будто я не вятич? - не выдержал Род.
- Ты не вятич, - повторил Букал, - Вот гостью проводим, все тебе открою. Пришла пора. Потерпи. Не тот час. Трудный долгий разговор.
Богомил привёл притихшую Улиту. Род вышел к ним. С болота потянуло вечерней сыростью. Старик юркнул в Букалову келью к теплу. Девушка опустилась на бревно у пустого кострища. Род присел рядом.
- Завтра вернусь домой, - сообщила она. - По батюшке стосковалась да и по братцу тоже.
- Как Соловей уговорил тебя? - полюбопытствовал Род.
- Он и не уговаривал, - поникла Улита, словно укрощённый огонь. - Он только погладил по голове. Просто я затосковала по дому. Вдруг как-то сразу… - Она задумалась.
- Так ведь дома мачеха! - вырвалось у юноши. И тут же он внутренне казнил себя за эти слова. Сколько сил приложили мудрые волхвы, дабы образумить беглянку, а он… как предатель! И в то же время представил: завтра лесная найдёна исчезнет из его жизни, перестанут наполнять его волненьем и трепетом исходящие от неё токи. Из себялюбия задал он бередящий вопрос. Она же отозвалась спокойно:
- Знаешь, что мне новгородский волхв на обратном пути предрёк? Он, оказывается, сегодня гадал на камнях. Узнал, что через три года я избавлюсь от мачехи. Только прибавил: очень тяжким будет для меня избавление. Лучше б не избавляться. Ну да я все беды перетерплю, лишь бы не было в нашей семье этой злицы.
Солнце удалилось в белую Заболотную хмарь и тлело в ней угольком в пепле.
- Завтра ждите неведрия[27], - сказал Букал, глядя на закат.
Они с Соловьём вышли из кельи и стояли рядком, такие внешне не схожие, - низкий с высоким, косматый с плешивым… А внутренне - как из одного воска отлитые в одной форме.
- Улита Стефановна! Родислав! - позвал Соловей. - Пожалуйте-ка сюда!
В избе на чистом столе темнела в развёрнутом Улитином лепесте разрыв-трава.
- Волшебное зелье ждёт вашего извола[28], - загадочно вымолвил Богомил. - Что загадаете найти? Серебро, дорогие каменья, рыбий зуб? Любой клад откроется. Надобно лишь задумать и заговорённое зелье выпить.
Счастливцы долго молчали. Волхвы пытливо поглядывали на них.
- Богатства не ищу, - твёрдо сказал Род. - Клад может скрываться и в земле, и здесь, - он постучал себя по лбу. - Пусть клад мне здесь и откроется.
- И тут? - подсказал Букал, приложив руку к сердцу. - Тут прячется не только любовь - иные сокровища, что пропадают втуне у многих смертных.
Род порывисто обнял самого близкого себе человека.
- Ты прав, отец.
- А цто нам доць боярская скажет? - прищурился Богомил.
Улита, видимо, ощущала себя участницей весёлого представления. В ночь под Ивана Купала в глухом лесу сказка, ставшая явью, взволновала её. Здесь же, в обычной курной избе за дощатым столом, где только что ели посконную кашу, велеречивые рассуждения о волшебной силе вялого пучка травы, лежащего на её лепесте, были просто смешны. Игра занимала девушку. Ишь как умно высказался Род! Ей хотелось не уступить. В гордо вскинутой головке, оттянутой тяжёлой косой, работали мысли, упражнённые киевским ученичеством.
- Родислав сказал верно, - повела она речь, как на уроке риторики, - клады могут скрывать не только земля, но и разум, и сердце. А я ещё прибавлю: судьба! Пусть судьба мне откроет клад. Хочу стать… - Она задумалась, как похлеще завершить игру. - Хочу стать великой княгиней!
В келье воцарилось безмолвие.
- Надобно развести огонь, - нарушил его Букал.
- Цто решила, то и решила, - хихикнул в маленькую бородку новгородский волхв.
Род вышел и вздул огонь на старом кострище, где они только что сидели на бревне с будущей великой княгиней. Богомил подвесил над жаром небольшой обоухий котёл. Скоро все четверо переместились к огню под звезды. Букал в утрешнем емурлаке стал чудодействовать над костром. Старательно разложил траву на некрашеном деревянном блюде. Потом руки его заработали быстро. Пучок за пучком кидалось зелье то в огонь…
- Разрыв-трава, в огне не сгори!
…то в кипящий котёл…
- Разрыв-трава, в кипятке не сварись!
Длинные сухие пальцы старика выхватывали пучки из костра и котла, сами не обжигались и не обваривались.
- Мужское сердце в пучину глядит… Женское чело под венцом горит… Разрыв-трава, одолей пучину… Разрыв-трава, поддержи венец… - заклинал он, бросая заговорённое зелье в бронзовую чашу с ключевой водой.
Вода в чаше зеленела и зеленела, доходя до яшмовой красоты. А старик тем временем что-то бормотал и бормотал все тише и тише. В конце концов слышалась какая-то невнятица. Потом он отряхнул ладони, пошёл мыть руки.
Богомил отцедил воду в чаше, разлил по кружкам. Вернувшийся Букал пошептал поочерёдно над каждой кружкой, не прикасаясь к ним, взглядывая то на Рода, то на Улиту.
- А теперь питье доведено доготова. Выпейте каждый своё до дна.
Род и Улита выпили.
- У-уй, горечь какая! - прослезилась боярышня.
Род не поморщился.
Букал ушёл в хижину.
- Пусть отдохнёт, муценик, - сказал Соловей. - Я пока приготовлю пиршество. А вы погуляйте.
Вчерашние путешественники пошли прочь от костра. Хмарь так быстро разрослась в небе, что ни звёзд, ни июньской светлоты на нём не осталось. Лишь север, как ни странно, стал самой яркой стороною света, не отдал туче свой серебряный пояс.
- К болоту не пойдём, - попросила Улита, - Там темь… К лесу тоже не пойдём, там кузнец… Постоим под этой ветлой. И укрой меня, я дрожу.
- Великая княгиня Улита Степановна, - задумчиво пробормотал Род.
Девушка тихо рассмеялась.
«И все между нами кончится», - хотел юноша продолжить, да лишь уста приоткрыл, сырой воздух заглотнул. Увидел, как в черноте над болотом белый туман сгущается, и не просто сгущается, встаёт сплошной простыней, а на простыне возникают цветные тени… все чётче, все зримее. Вот он увидел женщину на просторном богатом одре. Неухоженные слипшиеся волосы мокрой соломой размётаны по подушке. Слезы на больших одутловатых щеках. Чуть вздёрнутый нос заострился. Маленький треугольник губ чернеет, как кровля покосившейся кельи. Воспалённые зелёные глаза устремлены на него. Рука с указующим перстом тянется к нему… Род отшатнулся… и все исчезло. Надо же примерещиться такому!
- Пойдём скорее к костру, - потянул он Улиту.
Не заметив в нем перемены, она продолжала о своём:
- Хочу, чтобы сказка длилась сегодня как можно дольше. Мне видок Богомил пообещал заглянуть не на сто, а на триста лет вперёд. А если на пятьсот? - услаждал слух Рода мелодичный девичий лепет.
У костра - ни души. Старики хлопотали в избе у стола.
- Пиршество из двух перемен! - объявил Богомил, - Первая - каша с осетрёю головизною, вторая - лапша с перчем, - Увидел поскучневшее личико Улиты и добавил: - А на запивки взвар квасной с изюмом да с пшеном, - и блаженно заулыбался, приметив оживление гостьи.
- Ты обещал мне вдаль веков нынче заглянуть, - напомнила за едой Улита.
Букал неодобрительно покачал головой. Соловей смешно сдвинул брови (он хмурился редко), однако сказал:
- Обещанное надобно отдавать…
- Может, гостья пожалеет тебя, простит обещанное? - попытал почву хозяин кельи.
Улита заупрямилась:
- Нет, не прощу! Сделай милость, Соловей, ты же обещал. Я, наверно, никогда к взаправдашним волхвам больше не попаду. Завтра ведь уеду… Как такое упустить?
- Вдругожды не попадёшь, - твёрдо предрёк Букал.
- Глупьём пообещал, - пробормотал Богомил, - Ладно, выполню, цто будет в измогу.
Он полез на полати, достал из своего подголовка ларец, извлёк оттуда склянку и вышел из избы.
- Что у него в склянке? - полюбопытствовала Улита.
- Каменный порошок, - неохотно сказал Букал.
Улита поспешила за Богомилом на воздух, следом за ней - Род.
Букал вышел последним и предупредил:
- Не приближайтесь к нему, пока я не велю.
Соловей осторожно помалу сыпал порошок в костёр и окутывался странным сиреневым дымом.
- Кто бел-горюч камень-алатырь изгложет, тот мой заговор переможет, - уже не обычным своим тенором, а чужим глуховатым голосом без родного выговора произносил волхв. - Тридцать три ворона несут тридцать три камня, бросают в огонь на триста лет, высекают три тысячи искр, кинут камень, подымут пёрышко, сами молчат, камни вопиют…
- Что он говорит? - тормошила Улита длинный рукав Букалова емурлака.
Букал молчал.
- Соловей мару на себя вызывает, - шёпотом пояснил Род, - Как мара на него найдёт, начнёт будущее видеть…
Волхв стоял у костра, простирая руки к огню, дыша обволакивавшим его дымом, багрянея лицом…
Букал подал знак, и они приблизились.
- Красные села - белый град! - будто не земным, горним голосом закричал Соловей. - Каменный детинец, златоглавый собор… Из собора митрополит шествует… Обочь - сам великий князь в золотой порамнице и порфире[29]… Столица! Столица!..
- Наше Кучково - столица? - не веря своим ушам, вымолвила Улита. И вдруг закричала: - А через пятьсот лет? Через пятьсот лет?
- Бросают в огонь на полтысячи лет! - трудно выговорил Богомил с лицом красной меди.
- Род, уведи гостью, - попросил Букал.
Она отскочила от вежливого прикосновения юноши.
- Христиане передрались! Христиане передрались! - радостно возопил Соловей. - Сами своего попа ведут на костёр…
Улита мотала головой, непроизвольно покачиваясь. Должно быть, и до неё добирался сиреневый дым, обволакивавший волхва.
- А через осьмсот лет? - требовательно простонала она.
- Уведи гостью, Род! - приказал Букал.
Обхватив девушку, как столбик, Род понёс её к келье.
У огня тем временем слышался рокот Богомила:
- Бросают в огонь… на осьмсот лет!- Слова тяжкими жерновами выкатывались из гортани провидца.
Обернувшись, увидел Род его почерневшее лицо.
- Короба, короба! - отчаянно оповестил Соловей, - Везде ульями - громадные короба!.. Над ними… плашмя… ветряки вверх крылами летают…
- Вздор. Наваждение. Так далеко он не видит, - сожалеючи, изрекла в лицо Роду уносимая им Улита, во все глаза продолжавшая наблюдать за Соловьём.
А тот уже рухнул как подкошенный. Букал подхватил его и тоже тащил к избе.
Род у порога отпустил девушку и помог уложить новгородского волхва на полати.
- Уморила старика! - досадовал Букал. - Очи бы мои не видали…
Род натаскал на поветь волчьих шкур для себя и гостьи. И оба улеглись по разным углам.
- Не серчай, Родинька, - виновато попросила Улита. - Я и вправду у вас объюродела. Как вернусь домой, так и побегу на исповедь. Долго мне теперь свои языческие грехи отмаливать. А ещё помолюсь, чтоб скорее тебя увидеть да окрестить в истинную веру. Станешь ты моим суженым…
- Князь станет твоим суженым, будущая великая княгиня, - напомнил Род.
- А, глумы это все, - отмахнулась Улита, - игры да забавы…
Род в возражение хотел молвить слово, но она задышала уже ровно и спокойно… Счастливица!
…Сон слетел с него лишь при третьем пении петуха. Род выглянул с повети. Шёл дождь-сыпуха. Сиротливым показалось юноше пустое мокрое новцо.
А в избе было тепло, сухо, в очаге - ещё жар. Но гостей след простыл. Лишь седые Букаловы космы свешивались с полатей.
- Хотел тебя добудиться, да Богомил запретил. Пожалел.
Очень уж хладнокровно говорил Букал. Он-то попрощался с гостями. Род не простился. Грудь горела обидой. Боясь хоть намёком обнаружить строптивость перед отцом, юноша промолчал.
- Не кручинься, - досказал проницательный Букал. - Не простясь, поскорее встретишься. Такова примета.
4
Вресень[30] Род с Букалом встретили в новой келье. Два месяца ушло на перезахоронение их тайного обиталища. Мужики из Олешья таскали пластьё на плечах, чтобы не колеить леса, не торить просек. Сосновые бревна были ещё крепки, и хижину собрали почти без подмена. Потемневший от времени деревянный Сварог на расчищенном новце занял подобающее место. Лучший ягнёнок был заклан на его жертвеннике, дабы оберег покровитель своих отшельников от нежданных гостей.
Наконец мужики ушли. Род остался наедине с Букал ом. Оба отдыхали на новых полатях от двухмесячных трудов, освещаемые жаром очага.
- Богомил, должно быть, уже вот так же отдыхает в новгородских хоромах на своей Людогощей улице после дальнего пути, - предположил Род.
Букал, не ответив, спустился с полатей, зажёг светец на столе, и в келье запахло изгарью[31].
- Сойди ко мне, Родислав, - велел он.
Род, не ведая причины такой торжественности, сошёл к столу.
Подёрнулся пеплом жар в очаге. В избяном полумраке только лица их выделялись, окрашенные светцом.
- А Улиту прочат за великого князя, - с напускной шутливостью продолжил Род.
Морщины на Букаловом лице потеснились в стороны, обнажая старческую улыбку.
- Не хитри. Кучковна занозой в тебе сидит. С глаз долой и из сердца вон - тут не скажешь. А великой княгиней станет она, да нескоро.
Букал замолчал, устремив выцветшие глаза к источающему каменный жар очагу. Потом повернулся к Роду сухим лицом, погрузил вихрастое седое чело в узловатые пальцы.
- Что же до Соловья… Не отдыхает он в своём терему на Людогощей улице. Отдыхает он на дне Волхова с камнем на ногах.
Род впервые не поверил волхву. Показалось, что старик бредит.
- Верь не верь, - продолжал Букал. - А я видел: сбросили его с моста, как Перуна полтораста лет назад сбрасывали. Тогда люди кричали своему богу: «Выдибай! Выдибай!..» И он выплыл. А княжьи кмети привязали ему камень к ногам, и бог утонул.
- Нет, - тряхнул головою Род. - Не могу поверить в Богомилову гибель. Знаю, ты многое видел верно. А на этот раз не неволь, не верю.
- Вижу я человеческие судьбы, - ещё ниже опустил голову Букал. - И тебе своё видение с разрыв- травой передал. Прости, тяжкий это клад. Хотя должен кому-то передать. Кроме тебя, некому. Все чужие судьбы можешь знать, только не свою.
Род смотрел на волхва с испугом.
- Зачем? Зачем же ты сделал это?
Букал встал, обошёл стол, возложил тяжёлые руки на голову дрожащего юноши.
- Говорю, стар я стал. Не могу этот клад унести с собой. - И поскольку Род молчал, старик присел рядом, обнял его, тихо продолжал говорить: - А не веришь - не верь. Не надо неволить в вере. Вера - потаённое чувство, никому не подвластное. Когда тебя и на свете не было, я, как калика перехожая, совершил странствие в Киев. Вздумалось глянуть на чудеса Ярославовой столицы.
- Ярославовой? - переспросил Род. - Ярослав княжил лет этак сто назад!
- Значит, мне сто лет. - И морщины на Букаловом лице вновь потеснились. - Дело не в летах, а в событиях. Между Киевом и Берестовом встретил я пещерного жителя. Гурий Мудрой его прозывали. Вот уж вправду мудрой! Отшельник, как и я, но христианин. Когда расстались, во мне созрело сомнение: а не разумнее ли верить в единого Бога, нежели во многих? Один князь - государство живёт в доволе, много князей, как у нас, - ссоры да которы и всем погуба. Едва моим погрузником не стал этот Гурий Мудрой.
- Кем? - не понял Род.
- Ну, едва не крестил меня погружением в воду, как принято у христиан. Настолько я проникся его мыслями. Однако сам же он велел: «Не торопись. Укрепись!» Вернулся в Ростов Великий, а там как начали обращать в греческую веру мечом да костром! И ушёл я, строптивый, в муромские леса. Не терплю насилья. Сам обрёк себя измёту[32]. А когда и в ту дебрь добрались князья, пришлось в здешних местах спасаться. Одичал. Жизнь - хуже волчьей. У волков семьи есть.
- Разве мы с тобой - не семья, отец? - спросил Род.
Букал не ответил. Принёс из подклети чёрствого житного квасу[33], разлил по кружкам.
- Я все гадаю, отчего Богомил погиб. Думаю, не за веру. У них там, в Новгороде, вечная подирушка между княжеской стороной и боярством.
Род, так и не поверивший в последнее Букалово прозрение, повторил:
- Разве мы с тобой - не семья, отец?
Букал потерял волю над собой, закричал страдальчески:
- Я тебе не отец! Люблю пуще сына. Но я тебе не отец!
Род поднялся. Встали друг перед другом старость и юность. Одного роста. Похожие, как два ясеня. Только один сухой, другой свежий.
- Как же так? - слишком уж спокойно спросил Род, - Кто же мой отец?
- Твой отец новгородский боярин Гюрята Рогович из рода Жилотугов. Когда эти земли были ещё собственностью Господина Великого Новгорода, вече пожаловало одного из своих лучших людей вотчиной в здешних местах. Часть Красных сел построена Жилотугом. Сущёво стало его родовым селом. Род Жилотугов пресёкся бы, если б не ты. Ночные тати вырезали семью Гюряты. Нянька Офимка скрылась с тобой в лес. Тут я её и встретил. Сам допрежь в Красные села носа не совал. Как воздвиг терем на Боровицком холме Суздальский князь Гюргий, мне так очень опасно стало. В мещёрском Олешье жила Офимкина мать, известная травница. Через неё с девкой связывался. Узнал, что неведомые люди пытали её о твоей судьбе. Сказала, умер без материнского молока. А я выкормил тебя овечьим. Настрого велела Офимка скрывать, что ты жив. Вот и скрывал до поры. Теперь пора наступила, сам распоряжайся своей судьбой.
Род молча смотрел на старика. Или опять не верил, или не находил слов.
Букал ушёл в дальний угол, открыл свой жреческий ларь, до коего чужого прикосновения не допускал, принёс тряпицу, бережно развернул на столе, протянул Роду ладанку на серебряной цепке. Род в неверных пальцах раскрыл её, увидел маленький кипарисовый крестик и перстень-печатку. На перстне различались две буквицы - глаголь и рцы. Юноша догадался: «Гюрята Рогович».
- Кто же эти ночные тати, что порешили моих родных?
Букал развёл руками.
- Не ведомо. Ни мне, ни самой Офимке. Хотя она передавала через мать, что с Суздальским князем у Гюряты несогласица вышла.
- Кто ж завладел батюшкиной вотчиной?
- Гюргий пожаловал её Кучке. Как слышно, Кучка теперь и владеет… - вздохнул Букал.
Род более ни о чём не спрашивал.
В тот вечер он против обыкновения не пошёл с волхвом на моляну к деревянному идолу Сварога. Старик молился один. Чего он просил у чёрного кузнеца?
Спозаранку Род отправился к речке Паже проверить морды, что ставил на судака. Новая речка - новая рыба. Вместо судака щука в плетёнке мечется - ни взад, ни вперёд. На старом месте щук было меньше, там рыба водилась породистее. Род набил суму, спустил ноги с крутого берега, пусть на солнце погреются после остуденевшей воды.
Шорох, стрёкот, рыбьи всплески… Родные звуки после трёхлетнего тарахтенья колёс по бревенчатой новгородской мостовой, гуда колоколов, гомона толпы. Он представил себе бесконечность съестных возов на Людогощей улице вблизи рыбных, мясных, овощных рядов. Откроешь косящатое слюдяное оконце, и через твою верхнюю светёлку по всем горницам Богомилова жилья текут луковые, говяжьи, стерляжьи запахи. Нет ни леса, ни реки. Он снова в этих хоромах. Но оконце его разбито. Исчез древний Богомилов сундук, на котором любил он рассматривать золотой змеец[34] по чёрному глянцу. Горницы пусты. Исчезли с широких лавок ковры, затканные феями и лебедями, муравлёная[35] посуда с поставцов. Чужие люди гуляют по переходам. Крадёжники! Нет хозяина. Все успели унести. Не единожды побывали. Не иначе, это бесхозный дом.
Род тряхнул головой, подхватил торбу с бьющейся рыбой, споро зашагал к новому Букалову убежищу.
- Отец, дозволь взять каюк. Хочу побывать в Сущёве.
- Все так, все так, - закивал седыми космами Букал. - Каюк-то бери. Новый выдолблю. Делом время скоротаю.
- Вот ещё! - возразил Род, - Я сберегу каюк. Узнаю все о своих родных и - обратно.
- Обратного хода тебе больше нет, Родислав, - излишне торжественно провозгласил Букал. - Ну да что ж - судьба!
До вечера он помогал своему питомцу приводить в порядок путевую одежду, готовил съестное в дорогу. Ночь беспокойно проворочался на полатях. А утром робко спросил:
- Разрешишь от беды уберечь?
Род знал его обычай, покорно присел на лавку. Волхв возложил руки на его чело.
- Заговариваю отрока Родислава, своего любезного молодца, от мужика-колдуна, от ворона-каркуна, от бабы-колдуньи, от сглаза старца и старицы, о сбережении в дороге крепко-накрепко, на всю жизнь. Кто с луга всю траву выщиплет и насытится, из реки воду выпьет и не взалкает, тот бы моё слово не превозмог, мой заговор не расторг. Кто из злых людей его обзорчит и опризорит, околдует и испрокудит, у того бы глаза изо лба выворотило в затылок, а моему любезному молодцу - путь и дороженька, доброе здоровье на разлуке всей.
Старик отряхнул ладони и вымыл руки.
- Ты так говоришь, будто навек со мною прощаешься, - расстроился Род.
- Навек не навек, а сердце подсказывает: прощаюсь! - неопределённо сказал Букал.
Род по-сыновнему крепко обнял старика:
- Все же чувствую - мы увидимся!
- Помоги, Сварог, - пробормотал волхв, когда юноша уже зашагал вглубь леса. Внезапно Букал побежал за ним. - Постой! Ещё чуть-чуть задержись, - Когда вновь сошлись, он велел: - Склони голову, - И едва слышно зашептал: - За дальними горами океан-море железное, на том море столб медный, на столбе пастух чугунный от земли до неба, от востока до запада завещает и заповедует своим детям - железу, укладу, булату красному и синему, стали, меди, свинцу, олову, серебру, золоту, каменьям, пращам и стрелам, борцам и кулачным бойцам: подите вы, железо, каменья и свинец, в сыру землю от отрока Родислава, а дерево - к берегу, а перья - в птицу, а птица - в небо, а клей - в рыбу, а рыба - в море, сокройтесь от отрока Родислава. И велит он топору, ножу, рогатине, кинжалу, пращам, стрелам, борцам и кулачным бойцам быть тихими, смирными. И велит не давать стреливать всякому ратоборцу из пращи, схватить у луков тетивы, бросить стрелы на землю. А будет тело отрока Родислава камнем и булатом, платье и шапка - кольчугой и шлемом. Замыкаю свои словеса замками, бросаю ключи под бел-горюч камень. А как под замком смычи крепки, так мои словеса крепки! - Выдохнув напряжение, волхв сказал: - Теперь все. Иди!
Род про себя отметил, что, провожая в Новгород, Букал от оружия его не заговаривал, только от беды. Теперь же будто на поле брани отправлял. И впервые холодно в груди стало, как у Аники-воина перед битвой с полчищами врагов.
Уже у самого подберезья Род обернулся. Хотя в голове держал мысль о скором возврате, сердце толкнуло бросить прощальный взгляд на Букалово новцо… Оно было пустым. Конечно, старик после заговора по своему обыкновению удалился мыть руки.
ДВОЕПУПИЕ.
1
О близости Красных сел свидетельствовало количество судов на реке. Оно резко возросло, когда лес на левом берегу исчез и остался лишь по правую руку, а слева потянулись бесконечные пойменные луга. Роду приходилось творить чудеса изворотливости, чтобы его скорлупочный каюк не попал под высокие борта парусной лойвы или спускавшихся вниз по течению длинных дощаников, гружёных насадов, коломенок, стругов.
А вот и справа вместо леса курные избы спрятались за глухими тынами, поднялись терема с высокими закоморами[36], по дощатому настилу мужики катят берегом смоляные бочки, ведут в поводу ломовых коней с тяжкими возами, а вон и обрисованный Букалом Боровицкий холм обрывами спускается к реке. Острый конец вдаётся в неё многолюдным лабазным подолом и дубовым причалом. Над тесовыми и соломенными хребтами изб вознёс руку к небу бревенчатый христианский храм. А на Боровицком холме виднеется колокольня повыше. В Господине Великом Новгороде у волховского причала судов поболе, храмины повеличественнее. Однако и здешняя суета, как в потревоженном муравейнике, тоже полонит очи.
Род причалил к берегу, не доходя пристани. Нашёл местечко посвободней и потише и мёртвым узлом привязал свой каюк к прибрежной свае.
Выйдя на бережной настил, огляделся: куда направить стопы? В Сущёве травницу Офимку искать не след: по сведениям Букал а, она бежала оттуда после убийства семьи Гюряты да и не одно место переменила с тех пор.
И ещё важного не придумал Род: на кого оставить каюк? Не днём, так ночью уведут. Тут нужна надёжная сторожа. К кому обратиться? Сколько возьмут? А у него зашита в платье всего гривна кун[37]. Хотя по новгородским ценам жеребца купить можно, а по здешним-то много ли?
- Впервой в наших палестинах? - прозвучал за спиной приятный мужской голос.
Род, оборотясь, увидел ничем особым не примечательного мужичка средних лет, одетого прилично, но просто. Скорее всего, торговец, не хозяин, а приказчик.
- Откуда же ты, такой симпатичный вьюнош?
- Издалека, - уклончиво сказал Род.
- Ну, видно, в твоём далёке подобного многолюдья не водится. А здесь чем не Вавилон? Вот тебя и ошеломило. И то сказать: гостей со всех волостей! Хвалынским морем везут товары персияне, аравийцы, даже индусы, Чермным морем - гречники[38]. Что с Волги попадает в нашу реку Мосткву…
- На Рязанщине её по-старому - Смородиной называют, - вставил Род.
- А у нас по-новому - Мостква! Гляди, мостков сколько! Малых и больших, постоянных и временных, - широко повёл рукой словоохотливый незнакомец. - Так вот от нас посуху, реками да Варяжским морем доходит товар до острова Готланда, до города Висби, там у наших свой храм и своя торговля.
- У наших, то есть у новгородцев? - прищурился Род.
Любитель прихвастнуть понимающе подмигнул.
- А ты, видать, бывалец!
- В Новгороде бывал, - сказал Род.
- Ну и здесь побывай, - гостеприимно распахнул руки незнакомец, будто все окрестности принадлежали ему.
Роду эта мешкотная болтовня стала в тягость. Он уж подумывал, как бы откланяться да идти своею дорогой, хотя дороги-то своей ещё и не знал. Не попытать ли всезнающего красносельца о здешних травницах да былицах-кудесницах? Решая, довериться ему или нет, он бросил взгляд на реку, и кровь прилила к груди.
- Каюк! - отчаянно возопил Род.
- Кому каюк? - спросил незнакомец.
- Мой каюк увели! Вон уже на середине реки… Это же мой каюк!
- Ах, паскуды! - искренне возмутился незнакомец. - Добро твоё там осталось?
Мужественный Род чуть не плакал от презрения к себе за нечаянное ротозейство.
- Да разве бы добро я оставил?
- А где же твоё добро?
- Что порт - все на мне, что кун - все в калите, - простосердечно признался Род.
- Ну тогда не беда, - успокоил знаток реки Мостквы, - Купишь новый каюк, отдашь гривну кун.
- У меня всего гривна кун, - опять-таки чистосердечно признался Род.
- В таком разе дозволь угостить тебя, - предложил незнакомец, - Вот сейчас поднимемся по улице Великой на площадь, там в харчевом ряду харчевни вдверяд стоят.
- Как звать-то тебя? - с отчаянья доверился ему Род.
- Я Дружинка Ильин, прозвищем Кисляк. А ты?
- Я Родислав Гюрятич, - Род впервые назвал своё непривычное истинное отчество с гордостью. Возможно, он был бы поосторожнее, ведь историю гибели Гюряты Роговича здесь многие могли знать. Да все мысли Рода занимала сейчас река, по которой зверобородый дневной тать угонял его каюк незнамо куда.
- О, Родислав Гюрятич! - восхищался между тем Дружинка Кисляк, - Весьма знатное имя! Полтора десятка лет тому, как правил у нас половиною Красных сел боярин Гюрята Рогович. Уж не родич ли твой?
- Отец! - не раздумывая, похвалился Род, все ещё скорбя об угнанном судне. Исчезновение каюка представлялось ему утерей единственной нити, связующей с Букаловым новцом. Людской мир - не лесной: гляди в оба! Однако, неприятности неприятностями, а следующие слова Дружинки заставили насторожиться.
- Вся семья Гюряты подверглась избою, - вслух размышлял Кисляк. - Стало быть, не вся? Каким же чудом ты спасся?
- Мал был. Не ведаю, - неохотно отозвался Род, все ещё переживая неудачу в свой первый день в Красных сёлах.
Они поднимались пыльной немощёной улицей. Её назвали Великой, видимо, не за длину, а за ширину. Площадь слышалась уже близко. За распахнутыми воротами во дворе мужики чинили телегу. Молодайки несли на коромыслах глиняные кувшины с водой и деревянные ведра.
Как-то странно Дружинка смотрел на Рода. Принял за самозванца? А, его дело. Много ли он знает о Гюряте Роговиче?
- Похож! - снова восхитился Кисляк. - Вот и усомнись, что сын!.. Нет, похож!
- Значит, ты лицезрел моего батюшку? - не поверил Род.
- Как тебя сейчас, - осклабился Дружинка.
- Кто его убил? Ночные тати? Крадёжники? - стал напрямую допрашивать Род. Этот с неба свалившийся первый встречный полюбился ему: ведь он знал отца!
- Тати? - усмехнулся Дружинка. - Разговоры были, что тати. Да разве шайка крадёжников взяла бы такой оплот, как боярская усадьба в Сущёве? Тут целый отряд нагрянул. Поговаривают: не княжеских ли кметей рук дело? Как не поверить? Меж князем Гюргием и боярином Гюрятой было немирье.
- А что ты ещё знаешь? - затаил дыхание Род.
На площади дымились костры, скворчали жаровни, котлы источали пар, желтели дубовыми боками в плетёных обручах куфы[39], откуда длинными резными черпаками извлекалась тягучая патока.
- Патока с имбирём! Кружку просим, семь берём!..
Рядом продавец блинов поливал горячий круг маслом из глиняной бутыли и тонким слоем распределял по нему опару.
- Лей, кубышка! Поливай, кубышка! Не жалей хозяйского добришка!..
Дружинку прежде всего потянуло к квасному ряду. Он жадно опорожнил полжбана и сладостно перевёл дух.
- Любишь квасок! - отметил Род.
- Ох, люблю! И житный, и медвяный, и яблочный, и яшный. Пил бы, да живота мало. И сладкий, и чёрствый… - Дружинка махнул рукой и кинул ещё две векши на мокрый прилавок. - Не зря Кисляком прозвали, - признался он, снова выпив и решительно отойдя. - Как стал я квасом почаще рот полоскать и ежесубботне грудь попаривать - поверишь ли? - дышу гораздо свободнее.
- А ты меня в Сущёво сопроводишь? - спросил Род.
- Хы, - все ещё всматривался в него Дружинка. - Нет, а ведь как похож! И каким образом уцелел? Расскажи-ка…
- Не знаю, что рассказать, - опасаясь назвать Букала, вёл щекотливый разговор Род. - Оказался в муромских лесах. Добрые люди вырастили, поставили на ноги…
С холма по площади под стать вечерней заре полился малиновый перезвон. Его тут же поддержала колокольня у пристани.
- Вечерня кончилась, - отметил Кисляк. - Внизу - у Николы Мокрого, на площади - у Пятницы… Большой праздник завтра!
- Какой праздник? - полюбопытствовал Род.
- Как это ты не знаешь? - изумился Кисляк. - А Вздвиженье? Неужто не знаешь?
Род смутился. Ведь он и в самом деле не знал. Чем объяснить?
За спиной рыночные торговцы наперебой предлагали птичий товар: голубь и курица - 9 кун, утка, гусь, журавль или лебедь - по 30 резаней. Кисляк ко всему приценивался.
- Хочешь к празднику гуся купить? - спросил Род.
- Гуся в Рождество едят. Неужто не знаешь? - ещё более изумился Дружинка. - А во Вздвиженье… Ты скажи-ка мне вот что…
«Сейчас спросит, какой веры», - догадался Род. Сам-то ишь как истово перекрестился, заслышав звон. По новгородскому опыту Роду было известно: нетерпимы к «поганым язычникам» те христиане, что любят напоказ выставлять свою набожность.
- А почему такая большая глота[40] собралась перед храмом? - перебил он Дружинку, чтобы сменить разговор.
- Выход боярского семейства любят смотреть, - пояснил Кисляк. - Давай-ка и мы притиснемся ближе. - И он ловко заработал локтями.
Когда боярская челядь стала осаживать толпу перед выходом господина, Рода оттёрли от Дружинки и он потерял его из виду. Решил, что отыщет после, сосредоточил внимание на распахнутых церковных дверях.
- Ежели Гюргий на Боровицком холме, Кучка молится в своей церкви на Чистых прудах, - отмечала навалившаяся на плечо Рода розоволикая баба в цветастом повое, - а ежели князя нет, ездит показаться народу к Пятнице. Знай наших!
- Двоевластие, как двоепупие, - уродство, и только, - откликнулся мужик позади неё.
Толпа разом колыхнулась. На паперть вышел боярин Кучка. Род понял это по богатой одежде.
- Опашень-то на Степане Иваныче, как на князе, весь зол от, с низаным кружевом и нашивкою! - восхитилась только что судачившая возле Родова плеча баба.
Внимание юноши больше привлекало лицо боярина, нежели наряд. Густой волос не по возрасту сед. Скулы так выпирают, будто глаза кулаки показывают. Улыбка в редкой бороде - яркогубым рассветом в сквозном березняке. Боярин кланялся по сторонам, приветствуя народ.
Следом за ним выступала черноглазая смуглая красавица. Не в здешнем вкусе была её излишне сочная красота, как южный приторный плод, и навязчиво бросалась в глаза. Портил её ястребиный тяжёлый взор.
Похвалу круглолицей соседки Рода заслужил яркий летник боярыни:
- Гляди-ка, жёлтая камка, а прошвы на ней - аксамит багрян! Ай да Амелфа Тимофевна!
Род вдруг так и просиял. Последней из боярской семьи в сопровождении двух девушек вышла его Улита. Не сразу её и узнаешь! Девичий повенец на закатном солнце смотрится короной. Платье, как и на мачехе, из кармазиновой камки ярко-красного цвета. Лицо надменное, как в тот первый миг, когда она глянула на него в лесу, вскочив в облике русалки с полёглого бревна. Его уж не отпугнёт Улитина надменность. Он впился глазами в боярышню и вновь, как на Букаловой повети рядом с ней, ощутил своё счастье. Улита бесстрастно оглядывала толпу, пока их взоры не встретились. Внезапно она всем телом подалась вперёд, пристально всмотрелась, закусив нижнюю губу, потом степенно приблизилась к отцу и что-то истиха произнесла, лёгким кивком указав на стоящего невдалеке Рода. Боярин обратился к свите. К нему с удивительной лёгкостью подскочил грузный пучеглазый здоровяк и тоже глянул в толпу. Все это длилось мгновения, в течение коих к паперти подоспела белая на подбор шестерня. Она и увезла боярскую семью в сопровождении конной обережи.
Род стал искать Дружинку в редеющей толпе. Крепкая рука легла ему на плечо. За спиной стоял один из челядинцев боярина, которого он только что видел в оцеплении перед толпой.
- Пойдём, парень.
- Куда? - спросил Род.
- Куда велено, - был краткий ответ.
Ещё несколько вооружённых людей обступили его. Подвели осёдланного коня. Дружинка как в воду канул.
Пришлось повиноваться.
Конная группа, миновав несколько улиц, поскакала по торной дороге бором, потом полем, только что опроставшимся от сжатой ржи. Сверкнул багряными красками обрамлённый вётлами длинный пруд. А за ним - высокие хоромы, увенчанные красными, как опрокинутые сердца, закоморами, опоясанные крытыми гульбищами, окружённые сосновыми службами под тесовыми кровлями, погребами-медушами, голубницами со стайками птиц. Подъезжавшие всадники застали ещё боярскую шестерню, остановившуюся у распахнутых ворот. Прибывшая из церкви досточтимая семья прошла пешком через двор, к крыльцу не подкатывала, ибо, как позже узнал Род, это почиталось неприличным.
2
Двое сопровождающих подвели Рода к служебной избе невдалеке от ворот.
- Сюда, что ли? - спросил один.
- Велено к Петроку Малому, - сказал второй.
Его ввели на половину избы об одном окне, пустую, как предбанник, с двумя лавками по стенам. Печь в стене лишь лицом выходила на эту половину, а боками и задом - на другую. Оттуда из-за чуть приотворенной двери журчал тихий разговор.
- Обожди тут, - велели Роду. - У боярского отрока[41] кто-то есть.
Род остался один. В тишине разговор за дверью слышался явственнее. Дверь тесовая, и стена тесовая, да тёс тонкий. Отдельные слова уловил бы каждый, а лесной охотник с острым слухом легко воспринимал всю речь.
- Ещё, - требовал сиповатый бас.
- Микифорка юродивый объявился, - ответствовал приятный мужской голос, до ужаса знакомый, только что слышанный, подпорченный разве что нотками угодливости, - Опять этот попрошатай станет в людях зыбёж подымать…
- Как опознать Микифорку? - спросил бас.
- Волосом рус, очи серы, на носу пестринки, - предательски доносил знакомый голос… Да это же Дружинка Кисляк!
Род как ужаленный вскочил, на цыпочках приблизился к стене, чтобы лучше слышать. За стеной после краткой тишины разговор возобновился:
- А ещё…
- Ещё Матфейко, съедник[42] из Стромыни. К княжескому тиуну приполз на тебя сутяжничать.
Известие сопроводилось подобострастным хихиканьем. Это был уже совсем не тот Кисляк, что у пристани.
- А не обознался ты?
- Куда уж! Приметы ведомы: в лицо пестроват, очи красно-серы…
- Ладно. Ещё…
- Ну вот ещё этот гость ваш нынешний. (Род затаил дыхание.) Гюрятин сын.
- Ты что мелешь! - возмутился бас, - Сам знаешь, Гюрятин сын умер без кормилицы двухдневным нехристем.
Ответом был неразборчивый шёпот Кисляка. Лишь последние слова прозвучали внятно:
- …Он на берег вышел, я глазам не поверил.
- Хы-хы, - презрительно надсмехнулся бас. - Чему ж поверил?
- Ему! - гулким шёпотом выдохнул Дружинка. - Допрежь на всякий случай дал знак паромщику Ждану увести его каюк, путь назад отрезать. А когда парень всю подноготную выложил, я даже возгордился своим чутьём.
- За чутье тебе и плата, - приговорил бас. - Однако надобно дотла[43] досочиться.
- Опять… Офимку? - едва распознал Род вопрос Кисляка.
- Иди. Повечер потолкуем. Вот тебе додаток… - Послышался звон монет.
Род притулился у двери, чтобы, распахнувшись, она его заслонила. Вознамерься Дружинка прикрыть за собою дверь, оба встретились бы нос к носу и не расстались так мирно, как в первый раз. Роду не приходилось выбирать. Он положился на судьбу, и та поступила милостиво. Дружинка не прикрыл за собою дверь. Это сделал его хозяин, и то не сразу, а когда Кисляк вышел из дому. Род ещё некоторое время постоял, незамеченный, потом вошёл в залу.
Вошёл к Петроку Малому уже не беспечный юноша, что несколько часов назад причаливал свой каюк у храма Николы Мокрого. Тогда он сравнивал здешние терема и толпы с волховской пристанью Великого Новгорода. Там побогаче, здесь победнее. Теперь понял: там вдоволь ротозейничай и дивись, а здесь тебя ведалец Богомил от беды за ручку не уведёт, здесь ты сам себе пестун. Занятный человеческий муравейник для Рода вдруг обернулся звериным лесом. Он на привычной опасной тропе. На сей раз не охотник, а дичь, которую скрадывают. Что ж, и в лесу случалось, когда не он за зверьём охотился, а зверь за ним. Не погубить надобно было, а не погибнуть. Однако сейчас он, кажется, в самом логове.
- Добро пожаловать, гостюшка!
Бас помягчал, сиповатость преобразилась в бархатность. Петрок Малой оказался тем самым пучеглазым верзилой, что на паперти подходил к боярину Кучке по его зову. Не иначе этот глазун и приказал доставить гостя к себе.
- Будь здрав, боярский отрок, - поклонился Род. - За что пойман я твоими кметями?
- Ты не пойман, Боже упаси, - осклабился Петрок. - Степан Иваныч повелел позвать тебя откушать, если твоё имя Родислав.
- Боярышня не обозналась, стало быть, - продолжал Малой, явно пропуская последние слова гостя мимо ушей, - Ты подлинный её спаситель, стало быть. А полным именем себя не назовёшь ли?
- Родислав Гюрятич Жилотуг к твоим услугам, - снова поклонился Род.
Глазун молчал. Не от нечего сказать, а как бы набирая вес последующим своим словам.
- Тебе, должно быть, ведомо, что в наших Красных сёлах известно имя Жилотуга, - начал он значительно. - Я лично знал боярина Гюряту. Назваться его сыном не так просто.
Род тоже помолчал. Это он умел, живя в лесу. Мясистый лик боярского оберегателя, хотя и был на вид непроницаем, при пытливом взгляде выдавал обеспокоенность. Что глазуна тревожило?
- Мне нет нужды, кем ты меня сочтёшь, - в конце концов ответил Род, - то ль самозванцем, то ль боярским сыном, - твоя воля. Доказывать своё происхождение я стану не тебе, а лишь боярину. Пойми!
- Ещё бы не понять, - с подчёркнутым смирением сказал Малой, поглядывая по-медвежьи на загадочного гостя, - Милости просим, стало быть, к боярскому столу.
- На мне не гостевой наряд, - заметил Род. - Ведь одевался не к застолью, к трудному пути. Одежда, сказать словом, рядовая.
Одежда в ряд не обобьёт пят, - повеселел Петрок, - Об этом мысли вон из головы. Однако, прежде чем тебя преобразить, хотелось бы узнать… Тут, к облегченью Рода, дверь открылась, и в залу вошла женщина, ещё недавно, видимо, красавица, не баба-челядинка, возможно, огнищанка[44] обедневшая, на вид уютная домашняя хозяюшка.
- Задерживаешь гостя, не успею обрядить, - произнесла она с порога, обратись к Малому. Не как к старшему по дому, а как к равному. И круглое спокойное лицо не выразило ничего на первый взгляд. Род скорее не зрением, а чувством уловил мельчайшее дрожанье подбородка. Оно выдавало глубоко спрятанный страх женщины перед Петроком.
- Мы ещё не добеседовали. Обожди, - велел Малой.
- А по-моему, беседа наша затянулась, боярский отрок, - счёл своевременным вмешаться Род. Глазун закаменел лицом. Гость же сказал, оборотясь к вошедшей: - Я готов идти.
И женщина послушала его, а не Петрока.
- Пойдём, любезный!
Одной из боковых дверей вошли в боярские хоромы. Из долгих низких переходов он попал в истобку[45] с изразцовой печью. Солнце, уходя, ещё бросало сквозь слюдяные разноцветные оконницы красные, зелёные и фиолетовые блики на скоблёный пол.
- Вот твоя одрина[46], - показала женщина, - здесь не прибрано ещё. Пока откушаешь, все будет попригожу.
Растворив окно, она впустила свежесть с огорода.
За необобранными яблонями услаждающе смотрелась прудяная гладь. Галочий вечерний грай и птичий свист наполнили обитель Рода. Оставленный своей хозяйкой, он присел на деревянную кровать с незастланной периной. Вот ведь судьба! Прямо с корабля - на пир. Корабль украли, пир неведомо чем кончится…
Женщина внесла недержаную сряду - полукафтанье, сапоги, сорочку полотняную, белье льняное… Все выглядело впору.
- Облачайся, милый.
Род поклонился:
- Благодарю за милость, госпожа.
- Я не госпожа. Зови меня Овдотьицей.
Поступом она была не госпожой и не слугой. Хотя какое дело Роду до неё? Мелькнёт на жизненной тропе пролётной птицей… Невольно он отметил, как бесшумно закрывалась и открывалась дверь в её руках. Вот она вернулась, подала переодетому оловянное зерцало.
- Любуйся. Вылитый боярин!
Снова шли по переходам. По витиеватой лестнице поднялись в двусветные сени. Здесь за большим столом начинала трапезу боярская семья с участием ближайших к главе дома лиц. Язычник Род обрадовался, что не пришёл чуть раньше: все только-только помолились, опускаясь на скамьи. Был тут и Петрок Малой. Присела и Овдотьица на скромном месте, дальнем от господ.
Род влепоту[47] нижайше поклонился.
- Здрав будь, боярин! Здрава будь, боярыня! Здрава будь, боярышня! Благодарствую на приглашении.
- Подойди-ка, подойди. Садись сюда поближе…
Кучка чуть ли не рядом гостя посадил. Разделяла их Улита, не поведшая глазом, когда Род смущённо опустился на скамью подле неё. Гость понимал: простому дочкину спасителю так близко от благодарного отца-вельможи не сидеть. Нет, не отцова благодарность, а иная, тайная причина сейчас его возносит к самой персоне местного властителя. Зелёные глаза боярина были полны приветливой весёлости, но щеки кулаками напряглись. Неиспокой душевный выдавали сухие пальцы, суетившиеся по камчатой скатерти.
- Ну расскажи, как дочь мне спас.
Удивительно было, что хозяин не попросил назваться, будто знал гостя. Род вздрогнул, ощутив удар Улитиного башмачка по своей щиколотке.
- Батюшка, ведь я уже рассказывала.
- А я от самого хочу услышать, - тряхнул седой бородкой Кучка. - Из двух уст рассказ полнее.
Род понял, что Улита по дороге к дому договорилась с Богомилом Соловьём, о чём и как рассказывать, чтоб о волхвах - ни звука. А с ним-то не договорилась. Не догадался мудрый Богомил провидеть, какое предстоит Роду испытание. Теперь бы не попасть впросак!
- Хлопец не словоохотливый, - заметила боярыня Амелфа Тимофеевна. Говор не местный, голос грудной, от скупо брошенного взгляда через стол дохнуло холодом.
- Ну расскажи, как у реки меня нашёл, - отчаянно затараторила Улита, - как мы от бродников на дереве спасались, как ночь сидели у костра, потом пешехожением сквозь лес дошли до Красных сел…
И он, направленный на путь, развил и уточнил рассказ, правдивый лишь в начале.
Наивная уловка девушки змейкой отразилась на тонких губах боярыни. Находчивому «хлопцу» был задан ледяной вопрос:
- Ну что вы размолвляли там, в лесу, для нас неведомо. А где простились?
- Да, где ты её оставил? Дочь пришла домой одна, - навис над столом всей грудью Кучка.
Улитин-то ответ он слышал. Род его не знал. И вновь толчок по щиколотке. Ну и острые носки у женских туфель!
- Что ты, батюшка, его пытаешь? - прервала боярышня молчанье гостя. - Он наших мест не знает. У Воронцова поля мы простились. Оттуда мне до дому два шага.
Тем временем вносили яства. Сначала пироги, а после рыбу, мясо, в которых оказалось много луку, чеснока, не очень-то привычных Роду. Они с Букалом не любили острого.
Прислужник рушил хлеб на деревянных блюдах.
Род успел заметить, что Овдотьица хотя и неприметно, а внимательно следила за едой Улиты и боярина. Именно за тем, как им накладывали яства.
- Мы, истые славяне вятичи, очень любим пироги, - промолвила Улита, невинно обратясь к Амелфе Тимофеевне.
- Мой киевский учитель, - певуче начала боярыня, не глядя на Улиту, - говорил, что на мордовском языке слово «ветке» означает чуваши. Значит, вятичи и вовсе не славяне, а сарматы.
Боярышня, сжав на коленях кулачки, спокойным голосом спросила у отца:
- Выходит, наши города - Коломну, Трубеж, Воротынск, Масальск, Рязань - построили сарматы?
- При чём тут города? - вся передёрнулась, сбитая с толку, Амелфа Тимофеевна.
Степан Иваныч, не взглянув на них обеих, обратился к гостю:
- Тебе ведомо, что до прихода Святослава вятичи не признавали господства князей русских? - Род слышал от Букала эти же слова и показал головой, что ему ведомо. - Так вот, - продолжил Кучка, - свет Амелфа Тимофеевна родом из Руси. Полянка. Из-под Киева привезена. Ей хочется, а ещё трудно рассуждать о нашем племени.
Боярыня намеревалась пылко возразить, да кстати подали похлёбку в глиняных горшках под крышками и деревянным черпаком разлили по расписным мискам. В ход пошли цветастые берёзовые ложки.
- Заезжий вестоплёт рассказывает, - сообщил Петрок Малой, - будто киевляне видели три солнца, воссиявшие над ними, три столпа до неба, а над солнцем и столпами - месяц…
- На златоглавый Киев часто красота нисходит, - живо откликнулась Амелфа Тимофеевна. - Там есть чему дивиться.
- А когда я в Киеве жила, - якобы захотела поддержать мачеху Улита, - однажды за Днепром пролетел по небу до земли круг огненный, и осталось по его следу знамение в образе змия великого. Постояло чуть и растворилось. Вскоре снег на Пасху выпал в Киевщине коню по брюхо.
- Сколько раз одно и то же можно слухать за едой! - не сдержала раздражения боярыня.
- Я для гостя говорю, - не взглянула в её сторону Улита.
- Около Котельнича на днях была большая буря, какой не помнят, - перебил Степан Иваныч своих женщин, - Порушила хоромы, клети, разметала весь товар, даже жито унесла из гумен.
Принесли заедки и питья в глиняных кувшинах, сладкие и крепкие. Кучка, выпив крепкого, порозовел лицом. Общество составил господину лишь Петрок Малой.
- Для меня большая честь вкушать пищу за таким столом, лицезреть твою семью, боярин, - сказал Род, чтобы продолжить иссякающий застольный разговор.
- Да разве это вся моя семья? - блеснул болотистыми глазками Степан Иваныч. - Наследника сегодня ты не видишь. Да, спасённая тобой Улита - моя кровь. Красавица! Иного слова нет. Но моя же кровь - Яким, единственный любимый сын-красавец! Он нынче нездоров.
- Чем нездоров? - сочувственно осведомился Род.
Боярин тяжело вздохнул.
- Веред у него на ляжке. Второй день лицом горит, жар не сходит.
- Чирей на ноге, а лицом хромлет, - тихо вставила боярыня.
Кулачки под негодующими глазами Кучки задрожали. Овдотьица, всю трапезу следившая за ним, находчиво вмешалась:
- Лечец[48] у нас из варягов взят, Анца Водель. Третий день лепёшками лечит, а все без толку.
- Дошёл до меня слух, - сказал Петрок Малой, - что где-то в Красных сёлах или поблизости живёт чудеснейшая травница, или, по местному сказать, былица. Такие сильные имеет травы! Любой веред враз излечивает.
- Мало ли былиц в округе, - произнёс Степан Иваныч озабоченно. - Кабы знать, кто…
Род от питий и яств, а главное, от близости Улиты несколько расслабился, при следующих же словах Петрока затаил дыхание.
- Знаю, что Офимка её имя, - сообщил Малой. - Так привычно и зовут - Офимка да Офимка…
- Надобно сыскать эту Офимку, - обрадовался Кучка.
Ещё более насторожился юноша.
- Как повелишь, - охотно подхватил Малой. - Сыскать немудрено.
Род голову бы дал на отсечение, что ноги и глаза Дружинки Кисляка уже нацелены и рыщут… И горше всего стало, что он сам тому виною. Его несчастное прибытие напомнило обыщикам боярским о няньке непогибшего Гюрятича. Она когда-то солгала, её теперь - к ответу! Это ли замыслил злец Петрок?
- Скажи, коли Якимку вылечит, не испрокудит[49], по велику награжу, - наказывал ему боярин.
- Чего ради ей прокудить юного Кучковича? - выпучил глазун большие зенки. - Ведь у Офимки в этом доме врагов нет.
Все встали. Наступил конец застолью. Хозяин прочитал молитву после трапезы:
- Благодарим тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных твоих благ…
Род стоял понурившись, не поднимая глаз к переднему углу. Не вправе он глядеть на христианские иконы. Услышал, как Амелфа Тимофеевна после молитвы прошептала мужу:
- …Даже лба не перекрестит!
Гость подступил к хозяину в дверях:
- Позволь откланяться, нижайше поблагодарить за милость…
Отчаянная мысль всецело завладела им - предупредить Офимку. Как это сделать, сам ещё не знал. Хоть лечь костьми на всех ловушках, расставленных Петроком, но уберечь от зла, которое яснее ясного ей тут готовилось.
- Повремени, - проникновенно попросил Степан Иваныч, отведя его в сторонку. - Воспользуйся ещё моими кровом и столом. Нам надобно всерьёз потолковать. Сегодня отдыхай, а завтра приходи на мой позов. Согласен?
Пришлось наклонить голову. Мелькнула мысль открыться Кучке, все рассказать и про себя, и про Офимку, и, конечно, про Малого с Кисляком. Однако что-то удержало. Кучка отошёл. Миг был упущен.
Овдотьица замешкалась с одной из челядинок, убиравших со стола. Род ожидал её, не зная, как пройти в свою одрину. Петрок уже покинул сени. Из двери в дверь пересекла их девица-красавица, чёрная как смоль. Так близко прошла она от юноши, что рукавом задела. В руке он ощутил большой медовый пряник и услышал быстрый шёпот:
- Прочти и съешь!
Опомнился - чернавки уже нет.
3
Войдя в одрину, Род вынул из-за пазухи нечаянный гостинец, повертел в руках. Увидел вкрапленные в пряник черносмородинные косточки. Из них слагались буквицы, и можно было прочитать четыре слова: «Потемну у пруда русалка». Ну как не догадаться, о какой русалке речь? И сразу ушли в тень предательство Дружинки, козни Петрока, насильное гостеприимство Кучки, похожее на западню. Их снова было двое во всем мире, как в лесу у палого бревна, как на поляне у мерцающей разрыв-травы, как на повети в тишине Букалова новца, - он и Улита.
Давно уж огненно-капустный вилок солнца исчез в боярском огороде. Большой дом угомонился. Всем пора на опочив.
Раскрыв оконницу, Род обнаружил, что слишком для неё широкоплеч. Пришлось плечи складывать, как книгу, чтобы пролезть. Едва не высадил оконце. Однако хотя оно и в нижней части дома, да не близко от земли. Повис на концах пальцев, а носками почву не достал. Спрыгнул по-кошачьи…
Ни месяца, ни даже звёзд. Сполошно зашумели яблони, когда он вторгся в сонное их сонмище, как невежа в чинную толпу. Пока добрался до пруда, глаза привыкли к темноте. А берег пуст. Род наугад прошёл по маленькой поляне до прибрежных ив.
- Чего остановился? Иди, иди… - призывно прошептала ивовая чаща. Хрупкая, но властная рука поймала его руку, - Сюда садись…
Он опустился на широкий пень и тут же на своих коленях ощутил Улиту, как в ту первую их встречу, когда вскарабкались от бродников на дерево. Опять её щека у его губ. Только теперь не вынужденные, охотные объятья кружат голову.
- Ах, свет мой, наконец-то!
Она порывисто дышала. Он бережно коснулся губами её щеки. Губы девушки неумело прижались к его губам.
- Пахнешь как лесной цветок, - прошептал он.
- В баенке была. Обливалась мытелью[50]… - Осмелевшие объятия теснее, поцелуи крепче… - Пыталась тебя забыть. Не могу. Свет мой ненаглядный!
- Сказать по правде, ради тебя сюда стремился, - признался Род.
- А я у паперти как увидала!.. Ой, дай ещё поцеловать, поверить, что ты рядом…
Плеск на воде… И снова тишина…
- Завтра батюшке скажу: не пойду за княжича Ивана! - решила храбрая боярышня. - Лишь за тебя, и только за тебя! Ведь ты боярин. Я слышала о Жилотуге. Пусть возвратят твои владения…
У юноши от этого потока слов перехватило дух.
- Постой, постой… Какой княжич Иван?
- Отец задумал породниться с Суздальским Гюргием, - мгновенно перешла Улита на деловитый тон, - Врага надумал сделать другом. Бредни! Я, видишь ли, Ивану где-то приглянулась. Кажется, в церкви. А сыновей у Гюргия на добрый полк! Который же Иван? И моего согласия не спрашивают… Да что ты так закаменел? Не бойся, свет мой ясный. Они меня ещё не знают. Как убегу с тобой обратно в лес!
Род тяжело вздохнул.
- Боюсь, мне самому не убежать отсюда.
Пальцы Улиты ласково скользнули по крутой шее юноши и наткнулись на серебряную цепку.
- Ой, что это у тебя?.. Ты же язычник! - Она извлекла ладанку, раскрыла, на ощупь изучила содержимое. - Крестик… перстень…
- Это крест матери и отцов перстень, - с волнением промолвил сын Гюряты, - Вот все моё наследство.
- И этим ты докажешь своё происхождение, не так ли? - спросила девушка, тут же присовокупив: - Батюшка признал: ты вылитый Гюрятич. Он только вид делает, будто неверку держит.
- Он держит какой-то тайный умысел, я чую, - открылся юноша, - Ему снег на голову, что я жив. Уж лучше б он не знал об этом. Его тиун[51] Петрок за трапезой намеренно упомянул Офимку. Офимка - моя нянька. После злодейства её пытали о моей судьбе. Вот почему Букал не разрешал мне появляться в Красных сёлах.
Улита ткнулась ему в грудь лицом и затряслась от плача.
- Опять ты рюмишь?
- Как мне не рюмить? Я ввела тебя в беду.
Род гладил её волосы, но девушка не успокаивалась.
- Ах, если бы знатьё, виду бы не подала на паперти, что тебя узнала.
- Меня допрежь узнали, - сказал Род. - Обыщику[52] Петрока я открылся у причала. Он доложил.
Улита разомкнула крепкие объятия.
- Беги, беги от них скорее. Дождись меня в лесу…
Род взял её руки, водворил на свои плечи.
- Поздно. Мне Степан Иванович велел пока остаться. И тебе вдругожды не убежать из дома. Выйдешь за княжича. Скажется действие разрыв-травы, станешь великою княгиней. А я своей судьбы не ведаю.
Что-то зашуршало почти рядом. Улита напряглась.
- Неужто выследили?
Оба поднялись.
- В этом доме, как в лесу, - заметил Род.
- Охотятся тут друг за другом, - согласно прошептала девушка. - Будь осторожнее. Заботься не о нас с тобой, а только о себе. Сумеешь скрыться, всю жизнь буду искать тебя. И все равно найду.
- Улита! - дрогнул голос Рода.
- Дай ещё поцеловать своего света…
И вот уж на его плечах нет её рук, у его груди нет её тела. Пустая темнота вокруг и слабый шелест в гуще яблонь…
4
Утром Овдотьица поставила на стол естьё и походя сказала:
- У нас не убегают повечер гулять.
Юноша, застигнутый врасплох, покраснел как маков цвет.
- Я… я в задец[53], должно быть, отлучался, - пробормотал он и смутился окончательно.
Неужели вчера поздно Овдотьица к нему входила? Зачем?
- Задец-то в малой палате, а не на огороде, - усмехнулась женщина.
- А нет ли в доме книжицы время скоротать? - попросил гость, обрывая неприятный разговор.
Овдотьица не скрыла удивления:
- Ты грамоте навычен?
Род кивнул.
- Я принесу, - пообещала женщина и, обернувшись у порога, опять вернулась к прерванному разговору: - Запомни: ночью кошки видят!
Суровость сказанного оставляла теплоту: Овдотьица - не враг!
Кто-то выследил его с Улитой. Многолюдные боярские хоромы лишь внешне так открыты гостю, внутри в боковушах и светёлках, в тесных горенках, одринах, много тайн. Чтоб их постичь, нужно, здесь живя, пуд соли съесть.
Род задумчиво сидел, уставясь в стену своей кельи. Стена была тесовая, а не бревенчатая. Тёс свежий, гладко струганный, некрашеный, покрытый жилками и многоглазием сучков. Вон против его одра большой сучок, смолистый по краям, как бабий подведённый глаз…
Овдотьица вернулась с книгой. По мягкому сафьяну переплёта - золотая вязь: «Евангелие».
- Вразумляйся на досуге. А сейчас Степан Иванович зовёт тебя к себе.
Она, как вчера к трапезе, повела гостя путаными переходами, витиеватой лестницей. Наверху в двусветных сенях оставила перед дубовой низкой дверью. Сперва сама вошла в боярские покои, а выйдя, Рода пригласила:
- Ступай.
Степан Иванович в накинутой на плечи ферязи[54] стоял у аналоя перед раскрытой книгой. Зяб, должно быть. Осень ещё лета окончательно не выжила, печи не топились.
Приход гостя будто не отвлёк внимания хозяина от книги. Кулаки скул ходили под глазами, яркогубый рассвет в сквозном березняке шевелился. Боярский палец брёл по писаным уставом строкам.
- Будь здрав, боярин, - коснулся юноша рукой скоблёного пола.
Кучка не ответил на приветствие. В покое некоторое время тяжелела тишина.
- Добрые люди сватаются не через окно к дочке, а через дверь к отцу, - вымолвил наконец боярин.
- Мой погрех, - опустил повинную голову Род. - Невдогад было, что нанесу обиду. В лесу с Улитой Степановной привык запросто общаться. А рос в сиротстве, в одиночестве. В людских обычаях неведок.[55]
Боярин закрыл книгу, остановился перед Родом, пытливо снизу вверх глядя на него. Голой макушкой старик едва достигал плеч рослого юноши. Глаза зелёные, как у Улиты.
- Дочь мне сказала, - перешёл Степан Иванович с гневного на мирный тон, - будто ты точно сын погибшего боярина Гюряты. Значит… жив!
Род наклонил голову.
- Дочь мне сказала, - продолжил Кучка, - будто у тебя есть доказательства… Конечно, облик обликом, мало ли похожих лиц…
Род извлёк ладанку. От него не ускользнуло, как пальцы старика едва приметно дрогнули. Что думал местный вотчинник, внимательно рассматривая именной перстень своего бывшего соседа? Гюрятин отчич[56] заключил, что Кучке с чужим уделом расставаться тяжело.
- Я не ищу отцова достояния, пожалованного тебе суздальским князем, - поспешил он успокоить Кучку.
Тот будто пропустил его слова мимо ушей. Когда вскинул зелёные глаза, ничего в них видно не было. Словно подёрнутые тиной…
Род подался вперёд достать с аналоя ладанку, чтоб снова скрыть её под одеждой на груди, и уловил тревожное дыхание старика.
- Как сейчас вижу твоего батюшку, - говорил тем временем Степан Иванович, справляясь с внутренним волнением. - Царство ему небесное, вечный покой, душа его во благих водворится, - торопливо перекрестился он на иконы и обратился к гостю: - По-родительски рад видеть в своём доме сына покойного Гюряты Роговича.
В этих тёплых словах юноша уловил стремление быть искренним, не саму искренность. Нет, Кучка не верит ему. Что значит «не ищу наследства»? Боярин без вотчины - осётр без реки. Не зря все боярское добро, вся движимость и недвижимость называются одним всеобъемлющим словом «жизнь». Отняли имение - отняли жизнь. Всю жизнь разграбили - значит отобрали все.
- Не для себя, выходит, а для тебя я Гюрятину жизнь сберёг, - то ли вслух размышлял, то ли открывал душу старый боярин, - Ты говоришь, «пожаловано суздальским князем»! Да не пожаловано, а нахрапом взято. У Гюргия в те поры ещё не о Кучковых да Гюрятиных сёлах болела голова, а о великокняжеском столе да новгородском наместничестве. Теперь пришла пора иная.
- А за что суздальский на батюшку так раззлобился? - пытливо перебил сын Гюряты.
- Тогда с новгородцами вышла рать. Слыхал о битве у Ждановой горы? Жилотуг не снарядил своих людей к Гюргию на его позов. Я своих послал.
- Отчего же батюшка не послал? - спросил юноша.
Кучка прищурился:
- Как же новгородцу с новгородцами ратиться?
Тут сын Гюряты вспомнил, как в Букаловой келье отозвался о нём Богомил Соловей: «Родинька не вятиц, а мой земляцёк». И Букал рассказывал, что вятские земли были пожалованы прадеду Жилотугу ещё Новгородской республикой, тогдашней владелицей здешних мест. Значит, в прищуре коренного местного вотчинника следовало уловить намёк: Гюрята здесь был такой же пришелец, как Гюргий. Присоединение его удела к Кучковым сёлам, по сути дела, восстанавливало историческую справедливость. Род понял, нынешняя беседа с Кучкой решает его собственную судьбу.
Отчего же всесильный боярин так терпеливо беседует с ним? Ведь Кучковы обыщики выследили Гюрятича тотчас по прибытии в Красные села. Не успел нежелательный отчич высунуться из своего убежища, как он уж у них в руках. Сажай его в поруб[57], руби на куски да хоть собаками затрави - никто не узнает, будто его и не было. Петрок Малой, чувствуется, именно так готов поступить. А Степан Иванович обхаживает его по-домашнему, обласкивает по-отцовски. Не чрезмерна ли подозрительность Рода?
Моя вина: не проверил ложные слухи о твоей смерти, - всей глубиной души вздохнул старый боярин. - Вырос ты нехристем у лесных язычников, - заговорил он пожёстче. - Теперь тебя перво-наперво окрестить надобно. Это главный мой долг. И второй долг отдам. Отошедшую ко мне вотчину родителей твоих возвращу. Да как возвратить? - Боярин крепко задумался, тяжело, до скрипа заходил по дубовым половицам, даже сухую ладонь приложил к влажному от волнения лбу.
Совестно стало Роду, не мог прогнать ощущения лицедейства в поведении старика. Будто боярин для себя решил все заранее, а теперь скоморошину перед ним представляет.
Вот он снова стал перед гостем, с деловитой раздумчивостью повёл речь, глядя мимо него в непрозрачное слюдяное оконце:
- Объявись ты сейчас перед Гюргием, так он имение Гюряты у меня отберёт, а тебе не отдаст. Теперь времена иные. С киевским Всеволодом и с новгородцами у него мир до рати. О подручных делах болит его голова. И хотя я ещё силен, хотя достать меня даже у Долгорукого руки коротки, а вишу на волоске. Тебе же будет одна от него честь - смерть. Уж он-то изобретёт какая.
- Открой мне, Степан Иванович, - внезапно обратился юноша к старику, - ты веришь, что Гюргий повинен в смерти моих родителей?
Не ждавший прямого вопроса, Кучка явно смутился.
Послушать тебя, - пробормотал он, - так только затем и явился, чтоб разузнать, кто виновен. Если немедля следствия наряжено не было, то как тебе его нарядить спустя столько лет? А на спрос отвечу… отвечу как на духу: много на нашем Мономашиче тяжких вин, не станем возлагать лишнюю.
- Значит, тати? Лесные бродники? - пытливо предположил Род.
- Бродников в здешних лесах как в собачьей шерсти блох, - уклончиво сказал Кучка, - Доподлинно их дела раскрыть мудрено. Это же государство в государстве. Попробуй сунься! - Он выдавил глубокий вздох. - Как мне мыслится, совсем иное сейчас требует решения: жизнь тебе надобно вернуть, вот что.
Степан Иванович подошёл к поставчику, достал глиняную посудину и две кружки.
- Чёрствого кваску не желаешь ли?
Род стремительно потянулся к самому любимому в Букаловой келье напитку. Бодрящая кислота разлилась как свежая кровь по жилам, взбадривая все тело. Будто отеческое крыло старого волхва на миг прикрыло его.
- Дочери бы не пожалел отдать за тебя и удел твой с лихвой бы вернул в приданое, - устремился к юноше испытующий взгляд по-над кружкой. Род изо всей мочи попытался погасить вспыхнувший пожар на лице, но тщетно. Едва заметно усмехнулся яркогубый рассвет в сквозном березняке. - Сговорена она, - грустно молвил Кучка, опуская кружку на поставец. - Как занял суздалец Боровицкий холм, так я уже и не знаю, хозяином ли остаюсь на отчей земле вятичей или варяжским подколенком. Вот и нужда с пришлецами родниться. Княжич Иван и Улита обречены друг другу. Так что есть медок, да засечён в ледок… Ну, ну, ну, не угасай лицом, ночной озорник! - погрозил гостю пальцем хозяин. - Докажи, что ты мужеска пола, а не баба. Держись!
- Отпусти меня в лес, боярин! - взмолился Род.
- А вот этого и в мыслях просить не смей, - сдвинул брови старик. - Высунулся карась из коряги, щука его все равно достанет, да ещё вкупе с тем, кто укрывал!
Сердце юноши дрогнуло за участь Букала. Себя ли, суздальского ли князя имел в виду Кучка в образе щуки, во всяком случае, угроза эта не показалась пустой.
Степан Иванович внезапно просиял лицом.
- Выше бороду, голоус! Я измыслил, как возвратить всю твою боярскую жизнь. Никакая долгая рука до сбережённого добра не дотянется, никакой тать покуситься на него не посмеет. Догадайся-ка, догадайся, на что способен старый сосед твоего родителя… А, головкой поматываешь, мудрено догадаться? - Старик резво подошёл, вскинул руки на плечи юноше, заглянул ему в лицо зелёными Улитиными глазами. - Я решил усыновить тебя, Родислав. Окрестить и усыновить. А удел приумноженный завещать тебе по наследству. Ну, что молчишь… Что стоишь вереёй?[58]
Стать приёмным сыном Кучки… Потерять родовое имя Жилотугов… Быть всегда с Улитой рядом, с чужой, навек отобранной у него Улитой, с княгиней, даже - спустя годы - великой княгиней, как загадано на разрыв-траве, быть рядом пусть названым родичем, пусть последним холопом… Не иметь потомства… Зачем возвращённая жизнь боярская, если не иметь потомства?.. Скрыться с любящей, любимой, нырнуть в зелёное море леса… Никакие щуки не найдут! Да надолго ли Улиты хватит для затворнической жизни? От сафьяновых сапожек до усового греческого гребня[59] истая боярышня!..
Неподстатные друг другу мысли тяжелили, тяжелили голову юноши, и упала она на грудь…
- Согласен! Вижу, что согласен! - обрадовался Кучка странной жёсткой радостью и обеими руками пригнул голову будущего сына к низкому костистому плечу. - Вот и поладили! Завтра подготовим, послезавтра окрестим, и в тот же день - усыновление… Только вот что, милый, - ещё крепче прижал он голову Рода, - никаких тайных свиданий с моей дочкой, твоей будущей сестрой! Видьтесь напоказ, открыто, днём, как родственники. Раз уж ты в обычаях людских неведок, я тебя предупреждаю. Сам знаешь почему.
Рослый сын Гюряты перед низким Кучкой превозмогал неудобство крепких новоотеческих объятий.
- А по случаю усыновления почестной пир зададим. Приглашённый Гюргий ахнет! - жарко дышал в ухо Рода торжествующий шёпот старика.
Глаза, прижатые к плечу Кучки, жмурились невольно, и - удивительно! - с чего-то вдруг Род явственно увидел свою с Букал ом охоту на зайцев: вот заяц бежит, всадник его преследует, настигает, бросает тенета намётанной рукой, и зверёк кувыркается, запутываясь в сетях, как в коконе…
5
Овдотьица ждала его в сенях.
- Да на тебе лица нет, милый!
Род ухватился за её руку, как утопающий за ивовую ветвь.
- Укажи выход в огород… воздуху глотнуть…
Он гневно упрекал себя, перебирая в мыслях разговор с Кучкой: опять не сказал ему об Офимке!
Пока спускались по ступеням гульбища, Овдотьица тревожно говорила:
- Должно быть, душно у боярина в истобке. Оконницу боится отворять, прострелы его мучают. Тебе, лесовику, теремной воздух непривычен.
Род стал посреди яблонь, глубоко дыша.
- Благодарствую, госпожа. Дозволь пойду пройдусь.
Он двинулся к пруду. Овдотьица - за ним.
- Слыхал, что я не госпожа, а называешь госпожой.
- Вижу, ты и не челядинка, - заметил Род, не понимая навязчивости женщины. Ведь он же дал понять, что хочет побыть один.
- Я вводница[60], - Овдотьица пошла бок о бок по нахоженной тропинке. - Степан Иваныч ввёл меня в свой дом тому назад лет десять, когда боярыня скончалась, родив Якимушку. А я была вдова. Мой муж, тиун боярский, умер в одночасье от корчеты[61]. А боярыня покойная меня и прежде жаловала. Позовёт, и я являюсь: «Ваша гостья!» Нравилось матушке на меня смотреть, любоваться мной. Красива я тогда была, вот и стала вводницей по боярскому изволу. Улитушка ко мне приникла, и Якимчик на моих коленях рос. Степан Иванович венчаться обещал, да вдруг раздумал. Петрок явился из-под Киева. Чего он там пять лет скрывался, уж не знаю. Явился не один. Привёз боярину жену, Амелфу Тимофеевну. И очень господину моему полянка полюбилась. Пир был на весь мир. И свихнулись с той поры боярские хоромы крышей вниз, полами вверх. Стыд рассказывать… А Улитушка с Якимом упросили батюшку меня оставить в доме. Привязалась я, бездетная, к сиротам. И Степана Иваныча привыкла сердцем чувствовать, как мужа. Что со мной поделаешь? От одних ненависть терплю, от других любовью согреваюсь.
Они стояли у пруда. Противоположный лесной берег как на ладони, а края не видны - пруд не широкий, да длинный. Род все ещё злился на себя: не повернулся язык открыть Степану Иванычу замысел Петрока насчёт Офимки. Он мрачно пошёл вдоль берега, Овдотьица - за ним. Тропинка тянулась слабенькая, тоненькая, но смело пересекла ту грань, где огород соединялся с лесом. Стоило оглянуться, и наслаждение природой замерло в душе: многоглазое чудовище боярских хором бдительно наблюдало за ними.
- Держусь в этом доме заступничеством детей да прежней милостью хозяина, - продолжила речь Овдотьица. - А уйти… разве от своей семьи уйдёшь? Они стали моей семьёй.
- Отчего ты мне об этом рассказываешь? - Род с удивлением смотрел на неотступную женщину. - Ты ведь не очень-то откровенна, правда?
- Рассказываю как будущему члену семьи, - солнечно, по-домашнему улыбнулась Овдотьица, - Якимушкину и Улитину братцу.
- Ты уже выследила: я люблю Улиту отнюдь не братней любовью, - не сдержал юноша раздражения, рождённого разговором с Кучкой, неотвязчивостью Овдотьицы, а теперь ещё и прозрачным её намёком, - И никакими хитростями этой любви у нас не отнимут, - прибавил он в сердцах.
Домашняя улыбка боярской вводницы от его раздражения не исчезла.
- Первое скажу: я тебя не выслеживала, - искренне сообщила она. - А второе скажу: названый брат - не кровный брат. Больше ничего не скажу.
- Нет, скажешь, - подошёл к ней вплотную Род. - Если и вправду душой ко мне потянулась, скажешь: с чего тебе ведомо, что Кучка надумал усыновить меня? Ты нашей беседы не слыхивала, я тебе о ней не говаривал…
- Сам боярин мне говорил допрежь, - нарочно или нечаянно проболталась Овдотьица.
Значит, верно было подмечено, что Степан Иванович заранее составил свой план, а беседуя с Родом, лишь лицедействовал. Дальше мысль сама собою напрашивалась: язык оказался мудрее ума, не повернулся сообщить об Офимке. Хозяин-то больше гостя знает о замыслах своего исполнительного слуги.
- Успокойся, сынок. Не там беду ждёшь, где она тебя караулит. Пройдись ещё, подыши…
Род вошёл в лес. Овдотьица - за ним.
- Зачем ты ходишь за мной?
- Так надо, милый.
Стёжка повернула, огибая большую сосну. А сразу за поворотом взору предстала баба-яга - нос крючком, голова сучком, зад ящичком. Самая настоящая! Хотя житель леса отродясь не видывал бабы-яги, лишь по сказкам знал. Вот наваждение! Жёлтые кошачьи глаза старухи так и впились в него.
- Зачем это тебе, Варсунофья? - кивнула Овдотьица на колючий пучок можжевеловых веток в руках старухи.
- От злуницы[62]. Хочу настоем попариться. Вконец затрясла, проклятая! Да вот думаю, не мало ли набрала.
Род углядел сухую травинку, приставшую к можжевельнику.
- Это Варсунофья, нянька Улиты, - пояснила Овдотьица.
Он двумя пальцами взял травинку, понюхал, поднёс к глазам. Осенённый счастливой мыслью, нетерпеливо спросил старуху:
- Откуда можжевельник? С какого места?
- Да вон, - указала она на гигантский корень старого дуба, видно в давнишние времена вывернутого бурей. Дуб сгнил, а корень все ещё воздымался над заросшей ямой, растопырив черные щупальца.
Род осмотрелся на указанном месте, стал на колени и запустил ногти в твёрдую дернистую землю. Крепкие пальцы осторожно обкапывали облюбованный жухлый стебель. Голоса женщин внятно доносились, один мягкий, камчатый[63], Овдотьицын, другой деревянный, Варсунофьин.
- Чего ищешь? - обеспокоенно вопрошала Овдотьица.
- В травники метит. Искун! - проскрипела старуха.
Род молча продолжал свой труд.
- Отойдём-ка, мать. Страх что тебе поведаю! - отвела Варсунофья вводницу подал её. И Род перестал их слышать.
Из-под ногтей показалась кровь. Эх, нож остался в дорожном сапоге. Сейчас бы его сюда. Пришлось поискать сучок покрепче да удачно отломить, чтобы стал мелким заступом. С таким орудием споро пошла работа. Когда вернулась Овдотьица, на лопухе возле Рода грязными свиными хвостиками лежало несколько вырытых корешков.
Женщина уходила облачком, пришла тучей. На корешки даже не взглянула. Строго обронила:
- Домой пора.
- Иди, коли тебе пора, - отозвался Род. - Мне ещё не к спеху.
Овдотьица резко тряхнула головой:
- С тобой пойду. Только не перечь. И - ни шагу от меня, милый.
- Приставлена следить? - улыбаясь, поднялся на ноги Род, собрав свои корешки.
- Глупенек ты ещё, - опустила уголки рта Овдотьица. - Попал комар в пчельник и летает, как на лугу, - Она вплотную подошла к юноше и горячо зашептала: - Неведомо тебе, кто тут твой главный враг?
Род принахмурился.
- За что мне иметь врагов?
- За то, что Гюрятин отчич, наследник половины Красных сел. А вот-вот станешь названым сыном Кучки, укрепишься в наследственных правах. Кто же тут тебе враг, прикинь.
- Суздальский князь, - выпалил сын Гюряты с прежней улыбкой, надеясь шуткой уйти от вздорного разговора.
- Главный твой враг, - женщина подняла палец, - Амелфа!
Юноша открыл рот и от неожиданности не нашёлся что сказать.
Новая его покровительница продолжила:
- Князь высоко, а вотчинник рядом. Не станет Степана Иваныча, Амелфа замыслила все тут прибрать к рукам. Недаром идёт молва о её грехах с Гюргием. Князь все ей отдаст, коли не будет наследников. А их может ой как не быть! Улиту отдадут за княжича - отрезанный ломоть. За Якимушку я молюсь и боюсь денно и нощно. Вот главный наследник! Ни на шаг его не отпускаю, глаз не свожу с его еды, опасаюсь окорма[64]. А теперь объявился ты, как нож воткнул Амелфе в спину. Двойная теперь у меня боязнь.
- Мерещится тебе невесть что, - попытался он успокоить вводницу.
Она против воли спутника резко остановилась.
- Ты о чём? Даже слушать стыд. Ты ведь совсем ничего не знаешь. Боярыня-то моя любезная не от родов отдала Богу душу. Отравлена она была, вот что. На моих руках матушка помирала и признавалась: «Нутро горит!» Не на утробу показывала, на грудь. Степан Иваныч тоже не поверил и до сих пор рукой машет.
- Да Амелфа-то тут при чём? - невзначай повысил голос Род. - Её же здесь ещё и в помине не было.
- Тише! - сжала воздетые кулаки Овдотьица и шёпотом пояснила: - Петрок Малой в те поры из Киева прислал повара. Дескать, кушать будете по-столичному. Ну… досачиваешься?
Род решительно повлёк женщину к дому. Ему от души было жаль одинокую бездетную вводницу, прилепившуюся к чужой семье и до помрачения мыслей пекущуюся о её здоровье.
- Хочу немедля высушить собранные корни, - сообщил он, - Потом сварю их в уксусе, истолку до клейкости и выведу веред с ноги твоего пестунчика.
- Горазд ты на выдумки, травник-муравник, - недоверчиво проворчала Овдотьица. - Так я тебе, неуку, и разрешу прикоснуться к Якиму!
- Это я неук? - всей душой возмутился Род.
Оставив спутницу, он прошёл по поляне почти к самой воде, цепко вглядываясь под ноги, наклонился, откопал травинку с корешком и, вернувшись к Овдотьице, повертел перед её глазами сухим стебельком.
- Не теперь бы, летом сорвать, да ладно. Видишь синие долгонькие листки, что язычки. Это какуй-трава, по березникам растёт. А корень у неё надвое: один - мужичок, другой - жёночка. Коли муж жены не любит, дай жёночку, станет любить. Видишь, жёночка смугла. А коли жена мужа не любит, дай мужичка.
- Твоё многоглаголание мне веры не прибавит, - усмехнулась Овдотьица.
- Будь время, я бы тебе и игирь-траву показал. Её надобно варить в сахаре, принимать внутрь натощак. Сердце и желудок согревает, хотение прибавляет в естве. А ещё есть корень травы изгод. Белый, родится не во всяких местах, а при водах. Исцеляет застойные нутряные болезни. А трава излюдок? Под листами красно, как кровь или ржавчина на болоте. Попей - и сердце болеть не будет. А поранишься - упаренную траву молодило надо хлебать. Рана быстро заживёт.
- Откуда все это тебе ведомо? - недоверчиво качала головой Овдотьица.
- И про приворотный корень любку могу рассказать, - напористо продолжал Род, - и про безар-камень, что помогает от окорма и опою… Да ведь меня в лесу такой травник наставлял! - Юноша осёкся, чуть не назвав Букала.
- Язычник! - вырвалось у Овдотьицы. Она тут же тепло погладила руку юноши. - Не сердись на мою погрубину. Вот привезут настоящую травницу, пусть Якимушку лечит. Зачем твоей голове болеть?
- Ты говоришь про Офимку, - помрачнел Род. - А знаешь ли, что она нянька моя и спасительница? После гибели нашей семьи неведомые люди допытывались у неё, жив я или нет. Услышали, что не выжил, и успокоились. А вчера обыщик боярский Дружинка Кисляк при тайной встрече с Петроком Малым опять о ней вспомнил. Я ненароком услышал. И Петрок на вечери не без скверного умысла надоумил боярина её сыскать. Боюсь, веред на мальчишеской ляжке - лишь повод заманить сюда мою няньку. Не пойму пока, какой замысел за этим сокрыт. Только травница не понадобится. Боярич завтра же будет здоров. На старухином можжевельнике я углядел приставший стебель зензеверовой травы, вот и откопал её корешки. Стоит приложить мазь зензеверова корня, самый злой гнойник заживёт. Тогда отпадёт нужда посылать обыщиков по Офимку.
Овдотьица в Мрачном раздумье смотрела на юношу и долго молчала.
- Нам надо верить друг другу, - наконец вымолвила она, как бы в укор себе. - Совместное дело вершат, доверяючись. Так-то, любезный.
Она пошла впереди. Он - за ней. Не к боярским хоромам вела Овдотьица, а к избушке, построенной наособину, ближе к заднему двору. Оставив за собой тень огородных яблонь, вводница сторожко осмотрелась по сторонам и показала спутнику, что открытое пространство от огорода до крыльца надо миновать быстро.
- Здесь я живу, - ввела она Рода в скромное жилище, чуть не наполовину занятое белой уютной печью. - Здесь и изготовим твоё лекарство. - Когда вымытые корни были уложены для сушки на гладко выметенный под горячей печи, женщина, прикрывая заслонку, неожиданно предположила: - Петрок хочет посмотреть, как ты встретишься с нянькой. Вдруг она тебя не признает? Вдруг ты самозванец?
Род молча снял с шеи ладанку и подал Овдотьице.
- Сердце вещает, - вымолвил он, принимая обратно свою реликвию, - Степан Иванович мыслит насчёт Офимки заодно с Петроком Малым. И хотят они от неё узнать то, чего я не скажу без пытки.
- Что? Что хотят узнать? - расширила глаза Овдотьица.
Род махнул рукой.
- А, совестно говорить. Сочтёшь, будто я мыслями в одной борозде застрял, как сам подумал о тебе в лесу, когда об отравителях говорила.
- А ты не стыдись, откройся. Что на уме? - преданно смотрела на него вводница уже совсем иными глазами после того, как вернула ладанку. Предлагая доверительность и союз, она видела в нем не только подлинного сына Гюряты Роговича, ещё и единомышленника.
- Хотят вызнать, у кого я рос, кто этот человек и где, - неуверенно молвил Род. - Да зачем это им, не пойму никак.
- Ищут вертеп языческий, - подсказала Овдотьица. - Только Степана Иваныча к этому не приплетай. Это у него не введоме. Его не подозревай, - настойчиво потребовала она.
Род помолчал в задумчивости.
лесу как на духу поведала Варсунофья? Не верш, хоть за ноги на воротах повесь и калёными стрелами осыпай. Нынче чуть свет ходила в задец старуха, да спросонья дверь перепутала. Вторглась в боярынину одрину, а под закрытым пологом - разговор. Думала, Степан Иванович подружию посетил, да голос не его. Старуха так затряслась, что сосуд для омовения уронила. Наверно, увидели её из-за полога, когда убегала. И немудрено растеряться. Голос-то был на боярынином одре… не поверишь, как и я не поверила… Петрока Малого! Выжила из ума Варсунофья, и мерещится старой деве всякая срамота.
Род покраснел, смутясь.
- Ты, случаем, не поверила ей, Овдотьица?
- Истинный крест, - осенила себя христианским знамением женщина, - знаю, что Петрок невесту боярину в Киеве выискал и сюда привёз, знаю, что промеж них старая дружба да совет, а в такое не хочу верить. Зря тебя в стыд ввела. Прости глупую.
- Поглядим, доспел ли наш зензевер, - направился юный травник к печи.
6
С утра в Кучковом доме позабыли о госте. Такой переполох поднялся! Доносились тревожные голоса, хлопали двери, скрипели под торопливыми шагами половицы. Роду надоело лицезреть на тесовой стене большой сучок как раз против его одра, похожий на подведённый глаз. Овдотьица долго не появлялась. Вот уж и дом затих. Тишина одолела все суматошные звуки, когда женщина, явно взволнованная, внесла сыр, пироги и молоко.
- Что за переполох нынче? - осведомился Род.
- Князь Гюргий прибыл ночью, - сообщила Овдотьица как о чём-то не главном. Видно было, не это тревожило её. - Чуть свет прислал позовника[65]. Пригласил боярина с семейством откушать к себе на Боровицкий холм. Вот и сборы до небес.
- Не эти же сборы тебя встревожили? А ведь ты тревожна, - заметил Род.
Глаза Овдотьицы таили внутренний испуг. Она несколько раз открывала рот, как бы себе не веря, прежде чем тихо произнести:
- Варсунофьи нет!
- Где нет твоей Варсунофьи? - не понял юноша, прожёвывая пирог.
- Нигде нет, - в отчаянии сообщила Овдотьица. - Вчера должна была старая сменить у Якимушкина одра Лиляну, сенную девку Улитину, и до сих пор не явилась. Вымолвить страх: не ночевала в хоромах. Усадьбу всю обыскали. Ну не иголка ж в стогу! Как в лес ушла, где мы её видели, больше Варсунофью никто не видел. Улитушка пробыла у брата всю ночь. Утром я отпустила её. Да вот оставила болящего, чтобы покормить тебя.
Род не воздал должного сполошному состоянию вводницы.
- Ну куда могла старуха исчезнуть? Ну, может, в лесу дурнота её одолела от прелого осеннего духа? В лесу искали?
- Найдут, - легкомысленно пообещал Род, допивая молоко. - А сейчас нам самое время лечить больного. Помехи не будет, хоромы почти пусты. А вернутся хозяева - дитё уже здоровёхонько. Зензеверова мазь загустела, я проверял.
Покои боярича были наверху. Мелкие подслеповатые окна выходили на солнечную сторону, слюдяные оконницы не цветные, потому света проникало достаточно. Мальчик под шерстяным покровом лежал смирно, хотя изрядно наревелся, судя по лицу. Он очень походил на Улиту.
- Здравствуй на многие лета, боярич Яким! - приветствовал его Род.
- Ты кто? Ты кто? - открыл глаза и заморгал больной.
- Это юноша Родислав. Он вывел из лесу нашу Улиту, - ласково пояснила Овдотьица.
- Тогда здравствуй и ты! - блеснул глазками Яким, - Здравствуй на многие лета, мой будущий названый брат! Ты мне очень люб.
- От кого тебе ведомо о нашем будущем побратимстве? - удивился Род.
- Прикинулся спящим и подслушал речи Улиты с Овдотьицей, - признался Яким. - Люблю полазутничать![66] Тут мне и хворь не помеха.
- Лазутник дорог на час, а там - не знай нас! - наставительно заметил опять-таки удивлённый детской откровенностью Род, осматривая тем временем веред на ноге мальчика.
Чирей готов был вот-вот прорваться, да крепкая кожа не давала ему пути. Нога распухла и при малейшем движении причиняла боль, вот пострел и лежал недвижно, хотя для него не двигаться было ой как нелегко.
- Сейчас все сделаем попригожу, - пообещал Род, открывая склянку с зензеверовой мазью. - Овдотьица, дай чистый лоскут да найди чем перевязать.
Он почти приложил снадобье к больному месту, когда вводница неожиданно бросилась к нему и цепко ухватила за руку.
- Нет, не дам!
- Ты что, объюродела? - оторопел Род. - Ты что, белены объелась?
Женщина и не подумала отпускать руку юного травника.
- Убей, а до конца не верю тебе. Вдруг отравишь?
- Мамушка, не перечь! - взмолился Яким, - Мочи нет терпеть! Я верю ему.
- Нет, нет и нет! - твердила Овдотьица как помешанная, забыв о недавнем доверии к Роду, не отпуская его руки, вся трясясь. - Борись со мною, дерись! Мою жизнь возьми, а его не трожь!
Кошка, сидевшая в ногах мальчика, спрыгнула с одра.
- Сварог тебя вразуми! - растерянно пробормотал Род, опуская руки.
- Мамка, дай пить, - уныло попросил Яким.
Отпустив Рода, Овдотьица потянулась к поставцу за кружкой, расписанной синими птицами. Непризнанный лекарь отложил свою склянку и невольно последовал взглядом за движением женщины. Его насторожил сиреневатый цвет питья.
- Что это? - спросил он.
- Клюквенный морс, - ответила вводница.
- Дай-ка, - перенял он питье и понюхал.
Взял серебряную лжицу на поставце, зачерпнул несколько капель скорее сиреневого, нежели красного цвета и пригубил.
- Откуда это?
Овдотьица с новым гневом взглянула на вопрошавшего:
- Как откуда? Сама ставила, уходя к тебе. Отдай кружку.
- Не отдам, - сказал Род, - Это не клюквенный морс. Это зелье еллевора, ну попросту, чемерицы, морозника. Чуть-чуть примешь, исцелит от чёрной кручины, а употребишь как напиток - быстрая смерть. Вола вдоволь напои - падёт мёртвый.
- Ты лжёшь, язычник! - простонала Овдотьица.
Род, побелев, направился с кружкой к сундуку, куда переместилась кошка. Та сперва отскочила, потом принюхалась, подошла к кружке, стала пить.
- Жаль истинного кота, - грустно молвил Род.
- Мачеха редко бывает у меня и принимает его за кошку, - сквозь слезы усмехнулся больной. - А он - кот Баюн. Так и подкрадывался к мачехину питью, да я его грозным голосом отгонял.
Зелье еллевора напоминает запахом валериану, кошачий ладан, - объяснил Род.
Баюн резко оторвался от питья, обвёл пространство осоловелым взглядом, упал с сундука, задёргался на полу и застыл в оскале.
- Ой! - вскрикнул мальчик и заплакал.
- Кот умер за тебя, - сурово произнёс Род.
Овдотьица, с заломленными руками наблюдавшая эту неожиданную картину, осведомилась:
- Ежели Амелфа принесла взвар, где моё питье?
- Она открыла оконницу, - всхлипывал Яким, - и вылила твоё питье. Сказала, принесла свежего. А я из её рук отказался пить. А она торопилась в гости. Велела самому взять, когда пожелаю. А я не мог дотянуться, веред сильно болел.
Овдотьица обняла Рода и заплакала.
- Прости, если можешь.
Потом она вынесла мёртвого кота, а прощёный травник открыл косящатое окно и выплеснул содержимое кружки. Воздух с Чистых прудов освежил одрину.
- Где зелье? - возвратилась Овдотьица и, взглянув по направлению руки Рода, возмутилась: - Как теперь обличим Амелфу?
Юноша опустил голову:
- Мой погрех. Не подумал о мести. Радовался, что избежали беды.
Женщина посмотрела на него как на несмышлёныша.
- Беда при такой доброте повториться может. - И в знак полнейшего доверия направилась к двери, оставляя боярича наедине с лекарем. - Делай своё дело.
Пока Род прикладывал мазь к ноге мальчика, Овдотьица принесла взвар, напоила Якима, Роду же сообщила, что здешний священник отец Исидор ждёт в его одрине. По изволу боярина он пришёл подготовить будущего христианина к завтрашнему крещению. Род терялся, как поступить.
- Могу ли оставить на тебя больного? Сейчас он спокоен. От зензеверова снадобья боль усилится. Обещаешь ли не снимать повязки, как бы Яким не просил тебя? Сходи за мной лишь тогда, когда он вновь успокоится.
- Обещаю, - твёрдо сказала женщина.
- Теперь я не верю, - покачал головою юноша.
- Вот те крест!.. Хотя что язычнику крест?
Род улыбнулся и, покинув мамушку с её подопечным, стал спускаться к себе в подклет. Сбывалось предсказание Букала. После отъезда Улиты и Богомила, уже обустроившись на ином новце, старый волхв предрекал: «Сменишь мир звериный на человеческий, тут же и веру сменишь. Звери тебя не съедят за веру, люди иноверцев не жалуют». Вот и пришла пора. Только люди ли эти звери? Вчера жалел тронувшуюся умом Овдотьицу: как призраки, ей мерещатся отравители! А нынче призрак воплотился в Амелфу. Самому себе не поверил бы, кабы кот не издох.
Отец Исидор встретил благовонием, исходящим от длинной сиреневой одежды, даже от мягкой сиреневой шапочки. Этот цвет некстати напомнил подозрительную сиреневость Амелфина питья, поднесённого Якиму, и стало не по себе.
- Здоров ли, будущий сын мой? - приветствовал его благообразный священник.
Род склонил голову. Они сели у отворенного оконца, через которое сладко дышали яблони. На столе лежала священная христианская книга «Евангелие», которую Род читал накануне.
- Вижу, грамоте вразумлён, - погладил отец Исидор сафьяновый переплёт. - Теперь будешь вразумляться истинной вере. Кто есть Бог, творец мира видимого и невидимого? Что есть земля и небо? Как ты представляешь?
- Небо я представляю прозрачным человеческим черепом, - отвечал юный язычник. - Земля и небо - жена и муж. Муж обнимает жену, согревает светом, омывает дождём, оплодотворяет - это лето. Жена пробуждается в мужних объятьях - весна…
Служитель христианского храма слушал терпеливо. Ему эти россказни, очевидно, были не внове. Но не перебивал. Как предположил Род, он думал о своём, куда-то поспешал мыслями. Златотканая борода закрывала больше половины круглого лица, тесно от неё было румяным скулам и ещё молодым, занятым жизнью глазам.
- Кто же управляет землёй и небом? - наконец спросил бархатный сочный голос.
- Сварог, - ничтоже сумняшеся, ответствовал Род. - Он вдувает в людей жизнь. Вдавни[67] он сам живал на земле, был царём, научил подданных управлять металлами, жить не скопом, а парами. Теперь он - верховный бог, управитель вселенной. Ему подвластны другие боги. А солнце - Сварожий глаз, наблюдающий за людьми…
- В точности как вот этот, - указал отец Исидор на сучок в тесовой стене против Родова одра, похожий на подведённый глаз. И оба рассмеялись, - Каждому христианину, - посерьёзнел отец Исидор, - подобает ведать, как жить по-Божески в православной вере христианской. Первое: от всей души веровать в Отца, Сына и Святаго Духа, нераздельную Троицу, - наставлял служитель боярской домовой церкви.
А почитатель Сварога вновь прогнал грешное подозрение: поспешает куда-то мыслями его молодой наставник, исправно явившийся на боярский позов, хотя не слишком исправно исполняющий боярскую волю.
- Да что ещё сказывать? - посмотрел гость в окно на низкое солнце, указующее, что вечерять самое время. - Ты святую книгу прочёл, ежели умом чего не постиг…
- Все постиг, - поспешил облегчить дело Род.
Отец Исидор подозрительно вскинул взгляд и сурово продолжил:
- Чего не постиг, вместе постигнем. Буду твоим духовником. Побеседуем не однажды. Завтра обедню отстоишь, доколе не возгласят: «Оглашеннии[68] изыдите!» Выйдешь, обождёшь. Потом примешь святое крещение.
Дверь бесшумно приотворилась.
- Ты ещё не свободен, любезный?
- Свободен, свободен, - ответил за юношу пастырь, лучезарно улыбнувшись заглянувшей Овдотьице.
Проводив до порога отца Исидора, она провела Рода наверх.
- Ох, и натерпелся Якимушка. И я натерпелась. Едва крестное слово, данное тебе, не порушила.
Мальчик, судя по смятой постели, только что метавшийся на одре, был тих, как тополёк при внезапном безветрии после вихря. Чирей прорвался. Гной вытек вместе с ядром. Оставалось тщательно промыть ранку.
- Я тебя только что ругал, а теперь не знаю, как похвалить, - сообщил исцелённый.
Цокот лёгких шагов прилетел и замер у порога. Дверь стремительно распахнулась, и вбежала Улита.
- Ну как вы тут? - Узрела Рода и летний сорт яблок-щёк превратился в зимний. - Ты?
- Он Якимушку излечил, - поспешила оповестить Овдотьица. - Сам изготовил снадобье…
- Вереда у меня уже нет, - подтвердил боярич.
Улита поцеловала брата и опустилась на лавку у окна.
- Даже помозиба не вымолвишь? - спросила Овдотьица, переводя взгляд с мрачного Улитина лица на смущённый лик юноши.
- Моченьки моей нет во вселюдном позоре жить, - отвернулась к окну Улита.
- Ты о ком? - не понимала Овдотьица.
- Об Амелфе.
Вводница снова глянула на несчастных влюблённых и вдруг заспешила:
- Пойду встречу хозяев.
Дверь закрылась за ней, и возникшая тишина долго не нарушалась. Первым подал голос Яким:
- Сестрица, поговори с будущим названым братцем. А то ведь вам долго теперь не бывать одним.
- Что говорить? - сердито отмахнулась боярышня. - Не место, не время.
- А я уши заткну, - смешно заткнул мальчик указательными пальцами оба уха.
- Знаю, как ты затыкаешь уши, а сам все слышишь, - не сдержала улыбки Улита.
Род тоже улыбнулся.
- А и услышу, так никому не скажу. Не бойтесь, - пообещал Яким.
Девушка и юноша взглянули в глаза друг другу, и улыбки с их лиц исчезли.
- Зачем ты предал меня?
- Я?.. Предал?..
- Став сыном моего батюшки, ты никогда не станешь моим женихом, никогда! Разве тебе не ведомо? Зачем согласился?
Род не находил оправдания, вернее, краткого объяснения своему поступку. Ища нужных слов, он вспомнил запавшее в душу выражение Овдотьицы в лесу и вслух повторил его:
- Названый брат - не кровный брат.
- Ты для меня будешь ближе кровного, - некстати вставил Яким.
Улита схватила с сундука вышитую подушечку и запустила в мальчишку. Дверь в этот миг распахнулась, и в палату вступили боярин, его боярыня, а за ними Овдотьица с Петроком Малым.
- О-го-го! У вас весело! - заметил Степан Иванович, сам будучи навеселе.
Румянец от княжого пиршественного стола ещё рдел на красивом лице Амелфы Тимофеевны.
- Да неужто Родислав учинил такое целительство?
- Он, он, - Овдотьица, как умела, стала объяснять изготовление зензеверовой мази.
Род невольно сосредоточился на Амелфе, которая вслед за мужем вкрадчиво подступала к пасынку. С каждым её шагом поднималась тяжёлая теснота в груди юноши. Он предчувствовал неприятность, готовую вот-вот разразиться, и боялся её. С Амелфы он перевёл взгляд на мальчика и увидел испуг в его серых глазах, не зелёных, как у отца и сестры, а серых, какие, видимо, были у отравленной матери.
- Не прикасайся ко мне! - вскинул на мачеху кулачки боярич и, как бы отвечая на всеобщее недоумение, объяснил: - Она нынче хотела отравить меня. И я умер бы, если бы не он, - Яким указал на своего избавителя.
Лицо Амелфы чуть дрогнуло. Она быстро справилась с собой. Глаза Улиты расширились. Стоящий позади всех Петрок стал страшен от напряжения, но лица его не видел никто, кроме Рода. «Тяжко сейчас придётся этой госпоже», - подумал юноша о боярыне, не находя для неё возможности оправдаться. На вопрошающий взгляд боярина ему пришлось чистосердечно объяснить:
- Отрава была в кружке на поставце. Еллеворово зелье.
- Это она принесла, - кивнул мальчик на мачеху. - Овдотьицыно питьё вылила, а своё принесла. Я не стал пить. А потом Родиславчик мне не дал, коту выпоил. А Баюн издох.
Кучка посмотрел на Амелфу. Зловещее молчание воцарилось в одрине. Род ждал, чем оно разрешится, и дождался, к вящему своему изумлению.
- Родиславчик! - глумливо передразнил Петрок.
- Шоб вам повылазило! - пробормотала Амелфа и продолжила громко на местном наречии: - Не жалуют меня дети твои, Степан Иванович. Ежедень ту или иную напраслину на меня возведут. То Улитушку чуть ли не извела. То Якимушку чуть ли не отравила. А тут ещё третий Кучкович намечается - Родиславчик! Хоть тикай из терема, куда очи глянут!
- Так ведь кот издох! - слёзно выкрикнул Яким.
- Кошка сдохла, хвост облез, - с вызовом изрекла боярыня. - Кошке, поди-ка, уж двенадесять годов, а от неё ещё жизни ждут, - нагло солгала она в придачу. Род видел, что кот был отнюдь не стар.
- Ну покончим на этом, - мрачно решил протрезвевший Кучка, - Все - на опочив!.. Варсунофья сыскалась? Нет?.. Овдотьица, обиходь сына. Родислав, изготовься к завтрему. Утром - церковь, вечером - пир.
Все стали расходиться.
- Теперь понадобья нет в былице Офимке? - подошёл к боярину Род уже за порогом.
- Помозибо. Утешил! - обнял его Степан Иваныч и, не дав прямого ответа, ушёл к себе.
7
Род впервые ступил в христианский храм. Дивным все показалось. Лики святых задумчивы и участливы. Потрескивание обильных свечей наполнило его теплотой. Дым благовоний, источаемый кадильницами в руках священнослужителей, отрешил от земной суеты, унёс ввысь, в несказанный праздник. Торжественный хор поднял, возвысил душу, тесно сделалось ей в груди. Твёрдостью и уверенностью укреплял её окающий бас волжанина-дьякона:
- Го-о-о-осподу помо-о-о-олимся-а-а-а…
Грозным напоминанием о страстях земных возвышалось в этом раю распятие. Род как заворожённый не сводил с него глаз. И хотя уже слышал возглас «оглашеннии, изыдите!», не хотел покидать умиротворяющего блаженства храма, уходить в окаянный мир людей. Однако Овдотьица требовательно потянула за рукав.
В церковной ограде, белевшей берёзами, покрытой жёлтым ковром листвы, к ним подошли Улита с Якимом.
- Ох, горе ты моё, горе! - вздыхала боярышня. - И радость, и горе. Радость, что крестишься, горе, что не с того пути в родню входишь.
- Перестань! - в сердцах осадила вводница.
- Батюшка велел твоей крестной стать, я отказалась наотрез, - продолжала своё Улита.
- Твоё возбуяние[69] мне понятно, - перебила Овдотьица. - А по какой причине отказалась Амелфа? Досачиваешься?
- Ещё бы не досочиться! - бойко встрял Яким. - Мачеха - злица, каких свет не видал.
- Прикуси язык! - велела ему Улита и обернулась к Роду, понизив голос: - О судьбе своей няньки, Родинька, неиспокой отгони. Петрок хорошего обыщика по неё послал, а я ещё лучшего. Моя Лиляна его Дружинку за пояс заткнёт. Помнишь, пряник тебе давала с буквицами? У неё в Красных сёлах одних тёток с десяток. А сестёр родных, сродных, двоюродных и троюродных - в каждом городище! Живо былицу Офимку сыщут. От беды её остерегут и с тобой у любой из тёток устроят встречу. Такой доиск[70] самому князю Гюргию не поднять.
- Лилянке верь, а Вевейке нет, - посоветовал Яким.
- Какой Вевейке? - полюбопытствовал Род, не очень-то веря в успех Улитина доиска.
- Лилянка чёрненькая, а Вевейка рыжая, - обрисовал Яким.
- Тоже Улитина сенная девушка, да нутром чужая, - вставила Овдотьица.
- Вевея как Вевея, - отозвалась о служанке Улита. - Не лежит к ней душа, а надобно терпеть.
Гулкий колокол с подголосками возвестил окончание службы. Боярский кощей[71] Томилка позвал в крестильню.
- Вон и нотарь[72] порется со своей книжищей, перо за ухом, борода по колено, - прищурилась, глядя вдаль, Улита.
В крестильне не было посторонних. Только отец Исидор, дьякон и несколько хористов мужеска пола. Поодаль стояли боярич с боярышней и Амелфа с Петроком Малым, хотя присутствие последнего показалось Роду излишним. А что поделаешь? Любимый отрок боярский!
Восприемниками были Степан Иваныч с Овдотьицей.
Голому юноше в набедренной повязке зябко стоял ось в пустой купели, поливаемому водой. Отец Исидор не стал для него погрузником, как назвал Букал Гурия Мудрого, едва не окрестившего языческого волхва под Киевом. Для погружения в Чистые пруды время настало неподходящее: сентябрь на исходе. Купель же для такого богатыря понадобилась бы не простая, а богатырская.
- Языческий Аполлон! - уловил тонкий слух юноши святотатственный шёпот Амелфы на ухо Петроку.
- Какой полон? - не понял Малой свою учёную госпожу.
Отец Исидор поливал крещаемого водой, отстригал ему щепоть волос.
- …Отрицаешься ли?
- Отрицаюся! - отвечал Род, как ему подсказывали.
«Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся…» - пели хористы.
- …Отрицаешься? - снова вопрошал отец Исидор.
- Отрицаюся, - отрекался Род от кузнеца Сварога, от Букаловой веры, от всей своей прошлой жизни.
Призванный в крестильню нотарь сделал запись об усыновлении новокрещеного Петра боярином Степаном Ивановичем Кучкой. Запись была скреплена подписью усыновившего. Род заметил, что Улита уже покинула крестильню, а лица Амелфы и Петрока были сродни тем, что на росписи в белёном притворе храма, изображающей грешников в аду. Отец Исидор благословил торжественное усыновление. Приёмный отец дотянулся и запечатлел поцелуй на лбу юноши. Овдотьица и Яким крепко обняли и поздравили его. Принесли сухие поздравления и боярыня с отроком.
- Где же Улита? - истиха спросил Род Овдотьицу при выходе.
- Опять пошла убиваться моя дурёха, - вздохнула вводница. - Не глянешься ты ей братом.
Когда подъехали к дому и новый Кучкович ступил у ворот на землю, он ощутил тяжёлую руку боярина на своём локте.
- Пойдём, сын Пётр, покажу тебе весь свой достаток, часть которого будет твоей.
И он показал погреба, мёд уши, скотный двор, все службы, даже псарню, где Роду запомнился огромный бырнастый[73] пёс, прыгнувший, завидев хозяина, и плашмя лёгший у его ног.
- Буян! - восторженно отрекомендовал его Кучка и мановением руки несколько раз заставил то встать, то лечь. - Вот самый преданный мне слуга. Пока он жив, самому жить не страшно. - В огород боярин не повёл: - Тебя Улита с ним познакомила. - И ещё не повёл в избу, высунувшую тесовую макушку из-за глухого тына: - Это поруб, узилище для моих врагов. Чего его смотреть? Только душу мучить.
А хоромы напоминали улей в жаркий час медосбора. Многочисленная челядь сновала по переходам. Каждое крыльцо походило на леток, впускавший и выпускавший тружениц пчёл. Переодевшись в своей одрине, Род поднялся в верхние двусветные сени, белеющие накрытыми столами, пестреющие ковровыми лавками, сверкающие солнечными зайчиками, прыгающими из слюдяных окон. У раскрытой оконницы стояла Овдотьица. Юноша подошёл к ней. Отсюда весь двор был как на ладони. За распахнутыми воротами ясно виднелись подъезжающие тройки, четверни и шестерни. Всадники, правившие ими, спешивались. Лишь у одной кареты возница сидел не верхом на кореннике, а на облучке.
- Гляди-ка, сам Гюргий прибыл, - подняла палец Овдотьица. - И выезд у него по новому киевскому обычаю. Возатай[74] не с коня, а с тычка правит шестерней. Как не падает?
- Это чужеземный обычай, - пояснил Род, - Мне о нём сказывал один ведалец, что не раз за морем бывал.
Он вспомнил о Богомиле Соловье. Овдотьица продолжила вслух свои наблюдения:
- Вон гляди, Гюргий шествует с родными и присными.
- Который? - всматривался Род.
- Вон тот, немалого росту, толстый, лицом белый, глаза небольшие, нос длинный и кривой, борода малая. Углядел?
На князе был зелёный кафтан, а поверх него корзно[75] синее с красным подбоем, застёгнутое на правом плече красною запоною с золотыми отводами. Сапоги зелёные, востроносые. Высокая синяя шапка с красными наушниками.
- Говорят о нём: сластолюбец, не охоч до повседневных забот, все поручает своим вельможам, а они примучивают народ, - продолжала Овдотьица. - А вон, вон! Молодой князь Владимирский Андрей, - возбуждённо привстала она на цыпочках.
- Да который же? - заразился возбуждением Род.
- Да вот тот низкорослый, квадратный, половец. Сын первой Гюргиевой жены, половчанки. По-половецки называют его Китаном или Китаем, враг их разбери.
- Ты почто ругаешься? - удивился Род.
- Не по нраву он мне. Лицо - камень. Мысли слишком глубоко спрятаны.
Род не задумался над её словами. Не лицо этого князя, а яркая богатая одежда привлекла недавнего лесного отшельника. На молодом сыне Гюргия был кафтан малиновый, подпоясанный золотым источнем[76] с четырьмя концами. Воротник, рукава, подол кафтана ниже колен, края корзна - все наведено золотом. Сапоги красные. Шапка желтоватая, не очень высокая, с синими наушниками и красной опушкой.
- А вон ближний боярин Гюргиев, - пояснила Овдотьица, - Короб Якун. Своего воспитателя Симоновича, суздальского тысяцкого и подлинного правителя, князь уж с собой не возит. Слишком стар сын варяжского выходца Шимона. Почитай, лет уже девяносто небо коптит, православную чернь примучивает. А с вельможеством расстаться до смерти нет сил.
В сени входили гости. Шумный говор заглушил пояснения Овдотьицы. Она и Род отвернулись от окна к вошедшим. Вводница ещё успела шепнуть юноше, метнув глазами в седого усача с голой, как колена, головой:
- Дружинник Громила, самый искусный и мудрейший советник Гюргия.
Перед выходом хозяев и князей появились гудцы[77] и, когда двери распахнулись, грянула торжественная музыка.
«Птицы радуются весне, младенцы матери, а мы, княже, тебе, - славили государя суздальского молодые голоса. - Гусли строятся перстами, а град наш твоею державою!»
Князь благосклонно взглянул на хозяина дома, ему величание понравилось.
- Милости просим! Милости просим! - поясно кланялись высокому гостю боярин с боярыней.
Подошли с поклонами Улита и Яким, а следом за ними Овдотьица подтолкнула Рода.
- Славные у тебя дети, боярин, - похвалил Гюргий, глядя на Улиту.
- Моя кровь! - обнял Якима с Улитой Кучка.
- Поздравляю и с новообретённым сыном Петром, - впились в Рода маленькие глазки Гюргия. - Вылитый молодой Гюрята. Две капли воды! - не утерпел он прибавить.
- Мой христианский долг пригреть сироту, - пробормотал Кучка. - В честь него и пир.
- Помню Роговича, - вздохнул князь, не спуская глаз с Рода. - Случилась у нас нескладка, да зла я на него не держал, - произнёс он значительно и положил руку на плечо юноши, - Будь мне верным слугой.
Род склонил голову.
Гости рассаживались по поставу[78]. В челе стола - боярин с боярыней, князья Суздальский и Владимирский. Виновника торжества не по чину, а по случаю поместили рядом с Андреем Гюргиевичем. Якима по малолетству увели, а Улита осталась на пиру. Род заметил, что Андрей не спускал щёлочек-глаз с боярышни. Она была чудо как хороша. Привлекало червчатой яркостью подпоясанное прямое платье из золотой камки с широкими длинными рукавами, снабжёнными наручами. Пояс и наручи одного цвета, затканные золотым шитьём. Подол изукрашен каймой, а верх платья круглым отложным воротником. То и другое богато вышито. Потому что, как объясняла Овдотьица, нечистая сила не может ни войти, ни выйти через отверстие, защищённое вышивкой. Саму носительницу такого наряда, видно, не обременяла собственная красота. С детской игривостью она бросала тайные взоры через стол в сторону Рода, сидевшего рядом с Андреем, встречала пристальный взгляд князя и тут же отводила глаза.
Музыка приглушала застольные голоса. Слышали друг друга лишь сидящие бок о бок. Соседи Рода, князь Андрей по правую руку и Короб Якун по левую, своей значительностью стесняли его. Андрей с непроницаемым половецким лицом почти не замечал юношу. Он или опускал голову, поглощая яства, или поднимал её, пожирая глазами боярышню. Зато Якун оказался куда как разговорчив. Густая жёсткая борода его, коротко постриженная под Гюргиеву, то и дело мелькала перед вежливым Родом, вынужденным к нему оборачиваться.
- Говорят, ты со зверями в лесу на волчьем молоке вырос? - обдавал его боярин хмельным духом.
- В лесу вырос, - подтвердил Род. - Не со зверями, а с людьми и не на волчьем молоке, а на овечьем да козьем.
- Все равно лес - не город. Там жить тяжело, - пробасил Якун.
- Нет, боярин, - ответил Род. - В лесу деревья человеку силу дают. Они живут дольше, они крепче, вот и делятся своей крепостью. Особенно дуб, сосна, кедр, берёза. Не зря люди любят делать из дуба все от полов и лавок до ложек и гребней. И хороводы вокруг дубов водят, и костры из них жгут. А берёза жён питает силой. Женское дерево!
- Значит, от деревьев ты лишнюю силу взял? Значит, ты сильнее нас, горожан? - жуя, спрашивал Якун.
- Ну, жизнь иных деревьев короче нашей, - уклонился от прямого ответа Род. - Ель и осина не дадут тебе силы, боярин, а ещё твою отберут себе на потребу.
- Однако ты больше с дубами да кедрами знался, а? - смеялся, тряся окороченной бородой, Якун, - А мы, горожане, больше по ельникам да осинникам охотимся с соколами на зайцев. Мы, стало быть, слабее. А дай-ка я пожму твою руку?
Он, ухмыляясь, сжал крупную кисть юноши. И ухмылка внезапно схлынула с его лица, высокий боярский лоб покрылся испариной.
- Отпусти, - Он потряс под столом рукой и совсем иным, уважительным взглядом окинул юного соседа, - Вижу, вполсилы ты со мной поздоровался. Однако силен не по летам! Обмануться можно. Лешего принял за человека, вот мой обман.
- Я не леший, - возразил Род.
- Ну не поставь во грех, повороти в смех, - доброй улыбкой оправдался боярин. - Скажи-ка мне, лесной житель, что ты сейчас ешь? - спросил он, меняя разговор.
Род, ожидая подвоха, показал на своё блюдо:
- Гуся.
- Рыбу, а не гуся, - захохотал Якун, - Только здесь, в Красных сёлах на Мосткве-реке, готовят таких гусей. Выбирают из рыбы все кости, бьют её в ступках, пока не станет как тесто, потом в изобилии начиняют луком и шафраном, кладут в деревянные формы в виде барашков и гусей, жарят в постном масле на очень глубоких, вроде колодцев, противнях, чтобы прожарить насквозь, и подают. Кто не знает, примет за гусятину или баранину. Я тоже принимал поначалу, пока секрет не узнал.
Род с удивлением положил в рот кусок и ощутил отдалённый вкус рыбы.
- А что же ты, богатырь мой, не пьёшь, а закусываешь? - спохватился Якун, - Пиршественная чара пустовать не должна. Дай-ка налью тебе медку. Какой более уважаешь? Малиновый, черемховый, яблочный?
- Благодарствую, боярин, - отодвинул Род свою чарку. - Хмельных медов отродясь не пивал. Вот в тесном кругу попробую, тогда и на пиру осмелею.
- Меду не хочешь, инда испей вина, - не унимался Якун. - Чем наполнить твой кубок? Ренским аль романеей? Заморские нашим не чета: у нас - на хмелю, винограда нет. Хоть сказано: «Не упивайся вином, в нем же несть спасения», - однако познакомимся с тобой кубками. Как тебя звать-величать?
- Родислав Гюрятич.
- А порекло?
- Пётр.
- Ну, Пётр-Родислав, за твою силу. Чтоб достало её честно жизнь прожить.
Музыка стихла. Говор заполнил сени. Перекрывая его, князь Гюргий повелел:
- Пришла пора речей. Аршин сукна швецам и кувшин вина певцам!
Кучка одарил музыкантов, виночерпий обнёс их напитками, и гудцы, откланявшись, удалились.
- За нашего государя и моего дорогого гостя! - поднял свой кубок боярин Кучка и влепоту произнёс здравицу в честь Гюргия, сидящего по другую руку боярыни.
- Гляди-ка, - басил Роду на ухо Короб Якун, пока говорил хозяин дома. - Ендова-то в руках Степана Иваныча серебряная, с носиком, по венцу золочены травы резаны, весом полсемигривенки… Богат Кучка, местный властелин. И вмале, и ввелике богат! Да власть его клонится к закату. Даже самому долгому дню приходит конец. Так природой устроено.
Охмелел Якун Короб, заметно охмелел. Да и все охмелели.
- Помнишь, Громила, семилетье тому назад отличились мы под Рязанью? - через стол кричал Гюргий своему дружиннику.
- Это когда печенежский богатырь Темирхозя от нас побежал да на бегу был убит? - тихо спросил молчаливый Громила.
- Должно быть, опять ходили за зипунами? - ядовито вставил Кучка, намекая на зряшный поход.
- Доколе ты будешь ноздри мне щекотать, Степан? - вспылил князь. - Я долготерп. Но ты моё долготерпение не испытывай.
- Пока меня не сожгут, из твоей воли не выйду, - сразу осёкся Кучка.
- Тебя не сожгут, - пообещал князь, - По-христиански похоронят, а не по-вятски.
- Вятичи тоже христиане теперь, - робко возразил Кучка.
- Что это ты затеял строить на Боровицком холме, отец? - громко через стол перебил нехороший разговор Андрей.
- Детей наплоди сперва, - не мог угомониться Гюргий, сверля малыми глазками Кучку, - У меня одиннадцать сыновей и две дочки, а у тебя по одному каждого полу.
- Стал усыновлять чужих, - вставила Амелфа.
Подали плечо баранье жареное с подбелом. Это отвлекло.
- Что я надумал строить? - переспросил коснеющим языком Гюргий, оборотясь к Андрею. - Я много чего построил на Боровицком холме. На месте языческого капища - церковь Иоанна Предтечи, неподалёку - церковь Спаса на Бору. Дворец не хуже, чем в Кидекше на Нерли под Суздалем. Из Суздаля дорога в Киев через Козельск далека, а через Красные села намного ближе. Потому быть здесь большому городу. Вот десять лет назад в устье Нерли на Волге построил я город Скнятин. И тут построю. Будет город Москов - по имени реки. И все Красные села в него войдут.
- И моё Кучково? - мрачно спросил Кучка.
- И твоё Кучково. И Старое городище, и Заяузское… И потекут сюда товары со всех стран света.
- К нашей пристани у Николы Мокрого давно уж самые редкостные товары текут, - сказал Кучка. - Прошлую пятницу я для своей боярыни у восточных гостей[79] гурмыцкий жемчуг купил.
- Что за гурмыцкий жемчуг? - взглянул на Амелфу Гюргий.
- Пойдём, государь, покажу. Знатное огорлие[80], - встала боярыня. - В тёплых южных морях за этаким жемчугом ныряют на дно.
- Нырнём на дно, - тонко посмеиваясь, удалился с ней князь.
Пирующие поначалу этого не заметили. Лишь Короб Якун, опорожняя очередную чару, пробубнил:
- Корова не гостья, на повети сено видит.
Андрей был поглощён созерцанием Улиты и наконец обратился к Роду:
- Ослепительная у тебя сестра.
- Она мне не сестра, - сказал Род.
Владимирский князь за общим гомоном не расслышал его слов и сожалеюще затряс головой.
- Э, не был бы я женат!..
Время шло. Вот поднял чашу дружинник Громила, намереваясь провозгласить здравицу своему государю, и увидел, что места Гюргия и Амелфы пусты. Вот резко встала Улита и покинула стол. После её ухода Андрей обратил внимание на все окружающее, и неприятные мысли омрачили его. Ещё более сузив свои узкие глаза, низкорослый широкоплечий кубовастик вышел из-за стола.
- Куда же ты, князь? - спросил Короб Якун.
- Я этого не люблю, - метнул взгляд Андрей на пустующие места Гюргия и Амелфы. И хмуро покинул пиршество.
Кучка, оставленный своими застольными соседями, выглядел одиноким зубом в стариковском рту. Поначалу он пытался изображать радушного хозяина, но постепенно умолк и совсем потемнел лицом.
Ещё много времени спустя вошла раскрасневшаяся Амелфа и заняла своё место на разрушенном пиру.
Громила подошёл к Яку ну Коробу:
- Пора и нам, дружище, восвояси. Государь уже отбыл.
В хоромах началось беспорядочное движение. Гости разъезжались. Никому не хотелось становиться свидетелем семейной распри, что вот-вот готова была разразиться за столом. Род незаметно покинул сени, намереваясь спуститься в свою одрину. При выходе его ожёг быстрый шёпот:
- Ступай за мной.
Пропустив вперёд девушку-чернавку, он поспешил следом, поняв, что это Лиляна. Она подвела к дубовой двери и легонько втолкнула юношу в тесную боковушку, сама оставшись снаружи.
Род очутился вдвоём с Улитой.
- Я пожелала видеть тебя. Мне так тяжело! - Боярышня отошла к темной оконнице, нервно стискивая руки.
Род понимал её состояние и не знал, чем утешить.
- Теперь ты сам видишь причину моего бегства, - молвила она.
- Прежде не случалось такого, я думаю, - откликнулся Род.
- Такого, не такого! И почище случалось… Лучше бы я осталась в лесу. Нам бы с тобой было хорошо.
- Мне с тобой везде хорошо, - признался Род и осторожно обнял девушку.
Она порывисто обернулась, крепко обхватила его шею, припала лицом к груди.
- Зачем ты стал моим братом?
- Чтобы всегда быть рядом с тобой. Иначе бы нас навек разлучили.
Снаружи раздались тяжёлые шаги, короткий говор, и дверь распахнулась.
Род и Улита оторвались друг от друга. Перед ними был Кучка. За ним в дверном проёме - растерянное лицо Лиляны.
- Опять эта стерва Вевейка выследила, - сквозь зубы процедила Улита.
- Не братние, не сестринские у вас объятия, - дрожащим злым голосом произнёс старик.
Голос Улиты тоже задрожал.
- Прости мою погрубину, батюшка, не могу долее сносить твой позор. Руки на себя наложу или убегу на сей раз насовсем.
Степан Иванович прикрыл за собою дверь и опустился на кованый сундук.
- Ладно. Не горячись. Вся в меня. Только я свою горячность держу в узде. - Он резко вскочил, шагнул к дочери и потряс перед ней сухонькими старческими кулаками, - Неужто не понимаешь? Мне пальцем шевельнуть нельзя! Князь, аки пардус, ждёт случая, чтобы меня пожрать. Так и задирает, так и поддразнивает. Сам изобретает миг для прыжка. Не по догаду говорю, знаю: я тут ему - кость в горле.
- А мачеха? - задыхаясь, напомнила дочь.
Старик вновь рухнул на сундук и пол-лица спрятал в сморщенных руках.
- Амелфа - яд в его смертельных стрелах! - При слове «яд» Кучка, как бы вспомнив о вчерашней пре[81] в одрине исцелённого Якима, глянул в сторону Рода, о присутствии которого забыл, казалось, и повелел:
- Ступай, Пётр, отдыхай. Да держи крепко наш уговор, как себя вести с сестрой. Понял ли?
Юноша, опустив голову, вышел. Не место было приёмышу при таком откровенном разговоре дочери с отцом.
За дверью его проводила взглядом Лиляна. Хорошенькая чернавка явно намеревалась сообщить нечто, судя по её лицу, неприятное и не посмела.
8
Поутру, как обычно, идя в задец, Род в дверях этой «малой палаты» нос к носу столкнулся с Петроком Малым.
- Проходи, Пётр Степаныч.
Глазун, вежливо уступая дорогу, по-новому назвал Сына Гюряты с намёком на вчерашнее усыновление. И лёгонькая усмешка скривила его мясистое лицо.
Род, ошарашенный нечаянной встречей, не сразу вошёл по надобности. Замешкавшись в двери, он услышал, как тяжкие шаги Малого замерли не у выхода из хором и не у ступенек наверх, а совсем близко. Даже подозрение закралось: не входил ли Петрок в его одрину? Когда же Род вернулся к себе, ничто не обнаружило пребывания гостя в отсутствие хозяина.
Овдотьица принесла чудной завтрак - поставила на стол хлебную корону, начинённую маленькими, как червяки, жареными рыбами. Вчера на пиршественном столе он видел точно такую, да не успел отпробовать.
- Наше истинно кучковское яство, - похвалилась вводница.
- Порушь её сама, - попросил Род, - у меня руки не подымаются.
- А Варсунофьи все нет как нет, - завздыхала она, ломая корону.
Юноша все ещё думал о нечаянной встрече с боярским отроком.
- Скажи, милая Овдотьица, разве Петрок Малой в хоромах живёт?
- Он, хотя и бобыль, наособину живёт, как и я.
- А кто живёт по соседству с моей одриной? - допытывал Род.
- Там никого пока нет. Там вдавни ледяной погреб был глубоко в подполе. Квасные и медвяные взвары держали к боярскому столу, чтоб далече не бегать. Да не место же под хоромами ледяному погребу. Теперь из большого ледника все пития через двор носят и держат в лоханях со льдом.
Овдотьица говорила ровно, хотя чем-то очень была встревожена. То на лавку присядет, то на сундук, то оконницу приоткроет и в огород выглянет.
- Что с тобою? - забеспокоился юноша.
Женщина поднесла к глазам свой широкий рукав.
- Говорю, Варсунофья как в воду канула. Нигде не сыщут. Все мысли о ней.
Род, проникнувшись её беспокойством, представил виденную намедни дойницу бабы-яги - нос крючком, голова сучком, зад ящичком. Как она в лесу его назвала? Искун!.. Искун?
- В воду канула? - переспросил он, мысленно созерцая спокойную зеленоватую гладь Чистых прудов. - Сварог знает, что ты мелешь.
- Окстись! - укорила женщина, - Крещение принял, а поминаешь Сварога.
Он уставился в стену и не слышал укоров, собрал в морщины гладкий молодой лоб и не замечал этого.
- Грибы! - неожиданно сказал Род.
Овдотьица, ничего не понимая, воззрилась на него:
- Какие грибы? Ты что?
- Белые. Боровики. Очень много, - настойчиво твердил лесной житель. - Скажи-ка, милая, - спросил он уже спокойнее, - ты укажешь мне место в вашем лесу, где видимо-невидимо белых грибов?
Женщина напряжённо пыталась понять его.
- Укажу. Хоть неблизко это.
- Вот и веди немедля, - приказал Род. - Там твоя Варсунофья.
- Нелепицу лепишь[82], - гневно отвернулась вводница, - Глумишься надо мной. Неужто столетняя старуха более трёх дён в лесу грибы ищет?
Род решительно встал и потянул её за руку.
Они вышли на огород и направились в сторону пруда, к лесу.
- Ой! - что-то подтолкнуло Овдотьицу оглянуться на боярские хоромы, - Лик будто бы Петрока. В окне рядом с твоей одриной.
Род тоже оглянулся и ничего не увидел.
Когда вошли в лес, он нагнулся и поднял пойманного ежа.
- Я держать умею, и кожа у меня прочная, - разглядывал любимого зверька соскучившийся по лесу охотник.
Вдруг ёж, как человеческий младенец, закричал. Даже Род оторопел от его крика, а Овдотьица вся затряслась с открытым ртом.
- Вовек не слыхивала, чтобы ежи кричали. Дурной знак!
Юноша поспешил отпустить зверька.
- Может, ты и права. Ежи кричат очень редко. Больше ворчат.
Пока шли, Род глазом лесовика примечал, что тропа даёт немалую круглину. Отойдя от усадьбы Кучки, они снова к ней возвращались.
- А прямой путь тебе ведом? - спросил он вводницу.
Она помотала головой. Ей трудно было говорить. Грудь тяжело вздымалась. Дыхание вырывалось со свистом. Род тут же преисполнился жалости:
- Постоим чуть-чуть. Моя вина. Несусь борзым оленем!
Женщина долго переводила дух. Потом благодарно взглянула на своего спутника:
- Что я тебе открою, Петруша…
- Не зови меня этим именем, - дрогнул он.
- Твоя воля, Родинька. Только дай признаться. Всю жизнь бездетная. Одна как перст. Чужих любила, к чужим привязывалась. А вчера почуяло сердце истинного сына. Знаешь где? В крестильне. Ты, Родинька, отныне мой сын! - Смущённая своим признанием, женщина заалела как маков цвет.
Не ожидавший такого порыва юноша уже по-иному созерцал её круглоликость, пряди мягких русых волос, выбившихся из-под кики[83], потом собрался с духом и крепко прижал к груди свою крестную мать.
- Меня вырастил отец. Думалось, взаправдашний. Любовь к нему - на всю жизнь. Да без матушки разве детство? Новая вера дала мне новую мать. Хочу, - он снял с себя ладанку и надел её на шею Овдотьицы, - хочу, чтобы ты берегла для меня отцов перстень. А матушкин крест - на мне. Я ведь теперь христианин, и она была христианкой. Крест с меня даже тать не снимет, а перстень могут отнять.
- Святая правда, сынок, - нежно дотянулась до его светлых кудрей Овдотьица. - Себя береги, а я сберегу твоё родовое имя.
Только что низкие солнечные лучи не могли пробуравить лесную чащу, и вот дневное светило взметнулось выше, пронзило зелёные кроны, заиграло бликами на тропе.
Долго пришлось идти, пока в запах прелого листа не ворвался грибной дух.
- Вот это место, - узнал никогда не бывавший здесь Род.
Обоих ждала неприятная неожиданность. На грибной поляне темнел как бы четвероногий, собирающий боровики Петрок и большеглазо уставился на них по- бычьи. Каким чудом он здесь? Только что был в хоромах. Не иначе, знает короткий путь.
Род все же двинулся вперёд, и Овдотьица за ним.
- С пустыми руками во что будете собирать, в подол? - разогнулся Петрок и направился следом.
Шаги шумели в сухом листье.
Путь оперся в сосну, упавшую поперёк. Она росла не у самой тропы, чуть поодаль. Род шагнул влево и внимательно осмотрел рваное основание дерева.
- Дай нож, - попросил он Петрока.
Тот неохотно извлёк из-за голенища охотничий нож с наборной рукоятью. Род отчекрыжил изогнутую кору, чтобы отделить пень от дерева. Потом, взяв в охапку комель, убрал вековую сосну с дороги. При таком оказательстве силы очи изумлённого глазуна совсем вылезли из орбит.
- Уй-юй-юй! - слился его бас с шумом убираемой лесной великанши.
Воздух стал тошнотворно сладким. Овдотьица запричитала в голос. На освобождённой тропе в иглах осыпавшейся хвои лежала ничком Варсунофья.
- Экое несчастье, скажи на милость! - сокрушённо произнёс глазун.
- Это не несчастье, - поправил Род. - Это убийство.
Овдотьица смолкла. Боярский отрок глянул исподлобья.
Юноша объяснил:
- Сосна не сломлена, а подрублена и повалена с умыслом.
- Не верю!
- Тут веры не надобно, - мрачно произнёс Род. - Достаточно глаз. Даже щепу убрать поленились, - Он покопался в сосновой кроне, - Вервие не отвязали, а оборвали, - И поднял конец верёвки.
Глазун отворотил нос:
- Ну и пахнет, однако!
Род срезал и очистил два тонких берёзовых ствола, соединил их ветвями. Всхлипывающая Овдотьица перевернула старуху, попыталась скрестить руки на её груди, что едва удалось. Уложили покойницу на носилки. Петрок взялся спереди. И началось печальное шествие.
Созерцая спину напарника, Род заметил свежую землю на его плечах и рукавах. Откуда на нём земля?
- Более краткий путь тебе ведом? - спросил юноша.
Петрок на мгновение застыл, как бы недослышав, потом пробубнил:
- Не ведом.
Ближе к концу пути Петрок вновь остановился с намерением опустить носилки.
- Обожди немного. Меня мутит.
Он сгинул в чаще. Род с Овдотьицей остались одни.
- Чуяло моё сердце, - истиха вымолвила Овдотьица. - Уходили они старуху.
- Кто… они? - спросил Род, хотя уже знал ответ.
Хотя как дознаются про наш с Варсунофьей лесной разговор?..
Род в тёплый солнечный полдень ощутил озноб.
- А если Степана Ивановича уведомить?
Женщина отмахнулась, ничего не ответила. Возвратился Петрок.
С телом Варсунофьи они внесли в боярские хоромы суету, плач и хлопоты по покойнице. Время клонилось заполдень, была нужда спешить: по обычаю полагалось предать усопшую земле в тот же день до захода солнца.
Улучив время, Род сызнова подступил к Овдотьице: должно же быть боярину ведомо, что причина смерти старухи не несчастье, а преступление. И опять вводница отмахнулась:
- Поверь, боярин нарядит доиск во главе с тем же Петроком. Чего доищешься?
С погребения Род не пошёл на поминки, передал, что ему неможется. В своей одрине растворил оконницу настежь, трупный дух все ещё дурманил его. А свежий воздух вечернего огорода портила гниль палых яблок. Такой богатый урожай плодов, и никто не собирал, будто потеряла в доме былую крепость рука хозяина.
Юноша резко обернулся на звук желанного, хотя и нежданного голоса:
- Здравствуй, братец!
- Уля, не называй меня братцем… Как ты не остереглась ко мне в одрину взойти?
- Ах, что остерегаться? Все виноядничают. Поминки! Вчера пировали за здравие, сегодня - за упокой. - Улита закрыла окно и положила голову на грудь юноши.
- Вчера Андрей Владимирский с тебя глаз не сводил. Сокрушался, что женат, - сказал Род.
Улита ударила его ладошкой по губам.
- Перестань. Этот половчин намедни на Боровицком холме мне всю выть[84] на княжеском пиру отбил. Вурдалак сущий. Будто глазами из тебя кровь пьёт. Ну его!
Род вдыхал запах Улитиных волос.
- А Петрок тоже на поминках? - спросил он, - А Амелфа Тимофеевна?
- Мачеха прежде меня ушла. Глазун вовсе не явился. - Улита отступила к лавке, села, низко опустив голову. - Няньку жалко! Надо ж было так случиться.
- Её убили, - сказал Род. И пожалел о сказанном, поняв, что не ответит на расспросы девушки, которые тут же последуют. Ответить - значит слишком многое открыть Улите, а это может быть для неё опасным.
Конечно, боярышня всполошилась:
- Убили? Как? Кто? За что?
- Откуда мне знать? - отстранился он. - Вижу, подрубали дерево. Не само упало.
Тонкий лучик морщинки возник над Улитиной переносицей и исчез.
- Стечение случаев, - вымолвила она. - Кто-то хотел из нашего леса сосну похитить, да не успел. А Варсунофья под ней прошла…
Род благоразумно промолчал.
- Я ведь к тебе тоже с грустной новостью, - сообщила Улита. - Тётка Лиляны нашла вчера, где живёт твоя нянька. В селе Тайнинском за Яузой. Только дом её заперт. Расспросила соседа. Он видел, как за день до того подкатила к её воротам кареть, приехал неведомый человек и вышла Офимка с ним добровольно и не возвращалась с тех пор… Ой, как ты потемнел лицом, свет мой ясный! - привстав на цыпочках, сжала в нежных ладонях голову Рода боярышня. - Ну утешься ради меня. Будем дальше разузнавать. Найдём концы. Не кмети же её поймал и. Уехала по своей воле. Может, в гости?
«Мой погрех! - мысленно сокрушался Род. - Не явись я, не тронули бы Офиму. На страшное гостевание обрекли её! Каков умысел?» Он тем временем гладил тугие косы утешавшей его Улиты, смотрел поверх её золотой головки и видел постылый сучок напротив его одра на тесовой стене, похожий на человеческий глаз. И вдруг обратил внимание, что глаз тоже смотрит на него, даже веком моргает, и цветом он как кедровый орех.
Это открытие длилось миг. Род, тут же отстранясь от Улиты, бросился к стене… Сучок был на месте.
- Чтой-то ты? - испугалась боярышня.
- Нас наблюдали. Вот через это, - ткнул он в проклятый сучок.
- Пальцем его не выдавишь, - деловито молвила Улита, извлекая из золотых волос серебряную заколку… Сучок слишком гулко стукнулся об пол по ту сторону стены. Девушка прильнула глазом к отверстию.
Род резко оттащил её:
- Побереги своё око.
Не отвечая, Улита выскочила из одрины, толкнула соседнюю дверь… Та была заперта изнутри.
- Я успела узреть крышку подпола, - прошептала девушка. - И - слышишь ли? - крышка медленно закрывалась…
Юноша распахнул дверь, сорвав внутренний запор.
- А сучок-то… с рукоятью, гляди-ка!- удивилась, входя, Улита и подняла с полу затычку для дыры в стене.
Род откинул крышку подпола и - верно говорила Овдотьица! - обнаружил лесенку, ведущую глубоко вниз, в черноту.
Взял свечу из своей одрины и трут, попросил Улиту обождать, начал спускаться… Заметил, что отверстие, светившееся вверху, затмилось. Вскинул взгляд и увидел над собой стройные ноги девушки в кружевных чулках.
- Кто тебе разрешил за мною спускаться?
- Сама себе разрешила.
Наконец вместо хилых ступенек затвердела земляная площадка под ногами.
- Тут совсем темно! - прижалась Улита к Роду.
Отверстие вверху, чуть виделось.
Род зажёг свечу. Подземный сруб, в котором они стояли, был довольно просторен. Из него в обе стороны уводили низкие ходы. Их стены и потолок крепились брёвнами потоньше. Об этих ходах от Овдотьицы даже намёка не высказано. Значит, не знала. Род стоял, напряжённо слушая беззвучие подземелья. Капель не постукивала нигде, почва сплошь сухая.
Улита освоилась при свечном свете в глубоком подполе и с любопытством заглядывала то в правый, то в левый подземный ход.
- Налево пойдёшь - жизнь потеряешь, направо пойдёшь… - таинственно шептала она.
- Помолчи, - велел Род, ещё напряжённо вслушиваясь. И решительно пошёл направо.
- Почему туда? - шёпотом осведомилась Улита.
- Там кто-то истиха чихнул.
Оба шли, пригнувшись, то и дело касаясь плечами стен. При толчках струйки земли просачивались меж брёвен. Вот отчего плечи и рукава Петрока были в земле.
- Этот ход ведёт в лес, - обернулся к спутнице юноша.
- Как ты знаешь? - удивилась Улита.
- После расскажу…
Он уловил впереди шуршание, мелкие торопливые шаги и тоже заторопился. Боярышня стала отставать, но не жаловалась, поспешала молча.
Вот чёрная понка[85] заколыхалась впереди иноческим покровом. От них уходила женщина. Не монахиня. Огненные кудри выбивались из-под понки, когда она временами вскидывала голову. Видно, ей трудно было дышать.
- Стой! Кто ты? Все равно не уйдёшь, - крикнул Родислав.
Звук его голоса пропадал тут же. Никакого эха в подземелье…
Улита нагнала и тоже закричала:
- Стой, блудня!
Понка застыла. Убегавшая стояла, не оборачиваясь. Преследователи не устремились к ней. Все устали. Всем не хватало воздуха.
- У кого в вашем доме жёлтые глаза? - обернулся юноша к боярышне. - Ну не жёлтые, светло-карие, цвета лесного ореха…
- У Варсунофьи, - не раздумывая, сказала девушки и тут же поправилась (ведь Варсунофьи нет в живых!): - Ещё… ещё жёлтые глаза у Вевейки… Ах ты лярва! - на весь подземный ход крикнула она, так что сверху земляной прах посыпался. - А ну, поди сюда, стерво![86]
Женщина обернулась и понуро направилась к ним. Огненные пряди закрывали лицо. Подойдя, она грохнулась в земном поклоне.
- Мой погрех, госпожа, мой погрех!
Тут уж юноша подался назад, уступив место разгневанной боярышне. Та ухватила огненный пучок в руки и, запрокинув голову виновной, так блябнула[87] её, что та взвыла.
- Я тебе покажу лазутить! Сказывай, кто послал!
- Сама… любопытничала… - ревела Вевейка. Получив ещё две бляблы по щекам (Улитина рука оказалась тяжёлой!), лазутница с рыданиями призналась: - Сам Степан Иваныч… за тобой… наказал приглядывать.
- Приглядывать? Ах, дрянная! - не унималась боярышня, пока Род решительно не остановил её руку. - Ладно. Ступай вон. Я наверху разберусь с тобой…
Род пропустил вперёд виновницу происшествия. Он понял, почему не удалось Вевее убежать от них. У неё не было свечи.
- Подскажи-ка, - сказал он ей в спину, - куда этот ход ведёт?
- К лесу… к грибной поляне, - отвечала, всхлипывая, Вевея.
- А иной? Тот, что в другую сторону…
Сенная девушка перестала всхлипывать, заговорила деловито:
- Оба хода из погреба прорыты невдавне. Называются усами. Правый ус - лесной, левый - речной, ведёт к речке Рачке.
- Куда-куда? - спросил Род.
Но Вевея, дойдя до лестницы, без лишних слов устремилась вверх.
- Поднимись за ней, - велел юноша Улите, - А я проверю левый ус. Свечи ещё хватит.
Он углубился в другой ход. Шёл недолго. Дверь в стене заставила остановиться. Сразу обдало холодом. За дверью мужской голос требовал чего-то неразборчиво. Потом пронзительно донёсся женский крик, переходящий в стон. Род резко толкнул дверь, тяжёлую, изнутри незапертую.
Просторный сруб с земляным полом освещало несколько свечей. Подвешенное к матице, желтело тело женщины, прикрытое какими-то издирками[88]. В жаровне у её ног краснели угли. От виски в сторону Рода пучеглазо глянул Петрок Малой. Поодаль притулился к срубу человек, в котором Род не без труда узнал Дружинку Кисляка. Тот не слышал скрипа отворенной двери, он в это время обращался к мученице:
- Не таись, Офимушка. Ведь я, служа в Гюрятиных хоромах, видел голубой ларец. Однажды господин при мне извлёк оттуда перстень припечатать грамотку. Ларца-то не нашли, а перстень ты вложила в ладанку на шею сосунка…
- Умолкни, - перебил Пётр ок. - Вон сосунок-то сам пожаловал.
Род не увидел, что изобразилось на лице Дружинки после тех слов. Он бросился на помощь к истязуемой. Петрок безмолвно уступил дорогу.
Освободив от пут руки женщины, Род бережно отнёс её к соломенной подстилке в дальний угол. Заметил, что ступни обожжены и пальцы перебиты в месиво. Когда уложил няньку и склонился над ней, кипарисовый крестик выпал из-за пазухи, повис перед её глазами.
- Крестик… Степаниды… Микулишны, - не произнесла, а выдохнула Офимка. Потом уж из последних сил сказала чётко: - Глазун - убийца твоих родных. Кисляк - предатель.
Тут сын Гюряты ощутил, как начинают холодеть кисти рук Офимки, которые он безотчётно гладил.
Пальцы его невольно скользили по её рукам все выше, к предплечьям. И он вдруг понял, что скользят- то они, как бы убегая от холода, начинающего сковывать умершую. Холод, будто торопясь, двигался от конечностей по всему телу. Грудь ещё тепла… и уже не тепла. Шея, щеки ещё теплы… и вот уже не теплы. Пальцы Рода на холодном лбу. И под ними исчезает, сходит с лица женщины едва теплившийся, но живой цвет жизни, и оно становится жёлто-восковым.
Род отдёрнул руки и вскочил. Дружинки в срубе не было. Боярский отрок тяжело смотрел в глаза Гюрятичу.
- Вот супротивника себе нашёл! - как бы удивлялся он. - Силен не по летам! - повторил он сказанное на пиру Якуном Коробом, да прибавил своё: - Отныне у нас с тобою одна забота - кто кого на тот свет спровадит.
Позади неожиданно прозвенел грозный голосок:
- Если убьёшь его, понадобится убивать меня!
В двери, перед тем впустившей Рода, стояла, вскинув голову, боярышня с такой отчаянностью на лице, с какой она два месяца назад намеревалась прыгнуть в реку очертя голову, если Род не повернёт каюк.
Не ожидавший её появления Петрок оторопел. Слова не вымолвив, вмиг исчез за противоположной дверью. И шаги его гулко застучали по ступеням вверх.
Когда они затихли, Улита первая нарушила гробовую тишину подземной пыточной:
- Куда ведёт та дверь?
- Род не ответил.
- Вот и сгубили наших нянюшек, - ступью[89] приблизилась к нему девушка. - Выходит, обояко мы с тобою сызнова осиротели. Рюмить ты не велишь. Надо укрепиться духом. Остались без нянек - значит, пришла пора становиться взрослыми. Будем сами жизнь свою рядить, ты по-мужски, я по-женски.
Род молча созерцал умершую.
Улита, сжав в своих ладонях его руку, потянула юношу к себе.
- Пойдём. Она покинула нас. Тело сброшено, как ящеркова кожа. Душа отлетела в лучший мир. Ступай же. Что ты сам не свой?
- Две смерти за один день слишком много для меня, - промолвил Род.
Они прошли знакомой дверью из пыточной в тот самый ус, что вёл к какой-то речке Рачке.
- Ты… ты уже уходишь насовсем?- испуганно спросила девушка.
Род было пошёл в сторону реки, спохватился и вернулся.
- Я от тебя теперь не вправе уходить. От тебя и от Якима. Покуда из вертепа не спасу. Вертеп ваш - не чета языческому. - Он передал свечу боярышне. - Свети!
9
Петрок Малой исчез.
Боярин не пускал к себе ни Рода, ни Улиту, сказывался нездоровым. Амелфе не велел покидать женской половины. Общался лишь с Овдотьицей как с опытной сиделкой. Она готовила ему питье. При надобности призывался Анца Водель, лекарь из варягов. Вводница оповещала, что Степана Ивановича мучает злуница, лихорадит старика.
Похороны Офимки свершились тайно. По боярскому изволу к ним допущены были лишь Род с Овдотьицей. Даже отец Исидор после отпевания на скромные поминки не остался.
Дверь по соседству с одриной Рода надёжно заперли, а тесовую доску в стене с сучком-глазком заменили.
Улита, как и мачеха, не выходила с женской половины. В час послеобеденного сна братца навестил Яким. Отворил дверь тихо, как Овдотьица, со спины подкрался к Роду, склонившемуся над столом за чтением Евангелия, да и напугал объятием.
- Ах ты лазутник! - не сдержал улыбки разучившийся в Кучковом доме улыбаться Род.
Яким, приникнув к его уху, зашептал:
- Тайну тебе открою, братец! Вчера повечер батюшка Улитку призывал. Расспрашивал. Досталось ей, что ходила в твою одрину. Вевейка донесла… И ещё: я пинакиду от сестры принёс. - Он вынул из-за пазухи писчую дощечку, залитую воском.
Род разобрал выведенные тонким металлическим писалом буквицы: «Сижу взаперти, батюшкой побита. Петрок-клеветарь, будь настороже».
- Велела начисто стереть, - довершил Яким своё посольство.
Род стер написанное. Мальчик скрыл табличку под рубашкой. Тут вошла Овдотьица. Увидела боярича и покачала головой.
- А ну кышь наверх, мой господин! - выпроводила она Якима. - По его ещё ангельскому, непритворному лику вижу: неспроста приходил, - вопросительно заглянула она в глаза Роду и, не получив ответа, сухо сообщила: - Сам тебя зовёт. Ох, грозен! Будь настороже.
Последний совет вводницы совпадал с Улитиным советом. Значит, и впрямь ждала гроза. После похорон Офимки Род по-сыновни поделился с крестной матерью всем накануне происшедшим. Она не одобряла его тайного свидания с Улитой, считала, нужно следовать боярской воле, ждать, пока счастье выпадет, надеяться, не самовольничать. Овдотьица всем своим видом сочувственно показывала: накликали беду!
Степан Иваныч Кучка сидел в своём покое, подперев скулы-кулаки. Какой уж там рассвет в сквозном березняке! Губы потемнели, жиденькая борода взъерошена. На лице явное неведрие. Обочь лежит Буян, невиданный допрежь в хоромах. Для чего призванный с псарни? Для охраны? От кого?
Боярин указал приёмышу на лавку у противоположной стены. Сын должен разговаривать с отцом не сблизка, а через покой.
- Юноша лукавый! - мрачно произнёс Степан Иваныч. - Я прикрыл тебя отеческим крылом, аки змия на груди. Ты не жизни пришёл искать в мой дом, а дочь мою измыслил похитить плутовством.
Ещё в лесу с ней сговорился по излюбу[90]. Офимка, нянька бывшая твоя, пособничала вам. Во всем призналась под железом и огнём! А что сам скажешь?
Буян, как и его хозяин, испытующе смотрел на подозрительного юношу. А у того дыхание перехватило от боярских слов. Пытался совладать с собой, хотел отвести взгляд от головы Кучки и не мог. Вдруг увидел его голову, напрочь отделённую от тела, кровоточащую. Достигший великаньей высоты Петрок с дрожащим окровавленным ножом в руке вздымал её другой рукой за жиденькие волосы.
- Ты что? - отпрянул Кучка, испугавшись лица Рода. - Хочешь порешить меня? Собакой затравлю!
- Не мне судьбой указано укоротить жизнь твою, Степан Иванович, - нечеловеческим усилием взяв себя в руки, тихо сказал Род. - Наступит страшный день, предательски отсечёт голову хозяину его любимый отрок. Офима-нянька перед смертью успела мне открыть: не кто иной, как он, убил моих родителей. А по своей ли воле?.. И не о сговоре со мной доискивал её Петрок, а о голубом ларце, откуда взят тот самый перстень Жилотугов, что ты видел. А обвинения облыжные могильным камнем лягут на твоей совести. Можешь пытать меня, боярин, можешь казнить. Доколе я в твоих руках, ты в моей жизни волен.
Остоялась тишина в покое, нарушаемая дыханием Буяна, роняющего капли с языка.
Успокоившийся Кучка, натужливо смеясь, стал говорить:
- Каждый норовит узнать свою судьбу. Ведальцы сказывают: надобно накурить на ночь в опочивальне пилюли, составленные из крови осла и мяса с салом из груди рыси, тогда во сне лицо увидишь, оно-то и предскажет будущее. А я и без лихих пилюль узрел предсказателя моей судьбы. Да только, - он перегнулся через стол, - лжёшь ты, идольский угодник! Наизнанку разум надо вывернуть, чтобы так лгать! - Боярин сжал в кулаках гнев и сел, откинувшись.
Род мысленно приказывал себе замкнуть уста.
- А что касаемо Офимки, - тише продолжал Степан Иванович, - будто бы она тебе открыла перед смертью… это тоже твоя ложь. Знаешь, что умершие молчат, и лжёшь.
- Замученная твоими хищными кощеями, - не сдержался Род, - она уже ничего не повторит.
Кучка пропустил его слова мимо ушей.
- Да, сейчас в твоей судьбе я волен. Однако не пугайся пытки, казни, что заслужил. Мести не ищу. Как пришёл, так и уйди. Живи в своём лесу, там не перед кем лгать. Чтоб видом я тебя не видывал и слыхом не слыхивал до гробовой доски! Коня получишь завтра поутру. И сгинь.
- Поверил ты облогу, скверной молвке[91], - поднялся Род.
Боярин тоже встал:
- Прощай, приблудный сын.
- Дозволь с Улитой попрощаться и с Якимом.
Кучка затряс сединами:
- Овдотья тебя проводит.
До конца дня Род сидел в своей одрине, как в порубе. Кощей Томилка за дверьми прилежно надзирал за ним.
Овдотьица и та его не навещала. Даже ей было не велено. Лишь утром принесла настряпанных в дорогу рыбных пирогов, вернула старую одежду с зашитой гривной кун. Так и повисла тёплая, по-матерински плачущая женщина на шее Рода.
- Вот и с тобой расправились, мой светик. Помозибо хоть живым оставили. Шепни, в каких местах тебя искать. Ведь я не успокоюсь.
- Сам найду случай свидеться, - обещал Род, целуя мягкие седеющие пряди, выбившиеся из-под кики.
- Свидимся ли, уж не ведаю, - всхлипывала вводница. - Варсунофью уходили, теперь очередь за мной.
- Только не страшись, - погрозил Род, - Страх - плохой помощник… - И внезапно этот странный крестник так приковался взглядом к своей крестной, что та вздрогнула. - Ты сама белье полощешь на мостках?
- На каких мостках? О чём ты?
- Отвечай: сама белье полощешь на мостках? - тряс её Род.
- Да, я люблю полоскать белье, - смутилась женщина. - На Чистых прудах, где огород кончается, у леса Томилка сделал знатные мостки. Сама своё стираю, сама и полощу. Не доверю никому.
- Боярич, время ехать. Кологривый у ворот, - приоткрыл дверь Томилка.
- Берегись мостков, Овдотьица! - заклинающе попросил Род, отрываясь от своей крестной.
Кологривый, старый и хромой, неспешно вынес к переправе, слабенькой рысцой миновал Великий луг, вброд пересёк Яузу, углубился в лес. Вот и Заяузское городище позади. Дорога глуше, места привычнее. Пожалели доброго коня изгнаннику. Ну да что возьмёшь с разгневанных хозяев?
Оскорблённое, поруганное сердце Рода горевало по Улите. Опять расстались, не простившись! Был, однако, в сердце светлый уголок: рисовалась часто снившаяся встреча. Скоро, скоро сбудутся волнующие сны! Вот Букал у своей кельи, насупясь, смотрит: кто это такой знакомый - нет, такой родной - едет по его новцу?
Нечто страшное вдруг отвлекло юношу от картины предстоящей встречи и вернуло к уходящей в просеку дороге. У обочины лежал навзничь полураздетый человек. Из-под него ползло кровавое пятно.
Приблизясь, Род услышал стоны. Не раздумывая, сошёл с коня и устремился к раненому, видимо ограбленному. В следующий миг крупные ячейки сети мелькнули перед его взором. Дьявольская сила опрокинула, поволокла… Род успел увидеть, как полураздетый бедолага сел, беззвучно хохоча, потом вскочил, победно замахал руками. Род с невероятной силой ухватился за ячейки, рванул и надорвал свои тенета. Но его уже крутило по земле, сеть наслаивалась, опутывая тело. «Заяц!.. Заяц!.. Заяц!» - единственное отчаянное слово замелькало в голове. Он ничего уже не видел. Тело извивалось от невыносимой боли. Когда угомонится этот несущий в бездну вихрь? Все кончилось ударом. И мир исчез для Рода. Все исчезло…
БРОДНИКИ.
1
- Куда мы его везём, лопни моя ятрёба?[92] Велено же было на месте порушить!
Первые слова, услышанные Родом, не обрадовали. Легче оставаться в небытии, чем такое слышать. Слова явно относились к нему, да и произнёс их вызывающе наглый голос. Роду даже захотелось верить, что он вовсе не очнулся. Ведь не видел ничего, хотя открыл глаза. Нос, полузабитый возгрями[93], плохо пропускал воздух. Рот заткнут тряпкой, солёной от чужих возгрей. И шевельнуться нельзя. Руки, стянутые за спиной, занемели. На ногах верёвка сдавила щиколотки. И очень болел затылок: узел от повязки на глазах пришёлся как раз на то место, которым ударился. А тут новая тягость: не иначе, телега свернула с большака в лес, дорога пошла ухабистая, а на дно лихие ездоки бросили слишком мало сена.
Облегчить себя новым беспамятством Роду помешал дальнейший разговор.
- Стой, Дурной! Стой, Фёдор! Стой, тебе говорят! - велел тот же резкий голос. - Вот, разорви мою ятрёбу, самое подходящее место, чтоб с ним покончить. Вот на той елани[94]. Со всех сторон глушь. Тут ему и славу запоют![95]
Телегу продолжало швырять на подколесных сучьях.
- Федька, ты впрямь дурной?
- Я-то впрямь, а ты вкривь, - мрачно произнёс низкий голос. - Нишкни, Зуй, сиречь задира. Волковский лес крикунов не жалует.
- Малой уговаривался, ты не перечил. А теперь мешкаешь, - несколько умалил тон задира, то есть Зуй. - Я не слепой, ты же его на становище[96] везёшь. Он у тебя не в землю ляжет, а к Шишонке Вятчанину в избу на голбец[97].
Тут встрял в разговор третий голос, тонкий и слабый:
- Может, он прав, Федюняй? Петрок Малой, вроде нашего атамана Невзора, шутить не любит.
При упоминании этого имени Род, к вящему своему волнению, понял, что попал к бродникам. А ещё прежде стало ясно: похитчики его были наняты как убийцы. Такое открытие не столь мучило, сколь саднящая боль во всем теле. Ох, и изрядно его, тащенного волоком, ободрала дорога! Легче казалось умереть, нежели терпеть.
- Негоже с чужого голоса петь, вот что я скажу тебе, друг Озяблый, - мрачно изрёк Дурной, - Из нас троих только Зую ведом Петрок Малой, бывший его хозяин.
- Врёшь! - крикнул Зуй. - Я не Петроку служил, а самому боярину Кучке. Да дело прошлое. А ныне боярские деньги отрабатывать надобно.
- Ха! - выдохнул Дурной. - Ты у нас эти челядинские привычки брось. Который год живёшь с нами, а не уразумел: мы ничьих денег не отрабатываем. Мы их берём! И вся недолга.
И снова слабенько встрял в разговор третий, тот, кого назвали Озяблым:
- Толкуем об убиении при живом. Брр!
Зуй, потревожив Рода, переместился в телеге.
- Эх, Федьки, горе мне с вами! Один жалеет, другой жалеет, а ещё коренные бродники! Да уразумей ты, Озяблый, что этот голоус нас не слышит. Как он на мой подман сыкнулся… А я допрежь под себя всю флягу брусничного сока вылил, чтоб его подмануть… Как он сыкнулся да как в тенетах о камень колганом хряпнулся! Нескоро он теперь что-либо в толк возьмёт. Вот бестолковому-то ему и помереть легче. А вы мешкаете… Кончим дело, поделим боярские деньги поровень - и душа на волю!
- А вот этого хочешь? - мрачно пригрозил Фёдор Дурной, - Замыслил крадом повязать нас недозволенной добычей? Нет, деньги будем, как водится, перед самим Невзором делить. Запомни: ни Кучка, ни его Петрок, ни ты и ни мы - атаман решит судьбу яшника[98]. Посадит ли его связнем в яму или к ядрёной матице пошлёт - его воля.
- Знатьё бы, так каши бы с вами не заваривал, - пробормотал Зуй.
- Мы-то язычники, а ты крест на шею надел, - примирительно промямлил Озяблый. - Глянь-ка, и на нём крест. Вон из рубахи на груди вылез. Не простецкий крестик, особенный!
- Где? - спросил Зуй, - А? - Род ощутил, как жёсткая рука сдёрнула с него материнский крест, оборвав цепку. - О-о-о! - простонал Зуй.
Возмущённый его поступком, Род в свою очередь исторг глухой стон. Воцарилась тишина. Телега остановилась.
Все долго молчали, только лошадь одиноко всхрапнула. Потом тяжким сапатым всхрапом отозвалась другая, как стало понятно, привязанная к задку телеги.
- На сапатом коне парня послали на убой, скареды! - густо матюкнулся Фёдор Дурной.
- Опамятовался наш яшник! - тихо возвестил Фёдор Озяблый.
Задира не подавал голоса. Род почувствовал: не иначе его рука, ближе всех сидящего, вытащила из горящего рта кисло-солёный кляп.
- Кто ты? - спросил Зуй.
- Развяжи глаза, - с трудом выговорил Род.
- Кто ты? - повторил Зуй.
- Хоть повязку перемести. Узел на рану давит, - попросил Род.
Ему переместили повязку. Левому глазу, где она стала уже, приоткрылась крошечка неба. Оно было пасмурным. Должно быть, наступал вечер.
- Я Родислав Гюрятич Жилотуг.
Телега тронулась в полном молчании.
Когда она снова остановилась, Зуй, должно быть, наклонился, потому что его дыхание смрадом ударило в лицо пленнику.
- Откуда на тебе этот крест? Не лги! Род Жилотугов весь вырезан.
Ответа не последовало: яшник вновь потерял сознание…
Очнулся он зрячим. Повязка с глаз снята. Ноги и руки свободны. Он лежал в курной избе на голбце. Избу освещал сальный светец на столе. За столом сидели четверо - обритый наголо, как торчин[99], мужик с розовым теменем, чёрный дремучий бородач, лицо которого показалось Роду знакомым, преждевременный, судя по ясным глазам, старик, сморщенный, как гриб дождевик, и кудрявый рыжий верзила, так удачно изобразивший ограбленного на лесной дороге. Это и был Зуй, которого Род сразу определил по голосу.
- А когда Петрок отсекал ей голову, - с трудом, как бы исповедуясь, выговаривал верзила, - я увидел вот этот крест в луже крови. Ох, - лопни моя ятрёба! - треть прожитой жизни минуло с тех пор, а помню все, как вчерашний день. Я ещё поднял крестик, разглядел хорошо, да взять не посмел.
- Верни его сыну убиенной боярыни, - велел лысый, видимо, Шишонка Вятчанин, хозяин избы. - С цепкой верни, не будь шильником[100].
Род прикрыл глаза и почувствовал, как грубые дрожащие руки надели на него крест. Не руки задиры.
- Он не сын Жилотугов, - резко заявил Зуй за столом, - Их сосунок помер. Узнано достоверно.
- Достоверно, ты вдругожды хотел его извести, - мрачно вымолвил Фёдор Дурной. - Эй, Шишонка, ставь на стол питье и естьё, - велел он хозяину, - А яшника нашего попользуй от ран и ссадин. Лежит без памяти, а на голбце ёрзает.
- Ёрзает не столько от ран, больше от погани, - предположил Зуй. - Ох, и погани ты развёл, бессемейный одинец, лопни моя ятрёба! - упрекнул он хозяина.
- Вот и я сижу, думаю, - нахмурился Фёдор Дурной. - Блошка, да мошка, да третья вошка, а упокою нет!
- Хоть бы покурил в избе можжевельником с ягодами, - вяло посоветовал Фёдор Озяблый.
Род, внутренне согласный со своими мучителями, нетерпеливо почёсывался спиной о голбец.
- Что за гости - один хай да май! - отбрёхивался лысый Шишонка.
- Ему проще себя обрить, чем в избе покурить, - не унимался задира.
Тем временем Вятчанин раздел пленника, смазал на его теле ссадины целительным зельем, привязал примочку к раненому затылку. И легче стало: не только боль унялась, клоповья погань от пахучих снадобий разбежалась.
- Не сойдёшь ли повечерять чем Бог послал, - пригласил хозяин избы.
Род, преодолевая истому в непокорных руках и ногах, слез с голбца.
- Бог тебе, балахлысту[101], не много же посылает! Ветряную рыбу да чёрствый квас, - сказал задира, зло жуя вяленую плотву и враз заливая горло кружкой питья квасного цвета.
- Жри, неясыть![102] - бросил Шишонка на стол варёные яйца так, что все они треснули от удара.
Род с холодящим любопытством, как на чудовище смотрел на убийцу своей матери. Его посадили напротив Зуя. Ледяные глаза задиры уставились на недавнего смертника.
- Надо ж такое вы лгать, будто бы ты тенёта разодрал. Да их сам Якуша Медведчиков мастерил. Мечом не разрубишь!
Зуй осуждающе перевёл взор на Фёдора Дурного. Видимо, тот сообщил, что Род надорвал тенёта.
Дурной не откликнулся на взгляд Зуя, он, будто погрузившись в воспоминания, разглядывал пленника.
- Чего воротишь лик, как хазун?[103] - спросил Зуй, опять оборотясь к Роду. - Или и впрямь такой сильный, а мне невдогад? Так испытаем плеч![104] Я тоже не нечевуха[105].
- Оставь яшника, задира, - попросил Дурной. - Нашёл себе супротивника! Он ещё не очухался.
- Да мы с ним погладку[106], локотками, долонь в долонь, - сделал медоточивый голос задира и выставил руку на столе для боевой схватки. - Ну, Федьки, бейтесь об заклад. А ты, Шишонка Вятчанин?
Оба Фёдора и хозяин избы вопросительно глянули на яшника. Род, видя их желание поразвлечься, упёр локоть в столешницу и вложил ладонь в ладонь Зуя. Фёдор Озяблый и Шишонка поставили по ногате[107] на задиру. Фёдор Дурной поручился за победу ослабленного недавней борьбою яшника. Его доверие, конечно, польстило юноше. Хотя куны, брошенные на кон Озяблым и Шишонкой, явно говорили, что задира считается крепким шибайлой[108] среди бродников.
Вот супротивники взглянули в глаза друг другу. И юноша ощутил железо Зуевой руки. Головник заставлял по достою оценить себя. Род напрягся… Свидетелям поединка скоро пришла пора подивиться нежданному обороту: кисть Зуя, покрытая бырнастой шерстью, медленно легла на столешницу. И по мере её падения искажалось лицо задиры. Побеждённый, отворотясь, пробурчал:
- Удалось дристуну пёрнуть!
На слова его никто не откликнулся. Тогда Зуй, воззрясь на своего победителя, зашипел:
- А пошто столько ненависти в твоих очах?
Род не отвечал. Озяблый тихо пояснил:
- Ведь на твой подман он попал в тенёта.
- Ха! - пристукнул по столу Зуй. - Причина - в ногату, а ненависть - в гривну. Меня тут не обмануть!
Ну и шикан![109] - остановил неладные речи Фёдор Дурной.
Возможно, подерушка этим бы кончилась, если б Шишонка Вятчанин глупьём не вмешался.
- Когда я надевал ему крест, парень был очухавшись, он твои кровавые слова слышал.
На побелевшем лице задиры ясней проступили червлёные[110] крапины.
- О каких таких словах толкуешь?
Шишонка хотел было извернуться, да ещё пуще увяз:
- Ну о каких таких?.. Ну как ты мать его убивал. Ну про крест её окровавленный…
Зуй затрясся осиновым листом и напрямик обратился к Роду:
- Ты… что… молчишь?
Пленник, казалось, был спокойнее всех своих пленителей.
- А что ты, лихой головник[111], ждёшь от меня услышать? - в свою очередь спросил он почти миролюбиво. - Одно я тебе скажу: за такое убийство не берут виры[112].
- Так казни же, казни меня! - скрежетал Зуй.
Оба вновь впились друг в друга глазами. И юноша отвечал:
- Не дано мне тебя казнить. Смерть твою вижу рядом. Не от моей руки.
Зуй, натужно хохоча, выскочил из избы.
- Поверил, - вздохнул Фёдор Озяблый.
- Не поверил, - мотнул головой Шишонка.
Он убирал одежду пленника с голбца, чтобы устроить ему на ночь подобающую постель.
- Твой чёрствый квас оказался бражкой, - заметил Фёдор Дурной. - К тому же изрядно крепкой. У всех головы помутились.
- Яшник бражку не пил, - значительно поднял палец Фёдор Озяблый.
- Не называй его яшником, - попросил Дурной, - Он пленён по нашему неразумию, по Зуевой алчности. Сам атаман оставит его не яшником, а свободным бродником. Ведом мне этот юноша. Его имя Род.
Род отнял от головы руки, покоившие её на столе, и с удивлением посмотрел на Дурного. Тот почти по-родственному кивнул ему:
- Не признал меня, милый?
- Как глаза развязали, все пытаюсь признать, - оживился Род. - Память с ног на голову поставил. А теперь вспомнил: видел твою бороду на Букаловом новце. Отец тебя называл огнищанином.
- Твой приёмный отец - мудрый поводырь лесного люда, - усмехнулся бородач. - Введоме у него, что при нынешней власти огнищане обнищали. Я вот подался в бродники. А он меня величал по-прежнему.
- Эй! - крикнул Шишонка от голбца. - Как там тебя? Род! Я кое-что нащупал в полах твоего корзна. Отодрал подбой, и вот… - Он бросил деньги на стол. - Не тяжелит ли твоё платье сей груз?
- Верни ему эти куны, - велел Фёдор Дурной.
Род решительно воспротивился:
- Пусть деньги по моей воле перейдут к вам. В благодарность за обережь и кормление.
- Твоя воля - хорошая воля! - как к огню, протянул к деньгам руки Озяблый.
В избу вошёл Зуй. Замер у порога. Потом бросился к столу, тараща глаза:
- Куны! Ветхие куны!..[113] А, разорви мою ятрёбу! - отменная добыча! Надобно сметить[114], сколько их тут. Давайте сметим… О, гривна кун! Так давайте скорей делить.
Когда деньги были поделены на четыре части, Зуй возмутился:
- Шишонка не в счёт! Он не участник добычи!
- Это и не добыча, - остановил его Фёдор Дурной. - Пожалованье от молодого боярина, по ошибке пленённого.
Но возбуяние Зуя росло, как пожар в стогу.
- По какой такой ошибке? Что за пожалованье? Нет, лопни моя ятрёба! - делите на троих, и вся недолга.
- Закрой лохалище[115], а то потяпыш дам[116], - пресекал попытки задиры отнять его часть Шишонка Вятчанин.
- Отдай, бздюх[117], чужую добычу! - не отступал Зуй.
- Ах, хайдук![118] Он меня назвал бздюхом! - верещал Шишонка, - А сам как увидит куны, так и юром юрит[119], юлой юлит! Ах ты волкопёс!
- Нишкни, свиная вошь! - ревел задира. - Днём, как пропойца, за печью лежишь, а ночью, как глупый подважник[120], у пьяных мошны холостишь.
- Чего мелешь, хапайла? На меня не хайлай, не бери на горло! - отбрёхивался Шишонка, крепче сжав свою долю.
- Ну, берегись, базыга![121] - бросился на него Зуй. - Ну, старый хрыч, пора тебе спину стричь!
- Успокойся, - велел Дурной.
- Прочь, посконная борода! - замахнулся и на него задира.
Род поднялся из-за стола. Показалось, что раненая голова от такого шума раскалывается по черепкам.
- У-ху-ху-ху-ху! - закричал он филином. - Деньги вы у меня не силой взяли. Сам отдал. Вот и делю на четверых. А твой час, задира-головник, уже пробил, пора выходить на воздух, - В повисшей тишине Род вновь опустился на лавку. - Думал, бродники страшные, а вы дети дурашные.
- Поделом нам, - согласился Шишонка.
Озяблый полез на полати. Зуй, изрыгая ругательства, хлопнул дверью. Устроив Роду постель на голбце, Шишонка вышел вслед за задирой.
- Давно ли из леса? - обратился к Роду Дурной.
- Недавно, - ответил юноша, - а по Букалу уже скучаю.
- Тоска по Букалу мне тоже ведома, - склонил голову бородач. - Кажется, век не видал наставника нашего, все собираюсь проведать, да случая нет. Однако, - поднялся он, - утро вечера мудренее. Добро бы ещё этот бзыря[122] Зуй наш краткий сон не порушил. Всю жизнь - бешеный рыскун!
В избу вошёл Шишонка Вятчанин. На руке его висел чебурак[123].
- А задира все ещё не оправился? - спросил Фёдор Дурной.
- На тот свет отправился, - спокойно сообщил хозяин избы. - Порешил я его.
Дурной подошёл к Вятчанину. Поднялся из-за стола Род. Слез с полатей Фёдор Озяблый.
- Он к матушке моей покойной приобщил хульные слова, - пояснил Шишонка. - Я и не совладал с собой, братья.
- Задира - завзятый матерник[124], - отметил Дурной. - Однако безоплошно надо чебураком владеть, чтобы враз уложить этакого бардадыма[125].
Озяблый согласно наклонил голову. Да, высоко было Шишонке до жердяя Зуя.
Все молча вышли во двор, при свете сального фонаря прошли в дальний угол, где чернел дощатый задец. Там темной кучей на пожухлой траве лежала телесная оболочка задиры с пробитым черепом.
- Не смог совладать с собой, братья, - глухо повторил хозяин избы.
Ему никто не ответил. Споро и все-таки долго копали яму за тыном. Когда вырос могильный холмик, Фёдор Дурной сказал:
- Тебе, Шишонка, надлежит поутру с нами ехать в Азгут-городок. Надо перед Невзором открыться. Боюсь, вирой ты не отделаешься. Атаман любил Зуя.
Вернувшись в избу, Вятчанин сел на чурбак у двери и задумался. Все уже улеглись, а убийца никак не гасил фонарь и, в конце концов, произнёс:
- Человека жизни лишил, а самому помирать неохота.
- Да, нет больше с нами задиры, братья, - откликнулся с полатей Фёдор Озяблый.
- Меня бы тоже не было, кабы Фёдор Дурной не спас, - прозвучал голос Рода с голбца.
Долго длилось молчание, ещё не привычное в избе после смерти задиры, потом Род продолжил:
- Если вы братья друг другу, дозвольте мне повиниться в убийстве Зуя. У меня почтенная причина. Меня атаман поймёт.
- А доказуема ли твоя причина? - засомневался Дурной.
- Сам Зуй доказал, - сел на голбце возбуждённый Род. - Разве сказки[126] двух Фёдоров мало?
Опять долго молчали.
- Как решишь, Озяблый? - спросил Дурной.
- Как вы порешите, я не порушу. Клянусь Сварогом, - отвечал тихий голос с полатей.
- Тогда, - приговорил бородач, - оставайся завтра, Шишонка, в своей избе. Хозяйствуй на становище бродников. Оставляем тебе и сапатого коня с боярской конюшни. Все четверо будем дальше жить, как договорились. А теперь погаси фонарь!
2
Ехали верхами. Под Родом был конь покойного Зуя по кличке Ленко, серый мерин, грива налево с отмётом. Сам по себе он двигался только шагом, а следуя за другими, и мелкой рысцой трусил. Настоящий Ленко.
- А за что тебя, Фёдор, прозвали Дурным? - спросил Род.
Бородач, обернувшись, прищурился.
- За то, что умней других.
Краснолесье перемежалось болотами. Двигались то гуськом по ведомой бродникам нитечке, то раздвигали хвою, а конские ноги путались в корневищах, вылезших из земли клубками окаменевших змей. Лес, совсем не знакомый Роду. Окажись он в этом лесу один, заблудился бы? Нет, устремился бы к цели, как рыба в воде. Едучи промеж бродников, он то и дело взглядывал назад, через плечо замыкавшего цепочку Озяблого. Именно в той стороне, он знал, за лесами, долами, за озёрами, реками ждёт его не дождётся родное Букалово новцо. Да спутники, пусть и великодушные, были начеку. Ночью, когда выходил из Шишонковой избы по нужде, Озяблый молча вышел за ним. И теперь, созерцая спину Дурного, Род вымолвил:
- Не доверяешь мне, старый знакомец? А сам же от смерти спас…
- На всех держи неверку, будешь всегда сверху, - откликнулся бородач.
Род понял, «братья» и друг другу не доверяют. Иначе Фёдор Дурной, пожалуй, мог отпустить его после смерти задиры. Небось опасался Шишонки с Озяблым!
Внезапно выбрались на лесную просеку, на дресвяную дорогу. Едва пересекли её, Дурной с Озяблым остановились.
- Не обессудь, сынок, - сказал бородач, - Придётся сызнова завязать тебе глаза. С тех пор как проклятый Бараксак навёл на наш городок княжеских кметей, атаман велит всем яшникам завязывать глаза. Внедавне богатый боярин Перхурий Душильчевич был привезён с незавязанными глазами, так Невзор отправил его к ядрёной матице. А не то бы живым возвратил за выкуп.
- Я случаем в лесу видел, как ваши братья гонялись за Бараксаком, - припомнил пленник, - Один прозвищем Лухман…
- А, полоротый Васька? - тихо откликнулся Озяблый. - Да разве он кого найдёт?
- Бараксака ждёт месть, - заявил Дурной. - Слишком много наших погибло. У-ух, была рубка! И городок сгорел. Пришлось обустраиваться на ином новце.
Пленник, сидя в седле, ничего не видел. Коня его тянули водком. Он прикрывал руками лицо от колючих ветвей. Значит, вновь двигались чащобой по тайным тропам.
Вот ветви исчезли. Род опустил руки. Фёдор Дурной торжественно объявил:
- Азгут-городок!
Почувствовалось, что Ленко после корневиц и болот ступил на торный путь. Домовито запахло берёзовым дымом. Издали быстро накатывалось многоголосье.
- Наши едут! - прозвучал хриплый голос.
- Своих везут! - отвечал Фёдор Дурной.
Загремели засовы, тягуче заскрипели ворота.
Рода сразу же окружили гомонливые звуки человеческого скопища. Его ссадили с коня, повели куда-то. Вот ступени, скрипучий дощатый пол… Он в большом, полном людьми доме. Это Род понял по духоте, звукам еды и питья, пьяным голосам пирующих.
- Яшник! Яшник! - раздавалось вблизи.
Грубая рука сдёрнула повязку с глаз пленника.
Первым, кого увидел Род, был некрасивый маленький человек с бугристым черепом, клочкастыми волосами. Две тёмные волосяные скобки лежали друг на друге, перекрещиваясь концами, - усы и борода. А в них бесцветной чертой - прямой рот. Над скобкой усов свисал как ударом приплюснутый нос. Лишь глаза глядели приятно, озорно, по-мальчишески. С недоростка спадал накинутый на плечи лёгкий опашень, подпушённый тафтяною пестрядью[127]. Обочь стоял Фёдор Дурной и что-то почтительно объяснял этому, не спускавшему с пленника глаз, человеку, видимо, атаману, и впрямь Невзору, то есть невзрачному. Значит, прозвища не всегда давались лукаво, как умному Дурному.
Род был поставлен на почтительном расстоянии от Невзора, потому не слышал слов Фёдора.
Позади атамана высились двое молодцов, упитанных, как боярские отроки.
- Жядько, - обратился он к одному из них, - вели пусть нишкнёт вся эта халудора[128], - и повёл взглядом, - я с новиком[129] говорить хочу.
- Ти-ша! - рявкнул Жядько так, что зазвенела посуда.
В огромной многолюдной избе все звуки оборвались.
- Кто таков? - ласково спросил Невзор.
- Родислав Гюрятич Жилотуг, - ответствовал пленник.
- Позовите Филимона-гудца! - велел атаман.
Послышалось движение у двери.
- Истинно ли, что ты испытал плеч с Зуем и одолел? - последовал вопрос, произнесённый как бы сквозь зубы.
- Истинно, - сказал Род.
- Подайте оружие Якуши Медведчикова, - велел атаман.
Великан, заросший по глаза волосами, поднялся из- за стола.
- Справедливо ли так-то? - пропищал он. - Зую из моего лука не послать стрелы. - Невзор прищурился в его сторону, и Якуша - в нем Род узнал одного из бродников, от которых прятался с Улитой на дереве, - тем же писклявым голосом попросил: - Лухман, подай что велят.
Такого тугого лука Род и представить себе не мог.
Кто-то повесил на гвоздь картуз неподалёку от двери.
- Ну позабавься, - тихо попросил атаман.
Все встали со своих мест. Побледневший Дурной что-то зашептал на ухо Невзору, тот отмахнулся.
Род, не понимая общего смятения, наложил стрелу и натянул тетиву. В голове была одна мысль: силы потребуется побольше, зато дострел дальше и вернее. Весьма знатный лук!
Единодушный выдох огласил избу. И стрела вонзилась в мишень. «Зачем в двух шагах стрелять из такого лука?» - подумал юноша, оглянувшись на атамана.
- Теперь верю, - грустно сказал Невзор. - Ты одолел задиру.
К ним подошёл старик. Тонкий переладец[130] в его руке готов был вот-вот заиграть, поднесённый к губам.
- Ну, бывший челядинец Жилотугов, скажи, - обратился к нему Невзор, - знавал ли ты прежде задиру Зуя?
Гудец затрепетал как осиновый лист и уронил переладец.
- Небось! - ободряюще вскинул бороду Невзор. - Его уже нет в живых. А вот его головник, - указал он на пленника. - Похож на твоего господина?
Гудец вперил полузрячие очи в юношу и вдруг бросился перед ним на колени, схватил за руку, прильнул к ней сухими губами.
- Гюрята Рогович… юный… две капли воды, - бормотал старик. - Мой поклон тебе!.. Отмстил, отмстил гадоеду[131] за смерть батюшки с матушкой. Хоть единому, да отмстил!
- Судьба всем отмстит, - тихо обронил Род.
Гудец поднял переладец, спрятал под пестрядинную рубаху в синюю полоску и поднялся.
- Я-то Зуя знал, - отвечал он Невзору. - И не Зуй это вовсе, а Степанко Собака, беглый Кучкин кощей. Свидетель всегда татя узнает, а тать свидетеля - нет.
- Пошёл вон, сука-рыба![132] - Атаман проводил испепеляющим взглядом спину гудца, потом исподлобья взглянул на пленника. - К Букалу не отпущу. Крещёному у волхва не место. С нами останешься. Не обманешь?
Род с высоты своего роста рассматривал маленького ватажника.
- Воли моей нет, и обмана не будет, - вымолвил он, содрогаясь, потому что увидел, как распадается это невзрачное тело на кровавые куски под неистовыми мечами… И изба та же, и время то же, предзакатное. А многих, стоящих около, уже нет. Не близко это, не скоро…
- Освободите новому броднику место за столом, - приказал Невзор. - Отдыхай, веселись, Найден! Так отныне мы будем именовать тебя. Найден! Любо ли это порекло, братья?
За столом новоиспечённый бродник оказался между Фёдором Дурным и Якушей Медведчиковым.
- А где Фёдор Озяблый? - поинтересовался Род.
- Озяблого нету в малой дружине, - пояснил бородач. - Он мой присталой[133]. У многих из атаманова окружения есть свои присталые, с кем на охоту ходим. Вот у Якуши - Васька Лухман.
- Отчего ты так побелел, когда я натягивал лук? - задал ещё один вопрос Род.
- Оттого что никто из нас не может натянуть лук Якуши, - ответствовал бородач. - Коварное было дано тебе испытание. Не выдержишь - и к ядрёной матице.
- Куда-куда? - не понял Род.
- На матицу о двух вереях, где тебя в ежа превратят.
Юноша так ничего и не понял. Он стал наблюдать за Невзором. По левую руку атамана сидели отборные молодцы - Жядько, Клочко. А по правую - единственная женщина за столом в лёгком открытом летнике, из коего просились на волю тугие круглые груди. Она большерото смеялась, запрокидывая белую гриву волос, узкое длинное лицо с низким лбом и стальными глазами.
- Не стреляй очами в Ольду-варяжку, - остерёг Дурной, - Она - атаманова чага[134], а он ревнив.
Род смущённо поторопился перевести взгляд на другой край стола. Там возвышалась могучая глыба мышц под тесной полотняной рубахой и водружённая на этой глыбе дремучая голова, воловьи глаза с клубнем носа виднелись из темных зарослей.
- Кто это? - вырвалось у изумлённого юноши.
Сосед Якуша Медведчиков не по-великаньи тоненько захихикал.
- Это наш второй богатырь Могута. Допрежь моего явления в Азгут-городке самый сильный здесь человек. А теперь мне и с тобою придётся испытать плеч. Ишь как мой лук натянул!
Род несогласно помотал головой.
- Не отвертишься, - пропищал Якуша. - Поелику Невзор тебя за стол посадил, стало быть, принял в малую дружину без испытания, чего у нас не водилось. А двум равным силачам за этим столом места нет. Завтра отведаешь моего плеча.
- Не будь съедугой, - окоротил Якушу Фёдор Дурной. - Вон шествует испытание нашему новику, - он указал на пробирающегося прямо к атаманову месту седовласого старика в длинном емурлаке чёрного сукна.
Старик уселся между Невзором и двумя его молодцами, безропотно потеснившимися.
- Страх человек, - прошептал Дурной в самое ухо юноше. - Валаам Веоров, бывший волхв, крещёный, а не бросивший волхвования. Каждого насквозь видит.
Атаман коротко переговорил с пришедшим. Старик подёргал белым клинышком бороды и ввалившимися щеками, потом устремил взгляд запалых глаз в сторону новоиспечённого бродника Найдена.
- Ти-ша! - привычно рявкнул Жядько.
В воцарившемся безмолвии глухо прозвучал голос волхва:
- Встань, выученик Букала.
Когда Род поднялся и все взоры устремились к нему, Валаам продолжил:
- Небось! Я тебе загадаю мою загадку, Слушай! Стоит рассоха, на рассохе бебень[135], на бебене махало, на махале зевало, на зевале чихало, на чихале мочало, на мочале остров, в острову звери… Ну?
Род неожиданно рассмеялся на всю хоромину.
- А я ведь узнал тебя, хананыга[136] Конон, нынешний Валаам. Мельком видел, а узнал. За столом новгородского волхва Богомила Соловья ты вот так же любил посиживать. А загадку его украл. Не твоя она, Богомилова.
Старик вскочил, потрясая кулаками над головой, Невзор его усадил:
- Остынь. Пусть твой обличитель отгадку скажет. Даже мне она не по уму. Потом наше будет слово.
Сызнова все воззрились на этого удивительного Найдена.
- Отгадка проста, - пожал он плечами. - Это халява[137], коли у него в острову - звери.
Избу огласил общий хохот. Громче всех хохотал Невзор, падая головой на плечо своей чаги. А Ольда-варяжка, единственная женщина на пиру, была мрачна, как и Валаам Веоров. Должно быть, из-за плохого знания языка она не разобралась в загадке с отгадкой.
Когда веселье улеглось, бывший волхв произнёс, не спуская с Рода глаз:
- Нынче ночью сдохнешь от коркоты[138].
Их взгляды встретились, и пестун Букала не увидел в запалых глазах старика ничего, кроме пустой злобы. Понял: перед ним лжеволхв.
- Твоя смерть пораньше, - приговорил Род и сел, хотя не был уверен в собственном приговоре. Слишком странное видение ему примерещилось: же, подвешенный вниз головой, а голова-то Валаамова, мёртвая.
Старик вновь взъерепенился, взметнул седые космы и сухие кулаки, да атаман его опять посадил и заговорщически чем-то успокоил.
Пир продолжался. Блюдники, двигаясь вдоль стола, вытянувшегося буквой твёрдо[139], уставляли его новыми яствами.
- Отведай окрошки севрюжьей, свежей, присола стерляжьего, сига бочешного, - настаивал Фёдор Дурной, потчуя Рода, утерявшего аппетит из-за лжеволхва.
- Завтра отведаешь моего плеча, - допекал его с другого боку Якуша.
Застолье достигало страшных высот: рты изрыгали витиеватую ругань, глаза наливались кровью, ручищи сжимались в пудовые кулаки, затягивались и обрывались дикие песни. Невзор на своём конце стола понуждал Ольду-варяжку то пить, то петь, бедная чага то смеялась, то плакала. Валаам, не участник веселья, занимался каким-то своим, одному ему ведомым действом.
- А мне жаль Филимона-гудца, - прослезился Фёдор Дурной. - Не сойдёт ему с рук сегодняшнее свидетельство против Зуя. Слишком любил атаман задиру. И ты, Род, день и ночь будь на стрёме. Поберегись! Лучше было Шишонку выдать, а тебя жаль. Мой погрех!
Род, к своему позднему сожаленью, не вник в доверительное бормотанье соседа, зорко наблюдая за лжеволхвом. Тот неприметно что-то извлёк из тайных недр своего емурлака. Вот держит в щепоти, растирает пальцами… Вот поднял щепоть, будто припудривая и без того седые усы.
- Я его бякнул, ажно он яхнул![140] - бахвалился сидящий напротив Рода жилистый человек с наметившейся плешиной. - И пал он, сердешный, яко елень, уязвлённый стрелою в ятра.
- Ты шаняманя[141] не дерёшься! - поддержали его.
И вдруг отрезвляюще понеслось за столом:
- Поведённая чаша! Поведённая чаша!
Блюдник поставил перед Невзором большую чашу и наполнил её вином.
- Что такое поведённая чаша? - невесть почему насторожился Род.
- Наша братская чаша, - важно сказал Дурной. - Чаша единения атамана с малой дружиной. Сперва пьёт Невзор, а потом мы все.
Род наблюдал, как в воцарившейся тишине Невзор отпил свою долю. Чаша перешла к Ольде-варяжке. Потом отпили Невзоровы отроки Жядько и Клочко. Все это время Валаам сидел не дрогнув усами, как идол. Вот он принял поведённую чашу, поднёс правой рукой к неподвижной бороде и губам, коротко отпил, а левая рука в миг питья подёргивала усы, словно стряхивая с них что-то.
Атаман показал блюднику в сторону Рода и громко провозгласил:
- Испей, Найден, от нашей искренней дружбы в знак твоего приёма в братскую семью. Далее чаша пойдёт по кругу.
Когда вино поставили перед ним, Род поднялся и произнёс с поклоном:
- Благодарствую. Я по своим летам к виноядию ещё не готов.
Тишина стала страшной, потом взорвалась общим возмущением. Бродники размахивали руками, в новика летели то угрозы, то уговоры. Фёдор Дурной внушительно подавал ему знаки. Якуша Медведчиков, ставши рядом, пискляво требовал:
- Пей! Не кобенься! Обидишь малую дружину и атамана - не жди прощения.
Род, не двигаясь, молчал как заворожённый.
- Я тебя научу по-нашенски пить, - предложил Якуша, - Вот берёшь золотой сосуд, подносишь ко рту…
- Не пей, - истиха предупредил выученик Букала. - Чую здесь беду.
- Да окстись, - не поверил богатырь. - Вот я тебе покажу сейчас… Вот! - и он отпил несколько больших глотков.
Невзор стукнул кулачишкой по столу и вскочил. Глазки его метали громы и молнии в сторону новоиспечённого бродника.
- Якушка, передай ему чашу! Пирники[142], заставьте этого харапугу[143] выпить! Иначе мне такой оглядень[144] не нужен…
Валаам Веоров вскинул белые брови, а глаза его ещё глубже ушли в глазницы.
Богатырь поставил чашу на стол и стал меняться в лице: голые верхушки щёк покраснели и задрожали, усы и борода взъерепенились, заросшие очи вылезли из орбит, как два зверя из чащи.
- Коришь новика, атаман? А себя не коришь? - огласил он хоромину звонким тенором - куда вся писклявость делась? - Чаша братства у нас или чаша рабства? Какую ты жизнь в Азгут-городке устроил нам, лисья мать? Не в избах, в хлевах живём, как скоты! Все бабы наши в Затинной слободе одиночествуют. Лишь твоя чага ежедень и еженощь греет тебе змеевину, всем нам на зависть. Это что, братство?
Якуша не замечал, как Дурной изо всех сил дёргает его за рубаху и шипит за спиной:
- Без ума в пиру не мудри! Без ума в пиру не мудри!
Заметил это сам атаман и велел:
- Оставь его, Фёдор. Пусть все доскажет.
- Добычи с нас девять десятин требуешь. Одну лишь нам оставляешь, на печке сидючи. А где все это богатство? В тайных мошнах у новгородских гостей! Мы тут посконную кашу жрём, а там, на Софийской стороне, на левом берегу Волхова, тебе островерхие хоромы строят да боярскую шапку шьют. Вестоноши[145] о том разносят не где-нибудь, в самом Суздале!
Невзор тем временем склонился в сторону лжеволхва. Переговорили, и Валаам кивнул. Атаман подал знак своим отрокам. Жядько и Клочко, кликнув подмогу, подступили к Якуше сзади, приняли его за руки. Он при последних своих словах рванулся, стряхнул было атаманову обережь, открыл рот ещё крикнуть что-то, но вдруг обмяк и при втором приступе насильников уже не сопротивлялся. Его скрутили, вывели из-за стола на середину избы.
Малая дружина на это ответила ропотом.
- К ядрёной матице болтуна! - приказал Невзор.
Общество ахнуло от неожиданного приговора.
Род тем временем поднял чашу, долго нюхал вино, окунул в него палец и попробовал на язык. Потом крикнул филином:
- Ух-ух-ух-у-у-ух!
И свирепая тишина сковала хоромину. Уводившие Я кушу остановились.
- Вино-то с подмесью, - сказал Род. - Не для подсластки, а для обману.
- Лгач! - вскочил Валаам Веоров. - Клеветарь!
Выученик Букала рассмеялся.
- На воре шапка горит!
Однако и Невзор рассмеялся.
- Хитроныра ты, Найден! Я это вино пил, Ольда моя пила, Жядько и Клочко пили, даже ведалец Валаам отпробовал, а никто крамольного слова не произнёс.
- Твой ведалец пил последним, - тихо возразил Род. - При питье он отряс со своих усов порошок, изготовленный из корней горички. Сама-то трава от змеиных укусов лечит, а зелье из её корня не попригожу развязывает язык. Подойди ко мне, Конон, лживый волхв, отдай-ка свой воровской припас.
Старик не тронулся с места.
- Облыжник! Прочь с глаз моих! - заорал Невзор, выбросив руку с указующим перстом в сторону новоиспечённого бродника.
На сей раз общество зашумело угорожающим ропотом.
- Пусть он подойдёт!.. Пусть подойдёт!
Кратким было атаманово раздумье. Он сделал своему поноровнику отчаянный знак, как бы принося его в жертву. И старик заплетающейся походкой подошёл к Роду.
Юноша перенял его емурлак, ловко пошарил в нем и извлёк на ладони несколько белых шариков. Взяв первую попавшуюся чашу со стола, растёр шарик в порошок и бросил в вино.
- Кто отважится выпить?
Желающих не нашлось.
- Худа не будет, - пообещал Род. - Выболтаешься, ослабеешь, проспишься, и как рукой снимет.
С дальнего конца поднялась над столом гора мышц. Подошёл звероподобный Могута и взял опасное питье.
Все напряжённо смотрели, как он осушил посудину. После все ждали. Но недолго.
- А ничего! - густо сказал Могута. - Винцо не хуже того, что я в Шарукани пил, когда мы половцам муромский полон продавали. У-уй, сколько взяли полону! Князь Сантуз не мог сметить! Отдавали чагу по ногате, кощея по резани.
- Чего мелешь! - взъярился Фёдор Дурной, - За ногату отдают поросёнка или барана, а за резану - миску тюри.
- Я и говорю: задарма, - настаивал Могута. - Тьму тысяч взяли полону.
- Соплеменниками торговал! - возмутился кто- то.
- Да! Родичей готов продать, коли душу продал! - вскинул могучий бродник медвежью голову. - Все мы отцепродавцы! Кому молимся? Златицам с лярвами латынских королей да басурманских царей. Решили: лучше быть мехорезом[146], чем мехоношей[147]. Головники! Нюхалы[148] по большим дорогам! Горячей крови пиюхи![149] За кем идём? Кому служим?..
Жилистый человек с наметившейся плешиной, что сидел против Рода, и ещё двое соседей по столу подхватили под мышки неистового богатыря.
- Уноси ноги, уноси!
- Атаман просто-напросто желал проверить новика. Что на уме, то и на языке. Попросил снадобьем помочь…
- Врёшь! - резко оборвал Невзор. - К твоей затее я не причастен.
Лжеволхва стали окружать. К нему потянулись цепкие руки. Ждали атаманова слова. И оно прозвучало:
- К ядрёной матице Валаама Веорова!
Старик забился воющей мухой в многочисленных щупальцах толпы-паука. Видно было, как все с боязливой радостью торопились расправиться с ним.
И вдруг Жядько рявкнул:
- Ти-ша!
- Братья, - ласково произнёс Невзор в наступившей тишине. - Я вынес приговор старому хлюзде[150], что покушался на вашу честь. И вам мой приговор люб. Приговорите же и вы этого халабруя[151], - атаман указал на Якушу Медведчикова. - Он обесчестил меня прилюдно. Уже сверху донизу просочилось моё бесчестье. Гляньте, что творится в Азгут-городке!
Он растворил оконницу, и вся малая дружина услышала шум толпы, окружившей хоромину. Там, внизу, бушевали бродники с заспинными колчанами, полными стрел, с луками, вскинутыми над головами. Дружно, как удары набата, сотня глоток выкрикивала: «Не-взор! Не-взор!» Крики были во славу, а не в угрозу. Тем временем в избу ввалились лучники под предводительством мрачного безбородого мужика с длинными обвислыми усами.
- Оска Шилпуй!.. Оска Шилпуй! - пронёсся пугливый шёпот.
- Вождь атамановых охранышей, - прошептал у самого уха Рода Фёдор Дурной. - Мы окружены!
- Так каков будет ваш приговор моему обидчику? - вкрадчиво вопросил Невзор. Малая дружина молчала. - К ядрёной матице его? - то ли постановил, то ли испросил согласия атаман. И опять молчание. - Любо ли вам моё решенье? - прозвучал завершающий вопрос, за которым должны были следовать не слова, а дела.
И общество, опустив очи долу, вразнобой ответило:
- Любо… любо…
- Стало быть, общее решение, - подытожил Невзор и махнул рукой.
Богатырь Якуша Медведчиков, могший всю атаманову прислугу, как крыс, с себя стряхнуть, не оказал никакого сопротивления.
- А этого… - низкорослый ватажник снова вытянул указующий перст в сторону новика, - этого… Вся нескладуха из-за него! Погорячился я в малую дружину его принять… Вон его отсель! Вон!
Прежде чем быть выдворену, Род собственной волей двинулся к двери. Никто слова в защиту не молвил, не оказал малейшей заступы. Даже Фёдор Дурной тихомолком отодвинулся к темной стенке.
Род застыл на высоком просторном крыльце. Внизу бушевали лучники, выкрикивая: «Не-взор! Невзор!» Вдали виднелась бревенчатая стена с заборолами[152] и костровыми[153] башнями по углам. Там и сям тянулись то ли длинные избы, то ли кошары с узкими продолговатыми оконцами, затянутыми пузырём, а местами заткнутыми лубьём. На площади по пути к крепостным воротам высилась виселица - «ядрёная матица», по выражению атамана. К ней подводили барахтающегося лжеволхва и обвисшего многопудовым мешком Якушу. Крик и гомон сопровождали смертное действо…
Чья-то рука ухватила Рода под локоть:
- Пойдём, малый. Не твоим глазам это видеть.
Его настойчиво уводил с крыльца тот самый жилистый человек с наметившейся плешиной, что сидел за столом напротив и бахвалился, как кого-то «бякнул, ажно он яхнул». По выражению соседа, этот бахвал «не шаняманя дерётся», хотя ростом не велик. Род не обиделся на обращение «малый» и доверчиво пошёл с бродником.
- Ты кто?
- Я Бессон Плешок, - усмехнулся тот. - Прозвали за то, что рано плешивым стал.
- Отведи меня к Филимону-гудцу, - попросил юноша, памятуя о «челядинце Жилотугов», как назвал старого дудошника Невзор. Верилось: именно этот человек, признавший его, сумеет облегчить душу после сегодняшних передряг.
Плешок подвёл к похилившейся лачуге на пустыре у крепостной стены.
- Гудец живёт наособину, не в общем дому. Дудит, никого не тревожа.
Ночь уже накатывалась на Азгут-городок. В лачуге хоть глаз коли. Плешок нашарил на столе светец, достал трут, вздул огонь.
- Вроде как дом без хозяина. Куда запропастился Филимон на ночь глядя? - бормотал он себе под нос.
При свете тщедушного огонька Род оглядел лачугу. И замер…
Филимон висел в переднем углу, загораживая икону. Висел на лампадном крюке. До чего же худ - небольшой крючок его держит!
- -Ахти, Господи! - всплеснул руками Плешок. Бережно извлекая гудца из петли и укладывая тело на лавку, он приговаривал: - За что же ты себя так, Филимонушка? Какой гад тебя укусил?
Род вспомнил слова Дурного: «Не сойдёт ему с рук сегодняшнее свидетельство против Зуя. Слишком любил атаман задиру». С затаённым дыханием юноша ощупывал горло удавленника.
- Поднеси-ка светец, - попросил он Бессона. Потом глухо произнёс: - Повесили мёртвого…
- Что такое ты лепишь? - не поверил Плешок.
- Его сперва удушили, потом повесили.
- Как ты знаешь?
Род выпрямился с тяжёлым вздохом.
- Мне ли, лесовику, не знать? Разный след оставляет петля, когда вешают зверя живым, а когда убитым.
В хижине долго длилось молчание.
- Пойду истиха кликну кой-кого, надо его убрать, - И Плешок вышел на воздух.
Род со светцом в руке стал искать дудку Филимона. В бедной лачуге поиски были несложны: стол, лавка, грубый поставец с несколькими посудинами… И нигде не было переладца, даже у покойного под рубахой. Род отыскал по грязному следу расплюснутую моршнями[154] дудку на полу у двери. Головник, стало быть, носил моршни, обувь не по погоде - слишком ещё тепло и сухо. Цепкая память юноши подсказала: вождь атамановых лучников Оска Шилпуй появился на пиру в моршнях. Донимала его небось застарелая ломота в ногах.
Род вышел из лачуги. Азгут-городок освещала полная луна. Площадь опустела. И тут вспомнил выученик Букала своё видение, по коему он предрёк слишком скорую смерть Валааму Веорову. На высокой виселице виднелись подвешенные за ноги два ежа, один крупный, второй поменьше. Лжеволхв соседствовал с несчастным богатырём Якушей. Обоих густо покрыли стрелы, как ежовые иглы. У виселицы сидел третий, живой, голова в коленях. Род подступил к нему и, дотронувшись до плеча, почувствовал: человек трясётся в беззвучном плаче. От чужого прикосновения он вскинул перекошенное горем лицо.
- Чего ты, чего? - раздался скрипучий голос, слышанный Родом в июньском лесу, когда он с Улитой на дереве скрывался от бродников. Он признал Якушина пристал ого Ваську Лухмана.
- Зачем этих двух казнённых так густо утыкали стрелами? - удивился юноша.
- Их, - горько всхлипнул Лухман, - их расстреливали ещё живьём. В волхве меньше стрел, он издох быстрее.
И сызнова дружеская, сочувствующая сила повлекла юношу подальше от страшного места. Нет, не Фёдор Дурной, которого Род считал здесь единственно близким себе человеком, а неведомо с чего навязавшийся Бессон Плешок отыскал его и повёл к себе.
- Я тоже живу наособицу, как гудец, только у меня попросторнее.
3
Полгода провёл удручённый яшник в Азгут-городке. Яшник не яшник, вроде бы причисленный к бродникам, хотя за крепостную стену в одиночку - ни шагу. Верно, что и бродники за пределы своих владений по одному не хаживали. Если по окрестным дорогам гостей понюхать, так непременно вдвоём или втроём, а чаще ватагой. Владения их были невелики: сам острог, что после Бараксакова предательства выстроили на новце со всеми городскими окрепами, да ещё Затинная слобода, где жили семьи азгутских воинов, ограждённые надёжнее крепостных стен болотами и рекой Шалой - быстрым путём, чтобы удрать при крайней опасности, куда леший сучки не залукнёт. За слободою - Пугаевский погост, где находили последнее пристанище убиенные, сморённые лихими напастями или посланные атаманом к ядрёной матице.
Быт бродников складывался сурово. Определял его сам Невзор, атаманствующий ещё с Мономаховых времён, а потаковники, коих при власти всегда в достатке, ему способствовали. Прав оказался Якуша Медведчиков: жизнь погрязших в грехе крадёжников была не роскошнее жизни святых отшельников, удалившихся в лес для молитвы, не для крадвы. А куда девались отрезанные меха, полные увесистых гривен, да ткани заморские, да серебро с боярских столов, да все прочее дорогое, за что жизнями дешевили? Про то ведал Невзор с ближними товарищами. Попробуй, спроси!
Горше всего угнетала бродников жизнь порознь от семей. Атаман оправдывал это веско: ежели нападут внезапь, городок могут быстро на дым спустить, а до Затинной слободы пока доберутся, жёнок с детворой можно удалить. Однако, как разумели сами обитатели мужских изб Азгут-городка, семьи их атаман держал наособь заложниками. Род не раз побывал в Затинной слободе с Бессоном Плешком, навещавшим свою подружию Домницу и сына Иванку. Бессон пригрел и опекал Рода как родного. Объяснил свою доброту и заботу тем, что был другом Якуши Медведчикова и видел, как ведалец-яшник пытался спасти его. «Да не спас же!» - возражал Род. «Якуша погорячился, - вздыхал Бессон, - Схватился за поведённую чашу вперёд тебя. А быстрая вошка первая на гребешок попадает». Однажды Род, не сдержавшись, обвинил Фёдора Дурного в малодушии и неверности. Все же знал его Фёдор ещё с Букалова новца, от смерти спас, когда самому это большой бедой не грозило, а теперь отшатнулся, не водится и не знается. «Не вини Дурного, - внушал Плешок, - Он умный. Отнюдь не чета Якуше. Ведь ты у Невзора в большой опале. Не простит он тебе ни Зуя, ни Валаама. Не убил сразу, поостерегся. Якуша рядом с волхвом занял твоё место. А наша ядрёна матица может и не снести троих. Лучники могут и не унять общего возбуяния. Однако атаман ищет случая превратить тебя в ежа. Тут уж благоразумнее не Федьке, а мне принять неугодного под крыло. С Дурным атаману проще справиться - богатыря Якушу не пожалел! - а со мной труднее. Я единственный оружейный мастер. Меня бродники не сдадут. Так что будь начеку за моей спиной. А Дурной со своим умом пусть сидит за холмом. Он нам в крайней нужде помощник».
Изба Плешка могла до полёта человек вместить, а жили вдвоём у большой печи, остальное место занимало оружие. Не изба, а оружейный лабаз. Тут и луки, простые и сложные. Простые - точенные из вяза и ясеня, с жильной или шёлковой тетивой. Стрелы в локоть длиной с железными или бронзовыми наконечниками. На хвосте разрезанные повдоль перья крупных птиц на рыбьем клею. Из такого лука сразишь за триста шагов, до дюжины стрел выпустишь в минуту. Тут же налучья из лубья, куда прятать лук, колчаны или гулы со стрелами. Сложные луки, крепко склеенные из варёных сухожилий, рогов, дерева твёрдых пород. Сырость им нипочём. Корпус обтянут берестой, кожей, пергаментом, покрыт лаком. Такой лук не переломишь.
Тут же - рогатины с обоюдоострыми рожнами.
боевые и охотничьи. Тут же шипастые булавы для разбивания шлемов, булатные палицы. Тут же - копья с плоскими наконечниками на длинных ратовищах. А какие шлемы! Шишаки с высокими навершиями, не склёпанные, а цельные, булатные. Это пока новина! По такому сбоку ударишь, не вдруг убьёшь, разве ошеломишь. Да ещё кольчужные бармицы на шлемах закрывают уши, шею и плечи. А для чёрной воюющей братии - бумажные шапки из плотно выстеганной на пеньке материи, внутри зашито железо.
А вот меч… Ах, хорош! Обоюдоострый клинок, рубящий и колющий. Для конников - с изогнутым концом.
А щиты! Обтянутые кожей, с железными полосами крест-накрест, окованные у краёв. Посреди металлическая бляха - умбон.
А кольчуги! Плешок пояснил, что в каждой от пятнадцати до двадцати тысяч колец. Тяжёлые! Иная на пуд тянет. Дорогие! Не всяк в состоянии такую надеть. Для простых воинов - тегиляи, кафтаны, выстеганные на льне, с вплетёнными кусочками железа.
Роду не доводилось видеть в таком обилии боевого снаряжения и оружия. Будучи в одиночестве, он окольчуживался, брал меч и рад был взглянуть на себя, да не имелось зерцала. Плешок частенько занимался с ним. Луком юноша и прежде владел изрядно, некому было преподать ему науку ближнего боя, владения мечом, копьём, обучить нападению и защите. Бессон нахваливал - новоук быстро преуспевал.
Исподволь научился он не только стеношному - засечному бою, коим владели лишь ярые воины малой дружины. Надо было знать много увёрток, уметь уходить от ударов. Вскоре юноша мог, не отрывая обеих ног от земли, принимать сто тридцать разных положений тела. А в нападении - одной рукой скидывать с коня всадника, отшвыривая его на несколько шагов. Наставляя в таких приёмах, Плешок твердил: «Сила ума помощница… Силодёром не возьмёшь!»
Занимались и «медвежьей», и «велесовой» борьбой. По весне Бессон обещал обучить борьбе «на щипок», обоюдному действию тела и духа. Предстояло так разработать руку, чтоб рвать траву, оставляя корни в земле. Однако весны двум новым друзьям дождаться не довелось. Позавидовала их дружбе судьба-разлучница.
Протрещал морозами сечень[155], отпуржил следом за ним лютый[156], наступил мягкий березозоль, но тепла не принёс, старый снег был твёрд, неуступчив, да ещё свежего то и дело подваливало. После обеда Род лежал на печи, глядя на единственное светлое пятно, озарявшее избу, - грязный пузырь в оконнице, подчервленный низким зимним солнцем. Бессон, равнодушный к дневному сну, ушёл к костарям играть в зернь. Теперь до полдника будут стучать плашками по столу, алырничать[157], как умеют, и добровольно спускать векши и куны в бездонные карманы настоящих алыр.
Лёжа на печи, Род поначалу представил себя на полатях Букаловой кельи, даже самого волхва видел у очага за шорной работой. Сердце успокоилось: Букал жив, здоров. А Улита привиделась плачущей. Что стряслось? По разлуке с ним, должно быть, уже отплакалась. Какие новые напасти подстерегли её?
С чёрного хода позади печи скрипнула дверь. Легкие подковки протоковали по полу. Грудной женский голос позвал:
- Бессон, а Бессон!
Род соскочил на пол. Перед ним стояла Ольда-варяжка в камчатой шапке и просторной шубе-бармихе[158] под червчатой зенденью[159].
- Ты? - удивилась Ольда.
- Я здесь живу, - кратко объяснил Род.
- А Плешок?
- Мой хозяин.
- О! - удовлетворённо воскликнула она. - Это даже лучше.
Варяжка извлекла из глубин своих одежд ржавый нож с наборной рукоятью.
- Поточи, Найден. Сможешь?
Род взглянул на испорченное оружие, потом - в глаза Ольды.
- Нож этот впору выбросить. Снабдил бы годным, да вижу в тебе желание убить.
Женщина побледнела и опустила голову.
- Ты и вправду все можешь знать?
Жарко было в избе. Род помог ей освободиться от шубы и шапки. Снег волос рассыпался по плечам.
- Не все могу знать, - покачал он головой, - Вот не провидел смерти Филимона-гудца. Судьбой его не проникся. Невзор велел умертвить старика. Прости, худое молвил о твоём муже.
- Он мне не муж! - вспыхнула Ольда. - Это чудовище терзает моё бедное тело, аки пардус гордую лань.
Она рывком распахнула душегрею, разметала одежду и обнажила цветущую женскую грудь, изуродованную страшными шрамами.
- Вот! - выкрикнула она. - Немного!.. Разденусь перед тобой вся, увидишь…
Род отступил в испуге. Женщина оправила на себе одежды.
- Как скажут ваши славяне, плотиугодие! - не могла она успокоиться.
- Хороша любовь! - возмутился Род.
- Ах, Найден! - замахала руками Ольда, - Мальчик ты ещё. Не любовь! Для любовной пакости у него Жядько с Клочком. Я - для сумасшествия.
- Думал, Невзор любит свою чагу, - опешил юноша. - Одаривает от души. Пожаловал шубу-одевальницу, серьги с каменьями…
По неведению он не понимал её слов, хотя видел: женщину довели до крайности.
- Моя шуба дом сторожит! - зло вывернула Ольда с изнанки собачий мех. - А серьги - одиначки! - тряхнула она одной подвеской, - А камень - льянец! - показала она литую подделку. - Как полонили под Суздалем - к тётке ездила, - как забрал атаман на своё ложе, так истязает второй уж год. Вельзевул в аду!
Род преисполнился жалости к варяжке-страдалице.
Отчаянно хохотала она за пиршественным столом. Отчаянно обнажала язвы на своём теле. И тут же съёжилась под пристальным взглядом ведальца.
- Я так легко доверилась тебе, Найден. Ты не бродник! Дай мне хороший нож, и сохраним нашу тайну.
- Нет, я не дам ножа, - покачал головой такой же яшник, как и она. - Не ты убьёшь атамана. Другие! А тебя, Ольда, я вижу на улице Янева возле Волхова в вашей новгородской варяжской братчине. Рядом с тобой человек без правого уха. Тоже светловолосый. Брови белые, очи красные.
- О! - воскликнула Ольда. - Не могу верить, не могу! Ты узнал моего брата Евальда. Он блафард[160]. Ему ушуйники в битве отсекли ухо. Как ты мог знать?
Несколько мгновений она восхищённо созерцала юного провидца, потом нежданно бросилась ему на грудь, крепко обняла, поцеловала в губы. Вторая женщина целовала его. Только от Улитиного поцелуя живительное тепло растекалось по телу, а поцелуй Ольды обжёг губы, и колющие иглы поскакали по жилам. Юноша отшатнулся невольно. Варяжка тоже отступила.
- Не серчай за мою женскую благодарность. Буду верить тебе и ещё немного терпеть. Ведь скоро мы станем свободны, правда?
За окном послышались крики.
- Про себя мне знать не дано, - нахмурился Род, - А тебе обещаю: скоро!
- Гайда! Гайда! - уже громче слышалось сквозь пузырчатую оконницу.
- Это Сенка Возгря, кликун[161], - узнал Род. - Какой-то новый сполох в Азгут-городке. Твоё отсутствие могут заметить. А нож отдай, чтоб не искушал.
Ольда отдала ржавый нож, запахнула шубу-одевальницу и ушла через чёрный ход. Плешок вбежал почти тут же и закричал:
- Снаряжайся, Найден! Айда Бараксака брать! Наши нюхалы следят его поезд на Старо-Русской дороге. Обережь небольшая. Товару тьма-тьмущая. А главное - Бараксак! Уж он поплатится за своё предательство. Сам атаман возглавит поимку.
- Меня до сих пор не брали в ватагу, - напомнил Род.
- Теперь велено всем! - настаивал Плешок. - Снаряжайся!
Вскорости все население Азгут-городка за исключением малой охраны покинуло деревянную крепость. Шли прямиком через лес пехотой, чтобы кони в глубоком снегу не проваливались. Невзор в окружении своих отроков скользил стороной на коротких лыжах. Ватагу вёл Оска Шилпуй.
- Не тяни задницу[162], не тяни! - слышалось вокруг.
Фёдор Дурной, продираясь в хвое, завидел Рода и подмигнул. Плешок вооружил своего подопечного боевой рогатиной и кривым ножом. В валенок зачерпнулся снег и таял, холодя ногу.
Эх, сейчас бы на быстрых лыжах скользнуть в сторонку и петлями, петлями! Бродников запутать в следах, а потом охотничьим бегом - вперёд, вперёд, куда иглы елей глядят!.. Несколько поприщ[163] - и родное новцо: яшный квасок у очага, добрые очи и умные речи Букала… Ан нет! Данное слово крепче оков. Лишь судьба или смерть вызволят из этой западни.
Бродники умостились в снежных окопах в виду дороги. Тишина!.. И вдруг юноша поднял голову, навострил слух.
- Што? - прошептал Плешок.
- Боркуны![164] - молвил Род.
- Ну и слух у волхвенка! - удивился лежащий вблизи Могута.
Потом все услышали дальний звук торгового поезда.
Когда передняя тройка вывернулась из-за соснового поворота, ей позволили вывести на прямую дорогу весь поезд. И вот прозвучал резкий пересвист, хоть затыкай уши. Лучники каждый со своего участка выбирали заранее оговорённую цель. Одни метили в скудную числом обережь, другие в возатаев на коренниках, третьи в коней. Короткой была расправа. Верховые не успели оборониться, возатаи кулями попадали с высоких седел, кони - те, что ещё оставались на ногах, - застыли. Тогда, покрывая ржанье и стоны, лес огласил общий дикий крик:
- Шарапь, ребята-а-а!
Род, по выражению бродников, «тянул задницу».
Не поспешил участвовать в нападении. Когда подходил к возкам, второй и третий с товарами уже уводили в направлении Азгут-городка. А возле первого ещё барахтались, управляясь с хозяевами.
Вот мимо провели под руки старого харястого булгарина без шапки, с плешинами от вырванных косм в седой голове, с разбитыми губами и дико вытаращенными очами.
- У, харя! - злобно сказал Бессон.
- По твари и харя, - поддержал шедший рядом Могута.
Вели Бараксака, догадался Род.
К возку он подошёл, отстав от Могуты с Бессоном. Те уже трясли попонами и мехами, выворачивая все наизнанку. На снегу у полозьев лежал калачиком избитый связанный человек с вывернутыми карманами.
- А кошелёк-то с бубенчиками! - восхищался Плешок, взвешивая на ладони добычу, - Найден! - обратился он к Роду. - Постереги-ка этого яшника, - указал на лежачего. - Его в крепость повезут. А с Бараксаком здесь расправляться будем. Атаману не терпится. Да и нам тоже. Уже верхушки двух берёз наклонили за ноги привязать злеца. Уй, будет потеха!
Когда они ушли, Род взглянул на яшника. Молодой, породистый, годами десятью постарше. Смотрит, ненавидя.
- Кто таков? - спросил Род.
- Новгорочкий купеч Зыбата Нерядеч.
- Зыбата Нерядец? Не слыхивал, - тщетно припоминал юноша, - Да у нас на Людогощей улице и купцов было не обильно.
- Мы - ониполовици, - сплёвывая кровь, объявил Зыбата.
- Ониполовичи? - переспросил Род. - Торговая сторона? А Богомил Соловей тебе ведом?
- Нет Богомила, - сквозь стон произнёс Нерядец. - Попал в разборку. Славянский конеч разбирался с Неревским. А я похоронил Соловья. Так и не окрестился старик.
- Волхв не окрестится, - задумчиво сказал Род, как бы что-то соображая.
Воздух прорезал нечеловеческий крик. Юный лесовик слышал однажды: так закричал медведь, в грудь пронзённый рогатиной.
- С-с-со мной то же с-с-сотворят? - заикаясь, пробормотал Нерядец.
- Нет, - ответствовал Род. - Тебя превратят в ежа.
- К-как в-в-в ежа?
Род объяснять не стал. Он уже рвал, напрягая силу, пеньковые путы на руках и ногах Зыбаты.
- Ух ты какой! - не поверил глазам освобождённый купец.
- Вон уцелел осёдланный конь. Беги! - приказал Род, - Считаю до десяти. Помнишь, ты надо мной смеялся, когда Богомил учил меня счёту?
- Новоук Соловья? - бросился его обнимать Нерядец. - Изрядно замордовала нас жизнь, коли сразу не признали друг друга!
- Беги, - вырываясь, торопил юноша.
- Вместе бежим, - ухватил его за локоть Зыбата. - Для такого гнедка мы оба - не тягость.
- Я не могу бежать, - уклонился Род, - Ты же не мешкай. Снег уже скрипит!
Преобразившийся после освобождения новгородец не стал терять время на уговоры. Взметнулся в седло - и запружило из-под копыт.
- Даст Бог, свидимся! - остались в ушах прощальные его слова.
4
Бродники подходили. Уже различались голоса, возбуждённые свершившейся казнью Бараксака.
- Сейчас за второго примемся.
- Второй не булгарин, из наших гость. Видать, ему с Бараксаком было попутье.
- Избава ему дорого обойдётся.
- А как он сыкнулся на тебя петухом!
- Сыкнулся было, да спятился… - это знакомый голос Плешка. Вот он подошёл, удивлённо осматривается вокруг: - Найден! А где яшник?
- Я его отпустил, - сказал Род.
Сперва никто не поверил. Бессон даже в пустой возок заглянул, перетряхнул оставшуюся там рухлядь.
- Найден, не будь дуро светом[165]. Куда спрятал яшника?
- Я его отпустил, - честно повторил Род.
Мрачные лица ещё более потемнели, бороды взъерошились, глаза вытаращились.
- Найден! - приставал Плешок. - Скажи, что ты чмурила[166], что яшник у тебя в кустах спрятан. И хватит точить ляскалы[167].
Род пожал плечами.
- Он из новгородских ониполовичей. Знавал я его прежде, когда у волхва Соловья проходил науку.
- Ах, ты знавал его прежде, - задумчиво молвил Фёдор Дурной.
- Признайся, что ты шанява[168], - не сдавался Плешок, - что он у тебя чудом развязался и сбежал.
Вот подошёл и сам атаман Невзор с Жядьком и Клочком. Узнав о случившемся, он дотянулся положить руку на плечо Рода:
- Я верю тебе. Ты хотел сотворить добро. За добро злую плату берут.
Он подал знак, и лучники окружили Рода.
Сборище пошло к Азгут-городку, прихватив всю добычу, кроме отпущенного яшника и взятого им коня.
- Я того гнедка для себя приглядывал, - злился Сенка Возгря.
В крепости Рода подвели к подклету атаманской избы и заперли в холодной повалуше с волоковым окном. Переминаясь с ноги на ногу, чтоб не иззябнуть, он видел, как два охраныша, расчертив мечом снег на клетки, играют в «херики» и «оники».
- Поставь «херик» слева вверху, - подсказывал из окна Род. - Теперь справа внизу… Теперь справа вверху… Выиграл!
Тот, что расставлял «оники», закрыл окно наружной задвижкой.
Повечер за Родом пришли и препроводили наверх, где он пировал в свой первый день жизни с бродниками. На сей раз столы стояли не буквой твёрдо, а покоем безо всяких питий и брашн. Малая дружина сидела, положив локти на столешницы. Кто не поместился за столами, сели на лавках у стен. Пасмурно было в хоромине, светцы нещадно коптили.
Невзор расположился, как на пиру: по одну сторону - Ольда-варяжка, по другую - Жядько с Клочком и Оска Шилпуй.
- Братья, - истиха начал атаман, - О чём нам тут растабарывать? Найден давеча признался, что узнал в Бараксаковом попутчике знакомца и потому самолично решил его судьбу. О себе не помыслил. Зато мы о нём помыслим. Как скажете?
Собрание тяжело дышало. За полгода бродники вряд ли привыкли к Роду. Не слишком Найден был общителен. Малая дружина запомнила, как голоус отчаянно которился[169] с лжеволхвом, и не спешила выносить приговор. Ждали, что на сей раз этот из молодых да ранний видок сотворит чудо в свою защиту. А он молчал.
- Он лишил нас большой поживы, - напомнил Оска Шилпуй.
Собрание продолжало сопеть.
- Узлы на яшнике не развязаны, а порваны сами путы. Я глядел, - подал голос Могута. - Их мог порвать лишь Найден. Купцу такое не по силам. Пенька ничуть не гнилая.
На Могуте лучами сошлись удивлённые взгляды. Вот оно, начинается любопытное! Лучи внимания сместились в сторону Рода, одиноко стоявшего посреди избы.
- Верно ли? Верно ли? - раздались вопросы.
- Да, я разорвал вервие[170], - спокойно заявил осуждаемый. - Узлы были для меня неведомы. Не имел времени развязывать.
- Мои узлы никому не ведомы, - возгордился Плешок.
Невзору явно не нравилось, что суд сбивается на какие-то мелочи - узлы, верёвки… Проклятый голоус опять силу показал! Не смягчились бы булыжные сердца судей!
- Так что скажете? - прекратил излишнюю мешкотню атаман.
- Васька Гунтяй, что привёз Перхурия Душильчевича с незавязанными глазами, вместе с ним был отправлен к ядрёной матице, - напомнил Жядько.
Сызнова воцарилась тишина. Все понимали, что Найден за содеянное повинен смерти, да никому не хотелось произнести это вслух. Невзор отлично распознавал настроение своих подданных: пока роковое слово не сказано, каждый взвешивает его собственной головой, а стоит хотя бы нескольким дружно произнести это слово - и общее тугоумье обернётся безумьем, головы отключатся, глотки заорут по подсказке. Первыми несколькими могли бы стать приближённые атамана. А надо видимость братства соблюсти.
Он обратился к Могуте:
- Ты что надумал? - Тот отвернулся. Вопрос переметнулся к Бессону: - Ты? - Плешок промолчал. Тогда атаман нацелился в Фёдора Дурного: - А ты?
- Дай ещё чуть подумать, - склонил голову бородач.
- Да чего думать! - сыкнулся из-за стола ухарь - шапка набекрень. Род и имени-то его не помнил или не знал. - Чего головы морочить? Любой из нас яшника отпусти - тут ему и славу запоют. А чем Найден не таков, как мы? Или не дорос, не подошёл срок? Нет, мёртвых на погост, хоть в великий пост!
После такой для бродника многословной речи и Оска Шилпуй, и Жядько с Клочком друг за дружкой поднялись:
- Смерть ему!
Ольда-варяжка хотела опрокинуть на судей холодный ушат воды, да только подлила масла в огонь.
- Изверги лесны-я! - завопила она, как никто не ожидал. - Вы все его одного не сто-и-те-е! Станете его казнить, меня рядом казните-е!
Пыталась выразить нечто сильное. Не получилось. Атаман довершил её неудачу:
- Может, тебя и в постель с ним рядом положить?
Кое-кто рассмеялся, и приговоры уже легче посыпались из расслабившихся уст:
- Смерти! Смерти!
- Плачь-ка ты о себе больше, а о нём и без твоих возгрей…
И атаман, ко всеобщему удовольствию, сделал знак, чтобы её увели. Судьба молчавшего, как бы безучастного голоуса, кажется, была решена.
- Сам-то что мыслишь? - по-отечески обратился к нему Невзор.
- По данному слову супротив воли я оставался с вами, - спокойно отвечал Род. - Стало быть, в смерти моя избава, не в твоей милости, атаман. Потому жду смерти.
- Всем рано или поздно умереть, - лицемерно вздохнул Жядько. - И тебе, и мне, и даже самому атаману.
Вновь ясно увидел Род кровавые мечи, пронзающие Невзора. Ещё яснее, нежели в первый день, на пиру.
- Скоро, скоро! И тебе, и ему… - невольно вымолвил он.
- Что мне и ему? - завопил Невзор, буравя глазками то Жядька, то приговорённого.
Бродники заворожённо взирали на голоуса-ведальца. Многим от его сверкающих очей стало не по себе.
- Хватит! - стукнул кулаком по столу Невзор, - Решено!
Тут встрял с сущей малостью Фёдор Дурной:
- Предлагаю казнить не в крепости, не на площади. Лучше от нас подальше, - И для пущего убеждения прибавил: - Бараксака в лесу казнили.
Сравнение с Бараксаком не пришлось Роду по душе. Однако понравилось атаману и кое-кому из бродников. Под гул одобрения Невзор все же воткнул иглу в одно место непрошеному поправщику:
- Я не поперёк. Да у нас ведь как? Кто предлагает, тот и исполняет. Вот и казнит приговорённого где подальше… Кто? Ты, Федюняй, ты! - ткнул он пальцем в Дурного. И весомо добавил: - Не мешкая!
Лучники окружили Рода. Шилпуй спросил:
- Куда его пока? В подклет? В повалушу?
Невзор заорал:
- В пору-уб!
Повели с факелами в дальний угол крепости к одинокому срубу. Открыли, поковыряв мечами, заледенелую дверь. Вздули огонь внутри. Затопили печь. Покормили холодной тюрей. Принесли лестницу и, подняв крышку подпола, спустили её во тьму.
- Полезай!
Когда ноги коснулись земли, лестница уплыла в светлый лаз. Крышка захлопнулась. Рода объяла полная чернота.
Успел разглядеть: стены подпола - тоже сруб, изрядно подгнивший, пропускающий землю сквозь щели. Нащупал угол, присел на землю, задохнулся от застарелого запаха кала и мочи. Брезгливость не подняла усталого. По телу пробежал ток от чужого прикосновения. Крысы! Сперва на ногах, потом на плече… Род встряхнулся, вскочил. Зверьки с писком разбежались. Их было много. Он запохаживал, натыкаясь на стены узилища.
Когда его казнят? Нынешней ночью? Поутру? Какой смертью? Как Якушу с Валаамом Веоровым? Как Бараксака? «Умрёт страшной, позорной смертью», - показал волхвам жертвенными костями Сварог. Ужель сбывается его воля? Узник остановился. Палач-то - Фёдор! От его руки легче умереть. Каково-то его руке! Непонятный, непостижимый Фёдор! Или вправду Дурной?
В тесном заточении нет ни дня, ни ночи - безвременье!
Стал думать об Улите, увидел её в слезах. Вспомнил Овдотьицу, привиделась прорубь на Чистых прудах, глядеть страшно!
Ожидание утомило смертника. Подняли крышку, спустили еду.
- День наступил? - спросил он.
- Скоро ночь, - был ответ.
Так по-невзоровски убивают «не мешкая». Не прикладывая рук. Ожиданием. Сидения не дозволяют крысы. В ходьбе отказывают ноги. Стоя не дремлется: обитательницы подземелья взбираются по ногам, как на столп. К голоду лесовик привычен, а на сей раз навязалась в мысли любимая Богомилова приговорка: «Голод не тётка, пирожки не подсунет».
Сверху стал доноситься перестук плашек, говор охранышей-костарей.
- Не алырничай, рюха![171] Я не слепой.
- Кто алырничает? Какая хвороба в тебе зудит?
- Перемешай кости, не будь халтугой![172]
Игра оборвалась, послышался топот. Голоса смешались в неразборчивый гомон. Лаз открылся, спустилась лестница.
- Вылезай!
Род увидел в избе Фёдора Дурного и Жядька. Последний ободряюще ему подмигнул:
- Пошли, парень!
Небо на дворе было девственно-голубым. Солнце празднично выступало из сосновых вершин над двускатными заборолами. В такое свежее лазурное утро Род пожалел о жизни. Вспомнил Зыбату Нерядца и увидел большое кружало[173] недалеко от Волхова на Софийской стороне на Кузьмодемьянской улице. Сидит там Зыбата раннею пташкой в кругу собутыльников с большой ендовой в руках…
В снеговой каше топтались несколько конных лучников. Подвели и смертнику осёдланного коня. Зеваки глядели со стороны, как конные двинулись к воротам.
- Прости, Найден! - крикнул кто-то.
Комок против воли подступил к горлу юноши.
Плешок Бессон успел подбежать, стиснуть ногу.
- Даст Бог, свидимся! - Прощался слово в слово как Зыбата Нерядец.
- Веришь в иную жизнь? - с трудом выкрикнул Род.
Несогласное эхо ответило голосом Плешка:
- В эту! В эту!
За воротами Роду завязали глаза.
- Зачем? - спросил он Жядька. - Я с того света не вернусь, кметей не наведу.
Тот отъехал, коротко наказав:
- Молчи больше.
Ехали долго. Вот конь не раз и не два споткнулся на мёрзлом кочкарнике. Вот окружили женские голоса Затинной слободы: «Куда? Куда вы его?» Вот шлёпнула под копытом вода на вымоине, и конь оскользнулся на льду реки Шалой. Тончает зимний путь через реку, скоро ледоход.
Зачем же так далеко везут? Ближе нельзя убить? Род хотел спросить, да счёл, что лишние версты - лишние часы жизни, и ехал молча.
Вдруг остановились, развязали ему глаза.
Он увидел себя на краю крутого лесного яра. Глубоко внизу, где вилась тропа, стояли конники в островерхих шапках. С ними переговаривался Жядько. А до окоёма - степь необъятная, дали дальние. Никогда в жизни Род не видал такой необозримой степи.
- Дикое Поле! - прозвучал рядом бас бородача Дурного.
Лучники о чём-то спорили далеко позади и больше поглядывали на Жядька внизу, нежели на привезённого смертника.
- Позавчера я удачно сыграл на жадности атамана, - тихо заговорил Дурной. - От смерти твоей какая прибыль? А от тайной продажи навар немалый. Вчера мы с Жядьком ездили в половецкие вежи. Дикое Поле любит знатных яшников, а ты ведь боярский сын. Вот все, что удалось сделать для тебя. Не обессудь.
Дурной крепко обнял юношу и исколол лицо жёсткой бородой.
К ним уже приближались Жядько и узкоглазый пол овчин с вервием. Жядько надел на проданного железное огорлие:
- Ну живи!
- Айда!
Род, едва успев выскочить из седла, подневольно побежал по извилистой крутой тропинке вниз, вниз…
половецкие пляски.
ПОЛОВЕЦКИЕ ПЛЯСКИ.
1
Во сне и наяву он видел ржущие табуны. С грохотом, аки гром земной, они перемещались в пустом необозримом пространстве пёстрыми живыми потоками. Лесовик, ставший степняком, научился различать каждую каплю этих потоков. Вон скачет буланый жеребец-двухлетка, весь рудо-жёлтый, а хвост и грива черные и темно-бурый ремень по хребту… Вон соловая кобылица светится желтизной без бурой примеси, а хвост и грива ещё светлее… Вон каурый жеребёнок изгибается рыжеватым станом, а хвост и грива впрожелть так и вьются на скаку… И движение по земле саврасо-кауро-буланых туч для юного всадника различимо. Оно ясно оповещает о настроении табуна. Ступа, нога-поногу, шаг - табун спокоен. Хода, переступь, шагистость с нарысыо зада - табун насторожился. Нарысь, хлынца, притруска - табун без излишней прыти меняет место пастьбы. Слань, стелька во весь дух, во все лопатки - табун напуган, спешит уйти от опасности.
Больше года притирались друг к другу кони и Род. И не притёрлись бы так успешно, если б не Беренди. Этот истый сын степей, налитый кобыльим молоком, пропитанный конским потом, попал полонянником в половецкие вежи лет десять назад после битвы на берегах Супоя, где он с черными клобуками помогал великому князю Киевскому, а половцы - черниговским князьям. Беренди был уже не молод. Долгое время, живя на Руси под Киевом, он знал язык южных славян как родной. Роду просто счастье привалило попасть под крыло такого наставника. Беренди с молодым рабом старался не говорить по-русски. Тем успешнее и быстрее он обучил его половецкой речи. «В жизни все пригодится, хлопче!» - любил приговаривать Беренди. «Ты берендей?» - поначалу не мог разобраться Род. «Пошто берендей? Я торчин! - возмущался старый раб. - Эти дикие половцы всех черных клобуков зовут беренди - и торков, и берендеев, и коуев, и тупеев. Моё истинное имя - Карас!» Проникшись к Роду отеческой любовью, Карас-Беренди научил его разбираться в конях, как в лесных деревьях. Так и преобразился в течение года лесовик в степняка.
Вежи хана Тугоркана, купившего Рода у бродников, стояли при слиянии рек Снапороды и Углы. Это были переносные островерхие круглые жилища, прикрытые пластами дёрна или кошмой, как у самого Тугоркана и его вельмож. Рабы жили в шалашах из травы и листья. Тут были и печенеги, и поляки, и венгры, даже один грек.
Беренди с юношей жили в землянке, которую Род сам вырыл по-лесному, как учил Букал. Спроворил сруб из крупных слег, чтоб стены не осыпались, и ещё слепил из камней чувал с шестком и дымоводом, так что зимой житье у них было теплее ханского.
Несчётными табунами ведал вельможа Кчий. Он любил сидеть в своей веже, вмяв окорока в подушки. Подлинным блюстителем табунов был пленный Беренди, и половцы, приспешники Кчия, слушались его. Очень сведущим показал себя торчин в конском деле.
Круглый год кони были в степи на кальше[174]. Зимой корм приходилось добывать из-под снега. Сплошная маета изматывала и табунщиков, и животных. Однако не вечна зима, когда по степи то и дело чамра[175] идёт, от которой в глазах застит и в теле знобит. Омыл Дикое Поле дождями цветень[176], проклюнулись, пошли в рост свежие ковы ли, и вот он - травень![177] Наконец-то! А Беренди хмур, слезлив, не ко времени чамра по его лицу. «Что с тобою, Карас?» - спросил Род. «По теплу сородичи мои из городов выходят кочевать в степь. А меня нет среди них. Вот и больна душа», - объяснил Беренди.
Роду вздохов старшего раба как было не понять? Сам тосковал всю зиму. Мысленно навещал Букала: старик грустно забирал в кулак бороду, греясь у очага. У самого-то покуда все влепоту, да видит, каково Роду в чужих руках, вот и мучает старика главоболие. А едва мысли обращались к Улите, Род сызнова заставал её в слезах, да не знал причины. Так и хотелось участливо упрекнуть: «Опять ты рюмишь!» Сил не оставалось сдерживать себя, чтобы не ринуться напролом через степь на чубаром жеребце, замаранном серыми пятнами. «Вперёд, Катай! Шибче вперёд! Прямиком на север!» Беренди, прощупывая осторожными речами тайную мысль юноши о побеге, окорачивал её, как мог: «Не дури, хлопче. До конца Дикого Поля поприщ не сочтёшь. Конь падёт, сам окарачунишься[178]».
Видя, что голодной смертью парня не напугать, торчин грозно подымал палец: «Самое страшное: одинокий всадник в степи - сайгак для охотников. А их вокруг ух как много! Так и рыщут, так и арканят - и укрюками[179], и изручь, без шеста, внакидку… Ну-ну, не перечь. Не будь байбарой[180]. Слушай старшего!» Род все глубже хоронил в душе тайные мечты о побеге. Ждал весны. По весне и Беренди потянул носом, вдыхая даль необъятную. Манила она осторожного торчина, а выманить не могла из прочной обжитой землянки в опасную пустоту.
Повечер, загнав табун в калду[181] от ночных татей, спустив с привязи сторожевых хамок[182], старый и малый коневоды вернулись в своё жилище. Задымил в чувале аргал[183], пересытив землянку кизячным духом. Род наполнил чашки холодным белёсым айраном[184], выпил свою и стал готовить калью[185], как выучил его Беренди.
- Карас, почему не пьёшь?
- А? - встрепенулся торчин, отхлебнул из своей чашки и вновь задумался.
- Что с тобою стряслось?
- Стряслось, стряслось, - эхом повторил постаревший в одночасье табунщик. - Смерть моя ходит рядом.
Род внимательно посмотрел ему в глаза и увидел, что торчин прав. Смерть была в его глазах, и оперение пронзившей стрелы торчало из-за плеча.
- За что же тебя убьют? - прижал ладони к щекам похолодевший юноша. И тут же пожалел, что проговорился.
Старший раб даже глазом не повёл.
- Меня убьют, да, - кивнул он. - Неведомо отчего напала на табун страшная конская болезнь чалчак. Я тебе не сказал, нынче два коня пали - мерин рыж да мерин из савраса гнед.
- Что значит «из савраса гнед»? - не понял юноша.
- Ну с рыжеватыми подпалинами.
Молчание воцарилось в землянке. Лишь кипяток клокотал в казане.
- Что ж теперь делать? - обомлел Род.
Беренди взял воды в носатый, с лебединой ручкой кумган.
- Пойду Тугоркану долг отдавать, - как всегда, оповестил он, идя по большой нужде. А на сей раз, подмигнув, добавил: - Встарь, говорят, бывали кумганы серебряные!
Род продолжал варить калью. Мысли были не о похлёбке. Думалось: неужели за конский падеж невинный Карас должен заплатить жизнью? Вспомнил, как бродники подвешивают под мышки на высокой балясине и стреляют в спину. Под мышками Беренди не виделось никакой верёвки. Должно быть, милостиво прикончат, для самого неожиданно. Тугоркан - синие скулы, борода-мочало, - о коем говорят: «С ним шайтан не шали!» - допустит «снисхождение» к прежде безупречному рабу. Мрачные мысли угнетали Рода в тот день.
Вернулся Беренди, юноша уверенно объявил:
- Тебя поразят сзади ядовитой стрелой! - Он видел пятна на мёртвом лице табунщика. - Надобно нам бежать. А то и тебе карачун, и мне не уйти.
- И тебе не уйти, - как бы согласился торчин.
Хлебнув доспевшую калью, он сморщился, стал прицокивать языком с явным неудовольствием. Следом за ним Род убедился в своей поварской неудаче на сей раз.
Беренди повёл речь раздумчиво:
- Кчий с зарею узнает все. А мы будем далеко. Счастье должно быть с нами. Нынче ханич[186] вернулся из Киева. Вкушал науку в русской столице. Мудрым стал наш ханич Итларь! Тугоркан гордый, как верблюд. Столько арзи[187] будет выпито - ой-ей-ей! Кто нас заметит? Кто остановит? Все лягут тяжкими бурдюками. Арзи очень вонюча и пьяна!
Род слушал вполуха и собирался в путь. Он радовался, что бежит не один, а с многоопытным Беренди. Торчин такой же знаток степи, как Род знаток леса.
Собрав два саадака[188], набив две сумы, вывели коней - Беренди своего булано-пегого в белых пятнах, Род своего чубарого Катая. Копыта обмотали тряпьём. Ночь уже растворялась в молочном дне.
- А охотники на сайгаков нас не заарканят? - шутя напомнил Род ужасы, коими его прежде стращал Беренди.
Торчин был не изволитель шутить:
- Не бахтури[189] голову заранее.
Он тихо забормотал что-то на своём торкском языке.
- Что от меня скрываешь? - полюбопытствовал Род.
- Молитву своим богам, - понурился вынужденный беглец. - Чтоб нам в Диком Поле никто не встретился.
Кони тронулись наметью, вскоре перешли в елань, затем полетели во весь опор… И степь, как изождавшаяся любовница, бросилась беглецам навстречу…
Ветер, обретя плоть, так бил в лицо, что Род отворачивался. И вдруг увидел, как солнце выпрыгнуло из окоёма, рывками полетело ввысь. День обещал быть жарким.
Катай не отставал от булано-пегого и не настигал его, как Род ни понужал своего коня. Надо бы охладить Беренди: пора сбавить бег, поискать укрытие для привала в этом голом пространстве. Вон далеко впереди темнеют заросли ханьги[190]. Катай уже сбивался на тропоть[191], уже харчить[192] начал. В таком трудном испытании он оказался слабее булано-пегого. Расстояние между Родом и Беренди росло. А этот торчин Карас хоть и обернулся, но не убавил прыти. И вдруг пальцем тычет куда-то на восток, назад… Род тоже бросил взгляд за спину и далеко на кромке окоёма увидел чернизину[193]. Погоня!
Что толку пришпоривать загнанного коня! Карас оборачивается, а помочь-то не может. И вот уши юноши уловили: тонкий противный свист примешивается к свисту ветра. Почти тут же он увидел уже не в мыслях, а наяву оперение стрелы, вонзившейся в спину Беренди. Табунщик ещё какое-то время скакал с этим страшным украшением, потом похилился набок, и конь, постепенно охладив ход, стал как вкопанный.
Скоро Род спешился возле булано-пегого, заглянул в остановившиеся глаза Беренди, обнаружил пятна на его лице. Он извлёк ноги торчина из стремян и бережно уложил мёртвого на землю. Даже не разогнулся, когда всадники в островерхих шапках с меховыми опушками окружили его. Потом посмотрел на них и ни одного знакомого половецкого лица не нашёл. Это не люди Тугоркана.
- Сдавайся, русь! - гортанно крикнул самый молодой.
- Ха! Я говорил, это пленники Тугоркана, кто же ещё? - обратился к своему окружению молодой, отличавшийся от них одеждой - он был в блестящем бахтерце[194]. - Эй! - прицелился он глазами в юношу, склонённого над мёртвым товарищем. - Оставь убитого. Ты теперь наш полонянник. Я - хан Кунуй!
- Тебе меня не продавали, хан Кунуй, - спокойно возразил Род. - Езжай своим путём. А жизнь человека на твоей совести.
Всадники окружили Рода плотным кольцом.
- Взять его! - приказал хан Кунуй.
Юноша, как беспомощный цыплёнок, вертел головой по сторонам. Ни лук со стрелами, ни подаренный Беренди кривой ятаган не могли в такой тесноте послужить ему. «Охотники на сайгаков», понимая, посмеивались.
Вот взметнулся укрюк… Но в каждом мускуле Рода сидел Бессон Плешок со своей наукой. Верёвка из грив и хвостов, которая, намокнув, не мёрзнет, была перехвачена рукой юного Жилотуга и с такой силой дёрнута, прежде чем половец успел натянуть её, что тот пробкой вылетел из седла, выпустив свой шест.
- Ты батырь[195], однако! - удивился хан Кунуй, с интересом воззрясь на юношу, и, почти не глядя, поразил мечом оплошавшего у крючника. Новое повеление хана более устрашило нападавших, нежели жертву: - Взять живым!
Легко сказать, трудно выполнить. Первого приблизившегося Род стащил с коня приёмом Бессона Плешка и отбросил на несколько шагов.
Тут все, кроме хана, спешились и с визгом бросились врукопашную. Оберегая спину, Род крутился волчком. Вот где понадобилась вся его сила! Трещали кости, оглашали воздух дикие вскрики, кулями падали навзничь тела. Кое-кто в клубке драки истиха применял ножи и ранил своих. Над Родом витал заговор Букала: «А будет тело отрока Родислава камнем и булатом, платье и шапка - кольчугой и шлемом»…
- Дайте его мне! Расступитесь! - озверел хан Кунуй, нацеливая копье.
В следующий миг он вылетел из седла, схваченный арканом, увлекаемый назад через конский круп… Свита его разом обернулась и увидела, что окружена другой, ещё большей свитой. Во главе её сидел на рослом узкогрудом аргамаке высокий красавец лет двадцати. Хотя он блистал зерцалом[196] русского воина, но лицом - чистый половец. В то же время не широкоскулый. Масличные глаза не кажутся узкими в глубоких глазницах. Не ведом был Роду этот арканщик, зато окружение его почти сплошь знакомо. Даже ленивый Кчий, начальник Беренди, восседал поодаль на серой белохвостой чалке, недавно Родом объезженной. Легко было догадаться, что заарканил хана Кунуя не кто иной, как Итларь, ханич Тугоркана, выученик киевских наставников. Кабы не он, извивался бы сейчас в арканной петле Род, а не хан Кунуй. И без того одолевали лесовика степняки, как презренные крысы одолевают, когда набрасываются всем скопищем.
- Отпустите моего пленника - или хану вашему карачун! - властно прокричал Итларь.
Подданные Кунуя, сообразив, в чем дело, отошли к своим коням.
Выпростанный из петли Кунуй бесстыдно вопил, угрожая Итларю всевозможными карами. Сподвижники его тоже были крикливы, а не драчливы, памятуя о своём меньшинстве.
Пока шла разборка, освобождённый Род истиха подошёл к булано-пегому, понуро застывшему возле мёртвого Беренди. Оставалось чуть оттолкнуться от земли ногой… И вот он уже летит камнем из пращи над зеленеющей степью, и нет дострела этому камню, нет его лёту предела. Умел Карас выбирать коня! Лихая дюжина всадников устремилась вслед Роду. Да конь-то под ним не чей-нибудь, а табунщика! Этот конь и под седоком догонит любого невзнузданного оторву, отбившегося от табуна. Зато его-то уж не догонит никто!
Юноша время от времени оборачивался, и лицо его все более просветлялось: чернизины лихой погони, крупневшие поначалу, постепенно стали мельчать, будто преследователи поворотили коней и скакали не вслед, а вспять, к окоёму.
Однако вскоре появилась новая точка. Она на глазах превращалась во всадника. Вот он уже на расстоянии дострела… Вот ещё ближе… Это Итларь на своём аргамаке. На добром коне он вернулся из Киева. Арабский скакун не чета половецким сивкам. Отдохнувший булано-пегий тоже не собирался ударять мордой в грязь перед чужаком. Почуяв стремление седока, он вытянулся в такую стельку, что майская разноцветная степь побурела: все слилось в глазах. Нет, умел табунщик выходить для себя коня!
Итларь скакал чуть обочь, чуть ближе дострела стрелы. Его аргамак оставался в силах лишь удерживать расстояние, не сокращать его. Пена с удил попадала на лицо Рода - трудно булано-пегому! Судя по задранной морде аргамака с разинутой пастью, тому тоже не легче. Кто раньше отбросит копыта? Только так могла закончиться эта скачка.
- Эй!.. Эй!.. Эй!.. - доносился до юноши зов Итларя.
Он увидел, как ханич откинул в сторону свитый в кольцо аркан. За ним полетел снятый с плеч сайдак. Следом - меч, выдернутый из ножен. Даже отстёгнутый от пояса нож Итларь намеренно повертел и выпустил из рук. Бросив поводья на луку седла, он распростёр совершенно пустые руки.
Род стал сдерживать булано-пегого. Всадники наконец поравнялись.
Оба юноши какое-то время мерились взглядами, тяжело дыша.
- Что ты хочешь, ханич Итларь? - спросил Род.
- Ты силен и вооружён, - задыхаясь, сказал половец по-русски, - Я слабее и безоружен. Одного хочу: выслушай меня.
Род опустил поводья.
- Думаешь, я схитрил? - чуть усмехнулся ханич. - Прикинулся безоружным, чтобы остановить тебя и задержать разговором, а вооружённые всадники мои уже скачут?
- Я так не мыслю, - по-русски отвечал Род. - Твоё лицо не говорит о злом умысле. Хотя половецкие лица часто непроницаемы. Ты не таков.
- Я половец лишь наполовину, - сказал Итларь, - Моя мать - русская княгиня. После гибели мужа попала в половецкий плен. Мой отец женился на ней. Он любит русских.
- Всех славян или только русских, что вокруг Киева? - уточнил Род.
- Он не различает, - помотал головой Итларь.- Для него поляне и кривичи одно слово - русь.
- Ты хочешь, чтоб я возвратился в плен? - спросил Род.
- Да, - ответил Итларь, - Моя просьба смешна сейчас. Я поклялся отцу, что верну тебя, и хочу сдержать слово.
- Ух-ух-ух-у-у-ух! - закричал Род филином, - Я бродникам давал слово, что не убегу от них, и сдержал его. А они продали меня половцам. Зачем мне де ржать чужое слово?
Итларь снял шлем и, к вящему удивлению Рода, перекрестился.
- Как перед Богом, освобожу тебя, если ты вернёшься!
- Давно крещён? - полюбопытствовал Род.
- А тебе в диковину? - подметил Итларь. - Хан Амурат крестился в Рязани, хан Айдар - в Киеве. А я половец только наполовину. Я обучался в православном монастыре.
- Язычник? - не заметил его движения ханич.
- Нет, с прошлой осени христианин, - отпустил поводья Род. - Ну будь здоров, Итларь!
- Постой! - опомнился ханич. - Одолжи твой нож.
Род остановился и кинул ему ятаган, подарок Беренди. Юный половец ловко ухватил его на лету и приставил лезвие к своему солнечному сплетению.
- Клянусь! - крикнул он. - Если меня оставишь, вспорю себе живот. Видел, как это делают?
Подъехав, Род внимательно всмотрелся в его глаза и решительно поворотил булано-пегого.
- Смерть твоя от ножа, - грустно сказал он. - Но не в животе, а в спине. И не так уж скоро. А сейчас веди меня назад в плен, коли такова судьба.
2
- Я все позабываю спросить тебя, Итларь, - поднял голову с кошмы Род. - Как ты выискал нас, беглецов, в бездорожной степи?
- По сакме, - качаясь на пятках, ответил ханич. - Сакма - след на траве. Особенно по росе можно определить конный или пеший путь: сколько человек ушло, куда и примерно когда…
Род откинулся на кошму, и опять воцарилось молчание.
Я уж и ниц перед тобою падал. А перед кем я когда-нибудь падал ниц?
Да, в первый же вечер по возвращении Рода в плен ханич бил перед ним земные поклоны за свой невольный обман. Тугоркан наградил сына за успешную погоню серебряным кинжалом с дорогими каменьями и редким харалужным[197] лезвием, а пленника отпустить отказался. Кчию отбили пятки, отсекли голову, а Рода сделали нукером[198] при Итларе, перевели из землянки в богатую вежу ханича и… оставили в плену. С тех пор вот уже два месяца ханич ежедень улещевает отца, и все без толку. Вот и нынче раб-грек принёс на обед любимое кушанье русского пленника - сочный казан-кабав[199] и на запитки освежающий яурт[200], а ещё Итларь принёс очередной отказ Тугоркана.
- Ты бы пригрозил отцу брюхо себе вспороть ятаганом, - ядовито напомнил Род.
Итларь тяжело вздохнул.
- Уж не однажды приставлял лезвие к животу. Ты поверил, он - нет.
- Выходит, меня, простофилю, легко переклюкать[201], а с Тугорканом шайтан не шали? - с досадой отвернулся юноша к стене.
Итларь подполз к нему и положил руку на плечо.
- Друг мой, не серчай. Видит Бог, я из кожи вон лезу, чтобы сдержать свою клятву. Потерпи ещё чуть-чуть. Чем тебе со мной не житье?
Род резко повернулся к нему лицом.
- А ты хоть единожды в плену был? - Итларь помотал чёрной курчавой головой. - Ну, так, где же тебе понять меня? - повысил голос несчастный юноша, - Я-то в плену был дважды. А теперь благодаря тебе - трижды!
Опять надолго их разъединило молчание.
- Пойдём, разомнёмся? - первый нарушил его Итларь.
Оказывается, в Киеве он учился искусству русской борьбы у самого Огура Огарыша, оружейничьего тысяцкого Улеба. Этот Огур вовсе не был ослушником и лентяем согласно прозвищу. Он обустроил в столице на греческий лад гимнасий, где отпрысков бояр и детей боярских превращал в непобедимых борцов. Однако глухоманная школа лесного бродника не уступала столичной. Род неизменно одолевал. Итларь же упорно относил свои поражения не за счёт учителя, а за счёт явного превосходства противника в физической силе.
На сей раз приглашение ханича прозвучало втуне. Привередливый пленник даже не удостоил ответом, вновь отвернулся к кошмовой стенке.
- Ну не береди свою и мою душу, друг мой любезный, - погладил его локоть Итларь, - Опять пойду к отцу, опять стану упрашивать. Если не согласится, сам себя умертвлю как клятвопреступника.
- Ты не сделаешь этого, - холодно откликнулся Род. - Твоя смерть - от ножа в спине. В спине нож не самоубийцы, а врага. Такова судьба. И её, как я убедился внедавне, переиначить нельзя.
Итларь тяжело вздохнул и покинул вежу.
- Ханич приставил тебя за мной следить? - резко спросил Род, почти с ненавистью глядя на парнишку.
- Не следить за тобой, а тебе служить, - лениво поправил Кза. - Мало ли что попросишь… Чего так глядишь? Хочешь снова бежать, беги. Я не шевельнусь. Все равно поймают.
Род, вернувшись из зарослей ханьги, прилёг рядом.
- Скажи-ка, Кза, - ласково начал он, - В степи… когда мне удалось ускакать… помнишь?
- Как не помнить? - ответил Кза. - Я там был.
- Вот именно. Потому и спрашиваю. Скажи, хан Кунуй и Итларь мирно разошлись?
- А чего ты тревожишься? - удивился Кза.
- Мне покоя не даёт мысль, - признался Род. - Страшного врага приобрёл себе наш ханич. Зря он заарканил Кунуя.
- Тьфу на Кунуя! - вскочил Кза, - Трусливые шакалы бежали со своим ханом. Каков хан, такова и орда.
- Их было меньше, - напомнил Род.
- Храбрый врагов не подсчитывает, - возразил Кза. - А угроз-то было, угроз! Угрожает только трусливый.
- Не сказывали, за что они убили Беренди? - спросил Род.
- А, кто-то из них воровал коней, - отмахнулся Кза. - Наш торчин его отлупил. Вот и месть!
Род задумался. Кза не сразу успокоился:
- Что это, люди, что ли? А тоже ещё - кыпчаки[202].
Подскакал и спешился радостный Итларь.
- Пойдём, Рода (так он ласкательно произносил), пойдём в вежу. Новость есть!
Род, как подброшенный, вскочил. Однако рано обрадовался.
- Завтра в Шарукани ба-а-альшой хурултай! - возвестил Итларь. - Отец сам едет и нам обоим велел быть с ним. По возвращении обещает тебе свободу.
- Этому обещанию ты и радуешься? - угрюмо опустился Род на кошму.
- Разлуке с тобой я бы так не радовался, - поугрюмел и Итларь, - Ты бы только радовался.
Род не выдержал, поднялся и крепко-накрепко обнял ханича, тот даже застонал.
- Не считай меня плохим другом, - попросил пленник, - Будь я свободным, не расстался бы с тобой ни в жизнь. Таких, как ты, на этой земле не много.
- Только не раздави меня, - вывернулся из его объятий Итларь, - Я верю в твою дружбу и понимаю твой гнев.
- Какой гнев? - отвернулся Род. - Просто-напросто злющая тоска…
3
На этот раз кони мчались на юг в сторону прямо противную той, что сулила Роду свободу. Тугоркан, окружённый свитой, тащился далеко позади в кожаной колымаге, прижав лодыги к кошме. Итларь с Родом борзо опередили хана.
- Что ты думаешь о моём отце? - спросил ханич, когда они остались в степи одни.
- Чтобы узнать человека, мне нужно в его глаза заглянуть, - отвечал пленник. - Живу у вас больше года, а видел твоего отца дважды. Единожды в ханской веже, будучи посланным Беренди. А вдругожды под открытым небом, когда показывал ему нового коня, своего объездка[203]. Оба раза видел не глаза - щёлки.
Итларь тяжело вздохнул и переменил разговор:
- Шарукань - большой город, можно сказать, столица кыпчаков. Вот перебредём Дон, встретим две речки - Уру-Сал и Кара-Сал. При их слиянии - Шарукань.
- Знаю, - перебил Род. - Новгородский волхв, мой учитель, был в Шарукани. Он рассказывал: этот город давным-давно основал хан Осень.
- Верно! - подхватил ханич. - А знаешь, их было два брата, два половецких великих мужа - Гергень и Осень. Оба назвали своих сыновей Аепами. Дочь одного Аепы взял в жены ваш суздальский князь Гюргий, а дочь другого Аепы - черниговский князь Святослав Ольгович, брат нынешнего великого князя Киевского.
Род с интересом оборотился к ханичу:
- Я об этом вневедоме.
- Так было сделано, - продолжал Итларь, - чтобы половецкое царство Дешт-и-Кыпчак никогда не воевало с Русью. Но не прошло двух лет, как Шарукань пала под ударом могучего Мономаха. А сын его Гюргий, женатый на дочке Аепы, к этому удару приложил руку.
- О том походе мне ведомо, - придержал коня Род, дабы поравняться с ханичем. - Иное для меня внове: Мономашич с Ольговичем - родственники!
- Женаты на двоюродных сестрах, - уточнил ханич. И добавил: - В Киеве перед моим отъездом выстоплеты говаривали: смоленский князь Ростислав женил сына своего Рюрика на дочке хана Белука. Да что там! Родной брат Гюргия женат на моей племяннице у русских князей половчанки нынче в любви!
- А у ваших князей? - усмехнулся Род. - Твой отец женился на русской. А князь половецкий Сан-туз, к кому мы едем на хурултай?
- Нет, князь Сантуз взял жену из Великих Булгар, - почему-то просветлел лицом ханич.
- Вижу, ты очень радуешься, едучи в Шарукань. Неужто так любишь праздники? - спросил Род.
- Степные люди охочи до праздников, - прищурился в сторону своего нукера повеселевший Итларь. - Однако открою тебе по-дружески: не праздник манит меня.
- Не праздник? - удивлённо откликнулся Род.
- Очень хочется повидать Текусу, - мечтательно произнёс Итларь.
- Что за птица - Текуса? - полюбопытствовал Род.
- О! - воскликнул Итларь. - Верно ты сказал: она птица. Юная степная орлица! Дочка князя Сантуза. Маленькая правительница большого половецкого царства.
- Дочка?.. Правительница?.. - не понял Род.
- Видишь ли, - смутился Итларь. - Отец сказывал, жена-булгарка крутила слабым Сантузом, как пряха веретеном. А позапрошлой весной на тонком донском льду её каптан[204] провалился. Ханшу из воды извлекли, да не смогли извлечь из лап смерти. Так застудилась! С тех пор Текуса заняла её место рядом с отцом. На всех пирах сидит с ним, во всех думах участвует, словно зрелый муж. Старейшины, малая дружина очень недовольны. От предков такой нелепоты не было в Диком Поле.
- Такого не стерпели бы и наши вельможи, - вставил Род.
- Шаруканцы терпят пока, - засмеялся ханич. И тут же помрачнел: - Боюсь, измыслят беду. Правда, Текуса очень умна. Выучена в Великих Булгарах у исламских начётчиков и арабских мудрецов. Её советы мудры. Да ведь великий ум слаб без великой хитрости.
- Выдадут замуж в чужую страну и избавятся от докуки, - предположил Род.
- Нет, нет! - запротестовал ханич. - Мне лишь единожды случилось говорить с ней. Прошлым летом на таком же, как нынешний, хурултае. Текуса сетовала, что царство Дешт-и-Кыпчак поделено на многие орды под началом независимых ханов. Власть Сантуза меньше, чем киевского Всеволода. Это плохо. Мечта Текусы - подчинить все орды сильной Шарукани. Разве она уедет от своей мечты? Мне страшно за неё.
- Женись на ней, княжна станет вдвое сильнее, - посоветовал Род.
Ханич грустно покачал головой:
- Текуса хочет сама указать избранника. Кому разрешит засылать сватов, тот станет её мужем.
- Ну и бой-девка! - прищёлкнул языком Род.
Они остановились перед пологим спуском, за которым серебрился харалужный ятаган Дона.
Знатоки указали брод.
Конские копыта на мелководье распугивали табуны рыбной молоди.
После недолгой скачки забурело на окоёме пылевое облако над половецкой столицей. Невысокий земляной вал ощетинился слабым тыном из тонких палей.
- Такую крепость взять - что рукой махнуть, - усмехнулся Род.
- Южные города не крепости, - объяснил Итларь. - Их не защищают, а легко отдают, исчезая в степи. Потом налетают, как суховей, выживая врага. Жизнь налаживается сызнова.
За земляным валом беспорядочно кучились вежи, далее тянулись подобием улиц саманные мазанки за плетнями. На площади высился двухэтажный кирпичный дом за глинобитной стеной. Бессчётные пароконные арбы с кладью щедро унавоживали город и нещадно пылили. То и дело из-за плетня стрелял в путников любопытный девичий глаз, а мужская половина детворы выскакивала на проезжую часть с казаргами в руках. Обладатели этих маленьких луков со сдвоенной тетивой тоже стреляли в насупленных чужаков, только не глазами, а глиняными пульками, не всегда безобидными. И рассчитывались за озорство пунцовыми шрамами от арапников на худых загорелых спинах.
Крики арбишников, скрип колёс, конский топот, ругань ханской обережи, взвизги мальчишек - все перемешивалось в утомляющий уши городской гул.
Посланный вперёд Кза с небольшим отрядом сообщил, вернувшись, что дворец пуст, а князь ждёт гостей на ристалище, далеко в степи.
- Там и ночлег, и пища, - сообщил Роду ханич.
С облегчением вырвались из Шарукани на свежий степной воздух. И снова - скачка.
Солнце, сбавив накал, потеряло слепящий ореол, раздулось, побагровело и сгинуло за краем земли. Ночь нахлынула с востока и уронила звезды на землю.
- Вон! - указал ханич на эти звезды, - Несметные костры хурултая!
4
Тогдашний червец[205] забыл о дождях. Необоримое вёдро душным железным шлемом накрыло Дикое Поле. В пожухлых травах - ни капли сока. Река Сал далеко, а редкие бочажки словно вылизаны незримым алкающим зверем. К людскому скопищу хурултая едва успевали подвозить воду в дубовых бочках.
Широкий ступенчатый помост предназначался князю, знати и высоким гостям. Чёрная масса располагалась по обоим его краям на земле. Род и Итларь сидели не в нижних, а скорее в средних рядах. Трёхстенный шатёр княжеской семьи белел ещё выше.
- Смотри, смотри! - дёргал ханич Рода за рукав, - Только истиха, не очень-то оборачиваясь. Вон князь Сантуз, а рядом… рядом несравненная Текуса!
Среди многих лиц под шатром Род отличил одного из половцев в малиновой япанче[206]. Это, видимо, и был князь. Обочь застыла, как восточный божок, женская фигурка под цветастым чехлом. В такой многоликости, при слепящем солнце, да ещё поглядывая вполглаза, разве рассмотришь красавицу?
- Досточтимые каназы[207], возьмите меня в соседи! - Над ними склонился высокий осанистый сын Востока в чёрном терлике[208] и черевьей[209] шапке.
- А, Чекман! Честь и место! - пригласил Итларь и пояснил Роду: - Это старый мой знакомец, сын берендейского князя Кондувдея Чекман, непременный гость наших хурултаев.
- Послушай, дорогой, - присел Чекман рядом с Родом, когда все сдвинулись потеснее. - Тебя я тут в первый раз вижу. Как же так?
- Всего год как я в плену, - начал было Род.
Итларь перебил:
- Слушай больше этого глумотворца[210]. Он мой друг.
- Значит, в дружеском плену, а? - потрепал Рода по плечу красавец берендей.
А ристалище было в разгаре. На сей раз лихие объездчики показывали удивительную сноровку. По гулкой степи табунщики прогоняли перед зрителями диких скакунов. У крючники намечали жертвы и заарканивали свободных в рабство. С каждой новой удачей тысячи горл оглашали знойный воздух единодушным криком: «Ай-ё!»
- Вон, вон она! Узнаешь, Чекман? - тянул палец в сторону табуна Итларь.
Следя за его указкой, Род отличил игренюю кобылицу, рыжую, как заря, с белесоватыми гривой и хвостом, летящую над лишаями ночных кострищ.
- Узнаешь Катаношу?
- Ай, дорогой! Как её не узнать? С прошлого хурултая не поддалась никому. Имя уже имеет, а всадника - нет.
- Сегодня сам Ченегрепа будет её ловить. Он уж не проарканится!
Итларь с Чекманом от волнения переговаривались по-русски. А Род следил за норовистой прелестницей и её злым гением, задублённым жизнью матерым половцем, нацеливающим укрюк. Вот она дёрнулась, эта бедная Катаноша, забилась в петле - то вздыбится, то осядет… Табун пронёсся, она - ни с места. Вот её взнуздывает молниеносный Ченегрепа - и она уже под ним, своим повелителем.
Что произошло? Что-то взметнулось очень высоко. Комета с хвостом? Красная комета с белёсым хвостом!
- Ай-ё! - испуганно ахнула степь.
Катаноши нет, а Ченегрепа лежит на земле пластом.
К нему бегут… Над ним возятся… Его уносят с глаз долой… В общем шуме не слышно голосов глашатаев.
- Убит!.. Ченегрепа убит! - плывёт известие по рядам.
- Фу-ух! - переводит дух Чекман. - Четверть века живу, такого не видел.
- Она туда убежала, - ткнул Итларь пальцем на восток. - Слышишь? Говорят, нет больше на неё охотников. После Ченегрепы отважных нет.
- А праздник продолжается, как ни в чем не бывало, - вздохнул Чекман, - Вон гляди, шашлык из людей на деревянном шампуре, - он указал поджаристую ленту голых человеческих тел, соревнующихся в перетягивании палки. Чуть перетянули, и - куча на кучу!
Страшная судьба Ченегрепы стала забываться за иными ристаниями. Борцы, хватая друг друга за кушаки, катались в навозных травах. Ловкачи, сменяя один другого, лезли на высокое дышло, впивались в него ладонями и ступнями, чтобы достать привязанную к верхушке пару сафьяновых сапог.
- Кза, сбегай к ятке[211], купи холодного яурта попить, - попросил Итларь.
- А скажи, - обратился к нему Род, - ваш хурултай - только зрелище?
- Что ты! - удивился ханич. - Накануне в хурулах приносят жертвы богам. Видел в Шарукани хурулы - наши половецкие храмы? - Тут он почему-то зарделся как маков цвет и договорил смущённо: - Я праздники наши очень люблю. Это у меня в печёнках.
- К нам позовник из княжеского шатра, - насторожился Чекман.
Подошедший половец склонился перед ними.
- Сын боярина Жилотуга, делай милость, ходи за мной, - не слишком уверенно произнёс он по-русски.
Под удивлённые взоры соседей, сам не менее удивясь, Род поднялся со своего места. И вот он уже одолел крутой узкий проход, вступил под сень трёхстенного шатра, увидел князя в малиновой япанче, с блюдом сухого винограда на коленях, а рядом - княжну под цветастым чехлом со стебельками волос на лбу, скрученных словно из гривной косицы[212], а с другого боку - знакомый непроницаемый лик Тугоркана, обритого по маковку, с облитыми кумысом усами, с защуренными глазками, которые, однако, все видят.
- Здрав будь, половецкий князь! - поясно поклонился Род. - Здрава будь, княжна.
Ему не ответили. Сантуз подслеповато вглядывался в него, заложив изюм за щеку.
- Ты, русский боярич, был у Тугоркана объездчиком? - спросил наконец Сантуз.
- Приходилось объезжать коней, - наклонил голову Род. - Был табунщиком.
- По-нашему хорошо говоришь, - ещё более округлил лунообразный лик князь, - Велю тебе сейчас изловить игренюю кобылицу.
Это было как удар грома.
- Не поставь во грех, князь, вряд ли я изловчусь такую кобылицу поймать, - как можно учтивее молвил Род.
Говоря это, он спрашивал себя: кто указал на него Сантузу и с какой целью? Сам половецкий властитель выглядел невинным искателем развлечений. Ясно было, что перед тем он и понятия не имел о пленнике Тугоркана. Неужели отец Итларя вознамерился одним махом покончить с приставаниями сына и коварно погубить яшника? Нет, даже непроницаемое лицо его выдавало недовольство происходящим. Тем более непричастна ко всему этому Текуса. Они видятся впервые. И тут из-за княжеского плеча проглянула шакалья образина хана Кунуя. Он был весьма доволен.
- Выполнишь что велю - завтра домой поедешь. Суздальскому Гюрге отвесишь ба-альшой поклон, - улыбнулся князь.
- Боюсь не совладать, - чистосердечно признался Род.
- Тогда последнюю в твоей жизни пиалушку арзи получишь в награду, - по-прежнему улыбался князь.
- Хмельного не пью, - понурился пленник.
- Значит, первую и последнюю, - уточнил Сантуз.
Текусы с ненавистью глянули на хана Кунуя. Тот заметно поёжился.
- Ах, я перехвалил его, - попытался злыга дать задний ход.
- Посмотрим, посмотрим, - плотоядно кинул в рот очередную изюмину князь.
- Я прошу… - вновь вмешалась Текуса. Мелодичный голосок её зазвучал неприятно, как перетянутая струна.
- Юная мудрость достучится ли до мудрейшей старости? - утробно пробормотал Тугоркан, не размыкая маленьких глаз.
Сантуз замахал руками:
- Сегодня праздник. Не надо спрашивать мудрость. Уместнее легкомыслие. Вот и меня посетила блажь: хочу, чтобы этот юноша… Напомни-ка твоё имя, - обратился он к пленнику.
- Родислав Гюрятич Жилотуг.
- Покороче.
- Род.
- Я хочу… Ну просто желаю, чтобы Род поймал кобылицу. Поймал и смирил. Дайте ему укрюк. Найдите самого вихревого коня.
Тугоркан отвернулся. Княжна потупилась. В глазах хана Кунуя прыгали бесенята. Княжеская обережь готова была пуститься в поиски. Род остановил воинов:
- Не нужен конь. Не нужен укрюк.
Все воззрились на него с удивлением. Даже Тугоркан. Даже княжна.
- Как? - подскочил Сантуз. - Пешим? Голыми руками? Ты глумишься над нами?
- Пусть дадут мне кожаное ведро с ключевой водой, - велел Род.
…И вот уже далеко позади бараньи ароматы, кибиточный скрип и весь тысячегорлый хурултай. Род идёт по ржавым лишайникам, и слепящее солнце плещется в его кожаном ведре. До чего же воздух горяч! Даже молодое крепкое сердце требовательно стучит о грудную клетку, жаждет нескольких глотков свежести. Бок земли, по которому движется он букашкой, пахнет и смотрится опалённым вепрем. Дурно лесовику в степи. Ни тени, ни ручейка. Даже горла сусличьих нор усохли, осыпались, словно нежилые. Ни одна тварь не укусит, не попадётся на глаза - такое пекло! И страх охватывает, что он - единственное ещё не сгибшее существо в этом необозримом пространстве.
Нет, не единственное. Далеко в гнедом мареве движется ещё одна точка. Вот они сходятся медленно-медленно - кобылица и юноша, свободная и раб. Она ищет капли влаги в старческих трещинах земли. Он несёт эту влагу. Он для неё не страшен. Сторожкий глаз ухватил: он не вооружён арканом. Просто встретились в голом раскалённом пространстве человек и животное. Им нет друг до друга дела. Он приостановился. Она даже не отбежала. Стоят, каждый занятый своим, на расстоянии дострела стрелы. Вот он поставил ведро и присел отдохнуть в сторонке. От ведра далеко пахнет влагой. Ноздри Катаноши дрожат. Она ржёт и делает шаг к ведру. Род смотрит на неё приветлива. Он не враг, не табунщик, не укрючник. Он водонос. Катаноша истиха приближается к ведру. Белёсая чёлка над вопрошающими глазами, белёсая грива с отмётом, а вся сама - как раскалённый сосуд. Ей дела нет до водоноса. Но он встаёт. Шагнул раз, другой. Ведь она приближается к его ведру. Уже почти у ведра Катаноша и Род долго всматриваются друг в друга. «Разреши мне попить?» - «А ты меня не боишься?» - «Я в степи всех людей боюсь. Сейчас жажда сильнее страха. Что тебе нужно от меня?» - «Подойти и подружиться с тобой». - «Люди и кони - не друзья, а господа и рабы». Человек улыбается и подходит ближе… Она уже у ведра, а он в двух шагах. Она уже пьёт, а он берет в руку поводья уздечки. Но теперь её ничем не оторвёшь от воды. Катаноша пьёт жадно и громко. Род гладит её холку другой рукой. Потная кожа кобылицы дрожит. «Не мешай! Дай допить!» Воду всасывают распалённые губы уже с самого дна. Маленькое ведро!
Неожидан и ловок прыжок седока. Непривычная ноша не тяжела, просто неприятна, как всякая ноша. Любые ухищрения хороши, лишь бы её стряхнуть.
Род прилип к Катаноше руками и ногами, всем туловищем. Они вместе летали ввысь, в стороны, уносились неведомо куда, бессмысленно кидались назад. Род стал диким конём и скакал без смысла, без удержу, отбивая чечётку на земной груди копытами Катаноши.
Вся женская выдумка была пущена в ход и не вернула Катаноше свободу. На помощь пришло коварство. Когда кобылица нежданно прянула оземь, чтоб покататься на спине и раздавить наглого обманщика, Род успел вовремя соскочить, но не отпустил поводьев. Она рванулась и впервые почувствовала его необыкновенную силу…
Он увидел вдали заросли ханьги, учуял, что как раз за ними Уру-Сал и Кара-Сал слились в одну реку Сал, которая вдоволь напоит его с Катаношей. Водком он повёл кобылицу к большой реке, и они напились.
Чуть поодаль от берега жила лучезарная жёлтая лилия-кувшинка. Лепестки её так и просились в руки. Пришлось согнать с них шмеля и взять себе этот символ жизни.
Уже выкупанная, Катаноша понюхала на берегу мокрого своего господина и позволила оседлать себя. Так свободная впала в рабство, а невольник обрёл свободу.
Солнце, сидя на земле, смотрело с одной стороны, а тысячи зрителей с другой, когда всадник на игреней кобыле промчался полем половецкого хурултая. Солнце побагровело и вжалось в землю, восторгу зрителей не было конца. Вот Катаноша передана в Чужие руки, а Род взошёл по крутому проходу в княжеский шатёр.
- Ты свободен, отчаянный суздалец, ты свободен! - в исступлении бил себя по ляжкам Сантуз.
- Все так, все так, - едва кивнул Тугоркан на вопрошающий взгляд своего невольника.
Хан Кунуй исчез.
Текуса молча приняла дар победителя - большую жёлтую лилию. Лишь угольковые глаза впились в юношу, скрывая изо всех сил таившиеся в глубине их чувства. Должно быть, она радовалась его успеху.
- Прошу, побудь с нами до конца хурултая, русский боярич… боярич, - Сантуз трудно вспомнил незнакомое имя, - Род?
Освобождённый пленник наклонил голову.
На оставленном месте в средних рядах Род нашёл Чекмана. Куда запропастились Итларь и Кза?
- Фу-ух! - встретил его княжич. - Один день знаю тебя, дорогой, а моё сердце по твоей милости стало калекой. Как ты обратал эту дикую стрекозу?
- После расскажу. Где Итларь?
- Он так переживал! Побелел как смерть. Себя проклял, отца винил. Полбурдюка яурта ему споили, не помогло. Кза увёл его. Пропал праздник для Итларя.
Берендей говорил быстро, пылко, сам изведённый беспокойством до крайности.
- С виду ты в порядке. Ноги, руки целы? - продолжал он волноваться. - Что себе отшиб?
- Задницу отшиб хуже некуда, - запросто признался Род.
Оба тут же спустились к ятке, и обретший свободу раб напился яурта, что называется, от пуза, чтобы внутри просвежело.
У входа в гостевую вежу Итларя они увидели ханича на брошенном конском седле - локти в коленях, лицо в ладонях. Когда русский боярич отнял его руки от лица, Итларь бросился с объятиями:
- Ты жив?
Род за все время плена в первый раз рассмеялся.
- Не столь важно, что жив. Важней, что свободен!
- Послушай, почему сразу мне не сказал? - возмутился Чекман.
- Хотел сразу сказать вам обоим. Сантуз объявил мне свободу, Тугоркан подтвердил. Я волен немедля отсюда ускакать. Согласился остаться до конца праздника.
5
Говорят, на пиру смерть красна. Недолгое время спустя Род сокрушался: почему не умер на том пиру? В шумные же часы застолья радовался жизни как никогда.
Во внутреннем дворике великолепного по сравнению с окружающими мазанками княжеского жилья были разостланы тяжёлые узорчатые ковры. Избранные гости образовали пирующий круг. Сверху их услаждало небо, синее без задоринки, а в центре круга - писк[213] и плясота. Пискатели играли на пипелах и дудках, плясовицы то рассыпались луговым многоцветьем, то сплетались в венки.
- Ты полюбуйся, дорогой, - восхищался Чекман. - Тела - как червонные струи!
- Для меня это внове, - признался Род. - Я к игрищам непривычен.
Пирники следили, чтобы гости оделялись яствами без промешки, чтобы каждый пивец пил, когда и сколько желал.
- Что это? - удивился русский боярич.
- Это дулма, - пояснил Итларь, - рубленая баранина в виноградном листе.
Род обнаружил: опять его мушерма[214] полна черкасским вином. Кто и когда подлил? Ах, вот как поступают здешние виночерпии! Недопитое выливают, наполняя мушерму свежей влагой веселья.
Места у троих друзей оказались почётные. По одну сторону князя Сантуза восседали воевода Алтунопа и подколенные ханы - Тугоркан, Кунуй, далее - незнакомые. По другую, как всегда, - мудрая дщерь Текуса, а за ней - счастливый Итларь, а затем - Род с Чекманом.
- Ах, ханская рыба! - восхитился Чекман, отведав новую перемену яств.
- В наших северных реках такая не водится, - вздохнул Род.
- Это кумжа, - пояснил Итларь. - Её ещё называют форелью.
- А я-то подумал: какой-нибудь хан её у себя в прудах разводит, - смутился Род.
- Ханская значит вкусная, - смеялся Итларь.
- Пах, пах, какие изюминки! - наслаждался плясовицами Чекман. - Не девы - гусли танцуют, а? Взгляни, дорогой, как поют стебли ног, как дышат лепестки рук!
- Мне это зрелище в диковину, - откликнулся Род.
Глаза его смотрели перед собой, а уши настропалились вбок, в сторону Итларя и Текусы, завязавших непростую беседу. С чего оживлённое лицо княжны вдруг закаменело, а ханич стал похож на сливу? О чём они? Тяжело разобраться в половецкой речи при таком гвалте. Сантуз надрывно хохотал. А подколенники его, усевшиеся - зады к пяткам, увеселяли своего князя.
- Ай, ханские яблоки! - уже переходил Чекман к фруктам.
Такие яблоки Роду были неведомы: белые, крупные, сладкие. Он привык к кучковским наливным яблочкам или к кислой леснице от лесной дикой яблони. А не ответил на восхищение берендейского княжича потому, что вслушивался в тихий дрожащий голос половецкого ханича. И своим тонким слухом распознал самую трудную для Итларя речь:
- Солнце жизни моей, княжна, разреши засылать сватов!
Текуса отвечала довольно громко:
- Год назад тебе говорила и сегодня скажу: ценю твою любовь, а ещё выше ценю твою дружбу. Докажи, что ты самый преданный друг, - передай своему соседу, этому русскому, пусть зашлёт сватов.
- А… а… - заикался бедный Итларь. - А у него невеста на реке Оке, русская боярышня.
Отзвук металла послышался в звучном голосе Текусы:
- От тебя мне нужны не слова, а дела. Стань сватом у этого бывшего раба. Завтра же. Слышишь? Завтра же!
Текуса отвернулась к отцу и заговорила с ним. Итларь уронил голову на грудь. Рода в несусветную жару охватил озноб. Мысли, перед тем праздничные, счастливые, испуганно сбились в кучу, как овцы в волчьем кольце. Один Чекман радовался тароватому пиршеству, бесшабашной музыке, извивающимся девичьим телам.
- Вай, вай! Что с вами? - наконец обратил он внимание на друзей.
- Всему настаёт предел. Вот и нам пора, - первым поднялся Род.
Солнце было уже за глинобитной стеной. Поредел круг пирующих. Испарились невесомые плясовицы. Лишь пискатели ещё лезли в уши диким своим искусством. Сантуз сам проводил к выходу нескольких именитых гостей. Род успел на возвратном пути перехватить его и склонился, прижимая ладонь к груди.
- Князь! Праздник завершён. Дозволь отблагодарить твою милость всем сердцем и отправиться восвояси.
Сантуз значительно поднял палец:
- Завтра, завтра, сын мой. Жду тебя с важными речами, приятными моему отцовскому сердцу.
Юноша едва успел рот раскрыть, князь уже отошёл.
Не имея сил отыскать в толпе Итларя с Чекманом, несчастный вольноотпущенник пошёл в гостевую вежу, где жил с недавним своим хозяином.
Итларь уже лежал на кошме, закинув руки за голову и прикрыв глаза.
Род присел к нему, дотянулся до вздрогнувшей его руки:
- Нынешней ночью я должен бежать, мой друг.
Ханич произнёс едва слышно:
- Текуса пронзила ножом моё сердце. Ты стал её избранником.
Род перевёл дух и ответил:
- Извини, друг. Тебе не полюбится это слышать. Я не хочу в жены твою Текусу. И не потому, что она половчанка, а я славянин. Не оттого, что я недавний язычник, нынешний христианин, а она мусульманка. Тут три другие причины: я поглянулся ей ненароком, она мне - нет, и ещё - она «солнце жизни» моего друга, а друзей я и в любви не предам. В моей жизни - ты знаешь - светит иное солнце. Вот главная причина - Улита!
Благодарные глаза Итларя опять прикрылись:
- Улита далеко, а Текуса рядом.
- Оттого и хочу бежать, - сказал Род.
- Ты уже бежал, помнишь? - поморщился Итларь.
Род закусил губу и задумался. Потом резко рассёк ладонью воздух:
- Уж лучше смерть!
Итларь сел, крепко взял бывшего своего нукера за плечо:
- Не теряй головы, а? Русские говорят: утро вечера мудренее. Завтра поутру сядешь с князем на ковре и почтительно договоришься. Не надо только аркаться[215]. Сантуз не глуп. По крайности объяснишься с Текусой. Однако будь осторожен: лицо и сердце у неё разные.
6
Род пробудился от непонятных стонов и щёлканья. Привиделось, что орёл-дорвач напал на косячок беззащитных горлиц и занят плогиугодием, избирая жертвы.
- Отчего птицы ячат?[216] - сел Род на кошме.
Итларь только что вошёл в вежу, принёс неведрие на одежде и лице. Кончился праздник, кончилось солнце.
- Это не птицы, - оповестил ханич, - это люди.
Род наскоро оделся. Оба вышли на воздух.
Главной широкой улицей, рассекающей Шарукань, двигалась человеческая лента в окружении половецких всадников. Понудительные возгласы «айда!… айда!» сопровождались щёлканьем бичей. Порой звучали гортанные приказы по-русски: «Шагай!», «Мольчи!», «Головой не верти!» На исхудалых телах болтались издирки. Глаза, навидавшиеся ужасов, глядели вперёд воспалённо и тупо.
- Я узнавал, - промолвил Итларь. - Большой полон из Галичины гонят на юг к морю на невольничий рынок. Весной киевский Всеволод ходил на галицкого Владимирка. Поход могучий, да неудачный. Крепостей не взяли, зато из пожжённых весей полону хоть отбавляй. Вот и нашим, как Всеволодовым союзникам, перепала щедрая доля. - Итларь вздохнул. - Не многие дойдут.
Несчастные люди все шли и шли. Род возвратился в вежу. Пора было собираться в гости к Сантузу.
- Не окажи себя чувахлаем[217], - напутствовал ханич. - Тем более с Текусой. Она привередливее отца.
С тяжёлым сердцем Недавний пленник шёл к половецкому князю ради опасного разговора. В кирпичном дворце было на сей раз неприятно тихо. Одна за другой закрывались двери за спиной гостя. Сколько ковров позади осталось, пока он оказался на подушке перед Сантузом! Князь предложил блюдо с изюмом и сам положил изюмину за щеку.
- Меня уведомил Тугоркан, - вкрадчиво начал он, - о твоём высоком происхождении. Сколько тебе от роду, русский батырь?
- Семнадцать, - едва вымолвил Род.
Князь удовлетворённо закивал.
- Будь мужчиной. - Видя, что робкий жених молчит, он взмахом руки отослал свидетелей. Когда будущие тесть с зятем остались одни, Сантуз без обиняков велел: - Выкладывай, парень, хочешь заслать сватов? Мне дочь о твоей любви все уши прощебетала. Несмелый больно. Зато в поле - орёл!
Учтивые слова, заготовленные дорогой, вылетели из головы Рода напрочь из-за княжеской прямоты. Набрав воздуху полную грудь, он выпалил наобум:
- Отпусти меня, князь, домой. Век буду благодарить тебя за свободу. Чем хочешь, отслужить рад. И дочке твоей рад туфлю поцеловать. А сватов заслать не могу. Невеста у меня в Суздальской земле. Дочь боярина Кучки, если слыхал о таком.
Маленькие глазки Сантуза выросли, округлились. Толстые губы выплюнули недожёванную изюмину.
- Ты глупец? - вскочил он.
Род тоже встал с подушки.
Лицо половецкого властелина сморщилось, стало почти подобострастным.
- Не обидься, князь, - поклонился Род. - Погляди моими глазами: половецких воевод на нашей службе я видел, а вот наших на половецкой - нет.
- Ты не только глуп, а ещё и дерзок, - прошипел взбешённый Сантуз. - Кучка из-за дочери продал тебя лесным ворам, я из-за дочери дарую тебе свободу и славу. Чувахлай ты, больше никто.
При этих словах Род вспомнил предостережение Итларя, да поздно. Сантуз заплескал в ладоши. Явились люди.
- Я с тобой попрощался, - опустил веки князь, - Текуса тоже хочет с тобой проститься. Отведите гостя к княжне.
Род едва успел поклониться в пояс. И его повели. Шёл он долго и, как заметил, одними и теми же переходами дважды. А в начале пути лёгкая тень метнулась вперёд, видимо, с целью предупредить маленькую хозяйку о прибытии гостя.
В покое княжны было тесно. Много места вдоль стен занимали разноцветные коробья. Половецкая красавица в ярком наряде сидела в подушках, как божок. При виде юноши улыбнулась. Он уловил, что тонкие губы её дрожали. После приветствий Текуса металлическим голосом спросила:
- Не нравится тебе наш дворец?
- Очень славный дворец, - вежливо сказал гость и для вящей убедительности добавил: - Стены кирпичные, крыша черепичная.
- Стены черепичные, крыша кирпичная, - быстро передразнила Текуса и сообщила: - Мне он не нравится. Я бы хотела жить в ватном дворце, в каких обитали все мои предки.
Роду трудно давался пустопорожний разговор. Намеревался просить прощения за нелепую несогласицу меж ними, да не успел.
- Итларь мне сказал: ты можешь предрекать людям конец их жизни, - резко перевела разговор княжна, - Ну-ка что напророчит твой Шестокрыл[218] о моём конце?
- Я не прорицатель, - смутился Род. - Не хочу тебе ничего предсказывать.
- А я очень хочу. Слышишь? Очень! - властно требовала она.
- Будь по-твоему, - вздохнул юный ведалец. - Погляди мне в глаза. Только не взыщи.
Угольковый взгляд устремился к нему, и юноша ужаснулся.
- Что молчишь? Говори! - шёпотом потребовала Текуса.
- Не смею, - отшатнулся Род.
- Скажешь или нет? - пристукнула она кулачком по обтянутой тканью острой коленке.
- Я вижу костёр… Это ещё нескоро. Очень нескоро, - пробормотал он, - Большой костёр среди огромной толпы… И тебя… объятую пламенем…
Текуса пронзительно рассмеялась.
- А свою судьбу видишь? Где там! Других пугаешь. Так я тебя тоже испугаю немножко. Я тебе предскажу: скоро, очень скоро твоё истерзанное тело с открытыми ранами, с клочьями кожи будет лежать на горячем песке, и могильник-стервятник выклюет твои незрячие очи…
- Ты не так зла, как обижена на меня, - прервал юноша поток девичьего гнева. - Слишком мало мы знаем друг друга. Мне не ведом твой нрав, тебе не слышна моя душа.
Текуса, овладев собой, чуть откинулась на подушках и сказала почти спокойно:
- У девушек нрав косою закрыт, а уши завешаны золотом.
Она поднялась, качнув многочисленными косичками и давая понять, что прощанье окончено.
Прислужница по знаку княжны внесла две мушермы, полные вина, одну подала Роду, другую Текусе и исчезла.
- Прошу тебя, свет чужих очей, - молвила княжна, не скрывая усмешки, - выпьем это вино, чтобы помнить друг друга до конца жизни.
- Благодарствую, - поклонился Род, оставляя её усмешку в стороне, радуясь, что не дотла передал увиденное в её очах. - Память памятью, а предчувствую: нам с тобой не миновать новой встречи.
Вино показалось жидким, как разбавленное, неприятным на вкус.
- Ах-ха-ха! И волхвы ошибаются. Не увидимся мы с тобой более никогда. Слышишь? Ни-ко-гда!
Эти напутственные слова Текусы звучали в ушах Рода, пока он шёл из дворца. Гнедой смирно ждал его у коновязи во внутреннем дворе. Род сноровисто потянул узел привязи и вспомнил, как мало и плохо спал эти дни. Покорившая тело чужая сила властно потянула к тёплой, мягкой земле. «Чем земля не постель?» - мелькнула дремотная мысль. И вот уже не Гнедой, а красавица Катаноша обдаёт его лицо жаром из дрожащих ноздрей. Крепко-накрепко он обнимает крутую шею, смешивая свой пот с острым потом кобылицы, и рабовладелец-мир переворачивается под их ногами, стены дворца становятся черепичными, крыша кирпичной, а вольноотпущенники - человек и животное - летят сами по себе от коварных земных красот в сокровенную пустоту небес…
7
Проснувшись, он грохнулся с неба на землю. Его сбросили с телеги, как куль с песком. И, словно вчерашним утром в веже Итларя, стали надрывать уши жалобное лебединое ячанье и плотоядный орлиный щёлк.
- Ну и засоня, кара-лык[219] ему в печень! - прогремел удивлённый голос. - Проснёшься ты или нет? А- а, разлепил глаза!
Заслышав половецкую речь, Род осознал: он все ещё в том же плену, от которого так и не случилось избавы. Тут же довелось убедиться, что плен этот много горше предыдущего: тело было оголено по пояс, ниже топорщились грубые чужие опорки, ступни сжимали рваные моршни не по ноге. Самой болезненной мыслью было открытие, что креста, материнского кипарисового креста на серебряной цепке, нет на его шее. Исчез! Над самым его лицом возвышался дюжим гигантом половец с волкобоем - толстым бичом с вплетённой в самый конец металлической бляшкой.
- Вставай, Урусоба, довольно нежиться, - уговаривал он.
- Ну, Сурбарь, я поехал! - крикнул молодой возчик, поправив упряжь. - Мне ещё рыбу возить с Уру-Сала на княжой двор.
- Вали, Асун. Скажи, все в порядке.
Арбишник засвистел песенку, и арба удалилась со скрипом. Род еле поднялся на ноги, что было весьма нелегко: спаянные железные наручи стягивали за спиной руки.
Встречь солнцу по степи двигалась та же людская лента, что и вчера, в окружении понукающих всадников. Сурбарь стал одним из них, вскочив на отвязанного от ушедшей арбы коня.
- Отдай крест! - требовательно заявил Род.
Сурбарь будто и не услышал.
- Вперёд, Урусоба, - приказал он, - Становись вон в тот ряд. Там место освободилось. По пути кто- то сдох, не достигнув рая.
- Моё имя Род, - попытался объяснить полонянник.
- Поговори у меня! - насупился Сурбарь. - Теперь твоё имя - кто как захочет.
Попав в новый полон, Род сразу сообразил: тут не обошлось без Текусы. Не всуе приговаривал Новгородский волхв Богомил, что от любви до ненависти рукой подать. Солнце било в лицо, да не было света впереди. Можно бы порвать путы, будь они сыромятные, не железные. А порвёшь - толку что? От конного пеший не убежишь, от вооружённого безоружный не защитишься… Чужие тесные моршни точили ноги, делая все болезненнее каждый новый шаг. Юноша морщился не от этой боли. Его мучила боль Итларя, который со вчерашнего дня не доищется друга и, возможно, уже досочился до истины.
Рядом шла девушка в бабьих издирках. Уже не лицо, а лишь тугая обнажённая грудь выдавала возраст.
- Ведаешь, куда гонят? - осмелился Род вступить в разговор.
- Идэмо назустричь[220] недоле, - выдохнула полонянка.
Северянин южанку не совсем понял. Не успел рта раскрыть - спину будто ножом полоснули. Обернулся и получил под лопатку новый додаток боли. Сурбарь орудовал волкобоем монотонно, будто отгонял слепней. По щекам галичанки-соседки потекли слезы сочувствия. Род сообразил, что наказан за разговор. Молчание не избавило от ударов.
- За что? - крикнул он.
Железная бляшка вновь выдрала кусок кожи на пояснице.
- Не промолвляй, - посоветовала соседка.
Он уже не оборачивался, не кричал, а удары сыпались с равномерными промежутками, и слепни по- шакальи облепляли кровоточащие раны.
«…Топору, ножу, рогатине, кинжалу, пращам, стрелам, борцам и кулачным бойцам быть тихими, смирными, - возникали в памяти истязуемого слова заговора Букала, - …сокройтесь от отрока Родислава». Ах, Букал! Забыл о тенетах, биче-волкобое… о чём там ещё?
Уф, новый удар! Не равнодушный, а любовный, с оттяжкой. « Кто из злых людей его обзорчит… околдует и испрокудит, у того бы глаза изо лба выворотило в затылок…» Ах, Букал! Изрубят бродники атамана Невзора в куски, выворотит угольковые очи Текусы огонь большого костра… Разве Роду от того полегчает? Разве чужая поздняя кара избавит его от мук? Поздно казнить того, кто прежде казнил других. Надобно изобрести такой заговор, чтоб самая мысль причинить страдания обрушивала на ката каряющую десницу. Вот защита невинному!
Наступила степная южная тьма. Пешие повалились кто где шёл. Конные развели поодаль костры. По-звериному дико звучали крики умыкаемых на ночь полонянок. Сурбарь тащил за косы извивающуюся соседку Рода. А тот, пав ничком - руки за спиной, - ничем не мог ей помочь. И это удесятерило страдания. Кажется, сбывалось предсказание Текусы: «Скоро, очень скоро твоё истерзанное тело с открытыми ранами, с клочьями кожи будет лежать на горячем песке». Не хватало ещё могильника-стервятника. Зато гнус как на мёд набросился на свежие раны, исторгая из Рода звериный рык. Кто-то сердобольно прикрыл его голую спину старой понкой.
Утром чужую понку пришлось с кровью отдирать. Род уж не замечал, кто идёт с ним рядом. Опухшие от ночных страданий глаза почти ничего не видели. Первый удар бича-волкобоя резко всколыхнул тело. Последующие удары воспринимались тупо… И вдруг они прекратились. Истерзанная спина ждала, но лишь прохладный ветерок ласково прохаживался по кровоточащей бичовой пашне. Слепни до полуденного жара не беспокоили. Род с трудом метнул воспалённый взгляд обочь и не обнаружил Сурбаря. Очень хотелось сообразить, что могло произойти, а сил не было пораскинуть мозгами.
Внезапно Род ощутил, как мощные лапы обхватили и вскинули его, словно сноп. И вот он уже болтается на чужом плече. Вот он положен опухшим лицом в свежее, душистое сено. Скрипнули под ним колеса арбы, это переступила с ноги на ногу конная пара.
Зззык! Зззык! - трудится за его спиной мелкая пила.
- Поосторожней, дубина стоеросовая! - льётся целебным снадобьем в сердце голос Чекмана, от волнения чисто произносящий русские слова.
- Мне не уметь? Ежедён оковы пилю. Рука не порежу, - бубнил на ломаном русском перевоплотившийся из дьявола в ангела Сурбарь.
Чуть подняв голову, Род увидел собранную гармошкой рубаху на половецком брюхе. А на поясе… Юноша не поверил глазам: на поясе Сурбаря - серебряный кинжал с дорогими каменьями и редким харалужным лезвием, подаренный Итларю отцом за успешную погоню и поимку убежавших пленников, одного - мёртвым (бедный Беренди!), второго - живым (будешь знать, Род, как бегать!). И вот этот самый кинжал - на поясе Сурбаря!
- Париказала… она… париказала, - бормотал Сурбарь.
- «Па-ри-ка-за-ла!» - передразнил берендей, - Что это, люди, что ли?
- Чекман, - еле прохрипел Род, - посади меня… дай попить.
Княжич поднёс к его запёкшимся устам полный турсук[221] кумыса. Освежающая пенная влага наполнила исстрадавшееся тело блаженством.
- Бакшиш… бакшиш, - напоминал Сурбарь.
- Он украл мой крест! Материнский нательный крест! - из последних сил возмутился Род.
- Верни что украл, - приказал Чекман. - Тогда получишь бакшиш.
- Ничего не украла! - взмолился Сурбарь.
- Тогда получишь кинжал под печень, - осадил его ложь Чекман, - Куда цепь снимаешь? С цепью давай.
Надев крест на шею спасённого юноши, он презрительно кинул половцу звонкую мошну, тот поймал. А берендей уже промывал и лечил раны друга.
- Чем пользуешь? - спросил Род.
- Ай, терпи, дорогой. Это снадобье черных клобуков.
Чекману помогал кучерявый плосколицый богатырь с редкой, как выщипанной, растительностью на узком лице.
- Кто он? - спросил Род.
- Байбачка, - хлопнул княжич богатыря по слоновьим мускулам, - мой пленный булгарин. По-вашему ни бельмеса не смыслит.
- Никому не показывай, какая сторона еду, - просил Сурбарь.
- Пошёл прочь, шакал! - вне себя заорал Чекман. - Мой меч тоскует по твоей толстой шкуре.
Половец шмыгнул носом, сузил колючие глаза и, развернув коня, устремился в степь.
Чекман торопливо сказал Байбачке несколько слов на своём языке. Тот подал лук. Княжич положил стрелу и натянул тетиву.
- Не смей! - остановил Род. - Это будет нечестно.
- Шакалам стреляют в спину, - опустил лук Чекман.
- Это не шакал, - молвил Род. - Это взбесившаяся рысь, терзающая беззащитную жертву на сытый желудок. Сразить его стрелой - слишком милосердно. Нынче же ночью сдерут с него кожу под пытками, отсекут руки одну за другой, а к утру обезглавят.
- Как ты такое знаешь? - удивился Чекман.
- В его катских глазах прочёл. Пусть судьба исполнится, - сказал Род.
- Я бы ещё с Сантуза и Текусы кожу содрал, - признался княжич и прищёлкнул языком: - Руки коротки!
Отложив оружие, он сел на арбу. Байбачка оседлал запряжённую коренную. Род снова улёгся на живот.
- Чекман, тебе надо бежать. И Итларю тоже, - подал юноша слабый голос. - Сурбарь под пыткой выдаст.
- Мы уже бежим, друг, - бодро отозвался княжич. - А Итларь вместе с Тугорканом ещё вчера ускакал, - И, прицокнув сожалеюще, берендей прибавил: - Уй, как хочется отомстить!
- Судьба всем отомстит, - пообещал Род. - Всем, кто обрекал… всем, кто мучил…
Тем временем медовое сено одурманивало, сладко усыпляло. Он уже не разбирал гортанной речи Чекмана. Даже не осведомился, куда путь держат. Огромные колеса половецкой арбы приятно наскрипывали родную окскую песню.
БРАТОБОРЦЫ
1
Месяц дважды нарождался и созревал, пока Род наконец выпростался из больничного одра и вышагнул из избы об руку со своим костылём и сиделкой Агницей. Агница, вдова, потерявшая мужа при последнем из половецких набегов, жила одна. К ней Чекман и устроил на излеченье страдальца-битыша, что и на спину лечь не мог, и почти не владел ногами. Молодайка с красивым, если бы не рябым, лицом приняла данную наперёд мзду и тут же обзавелась коровой. Стоная на жёстком волосяном матрасе, Род услышал сквозь приоткрытую дверь монотонное цырканье на крытом дворе. «Что это?» - крикнул он, зная об отсутствии скотины у бедной вдовушки. «Это четыре сестрицы в одну лунку ссут», - был голосистый ответ. С тех пор Род остерегался языкатой хозяйки. Она отпаивала его парным молоком, да вряд ли так скоро выходила бы, не помоги трава-молодило. По его описанию женщина нашла точно эту траву. «Понятливая!» - похвалил постоялец. «Выдумал - молодило! - ворчала Агница. - У нас её называют заячья капуста, или утробышень. Листик неказистый на вид, а сочный! - Она поиграла грудями и, взглянув на уткнувшегося в подушку больного, вздохнула: - Ничего, ничего. Потерпим». Помимо утробышня молодка, подсаживаясь, впихивала в него по чуть-чуть ещё какое-то зелье. «Что ты заставляешь меня глотать?» - возмущался Род. «Ничего дурного, - успокаивала хозяйка. - Молодую крапивку мелко истолкла, подмешала уксус с яичным желтком, посолила, сварила… Очень укрепляет мужскую плоть. А тебе это сейчас надобно». - «Может, ты меня ещё любжей[222] хочешь приворожить?» - подозрительно косился на неё Род. «Зачем? - удивилась Агница. - Любжей нечестно. Поправишься, и так сумею подбаять[223].
С наступлением темноты долго сумерничали, Агница берегла деревянное масло в светце. Выздоравливающему был приятен их неспешный задушевный разговор, предваряющий сладкий сон. Юноша поведал своей целительнице о лесной жизни на Букаловом новце, о боярских хоромах Кучки, о полонившей сердце Улите, о бродниках, о половецкой неволе… «Ох, боярин, - вздыхала Агница, - у нас, обельных[224] крестьян, что ни день, как грош, на другой похож. А твои дни - то гривна, то верт[225], успевай соображать!» - «Расскажи-ка, милая, как шла замуж», - интересовался юноша. «Ох, что же тут рассказывать, - по-иному вздыхала Агница. - С вечера девка, со полуночи молодка, а по заре хозяюшка. - Рода развеселил такой ответ. - Пролюбились мы годок, - ворочалась на голбце юная вдова, едва ли года на три старше своего постояльца, - полюбились мы годок… и вот…» Род стал не рад своему любопытству.
В завершающий день каждой седмицы Агница принимала гостей. Она и прежде предоставляла свою избу девицам и парням для разудалых бесед, принимая за это щедрые подношения. Выхаживая больного битыша, молодка вдова не изменила привычному гостеприимству, хотя Роду эти беседы явно не нравились. Не знающий игрищ лесовик поражался их грубости. Вот парни лупят увёртливых девок по задам хлебной лопатой или обрезком доски - играют «в блины». Вот заглядывают в рот девкам, а потом бьют их по пяткам, зажав ноги в коленях - играют «в кобылу», выбирают её и подковывают. Вот парень под рыжей понкой сгибается в три погибели, бегает по избе, выставив бычьи рога, и бодает девок, задирая рогами подолы, - игра «в быка». Памятуя слышанную в Кучкове пословицу, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, Род ни слова не проронил Агнице о крепнущей неприязни к «беседам». Лишь однажды не выдержал. Да и то потому, что хозяйка первая завела речь: «На меня, постылую, не глядишь, а к Апроське так и липнешь глазами!» Апрось, смуглая южанка с иконописным ликом, была молчалива и до игр неохоча. Обычно она сидела на коробе у окна и не сводила задумчивых глаз с молодцеватого Орлая, хищно парившего над ней. «Почему она терпит от него такие охальные слова?» - возмутился Род, не обращая внимание на ревность своей хозяйки. Агница заинтересовалась: «Какие такие слова?» Род, краснея, повторил слышанное: «У тебя ирбит, у меня ирбит, пойдём вместе поирбимся». Вдова-молодка расхохоталась: «Да это ж он предлагает поискаться в головах друг у друга. Так наши парни девок подначивают. А ты что подумал?» Сбитый с толку Род вместо ответа вспомнил другую ненароком услышанную молвку Орлая: «Размахну махнушку, суну голыша». «Да это ж он пообещал рукавицу натянуть на руку, - хохотала Агница, - чтобы Апроську салить было не больно. А ты что подумал?» - «Уф! - отвернулся Род, - Прости, ваши словеса у меня не введоме». Хозяйка кинула ему на постель штаны: «Натяни раскоряку на пердяку, я истопила баню, мыть тебя поведу. Семь седмиц не мытый. Пора уж».
Род вспомнил, как в первый же день Агница, истопив баню, чуть ли не на себе принесла туда битыша и с оханьями, причитаниями мыла его, окровавленного, как мать дитя. Сейчас при словах о бане взор её зажегся иным огнём. Потому юноша сказал: «Выдь, пока оденусь. Доведёшь до двери, сам помоюсь. Я почти здоров». Вечер был банный: завтра день Семена-летопроводца. Лето провожать - осень встречать. Большой праздник!
Вот и вышагнул в канун праздника из избы на окрепших ногах Род, правда ещё об руку со своей сиделкой Агницей, но с долгожданным ощущением здоровья и силы в теле.
- За что в нелюбках держишь? - упрекнула молодка, расставаясь с ним у банной двери, источающей струйки пара.
- Ведомо же тебе, что люблю другую, - попытался объяснить Род.
- Кто любит девушек - на мученье души, кто любит молодушек - на спасенье души, - назидательно возразила Агница и ушла.
«Вот незадача! - сокрушался уставший от молодайки юноша, хлеща веником на полке' и грудь, и живот, а зажившую спину ещё не трогая. - Угораздило же Чекмана поручить меня безмужней молодке! Хотя кто бы усерднее её исцелил мои телесные раны? Да, чего доброго, не получить бы от целительницы раны душевные. Чекман предвидел в этом не муку, а удовольствие. Его вины нет». Род утешил себя надеждой на скорое расставание. Добрый конь, оставленный для него Чекманом, кормится на крытом дворе у Агницы по соседству с коровой. А как молодайка радовалась своей покупке, получив гривну за постояльца! «Корова - сорок резан, кобыла - шестьдесят, вол - гривна. Зазнамо, я привела корову!» - приговаривала она.
Род вдосталь окатился дождевницей[226] из большой куфы…
Агница посреди избы гляделась в обломок оловянного зерцала.
- Отчего старый стареется, а молодой не молодеет? - спросила она.
Род тяжело вздохнул: завела баба снова да ладом!
- Ты бы справного чернедь-мужичка[227] нашла в вашем Долгощелье, - посоветовал он. - Бобыль Кузёмка Ортемов чем тебе не муж?
- Млявый[228] он, - отмахнулась Агница и сама вздохнула тяжелее, чем её постоялец, - Млостно[229] мне. Сердце изнемогло тоскою.
- Не в силах ты после мужа никого полюбить? - сочувственно предположил Род.
Отбросив зерцало, Агница глянула на него как ш несмышлёныша.
- Я-то любкая, да любовальщиков нет.
В колеблющемся сиянье светца хозяйка показалась Роду красавицей.
- А, - подбоченилась она. - Я живу по такому правилу: люби - не влюбляйся, пей - не напивайся, играй - не отыгрывайся! А то ведь любовь безумит… - И принялась собирать на стол.
- Вчера была каша с рыбьей головизной да лапша с перцем, - уныло напомнил юноша, глядя на выставленные яства.
- О вчерашнем говорить поздно, а нынче среда, - напомнила Агница. - Надо жить говейно[230]. Потому нынче шти да каша с головизною осетрёю, да рыба срелядь, да огурцы в меду. - Она перекрестилась на икону и прочла молитву, закончив: - Благослови ястие и питие рабов Твоих!
Стерлядь юноше пришлась по душе.
- Вкусно снарядила, - похвалил он.
- Ряженое яство суженому ясти, - к слову вставила молодка.
- Какой же я тебе суженый, - резонно возразил Род. - Не греши, не скоромничай.
- Скоромиться грех, а нечаянно оскоромишься - Бог простит, - тут же нашлась Агница и продолжила: - Слышал? Бежала мышка: «Кот Евстафий, ты постригся?» - «Постригся». - «И посхимился?» - «И посхимился». - «Пройти мимо тебя можно?» - «Можно». Мышка побежала, а кот её цап! «Оскоромишься, кот Евстафий!» А кот: «Кому скоромно, а нам - ка здоровье!» - Пока юноша смеялся, молодка ласково смотрела на него, затем сообщила: - Мой Митроша, бывало, ест, приговаривает: «Яство сладенько, да ложка маленька». А моя душа так и млеет радостью. Вот и ты ешь с голоду, а люби смолоду.
- Не горазд я любовничать, - молвил Род.
Агница тряхнула серьгами-одинцами, позолоченными, с красным каменьем, и стала убирать со стола.
- Ах, пободрствовать бы с таким молодцом, как ты, до самого третьего петлоглашения! - мечтательно произнесла она.
- Третье петлоглашение на рассвете, - напомнил Род. - А завтра ведь сызнова разудалая беседа в твоей избе. Надо мыть полы да скоблить столы.
Хозяйка принялась расстилать постели. Налитые икры в узорчатых ноговицах[231] так и замелькали перед глазами юноши.
- Опять сядет на этот короб засидуха[232] Апрось, - ревниво скосилась в сторону постояльца Агница. - Только уж завтра парни девок хаплять не станут. Мух будем хоронить.
- Как? - удивился Род.
- Увидишь как, - задула она светец. И когда оба улеглись, он - на лавке, она - на голбце, Род услышал особенно сладкий голос одинокой молодой женщины: - Вино любит в жилах, банный пар любит в костье, а я полюблю… я полюблю… во всем твоём естестве!
Он слышит: она покидает высокий свой одр и ступью пересекает тёмную избу… Вот невесомые шаги-призраки замерли близ него. Он слышит её горячий запах, от которого млость[233] пробегает по всему телу. Испуганный разум соображает, как встретить её, чтобы, бережно оттолкнув, не обидеть.
Вдруг послышалась уж не ступь - откровенные шлепки босых ног. Они быстро удалялись. Избяная дверь хлопнула. Уставший после банного дня выздоравливающий облегчённо перевёл дух, отвернулся к стене и заснул крепко-накрепко.
2
Ох и суматошная «беседа» разыгралась в Семин день в Агницыной избе! Девок и в самом деле, по хозяйкину выражению, не «хапляли». Не гнали любопытных ребятишек с полатей, чтобы не видали соромностей. Не визжали от сладкой боли участницы игр «в блины», «в быка», «в гуся», «в кобылу». Девки и парни, вооружённые рукотёрниками[234] и штанами, став на четвереньки или подпрыгивая, неленно излавливали тараканов и мух, для которых на лавке были приготовлены гробики, сноровисто вырезанные девичьими руками из репы, брюквы, моркови. В них погружались и закрывались по нескольку насекомых. Не участвовали в этих весёлых похоронах лишь две пары. Красавица Апрось, брезгливо глядевшая на суматоху с высокого сундука, а рядом с ней недовольный Орлай, тщетно уговаривавший невесту принять участие в общем действе. И на другой стороне на лавке рядышком - Род и Нечай Вашковец, местный кузнец, редкий участник молодёжных «бесед», намного опередивший всех возрастом, хотя ещё не женатый.
- Дивлюсь не надивлюсь, - развёл руками Агницы н постоялец.
- В ваших северах такого не водится? - усмехнулся Нечай. Род помотал головой. Кузнец томно потянулся. - Ух, налюбился я всего этого! Хоть война бы, что ли.
- Не накличь ради Сварога, - остерёг Род и осёкся, видя, как подозрительно Вашковец глянул на него.
- В ваших лесах старая вера ещё жива? - истиха спросил кузнец.
- Кое-где жива, - сгорбился Род.
- У нас на Руси вывели под корень, - сообщил Нечай, то ли сожалеючи, то ли радуясь. - Вон гляди, - кивнул он на веселящихся. - Сейчас с плачевопльствием понесут мёртвых из избы, а живых будут выгонять рукотёрниками и штанами, приговаривая: «Муха по мухе, летите мух хоронить!» - или: «Мухи вы мухи, Комаровы подруги, пора умирать. Муха муху ешь, а последняя сама себя съешь!»
- Для чего это все? - удивлялся Род. - Истопи избу ясенем получше и вмечи в печь конопляных головищ. Как поспеет семя, изомрет всякое нечистое.
- Легко советы давать, а где ясень взять? - прищурился Нечай. - Мы на плоскоместье живём, у нас лесов нет.
- А почему ваше село называется Долгощелье? - поинтересовался Род. - Вроде и гор тоже нет.
- Длинный овраг за селом, вот тебе и долгая щель, - пояснил кузнец.
Тем временем девицы приготовились к выносу гробиков, а парни - к размахиванью штанами.
- Почему нет рукотёрников в руках, а только штаны? - заметил наблюдательный Род.
- Штанами надёжнее, - ответил Нечай. - Муха, выгнанная штанами, навсегда теряет охоту возвращаться в избу.
Однако до плачевопльствия на сей раз не дошло.
В избу вбежал однорукий Вторыш Зырян и оповестил:
- Вестоноша из Киева!
Все общество высыпало на улицу. Гробики с насекомыми полетели в траву.
На поляне у избы старосты Васяты сидел на пеньке старик. Поодаль вороной жеребец, утопив морду в торбе, жевал овёс.
- Это вестоноша Олдан, - пояснил Роду Нечай, - Он носит нам свежие вести из больших городов.
Почитай, все Долгощелье собралось на скошенной луговине. Знобкий осенний ветерок шевелил космы старика. В шапку, опрокинутую у его моршней, полетели монеты.
- Первого серпеня[235] преставился великий князь Всеволод Ольгович, - гулким голосом повествовал старик. - Брат его Игорь Ольгович сел на великокняжеском столе. Киевляне собрали вече. Тиуны великокняжеские Ратша и Тудор примучивали народ. Новый государь на общий позов не откликнулся, объявился нетчиком[236], прислал брата Святослава Ольговича. Горожане кричали: «Ратша опустошил Киев, Тудор - Вышгород!» Государев посланец крест целовал, что хищники не останутся тиунами. Однако государь преступил эту клятву. К дворам Ратши и Тудора приставил крепкую обережь. Хищники сызнова расправили свои лапы. Народ решил, что клятвопреступник не есть истинный государь. Тайные послы устремились к Изяславу Мстиславичу.
- Тому, что в Переяславле? - спросил Вторыш.
- К сыну Мстислава Великого из Мономахова рода, - кивнул старик.
- По закону бы надо к Вячеславу в Туров послать, - вмешался староста Васята. - У него Ольговичи киевский стол засели[237], подвергли законного государя измёту.
- Мляв больно Вячеслав, - возразил седой Олдан. - А племянник его Изяслав - герой.
- Каков из себя? - спросил Вашковец.
- Ростом мал, - отвечал вестоноша, - а лицом хорош. Волосы кудрявые, борода круглая…
- Ай да князь! - щёлкнул пальцами Орлай.
- Подступил он к Киеву, - продолжал Олдан, - а Игорь, клятвопреступник, вышел ему навстречу. Верил в преданность киевлян! А народ обманутый не встал за своего государя. И бояре-советчики, что подучивали оберечь Ратшу с Тудором, переметнулись к сильнейшему.
- А тысяцкий Улеб? А Иван Войтишич? А Лазарь Саковский? Верные слуги киевских государей! - не поверил староста Васята. Видно, подолгу он живал в Киеве, всех бояр знал наперечёт.
- Даже Василий Полочанин, старец - в чем душа держится? - тоже затрусил к Изяславовым знамёнам, - вскинул бесцветные глаза Олдан, и засветился в них огонёк его дальней юности. - Мы, горожане, стояли на могиле Олеговой. Как увидел Игорь Ольгович вражеские знамёна в наших рядах… Другой бы наутёк, а он - нет! Раненым пардусом бросился на Изяслава, отчаянная голова! Да надлежало озерцо обойти, а проход был узкий между озером и болотом. Черные клобуки зашли в тыл, Изяслав напал спереди, вот и сбили крупную Игореву дружину в мяч[238], как сокол сбивает галок. Сам-то Игорь Ольгович ногами слаб. Конь его в болоте увяз, а он слезть не смог, так и взяли, сердешного, под белы руки, восемь дней продержали в монастыре на Выдобичах, а после в Переяславль увезли и - в пору б!
- Государь… сидит… в порубе? - ужаснулась Апрось.
- Нынче на великокняжеском столе новый государь - Изяслав Мстиславич, Мономахов внук! - громко объявил вестоноша.
- Неужто все бояре изменили наследнику Всеволода? Ведь ещё при нем целовали крест! - напомнил староста Васята.
- Не все изменили, - уточнил Олдан. - Данило Великий, Юрий Прокопьич, Ивар Юрьич оставались верны. Они были пояты кметями Изяслава, да выпущены за окуп.
- А сын умершего государя Святослав Всеволодич? - спросил Нечай Вашковец, заметно волнуясь.
- Ты знавал его? - догадался Олдан.
- Служил среди его обережи в Киеве. Светлый молодой господин.
- Умом светел, - вздохнул вестоноша, - судьбою тёмен. Тоже был взят за приставы. Да новый государь к нему оказался милостив, отпустил, обласкал. Теперь сын Всеволода вокруг него ездит.
- Ну и дела! - развёл руками кузнец.
- А брат несчастного Игоря, наш-то Святослав Ольгович, на воле? - спросил староста Васята.
- Избег тесноты[239] ваш Святослав Ольгович, - кивнул Олдан. - Устремился в Чернигов к двоюродным братьям Давыдовичам помоги на супостата искать. Те вроде обещали. Нынче он в своей вотчине Новгороде-Северском собирает рать. И вспоможенник самый крепкий у него есть. На Давыдовичей-то надёжа как на весенний лёд.
- Какой самый крепкий? - спросил Вашковец.
- Суздальский Гюргий в старом немирье с племянником Изяславом, - объявил вестоноша. - А нынче и того паче. Он с севера тянет руку Святославу Ольговичу. Прежде меж ними холод стоял, теперь же родственные узы выставлены на свет: оба на половецких сестрах были женаты.
- Так, так! - вспомнил староста Васята.
Апрось заплакала:
- Опять немирье! Опять зыбёж!
Старик ссыпал в кожаную калиту содержимое шапки и поднялся.
- Благородному Лукашке на рубашку, - примолвил он, идя к своему коню. - Мне ещё посветлу в Крутовражье надо поспеть, в Свенчаковичи да в Гостиничи…
Долгощельцы медлили расходиться, грустными глазами провожали вестоношу до окоёма.
- Усобица! - мрачно прервал всеобщее молчание староста. - Стало быть, жди от нашего князя позовника.
- А он уже недалече, - возвестил Род.
Все удивлённо обернулись к нему.
- Кто недалече? Что этот чужак мелет? - рассердился Васята.
- Ты чего, Родислав? - озаботился Нечай Вашковец. - Агница беленой обкормила?
Выздоровевший битыш глядел в сторону, противоположную умчавшемуся Олдану.
- Добрый конь скачет! - заметил он.
Лишь самый зоркий из всех, Орлай, углядел облачко пыли на окоёме.
- Ну и чужак! - хлопнул себя по ляжкам Васята. - С таким чужаком в походе - как с вожаком! Оставайся-ка с нами, парень, - обратился он к Роду. - Женись на Агне, будешь наши глаза и уши.
Всем бы повеселиться такому лестному предложению, но стало не до веселья, когда разглядели близкого всадника. Вот уж богатырь так богатырь! Голова - ковуном, плечи - матицей, грудь - городницей[240], глаза - навыкате, впереди летят. Кафтан под стать княжому бирючу - все петлицы с золотою тесьмой.
- Здоровы ли, люди добрые? - гаркнул он, не соскакивая с гнедой кобылы.
- Поздорову ли прибыл? - спросил Васята.
- Я кликун вашего господина Святослава Ольговича! - с ухарской гордостью сообщил прибывший.
- В нашем Северском уделе таких кликунов не видывали, - растерялся староста.
- Так глядите во все глаза! - завопил новоиспечённый бирюч, - Я Огур Огарыш. Прибыл в Новгород-Северский из самого Киева. Споспешествую вашему государю киевских крамольников изводить под корень.
- А не самозванец ты? - насторожился Васята.
- Кто этот человек? - ткнул пальцем в старосту приезжий.
Долгощельцы обиженно зароптали.
- Ух-ух-ух-у-ух! - прокричал филином чужак Род. И все взоры обратились к нему, - Ты, Огур Огарыш, не главенствуй сверх меры, - посоветовал юноша богатырю, - Тут тебе не гимнасий русской борьбы. Без правил намнут бока! Один богатырь, даже такой, как ты, десятка богатырей не стоит.
- Как знаешь меня? - удивился Огарыш.
- Как знаю, объяснять долго. Лучше слезь с кобылы и изложи скромно свою послугу[241]. А вы, - оглядел Род долгощельцев, - верьте этому витязю. Он второй в наших землях мастер рукопашного боя.
- Почему я второй? - удивился Огарыш, спрыгивая на землю, - Кто первый?
- Суздальский бродник Бессон Плешок, - ответствовал Род, - будет первый.
- Ладно, это мы позже выясним, - хмуро пообещал бывший оружничий тысяцкого Улеба. - Вот у меня повеленная грамота, - достал он из-за пазухи свиток, - Кто староста? - К Огарышу подошёл Васята. - Грамоте вразумлён? Читай!
Грамотей из Васяты, видимо, был неважный. Он долго шевелил ссохшимися губами, прежде чем поднял глаза от свитка.
- Хороша война за горами, - откликнулся мужской голос из толпы.
Не обратив на это внимания, староста стал указывать пальцем:
- Ты выходи… ты… ты… ты…
Вышли и Вашковец, и Орлай, и ещё десятка два парней - гордость и опора Долгощелья.
- А ты, харястый, чего прячешься? - углядел Огур Огарыш дюжего Зыряна.
Вторыш вышел из толпы, тряхнул правым рукавом.
- Я ещё бы воевал, да воевало потерял.
- А ты, ведалец-бывалец голоусый? - Огарыш смерил неприязненным взглядом Рода.
- Говори со мной толком, чужой холоп! - возмутился Род. - Перед тобой не чернедь-мужик, а Родислав Гюрятич Жилотуг, суздальский боярич.
- Ах ты сучий потрох! - завопил Огарыш, наконец найдя на ком сорвать накопившуюся зледь против неприветливой толпы, - Я т-тебе покажу «чужой холоп»!
Он быком ринулся на юношу, надеясь на увесистый кулак. Кулак был ловко перехвачен. В следующий миг этот второй борец земель славянских залился кровью из разбитой переносицы. Букалов заговор против кулачного бойца подействовал отменно.
- Так не дерутся, - заслонил рукой лицо Огур Огарыш.
- Так не нападают, - повернулся Род спиной.
- У тебя рубаха вся в крови, - остановил его Нечай.
Сняв рубаху, обнаружили, что в одном месте чуть поджившая кожа все-таки лопнула от натуги при схватке с Огарышем.
- Все равно поедешь к Северскому князю, - пробубнил Огур, - там сейчас силачи нужны.
- Что? - не слишком-то расслышал Род.
- Шипит под нос, как блинный подмаз! - поддержал его однорукий Вторыш Зырян, не зависимый от княжеского кликуна.
- Он не нашего села. Чужак. На излечении, - объяснил староста Огарышу. - Изготовили ему в половецком плену биток во весь бок…
- Что за дело? - оборвал Васяту злопамятный держатель повеленной грамоты. - А, ты ведь суздалец? - взглянул он мстительно на Рода, словно раненный клыком медведь на вепря. - А Гюргий, князь ваш, северскому Святославу пособник. Чуть не ежедень к нам шлёт послов. Вот я и передам ему: боярин Жилотуг в твоём поможье не участник.
Род закусил губу. Он сразу вспомнил битву с новгородцами… Где?.. У Ждановой горы много лет назад. Гюргий подколенников скликал на эту битву. А Гюрята Жилотуг сказался нетчиком. С того началась ужасная судьба его семьи.
- Я еду, - твёрдо сказал Род и, отвернувшись, пошёл прочь.
Агница настигла его у своих ворот:
- Ты что?.. Куда тебе?.. Сдурел?
Род молча вошёл в избу и лёг животом вниз на лавку.
Хозяйка спешно заметала, замывала следы недавних гостей в своём жилище, потом бросила голик и тряпку, остановилась над подопечным и заявила:
- Не отпущу!
Род сел, благодарно посмотрел на молодую женщину:
- Помозибо, Агна, за уход, за ласку, за хлеб-соль. Есть у меня важная причина слушаться этого дурачливого быка. На слово поверь.
Хозяйка вышла подоить ревущую корову. Потом повечеряли парным молоком. Она не спрашивала больше ничего, до полной темноты пекла в дорогу пироги и опять улеглась молча на голбце. Род берег спину, лёжа на боку, и горько думал о несбывшейся мечте скакать на север через реки, сквозь леса, туда, где Старо-Русская дорога приводит к Красным сёлам, где в тереме Улита, а в лесу Букал - две близкие души, кто его ждёт, кого он любит.
Внезапно ощутил он губы Агницы на своих губах.
- Подвинься… ещё чуть-чуть… Не хочешь? - звучал дрожащий шёпот над его лицом, - Ускачешь на войну, старуха там сойдёт за молодуху… Возьми меня хотя бы на любок[242]… А, вот как, значит? Боярин не желает кровь мешать с мужичкой, так? - Приникла вихрем, вихрем поднялась, - Ой, прости, забыла! Как тебе меня в нелюбках не держать? Я же совсем рябая! Не с моей же рожей к такому-то красавцу… - Наступила тишина. Потом сквозь всхлипывания Род различил слова: - Митроша приговаривал, что повечер я, как русалка, хороша. При светце моих рябин не видно. Теперь же вовсе темь кромешная… Дверь на заложке… Поутру расстанемся на веки вечные… Я пшено на молоке варила, смотрела, как кипит, гадание у нас такое… Все у тебя будет хорошо. И с суженой своею встретишься, с боярышней… Молчишь, не отвечаешь… Неужто излюбилcя[243] весь? Ведь голоус ещё!
Род в темноте нащупал её руку.
- Не излюбился я, дуравка. И не боярством я кичусь. И вижу красоту твою не только на лице - в душе. Не будь её, мне не было бы исцеленья.
- Так что же? Что же? - перехватила его руку Агна.
- Помнишь, любопытничал, как замуж шла? - Род перевёл дыхание. - Я тоже так хочу: с вечера - парень, с полуночи - мужик, с утра - хозяин. Чтоб моей первой была суженая… Ты прости!
Агна отняла руку. Помолчала. Он ощутил на щеке сестринский горячий поцелуй… Немного погодя скрипнула приступка на голбце…
С рассветом отряд конников, вооружённых палицами, сулицами, булавами, выстроился за околицей.
- Ну, паличное воинство, дубинники, ослопники, будет от вас князю толк? - спрашивал староста Васята.
- Будет, коли нас сделаете лучниками, копейщиками, пращниками, - отвечал кузнец Нечай.
- Помолодцуемся! - кричал Орлай, потряхивая старым бердышом.
Лишь Род один сидел в доспехах, при оружии - подарке прозорливого Чекмана.
- Небо замолаживает![244] - волновалась Агна возле его стремени, глядя в набухающие тучи.
- А вожак у вас отменный! - любовался Родом староста Васята. - Поручаю тебе, добрый молодец, своих селян. - И махнул рукой: - Ну, с Богом!
Что тут началось! Бабы, девки завопили. Исказив прекрасное лицо, Апрось бежала за Орлаем, причитая во весь голос:
О-ё-ёюшки, голубчик мой сизенький! О-ё-ёеньки, я погляжу, посмотрю, О-ё-ёюшки, на тебя, на соколушка! О-ё-ёеньки, собираешься, светик мой, О-ё-ёюшки, не по своей-то охотушке, О-ё-ёеньки, да на чужу сторону. О-ё-ёюшки, оставляешь, соколик мой, О-ё-ёеньки, меня одну-одинёшеньку!- Вот тебе плачевопльствие! Всамделишное, не вчерашнее, - истиха произнёс Нечай Вашковец, едучи рядом с Родом.
Юноша невольно подумал, что Огур Огарыш с тем же плачевопльствием набирает сейчас отряды в Свен чаковичах, Гостиничах, Крутовражье…
- Ведом ли тебе верный путь на Новгород-Северский? - спросил он Нечая.
- Орлаю ведом, - отвечал Вашковец. - У него там дядька держит мучной лабаз.
Род обернулся, когда кони перешли на рысь, и напоследок увидел плачущее лицо Агницы. Страшную судьбу накануне повечер прочёл он в любящих её очах, да ничего не высказал. Не смог. Теперь сжималось сердце: не такова ли судьба всего, враз обессиленного, Долгощелья?
3
На пятом поприще притомились и кони, и люди. Неведрие питало серостью и надежды, и помыслы. Кузёмка Ортемов с Корзой Рябым перестали вспоминать Долгощелье и замолчали. Погрузился в невесёлые мысли и Нечай Вашковец, а Род потерял толкового собеседника. Один Орлай молодцевал впереди отряда, то и дело оборачиваясь, сверкая жемчугами зубов.
- Штой-то за загадка: што под яйцами гладко? - орал он завидным голосом.
- Вот оскомыга![245] - покачивал головой Нечай, - Башка битком дурью утолочена.
- Ха! Сковородка! - не унимался Орлай. И тут же огорошил загадкою поядрёней: - С кончику залупись, красным девкам полюбись. А?
- Засад тебе в горло! - выругался Нечай.
- Да это ж орех! - выдал Орлай ответ на свою загадку. И вдруг застыл, вглядываясь вдаль.
Род невольно повёл глазами вслед и увидел парящего степного орла.
- Свой свояка узрит издалека? - шутливо поддразнил он Орлая.
- Я не стервятник! - обиделся добрый молодец. И тут же указал пальцем в небо: - Вон ещё один… вон ещё…
Род знал степных орлов, но плохо различал их. Стало быть, эти из тех могильников, жрущих стерво, которым обрекала его мстительная Текуса.
Уже все долгощельцы видели черных орлов. Мощные тяжёлые птицы стремились явно к одному месту и снижались неподалёку.
- Орлы мух не ловят. Должно быть, конь пал, - предположил Корза.
- Не слишком ли много на одного коня? - возразил Кузёмка. - Тут, должно быть, еда полакомее.
- А я вон на тот опупок подымусь. Оттуда - как на ладони! - И Орлай устремил скакуна к единственному взгорку в обозримой степи. На его макушке он застыл, как памятник.
Отряд тронулся дальше.
- Дого-о-онишь! - закричал в сторону опупка Нечай.
- Там челове-е-ек! - услышали долгощельцы ответ Орлая. И ещё более удивились его следующему сообщению: - Живо-о-ой!
- Откуда ведомо, что живой? - съехавшись с ним, спросил Нечай.
- Стервятники не жрут. Сторонкой расселись. Ждут, когда помрёт, - задыхался от скачки Орлай.
Отряд на рысях поспешил за ним.
На выгоревшей степной оскалине[246] лицом к небу лежал при полном вооружении воин с половецкой стрелой в стегне. Коня не было близ него. Все спешились, никто не опередил Рода, чтобы склониться над павшим.
Орлы расселись поодаль и нарочито глядели в сторону, лишь одним скошенным глазом выражая крайнее недовольство: ну чего эти бескрылые помешал» некстати?
Не обращая внимания на птиц. Род стал на колени перед лежащим и смущённо оглянулся на долгощельцев. Стыдно было, что птицы издали чуют в поверженном теле жизнь, а он, человек, не чует. Пальцы Рода сжали запястье воина, ощутив слабое биение крови.
- Дайте воды, - обратился он к спутникам.
Нечай поднёс глиняную баклажку.
Род взрезал ножом штаны над стегном подстреленного и сразу же убедился: жизнь - на острие конца. Яд уже господствовал в теле. И все же, не боясь причинить лишние страдания, лесной охотник ловким движением вынул стрелу из синюшной ноги, промыл рану. Воин не шелохнулся.
- Худо? - спросил Нечай.
- Хуже некуда, - сказал Род, - Помоги снять с него шишак и кольчугу с подлатником.
- Не шальная стрела, а прицельная, - отметил Нечай, глядя на незащищённое стегно.
- Отойдите все, - велел Род.
Наложив руки на чело раненого, он долго вглядывался в его лицо, спокойное, как у идола, старался представить себя Букалом, возвращающим к жизни задранного медведем охотника, и голосом волхва повелел:
Не было ни малейшего отклика.
- Очнись!.. Очнись! - требовал Род, напрягаясь до кончиков пальцев, касающихся тяжёлой, ещё тёплой головы.
Глаза обмершего открылись.
Род приник к его уху и явственно произнёс:
- Я еду к Святославу Ольговичу Северскому. Ты кто?
- Несмеян Лученцов, сын боярский, - почти беззвучно зашевелились губы. - Боярин Коснятко передаёт слова: «Князь! Думают о тебе. Хотят схватить…» Запоминай точно: «Князь! Думают о тебе. Хотят схватить… Когда они за тобой пришлют, то не езди… не езди к ним». Передай… государю… слова… Коснятки… Боярский перстень… у меня… за пазухой… Убил… неведомо кто… Умираю… Яд… уже… в груди…
Взгляд погас. Чело было ещё тёплым, а руки уже холодели… Род из-за пазухи убитого достал перстень и повторил услышанное: «Князь! Думают о тебе, хотят схватить. Когда они за тобой пришлют, то не езди к ним». Кто хочет схватить? Куда не ездить? Что за человек Коснятко? Всего этого он ещё не знал.
На печатке серебряного перстня удалось прочитан, две витиеватые буквицы - буки и земля. При чём тут Коснятко? А ведь именно так назвал своего господина несчастный Несмеян Лученцов.
Род поднялся, снял оставленный ему Чекманом шлем с чупруном. Следом обнажили головы долгощельцы и подошли.
Род показал им перстень:
- Боярский посольник к вашему князю.
- Заветные слова успел тебе передать? - спросил Вашковец.
Род кивнул.
Кузёмка Ортемов подвёл коня, тело перекинули через седло, приторочили, и отряд продолжил путь.
Солнце обозначило пладень, когда увидели на просёлке шагающего к большаку мерина, впряжённого в пару берёз. На их ветвях возвышался воз высушенного сена, стянутый бастриком, а на возу - мужик с понукальцем. Такой способ передвижения грузов Род видел и в северных деревнях, не богатых телегами.
- Мы уже, почитай, в подградии, - объявил Орлай, кивнув на гряду соломенных крыш впереди.
Подградье оказалось большим. Наособицу возвышались хоромы за высокими палями.
- Мелтеково? - уточнил Орлай у босоногой девчонки.
- Млитеково, - по-своему назвала она. И, увидев мёртвого на седле поводного коня, бросилась наутёк.
Род почувствовал в её страхе завтрашний день тихого пригородного села. Будто погибший Несмеян - первая жертва, предваряющая горы мертвецов, от которых стаями побегут ревущие мелтековские детишки.
Он пришпорил коня и прежде отряда миновал первую переспу[247], ещё без ворот и без городниц, с лёгким тыном на гребне. Видимо, не готовились северские новгородцы к осаде, а то и вовсе не ожидали её.
Знобко показалось северянину в южном городе. Не бревенчатые, а белёные избы посада напоминали чужую глинобитную Шарукань.
- Слышь! - поравнялся с ним Вашковец. - Не смею пытать тебя о заветных словах посольника. Их князю передашь. А мне подскажи: беда грозит нам от Давыдовичей черниговских?
- Если посольник оттуда, - значит, беда, - сказал Род.
- Откуда ж ещё? - посуровел Нечай.
Оба погрузились в раздумье. Долгощельский кузнец - о предстоящей беде, воспитанник Букала - о нынешнем своём волхвовании. Кончики пальцев ещё покалывало, словно он только что отнял их от чела умирающего. До сих пор ясно виделся взгляд карих глаз, через силу открывшихся его повелительной волей. Смерть отошла, будто он оттолкнул её. И тут же почувствовал пустоту, как живой сосуд, мощным движением выплеснувший из себя драгоценную влагу жизни. Впервые он ощутил такое. Вспомнил, как подставлял мальчишеское плечо Букалу по совершении им тайнодейства. Теперь сам, подобно волхву, обессилел, отогнав, но не прогнав смерть. Это вызвало страх: что с ним? вернётся ли сила? Она возвращалась медленно. Отняв руки от чела Несмеяна, он не смог поднять его тела, чтобы уложить на коня. Укладывали другие. До сих пор кружится голова… Припомнилось, как Букал брал, бывало, старческими пальцами то его запястье, то голые плечи, то виски, и внезапно уныние превращалось в веселье, страх оборачивался храбростью, хворь здоровьем. Букал тут же мыл руки и что-то тихо шептал, поминая имя Сварога. Род позабыл об этом. Оттого долго чувствовал тяготу во всем теле. Отныне и он станет мыть руки. А что шептать? Пораздумав, ведалец вспомнил выученные в Кучкове молитвы…
Вторая переспа была с воротами, деревянной стеной, заборолами, городницами. Ветхие, а все-таки укрепления.
- Черниговские ворота! - назвал сведущий Орлай.
- Где тут княжой дворец? - спросил Род.
- На воротах чердаки и гульбища прописаны краскою червленью, - ткнул Орлай пальцем вперёд. - В чердаках и гульбищах семьдесят восемь окошек.
У дворца всадники запрокинули головы.
- Большие затейники возводили эти хоромы, - заметил Род.
- Определю наших у дядьки, прибуду за вами, - пообещал Орлай.
Нечай Вашковец с поводным конём и страшной поклажей остался с Родом.
Долго объясняли стражникам, кого везут, показывали посольников перстень. Бородачи, уразумев, приказали ждать.
Явился вельможа в горлатной шапке[248], важно потрясая сивой радугой усов.
- Я боярин Пук, пестун княжеский. Кто таковы? Откуда? Чьё тело?
Понадобилось сызнова объяснять.
Нечай был отправлен с телом Несмеяна во внутренний двор, а Род проведён в хоромы.
Бояре и гриди[249] сновали по переходам. Пред важным Пуком все расступались. Вот и княжеские покои, устланные топкими, не нашенскими коврами. Сколько тут знати в золотных одеждах!
- Поклонись государю, - приказал Пук.
- А который же из них князь? - растерялся юноша.
Боярин истиха указал на большеголового кутыря[250].
- Вон тот. На нём опашень-мухоярец[251], пуговицы хрустальны с жемчуги.
После приличествующих поклонов и здравствований Род кратко рассказал о себе, потом подал Святославу Ольговичу перстень и объявил:
- Посольник перед смертью успел передать заветные слова, кои мне надлежит произнести перед тобой, князь.
- Государь! - сердито подсказал на ухо юному неуку Пук.
- Мой государь Гюргий Владимирич Суздальский, - обернулся к подсказчику Род.
- Ох, выйдите все, - повелел густым липким голосом Святослав Ольгович.
Все чинно удалились, кроме мясистого бритого молчуна, изучавшего самозваного посольника мелкими глазками.
- Сын боярский Несмеян Лученцов, сражённый половецкой стрелой, перед смертью просил довести до тебя, своего государя, слова его господина боярина Коснятки, - начал своё посольство Род.
- И что мне передаёт Будимир Зарынич? - нетерпеливо осведомился князь Северский, называя боярина по имени, отчеству, объясняя тем самым буквицы на его серебряном перстне.
Род таинственным голосом произнёс заученное:
- «Князь! Думают о тебе, хотят схватить. Когда они за тобой пришлют, то не езди к ним».
- Слышишь ли, воевода? - Святослав Ольгович прищурил и без того узкие глаза.
- Слышу, да не верю, - пробурчал воевода Внезд, и мешки на его щеках задёргались.
- Оба Давыдовича невдавне сызнова целовали крест на согласье со мной, на поможье мне, - веско заговорил Святослав Ольгович. - Думаю, их крестоцелование несовратно.
Тут воевода вплотную подступил к Роду и мягко, проникновенно спросил:
- А не подослан ли ты киевским зыбёжником Изяславом? Сперва в Чернигов, потом сюда?
Кровь бросилась в лицо юноше. Он не нашёл подходящих слов.
- Ишь, рожа красная, хоть онучи суши, - подметил наблюдательный воевода.
Сомнительно взглянул на посольника и князь Святослав Ольгович.
- Государь, посольник из Чернигова!
- Вот настоящий посольник! - осклабился воевода.
- Постереги самозванца, - истиха велел ему князь, а в дверь крикнул: - Пусть войдёт!
Держа перед собой хоругвь черниговских князей с пластаным орлом, посол, припав на одно колено, произнёс здравицу. Князь ответил. Тем временем бояре сызнова вошли. Седобородый дьяк за налоем развернул свиток.
Посол заговорил торжественно, как бы устами одного из черниговских князей Владимира или Изяслава Давыдовичей:
- Ступай прочь из Новгорода-Северского в Путивль, а от брата Игоря отступись!
Тишина воцарилась гробовая. Нарушили её крики всеобщего негодования.
- Панкрат Писало, ты отразил сии предательские слова? - обратился князь к дьяку, - Теперь отрази мои. - И он ответил ещё торжественнее, ибо обладал более мощным голосом: - Не хочу ни волости, ничего другого, только отпустите мне брата!
Род был потрясён братней преданностью Святослава Ольговича. В теперешний страшный день, когда Игорь Ольгович, несчастный великий князь на час, преданный почти всеми, сидит в порубе где-то в Переяславле, на юге, за Киевом, брат его помышляет не о собственной княжщине[252], не о жизни своей, то бишь накопленном добре, а лишь о свободе единоутробного страдальца. Не ожидал юноша такого самопожертвования от кутыря Святослава Ольговича.
Посол удалился со своим пластаным орлом. Глухо переговаривались бояре. Около Рода ещё некоторое время сопел воевода Внезд, потом бочком отодвинулся и исчез. Сам Святослав Ольгович, выговорив Давыдовичам горькие слова, ушёл во внутренний покой. Род стоял, озираясь, соображая, как поступить. Властная рука легла на его плечо. Обернулся - боярин Пук. Пальцем поманил за собой и провёл в ложню князя.
Святослав Ольгович лежал на низком широком ложе, застланном волчьими шкурами. Указав юноше на лавку против себя, он начал речь густым, тяжким голосом:
- Отовсюду предательство! Вчера Изяслав брату присягал, сегодня бросил его под спуд[253]. Вчера Давыдовичи в дружбе клялись, сегодня грозят войной. Как тут не захворать неверием? - Святослав Ольгович говорил как бы сам себе, лишь при последних словах обратился к Роду: - Не держи обиды. Сам князь перед тобой винится.
- Не достоит[254] мне обижаться, - потупился юноша. И все же высказался впрямую: - Воевода твой скор на приговор.
- Это он вневеды[255], - махнул рукой князь и круто переменил беседу: - О себе расскажи потонку[256].
Юноше показалось, что Святослав Ольгович вполуха слушает, занятый более своим будущим, нежели чужим прошлым. Род ошибался. Князь тут же обнаружил, что не был глух.
- Послужи мне, юный боярин, - попросил он, - Да поусерднее, нежели твой батюшка Мономашичу Гюргию служил.
Это был колкий намёк на неучастие Гюряты Роговича в битве у Ждановой горы. Родислав Гюрятич нашёл ответ:
- Не взыщи за прямоту, государь. Ты не которишься с Новгородом Великим. Я же супротив родной крови не воитель, как и мой батюшка.
Обращение «государь» как бы выражало согласие стать подцанцем Святослава Ольговича. Князь явно подметил это и завёл речь о главном:
- Нынче мне каждый пособник как Божий дар. Поратуем сообща за правое дело. Я милостью не оставлю. Ценю своих слуг не ниже себя. Вот о Коснятке ох как душа болит! Что с ним теперь? Оставлял его у союзников, очутился он у врагов.
Доброта нового господина настолько согрела намыкавшегося яшника, что, позабыв осторожность, он потянулся к перстню Коснятки, положенному князем на грядку[257] у своего изголовья.
- Дозволь, государь, сызнова взглянуть…
Святослав Ольгович удивлённо следил за его рукой.
- Гляди. Для чего тебе?
- Через перстень увижу судьбу боярина, - самонадеянно пообещал Род.
Однако сколь ни усердствовал, ни напрягал волю, ни всматривался внутренним зрением в печатку с буквицами, ничего не видел.
- Что молчишь? Что молчишь? - теребил его князь.
- Лик боярина мне не ведом, - смутился Род. - Мерещится какой-то смерд в пыточной. Шишкоголовый, козьебородый. Более ничего. - И он вернул перстень князю.
Однако Святослав Ольгович не спускал с юноши испуганных суеверных глаз.
- Шишкоголовый?.. Козьебородый?..
- Да, смерд какой-то, как тать на доиске, - растерянно улыбнулся Род. - Нешто это боярин?
Князь робко протянул к нему пухлые руки:
- Подсоби встать…
Род поднял его. Их пальцы соприкоснулись. Величественный кутырь, став на пол, по-простолюдински приоткрыл изумлённые уста и застыл.
- Не отпускай моих рук…
Так они и стояли некоторое время друг против друга.
- Ну и силища из тебя! - наконец молвил князь, - Так и вливается, так и обогатыривает! Уф! - Высвободившись, он приблизил водянистые глазки к большим очам Рода: - Откройся, как на исповеди: ты ведун, выученик волхвов заокских?
Род отпрянул от прямого вопроса, словно от удара.
- Бог свидетель: я окрещён. Согрешил сейчас не для себя. Вылгать[258] не хочу. Объявил, что видел, - И для вящего оправдания юный ведалец повторил: - Лик боярина Коснятки мне не ведом.
Но трясущемуся властелину эти оправдания не были нужны.
- Суздальского Гюргия лик ведом ли тебе? Ведом? Так открой, где нынче Гюргий?
Род молчал довольно долго. Слепо опираясь пятерней о стену, попросил:
- Дозволь сесть…
- Садись, садись, пожалуй, - помог ему Святослав Ольгович поудобнее устроиться на лавке. Сам сел напротив, коснувшись тыквинами своих колен худых ног юноши.
- Гюргий Владимирич идёт с войском в твою сторону, - вымолвил Род устало.
- Ох, утешил! - ванькой-встанькой подскочил кутырь. - Ох, снял тугу[259] с сердца! Чуял я спиной предательство, посылывал к суздальскому брату. Коли верно твоё видение, стало быть, грядёт поможье. - Князь облегчённо перевёл дух. Громоздкая его туша, отодвинувшись от Рода, застыла на какое-то время и вдруг беспокойно задвигалась по тесной ложне от узкой стрельчатой оконницы к низкой сводчатой двери. - Брата бы выручить!.. Жизни не пожалею! Какая сила против меня? У Изяслава с Давыдовичами дружина по три-четыре сотни каждая, да ополченцев соберут тысяч пятьдесят-шестьдесят… Сила!.. У меня вдвое меньше. Вот если Гюргий поторопится… - Ольгович резко метнулся к Роду, сипло дыша, нагнулся над ним, заглянул - глаза в глаза. - Не за себя прошу, за страдальца. Погляди!.. Одоление моё над Изяславом Киевским видишь ли?
Творожно-рыхлые щеки его тряслись. Даже слеза непослушно выскользнула из узкого глаза и быстро скатилась с крутой скулы. Роду невольно пришли на память слова Нечая о том, что их Северский князь не только муж половчанки, но и сын половчанки. Род всматривался в его большое лицо, обрамлённое скупой пепелёсой растительностью, и не увидел в судьбе этого пожилого человека ничего доброго, кроме борьбы, борьбы и борьбы. И свела сердце юноши жалость к могучему одинокому кутырю.
- Сядет на великокняжеский стол одолетель… - выдавил из себя сердобольный ведалец.
Такой вожделенный венец борьбы он без провидения предрёк, не открыв при этом, кто и над кем будет одолетелем.
Северский князь принял сказанное на свой счёт и гордо распрямился.
- Не оценил в тебе Гюргий редкого, аки яхонт, подданца. Иначе бы вернул отнятую жизнь, приличную твоему боярству. А я тебя ценю. Получишь села по реке Рахне. Продолжишь род Жилотугов на нашей Северской земле.
Сын боярина Гюряты встал, согнувшись в поясном поклоне:
- Благодарствую, государь!
Ему явно привиделось, как вводит он Улиту в свою боярскую вотчину. Забыл юный лесовик вещие слова волхва Букала: «Все чужие судьбы можешь знать, только не свою». Спутал он мечту с пророчеством, журавля в небе с синицею в руках. Вознамерился без промешки отблагодарить благодетеля.
- Верю! - выдохнул Ольгович.
- Посылай в Чернигов, в эту преисподнюю. Вызнаю, чего ожидать от князей-клятвопреступников. Сыщу боярина Коснятку.
Вырвались слова - и не поймаешь. Ольгович, видимо, не ждал от юноши готовности к такому подвигу. Даже всполохнулся:
- Как? Пролагатаем?[260] Не стоит служба свеч. Опасно потерять тебя, едва обрёл…
- Не пролагатаем. Посольником. С твоею речью и хоругвью, - тряхнул кудрями Род. - Мне личит не крадвой, честь честью ведаться с врагом. А там уж что Сварог… то есть что Бог даст.
Ольгович пообещал:
- Вернёшься, получишь чего и в мыслях нет.
Он крепко обнял Рода. Удушливы были объятья кутыря.
4
Суздальцы! Владимирцы!
Когда ваши жены именинницы?
В середу Арины, в пятницу Салмониды..
Нечай дурным голосом без чуру растягивал слова. Конская хлынь и встречный ветер почти не заглушали песенного орева.
- Перестань козла драть! - не стерпел слушатель поневоле.
- Хоть козла деру, да сердце тешу, - удальски ответствовал Вашковец.
Оба придержали притомившихся коней, поравнялись стремя в стремя.
- Далече ли до Чернигова? - спросил Род.
- От Чернигова до Киева не более четырёх поприщ, - прикинул Нечай. - Стало быть, нам не более трёх. Из них два уже отмахали.
- А что ты, словно петух на спице, головой вертишь? - заметил Род.
- Остерегаюсь встречи в степи, - пояснил Нечай. - Чернигов уж не за дальним холмом. Не зря говорят: козла бойся спереди, коня сзади, а злого человека со всех сторон. Вспомни-ка Несмеяна Лученца.
- Несмеян один отправился в путь, а нас двое, - возразил Род.
- Истинно, - вздохнул Вашковец. - Двое одному - рать, а четверо - двоим.
- Мне сама степь страшна более, нежели её злодеи, - признался Род, - Пустота! Глазу остановиться не на чем.
- Карасю худо в небе, соколу в воде, - засмеялся Нечай. - Лишь единожды я бывал в лесу, потерял, где юг, где север.
- Пни обрастают мохом от севера, - мечтательно вспомнил Род.
Некоторое время молчали. Потом юный посол не сдержал признательности:
- Уж так я рад, что именно ты пустился со мною в путь. - При этом он лукаво взглянул на долгощельского кузнеца и добавил: - Едва тебя добудился.
- Тяжело было отрясти пладенный сон, - признался Нечай и разоткровенничался: - Ежели б не ты, не пустился бы в этот путь, отговорился бы чем-ничем. Не вижу понадобья наперёд судьбы сыскаться головой в преисподнюю.
- Твоему же государю в пособ, - оправдался Род.
- Моему?- хмыкнул Вашковец. - Государи что птицы. Наши земли для них что ветки. Поутру раскачивается на Северской, к пладню перелетит на Черниговскую, а повечер - гляди-ка! - вспорхнёт на Киевскую. Народ охудел от нужи, а Мономашичи, Давыдовичи да Ольговичи никак на одном дереве не рассядутся. Вдавне больно было славянам от варяжских князей. А нынешние - осколки рюриковщины. Осколки режут больнее!
Род задумался. Замолчал и Нечай, не возобновив своего козлодрания. Враз, словно по уговору, пустили коней в галоп и заполдень миновали первую переспу с лачужным подградием, обрекаемым при осаде на сожжение. Кони сбавили бег.
- А вон и черниговские ворота, - засмотрелся Род на деревянную крепость, более мощную, нежели новгород-северская, - Не наши Черниговские ворота, а настоящие черниговские.
Нечай поднял взгляд на высоту городниц и стен, перекрестился и произнёс:
- Охрабри меня, Бог!
Стража вызвала приставов, а те препроводили прибывших на посольный двор.
Опрянувшись[261], Род поторопился в детинец. Вернулся ни с чем.
- Князья, бояре и гриди выехали на Киевскую дорогу встречать… нам не надобно знать кого.
Вашковец потянулся на лавке, хрустнул суставами.
- Любят Давыдовичи охмурять тайнами! С кем говаривал в детинце?
- Назвался черниговским тысяцким. Забыл прозвище.
- Эх, посольник-рассольник! - укорил долгощельский кузнец своего совсельника[262]. - Поелику берёшься за такой скользкий гуж, все прозвища и порекла помни. Каков хоть с виду?
- Высок и страшон, аки хищный зверь.
- Стало быть, Азарий Чудин, - щёлкнул пальцами Вашковец. - Всамделишный черниговский тысяцкий. Видывал я его в Киеве у Святослава Всеволодича, великокняжьего сына, своего господина. Страшон не только обликом, а и нравом. Истый онагр![263]. Ну да Бог с ним. Пойдём в корчму повечеряем.
Однако повечерять им не пришлось. Гул голосов за дубовым тыном, отделявшим главную улицу от посольного двора, неожиданно так усилился, что слюда в оконницах задрожала. Грянули где-то неподалёку колокола. Эхом их поддержали все колокольни города. Накинув однорядку[264], Нечай схватил Рода за руку и потащил из избы. Подведя к тыну, велел:
- Подставь плечи. Потом я тебя подтяну.
Вместо этого Род взял его за ноги, как бревно под край, поднял столбиком по пояс над тыном, сам подскочил, ухватясь за верхушку пали, и через секунду оба восседали вверху.
Забыв о переполохе на улице, Нечай уставился на приятеля, округлив глаза.
- Откормила Агница битыша! Да в тебе силы на целый полк!
Род разглядывал конный поезд, прокладывающий бичами путь сквозь толпу зевак.
Воистину было на что смотреть. Ну и всадники! Ну и наряды! Сплошной аксамит[265], голубой скурлат![266]
- Кто это? Вон тот, на вороном жеребце? - указал пальцем Род. - Попона в три строчки золотом прострочена, во всех четырёх углах по самоцветному камню яхонту…
Нечай зло прищурился:
- Это здешний князь Владимир Давыдович, онуча ему в рыло! Ласкает речами - затыкай уши, обнимает - уноси ноги. Зато жена у него красавица!.. А вон и братец Владимира Изяслав Давыдович. Этому - где клятва, тут и преступление…
- Брат брату - сосед, - откликнулся Род, не вдумываясь в суровые слова Нечая о двух Давыдовичах.
Он уже перевёл взгляд с черниговских князей на самого почётного всадника, самого оберегаемого, самого разодетого, и сразу вспомнил слова вестоноши Олдана: «Ростом мал, а лицом хорош. Волосы кудрявые, борода круглая». Поравнявшись с посольным двором, всадник все ещё держал в руке свой блестящий шлем с гребнем и раскланивался на обе стороны, благодарно обозревая приветствующий его народ. До примостившихся на заборе новгород-северских послов - а таких зрителей скопилось на уличных тынах что воробьёв - долетели слова красивого всадника, сказанные звучным голосом одному из вельмож:
- Не место идёт к голове, а голова к месту!
Раболепно и одобрительно закивал вельможа.
- Неужто сам Изяслав Мстиславич? - вспомнил Род его имя.
- Новый великий князь, - подтвердил Вашковец. - Племянник Гюргия Суздальского и злейший его враг.
Холодно стало Роду от прибытия в Чернигов такой особы.
- А рядом-то, рядом, - продолжал киевский бывалец, - стремя в стремя с Изяславом Мономашичем - его сын, вон тот, косая сажень в плечах, - Мстислав Изяславич, в отца лицом красен и кудряв, да не в отца силен. Говорят, никто лука его натянуть не может. Спит мало, сластолюбствует в меру. Все читает да все воительствует. Господин мой княжич Святослав Всеволодич дорожил его обществом. Чему усмехаешься?
- Шальная мысль налетела, - положил Род руку на плечо Нечая, - Знавал я одного силача. Его лук тоже никто натянуть не мог.
- Что ж за силач? - удивился Нечай, не веря в подобного двойника.
- Якуша Медведчиков, бродник из заокских лесов, крадёжник… Ой, а это кто? - вдруг устремил юноша любопытный взгляд на сивоусого инородца возглавляющего отряд черных клобуков, смуглых, жесткобородых.
- Ха! - воскликнул Нечай, - Это сам Кокдувдеи, князь берендеев.
Род так и подскочил на острых дубовых палях, хлопнул себя по стёгнам. Только не в Кондувдее тут было дело. Он углядел Чекмана!
- Вон тот, вон тот берендейский княжич вызволил меня из половецкого плена, спас жизнь!
- Ого-го-го-го! - обрадовался и Нечай. - Тот, что тебя в наше Долгощелье доволок? Как же, узнаю! Приятно повстречать друга в гнезде врагов. Добрая примета!
Однако и сам Вашковец неожиданно так дёрнул Рода за рукав, что тот едва не свалился с тына.
- Гляди, гляди! Вон на избура-пегом жеребце… бывший мой господин… Надо же! И он тут!
- Кто, кто? - вглядывался Род.
- Сын покойного великого князя Святослав Всеволодич. Не упёк под спуд милостивца моего нынешний одолетель, как его дядю Игоря Ольговича. Помиловал. Теперь Святоелавушка вокруг него ездит.
- Отчего ты расстался с ним? - полюбопытствовал Род.
- Не упомню, за что он на меня опузырился, - задумался было Нечай, да махнул рукой, - Он и сам теперь не упомнит. Ой! - сыкнулся он пальцем куда-то в гущу Святославовой обережи. - Совсельник мой киевский, друг Первуха Шестопёр! Нет, я немедля должен обнять его. Ты уж не взыщи, Родислав. Я бегом сбегаю в детинец: две ляжки в пристяжке, сам - в корню!
Не успел Род опомниться, как Нечай спрыгнул с тына и был таков.
Род тоже спрыгнул. Долго ещё слышалось из-за тына, как завывали гудцы, вырывались возгласы из многоголосья, всхрапывали кони, барабанили в деревянную мостовую копыта. Потом все стихло. Возвратились посольничьи слуги. Внесли крытый жбан, источающий пар. Род с удовольствием отведал ароматный напиток, не лесной, а степной, пышущий травами кипяток с прозеленью.
Выходило, что боярин Коснятко заранее предвидел этот пышный приезд. Значит, давно стакнулись Давыдовичи с киевским одолетелем Изяславом, а Святослава Ольговича водили за нос. Теперь, коль измена пошла в открытую, северский посольник туг будет не ко двору. Как же отыскать Коснятку? В детинце на расспросы о нём отворачивались, будто знать такого не знали, ведать не ведали. Лишь тысяцкий Азарий Чудин, названный Нечаем истым онагром, изрёк сквозь зубы: «На охоте небось. Похлынять в поле с кречетами Будимир Зарынич ба-а-льшой любитель!»
Нечай явился лишь повечер, изрядно покачиваясь.
- Чтой-то шатость напала, чмур[267] меня возьми! - рухнул он на лавку.
- Чмур тебя уже взял, - неодобрительно молвил Род.
Ох, и чмыркнули[268] мы с Первухой! - не унимался Нечай. - Святославушка меня к ручке допустил. Все простил, окаянный! Велел по-прежнему вокруг него ездить.
- То есть это что? - опешил Род. - Ты на службу к врагу пошёл?
- Какой он нам враг, Родиславка, чмурила ты этакий? Он нам друг! Только - шш! Знаешь? Молчи!.. Ох, и чмыркнули мы с Первухой, сколько было в измогу! Ещё Павёлко Мухлак нас на хату водил. Черниговский бывалец! А Мавруша-касатка - ах, хороша! Шапка камчатная багрова да шубка баранья под поволокою. Шубка тёплая, испод белый, поволоки тафтяные… Но я - ни-ни! Любострастной болезни[269] остерегаюсь, - шёпотом признался Нечай.
Так и заснул обездруженный Род под его воркотанье… Во сне привиделся христианский храм, схожий с церковью Бориса и Глеба в конце Епископской улицы на волховском берегу в Новгороде Великом. В тот храм шёл молиться не славянин оглашённый, а почему-то цыган. «Как тебя зовут?» - спросил Род. Тот ответил: «Доронка».
Едва проснулся юный посол, прежде всего сподобился лицезреть Нечая. Совсельник держал в руках расписную опанку[270] и жадно пил.
- Поразмыслил я над твоим вчерашним поступком, - приподнялся на локте Род, - решил: так тому и быть. Первый господин - первая любовь. Ничего с этим не поделаешь.
Долгощельский кузнец оторвался от рассола, шумно выдохнул и прищурился.
- Ты ещё не досочился до сути. От поступка моего Ольговичу оброна не будет, а поможье ждётся большое. Вникни: мой Святослав нашему Святославу племянничек!
- Изяслав Гюргию тоже, - напомнил Род.
- Это иной случай, - поморщился Нечай.
Уговорились, что он останется у Святослава Всеволодича в охранышах, заменит канувшего в тартарары боярина Коснятку, Род же, совершив посольство, возвратится к Ольговичу.
В детинце в княжеских хоромах посольник северского супротивника ожидал приёма до немощи в ногах. Принят был не влепоту, а наспех одним Изяславом Давыдовичем при нескольких боярах. Князь стоял, а не сидел. К руке не пригласил. А Род, не знающий посольничьего чина, этим не обиделся. Громким голосом он произнёс затвержённое, как бы сказанное самим Ольговичем:
- Родственники жестокие! Возьмите все, что имею. Освободите только брата Игоря!
В стороне, у входа во внутренние покои, раздался приторно-сладкий голос:
- Ещё при жизни Всеволода Игорь с братцем не давали нам покоя. Требовали Чернигов и волостей его. Сдерживались обещанием Киева и волостей заднепровских. А вернётся Игорь на киевский стол, что Святослава сдержит?
Род, обернувшись на голос, узнал Владимира Давыдовича, что мягко стелет, да жёстко спать. Сухое желчное лицо. И как только его жена-красавица терпит?
Конечно, сказанное Владимиром Черниговским не братний ответ Ольговичу. Настоящий ответ дал другой Давыдович, принимавший посла, - Изяслав:
- Целуй крест, что не будешь ни просить, ни искать брата, а волость держи!
Предусмотрительный Святослав Ольгович загодя снабдил Рода достойной отповедью на такие слова:
- Лучше мне помереть, чем оставить брата. Буду искать его, пока душа в теле!
- Завершай скоморошину, - истиха попросил Изяслава Владимир. - Не начинаем почестной пир. Ждём тебя.
Изяслав мановением руки отпустил посла.
И тут случилась заминка. Посол не уходил, во все глаза смотрел на князя. Изяслав содрогнулся:
- Пошто выпучил буркалы?
Содрогнулся и посол:
- Не верю своим очам - на тебе золотая шапка!
Князь отшатнулся:
- Должно быть, у Святослава добрые люди перевелись. Юродивых назначает в посольники.
Уходя, провидец услышал, как Владимир Давыдович сказал брату:
- Молодой, да ранний! Ишь как представил тебя великим князем! Льстец! Хи-хи-хи…
Изяслав ответно громыхнул смехом.
Смутясь, покидал Род красную хоромину. Надо же было выскочить неосторожным словам! Даже истинное провидение не дело объявлять вдруг. Не каждая лисица поверит, коли предскажешь ей место льва. Род дал себе зарок быть посдержаннее.
В низких дверях он нос к носу столкнулся с неким из здешних детей боярских. Лицо показалось знакомым. Оборотился. Дюжий отрок с хитроватым прищуром из-под нависшей чёлки тоже обернулся. Как было не вспомнить цепкий взгляд того самого посла, что объявлял Святославу Ольговичу об измене Давыдовичей? Тяжко бы пришлось Роду как самозванцу, не подоспей этот черниговец вовремя.
- Кто сей княж отрок? - спросил Род сопровождавшего челядинца.
- Фёдор Кутуз, - был ответ.
Подумалось: этот Кутуз неспроста обменялся взглядом с посланцем Ольговича. Хотя вряд ли в Новгороде-Северском он запомнил юнца, стоявшего наособицу. «Подозрительность - правде мачеха!» - укорил себя Род и тут же опрометчиво позабыл о случайной встрече.
5
В многолюдном граде Чернигове пригодилась чуткая зоркость лесовика. Род сразу приметил статного кудряша, что издали провожал его от дворцового Красного крыльца до площадных красных рядов. И площадь перешёл следом, встряхивая русыми кудрями. Род заглянул в корчму, мучимый пустотой в желудке. Подошёл к заседке[271], заказал у посидельца[272] ботвинью с огурцами, грибы холодные под хреном. Едва уселся, звякнул колоколец над дверью. Вошёл тот самый кудряш удалец, потребовал ставец[273] со жбаном взвару, присел напротив.
Мысли северского посольника омрачало отсутствие Коснятки в Чернигове. Кречетовать ему в степи неразумно. Такая каша заваривается против его князя, а боярин будет потешествовать? Однако же он предупредил об опасности, волен и отдохнуть. В то же время пышный приезд киевлян, речи с ними не предназначались для Косняткиных глаз и ушей. Неудобного боярина могли хитроумно сплавить подалее от детинца. Да он, умудрённый в усобицах, мог ли опростоволоситься? Род от недоверия к такой мысли даже прицокнул языком. Нет, нельзя покидать Чернигов, не доискавшись Коснятки.
Приняв его цоканье на счёт жаждоутолительного вишнёвого взвара, коего перед северским послом не было, кудряш обратился к застольнику с прибауткой:
- Стоит град пуст, а около града растёт куст, из града идёт старец, несёт в руках ставец, в ставце-то взварец, а во взварце-то сладость! Вижу, боярин, яства ты взял, а о питии позабыл. Не дозволишь ли угостить?
Не дожидаясь соизволения, угощатель принёс от заседки второй ставец и от души наполнил его ароматным взваром.
Род освежился и выразил благодарность.
- С кем Бог свёл, не откроешь ли? - просиял кудряш.
- Третьяк Косолап, - назвался Род, как договорились с Ольговичем.
- А перед тобой Якубец Коза, как раз Третьяка Косолапа ищущий.
Кудряш скоропалительно расплатился за двоих и вывел Рода из корчмы.
- Не взыщи, боярин. Лишние люди вошли. Вместе б нас не подметили. Весьма важный человек немедля должен видеть тебя. Ступай со мною. Тут недалече.
Якубец бодро пошёл вперёд. Род на ходу раздумывал: западня или нечаянная удача? Миновали крытую имполу с красным товаром, юркнули в хитросплетение узких уличек - вправо, влево, сызнова влево, - вошли в распахнутые ворота усадьбы с двумя бердышниками, лузгающими подсолнух, черным ходом проникли в терем.
В одном из переходов у низкой двери Якубец остановился.
- Входи. Не бойся. Я обожду.
За дверью Род оказался в кромешной тьме. Вот она, западня! Пока глаза лесовика привыкали, старческий голос изрёк спокойно:
- Охрабрись впотьмах. Ты у друга.
Род постарался не оказать смущения:
- Мне, уроженцу заокских лесов, густая ночь не страшна. Твоя темнота пожиже.
- Зрячий, как кот? - не поверил старец.
- Одрина невелика, оконце завешено тяжёлой тафтой, - проявил свои способности Род. - Твоя милость в переднем углу, в большом кресле. Не опасайся, - добавил гость. - Лик твой останется мне неведом.
лава Ольговича. Я ещё его батюшке, Олегу Святославичу, служил верно. Передай вот что - Давыдовичи говорили меж собой: «Мы начали злое дело, так уж окончим братоубийство - пойдём, искореним Святослава и переймём волость его». Вчера у них с киевским Изяславом был съезд. Просились идти на Новогород-Северский. Великий князь разрешил: «Ступайте! Если Святослав не выбежит перед вами из города, то осадите его там. Когда вы устанете, я со свежими силами приду к вам и стану продолжать осаду, а вы пойдёте домой». Изяслав оставил им сына с берендеями. Быть большой крови!
- Клятвопреступники! - возмутился Род и в сердцах сказал: - Коснятко нашёл время охотиться!
- Коснятко? Охотиться? - изумлённо протянул старик, - Кто о нём хитрую молвку распустил? Коснятко под спуд посажен. Им ведают заплечных дел мастера.
Пришёл черед изумляться Роду:
- Как может такое быть?
- Однако же так и есть, - возразил боярин, - Весть подлинная. Вчера он подвергнут пытке был, это точно.
- За что? - не понимал Род, - Из корысти - клятву преступить, дружбе изменить, а пытать безвинного… в чем корысть?
- В чем, ни в чем, - шамкал старец, - Однако передай князю Святославу…
- Передам без веры, - пообещал посол.
Боярин на его неверку не осерчал. Долго длилось молчание. Потом старик, как бы колеблясь, спросил:
- В лицо ведом тебе Коснятко? - И, поняв замешательство юноши, обрисовал словесно: - Бородой скуден, аки козел. На лысом темени шишка.
Род внутренне обомлел.
- Шишкоголовый? Козьебородый? - вырвалось у него.
- Стало быть, знаешь, - удовлетворился боярин. И внезапно полюбопытствовал: - Ты грамоте вразумлён изрядно?
- Обучался достаточно, - не понял сути вопроса Род. - Пишу уставом, полууставом…
- Тогда сможешь видеть Коснятку. Собственными очами удостоверишься и донесёшь с верой. Выйдешь от меня, условишься с Якубцем Козой. Повечер он проводит в застенок. Станешь на одну ночь не посольником, а писальником. Их писальник третьего дня обезглавлен за длинный язык. Будь настороже, чтоб комар носу не подточил. По окончании доиска беги, не дождавшись утра. Найдёшь способ?
Вместо ответа Род спросил:
- Тебя, добрый человек, не ждёт доиск за такого писальника?
Старик тоненько захихикал:
- Я в стороне. Через опосредника все решится. А тот вперёд тебя задаст лататы.
- В измогу ли выручить Коснятку? - со слабой надеждой вымолвил Род.
- Мне не в измогу, - твёрдо отвечал старец. - О тебе же и речи нет. Сам ноги уноси. Иначе без толку вся затея.
- Добро, - согласился Род. - Долгих лет тебе…
- Мои лета коротки, - перебил старик, - Передай князю: скорблю, уходя из мира без встречи с ним, без надежды обнять его. Вырос на моих руках… Сызнова заклинаю: сбереги себя для Святослава Ольговича. Вздумаешь отказаться от опасного дела, дай знать Якубцу Козе.
На том расстались. За дверью Род в свою очередь ждал Якубца - тот получал наказы от господина. Потом черным ходом вышли, назначив встречу в той же корчме.
Идучи на посольный двор, Род обдумывал предстоящее дело. Где укрыть коня, чтобы ночью без промешки исчезнуть из города? Искать пристанище Вашковца? Не просто, да и разумно ли? Ещё прочное вервие следует приобресть на случай побега через застеночный тын. Будоражил мысль отчаянный замысел бежать все-таки не одному, а с Косняткой. Думы Рода прервал кучерявый плосколицый богатырь, преградивший путь у самых ворот посольного двора.
- Байбачка! - узнал он слугу Чекмана.
Булгарин солнечно улыбался, бережно оглаживая недавно спасённого полонянника.
- Чекман! Чекман! - приговаривал он, тыча то себя в грудь, то куда-то в сторону.
6
- Ой, глаза мои не нарадуются! Дорогой кунак опять рядом! А Байбачка первый тебя узрел! «Вон, - показывает, - на городьбе сидит, ногами болтает!» Душа рванулась к тебе, тело дрогнуло. Привык в вашей неразберихе жить, сжавшись в комок. Боялся навредить…
Разговор длился долго. Чекман узнал все черниговские трудности Рода.
- Где Итларь? - спросил бывший пленник.
- В Диком Поле, - вздохнул Чекман. - У отца своего Тугоркана. Слаб старик. Не отпустил сына в Киев… Эй! - хлопнул Чекман друга по плечу. - Мы с Итларем добыли тебе несравненный дар!
- Какой дар? Мне? - изумился Род.
- Тебе, тебе! - зажёг свой орлиный взор берендейский княжич. - Только - шш! Не пытай до времени. Дар наш, как волшебную ладанку, подарю на прощание. Теперь ответь прямо: что замыслил, идя в застенок?
- Спасти истязуемого боярина, - понурился Род.
- Как спасти? - затруднился Чекман. - Ты один. Палачей несколько. Охраныши - звери. - Род молчал. Берендей продолжил: - Твоё дело вывести его, подать знак. Наше дело взломать ворота, похитить вас. Большего не смогу, дорогой. Выведешь, как сумеешь, да? Свою голову мне за тебя не жаль, да? В головах же моих людей я не волен…
- Перестань, - обиделся Род. - Думаю, и ворота взламывать не понадобится. Выведу узника, переберусь с ним через тын… Вервие нужно прочное, да не толстое, чтоб за пазухой не выпучивалось. Будьте наготове. Трижды прокричу филином.
Чекман выглянул из хаты, произнёс несколько слов по-своему. Вскоре Байбачка внёс маленький бунт верёвки, тонкой, как для сушки белья, крепкой, как из конского волоса.
Род, чуть напружившись, оторвал конец.
- Ай, гнилая! - вскричал Чекман.
- Нет, - улыбнулся юноша. - Сила моих рук многажды превосходит вес моего тела, вот в чем тайна.
Княжич недоверчиво покачал головой, в обнимку вывел друга во двор и, расставаясь, застенчиво спросил:
- Двадцать два года живу на свете, а ни разу не слыхивал, дорогой, как кричит ваш филин?
Род прижмурил глаза, набрал воздуху и мысленно оказался в родном лесу:
- Ух-ух-ух-ух-у-ух!
Берендеи сбежались, заполнив двор. Чекман - руки в боки - хохотал всласть, потом обнял юношу:
- Прежде всего спасайся сам. Будь живым-невредимым!
Облака, позлащённые заходящим солнцем, погасли, когда Род подходил к заветной корчме. Счастливая встреча с Чекманом убрала с дороги все трудности: не надо было разыскивать Вашковца, пожитки и конь схоронены у берендейского княжича, да ещё помога за спиной обеспечена. Можно смело приступать к опасному делу. «Охрабри меня, Бог!» - вспомнил Род краткую молитву Нечая.
- Не поспешай, боярин, - услышал он тихий голос и обернулся. Его окликнул притулившийся у уличного тына Якубец Коза. - В корчму нам входить не след. Чем меньше глаз нас увидят, тем лучше, - наскоро проговорил он и строго спросил: - Не отдумал, боярин?
Род помотал головой. Якубец понимающе кивнул и пошёл вперёд. Улицы, затыненные по обеим сторонам, были однообразны, как ходы лабиринта. Правда, из-за высоких палей поднимались хоромы, и с рисунчатыми закоморами, и без оных, а то и просто верхушки тесовых крыш. Да эти особенности враз не приметишь, заблудишься в одиночку, как пить дать. Хотя Чернигов - городок невелик, если сравнить с Господином Великим Новгородом, но там Род чуть ли не каждую верею отличит и скажет, чьи это ворота.
На неведомо каком перекрёстке к ним внезапно подошёл человек, скрытый чёрной понкой, как монах. Видно, он их ждал.
- Иди с ним, - велел Якубец Роду. - Бог тебя храни!
Уже впотьмах пришли на окраину посада. Здесь, под тыном первой переспы, расположился широкий двор. У ворот вздымалась в небо чёрная ветвистая ветла. Ах, как обрадовала эта ветла!
- Позови Мисюра, - велел привратнику спутник Рода.
Невдолге явился низкий широкоплечий бородач. При слабом мерцании изгоревшего в руках стражника факела только и видно было обширную бороду.
- Грамотея привёл.
- Кто таков?
- Монах-расстрига.
- Головой ручаешься?
- Сказано, привёл.
- Помозибо.
- Не на чем.
Чёрная понка исчезла. Привратник калитку - на засов. Бородач обернулся к Роду. Глаз не видно из-под бровей.
- Я обыщик княжеский Мисюр Сахарус. А тебя как звать?
- Севериан, - назвал Род первое походящее имя, пришедшее на ум.
- Отшиби себе память, Севериан, и замкни уста, - таков был грозный совет уже на ходу.
- Упреждён, - ответствовал Род.
Двор широк, утолочен ногами, как земляной пол в хате. В тёмном безлунье можно углядеть мрачное строение посреди двора. Видимо, под ним и находился поруб. Зато в избе поблизости от ворот светились маленькие оконца, и люди то и дело выскакивали мочиться с высокого крыльца. Мисюр вёл нового писавца в противоположную сторону. Толкнув дверь в низкую избу, пошарив рукой по стенам, он открыл следующую. Чем же так дурно пахнет? То ли палёностью, то ли свежими внутренностями?
Род, войдя за обыщиком, оказался в сиянии трёх Свешников: один на столе, два - по стенам. Следом за тремя свешниками он увидел и три столба: два вкопаны в земляной пол, а третий лежит на них под потолком перекладиной. Возле одного из столбов сложены шерстяной хомут с длинной верёвкой, кнутья и ремень. Под перекладиной стоял голый по пояс человек, тот самый шишкоголовый, козьебородый, который привиделся Роду ещё в ложне Святослава Ольговича, а потом был описан Святославовым доброхотом боярином, принявшим северского школьника в кромешном покое. Неужели этот несчастный с выпученными рёбрами и есть боярин Коснятко? Рядом с ним - мужик в просторной рубахе навыпуск и
- Мы пришли, - совсем иным, уютно-домашним голосом произнёс Мисюр, усаживаясь за стол. - Присаживайся и ты. Вот писало, а вот пергамент… Это опытнейший наш кат Лутьян Плакуша. А это новый писавец Севериан, - познакомил он Рода с чубатым. Пытуемого не представил.
Род глянул на убористую скоропись прошлых допросов, чтобы знать, как писать, и, к вящему своему сожалению, убедился, что перед ним истинный Коснятко, сам Будимир Зарынич, Как эти пауки испрокудили дородного уважаемого боярина!
- Продолжим наше занятие, - спокойно и деловито не приказал, а предложил Сахарус.
Великоватый суконный башлык, что предусмотрительный Чекман дал Роду как головной убор, то и дело спадал на глаза. Требовалось поправлять его.
Род увидел, как Лутьян перекинул длинную верёвку через поперечный столб, завернул боярину руки за спину и вложил их в хомут. Потянув верёвку, дюжий кат вздёрнул пытаемого головой к перекладине, и тот повис на вывернутых руках. Пыточную избу огласил долгий стон.
- Что ещё нам подскажешь? - спросил Мисюр.
Ответом был тот же стон.
Род увидел на земляном полу ещё одно бревно, а через него перекинуто другое, к которому кат привязал ремнём босые ноги пытаемого. Став на поперечное, он ещё более вытянул тело несчастного и нанёс первый удар кнутом. От крика, показалось, весь застенок сотрясся.
- Что ж ты не отвечал, боярин? - укоризненно спросил Сахарус. - Ты же ключник Святослава Ольговича, всю его жизнь должен знать. Вот и поведай нам, а мы сметим что где.
- Я больно испугался, - простонал мученик, - не смышлю отвечать. Дайте опознаться.
- Опознавайся, - согласился Мисюр и, не дождавшись ответа, обратился к Плакуше: - А ты помоги ему.
После второго удара, оставившего кровавый пояс на боярском боку, Коснятко сказал:
- В селе Мелтекове кобыл княжеских три тысячи да коней тысяча.
- Пиши, писавец, - велел Мисюр. - А ты, боярин, продолжи.
Продолжения не последовало. Шишкоголовый, козьебородый страдалец с каждым ударом сильнее выл, но членораздельно не произнёс ни слова. Лишь после того как Лутьян Плакуша вставил по два перста его рук и ног в железные тиски и поочерёдно начал закручивать винты, Коснятко не выдержал:
- В селе Игореве в погребах вино, мёд, железо и медь… На гумне девятьсот стогов сена…
- Скуп ты, скуп ты, однако, - приговаривал Сахарус, следя за пишущей рукой Рода, - Изрядно пишешь! - похвалил он прилежного новичка.
Пытаемый опять замолчал. Пытчик крутил его на виске до мути в глазах, потом выстриг плешь на макушке, лил ледяную воду почти по капле, лишь стон и рык - вся отдача.
- Крутенек, сучий потрох! - не выдержал миролюбивого тона даже толстокожий Мисюр.
Род тем часом соображал, как спасти Коснятку. Опрокинуть стол, поднять обоухую чугунную жаровню с угольями, что вчетвером носят, опорожнить её на выбритого Плакушу, воспользоваться смятением, снять с рук мученика хомут, оборвать ремень с ног, взвалить тело на плечо, он достаточно худ и лёгок… Достанет ли времени перемахнуть через тын с этакой поклажей? По ту сторону берендеи ждут, по эту выбежит охрана, хотя и пьяная, да обильная. Отобьёшься и вырвешься… без боярина на плече. Если б даже он смог убить ката и обыщика, все равно через двор не перейти незамеченным. Чуть воодушевлялся и вновь колебался Род. Ничего путного в голове не складывалось.
А Лутьян зажёг веник в жаровне и умело водил по жёлтой спине боярина.
- В Пути-и-ивле, - истошно завопил тот, - на княжом дворе… восемьдесят корчаг вина, пятьсот берковцев[274] меду, семьсот рабов…
- Что ты мне все про мёд да вино, про коней да кобыл? - закипал свирепостью Мисюр Сахарус. - Про злато, про серебро говори, про каменья с мехами!
В сенях возник шум, раздались шаги… Распахнулась дверь, и в застенок вошёл - ну кто бы мог ждать? - сам Владимир Давыдович.
- Што тут у вас? - вкрадчиво спросил он, вращая вытаращенными очами. Желчный, как волчий перец. Да к тому же после хмельного пира по всей видимости чмурной.
- Крепкий орешек, - мотнул головой обыщик в сторону пытаемого на дыбе.
- Ну, Будимирушка, - с медоточивым укором подступил черниговский князь вплотную к вытянутому телу, - пошто упрямишься нам споспешествовать? Ведь наше злосердие тебе ведомо. Сам же посылывал донести о нём в Новгород-Северский своего челядинца Третьяка Косолапа. Ведь посылывал? А?
Коснятко разинул щербатый рот, зашевелил разорванными губами:
- Открыть измену вашу - мой долг… Никакого Третьяка Косолапа у меня не было…
Род, ошеломлённый упоминанием о Третьяке Косолапе, заметил ещё одного человека, вошедшего с князем в застенок. В звероликом жердяе, притулившемся к дверному косяку, он узнал тысяцкого Чудина, прозванного Нечаем истым онагром. Стало быть, они с князем вдвоём вошли. Обережь - во дворе. Думалось, князь в одиночку сюда явился. И встрепенулась надежда спасти Коснятку. Именно присутствие такой важной персоны вдохновило эту надежду, родило новый план. Тысяцкий отягчал дерзкий замысел, но не перечёркивал. Оставалось точно поймать подходящий миг для внезапного действия. Исподлобья взирал Чудин на происходящее, будто его дело - сторона.
- Никакого Третьяка Косолапа у тебя не было? - проявляя завидную выдержку, совсем ласково спросил Владимир Давыдович.
Истязуемый помотал головой.
- А сегодня Фёдор Кутуз… Ты ведь знаешь Кутуза? Мы невдавни его в Новгород-Северский отправляли с посольством… Так вот он нынче сказал, что твоего Косолапа твой князь - глупая его голова! - вернул к нам в Чернигов. То ли посольником, а скорей всего пролагатаем.
Быстро же пришлось вспомнить Роду о легкомысленно позабытом Кутузе! А заодно задаться вопросом: как вызнал этот княжеский отрок слова Коснятки об измене Давыдовичей? Ведь Святославу Ольговичу Род передал их почти один на один. Правда, при сем присутствовал воевода Внезд. И никого более! Поистине колдовской выглядела осведомлённость Кутуза…
- Не ведаю ни о каком Косолапе, - хрипло прошамкал мученик.
Князь, отходя от дыбы, хлопнул себя по ляжкам:
- Не ведаешь!.. Он не ведает! - При этом Владимир Давыдович выразительно посмотрел на ката Плакушу.
- Ломаю, ломаю, а твёрдости не убавилось, - виновато отозвался Лутьян о своей жертве.
И тут вступил в дело «истый онагр».
- Кой дьявол возиться с …? - непристойно выругался Чудин. - Посыланы приставы по Третьяка Косолапа, поймут его с часу на час, вот тогда будет разговор. А с этим…
Никто не успел моргнуть глазом, как выхваченный из ножен меч сверкнул в неверном свете застенка. Чудин схватил его оберучь[275] и, как зверя освежевав, рассёк подвешенное на дыбе тело. В жаровню с угольями рухнули внутренности Коснятки, наполнив застенок невыносимым духом.
«Привык убивать на охоте, а не в бою», - мелькнула в голове Рода ошибочная мысль о Чудине.
Подобрав с полу одежду казнённого, убийца вытер свой меч, вложил в ножны и обернулся:
- Пойдём, государь, отс… - Он поперхнулся на слове.
В какие-то доли секунды, стремясь предотвратить смерть Коснятки, Род бросился к тысяцкому, да опоздал. Тогда он завладел князем. Приёмом Бессона Плешка взял его в замок - одна рука на горле, другая на шее. Ещё чуть-чуть, и хрустнут шейные позвонки. Этот приём удался на славу, ведь Мисюр Сахарус и Лутьян Плакуша да и сам Владимир Давыдович были поглощены страшной смертью Коснятки.
- Руки к бёдрам! Тесней руки к бёдрам! - строго приказывал Род здешнему властелину.
Князь и без того не двигал ни одним членом, задыхаясь в страшных объятьях.
- Да это ж Третьяк Косолап! - завопил онагр, норовя выхватить только что вытертый меч.
- Азарий! - хрипло взмолился князь, с ужасом глядя на своего защитника.
Тысяцкий оставил в покое меч и беспомощно закричал:
- Измена!
Кат и обыщик ошалело таращились, не зная, что предпринять.
- Всем замереть! - вспомнил Род бродничьи повадки. - Я погибну лишь с вашим князем. Сейчас мы с ним тихо выйдем… Мисюр, возьми свешник, посвети в сенях… Так… Близко не подступать! Князь будет жив, покуда… Плакуша, не балуй с вервием. Тоже мне арканщик!
- У-у, будь ты проклят! - прошипел Чудин.
- Мне за что быть прокляту? - озлился Род, пятясь с князем к выходу, - Проклят ты, убийца! Скольких ещё убьёшь! Вижу головы в преступной твоей деснице… ныне ещё живущих, ведомых мне людей. Держишь… за пучки волос… как редиски… Примешь муки за них… вечные, неземные муки!
Чудин содрогался от бессильного гнева, издали следя, как пятится Род с полонённым князем.
- Смерть моя! - задыхался властитель Чернигова.
- Смерть твоя не близка, - чуть ослабил хватку Род, - Жди… на пятое лето… в большом кровавом бою. Красавица княгиня… в Диком Поле - подружия половецкого хана…
- Что он мелет! - не стерпев, дёрнулся полупридушенный князь, - Откуда… такое… ведомо?
- Слишком мы… прижаты друг к другу, - толковал Род. - Глас души твоей… доходит ко мне. Она… знает. Я… чую.
Выбрались из застенка во двор.
Должно быть, охраныши углядели из окна необычное - выскочили, запаляя факелы…
- Вели, чтоб не приближались, - шепнул Род своей жертве.
- Назад!.. Назад!.. - хрипел князь.
Тысяцкий замахал руками, подступая к охранышам. Обережь замерла вдали.
А вот и ветла… Очень кстати эта ветла! И охрана, и тысяцкий, и Мисюр с Лутьяном держались все же не слишком-то далеко. Не успеть закинуть верёвку на зубец тына, не успеть через него переправиться. А густолистая ветла - истинная спасительница!
- Эй, прочь от ворот! - приметил Род подозрительные движения.
Пусть отпирают ворота после. Он уж перемахнёт на ту сторону. Их отпереть нескоро - запоров много.
- Ну не поминай лихом, княже! - попросил Род и, отшвырнув обмякшего властелина, вспрыгнул на нижнюю ветвь ветлы.
- Йа-а-а-а! - словно звуковой нарыв прорвался угрожающий рёв внизу.
Стало быть, Азарий Чудин неприметно успел приказать, что надо. Стрелы полетели тотчас. Да в чёрную ночь сквозь крону ветлы стрелять - как слепому в грош. Мгновения понадобились, чтобы извлечь вервие из-за пазухи, закрепить один конец на вершине, а другим себя опоясать. Вот ветла будто поклонилась кому-то там, на улице. Низко поклонилась. Беглец, окровавив руки, стал на землю по ту сторону тына. А в округе ещё стоял крик неведомой здесь лесной птицы: «Ух-ух-ух-у-у-ух!»
С гиканьем, свистом пролетела ватага всадников, смяв выскочивших из ворот княжьих кметей, и исчезла. Род, сидя на коне, представил пустую улицу, свисающее с ветлы тонкое вервие, искажённые злобой лица Чудина и князя. Вот уж устроят доиск! А берендеев за горло взять - руки коротки! Эти шальные гости очертя голову носятся, где не след. Куда исчез беглец с пустой улицы? Разве у зубоскалов доищешься? Тщетно будут рыскать в поисках Третьяка Косолапа приставы. Со вчерашнего дня его нет на посольном дворе. Не миновал он и городских ворот. Правда, сквозь Новгород-северские ворота проезжали горластые берендеи размять коней в холодной ночной степи. Неусыпные бесы эти черные клобуки!
Так, радуясь удачному бегству, рисовал себе мысленно живую истинную картину ведалец, пока не оказался далеко за первой переспой. Здесь обнялись с Чекманом.
- Чуешь, на ком сидишь, дорогой? - потрепал берендейский княжич по холке коня, что унёс Рода от беды, - Наш с Итларем тебе подарок! Храни его, говоря по-вашему, как зеницу ока.
Только тут узнал всадник знакомый терпкий дух в своих ноздрях: дикая степь… потный хурултай… свежесть водяной лилии…
Род приник к конской шее, обхватил её руками и услышал сдержанное ржание кобылицы.
- Катаноша! Я узнаю её! - крепко сжал он руку Чекмана, - Как вам удалось?..
- Ха! - ткнул его княжич кулаком в бок. - Сантуз, должно быть, ворот рвал на рубахе. Текуса выдрала со зла не одну косичку. Но ты заслужил, джигит! А пока - до скорой встречи. Ай-ё!
Чекман ласково опустил понукальце[276] на круп кобылы.
«До скорой встречи», - с надеждой подумал Род, сберегая в сжатой ладони тепло дружеской руки. Резкое столкновение с огромным пространством родило свист в ушах. Тело, как в бездонном нырянии, рассекало чёрный воздух степи. Род долго ощущал в руке тепло друга. «До скорой встречи»… Ох, лучше бы пропустить эту встречу скорую!
7
Обустроив приют для четвероногой подруги в конюшне Олуферя-лабазника, заложив вволю овса и сена, Род намеревался немедля отправиться с донесением к Святославу Ольговичу. Да ночь, судя по звёздам, была уже так глубока, что подумалось: лучше дождаться утра.
Ещё давали себя знать три бессонных ночи в степи, где и в час отдыха он глаз не смыкал, помятуя о Несмеяне Лученце. Войдя в скованную сном Олуферью хоромину, он нащупал своё место на голбце, рухнул, не раздеваясь, и заснул без снов как убитый…
- Даже не позобал[277], даже словом со мной не обмолвился, - жаловался утром хозяин, родич Орлая, своим постояльцам-долгощельцам, - даже не разоблачился, лишь корзно сбросил. Эх, дела! Выпил только жбан взвару и - в гости к Сновиду…
Долгощельцы уплетали свиной сычуг, набитый гречневой кашей. Род, умывшись ледяной водой и опрянувшись, пристроился к ним. Уныло выглядели молодые мужики-долгощельцы, городские бездельники поневоле.
- Где Нечай Вашковец? - За всех осведомился Корза Рябой.
Род кратко рассказал все, что мог.
- Выходит, мы теперь с Нечаем лишь на поле брани сойдёмся? - развёл руками Кузёмка Ортемов.
- Ох, грехи наши, Господи! - вздохнул Олуферь и с последней надеждой устремил взгляд на Рода. - Что же нас ожидает? Как мыслишь?
- Осада, - поднялся Род из-за стола. - Кровь и брань, а кому и смерть. Будем наготове.
- Да за что же это нам, простым людям? - вскипел лабазник. - Доколь князья, в сёдлах сидючи, народными кулаками будут меж собой драться?
- Прадеды ещё вопрошали, - хмуро вставил Орлай. - Правнуки будут вопрошать…
- Ты-то чего моложный такой? - удивился Род, уходя, - Не молодцуешь, не сквернословишь, опустил голову…
- Апрось свою плохо видел во сне, - совсем понурился Орлай, - Будто медведь её задрал…
- Все мы по дому вот как истосковались! - провёл ребром ладони по горлу Корза Рябой.
Род чуть-чуть постоял, да так и ушёл, не сыскав слов в утешение.
Князь принял его в большом покое, где обычно соборовал[278] со старшей дружиной. Не присев заговорили о черниговских кознях. Святослав Ольгович все выслушал с видимым спокойствием, лишь при рассказе о стойкости истязуемого Коснятки и его гибели на скуластую щеку князя выкатилась слеза.
- Азарий Чудин поплатится головой!
- Ой ли! - усомнился Род. - Пока до его головы дойдёт, ты, государь, недосчитаешься ещё нескольких своих.
- У меня всего одна своя! - вздрогнул князь.
- Ах, не то молвил, - смутился юноша. - Покуда померкнет жизнь в грешной голове Азария, он других твоих сподвижников обезглавит. Среди них - воевода Внезд.
Раздосадовало Ольговича такое пророчество.
- Дурное зришь, ведалец! - рыпнул[279] он.
- Не гневись на мои слова, - вздохнул Род. - Впредь попридержу язык. О ином сегодня забочусь. Посольник черниговский нейдёт из дум. Как мог прознать Кутуз мои тайные слова от имени Коснятки? Нас было трое - ты, воевода и я.
Князь пухлыми руками хлопнул себя по жирным ляжкам и натужно расхохотался.
- Яснее ясного! Внезд предал! Ведь не я же? Враг возьми всех моих врагов!
Юноша с ужасом смотрел в это хохочущее узкоглазое скуластое лицо. Таким ему ещё не приходилось видеть князя Северского. За нарочитым хохотом таился неуёмней гнев. Вот кутырь вскочил и неуклюже, тяжело забегал по палате, воздымая руки с растопыренными пальцами.
- Внезд!.. Не может быть!.. Не верю! Сам себе не верю!
Понял Род, насколько дорог князю друг-предатель. Как родной!
- Доиск!.. Досочиться до корней измены! - пырскал[280] Святослав Ольгович, - Пытка отопрёт замки и тут, и тут! - ткнул он перстом в лоб, затем в левую грудь.
Дрогнул Род при слове «пытка»:
- Не надо, государь. Без застенка вызнаю у воеводы истину, - Ольгович хмыкнул. Юный ведалец поторопился досказать: - Хоть и не ручаюсь за успех…
Вспомнил, как сопровождал названого отца в Олешье, где завёлся конокрад из местных. Подозренья были, доказательств не было. Букал на глазах юноши и мужиков-олешцев силой воли вынудил виновного признаться и представить доказательства.
На позов князя кликнули в палату воеводу Внезда.
- Ах, Славята Изечевич! Верный мой пестун Славята! - вспоминал тем временем Ольгович того боярина в Чернигове, что принял Рода в темноте, не оказав лица и не назвавшись. Юноша дословно изложил их разговор, - Не вспомню, - князь наморщил лоб, - что за несогласица случилась у Славяты с моим родителем. Из-за чего боярин перешёл к Давыду от Олега. Однако ох как он любил меня и брата! Значит, любит до сих пор. Такую преданность не сыщешь днём с огнём.
Явился Внезд. По княжьему велению Род повторил свою черниговскую одиссею. Бритый череп воеводы лишь чуть-чуть поник. Мясистое лицо было непроницаемо.
- Не молчи! - просил кутырь с явной надеждой, что верный воевода все сомнения вокруг себя развеет без труда.
Внезд пробормотал не то, совсем не то:
- Жду, покуда бахвал нахвалится.
- Речь не о бахвале, Внездушка, а о твоей измене, - вкрадчиво промолвил князь.
Воевода поднял тяжкий взгляд на юного посольника:
- Иной врёт, только спотычка берет, а этот врёт, что и не перелезешь!
- Перелезай, друже, перелезай, - настойчиво просил Ольгович.
Однако Внезд молчал.
Кутырь вскипал, как на большом огне. Дыханье становилось шумным. Казалось, вместе с выдохами из разверстых уст властитель метал искры, словно огнедышащий вулкан.
- Пошто пошёл служить Давыдовичам? - потряс палату страшный шёпот.
- Бог с тобою, государь! - воскликнул воевода.
- Пошто спознался с Фёдором Кутузом?
- Знать его не знал допрежь… - пятился Внезд к низкой сводчатой двери.
Его смятенье окончательно взбесило князя. И в самом деле! Как так - знать не знал? Кто же Фёдору Кутузу передал слова Коснятки? Вылгать вздумал глупый воевода!
Ольгович уже бросился к двери, отсекая отступленье Внезду, бросился, чтобы позвать людей, и… Род сызнова представил ужасы застенка. В два шага он оказался за спиной предателя, возложил руки на этот неприятный голый череп. Внезд от внезапности рванулся, но головы освободить не смог. Вскинувшись, он ухватил харапугу за запястья.
- Не бойся, воевода, - внушал Род. - Открой всю правду благодетелю. Велю и заклинаю: открой всю истину, ничего не утаи! Ну говори же, воевода, говори! Ну, Внезд, мужайся, не молчи, не обрекай себя на муки…
Виновный рухнул на пол.
- Государь! - завопил он. - Я не предатель! Я лишь Богданке Омельянову… Сидел с ним на пиру в тот вечер. Взял меня чмур!
- Какой… Богданко… Омельянов? - опешил Святослав Ольгович.
- Из младшей твоей дружины воин, - взахлёб говорил Внезд. - Омельяна Веденяповича сын.
Князь, нырнув под свод, приотворил дверь.
- Боярин Пук! - и тихо повелел: - Богданку Омельянова из младшей дружины взять за приставы! - Обернувшись к воеводе, князь примолвил: - Вон! С глаз моих долой! - Оставшись наедине с Родом, он обнял его: - Ну помозибо! Воеводу спас. Дрянного, млявого, а все же спас. - И, приблизив губы к уху, доверчиво поведал: - Воеводами я не богат…
Род, превозмогая главоболие и слабость, про себя отметил, что не в воеводстве дело, а в любви Ольговича к этому обритому мордовороту. Чуть погасла вспышка гнева, и доволен князь, что «Внездушка» остался вне опасности.
реке Рахне, то есть жизнь боярская? Или недоволен, что Коснятко не спасён? Или просто позабыл за сварой вокруг Внезда? Тут же мысли приняли не менее печальный оборот: от пытки воеводу спас, зато обрёк на муки какого-то Богданку Омельянова… А голова болела, ноги не несли, в руках кололи иглы… Надобно скорее отыскать в почти что не знакомых переходах боковушу-умывальню. Вот задец, а рядом… Тут возник какой-то странный шум в хоромах, будто радостный сполох. С чего бы?
Вымыв руки и прочтя молитву, Род вернул почти всю силу, что ушла на воеводу, и довольно бодро зашагал к выходу. А мимо уже взад-вперёд сновали княжьи отроки и пасынки[281]. По широкой лестнице, стеснённый местной челядью, спускался важный человек в шеломе с ярким чупруном. Вокруг него из многих уст летело одно слово громким шёпотом: «Герольд, герольд!»
Род, выйдя из дворца, услышал, как пронырливые бирючи скликают горожан:
- К Курским воротам!.. К Курским воротам!..
Вдруг неуверенно и несогласно ударил перезвон с ближайших колоколен.
Род обратил внимание на двух вельмож, красивых, молодых, изрядно приодетых и очень разных. Один как смоляной бычок - весь в чёрном и сам чёрный, лишь змеец по дорогим одеждам золотой. Другой, потоньше, помоложе, светел аки ангел, из-под острой княжьей шапочки с опушкой - светлые кудри, не борода с усами, а нежный светлый пух вокруг чувствительного рта. Оба только что сошли с крыльца. Род, поздравствовав их, спросил:
- В честь чего колокольный звон?
- Суздальский князь к нам жалует, - осклабился чернявый, - А когда сюда пожаловали мы, - вздохнув, продолжил он, - в колокола не били, не выходили с хлебом-солью.
Тут сам Святослав Ольгович с приближенными вышел на высокое крыльцо. Рядом боярин Пук нёс на огромном блюде каравай с солонкой.
- Где же Гюргий? - спросил Род, глядя в глубину усеянной народом улицы. От Курских ворот двигались всадники. Возглавлял их витязь, вовсе не похожий на суздальского Гюргия, скорее на владимирского Андрея, да не Андрей.
- Гюрка обещал и не явился, - пояснил чернявый. - Сына своего прислал Ивана. Вот и радость словно бы не в радость.
- Да, это Иван, - подтвердил светлокудрый князь ли, княжич. - В Муроме у батюшки я видывал его.
- Иван? - В груди Рода сердцу стало тесно: жених Улиты!
- Шуба-то объярь![282] - завистливо сказал чернявый, - Золота, лученчата, подол соболий!
Сын суздальского властелина, окружённый рындами[283], проехал ко дворцу. Народ, шарахнувшись от плетей обережи, прижался к тынам, а затем заполнил улицу.
- Нет, не пойду на пир, - резко заявил чернявый. - Меня не чествовали, как Ивашку будут чествовать. Я оскорблён. А ты пойдёшь, Владимир?
Светлый юноша расширил небесно-голубые очи:
- Святослав Ольгович станет гневаться.
Род знал, что его место во дворце. Такому торжеству не соучаствовать значит обидеть Северского князя. Но сил никаких не было очертя голову кидаться в эту раз наряженную людскую гущу. Сейчас бы - к Олуферю, к долгощельцам поболтать, не мудрствуя, повечерять да соснуть.
- Мы повстречались, да не познакомились. - Род счёл, что просто так уйти от собеседников не влепоту.
- Перед тобой Владимир Святославич, князь Рязанский, внук Ярославов, - назвал приятеля чернявый.
- Какой я князь Рязанский? - смутился светлоокий юноша. - Дядя Ростислав исхитил мою княжщину. Даже из Мурома прогнал. Вот и пришлось податься к Северскому князю, авось чем поможет.
- Изгои мы с тобой, изгои! - обнял Владимира приятель, - Вот ведь и я, - грустно поведал он, оборотясь к Роду, - князь Иван Ростиславич, галицкий изгнанник, живу в Берладе с малою дружиной милостями тамошних владетелей. Князем меня произвели на свет, да жизни мне не дали. За глаза теперь зовут Берладником. Я не сержусь. Оружием орудую изрядно. Отслужу Ольговичу, и кончатся, даст Бог, мои скитания. Мне хоть маленький удел, хоть захудалый городишко…
Расчувствовавшись, он попытался обнять Рода, как Владимира, тот увернулся.
- Ты - князь! Может, я смерд?
- Обличьем ты не смерд, - подмигивая, хохотнул Берладник. - Да и повадками, и речью тоже. Хотя и скромен. Должно быть, сын боярский.
- У тебя бывалый глаз, - заметил Род.
- Помыкаешься да постранствуешь с моё, станешь бывальцем, - положил ему руку на плечо галицкий изгой, - Пойдёмте-ка, друзья, - пригласил он, - Я знаю тут одну уютную корчму с галушками, с вишнёвыми варениками да с медком боярским[284]. Пусть пузыри пируют наверху, а нам внизу - раздолье!
- Вишнёвые вареники? Зимой? Иванушка! - засомневался муромчанин.
- Ха! - толкнул его вперёд Берладник, - Да пусть в них хоть свиная требуха заместо вишни, был бы мёд крепок. А уж он истинно боярский, даю голову на отсечение… - Он вёл друзей к рыночной площади. - Теперь ты, удалец, открой всю подноготную, - велел он Роду, - Как величать, звать, откуда урожденьем, воспитаньем… Ну!
Род по дороге коротко поведал о себе. Иван внимал вполуха. Владимир слушал, сморщив лоб. Уселись в полутьме за вытертый дубовый стол. Распорядительный Берладник пошёл к заседке договариваться с посидельцем о ястве и питье. Голубоглазый муромский изгнанник склонился к Роду и, щекоча щеку пушком, стал говорить:
- Прости мою докуку, Родислав Гюрятич. Не мне бы сообщать такое, и не тебе бы слушать. Уж больно страшна тайна, что лежит у меня в памяти касательно тебя. А тороплюсь открыть её, оттого что наша жизнь сейчас непрочная. Сегодня жив, а завтра, гляди, - рать. Тут мне и славу запоют. Не зря глаголется: мёртвому тимпан не погудка!
- Да что ты медлишь? - в свою очередь нетерпеливо придвинулся к муромскому изгою Род. - Что тебе ведомо?
- С мальчишеских лет помню, - жарко заговорил Владимир, - Взял меня батюшка впервые на охоту. Свежевали вепря у костра. Был с батюшкой боярин Микула Дядкович. Теперь его уж нет в живых. А перед тем служил он в Киеве в великокняжеской дружине среди отроков. Однажды на пиру завёл знакомство с выходцем из Красных сел. Тот выходец пасынковал в какой-то из боярских обережей. Уж так сдружились - водой не разольёшь. И тайные их жёнки были закадычными подружками. Тот суздальский беглец свою привёз боярину в Кучково как невесту. Дрянюка сделалась боярыней. Как звали штуковатого[285] лгача, все тужусь вспомнить, да не вспомню.
- Петрок Малой? - несмело подсказал ошеломлённый слушатель.
- Петрок, Петрок, - согласно закивал Владимир, - Не помню уж, малой или большой, а истинно Петрок.
- Так я-то тут при чём? - пытался глубже вникнуть Род.
Голубоглазый юноша вдохнул всей грудью, чтобы, не переводя духа, изложить самое главное.
- Ты тут при том, любезный Родислав, что этот злонамеренный Петрок укрылся в Киев, свершив страшное кровавое деяние. Он по преступному изволу Кучки подверг избою всю семью боярина Гюряты, что правил половиной Красных сел. Ты, значит, один спасся, коль сейчас воистину назвался Жилотугом.
Род отстранился от Владимира:
- Не веришь?
- Не верил, не рассказывал бы, - успокоил муромчанин, - Такое рассказать опасно даже нынче. У Кучки и его приспешника руки и кровавы, и длинны. Микула Дядкозич, услышав от Петрока о его татьбе, бежал из Киева аж в Муром. Было отчего бежать! Он вскорости заметил, что за ним охотятся головники. Стало быть, убийца, проболтавшись другу во чмуру, решил избавиться от будущего оглагольника[286]. Твой нынешний рассказ поверг меня в смятение. Как вспомню Дядковича… Вот злоключений твоих тайные причины! Постерегись Петрока с Кучкой, коли опять проляжет путь чрез их осиное гнездо.
- О чём шушукаетесь? - подсел Берладник.
- Так, о суздальских делишках растабарываем, - понурился Владимир Святославич, - Мы почти что земляки.
- Всякая птичка свои песенки поёт, - хохотнул Галицкий изгой. - А вот несут медок…
И началось приятельское тесное застолье.
- Ты почему не жалуешь фиал[287] с боярским мёдом? - зашумел Иван Берладник, придвигая Роду чуть пригубленный напиток. - Ах, мало искушён в питье? Ну и ловыга![288] Намного ль младше-то меня? Ах, восемнадцатый годок! Не верю, да и баста! Такой детина! Да ведь в тебя вместятся два вот этаких Владимира! - обнял он друга по несчастью.
- Оставь, - высвобождался светлоокий юноша, заметно начавший хмелеть. - Скажи-ка лучше, - перевёл он разговор в иное русло, - исполнит Святослав Ольгович обещание? Он мне в удел Посемье обещал.
- А мне обещал Курск! - вскричал Берладник. - А тебе что обещал? - спросил он Рода.
- Села по Рахне, - неохотно отвечал обезземеленный Гюрятич.
- Ну так вот что я скажу, - пристукнул кулаком Берладник, - Ольгович - лгач. Все это лжецкие ухватки. Чтоб заманить, он горы обещает, заманит и покажет кукиш. Да и что у него есть? Вот-вот последнего лишится. Ну как ни обмануть троих изгоев? Мы беззащитные - два князя да боярин. У нас нет жизни. Палец покажи, и мы готовы выядрёниваться, лезть из кожи вон. Не токмо что во вражий стан, в Чернигов, - к черту в ад!
Род покраснел.
- Не на меня ли твой намёк?
- А что, горит на воре шапка? - перекосил лицо Берладник. - Я, как узнал о твоём подвиге, ещё тебя не зная, подавился со смеху. Нет, я бы не выстарывался так. Села по Рахне! Рахна-то не нынче завтра со всеми сёлами окажется в руках Давыдовичей.
- Как решит судьба, - отрезал Род, видя, что Берладник распаляется все более.
- Судьба тут ни при чём, - встрял, осмелев, Владимир, очервленевший лицом от выпитых фиалов, - Был ты в Чернигове и что увидел? Строй и готовность к рати? А у нас - развал, все вразнотык…
- А воевода-то кто? Внезд! - скрипнули зубы у Ивана Ростиславича.
- Ругать легко, наладить трудно, - сказал Род.
- Да кто тебе позволит тут что-либо налаживать? - прищурился Берладник. - Бояре с отроками хапают что под руками, а володетель раздувает щеки.
- Я верю Северскому князю, - сказал Род.
- Верь, верь! Не видишь? Северский князь холопствует пред Суздальским за ради сохраненья оттопырившей карманы жизни, - шумел Берладник. - А я ни перед кем холопствовать не нанимался.
- А для чего ты нанимался? - не стерпел Род.
Иван Ростиславич приосанился для гордого ответа:
- В честном бою жизнь себе добыть!
- Послушайте-ка, братья! - Уступающий Берладнику в летах Владимир вовсе разомлел от каверзного мёда. - Я что вам поведаю потиху! Наш Святославка возмечтал оженить своего недоросля Олега на Гюрькиной дщери Олиславе. Во куда метит!
- Да отчего ж не метить? - удивился Род. - Их положенье вроде равное…
- А оттого, - надрывно перебил Владимир, - что Олислава краше солнца красного, а наш непря[289] Олег как ляпуном[290] из чурки тёсанный.
Тут Берладник молвил предостерегающе:
- Не говори при холопьей онуче, онуча онуче скажет!
Род резко встал:
- Ты оскорбил меня безвинно, князь Иван. В иной час я бы ответил по достою. Теперь ты пьян, а во чмуру дурён. С такими нет у меня дел. - Повернулся и ушёл.
Ещё не отдалившись от корчмы, услышал за спиною прежде приятный, ставший хриплым голос муромчанина Владимира:
- Род, остановись!..
Не стал и останавливаться, хотя с Владимиром поговорить хотелось, да, видимо, пока не случай.
У Олуферя долгощельцы отвечеряли и отдыхали. Хозяин - на полатях, хозяйка - на печи, а постояльцы - на скамьях рядком. Они впились глазами в парня, что расселся за столом почётным гостем.
Приходу Рода все обрадовались.
- К тебе, Гюрятич, - пояснил Корза Рабой. - Не объявляет, кто таков. Оружие изъято.
- Крутой народец, - кисло засмеялся парень. - А ты есть Родислав Гюрятич? Тогда изыдем вон, поговорим потиху.
Вышли во двор.
- Привет тебе, боярин, от Нечая Вашковца. А я Первуха Шестопёр, его соратник.
Род сразу вспомнил.
- Большая рать идёт к вам из Чернигова. Ух, сеча будет! Оба Давыдовича, следом сын великокняжеский Мстислав с переяславскою дружиной и берендеями. Воистый[291] князь! Однако Всеволодич наш уехал с государем Изяславом в Киев. И без того ратников легион тысяч[292].
- Пойдём, Первуша, во дворец, - заторопился Род, - Предстанешь перед нашим государем.
Но у дворца как было не вспомнить грустные слова голубоглазого Владимира: «Был ты в Чернигове и что увидел? Строй, готовность к рати? А у нас - развал, все вразнотык». И впрямь! В колеблющемся свете факелов колеблющиеся фигуры. Бояре шастают в обнимку с пасынками. Охраныши и те навеселе. Пир в честь приезда Гюргиева сына завершился мерзостным развалом. Шапошный разбор то там, то сям готов был обернуться кулачными разборками.
С трудом дозвались Пука. Боярин выглядел трезвей других.
- Куда ты подевался, Род? - обнял он юношу. - Куда запропастился? Государь чуть голову с меня не снял. Он гостю о тебе все уши прожужжал. Вынь да по ложь, хочет тебя видеть Иван Гюргич.
Еле-еле Роду удалось доступно втолковать вельможе о Первухе Шестопёре.
- Где твой посольник? - оперся Пук о плечо Рода.
- Ждёт на крыльце.
Род, не добившись толку, рванулся в княжеский покой. Куда там! Пук всей тушей преградил путь:
- Испытай плеч со стариком!
И смех и грех! Пришлось уйти.
А Пук ещё догнал и на прощание поведал шёпотом:
- Богданко Омельянов лазутничал в пользу Давыдовичей. Под пыткою признался, окаянный. Уже лежит в сырой земле. Крутенек князь с такими пролагатаями.
Ошеломлённый Род, выйдя на крыльцо, взял под руку Первуху:
- Далече ли от города черниговская рать?
- Я обогнал её на одно поприще, - ответил друг Нечая. - Раным-рано послезавтра ждите у городской переспы.
Вернулись к Олуферю, потиху улеглись, оберегая общий сон.
Утром, побывав у князя, Первуха ускакал в Киев через Курские ворота. Крюк большой, да лишь бы не попасться на глаза черниговцам.
Шёл снег…
А от Черниговских ворот ползла на город туча, брюхатая бураном.
8
В большой палате натопили жарко. Из-за редкой топки пахло дымом, как в курной избе. Пыльная слюда в оконницах лениво пропускала свет. Однако и в поддыменье, почти впотьмах дружинники соборовали рьяно. Тон задавал воистый воевода Внезд. «Чья бы корова мычала!» - внутренне досадовал Род, справедливо считая этого болтуна виновником гибели Коснятки. Сам он скромно сидел в сторонке, по незначительности своей почти не участвуя в соборе.
- Сойдёмся с врагами лицом к лицу, не станем отсиживаться за стенами, - витийствовал воевода.
- Я не так мыслю, - тихо сказал Иван Гюргич Суздальский. Его скуластое лицо, менее половецкое, чем у Андрея, осветилось смущённой улыбкой. - Я среди вас новик, здешнего положенья не ведаю, но скажу: ежели засада[293] крепка и припасов довольно, не разумнее ли отсидеться, покуда не подоспеет мой отец? И град сохраним, и воинство. А выйдем за стены на авось - все потеряем враз. На нас время трудится, на них - сила.
- А я бы поставил военное счастье на кон! - пылко вскочил ещё не старый боярин Андрей Лазоревич.
- И я! И я! - ухарски взмахнул кулаком боярин Дмитрий Жирославич.
Оба похожи, как близнецы: русые бороды лопатой, русые волосы в два крыла. Оба, что называется, в теле да ещё преисполнены боевого духа.
- Мы тут не костари, не в зернь играем, - вежливо улыбнулся Иван Гюргич.
- Не взыщи за мою погрубину, княже, - вновь выставился Внезд. - Сдаётся мне, преизлиха ты робок не по летам.
Иван вспыхнул, но смолчал.
За него отозвался другой Иван, изгой галицкий, Берладник.
- Дело не в робости, а в уме, - коротко бросил он.
Род даже удивился: вчера был завистником суздальцу, сегодня пособник.
Обмякший в главном кресле кутырь, как бы очнувшись от тяжких дум, поднял голову.
- Не защитит Господь града, не защитит ни стража, ни ограда, - звучно вымолвил Ольгович. И приговорил: - Не свариться[294] нам надобно в сей грозный час, а соглашаться. Ты, гость моего сердца, Иван Гюргич, защищай со своей дружиной Курские ворота. А вы, бояре, Дмитрий Жирославич, Андрей Лазоревич, коли рвётесь в бой, идите из Черниговских ворот и покажите ад Давыдовичам.
Оба боярина от оказанной чести нетерпеливо заёрзали на скамьях.
- И тебя, Родислав Гюрятич, с долгощельцами твоими придаю в пособ сим храбрым боярам.
Роду бы молча склонить голову, но он вынудил себя встать.
- Не меня ты предаёшь, государь, - играя словами, заметил юноша, - Ты этим приказом предаёшь часть воинства своего. А оно и без того бедно. Ты не внемлешь разумным речам Ивана Ростиславича и Ивана Гюргича, тебе ближе показная прыть Внезда, шаткого на язык. Что же касается двух почтенных бояр, - Род тяжело вздохнул, - смерть-косариха так и глядит на меня из их воистых очей. Она уж там поселилась. И не мне с моими долгощельскими паличниками, вооружёнными скудным ослопьем[295], спасти их от этой смерти. - Род опустился на скамью и сотворил в думной палате жуткую тишину.
- Дерзок ты, дерзок, - глухо выдавил из себя Святослав Ольгович. - Кабы не заслуги твои в Чернигове да и прежде, не простил бы я такой дерзости. А приказ мой все же исполни. И бояр моих не стращай смертью-косарихой, провидец! А ты, Внезд, - повысил князь голос, глянув на воеводу, - поройся в своих закромах, окольчужь да вооружи долгощельских воинов влепоту. - И Ольгович поднялся: - Ступайте с Богом!
В сенях крепкая рука легла на плечо Рода. Перед ним был Иван Берладник.
- Не взыщи, боярин, за вчерашнее. Каюсь и казнюсь.
Юношу тронуло нежданное покаяние. Он снял с плеча руку князя и крепко сжал:
- Кто старое помянет…
- О-ой-ой! - засопротивлялся Берладник и затряс высвобожденной рукой. - Ты, однако, не токмо духом, а и плотью преизлиха силен. Значит, друзья до гроба!
К Роду подошёл отрок с обритыми по-старинному головой и бородой, с отрощенными вислыми усами и чубом. Щап![296] Роду уже приходилось слышать, что бритье бород и голов, отращивание усов и чубов под древнего князя Святослава Игоревича стало на Руси щегольством.
- Боярин Родислав, - обратился щап. - Тебя князь Иван Гюргич Суздальский благоволит пригласить в свою одрину. Я готов сопроводить.
- Познакомьтесь влепоту, - сказал Берладник и примолвил, указав на щапа: - княжич Олег, государя нашего сынок.
Род чуть склонил голову. Олег вскинул подбородок. Так и пошли, не очень-то приглянувшиеся друг другу.
Иванова одрина соседствовала с покоем Святослава Ольговича. Олег прошёл к отцу, Род - к земляку. Князь сидел за накрытым трапезным столом. При входе Рода встал ему навстречу:
- Здрав будь, земляк!
- И ты здрав будь, княже!
Невысокий Иван снизу вверх поглядывал на Рода, чуть прищурившись. Ну вылитый половец!
- А давай не будем чиниться, - крепко обнял он Гюрятича. - Мне в ваших Красных сёлах у батюшки на Мосткве-реке не довелось быть ни разу. Однако слышал твою повесть. Андрей сказывал, что ты Кучкович Пётр, что будто тебя похитили бродники. А ныне из уст Ольговича узнаю совсем иное. Да не изволишь ли откушать вместе? Побеседовать нам есть о чём. Я, коли на откровенность, влюбился в тебя нынче.
Сели и после первой чарки, от которой юноша не посмел отказываться, князь предложил:
- Давай меж собою запросто: Иван, Родислав…
- Род, - подсказал Гюрятич.
- Тем лучше! Род!.. А ведь меня батюшка едва не женил на твоей сестрёнке Улите, любезный Род. Я её и в глаза не видел, да и она меня. Андрей сказывал: раскрасавица! Сам ума лишился из-за неё. А теперь, как хворая его подружия ушла из жизни, он ежедень летит в Кучково. Да вот не повезло ему. Изяслав, киевский захватчик, как узнал, что отец двинулся Ольговичу в пособ, сговорил друга своего Ростислава Ярославича Рязанского напасть на нашу Суздальскую землю. Пришлось батюшке ворочаться с полпути, а Андрею, бросив все домашние дела, спешно выходить на рать с рязанцем. То-то для него была налога![297] Хотя я знаю, что твоя сестра Улита братнюю любовь не жалует, а о посяге с ним и слышать не желает, как прежде о моём заглазном сватовстве.
Род понял, почему в мечтах своих он неизменно видит ненаглядную Кучковну плачущей.
- Она мне не сестра, - тихо молвил он. - Она… она…
Иван прервал сочувственно:
- Теперь я понимаю. Когда узнал от Северского князя твою повесть, все обернулось по-иному. А сейчас гляжу я на тебя и вижу: хоть не сестра тебе Кучковна, ближе, много ближе сестриного её место в твоём сердце. Или я не прав?
Зардевшись, Род потупился.
- Пусть мне не до конца известна смерть твоих родных, - продолжил князь, - в одном уверен: неспроста надумал Кучка усыновить тебя. Как понимаю, не такой он мягкосердый. Или измыслил очень хитрый ход касательно твоей боярской жизни. Или надумал помешать тебе с Улитой…
- Надумал смертный грех загладить, - подсказал Род. - Ведь его люди извели моих отца и мать. Узнал доподлинно. Да жаль, что поздно.
- В жизни нет ничего позднего, - нахмурился Иван. - Лишь после смерти накажут грешника не люди, токмо Бог. Но Кучка ещё жив. Закончится усобица, вернёмся в Суздаль, расставим грешные поступки по праведным местам…
Рано пожаловал зимний повечер. Внесли в одрину свешник о шести огнях. А новоявленные приятели длили свою беседу, почти забыв о питиях и яствах.
- В дни мира, - размечтался Гюргич, - прибудем с тобой к батюшке в Москов. Так названы им села по Мосткве-реке. Повенчаем вас с Улитой, отберём у Кучки твою жизнь, накажем всех злодеев… А Андрейке я велю забыть о той, которая его не любит. Негоже силой в сердце лезть! Я хоть его постарше, а ещё холост. Недосуг! С вражьей жутью ведаюсь, не с женской красотой.
Род поднялся первым:
- Прости, Иван. Утрудил тебя беседою сверх меры.
- Перестань, - встал Гюргич, - Оба отдохнём сейчас, ведь спозаранку - бой, - Приобняв Рода, он чуть откинулся, не отпуская его плеч, и робко молвил: - Говорят, ты ведалец?
- Кто говорит? - насторожился Род.
- Да Святослав Ольгович как-то к слову…
- Мне ведь ты худого не предскажешь? - полушутливо спросил князь.
Род хотел от просьбы увернуться и не совладал с собой. Слишком многое в своей судьбе теперь он связывал с судьбой князя Ивана. Подвёл его поближе к свешнику, заглянул в глаза.
- Что? - дрогнул князь.
- Нет. Ничего. Я ничего не вижу, - потупился упавший духом ведалец.
- Устал ты нынче, - посочувствовал Иван, - А то и выпитое зелье затуманило волшебный взор.
Род поспешил проститься.
Покидая князя, он плакал не глазами, а душой. До чего тяжко бремя ведальца! До чего черно и жалко бытие людское! Путь недолог, смерть же косариха так и жаждет стать на полпути. Лучше бы не находить разрыв-траву, не получать наследства от волхва. Человек живёт надеждами, а дар предвидения обрывает их, как призрачную пряжу. Нет, не вернутся Род с Иваном в град Москов. А без Ивана, без единственной опоры в жизни, как обойтись? Проклятая смерть-косариха! Род кожей ощутил, как она ждёт за городской переспой, за запорами Черниговских ворот, за деревянными гнилыми стенами в щелястых неисправных заборолах, за городницами. Ждёт, кровопийца!
- Опять Апрось во сне привиделась не попригожу, - пожаловался Орлай у Олуферьевых ворот. Его пошатывало. Должно быть, чмыркнул от тоски по дому. Могильным холодом повеяло от грустного Орлая.
- Иди в избу, - приказал Род. - Проспись. Ведь спозаранку - бой!
В избе у Олуферя ложились с курами. Масло деревянное подорожало. В усобицу свои продукты дороги, а привозные и подавно.
9
Лишь во сне можно было вдоволь нагуляться по родным приокским лесам. Вдруг не раненный волком вепрь закричал, не одолевший соперника изюбр вострубил, зазвучали трубы и бубны. В безлюдном-то лесу! За десятки поприщ от жилья! Что это, охота? Должно быть, большая княжеская охота. Род впервые слышал её сполошные звуки, то ли пугающие, то ли торжественные. Он продолжал их слышать, открыв глаза, уже сидя и озираясь на голбце.
- Погудку бьют! - метался по избе заполошенный Олуферь.
Вчера ещё только и разговору было что о сигнале к битве, а ударил сигнал, и все всполошились.
Полуумылись, полунасытились. Дождались остальных долгощельцев у Олуферьевых ворот и - к городским Черниговским воротам. Род чувствовал себя на Катаноше бывалым воином, окольчуженным, вооружённым. Паличники его на рабочих мужицких конях выглядели ватагой, а не военным отрядом. Вот-вот преобразятся и они. К сборному месту, должно быть, уже подоспел воз с оружейниками от воеводы Внезда. Да, вон он, у самых ступенек на стену, к заборолам. А в распахнутые ворота валом валила густая толпа. Над нею дым застил небо. Запах гари полонил ноздри. Дышать не сладко!
- Горит подградие, - сказал Олуферь.
- Опять свою Апрось дурно видел во сне, - тосковал ехавший рядом Орлай.
Вой детей, причитания баб заглушали его слова.
- Всю жизнь копили, в узелочках уносят, - отметил Корза Рябой, глядя на беглецов, ищущих спасения в городских стенах.
На возу оказались лишь копья и сулицы[298]. Ни мечей, ни шлемов, ни лат, ни щитов…
- Все, что в наличии, - пояснил оружейник. - Воевода прислал остатнее.
Род был вне себя. А кому пожалуешься? Времени нет укорить виновного, поискать заступы.
Вон подоспели со своими дружинниками вчерашние храбрецы Дмитрий Жирославич с Андреем Лазоревичем.
- Взгляните на этот воз! - указал им Род. - Что, нам с одними копьями идти в бой?
- Ну, миленький, ты же во как окольчужен, вооружён! - поднял большой палец Андрей Лазоревич.
- Во мне ли дело? - взъярился Род. Однако тут же осёкся - по виду бояр он понял, что меньше всего сейчас они думают о его долгощельцах.
Мы будем как бы челом полчного ряда, - втолковывал Дмитрий Жирославич. - Ты, юноша, со своими крестьянами составишь как бы левое крыло нам в помогу. Во-он тот удалец с другими крестьянами станет как бы правым крылом. Досачиваешься? Главный удар берём на себя. А вы сдерживайте черниговцев, чтоб не обошли нас. И хорошо, что прислали копья. И лучше в пешем строю. С копьями-то да без кольчуг лучше пешими. А мы, навершные, ка-ак зададим им жару! - И замолодцевал боярин на караковом жеребце.
Род велел Олуферю отвесть коней. Сердце осиротело без Катаноши.
- Не берёшь копье? - спросил он Орлая, - Решил оставаться дубинником?
- У меня дубина уразная![299] - через силу усмехнулся Орлай.
Рядом Корза Рябой, изображая бывальца, объяснял деревенщине Кузёмке Ортемову:
- Давыдовичи начнут оточение крепости[300]. Попробуют взять копьём[301]. - Он не слыхал только что прозвучавшего наказа Дмитрия Жирославича и продолжал воодушевлённо: - Сделают примёт[302], чтобы поджечь стены, или подступят под вежами[303], начнут бить таранами, пороками. А на них сверху - камни, стрелы, копья…
- Где только ты повидал такое? - удивился Кузёмка.
- Под Вщижем был, - гордо изрёк Корза.
- Не молодцуйся, - осёк Орлай, - Здесь, как под Вщижем, не будет. Бояре порешили биться за стенами.
- Да они объюродели! - возмутился Корза. - За стенами нам погуба!
Орлай обратился к Роду:
- Впервой, боярин?
Пришлось признаться:
- В одиночку дрался, в полках не ходил.
Главенство над долгощельцами как-то само собой перешло к Орлаю. Эх, нет Нечая Вашковца! Тот возглавил бы их на славу.
Поглядывая на приунывшего Рода, Орлай из последних сил озорно прищурился:
- Не тужи, боярин, отгадай загадку: что под понкою поколыхивает?
Кузёмка с Корзой хохотнули по-мужицки.
- Срамцы! - пристыдил Орлай. - Эго вода подо льдом.
Последние беглецы втекли в распахнутые ворота. Из-за переспы сквозь дымовую завесу начало выползать длинное чудище, тысяченогое, тысячеиглое… Враг!
- Как мы уроем[304] выскочим, вы - за нами! - приказал подъехавший Дмитрий Жирославич.
Чудище приближалось с пугающим диким звуком.
- Они тоже урим[305] кричат, - задрожал Кузёмка Ортемов.
- Не «тоже», а первее нас, - поправил Орлай. - Да не жмись в себя, гляди соколом!
- Не успеешь ополохнуться[306], как взорлишь в небо, - добавил Корза Рябой.
- Это ты о душе? - по-детски расширил глаза Кузёмка.
- Будет лясничать! - приказал Орлай и уважительно обратился к Роду: - Ну, боярин, пора?
Дружинники Жирославича и Лазоревича уже неслись на своих конях в лоб врагу.
Род решительно снял кольчугу и шлем, отдал их со щитом и мечом Олуферю.
- Ты что? Ты что? - испугался Орлай.
- Как вы, так и я. - Род достал со дна воза две сулицы. Быстро обняв по очереди Кузёмку, Корзу, Орлая, он каждому сказал: - Прости, брат.
- Не на чем, - смутился Орлай, подозрительно глянув на странного чужака боярина.
Раздумывать над поступками Рода ему было недосуг. Правое крыло ополчения уже побежало вслед за конной дружиной. По знаку Орлая поторопилось и левое. Однако пеший конному не товарищ. Род видел, как щетинистая лента врага будто вогнулась внутрь, приняв в свою сердцевину небольшую дружину удалых северских бояр. Вражеская гуща обтекла эту отчаянную дружину снаружи, полностью вобрала в себя и, оборвав боевой крик, молча занялась рубкой.
А пехотинцы ещё бежали, оголтело вопя, разделяясь на крылья. Поскольку чело полчного ряда было уже откушено, струя черниговских конников бросилась между крыльев, окончательно разделяя северских ополченцев. Город располагался выше подградия, потому для Рода, бегущего от городской стены, вся картина была словно на ладони. Догнав Орлая, он закричал ему в ухо:
- Погляди на стрежень![307]
Орлай принялся собирать долгощельцев, чтобы в центре сражения противостать врагу. Вот пешие уж на дострел от конных. Род вовремя углядел страшное приготовление всадников.
- Ложи-и-и-ись! - завопил он во все горло.
Легли те, что услыхали и поняли. Туча стрел, посланная черниговцами, скосила остальных. Те, кто лёг, тут же поднялись и ответили на тучу стрел тучей копий. Ближние цепи всадников поредели.
Род тоже освободился от своих сулиц, остался безоружный, если не считать охотничьего ножа за поясом.
Издали вражий строй представлялся густым, а когда сошлись, оказалось просторно между конями и всадниками. «Теперь отбарывайся, как знаешь!» - мелькнула мысль. Богатырским приёмом Бессона Плешка он первого же всадника вырвал из седла и отбросил на несколько шагов, где его добили. Но силы были слишком неравны.
Род, окружённый врагами, быстро заметил, что их мечи не касаются его тела и копья навостряются мимо. «Заговор на оружие!» - вспомнил он тихое волхвование Букала перед путём-дорогой: «А велит он топору, ножу, рогатине, кинжалу, пращам, стрелам, борцам и кулачным бойцам быть тихими, смирными. А велит не давать стреливать всякому ратоборцу из пращи, схватить у луков тетивы, бросить стрелы на землю. А будет тело отрока Родислава камнем и булатом, платье и шапка - кольчугой и шлемом. Замыкаю свои словеса замками, бросаю ключи под бел-горюч камень…»
- Заговорённый, гнусина!..[308] Да что он, заговорённый, что ли? - слышалось отовсюду.
Оружием его не могли убить. Но и он, безоружный, никого не убивал. Лишь сбрасывал всадников с коней. На земле их убивали другие…
Род волчком крутился между ржущими конскими мордами, разномастными хвостатыми крупами. Всадники изрыгали в него проклятия, кони ржали над ним. Сколько движений в миг должен сделать ученик Бессона Плешка? Род превзошёл все свои достижения на уроках. А ведь Бессон хвалил его…
Между тем времени истекло, как крови. Искоса оглянувшись, Род увидел вблизи городские Черниговские ворота. Стало быть, он как рак пятился назад. И все пешие отступали. Немудрено. Пеших почти не осталось. А ворота открыты. Кто защитит их? Некому защитить!
«Приборолись плеча!» - вспомнил Род слова Бессона Плешка.
Конская харя озубатилась ему в лицо. Костистая конская грудь кованым пороком наддала в плечо. Не было в Букаловом заговоре ни слова о боевых конях. Об оружии, борцах и кулачных бойцах… все верно! Но кони, кони! Стенобитный таран ударил в богатырскую стать. Притомившийся ученик Бессона обмишулился на какой-то миг. И упал…
Вдруг - о чудо!.. Костоломы-копыта не доконали его. Конь отпрыгнул в сторону. Уже без всадника…
Род, шатаясь, поднялся. Увидел иных коней и иных людей.
- Ай-ё! - издал он кыпчакский крик.
- Катаноша! Катаноша!.. Яшник-урус! - загомонили окружившие его половцы, воскрешая памятное событие хурултая под Шаруканью.
Некоторые спешились. Род очутился в крепких объятьях.
- Кза! - сразу узнал он маленького шустрого оруженосца Итларя.
- Ай, какая встреча! - чумазо улыбался тот, ощупывая бывшего пленника забрызганными кровью руками, - Ты цел?
- Цел-невредим! - похвалился Род. - А где же Итларь?
Если тут Кза, значит, и Итларь где-то рядом.
- Пойдём, пойдём! - потянул юный степной приятель назад, в пустеющее поле боя, похожее на стол после пиршества с неприглядными остатками яств. Одной рукой он вёл своего коня, другой пытался поддерживать Рода.
Мимо пронесли изрубленные тела Дмитрия Жирославича и Андрея Лазоревича. Вечная память безрассудным боярам!
Орлай лежал навзничь с окровавленной грудью рядом с очервленевшей[309] головой Кузёмки Ортемова. А где Корза Рябой? А вон и он, Корза. Без рук. Неживой. Истёк кровью.
Род замер над долгощельцами. Здесь все они сошлись с черниговской конницей. Здесь же вскоре и полегли. Он, не сдерживаясь, стонал, ползая по земле от трупа к трупу.
- Друзья? - сочувственно спросил Кза.
- Более чем друзья, - сказал Род, поднимаясь на коленях. - Соратники!
- Князь Сантуз послал нас в помощь вашему князю, - объяснил Кза на своём языке. - Пойдём. Мёртвых не оживишь. Они там! - указал он на небо, - И ты был на волоске. Но остался здесь. Пойдём дальше жить.
Отряды половцев шли к воротам, а от ворот одиночками шли горожане, собиратели павших. Олуферь подъехал на розвальнях, издали заприметив Рода.
- Горе-то, горе-то! За что наказал Господь? - причитал он, укладывая трупы на сани.
- Вон он! - указал Кза.
Род увидел Итларя. Тот ехал верхом, полотнянобледный, даже не глядел вокруг. Двое навершных бок о бок его поддерживали. Род быстро подошёл, принял ханича с коня на руки. И вот уж Итларь на санях рядом с трупами.
- Умер? - в ужасе отпрянул Кза.
- Дай чистый плат и жгут, - велел Род Олуферю. - У кого вода есть?
Кто-то подал баклажку. Достав охотничий нож, Род проделал то же, что с Несмеяном Лученцом в степи: разрезал штанину, промыл рану, остановил жгутом кровь.
- Ногу так ему порубили, аж кость оскалилась, - сочувственно молвил Олуферь.
Поехали в город. Половцы охраняли сани со своим ханичем. Роду дали чужого коня. Кза благодарно держался около и захлёбывался словами:
- Наши… по-половецки… всегда так делают… Издали пустили тучу стрел. Те разбежались. А один сумасшедший убитый вдруг как вскочит, как рубанёт мечом по ноге моего господина и опять упал мёртвый. Веришь или нет?
- Что он тебе клекочет? По-ихнему ведаешь? - обернулся возница Олуферь.
- Дома толмачить стану, - пообещал Род. - Молодильная трава есть у тебя в запасе?
- Какая-такая? У меня много есть…
- Ну, гусиная плоть, нарубашень, что ли, у вас называется?
- Утробышень, - подсказал Олуферь. - Как же, как же! А кровь заговаривать ты, видать, обучен…
Дом Олуферя-лабазника под причитания его подружии Маврицы превратился одновременно и в скудельницу, и в лазарет. Тем же вечером схоронили Орлая и Кузёмку с Корзой. Тем же вечером очнулся Итларь и, увидев над собой лицо Рода, улыбнулся:
- Знал, что тебя тут встречу. Сердце не обмануло. Неволею шёл в поход, а с охотой. Сантуз приказал отцу. Месть Текусы!
- Неужто хоть вот настолько, - сложил пальцы в щепотку Род, - ты ей не люб?
Итларь тяжело вздохнул:
- У нас в Диком Поле не верят в победу Северского князя. А Сантуз принял серебро от Огура Огарыша. Мы обречены смерти.
- Зато мы рядом! - Род крепко сжал руку друга.
- Хорошо, - грустно вымолвил Итларь, - Только хан Кунуй тоже рядом.
- Кунуй… обречён смерти? - не верил Род.
- Он крадёжник, - усмехнулся Итларь. - Ухватил и - ищи-свищи! Его правило: ради крадвы хоть в омут головой!
Вскоре ослабевший Итларь уже спал. Род ещё долго припоминал над ним все подходящие Букаловы заклинания. Потом вымыл руки, истово читая молитвы.
10
У Святослава Ольговича в соборной палате ежедень пререкания. Пустые, как кувшин: один спорщик нальёт, другой тут же выплеснет. Берладник корил воеводу Внезда: дескать, обманул Рода, не вооружил, не окольчужил паличников, полёгших в неравном бою. Внезд бесстыдно возводил лжу, будто нищие дружинники из Берлада загодя опустошили его оружейный склад. Иван Гюргич равнодушно принял похвалы героизму суздальцев у Курских ворот и хмуро помалкивал. «Что толку в многоглаголании? - сказал он однажды Роду. - Вздорные споры! Всех в один кулак сожми, так только то и выжмешь, что съедено».
Молчал и Владимир Святославич Муромский, хотя по иной причине. Северский государь торжественно наградил новоприбывшего Ивана Гюргича Курском с Посемьем, меж тем как до того обещал Курск Берладнику, а Посемье Владимиру Святославичу. Изгнанник галицкий в силу южного характера пошумел-пошумел в тесном дружеском кругу и махнул рукой. Муромский же северный человек переживал обиду долго и тяжело.
- Чую, плакали и мои села по реке Рахне, - пытался утешить муромца Род, когда они шли по пустой главной улице, скованной морозом.
Ух, сечень выдался, каких старики не помнят! Мороз, заядлый злец, сёк пунцовые лица, забирался за стоячие воротники. Даже площадь не заманивала к торговым рядам. Малолюдье! Одинокая сивая кобылица, впряжённая в воз мороженой рыбы, нетерпеливо разбрасывала пар, ожидая хозяина. Ни криков, ни голосов. Деловой скрип шагов на сухом снегу.
- Больно помыслить, - жаловался Владимир Святославич, - Ведь всего двадцать лет назад брат нашего Ольговича Всеволод предательски изгнал из Чернигова дядю своего, моего деда Ярослава. Бояр его умертвил, жизнь с уделом присвоил. А наш нынешний государь помогал захватчику. Выходит, теперь я служу врагу.
- Отчего же тогдашний великий князь не наказал виновных? - спросил Род.
- Тогдашний отец князей Мстислав пообещал моему деду скорую заступу, да какой-то игумен отговорил его: негоже, мол, христианскую кровь проливать. А что Мстислав нарушил клятву великокняжескую блюсти порядок на Руси, тот грех игумен взял на себя для общего спокойствия. Так мы лишились княжщины. Дед, правда, получил выделенные из Черниговщины Муром с Рязанью. Да разве этой жизни хватит детям и внукам? Вот я и бедствую без угла.
Род помолчал, собираясь с мыслями, потом остановился как раз у корчмы, откуда заманчиво пахло жареным.
- А игумен-то прав, пожалуй, - остудил он Владимира, - Всякая война - зло. Льются потоки невинной крови, дабы наказать одного или нескольких виноватых. А те как раз избегают кары.
Владимир тоже остановился. Вкусил носом вытный дух корчмы. На слова Рода затряс головой.
- Ложная твоя мысль. Не всякая война - зло. Черниговцы не защитили деда моего Ярослава, захватчика Всеволода признали князем. Следовало их наказать. Тогдашний отец князей дал обет сыновьям блюсти среди них порядок. Пощадив виновных, он попрал священный закон. И пошло у нас беззаконие. Длится до сих пор. Тяжко мне, друг Гюрятич. Камень на груди. Предчувствие беды. Ты загодя углядел смерть бояр Дмитрия Жирославича, Андрея Лазоревича. Не прошу, а жалобно стенаю: открой… моя смерть видна ли тебе?
Род сжал плечи молодого князя, заглянул в его светлые глаза, попытался солнечной улыбкой осветить хмурый морозный день.
- От твоей близости мне спокойно, - объявил он. - Смерти ещё не вижу. А вот удача не за горами, коих здесь нет, а за лесами, что вблизи. Жди удачу, окольчужь душу, вооружись надеждой.
- Помозибо на добром слове, - оживился изгнанник. - Не повечеряешь ли со мной? - кивнул он в сторону корчмы.
- Рад бы, - отступил Род, - Да иной друг, не душой, а телом болящий, весь день ждёт меня.
- А, Итларь. - Владимир Святославич вспомнил рассказы Рода о половецком ханиче. - Как его нога?
- Нуждается в костыле. Р1з избы не пускаю. Боюсь, оскользнётся, - охотно сообщил друг Итларя.
- Государь не переселил его ближе к себе? - спросил муромчанин, зная об изначальных намерениях Ольговича.
- Молчит пока, - вздохнул Род. - Ну, - коротко обнял он Владимира, - до завтра, князь!
Хлопнула дверь корчмы, а одинокий наследник волхва заскрипел шагами в полной тишине пустой улицы.
Быстро и рано смеркалось.
Олуферя в избе не было, пошёл прибирать скотину. Маврица орудовала у печи. В истобке журчал голос, но не Итларя.
- Для гостя еду готовлю, - сказала Маврица. - Человек мой купил нынче белорыбицы на шесть денег.
- Откуда гость? - удивился Род.
- Не ведаю, - Маврица сунулась головою в печь, разгребая жар. - К тебе гость.
Род, разоблачившись, прошёл в истобку и замер на пороге. Итларь оживлённо говорил, лёжа на одре, помогая языку руками. Перед ним восседал спиной к двери - кто бы мог подумать!.. Род узнал эту голову-кавун, плечи матицей - Огур Огарыш!
- Кабы не я, быть бы тебе здорову, - плакался понурый богатырь.
триста половцев. И вовремя. Без нас Давыдовичи взяли бы Новгород-Северский как пить дать. Ты в моей напасти ни при чём.
- Повинен я, повинен, - бубнил Огарыш.
- Сказано, не по твоей вине мы тут, - терял терпение Итларь, - А вот боярин Родислав!
Огур вскочил и обернулся:
- По твою милость. Каяться пришёл.
- Здрав будь, княжий позовник! В чем тебе передо мною каяться? - изрядно удивился Род.
- Мой учитель объюродел! - рассмеялся ханич. - В киевском гимнасии творил из нас искуснейших бойцов и был великолепен. А тут скис, как переросший огурец. Грех такое молвить об учителе.
- Сядь, русский богатырь, - предложил Род. - Будь гостем.
- Нет! - рухнул на колени бывший княжий позовник и забил лбом об пол. - Я поднял села на братоубийство. Я не пустил тебя в твой Суздаль. Я винюсь в тысячах смертей! Намедни, едучи сюда, был в Долгощелье. Что узрел! - Он говорил бессвязно. Род силой усадил его. Огарыш бился головой в грудь юноши. - Вторыш Зырян… ну, однорукий… показал Апрось, истерзанную кметями, безумную. Сказал, была красавицей. Не верю. Зырян водил глядеть на тело Агницы. Черниговцы не разрешили хоронить. Зырян бы и не смог: вторую руку изувечили. Агница и староста Васята обороняли Долгощелье. Две головы - на спице! Село взято на щит. Полон весь продан. Кругом чёрная погарь[310]. Христиане!
- Среди кыпчаков тоже много татей, - вздохнул Итларь.
- Где здешние-то долгощельцы? - спросил Рода Огарыш.
- Орлай, Кузёмка и Корза погибли…
Бывший позовник затрясся, сдерживая всхлипы.
- То же в Крутоярье, Свенчаковичах, Гостиничах… Соединились души мучеников! Я нынче исповедался, да поп попался грек, по-русски понимает плохо, Не полегчало мне.
В истобку заглянула Маврица:
- Пожалуйте вечерять.
- Благодарствую. - Огур взялся за шапку.
Как Род с Итларем ни пытались удержать, он спешно одевался, плутая в рукавах овчинного тулупа.
- Который день кусок не лезет в горло, - виновато вымолвил Огарыш, уходя, - Простите Христа ради!
Молча повечеряли с семьёю Олуферя. Хозяин слышал разговор в истобке и, встав из-за стола, сказал:
- В чем молод похвалится, в том стар покается.
Род вывел ханича на воздух. От снега во дворе было светло. Уютно пахло конское назьмо. Брехали псы, суля защиту.
- Мне тоже впору исповедаться, - признался вдруг Итларь.
- Тебе? - Род вспомнил о единоверье друга.
- На мне тяжёлый грех, - признался ханич, - С тех пор как стал христианином, молился двум богам. Скрывал нательный крест от всех, кроме отца. Старик смирился. Я в Шарукани, словно нехристь, участвовал в хурулах. Боялся, строгая Текуса не примет сватовства христианина. Мусульманка!
- Наш Бог простит тебя. Избавит от любви к Текусе, - пытался непослушными губами успокоить Род.
Мороз обоих донял. Не разгуляешься на костылях.
Итларь, волоча ногу, пошёл к дому. Не оборачиваясь, произнёс:
- Нет, не избавит. Стыд признаться: люблю мучительницу, ненавистницу. Не меньше прежнего.
Хозяева уже храпели на полатях. Светец светил не дальше поставца.
- Боюсь я за тебя, Итларь, - признался Род. - Твоя судьба - мои худые ожидания.
- Не бойся, - сжал ханич его пальцы в трепетной ладони, - Нога по твоей милости почти здорова. А ожидания… Добра ждать - постареешь, ждать худа - не помолодеешь…
Утром на княжом крыльце Род встретился с Берладником.
- Никаких сил попусту соборовать! - сплюнул Галицкий изгнанник. - В думной палате будто отслужили панихиду. Пойду приму хмельного…
Род во дворце застал все те же споры в том же сумраке, а Северского князя в той же нерешительности.
- Сожгли Мелтеково! - пожаловался Святослав Ольгович. - Увели тысячу людей, три тысячи кобыл! На гумне сгорели девятьсот скирд хлеба!
- Подважники! - ругал врагов боярин Пук.
- Злодеи! - вскинул палец Святослав Ольгович, - В селе Игореве уничтожили братний дворец, церковь святого Георгия предали огню, из погребов повывезли меды и вина, из кладовых - железо, медь. Везли возами! Веселились!
- Взяты на щит Долгощелье, Крутовражье, Свенчаковичи, Гостиничи, - подсказал Род, душой оплакивавший Агницу.
- Знаю, - рявкнул Ольгович, - Вот ты, волхв! Двум моим боярам наворожил смерть. Что нам на завтра наворожишь? Защищать град или уходить к вятичам в леса?
- Не награждай меня виною, государь, - попросил Род. - Твои бояре в бой рвались без разума, я их остерёг.
- Брат, не серчай, ведалец прав, - вмешался Иван Гюргич.
- Вестоноша из Путивля! - вошёл в палату отрок.
Было велено ввести гонца. Человек внёс холод, мокроту. Представ пред князем, коснулся дланью пола. Прерывисто и хрипло стал говорить о взятии Путивля Изяславом Киевским. Давыдовичей путивльцы не впустили в крепость, а внуку Мономаха отворили ворота.
- Дурни! - молвил Святослав Ольгович.
В подтверждение его слов вестоноша сообщил, что Изяслав с Давыдовичами не пощадили церкви Вознесения - гордости путивльцев. Оттуда взяты ризы, убрусы, воздуха, шитые золотом, серебряные чаши и кадильницы, кованые Евангелия, даже колокола. Или княжой дворец разграблен: вывезено пятьсот берковцев меду, восемьсот корчаг вина, уведено семьсот рабов…
- А я вчера ходил в застенок, - гневно молвил его сын Олег, провожая взглядом вестоношу. - Там допрашивали пойманных зажитников[311] - двух страховидных торков и красавца берендея…
Северский властитель, видимо, знавший о такой удаче, спрятав утиральник, страшными очами оглядел собравшихся.
- Вот они, охотники до моего добра! - стукнул кулаком кутырь по жирному колену, - Будет их допрашивать! Предать всех смерти!
- Как повелишь? - спросил боярин Пук, ведающий донском у Северского князя. - Членоотделением? Отсечением голов? Повешением?
Святослав Ольгович замешался в гневе.
- Я придумал! - объявил Олег, - Чтоб всем ворам была наука, этих трёх за городской переспой облить водой. Пусть своё дело сделает мороз. Черниговские тати придут и призадумаются: как бы самим не превратиться в ледяных идолов!
Казалось бы, какое дело Роду до пойманных зажитников, трёх черных клобуков? Однако неприятный его сердцу северский княжич стал ещё более противен.
- Лихо придумано! - поощрил боярин Пук.
- Уж больно преизлиха! - цокнул языком ненастный Иван Гюргич.
- Волкам да будет волчья смерть, - хихикнул воевода Внезд.
Род, почуяв приближенье бури в душе и теле, спешно встал и вышел из палаты.
Иван Гюргич настиг его на последних ступенях лестницы. Потребовал вернуться, не оказывать свой гнев перед северским властителем так явно. Зачем из-за трёх черных клобуков портить отношения с хозяином? Род не послушал. Иван Гюргич отступился. Осталось сени пересечь и - на крыльцо.
А внутренняя буря все росла. Грудную клетку сдавливал железный обруч. Голова была полна тяжёлой кровью. Губы дрожали.
В пустых сенях лицом к окну стоял Берладник, глядя в непрозрачную слюду.
- Что с тобой, князь? - в приливе беспокойства подошёл Род.
- Ничего со мной, - Рука Ивана Ростиславича дотронулась до руки Рода. - А что с тобой?
- Я отчего-то не в себе, - признался Род.
- Я тоже, - объявил Берладник. - И знаю отчего. Мучают воспоминания. Как выпью, вспоминаю свой позор.
- Какой позор? - смутился Род, не ожидавший от прошлой жизни князя ничего позорного.
Ивану Ростиславичу, должно быть, тяжело было рассказывать, но он угрюмо начал:
- Князь Галицкий Владимирко лишил меня, племянника, отцовского наследства…
Берладник обернулся на такую словесную новинку и продолжил:
- Велено мне было жить в Звенигороде. И так меня звенигородцы полюбили!.. Однажды злец Владимирко, чтоб лопнула его ятрёба, как ты выразился, уехал в отдалённую Тисменицу ловить зверей. Народ послал за мной, чтобы вернулся в Галич, стал законным князем. Я согласился.
- Разумно сделал, - постепенно успокаивался Род.
- Разумно? Может, и разумно, да не взвешенно, - приговорил Берладник. - Владимирко тотчас вернулся в гневе, осадил Галич. Мои подданные защищали меня, как свою жизнь. Отчаянно сопротивлялся Галич. Я с дружиной сделал ночную вылазку.
- Ты храбрый воин! - отметил Род, помня отзыв суздальского Ивана о Берладнике, что выстоял с ним рядом в бою под Курскими воротами.
- Храбрый, да несчастный, - уточнил князь, - Владимирковы кмети отрезали меня тогда от городских ворот. Мне б пробиваться к Галичу хоть ценой жизни к своим подданным, оставленным в беде. А я стал пробиваться в другую сторону, к Дунаю. И пробился, ушёл в Киев. Галичане вскорости сдались. Плавали в своей крови. Владимирко не пощадил отчаянных. А меня ему в досаду приветил Всеволод, тогдашний Киевский великий князь. Теперь вот братцу его младшему служу.
- Так что ж тебя гнетёт? - Род, думая своё, не мог понять.
- Меня гнетёт моё предательство, - признался галицкий скиталец. - Не надо было по народной воле ехать в Галич. А согласился, обязан умереть иль победить, но вместе с галичанами. Вольно ж мне было пробиваться сквозь ряды врагов к презренному спасенью, а не к геройской гибели! Да прожитого не вернёшь. Казнись и кайся. - Вдруг Берладник обнял Рода и, жарко дыша в ухо, прошептал: - Скажи мне, ведалец, а долго ещё каяться?
Род отшатнулся от него:
- Иван! Уж от тебя-то я не ждал! Холодный к козням собственной судьбы - и на тебе! Подай ему, провидец, утешенье!
- Не утешения прошу, - скрипнул зубами князь.
Род пристально взглянул ему в глаза и посоветовал:
- Берегись яда… в дальнем городе… Не по-нашему там говорят… Мыкайся, а яда берегись. Прости мне эти речи!
- Пусть всех нас Бог простит, - понурился Иван.
Гулко топоча по лестнице, спустился в сени бодрый отрок:
- Родислав Гюрятич! Тебя наш государь зовёт откушать за своим столом. Изволь подняться в трапезную.
Мрачный галичанин отпустил руку друга:
- Что ж, ступай. Мою особу позабыли. Ты же не гордись. Иди.
Когда Род появился в трапезной, два человека обратили к нему взоры - сам Святослав Ольгович во главе стола и Иван Гюргич. Род понял: Гюргич надоумил кутыря позвать его к столу.
- Благодарю за милость, государь, - подошёл он к Северскому князю. - А я как раз с Иваном Ростиславичем беседовал в сенях. Он там один остался.
Намёк был слишком явный.
- Берладник трезв? - прищурился Ольгович. - Эй, позовите Ростиславича. Пусть ведает: в моем дворце готовят пищу лучше, чем в корчме.
Когда пришёл и этот приглашённый, пирники уже носили яства.
- Нам только продержаться! - приговаривал Ольгович, грызя телячью ногу, - Гюргий поспешает в помощь. Успеет, а? - обратился он к Ивану Гюргичу.
- Должен подоспеть, - пообещал Иван.
- С таким пособником, как Алтунопа, продержимся! - уверенно сказал Ольгович, поощрительно взглянув на полководца половцев. - Союзник мой Сантуз оставил Шарукань без лучшего из воевод, придал его мне в помощь, - продолжил он велеречиво.
Хотя Род знал от ханича Итларя, что Сантуз оставил Шарукань без воеводы по наущению Текусы. Княжна не нашла сил простить упрёка Алтунопы за то, что подло поступила с Родом, отправив его в рабство, да ещё придумав истязание в пути. Короче, проявила злобу и коварство, коих свет не видывал. Конечно, удивился Род такой заступе, ведь с Алтунопой у них близкого знакомства не было. Да и теперь воин-половчанин с ним перемолвился двумя словами: «Жив? Хорошо!»
- Нет, Алтунопа, ты не скромничай, - продолжал тем часом Святослав Ольгович. - Твои воины умело поймал и черных клобуков, зажитников, короче говоря, воров. Я слышал, хан Кунуй спроворил это дело? Молодец! Хвалю! А вот Итларь, как Илья Муромец, я чаю тридцать лет с тремя годами пролежит на печке. Жаль его! Да жалость - не хвала.
Владимир Святославич Муромский зарделся при суетном упоминании о былинном земляке.
Алтунопа хмуро возразил:
- Ты не прав, князь. Итларь смог отпугнуть черниговцев от Новгорода-Северского. Он принял главный бой и, раненный, обрёл победу. Поймать воров и осаждающих прогнать - работа разная.
- Да что ты, что ты, Алтунопа! - поднял руки Святослав Ольгович - одну с ножом, другую с мясистой костью.
Тут в трапезную неожиданно вошёл Огур Огарыш.
- Незваный гость хуже печенега, - пробормотал княжич Олег, изобретатель страшных казней.
Огарыш вскинул руку в сторону властителя, вперил в него дрожащий перст и хрипло крикнул:
- Ты!
В трапезной возникла растерянная тишина.
- Ты! - повторил Огур. - Ты всему виновник! Спасая брата Игоря, пожертвовал народом. Ради одного погибли тысячи. Стоит ли твой брат, не могший удержать стола[312], тысяч пахарей, рожениц, воинов? Стоят ли все, вместе взятые, Ольговичи потоков крови истерзанных, убитых, обесчещенных? Я повидал… я в их крови купался… Ты меня послал… ты думал только о себе, о вашей с братом власти… Я теперь думаю о них. И обречён на эти мысли до самой своей смерти, пока моя душа не вымолит прощения у тысяч душ, загубленных по твоей милости. Покайся, изверг!
Красный лик Северского князя резко побелел. Натужно, тяжело кутырь поднялся и сжал засаленные пальцы в кулаки. Его лоснящиеся губы истиха произнесли, чего Род не мог понять. Понял боярин Пук. Он подал знак. По зову отрока в палату мгновенно вошли несколько молодцев из обережи князя и бросились к Огуру, заломили ему руки…
Богатырь повёл плечами, и напавшие посыпались с него, как яростные псы с могучего медведя.
- Будь проклят, изверг! - закричал Огарыш князю.
Ожесточённо повскакав, охраныши напали снова и тут же отлетели в стороны.
- О, ад!.. Я вижу ад! - побагровел лицом Огур, - Вы что так очервленели? - обратился он к боярам и князьям, - Что так ополохнулись? Бесы преисподней, чуть справятся со мною, примутся за вас…
- Да наконец уймите же его! - взмолился Святослав Ольгович.
Род подошёл, отстранил рынд и взял Огура за руки. Искажённый лик с пляшущими мышцами воззрился на него.
- А, сила уму помощница? - Огур рыпнулся вырваться. - Силодёром не возьмёшь!
Род оторопел. Нет, не Огарыш был перед его глазами, а Бессон Плешок. Не красный - окровавленный. Он говорил эти слова бывало. И не в бездумном возбуждении - учительски спокойно. Каково же видеть, что у Бессона горло перерезано!
- Мне жуть мерещится, - прошептал Род, не отпуская рук Огура.
- Мне ад мерещится, - откликнулся Огарыш, не в силах высвободить рук. Пот увлажнял его, как в бане. В запястьях эхом отдавались удары сердца. Лик дрожал. Не оттого ли Роду примерещился Бессон? И горло-то не перерезано. Всего лишь поперечная морщина, - О, как дерёт в утробе и во рту! - стонал Огарыш. - Все ходит ходуном!
Он обвисал кулём в руках. На губах - пена. Род из разверстых уст богатыря учуял запах можжевельника и тут же бережно опустил на пол гору мышц, костей и мяса.
- Он обеспамятел? - подоспел Гюргич.
- Он мёртв, - ответил Род.
- Так очмурел, не выдержало сердце, - хохотнул Ольгович.
- Это не чмур - отрава, - сказал Род. - Зелье из донского можжевельника. Принял перед тем, как здесь явиться. Действует не сразу…
- Испортил, харапуга, пир, - в сердцах сказал Ольгович.
- За все испорченные жизни только и сумел что пир испортить, - вымолвил Род и вышел из палаты.
В дверях его настигли тягучие слова хозяина дворца:
- Из молодых, да ранний ведалец мне опостылел преизрядно!
Мороз сменился оттепелью. Улицы покрылись рыжей кашей. Предательски скользили ноги.
Не заходя в избу, Род прошёл в стойло к Катаноше, взнуздал её и оседлал. Игреняя кобыла поглядывала с любопытством на своего объездчика.
Во дворе они столкнулись с вышедшим без костыля Итларем.
- Далеко ли? - спросил ханич.
- Проедусь за переспу и обратно.
- Я с тобой, а?
Поначалу Род был против, но ханич убедил, что верховой ездой он ногу не перетрудит. А между тем так хочется хотя б коротенькой прогулки.
Род согласился.
Они выехали засветло. Из Черниговских ворот увидели сожжённое подградие. Люди здесь не копошились, как за городскими стенами. Что толку избы поднимать? Ждали новой осады. А за дальнею переспой кипел спорый труд. В золоте опилок и щепы возникал помост из брёвен и пластья.
- Что тут сработано? - спросил Итларь разгорячённого старшого.
- Князь ведает, - ощерился мужик.
- Меня спроси, - поворотил Род свою игренюю кобылу.
Ехали шагом. Род передал все речи и события на княжеском пиру. Умолчал о споре Алтунопы с кутырем по поводу Кунуя и Итларя. Чтоб огорчить чувствительного ханича, достаточно было рассказа о предстоящей казни черных клобуков и страшной смерти, коей безрассудно сам себя предал Огур Огарыш.
Итларь заплакал о своём учителе. Успокоил его Род лишь во дворе, рассёдлывая Катаношу.
- Что она так скалится и так уныло смотрит на тебя? - заметил ханич.
- Чует скорую разлуку, - предположил Род. - У самого такое чувство, что вот-вот расстанусь с ней. А отчего - не знаю. Должно быть, кони - ведальцы поболее, чем люди.
Неразговорчивы были в тот вечер Род с Итларем. Одному хватило виденного за день, другому слышанного. А за вечерей Олуферь вдруг объявил:
- На площади у моего лабаза бирюч только что кричал о казни. Поутру за дальнею переспой трёх черных клобуков кат обольёт водой. А будет ли мороз, одному Богу ведомо.
- Побреешься поглядеть? - спросила Маврица.
- А отчего ж не поглядеть на казнь воров? - икнул, отложив ложку, Олуферь. - Они зажитники! Нашего брата оголяют все зажитники, чужие и свои.
Итларя утром удивило не то, что Олуферь собрался глазеть на казнь, а то, что Род седлает Катаношу.
- Ты куда?
Воспитанник Букала не скрыл неловкости:
- Сам думаю: негоже туда ехать. А душа зовёт: езжай!
- Тогда и я с тобой, - обеспокоенно засобирался ханич.
Немалых трудов стоило уговорить его остаться.
Поезда розвальней с народом давно уехали. Род отпустил поводья. Катаноша полетела. Разгорячённый, он лишь по пару из её ноздрей понял, что мороз нынче могуч.
Немного же народу столпилось у помоста. Три привезённых узника при помощи охраны всходили по ступенькам. Им, видимо, недоставало сил. Вот их привязывают к трём столбам. Они в мохнатых черных шапках. На каждом остроплечее корзно, какие носят берендеи, торки и кокуи. Три ледяные статуи должны доподлинно являть собою черных клобуков, которых издали узнаешь по одежде.
Род, не желавший видеть страшного приготовления, вдруг против воли навострил глаза. И обмер… Третий, крайний слева, высокий… Те двое - торки, этот берендей… Это ж Чекман!
Вот кат подошёл к первому. Подручные подняли на помост корчаги. Торчин кричал на непонятном языке, окаченный водой, потом затих.
Род, знавший кое-что от Беренди по-торкски, понял: казнимый многократно прогорланил: «Дикари!»
А голову жгла мысль: вот-вот казнят Чекмана! Подступились ко второму торчину. Окачивают водой. Тот вскоре затихает. За ним - черед бедняги-берендея…
- Чекман! - раздался звонкий крик в морозном воздухе.
Река голов как по приказу обернулась вспять. Кат замер. Подручные не подняли корчагу. Род подскакал к помосту, спешился на свежетёсаный настил.
- Ведун! Ведалец! Волхв! - гукала толпа.
На улицах его давно оглядывали с любопытством.
Узнанный не обернулся к парному морю человеческих голов. Он прыгнул к палачам и жертве.
Удар в подреберье! Верзила-кат с помоста - головой в корчагу…
- Имай его! - ярится сотник.
- О, друг! Не верю! - еле шевелит губами, должно быть, преизлиха мученный Чекман.
Вот он освобождён и водворён почти на шею Катаноше. Сам Род - в седле.
- Имай их!
Полетели булава и сулица, даже бердыш, да мимо…
Катаноша отрывалась от погони.
- Вдвоём нам не уйти, - оглядывался Род.
- Зато умрём вдвоём, - дохнул ему в лицо Чекман.
- Нет! - рассердился Род. - Не помышляй о смерти. Не для того я оказался здесь. Один управишься? Как чувствуешь?
- Ай, на коне я снова человек! - похвастался Чекман.
- Прости, не смог освободить твоих друзей.
- Они мне не друзья. Лихие тати! Я их не удержал. Из-за их алчности попал в беду.
- Вернёшься, передай привет Байбачке.
Чекман отёр лицо ладонью:
- Ах, дорогой! Байбачка мёртв. Кабы не он, меня бы не было в живых. Проклятые торчины уцелели, а он погиб.
Род натянул поводья, резко останавливая Катаношу.
- Удачи, друг!
Уколол губы одичавшей бородой заросшего Чекмана.
- А ты? Нет, я тебя не брошу, - хватался за его одежду берендейский княжич.
Род потрепал по холке Катаношу. Он уже спешился и видел приближающихся всадников.
- Итларь обрадуется твоему спасению, - сказал он другу.
- Будешь в Киеве, запомни, - свесился с седла Чекман. - Улица Пасынча Беседа. Дом Кондувдея…
- Ай-ё! - воскликнул Род, шлёпнув по крупу Катаноши.
Поравнявшись с ним, стая всадников призадержалась.
- Взять этого? - спросил один из них.
- Вперёд! Его возьмут другие, - приказал, видимо, старший. - Того догоним!
- Долгого пути! - со смехом пожелал им Род. - За Катаношей гнаться - что за ветром.
Он долго шёл Черниговской дорогой. Ночной снежный покров, опятнанный копытами, сухо поскрипывал. Не помягчал мороз. Разгорячённый Род не прятал подбородка в воротник.
Вот стайка новых всадников и розвальни с кошёвкой преградили путь. Несколько княжих кметей спешились и осторожно стали окружать его.
- Сопротивляться будешь, как Огур Огарыш? - высунулся из медвежьих шкур в кошёвке боярин Пук.
- Напрасно вы ополохнулись, - остановился Род. - Я в княжей воле.
- Пойман ты нашим государем Святославом Ольговичем за явную измену и воровство, - изрёк боярин.
11
Если бесконечная тьма, холод, неподвижность - это смерть, стало быть, Род умер. Но мёртвые боли не имут. Он же порой зубами скрипел: так болело плечо! Сколько времени длится невыносимая боль, он определить не мог. С тех пор как разобрали пластъё над порубом и бросили узника в чёрную яму, время перестало существовать для него. Только тьма и холод. И тишина, если бы не знакомое попискивание, как в земляной тюрьме бродников в Азгут-городке. Боль не давала не то что встать, даже двинуться. Вскоре крысы привыкли и стали ползать по нему, как ручные. Но он ещё не отведал их острых зубов. А придёт страшный миг, и защититься не будет возможности: руки не освобождены от ременных пут, а левой не шевельнёшь, даже будь она и свободной. Должно быть, при падении вывихнуто плечо. Будь такая беда с другим, Род живо бы вправил ему сустав. Бессон Плешок выучил. Ведь при стеношном бое кости, как птенцы, вылетали из своих гнёзд. Теперь поблизости костоправов нет, одни крысы. А воздух, как в подземных усах под хоромами боярина Кучки, - сырой и тлелый. Дышишь, будто в дыхательное горло заглатываешь мокрую волосяную бечёвку.
Узник что открывал, что закрывал глаза - ничего не видел…
И вдруг увидал свет. Он не лежал в земляном пору бе. Он не ощущал прикосновения крыс. Он не скрипел зубами от боли. У него не было вывихнуто плечо. Он стоял на дощатом берегу Мостквы-реки, покрытом ледяным крошевом, истолчённым сотнями сапог, моршней и лаптей. Моложное зимнее небо источало белое марево. Тонкая снежная пелена, тут же тающая, ложилась на плечи и непокрытые головы мужиков, на шали и платки баб. Цепочка кметей при копьях и бердышах сдерживала толпу у берега, хотя в такой тесноте не поразишь копьём, не посечёшь бердышом. Люди привыкли к власти и соблюдали страх, не думая о её оружии. К краю настила, к самому льду реки, подошёл рослый человек в чёрном клобуке, чёрной понке поверх шубы-одевальницы. По толпе прошёл говор: «Епископ Феодорец!» Черные епископские отроки оттесняли людей. Кого же так бесчеловечно тащат к епископу - руки и ноги в колодках? Род обомлел. Он узнал Букала. Вот его подвели, держат под руки. Тощее длинное тело плохо прикрыто издирками, шевелящимися на зимнем ветру. Седые космы свесились на запавшие глаза. «Неистреблённому волхву нет покаяния! Исполните приговор!» - гулким голосом произнёс епископ… «Услышь, злой дух, спрятавший под клобуком рога! - хриплым басом произнёс Букал. - От моей казни недалека твоя. Посланцы князя Владимирского отсюда в часе пути. Ими будет пойман епископ ада, надевший православную панагию»… Чёрный Феодорец воздел к небу кулаки: «Заткните пасть старому лгачу!» Букал затих после удара в лицо. Под вой толпы его поволокли к проруби. Когда каты расступились, отирая мокрые руки полами полушубков, Род на блюде темной воды увидел белую голову старика. Он бросился сквозь толпу, не встречая сопротивления. Устремился к проруби на виду у всех, и никто его не остановил. «О, отец!» - простонал блудный сын, лаская пальцами поредевшие седины. «Я ждал, я ждал», - услышал он в ответ, хотя беззубый окровавленный рот был нем. Юный богатырь не пожалел силы, чтобы извлечь мученика из воды. И… не смог. Могучими руками он пытался разодрать путы на посаженном в воду старике. Путы не поддались. «Я бессилен, отец!» - воскликнул юноша. «Ты силен. - В глубоких очах Букала он узрел знакомый загадочный блеск. - Ты сейчас силен не телесной, духовной силой. Тело твоё в земляном порубе, душа со мною… Прими прощальный совет: позабудь Кучковну. Иначе стра… страш…» Веки Букаловы опустились. Больше Род от него ничего не слышал. А толпа на берегу то ли выросла, то ли раздалась в стороны. Появились иные кмети, длинноусые, безбородые, словно отроки князя Андрея, обликом сообразные новому киевскому обычаю. Явно отроки, а не кмети. Вон как почтительно очищают перед ними путь смерды, кряжистые, лопатобородые. С отроками боярин Короб Якун и новоприбывшие монахи. По его знаку берут епископа Феодорца под белы руки. И никто из обережи не защищает его. «Поят ты, еретик, волею князя Андрея Гюргича…» - важно возглашает Короб Якун. Епископ рвётся, колет вокруг глазами, вздыбленная борода с разинутым ртом, как заснеженная Мостква-река с чёрной прорубью. Но угрозы Феодорца потонули в одобрительном гуле толпы. Вот епископа повели к саням под улюлюканье и свист. Рассыпается по крупицам чёрная каша на берегу…
Как возник, так и померк серый зимний свет в очах Рода. Пальцы, ласкавшие холод мёртвой Букаловой головы, почувствовали пустоту. В уши полезло назойливое попискивание. Легкие снова наполнились сырой тлелостью. Вернулась гнетущая боль в плече…
Первый крысиный укус он ощутил в мизинце правой руки и отчаянно заработал пальцами.
- Лю-ди! - возопил он страшным криком, который должен был услышать весь мир. Неужели в этом мире не осталось людей, только звери?
- Мы тут, - прозвучал знакомый голос над головой.
Глянув вверх, он снова увидел свет, но уже не поверил этому свету. Над ним грохало раздвигаемое пластьё. Кто-то прыгнул в яму, задев его вытянутые ноги, причинив новую боль.
- Правей, правей опускайте лестницу, - возился кто-то рядом с ним.
Несколько рук ухватили его за ноги и плечи.
- О-о! - застонал потревоженный раненый.
- Осторожнее, недотёпы! - приказал сверху все тот же знакомый голос. Да это Иван Берладник! - Побережнее подымайте, побереж… - И звук оборвался на полуслове…
Род очнулся в санях на душистом сене. Целебный воздух обжигал лёгкие, как хмельное питье. Пели полозья. Пукал рысистый конь.
- А я говорю: доколь славянами будут править то варяги, то половцы? - приятно, как при застолье, звучали слова Владимира Святославича Муромского.
- Твоё возбуяние мне смешно, - возражал Берладник. - Ведь наш с тобою прапрадед Рюрик - варяг!
отцу черниговский русич. Все мои прабабки - славянки. Уж не о варягах речь. Теперь в наших княжеских домах не викинги, а кочевники. Вокруг тебя, словно в Шарукани, скуластые узкоглазые лица. Возьми здешнего государя Святослава Ольговича. А его сын Олег? А Иван Гюргич? А ты ещё не видел Андрея Гюргича! Какая уж там варяжская кровь! Сыновья половчанок! Не ведаю, как можно с половчанкой спать…
- Много ты ещё не ведаешь, молодой мой друг, - хохотнул Берладник. - По мне хоть полочанка, хоть половчанка, лишь бы детей рожала. Плох ли был Великий Мстислав, сын аглицкой королевы Гиты? А наш храбрый Иван Гюргич, сын Аепиной дочки - как там её? А моя подружия гречанка родила наполовину гречонка. Плох ли он будет, если сумею дать ему княжескую жизнь? Вот и стараюсь, да пока толку чуть. Вызволенный нами ведалец велел мне остерегаться яда. Да ещё на чужбине. Стало быть, нечего ждать добра.
- А мне предсказал удачу, - не сдержал хвастовства муромский изгнанник.
- Не будьте слепыми… от предсказаний не теряйте голов, - подал голос Род. - Волхв Букал, мой учитель, предостерегал… О-о! - тут же застонал он от боли.
- Потерпи, друже. Вот ты уже и дома, - склонился над ним обрадованный Берладник.
Конский храп замер. Сани дёрнулись. И раненый вновь потерял сознание…
- Бедное дитятко! Что они над тобой сотворили!
Сухие мягкие губы с нежностью прикасались к щекам и ко лбу. Не знавший материнских ласк юноша решил, что душа его окунулась в детство.
- Он открывает глаза! - обрадовался Итларь.
Род увидел себя в истобке на том самом одре, где только что выздоравливал ханич.
- Женщина, дай ему молока, - велел выросший у одра Алтунопа. - Парень три дня без питья и пищи.
Род жадно пил молоко из рук Маврицы.
- Как чувствуешь? - заглянул в глаза Итларь.
- Плечо! - оторвался от питья Род.
- Если будет ещё больнее, выдержишь ли? - спросил Алтунопа.
Род кивнул и вытянул мизинец правой руки:
- Прежде прижгите палец. - Он оглядел стоящих вокруг - Маврицу, Олуферя, Итларя, Алтунопу и Кзу. - Стало быть, третьего дня меня бросили в поруб? А почудилось - третьего месяца.
- Этак ты бы оголодал и окоченел, - насупился Олуферь.
- Женщина, приготовь повязку, - распоряжался Алтунопа. - Кза, подыми его.
- Осторожно раздевай раненого, дерьмо баранье! - выругал Кзу Итларь по-кыпчакски.
Разоблачившись до рубахи, разувшись и засучив рукава, Алтунопа отвёл руку Рода от груди, сильно вытянул и в мгновение ока со стороны подмышечной впадины надавил пяткой на головку плеча.
Страшная боль исказила лицо юноши. Он подавил крик.
- Три дня лежи, отдыхай, - велел Алтунопа, уже одетый.
Итларь выпроводил всех, даже Кзу.
- Сядь. Расскажи все, - с трудом выговорил Род.
Щадя покой друга, Итларь был краток. В третьеводняшнее злополучное утро Олуферь, наблюдавший казнь черных клобуков, оказался свидетелем и того, как привезли из степи к переспе пойманного Рода, освободителя берендея. Лабазник на своих розвальнях издали сопутствовал ему до самого поруба. Дома он все поведал Итларю, не забыв имени, которое прокричал Род перед тем, как броситься на помост к казнимым: Чекман! Это имя объяснило Итларю поступок друга. Ханич кинулся во дворец. Святослав Ольгович не захотел его выслушать. Бросить Рода в поруб подзуживали князя воевода Внезд, хан Кунуй и боярин Пук. Потом, аки свирепые псы, облаяли они и заступничество Итларя. Пришлось отыскать Ивана Гюргича. Тот вмиг досочился до всей подноготной. А тут подоспели изгнанники, муромец с галичанином. Общими силами, прихватив Алтунопу, осадили Святослава Ольговича. Князь отбил и их приступ. Не столько он сам, сколько те же его советчики - Пук, Внезд, Кунуй да ещё и княжич Олег. Тщетно Алтунопа свидетельствовал о дружбе Итларя и Рода с Чекманом ещё на хурултае под Шаруканью. После такого свидетельства государь косо глянул и на Итларя. Тогда Берладник решительно заявил, что уйдёт в Смоленск. Кутырь отмахнулся: мол, скатертью дорога. Иван Суздальский пригрозил пожаловаться отцу. Ольгович лишь потрепал его по плечу: «Гюргий на моем месте поступит такожде». Разгневанный Алтунопа глядел на Кунуя волком, тот скалился на него шакалом. И сидеть бы Роду в порубе до сей поры, кабы не гонец из Чернигова с тайной вестью: мало того что взят Путивль, Изяслав Киевский с Давыдовичами двинулись на Северск и Болдыж. Оттуда им прямой путь на Новгород-Северский. «Идут тебя ослепить!» - передал гонец Святославу Ольговичу. Северский князь потемнел лицом. С утра соборовали в большой палате. Внезд, Кунуй, Пук и княжич Олег со многими боярами подали дружный совет: «Спасай жену, детей своих и супругу Игореву. Иди из Новгорода». Они указали путь на Карачев. За ним - убежище, земля вятичей. В её лесах надёжно можно укрыться. Иван Гюргич, Алтунопа и оба изгнанника промолчали, держа обиду на северского властителя. О судьбе заточенца Рода пока что не вели речи. Однако гонец сообщил и о нём нечто важное Святославу Ольговичу. Князь сам вдруг объявил на соборе: «Освободить молодого боярина Жилотуга немедля!» Едва Пук возразил, государь наградил его такой бляблой, что лик княжеского любимца перекосился. Больше никто из ненавистников Рода не посмел раскрыть рта. А оба изгнанника, не дожидаясь конца соборования, устремились к порубу.
- За что Пук так на меня опузырился? - сонливо пробормотал обессиленный Род.
- С Внездом у них дружба, не разлить водой, а воевода к тебе зла не забыл, - напомнил осведомлённый Итларь.
Недавний страдалец уже смежил веки. Ханич бережно оправил покров на спящем и удалился.
Проснувшись, Род заморгал глазами: сызнова наваждение! Итларь у его одра обернулся Иваном Гюргичем. Суздальский князь пребывал в глубоком раздумье и не сразу заметил пробуждение младшего друга.
- Зашёл навестить болящего да сам тут с тобой едва не вздремнул, - улыбнулся он.
- Чем встревожен, Иван? - проник в его состояние Род.
- Ах, чем-чем! - отмахнулся князь. - Ссорами да которами вместо согласия перед битвой. Порешил Ольгович уходить в землю вятичей. Оставляет разорённый удел Давыдовичам. А мне эта трусость поперёк горла. Чую за ней худшую беду.
- Ох, и я чую, - сморщился Род, глядя в глаза Ивану. И, как бы боясь расспросов об увиденном в этих глазах, поспешил сменить разговор: - Ведаешь ли, что за посольник прибыл к Ольговичу из Чернигова? Итларь не ведает.
- Итларю здесь мало доверия, как и тебе, боярин, - вздохнул Иван, - Развязала против вас языки история с этим Чалканом.
- Чекманом, - поправил Род.
Иван продолжил рассказ:
- Прибыл тайно Якубец Коза, слуга Славяты Изечевича, бывшего пестуна Ольговича, который волей судеб ныне служит Давыдовичам. Ты его должен знать.
- Знаю и старика боярина, и Якубца, - оживился Род.
- Этот Якубец перед отбытием многое Северскому князю поведал о твоих черниговских подвигах. Даже я не ожидал от тебя такой прыти.
- Толку ли в прыти? - смутился Род. - Коснятко погиб… Послушай, - заторопился он, видя готовность Гюргича возражать, - когда я сидел в порубе, со мной приключилось удивительное событие. Душа вырвалась на волю и попала на берег Мостквы-реки. Там совершалась ужасная и неправая казнь. Названого отца моего и учителя, старейшего вятичского волхва Букала, сажали в воду.
- Тесно тебе сиделось, вот и пригрезилось! - посочувствовал Иван.
- Пригрезилось? - усомнился Род. - Ладно бы, коли пригрезилось. А скажи-ка, ведом ли тебе епископ Феодорец? Под его доглядом и по его изволу был казнён мой отец Букал…
- Разве ты допрежь не слыхал о ростовском епископе Феодоре? - удивился Гюргич. - Он живёт во Владимире. Народ презрительно называет его Феодорец.
- Где же мне было слышать о христианских епископах? - спросил Род. - В хоромах Кучки, где речь вели больше о домашнем попе Исидоре?.. В Азгут-городке, в богопротивном сборище бродников? Или в половецком плену?
- Как же тебе стал ведом наш ростовский владыка? - ещё более удивился Иван.
- А от свидетелей казни, что толпились у храма Николы Мокрого на Мосткве-реке. Они то и дело повторяли: «Феодорец!» Голоса их сотрясались от страха.
Иван раздумчиво щипал бороду.
- Да, страшное говорят об этом владыке. Идёт молвка, будто он варил женщин в котлах, отрезывал носы, уши, ибо жаден до чужих имений. Людей жёг, распинал на стенах, отторгая богатства. Все трепещут его, ибо он величествен, аки дуб, да рыкающ, аки лев. Язык имеет велеречивый, а мудрствование козненное.
- Отчего ж не накажут князья такого злодея в клобуке? - спросил Род.
- На то власть киевского митрополита, - объяснил Гюргич. - Брат Андрей строго предупредил Феодора, когда тот примучил его постельничего.
- Небось не только предупредил, но и взял под стражу, - заметил Род.
- Ты так полагаешься на свой страшный сон? - поднял растерянный взор Иван. - От кого ж тебе стало ведомо имя епископа? Или слышанное во сне совпало…
В избе раздались шаги, послышались голоса, хотя в истобку вошёл лишь один человек - князь Новгород-Северский Святослав Ольгович.
- Дозволишь ли, брат, нам с молодым боярином остаться наедине? - раскатисто спросил он.
Суздалец молча вышел.
- Мне впору перед тобой на колени стать, парень, - заявил северский властелин, едва они остались одни.
Род не знал, что и делать, когда кутырь в самом деле стал на колени, обхватил ноги юноши, опасаясь касаться перевязанных рук, и жалобно возопил:
- Прости, Родиславушка, своего государя. Кабы знал да ведал о ваших делах с берендейским княжичем, разве приказал бы казнить его, разве бы бросил тебя в поруб?
- Ты даже не выслушал меня, княже, - напомнил Род.
Святослав Ольгович, не названный государем, заметил это и погрустнел.
- Ныне скорблю о твоих страданиях, - с трудом поднимался он, взгромождаясь на лавку. - Не токмо телесных, а и душевных.
- В порубе страдало тело моё, - сказал юноша, - Душа пребывала на воле.
- Телесные язвы целятся легче душевных, - попытался утешить князь.
- Правда твоя, - согласился Род и переменил разговор: - Слышно, ты с дружиной покидаешь свой город?
- Иного мне не дано, - гулко вздохнул кутырь. - В ветхих стенах не отсидеться. Не о себе промышляю. Пекусь о княгине и детях да о свояченице с братней семьёй. Вестоноша донёс: брат принял схиму в Киеве. - Ольгович отвернул исказившееся лицо.
- Стало быть, Изяслав Киевский освободил князя Игоря из тесного заточения, как и ты меня? - облегчённо отметил Род.
Брат, из последних сил защищавший брата, не принял такого сопоставления:
- Ты будешь жить, беспокойный ведалец! А тот бедный узник, посхимленный, разве будет жить?
Род не откликнулся на слова кутыря.
- Когда его из поруба принесли в келью, брат восемь дней пролежал, как мёртвый, - продолжил Святослав Ольгович. - Лишь посхимленный святителем Евфимием в обители святого Феодора выздоровел.
Радоваться ли мне за отринутого от мира? Будет ли он жить? Что молчишь?
- Не вопрошай меня, княже! - взмолился ведалец. - Заклинаю: не вопрошай про жизнь брата.
Сочтя, что речь шла про мирскую жизнь Игоря, Святослав изрёк:
- То-то! - и тяжело поднялся. - Послезавтра уходим. Поспеши выздоравливать.
- Ужель думаешь избежать битвы, государь? - спросил Род.
Князь потеплел, услышав, что юноша вернулся к прежнему обращению, и мягко ответил:
- Отдаю себя и вас всех в Божьи руки.
- Надейся на высший промысел. Однако же в первой битве береги левое предплечье, - посоветовал Род.
Святослав Ольгович погрозил ему пальцем:
- Я тебе напророчу!
С его уходом затих говор за дверьми в избе.
Вошла Маврица:
- Из-за вельмож позадержались с вечерей. Встанешь или поешь, не сходя с одра?
- Встану, не торопясь. Позови Олуферя, - попросил Род, - Пособоруем семейно.
Чуть-чуть спустя лабазник с женой рядком уселись на лавку, вопросительно глядя на него.
- Благодетели, - ласково поглядел на них постоялец, - Пришла тяжкая пора. Надобно вам немедля продать имение и покинуть город. Тут наступит ад и скрежет зубов. Черниговскими хапайлами[313] Новгород-Северский будет взят на щит. Людей ждут насилия и убийства, имение - крадва и огонь.
- Куда ж мы пойдём, боярин? - ужаснулся Олуферь. - С гривнами да кунами вместо жизни!
- Нас обезденежит первый встречный, - всплакнула Маврица.
- Олуферя возьму оружничим, - пообещал Род. - А тебя, Маврица, - кашеварить в обоз. Моя обережь станет вашей.
За столом хозяин с хозяйкой во все корки ругали князя, бросавшего город на произвол судьбы, и чествовали Рода, как милостивца. После вечери лабазник отправился превращать в гривны нажитое добро. К соседкам с тем же пошла и Маврица.
Род, лёжа на одре, думал горькую думу. Мысли являлись темными незнакомцами, то ли правдивыми, то ли лживыми. И не на ком было проверить их. Выздоровевший Итларь жил теперь вблизи княжого дворца в терему, отведённом половецким начальникам. Ох, этот надрывающий душу Итларь с близкой смертью в глазах!
12
Луна не солнце: белый свет обернулся синим. Но все видать. Деревня смотрит черными лицами из снежных шапок и воротников. У изб по-кошачьи светятся глаза.
- Эгей! - богатырским стуком сотряс сонную оконницу нетерпеливый Иван Берладник, - Как зовут эту деревню?
Оконница поднялась. Трясущаяся борода ответила:
- Межемостье.
Дружинники и ополченцы уже растекались по дворам. Род, муромчанин Владимир и Берладник выбрали себе самый дальний двор, стоящий наособину. Решили: чем дальше от общей суеты, тем спокойнее.
- Истинно Межемостье, - вздохнул Владимир. - Мы сейчас как бы меж двух мостов. За одним - Новгород-Северский, отданный на поток[314] Давыдовичам. За другим… один Бог знает, что за другим.
- Почитай, половина бояр в Новгороде осталась, - ворчал Берладник, - Именно те, кто советовал князю покинуть крепость ради его же блага. Их благо с княжеским, стало быть, разошлось.
- А благо города с княжеским не расходится, - заметил Владимир. - Разве оставшиеся бояре предотвратят грабежи и убийства?
- Надеются оберечь свои домы, - сплюнул на девственный снег Берладник.
- Бедный Олуферь! Бедная Маврица! - подал печальный голос Род, - Вижу: оба мертвы. Погарь осталась от их о дворища. Не смогли продать скопленной жизни. Потому не захотели уехать. Не воспользовались моим пособом.
- Бегство вождя не скроешь! - жёстко сказал Берладник. - Кто купит чужое имущество перед всеобщим грабежом?
- Нажитое нынче гроша ломаного не стоит, - согласился Владимир.
- Нажитое переходит в награбленное, - уточнил Берладник.
Спешились у ворот, ввели коней сквозь незапертую калитку и увидели странную картину. Посреди двора стоял конь с мешком на морде. На нём задом наперёд сидела девица, держа во рту конский хвост.
- Что это? - испугался Род.
- Тише! - остановился Владимир. - У меня ведь из головы вон: завтра - Крещение! Девушка в сочельник гадает: если конь пойдёт к воротам, вскорости возьмут замуж, а ежели двинется к хлеву или амбару, жди замужества до морковкина заговенья.
Берладник, не рассуждая, резанул понукальцем по конскому крупу. Конь прыгнул в сторону. Гадальщица оказалась в сугробе.
На рёв испуганной дочки вышли родители. Встреча с ними была испорчена. Хозяйка сурово собирала на стол. Поесть не успели - пришёл княжеский позовник:
- Иван Ростиславич, Владимир Святославич и ты, Родислав Гюрятич! Государь ждёт вас к себе без промешки.
В высокой, облепленной пристройками, как вельможный терем, Старостиной избе Святослав Ольгович занял самый большой покой. Сюда он и пригласил пособоровать малую дружину[315]. Теперь она и взабыль[316] выглядела малой. Из бояр - Пук да ещё две-три бороды пожиже. Остальные бородачи в горлатных шапках истиха попрятались в беззащитном Новгороде-Северском ждать новых господ, новых милостей. Сидел ещё тут девяностолетний княжий сберегатель Пётр. «Вот кому возлежать на нетревожимой боярской перине! Ан нет, кочует со своим пестуном, пёсья мать!» - такие-то рассуждения вкладывал в ухо Роду Берладник, пока Ольгович держал совет об отчаянном их положении. Сочность густого голоса кутыря оборачивалась слезливостью. По доносу лазутников захватчик великокняжеского стола Изяслав был с главными силами вовсе не далеко - в полуторах поприщах. А храбрейший из Давыдовичей, другой Изяслав, тёзка великого князя, с киевским воеводой Шварном и тремя тысячами отборных всадников наступал на пятки. Как быть?
- Спасать семью. И твою, и братнюю. Бежать в вятские леса, - посоветовал воевода Внезд.
- Внездушка прав, - согласился боярин Пук, - Пока мы управимся с одним Изяславом, нас догонит другой, посильнее. Тогда пощады не жди.
- А от двух Изяславов нам не уйти? - робко спросил Святослав Ольгович.
- Ежели оставить обоз, - начал рассуждать Пук. - А без обоза придётся в зимних лесах окочуриваться голодной смертью…
- Суесловием занимаетесь, - зло сказал Берладник.
- Коли ты не суеслов, так пошто молчишь? - завопил на него боярин Пук.
- Поперёд батьки в печь не лезу, - не полез за словом в карман галицкий скиталец. - Иван Гюргич старше меня, пусть скажет.
Все взоры сошлись с надеждой на сыне Суздальского Георгия. Иван что-то изображал угольком на скоблёных досках стола.
- Вот, - отложил он своё писало и стал водить пальцем по столу. - Должно нам здесь разбить слабейшего Изяслава, пока не подоспеет сильнейший. Бежать нельзя, ибо Давыдович со своей лёгкой конницей прищемит пятки. Сейчас его трёхтысячный отряд для нас страшней главных сил. Однако разбить его труда не составит. Одна заковыка: времени отпущено вот настолько, - Иван показал щепоть. - Думайте, братие, как построить битву.
- А ты, брат, нам её и построй, - вкрадчиво попросил Ольгович. - Будь нашим большим воеводой. Да я гляжу, у тебя уже все построено, - ткнул он мясистым пальцем в угольный чертёж на столе.
- Добро, - чуть кивнул Иван и стал объяснять: - Вот деревня. Вот лес. Вот поле. При подходе Давыдовича к деревне мы всеми силами отступаем в лес. Он - за нами. Мы лес проходим насквозь. Он - за нами. Мы в поле выстраиваем полчный ряд[317] для битвы. Он - тоже. Он считает нас вынужденными к рати и даёт сражение на избой. Наша же тайна в том, что мы не все выходим в поле из леса. Не все! Сторожевой полк[318] остаётся, хоронится в чаще и тихо пережидает, пока оба войска покинут лес. В поле разгорается битва. Наш полчный ряд, якобы не выдержав, даёт плеча[319]. Супостат - за нами. А за ним-то как раз выскакивает из лесу наш сторожевой полк. Посполу[320] с главными силами он сбивает противника в мяч - и для Изяслава Давыдовича всё кончено.
- Мне по нраву такой ход дела, - отёр влажный лоб кутырь и вопросительно посмотрел на Ивана Гюргича, ожидая дальнейших распоряжений.
- Давайте распределимся, - предложил суздалец. - Я возглавлю большой полк[321] и стану в чело полчного ряда. Мой галицкий тёзка берет правое крыло, - взглянул он на Берладника. - Во главе левого крыла станет Владимир Святославич, - дотронулся он до руки муромчанина. - А сторожевой, то есть засадный, полк составит наш друг Алтунопа из воинов хана Кунуя, ханича Итларя и отряда моего земляка Родислава Гюрятича.
Внезд, лишённый не только главного воеводства, даже какого-либо начальствования в полчном ряду, пытался было протестовать, да государь не повернул к нему головы, занятый тонкостями предстоящего боя.
- Пусть все окольчужатся и вооружатся, - приказывал между тем Иван Гюргич. - А мечники, седельники и коштеи[322] пусть отведут по дал её сумных и товарных коней[323]. Сон у нас будет краток. С рассветом ждите врага и - в лес.
Род вышел на морозный воздух вместе с Итларем.
- Что-то ты через меру тревожен, мой друг? - спросил ханич.
- Не понравилось, как хан Кунуй на тебя смотрел, - сказал Род.
- Теперь он всегда на меня так смотрит, - отмахнулся Итларь. - С тех пор как отнял тебя у него, а самого заукрючил. Помнишь?
Шли они почему-то не на ночлег, а к темной околице.
- Ты куда? - удивился Род.
- Не следуй за мной. Ступай спать, - попросил Итларь, - Я хочу выйти в поле.
- Я с тобой, - настаивал Род.
За деревней дорогу перемела позёмка. Сбиваясь с пути, они проваливались выше колен, выкарабкивались и снова шли, пока избы не слились позади с кромкой леса в одну чёрную полосу. Наконец ханич остановился и поднял палец, призывая Рода к молчанию. Тишина воцарилась, как в глубине небес, где нет ничего живого. И вдруг эту чёрную тишину прорезал ещё более сумрачный волчий вой. Он покатился вдаль заунывным могучим звуковым ветром. Степной царственный волчий вой! Это выл Итларь, выкормыш дикой кыпчакской стаи. Выл всей гортанью, всей грудью, как взаправдашний волк. Вот звук оборвался. И вновь тишина… Наконец откуда-то из дальних далей слабой струйкой, постепенно крепчая, достиг их ушей ответный уныло-могучий звук. Это тоже был волчий вой, не отличимый от предыдущего, но, они знали, всамделишный. Ночью в степи волк ответил волку. Итларь повернулся и зашагал к деревне.
- Ах, друг, это я гадал, - смущённо признался ханич. - По нашему половецкому обычаю перед битвой выйди в степь и взвой волком. Если не услышишь ответа, жди поражения. Если волки ответят, одержишь победу. Теперь я знаю: мы победим!
- Я и без твоих волков знал то же самое, - далеко не радостно вздохнул Род. - Когда Иван Гюргич говорил, я видел битву и нашу победу. А ты ради Бога, в которого мы оба поверили, прислушайся к моим словам, будь настороже. Вспомни, что я предрёк тебе когда-то в степи: твоя смерть от ножа в спине. Сегодня чую: этот нож уже занесён.
- Все твои чувства, мой друг, от излишней усталости, - успокоил Итларь. - Приклоним-ка головы до рассвета. На свету и чувства светлее.
Чуть прояснился бычий пузырь в окне, Рода разбудил стук в оконницу. Едва успел испить молока со своими совсельниками-князьями, муромским да Галицким, и - во двор. Нерассёдланных коней пришлось оторвать от овсяных торб. Войско Святослава Ольговича устремилось в лес. А с противоположной стороны, с поля, черниговская конница с уроем неслась к деревне. Сторожевому полку пришлось весьма долго отсиживаться в чаще, так как воины, и свои и чужие, проблуждали с конями в дебрях и не вдруг скопились в залесье. Да и отличительных повязок ни эти, ни те не догадались надеть. Различи-ка попробуй черниговцев с северянами! Русичи с обеих сторон, да ещё соседи. Кое-кто попал не в то войско. При разборках возникли стычки с первыми жертвами. Срам, да и только. Наконец засада в лесу услыхала ровный шум общей битвы - конский храп, ржанье, стальной лязг, человечьи крики.
- Русские мутузят друг друга, - сказал рядом с Родом половец по-кыпчакски.
- Рвут сердце наши вопли и стоны, - страдальчески пожаловался товарищам кто-то из уцелевших долгощельцев.
Алтунопа отвёл бывшего половецкого яшника в сторону:
- Слушай, боярин! Я наших пущу вперёд, а ты со своими следуй за нами. Так приказал сын Гюргия. Боится: если черниговцы устоят, наши дадут плеча по степному обычаю. Удержи их тогда, чтоб хитрое дело не захлебнулось.
Закричали гортанными криками степных птиц наблюдатели с лиственных вершин. Алтунопа пронзительным свистом бросил всадников в седла.
- Ай-ё! - И засадная сила выскочила в спину врагу.
В лесу было сумрачно, в поле не просветлело.
- В Крещенье солнце и мороз - к летней засухе, а тучи и снег - к доброму урожаю, - сказал Роду долгощелец, глядя на низкую хмарь вверху и белизну впереди.
- При русской замятне[324] и урожай не в радость, - успел откликнуться Род.
Лава остервенелых всадников понеслась, ощетинив копья.
В лесу Роду трудно было не упускать Итларя из виду. В поле он сразу же заприметил его лисий треух, сверкающий рыжиной в белом мареве, и уж не спускал с ханича глаз. Половцы зимой пренебрегали холодными шлемами, да и рубаки из них не стойкие, а издали да наскоком воевать в тёплых малахаях уютнее. Вот он, во-он он, Итларь! А перешедший на сторону черниговцев снег так и сечёт глаза. Взбодрённый ветром снег не даёт плеча, в лицо встречает нападение из засады. Во-он он, Итларь, со своими половцами! А встречный ветер усиливается, снежная пелена густеет, визг вьюги смешивается с половецким визгом. Черниговцы бегут споро, ударяемые с плеч князьями, а со спины ханами. Должно быть, велик ураз во вражьих рядах. Вот Итларь поднял уразное копье, замахнулся, сейчас поразит кого-то. Значит, настигли преследователи бегущих. Не успел Род вдоволь налюбоваться пылким, воистым другом. Вздутый на ветру чёрный емурлак скрыл от него Итларя. Когда емурлак исчез, Итларь лежал ничком на гриве коня, постепенно сползая на бок. Пробуравливая половецкую лаву своим конём, Род настиг ханича, ухватил узду его аргамака, остановил скачку. Их обтекали безумноглазые всадники с занесёнными копьями. Никто не остановился. Ханич лежал на своём коне, придерживаемый Родом, и тот уже знал, что друг мёртв. Наборная рукоять ножа торчала из его спины. Кто нанёс удар? Чья подлая суть скрылась под вздувшимся черным емурлаком? Явно это был свой, не враг. Врагами в их рядах и не пахло. Враги удирали впереди, а не за спиной. Если Род не видел лица убийцы, он мог со спины, хотя б по фигуре опознать своего. Чёрный емурлак скрыл! Ловко было рассчитано. Однако ж не без прорехи расчёт. Попробуй, скрой такую улику! Чёрный емурлак - не варежка и не пояс. Между тем Род всей ладонью ухватил рукоять ножа и осторожно извлёк его из мёртвого тела. Рукоять была ещё тёплая. Тепло от руки убийцы ещё сохранялось на ней. Это отвратительное тепло перешло в руку Рода. Он вполне явственно увидел знакомый волосяной трезубец, опущенный вниз: два крайних зубца - усы, средний зубец - узкая, длинная азиатская бородёнка. А над трезубцем - наглый прищур Кунуя. Все, что увидел его внутренний взор, нисколько не удивило Рода. Ещё вчера на соборе малой дружины он уловил редкие взгляды хана Кунуя в сторону Итларя. А разве до этого хан, затаивший месть, не одаривал своего сородича подобными взглядами? Но кто видел сегодняшнее убийство? Многие видели, и никто не заметил. Теперь попытайся изобличить убийцу! О, какой длинный нож! Не наш, должно быть, с Хвалынского моря купцы завезли, арабский! Конечно, Кунуй не носил такого ножа, прятал, преступная хитрая голова. Род уложил друга на снегу, опустился перед ним в снег и прильнул лбом к его заснеженному челу, на котором снег начал таять лишь от прикосновения Рода. Лисий треух кровавым пятном распластался около.
- Эй, всех не оплачешь. Ты кто? - громом прозвучал над мёртвым и живым гортанный бас Алтунопы.
Род встал, отряхиваясь от снега.
- Итларь мёртв, - сказал он. - Его поразил хан Кунуй ножом в спину.
Лицо Алтунопы окаменело. Он бросился ниц и внимательно осмотрел убитого. Потом встал и дотронулся пальцем до груди Рода. Глаза оставались жёсткими, речь прозвучала мягко:
- Ты ему большой друг, я знаю. Потому твой разум сейчас в смятении. Кунуя не обвиняй напрасно.
- Он убил его на моих глазах, - настаивал юноша.
- Он не имел вот этого оружия, - ткнул в наборную рукоять Алтунопа. - Нож хвастливого Кунуя я видел.
- Он был в чёрном плаще, - горячился Род.
- Многие носят черные бурки, - охладил его Алтунопа. - Одежда не убивает. - Чуть помолчав, он заговорил спокойнее: - Есть среди нас погибшие в этой битве. Итларь - один из них. Погорюем о нём и отправим тело отцу его Тугоркану.
Из белой мглы возникали всадники. Пешие собирались возле трупа Итларя. Лица, возбуждённо-радостные от выигранной битвы, быстро темнели при виде мёртвого ханича.
- Простись с другом, - велел Алтунопа, - и поспеши к своему князю. Ольгович ранен. Кза, проводи молодого боярина в княжеский шатёр и возвращайся немедля.
Едучи по полю, Род утешал плачущего Кзу.
- Оставь, - говорил неутешный оружничий ханича. - У тебя нет слез, тебе тяжелее.
- Ах, я не уберёг его, - казнил себя Род. - Берег и не уберёг. Дьявольская злоба Кунуя нынче же возвратится в него и отравит смертельным ядом.
- Не говори так, - взмолился Кза. - Я не верю в вину Кунуя.
У княжеского шатра они обнялись.
- Потеряв господина, теряю друга, - прошептал Кза по-кыпчакски.
Боярин Пук, издали увидав Рода, уже бежал, размахивая рукавицами:
- Куда ты запропастился? Государь кровью исходит!
Рана у Святослава Ольговича оказалась пустячная. Кость была не задета, но из рассечённых тканей жарко струилась кровь. Кутырь лежал без сознания, дыша, как кузнечный мех. Юному знахарю принесли горячей воды, потиральце, полотно для повязок. Мановением пальцев он заставил всех отойти и склонился над раной. Если бы окружавшие могли слышать, они разобрали бы в его шёпоте странные слова: «Нейди, руда, из горы. Ступай, руда, в гору. Фу-фу! Не лей, дождь, из тучи. Вернись, дождь, в тучу. Фу-фу! Гора, хорони руду. Туча, не отдавай воду. Адамова глава, из каменных бугров, цветом червлёная, ростом в локоть, видом в кувшин, всем травам - царь, закрой поток, сомкни гуор скоро-наскоро крепко-накрепко на веки веков… Фу-фу!..»
Окружавшие не разбирали шёпота. Они слышали лишь бурное дыхание юноши. Видели, как он дул на рану: «Фу-фу!» Вот извлёк он из-за пазухи красный порошок, посыпал кровоточащую плоть. Потом встал, читая молитвы, тщательно вымыл руки. Князь тем временем открыл глаза.
- Я ранен, - простонал он. - Моя рана…
Приближённые окружили его.
- Только что была рана, - удивился боярин Пук, - Осталась одна царапина.
- Наказывал же я тебе, государь, - сказал Род, одеваясь у выхода из шатра, - в первой битве беречь левое предплечье. - И вышел на воздух собраться с силами.
- Ты и взабыль искусный целитель, - подошёл к нему Иван Гюргич.
- Итларь убит! - воскликнул юноша дрогнувшим голосом. - Мстительный кровоядец Кунуй поразил его ножом в спину на моих глазах.
- Охолонись, - обнял суздалец земляка. - Мне Алтунопа рассказал о твоём догаде. Горе родило в тебе неправоту. Половцы считают, что в погоне Итларь слишком вырвался вперёд и оказался среди бегущих. Его убил враг.
- Враг Кунуй, - упрямо уточнил Род.
Он коротко сообщил Гюргичу, как в степи был спасён Итларем от хищной орды Кунуя и как после складывались отношения между ханом и ханичем.
- Стало быть, Кунуй и твой враг? - поднял палец Иван. - Вот и причина всех твоих подозрений.
К ним подъехали муромчанин Владимир, Иван Берладник, Алтунопа и хан Кунуй.
- Ваш князь просит осмотреть стены и заборола города Карачева, - сказал Алтунопа Ивану Гюргичу.
- Мыслит: не отсидеться ли там до помоги твоего батюшки, - объяснил Берладник.
- Добро, - вскочил в седло Гюргич. - Поедем с нами, земляк, - пригласил он Рода.
- Ты убийца и есть, - мрачно процедил Род.
Среди половецкой обережи загомонил ропот.
- Придержал бы язык, боярин, - прошипел Алтунопа.
- Тебе подвели коня, - ободряюще кивнул Гюргич земляку и, отметая лишние разговоры, крикнул: - Айда!
Кучка всадников взметнула снежную пыль на дороге к Карачеву.
Это был отнюдь не Новгород-Северский. Подградие не разрасталось вокруг него. На единственной осевшей переспе - невысокие деревянные стены, давно не чиненные. Охраныши у ворот лишь с палицами в руках да с топорами за поясом.
- Ездят вкруг города кмети передового полка черниговцев. Будьте настороже, - предупредил один из них.
В городе уже знали о победе Ольговича, открыли пред ним ворота, боялись теперь своих Давыдовичей.
Прибывшие поднялись на стену, оставив обережь внизу.
- На таких заборолах долго не выстоишь, - отметил Берладник, вертя головой.
В самом деле, крыша прохудела и прогнила, дощатый пол предательски скрипел под ногами, в защитном бревенчатом ограждении зиял обширный пролом.
- Тут кроме бойниц - щели толщиной в руку, - заметил Владимир Святославич.
буки, друзья Изяслава Киевского. Они тоже заметили нас, глазастые. Ишь как целятся!
Он отвёл хана Кунуя в сторону, где как раз стоял Род. Хан глумливо затряс своим волосяным трезубцем и сузил без того узкие глазки.
- Ой, боюсь, друг Итларя убьёт меня.
- Твоя злоба тебя убьёт, - пообещал Род.
- Прекратите же хоть сейчас-то! - не выдержал Иван Гюргич.
- А я Родиславу верю, - коротко кинул Берладник.
Эти слова упали искрами в пылкий сушняк. Глазки Кунуя расширились и зажглись. Он затарабанил козловыми сапогами вниз со стены по гнилым ступенькам. Алтунопа не успел высказать укоризну Роду с Берладником, как Кунуй уже возвратился с черным емурлаком в руках. Он распотрошил торока на своём коне и теперь потрясал плащом как добычей.
- Вот он, вот! - тыкал чёрную одежду в лицо Роду взбешённый хан, - Ты видел его на мне? Да? В этом халате я убивал Итларя? А вон погляди! - сунул он пальцем вдаль, где у леса кучковались черные клобуки, - Вон на них то же самое, даже цвет такой же. Проклятый яшник!
Род спокойно держал емурлак, очень внимательно рассматривая его. Кунуя бережно отвели от пролома за бревенчатое ограждение. А на юношу все глянули осуждающе. Все, кроме Берладника.
- О силы небесные! - крикнул он, - Покарайте этого гнусного мстителя, если он убийца!
- Оскорбление всем кыпчакам! - в свою очередь закричал Алтунопа, смутив русских князей непонятной речью.
Никто не успел ему возразить, хотя все почувствовали угрозу. В этот миг рухнуло тело на гнилой пол. От удара одна доска отлетела, и нога Кунуя провалилась в дыру. Под пазухой хана торчала стрела. Лицо поверженного окрапили красно-бурые пятна.
- Откуда стрела? - всплеснул Владимир Святославич руками и нагнулся над ханом. - Ведь он перешёл под защиту брёвен.
- А в этой защите щели толщиной в руку, - надоумил Берладник.
- Стрела отравлена. Он умирает, - сквозь зубы вымолвил Иван Гюргич.
Род подал Алтунопе чёрный емурлак.
- Гляди, воевода кыпчаков, внимательно гляди, вот! - показал он ногтём мизинца едва различимое пятно крови.
Алтунопа сунул это место плаща в затухающие глаза Кунуя и спросил по-кыпчакски:
- Чья кровь?
Посиневшие губы хана прошептали на родном языке:
- Его кровь…
Поражённый стрелою умер, а живые стали осторожно спускаться со стены. Все восприняли эту смерть как небесную кару.
- Уберите сверху шакалью падаль, - велел Алтунопа своим половецким воинам, глянув в болтающуюся под заборолом ногу Кунуя.
- Что он им сказал? - спросил Владимир Святославич, чуть отойдя.
- Назвал убийцу собачьим стервом, - пояснил Иван Гюргич, ещё матерью своей, Аепиной дочкой, выученный кое-чему по-кыпчакски.
Алтунопа и Иван Гюргич с Владимиром Святославичем отправились доложить Северскому князю о ненадёжности карачевской крепости. А Берладник заявил, что после всего случившегося он должен получить утешение в первой же корчме. Род увязался с ним.
- Так ты же трезвенник! - удивился галицкий изгой.
- Вокруг слишком много крови, чтобы не испить вина, - пробормотал юноша.
Посиделец принёс им потрох лебяжий, солонину с чесноком, осердье лосиное крошеное, молоки да печёнку налимью и кувшин жжёного двойного вика.
- Не порите горячку. Ольгович не сделает худа нашему городу, - рассуждал посадский мастеровой за соседним столом. - Мы перед ним открыли ворота.
- И не гораздо сделали, что открыли, - возражал провонявший рыбой торговец. - Обдерут нас как липок.
Род слушал и говорил о своём:
- Любимых людей смерть косит, нелюбимых не трогает. Почему такая несправедливость?
- Твой ненавистник Кунуй поплатился жизнью, - вставил Берладник.
- Грязной жизнью чистые не оплатишь, - вздохнул Род, расплавляя камень в груди горячительной влагой.
Едва они вышли из корчмы, Берладник заметил:
- Э! Кажется, прав был торговец рыбой. Гляди-ка!
Глаза Рода и без приглашения видели более чем достаточно. И уши слышали страшное. Двое кметей, наступая на вырванные с петлями двери, деловито выносили из церкви золотые сосуды. За поваленными воротами в глубине двора из богатого дома вылетела оконница вместе с трупом бородатого отца семейства. И сразу же - бабий визг с мужской руганью, шум борьбы…
- Кто ворвался в город? Черниговцы? - недоумевал Род.
- Своя своих не поз наша, - сжал кулаки Берладник. - Вон в конце улицы молодцуется воевода Внезд. Здесь для него подходящее поле брани.
Разгоняя плетями подважников-кметей, они подскакали к Внезду. Воевода был пьян.
- Подлый хапайла, прекрати татьбу! - заорал Берладник, поднимая оружие.
- Опусти свой меч в ножны, княже, - мирно остановил его предводитель грабителей. - Государем сей град отдан на поток войску. Мы в Карачеве не задержимся. Заутро все выступаем в вятские леса. Торопитесь на пир. Святослав Ольгович ждёт вас в княжом шатре.
До самых городских ворот провожали Рода и Берладника вопли, стоны и матерщина.
- Во имя чего все это? - прокричал юноша своему бывалому спутнику.
Иван Ростиславич ничего не ответил.
В просторном княжом шатре пированье шло от души и от пуза.
Ещё не разоблачась, у входа разгорячённый бешеной скачкой Род услышал знакомый голос. Удалый тайный гонец, сидя под рукой хозяина стола, источал таланты рассказчика:
- Изяслав Давыдович говорит: «Пустите меня за ним. Пока Святослав на воле, он не перестанет отыскивать свободы своему братцу Игорю. Ежели уйдёт от меня, жену и детей у него отыму». Изяслав Мстиславич разрешает: «Ступай». Даёт три тысячи конной дружины и воеводу Шварна. Садится великий князь в лесу отобедать. Ждёт от подколенника вестей о победе. И весть приходит: Изяслав Давыдович наголову разбит! Тут Изяслав Мстиславич так осерчал, даже кулак о морду гонца поранил. В полдень явился и Изяслав Давыдович, повинная голова.
Тесное окруженье князя пировало в шатре. Вольно было лазутнику оказывать себя без опаски.
- Что за княжьи имена нынче! - смеялся боярин Пук. - Изяслав, Мстислав, Изяслав, Мстислав! Не разбери поймёшь, кто и кто. То ли дело встарь: Рюрик, Олег, Игорь, Владимир!..
Чадили жаровни… Коптили свечи…
Перевязанный Святослав Ольгович, изрядно охмелев, веселился напропалую.
племяш, мой тёзка Святослав Всеволодич, и дурни мыслят, что сын свергнутого великого князя им предан. Дуля им с постным маслом! А, Шестопёр? Как тебя там, Первуха или Вторуха?
- Первуха, - угодливо подсказал приятель Нечая Вашковца, верный дружинник Святослава Всеволодича. И тут заприметил Рода. - Дозволь, господин, изойти наружу, вдохнуть морозцу? - обратился он к князю. Получив изволение, Первуха увлёк Рода из шатра: - Ой, друг, большой привет тебе от Нечая.
- Как там Чекман, берендейский княжич? - обеспокоился Род. - Увидишь, скажи, что Итларь убит. Чекман знает ханича Итларя. А убийцу, хана Кунуя, Бог поразил отравленной стрелой.
- Не в себе ты, - трезвея в ночном морозе, подметил Первуха. - Я тоже часто не в себе. Мыкаюсь, как челнок, от врагов к друзьям, от друзей к врагам. Перепутал уж начисто, где друзья, где враги. И тебе, гляжу, здесь не жизнь.
- Какая жизнь в окружении смертей? - ответил Род и спросил: - Вот скажи на милость, отчего так? В узких зрачках злеца Кунуя я видел отмщенье смертью. В очах грешника воеводы Внезда тоже вижу скорую Божью месть. А в ясном взоре князя Святослава Ольговича, по вине которого льются реки крови, вижу долгую жизнь. Где же ему возмездие?
Первуха, выскочивший без верхней одежды, поёжился и подул в ладони.
- Слишком умно ты спрашиваешь. По моему бедному разумению таким людям, как Северский князь, возмездие будет лишь на том свете. Пойдём-ка согреемся чем покрепче.
- Страшны страдания того света. На этом страшней не выдумаешь.
13
Победа, подаренная судьбой под Карачевом, не дала плодов, как пустоцвет. Весь остаток зимы, всю весну уходил Ольгович от преследования Давыдовичей, углублялся в вятские земли. Позади остались Дебрянск, Козельск, Дедославль…
Перешли верхний Дон, отличный от того, что под Шаруканью, как телёнок от бугая. Без труда нашли брод лошадям по бабки. Иван Гюргич вёл сторожевой полк, прикрывая войско Ольговича с уязвимого тыла. Род, едучи рядом, заметил, как княжеский конь начал припадать на левую заднюю.
- Я преизлиха задумался. На дорогу грешу, а не на коня, - смутился князь, - Полиен! - остановившись, попросил он оружничего. - Погляди, что с конём.
Воинам было велено двигаться вперёд. Трое всадников остались одни.
- Конь потерял подкову, - сказал Полиен.
- Дрянная примета, - помрачнел Иван Гюргич.
- Не всякой примете верь, - попытался утешить Род, хотя у самого грудь свело от дурного предчувствия.
В первой же попутной деревне с неприятным названьем Облазня Полиен отправился отыскать кузнеца. Род с князем улеглись на траве, подложив под головы седла.
- Три года назад в такой же месяц червец жил я в лесу, никакого горя не ведая, - вспомнил юноша. - И вот за три года - тридцать три несчастья!
- Чует моё сердце, - вслух говорил Иван Гюргич о своём, - Полиен все кузни обойдёт, нековань[325] воротится.
Так оно и случилось.
- Всю Облазню облазил! - жаловался оружничий. - Говорят, кони - на войне, кузнецы - на покосе.
Шагом поехали по дороге, не видя избавленья от нечаянной беды. И вдруг на самом краю Облазни у пластяного амбара - подковочный стан, в коем подтягивают коней на подпругах для ковки. Полиен бросился к амбару, а вернулся ни с чем:
- И на сей кузне кузла[326] нет.
- Постереги коней, - велел князь. - Мы с боярином взойдём в избу.
У хозяев был дом-пятистенка. В первой избе у печи за столом сидел смурый бородач. Со всей солидностью представились ему князь с боярином. Кузнец бровью не повёл на их знатность.
Назвался сквозь зубы:
- Васко Непейцын.
На просьбу подковать коня, помотал головой:
- Недосуг. - На обещание щедро заплатить спросил: - Много ли?
- У кузнеца что стук, то и гривна, - задабривающе улыбнулся князь, кинув на стол гривну серебром.
Кузнец, сунув жалованье за голенище, выставил гостям жбан житного квасу. Потом растворил оконницу, увидел у подковочного стана Полиена с конём и сказал:
- Отдыхайте, только без разговору, нежеланные господа. Жёнку не разбудите с дочкой, - И вышел.
- Щедро ты одарил его, князь, - удивился Род.
- От безвыходности щедрость, - пояснил Иван Гюргич.
Тут в другой избе прозвенел долгий стон, не бабий, а девичий. Вот он сызнова зазвучал, вызвал глухие вздохи и причитания.
- Васко! Куда ж ты сгинул? - огласил избу грудной вопль. - Умудряет Бог слепца, а черт кузнеца!
- Муж - кузнец, жена - барыня? - истиха пошутил Иван Гюргич.
В следующий миг обнаружилось, что тут не до шуток. Стоны достигли пронзительных высот, а кузнечиха взмолилась:
- Да помоги ж мне поднять её!
Князь Иван, не раздумывая, кинулся в другую избу, Род - за ним, то ли удержать, то ли помочь.
Ни того, ни другого он не успел. Остановившись в дверях, соединявших избы, понял: в доме тяжело болящая. Она лежала на высоком одре головой к окну. Волосы черным ореолом обрамляли бледный лик на большой подушке. Больная оказалась юницей редкой красоты, будто сошла с иконы, что видел Род в новгородском Богородичном храме. Бледность устрожала её лицо, но не портила. Маленькая черноглазая женщина хлопотала над ней, пыталась приподнять, чтобы дать испить, да не могла из-за резких метаний, бросающих больную со стороны на сторону.
- Отечик-огуречик! Матынька-дынька! - лепетали непослушные губы. Однако большие глаза смотрели осознанно, больная была в полной памяти.
Она словно не замечала вошедших, зато черноглазая хозяйка глядела на них испуганно:
- Кто такие? Где мой человек?
- Князь с боярином остановились у вас. - Пояснил Иван Гюргич. - Твой человек нам коня подковывает.
После этого мать, как и дочь, перестала на них обращать внимание.
- Русана! Русаночка! - приговаривала мать, пытаясь поднять больную одной рукой, а другой держала питье.
Князь Иван помог ей, потом положил ладонь на высокий лоб девушки и отёр руку о край корзна.
- Лихоманка, - определил Род.
- Ни знахаря, ни лекаря, - пожаловалась хозяйка. - Злосчастная страна!
- Ты гречанка? - полюбопытствовал князь Иван.
Женщина не ответила. Вошёл кузнец в копоти и в поту.
- Как она, Евстолия? - дрожа голосом, спросил он и с крутым неудовольствием зыркнул на гостей. - Конь вас ждёт.
- Осмотреть дочку не дозволишь ли? - спросил Род.
- Конь вас ждёт! - закричал кузнец.
- Зря ты так, человече, - начал было князь.
Но хозяином овладел такой внутренний пожар, что оставаться в избе стало невыносимо.
На дворе Род сказал князю:
- Лихоманка заразна. Омой руки, Иван Гюргич.
- Что там, пустяки!.. А до чего ж хороша! Не простолюдинка - королевна! А кузнечиха - неведомых кровей чага. Да кузнец дурень. Ты бы смог исцелить их дочь? - Говоря это, князь оседлал подкованного коня и уже скакал рядом с Родом и Полиеном. - Ты бы, я мыслю, спас Русану, - продолжил он, - Такую диву не спасти грех. А я бы взял её в Суздаль. Да туда же велел бы доставить твою Улиту. Сыграли бы сразу две свадьбы, а? Что молчишь?
- Воин-мечтатель! Ушам не верю, - откликнулся Род.
А все же приятно было слушать такие речи. И не верил он не ушам, а судьбе, у коей редко благие мечты сбываются. А князь тем временем как помешанный рассуждал и вздыхал о больной Русане.
Догнали сторожевой отряд. К ночи въехали в деревянный лесной городишко, даже без окрепных стен, с лёгким тыном поверх переспы.
- Что за город? - спросил Полиен у встречного мужика.
Тот вёз сено на двух берёзах, которые волоком тянул сивый мерин.
- Колтеск, - ответил мужик.
- Последний мой город, - вслух высказал князь Иван непонятные окружающим слова. Почему последний?
Ночью Рода вызвали в большой дом, где остановился Ольгович. Сам бывший северский властитель вышел к нему и велел следовать за собой. Они взошли в повал ушу. Там на волчьих шкурах под шерстяным покрывалом в мокрой рубахе лежал князь Иван. Тройчатый свешник прибавлял духоты.
- Вот… Род… чем одарила меня… красавица, - пролепетал Гюргич.
- Лечец грек Истукарий смотрел его, - сообщил Святослав Ольгович. - Сказал, сыпная болезнь - то ли красуха, то ли краснуха. А снадобья в походе у него нет, готовить не из чего.
- Посветите поближе, - склонился к одру выученик Букала, - А ты, Иван Гюргич, раскрой рот пошире. Говорил тебе: омой руки… - Выпрямившись, юный ведалец произнёс: - Воспаление зева. - И обратился к дрожащему у одра Пол иену: - Объезжай селенья в округе, поищи знахарей, попроси у них жабную траву. Они знают. Её ещё называют клопец.
- Ох, горюшко моё, горе! - взялся за голову Святослав Ольгович.
- Жаба - болезнь заразная, - сказал Род. - Никому сюда не велю входить. Двое попеременно останутся у одра: я и… назначь, государь, кого…
- Себя, себя! - ударил кулаком в грудь кутырь.
Вот уж когда воистину Род ушам не поверил. Ни сам он, ни Полиен отговорить Ольговича не смогли. Так и ушёл почивать сиятельный доброволец, готовясь с утра заменить своего напарника.
- Милый ты мой, - шептал, благодарно глядя на земляка, Иван Гюргич. - Ой, подай, поскорее подай посуду… - Его сызнова рвало. Тошнота сменялась рвотой. Весь он горел и в то же время трясся в ознобе.
- Лихоманка! - подтвердил Род, когда они остались одни. И, весёлостью пытаясь отвлечь болящего, продолжил: - Лихоманка - одна из двенадцати сестёр Иродовых, коих имена трясуха, гнетуха, желтуха, бледнуха, ломуха, знобуха, маяльница, дряница, трясовица, студёнка, врагуша…
- Фу! Все на меня напали враз, - пожаловался Иван.
- Бывает лихоманка-веснянка, бывает подосенница, - рассказывал Род. - У тебя по времени - первая. А разных видов у неё до сорока - навозница, подтынница, веретенница… - Наконец он услышал ровное дыхание больного и смолк…
Утром, покидая повал ушу, на немой вопрос Ольговича Род ответил:
- Тягостно ему, тягостно…
- Говорят, не всякая потягота к лихоманке, иная - к росту, - с надеждой молвил кутырь.
- Какой уж там рост, когда язык и гортань очервленели? - вздохнул юный знахарь.
На третий день на груди больного красным цветом высыпали мелкие точки. Полиен привёз жабную траву. Род принялся варить зелье.
На четвёртый день он, шатаясь, вышел из повалуши. Глаза все ещё продолжали видеть князя Ивана с бледным треугольником на лице.
Во дворе цепкая жилистая рука легла на плечо юноши.
- Легче руку отмыть, чем уехать, не простясь с тобой, боярин, - грустно улыбнулся полководец кыпчаков.
- Как вдруг уехать? Зачем со мною прощаться? - не понял Род.
Алтунопа заговорил по-кыпчакски:
- Ночью нас отыскал гонец из Дикого Поля. Шарукань взята и разграблена неизвестным племенем. Это не славяне, не булгары, даже не аланы с далёких гор. Они пострашнее и тех, и других, и третьих. Попону уведена тьма тысяч. Убит князь Сантуз. Княжну Текусу взяли живой. Надо срочно возвращаться в степь. У нас дома горе.
- А здесь умирает суздальский князь Иван, - тоже перешёл бывший яшник на половецкую речь.
- Будем просить богов переменить гнев на милость, - поднял взор горе старый половец.
С отъездом Алтунопы войско Ольговича ослабело наполовину.
В Колтеске подорожала мука. Закрылись рыбные ряды. Давыдовичи перекрыли пути подвозу продуктов. Берладник, пригласивший Рода отобедать в корчме, мрачно взирал на качавшего головой посидельца: того нет, другого нет…
- Голодом нас уморят в этой лесной дыре. А Ольгович не чешется.
- Что же он сотворит со столь малыми силами? - оправдывал князя Род.
- Ай, надо было слушать меня да Ивана-суздальца, когда мы предлагали остановиться, устроить Давыдовичам вторую баню, жарче, чем под Карачевом. Нет, он внимал Внезду с Пуком да своему дурню-сыну Олегу. А теперь превратился в сиделку! Кому я пошёл служить - сиделке или грозному воину, карающему братних мучителей?
Возбуяние галицкого изгоя не знало границ. Рушились его надежды на жизнь для себя и своих потомков. Гнев и отчаяние не могли отступить ни перед какими причинами, оправданьями, уговорами. Тяжко стало Роду общаться с Иваном Берладником.
А Иван Гюргич ознаменовал пятый день своего недуга страшной сыпью по всему телу. Грек Истукарий, воздев руки к небу, просил Святослава Ольговича отставить его от лекарских дел:
- Мои книги не знают средства от вашей жабы. У нас в Византии эта сыпная болезнь имеет иное течение. Надо молиться Богу…
Кутырь от больного шёл прямо к иконостасу в своих покоях. Род научился молиться не менее истово, не оставляя надежду и на зелье из жабной травы.
На шестой день болезни произошли два важных события.
Иван Гюргич встретил своего пользователя улыбкой, просиявшей, как солнце после длительного ненастья:
- Мне лучше.
Сыпь стала блекнуть. Понизился жар.
А второе событие - шум за окном. В повалушу, забыв о запрете входить к больному, вбежал Полиен:
- Латники! Тысяча латников! Белозерская тысяча нашего государя Гюргия!
Выпроводив Полиена, Род отлучился узнать подробности.
Во дворе было людно. Сновала челядь. Прошли несколько шлемоносцев-бородачей, сверкая огненными кольчугами. Белозерские латники! Отборные вой Гюргия Суздальского. Ну, теперь берегись, Давыдовичи!
- Э-ге-ге-гей! - раздался давно когда-то знакомый бас, - Да не попал ли я на тот свет? Тут мертвецы разгуливают живьём!
Жёсткая, коротко стриженная бородка напомнила самого Гюргия. Да это ж его ближайший боярин Короб Якун, знаток вин и яств, большой охотник застолий.
- А ведь ты приёмный сын Кучки Пётр! Тебя, я слышал, бродники порешили.
- Настоящее моё имя Род, - отвечал Коробу как бы воскресший из мёртвых. - Взаправду я сын боярина Жилотуга.
- Э, не время сейчас углубляться в истину, - обнял его Короб. - Рад видеть тебя живым.
- И я ох как рад видеть тебя, боярин, - увёртывался Род от объятий, остерегаясь своей заразности. - Только что от князя Ивана. Он выздоравливает.
- Наслышан уж, - басил Короб, - жаль, не будет его нынче на пиру. А твоё место по-прежнему рядом со мной, запомни!
При встрече с Якуном Коробом юноша держал на уме не кучковский пир, а мосткворецкую казнь.
- Скажи, боярин, нынешней зимой имал ли ты по княжескому изволу ростовского епископа Феодорца?
- Имал этого еретика. А что? - удивился Короб.
- Не на Мосткве ли реке? Не в час ли казни волхва Букала? - задыхался Род, страшась услышать ответ.
- Да, он как раз лесовика-язычника сажал в воду. Хотя и оттепель была, да старец в студёной проруби мигом отошёл в иной мир.
Род ухватился за коновязь, чтобы не упасть.
- Что с тобой, парень? - испугался боярин. - На тебе лица нет. Кто тебе сказывал о еретике-епископе и о лесовике-волхве?
- Ни… никто. То есть… я не помню, - лепетал Род, - А что было после с Феодорцем?
- Перед тем он в довершение своих злодейств запер храмы во Владимире. Вот князь Андрей и внял жалобам христианским. После по приговору митрополита еретику усекли язык, отрубили правую руку, выкололи глаза, прежде чем казнить смертью. И поделом: ведь он хулил Богоматерь!
- Стало быть, отомщён мой отец Букал, - трепетно прошептал юноша.
- Что ты бормочешь? - спросил Якун.
- Рядом с тобой сяду… как в Кучкове… на пиру, - поднял голову Род.
- Ну, добро. Повечер увидимся, - махнул рукой удалой боярин.
Однако повечер им увидеться не пришлось. Ольгович на радостях решил попировать вдоволь, потому Род всю ночь оставался с Иваном Гюргичем. Жар покинул князя, сыпь почти исчезла. Пришлось трижды менять сгоревший фитиль в светце, и сызнова оба начинали мечтать о предстоящих двух свадьбах в сиятельном граде Суздале. Больной мечтатель млел от радости, здоровый старался не показывать грусти.
- Представь, друже, - ворковал князь. - В нашем горьком отступлении есть одна услада: с каждым покинутым городом мы становимся ближе к дому, к родному Суздалю. Твоя Улита уж не за тридевять земель, а почти рядом. Я, едва встану, вернусь в Облазню, заберу дочь кузнеца, сделаю её княгиней. Пора мне остепениться. Только ты о происхождении Русаны - никому ни гугу! Будем охранять наши тайны. Кажется, я отсюда вижу, как она выздоравливает… А ведь я полюбил её без сурьмы на бровях, без румян на щеках.
Род согласно кивал, явственно слыша причет и вопли, видя гроб на столе в пятистенке кузнеца. Назойливые речи князя Ивана о Русане удивляли и страшили его.
К утру в повалушу заглянул Владимир Святославич, изгнанник муромский:
- Хочу попрощаться с вами. Вот-вот запрягут коней, и мы с боярином Коробом поспешим в град Москов, бывшее Кучково. Благовольный князь Суздальский ждёт меня, чтобы посадить на столе рязанском. На голову разбитый окаянный мой дядя Ростислав бежал к половецкому хану Алтуку.
- Рад я за тебя, брат, - живо откликнулся князь Иван, - Издали благословляю тебя. Будь счастлив.
Ох, помозибо, брат. Издали обнимаю тебя по- родственному, - сжал руки и потряс ими новый князь Рязанский. - А твоё, боярин, предсказание сбылось, - улыбнулся он Роду. - Выйди на чуток из повалуши. Есть что передать тебе.
Когда вышли, новоиспечённый властелин Рязани, изменясь в лице, истиха сказал:
- В доме у Ольговича измена. На пиру Берладник с ножом к горлу приставал к хозяину: дескать, вот Белозерская тысяча пришла, и Иван Гюргич тянет на поправку, надо без промешки вдарить по Давыдовичам, возвратить утерянное. А Ольгович ни в какую: «Князь Иван поправится, тогда пойду». Сразу пир - на слом. Боярин Якун Короб прежде времени покинул стол. Святослав Ольгович удалился в свою ложню. Все бы пустяки, да этот объюродевший Берладник после общего ухода повязал хозяйскую охрану, занял дом своей дружиной, прямиком пошёл в покои государя. Меня слушать не всхотел. «Ежели, - говорит, - применишь силу, князю Северскому - карачун! Он обманщик и предатель!» Я пытался помешать ему, да меня из дому выкинули вон. У него же не дружина, а ватага бродников!
Род недолго размышлял:
- Скажи Ивану, будто отлучусь в задец. Сам побудь за дверью. Чуть что, кликнешь Полиена. Я недолго.
Проводил его дрожащий шёпот:
- Берегись, любезный Род!
Даже чёрный ход наверх, в покои Северского князя, был под стражей.
- Ты куда? Пускать не велено!
Род взял стражника выше локтя. Меч выпал из его руки.
- С кем связываешься? - испугался второй стражник. - Это же ведун! Напустит корчету…
Род по ступеням птицей взлетел в сени, рванул дверь в княжеский покой.
Иван Берладник считал деньги на столе.
- Все верно. Двести гривен серебром, шесть фунтов золотом. Я ухожу…
- Позор! Измена! Бог покарает тебя, брат неблагодарный! - причитал Ольгович.
- Иван, верни чужое, - велел Род.
Берладник поднял голову и отшатнулся:
- Ты?.. Кто тебя впустил?
- Верни, - повторил Род. - Иначе слишком мало лет пройдёт, как ты умрёшь.
Изгой отдёрнул руки от рыжих слитков, белых гривен и попятился к двери.
- Пусть забирает, - простонал ограбленный, - Пусть поскорей уходит…
Род отвернулся от стола:
- Воля твоя.
Он слышал, как Берладник сгрёб металл и хлопнул дверью.
- Силой взял! - пыхтел кутырь, - К Ростиславу-Михаилу побежит в Смоленск. Скиталец он и есть скиталец!
- Жизнь в мошне не страшно потерять, - бормотал Род, - Жизнь в твоём теле - вот что главное… Ну, я вернусь к больному, государь. Тебе уже ничто не угрожает.
- Коли б не ты, быть бы мне убиту, - сыпал князь благодарными словами. - Взъярился, аки пардус…
Дружинников Берладника не стало в доме и вокруг него. Но у дверей подклета выросла тень и заступила путь.
- Клянёшь меня? - прозвучал голос Ивана Ростиславича.
Род тяжело вздохнул:
- Впусти к болящему.
- Ты думаешь, легко было решиться на такое? - стонал Берладник, - Посулы - ложь. Дружина в ропоте. Боюсь остаться вновь один как перст.
- Страх гонит тебя в стан врагов, - заметил Род.
- Нет, Ростислав Смоленский нам не враг, - захлёбываясь, произнёс Берладник. - Он никому не враг. Он промеж двух сторон.
- Коли попадёшь меж двух сторон, вскорости к одной прибьёшься, - напомнил Род.
- Ах, эти Рюриковичи так переплелись, - дышал недавним пиршеством Иван. - Кто нынче друг, тот завтра враг…
- Я к вашей родове не отношусь, - неодолимо отстранил Берладника теряющий терпение боярич. - Пусти…
У повалуши ждал Владимир:
- Ну?
- Святослав Ольгович вне опасности. Буян Иван спешит в Смоленск.
- А Гюргичу, я чую, хуже, - прошептал князь.
Род велел кликнуть Полиена, притворяя за собою дверь. Несчастный скова весь пылал. Светец едва светил.
- Ты кто?.. Зачем мешаешь? - бредил Иван, - Мне нужно поспешать к Русане…
Десятый день болезни вернул жар, усилил слабость, отбирал воздух. Бесстрашный Род пугался, глядя в расширенные очи Гюргиева сына. Вот только что они были полны и смысла, и немой мольбы и вдруг теряли смысл, взирали со стеклянным равнодушием. А ухом припадёшь к груди и слышишь: сердце, словно необъезженная Катаноша, мчится вскачь.
Полиен носил лёд с погреба, а с кухни кипяток. Род лекарски прикладывал к жаркому сердцу холод, а к холодеющим конечностям тепло. Теперь, чуть обретя сознание, больной шептал лишь одно слово: «Пить…»
Поодаль плакал Святослав Ольгович:
- Все меня покинули. Берладник предал. Увезли Владимира в Рязань. Половцы ушли. Ужель и ты покинешь брата, верный Иван Гюргич?
Ответить суздалец уже не мог. Глаза ввалились. Зрачки расширены, плохо видят свет. Лицо - пергамент. Пот холоден и липок. Грудь торопится дышать. В очах ещё порою возникает смысл и снова гаснет.
Одиннадцатый день болезни стал ещё суровее. Болящий неподвижен, как окоченелый. Обмороки прекратились, взор разумен. Князь уж не кричит, не вопиет, не жалуется, ничего не требует. Тело холодно, лицо бледно, как мёртвое, зрачки не движутся, обращены куда-то вдаль…
Бессильный Род не разгибается над ним. Он видит смерть у изголовья и заклинает косариху из последних сил: «Приходи вчера!.. Приходи вчера!..» Она отходит. Князь размыкает губы, но не отвечает на расспросы. Чуть слышно, словно самому себе, он шепчет просьбу: «Пить…» Дыхание едва приметно. Взор осмыслен. Нет, он не потерял сознания. Он сознает своё страдание и как бы погружается в него всем телом, затихает в нем…
Род разогнулся, встал на ноги…
- Что? - бросился к нему Святослав Ольгович.
- Он от нас ушёл, - сказал Род.
Снаружи распогоживалось утро. Солнце борзыми прыжками устремлялось ввысь. Из окружающих лесов вливался в город запах Троицы.
Почувствовав себя стократ осиротевшим, юный ведалец пошёл, шатаясь, на берег Осётра. Его догнал осиротевший Полиен:
- Князь Святослав Ольгович повелел тебе вернуться. Срочно шлёт тебя с несчастной вестью в Суздаль. Я подготовлю обережь и поскачу с тобой.
Род покорно зашагал назад:
- Готовь. А поготову разбуди. Сосну немного.
Книга вторая. НЕ ИЩИ УМЕРШЕГО.
СМОТРИНЫ СМЕРТИ
1
Напрямки сквозь дебрь Полиен ехать остерегался, боясь увязнуть в беспутье. Род не настаивал. Хотя и почитал лес своим родным домом, а до Суздаля добираться не доводилось. Согласился сделать клюку[327]: поскакали на Рязань. Оттуда на дощанике по Оке спустились до Мурома. Наезженная дресвяная Муромская дорога вела их через леса уверенно.
- Вон сиганул рубль серебром! - указал Полиен на лисицу-огнёвку, пересёкшую путь.
Род не интересовался ценой лисьего меха, ибо лавливал пушных зверей не для промысла. Однако он заметил необычную разговорчивость Полиена. Только что тот без умолку болтал о Рязанском князе Владимире Святославиче. Уж так-то жалостно смотрелся этот Изгой под рукой северского властелина, коему пошёл служить. Порой при виде его просто подмывало проявить щедрость: «На тебе, убоже, что мне не гоже!» А теперь северский властелин, загнанный врагами в лесной тупик, ходит как в воду опущенный, зато юный Святославич, посаженный Гюргием на рязанский стол, будто только и делал всю жизнь, что властвовал. А уж как таровато принимал их в Рязани! Заморскими винами паивал. Пластинчатым кавардаком[328] угощал, и белужьим, и ветчинным. Дощаник приказал снарядить, чтоб быстрей добраться до Мурома при попутном ветре, а оттуда на свежих конях без промешки скакать до Суздаля. Не подозревал Полиен, как благодарен Владимир Рязанский Роду, предсказавшему ему счастливую участь.
Если осиротевший оружничий пытался утопить горе по своему умершему князю в несмолкаемой речи, то спутник его, молчаливый Род, тоскуя по другу Ивану Гюргичу, не находил сил поддерживать разговор.
- Вот и часовня Крест! - воскликнул Полиен. Род не ответил. - Эта часовня, - продолжал Полиен, - стоит на пересечении главных дорог: из Ростова на Владимир и из Кучкова на Муром.
- Из Кучкова? - ожил и встрепенулся Род.
- Ну да, из Красных сел. Разве тебе не ведомо? Суздаль, Ростову брат, град Владимира, стоит у главного дорожного перепутья.
- Не бывал в Суздале, - вновь понурился Род.
- Вот минуем монастырь Бориса и Глеба, первых наших святых, - показывал Полиен, - а там Юго-Западные ворота.
Позади остался земляной вал. Потянулись узкие деревянные улицы с любопытствующими прохожими, жмущимися к бревенчатым стенам.
- Премноголюдный град, - с гордостью сообщил Полиен. - Около двух тысяч жителей… А вот и церковь Богородицы на перекрестии главных улиц. Во Владимире по приказу князя Андрея точь-в-точь такую построили на таком же месте… А вот и детинец! - кивнул он на деревянные стены. - Гляди, ров какой: две сажени в ширину и в глубину, а внутри пластьём ослонен… Вот и Никольские ворота. По пути к Ильинским, пока доберёмся до дворца, увидишь три храма - Иакима и Анны, Рождества Богородицы и Успения Богородицы…
У дворцова крыльца одновременно с ними взошёл на ступени толстый боярин, только что покинувший колымагу. Его степенная борода, подобно полноводной реке, так и играла серебром.
- О, Полиен! - удивился он. - Какими судьбами? С какими вестями?
- С худыми, Ярун, с худыми, - пробормотал оружничий. - К самому князю Гюргию Владимировичу поведатель от Ольговича Северского с очень худой вестью.
- Нет, сию минуту нашего князя во дворце. А что такое стряслось? - насторожился боярин.
- Что стряслось, о том поведатель лично скажет, - заявил Полиен, помня строгий наказ Святослава Ольговича. Нет, смерть такого, как Иван Гюргич, значительного лица не впопыхах и не каждому встречному должна быть объявлена. - Скачем в Кидекшу, - решил Полиен.
- Куда? - не расслышал Род.
- В княжий дворец на Нерли под Суздалем. Там сейчас наш господин.
- И в Кидекше его нет, - хмуро глянул боярин, явно обиженный недоверием Полиена.
- Так где же он? - потерял терпенье оружничий.
- Со временем будет здесь. Жди и береги свою тайну, - усмехнулся серебряный бородач, удаляясь.
- Кто это? - спросил Род.
- Это Ярун Ничей, ключник князя Гюргия. То же, что и боярин Пук при Ольговиче. Много знает, а все ему мало!
Тем часом из колымаги вышла женщина в серой понке и остановилась поблизости. Держалась так, что Ярун Ничей, с коим она, видимо, и приехала, оставался все время к ней спиной и появления её не приметил. Когда боярин ушёл, женщина, резанув сердце Рода знакомым металлическим голосом, тихо произнесла:
- Родислав Гюрятич… - В следующий миг её холодная рука оказалась в его жаркой ладони.
- Вевея?
- Глазам не верю, Родислав Гюрятич, собственным глазам никак не могу поверить… Ты жив? - лепетала девушка, дрожа выпростанными из-под понки рыжими локонами.
Он сжимал чужие холодные пальцы, будто руку самой Улиты.
- Давно ли из дома? Скажи, как боярышня?
- Из дома… ой!.. второй месяц. А боярышня… ой!.. твоими молитвами, - высвобождала пальцы Вевея, пронзая Рода острыми глазками.
Он все же не удержался и поцеловал Улитину сенную девушку в лоб. В ответ она неожиданно обняла и поцеловала в губы.
- Как только жив остался, ясен сокол наш, Пётр Степанович?
Напоминание об усыновлении смутило его больше, нежели её объятья и поцелуй.
- Не называй меня Петром, - отстранился он. - Как жив остался, расскажу после. Сначала расскажи ты.
Полиен не дал им продолжить, громко спросил:
- Что за вислёна[329] удерживает тебя?
- Ничуть не вислёна, - обиделся за Вевею Род. - Она сенная девушка моей Улиты, - вырвалось у него слово «моей», и такая оплошка сразу же отразилась злой искоркой в колючем взгляде Вевеи, напомнив о её предательском подглядывании в стенной глазок. - Как же ты оказалась в одной колымаге с чужим боярином? - подозрительно наморщился Род.
- Князь Гюргий отправил нас за малахитовым ларцом с хрестьчатой[330] золотой цепкой для… - слишком поторопилась с ответом Вевея, тоже оплошав и оттого спутавшись: - Для… для…
- Ах, значит, тебе ведомо, где сейчас князь Гюргий? - выручил её вопросом Полиен.
- Он в каменном доме на Хлебной горке, на Конёвьей площадке, - выпалила она. - Обождите… Да обождите же…
Однако Полиен без лишних слов потянул Рода к коновязи. И вот они уж поскакали по кривым улицам, оттесняя к стенам прохожих…
- Эй, где эта Хлебная горка, Конёвья площадка? - окликал Полиена Род.
- Следуй за мной. Я знаю, - торопил его спутник. - Один там каменный дом вдовы Медорады…
Вот они проводят коней меж кирпичными вереями открытых ворот, взбегают по крыльцу с навесом на пузатых столбах, а в глубине двора видна пыльная кареть с невыпряженной четверней, и около неё рыскает возатай, очень похожий на кучковского кощея Томилку.
Какие дела у Вевеи в Суздале? Как она связана с этим домом? Отчего здесь Томилка? Задав себе вовремя эти вопросы, Род, возможно, и не поторопился бы входить в неприятный дом. Однако, уставший с дороги, сбитый с толку происшедшей сумятицей, он думал о несущественном. Бедный зеленью, плотно застроенный, Суздаль показался ему неуютнее, суматошнее иных городов, даже таких, как Кучково. А каменный дом вдовы Медорады громоздился среди бревенчатых теремков, как боров среди козлят. Первую настороженность вызвала мысль: отчего ни на крыльце, ни в сенях их никто не встретил, слуги словно попрятались? Тишина… И вдруг в этой тишине, у которой явно были глаза и уши, раздался истошный, пронзительный, не забываемый по своей характерной писклявости голос, вернее крик, раскатившийся по многочисленным переходам и закуткам:
- Аме-е-е-лфа-а-а!
Род мгновенно отметил, что перед этим криком слышал неведомо чьи шаги впереди. И тут же увидел чьи. В двухсветных сенях перед внутренними покоями стоял человек в распашном[331] охабне. Стоял он спиной к подошедшим следом Полиену и Роду. Этого человека и со спины нельзя было не узнать.
- Аме-е-елфа-а-а!
Из внутренних покоев на крик вышел великан, как показалось под низкими сводами, хотя не такой уж и великан, скудобородый, грузный, болезненно белый лицом. Он недовольно повёл длинным, кривым носом по сторонам и тут же сосредоточил колючий взгляд маленьких глаз на крикуне:
- Пошто не побережёшь глотку, Степан Иваныч?
Низенький Кучка, запахнув обширный охабень, засеменил к своему высокому государю. Князь Гюргий неторопливо застёгивал накинутый только что пониточный[332] кафтан, совсем не княжескую одежду.
- Не гораздо эдак… не попригожу… Давно вижу… - захлёбываясь, верещал Кучка. - Мыслишь, князьям все дозволено. С боярскими жёнами спать? Я тебе не холоп!
Князь Гюргий не слушал обесчещенного боярина. Он смотрел на вошедших следом Пол иена и Рода.
- Вы тут почему? Ты, Полиен, зачем? Где господин твой, мой сын Иван? А тебя, парень, я будто видел когда-то где-то…
По лицу князя, несмотря на суровый голос, было заметно, что нежданные посетители пришлись весьма кстати.
Разъярённому Кучке и появление посторонних не поубавило прыти.
- Во-ло-детели! - вопил он. - Жизни, земли им подавай! А ещё подавай и жён!
- Я тебя узнал, молодец, - дружелюбно улыбнулся Роду князь Гюргий. - Ты вот этого всполохнувшегося боярина наречённый сын Пётр Степанович.
При этом имени Кучку словно окатили ледяной водой. Он внезапно смолк, в то же мгновение обернулся и при виде живого, невредимого Рода остался с открытым ртом.
- Моё подлинное имя Родислав Гюрятич Жилотуг, с твоего соизволения, государь, - твёрдо сказал Род.
Князь Гюргий чуть приметно подмигнул, дескать, ему все ведомо.
- Сын писал о тебе, - сказал он, словно позабыв о Кучке. - Со слов Короба Якуна знаю: ты его лечил. Как он здравствует?
- Государь! - вмешался Полиен. - Боярин Родислав Гюрятич послан к тебе князем Святославом Ольговичем Новгород-Северским как поведатель.
- Что ты должен поведать? - посуровел Гюргий.
Род сделал поясной поклон, коснувшись рукой пола.
- Государь! Сын твой Иван Гюргич, не снеся тяжкой лихоманки, в ночь на прошлый понедельник ушёл из жизни.
- Как? - воскликнул князь. - Он же поправлялся…
- Порой хорошее предвещает дурное, - опустил голову Род.
- Бог наказывает грешников, - прошептал Кучка, осеняя себя мелким крестным знамением.
Князь услышал этот шёпот.
- Едем во дворец, - сказал он Роду. - Там наедине расскажешь все потонку. А ты, грешник, - снизошёл он обернуться к Кучке, - брось блажить. Готовь людей в поход. После похорон Ивана двигаюсь на юг в подмогу брату Святославу. Выходи на Старо-Русскую дорогу у Мостквы-реки на мой позов. Там встретимся.
На похороны Кучку не позвал князь Гюргий. Слышали его последние слова взошедшие в палату боярин Ярун Ничей с малахитовым ларцом и Вевея позади него. Сообразив свои дальнейшие поступки без приказа, ключник бросился с ларцом обратно в колымагу. Вевея тут же канула невесть куда. Князь, не возвратясь во внутренний покой, отбыл бок о бок со своим боярином. Полиен и Род верхами поскакали следом. Кучка, сбитый с поля боя происшедшими событиями, остался в мрачном одиночестве. Амелфа же, из-за которой так заполыхал сыр-бор, не появилась вовсе.
2
В чужих хоромах не расположишься по-домашнему. Изволением князя Гюргия Род был помещён в тереме покойного Ивана Гюргича, что поблизости от княжого дворца. Привёл его Полиен, живший здесь со своим господином до отъезда в Новгород-Северский. Роду предстояло дождаться, пока младшие Гюргиевы сыновья, Борис и Глеб (видимо, названные в честь первых русских святых), привезут тело старшего брата для похорон в Суздаль. Он бродил по осиротевшим теремным палатам и переходам, слушая тишину. Мрачная, потерявшая хозяина челядь прислуживала ему. Один более-менее короткий знакомец был у юноши в Суздале - Короб Якун. Но с большим придворным боярином не пообщаешься запросто. Полиен же отбыл по печальному делу вместе с молодыми князьями. Перед отъездом он успел сообщить Роду, что в тот день, когда произошла бурная встреча в особняке Медорады, боярин Кучка покинул Суздаль, увёз свою подружию и Вевею. Теперь не у кого расспросить об Улите, Якиме, Овдотьице. Род бродил из угла в угол, гадая: смирится ли на сей раз боярин Кучка с явным бесчестьем? Внутренний голос подсказал: не смирится.
Тесный, суматошный Суздаль не располагал к прогулкам по узким уличкам. Единственный раз Род покинул Иванов терем с целью подыскать в торговых рядах пуговицу для кафтана, оборванную в пути.
День был истинно летний, знойный. За красными рядами на площади алел полотняный шатёр. Взобравшись на бочку, мужик, одетый боярином, что-то кричал собирающейся толпе. Он указывал на шатёр, откуда лилось разухабистое пипелование[333] .
- Что это? - спросил ещё малосведущий в городских делах лесовик и воин у разбитного торговца пуговицами.
- Скоморошня, али не видишь? Палата потешная.
Род протиснулся сквозь толпу.
Ряженный боярином скоморох в красном колпаке вместо гор латной шапки распевно выкрикивал:
Глядите действо в праздник и в будни О муже-рогаче и подружии-блудне!Род взошёл в шатёр вместе с охочими зрителями. Когда занавесь над помостом взлетела вверх, взорам открылись два скомороха в бабьих личинах. Как явствовало из действа, это были сводница, хозяйка дома, вдова Проскудия, и боярская жена Мамелфа, прибывшая к своей знакомице якобы погостить.
- Были бы хоромцы, будут и знакомцы, - ехидничал из-за занавеси скоморох, поясняющий действо.
- Ах, - ворковала тем часом Проскудия, распаренная после бани, - вечор меня зеленушка уползал, уёрзал и спать у клал, - хвалила она будто бы банный веник, а намекала на нечто более щекотливое, ибо сведущие зрители с удовольствием хохотнули.
Вдова-знакомица оказалась и завзятой знакомщицей. Вот вошёл в покой местный князь Силан. И Мамелфа, видимо уже знавшая его через Проскудию, заегозила на своём табурете…
А в следующей картине княгиня Нунехия, оставленная в загородном дворце, изливала в песне тоску с высокой теремной башни:
Свети-ка, светел месяц, во всю темпу ночь! Чтобы видно было, куда мил пойдёт. Пошёл, пошёл миленький вдоль улицы новой, Зашёл, забрёл миленький от края в третий двор, От края во третий двор ко вдовушке в дом…В этом вдовушкином доме, сразу же приведшем Роду на ум гнёздышко Медорады, расцветало пышным цветом зазорное, краденое счастье. Скоморох из- за занавеси песенно пояснял:
Чужая жена да вот догадлива: Ложится спать под окошечком, Открыла окошко понемножечку. Молвила словечко потихонечку…Уворованное непрочное счастье разрушила хитрая прислужница Мамелфы Фивея. Подозрительный муж боярин Спевсипп наказал девке следить за женою в гостях и - чуть что - послать весточку. Его сообщница не замедлила известить о тайных свиданиях Силана с Мамелфой. И вот в доме вдовушки разыгрывается душераздирающая сцена, после чего муж-рогач увозит подружию-блудню домой. Уж там-то ждут её скорый суд и расправа. Скоморох из-за занавеси поёт:
Пришли домой - рассвело. Высок терем затворён. Ревнивый муж за столом, а плёточка на столе. Жена млада на полу, повесила голову, Повесила голову на правую сторону…Тут настигла беда и самих скоморохов. Вне шатра вдруг зазвенело оружие, загремела грубая брань. Столбы, поддерживающие полотняный свод, зашатались и рухнули, накрыв гостей и хозяев действа тяжёлой материей. Род, выпрастываясь из свалки, без труда разорвал над собой полотно и оказался под солнцем на свежем воздухе. Кмети расправлялись с беспомощными людьми, спелёнатыми шатром. Род вырвал алебарду у наиболее заядлого избивателя, а самого отшвырнул. Княжьи люди набросились на него, да быстро смекнули, что не на того напали.
- Ты кто? Ты кто? - орал их старшой.
- Боярин Жилотуг к твоим услугам! - бросился к нему с чужой алебардой Род.
- Окстись, боярин! - остудили его. - Мы правое дело делаем. По приказу. У государя наследник умер, а тут потешествуют…
Род опустил оружие. Стыдно стало, что оказался свидетелем потешного действа, словно бы позабыв о смерти Ивана Гюргича. Уходя прочь, он увидел в сторонке того самого скомороха, что так затейно вёл песенный ехидный рассказ из-за занавеси.
- Неужто не знали о княжом горе? - подошёл к нему Род.
- Уж нам ли все знать да ведать! - вздохнул избитый. - Мы нынче только из Красных сел.
- Из Кучкова? Постой, - тщетно пытался остановить его Род. Скоморох удалился.
Значит, в Красных сёлах Кучкин позор известен. Род заподозрил, что теперешний разгром скоморошни велено было сотворить не столько из-за княжого горя, сколько из-за княжой рассерженности. Уж слишком прозрачны намёки на подлинные события в Суздале. Имена лишь слегка переиначены: Амелфа - Мамелфа, Вевея-Фивея… А суздальские обыщики сноровисты не менее Дружинки Кисляка из Кучкова. Всё в точности мигом донесли кому следует, не замедлили.
Одиноко бродя по печально-тихим Ивановым хоромам, Род думал о Вевее. Глупьём или с каверзным умыслом она сообщила им с Полиеном, где отай[334] находился князь? Знала ведь, что и Кучка там вот-вот должен появиться. Стало быть, умышляла каверзу. Как он поначалу обрадовался Вевее и как теперь презирал её!
Мысли его поспешно перенеслись к Улите. Сосредоточенно глядя из высокого растворенного окна в небесную пустоту, он увидел свою ненагляду в её одрине. Зелёные глазки боярышни выдавали крайнее беспокойство. Наливные щёчки обагрил тревожный румянец. Что она делает? Укладывает девичьи наряды в кожаный короб… Куда собралась?
Мучимый пустыми догадками, Род ободрял себя тем, что сразу же после княжеских похорон простится с Суздальским Гюргием и наконец-то уедет в Кучково.
Тело Ивана привезли к следующему утру. И начались мрачные плачевопльствия. Каменного гроба не открывали. Видимо, спустя много времени труп выглядел нелепно[335]. Перед гробом вели коня, несли стяг. Княжеская семья, бояре и гриди шли в плачных одеждах и черных шапках. В церкви у гроба установили копье. День был жаркий, а панихида долгая, и в подсвечниках от духоты гасли свечи.
Повечер тризновали не в самой церкви, а под открытым небом в церковной ограде. Столы были уставлены яствами пообилу[336]. Обережь окружала тризников.
Якун Короб ещё поутру у дворца заприметил Рода и долго расспрашивал о последних днях князя, а в шествии оставил подле себя. И повечер на тризне посадил рядом. По иную сторону от Якуна сел Владимирский князь Андрей Гюргич.
Сам Гюргий сидел во главе стола, насуплен, немногословен. Одесную его, опустив очи долу, окаменела прибывшая из Кидекши княгиня-гречанка. Коротко помянув ратные доблести покойного сына, скрепивший сердце отец благодарно отозвался о братней любви к Ивану Северского князя Святослава Ольговича.
- Я велел передать ему: не тужи о моём сыне - если этого Бог взял, то другого к тебе пришлю, - поднял голову Гюргий.
Всем уже было ведомо, что сын его Глеб остался с Ольговичем. Тело Ивана привёз Борис. Род знал, что и Полиен не вернулся, стал оружничим Глеба.
- От смерти нет зелья, - немощно произнёс в наступившей мёртвой тишине девяностолетний любимец и воспитатель Гюргия его тёзка Симонович, суздальский тысяцкий, сын варяжского выходца Шимона.
- А от старости зелье - могила, - тихо сказал соседу по столу Коробу Якуну Владимирский князь Андрей, не любивший властного старика.
Якун усмешливо обратился к Роду:
- Какой же ты зелейник[337], ежели не помогло в беде твоё зелейничество?
Юноша угрюмо повторил слова девяностолетнего старца, что от смерти нет зелья. И это, видимо, не понравилось князю Андрею, потому что тот резко метнул в него косой половецкий взгляд.
- О твоей великой зеленомудрости[338] писывал мне покойный Иван в своих грамотках, - процедил он, - Вовсе ты, как теперь знаю, и не сын Кучки.
- Я не сын Кучки, - подтвердил Род.
- И не брат Кучковны Улиты, - продолжил Андрей.
- Не брат, - с вызовом сказал Род.
Князь, совсем потемнев лицом, отвернулся.
- Ведь твоя зелейная снадобица[339], - вернул вспять разговор Якун Короб, - должна содержать не то зелье, чтоб в землю, а то, чтоб жилось?
Род, внезапно охваченный подозрением относительно намерений князя Андрея насчёт Улиты, ничего не ответил. Он уж уверился, что письменное вмешательство Ивана в личную жизнь младшего брата ни к чему хорошему для Рода не привело. Андрей ух как был недоволен появлением на Суздальской земле предмета воздыханий его избранницы! Значит, у юного Жилотуга объявился могучий враг.
Когда тризники, насытившись и изрядно выпив, заговорили разом, Андрей, перегнувшись через спину Якуна, изрёк Роду в самое ухо:
- Езжай назад, зеленяк[340], а то худо будет!
Юноша не успел ответить. Вновь воцарилась тишина за столами. Властно заговорил князь Гюргий:
- Немедля иду на юг. Верну Северскому его удел. Займу Киев…
- На юг! Долой Изяслава! - подхватила дружина.
- А ты что скажешь, Громила? - обратился ростово-суздальский властелин к седоусому, зеленохохлому, мудрейшему паче других советнику.
Род по необычному виду запомнил этого дружинника ещё на пиру у Кучки и теперь сразу узнал его.
Громила поднялся и густо заговорил:
- Ежели мыслишь на юге великое владение приобресть, понапрасну потрудишься. Не пустых, разорённых воинами земель надобно искать, где людей остаётся мало, а впредь будет ещё меньше. Без людей земля бесполезна. Ведь и тут у тебя земли изобильно, да людей мало. Весьма изрядно ты рассудил строить и населять города. Ещё рассуди: сколько воистые князья опустошали огнём и мечом свои земли, столько тебе, бывшему в покое, они земель своими людьми населили. К тебе, слыша тишину, благоденствие, а паче всего правосудие, люди тысячами идут от Чернигова и Смоленска, из-за Днепра и от Волги. Доходами ты обилен. А полей и лесов ещё ох как много! Того ради советую прилежать дома об устроении земли. И вскоре узришь плоды трудов своих. Будет у тебя и людей довольно, и городов и сел более, чем на юге. Так зачем вся оная Русь? Севером станешь силен, на юге будешь страшен и почитаем…
Дружина слушала затаив дыхание. И чувствовалось, не потому, что сам Гюргий благосклонно внимал тяжёлой речи Громилы. То, что вещал старый седоус - лоб коленом, по сердцу приходилось суздальцам, не охочим до частых войн.
Но вот северный володетель прервал дружинника:
- Помолчи пока. Твой совет - на десятилетия, моё решение - на седмицы. Труд добывает долго, меч быстро. Иду на Киев!
Княжье окружение зашумело. Не от радости, а от облегчения при завершении спора. Род исподволь заметил, что князь Андрей, внимавший словам Громилы сосредоточенно, как собственным мыслям, при отцовском решении поднялся из-за стола и направился к Гюргию. Чуть послушав Андрея, тот отмахнулся. Упрямый сын вновь заговорил, да только, видимо, совсем о другом, потому что поглядывал в сторону Рода. Туда же зыркнул его отец.
Род понял: этот миг для него решающий. И без позова подошёл к Гюргию. Мало он знал его. Из их краткой беседы после встречи в доме вдовы, когда пришлось доложить о лечении бедного Ивана и его последних днях, юноша уяснил, что могущественный суздалец на него нелюбья не держит. За усердие даже благодарен ему.
- Отпусти меня, государь, на Мосткву-реку, - по-сыновнему, как к отцу, обратился Род к князю. - Дозволь малость передохнуть от двух пленов и многих битв.
Гюргий ласково улыбнулся.
- По названым сестричке да батюшке заскучал?
Род, пряча чувства, опустил голову.
- По родным местам.
Гюргий бросил взор на Андрея. Тот стоял с деревянным лицом.
- Родные места не уйдут, - посуровел сильнейший из оставшихся в живых сыновей Мономаха. - А я ухожу. Ты пойдёшь со мною.
Это была минута, когда Род острее всего ощутил тяжесть княжеской службы, словно нового плена, и возжаждал свободы. Он уже не мечтал о боярстве, о возврате родительской жизни, так подло отнятой. Он мечтал о свободе. Тем не менее нашёл силы вскинуть голову и твёрдо произнести:
- Твоя воля, государь.
При таких словах просветлело лицо Андрея.
3
Пройдя поприще, строили привал на ночь. Не оказывалось под рукой села, ставили прямо в лесу или на первой поляне шатры для князей и дружины, а для неприхотливых воев клали хвойные пуховики из ели и сосны.
Глухая полночь завела Рода в дром, не менее глухую лесную чащу, где вокруг сплошное сушьё-крушьё, из коего не искушённый лесной жизнью человек без чуда не выберется. Однако Род не боялся дрома. Ползая ящерицей по траве, он размыкал её руками, разглядывал, нюхал. Не зря князь Андрей зеленяком его обозвал. А луна, ласковая подружия дневного бога Ярила, откинув тучки, так и улыбалась ночному гостю: ищи, любезный, бери, чего сердце просит. Но не сердце просило юношу копаться в полуночной голубой траве. Повечер Короб Якун поманил его к князю Гюргию. Пришлось приблизить свою пегую кобыленку к булано-пегому княжьему жеребцу. Вот уж смутилась, бедная! Самовластец, сучив ущербные глазки, пожаловался: «Сон не берет, дрёма не клонит, еда на ум нейдёт». С надеждой глянув на юношу, государь искательно улыбнулся: «Ваня-покойник писывал о твоих искусствах. О, врачу! Уврачуй!» Род почтительно пояснил, что не естся Гюргию Владимиричу оттого, что не спится. А ночной сон отгоняется переизбытком дневных забот. А уж коли и место дневного сна заняли дневные заботы, это никуда не годится. «По-иному нельзя. Я - в походе. Всю жизнь - в походе! - подосадовал Гюргий. - Ты мне не причину указывай, а дай средство». Род чуть-чуть пораскинул мыслями, потом высказал их вслух: «Если сделать отвар из лесной чемерицы, иначе сказать - дремлика, это средство, пожалуй, будет не столь могучим. Крепче всего пёсьи вишни, по-народному - одурник, или сон-трава». Князь опасливо замахал руками. «Не иначе намереваешься своего государя наулёжь[341] усыпить? - всполохнулся он. - Нет уж, травный лечец, без ума усердный! Одурник твой мне ни к чему. Эдак чужого не высплю, а своё просплю. А продрав глаза, буду ходить спень спнём»[342]. Короб Якун поддакнул: «Крепкий сон - смерти брат». Род вызвался приготовить то и другое зелье, поначалу применить более щадящее.
Знал он, что сон-траву лучше собирать в полночь: полночный сок в ней куда забористее! Вот и законопатился в дром и пустился в поиски с помощью луны. А лесную чемерицу ближе к рассвету нашёл в подлесье. Осталось сквозь дрянной кустистый ерник продраться, за ним чуялась дорога.
Когда, весь в репье, он уж готов был, выпраставшись из ерника, выскочить на Старо-Русский путь, по которому двигалась суздальская рать, его остановило женское пение. Ещё прежде оно казалось стоном, будто бы рвущимся из многих грудей. Как он ни силился, не мог понять, объяснить себе этого звука. Вовсе не лесной звук. Он подобного прежде не слыхивал. И вот теперь ясно понял: бабы жуткую песню тянут. Что за бабы? Зачем жалобно голосят в этакую рань? Благоразумно он не поспешил выходить из ерника, лишь раздвинул кустарник, обнаружив странное зрелище.
Дресвяная дорога, выйдя из леса, стремилась по полю к чуть приметным избам. На поле, вернее, на лугу с выщипанной травой черным полумесяцем вспахана полоса. Нет, это не полумесяц, а круг, венчающий село и вот-вот готовый сомкнуться. Вспашка уже пересекла дорогу, разрушив дресвяное покрытие. Оставалось допахать несколько сажен, чтобы завершить круг. А вон и поющие пахари. Но - Сварог их накажи! - что за пахари? Полунагие бабы, девки, старухи. У девок косы расплетены. С баб и старух сорваны головные платки. Распустив волосы, зеленогривыми ведьмами встречают они ранний рассвет. Несколько наиболее увесистых баб сидят на досках, положенных сверх сохи. Несколько девок придерживают соху позади. Остальные, впрягшись в неё, натянув постромки, тащат своё орудие, оставляя полосу вспашки. Песня при этом звучит надрывная:
Идём мы, идём… Идём мы, идём… Девять девок, девять баб, Девять вяленых старух… С сохой, с бороной, Без кобылки вороной… Ой, но!.. Нагоняй… От села смерть отгоняй… Ой, Шеломница-село, Я-дрёна сторона! Ой, ядрёна сторона! Баба ножкой дрыганула, Побежала, задрожала… Ой, но!.. Нагоняй…Из песни Род понял, что дорога проходит через село Шеломница. И ещё от волхва Букала он знал о древнем обычае опахивать свои села при близком бедствии и напасти, чтобы несчастье остановилось за бороздой и не смело переступить её. Стало быть, смерды-шеломничане, напередки узнав о движении княжеской рати, почли за благо испытанным пращуровским приёмом обезопасить себя. Вот уж и круг соединили и, разложив скатерть-самобранку, развязав припасённые узелки, сели пиршествовать. Роду стало жаль ночных тружениц. Он уже слышал издалека за лесными дорожными поворотами с северной стороны лязг оружия, ржанье коней, неотвратно накатывающийся гул большой рати. С ночного привала воины поднимаются до свету. Не на работу, а на войну не сам пробуждаешься, а тебя пробуждают, лишнего мгновения не подарят. Часу не минет, и пересечёт грубая полновластная рать маленькую зеленокровельную Шеломницу, обабит девок, обрюхатит порожних баб, что так старательно опахивали село. Многого недосчитаются смерды-шеломничане в своих подклетах, медушах, кладовых. Замрёт вдали ржанье уведённых коней, и останется утирать слезы селу, ободранному как липка.
Однако выученик волхва на сей раз оказался плохим провидцем. Чу! - оборвался шум надвигавшейся суздальской рати. Тишина воцарилась. Только ночные пахарки, хлебнув медовухи с устатку, верещат над самобранкой, словно пипелы[343]. Почему же остановил Гюргий свою тьму тысяч? Неужто пращуровский приём и ныне оказал силу и несчастье не посмело преступить начертанный сохой круг? Род ещё некоторое время ждал: мало ли отчего кратенькая задержка? Но скоро понял: жданки надобно прекратить. Вот уж и пахарки покинули своё место отдыха, не от кого прятаться в ернике. Он вышел на обеспыленную росой дорогу и споро зашагал в направлении войска. Одно памятное обстоятельство подсказало юноше причину задержки рати. Несколько дней назад, когда переправились через Мосткву-реку и миновали повёртку на Красные села, Гюргий, к своему крайнему раздражению, обнаружил, что Кучка не вышел к нему с помогай. Князь не преминул послать к ослушнику некоего Мамику-сотника, местного, из села Арати, зверовидного мрачного бобыля, что до ратной кабалы был поводчиком и кормился медведем. Пожалуй, этот Мамика теперь вернулся и передал государю нижайшую просьбу подданца Кучки обождать его московские силы, а нелюбье отложить. Род остановился середь дороги, прикрыл глаза, сосредоточился и представил боярский терем в Кучкове. Что же увидел? У распахнутых широких ворот - возы, груженные не походной кладью, а ценным домашним скарбом. Будто боярин собрался не на войну, а в иную вотчину. Откуда же ещё у Степана Иваныча вотчина, помимо москворецких его земель? Род почесал в затылке, встряхнул головой и прибавил шагу, не теряясь больше в догадках.
А вот и первые воины лежат на траве, пожёвывая чемеру[344]. Они издали заметили юношу, и до чутких его ушей долетел неторопливый переговор:
- Наш молодой колдун шествует…
- Чтой-то уж и колдун? Лечец-травник.
- Не просто лечец, а истинный волхв.
- А я слыхал: сын волхва!
Род, подойдя, приветливо оглядел спорящих:
- По какой причине неурочный привал?
Все четверо вскочили.
- Кабы нам знать да ведать! - почтительно произнёс старший.
Род счёл за благо не идти к Гюргию с пустыми руками, отыскал в обозе свои пожитки, развёл костёр и принялся готовить два зелья. В обозе мечники, седельники и коштеи тоже не ведали причины задержки.
- Я не зна-а-аю, князь знат, - распевно ответил один из них.
К колдовскому костру все подходить остерегались. Роду надолго посчастливилось остаться наедине с собой. Он почуял за спиной человека, когда оба зелья были готовы. Сидя на корточках, обернулся - позади возвышался Короб Якун.
- Что ж у тебя получилось, друг? - поинтересовался боярин.
- Отвар из дремлика, порошок из о дурника.
- Как государю этим воспользоваться?
- Отвар принять внутрь или порошком покурить и подышать этим куревом.
- Дай-ка для начала отвар. Гюргий Владимирич сызнова ночь не спал.
- Отчего в походе промешка? - спросил Род.
Короб осмотрел вокруг и, убедившись, что поблизости нет ушей, мрачно произнёс:
- Кучка изменил.
Род едва не выронил снадобицу из рук:
- Так я и знал. На чужбину целит Степан Иваныч.
У Якуна глаза расширились:
- Ты… неоткуда было тебе узнать.
Род вместо ответа тяжело вздохнул.
- Прискакал из Кучкова ночью лазутник, - продолжал Короб, - поведал, что обезумевший старик устремляется со всею семьёю и ближними людьми в Киев к супостату нашему Изяславу. А несогласную боярыню в поруб бросил, покуда не образумится. Государь отложил поход. Негоже иметь за спиной осиное гнездо. Нынче же отборные силы двинутся к Красным сёлам. Не сносить изменнику седой головы. - Якун пощипал стриженную под государя бородку и сурово прибавил: - Седой, а глупой!
Они пошли к княжому шатру.
- Мне нельзя ведать имя красносельского лазутника? - спросил Род.
- Отчего ж нельзя? - пожал плечами Короб. - Ты наш. А в Кучкове прожил изрядно. Может, твой знакомец? Имя его Дружинка Ильин Кисляк… Почему ты вздрогнул?
- Перегрелся у костра, обдул ветер, - наскоро отговорился Род и ещё спросил: - А не сказывал лазутник этот о судьбе Петрока Малого, любительного слуги боярского?
- Петрока… Петрока… - напряг память Якун и вдруг хохотнул. - Вспомнил, сказывал. Этот любительный слуга своему господину не потакнул, не пожелал бежать в Киев. Тоже сидит в порубе.
- Зачем же Степан Иванович медлит с побегом? - вслух подумал Род.
- Стало быть, туг на сборы, - пояснил Якун Короб. - Да и подружию свою не уймёт никак. Оставлять жаль, а казнить ещё жальче.
Приблизились к Гюргиеву шатру, приметному по узорчатой златотканости и обилию вокруг боярских детей и пасынков. У длинной коновязи насыщался овсом из подвязанных торб ряд разномастных коней. Род передал боярину снадобицу с отваром дремлика.
- Сам-то не зайдёшь к государю? - спросил Якун и тут же рассудил: - Где там! Лик заострился, очи запали. Вестимо, устал, ночь не спавши, рыская по лесам. Скажи, сколько пить, отдохни, а уж после…
- Ежедень перед сном по лжице на фиал молока, - еле вымолвил Род, чувствуя на спине испарину.
Боярин ушёл. Выученик табунщика Беренди быстрым оком окинул коней и сразу определил наиболее свежего, отдохнувшего. Это была избура-гнедая кобыла. Должно быть, её хозяин отлучился давно и надолго. Отстегнув торбу, отвязав повод, Род птицей взлетел в седло и, разворачивая кобылицу, увидел Дружинку Кисляка, выходящего из шатра. Едва их взоры сошлись, обомлевший Дружинка, признавший своего старого поднадзорного, быстро взял себя в руки и завопил что есть мочи:
- Держите вора!
Вырвав лук у охраныша, он нацелился и… Нет, мастер по доносам и пыткам не мастер по стрельбе. Род даже не услышал пения стрелы. А спустя самое короткое время он уж летел по Старо-Русской дороге в сторону Кучкова.
Лететь-то летел, да мосты проклятые из давно не менянного пластья таили беду для торопливого всадника. Ссоры да которы между князьями да половецкие набеги с бродничьими разбоями так расхолодили чернедь-мужичков, что те не блюли дорожной повинности, дресва уходила в песок, умножая колдобины, а гнилое пластьё осыпалось, делая щербатыми многочисленные мосты.
Мосток-западня был мал, перекрывал не реку, а всего лишь ручей. В его-то щербатину и скользнула подкованная нога, и полетел всадник вперёд коня. Ему посчастливилось вверзиться в придорожную копну сена. Встал, встряхнулся, оглядел узкое поле, окаймлённое лесом, помог подняться своему скакуну. Кобылица хотя и всхрапывала, поводя ошеломлёнными зрачками, но, кажется, была в порядке.
Нет, содранная задняя бабка все же заметно умерила её прыть. А на порченой кобыле далеко не ускачешь. Вскоре обеспокоенный всадник спешился и приник к земле. Волновался, оказывается, не зря. Ухо уловило дальний топот многих копыт. А дальнее быстро может стать близким. За ним гнались.
Сразу рассудил: гонятся на борзых конях, стало быть, вот-вот нагонят. Бросить кобылицу, уйти пешим в лес - значит, Гюргий прежде него попадёт в Кучково. Решение созрело скорое. Род, работая понукальцем, гнал кобылу вперёд и за каждым лесным поворотом высматривал подходящее дерево. А погоня уже звучала в ушах, даже голоса доносились. В который раз оглянувшись, он увидал вылетевших из-за березняка всадников. Ещё миг - и сосчитал, что их трое. Судя по голосу, именно Дружинка Кисляк издал радостный вопль: «Во-о-он он!» Самонадеянный Дружинка, выслуживаясь перед Гюргием, вызвался сам-третей обратать Рода и выдать на княжеский произвол. Юный лесовик, яшник и воин усмехнулся, вспомнив хана Кунуя с его ватагой. В тот раз без Итларя ему бы не отбиться. Кунуевцев собралось не трое, а слишком много. Если бы любимая Улита и её нелюбимый отец были вне опасности! Из-за них даже всего-то с тремя поимщиками Роду неверным показалось вступать в неравный, хотя, должно быть, выигрышный бой. Нет, лучше добиться победы иным путём и наверняка. Счастье, что в здешних лесах Старо-Русский путь вьётся аки змий торопящийся - изгиб за изгибом, изгиб за изгибом… Помоги, Бог, чтоб за первым же поворотом возвысилась разлапистая берёза, тянущая над дорогой ветвь-руку, толстую и не слишком высокую. Многажды он сворачивал, а такой берёзы не встретил. Вот и последний поворот, за которым его нагонят. Вскинул юноша голову вверх, привычная мысль устремилась к Сварогу, но нежданно для себя он истово осенился крестным знамением и подумал: «Спаси, Христос!»
Свернув, Род сразу же бросил повод на шею запалённой кобылы. Вот тут-то и пригодились конные упражнения, которым учил в плену искуснейший Беренди. Яшник Род навострился так, что не ударил бы лицом в грязь и на самом хурултае под Шаруканью. Сейчас он вспрыгнул ногами в седло, вскинулся во весь рост и, когда кобыла проходила под деревом, ухватился за руку-ветвь, подтянулся и в следующий же миг скрылся в густоте кроны…
В двух шагах от дороги в подберезье разросся малинник. Эх, малинки бы посбирать!..
Пока поимщики подъезжали, было время задуматься о своём внезапном побеге из лагеря Гюргия. Теперь пропадай навек надежда на возвращение отчей жизни боярской. Не видать ему от суздальского властителя ни боярства, ни вотчины, никакой награды за службу. Тяжкая княжеская немилость - вот его удел. И все это ради спасения ненаглядной Кучковны и её несуразной семьи. Как их спасти? Лелеялась мысль о ненадёжном убежище в Затинной слободе под Азгут-городком. Конечно, притом что Фёдор Дурной замолвит словечко перед атаманом Невзором, а тот согласится на приемлемый выкуп. Потом лесами - до Киева. А там и Нечай Вашковец, и Первуха Шестопёр помогут старому москворецкому изгою с его семьёй приблизиться к Святославу Всеволодичу, своему господину. А для Улиты и Рода наступят райские дни. Ах, мечты, мечты!..
Дружинка Кисляк со товарищи натянули поводья под самой его берёзой.
- В лес бежал, блудень! Бросил коня, пёсья мать! - заругался кучковский обыщик.
- Далеко не уйдёт. Я Волковский лес как свою ладонь знаю, - изрёк хмурый бородач.
Третий, молодой и, должно быть, ленивый, спешился:
- А на кой ляд его искать? Приведём назад кобылу, скажем: порешили парня в стычке.
- Это надо доказать трупием, дурья голова, - пояснил Кисляк. - Я посторожу коней, а вы поищите.
- Может, нам посторожить коней? - прищурился молодой.
Роду грели душу их отношения. Он ожидал развязки.
В конце концов все втроём решили перекусить. Бородач надоумил, что беглец попытается скосить путь, выйти лесом на деревню Пешаницу, а оттуда прямая дорога к Мосткве-реке, к Красным сёлам. Отдохнув, они засветло примчатся к Пешанице по наезженному просёлку, а там спрячутся у Красносельской повёртки и отай дождутся пешего беглеца. Это всем пришлось по душе. Своих коней пустили пастись стреноженными в придорожные травы, кобылу Рода не тронули, потеряли к ней интерес.
Совсем поблизости от берёзы, в кроне которой скрывался Род, возник уютный костёр. Затрещало, как в родном очаге, потянуло домашним дымом. Аромат жареной курятины достиг ноздрей Рода.
- Видел нынче во сне калиту из сафьяновой кожи, - разговорился Дружинка Кисляк. - Так и ласкала руки! А заглянул - пустая. Эх, думаю, гривнами бы её набить!
- Видел мужик во сне хомут, не видать ему клячи довеку, - откликнулся бородач.
- Ух, и чару вы мне даёте! - ухнул молодой. - Не чара, а куфа! Ажни пить страх!
- Оно страшно видится, а выпьется - слюбится, - успокоил Кисляк.
Род краем уха воспринимал этот никчемушный разговор. Его занимало срочное дело. Требовалось споро и ладно сделать из бересты маленький круглый ковчежец с берестяной плотной крышечкой. Когда игрушка была готова, Род всыпал в ковчежец порошок сон-травы да ещё вложил свинцовую пуговицу, оторванную с мясом от кожаной опояски, и все это закрыл плотно-наплотно.
А под берёзой шёл пир горой.
- Чтой-то в костёр упало, будто камень кто кинул? - лениво обеспокоился захмелевший младень.
- Шишка с сосны упала, вот и горит, - догадался Кисляк.
- Вроде с берёзы шишка-то, - вяло пытался высказать недоумение уже чмурной бородач.
А буро-коричневый дым при сгорании мнимой шишки, не отгоняемый улёгшимся ветром, так и распростёрся вокруг костра. Род затаив дыхание стал спускаться с дерева.
Осторожно подойдя к пиршеству, он увидел, что молодой свернулся калачиком, подогнув под себя коленки, бородач перегнулся пополам, свесив голову, а Кисляк завалился навзничь и отпыхивает губами. «Плохо, что губами во сне отпыхивает, вскорости помрёт», - отметил про него Род.
Одурник явно и без промешки оказывал своё действие. На всякий случай юный чаровник сделал руками плавающие движения над каждым из спящих и произнёс:
- Приходи сон из семи сел, приходи спень из семи деревень…
Покончив с этим, омыв руки вином из фляги (воды-то взять неоткуда!), он достал из закрытого котелка жареную петушиную ногу, от разогрева ещё не остывшую (ох, и жестка!), наскоро сгрыз её, потом стал присматриваться к стреноженным коням. Выбор пал на вороного жеребца, не уставшего под щупленьким молодым поимщиком. Подтянув подпруги, вскочив в седло, Род бросил прощальный взгляд на три тела.
- Спят, как коней продавшие, - произнёс он, понужнув вороного.
И затих стук копыт на Старо-Русской дороге. Остался лишь храп в три горла.
4
Столь удачным спасением от погони трудности беглеца не закончились. У Пешаницы его пытались остановить, опустив рогатку поперёк пути. Вороной с лету взял преграду по-орлиному, две стрелы, пущенные вдогон, не достигли цели. Стало быть, передовые разъезды Гюргия уже переняли дороги к Мосткве-реке, и уж нынешней ночью главные силы могут поспеть в Кучково.
У Калинова моста небольшая пьяная глота преградила путь всаднику.
- Не ехай далее, парень, там Кучка с охранышами, - предупредил дюжий мастеровой, поигрывая полосой железа.
- Кучки боитесь? - сделал весёлое лицо Род.
- Не боимся, а ждём своих, - вмешался товарищ мастерового. - Сказывают, ополночь князь будет здешнего самовластца жечь. Ох, пограбим!
Род едва сдержал гнев.
- Вы-то кто, не здешние?
- Мы переселенцы из Суздаля, - ответил мастеровой.
Род полоснул жеребца по крупу сыромятной косицей. От внезапного скока ближайшие заградители повалились на стороны. И - вот уж он, Боровицкий холм. Улица Великая встревожила пустотой. Лишь у храма Николы Мокрого вдоль причала молча грудились неведомо злые или добрые люди.
Вот уж и просека позади, и Кучково поле. Чистые пруды, перед тем как погаснуть, напоследок зажглись отблеском луча, тут же сгинувшего за окоёмом. Боярские хоромы мрачно выступили из-за дерев. За распахнутыми воротами выстроились те самые возы, груженные скарбом, что представил себе юный ведалец на Старо-Русской дороге.
Двое боярских кметей у ворот заступили путь:
- Куда? Кто таков?
Пока он раздумывал, как назваться, от возов долетел приказ:
- Пропустите названого сына боярского!
Едва спешившись, Род попал в крепкие объятия кощея Томилки.
- Тебя ли сподобился лицезреть, Пётр Степанович? Узнал-то сразу, а до сих пор не верю.
- Не именуй меня Петром, - велел Род.
- Разумеется, ты Родислав Гюрятич, да уж так уж… - мялся Томилка.
Тёплой, почти родственной встречи третьегодняшний изгой вовсе не ждал от боярского слуги, когда-то столь сурово снаряжавшего его на заклание.
- Здрав ли твой господин? - спросил он Томилку.
- Здрав-то здрав, да уж долго ли ему здравствовать… - завздыхал кощей.
- Боярыня-то в порубе?
- Сидит уж который день.
- И Петрок сидит?
- Пошто Петроку сидеть? - удивлённо дёрнул плечом Томилка. - Он соборует с господином который день.
- А Мамика, княжеский посольник, в порубе?
- Пошто в порубе? - опять-таки удивился Томилка, - Он наш. Тоже с господином соборует.
- А боярышня? А боярич? - затаил дыхание Род.
- Здравы и лебёдушка наша, и лебедёнок. Тебя поминают который год.
Род, более не говоря ни слова, опрометью бросился в терем, взбежал по знакомой лестнице, миновал знакомые переходы и у боярышниной одрины вновь попал в объятия, но уж девические, и полные крепкие губы прильнули к его щеке.
- Родислав Гюрятич! Ждали-то как! Вевейка сказывала… боярин обмолвился… Улитушка сама не своя…
Это была Лиляна.
- Отпусти к Улите, - бережно высвобождался Род.
- Ой, чуть-чуть повремени, миленький ты наш. Там сейчас… Чуть-чуть повремени, - робко пробовала не отпускать Лиляна.
Юноша нетерпеливо растворил дверь, соображая, что делает не гораздо, суясь без спросу в девичью одрину. Однако то, что сразу увидел, скорее рассмешило и успокоило, нежели смутило.
Сидящая на лавке Улита, положив на колено голову ползающей перед ней Вевеи, наматывала на пальцы рыжие космы своей сенной девушки и дёргала сильно, разом.
- Чемер позвала сорвать, да? - яростно вопила рыжуха.
В лесу Род таким же приёмом лечил Букала от острой поясничной боли, называемой чемером. Наматывал вокруг пальца несколько седых волос занемогшего волхва, дёргал разом или прикусывал их у корня, чтоб хрустнули. Это и называлось чемер сорвать. Однако на сей раз по всему было видно, что боярышня занята не лечением, а наказанием. Это и рассмешило Рода.
На его смех Улита вскинула зелёный взор, обезволенно опустила руки. Обернулся сидевший у окна рослый отрок - вьющиеся русые кудри, белое, как выточенное, лицо, брови, словно угольком подмалёванные, глаза - зелёные самоцветы. Вот так Яким Кучкович! Вот так красавец! Чуть вырос, а как расцвёл! Лишь губы тонкие портят красоту недобротой. Кажется, ему нравилось наблюдать сестринскую расправу.
Вевея же, почуяв избаву, мгновенно бросилась наутёк.
И вот два тела слились в одно, как в лесу на дереве, где скрывались от бродников. И вновь от возлюбленной пахнет мытелью, как в ночных кустах у Чистых прудов. Опять набралась жару в баенке. И желанные щёчки перевёрнутыми раскалёнными блюдечками жгут ему лицо. И родным алым домиком губки тянутся к нему. И глаза зелёными омутами манят утопиться в них…
- Один Бог ведает, как я тебя ждала. Сказывали, убит. Сама жаждала смерти, чаяла, она нас соединит.
Род не мог слова вымолвить. Сердце его, казалось, пробьёт две грудные клетки, чтобы слиться с её трепетно бьющимся сердцем.
- Сестрица, дозволь братца поцеловать, - вернул обоих в обыденную жизнь хрупкий басок Якима.
Улита оторвалась от Рода. Боярич с отроческой мужской силой обнял его и поцеловал в щеку.
- Братца поцеловать! - передразнила Улита. - Скоро этот братец тебе шурином станет.
- Ой ли? - криво усмехнулся Яким. - А Владимирский князь Андрей?
В груди Рода похолодало.
Девушка с укоризной посмотрела на ехидного отрока.
- Не кажись змеёнышем. Или тебе неведомы мои слезы?
Отрок построжал лицом, ласково дотронулся одной рукой до плеча сестры, а другой до локтя названого братца.
- Батюшка над ней сильничал, - объяснил он Роду. - Изошла она слезьми, покуда не покорилась. Твою смерть доказывали и Петрок Малой, и Дружинка Кисляк, да им веры не было. А когда бродяга именем Клочко потонку описал, как тебя в разбойном стане вешали живым и расстреливали из луков, сестрица более месяца лежала в горячке, потом одеревенела, как кукла, и согласилась стать подмужней женой сына половчанки, этого старого обрубка, да вот срамота с Амелфой… Было бы большое несчастье, да меньшее несчастье помогло.
Род ободряюще улыбнулся сникшей Улите и, резко меняя суть разговора, спросил:
- За что тут был застенок бедной Вевее?
- Не бедной, а блудной, - хмуро произнесла боярышня. - Учуяла рыжая срамница, что дом перевернулся с ног на голову, и надумала задать лататы. Томилка её поймал. Надо ведь доискаться, куда намечала путь. Удалось выдавить: во Владимир!
- Норовница[345] жениховствующего Андрея, - пояснил Яким.
Улита подняла взор на избранника своего сердца и, видя его сияющим, сама просияла.
- А где Овдотьица? - спросил Род.
Девушка вновь поникла.
- Овдотьицы не стало в ту зиму, накануне коей и тебя не стало с нами, - отвернулся к окну Яким.
Сумерки густели за слюдяным окном.
- Утопла мамушка наша в Чистых прудах, - тихо вымолвила Улита. - Полоскала белье на мостках, поскользнулась и…
- Петрок с Амелфой её сгубили! - вскочил присевший было на сундук Род. - Я упреждал… я знал…
- За что? За что? - спрашивала боярышня.
Род, колеблясь, оглядел сестру с братом. Тяжело расстраивать ставших самыми близкими людей. Ещё тяжелее скрыть от них правду.
- А старая Варсунофья? - с трудом вымолвил он, - Подкараулили, придавили сосной. За то, что невзначай углядела Амелфу с Петроком в ложне боярыниной на одном одре.
- Не верю в такое, - замахала руками Улита.
- Веришь в черноту души мачехи, так уж верь до конца, - заключил Яким.
- Варсунофья рассказала Овдотьице. Их подслушали, - договаривал Род.
Улита закрыла лицо руками.
Яким поднял указательный палец.
- Вот почему глазун батюшку склоняет бежать не в Киев, а во Владимир к Андрею. С Гюргием у них сговор: породу нашу пресечь, вотчину оставить Амелфе. С суздальским владетелем она продолжит висляжничать[346], глазун же подле неё побоярствует.
- Ты не дорос ещё до таких взрослых мыслей, - остановила брата сестра. - Выдумываешь покруче сказок о страшных чудищах.
Родислав невесело усмехнулся.
- Круты Якимкины выдумки, - произнёс он и добавил весомо: - А нынешняя жизнь, Уля, куда как круче. Овдотьица мне открыла: Петрок, убийца моих родных, бежал в Киев. Оттуда под видом кухаря[347] прислал отравителя. Смерть вашей матушки-боярыни - его грех. А ещё у Ольговича изгой рязанский Владимир истину мне поведал, слышанную от очевидца: Петрок с Амелфой-вислёной в Киеве делил одр, а после сосватал её Степану Иванычу. Вот ныне и рассуди: далека ли от жизни братнина несусветица?
В одрине воцарилось молчание. Улита ходила из угла в угол, хрустя сцепленными пальцами. Яким барабанил по оконнице, с надеждой глядя на свалившегося как с неба названого братца.
Наконец Род к сказанному добавил:
- Петрок подослал в лагерь Гюргия своего обыщика Кисляка. Тот вылгал, будто в порубе с Амелфой и сам Малой. А Степан Иваныч-де готов бежать в Киев к Изяславу. Князь отложил поход. С часу на час нагрянет сюда. Страх что произойдёт!
Улита схватила его сильные руки, как утопающая:
- Родинька, спаси нас, спаси! Совсем не найдусь, что делать…
Род изложил свои замыслы о побеге в Киев. Яким заплескал в ладони. Девушка отпустила юношу.
- Ждите, - приказал он, - Схожу к боярину.
Уходя, он унёс в ушах встревоженный голос отрока:
- Берегись, братец, там злец Петрок!
У двери боярских покоев его остановил громкий разговор.
- Андрей не выдаст своего тестя даже отцу. Ужели надо доказывать? - это басил глазун.
- Недоказуемое как доказать? - скрипел несмазанной глоткой незнакомец. - В черепе у Андрея загадка, а в киевских стенах у Изяслава - заступа. Вот и весь сказ!
- Сбили вы меня с толку оба! - сердито проверещал Кучка.
Тут вошёл Род.
Кучка стоял за своим аналоем, где всегда читывал священную книгу. На сей раз книги не было. Глазун сидел на лавке насупротив. А между ними, расставив ноги, высился красноликий богатырь, будто налитый медью. В нем Род узнал Мамику, виденного однажды в шатре у Гюргия.
Все трое по-разному уставились на вошедшего - Кучка смятенно, глазун испуганно, Мамика непонимающе.
- Ты?.. Кто пустил?.. Как посмел? - задыхался боярин.
- У вас тут полная несторожа[348], - объяснил Род. - Дивлюсь такой беспечности. Вот-вот Гюргий по зову Петрока объявится в Красных сёлах.
- Што ты тут лепишь? - шёпотом возмутился глазун.
- Не леплю, а довожу истину, - спокойно поправил Род. - Или запамятовал, что ономнясь[349] посылал Дружинку Кисляка к князю Гюргию? Дружинка твой доложил потонку, будто с боярыней в порубе сидишь, а боярин с семьёй в Киев метит под щит ненавистного Гюргию Изяслава. Князь в сердцах поход - по боку, сам - сюда. Решил: осиное гнездо за спиной оставлять негоже.
Кучка, исказив лик, уставился на Петрока. Мамика, быстро сообразив случившееся, изготовился, аки рысь, к прыжку. Достаточно малого знака боярского, и глазун будет в его лапах.
- Облог! - вскочил тот. - Облог! - И, выбив могучим плечом оконницу, бросился в ночную чернь, как в небытие.
- Упал, дурень! Расшибся насмерть! Сколько тут сажен? - всполошился Степан Иваныч, даже сейчас не в силах смириться с гибелью своего любимца.
- Под твоим окном - кровля, тут подклет выступает, - напомнил, скрипя зубами, Мамика. - Ниже - ещё кровля. Так что не разобьётся твой драгоценный сосуд, господин.
- Думать надобно об ином, - вставил Род. - Петрок выпустит Амелфу.
- А? - сызнова встрепенулся Кучка. - Побеги, Мамикушка, упреди!
Мамика выскочил из покоя с полной боевой готовностью.
Оставшись наедине, юноша со старцем долго молчали. Наконец, собравшись с духом, приняв деловитый вид, Степан Иваныч спросил:
- Ты пошто пришёл? По Улиту?
- Я пришёл вас спасти. Тебя и твоих детей, - сказал Род. - Знаю лес, как свои хоромы. Все дороги заставлены княжескими людьми. Скроемся в лесах, потом у моих знакомцев, к коим ты посылывал меня на смерть.
- Я посылывал? - сузил глазки Кучка.
- Ну, Петрок без твоего извола, - усмехнулся Род.
Старый грешник промолчал.
- В Киеве у меня есть люди, - продолжил названый сын боярина, - представят тебя князю Святославу Всеволодичу, а он новой жизнью наградит.
- За что? - сморщив лоб, вопросил старик.
- За будущую службу, вестимо.
- Поздно мне новым князьям служить, - вздохнул Кучка и с беспокойством глянул на дверь. - Мешкает Мамика… нешто опоздал?
Обмякший, как слива, из коей вынули ядро, потерявший вид, боярин покинул свои покои. Род пошёл за ним. С гульбища спускались под жалкий скрип давно не менянных ступеней. В ярком полнолунии молча шли к порубу. У дверей узилища споткнулись о Мамику. Он лежал ничком. Из-за лопатки посверкивала рукоять ножа. Род прикрыл глаза, подумал и сказал:
- Дверь была распахнута. За ней стоял предусмотрительный глазун. Охранышей, себе подвластных, отослал. Подкараулил глупого богатыря и уложил на месте.
Кучка все-таки вошёл в сторожку, заискрил огнивом, зажёг свечу, глянул в лаз земляной ямы…
- Улетела птица? - спросил Род.
- Предан, всеми предан, - тряс седой головой старик.
- Мной, боярин, ты не предан, - молвил сын Гюряты.
- Тебе не верю! - крикнул Кучка. - Верю тем, кому творил добро, а кому зло…
Тут верховой влетел в раскрытые ворота, пересёк двор, вздыбил синего коня перед боярином и спутником его, что шли к хоромам.
- Князь пришёл на Боровицкий холм! С ним гридей видимо-невидимо! Кмети в Красных сёлах рыскают зверьми. Идут сюда!
Степан Иваныч завизжал как резаный:
- То-ми-и-и-и-лка-а!
Прибежал Томилка.
- Где Малой с боярыней?
- Не ведаю.
Старик метнулся к терему.
- Разумно поспешай, Степан Иваныч! - крикнул Род, - Остановись!
- Спасай детей! - совсем ополоумел обречённый. - Они не виноваты!
Род бросился за ним. Но не нагнал. По переходам - тишина немая. В Улитиной одрине - тихий разговор.
- Ах, Родинька! - вскочила побелевшая боярышня. - Ну что решили?
Услышав вкратце о случившемся, Улита сообщила, что как раз отправила Лиляну на отцову половину. Она сейчас, конечно, приведёт боярина. И тут вошла Лиляна.
- Господина нигде нет…
Род видел, как Степан Иваныч вошёл в терем. Не мог же он сосулькой испариться, хоть перед тем оледенел от страха.
- Вам спешно надо уходить, - построжал юноша. - Вот-вот здесь будут люди Гюргия…
- Мы собрались, - обрадовал Яким.
- Спаси отца! - воскликнула Улита. - Нас - после. Спрячемся и переждём. Пройдёшь с ним подземельем к речке Рачке. Невдолге выйдете к Мосткве-реке. Переправляйтесь на Великий луг. Там травы выше головы… Спасай нас поособно.
- Мне боярин вручил вас, а не себя, - заколебался Род, чуя беду.
- Сестра права, - сказал Яким.
Все вышли из одрины. Род думал, как отыскать Кучку, куда спрятать его кровь - детей, а с ними верную Лиляну. В тереме, должно быть, рыщут Петрок с Амелфой…
Спустились вчетвером в подклет. Прошли знакомую до боли дверь в истобку. Здесь он надеялся и горевал. Здесь служила ему добрая Овдотьица. Здесь лазутничала за ним Вевея…
А дверь соседняя полуприкрыта. Как раз та дверь! Он заглянул: крышка подпола откинута!
- Боярин в подземелье, - догадался Род. - Несите свечи.
Лиляна - одна нога здесь, другая там - сбегала за свечками. Начали спуск… Без одной ступеньки лестница так памятна!
Когда сгрудились внизу, Род первым углубился в тесный ход, что вёл к какой-то речке. Вот пыточная камера, где умерла Офима. Ржаво заскрипела дверь.
- Тут страшно, - молвила Лиляна.
- Ждите, запершись, - приказал Род. - Отыщу боярина, укрою и вернусь за вами. Постучу трижды.
Улита деловито обернулась к сенной девушке:
- Золото, каменья, серебро взяла, Лиляна?
Та кивнула.
Род с тяжёлым сердцем вышел, оставив их одних. За ним лязгнул засов.
В кишке глухого подземелья трудно дышалось затхлой духотой. Ус показался бесконечным. Выводил в пещеру, а пещера - в подбережье. Свеча погасла. В лунном свете речка Рачка сновала меж камней серебряным ручьём на дне оврага. Воистину здесь неприметно можно добежать к Мосткве-реке взапуски с бегущей Рачкой… Вот и простор, песчаный спуск к воде. Поодаль соревновались в крике мужские голоса, густой и тонкий.
- Отдай мой пе-е-ерстень! - вопил Кучка.
- На-кась выкусь! - насмехался бас все тише, тише…
Род увидел на реке паром, на берегу машущего кулачками старика.
- Степан Иваныч! - подбежал юноша.
- Паромщик Ждан украл мой перстень, - объявил Кучка. - Обещал перевезти, руку протянул, перстень взял и уплывает, мерзостный подважник!
Род соображал недолго. Водя взором по-над яром, он углядел замшелый срубик с крестиком и потащил к нему боярина.
- Укройся в склепе. Мало ль кто пожалует. Я догоню Ждана, отберу паром…
- А тут мертвец! - заглянув в сруб, дрогнул Кучка, - Вон белеют череп, кости…
Бревна были тонкие, луна, как на беду, просачивалась в склеп.
- Ныне с мертвецами безопасней, нежели с живыми, - сказал Род.
Втискиваясь в сруб, Степан Иваныч обратился к юноше:
- Непостижимый Боже! За добро я предан, за зло спасаем… Ведь это я тебя посылывал на смерть, изгнал из дома. Все время видел по глазам: чует твоё сердце, кто убил Гюряту и его семью.
- Теперь-то знаю от свидетелей, - промолвил Род, - по твоему изволу страшное содеяно.
- Прежде по Гюрькиному, после по моему, - жалобно признался Кучка. - Гюрька настропалил меня… Довеку прощения не вымолить. А ты спасаешь грешника…
- Тише, тише будь в своём укрытии!- резко прервал юноша. - Что бы ни случилось, затаись.
Разоблачившись мигом, скрыв в кустах одежду, он бесшумно вошёл в реку и поплыл саженками.
Алчный Ждан, презренный бородач! Давно по наущению обыщика за мелочную мзду угнал он каюк Рода. Теперь почуял злым чутьём, что в ночь беды его дощатая посудина понадобится господину. Пригнал паром на зов боярский, чтобы ограбить благодетеля, перед тем как погубить… Род уже близко видел эту тушу, отталкивающуюся багром. Перевернувшись на спину, он обнаружил, что берег далеко. В лунном свете ясно обозначился жердяй-глазун, кого-то ищущий на берегу. Нетрудно надоумиться кого. Вот, прекратив поиски, скрылся за кустами в овраге. Неужто пронесло напасть? Вдруг страшно стало за Улиту, Якима и Лиляну. Пловец сомкнул глаза, сосредоточился и содрогнулся: всех троих увидел связанными в той самой пыточной. А дверь открыта. Не та дверь, в которую они входили. Ах, выпала из памяти вторая дверь. В неё когда-то убежали пытчики Офимки Кисляк с Петроком при появлении Улиты. Три года минуло с тех пор. Сегодня в полутьме Род не увидел этой двери, забыл о ней. И вот она открыта. Повернуть назад? Спешить на помощь? Пыточная далеко, а паром рядом. Ждан стоит спиной, не слышит и не ждёт возмездия. Бурлит водой багор и глушит плеск пловца.
Род, выбравшись на палубу, окликнул вора. Тот, узрев голого, взмахнул крутыми кулаками, но, получив удар в подреберье, всей тушей зашатался, однако не упал. Нет, не всю силу вложил юный богатырь в удар, щадя противника. А Ждан уж пришёл в разум, двинулся медведем.
- Ах ты, оголыш! - пробасил паромщик. - Я те поозорую!
Он и мощнее вдвое, и выше на голову. Род отступал до края палубы, потом насторожился, следя за кулаком бородача. Кулак взметнулся с вложенной в него медвежьей силой и… угодил в воздух. Туша не устояла. Ждан плюхнулся за борт, рубаха вздулась. Род взялся за багор.
- Отплывай далее, не то пошлю на дно, - предупредил он.
Ждан, торопясь, отплыл, боялся получить багром по голове. Теченье понесло его.
Род поспешил к берегу, орудуя кормилом. И вдруг услышал лай. Вгляделся: бежит по берегу большая псина. При лунном свете не различишь масти. До чего ж знакомый пёс!
Ещё чуть-чуть - и страхом ожгло сердце. Это же любимый бырнастый пёс боярина Буян! За ним торопится Петрок. Буян, принюхиваясь, устремился к срубу. Верный пёс почуял близость столь любимого хозяина. Преданный Буян - предатель!
С парома было видно, как Петрок остервенело выволок из склепа седого старика, схватил за космы, вздёрнул голову…
- Вижу! - всей мощью горла крикнул Род.
Проклятый головник взглянул на реку, замешкался… Да недолго медлил. Отделил голову от тела охотничьим ножом, кинул её в мешок. Зарезал господина, словно петуха…
Непоправимо поздно подошёл к берегу медлительный паром.
Возле склепа у обезглавленных останков Кучки выл Буян. Злодея же и след простыл. Род обонял едучий запах дыма, слышал треск. Чтобы рассеять ужаснувшие его предположения, взошёл на верхний берег с трупом на руках.
Ошеломляющим костром пылала вся боярская усадьба. Бежал во тьму от света машущий руками человек. Не разглядеть лица… Томилка!
- Ой-ой-ой-ой, Родислав Гюрятич! - взвыл он, увидя Рода с безглавым трупом. - Ой-ой-ой-ой, Степан Иваныч! - тут же завопил он, узнав на трупе боярскую одежду.
Треск, лопанье и шип пожара заглушали вытье Томилки.
- Кто поджёг терем? - спросил Род.
- Княжьи люди подожгли. Не люди - звери! Петрок с Амелфой выдали им детушек боярских и Лиляну. Боярышню с бояричем и девку увезли неведомо куда. Амелфа надоумила Петрока спустить Буяна, чтобы сыскал боярина. Эх ты, Буян, Буян! - пнул Томилка пса. - А поджигатели под страхом смерти наказывали не гасить пожара…
- Где Амелфа и Малой? - осведомился Род.
- Как занялось со всех сторон, я их уже не видел. Никого здесь не осталось. Я один…
Томилка бросился на землю, зарыдал. Род поднял и встряхнул его:
- Добудь белую понку с заступом. Обернём тело, выроем могилу. Надо похоронить боярина Степана Ивановича Кучку попригожу…
5
Он пришёл в себя от холода и боли. Не сразу приоткрыл глаза. Холод мучил оттого, что весь гол, как свечка. А боль - в каждой жиле, в каждой кости. Ведь лежит на досках навзничь с распростёртыми руками, прикрученными сыромятью к железным клиньям. Подумалось, на полу лежит. Ан нет, на щите из плотного пластья.
Солнце пронизывало огромный щелястый сарай-сенник. Порожний - ни клочка сена. Одр узника - жёстче некуда!
Память, как кровь в затёкшие члены, с трудом возвращалась в мозг. Они с Томилкой схоронили Кучку у Чистых прудов. Род нашёл вороного, предусмотрительно стреноженного, спрятанного в лесу. Оставив кощея, поскакал к Боровицкому холму. Думал об Улите с Якимом: куда увезли, живы ли?.. Вороной на полном скаку сунулся мордой вниз. Ощутив себя в полете, приняв удар, Род не в тот же миг впал в беспамятство. Успел узреть несколько стрел в боку хрипящего коня.
Пропасть времени прошла с тех пор…
Скрипнули ворота сенника. В образовавшийся проем вошли двое. Узкие глаза, вислые усы, куценькие бородёнки. Не сызнова ль попался в половецкий плен? Вошедшие такие одинаковые, похожие скорее на заботливого Беренди, чем на безжалостного Сурбаря. Чуть рты раскрыли, вязник содрогнулся.
- Когда покончим с ним? - спросил один.
- Не торопись, Турпай, - сказал другой. - Велено пока его беречь. Очнётся, скажет пытчикам что надо, а уж тогда…
Род кое-что смекал по-торкски после уроков Беренди и вспомнил из истории, преподанной когда-то Богомилом: именно торчин зарезал князя Глеба.
- Надоело доски мыть под ним, - ворчал Турпай. - Шальная баба, что пыталась опоить его, ещё прибавила работы. Поверишь ли, Олбырь? Сам тошнотой исходишь, обмывая эту тварь. Чуть отойдёшь, его опять гадует[350] и гадует. Такой блевач!
- Даже в беспамятстве не размыкал зубов, - вспомнил Олбырь. - А все же кое-что попало внутрь…
- Тьфу на поганых северян! - сплюнул Турпай. - Всех бы зарезал вместе с их князем…
Олбырь остановил товарища:
- Ша! Он очнулся. Ишь глядит!
- А, наплевать! - Теперь уж в сторону лежащего пустил плевок Турпай, - Он в нашем языке и глух, и нем.
- Пить! - молвил Род по-торкски.
Тюремщики переглянулись. Олбырь бросился в угол к железной куфе, принёс скляницу с водой.
- Князя не надо резать, - продолжил Род. - И ненавидеть вятичей не надо. Они не хуже торков: злые есть и добрые.
- Откуда знаешь наш язык? - спросил Турпай.
- В плену у половцев от друга-яшника немного поучился. Его звали Карас.
- Ты нас не выдашь? - спросил Олбырь.
- Укройте, мёрзну, - отозвался Род.
Турпай принёс бараньи шкуры. Одну подсунул, другой накрыл.
- Давно я здесь?
Торки, шевеля губами, принялись считать.
- Одна седмица, - сказал Олбырь по-русски.
- За что терпишь так от соплеменников? - спросил Турпай.
Род попытался объяснить доступно:
- Родина предков - Господин Великий Новгород.
Поняли не поняли, а закивали, как восточные божки.
- Суздаль с Новгородом - во! - сдвинул кулаки Олбырь.
- Покормим скоро, - обещал Турпай.
Они ушли. Он стал сосредоточиваться. Хотел видеть, где Улита и Яким. И застонал. В великолепной ложне на кружевном одре окаменевшую боярышню ласкал скуластый коротышка. Это же владимирский Андрей! Волосы чернее дёгтя, всегда лоснятся от какой-то жирной мази с резким духом. А Яким в богато убранной палате в сафьяновой мошне считает златики, одетый по-придворному: атлас червчат, сверкают золотые запоны с алмазными каменьями… Несчастный ведалец тряс головой. В глаза впивались, словно стрелы, лучи солнца из щелей сарая.
Вбежал Турпай, схватил бараньи шкуры, одну выдернул, другую сдёрнул, бросил обе в угол.
- Нельзя, нельзя… Сюда идут!
Вошли глазун с Амелфой. Попытались выставить тюремщиков. Те не ушли.
- Мы за него в ответе, - сказал Олбырь.
Петрок приблизился, присел на корточки:
- Худы твои дела, лесной бродяга.
- Зуй повинился, - подал голос Род. - Узнал крест матери. Назвал споспешника…
- Нет на тебе креста! - Петрок вынул из-за пазухи серебряную цепку, потряс перед глазами Рода. - Вовсе ты не Жилотуг. Выкормыш волхва!
Род перевёл дыхание.
- Резал… горло… благодетелю! Я видел.
- Князь приказал, - дёрнулся глазун. - Изменника искали кмети обезглавить волей государевой. Не выискали. Я нашёл.
- Дрожат у тебя руки, - заметил Род.
- А, будь ты проклят! - вскочил Петрок и замахал руками.
- Тебе быть прокляту, блудник! - возразил Род. - Не пощадил детей господских…
- Детей увёз Андрей! - со скуляжом вскричал Малой. - Я вывел их из-под земли. Яким с Улитой во Владимире. Андрей с боярышней уже повенчаны. Я ни при чём. - И вновь склонился к Роду: - Тебе тем паче горевать о ней нет смысла. Ведь ты одной ногой в могиле.
- Хватит балакать, - прервала Амелфа.
Где-то за сараем раскатился скрип ворот, загомонили голоса.
Обеспокоенные торки вышли.
- Тотчас учнут тебя пытать, - приблизила Амелфа красивое лицо к голове Рода. - Ярун Ничей большой мастак по этой части. Он уж тут!
- А с ним кат, - вставил Петрок. - Ещё у сановитого еретика Феодорца, Андреева любимца, он был на той же страшной службе. Рвал языки и ноздри, колол глаза и распинал на стенах. Тебя на этом вот щите распять придумал он!
Амелфа выпрямилась.
- Гюргий скрепя сердце отпустил Кучковичей к Андрею, зато на этом сыне Кучки отыграется! - лила она масло в огонь.
- По-твоему, мы злыдни. А вот хотим избавить тебя от лишних мук, - источал мёд Петрок.
Амелфа извлекла из кошеля перстянки[351], натянула их на белые руки, сняла с шеи огорлие с нанизанными на него орехами, расколола щипчиками один орешек, показала Роду смугленькое ядрышко.
- Скушай и отмучаешься, милый…
Юноша, чуть шевеля губами, процедил сквозь зубы:
- Без стыда же ты, срамница, созерцаешь меня голого!
Петрок Малой из-под полы кафтана деловито достал нож.
- Дай ему зубы разомкну…
Миг - и Амелфа бы кивнула.
- На мне заклятье! - внятно сказал Род. - Кто из злых людей меня обзорчит и опризорит, околдует и испрокудит, у того глаза изо лба выворотит в затылок…
Помнил он почти дословно Букалово заклятье.
Амелфа дрогнула.
- А мне плевать! - угрюмо прохрипел Петрок. - Он должен умереть до пытки.
- Чекай, чекай, побачимо![352] - скороговоркой молвила Амелфа. - Этот ведалец и так не заживётся. Ярунка меня любит. Я ему шепну. Кат долго не провозится с приговорённым вязнем[353]…
Они ушли.
Род не успел прикрыть глаза, услышав многолюдье в своём мучилище. Лучи, струясь из щелей, заплясали по вихрам и бородам боярской обережи, по смуглым скулам двух тюремщиков. Олбырь с Турпаем взялись за щит и стали поднимать.
- Не покормили тебя кашей с киселём, - сказал Турпай по-торкски.
- Есть перед пытками не надо, - заметил опытный Олбырь. - Трудней переносить страдания.
- Эй, вы, по-своему не гомонить! Здесь вам не степь! - велел до глаз заросший коротышка с бердышом.
Олбырь не обратил внимания на окрик.
- Сейчас немного потерпи, - по-торкски попросил он Рода.
Щит подняли, и мир в очах страдальца потемнел. Обвиснув, тело потянулось вниз, и боль ударила в растянутые до предела руки, прикрученные к клиньям. Живот впал, грудную клетку выперло. Неведомая сила впилась в беспомощную плоть, выматывая жилы. Вот-вот они не выдержат и лопнут, и все кончится. Род ждал такого избавленья, но не дождался. Ноги обрели опору, под них подставили чурбак. Щит был прислонён к наружной стене сарая. Висящий на щите увидел сквозную рощу тонкого березняка, соломенные кровли дальних изб, луг и дорогу за высоким тыном, что ограждал его мучилище. По эту сторону заплота не люди - карлики: по пояс обнажённый кат, Ярун Ничей - кутырь на худых ножках, расставленных смешно и важно, глазеющие кмети, вскинувшие ввысь пучки бород. И все это залито щедрым солнцем, как в праздник.
Тщетно водил юноша взором. Амелфы и Петрока не узрел.
- Давай-ка потолкуем, парень, - предложил Ярун. - Не ожидал, что встретимся в тюрьме. Уж так-то Полиен тебя нахваливал…
- Тюрьма, как и могила, - ответил с высоты пытаемый, - всем место есть.
Боярин пропустил его слова мимо ушей.
- Нам твои вины ведомы сполна, - заключил он. - Из-за тебя погиб посадский человек Кисляк Дружинка…
- Погиб? - не вдруг поверил Род.
- А помнишь Старо-Русскую дорогу? - спросил Ярун. - Ты усыпил погоню. К костру пришёл медведь. Дружинку с оголённым черепом зарыл в листьё, чтоб вялился, а двух других прибрать ему не удалось, разъезд на них наткнулся, зверь ушёл. И из беседы с выжившими стало ясно, что ты, взойдя на дерево, подбросил в их костёр дурману.
Род промолчал. Он вспомнил о малиннике в том месте у дороги. Так хотелось посбирать малинки!
- Ждан, перевозчик, по твоей милости утоп в Мосткве-реке, - продолжил перечень Ярун. - Ты захватил судно и столкнул паромщика в ночную быстрину…
«Он сам упал», - хотел вымолвить Род, но промолчал.
- О твоём предательском побеге толковать жаль времени, - раздул щеки боярин. - Бежал предупредить изменника - яснее ясного. - Поскольку Род молчал, Ярун продолжил: - Наш государь Гюргий Владимирич, осмыслив дело, приговорил тебя к закланию. А прежде ты обязан повиниться, что воровски взял имя Жилотуга. Истинный боярский сын давно погиб.
На это Род ответил внятно, чтоб слышно было всем:
- От отца с матерью не отрекусь. Я Жилотуг! - Чурбак был выбит. Мученик повис. Челюсть задёргалась, и непослушным голосом он снова громко произнёс: - Я Жилотуг!
Кат подступил с ножом.
- Не в грудь! Сначала ятра поколи, - велел Ярун. - Не выдержит, ответит, чего ждём…
Пытчик не дождался нужного ответа.
Все обернулись на конный цокот и стук колёс за тыном. Ворота распахнулись, обнаружив лёгкую кареть, гнедую четверню и молодого князя, спрыгнувшего наземь.
- Эй, прекратите пытку! - крикнул он. Ткнув чуть ли не в лицо боярину лоскут пергамента с печатью, прибавил: - Государь ваш повелел доставить узника пред свои очи.
Вглядясь в лоскут, Ярун зашевелил губами, должно быть, разбирал написанное.
- Что ж, воля государева - закон, - почтительно укрыл он грамотку за борт кафтана. - Я немедля повинуюсь, Владимир Святославич. Ты свидетель.
Род с высоты своей Голгофы радостно узнал князя Рязанского Владимира.
Дальнейшее происходило быстро и суматошно. Мученика сняли со щита. Владимир Святославич укрыл голого своим корзном. Его снесли в кареть и поспешили подкрепить вином.
Уже в дороге князь, обнимая друга, говорил:
- Проведал о твоей беде от Короба Якуна. Пробился к Гюргию. Ему сейчас ни до чего. Весь Боровицкий холм готовится к двойному торжеству. Посольник по пути к Рязани запалил коня, чтоб к сроку передать мне Гюргиево слово: «Приезжай ко мне, брате, в Москов». Тот же позов отправлен и Ольговичу в землю Голядскую. Там дела с приездом Глеба пошли в гору. Давыдовичи отступают. Изяслав в смятении. А здесь - всем праздник, а нам с тобой несчастье. Владимирский Андрей переломил отцовское упрямство. Гюргий надумал извести все семя Кучки. Андрей по своему почину увёз его детей. С Улитой обвенчался, Якима сделал постельничим. Уж после улещал отца. Не нынче завтра в Красных сёлах, а по-новому - в граде Москве, загремят застольями две свадьбы: Андрея и Улиты, к твоему горю, а также Гюргиевой дочки Олиславы и сынка Ольговича дурня Олега, к горю моему. В счастливых снах княжна давно была моей женой, а в жизни оказались руки коротки. Теперь бы впору свататься, да опоздал. Упрямый князь решенье принял, его не переломишь, я не Андрей…
- Пошто меня спасал? - перебил Род, - Зачем мне жизнь?
Владимир тяжело вздохнул:
- Жизнь, друже, нам нужна для перемен. Живой меняет окружающее, мёртвый не изменит ни на йоту.
Род не ответил. Они прибыли к Владимиру в его рязанское подворье. Два банщика-умельца, показав искусство на полке, сделали из вязня человека. Одетый влепоту и подкреплённый пищей, он был доставлен на Боровицкий холм прямо в покои Гюргия. Тот отдавал короткие приказы. Сновали люди взад- вперёд. При появлении Рода и Владимира он всех прогнал.
- Ну что, кучковский пролагатай? - втянул воздух кривым носом князь. - Не успел Ярун добраться до твоих костей? Признай, я поделом велел тебя убить…
- Как велел Кучке убить моих родных? - угрюмо вставил Род.
Обширная плешина князя покрылась потом. Маленькие глаза от ненависти стали меньше. Владимир побледнел. Но Гюргий, преломив в руках писало из гусиного пера, сдержался. Его планы касательно названого Кучковича теперь были иными.
- Иван мне прежде писывал, Владимир же теперь напомнил, что ты провидишь многое. Из слов твоих последних заключаю: льстить не станешь! Скажи, презренный волхв, что ждёт меня, когда пойду на юг?
Род медленно приблизился. Князь отступил.
- При нем ничего нет. Я проверял, - спешил уведомить Владимир.
Род усмехнулся:
- Перед тобою не убийца, государь. Я в жизни ни одной души не погубил, даже в бою. - Род сделал ещё шаг к оторопевшему властителю. - И более того скажу: я никому не отомстил. Кисляк, что меня предал не однажды, погиб не от моей руки. Паромщик Ждан, уворовавший мой каюк, сам упал в реку, я лишь увернулся от его удара…
Род не договорил. Князь, вдавливая спину в стену, произнёс чуть слышно:
- Ещё шаг - и кликну стражу.
- Сядь, государь, на этот вот сундук, - предложил ведалец. - Ты слишком вырос даже для меня, в глаза никак не загляну, в их глубину… Я все открою, что ждёт тебя на юге.
Гюргий сидел на сундуке, распялив очи, с опаской глядя на возвращённого им к жизни смертника.
- Жестокое кровопролитие переживёшь ты на Руси, - глухо объявил провидец, - Уйдёшь и вновь придёшь… великий князь!
- Я… я покуда не великий князь! - вскочил сын Мономаха.
- Не минет осьми лет, и ты - великий князь! - уточнил Род.
- Не лжёшь? - протянул длинные руки Гюргий. - Вижу по лицу: не можешь вы лгать. Однако… осьмилетье!.. Ох, как много!.. Однако же - великий князь!.. А после… долго ль жить останется?
- Пиров остерегайся, - был уклончивый ответ.
- Легко сказать - пиров! - задумчиво промолвил будущий великий князь. - Иное дело - лишних баб остерегаться. А пиров - это как снов… Хотя и сны бывают - о-го-го! - Он сам приблизился к провидцу, положил большие кисти длинных рук ему на плечи. - А ещё чего остерегаться?
- Предательства любимцев и любимиц, - вздохнул Род. - Не почитай фальшивый льянец за алмаз.
- К чему клонишь?- насторожился Гюргий. - Кто у меня фальшивый льянец? Или наобум изрёк, ради красного словца?
Суровый самовластец, хозяин легиона тысяч судеб не по высшему предназначению, а лишь по низменным людским законам, величественно снял руки с плеч провидца, как бы лишив его покрова:
- Андрей указывал мне на твоё зеленомудрие. Он прав.
Тут у Владимира Рязанского сами вырвались слова:
- Гюрятич, знаю по походам, не бросается словами.
- Ну так говори! - приблизил Мономашич страшное лицо к усталому лицу недавнего подстражника, - Кто у меня фальшивый льянец?
- Амелфа, - тихо сказал Род.
Тут Гюргий замахал руками:
- Вестимо, кто, как не она? Твоя врагиня! А хвастал, что не мстительный!
- Не мщение ты зришь, а попеченье о твоей персоне, - сказал Род. - Стыд вымолвить, что любострастная Амелфа делит свою плоть между презренным челядинцем и досточтимым князем.
После этих слов не страшно стало Роду, а жалко Гюргия - страдальческая злоба перекосила его некрасивое лицо.
- Вот за такой облог, - прошипел князь, - ответишь… нет, не головой, допрежь того руками и ногами.
И вновь Владимир Святославич подоспел на помощь.
- Успокойся, брат, - попросил он. - Боярин моего отца при мне открыл однажды, что Петрок Малой, его знакомец киевский, имел тайную жёнку. Её звали Амелфой. Боярский отрок сосватал после свою любу Кучке, а блудодействие его осталось в тайне.
Князь отворил дверь и крикнул:
- Позвать вдову изменника боярина Амелфицу и ещё этого… Петрока - как его? - Малого!
В покое долго было тихо. Ни один из трёх, стоящих поособно, не нарушал молчания.
Наконец Гюргий произнёс:
- Тебе, вздыхатель по Кучковне, я не верю на сей раз. - И он с враждой взглянул в сторону Рода. - А коли ты, Владимир, мне такое вылгал!..
- Ежели отцов боярин не соврал, и я не вылгал, - побледнел бывший изгой рязанский.
- Наветов не терплю, - двинулся Гюргий к свету и раскрыл оконницу.
Вошёл Петрок Малой. Род зорко углядел: морщинка на лице у глазуна от губ по подбородку едва заметно дрогнула.
Вошедший ждал, воззрясь на нового хозяина, а на рязанца с Родом не взглянул.
По Гюргию заметно было: он не знал, с чего начать.
- Вели слуге присесть, - попросил Род.
- Присядь, - указал князь на лавку у стола.
- Не смею, - вымолвил Малой. - В твоём присутствии…
- Присядь, - порезче молвил князь.
Петрок присел. Вошла Амелфа.
- А ты, боярыня, присядь насупротив, - уже свободнее распоряжался явно смущённый властелин.
Прелюбодеи сели друг против дружки.
- Вас обвиняют в любонеистовстве и любосластии промеж собой, - пожал плечами князь, всем видом утверждая, что не верит в такую клевету.
- Кто обвиняет, государь? - вскочила грозная Амелфа. - Вот этот выродок? - ткнула она пальцем в Рода. - Да щоб у нёго повылазило! - принялась она ругаться на родном наречии. - Щоб мни спознатысь с бугаем Петроком? Не стыдно тебе, княже, так меня срамить? - произнесла она уже на северном наречии.
- Остудись, - совсем смутился Гюргий, - Посиди молчком.
Дородная красавица присела, дробно застучав ореховым огорлием. Род вспомнил её дар: щепоть боярыни с ядром ореха у своих губ. Опять в его глазах эти орехи, проколотые, как он был уверен, отравленной иглой! Зачем она их не сняла, покинув пыточную? Не успела?
- Облог, - пробормотал глазун. - Злокозненный облог!
- А помнишь ли боярина Микулу Дядковича? - резко вопросил Владимир.
И вновь морщинка дрогнула у рта на подбородке глазуна.
- Не знаю никакого Дядковича.
Род внезапно очутился позади Петрока, возложил руки на лобастую медвежью голову. Глазун рванулся, вскинул кулаки и вдруг обмяк, словно придавленный неодолимой силой.
- Две длани на одном челе, - произнёс Род суровым голосом Букала, глядя куда-то вдаль, в раскрытое окно, - В руках - тайна трава, в челе - тайна отрава, жабья костка, собачья смерть… Месяц таится за облаками, нож таится за голенищем, камень - за пазухой, змея - под колодой… Кто таит, на том горит… Чего стыдимся, того таимся… Нынче тайна - завтра явь… Что тайного в свете, и то все выйдет… Вылети, тайна, из чела на язык, с языка на зубы, изо рта в уши!..
- Живу, - сверхъестественно выдавил из себя, как душу из тела, страшное признание глазун, - живу… с Амелфой… блудно…
Тяжкую тишину прервал хруст разгрызаемого ореха и глухой грохот. Это грохнулась об пол роскошная плоть Амелфы. Она завалилась навзничь с лазоревым лицом. Застучали орехи по половицам, убегая от разорванной нитки. Розовый атлас летника веснушками осыпала ореховая скорлупа.
- Может прийти на мысль, брат, - обратился Владимир к Гюргию, - что ведалец чарами вынудил этого человека оговорить себя, - кивнул он на Петрока, - блудница же сама и второпях покинула сей свет. Волхователь на неё не глядел…
- Велю четвертовать! - пообещал Гюргий глазуну. - Голова твоя возвысится на шесте рядом с Кучкиной у того самого пепелища, где ты усластился грехом. - Князь открыл дверь. - Эй, кто там?
Вошли отроки.
- Этого - в поруб, эту - вон! - указал он на живого и на мёртвую.
- Пусть снимет с окаянной шеи крест моей матери, - кивнул Род на глазуна.
Один из отроков сорвал с Малого серебряную цепку. Выкраденный крест был возвращён.
Когда очистили покой, его хозяин подошёл к Роду:
- Какой награды ждёшь?
Тот низко поклонился:
- Отпусти меня, княже, в лес. Надобно подлечиться.
Князь удивлённо посмотрел на Владимира, как бы приглашая его вместе с собой удивиться, и тут же отвернулся от них обоих. Глядя из открытого окна вниз, где сновала челядь, приготовляя празднества, Гюргий приговорил:
- В лес так в лес. Пусть тебя медведь лечит…
Уже на свежем воздухе, едва уселись в седла, Владимир дал волю своим невесёлым мыслям:
- Тебе легче, ты скроешься, мне ж, как на пытке, созерцать свадьбу своей любавы. - Поскольку Род не отвечал, он опустил беседу с небес на землю: - Скажи, что тебе в путь потребно?
Лесовик, сблизив своего коня с княжеским, попросил:
- Дубовый каюк мне надобен и охотничья справа. - Владимир кивнул. Род, мягко сжав его локоть, присовокупил: - Помозибо, мужественный человек, на твоей великой дружбе!
6
Двадцать восьмой день липеца[354] запомнился Роду на всю его оставшуюся жизнь. В этот день новорождённый город Москов ознаменовывал свои именины двумя пышными свадьбами. Подаренное Рязанским князем судёнышко уносило скитальца от этих свадеб. Дубовый каюк устремился вниз по течению Мостквы-реки, как конь в родимое стойло. Мысли юноши не желали спешить с ним вкупе. Они все ещё были гам, на Боровицком холме. Там перед прибывшими из Владимира новобрачными поставили на свадебный стол куря с калачом и солонку. Там не боярышня, а уже княгиня заменила девичий повенец бабьей кикой. Там подмужняя жена в первую брачную ночь разувала мужа. Там теперь вино выставляют куфами, а не вёдрами, стопками, чарками. Там гремит сплошное плясание и пипелование. Гудцы-скоморохи играют на гуслях, трубах, бубнах, сопелях, сурнах, домрах, волынках, смыках, свирелях… Род видит Улиту в белом платье, свободными волнами ниспадающем долу. Она взмахивает широкими длинными рукавами с затканными золотом наручами. Золотой пояс стягивает её тонкий стан. Узорчатая кайма изумрудным прибоем колышется по подолу. Круглый отложной воротник безупречной белизны напоминает об утерянной девственности. Слюбом[355] или силком празднует она свою свадьбу? А его узничество продлится теперь не сутки и не седмицу. Лето за летом, зима за зимой, и неизбежный венец всему - домовина! Хвойные пирамиды, громоздясь друг на друга, уже готовятся схоронить неудачника. Вот три сосны на яру - свидетели их первой встречи. На тех вон кустах, убежав к реке, увидел он пёстрый лепест тонкого сукна с её золотистого чела, вышитую сорочку с её белых рамен и нетронутых персей, юбку-понёву с её волнующих чресел… А вон низкий пойменный подберег, куда на руках он вынес её с такого же дубового каюка. Род и теперь причалил к этому берегу, спрятал каюк и вышел на ту поляну, где в купальную ночь встретились они с цветом разрыв-травы. Проклятая разрыв- трава! Сумасбродное пожелание стать великой княгиней! А ведь не очень-то сумасбродное… Первый сын Гюргия Ростислав (Род мельком видел его на суздальской тризне) умрёт, как ясно сейчас представилось, года через четыре. Второй сын - Иван Гюргич - уже в могиле. А третий - Андрей! Станет Гюргий великим князем, обязательно сообразно своему нраву пожелает сломать дедовскую традицию: оставит киевский стол не брату, а сыну. И сыном этим будет Андрей! Род попытался его увидеть на киевском столе в Берестове и не сумел. Странно! Должно быть, пережитые муки лишили его напрочь или на время завещанного дара провидения. Зато ложными ощущениями знобит каждый нерв. Род идёт по тому болоту, где, зная нитечку, нёс на руках Улиту, и ощущает недобрый глаз всей своей спиной. Сумерки тяжелит болотный туман. Кто в этом трясинном, глухом краю может наблюдать за ним, разве что лягушки? Вот лесная росчисть старого Букалова новца. Сюда три года назад он привёл Улиту. «Принёс голубу на свою погубу», - пророчески изрёк тогда Букал. Грудь сдавило воспоминаниями. Род не выдержал, в полный голос позвал: «Ули-и-ита-а-а!» Ответом был хриплый смех в лесной чаще. Кто мог смеяться? Леший?
Однако бывший лесовик настолько увяз в своём горе, что совсем опростоволосился. Он не смог определить путь к последнему Букалову новцу, куда, собственно, и направлялся. Разумеется, старый волхв принял меры, чтобы чужак ни за что не вышел к его жилищу. Будет блукать около да вокруг, а заветное место останется в стороне. Но ведь Род не чужак. Лес ему - дом родной. Хотя единожды или дважды доводилось сбиваться с точки. Иной раз так запорешься в мыслях, что и в собственных хоромах перепутаешь все светлицы. Оплошавшему знатоку леса одна выручка - леший. Вот и сейчас, наполнив грудь хвойным воздухом, он издал безотказный клич: «Ух-у-у-ух-ух!» Будто бы эхо ему ответило. Он верил эху, шёл на ответный звук… И вот - знакомое подберезье, а за ним росчисть потаённого новца, где, покидая лес, прощался с Букалом.
Ноздри юноши дрогнули, потянули забытый сладостный запах. Он смотрел не на почерневшую келью, что хотя и похилилась, да сохранилась. Он тянул носом в сторону трёх дубов, заслонявших идол Сварога. Оттуда курился дым. Там приносилась жертва, осыпаемая сухими ароматными смолами. Кто её приносил?
Род бегом устремился к идолу. Перед жертвенником высился человек в Букаловом емурлаке, простирающий руки к чёрному кузнецу. Это был не Букал. Нет, конечно, не ожил, не облёкся заново плотью утопленный мудрый волхв. Спина знакома, а не Букалова.
Тонкое, как волос, чутье охотника вдруг заставило Рода на мгновение обернуться. Утреннее неведрие увлажнило мир, отчего предметы выглядели отчётливее. Из подберезья вслед за юношей вышел леший. Так можно было подумать на первый взгляд. Волосатое чудище в образе человека! На чудище рваные издирки, просящие каши моршни, а в руках лук, из которого оно целится в спину язычника, приносящего жертву. Должно быть, и чудищу эта спина знакома. Да лешие не стреляют, людского тряпья не носят. И уже в следующий миг Род очутился между стрелком и жертвенником. Выстрел был точен. Стрела попала в медную бляху на охотничьем поясе, прогнула, но не пробила медь. Род мускулами всей шеи почувствовал, как вторая стрела миновала его совсем близко. Третья просвистела над головой.
- Что с тобою, Клочко? Ты же лучший стрелок в Азгут-городке! - раздался позади бас Фёдора Дурного.
- Найдё-ён! - заревело чудище, в котором бывший яшник с трудом узнал одного из любимых атамановых отроков. - Колду-у-ун! Стрела его не берет!
Сгорбленная спина в издирках исчезла в чаще. Род бросился за неудачливым стрелком.
- Стой, Клочко, стой! От меня тебе не уйти! - кричал он в надежде образумить бегущего.
Оба застыли в конце концов у края трясины в нескольких саженях друг от друга.
- Ни шагу далее! - приказывал Род, - Там твоя погибель.
- Ты… ты… ты… - хрипел загнанный беглец, - Помог его найти, помешал его убить… Ты… ты… помог найти, помешал убить… Ты… помог… помешал…
- Стой на месте, - уговаривал Род. - Не бойся.
Нет, он и движения ещё не сделал к бедняге, как тот резко отступил и всем телом ушёл в болото. Потрясённый преследователь успел заметить, что Клочко в последний свой миг смотрел уж не на него, а куда-то далее - на того, кто за ним, и поэтому отступил в трясину. Из воды показались руки с судорожными пальцами, слепо ищущие хоть веточку кустика, хоть былинку, и, не найдя, исчезли.
Род рванулся в безумной попытке спасти несостоявшегося убийцу и замер, услышав слова Дурного:
- Клочко перерезал горло Бессону Плешку. Пусть умрёт.
На обратном пути к новцу Фёдор Дурной рассказал бывшему своему подопечному о последней замятие в мрачной общине бродников. На очередном из пиров потерял власть над собою Бессон Плешок и, подобно Якуше Медведчикову, обличил атамана в его грехах. Невзор был взбешён настолько, что, забыв о ядрёной матице, приказал прикончить схваченного лучниками Бессона тут же. Этот волчий приказ выполнил головник Клочко на глазах у всех.
Род вспомнил пир у Святослава Ольговича. По государеву слову он взял за руки Огура Огарыша, чтобы его унять. И увидел не искажённый, с пляшущими мышцами лик самоубийцы Огура, а перерезанное горло Бессона…
Сверили с Фёдором время обоих пиров: оказалось, день в день, час в час…
- Мы с Могутой заперли в ту ночь лучников в их скотской хоромине, связали атаманова пса Оску Шилпуя, - вспоминал Фёдор. - С верными людьми окружили Невзоров дом. Хозяина изрубили в куски, уничтожили всю его свору. Отпустили лишь безобидную Ольду-варяжку, даже тугой калитой снабдили в дорогу. А Клочко убежал, не смогли сыскать. Зато он меня отыскал с твоей помощью да благодаря тебе не убил. Брось его жалеть - зверь, не человек!
- Я не в городе, в лесу вырос, - возразил Род. - Для меня и зверь - человек.
Жертвенник уже перестал дымиться.
- Вот, - поднял Фёдор сброшенный емурлак, - Выбрали меня атаманом, оставил в Азгут-городке за себя Могуту и пришёл вопросить Сварога, идти ли нам, бродникам, в помогу Ольговичу. Очень уж нас зовёт. А я к Букалу и прежде хаживал как к себе домой. Совершали моляны, вспоминали тебя. Выдали нашего наставника злые люди. Подстерегли, едва объявился в Олешье. Я не успел спасти, да и не смог бы, пожалуй. Слишком уж большой силой собрались на него христиане во главе со своим епископом.
- Не с епископом, а с еретиком, - вставил Род и вкратце поведал о дальнейшей судьбе Феодорца.
Атаман бродников принял замечание с пониманием:
- Ты теперь крещён, при тебе хулить христиан негоже. По-иному надо именовать Букаловых убийц: злые люди! Наводчиком на него был не кто иной, как Кучков глазун.
- Кто? Петрок Малой? - сверкнул взглядом Род.
- Тот самый халабруй, - кивнул Фёдор. - Такой же малой, как и я дурной.
С удовольствием выслушал бродничий атаман рассказ о судьбе Петрока.
- А что тебе наказал Сварог? - Род переменил разговор.
Фёдор Дурной поднял суеверный взор на чёрного кузнеца:
- Вопрошал я его и услышал внутри себя Сварожий наказ: «Иди!» Стало быть, поведу братьев к северскому изгнаннику. Он теперь сызнова входит в силу. Значит, не оплошаем.
- Ратная судьба переменчива, - вздохнул Род. - Нынешняя сила к завтрему обернётся слабостью.
- Ишь ты! - покачал головой Дурной. - А не зеленомудрствуешь? Сварог ведает более твоего.
Стоило ли оспаривать такой веский довод? Бывший язычник с тяжёлым чувством приблизился к остывшему жертвеннику. Кое-какие Букаловы тайны прочно сидели в памяти.
- Не голос внутри себя надо слушать, - сосредоточиваясь, вымолвил он, - а смотреть на расположение жертвенных костей. Не могу тебе всего объяснить, а скажу одно: жертвенные кости расположились плохо, предстоящий поход не принесёт счастья бродникам.
Фёдор, взяв Рода под руку, повёл его от чёрного идола к Букаловой келье.
- Не гневайся на меня, поробче[356], ты пращуровой вере изменник, и не тебе знать волю Сварога.
Юноша, опустив голову, замолчал.
В келье все было, как при Букале.
- Кроме меня, сюда никто нитечку не сыщет, - похвалился Фёдор.
По-хозяйски он развёл огонь в очаге, выставил миски с сочивом[357] на скоблёный стол.
- Есть у меня медок, не княжой, не боярский - братский! Да в келье трезвенника не выпьешь, - вздохнул атаман.
Доверительной беседы хватило им на весь день до вечера.
Перед тем как взлезть на полати, друг и почитатель Букала ненадолго покинул келью, а вернулся с глиняным сосудом в бережных руках. Острием охотничьего ножа он осторожно снял с пробки накипь и покрыл сосуд. Род, думая о своём, почти не обращал на него внимания.
И вдруг Фёдор предложил:
- Не желаешь ли пособоровать с приёмным отцом?
Сдержанный лесовик на этот раз рассердился:
- Что за неуместные глумы?
- Вовсе и не глумы, - прищурился атаман, тихо вытряхивая из глиняного горла берестяной свиток. - В последнюю нашу встречу Букал завещал мне вот это… Наказал беречь как зеницу ока и передать тебе из рук в руки. Здесь его отцовский наказ своему блудному сыну. Оба вы грамотные. Он накалякал, ты разберёшь. Думаю, поймёшь что к чему. А я лезу на опочив. Выполнил завещание, сбросил камень с души.
Род, онемевший от неожиданности, долго не притрагивался к священной для него епистолии[358], наблюдая, как мощная задница бродника углублялась в сумрак полатей. Лишь когда богатырский храп всколыхнул огонёк светца, выращенник Букала тихо расправил на столе тонкий берестяной свиток. Хорошо придумал Дурной сохранить завещание старца в глиняном сосуде под печатью. Сберегал не только от алчных рук, от огня и воды.
«Сыне! - обращался с последним словом к юному Роду старый Букал. - Со скорбной тугой душевной зрю твою жизнь до конца. Он ещё нескор. Завещаю тебе двенадцать заповедей, не до иных прочих, а токмо до тебя касающихся. Исполнишь каждую - и доживёшь до предела своего попригожу. Чти со вниманием и соображай. Не всё враз, сообразуясь с дальнейшими обстоятельствами. Итак.
Первая заповедь: не служи врагу…»
Едва начав, читающий тяжело задумался. Ведь он-то только и делал до сей поры, что служил врагам. К врагу Кучке даже попал в сыновья. С врагами-бродниками участвовал в их ловитвах. У врага хана Тугоркана обихаживал табуны. Северского князя Ольговича, хотя к врагам не причтёшь, к друзьям тоже не причислишь. Зубр овну не великий друг. А вот Суздальский Гюргий - истинный враг. По его изволу Кучковы люди истребляли семью Жилотугов. Грешник боярин перед смертью это признал. Зато сам Гюргий ухом не повёл в ответ на смелое обличение Рода. До чего же умеют великие мира сего знать не знать, ведать не ведать о собственных злодеяниях! А как быстро отослал пылкий властелин Петрока на ужасную казнь! Хотя ещё о многом-премногом с помощью юного волхва хотелось проведать князю от этого глазуна, так долго и тайно делившего с ним одну женщину. Однако Род видел по его маленьким глазам, как боится князь: а вдруг ведалец вздумает дальше выведывать про злодейство осьмнадцатилетней давности?
Захотелось поскорей дух перевести и продолжить чтение.
«Вторая заповедь: одолевай без крови…»
До сих пор этот Букалов наказ, переданный не устами и не письмом, а сердцем, выполнялся юношей несовратно. Ни одна мыслящая и движущаяся плоть не потеряла жизни от его рук. Гибель злодеев Ждана н Кисляка произошла не по его воле.
«Третья заповедь: не искушай любви разлукой…»
Ах, вестимо, кого имел в виду мудрый Букал! На три года лишённая мужской опоры Улита! Теперь отнятая, потерянная… Бейся о вековые деревья лбом, кричи, что не виноват!
«Четвертая заповедь: выяви ложь на конце меча…»
Долго мудрствовал над этой строкой уставший скиталец и не нашёл подходящего объяснения такому странному Букалову повелению.
«Пятая заповедь: береги одиночество…»
Он уже его не сберёг и сполна поплатился за это. Теперь новая возможность скоротать жизнь с собою наедине, ни с кем не делить судьбу. Подчинится ли он бессрочному узничеству?
Покинув келью, Род окунулся в лесную черноту ночи… Тут же и возвратился. Нет, он не хочет видеть Улиту издалека, желает хоть на мгновение оказаться рядом, выслушать её, а уж после - на щите или под щитом.
«Шестая заповедь: ненавидящего спаси…»
Кто его ненавидит не тяготящей, а раздавливающей ненавистью? Род морщился, напрягая память, и ещё не назвал такого.
«Седьмая заповедь: обнятого остерегайся…»
Кого он обнимал? Друга-берендея Чекмана? Его ли остерегаться? Род отложил размышления над этой строкой на будущее.
«Восьмая заповедь: не гаси чужого костра…»
Сразу вспыхнул перед глазами костёр, возле которого был задран медведем Дружинка Кисляк и едва не погибли его товарищи. Род не гасил этого костра. Стало быть, не о нём речь. Но чёткой зарубкою в мозгу сложилось: чужой костёр!
«Девятая заповедь: не ищи умершего…»
Смерть-косариха на поле жизни срезала многих близких ему людей. Где и как их искать? Чем далее, тем мудренее становились Букаловы заповеди-загадки…
«Десятая заповедь: одари своих убийц…»
Убить его намеревались и Зуй, и атаман Невзор, и княжна Текуса рукою Сурбаря, и князь Гюргий, и Амелфа с Петроком, наконец, вот недавно беглец Клочко… Никого Род не одарил за такую милость. Да и одаривать было нечем. Непонятная заповедь!
А строки на берестяном свитке уже кончались. Их оставалось две. И обе сразили Рода той же мудрёной таинственностью.
«Одиннадцатая заповедь: не желай жены, желай сына».
«Двенадцатая заповедь: не разевай рта в воде».
Род не единожды перечитал свиток, выучил все двенадцать строк, как молитву, запечатал бересту в тот же сосуд, вышел из кельи, по-кошачьи нашёл в темени свою любимую липу, в дупле которой когда- то разводил пчёл, скрыл в нем драгоценный сосуд… А спустя короткое время погас светец в волоковом оконце похилившейся Букаловой кельи.
7
Ловилась рыбка большая и малая, да уже не елась. Едва стали заводить бредень в очередной раз, Род бросил своё крыло, взошёл на подберег, вытянулся на песке. Фёдор с немым вопросом уставился на него и, не получив ответа, рассерчал.
- Истомился с тобой в молчанки играть… Зелен ты ещё идти по стопам Букала, добровольно подвергнуть себя измёту. Прежде сох по Кучковой дщери, ныне сохнешь по княжой подружии, стыд и срам! Не лесная келья тебе нужна - бабья ложня! Тьфу! Нет сил слушать твоё молчанье. Да и пора мне в путь. Отправляйся-ка со мной в Азгут-городок. Не желаешь идти к Ольговичу, ступай в Затинную слободу. Там у нас зреют ягодки на любой глаз и вкус. Не токмо смердки и огнищанки, есть и боярских кровей, даже княжеских. Оска Шилпуй с уворованной княжной нежился.
- Слушай-ка, Фёдор, - нетерпеливо прервал атамана Род, - Почему у тебя, язычника, христианское имя?
Дурной сбился с речи, задумался.
- Родитель у меня был богатый гость, - стал он объяснять. - Езживал прыткий новгородец с красным товаром аж в самый Царьград. И греки заморочили ему голову. Так полюбил все греческое, что и первенца своего назвал не по-нашему, а по-ихнему: Теодорус или Феодорус - враг его разбери! Свои стали Федькой звать, то есть Фёдором.
Род опять замолчал, да недолго на этот раз испытывал терпение старшего друга.
- Поеду-ка я с тобой, Теодорус, - мечтательно начал он. - Не в Азгут-городок, не в Затинную слободу, не к Ольговичу, а в новооснованный град Москов. Пока княгиню оттуда во Владимир не увезли, надобно - душа из меня вон! - лицезреть её хоть мгновение, перемолвиться хоть словечком. Не могу покориться горю, покуда она сама мне не повелит.
- Фу-у-ух! - взмахнул руками Дурной. - Не у тебя горе, а с тобой горе. Проще выкрасть бабу и - за реку Шалую к нам, где никакой владыка мира её не сыщет.
- Повелит - выкраду, - пообещал Род.
Извлекли бредень с двумя раками в матне, бодро пошли домой, вдохновлённые важным решением…
- Прости, Сварог! Не взыщи, Букал! - Уже за столом поднял атаман взор горе, наполняя кружку братским мёдом. - Кстати, есть для тебя подарочек, - крякнул он, отхлебнув ухи. - Мне его дал сам Бессон Плешок. Не пожалел покойник для друга собственного изобретения. А снаряд этот промысловый именуется «кошкой». - Он вскочил, вынул из угла кожаный куль, расшнуровал, разверз и извлёк оттуда наручи лёгкого металла с тонкими стальными иглами и поножи, столь же когтистые, наподобие рысьих лап. - Выйдем-ка, я тебе покажу искусство!
Выбрав гладкоствольную старую липу, Дурной пристегнул «кошку» к рукам и ногам, стремительно прыгнул на дерево, сделал по стволу несколько ползучих движений и грохнулся спиной оземь.
Когда Род привёл атамана в чувство, тот виновато произнёс:
- Хмель до добра не доводит.
Названый сын Букала долго вынимал пальцами боль из атамановой спины. После помог Дурному взлезть на полати, покинул келью и сам принялся за «кошку».
Без чьих-либо объяснений он понял, что искусство воровского лазания с помощью этого «промыслового снаряда» заключено в умении владеть своим телом. Нужно впиваться руками и ногами в отвесное древо, подобно кошке, затем, перемещая руки и ноги, двигаться вверх, при этом изгнать свой вес, позабыть о нём, иначе иглы не выдержат, ведь их нельзя вонзать слишком глубоко - с трудом вынешь и не удержишься. Движения должны быть плавными, лёгкими, будто бы сам ты достаточно лёгок и ловок для этих игл.
Род обрывался дважды. С детства привык падать с дерева по-кошачьи, не расшибался. Ах, Бессон Плешок, умная голова! Ах, незабвенный, незаменимый учитель!
- У-у-у-уй! - протянул восхищённый Фёдор Дурной, выйдя из кельи и сладко потягиваясь.
Высоко ему пришлось задрать голову, чтобы увидеть Рода.
Растреножив белого жеребца, атаман рысью сгонял в Олешье - два копыта здесь, а два там! - и привёл повечер чалую кобыленку.
- Для тебя! - бросил он повод Роду. - Мой Беляк пятерых снесёт, да негоже ехать сундолой[359].
На заре двое всадников навсегда покинули Букалово новцо. И ни одна живая душа его более на нашла. Лишь к концу столетия сгнил и рухнул чёрный кузнец, замшел жертвенник, зарос ерником, завалилась халупа, размыли дожди очаг…
…К Красным сёлам атаман и его спутник выбрались самым кратким путём. Прибыли в Кузнецкую слободу, правда, уже в темень, когда искомые ворота не вдруг отыщешь. Всю дорогу Фёдор раздумывал вслух, где им остановиться - то ли в Воробьёве, то ли в Симонове, то ли в Кудрине, то ли в Кулижках. Не забыл и про Сущёво, и про Вшивую Горку. В каждом из этих сел были верные люди. Кузнецкую слободу выбрал он как ближнюю к Боровицкому холму, где, по его расчёту, должны были обитать в одном из княжеских теремов молодожёны Андрей и его подружил.
Род с грустью вспоминал оставленный в потаённом месте дубовый каюк, подарок Рязанского князя. Кто его найдёт: он сам или кто другой?
Каково же было удивление Рода, когда в обитателе маленького домишка в гуще Кузнецкой слободы признал он Шишонку Вятчанина.
- Наш спасёныш! - ласково встретил его бывший держатель лесного постоялого двора бродников. - А я теперь горожанин, не лесовик. Добро пожаловать в град Москов. Угощение у меня прежнее - ветряная рыба да яйца.
- У, жадень! - замахнулся на Шишонку Дурной. - Зуя на тебя нет!
Переночевав, условились: Род ждёт и не кажет из избы носа, чтоб никто его не узнал, Фёдор выспрашивает, высматривает, вынюхивает. Шишонка же обеспечит к ночи борзую тройку с крепкой каретью, чтобы недостижимой птицею мчала молодого боярина с украденной им княгиней в бездонный Волковский лес за реку Шалую, в Затинную слободу, где никакой князь не власть, никакие кмети не сила.
Шишонка вернулся ранее Фёдора. Сумерки захватили пока лишь восточный край неба, а на западном солнце ещё посмеивалось над передовым полком ночи, скорой своей победительницы.
- Пирники истомились на Боровицком холме, - объявил Вятчанин. - Вся сторожа ходит, пошатываясь. Святослав Ольгович с сынком и новоиспечённой снохой уже отбыл к своему воинству. Владимир Святославич уехал с ними, а не к себе в Рязань. Даров Гюргиевых увезли тьму тьмущую. Гюргия Ольговичев сыночек Олег одарил таким пардусом, аж в очах рябит. Не шкура, а золото в черных бляхах. Где только эти знатные звери водятся, одни купцы ведают. А обед, сказывают, был весьма силен. Почитай, все окрестные лебеди переместились с озёрных блюд на застольные. Пестун и любимец Ольговичев маститый боярин Пётр на коня не смог сесть после такого обеда.
- Полно врать, - остановил Род. - Этому Петру девяносто лет. Он и голодный в седло не сядет.
- Тебе лучше знать, - смиренно сдался Шишонка.
Фёдор Дурной явился без лишних слов.
- Нынче иль никогда! - резко отрубил он. - Утром Андрей с семейством и челядью возвращается во Владимир.
За полночь кареть вкрадчиво подкатила к высокому глухому тыну.
- За оградою гляди в оба, - наставлял Фёдор, - Терем высок, да стар, древесина мягкая. Верхнее окно под правою крайнею закоморой - её! Все выслежено и проверено. Оконница отворяется внутрь, это тебе кстати: чуть толкнёшь рукой - и всходи в одрину. Помочи для княгини - в тороках за твоей спиной. Надевай ремённую сбрую. Опустишь свою любаву, сам спустишься, спеши к этому же самому месту. Здесь в тыне пропилен лаз. Сейчас я его вскрою…
Луна купалась в облачной пене. Атамановы глаза быстро освоились в синей ночи. Род же видел как днём. Лаз был для него мал, едва удалось протиснуться. Хорошо, хоть Улита сможет одолеть его без натуги. Во-он её окно! Когти «кошки» легко входили в старые бревна, зато держались совсем не прочно. Род намеренно не принимал пищи вторые сутки ради вящей своей невесомости… Не испугать бы Улитушку, хотя Кучковна доказала, что непуглива. Лёгкий скрип где-то над головой заставил его вскинуть взор… О наваждение! Его глаза почти рядом с её глазами. Вот она, оконница, можно дотянуться рукой. Если Улита крикнет, ему конец. Если чуть оттолкнёт - для этого не надобно силы, - он камнем низринется с многосаженной высоты и не останется ни капли надежды на все его кошачьи ухватки. Мгновение они молча созерцали друг друга, длинное, тягостное мгновение! Она не закричала, не оттолкнула. Потому что не испугалась.
- Прими мою руку, - почти беззвучно прошептала Улита. - Только не уколи своими страшными иглами.
Перевалившись через оконный косяк, он бережно охватил тёплые плечи своей любавы. Наручи очень мешали, объятия вышли неуклюжие. Трепетная Улита крепко прижалась к нему.
- Как я не испугал тебя? - удивлялся Род.
- Ещё не видя лица, узнала… - задыхалась Улита в его объятиях. - Весь твой облик… передо мной… всегда. Со спины не ошибусь - ты!
Он нехотя отпустил её, спеша снять наручи и поножи. «Кошка» со звоном упала на пол. За нею вслед - заплечные торока. Вскрыть их, достать помочи, чтобы оснастить беглянку, было делом недолгим.
Что же она творит? Она отступает к тесовой стене и трижды стучит в неё. Сейчас люди войдут, схватят Рода. Однако страха в нем нет, только недоумение. В одрину вошла Лиляна и в неверном мерцанье светца разглядывала его расширенными очами.
- О, Родислав Гюрятич…
- Уля, ты все ж таки испугалась меня? - еле вымолвил Род.
- Не тебя, себя испугалась, - поправила юная княгиня.
Некоторое время одрину тяготило молчание.
- Тебе надо сейчас уйти, Родислав Гюрятич, - первой заговорила Лиляна.
- Мне? Сейчас? Уйти? - не поверил Род.
- Ты совсем позабыл про нашего братца Якимушку, - упрекнула Улита, вдавливая за спиной ладони в крепкую тесовую стену, - Я ведь только ради Якимушки стала женой Андрея. А теперь… теперь он мой муж. Мы повенчаны. Стало быть, не судил нам с тобою Бог…
А Лиляна тем временем собирала «кошку», укладывала в торока, где скрипели не нужные никому ремни помочей.
- Ой, страсти какие! - боялась уколоться сенная девушка.
- Я просила за тебя, Родинька. Моей мечтой было всегда видеть тебя рядом. Ведь ты этого хотел, согласясь на батюшкино усыновление. Бедный батюшка! - закрыла она лицо руками. - Нас с Якимушкой ждала та же участь, если бы не Андрей… Он слышать не желает о тебе, бешеный ревнивец!
Род неверным шагом приблизился:
- Простимся, У ля?
- Нет, - вдавливалась она в стену. - Не подходи. Я не выдержу…
Деловая Лиляна подала ему груз, взяла за руку:
- Нам пора, Родислав Гюрятич. Я тебя проведу тишком. Будь покоен.
Последнее, что он видел, уходя: Улита бросилась на свой одр, и в ушах долго ещё звучали её глухие рыдания.
- Нынче сызнова попросила квашеной капустки, - на ходу шептала в ухо Лиляна.
- Что?.. Причём капуста? - не понял Род.
- Да при том, что моя госпожа брюхата, - объяснила сенная девушка.
Выведя несчастного через чёрный ход, чернавка было пошла к боковой калитке, Род запротестовал:
- Уйду тайным ходом.
- Не бойся, боярин, в этой калитке как раз наш Томилка бдит.
- Нет. - Он решительно отнял руку. - Меня в н ном месте ждут.
И весьма скоро пожалел, что не послушался своей проводницы.
У прикрытого лаза белела понка, обрисовывая девичью стать. Неприятно знакомым повеяло от неё на юношу. Отступить он не мог, иного пути для него сейчас не было. Решительно шагнув к подкараулившей его понке, он ждал от неё сигнала, по которому вся Андреева свора явится, откуда ни возьмись. Кто же эта шальная нюхалка?
Вплотную подойдя, он узнал Вевею.
- Здрав буди, свет мой ясный, - тихо приветствовала она ночного гостя.
- Что ж не зовёшь людей? - спросил Род.
- Был бы не один, непременно бы позвала, - сообщила рыжая соглядатайка, прежде верно служившая Кучке, а теперь, по всей видимости, Андрею.
- Не желаешь моей погибели, так позволь уйти, - деликатно попытался он отстранить её.
- Не кручинься, - взялась утешать Вевея. - Зеленоглазая злица жаждет тебя по-прежнему. Да не тобою, другим она подевичена и после посяга пребывает под чарами Андреева первомужества. Не понять тебе этого бабьего состояния.
- Отчего ж не понять? - все-таки оттёр он от лама докучливую рыжуху, - Досачиваюсь…
Прощай, голубь мой серебристый, - вдруг уколола его поцелуем в щеку Вевея. И, уже оттолкнутая возмущённым Родом, тихо хихикнула, грозя пальцем: - Помни: я-то с тобой не навек прощаюсь.
Ловкой ножкой выбила она перед ним тесный лаз.
Оказавшись за тыном, он шумно перевёл дух.
- Ты… один? - в нетерпении теребил его выросший как из-под земли атаман.
- Я… да, один. А она… осталась.
Уже в карети, сотрясаемый бешеной ездой и плохой дорогой, Род кратко сообщил Фёдору обо всем, что произошло в одрине.
- Так… так… - прерывал его речь Дурной. - Что ж, - подытожил он, - быть по-моему: бросаем эту украденную Шишонкой посудину на Старо-Русской дороге и - в Азгут-городок, в Затинную слободу. Там устроим смотрины.
- Нет, - твёрдо вымолвил Род. - Ты спешишь к своим братьям, а я - к друзьям в Киев. Надобно кое с кем повидаться, на столицу, кстати, взглянуть, а оттуда - на север, в гости к Господину Великому Новгороду.
Бродник то ли обиженно, то ли задумчиво промолчал. Перед тем как велеть Шишонке остановиться, хмуро изрёк:
- Приглашать - не неволить. А вот ежели на ратном поле сойдёмся… Я все ж таки к Ольговичу поведу своих братьев. А тебе отчего бы не оказаться в великокняжеских полках?.. Так вот, коли сойдёмся, давай узнавать друг друга по красному лоскуту на шапках. Не станем брать на душу братоубийственного греха.
- Я этого греха на душу не возьму, - твёрдо пообещал Род. - И никоим образом не окажусь в полках Изяслава. Более не ищу боярства. Жизни из княжеских рук мне отныне не надобно.
8
Путь на Киев через Козельск прямее. А Старо-Русская дорога через Смоленск даёт большую клюку, зато наезжена, безопасна. Куда было спешить Роду? В Смоленске пытался найти Ивана Берладника, да опоздал. Иван уж рассорился с тамошним князем Ростиславом, как прежде с Ольговичем. Сказали, что галицкий изгой служит теперь Гюргию, рыщет по непокорным новгородским погостам, обирает тамошних мытоимцев. Неприкаянный, неугомонный Берладник!
Миновав Городец, Род задержался в деревне Радосынь, что перед Киевом. Хотя атамановых златиков в мошне ещё было много, он продал Чалку, подарок Фёдора, местному чернедь-мужичку - пусть пашет, не поспешая, - а сам на вырученные куны купил разноцветный пояс-источень. Приличнее показалось прибыть в столицу пешком, нежели верхом на неказистой кобылке.
И вот за земляным валом - Киев, о котором премного наслышан. Прежде всего понадобилось посетить постригальню, лишь затем можно было себе позволить полюбоваться хотя бы некоторыми из шестисот киевских церквей, побывать хотя бы на одной и з восьми торговых площадей, влиться в число деловитых, равнодушных к нему нескольких сот тысяч киевлян.
С Господином Великим Новгородом Киев сравнивать было трудно. Разумеется, второй более первого и не очень-то схож с ним. Зато с маленьким Суздалем Род приметил сходство: там и тут - земляная крепость, четверо ворот, прямое перекрестие главных улиц. В Киеве - Печерский монастырь, в Суздале - Печерское подворье. В Киеве рядом с Печерским - Дмитриевская обитель, в Суздале рядом с подворьем - церковь святого Дмитрия. Из рыночных разговоров узнал, что у Киевского князя есть загородный дворец в Берестове, и вспомнил, что у Суздальского - тоже загородный, в Кидекше. Постоял перед Ярославовым княжим дворцом на горе, ну совсем как перед детинцем, господствующим над Суздалем.
Подкараулив наиболее доброго на вид парубка из дворцовой челяди, спросил, как найти подворье князя Святослава Всеволодича. Прежде всего захотелось свидеться с Нечаем Вашковцом, с Первухою Шестопёром, а уж затем - к Чекману на долгое, основательное свидание. Что с парубком? Смотрит настороженным зверьком.
- Ты кто? Ты кто?
- Я разыскиваю своих друзей из младшей дружины Святославовой, - простосердечно начал было пояснять Род.
Парубок непочтительно схватил его за грудки.
- А ну пройдём-ка! Великокняжеская сторожа выяснит, чей ты друг.
Не испугавшись, не терпя хамского обращения, Род рванулся, и клок его рубахи вместе с рукавом остался » руках ошеломлённого кощея. Ошеломлённого, потому что с треском материи мелькнул сноп неизвестно откуда взявшихся искр. Челядинец, мгновенно обретя присутствие духа, ухватил Рода за оголённый локоть, однако тут же отдёрнул руку.
- Колдун! - широко раскрыл он совсем ещё детские очи, - Колдун! Из твоего локтя нечистая сила ударила меня в руку!
Ничего не понимающий Род счёл за благо отойти, да ещё тут же прибавил шагу, услышав за спиной:
- Держите колдуна!.. Имайте вражьего лазутника!..
Сам не ведая как, Род в мгновение ока оказался далеко от торговой площади и княжого дворца. Сгорбленная старушка остановила его:
- Здесь, поробче, милостыньку не проси. Наша здесь округа. Наши тебя прибьют. Пришлые попрошатаи насыщаются токмо у Жидовских врат.
Род спросил, как найти улицу Пасынча беседа.
- Пасынкова беседа, или седалище, - нараспев затянула старая нищенка, - за церковью святого Ильи на ручье рядом с улицею Козары…
Найдя Пасынково седалище, пришлецу не составило трудности отыскать терем берендейского князька Кондувдея. Привратник, вестимо, отказался впустить бродягу, но, одарённый разноцветным источием, соблаговолил послать какого-то малого доложить княжичу Чекману о пришедшем.
И вот они вновь в объятиях друг друга.
- Ах, дорогой, что за вид! - отобнимавшись, хлопнул себя по бёдрам Чекман. - Будто ты сызнова побывал в лапах кровожадного Сурбаря.
- Едва не побывал, - уточнил Род, поднимаясь с другом по высокому гульбищу.
Узнав о его столкновении с великокняжеским челядинцем, Чекман объяснил случившееся:
- Разумеется, тебя приняли за лазутника! Ай, дорогой, у нас такое творится! Давыдовичи прислали к нашему государю за помощью. Ольгович завоевал их область. Наш Изяслав отпустил к ним племянника - Всеволодова сына Святослава. У него служат твои приятели?
- У него, - кивнул на ходу беглый суздалец.
- Вах-вах, какая напасть! - прижал ладони к щекам Чекман. - Всеволодов сын изменил своему дяде Изяславу, передался другому дяде, Ольговичу. И оба Давыдовича ему же передались. Слабых тянет к более сильному, а ваш Ольгович с помощью Гюргия вошёл у-у-ух в какую силу! Только бывший тысяцкий Улеб, посланный в Чернигов, сведал, что Давыдовичи изменники, а друзьями Изяслава прикидываются. Этот Улеб ба-а-а-льшой хитрец! Досочился даже, что оба черниговца замышляют заманить великого князя, чтоб умертвить его или же выдать Гюргию. Наш государь отправил посольника, дабы Давыдовичи повторно присягнули ему на верность. А те лишний раз клятвопреступничать побоялись, отказались целовать крест. «Отпусти, - говорят, - к нам схимника Игоря Ольговича, вот тогда будет мир и дружба». Слушай, дорогой, разве это люди?
- Ты мне все сообщил потонку, - удовлетворился Год, уже провожаемый другом в баню.
- К своему счастью, великий князь ещё не достиг изменников, - разделся Чекман, передав душистый берёзовый веник гостю. - Разбил лагерь на реке Супое, а Улеб вовремя предупредил его.
Оба влезли на полок, и началось хлестанье.
- А то лежал бы сейчас в порубе с выколотыми очами, - отдувался под ударами веника гостеприимный хозяин.
- Неужто думаешь, ослепили бы? - уронил веник Род.
- Ха! - принялся в свою очередь за его спину Чекман. - Я тебе уже говорил: черниговские князья люди, что ли?
Сидя в приличном одеянии за столом и блаженно насыщаясь, Род продолжал с любопытством слушать своего друга. Сколько разительных перемен происходило вокруг, пока он в одиночестве путешествовал из Москова в Киев!
- Вчера Улеб вернулся по государеву изволу подымать мстителей на Давыдовичей с Ольговичем, - морщился от предстоящих невзгод Чекман. - Столицей правит сейчас оставленный великим князем брат по Владимир Мстиславич. То-то государев сын Мстислав злобится!
- Почему злобится? - не понимал Род. - Племянник на дядю?
- Ха! Тёмный ты, человек лесной! - потрепал его но плечу берендейский княжич, - Владимир Мстиславич сводный брат нашему государю, сын его мачехи.
Стало быть, великокняжьему сыну он вовсе не стрый[360], а мачешич. Тот так его и зовёт.
- Из-за этого нелюбье у них? - удивился Род.
- Возрастом они почти схожи, вот и состязаются, - пояснил Чекман. - Да и характеры разные. Мстислав Изяславич храбр и прям, а Владимир Мстиславич хи-и-итрый оглядень!
- А, мне-то что до них? - отмахнулся Род.
- В Киеве жизненные пути колдобисты, - предупредил княжич. - Новику надо знать, где вернее поставить ногу. А не то у-у-ух! - ив пору б!
Ветер неожиданно распахнул слабые оконные створки и принёс густой звук: «Ум! Ум! Ум! Ум! Ум!..»
Берендей вскочил. Вслед за ним встал из-за стола Род.
- Сполох?.. Где-то загорелось?.. Ох, беда! - испугался юный лесовик.
- Вечный колокол[361]! - сразу определил Чекман. - На торгу перед княжьим дворцом собирают вече.
- Не бывал на вече никогда, - признался Род. - В Новгороде созывалось не однажды, да наставник Богомил не отпускал меня.
- А желаешь, съездим, - предложил Чекман, - Да чур держать себя в узде! - поднял он палец, - При общем возбуянии быть кротку, понял, дорогой? Ни ты, ни я - не вечники[362]. Ты пришлый, я берендей, вразумел?
Сын Кондувдея лично вывел из конюшни вороного жеребца с игреней кобылой.
- Узнаёшь?
Кобылица вежливо взяла с ладони Рода горстку соли, шумно зажевала, улыбнувшись всаднику знакомым оком: сколько лет, мол, сколько зим!..
- Катаноша! - шепнул Род, припав щекой к дрожащей шее, запустив пальцы в густую гриву.
Кликуны уже заголосили почти на каждой улице. Вечный колокол толпил народ. Только что кутившие, кузнечившие, торговавшие спешили вечевать на сходбище.
- Ах, нам не пристало быть толпыгами[363], - придержал коня Чекман.
Не спешиваясь, они стали на приличном расстоянии от свежесбитого помоста, некрашеного, обтянутого дешёвой крашениной. Нестерпимо яркий златик солнца плавился в зените. Резали глаза слепящим блеском многочисленные купола святой Софии. Чекмана с Родом отделяло от помоста море растревоженных голов. Зоркий лесовик отлично видел знаменитых граждан Киева, взошедших на помост.
- Вон Лазарь, нынешний наш тысяцкий, - показывал Чекман. - А вон митрополит, а рядом с ним Улеб. Сейчас он будет говорить. А в сторонке государев брат Владимир…
Сановный сухожилистый жердяй с узенькой бородкой охватил площадь гулким голосом:
- Великий князь целует своего брата, - он поцеловал Владимира, - Лазаря, - приложился к тысяцкому, - и всех граждан киевских, а митрополиту кланяется! - Поклонился владыке.
- Какой день нынче? - спросил мужской голос рядом с Катаношей.
- Ныне девятнадцатое вресеня, пяток, - ответила ему тётка в чёрной понке.
- Вторник да пяток - лёгкие дни, - заключил мужик.
- Кто дела начинает в пятницу, у того они будут пятиться, - сурово заметила знательница примет.
Тем временем боярин Улеб с помоста продолжал речь:
- Так вещает Изяслав: князья черниговские и сын Всеволодов, сын сестры моей, облаготворённый мною, забыв святость крестного целования, тайно согласились с Ольговичем и Гюргием Суздальским. Они думали лишить меня жизни или свободы, Бог сохранил вашего князя. Теперь, братья-киевляне, исполните обет свой: идите со мною на врагов Мономахова роду. Вооружайтесь от мала до велика. Конные на конях, пешие в ладиях да спешат к Чернигову! Вероломные надеялись, убив меня, истребить и вас. Но с нами Бог и вся правда его! - При этих словах Улеб воздел руки к небу.
Толпа на площади взволновалась закипевшей кашей в большом котле. Люди подпрыгивали, вскидывали руки, орущие пузыри голов поднимались и опускались. Одни и те же возгласы повторялись на разные лады:
- Ради, что Бог сохранил нам князя от большой беды!
- Идём, княже, за тебя и с детьми!
На помост вскарабкался мускулистый детина в стёртой безрукавной поддевке, шваркнул картузом об пол и заорал:
- По князе-то мы своём пойдём с радостию. А прежде надобно вот о чём промыслить…
Чекман сказал на ухо своему нездешнему другу:
- Запомни этого: дурной малый! Преданный человек Улеба. Не головой дурен, сердцем. Зовут его Кондратей Шорох.
- Вспомните, - орал Кондратей, размахивая волосатыми большими руками, слишком длинными для сермяжных рукавов напяленной под поддёвку рубахи, - осьмидесяти лет не минуло, вспомните! При Изяславе Ярославиче глупые люди выпустили из заточения злеца Всеслава и поставили себе князем. Сколько бед принёс киевлянам этот полочанин Всеслав! Осьмидесяти лет разве мало, чтобы запомнить? А ныне Игорь Ольгович, враг нашего князя и наш, давно уж не в заточении, а в Федоровском монастыре. Вы все уйдёте к Чернигову и с детьми, а его так оставите? Сколько новых бед будет Киеву! Нет, сперва умертвим первого Ольговича, а тогда пойдём накачать второго Ольговича и черниговских!
- Да умрёт Игорь! - крикнул неподалёку от Чекмана с Родом надрывный голос.
- Это же лавочник Гришка Губан, - углядел крикуна берендейский княжич. - Этот не станет задарма горло драть.
- Смерть! Смерть! - раздалось с другой стороны.
- Этот-то чего? - удивился Чекман. - Он не вечник.
- Да умрёт Игорь! Смерть Игорю! - рвались крики из толпы.
И Чекман узнавал в ближних горлопанах то Фильку-шапошника, то Федотку Ореха, портного.
- Наймит?.. Тоже наймит? - всякий раз при этом спрашивал Род. И смутно вспоминал рассказ вестоноши Олдана о событиях годичной давности, когда Игорь Ольгович, преданный своими боярами, не сумел защитить великокняжеского стола и оказался в заточниках. Кажется, среди этих предателей-бояр был Улеб.
- Я ж тебе говорил: ба-а-альшой хитрец! - подтвердил Чекман предположения друга.
А толпа уже поползла змеёй к Федоровскому монастырю. Люди озверевали.
- Изяслав не хочет убийства! Игоря накрепко стерегут! - кричал с помоста Владимир, великокняжеский брат и наместник в Киеве. - Идите лучше помогать Изяславу, как он велел…
Примерно то же кричали митрополит Клим, тысяцкий Лазарь, Владимиров боярин Рагуйло. Их не слушали. Кто-то, перекрывая общий шум мощным басом, возопил, обращаясь к вельможам:
- Добром с Ольговичами не кончить ни вам, ни нам!
Кто возопил? Да тот же Кондратей Шорох. Его голос.
Между тем Улеба с помоста как ветром сдуло.
- На одном вече, да не одни речи, - сказала тётка в монашеской понке, знательница примет.
- Начался зыбёж, - заметил Чекман, - Нам надобно покидать вече.
- Я не покину, - твёрдо ответил Род. - Вон великокняжеский брат поскакал останавливать толпу. Я ему помогу.
Чуть-чуть пришпорив Катаношу, он оказался почти рядом с Владимиром Мстиславичем.
- Заезжай, князь, справа, я - слева. Мы их не пустим! - прокричал Род.
Правитель города с удивлением обернулся. Незнакомца тут же окружила княжеская сторожа.
- Это мой храбрый спаситель, князь. Помнишь, рассказывал? - крикнул Чекман из-за отрочих спин.
- А, Чекман! - заулыбался Владимир. - Потом познакомлюсь с твоим спасителем. Сейчас - скорее к монастырю. Толпа уже заняла весь мост. Тут мы не протолпимся. Едем в обход мимо Глебова двора.
Род, окружённый отроками, вынужден был свернуть в сторону следом за Владимиром.
- Эх, вернее бы с толпой через мост! Слышишь, отрок? - обратился Род к наиболее ближнему и самому бородатому из окружавших его, увешанному золотыми цепями.
- Не отрок я, а боярин. Зови меня Михаль, - добродушно осклабился бородач.
Слишком уж долго пробиралась горсть конников закоулками, уличками, пока не выехала к монастырским воротам. Вновь предстояло проталпливаться сквозь многолюдье. «Ум! Ум! Ум!» - тщетно призывал к уму большой испуганный колокол. Ума в людях не наблюдалось. Род издали разглядел, как с церковной паперти сводят схимника с криками: «Побейте! Побейте!» В церкви, очевидно, шла служба, в чёрном дверном проёме мерцал свет паникадила. Неужто убийцы прервали саму божественную литургию? Пока Род искал платную коновязь для Катаноши, обречённого уже подвели к воротам. С него яростно совлекали схимничьи одежды и раздирали их.
- За что? - жалобно спрашивал старик, пусть ещё не летами, но телом. - За что? За то, что крест целовали иметь меня князем? Я уж этого не помню. Я уж монах… - Вот он совсем голый стоит в толпе, причитая: - Наг вышел из чрева матери, наг уйду… - Вот он увидел пробившегося сквозь толпу на коне Владимира. - Брат любезный, куда ведут меня?
- Оставьте его! Не трогайте! - завопил Владимир.
Толпа ответила рёвом, руки взметнулись, когтистые или сжатые в кулаки. Раздались крики избиваемых князей, обречённого и защитника. В толчее доставалось не только Игорю, но и Владимиру. Род стал проламывать себе путь, разбрасывая обезумевших людей, как ту свору, что когда-то натравил на него хан Кунуй.
- Ххх-а! - выдохнула перед глазами окровавленная чья-то глотка. - Откуда тут истый леший?
А он уже рядом с избиваемыми. Убийцы, не задевая его, калечили один другого. И боль отрезвляла их. Владимир смог накрыть своим корзном голого Игоря. Сторожа беспощадно размыкала толпу, делая проход. Кони были подведены. Род, сызнова утонув в толпе, протискивался к своей Катаноше.
- Сегодня не убили, завтра убьют, - просипел рядом сорванный вечем голос.
- Убьют, забота не наша, - ответили ему.
- А от субботней расправы уйдёт, значит, и воскресенье переживёт, - успокоила какая-то женщина.
- Эх, не завалилась бы суббота за пятницу! - возразили ей.
Род нагнал конников почти одновременно с Чекманом, который в освобождении схимника не участвовал, опасаясь похмелья в чужом пиру.
- Врываться в церковь во время службы ради убийства… Боже, до чего дожили! - сокрушался боярин Михаль, позванивая на скаку нагрудными золотыми цепями.
- Что это, христиане, что ли? - согласился с ним берендейский княжич.
- Камо? Камо?[364] - едва держался в седле закутанный в княжье корзно избитый Игорь.
- В дом моей матери, - отвечал Владимир. - Головники не посмеют потревожить вдову Мстислава Великого.
- Монастырский храм потревожили, схиму не пощадили, - вздохнул самый молодой княжий отрок.
Всадники въехали во двор, спешились перед высокими затейливыми хоромами и крепко затворили ворота. Коней расположили в длинной, вросшей в землю конюшне, Игоря провели в сени над ней. Здесь обычно отдыхали конюхи, сейчас сени были пусты.
Промыслю у матери об одежде для схимника, - кивнул Владимир на сени, где укрыли Игоря, - Потемну, когда на толпу угомон найдёт, переправим его в Семеоновский монастырь, обитель его деда и отца. А пока кто-нибудь посторожите бывшего князя.
Сторожить вызвался боярин Михаль. С ним остался Род.
- Съезжу к отцу, успокою, что жив, - сказал Роду Чекман. - Старик, знаю, с ума сходит. А ты жди меня, дорогой.
В конюховых сенях было тихо, как на морском берегу. Довелось Роду съездить с Богомилом Соловьём к берегам Варяжского моря: останешься в прибрежной хижине, и тишина как бы усиливается гулом прибоя и становится грозной.
- Толпа близится к княгинину дворцу, - подошёл к волоковому окну Михаль. - Отстала от нас, а теперь…
- Смертушка моя близится, - вздохнул Игорь.
Он был странен в чужом корзне поверх наготы.
Невысокий, сухонький, смуглолицый, по-старушечьи распустил длинные седые волосы по груди, узенькая бородка за ними почти не виделась. Трудно верилось, что ещё год назад это был храбрый князь, решительно вышедший с колеблющимися полками встречь взбунтовавшемуся своему подколеннику. Теперь же смиренные его уста приятным тенорком пели: «Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко…»
Гул толпы нарастал.
- Они уже под воротами, - сообщил, отходя от окна, Михаль. - Что нам делать? - Добродушный лик его выражал крайнюю растерянность.
Род глянул на князя-схимника и увидел, что тот умрёт.
- Должен же твой государь прислать помощь, - в отчаянье обратился юноша к Михалю.
- Ох, - не слышал боярин, вновь подойдя к окну. - Откуда-то огромное бревно тащат… Нет, не посмеют!
Первый удар в ворота показался звуком вечного колокола. Второй удар вызвал долгий скрип. С третьего удара ворота рухнули.
- Воры! Что же они творят! - крикнул Михаль.
И не успел Род опомниться, как боярин выскочил из сеней, сбежал вниз и один-одинёшенек оказался перед толпой.
Что он им кричал, в шуме было не слышно. Род видел в волоковое оконце, как боярина сбили с ног, как рвали с его груди золотые цепи.
- Совсем плохи наши дела, отче, - обратился юноша к князю-схимнику.
- …По глаголу Твоему с миром, - продолжал петь несчастный.
Род оглядел сени. Кроме стола, двух широких лавок и поставца на стене увидел в одном углу железный сундук, а в другом большую чугунную наковальню. Даже ему великого труда стоило перенести оба эти предмета к двери и возложить один на другой.
А ступени уже трещали под обилием ног. Подпёртая дубовая дверь стойко выдержала один толчок, второй, третий…
На угрозы и проклятия Род не отвечал. Он уж определил, что с дверью они в тесноте не справятся. У нападавших иной путь - разметать кровлю, вскрыть сени сверху и извлечь жертву, как узника из поруба.
Так они и спроворили. С грохотом полетело в стороны кровельное пластьё, и десятки ног затоптались по потолку.
- Близок наш конец, отче, - склонился юноша над седой головой обречённого. - Скажи, христианского Бога ради, ублаготворило ли твою жизнь схимничье затворничество?
- Твой конец не близок, - пробормотал бывший князь. - Мне монашество было влепоту. Страха смерти нет, только боль, что ухожу позорно.
Первое бревно упало посреди сеней, не задев обоих. Вторым бревном повалило Рода, крепко защемило ступню, благо не расплющило, ибо конец второго бревна пришёлся на первое, оно и спасло. Род попытался сесть. Не в силах был освободить ногу. Да и сесть-то не удавалось как следует.
Словно с неба свалившимся в сени оголтелым толпёжникам было не до него. Матерясь или просто хрипя и воя, они поспешили выпростать голого схимника из корзна и поволокли за ноги, освободив от тяжёлого заслона дверь сеней.
- Пособороваться[365]… причаститься… - умолял их Игорь Ольгович.
Грубый голос ответил:
- Духовника просишь? А когда вы с братом Всеволодом жён и дочерей наших брали на постели и домы грабили, тогда о попах не спрашивали…
- Грех… клеветать… - стонал бывший князь.
Его плохо слушали.
- Каков грех, такова и расправа, - был свирепый ответ.
Голого волокли к ступеням крутой лестницы.
- Ай-ё! Ай-ё! - раскачивали уже не издававшего ни звука несчастного. И эти страшные крики напомнили Роду о Диком Поле. - Ай-ё! У-ух!
В наступившей тишине явственно прозвучал шлепок тела о булыжную мостовую Мстиславова двора.
- Убива-а-а-ю-ю-ют! - пронзил воздух истошный бабий крик.
- Убьют, так закопают, - успокоил мужской бас.
Несколько самосудцев, не поспевших за расправщиками, остались в сенях и теперь давили друг друга у волокового окна.
- Кончили! - объявил один.
- Верёвку к ногам и поволокли со двора, - продолжил другой.
- Мне не жаль, - молвил третий. - Его тиун коня у меня увёл.
- Кто старое помянет, того черт на расправу потянет, - заметил первый. - Кто-то и любил Игоря Ольговича. Ты разве не любил?
- Спереди любил бы, а сзади убил бы, - сурово проговорил обиженный княжеским тиуном.
Самосудцы остывали заметно.
- Эй, освободите меня, - попросил их Род.
Двое мужиков сняли с его ноги тяжёлое бревно. Род встал, пошатываясь.
- Погляди, Судила, это ж заговорённый, что дубасил нас у монастырских врат! - отскочил пугливо тот, что говорил: «Кто старое помянет…»
- Да, Страшок, тот самый. Щас я ему врежу! - начал подступаться памятливый на все старое.
Левой рукой Род перехватил его кулак, правой медленно провёл по сивой голове. Самосудец рухнул на колени.
- Схимника убили! Божья ангела! - завопил он. - Нету нам забвенья ни на этом свете, ни на том…
Сотоварищи его переглянулись и опрометью рванулись вниз по лестнице. Род вздохнул и вышел вслед за убежавшими.
Посреди двора алела лужа крови. Михаль в растерзанном полукафтанье подошёл неверным шагом.
- Мои цепи! Мои цепи! - стонал он и, заметив Рода, указал на лужу. - Здесь его прикончили мечом. Набросились стаей стервятников. Я узнал крадёжников-головников: Бурец Ярыгин, Бандюк, Людень… Каждый пёс в Киеве их знает. Только кто этих воров освободил из заточенья? Среди них был Кондратей Шорох.
Род низко наклонился, углядев блеск в крови. Он поднял кончик лезвия меча, на который пал луч солнца. Понял, что убийца, пронзив жертву, обломил своё оружие о крепкую булыжину, коими мощен княгинин двор. Наша сталь, не иноземная. Такой булат не устоит перед природным камнем. Род опустил в карман кровавую находку.
- Где ж твой господин? - спросил он Михаля. - Терем его матери как вымер!
Боярин не успел ответить.
- Жив, дорогой? Пойдём скорей отсюда! - обнял друга подоспевший берендейский княжич. Катаноша прядала ушами за его спиной. Не дав проститься с Михалём, Чекман вложил повод в руки юноши: - А ну айда! Великим чудом жив остался, сунул нос в чужое дело. Мне с тобой беда!
- И вовсе не в чужое дело, - уже на всем скаку прокричал Род. - Нынче то же творится и в Чернигове, и в Суздале, в самом Великом Новгороде…
- Натосковались в тишине при строгом Мономахе, - осклабился Чекман, - Теперь рассыпались без вожака и - за грудки друг друга!
- Такое, как сегодня, даром не проходит, - сказал Род, спешиваясь в берендеевом дворе. - Жди ещё больших бед.
В одрине княжича он выразил желание не есть, а спать.
- В такую рань? - спросил Чекман. - Что ж, воля гостя для хозяина - закон. Разоблачаешься? Вай, что это с твоей рубахой? Она трещит, искрит!
- Не ведаю, что это, - смутился Род. - Помню, приёмный мой отец Букал снимал рубаху, она всегда трещала искрами.
- Таинственная сила в ваших телах, - предположил Чекман.
Род погрузился в сон мгновенно…
Когда проснулся, княжич сидел на сундуке напротив. Ждал пробуждения, любуясь гостем.
- Ты… никуда… не уходил? - не поверил глазам Род.
- Ха! - сверкнул Чекман белыми зубами, - Я почти весь Киев обошёл. Все выведал. Все знаю.
- Что стало с убиенцем? - сел на одре Род.
- Голый труп проволокли сквозь Бабин торг к мраморной церкви Богородицы, - рассказывал Чекман. - Там собрались вокруг, смотрели, как невинные. Тысяцкий Лазарь им сказал: «Воля ваша исполнилась. Игорь мёртв. Погребём тело его». А они - представь себе: «Не мы убийцы, а Давыдовичи и сын Всеволодов. Бог и святая София защитили нашего князя Изяслава!» Дети, а? Потом на чьих-то дрогах повезли тело на Подол в церковь святого Михаила, что в Новгородской части. Там киевляне-новгородцы благоверно подходили, брали кровь его, куски одежд, коими сами перед тем покрыли. Говорили: «Это нам на исцеление и на спасение души». Вах-вах, какая страсть!
- Там были не те люди, что убили, - объяснил Род. - Убивали выпущенные преступным промыслом подстражники-злодеи.
- Это мне вневеды, - пожал плечами берендейский княжич. - А ещё вот что я узнал: Владимир, Лазарь и Рагуйло наблюдали за убийством из окна терема. Не дождались подмоги, порывались сами выскочить, да Улеб их не пустил. Ба-а-альшой хитрец этот Улеб!
В обсуждении случившегося прошла вечеря у хозяина и гостя. Род попросил постное, памятуя о пятнице.
- В пятницу… убивать! - не шёл у юноши кусок в горло.
- Нешто собаки знают пятницу? - с содроганьем вспоминал прошедший день Чекман.
Рано поутру княжич сопровождал Рода в Семеонов монастырь, где должно было состояться отпевание убитого. Сам берендей в церковь не пошёл, договорился ждать поблизости в корчме. Род у гроба встретил Михаля, лишённого нагрудных золотых цепей.
- Отпевать пришёл архимандрит Анания, - почтительно шептал боярин, - игумен Федоровского монастыря, где принял схиму убиенный.
- Попроси его принять меня по окончании обряда, - шепнул Род Михалю. - Мне весьма важно…
- Людие! - обратился к предстоящим горестный игумен, окончив панихиду. Не «братия и сестры», просто «людие». - Горе живущим ныне! - возопил он. - Горе веку суетному и сердцам жестоким!..
В этот миг, как совпадение с игуменской грозою, грохот грома потряс храм. Все собравшиеся с воплем пали ниц.
- Бедный мученик! - запричитала рядом с Родом женщина в монашьей понке. - «Полонён!» - воскликнет каждый полонённый, а «Убит!» - убитый - никогда!..
- Батюшка игумен ждёт тебя, - поднял юношу за локоть Михаль.
В пономарке на некрашеной затёртой лавке, опершись на посох, отдыхал старик, понурив чёрный клобук.
- Что тебе, пришлец? - поднял он на вошедшего тяжёлый взор.
- Прими, отче, в монастырь, - земно поклонился Род.
Не подняв его, не встав, игумен произнёс:
- О, времена соблазнов попустил Господь! Наведе на ны бесы и самого того злеца Сатану…
- Потому и жажду принять иноческий образ, - сам поднялся Род. - Чтобы избежать людских соблазнов…
- Руки их и ноги ослаблены к церквам, - словно не слыша, продолжал архимандрит, - на игрища и на пронырливые дела убыстрены…
- Суетный мир мне опостылел, - доверительно признался юноша.
- Сбыться пророчеству Исайи, - изрёк Анания. - Превратятся праздники ваши в плач и игрища ваши в сетования…
- Однако ты не отвечаешь мне, отец, - растерялся Род.
- Путь твой не в монастырь, а в блуд, - поднялся старец. - Тьма языческая ещё сильна в тебе, аки северная нощь.
Род подавил обиду и не сумел скрыть этого.
- Я тебе не верю, отче, - сказал он резко. - В лес, в отшельники уйду…
- Не гневи Бога, - вздохнул Анания и вышел из пономарки.
«За что ж он так меня? - сокрушался Род, покидая храм. - Что содеял я дурного? Или что-то натворю в будущем? О, жестокий старец! Букал тоже был суров, но по-отцовски!»
В корчме царили винные пары. Затуманенный Чекман сидел в углу. За сдвинутыми столами хмуро топили совесть в вине вчерашние вечники и толпёжники.
- Слушай, дорогой! Каются, окаянные, - зашептал Роду Чекман.
Скудобородый человек в рыженькой бекеше, явно тесной его мощному телу, видимо, пытался их успокоить.
- Вы, что ли, убивали? Вас подстрекали княжьи прихвостни. Владимир Мстиславич говорил бело, делал черно.
- А ты кто таков, чтоб судить Владимира? - спросил ражий мастеровой. - Гляжу, в Киеве ты неведом.
- Ведом кое-кому, - распахнул говорун бекешу. - Я Даньша Якшич, посадский из Ладоги. Часто гощу у вас в Новгородской части. Наблюдал вчера зорко, вот и сужу. Сам подумай: все ринулись к монастырю, а Владимир - вправо. Конный поспел к делу позже пеших. Как это понимать? Стражи у него тьма тьмущая, а явился один. Кмети подоспели к шапошному разбору. Полумёртвого схимника увезли на Мстиславов двор и исчезли. Во какие защитники! А кто сени разметал, вы? Нет, вы были в толпе за воротами. А кто волок голого убиенца на Бабин Торжок? Не вы, а лихие воры. Кто их из узилища выпустил? Кому больше всех Игорева смерть была нужна? А, кому? Досочиться можете?
- Да неужто князь Владимир о двух лицах? - всполохнулся киевлянин помоложе прочих.
Старшие молчали, морща лбы.
- У, шакал, не человек! - оскалился Чекман на Даньшу Якшича.
Род, тоже возмущённый наглой ложью, сунул в карман руку за платком, чтобы отереть внезапный пот, и тут же ощутил в пальцах кончик лезвия меча, даже укололся об него. Не иначе боль вернула в память заповедь Букала, очень подходящую к теперешнему часу: «Выяви ложь на конце меча». Он взглянул на ножны, свесившиеся с бедра Даньши Якшича, и подошёл к кабацким тризникам.
- Киевляне! - громко молвил Род. - Я, как и этот ведомец, из северных краёв. Вчера случайно оказался на месте гнусного деяния. В крови убитого нашёл вот это острие меча. Плохое лезвие, пройдя сквозь тело, воткнулось в камень и сломалось. Я безоружен, вы вооружены. Пусть каждый вынет и покажет меч. У кого сломан, тот убийца. Пусть первым обнажит свой меч приезжий ладожанин, - ткнул он в Якшича.
- Почему я? - побагровел недавний говорун.
- А почему не ты?.. Какое дело!.. Што так полохнулся? - зашумели киевляне.
Все как по приказу поднялись из-за стола. Кто-то помог упрямцу извлечь оружие из ножен. Лезвие сверкнуло на столе. Конец его был сломан. К нему зазубринка в зазубринку пришёлся впору тот обломыш с кровью, что держал для обозренья Род.
- Пошли, халдыга![366] - окружили владельца меча сумрачные тризники.
- Вы что? Вы что? - не своим голосом противился приговорённый.
Однако его вывели, отобрав меч.
- Ой, Рода! Ты обрёк убийцу на смерть, - порывисто дышал Чекман, с тревогой наблюдавший все случившееся.
- Мой грех, - опустил голову Род. - И моя правда.
Э, не кручинься, - тут же успокоил его княжич. - Это вовсе и не ладожанин, никакой не Даньша Якшич. Я его знаю. Это Кочкарь, пасынок боярина Улеба. Ой, зверюга!
Тем временем корчмарка выскочила и вернулась.
- Быть худу! Повезли куда-то связанного! - таращила она глаза.
Род и Чекман без лишних разговоров покинули корчму.
- Отчего этот Улебов наймит чернил Владимира, великокняжеского брата? - никак не понимал пытливый Род.
- Ха! Оттого что сам Улеб с великокняжеским сынком Мстиславом в дружбе. А Мстислав с Владимиром - враги, - объяснил всезнающий Чекман.
…Чуть позже, на изломе дня, два всадника покинули столицу через Софийские ворота. Тот, что на игреней кобылице, - с тороками у седла. А его спутник, обладатель вороного жеребца, вовсе без поклажи. Не доезжая Радосыни, обнялись.
- Опять прощаемся! А мог бы переночевать. Или тебе наш берендейский стол не по нутру?
- Все твоё мне по душе и по нутру, сердечный друг Чекман. Но повечер я уже буду в Городце. А далее - быстрей на север!
- Скоро в гости тебя ждать? Теперь верхом на птице Катаноше!
Род не ответил, разомкнув объятья. Издали в последний раз махнул рукой. Он уезжал, чтобы покинуть мир. Чтоб стать отшельником. Чтобы взойти на высоту Букала. Не с черным идолом Сварога, а с сияющей иконой и крестом. Букал внутри себя хранил свой крест, что здесь, под Киевом, вложил в него Гурий Мудрой. Род тоже понесёт тяжёлый крест затворничества. Монах Анания не разглядел в нем силы духа. Да сам-то он, воспитанник отшельника, в себе уверен. Вот почему Род искренне считал, что им с Чекманом больше не видать друг друга никогда. Как позже выяснилось, очень опрометчиво считал!
ВРАЧУ , ИСЦЕЛИСЯ САМ!
1
Три лета минуло с тех пор, как Род ушёл в затвор. По Днепру выше Смоленска, чуть ниже, пересекающей реку Старо-Русской дороги, выросла кельица на высоком берегу, скрытая густым подлесьем. Днепр здесь ещё невелик и скромен. Летом отшельник видел бойкие судёнышки, убегающие вниз или тяжко выгребающие вверх, но его не видели. Зимой здесь был санный путь по льду. Звенели источающие пар тройки, впряжённые то в каптан, то в утлый возок, а то просто в розвальни. Род их не наблюдал. Зимой прибрежная келья была пуста. Более основательную затворницу[367] возвёл он себе глубоко в лесу. «Мёртвый не без гроба, живой не без кельи», - приговаривал молодой отшельник, связывая в лапу рубленые дубовые венцы. Кельица получилась ладная, крепкая, как орех. В такой, зимуя, сам крепнешь ядрышком. Были бы дрова, да ветряная рыба, да дичь мороженая, да мёд. За сахарной головой и соляными каменьями приходилось на Катаноше добираться в сельцо Зарытое, что у самой Старо-Русской дороги. Тамошняя кутырка-лабазница почитала его за охотника-одинца и всякий раз уговаривала жениться, перечисляя зарытовских невест. Одинец неловко отшучивался: «Идучи на войну, молись; идучи в море, молись вдвое; хочешь жениться, молись втрое». И, возвращаясь в свою затворницу, клал земные поклоны перед иконой, умоляя, чтоб не являлась к нему Улита, которую еженощь видел во сне.
Если бы не мирские видения, не страдал бы он одиночеством.
В первую зиму затворничанья вышел однажды из кельи и глазам не поверил: вместо окружавших новцо лесных великанов в белых рукавицах и шапках - необозримая сумеречная даль. Рухнула тишина. Даль полна гулом голосов, звоном оружия. Сам он стоит на высоком береговом холме среди великокняжеской обережи. Именно великокняжеской, поскольку рядом круглобородый милоликий Изяслав со своим воеводой Шварном, которых запомнил, сидя на посольском заборе в Чернигове. А далеко внизу на подтаявшем побуревшем насте сходятся две рати, и лучники, начиная дело, уже покрыли пространство между ними тучами стрел. Но вот хлынул дождь. Противоестественный зимний дождь! Божья кара, остужающая воинственный пыл. Изяслав оборачивается к Роду, глядит сквозь него на свежую воду поверх днепровского льда. Ещё немного - и дождь наполнит реку водой, отрежет путь к отступлению. А за Днепром - Киев. Князь морщит переносицу перед важным решением. Вспоминается его черниговское высказывание: «Не место идёт к голове, а голова к месту». Он делает Шварну знак не начинать битву, переправлять войско на ту сторону. И вот киевляне по щиколотку, по колено в воде бегут по льду, прикрывая спины щитами. Сторожевой полк яростно защищает их отступление. Родислав остался один на береговой крутизне. Нет князя, нет воеводы с их отроками. Последние стайки воинов бегут по Днепру, падают и уже не поднимаются. На их месте вспенивается вода, возникают полыньи - водяные могилы…
Род стряхнул страшное наваждение, вновь обозрел своё новцо и, превозмогая снег, углубился в лес проверять петли, ставленные на зайцев.
Во вторую весну затворничества, натянув долгари, пошёл к вершищу[368] осматривать морды, которые плёл всю зиму из ивовой лозы. И очутился не у Днепра, а совсем у другой, вовсе не знакомой реки с низкими берегами. На той стороне горело село, застилая полнеба дымом. А на этой большую лесную росчисть занимал свежесрубленный городок, полный воинами, а не горожанами. Особое многолюдье мельтешило у самой затейливой избы, не избы, а терема, видимо, жилища княжеского тиуна. Сюда вносили в глиняных куфах вино, дымящиеся туши жареных рыбин на длинных лотках. Тут не иначе творился могучий пир. Но Великий пост - ничего мясного. На широкое крыльцо вышли дети боярские с блуждающими взорами и чмурными речами, кравчий с золочёной ендовой, сам князь с доброй чарой. Да это же вновь киевский Изяслав, рядом - его воевода Шварн. Куда они так умильно глядят? Из просеки к речному парому движется бесконечная лента понукаемых полонянников. Не половцев, не булгар, а самых что ни на есть вятичей, кривичей. Свои пленили своих! Чему веселятся на широком крыльце?
Верши очнувшегося отшельника оказались пустыми. Плохо ловится рыба при весенней большой воде.
Через два года отшельничества на исходе лета деятельному затворнику предстояло облазить борти. С умением и любовью дуплил он ростовые деревья, выдалбливал бортевую «голову», прорубал паз, или должь, закладываемую дощечкой-должией, вырезал летки, сквозь которые проникали трудолюбивые гостьи, обживаясь и становясь хозяйками. Только что бортник от последнего дупла стал спускаться, натягивая опоясавшее его и древесный ствол вервие, как слух резанул истошный человеческий крик. Род сразу определил: крик исходил от ближайшего болота, самого неприметного в здешнем лесу: глазу открывается круглая травяная поляна, нежная мурава так и манит в освежающие объятья, а чуть ступил на неё - и попал в зыбель, ни деревца, ни кустка вокруг, чтобы утопающему ухватиться. Страшная смерть, когда глухонемая сила беспощадно всасывает тебя в пучину, а в беспомощных руках - только воздух!
Не доходя болота, он по шуршанью в чаще обнаружил подранка тетерева, но не потратил дорогого времени на него. Подбирая длинную крепкую валежину, рассудил, что чужой человек здесь гибнет, и не очень-то умелый охотник.
Вовремя достигнув болота, он застал уже только голову над водой и вскинутые над ней кисти рук. Голова кудлатая, с разинутым ртом, вытаращенными глазами, пальцы на руках скрюченные, как когти погибающей птицы. Когда удалось вставить в них валежину, Род принялся тянуть… Много тяжестей одолел он, уйдя в затвор: и упитанные соком сосновые хлысты приходилось издали волочь, и неохватные бревна, как зубочистки, складывать в венцы, а такой тяжести… уф!.. кажется, не упомнилось. Ведь с болотом приходилось мериться силами, болото вельми сильно!
Вот мокрый, осклизлый вытащенник лежит на надёжной почве. Осталось раздеть, растереть его…
- Кто ты, лесное чудище? - прошептал спасённый.
Род не так на лица был памятен, как на голоса. Где-то слышанный голос! Ишь напугал спасенца! Чудище, как есть чудище! Даже сетку от пчёл не снял в спешке, даже железные зацепы от моршней не отвязал, хотя ходить с ними не очень способно.
- Бортника не признал? - улыбнулся Род, сняв сетку, разувшись и раздеваясь.
Помог он раздеться и обладателю знакомого голоса. Тот смущённо отвечал на улыбку, бормоча:
- Кто в болоте утоп? Охотник. А с дерева убился? Бортник. А в поле мёртвый лежит? Княж воин…
Вскоре утопавший сидел на земле, переодетый в сухое. Его спаситель стоял над ним голый. Сидящий разгладил бороду, убрал беспорядок на голове и залюбовался стоящим.
- Молод, хорош, аки древний бог! А чего в лесу прячешься, Родислав Гюрятич?
Род так и обомлел:
- Откуда я тебе ведом? Хотя голос твой знаком…
- Голос мой ты в Суздале слышал на тризне по братцу Ивану. Я сын Гюргия Владимирича Ростислав.
- Старший сын государя Гюргия? - даже отступил Род. - Как оказался ты в здешних болотах?
- Судьбы откалывают коленца! - повеселев, вскочил князь. - Да ведь и тебе не пристало в костюме Адама лесных комаров кормить. Айда, поторопимся!
Подошли к подранку в кустах.
- Твой тетерев, княже?
- Мой. Из-за него едва не утоп. Стрелял с лодьи, почти промахнулся. Люди мои хотели достать. Решил - сам. И вот…
- Так добей его.
Князь подступился к птице и беспомощно оглянулся. Он безоружен!
Род ловко ухватил подранка за лапы, опустил вниз головой и встряхнул. Тетерев затих. Ростислав завистливо помотал головой:
- Истый лесовик!
Этот истый лесовик поспешил к себе в глубинную затворню одеться, Ростислав же отправился к днепровскому берегу кликнуть своих. Род принял гостей в прибрежной келье. Поделили за трапезой тетерева, полакомились диким мёдом. Питий, воспламеняющих кровь, у отшельника не нашлось. Отроки отошли к послеобеденному сну, испив прохладительного взвару из лесных ягод. Хозяин с князем, беседуя, дошли до основного жилища затворника.
- Надо ж такому статься! - тряс кудлатой головой Ростислав. - Влез в болото, что в морду: ни взад, ни вперёд. Кабы не твой пособ…
- Каким ветром тебя из Киева несёт? - полюбопытствовал Род.
- Лучше не спрашивай, - заметно смутился князь, - Вышла с батюшкой поперечна из-за удела. Убежал к Изяславу. Тот обласкал, дал волость. Да злые бояре оговорили меня, будто в его отсутствие подстрекал берендеев и самих киевлян, хотел овладеть столицею, будто, подобно отцу, ненавижу Мстиславов род. Изяслав поверил облогу, отобрал все дарения, отнял оружие и коней, заточил дружину, а самого с тремя отроками отправил в лодке к отцу под улюлюканье киевлян. Не дал правого суда, не выслушал оправданий. Позор, и только!
- Измена отцу - большой грех! - покачал головой отшельник.
Ростислав с хитрым прищуром глянул на него.
- Тебе, недавнему язычнику, исповедовать меня не пристало. - Тут же, устыдясь резких слов к своему спасителю, князь в смущении огляделся, как бы в поисках выхода. И увидел колодец с журавлём, - Дай воды испить.
Род поднял из-под земли плещущую бадью.
- Мёд, а не водица! - восхитился князь. - Для чего здесь, в безлюдье, вырыли колодец?
- Я вырыл для себя, - отвечал затворник.
- Сам? Один? - не поверил Ростислав. - А как определил, где рыть?
Род заметно просветлел от доброго воспоминания.
- Вышел до восхода солнца, приглядел место, где растёт ольха, там должна быть вода вкусная, лёг на землю, прижал бороду к земле и смотрел в сторону солнца, пока не узрел облачко, как бы исходящее из недр. Замерцало оно перед очами, аки тонкая роса. Пусть сухое было это место, я знал: вода неглубоко.
- Ишь ты, водознатец! - сердечно восхитился князь, входя в избу и садясь на лавку. - А что это на поставце за скляницы? - указал он на зелейные снадобья.
- Ты бы мне поведал, княже, что в мире делается, - переменил беседу Род. - Я ведь третий год в затворе. С тех пор как на моих глазах убили киевского схимника…
- Ах, ты про Игоря Ольговича, - вздохнул, нахмурившись, знатный гость. - Как водится, одно убийство кладёт начало тысячам убийств. Два Святослава - брат и племянник убиенного, а с ними два черниговских Давыдовича с моим братцем Глебом выступили против Изяслава как виновника злодейства…
- Он не виноват, - вставил Род.
- Доказывать-то недосуг, коли руки чешутся, - заметил князь. - Вот покоторовали вволю, гоняясь друг за дружкой, и сошлись решительно у Любеча. Шальной зимний дождь переполнил водою Днепр. Великий князь едва перевёл войско обратно через реку.
- Сторожевой полк полностью утоп, - вспомнил Род своё прошлогоднее видение.
- Да, утонули венгры, союзники Изяслава. А ты как знаешь? - вскинулся вдруг опешивший рассказчик. - Тебя там не было…
- А после что делалось? - не ответил Род.
- После, как водится, перемирились все, оставив в пепле села и города, - развёл руками князь. - Ольговичи с Давыдовичами удалились в свои вотчины. А Изяслав с братом, Смоленским князем, моим тёзкой, отправились воевать Суздальскую землю моего батюшки, единственного, кто не хотел мириться. И запылали города на Волге и Медведице от Углича до Ярославля. Весной Мстиславичи попировали в Скнятине и возвратились восвояси.
- Увели тьму тысяч пленников, - невольно досказал отшельник, - своих сородичей - славян.
- Семь тысяч увели. А ты откуда знаешь? - снова встрепенулся Ростислав.
Род не отвечал. Князь решительно поднялся.
- Поеду-ка домой. Тут неуютно у тебя, - изрёк он, трепетно поёживаясь. - Живёшь боярином, хотя без челяди. А может, челядинцы твои все под шапкой-невидимкой? Такое крепкое хозяйство в одиночку не поднять. Чего забрался в дрёмный лес? От кого хоронишься?
Затворник промолчал.
Они уже покинули избу.
- Спасибо, что от смерти спас, - сердечно сказал князь.
- Надолго ли! - чуть слышно вырвалось у Родислава.
Гость услышал.
- Что сие значит? - испуганно остановился он, - Андрей рассказывал про тебя, покойный братец Иван писывал. Первый - ненавистник твой, второй - любительный приятель. А сходились на одном: ты ведалец!
- Пойдём-ка без промешки, - резко взял гостя под руку отшельник, - Твои отроки давно проснулись, ждут.
Однако князь проворно вырвал локоть:
- Не прикасайся. От тебя исходит расслабляющий какой-то ток. Мне тяжко спрашивать о собственной судьбе. Однако желаю знать…
- Смири свои желанья, - терпеливо просил Род.
- На колени рухну! - бился в нетерпенье Ростислав.
Он в самом деле рухнул на колени.
Отшельник возложил руки на его чело.
- Опомнись, глупый человек, успокойся. Что наша судьба! На куфу горечи серебряная лжица сладких капель… Встань и живи, не думая о смерти.
- О, как тяжелы, как жёстки твои длани! - сжался, круто изменившись, Ростислав.
- Ужесточились руки от трудов, - смутился Род.
Князь медленно поднялся и молча пошёл к берегу.
Спускаясь в лодью, он замешкался, порывисто обнял спасителя и по-домашнему, по-родственному сообщил:
- А у невестушки Улиты прошлым летом родился сын. Гюргием назвали в честь деда. Слышно, снова на сносях.
Род отвёл мученический взор:
- Мне ведомо.
Лодья отчалила. Стоя в ней, князь не спускал глаз с берега, пока не исчез из виду.
Отшельник сгорбился, словно состарился, и медленно побрёл в свою лесную келью.
2
Однажды поутру Род понял, что крещенские морозы отошли: окно оттаяло. Сон, в ту ночь виденный, заставил торопиться. Умылся, разгребая стынущими руками льдинки в бадье. Подкрепился горячим взваром с калачом. Под тёплую шерстяную ряску надел праздничный зипун однорядный, безрукавный, лазоревый. Привычную палицу, лесную тел охранительницу, забыл прихватить.
Румяное зимнее солнышко ослепило, но не согрело, хотя наст под ногами не похрустывал, а позванивал. Вместо мороза ветер ударил с реки. Не сразу решишь: что лучше. Зимою Род не ходил к Днепру, на сей же раз не шёл, а скорее бежал, словно бы поспешал к урочному времени. Сам над собой подтрунивал, не убавляя шагу. Во сне княгинин каптан в большом санном поезде стремился к нему по Старо-Русской дороге. Оставив поезд у зарытовского моста, обшитый волчьими шкурами возок своротил на Днепр. Надо же такому привидеться!
Застыв на высоком берегу, отшельник снял тёплую скуфью, освежил запаренные неумеренной ходьбой кудри. Река была девственно чиста. Ночь скрыла под порошей все следы, утро же не порушило ночного покрова. Теперь пришла пора засмеяться вслух над своим сноверием: видел во сне, да наяву прозевал!
Ухо уловило звук боркунов. Вот они явственно клацают. Вот вырвался из-за белого лесного поворота густой парок, и тут же выскочила шестерня цугом, впряжённая в мохнатый каптан. Вспыхнуло от солнечного луча слюдяное окошко.
«То ли сон, то ли явь?» - вздрогнул Род.
А каптан уже замер внизу, глубоко под его ногами. Трудно всходят на крутой берег две женские фигуры под белыми понками, а за ними карабкаются всего-навсего двое охранышей. Смело отправилась в лесной путь хозяюшка каптана!
Вот все уже рядом с ним, и она подняла лицо. Господи, та ли это Улита! Хвостовая шапка девья. Из-под неё взглядывает не вопрошающая судьбу дева, а умудрённая жизнью жена.
- Здрав буди, Божий человек! - произносит она прежним Улитиным голосом.
Многие слова перебрал он, идучи к этой встрече, чтобы ответствовать влепоту. А тут язык к нёбу прилип, уста занемели, как у покойника. Он лишь наклонил голову и повёл гостей к летней прибрежной келье.
- Принял обет молчания, - достиг его слуха шёпот одного из охранышей.
Пока топили и обустраивались, он стоял, не входя в избу, как потерянный. К нему подошла Лиляна:
- Не ждала в таком месте, в таком обличье встретить тебя, Родислав Гюрятич.
- Зачем пожаловали в мой дром? - едва выговорил он.
Сенная девушка тяжело вздохнула.
- Настояла госпожа.
Он понял: Лиляна отговаривала её от такой поездки.
Тут же к ним подошла и сама Улита.
- Поди покорми людей, и пусть отдыхают, - велела она Лиляне. - Мне надо побыть с отшельником. - При этом она метнула лукавый взгляд в сторону хозяина избы. Ну совсем прежняя Улита! - Где ж подлинная твоя затворница, Божий человек? Мне деверь Ростислав сказывал: она спрятана в лесу.
Род кивнул. Стало быть, Ростислав, вернувшись, указал Улите дорогу к его тайному обиталищу.
- Буди милостив, проводи меня в главную свою келью, - настаивала княгиня. - Дозволь лицезреть, как спасаешься.
- Без постава[369] это будет, моя госпожа, - вмешалась Лиляна.
- Тебе сказано: покорми людей, - ожгла её взором Улита.
Они остались одни.
- Пойдём, Родинька, пойдём, - услышал он мягкий знакомый голос. - Очень долго я к тебе добиралась, да не напрасно же!
И они пошли.
Очень скоро княгиня оскользнулась на хрупком насте и провалилась. А берег уже исчез из виду. Род поднял её. Она так же горячо прижалась к нему, как давно в лесу, когда спасались от бродников.
- Не гораздо твой деверь сотворил, обнаруживая меня, - смущённо вымолвил Род.
- Он велел вызвать у тебя, сколько жить ему остаётся на белом свете, - тихо засмеялась Улита. - Ты почему-то этого ему не открыл. А мог? - Она лукаво и подозрительно глянула на него. - Ты кукушка?
Тут уж и сам отшельник усмехнулся неожиданному сравнению.
- Когда я этого ничевуху выволок из болота, всего па два лета земное бытие его продлил. Высшие силы не попустили, чтоб сократился срок, для него отмеренный. Вот через меня его и спасли. А ты, - подозрительно спросил он Улиту, - ты ему Божьей тайны не откроешь? Я ненароком проговорился. Бог скрывает от нас срок смерти.
- Не опасайся, - прижала женщина поддерживающую мужскую руку. - Поступлю не по-людски, а по-божески. Открою, что проживёт сто лет.
Вот они и вошли в избу.
- О! - воскликнула гостья, обозревая чистоту и порядок, а главное - медвежью шкуру во весь пол. - Где купил, кто подарил такого страшного зверя?
- Позапрошлой зимой, идучи по заячьему следу, наткнулся на берлогу. Вот и поднял такого стервеника[370] . Потерял надёжного пса.
Тем временем Улита сбросила шубу-одевальницу, разулась, откинула понку, обнаружив не женскую кику на голове, а девий кружковой венец золотный.
- Что же ты не освободишься от чёрного своего наряда, - обратилась она к отшельнику. - Давно ль принял иноческий образ? - Голос её при этих словах сорвался.
- Нет, не принял ещё, - вместе с нею разоблачался Род, - Сам по себе ушёл в затвор. Без благословения.
- Ох, - выдохнула Улита и просветлела. - Не сбылись мои опасения.
- Что тебя привело ко мне? - чужим голосом спросил он.
Улита снимала червчатый опашень, затем поддёвок под ним тонкого сукна, освободила и распустила уже не прежние пшеничные, а потемневшие волосы, осталась в сорочке из паволоки[371].
- Что ты творишь, княгиня? - ошеломлённо глядел на неё отшельник.
- Я не княгиня, - услышал он отчаянный ответ.- Я твоя Улита. - Быстро развязав у запястья рукав сорочки, она достала из него маленький ларец и подала Роду. В ларце оказался перстень с печатью его отца боярина Жилотуга, который он отдал шесть лет назад на храненье Овдотьице. - Покойная словно предвидела свою смерть, - последовало грустное объяснение, - Загодя передала мне, чтобы сберечь и тебе вернуть.
- Ты привезла его в своём платье, - разглядывал перстень обрадованный сын Гюряты.
Женщина облегчающе рассмеялась.
- Бабьи сорочки - те же мешки: рукава завяжи да что хошь положи, - Затем она расстегнула его безрукавый лазоревый зипун, дёрнула с одного плеча, - Ну!
И вот уже прижалась к нему, как в тот вечер в доме Кучки после трёхлетней разлуки перед пожаром.
- Улита! Ты что? Улита! - осторожно пытался он отвести крепкие, налитые здоровьем руки.
- Я… я… - от рыданий заходила ходуном её грудь на его груди. - Жисточка[372] моя! Я не смогла тебя забыть. Не смогла!
Род почувствовал, как его рубашка намокает от её слез. И, уже не сдерживаясь, в яви, не в сладком сне, сжал в крепких объятьях эту снова ставшую родной женщину.
- Я ведь тоже не смог, Улитушка! Никакой затвор мне не помогает.
Оторвав лицо от его груди, она смотрела счастливыми заплаканными глазами.
- Ну какой затвор? Глупый! Живёшь боярином. Дом - полная чаша. Медвежьи шкуры на полу. Разве гак отшельники живут? Нет, ещё силен в тебе язычник… Помнишь, как рядом спали на повети у волхва Букала? Знаешь, что предрёк мне на прощание Богомил? «Быть тебе женимой[373] Рода!»
Как они нечаянно, неосторожно опустились на медвежью шкуру? Род в горячке не заметил. Далее он помнил только её губы, её руки… Жарко проскользнуло в мыслях изречение из священной книги: «…станут одно тело и одна плоть». Это о повенчанных супругах. Он туг же позабыл, кто сам и кто она…
Сладостно устав, они лежали рядом.
- Тебя не колет шкура? - спросил он, желая ей помочь подняться.
- Нет, я не хочу так скоро, - воспротивилась Улита.
- Холодно тебе?
- Натоплено, как в бане.
Род, как бы опомнившись, присел и оглядел свою женимую. Мечталось ли, что обнажённая русалка, встреченная в лесу, вернётся спустя шесть лет дебелой женщиной в его объятья?
- Вот стали мы с тобой прелюбодеями, - сказал он сокрушённо.
- До сих пор себя казню, что не ушла с тобой в ту ночь, - потянула она Рода к себе. - Якимку-братца пожалела. А теперь он щап из щапов! В золоте, в каменьях самоцветных. Тошненько любоваться: княжий постельничий! Уж лучше бы охотничал в лесу, как ты.
- Ах, не казнись, - печально успокоил Род. - В ту ночь Вевея стерегла наш побег. Охраныши таились наготове. Нам было не уйти.
- Вевея, Родинька, мой тяжкий крест, - поморщилась Улита. - Добро, лазутничала по изволу батюшки, худо, что Андрею служит тем же.
- Сейчас Вевеи нет, - прижал скиталец к сердцу чудом возвращённую любовь. - Уйдём со мной. Никто нас не найдёт. Брось этот мир.
- Ты что? - тихонько отстранилась женщина, - А Гюргий маленький? А крошка Гранислава?
- Измыслим, как детей похитить, - уверенно пообещал недавний бродник, - Где они сейчас?
- Двухлетний Гюря, двухмесячная Граня сейчас в обозе, - вздохнула мать. - Их нянюшки блюдут. Я деток не возьму на тяжкий путь. Они в нашей любви не виноваты.
В затворнице царило долгое молчание. Род его нарушил первый:
- Моему сердцу ведомы все твои узы: ведь ты жена!
- Мне моё женство[374] опостылело, - откликнулась Улита.
- Муж тоже опостылел? - не сдержался Род. Улита не обиделась, почувствовав в вопросе ехидство ревности. Ответила спокойно:
- Андрей мне не был люб. Ты знаешь. Одного тебя любила и люблю.
- И я, - спешил признаться Род.
- Теперь, после посяга, убедилась, что ты одну меня любил, - погладила Улита его руку. - Не стала я твоей подружней. А вот любить тебя ничто не помешает.
- Как мужу поглядишь в глаза? - жалеючи, напомнил Род.
Улита неожиданно и резко рассмеялась.
- Я ежедень и еженощь гляжу ему в глаза с великим равнодушием. Он силой взял меня. Теперь привык. И женобесие[375] своё оказывает, не таясь. Как женской вещью[376] мучаюсь, так и глядит на челядинок, кого бы охребтать[377]. Набабила[378] ему двоих детей и стала не любавой, а княгиней. Да дети ни при чём. Им мать с отцом нужны, - Говорила она жёстко, тяжело.
Род поспешил в иное русло свернуть речи:
- Куда ты сейчас едешь? Не ко мне же поезд.
- Ехала к тебе. - Улита перевела дух. - А поезд едет в Вышгород. Гюргий выгнал Изяслава из столицы. Ведь перебежчик Ростислав донёс, что киевляне ждут суздальского Мономашича. Свёкор мой отважился на злую битву и не ошибся. Убийство Игоря, должно быть, разделило киевлян. У Гюргия пополнились союзники. Сев на великокняжеском столе, он роздал сыновьям уделы. Андрею выпал Вышгород.
- Что ж делать нам теперь с тобой? - невольно высказал свою заботу Род. - Опять расстаться? И навсегда?
Улита крепко обняла его:
- Пусть твоё сердце не болит. Найду возможность видеться. Доверься моей хитрости. Уж я тебя не потеряю больше.
- Станем грешить? Как вот сейчас? - упал голосом Род.
- Адам и Ева, будучи в раю, не выдержали, согрешили, - успокоила Улита, - А мы с тобой в аду.
- А коль родится у тебя женимочищ?[379] - предостерёг несчастный любодей.
- Пускай родится, - успокаивала ласками Улита, - Не желай жены, а желай сына.
Род содрогнулся от таких слов. Ведь это заповедь Букала! Припомнилось и страшное напутствие игумена Анании: «Путь твой не в монастырь, а в блуд». А иная заповедь Букала: «Береги одиночество»? Разве он его сберёг? Мысли покаянные были укрощены Улитой, её губами, её ласками…
Повечер в синий час сумерек, хотя и медленных по-зимнему, да ранних, бывший отшельник провожал княгиню к приднепровской келье.
- Андрей ожидает тебя в Вышгороде? - допытывался он.
- Нет, в Вышгороде он меня не ждёт, - отозвалась Улита. - Андрей воюет на Волынии. Как сказывает вестоноша, дело там затеялось жаркое. Боюсь я за Андрея, - вырвалось признанье у княгини. - Боюсь осиротить детей, - тут же добавила она.
Род промолчал.
- Держи путь в Киев, Родинька, - высказала Улита просьбу, засматривая ему в лицо. - Как только изыщу возможность свидеться, сейчас же накажу Лиляне оповестить тебя.
- Пускай придёт на Пасынчу беседу за церковью святого Илии в дом Кондувдея, - подсказал Род.
Они расстались как чужие, княгиня и отшельник. Лиляна, хмурая, не говорила с ним и, кажется, ни словом не простилась, кивнула только.
Заклацали ножом по сердцу боркуны. Днепр опустел. Род возвратился в сиротливую затворницу, чтобы до мелочей все вспоминать и думать-передумывать окаменяющие совесть думы…
3
Дом Кондувдея разорён. Окна без оконниц, дверные проёмы без дверей. В ложне, где когда-то отдыхал Род, стоялая утварь[380] переломана, на полу - золотная парча, камчатная ткань - кусками, как дешёвое рванье. Глядя на такой разор, ошеломлённый пришлец внезапно обеспокоился об оставленной Катаноше: не свели б со двора!
Выскочив из обесчещенных хором, сразу увидел кобылицу, привязанную к столбу под крыльцом. Возле неё уже стоял молодой торчин, любовно поводя рукой по холке.
- Эй! - грозно крикнул Род. - Это моя кобыла!
- Вестимо, твоя, - во все лицо осклабился торчин. - Вот и сторожу. Не узнаёшь меня, друг Чекмана?
Род узнал того самого привратника, что не хотел его впускать, а потом посылал челядинца за княжичем.
- Тогда пришёл бедный, теперь приехал богач! - цокнул языком торчин.
Дорогая сряда на Катаноше и её всаднике воплощала в себе все добро, что сотворил и скопил отшельник за три года затворничества, а по выходе в мир продал.
- Где Кондувдей? Где Чекман? - спустился он с крыльца к бывшему привратнику.
- Далеко-о! В Поросье, - сощурил торчин грустные глаза. - Твой князь сел в Киеве. Мой князь бежал в Торческ. А я вот исподтишка сторожу: кто куда что уносит. Может, потом маленько вернуть удастся… А Катаношу сразу узнал и тебя узнал…
- Друг, - озабоченно обратился к нему Родислав по-торкски, - сюда придёт женщина, станет спрашивать меня. Род моё имя, Ро-о-од!
- Знаю. Так Чекман называл тебя, - закивал торчин.
- Ты ей скажи, где меня найти.
- Где?
- Где? - переспросил Род. - Теперь сам не знаю где.
Бывший привратник, подойдя вплотную и осмотрясь, в свою очередь заговорил по-торкски:
- Тошман, подавальщик еды в твоей ложне, слышал, как ты Чекману поведывал, что едва не попал в поруб, ища изменников Изяслава, верно?
- Верно, - подтвердил Род. - Ну и память у тебя! Как твоё имя, друже? - спросил он по-русски.
- Асуп, - назвался торчин, - А к тем твоим друзьям спеши нынче смело. Они опять в Киеве в чести и богатстве. Подворье Святослава Всеволодича как раз возле Заяцкого становища на Бабином торгу.
- На Бабином торгу? - дрогнул Род, вспомнив, как толпа волокла убитого Игоря Ольговича через Бабин торг. - Так скажи женщине, пусть меня найдёт… теперь знаешь где.
- Знаю, - тяжело вздохнул торчин. - Ай, Святослав-то Всеволодич, - произнёс он уже по-русски, - ранешний друг моих господ, теперь - враг!
- Проклятое время, да, Асуп? - дотронулся до его плеча Род. - Оружие у тебя есть, деньги есть? - Тайный сторож замотал головой. - На охотничий нож, на золотую гривну. Прощай, Асуп! - Крепкое объятье. - Даст Бог - в лучшее время свидимся.
Торчин услужливо поддержал ему стремя. Всадник чуть свистнул, и Катаноша выскочила в разваленные ворота, поскакала с Пасынчей беседы к церкви святого Илии за ручей.
Не доезжая Бабиного торга, Род увидал заведение с огромной кистью конского волоса и большой вывеской «Постригальня».
Доверив Катаношу бесплатной, неохраняемой коновязи, он сидел под постризалом[381] как на иглах. Весь Киев, обновлённый сменою власти, так и кишел его земляками. Не степенными, как во Владимире, Суздале, а раскованными лёгкой победой. У моста пятеро ратных суздальцев захватили ломовую телегу, велев возатаю: «Вези! Платим сохранением живота».
Постригальник уже спрыскивал голову Рода колонской водицей[382], когда парубок его, внося ведро кипятку, объявил:
- Игренюю увели!
Постриженный выскочил в чем сидел, забыв, что на дворе месяц лютый.
- Постригальное![383] Мои куны! - завопил мастер, размахивая постризалом.
На противоположном конце полупустой площади угонщик лупил пятками в бока не поспешающую под ним Катаношу. Резкий свист пронзил площадь. Кобылица повела мордой и, вскинувшись на дыбы, сбросил незадачливого угонщика. Лёгкой плясовой иноходью она возвратилась к Роду, поигрывая червонным станом.
Суздальцы, владимирцы, Когда ваши жены именинницы?.. -услышал он позади дурной голос беззастенчивого певца, коему медведь трижды на ухо наступил. Резко обернулся и не поверил глазам: собственной персоной восседает на коне Нечай Вашковец. Ох и стиснули же друг друга!
- Гляжу: ты - не ты… А ведь со спины узнал! - Не мог унять возбуждения бывший долгощельский кузнец.
- Погоди, с постригальником расквитаюсь, - высвободился Род и подал мастеру куньи мордки[384].
- Айда скорее в нашу берлогу! - торопил Нечай. - То-то Первуха Шестопёр вытаращит на тебя зенки!
- Стой! - обеспокоился Род. - А угонщик? Не зашибся ли до смерти? Когда в Диком Поле на хурултае Катаноша сбросила Ченегрепу…
- Э, - не дал досказать Нечай, - Ногой - в стремя, да зашиб темя! Не беспокойся. Угонщик твой вскочил ванькой-встанькой, сыкнулся в ближайший заулок и был таков…
Вскоре они сидели втроём в тёплой холостяцкой истобке. С Нечаем Род вспоминал Долгощелье и Чернигов, с Первухой - Новгород-Северский и стан под Карачевом. Он поведал друзьям свои дальнейшие злоключения вплоть до последних дней. А фляга зелена вина становилась все легче, головы все тяжельче.
- Эх, отвяжись, худая жисть, привяжись хорошая! - залихватски заклинал судьбу Вашковец.
- На три года ушёл ты из человечьего мира в звериный, - откупорил новую флягу Шестопёр, - а тут за это время тридцать три новости!
- Кто сейчас против кого и кто с кем, объясните потонку, - просил разомлевший гость тароватых хозяев.
- Значит, так, - загибал пальцы Первуха. - По одну сторону Гюргий с сыновьями, Святослав Ольгович, наш Всеволодич и половцы. По другую… по другую - Изяслав с родичами, оба Давыдовича, а также приведённые на Русь ляхи, угры, чехи…
- Постой, - поднял палец Род. - Давыдовичи сызнова против Гюргия?
- И Ольговичи и Давыдовичи вынужденно целовали крест Изяславу, когда Гюргий третьешным летом не привёл рати на юг, - терпеливо объяснял Шестопёр, подливая себе из фляги. - А что им оставалось, скажи на милость? Гюргий их тогда предал. А теперь… Эх, ничего бы и не случилось, не ходи великий князь со своим смоленским братцем войною на север да не выгони перемётчика Ростислава с позором из Киева. Не стерпел суздалец разорения своих городов и унижения сына, сказал: «Либо стыд с себя сложу, либо голову!» Во как Изяслав Киевский раззадорил своего стрыя! Ольгович и Всеволодич снова примкнули к Гюргию. А Давыдовичи - ну никак! «Не можем, - говорят, - больше играть душой!» Ведь они не единожды целовали крест Изяславу и изменяли…
- Не борись с новой флягой, - остановил Первуху Нечай.
Тот ухом не повёл да ещё поклокотал вином в горле.
- От верных людей слыхивал, - продолжал Первуха, - когда сходились рати под Переславлем, мудрецы великокняжеские остерегали: «Не переходи реку, князь! Гюргий сам уйдёт». А льстецы подзадоривали: «Ударь, князь! Бог тебе отдаёт врага». Вестимо, храбрый поступил опрометчиво…
- Благодаря его храбрости мы и в Киеве, - попытался завладеть разговором Вашковец, видя, что Шестопёру по второй фляге уже невмочь продолжать беседу.
- Истинно! - обхватил тот плечи Рода. - Мы теперь не в каком-нибудь там Дебрянске или - как его ещё? - Дуплянске. Мы в самой что ни на есть матери городов - в столице! Здесь не только тридцать три происшествия, но и тридцать три у… - Первуха икнул, - у… удовольствия. Я тебя развлеку! В девий дом[385] сведу. Там и плясота, и пипелование, и прочие глумы. Будем покупать вислёнам орехи - девичьи потехи. Было бы серебро! Как говорят: идёшь по корову, возьми гривн. А какие девчуги!
- Сам-то я не девчур[386], - отговаривался бывший затворник.
- Коли не девчур, пойдём в иной дом, - не унимался Шестопёр. - Видел девуль[387], намазанных белилами, не имеющих бород, женообразных, золотые кудри расчёсывающих с отроковицами?
- Сварог знает, что ты мелешь! - ужаснулся Род и тут же смутился, что помянул Сварога.
- Не Сварог, а Бог! Сварог - не Бог! - уронил уже Первуха голову на стол.
Род поднял чмурного как младенца и уложил на лавку.
- Однако могуч ты, друже! - удивился Нечай.
- Что с ним за напасть? - перевёл дух Родислав. - Не знавал его таким.
- Не в себе он. Есть на то причина, - мрачно откликнулся долгощельский кузнец.
Родислав робел любопытствовать, опасаясь вторгаться в чужие тайны. Нечай, убирая со стола, сам начал объяснять издали:
- Изяслав не смирился с потерей Киева. Позвал черных клобуков, пригласил ляхов, угров и чехов. Сейчас Гюргий с братом Вячеславом и сыновьями да ещё с известными тебе половцами сошлись с супротивниками под Луцком. Давыдовичи с Ольговичем исхитрились остаться в своих уделах, а наш Всеволодич - в Киеве. Давыдовичи не присоединили меча к Изяславу, Ольгович и Всеволодич не примкнули копья к Гюргию. Ждут! А тем часом жаждут получать из надёжных рук своевременные вести с Волыни. Наш Всеволодич хочет без промешки знать, куда клонит рок. Изяслав одолеет - беги из Киева. Гюргий возвратится на щите - встречай гоголем. Пролагатаи шлются в кровавое пекло один за другим. Не все потом оказываются дома. Нынешним утром прибыл Первуха. Слава Богу, цел-невредим. Повидал столько крови - вином не залить!
Род вспомнил, как с Иваном Берладником заливал в корчме вином кровь христианскую, пролитую кметями воеводы Внезда в Карачеве, и низко опустил голову.
- Сейчас Гюргиева сила осаждает Луцк, - повторил Нечай. - Обороной ведает брат бывшего великого князя Владимир.
- Тот, что оставался в Киеве, когда убивали схимника? - спросил Род.
- Тот самый. А Изяслав с иноземцами поспешает на выручку. Ух, будет мясорубка! - Нечай зажмурил глаза.
- Расстанутся миром, - объявил Род с непонятной для друга уверенностью.
- Страсти накалены докрасна, - поспешил возразить Вашковец. - Первуха видел, как обезображивали угры тамошние русские села. Такого не пережить без отмщения. Ох, до чего же люд устал от властителей! Сами-то они как не устают от своих безумств?
Род горько усмехнулся:
- В этом для них вся жизнь.
Помолчав, Вашковец спросил:
- Куда мыслишь деться? Назад в лес?
Родислав отвёл взор:
- Поживу тут немного, Походим с тобой по Киеву.
- С Первухой походите, - уточнил Нечай. - Трезвый он постыдливее. А я завтра ему взамен поскачу под Луцк.
- Ты? - воскликнул Род.
- Моя очередь, - пожал плечами Нечай.
- А если… Глянь-ка на меня, друже, покажи свои стальные очи, - попросил Род.
- Ты что? Ты что? Ну и ручищи! - попытался Вашковец выпростать чело из рук друга.
- Не рок головы ищет, сама голова в рок идёт, - загадочно произнёс названый сын Букала, отпуская наконец кузнеца.
- Чтой-то мне не по себе, - пробормотал Нечай. И тут же встрепенулся, видя, как Родислав подошёл к умывальному тазу и тщательно вымыл руки. Хозяин даже обиделся. - У меня темя чистое! - Поскольку гость ничего явно не отвечал, он обеспокоился: - Что ты там бормочешь?
Род его огорошил:
- Не езди, нипочём не езди под Луцк!
- Тоже мне пугатель! - рассердился Вашковец. - Могу ли ослушаться Святослава Всеволодича? Векша тогда моему животу цена.
- Вот князь в векшу и ценит твой живот, - гневно процедил Род. - Все мужи долгощельские погибли в княжеской людобойне. Ты будешь последним…
- Не каркай! - перебил Вашковец. И вдруг у него вырвалось: - А-а! - Вскочив, он отступил к двери. - Ты ведь ведалец! Помню, как оживлял мёртвого посольника в степи.
Род молча налил себе из фляги и залпом выпил.
- Нет, не могу не ехать, - простонал Нечай. - Легче умереть!
- Едем вместе, - твёрдо сказал друг.
Нечай замахал руками:
- Сиди уж!
Род горячо обнял его.
4
- Ветерок дружит нам! - крикнул Вашковец, когда миновали последнюю переспу под Киевом и вырвались на простор.
А простор был двухцветный: вверху - синё, а внизу - бело. Наезженная дорога стрелой упиралась в окоём, соединяющий белое с синим. Игреняя кобылица шла почти вровень с буланым жеребцом. Род подумал, что при такой скачке встречный ветер был бы невыносим.
В течение дня миновали несколько деревень, курившихся в стороне от большого шляха. Заночевали в одной из них на переполненном заезжими становище. А ранним утром в серебристом тумане обрисовались мощные дубовые башни на земляном валу. Род, залюбовавшись, придержал Катаношу.
- Что за град?
- Лепый? - остановился и Нечай. - Это Вышгород!
Дав спутнику наглядеться вдоволь, он поторопил:
- Наше место не здесь, а под Луцком.
Род тем временем достал с груди кожаную кису, извлёк оттуда клок бересты с писалом и, пристроив писчий снаряд на щите, начал выводить слова.
- Что ты творишь? - удивился Вашковец.
- Окажи милость, друг, - умоляюще обратился к нему неурочный писальник. - Подари мне час, заскочи в Вышгород, передай эту епистолию. Вот так важно! - Он провёл ребром ладони по горлу. - Не теряй времени. Я во-он в той деревеньке обожду. Видишь колокольню?
- В чьи же руки грамотку отдать? - спрятал бересту на груди Нечай.
- В княжеских хоромах спросишь сенную девушку княгинину именем Лиляна. Ей, только ей в руки от дай.
- Поня-а-а-тно! - хитро подмигнул кузнец.
Не успел влюблённый опровергнуть его догадку, а посланца уж и след простыл.
В церкви колокол надтреснуто звонил к обедне. В малой деревеньке приход бедный. Больше баб, чем мужиков, тянулось к паперти. Род пристроил Катаношу в уголке ограды, подвязал ей овсяную торбу и вошёл, стирая с рук мороз.
В притворе служка раздувал кадило. Запах ладана и воска, свет лампад сразу успокоили мятущуюся душу Рода. Нынче же его послание из рук Лиляны перейдёт в руки Улиты, потом сгорит. Он обозначил на бересте Заяцкое становище, где поселится, вернувшись из-под Луцка. А случится это скоро. И, даст Бог, свершится чудо: они свидятся.
Псаломщик на правом клиросе читал часы. У левого стояла в шерстяном платке, как гусеница в коконе, мужлатка[388] и истово крестилась. Род купил свечу за векшу и поставил у большой иконы Богоматери, заграждающей от взоров левый клирос. Затем стал рядом с женщиной.
- Жаждешь исповеди? - искоса взглянула на него мужлатка. - Наш поп Лихач зело суров, поробче. Коли грех велик, не сразу разрешает.
- Какой поп Лихач? - не понял Род, уйдя в собственные мысли.
- Отец Троадий, грек, - пояснила исповедница. - Поп Лихач по прозвищу. Он сейчас на крылосе и совершает исповедь. Сослужащий ему русский батя Леванид намного милосерднее. Он завтра будет отпускать грехи.
- Ты, стало быть, не слишком нагрешила, что пришла к отцу Троадию? - не удержал улыбки Род.
Женщина мотнула головой.
- Я с соседкой Анницей вошла в немирье. Потаскались за волосы, вот и каемся.
С клироса сошла девчища[389] с блаженными глазами из-под темной понки и басом прошептала на ухо мужлатке:
- Отпустил!
Род остался у амвона в одиночестве. Исподволь у самого возникла тяга к покаянию. Причащался, помнится, давненько, ещё в Новгороде-Северском, в последний раз. Последний, и, пожалуй что, единственный, с тех пор, как был крещён. «Уж коли стал христианином, надо жить по-христиански», - рассуждал он, ожидаючи мужлатку. Вспомнились слова игумена Анании, что не избылся в нем ещё язычник. Как зорко напророчил старец! Легкомысленное самообреченье Рода на затвор позорно завершилось блудом…
Вот женщина спустилась, осчастливленная, с клироса. Молодой грешник трепетно поднялся по ступенькам.
Маленький тщедушный грек в серебряной епитрахили[390], не прерывая, выслушал стыдливую и сбивчивую повесть о грехопадении. При воцарившемся молчании Род вспомнил, как Огур Огарыш жаловался, что не нашёл душевного успокоения у грека. На сей раз грешник и не ждал успокоения. Но то, что он услышал, повергло в жар его лицо.
- Кони женонеистовые! - гневно прошептал отец Троадий, - Жён друзей своих хребтаете! - Поскольку Род не отвечал, исповедатель уже вслух приговорил: - Запрещаю! На год отрешаю от приобщенья святых тайн!
Так и не покрытый спасающей епитрахилью перед отпустительной молитвой, Род покинул клирос, быстро пошёл из храма, не желая видеть ничьих взглядов. Спустившись с паперти, долго не надевал шапку, пока голову не прихватил мороз.
У Катаноши пусто было в торбе. Подсыпал ей из тороков овса. Ласково стал снимать иней с шеи кобылицы. И не почувствовал ни раздраженья, ни даже крохотной обиды, а ведь с плеча отсек ему пути к прощенью поп Лихач. Род даже радовался этому. С преступной сладостью он представлял, как Вашковец отдаст берестяную епистолию Лиляне, как тут же попадёт она в руки Улиты, а та уж не смирится с тем, что «жисточка» её проедет мимо не увиденный, не приголубленный. Он весь сосредоточился в эту минуту, чтоб душой проникнуть сквозь окрепы города, узкие улочки, стены дворца в княгинину одрину, где светлокудрая зеленоглазая русалка с упоением читает его грамотку, и розовые губки домиком вожделенно шепчут его имя, и фарфоровые блюдца щёк невидимый художник окрашивает заревою краской. Но ведалец, душевным взором побеждавший расстояния, на этот раз не лицезрел искомой цели ни в княгининой одрине, ни во дворце. Он не увидал Улиты, не узнал, что именно в сей миг с нею творится в этом недоступном Вышгороде. Как будто бы её здесь не было. Или, что вернее, утерял он свой волшебный дар.
Его плеча коснулась лёгкая рука.
- Не сокрушайся, грешный человек!
Возле него - вот уж кого не ожидал! - стоял отец Троадий. Из подбитой мехом сиреневой скуфьи струились смоляные волосы. Стёганая ряса подпоясана волосяным поясом.
- Ты, видно, не здешний. А тут меня прозвали поп Лихач. Ты на мою лихость не взроптал, ушёл без оправданий. Велик твой грех, и велико раскаяние. Загрызла меня совесть, не даёт начинать службу. Ведь все мы грешники, оскудоумившие, ослабившие свою волю земные твари. Пойдём! Властью, мне Богом данною, отпущу твой грех.
Род удивлённо глядел с высоты своего роста на маленького грека, вливавшего в него тепло. Душа отогревалась.
Ещё не ведая, как поступить, он в белом далёке узрел Нечая, скачущего во весь опор.
- Нет, отче, - обернулся Род к отцу Троадию, - Ты по поставу поступил. Я ж поспешил не по достою под твою епитрахиль. Нет во мне сил не повторять того, в чем каюсь. Разъедини-ка два магнетных камня, присвой один из них, как князь любовь мою присвоил, а камни, чуть окажутся вблизи, опять друг к другу тянутся. Не зря в премудрой книге сказано: в магнетном камени сила магнетова! Грех ли двум магнетам спариваться, не принадлежа друг другу?
- Грех! - отрезал поп Лихач, - Она с другим повенчана, а ты - прелюбодей! Зря грызла меня совесть.
- Помози Бог, отче, за теплоту твою! - всей душой поблагодарил Род, взнуздывая Катаношу.
Из-под насупленных густых бровей отец Троадий проследил, как на большой дороге сошлись два вершника и, переговорившись, унеслись на запад.
- Возьми свою цыдулку, - огорчил Нечай, когда они сошлись, - некому передавать. Мужниным распоряжением княгиня с чадами и домочадцами как приехала из Суздальской земли, так и увезена в Остерский Городец подальше от возможных бед.
Род взял назад берестяную епистолию, извлёк трут, высек огонь… И покатилось пламя золотым кольцом по белой скатерти…
- Вестимо, Городец - опора Гюргия на юге, - продолжал Нечай, глядя в заснеженную даль. - В Городце твоей сенной девушке покойнее, хоть и без милого дружка.
- Какой там сенной девушке! - невольно вырвалось у Родислава. - Помнишь долгощельский мой рассказ про москворецкую боярышню Улиту? Теперь она жена Владимирского князя.
- Так вот кто твоя дружница![391] - нахмурился Нечай. - Ты мне все своё житье в разлуке рассказал. Об этом - ни гугу!
- Первухи постеснялся, - отвечал Род. - При случае поведаю потонку. А сейчас - к Луцку!
И комони[392] взвихрили белый прах…
Поприще спустя кузнец почти вплотную поравнялся с другом, крикнул в ухо:
- Не тужи по бабе, Бог девку даст!
Больше не было речей. Только скок. Когда Нечай стал сдерживать буланого, Род взял с него пример, сочтя, что всадник не желает запалить вспотевшее животное. Оказалось, причина замедления не только в этом.
- Опять ошуюю какой-то город, - глянул Род налево.
- Не просто город, - оповестил Нечай, - а само Дубно. Здесь находится сейчас Ростислав Гюргич, твой вытащенник из болота.
Спустя немного времени Нечай с суздальским другом прошли через пчелиную суету челяди в столовую палату княжеского терема, согретую двумя печами. Вдоль стен столы, обсаженные избранными, всем своим разрушенным убранством говорили, что пир близится к концу. Во главе пирующих сидел Ростислав Гюргич, размахивая молодым бараньим окороком, ужаренным до солнечного блеска.
- Кому ж, кроме меня, наследовать по отцу стол киевский? - орал он в широчайшее лицо жирного половца.
- Ух-тух-тух-тух, - важно сказал степной вельможа своему соседу-соплеменнику.
- Что изрекает сей кутырь? - полюбопытствовал Нечай.
- Он говорит, - перевёл Род, - что в трезвом виде Ростислав Гюргич скромный князь, а как напьётся, так бахвал бахвалом.
Все пространство меж столами посреди палаты занимали менее значительные гости. Они толпились, стоя, и, как зрители в весёлом скоморошьем балагане, наблюдали за пирующими. Им то и дело подносили чары и куски с обильного стола.
- Однако ты изрядно знаешь наш язык, - услышал Род гортанный голос за своим плечом.
Позади потел одетый половец, не снявший даже тёплого треуха.
- Я кое-чему выучился, будучи у вас в плену, - ответил бывший яшник. - Я был табунщиком у хана Тугоркана.
- Тугоркана давно нет, - прицокнул по-кыпчакски половец, - и сын его Итларь погиб у вас в Руси. Я их обоих знал чуть-чуть.
- Итларь был моим другом, - сказал Род. - Погиб он на моих глазах. А вас сюда привёл великий воин Алтунопа, не иначе?
- Алтунопа умер позапрошлым летом, - вздохнул половец. - Привёл нас воевода Жирослав, вон тот. - Он указал на кутыря, что рядом с Ростиславом.
- Какой же это Жирослав? - спросил Нечай. - Это Жирокутуй какой-нибудь.
- Его зовут Арсланапа, - пропустил мимо ушей насмешку половец. - В нашей Шарукани сейчас все киевское очень-очень ценят, даже имена. Вот он и требует, чтоб его звали Жирославом.
- А ты, случайно, Кзу, оружничего ханича Итларя, не знавал? - с надеждой спросил Род.
Но не пришлось узнать ответа.
- За-тво-о-ор-ник! Ро-од! Глазам не верю! Поди сюда, голубчик! - вопил пьяный Ростислав, узрев в толпе лесного своего спасителя и простирая руки.
Род оказался между ним и Жирославом. Ему уже совали в левую руку белужину, а в правую - большой фиал, кровавый от вина. Хотя - благодарение судьбе! - испить его до дна не привелось.
Толпа среди палаты расступилась. С порога шагнул кряжистый, большеголовый человек и, вперив в Ростислава узкие глаза, не крикнул, а скорее выдохнул в повиснувшей внезапно тишине:
- Пируеш-шь?
- Андрей? - трезвея, подскочил смущённый Ростислав, - Ты как? Откуда?
Сильная рука схватила Рода за плечо.
- А ну-ка ходу! Тут жарчает! - шепнул Нечай.
На улице он объяснил все, что узнал буквально в те мгновения, когда нежданный гость входил в палату.
Оказывается, Арсланапа из-за случайного ночного пополоха бросил со своими половцами в местечке Муравице князя Андрея на произвол судьбы. По-кыпчакски рассудил, что брошенный помчится вслед за ним. Но Андрей недрогнувшей рукой сдержал дружину от позора. Знай об этом Изяслав с уграми, чехами и ляхами, теперь бы от Андреевой дружины остались только кровь да кости. Враг был недалеко. Слава Богу, обошлось. Нынче повечер Андрей привёл дружину в Дубно. И, конечно, зол как черт.
- Сейчас пойдёт разборка между братьями, - подкашлянул Нечай, - Этому Жирокунтую-Жирославу достанется изрядно на орехи. Андрей, сказывают, нравом больно крут. А наше дело сыскать хату потеплее. Ты - на голбец, я - на полати. И хоть во сне поживём мирно, без князей, без половцев, без крови…
5
- Лутчане ждали нас! - зло заметил Ростислав, задирая голову на высоту дубовых стен и башен Луцка.
Желтели новые бревна в темных подновлённых стенах, светлыми глазницами всматривались в осаждавших бойницы, свежепрорубленные в придачу к прежним.
- Зря у затворённого кремля стоим, - сердился Арсланапа. - Город нам не по зубам, надо кушать села.
Род с Нечаем неподалёку сидели в сёдлах, слышали весь разговор. Ростислав их тоже видел и махнул рукой лесному своему спасителю:
- Стань-ка около меня, затворник! - Род и Нечай приблизились. Княжья свита покосилась на чужих. Ростислав Гюргич спросил Рода: - Скажи-ка, ведалец, возьмём Луцк?
Пришлось закрыть глаза, вслушаться в себя и, не кривя душой, ответить:
- Не возьмёте.
Княжья свита неприязненно насупилась.
- Сулил сайгак промах, да охотник не верил, - съязвил надменно Арсланапа.
Ростислав Гюргич отвернулся от Рода.
- Поможье пожаловало! - обрадовался он, завидев скопище ратников на ледяном панцире Стыря.
Река Стырь, подступая под самые стены Луцка, заменяла с этой стороны гроблю[393], но, покрытая льдом, не была преградой для нападавших.
Род знал, сыновья Гюргия ждали отца, который вот-вот должен был подойти с Пересопницы, укреплённый дружиной старшего брата своего Вячеслава. Радость сына была понятна.
- Эгей, княже! Глянь, что творят лутчане! - закричал один из дружинников.
Все взоры вновь устремились к городу. Осаждённые в самом деле не ведали, что творили. Ворота медленно растворялись. Из крепости тесным строем выходили пешие лучники. Выстроившись у моста через Стырь, они осыпали стрелами дружину князя Андрея, ставшую почти на расстоянии дострела против ворот.
- Эх, сейчас бы враз вдарить, а, Жирослав? - обратился Ростислав Гюргич к половецкому воеводе и беспомощно сжал кулак. - Пока сговоримся, они назад уползут, затворят ворота.
- От Гюргия Владимирича к нам вестоноша скачет, - оповестил самый глазастый дружинник.
- А я к Андрею человека пошлю, - с готовностью предложил Арсланапа-Жирослав и закричал в гущу своей обережи, стоявшей в стороне: - Кза-а!
Род радостно впился глазами в Кзу, и бывший оруженосец Итларя удивлённо воззрился на него.
- Чего на чужака глаза пялишь? - набросился на подъехавшего Арсланапа. - Слушай меня!
Получив указания, Кза умчался в сторону Андреевой рати. Суздальцы с половцами невольно последовали глазами за ним и вдруг узрели ещё одного всадника. Сбросив кольчужный чехол, сверкая красной броней, прикрывшись от стрел щитом, он в одиночку бросился на стоявших у моста пеших лучников.
- Кто это? - закричал Ростислав.
- Это твой брат Андрей, - ответил Арсланапа. - Знаю я его кобылицу, вороную в каракулах[394].
Было видно, как несколько всадников устремились за безрассудным смельчаком, но под тучею стрел сдержали свой отчаянный порыв.
- Куда его понесло? - сокрушался Ростислав. - Он же не распустил хоругви, не призвал нас к сражению по воинскому обряду. Кобыла под ним взбеленилась, что ли?
Нет, не кобылица стала причиной необъяснимого поступка Андрея. Вот он уже схватился с первыми лучниками, орудует копьём, как гребец единственным веслом на лодке-однодеревке.
- Эх, не величав Андрей на ратный чин, - продолжал ругать брата Ростислав, - Ищет похвалы от одного Бога!
Кто-то из дружины предложил ударить хоть малой силой в помощь Андрею. Ему возразили: хоругвь не была развёрнута, Андрей не предполагал начинать сражения. Опасно сбить ряды, а возможно, и попасть на приманку осаждённых, замысливших явный полно х с этой пешей вылазкой.
Род, приставив ладонь козырьком к глазам, видел, как лучники окружили Андрея. Он, конный, возвышался над ними, разил копьём, да безнадёжна была его храбрость. «Боюсь я за Андрея, - услышал Род силком поселившееся в его памяти признание Улиты. - Боюсь осиротить детей…»
- Одолжи, друже, булаву, - обратился чужак к ближнему дружиннику.
Катаноша, взбивая копытами снежный хвост, вихрем понеслась к мосту. Добро, наст был крепок, бег лёгок, ноги не проваливались.
- Охрабри меня Бог! - услышал Род за своей спиной.
- Нечай, вернись! - крикнул он, обернувшись. Долгощельский кузнец и не думал слушаться, Род грозно повелел: - Прикройся щитом!
Оба были уже на расстоянии дострела от моста, и мучники их приметили. Катаноша пропустила буланого жеребца на полкорпуса вперёд, и Вашковец первым врезался в окруживших Андрея кметей.
Род заметил, что пешими управлял один вершник. И тёмном плаще поверх голубой брони он возвышался почти у самых ворот, выкрикивая в говорную трубу краткие приказы на чужом языке. Вскоре удалось разобрать, что и драчливые пехотинцы изрыгают проклятия не по-нашенски. Значит, это наёмники, присланные бывшим великим князем Изяславом и поможье брату Владимиру, - чехи, ляхи, угры, шведы, короче, немцы. Этот немец, орущий в говорную трубу, явно не чех, не лях, скорее всего, варяг. Однако Род в Новгороде Великом выучил толику слов по-варяжски. Нет, вершник не варяг…
Булава работала, аки молот, в руках умелого кузнеца. Нападавшие падали, оглушённые. Копья, стремившиеся снять всадника, как бы по волшебству направлялись мимо. Это скоро было замечено и внесло смятение в ряды нападавших. Вершник у ворот отнял от безусого рта говорную трубу и расширенными злыми очами глядел на странного всадника. Пращники с заборол прицельно метали камни, но попадали не в заговорённого воина на игреней кобыле, а в своих пеших. Потому скоро прекратился каменный дождь. А Род, пробившись к вершнику, опустил булаву на его золочёный шлем. Став обладателем говорной трубы, он во всю мочь лёгких закричал по-родному:
- Князь Андрей, отходи!.. Нечай, отходи!..
Однако не запоздал ли призыв? Долгощельский кузнец уж не возвышался над пешими. Его буланый без всадника катался по белу полю, кровавя снег, унимая жар своих ран. Андрей взмахнул лишь обломком копья и отбросил бесполезное древко прочь. Огромный немец, головой выше княжой караковой кобылицы, замахивался рогатиной. Род достиг его и достал булавой по темени. И все же рогатина вонзилась в луку Андреева седла. Князь зашатался, но успел извлечь меч и отбиться от другого врага.
Тем временем лучники, подхватив раненых и убитых, а большей частью оглушённых Родовой буланой, ибо он сдерживал силу удара, эти вспугнутые чем-то лучники торопились уйти в ворота. Стоило обернуться, и становилось ясно, кто их спугнул. Рати Гюргия, его брата и сыновей, соединившись, скапливались перед воротами и изготавливались к большому бою. Лучники затворились, не успев забрать тех, кто остался лежать на льду заснеженной гробли. Род и князь остались вдвоём у забрызганного кровью моста. Караковая кобыла Андрея, сплошь израненная, едва держалась на ногах.
- Возьми мою кобылицу, княже, - предложил Родислав.
Тот выпучил узкие глаза, засверкал белками.
- У меня своя, - мрачно отрезал князь.
Род постарался держаться точно за его спиной, чтобы уберечь Андрея от стрел, кои нет-нет да и долетали из бойниц Луцка.
- Думал, будет мне Ярославича смерть, - неожиданно обернулся Андрей.
- Чья смерть? - не понял Род.
- Изяслава Ярославича, прадеда моего. Тоже был окружён врагами и заколот копьём, - объяснил князь. И, как бы придя в себя, осознав, с кем говорит, прибавил резко: - Гоняйся в ратном поле за славой, а не в княжьих теремах за любовью.
Значит, он ведал о свидании Рода и Улиты у себя под боком в Москве. Род не счёл своевременным объясняться. Он узнал по одежде тело Вашковца и поспешил поднять к себе на седло мёртвого товарища «Злая сила увязала меня с ним в Киеве, привела сюда, чтобы мне стать причиною его гибели», - сокрушался Род.
Приближаясь к своим, князь Андрей уже в поводу вёл израненную кобылицу. И все-таки не довёл. Грохнулась она оземь и испустила дух. Андрея подхватили бояре, окружавшие Гюргия с братом и сыновьями.
- Герой! Герой! - приговаривал Вячеслав Владимирич, старший Гюргиев брат, как догадался Род по его поступу и сходству, хотя прежде не встречал Вячеслава. Старик похож был на Гюргия только внешне. Лик тот же, да не упруг, а вял. Голос расслаблен Взгляд не светит, а коптит.
- Думал, будет мне Ярославича смерть, - повторил Андрей.
- Чьё вспоможенье отвело от тебя сию смерть? спросил Гюргий, истиха взглядывая в сторону Рода, должно быть, думая: опять этого неприятного Кучковича благодари да жалуй!
- Святой Феодор мне помог, - объявил Андрей.- Ему молился, глядя смерти в глаза. Его память нынче торжествуем. А ещё моя кобылица меня спасла - чуть живая, унесла от врагов.
Ближние бояре осматривали конский труп, с которого кмети уже сняли доспех. Никто в сторону Рода не глядел. Никому до него дела не было. И друзей у него больше не было здесь. Единственный друг, убиенный Нечай, передан с рук на руки гробокопателям, надолбившим в зимней мерзлоте братскую могилу для него и нескольких Андреевых воев, коих достали самые дальние стрелы Луцка.
Род отвёл Катаношу в сторону, осмотрел её раны, залечил сухим зельем. Ничего страшного!
Когда над братской могилой возвысился холм из мёрзлых комьев, а на холме - свежесрубленный крест, Род подошёл к печальному месту, обнажил голову и задумался.
Вновь оказалась нарушена заповедь: «Не служи врагу».
- Прости, Нечай, мой погрех! - прошептал злополучный ведалец. - Не увёл я тебя от смерти, а прицел к ней.
Ранние сумерки месяца лютого пропитали тьмой небо, скрыли луцкую крепость, даже крест на братской могиле стал почти не виден. Лишь далеко за спиной маячили костры, согревая кметей, да в двух невредимых избах, оставшихся от большой сгоревшей деревни, слышался пир горой. Там отмечали ратный подвиг Андрея.
- Друг! - позвал Род, обращаясь к братской могиле. - Друг!
- Тише, Рода! Я тут, - прозвучал шёпот позади.
- Ты кто? - резко обернулся Род.
- Тише, друг Итларя! Я Кза.
И тут небесная завеса разодралась надвое, и луна осветила землю торжествующим светом ночи. Кза приблизил скуластое лицо к самым глазам бывшего половецкого яшника и страшным шёпотом сообщил:
- Тебя хотят отравить. Беги, друг!
- Несусветица! - не поверил Род. - Кому нужна моя смерть? За что?
- Человек этого сумасшедшего Андрея говорил с человеком Арсланапы. Тот тебя знает. В Дубно пи пиру видел. Он должен дотронуться своим перстнем до твоей руки. А яхонт перстня - скляница с ядом!
- Кто тебе такую несусветицу передал? - продолжал Родислав не верить.
- Собственными ушами слышал, - прижал К ш ладони к узкой груди. - А самое страшное: они видели, что я слышал! - Поскольку Род ничего не отвечал, раздумывал, Кза чуть помедлил и снова заговорил: - Сумасшедший Андрей велел погрести своего коня, как воина. Вырыли могилу, вставили сруб, оказали почести. Даже памятник водрузили - ба-а-аль-шой камень приволокли!
Разговор вёлся по-кыпчакски. Род спросил:
- Ты оружничий вашего воеводы?
- Верно, - подтвердил Кза. - Прежде служил ханичу Севенчу, сыну нашего теперешнего хана Боняка. Севенч - не Итларь. Драчун и бахвал. Все грозится киевские Золотые ворота мечом посечь. Удалось от него уйти. Хотя и Арсланапа не пряник. Тебе, друг, надо бежать. И я поспешу. Боюсь, хватятся.
- Уже хватились, - заметил Род.
Кза в ужасе обернулся. Оба увидели на белом снегу черные бугорки, окружавшие могилу полукольцом. Как будто бы волчья стая обкладывала двух беспомощных людей. Разве что глаза не светились, зато мех половецких треухов - точь-в-точь волчьи морды.
- Выследили! - жалобно прошептал Кза и со слабой надеждой быстро спросил: - Где твой конь, Рода?
- Рядом. По ту сторону братской могилы заножен[395], - ответил Род, запоздало казнясь, что обезоружил себя, воткнув меч в мёрзлую землю, чтоб заножить за него Катаношу.
Он хотел угадать, каким образом нападут эти степные волки. Больше всего боялся тенёт, укрюков и прочих незаговорённых напастей. Обрадовался, заметив, что один из крадущихся истиха натянул лук. Поспешил заслонить собой Кзу. Но… поздно!
Стрела пронзила насквозь хилое тело юноши, и гот рухнул на грудь Рода.
- Ай-ё! - завопила стая, устремляясь к могиле.
Ножи сверкали в зубах. Все волки были на лыжах, потому-то Кза и не слышал, как его выследили.
- Ух-ух-ух-у-ух! - закричал лесовик филином и в тоже мгновение оказался по ту сторону братской могилы.
Выдернуть меч, отпустить Катаношу, вскочить в седло - было делом мгновения. Пока преследователи добрались до своих коней, сняли лыжи, устремились и погоню, Катаноша уже растаяла в белой мгле. Какое-то время Род слышал за спиной гиканье. Оно то возникало, то обрывалось. Наконец оборвалось окончательно.
Всадник стремился к Киеву, где в тот час не было ни Гюргия, ни Андрея, ни их друзей-половцев, совершающих злодеяния порой неведомо по чьей воле.
6
Первуху Шестопёра сразил рассказ о гибели Нечая Вашковца. Оба были сироты на белом свете, привык ли держаться друг друга, как две половинки одной фасолины, и вдруг - одиночество! Родислав не мог заменить Шестопёру погибшего, все-таки он оставался всего лишь другом Первухина друга, и пытался, как умел, облегчить страдания своего совсельника. Возлагал руки на его чело, после чего приятель становился повеселее. Предсказал ему долгую жизнь, во что Первуха не верил, однако приободрился. А когда посулил бобылю преданную бабью любовь до гроба, тот тяжело вздохнул: «Есть у меня красава, да не по красаве слава». На вопрос, взаправду ли она красива, махнул рукой: «Так красива, что в окно глянет, конь прянет, на двор выйдет, три дня собаки лают». Род предположил, что дурнушка-вислёна необычным умом завоевала Первуху, но и тут попал пальцем и небо. «Бабий ум - бабье коромысло, - равнодушно проворчал Шестопёр. - И криво, и зарубисто, и на оба конца». Однако по возвращении Рода из-под Луцка Первуха не предлагал ему киевские забавы и глумы, не заводил речи о девьем доме, о девулях и про чих непотребностях. Ведалец опрометчиво приписал это благотворному влиянию неказистой любвеобильницы вдовушки, да скоро установил: приятеля больше тянет не к вдовушкиным перинам, а к замызганному винопродалищу. Слишком затянулись Шестопёровы поминки по Нечаю, приводя в уныние Рода.
У него самого киевские дела шли из рук вон плохо. Ездил на Пасынчу беседу к Асупу. Тот прибирал разорённый дом Кондувдея, ожидая победы Изяслава под Луцком и возвращения в Киев своих господ. Родислава же он ничем не обрадовал. Никакая женщина не спрашивала о нём. Асуп разводил руками.
Удивляло это бывшего затворника. Пусть Улита не в Вышгороде, а подальше от Киева, в Остерском Городце. Ведь знает, что он её ждёт в столице, а вести не подаёт. Правда, вскоре по прибытии из-под Луцка Шестопёр сообщил, что какой-то красик[396] заходил в отсутствие Рода, досачивался: не живёт ли здесь суздалец именем Родислав. Своего же имени не назвал. Род вновь бросился к Асупу: не искал ли его этакий молодой щап? Торчин радостно закивал. А на упрёк, почему сразу не сказал, цокнул языком: «Ты ждал жену, не мужа. Про мужа я не взял в толк». Тьфу с этим торчином!
Ещё время минуло, а о красике - ни слуху, ни духу.
Исподволь зима уходила. Наступила Святая неделя. Трезвонили колокола. Брусчатые дубовые мостовые и дощатые пешие ходовые обочины цвели шелухой крашеных яиц. Небо стало, как никогда, лазоревым. А лица не цвели по-пасхальному, хмурились на воспрянувшее солнце. Не токмо кыян, но и пришлецов, всегда обильных в столице, что-то явно заботило. Прежде шли слухи: дескать, одолевает Изяслав и вот-вот войдёт победителем в Золотые ворота. Ветхие слухи сменились новыми: никто не одолевает. Враги сели на ковёр, и, вероятнее всего, Гюргий после переговоров вернётся на Ярославов двор. Род терялся: радоваться или печалиться? К тому же его одолели собственные заботы. Ещё с пасхальной заутрени Первуха привёл в истобку замухорченную[397] девчонку. Просила милостыню на паперти у святой Софии. Совсем не здешнего вида белянка: серые глаза во весь лик, на тщедушном теле издирки, голосок глуше бубенца на скоморошьем колпаке. Жалостливый Первуха сунул ей кунью мордку, взялся расспрашивать - кто, откуда. Выяснилось, что доставлена сюда сердобольными беглецами из Господина Великого Новгорода. Там сейчас большое бедствие - мор! Не успевают хоронить людей, скот. От смрада бесчисленных трупов нельзя ходить ни по городу, ни окрест. И никто не ведает причины сей язвы, что свирепствует только лишь в Новгороде. Вот и Мякуша в одночасье осталась круглой сиротой. «Ты сирота, да я сирота, поселимся две сироты бок о бок», - предложил гостеприимный Шестопёр. Вместе с новгородкой Мякушей поселились в истобке все её свойства - чистота, доброта да забота. Когда же оголодавшая вошла в тело, невзрачная - в облик, поселилась и красота. Первуха признался Роду: «Знаю теперь, истинный ты провидец. Сбылся твой вещий посул о бабьей любви до гроба». - «Ты это о ком? О Мякуше? - не поверил Род. - Да она ж девчонка!» Первуха опустил повинную голову и растерянно пробубнил: «Девкой меньше, так бабой больше». Род ушёл жить на Заяцкое становище, занял грошовую повалушу в подклете.
За тесовой стеной по ночам костари не давали спать. Днём же от храпа ночных виноядцев повалуша тряслась, мешая собраться с мыслями.
Как-то повечер заглянул Первуха.
- Родислав, тебя сызнова красик ищет.
- Какой ещё красик?
- Ну тот, что давеча…
При первом разговоре о неназвавшемся ищике[398] Род думал о Полиене, оружничем покойного князя Ивана Гюргича. А с какой стати искать его Полиену? Тот давно служит Глебу Гюргичу, с Родом свяжет его разве что случайная встреча.
- Должно быть, красик твой - рыло ковшом, нос бутылью? - подозрительно спросил Род, зная, как принято плешивого называть кудрявым.
- Повечер посети корчму «Трёшкина криница» - увидишь, какой красик, - заторопился Шестопёр к юной жёнке Мякуше.
Повечер Род обосновался вблизи Жидовских ворот в корчме какого-то Трёшки, вёрткого, как веретено, если посиделец за уставленной кувшинами заседкой и был сам Трёшка. В тёмном углу у почти непрозрачного оконца, затянутого грязным пузырём, можно было без помех наблюдать Трёшкиных завсегдатаев. Народ в основном торговый, иноплеменный.
- Вей! Какие же теперь барыши? - тормошил соседа заядлый спорщик, тряся клинышком бороды. - Зобница[399] ржи семьдесят ногат, а несчастный строитель получает за день одну ногату. Что же он купит?
- Давно ль за ногату можно было купить овна? - поддержал его чёрный клобук с бородой серебряной, как берендеево царство. - А теперь… Ай, разве это жизнь, дорогой?
- Живе-е-ем! - пробасил луноголовый вислоусый кыянин. - Ось я своей подсуседнице Ханке три подзатыльника жемчужных купил да голубцы серьги-одвоенки. А до меня как жила? Сарафан крашенинный да серьги-одиначки!
Разговор оборвался для Рода озорным ребячьим способом: чьи-то ладони накрепко ослепили его, и ухо оглушил шёпот:
- Угадай - кто?
Род вздрогнул, потом напрягся.
- Не верю ни ушам, ни глазам!
- Глаза твои сейчас слепы. А по шёпоту разве узнаешь голос? - был игривый вопрос.
- Есть второй слух и вторые глаза - внутри, - ласково объяснил Род. - От тебя знакомые токи в меня идут. Их ли не узнать? - отнял он от лица нежные, ненатруженные ладони.
- Наконец ты в моих руках, неуловимый любезный братец! - крепко обнял его Яким. - Так замумрился[400] в потайных местах, что и родичу не найти. Да, Петруша?
- Вовсе я не Петруша, - в свою очередь прижал к себе названого брата Род и усадил подле себя, - Стало быть, это ты меня искал?
- Я. Прежде на Пасынчей беседе, после на подворье Святослава Всеволодича. Уф, нашёл!
- Четыре лета не виделись, - сосчитал в уме Род. - Вчерашний отрок - нынешний вьюнош! Да такой, что ни в сказке сказать, ни пером…
- Я не просто вьюнош, - истиха перебил Яким. - Подымай выше! Постельничий князя Владимирского Андрея, моего шурина.
- Шурина! - с тяжким вздохом повторил исстрадавшийся «жизненок» Улиты.
- Выйдем-ка, Родинька, из этого вертепа на воздух, - потянул его из корчмы Яким. - Знаю я все, родной, ведаю. Помнишь, в батюшкином доме тебе признался, как сызмальства любил лазутничать? Все мне открылось ещё в тот раз, когда вы с Улей стояли у моего одра, а я излечивался от вереда. Говорят, утерянного не воротишь. Врут!
- Расскажи, Якимушка, как тебе можется под рукой князя? - переменил разговор названый старший брат.
- Как ему можется под моей рукой! - с нажимом переиначил вопрос Яким. - Князь души не чает во мне. Хотя, тайно говоря, без взаимности. Слушается меня, повторяя: «Устами младенца глаголет истина!» Ближняя знать начинает зубовный скрежет. Ну там Михн, метящий в воеводы, Ярун Ничей, от отца к сыну перебежавший. Мне их скрежет зубовный - тьфу! Укусят зубом, зуб потеряют. Так-то, любезный братец!
- Берегись Андрея, Якимушка, - посоветовал Род, - На его половецком лике ничего не прочтёшь, как на свитке, исписанном молоком.
- А я подогрею свиток, молоко и проявится, - усмехнулся молодой, да ранний знаток Яким.
Род был втянут им в тесный заулок. С двух сторон высокие тыны, из-за коих не видно крыш.
- Никому не взбредёт на ум расставлять уши именно вот за этими тынами, - убеждённо предположил Яким и продолжил: - Я Улитин посольник к тебе. Сестра с тоски чахнет.
- И меня тоска гложет, как голодный лось несчастную липу, - признался Род.
Яким склонил голову, спрятал взгляд.
- Духовник мой, отец Исидор, не отпустил бы мне сегодняшний грех. А много ли легче Андреев грех? - вскинул резкий и гневный взор юный вельможа князя. - Андрей ведал все! И однако же… Нет, бескорыстно защитить нас от плахи не смогла его булыжная доброта! Есть в необычном норове моего государя наиобычнейшая черта: что похочет, то и получит, хоть через тысячи смертей. - Яким, задохнувшись, смолк. Беспечного, удоволенного судьбой придворного затрясло как в лихорадке. Род в свою очередь молчал, не зная, что сказать. - Поистине на Гераклово деяние начал я подвигать Андрея, - продолжал речь Яким. - Творю из Гюргича Вещего Олега. Тот перенёс столицу из Нова Города в Киев. И воссияла Киевская Русь! Но срок вышел. Неколебимый столп рассыпается. А ежели, по-Олегову, перенесть стольный град во Владимир. Не возгорится ли новым сиянием Русь Владимирская?
У Родислава ёкнуло сердце. Всплыли в памяти лесной костёр, глухой голос волхва, расширенные очи Улиты. Вспомнилось невероятное пророчество Богомила Соловья.
- Русь Московская! - вслух промолвил Род.
Яким дико воззрился на него и махнул рукой:
- Глумотворствуешь, милый братец. А я всерьёз. Вот на какое деяние моей силой двигается гора Андрей! А попытался двинуть его на то, чтоб приблизил моего названого брата, то есть тебя, - ни на полпальца не сдвинул! Он даже прошипел единожды, аки змий: «Не сживу его из Улитина сердца, так со света сживу!» Боюсь за твой живот, братец. Занапастит[401] тебя этот баболюб!
Род обнял названого брата.
- Коли Андрею все ведомо, стало быть, он поступает верно. Умён ты, Якимушка, а в сердечных делах ещё малосведущ.
- Я мало сведущ? - обиделся красик. - Моя любава Еванфия уже третий месяц брюхата.
Прошли один заулок, пересекли улицу, вошли во второй.
- Вернёмся, - поворотил Рода Яким. - Меня кареть ожидает невдалеке от Трёшкиной корчмы. А теперь внимай поусерднее! - перешёл он на деловой лад. - Мы с Улей головы надсадили, как вам свидеться. Я надумал сделать тебя портным, а ей примерять у портного новый наряд. Отпало! Не княгини ездят к портным, те приползают в княжьи хоромы. Ещё измышлял многое, да не то. Улита в таких делах всегда меня побивала своим умом. Хотя в «Изборнике» сказано: «Бабьи умы разоряют домы»! Так вот что она решила: ты едешь в Остерский Городец, ищешь в воеводской избе Закно Чёбота. Он подптень[402]
Андреева дружинника Михна, что ведает княжеской обережью. Назовись Петром. Возьмёт тебя в охраныши. Будь не на виду. Из Городца в Киев двинется княгинин поезд. Вестоноша известил о мире Изяслава с Гюргием. Киев остаётся нашим. К торжествам сестра-княгинюшка должна поспеть на Ярославов двор. Гоньба будет без ночлега, лишь со сменою коней на становищах. Закно Чёбот вооружит тебя и окольчужит. Скачи обочь той колымаги, в кою сядет Улита. Опусти забрало, чтоб скрыть свой лик. Я с ней сяду в том же виде, что и ты. Повечер на втором стане Закно Чёбот сотворит суету со сменой упряжек. Мы тем часом поменяемся: ты - в кареть, а я - на твоего коня. Перед рассветом - третий стан. Возатай сызнова засуетится, мы поменяемся местами. Будь наготове. Чуть поезд вступит в Киев, исчезай незаметно. Все!
Род восхищённо взял за плечи названого брата:
- Повзрослел ты, Яким!
Тот вскинул подбородок.
- Ростом я догнал тебя. Сравни-ка! - Оба были, как доспевшие колосья, - равные! Зелёные глаза искусного придворного задорно загорелись. - Чем один другому не подмена?
Из заулка уже виделись Жидовские ворота, подле коих расточала жареные запахи Трёшкина корчма.
- Расстаёмся, братец, - крепко-накрепко заключил Рода в короткие объятья Яким. - Выйдем порознь, чтоб вместе нас не углядели. Я нынче еду в Городец, ты - завтра поутру. Будь начеку!
Яким исчез. А Род стоял, поматывая головой, как трезвенник в разгаре пира, оказавшись не в своей тарелке.
7
Шлях лоснился под сыпухой-дождём. У колёс спиц не виделось. Свежеподкованные копыта били в дресву, как зерно молотили. С утра растворилось такое неведрие, будто весь мир вместился в огромное слюдяное окно. Полудюжина колымаг, подхваченных шестерней с двойным выносом, стремительно углублялась в серую мглу. Обочь мчалась обережь конно и оруженно. Род приметил изначально третью с головы поезда кареть: из её окна подал знак Яким. Хорошо скакал ось возле этого окна - рядом Улита! Упустил, когда она садилась, да и не узнал бы милую среди оберегательниц под плотной понкой. Вот глянули из-за приотворенной дверцы озорные глаза зеленомудрого братца, сделал он персты ижицей, и у мнимого охраныша от сердца отлегло. «Ижица - дело к концу движется!» Значит, скоро узрит он свою другиню. А непривычная кольчуга давила грудь, сковывал голову стальным обручем неподогнанный шлем, забрало застило свободный обзор, но счастливчик на Катаноше все готов был стерпеть в ожидании повечернего стана.
А вот и стан. Поезд замер у длинной конной избы с кузней под навесом. Коньщики завозились с упряжью.
- Ты для ча всучиваешь мне заморённого бурого?
Ты отстоявшегося гнедого дай! - надрывался возатай.
- Это бурый-то заморён, девья мать[403], - возмущался становой коневщик. - Бурый с третьего дня в упряжи не бывал!
Несогласица разрасталась, грозя кончиться подерушкой. Яким в полной боевой сряде вышел из колымаги, Род спрыгнул с Катаноши, бросил названому братцу поводья и оказался в кромешной тьме…
- О, как холодны, как остры твои железа! - через силу оторвалась от него Улита.
Род торопливо снимал доспехи.
- Я твой лик очень смутно вижу, - жаловалась княгиня.
Бывший лесовик похвалился:
- А я зрю впотьмах, аки лесной зверь.
- Ах ты мой зверь, душа моя, свет мой…
В самом верху карети витал мотыльком масляный светец немецкой работы.
- От тебя сызнова пахнет мытелью, как тогда, на Чистых прудах, - вдыхал её запах Род.
- Ну в баенке же была, - объяснила Улита. И вспомнила: - Тогда в кустах нам сиделось покойно, сейчас же хоть и мягко, да тряско, как в лихоманке бьёт…
Колымага подпрыгивала, качаясь. Колеса гремели…
Род задыхался… Все исчезло. Не было ни карети, ни скупого светца, ни грохота колёс. В ночной час в нежно-ласковом озере Ильмень он, отчаянный пловец, попал в бурю. Тугие тёплые волны накатывались, то отталкивая, то поглощая. Он делал усилия перемочь их силу, и волны тихо стонали, впитывая его в пучину. Когда буря улеглась и светец замерцал вверху, а кареть продолжала тряско и гулко нестись куда-то, Род подавленно произнёс:
- Где мы?.. О всевидящий Сварог!.. До чего докатились?
- Не поминай Сварога! Забудь! - строго отозвалась княгиня.
- Бежим в Чешскую, в Угорскую землю, а не то в Греческую, - пылко заговорил Род. - Я продам себя в холопи тамошнему царю. Рабом стану и еженощь буду лицезреть тебя…
- Не токмо зреть очами - телесами чуять. - Улита жёстко сжала его ладонь. - Все же не изрекай глупостей. Нет нужды горе мыкать невесть где. Потерпеть, поразмыслить надо потонку. Неустройство наше обустроится. Вот закончится немирье у свёкра с его племянником…
- До их смерти не кончится, - предрёк Род.
- Не омрачай сердца, светлее гляди в судьбу, - посоветовала Улита.
Такой совет, достойный княгини, отозвался в мыслях ведальца детским лепетом.
- Твой Андрей ищет убить меня, - вынужденно признался он и рассказал всю историю, приключившуюся под Луцком.
- Ты! - воскликнула княгиня, едва дослушав. - Это ты спас его! Не взыщи! Андрей - смурый бирюк, не ведающий благодарности. Однако убить тебя… Не иначе половецкие шакалы замыслили. Андрей, даже люто ненавидя, не убьёт. Нет и нет, я знаю…
- О, княгиня! - тяжело вздохнул Род. - Однако наша ночь на исходе.
Он кинул взор в побуревшую от рассвета слюду окна.
Колымага сбавляла ход и внезапно замерла. Тут же вне её послышались возня, ругань.
- Я те подменю упряжь, неплод[404] постылый!
- Пошто лаешься, девья мать?
Нет, Улита не слышала этой отрыжки бытия. Она вся ушла в прощальный поцелуй с другом.
Покинув кареть, Род едва успел принять Катаношу от Якима, и поезд рванулся далее с обновлённой силой.
У первой переспы Киева мнимый охраныш отстал от него, как подранок от стаи.
Гудели колокола. Вновь запрудили улицу только что жавшиеся от княгинина поезда к стенам толпы кыян.
Род, храня одиночество, просочился сквозь толчею на свой Бабин торг к Заяцкому становищу.
- Эй! - окликнули его.
От воротной вереи отделился Первуха и кивком головы велел свернуть за угол.
- Тебя только что спрашивали княжьи обыщики.
- Чьи? - насторожился Род.
- Как их опознать? - развёл руками Первуха. - То ли Гюргиевы, то ли Андреевы.
- Как они досочились меня здесь спрашивать?
Шестопёр объяснил:
- Весьма просто. Ты под Луцком был с Вашковцом. Им ведомо, чей слуга Вашковец. Вот и явились к подворью Святослава Всеволодича. Я принуждён был назвать Заяцкое становище.
- Ты? Принуждён? Ты предал меня! - возмутился Род.
Шестопёр опустил повинную голову.
- Начистоту сказать, предал. Они грозились Мякушу с собой забрать, а меня заковать в железа. Как было молчать?
Род сжал плечо Первухи.
- Не взыщи за погрубину. Не стоит вашего счастья с Мякушей моя забубённая голова. Прощай, друже!
- Ты куда? Куда? - неслось ему вслед.
А он вёл свою Катаношу водком по безумным от Гюргиевых торжеств улицам. Шестопёр не стал его догонять. Предать предал против воли, да по собственному изволу предупредил об опасности. Берегущий Мякушу, однако, как прежде, смелый Первуха!
Куда было деться Роду? В калите, как при высадке у Мостквы-реки, гривна кун. В Новгородском конце становища не по карману. Разве что поприцениваться у Жидовских ворот? Там ночлег дешевле.
На каком-то из восьми торжищ Киева в красных рядах под имполой бесприютному преградила путь знакомая образина.
- Ай да встреча! - произнёс ражий половец по-кыпчакски, - Помнишь пир в Дубно, яшник покойного Тугоркана? Давай поздороваемся по-русски…
Он тянул руку, а на руке блеснул перстень с кровавым камнем. «Яхонт перстня - скляница с ядом», - подсказала память страшное предупреждение Кзы Род перехватил руку с перстнем возле локтя, так что кисть беспомощно повисла, и оттолкнул половца. Тот отлетел к прилавкам, дико крича. И тут бывший яшник заметил, что у прилавков изготовились соплеменники пострадавшего. Степняки подступали, потрясая оружием, как стая хана Кунуя. На сей раз местом схватки была не Дикая Степь. Род в мгновение ока сообразил, что его враги под покровом имполы, и он вне её и что этот край крытой торговой улицы держится на одном столбе, хотя и весьма внушительном. Отпустив Катаношу, Род обнял столб, потянул на себя, и крыша с грохотом рухнула, накрыв нападавших, а он с вывернутым столбом рухнул в противоположную сторону. Презирая ушибы, вскочил н седло.
- Ух-ух-ух-у-ух!
Кобылица вздыбилась и исчезла, раскидав прочь ошарашенных ротозеев.
Вплоть до сумерек то водком, то в седле мыкался одиночка со своей Катаношей в праздной толпе по Киеву. Ночлег-то в конце концов приискал, даже подружку свою игренюю определил в конную избу и снабдил овсом. Самому осталось насытиться. Не хотелось соваться в ближайшую к его становищу Трёшкину корчму, хотя было вовсе не далеко. Очень не хотелось! Весь день после столкновенья под имполой он чуял на себе глаз да глаз. Возможно, это только мерещилось, хотя упорно зрело чувство опасности. И вот у самых дверей под вывеской «Трёшкина криница» знакомый голос позади истиха произнёс:
- Боярин Жилотуг! Князь Андрей Гюргич хочет лицезреть тебя. Пожалуй в мою кареть.
Все воспротивилось внутри Рода этому приглашению. Он все-таки обернулся, Ярун Ничей с видом друга повлёк его от корчмы. Уже сев в утлую колымагу, приглашённый спросил:
- Пошто хочет лицезреть меня Андрей Гюргич?
Ярун мелко захихикал.
- Должно, помозибо скажет за спасенье под Луцком. Он тогда обмишулился.
Ехали долго. Сошли во дворе за высоким тыном у мрачной почернелой избы. Род невольно вспомнил Чернигов, попытку освободить Коснятку.
- Что это за хоромина? - остановился было он.
- Тайная такая хоромина, - потянул его за рукав Ярун. - Андрей Гюргич счёл важным без любопытных с тобой беседовать.
- Однако для чего железа в оконницах? - обратил Род внимание на решётки.
- Чтоб тати не проникали, - быстро объяснил Ярун, вводя гостя в тесную палату.
- Здесь сесть не на что! - догадавшись о западне, вскричал Род.
Ничей словно испарился. Лязгнули замки, загремели засовы, застучали шаги охранышей, зазвенело оружие.
- Достаточно тебе одного стола, - раздался насмешливый голос Яруна с той стороны двери. Затем княжий палач и обыщик изрёк торжественно: - Пойман ты, самозваный боярин, государем Андреем Гюргичем за прежнее воровство твоё! - Воцарилась тишина. Потом прозвучал приказ кметям: - Строго-настрого стеречь! Отвечаете головами! В разговор с подстражником не вступать!
С глухим стуком удалялись тяжкие шаги.
- Стой, Ярун Ничей! - позвал Род.
- Что ещё тебе? - спросил голос издали.
- Ты погибнешь жесточайшей смертью. Новый месяц не созреет, как умрёшь!
- Ври, проклятый волхв! Сам вот-вот сдохнешь! - с чуть заметной дрожью пообещал Ярун.
8
Что прежде всего предпринял Род, оказавшись подстражником? Надорвал изнутри подшитую гачу своих портов, извлёк из неё отцов перстень, осмотрел грани камня с буквицами глаголь и рцы (Гюрята Рогович).
Обречённый задумался, прохаживаясь из угла в угол по тесному узилищу. Смерть не страшила его. Беспокоили пытки как преддверие к ней. Выйдет ли он из них с честью? Вот и сбывается откровенье Сварога: «Умрёшь страшной, позорной смертью!» Вряд ли его четвертуют, колесуют или посадят на кол, даже усекновение главы отвергнут. Дело это для его ненавистника, князя Андрея, можно сказать, домашнее. Ревнивцу нужно убрать соперника. Захлопнувши мышеловку, он уж его не выпустит. Что в мышеловке способнее всего применить? Отраву! А могут и удушить. Это тоже вид тайной смерти узника. Для казни, как и для пытки, им необходимо войти, дотронуться до него, взять. Вот он и осмотрел камень отцова перстня, выбирая грань поострее. Когда-то в детстве, в отрочестве ночь порой заставала их с названым отцом в лесной дебри. Они устраивались на лапнике, разводили костёр. Род ясно помнил, как Букал чертил вокруг становища круг и творил заклинания от хищных зверей. Волхв это действо называл «сделать гуся». Подросши, Род сам, охраняясь на ночь в лесу, «делал гуся».
Теперь он мысленно ограничил пространство в полутора шагах от двери, опустился на грязный пол, стал медленно, якобы с величайшим трудом, проводить по затёртым доскам тонкую, девственной белизны борозду. Губы его зашевелились тихо, шёпот от слова к слову становился яснее, могущественнее:
- Делаю гуся в одну черту. Чайка - гусь, и ворона - гусь. С меня беда как с гуся вода. Пей, гусь, воду не с боярского роду! С гуся вода, а с меня, молодца, небылые слова. Возьми, водяной, гуся без головы, возьми, домовой, гусиную голову! Стань, княжья гусятня[405], как таракан перед гусем!.. Кладу рисунок - черта в черту. Камень алмаз не приемлет черты. Кладу заклятие на три головы. Изрекаю запретное слово. Кому запретный плод сладок, кому лихва заповедана, заповеданного не тронь! Чур, заповедано! За паханую черту смерть коровья не ходит. Очерчено набело! Подымаю чертало. Не ступай за чур![406] Не лезь через чур! По чур - наше! Чур, меня! Чур, меня от них! Чураюсь от вражьей силы! Кладу грановитый знак. Распадайся, дуб, на четыре грана. С камня на вяз, а на вязу граница-крест. Алмаз алмазом гранится, вор вором губится. Связываю своё слово чуром. Черчу круг и чураюсь: чур-чура! Чур-чура!
Род упрятал прежним образом перстень, отёр пот со лба. Лишённый возможности вымыть руки, уронил голову на согнутые локти, на какое-то время забылся, одолеваемый слабостью.
Ночь скороталась в сидячей дрёме. Не захотелось укладываться на грязном полу.
Весь следующий день ему не приносили ни питья, ни еды. Поутру стражник, кряжистый бородач из суздальцев, отворил чуть-чуть дверь, но не для кормёжки.
- Выставляй поганую куфу, - потребовал он ночную посудину, которая для подстражника была и дневной.
Повечер явился Ярун Ничей. С ним седенький писальник и волоокий палач. Род догадался о его ремесле по кожаной калите, в коей позванивало железо.
- Толковать сперва будем кое о чём, - сообщил Ярун, делая вперёд шаг, другой… и вдруг падая на руки своих спутников.
- Что с тобою, отец родной? - угодливо пропищал писальник.
- Ничего. Я, должно быть, устал, - встряхнулся главный обыщик.
С писальником повторилось то же, что и с Яруном.
Палач твёрдо шагнул вперёд и с тяжёлым стуком сел на пол.
В приотворенную дверь заглянули стражники.
- Взять его! Вывести отсель! - приказал Ничей.
Бросившихся выполнять приказанье охранышей постигла та же неприятная участь: будто расшибли лбы о незримую, непробойную стену.
- У, окаянный волхв! Сними чары! - завопил Ярун.
Род ни звука не проронил, опершись о противоположную стену, скрестив руки на груди.
Ярун издали осенил его двуперстием и вновь двинулся вперёд. Однако с прежним неуспехом.
- Не богохульствуй, творя крестное знамение окровавленными руками, - произнёс воспитанник волхва Букала.
Чем после этого ни грозил ему Ничей, он не удостоил его ответа. Палач с писальником перепуганно жались к выходу. Мрачные лики стражников чуть виднелись в тени проёма. Наконец все ушли, и дверной засов грохнул. Род подступил к двери и прислушался.
- Зачурался, проклятый волхв! - скрежетал голос Ничьёго. - Через окошко его извлечь? Так ведь раскупоришь окно, сиганёт, не уловишь. Испрошу-ка соизволения выкурить его дымом. Средство - нет ничего вернее!
Ночь прошла без событий. На следующий день вместо дыма Рода попотчевали кружкой тёплой воды и миской жидкого сочива. «Предпочли пыткам скорую смерть через отравление», - заподозрил он. Приложил ко рту пальцы и долго грел их жарким дыханием. Затем опустил два перста левой руки в кружку, а правой - в миску.
- Пытаю посудину: что таишь? - глухо начал заговор ведалец, устремив взор горе, - Мой палец - язык, на нём пот - слюна. Дай знак, пища, сухая и влажная: принимала ли жало ядовитой змеи? У ядовитых змей голова треугольником. У ядовитых змей скулы широкие. У ядовитых змей шея то-о-онкая. У ядовитых змей на голове чешуя… Горький перец отравит курицу. Жареная губка отравит крысу. Егорово копьё окормит хомяка, чилибуха - волка, кокульванец - рыбу, ржаное зерно - корову. Скот не ест ядовитых трав. Ёж не боится яду. Мои пальцы - ежовые иглы. Горькая жизнь отравляет радости. Моя жизнь сладка! Упрёки отравят милостыню. Моя гортань безупречна. Спаси, безар-камень, от окорма. Ядия злая, выйди наружу!
Вода и сочиво посинели. Род вскинул руки от еды и питья и тщательно отёр пальцы карманным платчиком[407], платчик же выбросил в поганую куфу.
Больше его никто не тревожил. Не приносили ни еды, ни питья. Поганую куфу не опоражнивали. Он пробуравил пузырь в окне и сквозь железное решето вглядывался во двор. Кроме серого чернобыла и высоченного тына с острыми палями, ничего не видел. Жажда сушила глотку, язык и рот, лишённый слюны. Голод высасывал желудочный сок. В дверь бесполезно было стучать: за ней - ни слуху ни духу. Род насчитал шесть дней по смене света и тьмы за окном, после сбился со счёту. о нём забыли?
Он лежал калачиком на столе, не в силах ходить и сидеть от слабости, когда за дверью родились голоса, сопровождаемые множеством шагов. Пусть выкурят дымом, он прижмётся устами к разорванному пузырю окна и накрепко смежит веки.
Грохнул засов, распахнулась дверь.
- Коли ты не тать, выходи!
Род сел на столе и увидел перед собой Чекмана.
- Нет, я не тать, - откликнулся он, ощущая себя во сне.
Чекман бросился к нему и с той же силой отпрянул назад.
- Что такое?
Род, убедившись в яви происходящего, сполз со стола, преступил черту и бессильно обвис на груди Чекмана.
- Э, да ты высушен, как пустой колосок! - подхватил его берендейский княжич и без чьей-либо помощи, как младенца, вынес во двор, усадил впереди себя на коня, пустив его лёгкой рысью, чтоб поберечь своего спасенника.
- Что это тут за княжна Текуса в тебя влюбилась? - негодовал Чекман. - Плетью не бить, так голодом уморить велела!
Род наглотался свежего воздуха, ему стало нехорошо.
- Почему я не смог подойти к тебе? Что за нечистая сила окружила тебя? - допытывался Чекман.
- Это я… ограждал себя… от нечистой силы, - задыхался выпущенный заточник. - Я… делал… гуся…
- Какого гуся? - всполошился княжич, - Ты что, бредишь, дорогой? Очнись, друг!
Друг уж не отвечал. И белокурое чело его репкой моталось со стороны в сторону.
- На Пасынчу беседу! Домой! - приказал берендей своей дикой коннице.
9
Род поправлялся в той же одрине Кондувдеева дома, где ночевал в день убийства схимника, бывшего великого князя Игоря Ольговича. Все здесь было, как прежде, - и широкие ложа в парчовых подзорах, и узорчатые ковры на стенах, и роскошные шкуры пардусов на полу, чтоб нога утопала. Вот разве печь без замысловатых изразцов, только побеленная. По сводчатым окнам, выходившим на север, Род понял, что время послеполуденное: цветная слюда не столь щедро стала пропускать свет. Вошёл Асуп и зажёг золотые светильники по углам.
- Здоров ли наш гость, свет хозяйских очей? - спросил он.
- Помозибо, Асуп, - благодарно откликнулся Род. - Вижу, ты все добро вернул, всех хватал[408] отыскал?
- Почти всё, почти всех, - озабоченно пробормотал верный страж, - Не зря русские про себя говорят: братки хватки, сестрицы подлизушки!
- Что ты, Асуп! - отмахнулся Род. - Только ли русским любится скорохватом жить?
- У наших той хватки нет, вот и живут в нехватках, - возразил упрямый торчин.
- Не будь логозой[409], Асуп, - погрозил пальцем Род. - Лучше открой, как добро вернул.
- Ха! - усмехнулся ловчивый[410] страж. - Опять же не зря ваши говорят: на тате шапка горит, а тать и хвать за неё! - Зажёгши крайний светильник, он прибавил уж не заядло, а озабоченно: - Чекман вернулся с ристалищ, да не один, с высочайшим гостем. Кухари мясо режут на кавардак. Пальцы оближешь!
Оберегатель дома вышел с подобающим поклоном. Род по-богатырски потянулся, расправил члены и впервые после недавней пытки голодом ощутил себя здоровым. От Чекмана он уже знал, что у Изяслава с Гюргием мир до рати был недолог. Андрей с дядей Вячеславом и воистым галицким Владимиркой спроворили тот мир хоть скоро, да не прочно. Гюргию остался Киев. Изяславу и его боярам обещалась выдача всего захваченного при последних битвах. Но едва поверженный великий князь прислал своих людей за отнятым, как Гюргий тут же сотворил из пальцев кукиш. Ну и что ж, что опознали все своё? Вот вам Бог, а вот порог. В придачу лёгкая дорога! Напрасно Изяслав посылывал к дядьям: мол, целовали крест, исполните! Напрасно старый Вячеслав увещевал брата. Гюргий с жадностью вцепился в хватовщину[411]: шиш! И вот твердыня Пересопница взята с налёту. Глеб Гюргич изгнан из неё позорно. Изяслав с дружиною - у черных клобуков в Поросье. Эти верные союзники спешат седлать коней - на Киев! Гюргий зайцем удирает в свой Остерский Городец, не обнажив меча. Андрей - за ним, скрипя зубами. А брат и дядя, то есть Вячеслав, по-стариковски остаётся в Киеве, бросается в объятья победителя. Для Рода же но всей этой истории одно было печальнее всего: Улита вновь в Остерском Городце, теперь с ней повидаешься неведомо когда. Вот и мешает выздороветь чёрная кручина. Хоть отъелся, вошёл в тело, а душа не движется к поправке. Сегодня на победные ристания, устроенные вспоможенниками Изяслава ляхами, уграми, чехами, Род не поехал, невзирая на настойчивость Чекмана. Должно быть, знатный праздник развернулся на Подоле на игрищном лугу!
Вошёл Чекман, присел на ложе к Роду:
- Лучше ли тебе, милый?
- Я уже здоров.
- А ежели здоров, так расскажи вкратце хоть теперь: ну как ты делал гуся? - с незабываемой упорной просьбой в сотый раз пристал к другу Чекман.
- Говорено же было: не поймёшь ты этого, - возразил ведалец.
- Ха! Не пойму! Какие тайны! - не скрыл обиды княжич.
Род положил ладонь на его руку:
- Послушай! Поводырь однажды похвалился, что вдоволь выпил молока. «Какое же оно?» - спросил слепой. «А сладкое да белое», - ответил поводырь. «А что такое "белое"?» - не понимал слепой. «Ну белое, как гусь», - придумал объясненье поводырь. «А что такое "гусь"?» - пристал слепой. Поводырь согнул руку костылём: «Он вот такой». Слепой ощупал его руку и сразу понял, что есть молоко.
- Ха! Значит, я слепой, ты поводырь? - ещё обиженнее произнёс Чекман.
Род предпочёл свернуть речь на иное:
- Расскажи лучше, как прошли ристания.
Угры завиднейшие конники! Всех наших пре изошли своим искусством, - сразу же увлёкся берендейский княжич. - А ты затмил бы их на Катаноше. Помнишь хурултай? - И с гордостью прибавил: - Катаноша-то опять у нас!
- Да что ты! - вскочил с одра обрадованный Род.
- Хозяин становища продал её новгородскому купцу, - стал объяснять Чекман. - Наш имчивый[412] Асуп нашёл того купца, предложил нож или деньги. Ну, ясно, новгородец выбрал выкуп, не нож в спину.
Род обнял друга:
- Вот утешил!
- А как же насчёт гуся, поводырь? - сузил глаза Чекман.
Род, не вступая в препирательства, спросил:
- Здоров ли нынче твой батюшка, князь Кондувдей?
- Родитель на полсотни лет старей меня, - вздохнул Чекман. - Но в дряхлом теле дух молодой. Превозмогает старческие хвори. А что ты вдруг спросил?
- Да ночью слышал стоны невнятно где. Хоромы велики, - стал одеваться Род.
Чекман насупился.
- Не в хоромах был тот стон, а на дворе, в амбаре. Изрыгал его подважник суздальский, должно быть, крупный хищник. Не успел удрать вслед Гюргию - уж больно тяжкие возы награбил. Да Асуп с него не спустил глаз. Не раз исподтишка следил, как он здесь, в хоромах, хитничал. И переняли его наши нукеры у первой же переспы. Запирается, своего имени бесчестного назвать не хочет. И прозвище скрывает: ничей, и все тут!
- Ничей? - воскликнул Род. - Каков собой?
Чекман искал, как объяснить.
- Кутырь. И борода большая с серебром.
Род бросил одеваться, стоял в нижней рубахе с полукафтаньем на руке.
- Так он Ничей и есть. Ближний боярин Гюргиев, затем Андреев. Мой тюремщик, мой голодомор Ярун Ничей!
- Ах, во-он какая птица! - вскочил с одра Чек ман. - Мы все своё добро в возах его сыскали, кроме изразцов. Где изразцы? Молчит! Подвесили его над чаном с кипятком, пришпарили подошвы - ни полслова! Одни стоны. Крепкий кутырь попался!
- Мне его стон мерещится по сие время, - содрогнулся Род.
- Ай, почему мерещится? - стал возражать Чек ман. - Он не мерещится…
И в этот миг протяжный крик, вдруг разом оборвавшийся, казалось, колыхнул хоромы.
- Что это? - в лад крику вскрикнул Род.
- Опять Ничей не признается! - покачал чёрной головой Чекман.
- Пошли людей, вели немедля перестать его пытать, - взмолился Род. - Какие изразцы? Враг с ни ми! Ну разве ты, мой друг, тот страшный человек, что может так увечить Божьих тварей?
Чекман смотрел во все глаза.
- Вай, успокойся, Рода! Эта Божья тварь награбленное норовит нести с собой в могилу. Ты знаешь, о каких изразцах речь? Он их снял вот с этой печи. На них были диковинные звери.
- Зодии, - подсказал Род. - Знаки созвездий в небе.
- Те изразцы попали в Киев из Царьграда. Мой батюшка их покупал у гречников, - горячо объяснял княжич.
- Не продолжай! - Род оградился вскинутыми дланями, - Какие вещи мёртвые достойны живых мук?
- Нет, не понимаешь, - Чекман махнул рукой.
Дверь отворилась, вошёл Асуп:
- Он умер, господин. Я говорил, что он весьма тяжёл. И верно говорил. Оборвалась верёвка. Он упал в чан. Сварился.
Язык, которым извещал Асуп, был близок торкскому. Род понял.
- Пойдём. Попробуем спасти, - шагнул к двери Чекман.
Асуп остановил его:
- Не надо, господин. Сваренный никогда не станет свежим. Красный рак, и только.
- Я эту смерть предрёк ему месяц назад. - Род отошёл к окну. - Кто выдумал такую пытку?
Чекман опустил голову. Понятно стало кто. Едва заметным мановением руки он отослал Асупа из одрины.
- Тебе жаль суздальца, а, Рода?
- Мне тошно, а не жаль, - сжал в пальцах подбородок Род, - И… и ещё мне страшно за тебя. Убийца вызывает смерть на свою голову.
Чекман, как пардус в клетке, заметался по одрине.
- Я не убийца. Нет! Откуда было знать, что вервие непрочное?
Род промолчал. Взъерошив смоляную дебрь волос, враз побледневший берендейский княжич подошёл к нему лицо в лицо.
- Ну отчего ты не поймёшь меня?
В одрине задержалась тишина.
- Скажи-ка, что за высочайший гость пожаловал с тобой сегодня? - спросил Род. - Неужто он выше тебя? Меня ты перерос на добрые пол головы.
- Высокий гость! - вздохнул Чекман, - Со мной в попутье оказался сам великий князь Киевский Изяслав Мстиславич с ближними боярами. Он часто совет держит с князем Кондувдеем, испытанным своим союзником. Чуть знак подаст, и батюшка мой тут же исполчает всех черных клобуков. Нынче отцу неможется, так государь не стал его тащить на Ярославов двор, а сам явился. Вот пособоруют, пройдут в столовую палату, пришлют за мной, и я тебя с великим князем познакомлю.
Вошёл Тошман, княжеский стольник, объявил княжичу и гостю, что их ждут.
Род к тому времени вполне опрянулся и, влепоту одетый, последовал по длинным переходам за Чекманом.
Столовая палата была полна. Светильники на стенах, на столе щедро заливали её яичным светом. Во главе стола сидел хозяин, сивоусый Кондувдей, а I ним обочь великий князь, точь-в-точь такой, как к описании Олдана-вестоноши и в памяти самого Рода, видевшего Изяслава с посольского забора в Чернигове: ростом мал, лицом хорош, волосы кудрявые, борода круглая.
- Нет, не вылгал ты, Чекман! - сразу оглушил вошедших громкий звучный голос Изяслава. - Ишь какой молодчик твой спаситель! Мне братец Владимир сказывал о нём, хотя мельком видал, а вот запомнил.
Род по достою произнёс приветствия и занял место на другом конце стола рядом с Чекманом. Он удивился вниманию к своей персоне сводного брата Изяславова Владимира. Можно сказать, виделись чуть-чуть, проехали одним отрядом от веча к монастырю, пытаясь спасти Игоря Ольговича, а все-таки запомнил Чекманова приятеля Владимир, даже государю-брату рассказал о нём.
- Наслышаны тут о тебе, - шепнул Чекман, - Моё давешнее избавление под Новгородом-Северским обсуждалось горячо.
За едой он истиха знакомил гостя с ближним окружением Изяслава. Назвал бояр Глеба Ракошича, Кузьму Сновидича, Нажира Переяславича, Степана Милятича, выходца из Польши Владислава Вратиславовича Ляха. Указал на воеводу Шварна, знатного искусника в военном деле. Да и на вид он был не чета новгород-северскому Внезду, любимчику Ольговичеву. Рядом с ним сидел Вашко, посадник из Торческа. Ещё ниже занимали места старшие дружинники: Димитрий Храбрый, Алексей Дворский, Сбыслав Жирославич, Иванко Творимирич…
Вдруг в палате прозвучал великокняжеский вопрос:
- Открой мне, Родислав Гюрятич, ждёт ли победа в предстоящей битве?
Род поперхнулся. Речи смолкли.
Чужак за пиршественным столом смотрел на Изяслава удивлённо:
- Как меня знаешь? Почему такое спрашиваешь?
Маленький коренастый Изяслав резво встал, подошёл к Роду, возложил руку на плечо.
- Ведалец, а вопрошаешь о простом. Вестимо, кто как не хозяин объявил мне имя гостя. А я уж догадался, кто сей гость. Ещё бы! Сижу под Луцком с Долгоруким стрыем на ковре. Рядом Ростислав Гюргич, сынок его, изгнанный мной из Киева за тайное лазутничество. Все уже улажено. Крест поцелован. Пьём! И старший Гюргич, забыв обиду, войдя во чмур, поведывает, как, убегая от меня, попал в болото ненароком, как лесной отшельник, ведалец, извлёк его оттуда, предсказал долгую жизнь.
- Я в тот раз вылгал, - признался Род. - Святая ложь.
- Сейчас не лги, - тихонько сжал его плечо великий князь. - Я смерти не боюсь.
- Создай мне тишину, - попросил Род.
По знаку Изяслава все застыли, прикусили языки. Лица выражали и откровенное неверие, и любопытство, и насмешку. Род будто призадумался, прикрыл глаза рукой. Потрескивали свечи. Тянулось ожидание хозяина, и государя, и гостей. Прерывисто и возбуждённо дышал Чекман.
Река, - глухо проронил ведалец. - Да, это река… Их стяги видно с того берега. Нет, плохо видно. Мешает вода с неба. Свинцовая стена воды!.. Нет, то не стяги Гюргия. Нет, не Давыдовичей, не Ольговичей. Не знаю чьи… В твоих рядах сполох и ужас… Твои полки бегут… Тебе не удержать… Чекман, куда бежишь?
- Я не бегу, сижу, - как мышка, пропищал Чекман.
Никто не рассмеялся. Изяслав молчал.
- Ты поздорову возвратишься в Киев. Но под щитом. - Род отнял руки от лица.
Изяслав сумрачно глядел из-под густых бровей.
- Опять ты вылгал, самозваный волхв?
Род помотал усталой головой:
- Я передал, что видел. Волхвом не я себя, а ты меня назвал, не так ли?
Великий князь был мрачен. Подал голос Кондувдей:
- Однако же мой гость откуда-то узнал, что мы приговорили ударить не на Гюргия с Давыдовичами и Ольговичем, а на Владимирку, идущего из Галича в пособ своему другу-суздальцу. Не Гюргиевы стяги мой гость увидел за рекой. Какой на этих стягах знак? - спросил он Рода.
- Трезубец, - ответил ведалец. - Я таких стягов не видывал допрежь.
Опять молчание…
- Пора бы завершать почестной пир, - поднялся воевода Шварн, поскольку господин его уже покинул стол. - Вольно же государю скомороха слушать с глумливыми пророчествами!
Что ж, благодарствуем хозяину, - с лёгким поклоном обратился к Кондувдею Изяслав. - А ты, - метнул он взор вполоборота к Роду, - ты пойдёшь с нами к Звенигороду на берега Стугны, которую узрел. Сам убедишься в лживости своих пророчеств. А убедясь, по совести за них ответишь.
- За правду лобным местом мне грозишь? - пожал плечами Род, невольно вспомнив, что умрёт позорной смертью.
- За правду никого не накажу, - веско ответил Изяслав. - А насчёт места лобного… - Уж тут он применил свою любимую пословицу, слышанную ведальцем ещё в Чернигове: - Не место идёт к голове, а голова к месту!
10
Свинцовое небо навалилось на выгоревшее местечко, от коего уцелело лишь несколько хоромин.
- Что за местечко? - окликнул Род ближайшего ратника.
- Сказывают, Тумощ. Тумощ местечко, - отвечал тот, поспешая к обозу.
Сюда, к Тумощу, подтягивалась от Звенигорода вся сила Изяславова. Черные клобуки уже подошли. Дружина старого Вячеслава, нового союзника, отчего- то задерживалась. Здесь остановился обоз с оружием, походным харчем, боевыми доспехами. У сумных, поводных и товарных коней хлопотали седельники, мечники и коштеи[413]. Полки кормились, снаряжались и окольчуживались. Пересказывалось из уст в уста, что галичане неподалёку, на том берегу Стугны. Вестоноша передового полка примчался и растревожил скверным известием: внезапным налётом из-за реки захвачены несколько киевлян и один чёрный клобук.
Род держался в окружении Изяслава, как было велено. Ночь прошла в седле. Куда спешили? Будто бы помирать торопились. Сырой утренний туман, проникая под кольчугу, бросал в дрожь, словно все чувственные жилы пришли в расстройство. Хотя с чего бы Роду расстраиваться? Он оставался спокоен. Однако не в силах был превозмочь озноба.
Когда стали в виду Стугны, Иванко Творимирич обратил на себя внимание Изяслава:
- Как гляну, государь, на тот берег, легион тысяч галичан!
Нет, не гораздо он обратил на себя внимание.
- У страха глаза велики, - не посмотрел в его сторону Изяслав.
Рать исполчалась к бою. Первые стрелы галицких лучников стали вырывать воев из большого полка. Стрелки кыян старались отвечать тем же.
Род ждал: вот-вот вострубят рога, грянут бубны. Речка неширокая, мелкая на вид. Перебрести её в боевом запале не составит особого труда.
Однако не вострубили рога, не грянули бубны. Их упредило небо. Разверзлись хляби небесные и разом воздвигли между врагами непроницаемую стену воды.
Не просто сырость, а знобкая влага проникла под кольчугу Рода. Его сильнее затрясло.
К великому князю подскакал воевода Шварн:
- Кыяне в смущении - дескать, небо шлёт дурной знак. Просят отложить битву.
- Шварн, поразмысли, что изрекаешь! - возмутился великий князь.
Не успел воевода разомкнуть уст в свою защиту, подскакал старый Кондувдей:
- Князь! Сила у Владимирка велика, а у тебя дружина мала. Перейдёт он реку - нам плохо будет. Не погуби нас, сам не погибни.
Он ещё говорил о кокуйских и берендейских жёнах и детях, затворённых в поросских городах, их теперь надо защищать… Однако Изяслав уж слушал не его, а киевского боярина Глеба Ракошича:
- Ты наш князь. Когда силен будешь, и мы с тобою. А нынче не твоё время, поезжай прочь.
Изяслав глянул вверх. В его молчании можно было угадать жаркую мольбу к Богу. Потому что небо вдруг затворилось, водяная стена исчезла. Зато отчётливее на том берегу стал виден смертоносный лес копий.
- Братья! - закричал Изяслав. - Лучше нам помереть здесь, чем такой стыд взять на себя!
Но уже ни Кондувдея, ни Глеба Ракошича рядом не было. Рать дала плеча. Шварн делал беспомощные попытки сдержать бегущих. Слышалось: надрывались воеводы левой и правой руки, сберегая свои ряды, свои крылья. Тщетно! Вся рать дала плеча…
Род наблюдал, как метался великий князь, молил, заклинал бегущих. Наконец удалось схватить поводья его коня.
- Приди в себя, храбрый воин! - надрывно уговаривал ведалец. - Гляди, вокруг тебя только ляхи да угры.
Изяслав опомнился.
- Одни ли чужеземцы будут моими защитниками? - скрипнул он зубами и поворотил коня. - Это ты, проклятый волхв, накаркал мне беду! - Род не отвечал, а когда они поравнялись, потому что князь придержал коня, услышал горестное: - Не поставь во грех, прямодушный правдолюб, эту мою погрубину. Просто ты до драки был прав, а не после драки.
Они ехали медленно с малой обережью на пустеющем поле.
- Владимирко не спешит в погоню, - подскакал Шварн. - Мыслит, твоё бегство - лесть. А чуть уразумеет, что не прельщаешь, погонится, аки лютый зверь.
Прав был воевода. Это доказал первый же привал. Едва внесли пития и брашна в великокняжеский шатёр, едва Род стал благодарить Изяслава за приглашение к походной трапезе, как тот же Шварн эту трапезу оборвал:
- Не время пиру, государь. Владимирко близко.
Великий князь в тесном окружении, вздыхая, вышел из шатра. И началась бешеная ночная скачка.
Были, конечно же, были ещё привалы. Под догонявшим хищником, как и под удиравшей добычей, кони мчались не деревянные, не железные, питались не на скаку, несли не без устали. Но привалы были очень короткие - только-только полу перекусить, полувздремнуть. Порой казалось, тарантул нагонит гусеницу. Вот хвост её уже у него в зубах. Но лишь откусит кончик хвоста - и, пока пережёвывает, гусеница вновь уползла. Опять её догони! По дороге до Киева от сторожевого великокняжеского полка остались рожки да ножки.
На последнем перед столицей привале в шатёр Изяслава вошёл брат его Ростислав Мстиславич, Смоленский князь.
- Привёл дружину тебе в пособ, да опоздал, - сокрушался он.
- Не горюй, Михаил, Киев отстоим, - успокаивал его Изяслав.
Он называл брата христианским именем, тот, видимо, так любил. Они были очень разные, хотя по-родственному похожие. Небольшой рост, круглые бороды. У Ростислава лицо широкое. Далеко ему до братней красоты.
- Киев тебе не удержать ныне, - колебал великокняжескую уверенность Ростислав-Михаил. - Гюргий с сынами от Остерского Городца придвинулся, Владимирко у тебя за спиной.
- Ну что бы Гюргию не сидеть спокойно? - ударил по коленке кулаком Изяслав. - Со Всеволодом Ольговичем не заратился, а ведь тот вовсе не по поставу на киевский стол уселся. Зато мир был в христианской Руси и Божья благодать. Со мной же более пяти лет режется, аки кровоядец. Вокруг смерть и мерзость запустения. Разве это по-человечески, не токмо по-христиански? В толк не возьму его жадность к Киеву!
Ростислав сидел на волчьих шкурах насупленный, как бы придавленный тяжёлыми обстоятельствами.
- Увещевал я тебя, брате: уступи старший стол стрыю, как завещано дедами. Не хитничай, не обижай праотцев. Всеволод был двоюродный брат Гюргию, ты - племянник.
- Разве я враг праотеческих завещаний? - возразил Изяслав. - Вернулся в Киев, так не сам же сел на столе, Вячеслава посадил, назвал его отцом, а он меня сыном. У Вячеслава больше прав, чем у Гюргия.
- Ох, брате, не лицемерь, - отмахнулся Ростислав. - Кому на Руси не ведомо, что Вячеслав - ничевуха, пустое место и что это пустое место тобою занято?
Братья увлеклись, не замечали Шварна и Рода, случайно присутствовавших при щекотливом споре, а заметив в конце концов посторонних, оборвали разговор, оставшись каждый при своём.
Киев встречал побеждённых ненастными лицами. Никто не приветствовал великокняжеский въезд. Толпы таяли перед ним в заулках да переулках. Едва сторожевой полк прошёл, затворились, ожидая осады от галичан. Тем не менее Изяслав бодрился, великодушно пригласил Рода на Ярославов двор отобедать за своим столом.
Беда пришла вовсе не от Владимирка с его галичанами. Едва уселись за стол, вбежал Вашко, посадник из Торческа.
- Государь, измена! Гюргий с сыновьями, Ольговичами, Давыдовичами и половцами на той стороне Днепра. Кыяне уже перевозят их в лодках.
Следом вошёл Вячеслав, брат Гюргия, новый Изяславов союзник, мнимый великий князь:
- Не наше время, сын мой. Я возвращаюсь в Вышгород.
Глеб Ракошич с несколькими боярами тихо вышел из столовой палаты. Остались Владислав Вратиславич Лях, воевода Шварн и старшие дружинники во главе с Димитрием Храбрым.
- Еду к себе в Смоленск, - поднялся из-за стола Ростислав-Михаил.
Великий князь побледнел, но мужественно, неспешно завершал обед. Лишь коротко приказал Башку, торческому посаднику:
- Вели оседлать коней.
Отобедав, Шварн нарушил молчание:
- Куда возьмёшь путь, государь?
- На Волынь. Куда же ещё?
После обеда, отпустив всех, Изяслав подошёл к растворенной оконнице. Род собирался поблагодарить и откланяться.
- Слышишь ли, что за стенами? Какой шум! - обратился к нему великий князь.
- Слышу ржанье коней, лязг оружия, - откликнулся Род.
Изяслав отёр тыльной стороной руки влажный лоб.
- Значит, опять изгнание! - Он искоса оглядел своего рослого гостя. - У тебя, ясновидящий ведалец, вестимо, с изгнанником не попутье?
- Не обессудь, - поклонился Род. - У меня понадобье тоже бежать, да в иную сторону.
Изяслав отвернулся к открытому окну, истиха произнёс:
- От изгнанника боярину жизни нету.
Род приблизился к нему и сказал:
- Вижу, выяснил ты обо мне потонку, да не все. Верь, я жизни не ищу. Ни от кого ничего больше не ищу. Верь мне, княже! Загляни в мои глаза! - Когда Изяслав выполнил его просьбу, ведалец прибавил: - Тебе ли впадать в кручину? Изгнание твоё краткое.
Зима не минет, возвратишься в Киев на щите. И не отдашь его более своему супротивнику. Уйдёшь из земной юдоли великим князем.
- Твоими бы устами! - повеселел Изяслав. - Приведёт судьба свидеться, признавай во мне друга, - сжал он обе руки безвотчинного боярина. - О, как вскипела кровь в моих руках!
Род торопливо высвободился, коснулся дланью пола и вышел.
Город ещё не был полностью отечён Гюргиевой ратью. Род благополучно покинул его с вереницей беженцев через Лядские ворота. Сокрушаясь, что не удалось проститься с Чекманом и Кондувдеем, бежавшими в Поросье заблаговременно, он сделал длинную клюку с запада на восток и устремился к Остерскому Городцу на огненной своей Катаноше.
11
Становище в Радосыни небольшое, Киев близко, туда припозднившиеся путники спешат на опочив. Зато корчма при становище просторная - перед жаркой гоньбой до Киева конь требует овса, а всадникова утроба горячей пищи да горячительного питья. Подавщики обносили застольников винами и яствами, незамысловатыми и недорогими, хотя едоки и питухи при этой очень относительной дешевизне с тяжкими охами опорожняли свои мошны.
Род уютно устроился в уголке, уплетая стужёную чёрную уху из запечённых окуней, и слушал разговор двух местных завсегдатаев Матюшки да Мартюшки, как они называли друг друга. Оба были поровень бородаты, поровень плешивы, поровень мудрооки. Род различал их по голосам: у одного - бархатный, у другого - шершавый.
- Узы людские от упадка нравов и корчи душ расслабляются, - заявил Матюшка.
- Ох, грехи наши! - сокрушался Мартюшка. - Бабы начали пристраивать себе кошули[414], а не срачицы[415], и межножие показывать, и краткополие[416] носить, и аки гвор[417] в ноговицах сотворили, образ килы имеющий, и не стыдятся скоморошьего вида.
- А все сие от латын пришло, - уточнил Матюшка.
Тут баба ворвалась в хоромину и такой визг-писк подняла, ни слова не разобрать.
- Опять Матрёха Агафонкова нрав оказывает, - осудил Матюшка.
- Опять позорит своего Семейку, - поддержал Мартюшка. - Прокуликал[418], дескать, её приданое. Ишь что надумала!
- Баба с печи летит, семьдесят семь дум передумает, - отозвался Матюшка.
- Собака умнее бабы - на хозяина не залает, - рассудил Мартюшка.
Матриархальное немирье мужа с женой было прервано более немирным явлением.
В корчму вошли сразу несколько человек знатного вида, да вовсе не ратной выправки. Один из них, лицо коего показал ось Роду знакомым, преждевременный, судя по ясным глазам, старик, сморщенный, как гриб, подал знак. Вошедшие обнажили мечи. Тонким, слабым голосом, очень знакомым Роду, ранний старик изо всей мочи закричал:
- Калиты на стол!
Пиршебники, сделав великие глаза, стали выкладывать перед собой тощие и упитанные мошны.
- Не награбилась у чужих княжья сволочь, - процедил, звеня гривнами, Матюшка.
- За своих взялась, - с плачущим шёпотом извлёк калиту Мартюшка.
Семейка оглянулся на жену с не меньшим испугом, чем глядел на вошедших.
- Откупись от греха, - подтолкнула его Матрёха.
Неказистый старшой повелел окружавшим его подважникам:
- Шарапь, дружьё![419]
Тут поднялся неожиданный для всех Род, оглушив корчму властным спокойным голосом:
- Убрать калиты!
Мошны вмиг прибрали со столов их хозяева.
Ближние из подважников, опрокидывая преграды, бросились на непрошеного заступника. Из первой же перехваченной руки со звяком выпал меч. От удара ногой под грудь рухнул самый рослый из нападавших. А Матюшка с Мартюшкой растворились в месиве человеческих тел как призраки. Семейка, высадивший окно, выволакивал не пролезавшую в него Матрёху. Страшный удар меча пришёлся мимо Родова плеча на голову другому нападавшему, и в корчме вытный дух затмился запахом крови.
- У, проклятый бардадым! Меч его не сечёт, - хрипела глотка перед глазами Рода.
Сквозь хрипы и вскрики схватки его ухо поразил голос:
- Гляди, руками-ногами орудует, как Бессон Плешок…
Род оторопел.
Слабый тонкий выкрик старшого утихомирил дерущихся:
- Найдё-ён!
Сколько времени прошло, а Род все никак не мог унять расходившуюся грудь в щупленьких объятьях Фёдора Озяблого. Как же сразу не узнал он старого бродника? Сердцем помнил, а глазами позабыл.
Вот сам, позванный немедля, атаман Фёдор Дурной, расталкивая всех, устремился к другу:
- Родинька! Каким солёным ветром? Сколько лет, голубок, сколько зим!
Вскоре они вдвоём сидели за трапезой не в корчме, а в просторной атамановой ложне, в избе, занятой на ночь бродниками, выгнавшими хозяев.
- Помнишь, ты несчастье предсказывал, ежели приведу братьев на службу к Ольговичу? - трудился Дурной над стерляжьими спинками и белужьей вязигой, - Ошибся, как я сразу заметил. Хвала Сварогу, мы у князя в чести. Ни в чем преград для нас нету, сам убедился нынче.
- От крадвы никакая честь вас не исцеляет, - нахмурился Род.
Атаман, сломав зубочистку, сплюнул.
- Опоенные ядом не исцеляются.
Роду намного дольше его пришлось потонку поведать о собственных злоключениях. Фёдор Дурной, как родной, любопытствовал о его судьбе, досачивался дотла.
- Стало быть, страсти по Улите не прошли? - огорчился он. - Да возьми же ты в богатырские руки своё слабое сердце, Родушка! Сотвори над собой насилие!
Участие старшего друга отогревало почти Букаловым теплом.
- Сокровенную тайну тебе открою, - решился Род. - Травничество моё ведомо? Так вот, будучи в затворе, сотворил я из лесных трав зелье: заснёшь на время и смотришься мертвяком. На себе испытал. Трёхдневную меру принял, проспал три дня. Зарытовский бортник пришёл и охнул. Привёл деревенских с домовиной, а я живой. Один порок в зелье - лежу замертво, а все слышу. Подобрать бы недостающую травку! Залягу, где ни человек, ни зверь не найдут, и умру лет на сто. Порошок храню в платье. Был бы досуг да наш северный Пёс…
- Прекрати, опомнись! - взмахнул руками Дурной. - Слушай-ка меня. Заутро продолжим путь. В Киеве бродников не очень-то привечали: холостим, дескать, калиты без уёму. Святослав Ольгович возвращает нас в Новгород-Северский для вящей тамошней обережи. Стало быть - через Остерский Городец. А там, слышно, одиночествует твоя Улита. Пока муж празднует в Киеве, ты навестишь княгинюшку.
Род переменился в лице:
- Скачу с вами! Улитин братец Яким найдёт случай свидеться. Его бы прежде найти!
- Об этом пусть моя голова болит, - заявил Дурной. - Эй! - швырнул он сапогом в дверь. - Ещё братину на стол!..
Чуть развиднелось, бродники, остудив похмельные головы житным квасом, вспорхнули в седла и оставили Радосынь за густым пылевым хвостом. Избура-серый конь атамана отставал от Катаноши, так что до Остерского Городца и словом не перемолвились. За первой же переспой в первой корчме Фёдор уточнил:
- Стало быть, княгининого брателку к тебе привесть?
- Не в Киеве ли он? - обеспокоился Род.
- Не в Киеве, - успокоил Дурной. - Иначе ездил бы около своего князя. А я его в окружении Андрея не видел.
Уговорились, что бродничий атаман проникнет в крепость в виде новгород-северского посольника.
В послеполуденный час в убогую ложню остерского становища вошёл красик в бархатном золотом кафтане.
- У, ведьмедь, отпусти! - взвыл он в объятьях Рода.
Вдоволь полюбовались друг другом.
- Впору ты объявился, - сказал Кучкович, - Сам собирался искать тебя. Сестре после прежней встречи вынь да положь её «жисточку».
- Как… как свидеться? - не дослушал нетерпеливей.
- Есть способ, - подмигнул Яким. - Представь: княгине неможется. Я будто бы третьёводни посылал в Киев. Там знаменитый на всю Русь грек-лечец именем Агапит. Он к нам и прибудет. Кому здесь ведом его лик? Никому!
Названые браться потонку обсудили задуманное.
Повечер к становищу подкатила кареть. Приняла седока в чёрном емурлаке с кожаным ларцом, якобы лекарским… Несколько затыненных грязных улиц, булыжная площадь с деревянным собором, мост через гроблю - и вот она, крепость с мощными городницами, в коей заточена княгиня. Заточена, ибо тут не Киев с его весельями. На вопрос, отчего они с сестрой не празднуют Гюргиеву победу в столице, Яким ответил: меж Андреем с Улитой в очередной раз пробежала чёрная кошка, да и сам с государем в небывалой размолвке. Мечта Кучковича первенствовать в кругу бояр во Владимире, а не теряться средь киевских вельмож. Он нудит Андрея вернуться самовластцем на Север, не подколенничать у отца на Юге. Однако споры эти пока не ведут к добру.
Лечца Агапита ввели во дворец, не столь затейливый, как у Ольговича. Остерский Городец - крепость, не стольный град удельного княжества.
В княгининой ложне царил полумрак. В мелкие окна глядели сумерки. Светильников было два - у ложа и у двери.
Едва дверь закрылась, Улита откинула покрывало, вспорхнула с одра и в длинной поняве[420] повисла на шее вошедшего:
- Родинька-а!
Сброшенный чёрный емурлак лежал на полу у их ног.
- У ля, радость, ужли ты нездорова?
Неся любимую к одру, он жадно впитывал её шёпот:
- Теперь здорова!
В прошлую суматошную дорожную встречу он не приметил её особой дебелости. Входит в тело Ули тушка! Не боярышня, а княгиня!
- Отпусти меня, свет мой! Я тяжела…
Род разомкнул объятья, отпрянул от неё:
- Тяжела?
Она не спрятала взгляда, как в лесной келье, когда рассказывала о своих и Андреевых детях, изумрудные очи светились нескрываемым торжеством.
- Тяжела твоим дитём, Родинька.
- Моим? - задохнулся от счастья Род.
Приняв переспрос за неверие, Улита прижала подол понявы к лицу, почти пополам согнулась, Род увидел, как задрожали её лопатки под тонкой тканью.
- Опять ты рюмишь?
- Как же не рюмить? Ведь я, как приехала из Владимира, не делила одра с Андреем ни разу. То он под Луцком, то в Пересопнице, то в Переславле, то в Киеве…
Род стал пред ней на колени, приник головой.
- С чего выдумала, будто не верю? И счастье ты моё, и несчастье! Мучился разлукой с тобой. А теперь - с дитятком… мучиться разлучённому вдвое!
- Выкради меня, свет мой, нет более сил, - боролась с рыданиями Улита.
- А дети?
- Все равно выкради.
- А Яким?
- Ни полслова Якиму!
Их руки сплелись, как перед прыжком в пропасть.
- Не ошибись, Улитушка. Путь этот без возврата.
Она положила руку его ниже своей груди:
- Слышишь?.. Одно сердце ошибётся, два - нет!
Род долго не отнимал руки. Полный неизведанных чувств, поднялся, прислонился к изразчатой печи.
- Откуда эти изразцы? - отвлёкся он от отцовских дум.
- Не ведаю, - отвернулась Улита. - Перед моим прибытием привезли Андрею. Вздумал меня потешить.
- На них знаки созвездий небесных, зодии, - присмотрелся он, вспоминая изразцы, изготовленные царьградским мастером, купленные Кондувдеем у гречников…
- Глумы это все, - изрекла Улита, как тогда в челне на Мосткве-реке, когда он поведывал ей о зодиях.
Род сообщил, что Ярун Ничей по изволу Андрееву подманом заточил его, мучил голодом, зато сам погиб страшной смертью, сохранив тайну изразцов.
Улита слушала в мрачном молчании и после сказала жёстко:
- Нынче я верю, что Андрей ищет твоей погибели. Знаю, как он ненавидит тебя. Брюхатость мою заметил и ещё пуще возненавидел. Через Вевейку ли досочился или иным путём? С Якимом не говорил пока. Самой же мне что ему сказать? Убьёт! И меня, и дитя в утробе. Увези, выкради поскорей, не то за могилой жди. Мне все тут поперёк горла, поперёк глаз. К чему эти изразцы? К чему серебро светильников?
- Слышал я, Ростислав Гюргич в Переяславле внезапно покинул нашу юдоль? - молвил Род.
- Так, - сузила глаза Улита. - Все, как ты предрёк.
- Стало быть, муж твой с этих пор старший сын Гюргия, наследник? - продолжил Род.
- В великие княгини прочишь меня?
Улита яростной панфирью[421] прыгнула с одра.
- Тише! - Род поймал её в объятья. - Все будет сотворено к нашему благу. Только…
- Что? Что только? - теребила Улита.
- Как без Якима? Через кого нитечку к тебе иметь?
Будущая беглянка задумалась.
- Яким - брат и друг. Дорожит, однако, своим вельможеством. По моей вине ему может грозить опала. Доколе же мне жертвовать собой? Одной мне! Доколе? - Она порхала от светильника к светильнику, как бабочка, и внезапно вновь приблизилась к возлюбленному, приподнялась на цыпочках, шепнула в ухо: - Досочился слух, что у Андрея в Киеве… с княжной-галичанкой… разумеешь?
- Вздоры распускают? - ошеломлённо спросил Род.
Улита глубже загоняла ноготки в его плечо.
- Яким дознался: не вздоры! Вот почему он нудит князя возвращаться во Владимир. Спасёт ли это от галичанки? Дружьям[422]
- расстояние не помеха. А меня - под понку? В монастырь?
Род взял княгиню на руки, отнёс на ложе.
- Успокойся. Стены бродницкой крепости Азгута нас укроют.
- Пусть Лиляна будет нашей нитечкой, - развеивал его сомненья жаркий шёпот. - Она во всем верна!
Дверь, скрипя, приотворилась, пропустив Якима.
- О, врачу! Твоё леченье затянулось, - спустил он заговорщиков с неба на землю.
Княгиня и её лечец собрались с силами, чтоб оторваться друг от друга. Не набралось бы сил, узнай они, какую пропасть времени продлится расставание.
Когда укрытый емурлаком самозваный Агапит шёл из дворца, позади раздался резкий голос. Мнимый лечец не обернулся. Его внутреннему взору предстала огненнокудрая лазутка. Опять подстерегла!
- Врачу! Исцели меня от любви к тебе! - Род не ответил. Вевея крикнула вдогон: - Врачу, исцелися сам!
Он поспешил уйти с тяжёлым чувством надвигавшейся беды.
КЛЮКА СУДЬБЫ
1
Дело, будто бы легко выполнимое сгоряча, со временем обрастало трудностями, утяжелялось. Когда прибыли под Новгород-Северский, атаман Дурной продумывал нападение на княгинин поезд. Ведь не оставят Улиту изнывать в Остерском Городце. Гюргий крепко сел в Киеве. Андрея отрядил в Пересопницу, чтоб послеживал за волынскими изгнанниками. Вестимо, жене надо ехать к мужу, пока тот и впрямь не завёл другиню - галичанку ли, половчанку. Лазутники донесли, что Яким Кучкович отправился к своему государю, а про Улиту и слуху нет. Тогда явилась мысль подсказать ей отбыть на леченье к границе Дикого Поля, где у половцев целебное место, прозванное Аршан. А уж по дороге-то, на безлюдье, бродницкая ватага не оплошает. И, сидя в Мелтекове в пахнущих смолою хоромах, отстроенных на пепелище бывшего загородного дворца несчастного Игоря Ольговича, Дурной помогал дорогому гостю мечтать о том, как ему сладко и безопасно будет с его любавой в благожелательной Затинной слободе на берегу реки Шалой под охраной надёжного Азгут-городка.
Дни шли за днями, и чем более тепло заменялось холодом, тем яснее охладевал атаман к задуманному. Засыл пролагатаев к остерской затворнице по тем или иным причинам откладывался. Занемог брюхом Фёдор Дурной, Род его излечил. Запил горькую их споспешник Фёдор Озяблый, Род и тут нашёл средство помочь беде. Но вот по изволу своего государя Святослава Ольговича атаман принял решение сменить веру. Поганый язычник втайне, он наконец-то решил стать явным христианином. Вот в этом тем более Род принял деятельное участие, наставлял и сердцем, и разумом, чтобы искренним, а не показным был подвиг Фёдоровой души. Проникновенные беседы их длились далеко за полночь. Оглашённый, повинуясь Родиславу Гюрятичу, в крещении Петру, приносил из Божьего храма книги, которые тот подолгу читал неграмотному. Фёдор благоговел перед учёностью друга, уговаривал стать своим крестным, уверял, что их встреча со Святославом Ольговичем, неизбежная при намечаемых торжествах, не принесёт Роду худа. Однако же не было у бывшего Ольговичева соратника никакого желания обнаруживать своё присутствие в Северском княжестве. Поэтому Род не пошёл на крестины, затворился в своей одрине и, думая горькую думу, сокрушался, что дотянул в бездействии до середины зимы - всё дела да случаи, отложки да отсрочки. А для Улиты близится время родов. Как её на сносях везти в дальние дали по горам, по долам? Вот и Фёдор Дурной откровенно испытал облегчение, убедив друга вновь повременить, и теперь надолго - пока узрит свет выношенное дитя и окрепнет для дальнего путешествия. А уж этого жди до полного тепла. Кстати, как уверял бродничий вожак, зима след кажет, а лето его таит. Род умом воспринимал эти доводы, сердцем - нет. Как пытливо ни вглядывался в глаза атамана, не видел в них Улитина избавителя. Не лихое нападение на княгинин поезд рисовалось его внутреннему предвидению, а лихая бойня, безнадёжная и кровавая, где поляжет атаманова голова с размозжённым шлемом. «Берегись булавы! - не уставал он остерегать Дурного. - Не встревай в жаркие схватки». Фёдор только отмахивался: «Булава - не булавка, да и от укола ржавой булавкой помереть можно». Все меньше понимали они друг друга. О смелом замысле похитить Улиту Фёдор уже давненько не вспоминал. Все более одиноко чувствовал себя Род наедине с тяжёлыми мыслями.
Вот топот содрогнул подклет, забуянили голоса, заскрипели ступени. Род позже ожидал хозяина дома. По крещении намечался пир в княжеском дворце. Значит, отпировались быстро. Гость в однодышку[423] добежал до сеней, радуясь возвращению хозяина, спеша поздравить его. Внезапная оторопь остановила в дверях. Первым, кого увидел, был сам кутырь, Новгород-Северский князь Святослав Ольгович.
- Ррро-динь-ка! - заключил он Рода в объятья. - Стало быть, правду мне донесли, что ты скрываешься у Федьки-разбойника? А ты, Федорка, отрицал, а? Сдал бы я тебя сейчас в руки Пука, кабы не стал твоим крестным. Что скажешь?
Князь был изрядно пьян. Не трезвее выглядел и сам атаман, но лицо его становилось из красного бледным.
- Это мой погрех, государь, - признался обнаруженный затворник. - Я запрещал называть себя.
- Сызнова величаешь меня государем! - поднял палец кутырь. - А ведь не вернулся ко мне, даже Гюргию своему изменил. Так-то ты платишь за отеческий пригрев?
- Не знавал тебя в таком виде, князь, - переменил Род смирение на строгость. - А поведению моему есть причины. Здесь не время, не место их обсуждать.
- Ладно, - взял его за плечо кутырь и обратился к хозяину дома: - Где твой накрытый стол? Верно заметил мой бывший друг-ведалец: место и время не счёты сводить, а продолжить пир. Покажи, как ты тут разжился.
Стол в пиршественной палате и впрямь готов был принять хоть весь двор Ольговича вместе с малой дружиной. Виночерпии с блюдниками принялись за работу. Князь больше не обращал внимания на бывшего своего «друга-ведальца». Глеб Святославич миновал Рода со вскинутым подбородком, Внезд метнул косым взглядом, лишь боярин Пук сунул ватную длань с ласковым смешком:
- Нашего полку прибыло?
Атаман в челе стола, сидючи рядом с князем, опускал взор, встречаясь глазами с Родом: дескать, навязался кутырь на мою хлеб-соль, что поделаешь?
Странным показалось, что боярин Пук не по чину уселся рядом, даже обнял бывшего своего соратника. Бархатная петля объятий!
- Какое имя дали новокрещёному? - спросил Род, чтобы завязать разговор.
Важно потрясая сивой радугой усов, Пук ответил:
- Был Фёдор, остался Фёдором.
- Праздник - не война, - продолжил Род натянутую беседу. - Ишь как все веселы!
- Праздники-ватажники, будни-одиночки, - туманно возразил Пук.
Род пытливо всматривался в него:
- Что-то не понимаю тебя, боярин.
- Понимать - значит знать, - наставительно сказал Пук, - Стало быть, ты не ведаешь, что беглецу Изяславу угорский король Гейза прислал десять тысяч воев. А к ним супротивник Гюргия прибавил дружину старого дурака Вячеслава да черных клобуков, миновал Пересопницу и пошёл на Киев. Перед нами теперь задача: оборонять Гюргия или встречать Изяслава? Мой государь твоему не изменник, а вот как черниговские Давыдовичи решат, бабушка надвое сказала.
- Мой государь, твой государь… - в раздумье пробормотал Род, думая о своём.
Пук понял его по-своему:
- Стало быть, к нам вернёшься? Святослав Ольгович тебя приветит.
Род ничего не отвечал. Он позабыл про Пука, следил, как вбежавший бродник, челядинец Дурного, что-то истиха произнёс на ухо своему хозяину. Атаман коротко переговорил с Ольговичем. Сжавшееся сердце ведальца ощутило вдруг, что все последующее именно его коснётся. И, как всегда, сердце не ошиблось. Фёдор Дурной во всеуслышание объявил:
- Владимир Давидович, князь Черниговский, оказывает нам честь своим посещением!
- Хвала князю! Исполать! - воспрянули пьяные голоса.
Под эти радостные клики вошёл в палату пучеглазый человек, желчный, как волчий перец. Невольно вспомнился отзыв о нём покойного Нечая Вашковца: «Ласкает речами - затыкай уши, обнимает - уноси ноги». Князя сопровождал страшный жердяй, его неизменный тысяцкий Азарий Чудин, прозванный тем же Вашковцом «истым онагром».
- Удачно же я отыскал тебя, брат! - ласково обратился Владимир Давыдович к Святославу Ольговичу. - В городе не пирует, так за городом веселится. Я мигом сообразил! Хотя времечко не весёлое…
- Честь и место, брат! Честь и место! - повелительным взором освободил подле себя пространство северский властелин. - Может, и напоследок празднуем. Впереди - рать. Ты-то на чью сторону клонишь взор? - устраивал он у обширных своих телес сухонького Владимира.
- На твою, брате, на твою, - успокаивал тот.
- А я тебе, государь, и сейчас скажу, - встрял Азарий Чудин, ещё не севший за стол. - Не дело приставать нынче к Гюргию. Не единожды он союзников своих подставлял и теперь подставит.
Тут Святослав Ольгович вспылил:
- Ты подкуплен Изяславом, Азарий! Или не хочешь оставлять молодой жены?
Жердяй метнул в князя испепеляющий взор, а уста его вымолвили незлобивые слова:
- Молодые жены, княже, любят мужей вблизи, а не издали.
При этом тонкие, как тетива лука, губы его стали ещё тоньше. И за стол Азарий не сел, независимо прохаживался вокруг, отыскивая знакомцев.
Род сделал движение подняться из-за стола, тихомолком выйти.
Рыхлая рука Пука улеглась на его колено.
- Не бросай старого приятеля!
Род выдавил улыбку.
- Небось, боярин. В задец - не в поход, разлука недолгая.
Однако выйти он не успел.
- Ха! - воскликнул Азарий, обняв памятного своего врага. - Ещё один знакомец, да какой! - Он настойчиво повлёк обнятого к тому месту, где сидели князья. - Погляди, государь, кого я к тебе привёл! - обратился Чудин к Владимиру.
Поражённый нежданной встречей Давыдович даже вскочил из-за стола.
- Это… вот это да! - пролепетал он. - Божья воля, не иначе.
- Вражья воля, - поправил оторопевший кутырь. Он не забыл рассказ Рода о встрече его в черниговском застенке с Владимиром, потому от их нынешней встречи не ждал ничего хорошего.
Атаман Дурной тоже был в замешательстве. Ведь Род ему в приокском лесу со всей тонкостью поведал о своих злоключениях. Остальные пиршебники, не зная сути происходящего, с любопытством ждали дальнейшего.
- Твоя рученька моё горлышко помнит? - почти вплотную приблизил к Роду лицо Владимир.
Что было отвечать?
- Отложи нелюбье, - попросил двоюродного брата кутырь. - Кто старое помянет… Не порти пира.
- Что ты, любезный брат! Я пира не испорчу, - так же тихо ответил ему Давыдович. - Лишь прошу выдать мне головой одного из твоих людишек. Для взаимного удовольствия.
- Он не мой человек, - насупился Святослав Ольгович. - Этот боярич человек Гюргия.
- А сейчас-то твой! - проникновенно настаивал черниговский самовластец.
Род мог ринуться из палаты. И никакие хищные лапы истого онагра Азария не удержали бы его. Но он как заворожённый ждал решения Святослава, хотя уж ничего доброго не видел в его глазах.
Кутырь строптиво молчал.
- А я что тебе скажу, брат! - заговорщически склонился к нему Владимир Давыдович. - Я тебе скажу вот что: выдашь боярича - стану защищать Гюргия, а не выдашь - вместе с родным братцем Изяславом помогу его тёзке возвратить престол киевский. Братец мой так упрашивает, а я так колеблюсь!
Кутырь продолжал молчать.
- Думай же, брате, думай, - обволакивал тугодума шёпот ласкового злеца. - Отпусти, Чудин, нашего обидчика, - обратился Владимир к своему тысяцкому, - Срочно шли скорохода в Чернигов, скажи братцу: еду с ним вместе в пособ Изяславу Киевскому.
Кутырь тяжело поднялся.
- В страшный грех вводишь ты меня, брат. Бог тебе судья. Ин[424], быть по-твоему!
По знаку Ольговича Пук крикнул:
- Стража!
Вбежавшие кмети окружили Рода плотным кольцом.
- Поят ты князем Владимиром Давыдовичем Черниговским за все твоё воровство! - объявил Чудин.
Род и теперь мог бы сопротивляться, хотя вырваться из такого сонма врагов представлялось вели ким чудом. Даже не надеясь на чудо, могучий ученик Бессона Плешка предпочёл бы смерть страшным мукам, которые ждали его в Чернигове. Однако он не сделал никакого движения, лишь удивлённо взглянул на Северского князя и произнёс:
- Не верю ушам, Святослав Ольгович!
Кутырь, набычившись, отвернулся.
- Невозможное творится в твоём дому, атаман, - обратился Род к Фёдору Дурному.
- Не позорь моего дома, государь, - срывающимся голосом сказал Ольговичу Фёдор.
- Твой дом - мой дом, - в сердцах заметил Северский князь. - А мой уже опозорен, - прибавил он. - Опозорен ради великой цели!
- Не кручинься, брате, пируй! - повеселел Владимир Давыдович. - А нам пора и честь знать. Встретимся под стенами Киева!
Рода с железом на руках повели из палаты.
- Таков твой хлеб, Фёдор? - в последний раз обернулся он.
- Где хлеб, там и уголь, - отозвался за атамана Пук.
Дурной ушёл в тень, как в тот раз, когда по приговору Невзора уводили ведальца-смертника в поруб Азгут-городка. Род почувствовал себя в шкуре Якуши Медведчикова, обречённого стать ежом на ядрёной матице. Сила, где твоя власть? Дружба, где твоя верность?
В возке без окон в обществе вонючих охранышей на осклизлом от талой грязи полу было жёстко, тряско и душно.
Долго ли, коротко ли его везли? И вот пленник выведен в тот самый двор, откуда спасла его большая ветла, где в приземистой, пропахшей кровью избе пытали Коснятку. Его повлекли не в эту избу, а в другую, поменьше. Значит, бросят в поруб… Не бросили, оставили в тесной бревенчатой келейке с мелким волоковым оконцем под потолком. Здесь вскорости объявились перед ним Владимир Давыдович и Азарий Чудин.
- Редкостная удача - отомстить по всей воле! - сладко вымолвил князь.
- Мечтал я о такой мести, видя твою милость у этого оборотня в руках, - гудел тысяцкий.
- Молчишь? - обратился князь к заточеннику. - А ведь как говорил тогда! На пятое лето мне смерть предсказывал. Вот оно, уже близко пятое с тех пор лето. Нынче не я у тебя, а ты у меня в руках. Может, что иное предскажешь?
- А мне предрёк вечность адских мук, - припомнил Чудин. - Предскажи-ка мне райское блаженство, я тебя ножичком попрошу.
- Спрячь нож, Азарий, - приказал князь. - Не порть вязня. Я ему небывалую казнь измыслю.
- Перво-наперво ослепим, - размечтался тысяцкий. - Затем урежем язык, а после…
- Ох, это все набило оскомину, - отмахнулся худший из двух Давыдовичей. - Не спеши. Времени у нас вдосталь.
Князь вышел первый. Тысяцкий подошёл к лёжа чему узнику и в однодёржку[425] вырвал из его головы добрый пук волос.
- Смастерю зоску[426] сыну, - осклабился истый онагр, запирая за собой дверь.
Род прикрыл глаза. Мысли и чувства покинули его.
2
Во сне узник увидел воду. Вернее сказать, не увидел, а ощутил вокруг себя очень много воды. Она побурливала, всплёскивала под его руками и ногами. По сладко-речному воздуху, а точнее, озёрному, даже пресно-морскому он мог представить, что великое озеро или пресное море разлеглось на огромном пространстве. А ему плыть да плыть - то на спине, то на боку, то рывками по-щучьи, со скоростью калёной стрелы, пущенной на короткий дострел. Страха от кромешной тьмы не было, но тяжесть… ох, какая тяжесть наваливалась, придавливала сильнее час от часу, грозила в конце-то концов упрятать его на дно. Вот тьма сгустилась, чутье подсказало: то ли стена, то ли скала, словом, неодолимая преграда впереди. Род непроизвольно нырнул поглубже, а когда выпростал из пучины голову за глотком воздуха, поразился ясному небу, яркому солнцу, многолюдному берегу, потому что город возвышался над ним. И знакомый город. Вон вздымается белая башня на земляном валу! Так и рвалось из груди торжественное приветствие: «Здравствуй на много лет, Господин мой Великий Новгород!» Странно только, что Волхов был необычно свободен от вёсельных и парусных судов. Голоса, пение слышались, но ругани, споров к ним не подмешивалось. «Выдибай, выдибай живее на берег!» - подбадривал себя Род. Вот он идёт по набережной, и никому нет дела до него, никто не обращает внимания на его промокшее платье. А оно, оказывается, вовсе не мокрое. Солнце ли, ветер ли высушили так быстро? Вот и торговая сторона - Чудинцева улица, Прусская, наконец, Людогощая. Конечно, он устремился в дом Богомила Соловья. Где же тут бесконечность съестных возов, дух мясных, рыбных, овощных рядов? Вот он открывает косящатое слюдяное оконце своей светёлки и не чует говяжьих, стерляжьих, луковых запахов. Он усаживается на сундук, на котором любил рассматривать узорный золотой змеец по чёрному глянцу. А на лавках те же ковры, вытканные феями и лебедями. Он протягивает руку к муравлёному кувшину на поставце и вдруг слышит:
- Не прикасайся!
Позади - маленький кряжистый человечек, весь лысый, лишь от висков седая каёмка. В левой руке - клинышек бороды, правая с повелительно вскинутым указательным пальцем. Все стало ясно оторопевшему гостю: это не наяву, это во сне он вспомнил безмятежную свою жизнь в Богомиловом доме.
- Не прикасайся здесь ни к чему, - повторил Соловей, - Руки твои не воспримут того, что воспринимают очи.
- А почему? - по-детски вопросил Род.
- А потому, - отечески улыбнулся Богомил, - что мой мир пока ещё не твой мир.
- Значит, верно Букал сказал, а Зыбата Нерядец подтвердил, что ты мёртв? - отшатнулся Род. - В это я никак не хотел поверить, пока сам сюда не приду.
- Теперь ты пришёл, - улыбнулся Богомил и, в свою очередь отступив, остерегающе выставил длани: - Только не приближайся, не притрагивайся ко мне.
- У тебя след на шее от вервия, - ужаснулся Род. - Стало быть, истину видел Букал: они тебя утопили?
- Вор-посадник Судила взъелся за мою прямоту, - опустил голову Богомил, - Достал меня по приезде из Суздальской земли. Натравил толпу. Народ - умница, толпа - дура! Сам христианский епископ Нифонт умолял граждан не бросать меня в Волхов. Руки мне приковали к шее. В таком виде и Перуну не выплыть.
Роду ещё хотелось о многом порасспросить волхва. Тот кивком указал ему на лавку, покрытую тканым ковром, велел отдохнуть после столь трудного пути.
Ученик, никогда не выходивший из воли учителя, лёг… Не почувствовал ни ковра, ни лавки, будто бы провалился в мягкое облако, замертво утонул в нем. И вот что странно: приснился дурной, неприятный сон. Он оказался в бревенчатой полутёмной каморе с волоковым оконцем под потолком. Здесь отвратительно пахло. Клацал запорами стражник, приносил миску тюри, требовал ночную посуду. Род несказанно обрадовался, когда оконце стало темнеть. Вместе с затворным днём кончился страшный сон. Он проснулся в воде, опять плыл и плыл… А вынырнул на Мосткве-реке, невдали от Букалова новца на знакомом месте.
Оставалось, как в детстве, дойти до дому. Нитечку через болото он знал назубок. Вот и Букалова келья. И костёр разожжён на привычной плешине. А нет Букала. У костра один Богомил.
- Пришёл? - обернулся он и стал сыпать в огонь каменный порошок, постепенно окутываясь сиреневым дымом. - Смотри! - велел волхв. - Что вижу, открою тебе потонку…
Род увидел древних людей на берегу великого озера.
- У прапраотца Иафера был правнук Скиф, - уже не обычным своим тенорком, а чужим глуховатым голосом произносил Соловей. - От Скифа произошли пять братьев-князей. Их имена Словен, Рус - самые храбрые и мудрейшие, - а также Болгар, Коман и Истер. Все они жили на берегах Чермного моря. В три тысячи девяносто девятом году от сотворения мира два брата, Словен и Рус, оставили древнее обиталище. Вместе со своими народами они ходили по странам вселенной, обозревали безмолвные пустыни, как орлы быстрокрылые. Четырнадцать лет искали земли по сердцу и, наконец, пришли к озеру Мойску. Здесь волхвование им открыло, что сие место должно стать их отечеством. Смотри, смотри! - Соловей как бы вырастал у костра, простирая руки к огню, дыша обволокшим его дымом, багрянея лицом.
Род увидел древний сосновый город на берегу реки: смолистые ребра стен, дощатые крылья крыш…
- Старший сын Скифа Словен поселился на реке Мутной, - продолжал Богомил. - Основал город Словенск и назвал реку Волховом, а приток её Волховцем по имени двух своих сыновей. Волхов был лютейшим из чародеев, принимал рыбий образ, скрывался в реке, топил и пожирал людей, не хотевших признавать его богом. Видишь?
- Вижу, - содрогнулся Род. - Вижу!
- Он жил в особенном городке у берега реки, - продолжал Соловей. Слова тяжкими жерновами выкатывались из гортани провидца. - Место это именовалось Перынью, и люди воздавали здесь Волхову божеские почести. По смерти его уверяли, что Волхов «сел в боги», но ты-то видишь, ты видишь…
- Я вижу, - слабым голосом отозвался Род, - Бесы утопили его в реке.
- А злочестивые люди, - продолжал Богомил, - справили по нем тризну, насыпали могилу для поклонения, которая со временем провалилась в ад.
- Я вижу иного мужа, ясноокого, светлоликого. - Род указал в костёр.
- Это брат чародея Волховец, - объяснил Богомил. - Именем сына его Жилотуга назван особый приток реки, в коем несчастный княжич впоследствии утонул. Этот приток - твой род. Жилотуг дал ему начало.
- Стало быть, я праправнук витязя Скифа? - спросил Род.
- Ты Жилотуг, потомок Скифа, - подтвердил Богомил. Он взмахнул рукавом, и сиреневый дым мгновенно был поглощён костром. - Теперь тебе ведомы твои корни, - отвернулся от костра волхв.
- А что стало с другим братом Словена - Русом? - полюбопытствовал Род, не в силах сразу оборвать волхвование.
- Он основал город Русу. Потомки его обогатились и прославились своим мечом, завладев всеми странами северными до Ледовитого моря и желтовидных вод. Станут они жить и за высокими каменными горами у беловидных и млечных рек, где ловят зверя дымку. Их ждут большие войны, и мир ужаснётся их храбрости. Но, - Богомил глянул вверх, - ночь растворяется. Время наше исчерпано. Погости ещё в своём мире.
Род медленно опустился на траву и не почуял земли, потому что сон тут же сковал его.
Во сне он видел ту же отвратительную камору с волоковым оконцем под потолком, того же грубого стражника, что являлся ему в урочный час. Однако пища, приносимая молчаливым тюремщиком, стала обильной и сытной.
К вящему своему огорчению, проснулся он сызнова в мрачной каморе. У жёсткого, ничем не застланного его одра возвышался Богомил Соловей.
- Вот и третья наша встреча. Земля - третья от солнца. Прими, сыне, мой отцовский дар - землю, - произносил волхв непонятные слова.
Род сел на тюремной лавке, хотел слёзно попросить взять его отсюда насовсем. А старик тем временем развернул в руках льняной лепест с бурой горсткой земли, склонился и зашептал над ним:
- Мать-земля, подай клад! Из тебя испечённому, в тебя уходящему. Родительская - благословенная, белая - свободная, холодная - с семи могил, спаси доброго от беды. Рыбе - вода, птице - воздух, человеку - земля. Дорасти, древо, от земли до неба, дотяни сучья до чёрной тучи, сблизь бездну и твердь водяным столпом. Смерти смерть от того столпа. Мать-землица, дай силу! - Завернув горсть земли в лепест, волхв подал узелок Роду: - Сбереги. Запомни. В страшный час повтори.
- Заговор? - удивился Род.
- Заговор, - подтвердил Богомил. - Видишь, как мы в однодумку молвили одно слово? Затем и встречался я с тобой трижды, что слову этому пришло время. Позорную казнь готовят тебе, а вот ей-то как раз не время. Погости ещё в своём мире.
- Я уже в твоём мире прижился, дорогой Богомил, - взмолился ученик Соловья. - Забери меня с собой. Здешний мир - дурной сон!
- Сон для тебя пока что не здесь, а там, - возразил учитель.
Род свободной рукой непроизвольно попытался ухватить его руку, но в пальцах ощутил пустой воздух. Богомил ответил той самой усмешкой, что неизменно оживляла его лицо всякий раз, когда ученик был не в силах решить задачу: эх ты, дескать, недотёпа! Видение, столь дорогое исстрадавшейся душе, растаяло на глазах.
Вот когда Род в самом деле проснулся. С горьким чувством разжал ладонь, которая ещё ощущала весомый дар волхва, так приятно приснившийся, и не поверил в своё пробуждение разжавший пальцы ученик Богомила: на ладони был узелок с землёй. Осторожно развернул, завернул, скрыл на груди.
3
Повечер узника посетил неприятный гость, старый, недобрый знакомый. Отпёртая дверь рывком распахнулась, и в камору вошёл мужик в просторной рубахе навыпуск, в широких штанах, по-старинному безбородый, с обвислыми усами и обритой чубатой головой.
- Здравствуй, Севериан, - обратился он к Роду так, как его именовали в застенке, где пытали Коснятку.
- Здравствуй, Лутьян Плакуша, - ответил узник.
Кат на сей раз смотрел на него без того почтения, с коим относился к писальнику, сам не разумея ни буквы. Он смотрел на него с вожделением, как проголодавшийся путник на курицу, сочную, с поджаристой корочкой, только что из печи. Бери её, рви руками, вонзайся в неё зубами, испытывай превеликое удовольствие!
- Подкормили тебя недурно, - удовлетворился Лутьян. - Пощупать бы, сколь стал крепок телом, да боюсь не сдержаться, испортить до времени. Государь будет сетовать. Потерплю. Ночью встретимся.
- Ночью? - переспросил Род, стыдясь закравшегося испуга.
- Нынешней ночью, - подтвердил Лутьян. - Пришла твоя очередь. Собирайся с духом.
Когда Плакуша ушёл, Род, сидя на жёстком ложе, задумался. Много страданий переносил он ни за что ни про что. Теперь, пожалуй, впервые предстояло мучениями ответить за свою дерзость. Четыре года назад, спасаясь из этих мест, он крепко обидел здешнего властелина. И вот - отмщение! Что ж, сызнова покоряться судьбе? Род думал о ладанке с землёй. Не этой ли избавой одарил его перед муками Богомил Соловей? «Дорасти, древо, от земли до неба, дотяни сучья до чёрной тучи», - шёпотом повторял он заклятые слова. И все ясней понимал, что нынешней ночью не придёт ещё время Богомиловой ладанки.
Слеза бессилия заскользила по заросшей щетиной щеке. Хотел полой платья отереть лицо и случайно нащупал чуть заметное утолщение в нижнем шве: там хранился родителев перстень, а рядом… Рядом была другая ладанка, его собственная, с временно умерщвляющим травным снадобьем. Ах, ещё не за кончен труд: против слуха и разума недостающая травка не сыскана…
Узилищная вечеря - кипяток с хлебом. Нынче будет высшее предназначение кипятку: кипяток обратится в настой, невозможно горький и невозможно волшебный. Выпив, Род скрыл в щелях пола гущу из кружки. Пропал большой труд! Где и когда восстановит он почти готовое зелье?
Род лёг на ложе, сложив руки на груди…
Ночью загремели запоры, застучали шаги, раздались испуганные голоса:
- Прокл! Проклятый Прокл! Чем вязника окормил?
Голос вдавни знакомый. С трудом всплыл в памяти Мисюр Сахарус, княжеский обыщик.
- Кипяток с хлебом давал. Хлеб не тронут.
Это лепет тюремщика, у коего душа ушла в пятки Смерть княжеского вязника аукнется на его поротой спине.
Ушли, дверь оставив незапертой. Вставай, беги! А ни единым членом не двинешь: мёртв!
Негрубые, вельможеские шаги…
- Мисюр, возьми Прокла за приставы, - велел Владимир Давыдович и присовокупил раздражённо: - Экая незадача! Отравлен!
- Отравлен не есть. Остановка сердца, - прозвучал жестяной голос чуждого, не русского человека.
- Достоин ли веры твой лечец, брате? - спросил князь, называя кого-то братом.
- Весьма искусен сей грек. Ученик Агапита! - ответил не кто иной, как памятный бывшему посольнику Изяслав Давыдович.
- Мисюр, выпусти Прокла. Проводи грека в кареть, он больше не надобен, - приказывал князь Владимир, - Вот, брат, - обратился он к Изяславу, - Мы тут с тобой одни. И стены тут не дворцовые, у этих стен ушей нет.
- Если мертвец не слышит, - пошутил Изяслав Давыдович.
- Похоже, этот изгой никогда уже и никого не услышит, - вымолвил Владимир своим сладко-приторным голосом. - Мне пророчил скорую смерть, а сам… Представь, брате, - вдруг оживился князь, - приятель его, безродный бродничий атаман, любимец нашего новгород-северского соседа, пытался со своей сволочью освободить мерзкого лжеволхва. Вооружили руки и ноги когтями железными и полезли ночью через стену переспы. Не обмануло меня предчувствие: ещё загодя, ну на всякий случай, заслал в их ватагу отменного пролагатая. Помнишь Фёдора Кутуза? Он Фёдора Дурного, своего тёзки, малейшее шевеление пальцем мне тотчас же докладывал. Так что мы их прищучили у стены. Кого стрелами сняли, кто сам свалился.
- Как, и бродничий атаман у тебя в руках? - удивился Изяслав братней оборотистости.
- Этой радости мне доставлено не было, - сокрушался приторно-сладкий голос. - В свалке у стены атаману размозжили голову булавой. Живым взяли только одного бродника прозвищем Озяблый. Лутьян выбился из сил, однако тщедушный червь не открыл зарытых бродницких кладов. Продолжать доиск бесполезно: не выдержит! Завтра его - на столб!
- Ох, зол ты, брат! - вздохнул Изяслав. - Слава Создателю, бедного волхва от такой участи смерть избавила. Я на него не держу обид: он мне предрёк великокняжеский стол. Пусть и солгал, зато от доброго сердца.
- Этот пророк и мёртвый изжарится на столбе, - мрачно изрёк Владимир Давыдович.
- Остепенись, брат, предай тело земле, как христианин, - уговаривал Изяслав Давыдович.
- Это дело только моё, - зло сказал Владимир, - Мы о нашем общем с тобой деле не успели договорить. Почему я остаюсь с Гюргием, а тебя шлю в помогу изгнанному великому князю? Ужель не ясно?
- Ясно одно: разделяться нам с тобою не след, - возражал Владимиру брат.
- Ну так слушай! - раздался свистящий шёпот, - Гюргий ли одолеет, Изяслав ли Мстиславич - нам все едино. При Гюргии я, будучи на щите, тебя выручу, а при Изяславе - ты меня. Тонко?
- Слишком уж тонко, брат, - отвечал соименник изгнанного великого князя. - Уйдём-ка отсюда. Здесь тяжко. Не иначе задохнулся несчастный вяз ник.
Князья вышли, оставив мнимого мертвеца с тяжелейшими мыслями о предстоящей гибели на столбе. Когда же произойдёт сия посмертная казнь? Принимая снадобье, он рассчитывал, что на третий день выберется из неглубокой могилы, какие обычно роют чмурные стражи для упокоившихся заточников. Мстительный князь превзошёл в своей злобе все самые худшие предположения. Оставалось надеяться на незатяжную смерть и горько думать о бесполезном Богомиловом даре, волшебной земле, вспоминая наиболее подходящие слова заговора: «Из тебя испечённому, в тебя уходящему…»
Он потерял счёт времени, не ведал часа, дневного или ночного, когда услышал возле себя голоса:
- Два дня минуло, а труп свеж.
- Холодно тут, как в скудельнице.[427]
Он не почувствовал, как его выносили. Натужно всхрапывала старая кляча, ей визгливо отвечали колеса - значит, снег стаял, сани заменили телегами. Когда колеса затихли, слух воспринял многие голоса, звучавшие на огромном пространстве. Тело не ощутило пут, коими его привязывали к столбу. Вот многоголосье уже где-то внизу, а вокруг страшная тишина, которую вдруг прорезал страдальческий писк Озяблого:
- Пощади-и-и-те-е-е!
Его оборвал треск. Так трещал огонь, пожиравший терем боярина Кучки. Конечно, тот треск был куда мощнее, этот показался страшнее.
- Мажьте смолой покойника, длинный факел готовьте! - приказывали снизу.
Однако казнимый уже вполуха слушал эти приказы. Его занимал ток жизни, содрогавший все тело. С усилием разомкнув веки, он увидел себя на высоком столбе, прикрученным гнилыми верёвками. Для мертвяка пожалели доброго вервия. А напротив на таком же столбе трещал факел. Это восходил свечой к небу Фёдор Озяблый. Казнь наблюдали вскинутые головы княжьих кметей, самого князя, ближних отроков, малой дружины. Выделялся ужасным ликом истым онагр Азарий Чудин. А кто же ещё там выстроился особняком в темных латах под хмурыми шишаками? Оттуда раздались возгласы:
- Открыл… открыл очи… Ожил!.. Глядит!..
Род глянул вдаль, пустую до окоёма. Где же Чернигов? Позади? Впереди лишь земля и небо. А как бы хотелось ещё и солнца! Небо - сплошная туча. Факел Озяблого щекочет тучу черным хохлом, сливая с её чернотой свою копоть. Слабо ли туче загасить факел?
И вдруг знакомый голос:
- Снимите со столба! Мёртвый жив!
- Да пошевеливайтесь же! Смолы! Огня! - Это приказ Владимира, торжествующего свою месть.
К казнимому уже потянулись древки со сгустками смолы. Только вымазать и зажечь.
От ладанки Богомила Соловья стало горячо груди. Род напряг силы. Показалось, кожа от натуги на руках порвалась, но и связывающее руки вервие порвалось. Он их высвободил, воздел к небу. Надо загасить факел. Нет сил его терпеть! Невиданной мощи крик сотряс воздух:
- Дажбог, дай дождь!
Волхв выкрикивал каждое слово чётко. Три слова - словно четыре камня посылал в небо.
- Даж…бог, дай дождь!
Туча не отвечала. А ладанка Богомила жгла грудь.
- Дорасти, древо, от земли до неба, дотяни сучья до чёрной тучи! Мать-землица, дай силу!
Просящий ощутил себя мощным деревом, выросшим из столба, руки его, как ветви, удлиняясь, вздымались все выше, пальцы, как сучья, дотягивались до влажных зябей, входили в тугую влагу, разверзали упрямую утробу воды.
Ливень хлынул стеной, и на месте исчезнувшего факела обнаружился чёрный остов Озяблого.
- Смолы!.. Огня! - заходился в истошном крике Владимир.
Что огонь, что смола под гасящей стеной воды?
Свирепость мстителя перекрыл иной крик. До боли знакомый голос воззвал по-боевому:
- Галичина-а-а!
Стоявшие особняком вой в латах и шишаках смяли княжеских кметей, свалили столб, сорвали со смертника вервие, что ещё сковывало его ноги и тело.
- Осторожнее, хлопцы! Не причиняйте боли.
Род удивлённо созерцал дружеский лик, склонившийся над ним:
- Иван… Ростиславич… Вдругожды… спасаешь…
- А, не забыл, как мы с рязанцем Владимиром тащили тебя из Ольговичева поруба? - не выдержал - рассмеялся галицкий изгой Берладник. - Не подходить! - заорал он куда-то в сторону. - Мне никакой Владимир Черниговский не указ! Служу только Изяславу Черниговскому! За спасённого друга глотку перегрызу! Никому его не отдам!
4
Род восстанавливал силы в покоях Ивана Ростиславича Берладника. Изгнанный галицкий князь в Чернигове расположился по-княжески. Испытанная на верность дружина надёжно берегла его дом.
- Изяслав Давыдыч не Святослав Ольгович! - приговаривал вдрызг намыкавшийся Иван, навещая друга. - Есть теперь у меня на Десне сельцо, с коего кормлюсь. И боевая сряда у хлопцев справная. Буду служить этому Давыдычу по-сыновни. Но не его братцу-кровоядцу. Я ведь тебя на смертном столбе обнаружил с полвзгляда. Сердце захолонуло. Ну, думаю, мертвец. Отстрадал свой век. Сожгут, как язычники. Они же и есть язычники. Благоденственную державу Владимира Святого и Ярослава Мудрого превратили в жертвенник Вельзевула. Кровь так и льётся в бойне. Мяса так и поджариваются в пожарах. Принимай жертву, Сатана! А все потому, что власть их осатанила. Да о чём говорить? Тьму тысяч раз горечь переговорена!.. А тебя как увидел раскрывшим очи… Не могу выразить! Впал в такое возбуяние, хоть сам лезь на столб. Все, слава Богу, позади. Ты поотдыхай пока. Повечер зайду. Дорасскажешь сполна про свою Улиту. Чего не смог твой друг-атаман - царство ему небесное! - то смогу я, и никто иной. Мы тебя и твою другиню знаешь куда упрячем? Никакой Долгорукий властелин не дотянется. В Вятскую республику! Слышал я от ушкуйников в Новгороде Великом, есть таковая у нас на севере на Вятке-реке. А столица её - град Хлынов. Там славяне-республиканцы живут, аки римляне в доавгустовой поре. Не чета глупым новгородцам! Никакого князя к себе - ни-ни! Вот хоть я приди, вытолкают взашей. Знают они нашу княжью хватку: лапы мягкие, зато когти вострые! Так что ты уж там не боярин, а Улита твоя не княгиня. Дай обниму до вечера, чародей-кудесник!
Род напрасно ждал, когда жёлтая оконная слюда станет серой. Иван повечер не пришёл. Явился удалой кудряш с закрученным, как у ляхов, усом. До чего ж знаком этот удалец!
- Здрав будь, боярин! - низко поклонился он. - Радуюсь сызнова повидать Третьяка Косолапа. Твоего любимого вишнёвого взвару не пожелаешь ли испить?
- Якубец Коза! - узнал Род, принимая кружку из его рук. - Как ты здесь оказался?
- Ах, досточтимый Третьяк Косолап! - тяжело вздохнул давний знакомец.
- Да вовсе я не Третьяк Косолап! - поперхнулся Род.
- Не гневись, боярин, - принял Якубец кружку, - Захотелось припомнить старое, как оставил тебя в кромешной тьме у Славяты Изечевича, покойного моего господина…
- Покойного? - огорчился Род.
- Бог прибрал благодетеля прошлым летом, - опустился Якубец на ковёр у одра. - Теперь уж я не боярский, княжеский отрок у Ивана Ростиславича на хорошей службе. Господин мой повечер отлучился на позов Изяслава Давыдовича. А меня послал твою милость развлечь, боярин.
- Да какой я боярин? - дотронулся Род до плеча Якубца. - Не достоит так бедного странника величать.
- Все мы странники здесь, Родислав Гюрятич, - отвечал ему добрым взглядом Коза. - Вот хоть великий князь Изяслав Мстиславич. Ведь вдругожды изгнали из Киева. Странствовал по Волынии. Нынче же вестоноша донёс: Изяслав вновь на великокняжеском столе. Киев празднует его возвращение. Вот тебе и странник!
- Что ты говоришь?
Род закрыл лицо ладонями, первым долгом вспомнил не одолетеля, а побеждённого Гюргия, и увидел жалкую кучку всадников, скачущую во весь опор.
- Я говорю, Изяслав нынче великий князь! - донёсся будто бы издали голос Якубца.
- Куда Гюргий скачет? - вслух подумал Род.
- Что с тобой, боярин? - удивился его внезапной бледности Коза. - Ну любой же букашке ведомо: Гюргий скачет сызнова сгонять смердов в ратные полки, отбирать у пахарей коней, созывать половцев-крадёжников себе в пособ. Надо же петуху возвращать насест. А ведь слетел с него так позорно!
- Да, позорно, - отнял руки от лица Род.
- Ты всего не ведаешь, - увлёкся рассказчик. - Когда изгнанный Мстиславич, собрав силы, миновал Пересопницу, за ним следовал злец Владимирко, похитивший вдавни у моего господина Ивана галицкое княжение. А к Владимирковым полкам примкнул Андрей Гюргич со своей дружиной. Устрашающая сила двигалась за Изяславовой спиной. А впереди Гюргий вот-вот выступит из столицы. Каково оказаться в таких клещах? А забубённая головушка Изяслав знай себе идёт к Киеву! Бояре ропщут: «Сзади враг, спереди другой!» А смельчак окорачивает трусливых: «Иду на суд Божий!» И Бог рассудил по-Божески. За рекой Уш галичане почти нагнали. Их передовой и великокняжий сторожевой полки начали перестрелку. Как избежать битвы?
- Свет ночных костров, - вымолвил Род.
- Ты все ведаешь! - всплеснул руками Якубец. - Кто меня опередил рассказом?
- Я увидел костры, - сказал ведалец. - Многое множество! Только не ведомо, где и чьи.
Изяслав кострами обманул Владимирка. Тот не перешёл реку, думая напасть с утра. Хитреца же ночью и след простыл. Вырвав хвост из цепких лап врага, борзый пардус устремился к Киеву. С ходу занял Белгород. Гюргий, сидючи в столице, как узнал, бросился в лодке через Днепр и проворней, чем лисица в нору, скрылся в свой Остёр. Сколько суздальских бояр по пал ось в руки Изяславу! Коли не брешет вестоплёт, озадаченный поступком Гюргия Владимирко объявил Андрею: «Сват мой есть пример беспечности: господствует в России и не знает, что в ней делается. Один сын в Пересопнице, другой в Белегороде не подают отцу вестей о движении врага. Когда вы так правите землёю, я вам не товарищ!»
- Гюргию теперь уж не сидеть на киевском столе до самой смерти Изяславовой, - приговорил со вздохом Род.
- Напрасно ты так мыслишь, - возразил Якубец. - Суздалец неутомимо исполчается. Быть великой рати! Побеждённый поведет на Киев все дружины, и свои, и сыновей. Лихие половцы, его пособники, спешат, прельщаясь грабежом. Из Новгорода-Северского двинулся Святослав Ольгович. Черниговские братья разделились: Владимир остаётся с Гюргием, а Изяслав нынешней ночью устремится к соимённику в столицу, пока враги её не обтекли. Так что нам, по выраженью ворожей, «близкая дорога».
- Я лишён своей любимой кобылицы, - не скрыл кручины Род. - Не покину этих мест, пока не отыщу её.
Якубец в изумлении вскочил с ковра.
- Не покинешь этих мест? Да здесь же смерть за дверью стережёт тебя. Давидовичи перегрызлись: Владимир доконал брата - дескать, пусть Иван Берладник отдаёт вязника, не то вместе с ним сложит голову. А Изяслав по-братнему ему ответил: «Обидишь воеводу моего - считай, обидел меня!» Так и которуются который день. Тебе придётся покидать Чернигов под сильной обережью галичан. Азарию Чудину, черниговскому воеводе, с ними драться не с руки. Он просто-таки в бешенстве от вынужденного союза с Гюргием. Лишь крепкая любовь к злецу Владимиру удерживает истого онагра от побега в Киев. Без Владимира Азарию дороги нет.
- А мне без Катаноши, - упавшим голосом заключил Род.
Якубец ну никак не понимал упрямца. Пришлось потонку объяснить необычайное знакомство с Катаношей, их дружбу, злоключения, нечаянную невозможную разлуку.
Кудряш припомнил, что вполуха слышал, будто отряд бродников, подвергшихся избою у переспы, оставил после своей гибели целёхоньких коней. Они ожидали всадников поблизости, а после были взяты как добыча черниговскими кметями.
- Возможно, среди них твоя излюбленная кобылица? - предположил Якубец. - Какой масти?
- Игреняя.
- Игреняя? - Коза заторопился. - Выздоравливай, боярин. За беседу благодарствую. - Тряхнул русыми кудрями и вышел из одрины.
Вечерял Род в одиночестве. Передал через блюдника, чтоб доставили верхнее платье. Перстень оказался на месте, Богомилова ладанка тоже, только пуста Значит, земля, давшая Роду силу, ушла в него дотла. Он вспомнил христианское: «Земля еси, и в землю отыдеши». Взял свою черевью шапку, подаренную Чекманом, потёрся об неё лицом. Этой шапкой в пылу скачки он лупил Катаношу, не желая понукальцем причинять ей даже малейшей боли. К шапке кое-где пристал её волос цвета утренней зари. Зажмурившись, он увидел дом с соколом на спице, машущим жестяными крыльями при порывах ветра, на задах дома - длинную конюшню, за ней - изгородь из берёзовых стволов, а внутри двора - конюха, разминающего Катаношу, гоняя её на длинной верёвке вокруг себя.
Открыв глаза, Род тяжело вздохнул и впервые почувствовал, как устал от жизни. Душа готова была горы свернуть, тело ничего не хотело.
Вошёл Берладник, напряжённый, как перед боем.
- Не спишь, друг? Князь Черниговский желает с тобой проститься.
- Изяслав? - удивился Род.
- Каким боком Изяслав?.. - по-галицки непонятно выругался Берладник. - Мы же едем с Изяславом в Киев. Злец Владимир Давыдыч жаждет с глазу на глаз с тобою проститься. Будь настороже.
Иван вышел, пропустив князя.
Едва дверь закрылась, Владимир Давыдович рухнул на колени перед стоящим у одра Родом:
- Прости меня, грешного!
У недавнего вязня расширились глаза. Он тут же подхватил князя, поставил на ноги.
- Ты не по своей воле пришёл ко мне, княже, - сказал он, пытливо глядя в мутные от возраста очи. - Чёрный человек тебя послал?
- Одеждой чёрный, а душой светлый, - лепетал князь, вновь трясясь в руках ведальца, как в день смерти Коснятки. - Игумен киевского монастыря Анания приезжал мирить меня с Изяславом Мстиславичем. Исповедовал. Велел за причинённые страдания тебе в ноги пасть.
- Чем же мне, убогому, воздать за княжескую честь? - спросил Род как бы сам себя.
- Отпусти мои плечи, - просил Владимир. - Бренное тело вот-вот не выдержит мощных рук твоих.
Род отпустил его плечи, возложил руки на плешивое княжеское чело и, глядя в жёлтое желчное лицо, проговорил:
- Обернись ненависть любовью!
По впалым щекам Владимира заструились слезы.
- Не сердце, а ум поверг меня перед тобой ниц, - зашептал недавний мститель. - Испугался Анании, того света. А теперь сердцу хорошо, тяжесть зла с него свалилась. Прости, брат!
Род в свою очередь поклонился земно:
- И ты, князь, прости за давешнее.
Оба некоторое время по-братски созерцали друг друга.
- Ужли ты и сейчас повторишь страшное предсказание о моей близкой смерти? - искательно осклабился князь.
Что было отвечать?
- Последуй мудрому совету Анании.
Владимир Давыдович вышел, низко опустив голову.
По уходе черниговского властителя в одрину не вошёл, а вбежал Берладник.
- Уф, слава Создателю! Свидание обошлось по пригожу. - Иван Ростиславич сел на сундук. - Не следует Владимир совету старца, - молвил он осуждающе. - Остаётся на Гюргиевой стороне… А ты присядь на дорожку. - Род опустился на край одра. Князь, коротко помолчав, поднялся. - Дождались ночи, пора в путь.
- Без Катаноши я из Чернигова ни ногой, - сказал Род.
- Твоя игреняя у крыльца, - удивил Берладник.
Род, не веря, вышел из терема и увидел посреди двора Катаношу. Якубец Коза держал её под уздцы.
Ох, и крепки были дружеские объятья человека с животным! Катаноша не могла выразить радость на языке людей. Все её чувства излились в том, что Род ненадолго ощутил своё ухо в любящих тёплых губах.
- Кто сыскал? - спросил он Якубца.
- Я, - тряхнул удалец кудрями. - Конюх Мисюра Сахаруса её во дворе прогуливал. А я - тут как тут!
- С чего же ты к Сахарусу сыкнулся? - спросил Род.
- Как же! - пояснил кудряш. - Всему Чернигову ведомо: Сахарус самый заядлый в наших местах комонник. Князь Иван мне вот такую стопку серебряных гривн отвалил, - показал он ладонями. - А я Мисюру - по гривне, по гривне. Каждая привораживает, как царевна. На одиннадцатой жадень не выдержал: трахнул кулаками об стол и сдался.
- А жилье этого обыщика долго пришлось искать? - оглаживал Катаношу счастливый всадник.
- Ха! - воскликнул Якубец. - Весь Чернигов дивится: на Сахару совой крыше сокол со спицы жестяными крыльями машет.
5
Стоя на забороле над Золотыми воротами, Род наблюдал речное сражение на Днепре. Сверху точь-в-точь детская забава: одни скорлупки прыткими насекомыми стремились во что бы то ни стало преодолеть извилистую голубую полосу, другие не позволяли им сделать этого. Ранящих душу звуков почти не доносилось снизу, и Род отчётливо слышал разговор князя с боярами. Сам он стоял особно, чтоб не возбуждать зависти у придворных. Слишком уж откровенно выказывал ему расположение Изяслав. Казалось, он больше всех киевских знакомцев радовался возвращению ведальца в столицу. Ещё бы! Сбылось предсказание Рода, что последний измёт Мстиславича будет недолог. И вот Киев вновь в его руках. Теперь же странный суздальский пришлец, то ли христианин, то ли волхв, предрёк окончательную победу над Гюргием. Чем отблагодарить за такой посул? Узнав окольным путём, чего доброго, от Берладника, о сердечных страданиях Рода, Изяслав Мстиславич тайно пообещал не только вернуть силком похищенную любаву, но и укрыть обоих, да не где-нибудь в бродницкой слободе или глухоманной Вятской республике, а при дворе шурина своего, венгерского короля Гейзы.
Род же, ни на что не надеясь, отвечал взаимной приязнью, не сулил лишнего, хотя и умалчивал, что жить победителю в этом мире остаётся всего три лета.
- Все же горазд я на выдумки! - выхвалялся великий князь перед ближним боярством, указывая, как его ладьи не дают Гюргию переправиться на киевский берег.
Род прежде видел эти ладьи. Созданные о двух рулях, они без разворота могли идти вверх и вниз. Были видны лишь весла, гребцы скрывались под защитой высокой палубы, с коей поражали врага латники и стрелки.
- Не выдюжил мой долгорукий стрый! - плескал в ладоши соперник Гюргия. - Отступает вниз!
- Сейчас направит свои суда в Долобское озеро, - рассудил Глеб Ракошич. - Оттуда волоком до реки Золотчи - и снова в Днепр. Успеем перехватить?
- Вели от меня Изяславу Черниговскому и Шварну поторопиться к Витичёвскому броду, - обратился великий князь к Вашко, торческому посаднику.
Тот кубарем бросился с гулкой лестницы к боевым полкам у Золотых врат.
Дальнейшего сражения видно не было. Великокняжеская гордость - хитро изобретённые ладьи двинулись вниз за Гюргием, пытаясь его настичь. Береговая киевская сторожа устремилась за ними сушей.
- Поезжай, Глеб Ракошич, в помогу Шварну, повелел Изяслав ближнему боярину, - Будь в сражении вместо меня.
Дряхлеющий Вячеслав, дюжину лет назад свергнутый с киевского стола Всеволодом Ольговичем, а затем племянником Изяславом, а при кратких захватах столицы и своим младшим братом Гюргием, этот незадавшийся властелин земли Русской, ныне пребывал в тесном союзе с племянником, назвавшим его отцом и якобы управлявшим из-под его руки. Сейчас, созерцая опустевшее поле боя, он вдруг оказал верное старческое чутье. Попытавшись изобразить молодечество, названый отец обратился к названому сыну с неожиданным пылом:
- И мне пришло время сесть на коня. Не удержит Шварн Гюргия. Ух, бедный Киев! Что узрят твои стены!
Изяслав помрачнел. Окружение его поредело. Гробовое молчание хранили бояре Нажир Переславич, Степан Мелетич. Чужую молитву бубнил на чужом языке Владислав Вратиславич Лях. Ясный день месяца липеца - крыши лета - готов был разразиться грозой.
Застонали ступени под ударами тяжких шагов. На забороло взбежал воевода Шварн.
- Государь, беда! Слуги дьявола, половцы, возле трубежского устья внезапно бросились в Днепр на отчаянных конях, вооружённые с головы до ног. Наша береговая стража не выдержала. Тщетно я возвращал бегущих. Тебя, великого князя, не было, Ракошич за тебя ратовал, а боярина разве слушают?
- Гюргий перешёл Днепр? - перебил Изяслав.
- Он вблизи Киева, - простонал воевода, торопясь уйти с заборола.
- Ты был прав, отец, - обернулся великий князь к старику Вячеславу.
Все стали спускаться со стены, как из рая в ад. Изяслав уходил последним, удержав Рода:
- Останься здесь. Твоя жизнь ценнее победы. Со стены, как с высокой крутизны, можно было наблюдать волны людского моря, бьющиеся о берег. Киевляне плотным кольцом окружали свой город. Род знал, что Изяслав Черниговский с воеводой Берладником расположились между Золотыми и Жидовскими вратами. А вон и Кондувдей с Чекманом сплачивают в птичьи косяки своих черных клобуков, этих жадных гарпий. Жалобы на их хищничество только что доносились к великому князю на стену. Теперь эти торко-берендейские косяки потянулись к Ольговой могиле что между оврагами. Видимо, Изяслав послал их подальше от монастырских погребов и купеческих житниц.
Дымчатый окоём, граница сине-зелёной дали, вдруг почернел. Это вывернулись из-за бугра первые ряды Гюргиевых сил. Вот чёрная масса хлынула, будто покрыла равнину внезапной погарью. Бурные волны у стен притихли. Толпы пехоты, ватаги конницы сжались в боевые порядки. Из-за Лыбеди полетели стрелы, будто чёрный снег под порывом ветра разразился чёрной метелью. Тонкие смертоносные хлопья падали, не достигая киевлян. Расстояние меж воюющими было больше дострела. Однако и киевские стрельцы выдвинулись. Прикрывшись сплочёнными щитоносцами, они стали отвечать. Лыбедь, исчерченная стрелами, теряла голубизну. Серебряный позвоночник реки потускнел.
Вдруг Род увидел нескольких всадников, пересекающих мелководье. Прикрывшись щитами, они как заговорённые устремились вперёд. Преодолев реку, смельчаки, словно когти ястреба, вонзились в стреляющих киевлян. Кто они? Рядом с их вожаком княжеский стяг, поднятый рукою оружничего. Не сразу-то разберёшь, да зоркие глаза углядели: стяг был Андреев! Молодой владимирский властелин, похититель Улиты, свирепствовал, аки пардус. Разметав щитоносцев, он обрушил меч на стрельцов. Безумна была затея. Безнадёжна не менее, чем под Луцком. Друзья- то оставались за Лыбедью, а враги уже расставляли раковые клешни, чтобы намертво ухватить добычу. Стяг внезапно упал. Отдал жизнь за князя верный оружничий. Некому подхватить древко. Рядом ещё упал явный половчин - шапка с меховою опушкой в разгаре лета!
Род неволею вспомнил Луцк - узкие ненавидящие глаза не Андрея, а Китана, как его назвала мать, Аепина дочка. Спасённый хоронил с почестями коня, а не кузнеца Нечая, отдавшего за него жизнь. Избавителя же не удостоил взглядом. Род едва не погиб в тот раз от руки наймита-половчина. Кто нанимал убийц - Гюргий или Андрей? Стоило сравнить ненависть в глазах того и другого, чтобы указать на Андрея. При мысли о ненависти сердце подсказало рассудку шестой Букалов наказ: «Ненавидящего спаси!» О, жрец Сварога! Что за странные, не идущие друг другу два слова начертал ты, уходя в вечность? Однако же Род, не мешкая, сошёл со стены, отвязал Катаношу, прицельной стрелою вылетел из Золотых врат.
Словно в третьем глазу запечатлелся удивлённый лик Изяслава. Останавливали крики: «Куда?.. Куда?»
Сорвиголовы устремились за ним, да разве Катаношу догонишь? Вот посыпались шахматными фигурами оглушённые Родовой булавой стрельцы. Вот Андреи, как комар, отзванивается мечом под мечами окруживших его киевских всадников. Тоже Аника-воин! Булава Рода обрушилась сзади на кольчужные спины, шлемы… Вот они с Андреем - глаза в глаза. Князь и пылу схватки рубанул… мимо! Потом узнал и все-таки вновь занёс меч. Тот пришёлся на булаву, вылетел из рук. Род вырвал у Андрея поводья, поворотил коня:
- Скачи точно передо мной, стрела тебя не коснётся.
Клешни рака, то бишь вражьи ряды, готовы были перед ними сомкнуться. Андрей же медлил. Оборотись к своему избавителю, прокричал:
- Неистребимый колдун!
Род понужнул его жеребца булавой по крупу, и оба всадника вырвались из кольца. Оставалось лишь прикрывать князя собственным заговорённым телом.
Едва перебрели Лыбедь, Род поравнялся с князем на безопасном месте.
- Что за юный половчин, княже, лежал близ тебя с разрубленной головой?
- Севенч, сын хана Боняка, - с досадою пробурчал Андрей, - Дурьём за мной увязался.
При этих словах Род вспомнил, что ханич Севенч, по свидетельству Кзы, мечтал порубить мечом Золотые ворота.
Андрей, опомнясь, с кем говорит, ожёг взглядом своего избавителя.
- Лечец Агапит? - процедил он сквозь зубы. - Излечиваешь от ненависти?
Род понял, что от Вевеи-лазутницы последняя встреча двух разлучённых Улитину мужу ведома.
6
- Яшника привёл? - спросил Гюргий.
- Не яшника, перебежчика, - усмехнулся Андрей.
Окружение суздальского властителя притихло, наблюдая происходящее. Страшна была усмешка Андрея, да и вопрос его отца не сулил опальному ничего доброго. Ближний боярин Короб Якун истиха перемолвился с воеводой Громилой. Тот обратился к Гюргию:
- Дозволь, государь, взять этого смельчака оружничим. Мой невдавне погиб.
- Истинно смельчаком нечистому надо быть, чтоб от Сатаны к Богу прыгнуть, - пробормотал Гюргий. - Бери, на свой страх и риск. - И отвернулся от воеводы.
Громила тут же отослал нового оружничего в обоз подкрепиться чем Бог пошлёт, попригожу вооружиться и окольчужиться.
Приметив телегу, груженную пустыми куфами, Род догадался, что она из обоза, и направил Катаношу за ней. Маленький возатай обернулся, широко раскрыл очи, тряхнул реденькой бородой, будто глазам не веря, и вдруг выпалил:
- Каково здравствуешь, Родислав Гюрятич?
Всадник даже остановил игренюю кобылицу. Лик возатая вовсе чужд, а голос до чего же знаком!
- Как ты знаешь меня?
- Помнишь Петрока Малого - будь он трижды проклят! Овдотьицу - царство ей небесное! Лилянку с Вевейкой?..
- Томилка! - соскочил с коня Род и бросился обнимать возатая.
- А как хоромы Степана Иваныча на наших глазах сгорели! - заплакал в его объятьях кощей боярина Кучки.
Изменился он очень, зарос, изморщинился. Не голос, так не узнать бы. Они сели на телеге рядком. Катаноша, привязанная к задку, ухитрялась на ходу совать морду в пустую куфу.
- Кашу доставлял ратникам, - объяснил Томилка. - Пусть коняшка подлизывает.
Они ехали, вспоминая события четырёхлетней давности, теперь казавшиеся такими дальними. Вдруг вой тьмы тысяч голосов потряс воздух. Два звука смешались в нем - славянский рокочущий и половецкий гортанный. Томилка натянул вожжи, вспрыгнул на передок телеги, левой рукой поддерживал равновесие, правую прилепил козырьком к глазам.
- Пошли-и-и! С уро-о-о-оем! - доложил он. - Наши пошли на Киев!
Дружный удалой вой вскоре распался на несхожие крики: в одних - ярость, в других - боль, страдание, в третьих - ужас. Это началась битва промеж славян за свою столицу.
- Ужли вся земля наша объюродела? - возмутился Род.
- Ух, и сеча идёт за Лыбедью! - перебирал ногами Томилка. - Под стенами уже наши бьются, под стенами!
- Кто наши? - вопросил Род.
Кощей не ответил. Вместо ответа крикнул:
- Увечных везут!
И заварился ад. Людей везли с отрубленными конечностями, с проколотыми стёгнами, плечами, боками, с переломанными суставами. Добравшись до обоза, Род видел, как из телег выбрасывали оружие, съестные припасы, ратное снаряжение, освобождая ложа для страждущих. Скинув верхнюю одежду, засучив рукава, он вправлял суставы, заговаривал кровь, утишал боль наложением рук на потное чело ратника.
- Э, ты не воист, а лечист! - прогремел над ним властный голос. - Всуе взял я тебя оружничим.
Род обернулся. Сам воевода Громила возвышался на красно-пегом жеребце. Только красные подпалины - не природные конские метины, а пятна крови.
- Что с твоею рукой? - подскочил к нему Род.
Из левого рукава капало на выставленный сапог.
- От Шварна подарочек! - усмехнулся Громила.
Освободив воеводскую руку от наручей, ведалец в однодёржку оторвал рукав так, что Громила даже возмутился порчей своей одежды. Когда новоиспечённый оружничий пошептал над кровоточащей раной и от неё осталась царапина, воевода просиял:
- Я в тебе не ошибся.
Вместе с лечцом-оружничим он бросился назад к Лыбеди. Поздно! Пешее воинство вперемешку со всадниками бежало от киевских стен, как от огнедышащей горы. Тщетно Громила надрывал голос, пресекая путь беглецам. Его остановил Короб Якун, весь изодранный, перемазанный кровью.
- Государь велел отходить не мешкая. По пути объясню…
С полпоприща проскакав, убедившись, что нет погони, всадники придержали коней, пешие стали восстанавливать строй.
- Все бы удачно, - объяснял Короб Якун, - кабы Мстиславичи особо обученными отрядами не ударили внезапь и не вмяли нас в Лыбедь. Первыми половцы дали плеча. Мы - за ними. Трупами загатили реку. Полонённых не счесть.
- Государь сказывал, Владимирко Галицкий сызнова идёт нам в пособ, - обнадёжил Громила.
- Улита едет, когда-то будет, - пробормотал Короб. И, невольно назвав Кучковну, оборотился к Роду, подмигнув: - Наш спасёныш! Держись подалее от Андрея с Гюргием. Не жалуют тебя государи.
Вся суздальская рать отступила к реке Стугне. Заночевали в открытом поле. Ни единого обитаемого местечка окрест. Сплошь погарь! С утра голодный, за день обессилевший, Род радовался еде и бараньей шкуре, предложенной ему в шатре Короба Якуна. Воевода с боярином отлучились к Гюргиеву шатру…
Якун разбудил гостя на рассвете. Принесли ржаной каравай, сушёное мясо, жбан кислого молока.
- Поспешай к воеводе, оружничий, - велел Короб. - Я прибуду следом.
Вскоре у Гюргиева шатра собралась старшая дружина, бояре. Ждали выхода князя. Знали уже, что великокняжеская рать киевлян тоже остановилась невдалеке. Близился час решающей битвы. Её могло предотвратить киевское посольство. Оно вот-вот должно было подойти.
Род держал копье и щит рядом с воеводой. Он видел Святослава Ольговича Новгород-Северского, обочь с ним - Владимира Давыдовича Черниговского. Князья, занятые беседой, не замечали его в толпе.
Вот приблизилась группа всадников, окружавшая колымагу, запряжённую шестерней.
- Посол!.. Киевский посол! - зарокотали суздальцы.
Под руки вывели киевляне монаха. Под черным клобуком - сухонькое лицо в седой бороде по самые глаза. А глаза горят гневом. Гюргий с Андреем подошли под благословение. Их примеру последовало ближайшее окружение князей. Монахи полукольцом охраняли инока-посла. Род ощутил озноб в теле, но сердце забилось горячо. В посольнике он узнал архимандрита Ананию, игумена монастыря святого Феодора. Живо вспомнилась их единственная тяжёлая встреча. А в чёрной обережи игумена вон тот крайний, ближе всех ставший к воеводину оружничему монах… это не кто иной, как боярин Михаль, с которого убийцы несчастного князя Игоря сорвали золотую цепь. Почему он под чёрной понкой?
- Выслушай, Георгий Владимирич, старшего брата своего Вячеслава, - жёстким старческим голосом начал своё посольство Анания. - Брат твой моими устами лобызает тебя, - игумен, приблизившись, троекратно приложился к Гюргиевым щекам, - и передаёт братние слова: «Сколько раз молил я вас, тебя и племянника, не проливать крови христиан и не губить земли Русской! Изяслав, восстав на Игоря, велел мне объявить, что ищет престола киевского единственно для меня, второго отца своего, а после завладел собственными моими городами - Туровом и Пинском. Равно обманутый и тобою, лишённый Пересопницы, Дорогобужа, не имея ничего, кроме Вышгорода, я молчал. Бог дал мне силу, полки и дружину, а я терпеливо сносил обиды, унижение и думал только о пользе отечества, унимал враждующих. Тщетно! Вы не хотели внимать человеколюбию, нарушили устав Божий. Ныне Изяслав загладил вину свою: почтил дядю вместо отца, я назвал его сыном. Боишься ли унизиться предо мною? Но кто из нас старший? Я был брадат, когда ты родился. Опомнись! Подняв руку на старшего, бойся гнева небесного!»
Игумен умолк и потупился, ожидая ответа Гюргия.
- Передай, честный отче, старшему брату такой ответ, - начал Суздальский князь. - Я тебе, брат, кланяюсь. Речи твои правые. Ты мне вместо отца. Но если хочешь рядиться, пусть Изяслав едет во Владимир-на-Волыни, а Ростислав в свой Смоленск. Тогда мы с тобою урядимся.
- Вразуми тебя Бог, сын мой, - поднял очи Анания.
- Каковой же ответ ты мечтал услышать? - заколебался Гюргий под взглядом старца.
- Мечтаю мирной видеть родную землю, - твёрдо изрёк игумен. - Бог освящает брань с врагом внешним, внутренним же усобицам помогает диавол.
Тем временем Святослав Ольгович и Арсланапа с двух сторон подступили к Гюргию и каждый нашептал ему что-то на ухо. В Суздальском князе смущение обернулось надменностью:
- Ты слыхал моё последнее слово, отче. Ничего не добавлю более. - Князь скрылся в своём шатре.
Андрей единственный пытался удержать отца и не успел в этом. Приближенные стали расходиться.
- Михаль, - остановил Род узнанного монаха.
- Я не Михаль, - обернулся тот. - Я Нестор.
- Ужли моё лицо ничего не говорит твоей памяти? - растерялся Род.
- Говорит, - остановился Нестор. - Ты знавал меня в миру. Я покинул мир после страшных дней нашего знакомства. Чего ты хочешь?
Род, созерцая Михаля-Нестора, что и впрямь был не от мира сего, поспешил открыть ему душу:
- Ведь и я с тех пор уходил в затвор. Спустя три года вернулся. Ты сильнее. Твой пособ - помнишь? - укрепил меня беседой со святым старцем. Ныне вновь стражду. Клюка судьбы загибается вовсе не так, как следует. Помоги мне испить от источника христианской мудрости.
В самоуглублённых глазах Михаля-Нестора вспыхнула искорка понимания.
- Ты вновь хочешь говорить с игуменом?
Род истово закивал. Монах ловко протиснулся к послу, что стоял уже у подножия колымаги, истиха переговорил с ним. Анания задержался и подслеповатыми глазками отыскал в толпе Рода:
- Подойди, сыне.
Благословив ратника, он возложил лёгкие персты левой руки на его главу, приникшую к благословляющей правой, и почти на ухо произнёс:
- Не ведаешь своего пути?
- Ведаю, - пробормотал Род, думая о скорейшем вызволении Улиты и бегстве, бегстве… - Помолись, отче, дабы выпрямился мой путь.
- Выпрямится, - пообещал старец. - Прими свою судьбу с миром.
Колымага отъехала. Михаль больше не подошёл. Он поскакал вслед за старцем в числе безоружной иноческой обережи.
- Всуе[428] ты приближался к киевскому послу, - попенял своему оружничему Громила. - Гюргию донесут как пить дать.
Благословлённый же смотрел вдаль, где колымага со свитой ещё виднелась на окоёме малой чернизиной. Он был далёк от упрёков старшего друга, знающего камни и западни мирской суеты сует.
7
По отъезде посла битва, казалось, вот-вот начнётся. Киевляне выдвинулись из-за окоёма. В их щетинистом гудящем рое виделось движение. Врагов разделяла речка Малый Рутец, маленькая, с ладными берегами, раз плюнуть перейти вброд.
Оружничий воеводы думал не о себе, а лишь о поручениях Громилы. Княжеские дружины уже надели кованые брони ярко-алого цвета, прикрытые сверху чехлами. Всадники окольчужили своих боевых коней. Род следил, чтоб все ратники получили из обоза тяжёлые и лёгкие мечи, пики, топоры разного вида на длинных рукоятях, боевые гири, палицы, сабли, ножи, чтоб все стрелки имели луки и колчаны со стрелами. Тем временем Громила помогал князьям устраивать полки. В пылу забот он позабыл о немилости главных из них к своему оружничему. Будучи послан к Андрею сообщить о готовности правого крыла, Род не дождался его ответа: князь, выслушав, отвернулся.
- Малые дети, а не князья, - сплюнул Громила, узнав об этом, и выругался: - Прокуды[429] проклятые!
Подъехал Короб Якун:
- От перебежчика наш государь узнал: воистый Изяславов сынок разбит наголову Владимиркой.
Роду было известно, что Владимирко Галицкий движется в пособ Гюргию, а сын великого князя Мстислав с венграми короля Гейзы стремится ему на перегон в поможье Изяславу. Оттого противники не поспешали с битвой. Каждый ждал подмоги.
- Как все случилось? - спросил Громила.
- И смех и грех! - стал рассказывать Якун. - У Сапогиня близ Дорогобужа, где расположился станом Мстислав, застал его дядя мачешич Владимир. - Род вспомнил Владимира Мстиславича, сводного брата великокняжеского, что окольным путём ехал в монастырь выручать у озверевшей толпы Игоря Ольговича. - Этот стрый привёз племяннику вина пропасть, - продолжал Короб, - известил, что идёт Владимирко. Оба сели пировать. Когда Мстислав за пиром попугал своих угров, мол, галичанин на нас преет, те спьяну отвечали: «Пусть преет, мы с ним разделаемся!» А в полночь, чуть ударили сполох, племянник с дядею вскочили, герои же короля Гейзы спали мертвецки. Галичане перебили их всех, ну малую толику взяли в плен. А оба незадачливых родственника укрылись в Луцке.
Громила и Якун хохотали до упаду. Род не выдержал:
- Буй в смехе возносит глас свой, муж же разумный едва тихо осклабляется.
- Ну как тут удержаться? - оправдывался воевода. - Все истинно происходило по пословице, любимой Изяславом: не место, дескать, к голове идёт, а голова к месту!
- Где наши-то будут головы? - мрачнел Короб.
Громила оглядел пространство:
- Небось, тут недалече… Поеду-ка к Гюргию, не повелит ли ударить в бубны, заиграть в грубы. Готово все.
Гюргий не повелел. Едва успел отъехать воевода, дневная тьма обрушилась на мир земной.
- Эй, Родислав! - тоскливо зазвучал зов Короба Якуна. - Ты меня видишь?
- Вижу лишь свой конец копья, - отвечал Род.
Вой ветра заглушил все звуки войска.
- Подай руку! - просил Якун, - Светопреставление!
- Сварог зажмурил свой глаз, - объяснил ведалец.
- Не поминай Сварога! - испугался Короб. - Это старец Анания наслал Божий гнев на отвергших призывы к миру. Куда бежать?
Род крепко держал руку боярина.
- Истинно, твоя правда. Не вырывайся. В час грозы Божьей не двигайся. На месте ожидай конца…
- Какого… конца? - лепетал Якун.
- Ах, горе с тобой, боярин! - сердился Род.
Они стояли долго, дыша туманом. Потом мокли под дождём. В конце концов дождь истощился, мгла начала светлеть, полуденное солнце объявилось сначала в дымке, затем явственно. Два, как по волшебству, застывших войска стояли на своих местах. Разделяла их уже не речка Малый Рутец, а большое озеро.
Якун и Род отыскали Громилу.
- Отходим, други! - крикнул им воевода. - Крылья двух ратей стреляются, а два чела не могут сойтись: Рутец в этом месте вон как разлился! Государь нас отводит к Большому Руту. Переправимся. Дождёмся Владимирка.
- Да разве киевляне позволят дождаться галичан? - сомневался Якун.
Воевода только махнул рукой. Вестоноша из сторожевых полков нагнал их и сообщил, что киевляне уже на расстоянии дострела, грабят обозы, бьют отставших.
- Теперь им без надежды на подмогу вот как нужна битва! - размышлял Громила вслух. - Не дадут перетащиться через Рут.
Сумерки застали суздальскую рать упёртой в крутой берег. Противоположный был рукой подать, да, как говорится, близок локоть… У воеводина костра собрались старшие дружинники. Никто не сомневался: с утра придётся принимать бой. Рать Гюргия на берегу - как в тупике. Проворный киевлянин сел суздальцу на хвост. И крепко сел, о переправе речи быть не может. Под разговоры Род заснул, припав щекой к седлу. Рассёдланная Катаноша давно опустошила торбу, а досыпать нечего.
С рассветом затрубили трубы с двух сторон, забили бубны. Род, не глотнувший маковой росинки, был возле воеводы в челе рати. Вот подскакали с обережью Гюргий и Андрей.
- Эх, рано прибрал Бог старшего сына Ростислава, - сокрушался Гюргий. - В сей ужасный час нет его со мной.
Андрей, приближась к воеводе, откликнулся на отчие слова так, чтобы отец не слышал:
- Кой прок бывал от Ростислава? Один всем государством володеть хотел, творил же только зло.
Не по обычаю говорить плохо о покойнике. Тяжёлым камнем придавила сердце Рода смерть Ростислава. Андрей ныне старший сын! По отчей смерти заступит место Гюргия в кровавой схватке за великокняжеский престол. С его победой Улита станет великою княгиней. Неужто Род не вырвет свою любовь из лап судьбы? Дано ли ведальцу преодолеть заклятие?
Из разодранных внезапно туч на серый мир хлынуло солнце. Пронзительные трубы призвали к бою. Киевляне с суздальцами друг перед другом сбросили чехлы. Так делали они обычно, начиная бой с иноплеменниками. Багряные дружины ошеломляюще кидались на врага. Но нынче этот боевой приём кого ошеломить был призван? Их самих?
Ряды сошлись. Братоубийство началось. Род видел, как князь Андрей первым же ударом изломил своё копье.
- Спеши к нему! - крикнул в ухо своему оружничему воевода.
Род поднял булаву и оказался в гуще всадников. Он слышал лязг железа, равномерный, как работа, и надрывающее душу ржание коней. Дружинники рубили и отбивали тяжкие удары молча. В молчанье падали. Род булавою расчищал себе проход. Она не рубит, лишь оглушает и отбрасывает… Вот и Андрей. Конь под ним ярился, уязвлённый в ноздри. Шлем с головы слетел, щит из рук выпал. Род вложил свой меч в его десницу, отдал свой шлем, свой щит, пересадил ошеломлённого на Катаношу, и она вынесла чужого седока из боя. А боя-то почти уже и не было. Все неслись куда-то. Пеший безоружный Род делал сто движений в одно мгновенье, как учил Бессон Плешок, чтоб не попасть под груди конские, под их копыта.
- Ты чей? Ты чей? - не узнавали всадники вихрастого обезоруженного бегуна.
Иные без разбору рубили и - хвала Букалову заклятью! - промахивались. По хгэканью, неполногласию все они были киевляне. Род поймал коня без всадника, вскочил в седло и ускакал от них. Копья, стрелы, вдогон пущенные, не достигли цели.
Небольшое расстояние отделяло суздальцев от догонявших киевлян. Роду было непривычно, что под ним не Катаноша, а чужой мерин: он никак не мог преодолеть ничейного пространства.
Вот наконец среди своих!
- Боярин!.. Родислав Гюрятич!
- Томилка!.. Где ж твой обоз?
- Пропал обоз!.. Да что там! Тьма тысяч жизней пропала в один миг! - Томилка плакал, - Первыми, как крысы, побежали половцы. Вослед - Ольговичи. А мы - последними. Загатили мертвяками Рут. Держись поближе, Родислав Гюрятич!
Внезапный клин сплочённых всадников отъединил их друг от друга. Род узнал дружинников из княжьей обережи. Стремя в стремя с ними скакал до полной темноты.
- Где воевода?
- Кто? Громила? Убит при переправе через Рут.
- А Якун Короб?
- Про него не ведомо.
Остановились на днепровском берегу у Треполя. Переправлялись при свете факелов. В реке конь Рода не совладал с течением. Пришлось освободиться от стремян и, соскользнув с седла, переправляться вплавь. Где-то на стрежне подали весло, подобрала ладья. Среди гребцов только и вздохов было - о погоне. Страх им сопутствовал до берега. Там до утра Род сох у костра. С рассветом обнаружилось, что шатёр Гюргия невдалеке. Род подошёл поближе, надеясь узнать новости.
Расталкивая древками глазеющих голодных ратников, подъехавшие всадники освобождали путь Ольговичу. Он с дружиной переправился чуть выше.
Навстречу вышел из шатра сам Гюргий. Белое скудобородое лицо заметно почернело. Андрея рядом не было.
- Брат! - ещё с коня крикнул Ольгович, - Князь Черниговский убит!
- Кто? Изяслав Давыдыч? - хрипло спросил Гюргий.
- Нет. Соратник наш. Владимир, - тяжело спешивался кутырь Ольгович.
Оба князя обнялись. Так и застыли. Потом Гюргий повёл верного друга в свой шатёр.
- Где князь Новгород-Северский? Где Святослав Ольгович? - раздался крик.
Друзья, не доходя шатра, оборотились.
- Я Святослав, - сказал кутырь.
- Прими обещанное от Азария Чудина за жизнь Владимира Давыдовича! - крикнул неизвестный всадник. Он издали метнул в Ольговича двумя людскими головами и был таков.
Погоня устремилась следом.
Род вспомнил пир у атамана бродников. Чудин напрасно отговаривал своего князя от союза с Гюргием. Кутырь настаивал и настоял. Немудрено, что тысяцкий Азарий вменил Ольговичу в вину Владимирову гибель. И страшно отомстил.
- О, Внездушка, любимец мой!.. О, верный мой боярин Пук! - выл князь Новгород-Северский. И вдруг свирепо закричал: - Проклятый волхв! - В кровавый миг он вспомнил предсказанье Рода.
Сам ведалец стоял в толпе, потупившись, не смея поднять взгляда на князей, как виноватый.
- Андрей!.. Владимирский Андрей!- возникли рядом голоса.
Род поднял взгляд, увидел на игреней Катаноше спасённого Андрея, рядом - Арсланапу, воеводу половцев.
- Отец! - подъехал Андрей к Гюргию. - Воины Боняка хотят вернуться в Дикое Поле. Их потери велики. С ними небольшой полон. Просят отпустить.
Гюргий мрачно поглядел на Арсланапу, махнул рукой:
- Пусть едут. Пусть ведут, что взяли.
Толпа разбитых суздальцев, как бы опомнясь, зароптала: половцы берут в полон не только черных клобуков, а киевских славян - хотя и супротивников недавних, однако ж братьев!
- За вспоможенье надобно платить, - глухо изрёк Гюргий, уводя Ольговича в шатёр.
Андрей впился глазами в толпу, что укрывала ропчущих. Вдруг обернулся к Арсланапе.
- Вот этого ещё прибавь к полону, - указал пальцем.
Несколько половцев из воеводской обережи спешились и вытащили Рода из толпы. Железа на его руках сомкнулись.
«Прощай, Улита! - пронеслось в голове ведальца. - Анания, игумен, помолися за меня. Бог выпрямил мой путь. Блуд искупят страдания».
- Князь, ты не волен делать этого! - гремел в возникшей тишине голос Якуна Короба.
- Молчи, боярин, - возразил Андрей, - Я волен делать все!
Верёвка от желёз пленённого вот-вот была готова натянуться, а он, забыв себя, глядел на Катаношу, на которой восседал Андрей, и Катаноша со слезой в белках глядела на него.
- Ух-ух-ух-у-у-ух! - надрывно покатился по степи крик филина.
Это было прощанье Рода с игреней кобылицей. Он мог не даться в плен, но не сопротивлялся. А вот не попрощаться он не мог. Ответило отчаянное ржанье Катаноши. Кобылица, как на хурултае, воспарила было ввысь, да слишком много рук нашлось, чтоб тут же удержать её.
- Уберите эту бешеную тварь! - кричал Андрей.
А пленника уже влекли за скованные кисти, за шею вслед всадникам и Арсланапе поближе к окоёму, где безоружная, бессильная толпа под взмахами бичей тянулась на чужбину.
В том ряду, куда его втолкнули, сняв верёвку и аркан, он скованными кулаками протёр глаза и не поверил, что радом с ним такой же скованный… но кто? как можно было ожидать его увидеть? - Чекман!
- О, друг!
На восклицанье Рода поникший берендейский княжич вскинул голову, сбил шаг и удивлённо произнёс:
- Вай, что за чудо? На разных сторонах дрались, а очутились в одном плену!
8
Сверху, на Божий взгляд, лодья напоминала ковш с зачерпнутой по края гречневой кашей. Сплошь яшники - негде упасть яблоку. Калёными орехами поблёскивали спины гребцов. Род с Чекманом не гребли, сидели лоб ко лбу с закованными в железа руками - ни гнус отогнать, ни пот отереть. Речей уже не было, одни мысли. Род перебирал в памяти мрачный рассказ Чекмана, слышанный ещё в счастливое время, когда их гнали по степи до посадки в эту жаровню.
Перед мысленным взором возникал Изяслав Мстиславич, победивший великий князь, так милостиво отнёсшийся к Роду и на беду оставленный им. Изяслав, подобно Андрею, тоже изломил копье в первой же стычке. Раненный в бедро и руку, не усидел на коне, упав, плавал в собственной крови, по выражению Чекмана, очевидца событий и первого вспоможенника князя. Собственные воины едва не изрубили упавшего в пылу битвы. «Я князь!» - кричал он. «Он князь!» - объяснял Чекман. «Тем лучше! Он нам и надобен!» - завопили кмети, сбивая с ног берендейского княжича. «Ты нам и надобен!» - крикнул один из них, рассекая великокняжеский шлем, на коем блистало изображение святого Пантелеймона (таково было христианское порекло Изяслава). И тут лишь узнали в освобождённом от шлема не Ольговича, не Давыдовича, а своего любимца царя, подняли его на руки и понесли, славя Бога. Тяжело раненный великий князь, узнав про гибель Владимира Давыдовича, врага, велел посадить себя на коня, отвести к телу погибшего, чтобы утешить брата его Изяслава Давыдовича, союзника. Тут-то и потерял его из виду Чекман. Посланный к воеводе с известием, что великий князь жив, он был схвачен летучей шайкой кыпчаков, рыскавшей по бранному полю…
- По какой реке нас везут? - обратился к поникшему Род.
- Река Тана[430], - откликнулся Чекман. - Гречники называют Танаис.
Пустынный берег то поднимался из-за оперённого[431] борта, то исчезал за ним. И шелепуги[432] в руках надсмотрщиков то вздымались, то опускались на спины нерадивых гребцов. Хорошо, что Чекмана с Родом не приковали к вёслам.
- Доселешней жизни теперь не вернёшь, - совсем упал духом берендей.
- Тьма разделения нашего! - вздохнул Род, кляня княжеские усобицы, что всему виной.
Вдруг он заметил: берег исчез. Чуть подвытянулся на коленях, получил по лопатке шелепугой, зато выяснил: и другой берег куда-то запропастился.
- Что за притча? - выдохнул Род, никогда не видавший моря. - Берегов нет. Кругом вода!
- В Сурожское море вошли, - объяснил Чекман, - Минуем его, и до невольничьих рынков - подать рукой. Лучше смерть, чем неволя!
- Меня одного от неволи избавил ты. Двоих нас избавить некому, - заключил Род.
Чекман его не расслышал. Казалось, гудел сам воздух. Теперь под ними был шум не реки, а моря.
- Зазыбалось[433] море! - обратил за борт внимание друга Чекман. - Гляди, дорогой, зазыбалось!
Надсмотрщики подняли паруса, велели убирать весла. Умелые моряки эти кыпчаки-надсмотрщики, многажды доставляли они полон до невольничьих рынков.
Чело друга вплотную приблизилось. Морской шум уступил место жаркому Чекманову шёпоту:
- Три вещи я зашиваю в платье перед походом - иглу, то-о-о-онкую пилку и сухую изюмину с ядом. Из них мне пригодится теперь разве что сухая изюмина.
Род ответил не сразу.
- Слушай-ка, слушай, - начал он шептать. - С сухой изюминой обожди. Извлеки сначала нилу.
- Ха! - отхаркнул и сплюнул густую слюну Чекман, - Я говорю, пилка то-о-о-онкая, тонкая! Ею оков не распилишь.
- А ежели слегка подпилить замок? - вслух раздумывал Род. - Я попытался б его сломать. Чуть- чуть недостаёт силы.
Повечер морская зыбь улеглась. С наступлением полной тьмы Чекман выгрыз из подшитой полы почти волосяной тонкости снасть, взял её в зубы и, наклонясь над руками Рода, начал работать. Голова его мерно покачивалась, словно во сне. Зыканье заглушалось морем. Разогнувшись в очередной передышке, княжич мрачно полюбопытствовал:
- А куда же нам деться с этой проклятой лодьи?
- Хоть в море! - жёстко ответил Род.
- Значит, надо пилить! - сквозь зубы процедил берендей.
Перед рассветом, едва пильщик в тысячный раз устав, выпустил из зубов свою «зыкалку», Род напрягся и с четвертой попытки сломал замок.
Следующая ночь прошла легче. Работали уже не зубы Чекмана, а пальцы Рода. Правда, пилить пришлось больше. У берендея не было силы сломать надпиленный замок. К концу ночи пилка дважды переломилась и полетела за борт.
- Дай тебе помогу. Сначала руки освобожу… - шептал суздальский богатырь. - Сейчас…
И хрупнул на Чекмановых оковах замок.
- Тихо теперь сидим! - велел Род.
Тихо им сидеть не пришлось. Дюжий половчин с шелепугой давно уже лежал глазом на их руках.
- Вы чего?.. Эй, вы там чего?
Резкая кыпчакская речь обоим была понятна. Не успел шелепужник приблизиться, яшники, как чёртики на пружинках, вскочили и, не сговариваясь, перемахнули бортовые перила.
Шлюп, шлюп! - разнеслось в тихом море.
Отборная половецкая брань посыпалась вслед плывущим.
- Сугону[434] не будет, - пообещал Чекман. - Кыпчаки плавают плохо. Не разворачивать же за нами лодью!
- Ныряй! Чаще ныряй! - советовал Род. - Сейчас вместо брани полетят стрелы.
Полетели не просто стрелы - тучи жалящих стрел.
- Чекман!.. Испровещься[435], Чекман! - звал Род.
- Я тут… я ещё плыву… - слышался позади испуганный ответ. - Не наказал бы меня ваш Бог за Яруна Ничьёго!
- За что, за что? - не понимал Род.
- А помнишь, ты мне сулил, когда я запытал боярина до смерти?
- И надо же тебе так не вовремя перепасться![436] - сердился Род. - Стрелы ещё летят?
- Не знаю. Увыркнуться[437] страшно, - оправдывал ея Чекман, - Впереди меня, кажется, ещё па…
Перед Родом тоже падали стрелы - одна, другая… Почему оборвался Чекманов голос? Род не побоялся увыркнуться, оглянулся… Лодья на расстоянии дострела ещё виднелась. Чекмана не было… Нырнул в очередной раз? Вынырнет вот-вот? Не выныривает…
- Чекма-а-а-ан!
Лодья уже скрылась. А море зыбается. Что ему лодья, что ему Род с Чекманом? Мелкие соринки, и только.
К солёным морским каплям на Родовом лице прибавились той же природы слезы. Он не плакал, когда погибли все долгощельцы с Нечаем Вашковцом вкупе, два друга-бродника Фёдор Дурной и Фёдор Озяблый, не было слез над телом незабвенного Итларя, сдавила тяжесть над трупом Ивана Гюргича, однако плача не выдавила. А вот теперь, одинокий-преодинокий, плывёт и ревёт, плывёт и ревёт…
Сколько часов прошло? Судя по солнцу, полтретья[438], потом полпята[439]. А он плыл да плыл… Чуть передохнув на спине, вновь работал конечностями, словно плавниками. Морская волна сильнее, зато вода тяжелее, держит лучше, плыть легче. А вот не глотнёшь эту горечь, тут тебе не в реке, жажду не утолишь. А солнце плечи прижаривает, как половецкий бич, голову жжёт, и во рту все горит от паров расплавленной соли, барахтайся в ней, дыши ими. Долго ли ещё? Сплошная вода вокруг. Цели нет. Будто мир утоп. Не земной, а водяной. Земля не впереди, а внизу. Так за ноги и тянет страшными пальцами несчастного утопленника Чекмана. Крикнуть бы - крику нет. Разглядеть бы, что вдали, - зной очи застит. Только не мыслить никоим образом про упадок сил, отгонять страх усталости, превозмочь немощь! Род вспомнил мудрые слова книги, читанной в Богомиловом доме, в Новгороде Великом: «…Разумей суету века сего и скоропадающую плоть нашу: днесь бо растём, а утром гниём… Тем же в малом животе изыщи вечныя жизни, идеже от сея жизни несть ни скорби, ни воздыхания, ни плача, ни сетования, но радость и веселие. Всяко можеши, аще хочеши, несть бо тяжко». И не страшно стало плывущему в неведомых волнах потерять краткий миг призрачной земноводной жизни, конец коей неизбежен не теперь, так вот- вот… Пока руки движутся, тело держится на волнах, он должен все плыть и плыть… Вот светило стало спускаться с трона, умеряя своё тиранство. Ветер с севера, своевременный дар родной земли, долетел и обласкал. Пловец выше вскинул голову и, не веря собственной зоркости, стал разглядывать вдалеке чернизину, то всплывавшую, то утопавшую в волнах, как большая лодья…
9
Лёгший на спину пловец ходким каюком приближался к суше. Руки работали, как колёсные лопасти водяной мельницы. Левая ткнулась во что-то упругое. Послышался визг. Перевернувшись глазами не в небо, а к берегу, Род увидел широкий зад в прилипших портах, быстро удаляющийся по замуравленной тропе в сельгу[440]. Когда он добрался до мелкоты, где можно было стать на ноги, его вышли встретить. Впереди шествовали два краснотелых бритоголовых увальня, похожие на ковёрных борцов. У каждого по длинному креноватому[441] ножу. У одного порты мокрые. Стало быть, это тот, кого Род случайно задел в воде. Под защитой таких охранышей следовало несколько женских фигур в иноплеменных белых одеждах - одно плечо прикрыто, другое обнажено. У каждой на груди маленькая коробочка, железная, медная или серебряная. На коробочке - кольцо, на кольце - большой нож. На одеждах украшения из зелёного бисера. На одних больше бисеринок, на других меньше.
Едва незнакомец ступил на берег, бритоголовые выставили ножи. Видя его невооружённым, они не спешили обнаруживать мирных намерений.
- Тух утхух кух, - молвил один из них.
Вышедший из воды молчал.
- Ассалям алейкум, - произнёс тот, что в мокрых портах.
Род не знал и этого языка.
- Ты варяг, грек, русич? - выдвинулась одна из женщин. На её шее не было коробочки, и на одежде - ни единой зелёной бисеринки.
- Я из Суздальской земли, - радостно откликнулся Род на родную речь. - Моё имя Родислав. Бежал с лодьи, из полона.
Толмачка прокудахтала его слова своим спутницам и велела:
- Следуй за нами.
Сельга становилась все гуще, тропа все уже.
- Ну и корба![442] - обратился Род по-кыпчакски к одному из охранышей, тому, что в сухих портах.
Тот крякнул от неожиданности:
- Ай, друг, ты говоришь на моем языке, будто век прожил в Диком Поле.
Тропа вскоре вывела на поляну к большому белёному дому из обожжённой глины.
Самая молчаливая женщина тихо заговорила. Спутницы обступили её и почтительно слушали. Род почти с начала пути невольно следил за ней. Что-то странно знакомое было в её обличье, движениях. На красивой, словно выточенной груди - золотая коробочка. Если лебединые шеи спутниц украшали серебряные цепи в разном количестве, то с её смуглой шеи свисало цепей много больше, нежели у других, и не серебряных, а золотых. Её одежда сплошь зеленела обилием бисера. Когда она удалилась, Рода ввели в маленькую камору с мелкими, как бойницы, пустыми окнами и оставили одного. Света было достаточно: в окнах - ни пузыря, ни слюды. Но и не вылезешь, даже не высунешься, разве что руку просунешь. Да и не было у заблудшего достойных причин куда- то сейчас бежать. Пока ещё не было. Он думал о молчаливой женщине, лица коей не разглядел, как и лиц её спутниц, закрытых по самые глаза.
- Бака! - раздался за дверью гортанный, страшно знакомый голос.
- Несу, моя госпожа, - ответила по-кыпчакски толмачка. И Род содрогнулся от внезапного прозрения.
Девушка, знавшая русский, внесла одежду.
- Бака! - обратился к ней Род.
- Шш! Моё имя Сбыслава, порекло Онтонья, - произнесла она, оглядываясь на дверь. - Вот одежда тебе. Сними-ка свои калиги[443] надевай мягкие ступенцы[444], примерь кабу[445]…
В придачу она подала льняное исподнее. Промокшему страннику не терпелось сменить одежду, а он не поторопился, удерживал возле себя Онтонью.
- Куда, к кому я попал?
- Ты на острове Ятр, - прошептала она. - Здесь живут кукразы.
- Кто? - не расслышал он.
- После, после поведаю. Знаешь город Колтеск? - Он кивнул, - Я родом колтеская.
Он удерживал её за край платья. Серые глаза поверх повязки молили отпустить.
- Госпожа твоя… по имени… Текуса? - произнёс он.
- Ты - ведалец! - воскликнула Онтония и исчезла.
Род не представлял, как выглядел в чужой одежде. Посмотреться было не во что. Одолело беспокойство за свои издирки, унесённые Сбыславой. В них был перстень Жилотугов.
Черноокая степнячка, убаюкивая грудью медную коробочку, поманила его в дверь. Эту не допросишь ни о чём. Не смыслит даже по-кыпчакски.
Вошли в большую двусветную палату. Все белое - стены, потолок, некрашеный скоблёный пол, ковровая дорожка из овечьей шерсти, железное узорчатое кресло, покрытое эмалью под слоновью кость, одежда хозяйки дома, сидящей в этом кресле как на троне, - все белое.
Теперь лицо её не закрыто по самые глаза. Те же тонкие губы, тот же лезущий в душу взгляд. Но где обилие косичек? Волосы скрыты, чуть чернеют из-под белого повоя. И кожа смуглого лица лишилась прежней свежести. Однако далеко ещё не отцвела крутая половчанка, лишь полностью раскрыла лепестки, дурманя красотой.
- Тух укух рух, Илека, - прозвучал приказ. Голос тот же металлический. Не столь чист, как в Шарукани. Чуть заметна хрипотца. - Не бойся, подойди ко мне ближе, - велела она Роду по-кыпчакски, когда Илека вышла. - У нас тут такой обычай: приветствуя друг друга, падать ниц. Поприветствуй же меня.
- Я не знаток чужих обычаев, княжна. - Род поклонился в пояс.
- Кня-жна! - передразнила дочь Сантуза. - Перед тобой царица! Я первая жена здешнего хакана Чаушнара, царя кукразов.
- Впервые слышу о таком народе, - признался Род.
Текуса сошла с кресла.
- Я тоже в первый раз услышала, когда они отца убили, сожгли всю Шарукань, меня похитили. Воинственный народ! Теперь я их царица. Тьму тысяч раз смеялась над твоим пророчеством: костёр, костёр! Костер - вся нынешняя жизнь моя, а не дрова с огнём. А ты - слепой провидец.
Род не сдержал улыбки.
- Однако и твои пророчества, Текуса, не сбылись. Моё истерзанное тело с открытыми ранами, с клочьями кожи не лежало на чужом песке, незрячих моих очей не выклевал орёл-стервятник. Раб, призванный осуществить твоё желание, был перекуплен.
- Он погиб ужасной смертью, - опустила голову Текуса под тяжестью воспоминаний.
- Теперь я снова ненароком оказался в твоей власти, - подсказал ей Род дальнейший ход событий. - Можешь истязать, убить…
Она резко приблизилась и снизу вверх пытливо глянула ему в глаза:
- Скажи-ка, дождалась, не дождалась твоя любовь на северной земле?
Он помрачнел.
- Улита против воли вышла замуж за Владимирского князя. Её отец казнён.
- Ты одинок, - дотронулась Текуса коготками пальцев до его руки. - Я также одинока. Забудь жестокий мой поступок. Слишком всесильна я была тогда и слишком молода. А ведь всесилие и стариков подводит. Прости и помни: ты мной не забыт и до сих пор любим. Думала, вытравлю из сердца. Нет! Надеялась всю жизнь прожить воспоминаниями. А нынче, как тебя увидела, узнала… ой, что сделалось в груди! Значит, судьба! Из моря вышла моя желанная судьба, как из пучины жизни. Я тут, на мызе[446] иногда уединяюсь со служанками, с гулямами[447] скопцами. Хакан мне разрешает маленькие прихоти. Мой старикашка Чаушнар так слаб, так хил… Знаешь ли, как он меня любил? - Она приподнялась на цыпочках и прошептала в ухо Роду: - Глядючи да осязаючи.
- Должно быть, мудрые правители у твоего супруга, - смутясь, переменил Род щекотливый разговор. - Коли он слаб, так кто же правит?
Царица отступила, перевела дух.
- Он был телесно слаб, а умственно силен. Однако же недавно и эти силы покинули его. Хакан лежит. Начальник войска Семендер приносит жертвы богам Ядшудшу и Мадшудшу, через посредника доносит своё мнение девяти судьям, будто царское. Меня это пугает. Семендер мой враг. Он тайно покушался на меня. Ещё месяц назад его голову должны были бы отделить от тела. Внезапная беспомощность хакана не дала сему свершиться вовремя. Но Чаушнар поправится. И вот тогда… Да что ж мы тут стоим?
Иди за мной, мой гость, мой старый друг! Ведь если люди очень старые знакомые, что бы плохого ни случилось между ними, они встречаются как добрые друзья…
Трапезная палата оказалась меньше и не столь светла. От цветной слюды в оконницах цветные зайцы бегали по стенам. Это ветер шевелил листву снаружи. А здесь было спокойно. Табаристанские подушки, обтянутые ковровой тканью, совсем как в Шарукани, обрамляли низкий столик с яствами. Хозяйка усадила гостя. Бака им прислуживала. Илека ударяла в струны чанга[448].
- Отведай харисы[449], она укрепит силы, - потчевала царица. - А вот санбадж[450] из свежего барашка. Закуси буранией[451]…
- Овощей такого вкуса сроду не едал, - пробормотал Род.
- Ах, это баклажаны. Растут только на юге.
- Текуса, а в твоём вине на этот раз дурмана не подмешано? - насторожился гость.
- Не называй меня Текусой. Я - Сарагурь. Здесь так меня зовут, запомни. А о прежнем мы условились забыть. Одно я только знаю: твоё имя Ро-о-од! Верно?
Она движениями, голосом, всем видом показывала радость, как ребёнок, получивший вымечтанную игрушку.
Род, уплетавший за обе щеки с голоду, не позабыл об осторожности:
- Твои охраныши доложат обо мне царю?
- Гулямы преданы, - нахмурилась Текуса-Сарагурь.
- Девицы тоже преданы? - поддерживал беседу Род.
Она сама подала блюдо.
- Вот хабиса[452], вкуснятина, какой ты не едал.
Вино кружило голову, но не отягощало. Приятная истома разлилась по телу.
По мановению руки царицы служанки удалились, оставив фрукты и вино.
- Судьба велит нам полюбить друг друга, - напомнила Текуса. - Я повиновалась ей. А ты?
Род отвечал уклончиво:
- Тебя помню мусульманкой. Здесь живут язычники. Ядшудш, Мадшудш - должно быть, это идолы. Пришлось поменять веру?
Текуса тяжело вздохнула.
- Для всех сменила, для себя и не подумала. - Сорвав белый повой, она тряхнула головой, и чёрная лавина локонов хлынула на обнажённое плечо, на девичью тугую грудь, - Станешь отвергать меня, как прежде? - спросила она резко.
Род, собравшись с духом, деликатно протянул к ней руку, дотронулся до смуглого горячего плеча… Рука упрямо опустилась на подушку.
- Боюсь, - придумал он. - Ведь ты царица, даже просто мужняя жена. Что сделают со мной, едва откроется?..
Жёсткая ладонь Текусы прижалась к его губам.
- Не называй причин. Причины в твоём сердце. Стоит ему распорядиться, мы очень скоро будем слишком далеко отсюда. Есть средства, люди - все у меня есть. Тебя у меня нету.
Тут пленник допустил крупную ошибку.
- Дозволь мне одному бежать, - необдуманно промолвил он. - Не подвергай себя опасности.
- Кафир![453] - вернуло ему разум змеиное шипение Текусы.
Игрушечными кулачками она отчаянно толкнула его в грудь. И богатырь упал. Сидел он отклонившись, не ожидал такого нападения. И вот лежит и видит потолок. На потолке огромное изображение совы.
- Что это? - спросил Род.
- Не узнаешь? Ночная птица, - сухо молвила хозяйка. - Отпугивает гадов, все нечистое. - И едко усмехнулась: - Тебя она отпугивает от меня?
Упавший захотел подняться на подушках и не смог. К нему давно подкрадывалась слабость в этой восточной трапезной. Насытившись, он поздно заподозрил яства и вино. Но тут же укорил себя: их вкус был чист. Должно быть, фимиам серебряных курильниц оказывал дурманящее действие.
- Мне дурно, - сказал он. - Яд в твоих курильницах.
- Мы вместе дышим сладкими курениями, - напомнила Текуса. - Привыкнешь - будет хорошо.
Она расстёгивала на нём кабу, обнажала его грудь, как делают больному, чтобы дышалось легче. В его глазах переливались грани золотой коробочки на её шее.
- Для чего эта коробочка?
Царица деловито пояснила:
- Знак знатности, богатства. У самых низших - из железа. У иных - из меди, бронзы, серебра. Достаток мужа или родителей. И цепи тоже. Каждая цепь - достаток в десять тысяч арабских драхм. И бисер. Каждая бисеринка - одна драхма. Я всех богаче…
Род вспомнил Баку.
- Из твоих служанок только у русской нет на груди коробочки, цепей на шее, бисерных узоров на одежде…
- Бака чужая. - Текуса более, чем следовало, обнажила его грудь. - Нет у неё здесь ни мужа, ни семьи. Её похитил воин Алтунопы из земли вятичей, где наши помогали Северскому князю против Киевского. А тут несчастье: пала Шарукань. Мне удалось спасти двоих - отцовского раба и северную яшницу. Его зовут здесь Белендшером, а её Бакой. Они всегда при мне.
- Оставь! Зачем ты обнажаешь мою грудь? - взмолился Род.
- Так надо, - с прежней деловитостью ответила Текуса. - Я вырежу ножом сердце кафира, который мне его не отдаёт. Возьму сама! Кукразки носят нагруди ножи как знак защиты. Пусть нож мой защитит меня от твоей гордости.
Род дёрнулся и снова повалился навзничь. Силы совсем покинули его.
- Сырая древесина алоэ со свежею смолой действуют на новичка исправно. Ха, потерявший силу богатырь! - смеялась восхищённая Текуса. - Ты в моей слабой власти!
Она сняла с груди блестящий нож, висевший на кольце коробочки. Род его впервые разглядел и ужаснулся. Харалужное лезвие, наборная рукоять…
- О, это нож Итларя!
- Итларя, - согласилась истязательница. - За него отпустил тебя казнённый мною Сурбарь. Этот нож я в складках платья от кукразов сберегла. Ношу как талисман. На сей раз не доверю никому твоих страданий. Сама, сама… - Она коснулась острием его груди.
Род отрешённо наблюдал безумие Текусы.
- Не тронь меня ножом, - попросил он. - Иначе ты умрёшь. На мне заклятье.
В её взгляде, впившемся в него, пылал огонь. Он разгорался. Коварный фимиам, должно быть, и её, привычную, стал не на шутку пронимать. Однако мышцы ей ещё повиновались. Род не был в силах приподнять руки, она же весьма уверенно занесла нож над его грудью.
- Опомнись, сумасшедшая! Ты не меня - себя убьёшь этим ножом, - предупредил Род.
Она его уже не понимала. Твердила о своём.
- Любви моей не разделил. Хотела от тебя ребёнка - отказал, - невнятно выговаривали её губы как в бреду. - Ты снова в моей власти. Что видела во сне тьму тысяч раз, сегодня стало явью. Пусть я умру, а прежде завладею твоим сердцем, кафир проклятый!
Нож опустился. Лезвие оставило царапину на теле.
- Вай, не могу! Нет сил! Я не могу! - хрипела Сарагурь-Текуса, падая лицом на его грудь. Чёрный водопад волос накрыл его.
Род терял сознание. Последнее, что видел, - лицо её с кровавым следом на щеке.
- У твоих губ кровь, - прошептал он.
Её глаза сияли нежностью.
- Лишь своему дитяти сука зализывает раны, которые сама неосторожно нанесла, - сказала она тихо.
В следующий миг не стало ни Текусы, ни острова Ятра, ни трапезной с большой совой на потолке…
10
Он очнулся в сумрачной одрине с широким ложем. Пригорюнившаяся Онтонья сидела на краю в его ногах. Окна были черны. В углу единственный светильник давал слишком мало света.
- Сбыслава, Сбышечка, - по-братски нежно позвал он.
Застывшая в раздумье полонянка встрепенулась.
- Очнулся, Славушка? - Она взяла со столика фиал. - Испей-ка…
- Что это? - подозрительно вгляделся он в белую жидкость.
Что лежит между желудком и кровью, - пояснила Бака. - Не бойся, так названо в Коране молоко. Помогает при отравлении алоэ и смолой в курильницах.
Род передёрнулся при мысли об угощениях Текусы, отогнул ворот рубахи, увидел тонкий шрам на груди слева.
- Погляди, что со мной сделала пиявица!
В его руках рубаха треснула и разошлась, грудь обнажилась широко.
- О, зубы Сарагури на твоей груди! - вскрикнула Онтонья. - Ведьма! Взгляни, что делает со мною и другими девами, - Она, словно перед подругой, обнажила девичью грудь в кровоподтёках. - А то возьмёт шалыгу[454] и… - Он увидел бок в синюшных полосах - не девушки, а зебры.
Пришла на память Ольда-варяжка. Её мучил изверг-атаман. Между Текусой и Невзором Род не находил ничего общего.
- Твоя мучительница от несчастья бесится, - сказал он Баке. - Представь, она до сих пор дева, невольная жена больного старика.
- Я тоже дева, - резко молвила Онтонья, - не кусаюсь, не дерусь… - Закрыв лицо руками, она продолжила сквозь всхлипы: - Срамного ничего не делаю.
Род приподнялся на одре, закутался в верблюжье одеяло и тихо произнёс:
- Дни грешницы Текусы сочтены. Да что там дни, часы!
Онтонья отёрла слезы, глянула испуганно:
- Откуда знаешь? - Род не ответил. Девушка подсела ближе, заговорила горячо: - Я хулю её, кляну, а ведь она мне жизнь спасла, когда вся Шарукань горела, детей бросали в пламя, над девами и жёнами насильничали прямо на земле средь бела дня прилюдно… Сама же, грешным делом, думаю порой: уж лучше тамошняя смерть, чем здешние страдания. И все же нынче мне мою мучительницу жаль.
- Мне тоже её жалко, - вздохнул Род. - Кого винить, что наши токи несогласные: мои её влекут, её же меня отталкивают. Надо бежать. Как? Надоумь, Онтонья.
Бака грустно покачала головой:
- Ты ничего не ведаешь. Нынче повечер гонец примчался из Этали, единственного города кукразов. Бедняжку Сарагурь едва привели в чувства. Оба вы, как мёртвые, лежали на подушках. Проклятый алойный дым вас уморил. Она велела отнести тебя сюда под мой призор, сама в крытых носилках поспешила во дворец. Хакану Чаушнару совсем худо. Того гляди, помрёт. А смерть его - нам всем погибель. Мои подружки Куль и Илека изошли слезами. Со смертью хакана-мужа первой жене его, прекрасной Сарагурь, грозит сожженье вместе с ним, а нам, её служанкам, заклание.
- О Господи! - воскликнул Род. - Что с ним случилось? Чем болен?
- Старостью, - поникла Бака, - За девяносто лет ему. Нет силы дольше жить.
В одрине воцарилось долгое молчание.
Девушка покопошилась в недрах своего платья и извлекла маленький предмет.
- Возьми-ка перстень. Был зашит в твоей одежде.
- О, милая! - обрадовался Род. - Вот помозибо! Вот благодарствую! Это перстень моего отца. - Но тут же он помрачнел: - Ты знаешь, на моей груди нет материнского креста. Маленький такой из кипарисового дерева. Входил с царицей трапезничать, крест был, сейчас щупаю - нету.
Онтонья развела руками.
- Когда укладывала тебя на одре, ни цепки, ни гайтана на твоей шее не было. Постой, - вдруг вспомнила она, - из кулака у Сарагури, я видела, свисала тонкая серебряная цепка.
- Текуса, стало быть, к тому ж воровка! - простонал Род.
- Не огорчайся, - успокоила Онтонья. - Взяла как амулет на память. Не отдаст - я у неё выкраду. Конечно, коли будем живы.
Род попросил:
- Принеси одеться. Постараюсь, чтобы все остались живы. Поставлю на ноги хакана. Как к нему добраться?
- Ты? - удивилась девушка. - Не хвастайся, безумец! Тут старейшие жрецы бессильны, а ты… Уж опочинься[455] лучше.
Род послушно лёг, однако произнёс:
- Утром называла ведальцем, теперь не веришь. Меня тревожит страшная судьба в твоих очах. Сварог свидетель, я хотел помочь.
Онтонья молча вышла. Принесла одежду.
- Облачайся. Попытаюсь провести тебя к царице.
Род встрепенулся:
- Поверила?
Сбыслава развела руками:
- Бежать с острова нельзя. Окажешься удачливым - спасёмся. Вылжешь - погибнешь с нами.
- А ведь я в Колтеске был, когда тебя украли, - как сестрой залюбовался ею Род.
Бака внезапно бросилась ему на грудь и разрыдалась.
- Домой хочу-у-у-у!
Он успокаивающе гладил её голову.
Царицына служанка резко вышла. За дверью зазвучал её высокий голос:
- Белендшер! Ануширван!
Вскоре кыпчак-охраныш заглянул в одрину и, увидев, что Род вполне опрянулся, любезно пригласил:
- Носилки ждут!
Для Баки носилок не было. Род попусту настаивал, что сам пойдёт пешком, а девушку должны нести. Она велела не перечить: целитель может быть доставлен только скрытно, в большой тайне. Носильщиками были кыпчак, которого здесь звали Белендшером, и кукраз Ануширван, что первый столкнулся с Родом при морском купании. Закрытые носилки покачивались яликом на воздушных волнах. Порою ветер приотдёргивал завесу, и несомый видел сначала редколесье, посинённое луной, затем бескрышные и безоконные дома из глины с плотно закрытыми дверьми. Унылый город! Площади и царского дворца не удалось увидеть - ветер стих.
Носилки замерли. Послышалось кукразское кудахтанье, и строгий голос Баки ответствовал на том же языке. Носилки тронулись в дальнейший путь. Он был недолог. Рода выпустили в сводчатой палате из кирпича. Факел в руке кукраза освещал красные стены.
- Сюда, - велела Бака, открывая дверь.
Лестница вела наверх.
Из носильщиков Ануширван и Белендшер вновь стали охранышами, плотно шли бок о бок. Бака исчезла во внутренних покоях, приказав ждать. Изрядно времени прошло, пока она явилась и повелела Роду следовать за ней.
В тесном покое пахло благовониями. При двух светильниках приняла гостя царица Сарагурь в темных шёлковых одеждах. Лицо искажено страхом. Ничего общего с Текусой. Краше в гроб кладут.
- Ты… простишься со мной все-таки? - как бы не веря себе, произнесла она. - Бака, оставь нас, - Когда девушка вышла, она упала ему в ноги. - Ро-о-од, прости за все!
Он её поднял как пушинку.
- Не впадай в страх, царица. Стой крепче на ногах. - Он возложил руки на её чело.
Текуса вздрогнула всем телом и отпрянула:
- Что это? Весь страх пропал. Волоски молний из твоих ладоней пронзили мою голову.
- Доверь мне умирающего старика, Текуса, - попросил Род.
Она сложила руки, как правоверная в молитве.
- О тяжкий грех на мою душу! Я чуть не уничтожила, преступно обольщала, мучила великого шамана. И ты меня не покарал!
- За что ж тебя карать? - участливо прервал Текусу Род, - Тобою двигала любовь ну и… отчаянье. Не ведала ведь, что творила.
- Нет, ведала. А этой ночью ужаснулась. Ты сквозь годы прозрел мою судьбу… Костер! Он дышит на меня. Его огонь уже во мне. - Текуса закрыла лицо руками, - Нет спасения!
Род бережно коснулся её дрожащих плеч.
- Спасенье, может быть, и есть. Я попытаюсь. Сперва верни мой крест.
Текуса, высвободившись, отбежала в тёмный угол, порылась в головах одра, где до его прихода бодрствовала в ночи.
- Возьми свой христианский талисман. Ещё раз прости безумную воровку.
Он принял материнскую реликвию, надел.
- Теперь веди.
- Нет. - Текуса стала перед дверью, растопырив руки. - Там злой надим[456]. В нем вместо сердца бьётся клубок змей. Не вылечишь царя, погибнешь. Великий жрец Хамлидш уже лишился жизни. Бессильны оказались его чары. Чаушнар даже не разомкнул очей. Я лучше тут с тобой прощусь. Как тебя спасти? Ума не приложу. Дворец уже моя тюрьма. Проклятый Семендер!
Взяв её за руки, Род молвил не без гнева:
- Мы теряем время!
За дверьми одрины ждала Онтонья. Втроём пошли по переходам. Вот половина царицына сменилась половиной царской, потому что Сарагурь и её спутников не сразу пропустила стража.
- Царица во дворце уже почти не властвует, - шепнула Бака.
В большой палате на высоком ложе, вспененном обильем покрывал, не видно было умирающего. Один светильник в изголовье едва разгонял тьму. Чуть-чуть поодаль в железном кресле сидел масластый длиннолицый кукраз, свесив смоляные космы. Он в терпеливом ожидании смотрел на ложе. Взгляд на вошедших был тяжёл.
- Вот Семендер, - шепнула Бака.
Надим с царицей говорили неприязненно. Почти что властелин в конце концов взмахнул рукой и отвернулся.
- Он в тебя не верит, - шепнула Бака. - Он обещает тебе смерть.
Целитель подошёл к одру.
- Прибавьте свету, - попросил Род по-кыпчакски.
Внесли второй светильник.
На ложе в пене покрывал желтели мощи. Жизнь в них едва теплилась. Род отыскал невесомую костлявую руку, потом нащупал другую.
- Выйдите все!
Вышла только Бака.
- Надим не хочет покидать царя. Я тоже не покину, - твёрдо вымолвила Сарагурь.
- Отойдите от одра подальше, - велел Род.
Главный царедворец и царица отошли.
Смертный холод из обтянутых пергаментом костей проникал в тело целителя сквозь пальцы, державшие почти безжизненные кисти долгожителя. Пришлось великой волей призвать всю внутреннюю теплоту, чтобы противостоять этому холоду. Почуяв свою победу, Род огласил ложню страшным голосом:
- Призываю тебя, могучий Од![457] Взываю к тебе, великан Од иль! Пусть сила силу нудит. Пусть сила под пнём клубом бьётся. Красные муравьи, кровавые капли! Под магнитовым камнем сила магнитова… - Род понимал, что иссохшее дерево, лежащее перед ним, вот-вот будет сломлено смертью. Хоть бы чудом удалось влить в него свежие соки, размягчить старую древесину, вернуть ей упругость. Гибкое легко гнётся, да трудно ломится. Руки волхва-целителя плавно передвигались с седого черепа к утлой груди, с острых плеч к мягким запястьям, голос звучал внушительнее: - Через силу и конь не прянет, я пряну! Огонь силу взял, я отдам! Слабейший из сильнейших сильнее сильнейшего из слабейших. Чья сила, того и воля. Беру под силки! Пусть в больного сила войдёт, пот в пот, кровь в кровь. Нивка, нивка, возьми мою силку! Я мощный, дюжий, крепкий, здоровый, властный… Могу! Могу!
Чаушнар разжал веки, мутно глянул в глаза творящего заклинания, сухие пальцы нетерпеливо перебирали покровы ложа.
- У комаришка - силишка, у цыплёнка - силёнка, - кричал тем временем Род. - У меня, великанища, - силища! Сила по силе, осилишь. Сила не под силу, осядешь…
Царь сел на своём одре.
Из угла рокотнул затравленный рык Семендера. Из другого угла - горличий вскрик Сарагури.
- Вся сила в накале! - неистово возглашал целитель. - Куй, пока кипит, куй, пока кипит!.. Размогшийся, возмогай!
- Подайте халат! - властно пропищал царь.
Что за шум тут поднялся! Едва державшийся на ногах Род ещё видел затуманенным взором, как Чаушнар в солнечном халате выпущенным из заточения скакуном бегал по одрине, плюхнулся в железное кресло, где только что сидел Семендер, вновь вскочил, что-то резко приказывал, на кого-то крикливо гневался…
Бака? Нет, нет, И лека выводила целителя из царской опочивальни. И едва вывела, подошёл Белендшер:
- Позволь отереть пот с твоего лица, господин…
Влажное потирало закрыло уста и ноздри. Род непроизвольно вдохнул эту терпкую влажность. Миг… и явь уступила место глубочайшему сну.
11
Княжеский поезд мчался по дресвяной дороге сквозь болотные топи, лесные дебри через Новгород-Северский в землю вятичей и далее в суздальские края. В наглухо закрытой карети о двух занавешенных слюдяных оконцах сидели в мягких подушках колени в колени лицо к лицу Улита с Лиляной.
- Не борозди горючими слезами свои наливные щёчки, государыня моя милая, - советовала Лиляна. - Все в руках Божиих.
- Молилась нощно и денно, - размазывала по лицу горе Улита душистым кружевным лепестом. - Бог грешницу не слышит. Тиран ревнивый, половецкая образина, предательски отдал в рабство источник жизни моего сердца, опору моей души…
- Гюргий едва не проклял сына, когда Андрей покинул его, - несколько изменила стезю беседы Лиляна, - Уцепился за свой Остерский Городец, как тонущий за травинку. Победители ждут, когда побитый унесёт ноги, а тот юлит лисичкой со скалочкой. Каково Андрею плавать в позоре? Разумно настропалился к дому.
- Разу-у-умно! - простонала Улита. - Теперь я до гробовой доски не увижу своего света. На юге, на границе Дикой Степи, он все-таки был ближе, а на севере…
- Вспомни, как он в Москов к тебе из дальних далей снегом на голову упал, - жарко зашептала Лиляна, - ещё при жизни твоего батюшки, царство ему небесное.
- Слушай, слушай, - в свою очередь зашептала княгиня своей наперстнице, - Андрей-то перед самым отъездом угадай, о чём завёл со мной речь будто бы ненароком? О монастыре!
- Вевея, подколодная змея, ловко же проползла в последнюю твою тайну, - тяжело вздохнула Лиляна, - Это я о придумке с Агапитом-лечцом.
- Детей после этого отобрал, Граню и Гюрю, - вновь залилась слезами княгиня. - Сказывают, галичанку проклятую тщетно звал во Владимир. Разлучница пока затаилась в Галиче.
- Что же Яким проглотил язык? - рассердилась Лиляна.
- Тише! - насторожилась Улита. - Возатай может услышать. Всюду теперь за мной уши да глаза. А Яким себя бережёт для крайности. Ведь Андрей источает молнии. Будущее может стать страшней нынешнего.
Женщины замолчали. Род, находясь вплотную, сколько желал, прикасался к ним, они этого не чувствовали.
- Потерпи, лебёдушка Улита, - обняла Лиляна госпожу-подругу. - Грянет счастье, принесёт судьба жисточку твоего с юга к северу…
- Нет, - княгиня высвободилась, ненастно потемнев лицом. - Сердце-вещун без обиняков твердит: странные чужие люди унесут свет мой на юг, на юг и дальше на юг в дальние незнаемые страны. И не увижу света моего я больше никогда. Разве что на самом склоне жизни он осветит меня чуть-чуть…
Раненный таким провидением, Род выскользнул из мира движущегося княжого поезда и с превеликой тяжестью вновь ощутил свои телесные вериги.
Открыл глаза, увидел Белендшера.
- Проснулся, господин? - спросил бритоголовый половец. - Ай, как хорошо!
- Зачем ты усыпил меня своей вонючей тряпкой? - рассердился Род.
Все члены его ныли от непреодолимой слабости.
- Царица приказала усыпить тебя и тайно принести сюда, - виновато опустил голову кыпчак. - Надиму Семендеру очень не понравилось, что ты отнял у Смерти царскую особу Чаушнара. Опасность велика. Сейчас царица ищет место, где тебя скрыть.
Сиделка Белендшер принёс большую миску мадиры[458]:
- Немножко подкрепись.
Род после омовения и одеванья полюбопытствовал за трапезой:
- Скажи, почему вы с Ануширваном обриты наголо? Из-за жары?
- Жара тут ни при чём, - ответил Белендшер. - В стране кукразов волосы достойны украшать лишь головы господ. Я - раб.
- А почему царица, царь, его надим сидят в железных креслах?
- Железо говорит о твёрдой власти. Оружие - о силе…
- Вестимо, - согласился Род. - А почему Ануширван, и ты, и даже сам надим такие краснокожие?
- Ха, - усмехнулся Белендшер. - Смешной обычай у кукразов: мужчины обладают красной кожей. Натираются червеницей[459], и только.
Рода радовало, что снотворное не оставило по пробуждении дурного действия, влило как будто даже бодрость. Иначе он был бы более расслаблен, передав львиную долю своей силы Чаушнару.
- Чем ты так быстро усыпил меня, а, Белендшер?
- Бандж, - отвечал кыпчак. - Снадобье из листьев индийской конопли и белены. Сильное снотворное.
Его используют… Постой-ка, господин, мы не одни в доме! - Он взял свой креноватый нож и вышел из одрины.
Род слышал лёгкий стук, как будто ветром колыхнуло ставню. Он знал: на окнах дома висели деревянные решётки ставень. Он был уверен: Белендшер вот-вот вернётся. Тишина все длилась… Вдруг - громкий разговор… Он уловил несколько кукразских слов, уже знакомых: кубба[460], бабунди[461], хисме[462]… Никакого смысла не открыли эти выуженные из непонятной речи отдельные слова. Их прервал голос Белендшера по-кыпчакски:
- Шакал-предатель!
Род поспешил на шум. И опоздал. Раздался истошный крик. Что-то упало…
В большой палате с железным креслом, где в первый день он принят был Текусой, горел у входа один светильник. На полу лежал Ануширван. Белая ковровая дорожка из овечьей шерсти под ним краснела на глазах… Над павшим возвышался Белендшер, уже отбросивший свой нож.
- О Боже! - воскликнул Род по-русски. - Ты что… ты почему его убил?
Белендшер, мутно глядя на вошедшего, молчал. Он не уразумел вопроса. Род заметил, что половчин слегка покачивается. И вот он рухнул, как поверженный кумир. Род бросился к нему, рванул халат. На животе зияла косая рана, из неё струились внутренности.
- Друг, - прохрипел несчастный по-кыпчакски. - Чаушнара нет. После твоих чар… он, как сайгак, побегал и упал. Испустил дух. Царица в лапах Семендера… Надим велит тебя убить. Прислал Ануширвана… Я помешал… Беги! Сюда придут… На площади у ашханы араб Абу Хамид… спасёт… Он… только он… О, тьма!
Белендшер вытянулся и застыл навеки.
Род подошёл к окну, выбил оконницу со ставней. В палату хлынул ранний синий свет. Светильник стал почти не виден. Утренняя свежесть вытеснила кровавый запах. Род вышел в сад, обвёл тоскливым взором чужие, незнакомые деревья. У глиняной куфы с остатками зелёной дождевницы увидел заступ. Под деревом с оскомными плодами, похожими то ли на вишню, то ли на сливу, вырыл яму. Два трупа рядышком легли в могилу. Род не вернулся в дом, а вышел на дорогу.
Сельга скоро кончилась. Колючая сухая степь внушала Роду: мы чужие! Вот мазанки подградья. Чужесть, пыль, как в Шарукани. А народ уже бежит спросонок. Краснотелые мужчины в грубых одеждах из портяной[463] ткани, с топорами, креноватыми ножами и мечами у поясов. Женщины, укутанные в бисерные понки - одна рука свободна, - с бронзовыми, медными коробочками и ножами на груди. Род усвоил одно слово на кукразском языке.
- Куда? - остановил он двух бегущих.
- Майдан, майдан, - ответили они.
Понял, что на площадь.
И в самом деле площадь гудела, как киевское вече в день убийства Игоря Ольговича.
Перед глазами Рода колыхалась зелёная чалма. Её владелец повысматривал в толпе кого-то и оглянулся. Смуглое округлое лицо с большими черными глазами, с ухоженной черно-серебряной бородкой. Глаза при виде Рода оживились.
- Клянусь Аллахом, ты русич, - произнёс он чисто по-славянски, мягким, сладким голосом. - Ты хочешь посмотреть на погребение?
По выговору обладатель дорогой чалмы живал, скорее всего, в Суздале, нежели в Киеве.
- Бывал в моих краях, мудрейший? - спросил Род.
- Ростов, Владимир, Ярославль, - охотно перечислил путешественник. - Будь на то воля всевышнего Аллаха, посетил бы Новгород Великий, но… Что ж мы тут увидим? Взойдём на кровлю вот этой ашханы, - указал он на ближайший белокирпичный дом. И Род при этом вспомнил Белендшера, говорившего об ашхане на площади.
- Араб, тебя зовут Абу Хамид? - на всякий случай спросил он.
Вот я перед тобой, - ответил незнакомец. - Абу Хамид ал-Гаранти к твоим услугам. Араб я иберийский[464], родом из Гранады. Ты о такой земле не ведаешь?
Соль в Киеве, я слышал, иберийская, - припомнил Род. - Ещё вкушал у князя иберийские ветры, пирожки такие сладкие.
Абу Хамид невольно улыбнулся:
- Где тебе хорошо знать мою страну? Один Аллах все знает лучше всех, ибо он самый мудрый, самый могущественный и щедрый, самый снисходительный и милосердный.
Тем временем хозяин ашханы открыл им вход наверх. Они взошли на кровлю.
Перед белокирпичной двухпрясельной[465] громадою дворца сияли позолотой два широкоплечие болвана. Между ними на четырёх столбах высилась ладья с маленьким срубом у кормы. Посреди ладьи старуха в чёрном устилала стёгаными покрывалами, подушками из греческой парчи широкую скамью.
- Ядшудш, Мадшудш, - сказал араб, указывая на болванов. - Ангел Смерти, - кивнул он в сторону старухи.
По сторонам стояли два помоста. На одном сидели девять человек в белых одеждах.
- Девять судей Эталя, столицы всех кукразов, - пояснил Абу Хамид.
О другом помосте с затейливой хороминкой из свежего пластья он не сказал пока ни слова.
Уныло зазвучали длинные сопелки в устах гудцов. С дворцового крыльца стало спускаться шествие. В центре его над головами плыли высокие носилки. На них лежал вчерашний возвращенник к столь недолгой жизни. Он был в блестящих сапогах, в парчовом подпоясанном кафтане с золотыми пуговицами, в собольей шапке. Его подняли на ладью и положили на стёганое покрывало, обрамив подушками. К одру покойного принесли мёд, плоды, травы благовонные, хлеб, мясо, лук. Оружие - налучье, колчан со стрелами и обоюдоострый меч - сложили в изголовье. Тут же внесли собаку, раскроили надвое и бросили в ладью, ввели по паре коней, коров и, изрубив мечами, оставили в ладье. В придачу к ним зарезали петуха с курицей.
- Призываю Аллаха и его ангелов в свидетели, я на такое варварство взираю, как и ты, впервые, - обратился к Роду Абу Хамид. - Конечно, пересказывали мне весь этот обряд кукразов не единожды, а вот воочию узреть не доводилось.
- Вон, вон! - перебил Род. - Куда они пошли?
Он углядел, когда Текуса отделилась от процессии и поднялась на тот, второй помост с затейливой хороминкой. След в след за ней шёл Семендер. Они вошли в чертог.
- Ах, - сморщился араб, - дикий обряд совокупления. Сейчас преемник Чаушнара возляжет с овдовевшею царицей и скажет: «Если б ты не сделала сего, то кто бы посетил тебя?»
- Чего… сего? - не справился с дыханьем Род.
- Ну, перед тем её же спрашивали: «Хочешь умереть с ним?» То есть с мужем. Она сказала: «Да!» Вестимо, против воли.
- О, Сарагурь! - вырвалось из самой души Рода.
Он с горечью подумал, что Семендер дождался своего.
- Бедняжка Сарагурь надеялась на твою помощь, - прямо в ухо прожурчал Абу Хамид, - Ты чародей! Однако не рассчитал по молодости: слишком много влил своей силы в немощное тело сразу. Старик просто не выдержал…
Между тем поникшая Текуса и довольный Семендер сошли с помоста. Царицу подвели к чему-то сделанному наподобие колодезного сруба. Она стала на руки мужчин и заглянула в сруб. Старуха Ангел Смерти подошла и трубно вопросила по-кукразски. Тут же перевёл Абу Хамид:
- Что видишь?
Надтреснутым металлом прозвучал ответ Текусы:
- Вижу здесь отца и мать свою.
Её спустили с рук и снова подняли. Опять тот же вопрос. Она ответила:
- Теперь я вижу всех своих умерших родственников.
Её спустили и подняли в третий раз.
- О! - мучительно воскликнула она. - Там господин мой. Он сидит в раю, прекрасном и цветущем. С ним мужи и юноши. Он призывает: пустите меня к нему.
Вот возвели царицу на ладью. С ней вместе взошли Куль, Бака и Илека. Ангел Смерти сопровождала их. Вот Сарагурь сняла с себя запястье и отдала старухе. Сняв кольца с ног, она вручила их своим прислужницам.
- Теперь девицы, её служанки, стали дочерьми Ангела Смерти, - пояснил араб.
Шестеро мужчин, взошедших на ладью, звеня щитами, палицами, подали царице чашку меду. Она выпила. Абу Хамид сказал:
- Напиток - знак прощания со всеми её милыми.
Старуха торопила Сарагурь допить мёд, толкала к срубу на корме.
Тем временем мужчины, выхватив ножи, зарезали Илеку, Баку, Куль и уложили в ногах умершего царя.
Род крепко сомкнул вежды, закрыл уши, чтобы не видеть, не слышать этого.
- Страдалица царица не хочет входить в предсмертный свой покой, - передавал Абу Хамид. - Она всунула голову меж срубом и ладьёй.
Род открыл глаза. Старуха схватила за голову обречённую, втолкнула в сруб и вошла с нею. Тут мужчины оглушительно забили палицами в щиты, как и барабаны. Однако крик Текусы превзошёл гром палиц.
Рода трясло как в лихоманке.
- Ужель старуха её убьёт?
- Нет, - покачал чалмой Абу Хамид. - Бедняжка Сарагурь кричит в предчувствии ужасного, что с нею сотворят сейчас.
Все шестеро мужчин поочерёдно побывали в срубе…
- Для чего? - не догадался Род.
- О варварство! - Араб прижал к груди ладони, - Эти шестеро вслед за надимом продолжили чудовищный обряд совокупления.
В конце концов царицу вынесли из сруба и положи ли возле мёртвого царя. Двое взяли её руки, двое схватили ноги. Старуха Ангел Смерти надела ей петлю на шею и подала верёвку двум оставшимся мужчинам.
- Сейчас её убьют, потом сожгут, - сказал араб.
Род устремился к краю плоской кровли:
- Я должен помешать!
- Клянусь Аллахом, ты не помешаешь, - держал его Абу Хамид за край одежды.
Род легко вырвался. Им овладело безумное стремленье спрыгнуть с крыши на головы толпы, продраться сквозь неё к страшной ладье, отнять жертву у зверей и разметать костёр. Толпа ревела.
- Ух-ух-ух-у-у-ух! - победно перекрыл её совиный клич лесовика.
Кое-чьи головы глянули вверх. За спиной Рода прозвучал голос:
- Не гаси чужого костра!
Заповедь Букала! Доподлинно, ну слово в слово, как по волшебному наитию, её воспроизвёл Абу Хамид.
Род замер, покорившись, у края кровли. Он видел, как старуха, выхватив широкий нож, вонзила его в бок Текусы и выдернула, как в это время мужские руки тянули вервие, как обнажённый Семендер взял в одну руку полено, зажёг его, пошёл задом к ладье, держась другой рукой за тайные уды, и быстро воспламенил хворост под ладьёй… Ангела Смерти с её помощниками уже не было вверху. Все девятеро судей, сбежав с помоста, начали кидать в костёр горящие отрубки. И вот все запылало - ладья, сруб, тело Чаушнара и царицы и все, бывшее в ладье. Дул ветер, пламя расширялось…
Абу Хамид затормошил своего нового знакомца:
- Хозяин ашханы сказал: люди Семендера идут сюда… тебя убить. Должно быть, ты был узнан на краю кровли кем-то из толпы. Во имя Аллаха поторопимся! Идём!
«Спасёт… он… только он», - вспомнилось предсмертное хрипенье Белендшера. Род не сопротивлялся, быстро ведомый за руку.
- Ты знал, араб, царицына кыпчака, что звали Белендшером? - спросил он.
- Клянусь Аллахом, я не знал такого, - мотал чалмой ал-Гаранти. - Бедняжка Сарагурь по смерти Чаушнара дала мне о тебе подробнейшие наставления. Тебя искали мои люди. А кто этот кыпчак? Друг, враг?
Род не ответил. Его мысли всецело занимал заве! Букала. Ужель вся жизнь так тонко предопределена? Зачем тогда искусство волхвования? Чтоб только знать или суметь предотвратить? Жестокая судьба жестокой Сарагури! Но Бака, Сбышечка, Онтонья! Душа и сердце - воск и мёд!..
У ашханы араба с его спутником и верными людьми вдруг окружили слуги Семендера. Завязалась драка. Один из семендеровцев пробился к Роду и Абу Хамиду. Араб закрыл глаза, переменясь в лице. Нет, креноватый нож стремился не к нему, а к горлу Рода. Из сжатого запястья пылкого убийцы хлынула кровь, как сок из стебля кукурузы. Вторым приёмом Род поднял ревущего и выбросил из плотного кольца абухамидовых телохранителей. Ошеломлённые кукразы отошли. Они послали за подмогой. Толпа лишь наблюдала, не вмешивалась. Видимо, народ Эталя, не очень-то радел о Семендере.
Рода и его спасителя-араба быстро понесли к берегу в роскошном паланкине.
- Ты сильный человек! - сказал ал-Гаранти.
Род не ответил.
- Я слышал, что кукразы едят крупное жёлтое зерно, неведомое в здешнем мире, - продолжал араб, надеясь отвлечь спутника от только что увиденного, - Они зовут его кукруза. Кука, или кика, - белояровая пшеница, руза - русская. При чём тут белояровая? Почему русская? У вас ведь таких зёрен нет. Ну а себя зовут кукразами. Странный народ! После набега на Шарукань опомнившиеся кыпчаки вытеснили его на острова. Я думаю, недолговечна судьба кукразов.
Род продолжал молчать, оцепенев. Лишь когда взошли на лойву с зелёными косыми парусами и головой дракона на носу, он подозрительно спросил:
- Куда меня везёшь?
- Подальше от опасностей, клянусь Аллахом, - пробормотал Абу Хамид.
- Мне нужно в землю вятичей. Владимир, Ярославль, Ростов, - называл Род знакомые арабу города.
Ал-Гаранти поспешно закивал чалмой: дескать, туда, туда. Однако на сей раз Аллахом не поклялся.
Они сидели в деревянной келье у кормы. Служитель внёс еду. Хозяин угощал спасённого гостя и развлекал беседой:
- Я удивлю тебя: Булгар - дорогой город, а товары на базаре ой как дёшевы! Взял горностаевую шубу за бесценок. Правда, шуба лёгкая, мех более для красоты, чем для тепла. В Индии её цена до тысячи динаров, в Марокко двести пятьдесят, а тут… Да ты меня не слушаешь?
Сухие губы Рода, ещё не тронувшего ароматных яств, шептали одно имя в трёх звучаниях:
- Сбыслава… Онтонья… Бака…
- Не вспоминай о виденном, - сложил ладони Абу Хамид, - Наслаждайся продолженьем жизни, что даровал Аллах. Ты знаешь, - перебил он сам себя, - меня в Булгаре привлекали не товары. Мне захотелось воочию узреть необычно краткий день в холодное время года и необычно краткую ночь в жаркое. Я был у реки Камы. Надел три шубы, одна подбита мехом. На ноги - обувь шерстяную, поверх неё - холщовую, а ещё сверху - бургали, из конской кожи сапоги, внизу на волчьей шкуре. Я умывался у огня тёплой водой, и она тут же замерзала. Я выдирал из бороды льдинки, а то, что тычет из носу, замерзало на усах. Из-за множества одежд я был не в состоянии залезть в телегу без колёс с высокими бортами, спутники меня подсаживали… Ты не слушаешь?
- Когда мы минем Волгу, войдём в Оку? - сгорал от нетерпенья Род.
- Итиль, Ока, чужая, ведомая даль, - кивал чалмой Абу Хамид, - Я достиг Йуры[466], страны дикого народа. Солнце там летом не заходит сорок дней, а зимой ночь столь же длинна. Их купцы несут товар в условленное место и кладут каждый своё отдельно. Поставив знак, уходят. Вернувшись, обнаруживаю! рядом тот товар, который нужен их стране. Берут, если согласны, а нет - уносят свой. Обману не бывает. И войн йугурты не ведут. Нет у них животных, ни вьючных и ни верховых. Лес, всюду лес, где много мёда и соболей, коих они едят. Дорог у них не сыщешь, всюду снег. Для путешествия они обстругивают длинные доски - верхний конец приподнят, а посередине место, чтоб ставить ногу, привязывая её ремнями. От обеих досок - длинный ремень, как конские поводья. Его держат в левой руке, а в правой палку в человечий рост. Внизу у этой палки нечто вроде шара из ткани, туго набиваемого шерстью. Шар - в человечью голову, но лёгкий. Упершись палкой в снег, отталкиваются позади и быстро двигаются по снегу. Если б не такие доски, там бы не пройти. Снег там вроде песка, не слёживается совсем…
Далее Род ничего не слышал.
Ему казалось, он тут же открыл глаза. Так только казалось. В пузырчатом оконце кельи была тьма. На колеблющемся прибранном столе горел и колебался светец в широкой чаше с маслом. Род проснулся на жёстком травяном матрасе. Напротив на одре храпел Абу Хамид. Они взошли на лойву в полдень, значит, Род спал долго. Спал без сновидений, как мертвец. Вскочив, он выбежал на палубу. Закинул голову. Серебряная гривна луны лежала на дне неба. В первый миг насторожило, что не увидел берегов. Значит, лойва продолжала идти морем, не проникла в Танаис, чтобы после на катках достичь Итили - Волги. В следующий миг в душе его подняло бурю расположенье звёзд. Арабы-моряки в чалмах не обращали на него внимания. Опрометью ворвавшись в келью, он растолкал Абу Хамида.
- Ты обманул меня, проклятый агарянин[467] Мы идём вовсе не на север! Мы идём на юг!
Ал-Гаранти поднялся, протёр глаза. Покинув одр, сел у стола, повесил голову. Без чалмы он выглядел не слишком молодо: седой старик!
- Ро-о-о-о-д! - произнёс он долго и гортанно, как Текуса. - Ты много пережил и слишком утомился. Ты проспал почти две ночи и полтора дня. Если Аллах поможет, скоро мы увидим Фару - маяк Боспорский. Ужель ты думаешь, я мог вернуть тебя в несчастную страну, где озоруют твои безумные князья? Ты слишком добр, слишком искусен, слишком могуч, чтоб подвергать тебя такой опасности. Аллах всеславный уже решил твою судьбу иначе. Ты поддержишь мои силы, поможешь мне в великих путешествиях, увидишь мир, какого даже сновиденья не изобретут. Аллах мне даровал тебя, редчайший из людей! Казни за то, что не исполнил твою волю. Ты мне теперь дороже жизни. Бросайся в волны, не переплывёшь Чермного моря. Лучше покорись судьбе и мне. Со временем воздашь себе хвалу за это. Нас ждут Царьград, святыни Палестины, африканский берег, а дальше - солнечная родина моя Гранада. И да поможет нам Аллах!
ДУБОВАЯ ДОМОВИНА
1
- Хольмгард![468] - подбоченясь, объявил варяжский гость с видом знатока.
Застывший рядом у самого борта светло-русый богатырь с аккуратной мягкой бородкой просто-таки пожирал глазами надвигавшуюся белую башню. Она возвышалась на земляном валу мощным углом деревянной крепости. А перед валом - ров. А ещё ближе - монастыри, монастыри и монастыри. А вот уж виден и мост через Волхов. Забелел детинец на левой стороне с храмом святой Софии. А на восточной, правой, вкруг Ярославова дворища, как под княжеской рукой, - затейливые дома купцов - дело рук здешних каменных здателей[469] Петра и Коровы Яковлевичей, Петра Милонега. А разукрашены как! Высятся боярами в позументах. Потрудились тут мастера чеканщики Коста и Братило.
- Дойч? - обратился к светлоокому спутнику гость-варяг по-немецки, - Любопытные варварские места?
- Патриа, амиго, патриа![470] - отмахнулся тот.
- О! - только и воскликнул опростоволосившийся знаток.
Пристани, левобережная и правобережная, вовсе не походили друг на друга. Если с левой стороны на иностранцев под парусами очесливо[471] взирала новгородская знать со своими боярынями и боярышнями, укрывшими белые лики под цветными подсолнечниками[472], то с правой к новоприбывшим спешили купцы со всех русских княжеств в надежде первыми ухватить заморский товар, а также купцы польского Поморья, немецкие, шведские, датские, греческие, арабские, по-братски встречавшие благополучных земляков.
- Стало быть, ты из местных, - уже по-русски продолжил беседу варяжский гость. - Видно, давно отсутствовал?
Вот тут он не ошибся. Спутник его охотно откликнулся на родную речь:
- Двадцать лет, считай, был чужбинцем. А Новгорода Великого не лицезрел много более.
- У меня здесь на Прусской улице терем. Будь в нем как дома, - предложил варяг. - Моё имя Ерминингельд. По-русски просто Ермила. А тебя как прикажешь звать?
- Родислав Гюрятич Жилотуг. А для вящего удобства - Род.
- Ро-о-од! - повторил варяг.
Бывший чужбинец, как бы прервав свои думы, живо спросил:
- Скажи-ка, досточтимый Ермила, не знавал ли ты у себя, на Прусской улице, варяжку именем Ольду? У неё ещё брат есть. Кажется, Евальд…
- Досточтимый? - усмехнулся варяг. - Не из арабского ли плена возвращаешься восвояси?
- Из иберийско-арабского, - уточнил Родислав. - Ведомы ли тебе такие места - Гранада, Севилья, Бетика?
- Нет, не ведомы, - покачал головой Ермила.
- Мой господин Абу Хамид ал-Гаранти родом из тех мест, - сказал Род. - Недавняя смерть его открыла мне путь домой.
- Как у вас говорят, в гостях хорошо, дома лучше? - улыбнулся Ерминингельд.
Род объяснил, думая о своём:
- Дома дела поважнее, нежели в гостях. - И напомнил: - Ты не ответил на мой вопрос.
- О старых твоих знакомцах Ольде и Евальде? - Варяг заметно помрачнел. - В Хольмгарде все кончане и уличане[473] друг друга знают. Известны и мне эти брат с сестрой. Да, видишь ли… Несколько лет назад от Прусской улицы остались головешки и пепел. Большой был пожар! От Немецкого до заднего Герольдова вымола[474] все сгорело дотла. Кто имел средства, строились заново. Остальные уехали. Слышал, что Ольда с братом сейчас на Готланде, есть такой город Висби…
Род кивнул. Они уже покидали сходни. Следом несли их кладь. Ерминингельд отметил, что коробья блудного россиянина не уступают его собственным.
- О! - взглянул он на спутника с уважением.
От приглашения стать постояльцем Род отказался под благовидным предлогом, что нужно нынче же отыскать в этом городе старого, закадычного друга. Однако возможность вручить свои коробья попечению заботливого Ермилы была принята с благодарностью.
Вернувшийся домой путешественник налегке пошёл по знакомым улицам. Впрочем, местами и не совсем знакомым. В конце Епископской на берегу Волхова вместо старой деревянной церкви возвышалась новая, каменная, под стать главной новгородской святыне - святой Софии. Мужал Господин Великий Новгород! Улицы широки, дома основательны. Какого друга мечтал отыскать одинокий странник в этом лабиринте стен среди моря крыш? Богомилова хоромина на Людогощей теперь чужда, как давняя жена, переменившая нескольких мужей. Луноликая огнищанка выплеснула опитки из оконца его светёлки едва не на голову какому-то зазевавшемуся прохожему.
- Эй, не озоруй! - крикнул тот.
- А чего зенки пялишь?
- Здесь живал ушкуйник Гостята. Да у него была полепше подружия.
- Тю-тю, твой Гостята, тю-тю! - злорадно завопила чужая жёнка. - Гулял млад вниз по Волге, да набрёл смерть близ невдолге…
И пошёл знакомец несчастного ушкуйника прочь.
Наблюдавший эту беседу Род почувствовал себя ещё сиротливее. Не токмо что Богомила давно уже нет в живых, последыши его в этом доме канули в вечность. И все-таки, возвратясь с чужбины, нелепо довольствоваться обществом чужестранца Ерминингельда. Хотелось родной души. Да где же её найти? На памяти было единственное полузабытое имя Зыбата Нерядец, предприимчивый новгородец, знавший Богомила, спасённый Родом от бродников. Памятуя, что Зыбата из ониполовичей, Род начал поиски с торговой стороны. Прошёл улицы ремесленников Бардовую, Нутную, спрашивал в купеческих сотнях меховщиков, вощинников[475], посетил Гончарную братчину, Неревский, Людин концы, по мосту через гроблю вышел на Добрынину улицу, миновал городские ворота, допытывался у тригожан, коломлян, бережан[476], даже у загородцев по ту сторону ворот. Скольких людей потревожил расспросами, сметил бы разве что Кирик, знатнейший из новгородских числолюбцев[477]. Все без толку. Никто не указал дом Зыбаты Нерядца. Лишь двое или трое, почесав в затылках, припомнили: был такой, да запропастился невесть куда. Жив ли, мёртв - один Бог знает, да не скажет.
На торговой площади за переспой ближе всех к дороге стоял шустрый булгарин. В одной руке держал повод старой кобылы, в другой - верёвку от огорлия согбенной рабыни.
- Эй, не проходите зря! - почти без чужого выговора возглашал он по-русски. - Эй, не проходите зря, мой товар умильно зря! Чудо-чага не стара, семижильна и бодра. Вот служанка для стола! Вот утеха для одра!
Рабыня повела глазом из-под понки, окликнула богатого с виду чужестранца:
- Здравствуй на много лет!
Род насмотрелся в Испании не таких бедных, а изобильных торгов рабами, от которых сердце захолынывало, потому прошёл, низко опустив голову, тихо примолвив в ответ на зазывное приветствие:
- Доброго господина! Доброго господина!
Булгарин тем временем уже выхвалял кобылу:
- Ни сапата, ни горбата, животом не надорвата, бежит - земля дрожит, упадёт - ей-Богу, лежит! Купи, бачка, кобылу!
Этот наглый призыв был перекрыт робким голосом рабыни:
- Не хочешь признать, Родислав Гюрятич?
Род застыл как заговорённый и возвратился не мешкая к коню-рабу и человеку-рабыне.
- Возьми, бачка, кобылу. Всего две гривны! - обрадовался булгарин. Но, видя, что гость засмотрелся на женщину, объявил: - Чага стоит шесть гривен!
Поймав пригоршней горсть золотых, он долго смотрел, как этот то ли урус, то ли правоверный араб уводит его рабыню. Удачный день!
- Как ты узнала меня, Мякуша? Я тебя не уз нал, - задыхался от счастья Род.
- Немудрено, Родислав Гюрятич. Стары мы стали. А я гляжу: вроде ты. Боюсь ошибиться. Ишь ка кой чужестранец! Стало быть, из дальних краёв… Вспомнила, что под левым ухом у тебя знадебка[478] не видно её: власы густы, как у молодого. А ветром их отодвинуло - и вот она, знадебка, объявилась!
- Как же ты угодила в рабство? - вёл её Род неведомо куда.
- Ой, тяжко говорить! Хожу сызнова в издирках, как нищенка на Софийской паперти в Киеве, помнишь?
- Где тебя Первуха Шестопёр глазом приласкал? - улыбнулся от тёплых воспоминаний Род.
- Мы ведь с Первушей из Киева утекли, когда власть сменилась, - стала рассказывать Мякуша. - Однако он не служил больше своему князю. Мы сюда, на мою родину, в Новгород утекли. Правда, убийца-мор сгубил всю родню. Опереться не на кого. Да что нужды! Первуша мытником[479] смог устроиться. И зажили мы, аки у Христа за пазухой. Грустили, деток Бог не даёт. А теперь скажу: слава Богу! Жизнь такая: то геенна, то преисподняя. Новый великий князь Андрей-суздалец сровнял Киев с землёй, пожелал и нам той же участи. За что опузырился? Должно быть, за непокорство.
- Тшшш, Мякуша, душа моя! - истиха оглянулся Род. - За нами неведомый человек следит.
- Каков человек? - перепугалась Мякуша. - Кметь? Обыщик? Чей? Кому мы в понадобье?
- Простой человек, - успокоил Род. - Платье смурного сукна[480]. Стало быть, показалось. Продолжай далее.
Он перевёл свою спутницу на Софийскую сторону. Свернул на Славкову улицу, на Косьмодемьянскую, затем на Рогатицу, всю в богатых теремах. Здесь было особое многолюдье.
- Суздалец, по Гюргиеву обычаю, перекрыл Торжок, - поведывала Мякуша. - Хлеба в Новгороде не стало. Сызнова - голодуха! Кмети Андреевы принялись разорять область. Жгли села, имали людей, убивали и продавали в рабство. Вот и нас захватили на Имволожском погосте, где Первуша собирал мыто. Меня продали булгарину, а его купчине, кажется, из смолян. А тем часом под городскими стенами разгорелась битва. Новгородцы икону Богоматери вынесли, установили на забороле. Кто против Бога и Великого Новгорода? И вот - страсти Господни! - суздальская стрела возьми да и угоди в икону. Богоматерь сразу - к врагам спиной, ликом к городу. Из святых очей - слезы. Одна капнула архиепископу на фелонь[481]. Что тут стряслось! Все небо помрачилось. На суздальцев напал ужас. Новгородцы их гнали до самых своих границ. Десять суздальцев отдавали за гривну, как задарма. А вернулись - хлеба-то нет! Грош цена победе! Четверть ржи - гривна серебром. Пришлось с суздальцами мириться. Своего князя выгнали, который их защищал. Взяли Андреева посаженника. Вот меня, новгородку, и продаёт булгарин в моем собственном городе…
- Обожди, Мякуша, - остановился Род.
Оставив женщину, он вернулся на несколько шагов к странному преследователю. Чего соглядатай хочет? Лицом купец, а одеждой - смерд.
- Пошто шествуешь за нами? Ты кто?
Это был ещё весьма крепкий человек. В озорном взоре нечто вдавни знакомое.
- Я-то новгородеч. А ты кто, немеч?
- Никакой я не немец, - пытливо всматривался в новгородца взывавший к памяти Род. - Моё имя Родислав Гюрятич Жилотуг. Мои корни здесь. Так же, как твои.
Преследователь широко улыбнулся.
- Корни здесь, а Богомил Соловей давно там, - указал он на небо.
В следующий же миг они бросились обнимать друг друга.
- Я говорил, Бог даст, свидимся, - задыхался в лапах богатыря Зыбата Нерядец. - Жизнь прожили, а все-таки свиделись.
- Почитай, весь день разыскиваю тебя, - не отпускал его Род. - Значит, ты за мной шествовал?
- Вовсе не за тобой, - высвободился наконец Зыбата, - Я шествовал за ней, - указал он на подступающую Мякушу.
- Знаешь его? - обратился к Мякуше Род.
Она резко затрясла головой:
- Не ведаю, кто таков.
- А Первуху Шестопёра ты ведаешь? - сощурил глаза Зыбата. Поскольку оба, настигнутые им, онемели, ничего не в силах понять, он продолжил: - Муж твой, Мякуша, бежал от своего господина, нашёл спасение у меня, попросил укрыть Христа ради. Долго по его мольбам я искал твоего покупщика. В Великих Булгарах прежде цасто бывал, знакомых оттуда много. И вот сегодня нашёл булгарина. Указали. А этот, мой давний спаситель, - кивнул он в сторону Рода, - ни раньше ни позже перекупил тебя. Как было за вами не увязаться?
- Где муж? Веди к нему! - бросилась к Зыбате Мякуша.
Они пошли, держа её меж собой, как охраныши.
- Живу я на Розважи в Красных Плотниках[482], - сообщил Зыбата.
- Все новгородские улицы обошёл, а Розважь пропустил, - сокрушался Род.
- Вот Славянский конеч минуем, - вывел их Нерядец на площадь, - там будет недалеце.
Далече ли было до Славянского конца, Род забыл заметить. Пришлось непредвиденно задержаться.
- Что за глота на торгу? - удивилась Мякуша.
Толпу скучил надрывный крик. Над головами возвышался мужчина в богатой сряде, ставший то ли на ящик, то ли на порожнюю куфу. Он и орал. Явственно доносились лишь отдельные слова:
- …Очи серы… власы рыжи… рост велик… прозвищем Первушка…
- Это заклиц, - объяснил Зыбата, - Объявляет о беглом рабе. Кто беглого укроет, платит шесть гривен, как за убийство. Кто поможет в поимке, полуцит гривну.
О закличах Род слыхал. Великокняжеский «Указ о холопах» знал.
- Стало быть, плохи твои дела, - остерёг он Нерядца. - По моему разумению, речь идёт о Первухе. А ты укрывщик.
Нерядец заторопился:
- Пойдём отсель. Завтра цуть свет Шестопёр со своей подружней окажутся на ушкуе. И отвезёт их Кипрюша Ворон, мастер плавного пути, от Господина Великого Новгорода далеце, в Вячкую республику, где ни заклицей, ни рабов, ни князей с боярами.
- В Вятскую республику? - переспросил Род. - Что-то я о такой стране слыхивал от галицкого изгоя Берладника. Да сам он лишь понаслышке ведал о ней.
- Зато я не понаслышке тебе скажу, - оживился Зыбата. И, видимо, сел на любимого конька. Начал издалека, с тех пор как водил хлеб-соль со штетинцами[483] да чудинцами[484], потом переметнулся к обонежцам, югорщине[485].
Россказни дальних странствователей привели его под начало Ядреика, воеводы ушкуйников. Ходили по Сухоне, Вычегде, в Печору и по её притоку Усе через северные отроги Земного Пояса - в Ворь, приток Оби, или иным путём - через Шугорь, приток Печоры, по Северной Сосьве южнее к Берёзову. Из-под тяжёлой руки Ядреика выскользнул мастер плавного пути Кипрюша Ворон со товарищи, в числе коих был и Зыбата. Стали к булгарам хаживать по Мете и Тверце в Верхнюю Волгу, затем по Нерли, Клязьме и Оке. Отсюда вверх по Каме или Вятке к северу, к остякам. Вот тут-то однажды на Вятке, на правом берегу, на высокой горе приметили городок, окружённый валом и рвом. Уж так он им полюбился! Призвали на помощь святых Бориса и Глеба, взяли с боем деревянную крепость и остались здесь навсегда. Городок назвали с ходу Болванским по капищу местных жителей. Потом окрестили Никулицыным, построили храм. Срубили и новые города Кашкаров, Хлынов. Последний как бы столицей стал. Проснёшься ополночь в тёплой одрине и слышишь, как перекликаются сторожа, твой покой охраняя: «Славен и преславен город Хлынов град!», «Славен город Кашкаров град!», «Славен город Никулицын гра-а-ад!». Особенная страна! От княжеских, боярских и новгородских смут независимая. Хотя и с обычаями новгородскими. Все её жители равны, не имуществом, а правами. О имуществе каждый промышляй, как умеешь. Выборные старшины и духовенство блюдут порядок и нравы. Лесные отшельцы, чудь, вотяки, черемисы, не принявшие пришельцев, хотя и беспокоят набегами, всегда отражаются с великим уроном. Ежегод дважды торжественно проносятся по стране железные стрелы - захваченное оружие непокорных, для вящего указания, чья тут сила. И тишина давно укрепилась бы, да сородичи новгородцы, наезжая, натравливают набегщиков, мутят воду. Не по нраву им чужая свобода.
- Не пускать бы новгорочких лазутников, - заканчивал свой рассказ Зыбата. - Да ведь как друг без друга? То нам соли от них, то им от нас конопли да грецихи надобно.
- Обратают они истиха вашу самость[486], - посочувствовал Род.
- Не-а! - мотнул головой Зыбата. - Церемисские волхвы предрекали: около трёх веков продержимся. И вовсе не новгородчи огорлят нас, а иной властитель. Им развеется тьма разделения нынешних княжеств. И Вячкая республика станет мизинчем в его большом кулаке. А пока езжу в Новгород за солью да за людьми.
- Нескоро ваша республика станет в большом кулаке мизинцем, - задумчиво обнадёжил Род, - Не вижу такого мужа, чтобы разбросанные пальцы в кулак собрал.
- Церемисские волхвы говорят: нескоро[487], - согласился Зыбата. - Хватит времени вольницать и нам, и детям, и внукам вдали от смут. Вот и у Первухи радостные мецты: хоцу жить, говорит, как целовеку пригоже, юдолью земной насладиться долюби[488]
- Бог нам с Первушей тебя послал! - обрадовалась Мякуша.
- Завидки берут, слушая, - не мог не признаться Род.
- Не завидуй, а присаживайся в наш ушкуй, сцаслив будешь, - позвал Зыбата.
- Много я поменял ушкуев, - тяжело вздохнул странник. - Великое у меня понадобье во Владимир попасть скорее да увидеть родной Москов…
В доме, куда Нерядец привёл новообретённых друзей, жена и муж Шестопёры накрепко обнялись.
Род одарил Мякушу рисунчатым заморским платком, она едва глянула на подарок, не сводила глаз с мужа.
- Не рада баба повою, рада упокою, - наблюдательно заключил Зыбата.
Потом длились мускульные мужские объятья Рода с Первухой, из которых последний выпрастался изрядно помятым.
- Не чаял видеть тебя, живого и невредимого! - охал и ахал он.
- Друг мой единственный, не ушедший из жизни! - расчувствовался Родислав.
- Мы ещё поживём теперь! - воспрянул душой Первуха.
Стол был обильный. Хозяин жилища, рябой молчун прозвищем Митка, постарался на славу.
Под рассказы бывальца, повидавшего чуждый мир, зелено вино лилось незаметно. Когда общей стала беседа, говорили уже кто в лес, а кто по дрова.
- Как услышала заклича, верчу головой: вдруг десятский[489] неподалёку. Схватит Зыбату, потом тебя - и прощай жизнь! - буйно раскраснелась Мякуша.
- Четыре гривны - кадь ржи! - не слышал её Первуха. - Хлеб - две ногаты! Мёд - десять кун пуд! А все из-за самовластца Андрея Гюргича: опустошил волость, перерезал торговые узы с Суздалем… До сих пор не оправимся!
Зыбата тем временем внушал Роду высшие мысли о новгородской душе, новгородской чести. Доказывал, якобы новгородцы не охотники разглагольствовать. Даже не договаривают своих речей. Без того понимают друг друга. Дело служит окончанием речи.
- Наша рець кратка, да сильна! - кричал он.
А вот речи кыян, по его утверждению, велеречивые, образные. Куда до них суздальцам! Молвят сухо, да не сильно. А если многоглаголиво, так не образно.
Зыбата вскочил на лавку, взмахнул руками, чтобы наглядно показать риторский талант новгородца. Его так при этом качнуло, будто на ушкуе в трёхбалльный шторм. Однако же устоял Нерядец. Первуха от восхищения поплескал в ладони:
- Новгородец хоть пьян, а все же на ногах держится!
Изголодавшийся по всему родному, скиталец впитывал всеми порами целебность дружелюбной встречи. Все-таки ночи месяца иуня так коротки!
Поутру он проводил друзей к пристани, навсегда простился с каждым из них. Потом забылся в маятных хлопотах: покупал шестерню с колымагой, грузил коробья, сбережённые варягом Ермилой… И вот уж возатай затянул песню на торной дороге в хлебный Торжок. Далее - Тверь, Москва, наконец, Владимир… С тяжким чувством потери покинул последний из Жилотугов родину предков, стены Господина Великого Новгорода.
2
На становищах приходилось менять коней. Ямские комонники требовали доплаты. Отряды вольных охранышей, ожидавшие богатых спутников, бессовестно завышали цену. В особенности от Твери, где леса вплотную подступали к дороге, приходилось раскошеливаться, как ограбленному. А бродники прозевали поживу. Самые что ни есть разбойные повороты в коварном Волковском лесу удалось миновать в целости и сохранности. Обладатель дорогих коробьев даже сумел заснуть, утомлённый дурными предчувствиями. И не внезапная остановка разбудила его, не надрывное пёсье хамканье, а неочёсливые толчки возатая.
- Москва, господин, Москва!
Неужели седмица пути в конце-то концов позади?
- Куда ты меня привёз?
- На Кучково поле. В наилучшее становище, - захлёбывался от усердия расторопный возатай. - Называется «У Вятчанина».
- У какого вятчанина? - сонно бормотал Род, вылезая из колымаги.
- Какого-никакого, а знаменитого, - вводил возатай запалённую шестерню в гостеприимно распахнутые ворота. Потом, приближась к своему седоку, истиха сообщил: - Сказывают, вдавни бродником был, а теперь - фффу-у-у! - самого хоть грабь!
Он повёл Рода по оперённому гульбищу через сени по переходам, сам ключом отворил одрину.
- Будто ты здесь на службе, - удивился усталый странник.
- Все договорено. Вот твой ключ, боярин. Сейчас распрягу коней, остужу их, прогуляю немного водком, потом коробья к тебе подыму. Я мигом!
- Как тебя зовут? - спросил Род.
- Силка. Прозвищем Держикрай.
- Оставайся мне служить, Силка Держикрай. Вижу, ты парень - во! - Род выставил большой палец.
- Благодарствую на приятном слове, - расцвёл ликом свежеобретённый слуга, - Отчего ж одинокому сироте не угодить твоей милости? Будь за меня покоен.
Силка убежал. Род разоблачился, сел на лавку, возмечтав о вечерней трапезе… Словно по заказу, в дверь тихонько заскреблись.
Вошёл лысый сгорбленный старик, обритый, как торчин, поклонился в пояс. «У Вятчанина», - вспомнил Род название гостиного двора.
- Полюбилась ли тебе, господин, сия одрина? Не прикажешь ли чего?
- Чем покормишь на сей раз, Шишонка? - не сдержал улыбки Род. - Сызнова ветряной рыбой да чёрствым квасом?
- Госссподи! - всплеснул руками Вятчанин. - Кого Бог послал! Родиславушка! Найдён! Не признал бы ни за что…
- Сколько же тебе лет, Шишонка? - всматривался в старика Род.
- А, со счёту сбился, - отмахнулся тот. - Хожу, вижу, слышу, и ладно… Вот сейчас велю попотчевать дружка. Совсем уж ты спал с лица, вечный странничек! Где тебя носило? - Он привстал на цыпочках, приблизил запавший рот к уху гостя: - Слух дошёл, что обоих наших Федюняев Бог прибрал. Ведомо ли тебе?
При напоминании о двух Фёдора Род склонил главу.
- Оба, и Озяблый, и Дурной, почитай на моих глазах сгибли. После все поведаю потонку и о них, и о себе.
- После, после, - замахал руками Шишонка. - Будет у нас время. Поживёшь под моим крылышком…
Род вздохнул:
- Не заживусь я у тебя. Нынешней же ночью отправляюсь во Владимир. Надобно не мешкая Кучковича увидеть и…
- И-и-и-и не говори! - лукаво погрозил Шишонка. - Помню, помню, как вы с Фёдором Дурным… на Боровицкий холм… к Кучковне… Ох, воды-то утекло! - Вятчанин запохаживал[490] по ложне, пощипывая вместо бороды голый подбородок. - Все моё узорочье волосяное в эту воду кануло. Носил бы бороду, да тьфу смотреть!.. А во Владимир тебе ехать не по што, - изрёк он неожиданно. - Кучковича там нет. Великий князь со всем своим двором в Москве, глядит, как перестроили детинец по его изволу. Великая княгиня - ох! - давно и тяжело хворает.
- Она здесь? - воскликнул Род.
Шишонка горько закивал:
- Лежит, сердешная…
Хозяин становища отворил дверь, чтобы позвать слугу, и столкнулся с ним нос к носу. Тот зашептал, косясь на гостя:
- Сызнова пожаловал Кучкович со товарищи.
- Распорядись. Тотчас иду, - сказал Вятчанин. И обернулся к Роду, широко осклабившись: - Ты отдыхай пока. Пришлю ястьё. И сам вернусь. Нальём чуток за встречу и потрапезуем…
Род резко отогнал усталость, жажду, голод.
- Не улещай, Шишонка. Я все слышал. Веди меня к Якиму.
- Что ты, что ты! Не губи! - запричитал старик. - К нему никак нельзя. Он тут отай.
- Для всех отай, а для меня… - Род возложил ладонь на лысину Шишонки. - Веди-ка без промешки.
И тот повёл покорно по длинным переходам к самой дальней боковуше. Однако на пороге все же задержался:
- У-мо-ля-а-ю!..
Род отворил дверь.
Длиннющий стол в узкой палате. На ближнем к двери краю сидят двое лоб в лоб за игрой в тавлеи[491]. Один ещё голоус, а другой уже голоум: на челе - ни единого волоса. На дальнем краю стола русоголовый детина уронил лик в ладони. Должно быть, горе у него. Над ним сухонький большеглазый человек в круглой шапочке, свесив клинышек бороды, утешает медоточиво:
- Ну, Якимчик, ну… вскинь главу, взгляни соколом!
Уговариваемый поднял голову и как раз увидел вошедших. Да, это был Яким. Грудь Рода стеснилась, как под ударом. Ведь любимцу Андрееву ещё и сорока нет. А красивое лицо изборождено морщинами. Высокий атласный лоб превращён в гармонь. У погасших уст пепельная проседь бесом прячется в без толку ухоженную бороду. Прежде яблочные щеки нынче рдеют не румянцем, а - грешно сказать! - румянами. Сладкая, вельможная судьба, что ж ты сделала с Якимом?
При виде Рода Кучкович выскочил из-за стола, в два длинных шага очутился рядом, обхватил за шею, прильнул лицом, и плечи его мелко затряслись.
- Братец, я предчувствовал, я тебя ждал… Сестрица умирает!
- Ведаю, - обнял его названый брат. - Издалече видел смертный одр… на нём - великая княгиня…
- Как ты видел? - не понимал Яким. - Во сне?
Род не ответил. Пирники, возникая и исчезая, словно тени, уставляли стол. Игроки в тавлеи подняли глаза на двух обнявшихся, не понимая чувств Якима к незнакомцу. Утешитель в круглой шапочке приблизился с немым вопросом. Шишонка пригласил к столу, нижайше поклонился и был таков.
- Нужда поговорить с глазу на глаз, - попросил Род Якима.
Тот отёр парчовым рукавом очи и обернулся к своему обществу:
- Други! Мой брат вернулся. Именем Родислав, пореклом Пётр. На двадцать лет, почитай, волею злеца Андрея судьбина забросила его в дальние край. И вот он здесь! Прошу любить, жаловать…
Все стали подходить. Потянулись руки для приветствия.
- Ефрем Моизович, тиун великокняжеский, - знакомил Яким, указывая на утешителя в круглой шапочке. - Анбал Ясин, придворный ключник, - представил он бритоголового восточного человека, игравшего с голоусом в тавлеи. - Зятёк мой, твой тёзка Пётр, - указал он на голоуса и, пройдя во главу стола, усадил Рода рядом, - Отпразднуем возвращение брата!
Все уселись. Фиалы доброго вина содвинулись. Языки быстро развязались.
- Рады чествовать близкого Якимушке человека, - ласково улыбался Роду Ефрем Моизович. - В сей чёрный час соединило вас горе личное, а нас общее. Угасает госпожа наша ненаглядная, сестрица ваша страстотерпица.
- Слушай, как не угаснуть от такой жизни? Скоро все угаснем, - грубо влез в разговор Анбал. - Разве это жизнь, ты скажи! - обратился он к Роду. - Любимцы меняются, как застольные яства, порядки - как порты на заднице богача. Вчера - дружина, а нынче - двор! Раньше - гриди, теперь - придворные! Я - придворный ключник! Красиво, да? А поглубже вникни: гридь был товарищ князю, придворный - его холоп!
- Все мы холопи Андрея Гюргича, - поддакнул голоус Пётр. - Хочет - к сердцу прижмёт, хочет - к черту пошлёт.
Ефрем Моизович вскинул клинышек бороды:
- Умерьте пыл. Дозвольте бывальцу, братцу Якимушки, порассказать о дальних краях.
Поддавшись на уговоры, Род стал потонку поведывать внимающим вполуха пиршебникам о жизни за Боспором и Гелеспонтом: о Зевксипповых банях в Царьграде, кои отделаны мрамором, украшены статуями великих людей, пред чьими мёртвыми взорами мужи и жены совершают совместное омовение; о землях сельджуков, живущих на острове Елевферии, по-гречески - острове свободы, где свободою и не пахнет; о сарацинах, занявших аж у Геркулесовых столпов чужие берега, о мысленной красоте тканей, там продаваемых, то есть о такой красоте, кою лишь головой измыслишь, а руками не сотворишь…
- У нас тоже есть мысленная красота, - похвалился голоус Пётр. - Только не ткачи её сотворяют, а здатели. Во Владимире храм Богородицы - загляденье! А в Боголюбове, новом пригороде Владимира, что превзошёл и киевский Берестов, - такой дворец! Гости-агляне[492], отъезжая, долго оглядываются. А Золотые ворота в новой столице тоже не хуже киевских.
- В новой столице? - Род перепроверил, не ослышался ли. - Разве Киев не столица уже?
- Теперь мы - столица! - ткнул себя пальцем в грудь охмелевший Ефрем Моизович.
- Кто - мы? - вопросил Анбал. - Слушай, мы уже не мы! Борис Жидиславич, Михн, мальчишка Прокопий да ещё этот… Кузьмшце, киевский буйвол, - они теперь «мы»! Их любит батька Андрей. Их держит в сыновьях, а нас в пасынках.
- Старую собаку не батькой звать, - пробурчал под нос молодой, невоздержанный зять Кучковича.
- Не пей более, - внушал тем временем хозяину стола Род.
- Ну, други, поздний час, - тяжело поднялся Яким.
Он взял названого брата под локоть, вывел во двор и усадил в свою кареть. Час и в самом деле был поздний. Однако ночи иуня месяца столь белолики вздешних краях, что из пустого окна карети, если приотдёрнуть завесу, видны все перемены в возникающем на месте Красных сел городе.
- Гляди-ка! От Кучкова поля до Боровицкого холма сплошь застроено, - удивлялся Род. - Где просеки, коими я проезжал? Где сосны, ели?
- Просеки стали улицами, деревья обратились в венцы хором, - отвечал Яким. - А детинец узнай попробуй!
- Да, расщеперился! - отметил Род. - На стенах ещё смола не обсохла. А заборола - знай наших! Не уступят и киевским.
- Киев уже Владимиру уступил, скоро Москве уступит, - пророчески возгласил Яким, - Последний стоящий господин на киевском столе был наш же Гюргий-покойник.
- Остерегал я Гюргия избегать пиров, - вспомнил Род.
- Ты уже слышал, что пир стал причиною его смерти? - спросил Яким и продолжил: - У Петрилы Осьменника пировал. Ночью помер. Всего-то великокняжествовал два года, а боролся за это чуть ли не двадцать лет. Не окормил ли его Петрила?
- Не окормил, - уверенно сказал Род. - Я не видел на его смертном лике действия отравы.
- Где ж ты мог лицезреть его смертный лик? Во сне? - не сдержал насмешки Яким. - Во сне все шиворот-навыворот. А ненавидим был Гюргий в Киеве - это истинно. Всех суздальцев и любимого сына его Василька кыяне тотчас пограбили, многих поубивали, самого погребли не по-княжески - не в берестовской обители Спаса рядом с родителем Мономахом, а за городом. И заднепровский дворец его, именуемый Раем, превращён был кыянами в сущий ад. Впрочем, поделом. Берладник служил ему, как отцу родному… Вдруг окован, доставлен за приставами в Киев. За что? Просто-напросто Гюргий согласился выдать его Галицкому князю. Тот, вишь, испугался: не отымет ли изгой вотчину, коей лишил его преступный Владимирко.
- Почему преступный? - возразил Род. - Наши князья уже не считают отнятие дедовских столов у сородичей преступлением.
- Владимирко - клятвопреступник! - поднял палец Яким.
- А разве не привычны наши князья преступать крестоцелование? - вздохнул Род.
- Владимирко хулил крест при этом! - повысил голос Яким. - Когда киевский боярин напомнил о его крестоцеловании, галицкий самовластец заявил: «А крестик-то ма-а-аленький!» В тот же день упал в церкви на повечерии - и душа из тела!
- Однако чем завершилась поимка Ивана? - напомнил Род.
Яким перевёл возбуждённый дух.
- Митрополит вступился перед Гюргием за беднягу.
- Жаль Берладника, - сказал Род. - Увезла его жена-гречанка в Солунь. Только отравители из Галича добрались и туда.
- По слухам, Иван умер от отравы, - кивнул Яким. - Тебе уже сказывали? - Не получив ответа, он продолжил: - А вот Изяслав Давыдыч не в пример Гюргию отказал Галицкому князю. Тот и его просил выдать Берладника. Не отдал! Напротив, силой оружия попытался достать для Ивана Галич. Через то лишился великокняжеского венца.
- Все ж таки он носил его! - оживился Род. - А ведь за много лет до того я видел его в этом венце.
- Опять во сне, братец? - усмехнулся Яким. Поскольку Род промолчал, он закончил рассказ о судьбе Давыдовича: - Вскорости опекун Ивана вновь стал великим князем и тут же погиб в битве с только что побеждёнными.
- Конный жердяй-варяг рассёк ему саблей голову, - подсказал Род. - Князья-соперники нашли его плавающим в крови. Он просил воды, ему дали вина…
- Погоди-ка, - отшатнулся Яким. - Ты был далеко за морем. Откуда такие тонкости можешь знать? С кем до меня встречался?
- С кем встречался, того там не было, - сказал Род. И кончил о Давыдовиче: - Разный был человек. А друг оказался верный.
- Что такое друг? - махнул рукой Яким. - Нынешний друг как солнышко: чистое небо, и друг с тобой, а чуть гроза - он уже за тучками.
- Быть настоящим другом - не разлучаться ни в добре, ни в зле, - уверенно сказал Род. - Ведомо ли тебе, как в захолустном городке, откуда Изяслав Давидович отлучился, оставив воеводой Берладника…
- Ты говоришь о неудачной осаде Выри? - подсказал Яким.
- Не знаю названия. Знаю только, - продолжил Род, - Иван спас подружию своего господина и всю его казну, вынудив Ольговича отойти. В тот раз Изяслав Давыдович был гоним и одинок.
- Не верю, что двадцать лет ты отсутствовал, - пробормотал Яким. - Однако на твоих же глазах, - встрепенулся он, - Берладник предательски бросил Святослава Ольговича, когда и тот был гоним и одинок.
- Ну, не из каждых двоих составляется пара друзей, мой милый, - назидательно сказал Род и выглянул в окно. - В детинец въехали! Хоромы-то высоки! Шапку потеряешь, на конёк глядючи. А дворец! Затейливее, чем Ольговичев в Новгороде-Северском.
- Дворец заселён, да не завершён, - указал Яким на леса по стенам с северной стороны.
- А чья это там хоромина так прилепилась ко дворцу? - обратил внимание Род на слишком близкую к лесам кровлю соседнего терема.
- Нынешний Андреев любимец Михн под государево крылышко прилепился, - объяснил Яким.
- Слишком жмёмся к сильнейшим, оттого и выгораем дотла, - поднялся Род, открывая дверцу карети, замершей у высоких резных ворот.
- Догадайся-ка, кто подружия Михна, - повёл гостя Кучкович по каменной мостовой своего двора. - Твоя старая знакомка.
- В жизнь не догадаюсь, - признался Род. - Не богат я знакомыми женска пола.
- Лилянку помнишь? - спросил Яким.
Род даже остановился.
- Лиляна нынче - боярыня?
- Волею государя, - подвёл его к крыльцу обладатель не менее лепых хором, чем у Михна. - В твоих свиданьях с сестрой Лилянку сочли пособницей. Андрей решил отдалить её незаметно. Прежде Михн вознамеривался взять княгинину девушку на любок, да не тут-то было. И вдруг вышел приказ: женись!
- Однако государь ваш - сваха искусная! - усмехнулся Род.
- Ещё какая искусная! - ввёл его в дом Яким. - Бедную Граниславушку, племянницу мою, свою дочь, выдал за князя Вщижского. А тот возьми да помри! Ой, как сестрица Улюшка убивалась на скоровертой[493] свадьбе!
- У-у-уй! - несдержанно выкрикнул Род. - Злец Андрей! Зачем за старика выдал? Улите мстил?
Они уже взошли, стояли посреди сеней.
- Шш! - приставил палец к губам Яким, - Еванфия моя спит поблизости. Завтра познакомлю. Сейчас идём ко мне в ложню, никого не будя. Ляжешь на моем одре. А я - рядом. Лавка широкая!
- Испить бы перед сном, - облизнул губы Род.
- Испить можно, - засуетился Яким, - Да за напиток не обессудь. В моем поставце - не погреб. Выпьем по фиалу черкасского…
Иуньской ночью слюдяные окна были светлы, не потребовался светильник.
- Нет, не со зла порушил Андрей жизнь Гранюшки, - продолжил Яким, пригубливая вино. - Просто дурости нет пределу. Пригревал о ту пору гонимого Изяслава Давыдыча, тот замолвил словцо за родственничка, вот и скосил красавицу скороверт.
Род никак не мог успокоиться:
- Самовластец!
- Ещё какой! - подхватил Яким. - Епископа Леона Ростовского прогнал, возвернул и опять прогнал…
- За что? - удивился Род.
- Н-ну. - Яким не торопился с ответом. - Бирючи лгали, будто владыко священников разорял умножением храмов.
- Надо ж додуматься! - возмутился Род. - А взаправдашняя причина?
Кучкович перевёл дух.
- Не дозволял есть скоромное по господским дням[494], кои выпадут на среду и пяток, то есть на дни постные… Ты что? - Яким чуть приподнялся на локте.
Род хохотал.
- Шш! Еванфию разбудишь! Оксти[495] уста! - требовал хозяин.
Род давил хохот в кулаке.
- Что с тобою, братец? Что за хохотва в тебя вселилась?
- Ой, поджилки надорвал, - справился в конце концов с собою Род. - Пир вспомнил в день своего крещения. Алчный князь Андрей сидел бок о бок. Вначале очи его алкали. Очами пожирал Улиту, сидевшую насупротив. Улита удалилась, уста стали алкать. Вина почти не пил. Все ел, и ел, и ел…
- Известно, государь мой - едок знатный, - успокоясь, уложил руки под головой Яким.
Оба замолчали, мысля каждый о своём…
- Какова участь первенца Улитина Георгия? - подал голос Род.
- Молодой Гюргий - князь в Великом Новгороде, - сообщил Яким. - Старшие сыны Андрея, пасынки Улитины, покинули сей мир до времени. Сегодня Гюргий - старший.
Минута жалевого[496] безмолвия сопроводила эти слова.
Род заговорил первый:
- Душа моя смущена. Будто не двадесять лет отсутствовал, а дваста. Представь, отрок князя Владимира, крестившего кыян, попадёт в наш день! Идёшь ли, едешь ли - нет знакомых лиц.
- Да, многих нет, - вздохнул Яким. - Ведь были, а теперь поди-ка сметь, скольких нет, - стал он загибать пальцы, - Святослав Ольгович Новгород-Северский почил в бозе. Ростислав Смоленский преставился. Владимира Святославича Рязанского, однополчанина твоего, тоже нет…
- Владимира? Рязанского? - не веря, переспросил Род. И горько вздохнул: - Так безвременно…
- …покинул этот злой мир, - заключил его мысль Яким. - И Глеб Гюргич, Андреев брат, неведомо отчего внезапно ушёл из жизни. Недавно предстал перед Богом сын Изяслава Киевского Мстислав следом за мачешичем своим Владимиром, что на твоих глазах пытался вызволить от убийц князя-схимника… Кого ещё позабыли?
- Самого Изяслава Киевского, - напомнил Род.
- Давно-о-о он улёгся в землю, - сызнова потянулся Яким к вину. - Умер, не побеждённый Гюргием. И, помнится, так некстати умер! Только взял в жены юницу кровей черкасских - бес ему в ребро! - и поди ж ты: тут как тут Смерть! Взмахнула косой, отсекла усладу…
Опять умолкли. Слюда в окнах порозовела. За сундуком, окованным бронзой, сверчок успокаивал усыпляющим стрёкотом. Вдруг Род явственно услышал иные звуки - глухие всхлипывания, приподнялся на одре.
- Ты чего, Якимушка?
- Как чего? Сестрица… не сегодня завтра… вслед за ними всеми… отойдёт…
Гость решительно подсел на лавку к хозяину.
- А я ведь двадцать лет назад украсть её хотел, укрыть в лесах, где княжья лапа не достанет.
Яким молчал. Потом задумчиво промолвил:
- Лучше бы украл.
Ведалец пытливо вглядывался в названого братца, испрокуженного счастьем.
- Ей монастырь грозил в ту пору, - тихо продолжал Яким.
- Я знаю, - кивнул Род.
Кучкович резко сел на лавке.
- Откуда ты все знаешь? Что ни скажи, все тебе ведомо. Умышленно передо мной глумишься? - Сейчас он походил на Гюргиева сына Ростислава, вытащенного отшельником из топи. На Родово всезнайство спасёныш поминутно откликался: «А ты как знаешь?», «А ты откуда знаешь?..».
- Не замышляй с друзьями смерти государю вашему Андрею, - строго велел Род.
- Ведаешь мысли? - прошипел Кучкович, изменясь лицом. - Стало быть, правду Уля сказывала о твоём учителе волхве Букале? Я ей не слишком верил… - Поскольку Род молчал, Яким продолжил: - Как не замыслить худа на всевластца, истязующего подданных? Ты только вникни! Что творится! - Яким махнул рукой. - Я ведь двадцать лет назад сестрицу от монастыря избавил своей тогдашней властью над Андреем. Он тогда меня любил. По моему совету покинул юг. Нарушил заповедь отца, стал властелином не в Киеве, а здесь. Отсюда начал собирать державу, разорванную родичами по кускам. Удалил братьев из отечества, чтобы не грызлись. Отменил уделы. Привёз афонскую икону Богоматери из Вышгорода. Построил на Нерли храм, город Боголюбов в честь неё. Сейчас святыня наша чудотворная, украшенная золотом и серебром, каменьями и жемчугом, освящает царство в Десятинной церкви во Владимире. И что же она зрит? - Яким перевёл дух и сменил голос с торжественного на жалостный. - Великокняжеская шапка вскружила голову Андрею. Он сбросил цепи с беса женолюбия, что в нем сидел. Пропала совесть! Стал делить ложе с галицкой княгиней Ольгой. Это при живой жене! Тут я уж бессилен. Я уж не в чести. Скорей в опале. Все повернулось вспять. Из греческой земли, из Заволочья вернулись братья. Сызнова в ходу уделы. Их делёж опять в разгаре. Испытанные, близкие Андрею люди отдалены. Приближены иные. Возьми хоть Михна. Ты его помнишь. Кто такой? Начальник конной обережи. А теперь большой посольник! Послал его Андрей к занявшим Киев Ростиславичам, чтоб выдали убийц, как он считал, изведших Глеба Гюргича. А Ростиславичи обрили Михна, словно торчина, и выдворили восвояси. Разве не позор?
Он растворил оконницу, чтоб утренняя свежесть вытеснила из ложни духоту.
- Такой позор достоин смеха, - сказал Род.
- Однако есть позор, достойный слез, - дрогнул голосом Яким. - Одиннадцать князей стянули по Андрееву изволу свои дружины к Киеву. Ведь от Андрея теперь зависят владетели смоленский, муромский, рязанский, полоцкий, волынский… Недосуг перечислять. Короче, Киев взяли. За всю его историю впервые не иноплеменниками, а своими Киев был взят на щит. И что там сотворили христиане? Три дня грабили не токмо что кыян, а церкви и монастыри. Уволокли из Десятинной, из святой Софии иконы, ризы, книги, даже - горько говорить! - колокола! А предводил новый любимец Борис Жидиславич. Разор и погарь нашёл в Киеве Андреев посаженник Глеб Гюргич. Ту же пустоту замыслил наш всевластец сотворить в Великом Новгороде, да Богоматерь не попустила. С позором отступил Жидиславич. А вскоре и под Киевом воевода попал в проруху. Понятно, кыяне после учинённого зла провозгласили от Андрея вольность. Он осерчал. Двадцать князей двинул на непокорных. К Жидиславичу присовокупил сына Гюргия. Кыяне заперлись в Вышгороде. Держались десять седмиц. Вдруг струсил Жидиславич. Узрел рать вдали. Думал, осаждённым помога. Бросился в Днепр со всеми силами. Из Вышгорода - вылазка. И… очервленел Днепр! Вот так-то! Ныне, как прежде, ссоры да которы. Святослав Всеволодам - смерть его не приберёт! - жжёт Новгород-Северскую область племянника своего Олега, сына Святослава Ольговича. А в Киеве что ни день - новый князь…
Род, отвлекаясь мыслями от тяжкого рассказа, думал о своём.
- Не слушает тебя Андрей? - спросил он невпопад.
- Меня? - скривил лицо Яким. - У него теперь иной постельничий, Прокопий. Юн, белолиц, как красная девица. Всем взял, кроме ума. А тиуны примучивают огнищан и смердов. Народ тает, терпит из последних сил.
- Мыслишь, вернётесь из опалы вы, народу будет легче? - спросил Род. - Вы не примучивали?
Кучкович прикусил губу, поник, потом сказал:
- Сытый легче голодного.
- Невелика утеха, - вздохнул Род, устраиваясь на своём одре, - Я все хотел спросить, - продолжил он смущённо, - какова судьба младенца, рождённого почти что двадцать лет назад?
Яким устало вытянулся на своей лавке, дышал сначала бурно, потом ровнее.
- Юного Глеба Андрей признавать не хочет. Твой сын! Ты с ним - две капли… После его рождения княгиня во дворце - как монахиня. А выросшему Глебу - ни подобающего места при государе, ни сыновнего удела. Ночует, днюет в обители Покровской близ Владимира. Мечтает о чине иноческом. - Род не откликнулся, не нашёл слов. Яким тоже умолк. Потом сердито проворчал: - Не велишь замышлять худа на Андрея? Сестра связала руки тем же повелением. Ах, если б не она, не сдерживал бы ненавистников Андреевых!
- Мне нынче же потребно повидать Улиту, - твёрдо заявил Род. - Затем и добирался издалека Варяжским морем, обтекая земли ляховицкую да политовскую.
- Ты нынче же её увидишь, - пообещал Яким. - Анбал тебя проводит, придворный ключник.
- Не по сердцу мне твои друзья, - признался Род.
- Иных не жду, - сухо изрёк Кучкович. - Сам сказывал: быть настоящим другом значит не разлучаться ни в добре, ни в зле. Эти мои друзья и во зле пойдут со мною рука об руку. - Минуту спустя он промолвил уже коснеющим языком: - Однако же вздремнём слегка. День только начинается. Он будет не из лёгких.
3
- Слушай, ты веришь мне? - вопросом на вопрос откликнулся Анбал, когда Род удивился, что они подходят ко дворцу с тыльной стороны.
- Легковерие свойственно нравам грубым,- возразил он Анбалу.- С меня достаточно твоей верной дружбы с Якимушкой.
- У-у-у-уй, как хорошо сказал! - усладно замотал голым черепом ключник. И больше не произнёс ни слова. Молча отпирал задние потайные калитки, черные входы не для посторонних, глухие двери неожиданных перемычек в многочисленных переходах. Тёмный лес, а не дворец! Анбал же, запустив пятерню под широкую рубаху навыпуск, гремел связкой ключей у пояса и сразу находил нужный.
Рода заботило, что Силка Держикрай стережёт его коня близко от главных ворот дворца. Через них ли уходить доведётся, чтоб ускакать не мешкая?
- Вевейка нас не подсмотрит? - истиха остерёг Род Анбала.
Тот лишь фыркнул презрительно.
Вот и верхние сени. Множество дверей.
- Когда выйдешь из государыниной одрины, во-о-он в ту ступай, - указал Анбал на самую дальнюю. - За ней подожду. Небось к болящей никто сейчас не войдёт: послеобеденный опочив!
И он приотворил среднюю, самую высокую, двустворчатую дверь.
В одрине было светло. Оконца выходили на юг. А Род ощутил себя ночью на Букаловом новце под ветлой. Показалось, будто невольно заглотнул сырой воздух. Увидел, как в черноте над болотом сгущается белый туман. И не просто сгущается, встаёт сплошной простыней. А на простыне возникают цветные тени… все чётче, все зримее. Он видит женщину на просторном богатом одре. Неухоженные слипшиеся волосы мокрой соломой размётаны по подушке. Предсмертная желтизна на больших одутловатых щеках. Чуть вздёрнутый нос заострился. Маленький треугольник губ чернеет, как кровля покосившейся кельи. Воспалённые зелёные глаза устремлены на вошедшего. Рука с указующим перстом потянулась к нему. Он приблизился.
Сейчас все исчезнет. Резвая юница, налитая цветом и соками, окажется рядом с ним под ветлой, позовёт: «Пойдём скорее к костру! Хочу, чтобы сказка длилась как можно дольше…» Но сказка давно кончилась. Грёза не исчезает. А он, не послушный судьбе и времени, упрямо любуется дорогим лицом: губки - домиком, носик - уточкой, щеки - опрокинутыми блюдцами, и все это - в озёрной зелени глаз, в солнечном золоте волос…
Он опустился на колени, не в мечтах, а наяву исцеловал драгоценный лик, чтоб ни одного нецелованного пятнышка не осталось. Две слезы выкатились из-под прикрытых Улитиных век. Он бережно отёр их губами.
- Опять ты рюмишь!
И едва прозвучал чуть слышный, будто отдалённый голос в ответ:
- Как мне не рюмить? Ведь ты пришёл!
- Я был далече, у сарацинов, в землях иберийских, - торопливо шептал он как исповедь, - А ты всегда была рядом…
- Не знаю… где… такие земли, - едва выговаривала она. - И ты… тоже… всегда был рядом.
Потом оба длили радость слов, созерцая друг друга.
- Дозволь осмотреть тебя, - несмело попросил Род. - Дозволь увидеть твою болезнь. Не в силах ли я исцелить её?
Она отрицательно дрогнула головой:
- Не надо… не надо тебе касаться изъянов плоти моей…
- Ты встанешь, сызнова будешь радостна и здорова, - убеждал он. - Ведь я вернулся!
Персты её стали спешно перебирать белые покровы на груди.
- Родинька, - позвала она, - приблизь руку…
Он вложил свои персты в её, она подтянула его руку к губам. Поцелуй почти не почувствовался.
- Более ничего не надо, - выдохнула Улита.
- Я не отдам тебя, - настаивал Род, - верну в этот мир…
- Сына возврати… в этот мир, - ласкала его взглядом Улита. - Сын… хочет надевать клобук…
- Помозибо тебе за сына, - целовал он ей руки. - Приложу все старания: хоть глазком гляну на него.
Улита прошептала что было сил:
- Посети Глебушку… Он все знает… он ждёт тебя.
- Мне Букал берестяную епистолию завещал, - с жаром принялся рассказывать Род. - Там такая заповедь: «Не желай жены, желай сына». Помозибо тебе за сына, Улюшка! А я - грешник! Желая его, я вою жизнь желал тебя, тебя и тебя… Проклятая разрыв- трава! - не сдержал он стона. - Всю жизнь нашу испрокудила!
- Бука-а-ал! - нежно вспомнила Улита, погружаясь в райское прошлое. - Разрыв-трава… - Её невесомая рука поискала и вновь нащупала его пальцы. - Вот и все… Нам пора с тобой…
- Я ещё приду, - горячо пообещал Род.
- Только не сюда, - откликнулась она. - Здесь опасно… - И чуть оттолкнула его руку. - Уходи… сюда могут взойти…
- Боже мой! - Род с трудом встал с колен.
Улита внятно произнесла:
- Помни мою любовь… Не задерживайся здесь… Приходи скорее… - И тут же закрыла, даже зажмурила глаза.
В дверях стоял истуканом великий князь.
- Дозволь пройти, Андрей Гюргич, - попросил Род.
Свидетель свидания послушно посторонился. Род пересёк сени, подошёл к указанной Анбалом двери, краем глаза заметил, как Андрей из раскрытой оконницы кивнул кому-то внизу, подал знак рукой. Чтоб не выдавать придворного ключника, Род сделал вид, будто заплутал в дверях. Андрей молча указал ему нужную. И он вышел.
Переход оказался длинен. Идущий не торопился. Знал: внизу не ждёт ничего доброго. Сообразив, где северная сторона дворца, он отворил дверь в первую же боковушу. Она была пуста. Стены уже побелены, но ещё не полностью уложен умельцами штучный наборный пол. В оконницы не вставлена слюда. Открыть их труда не составит. Он выбрался на неоперённые леса. Под ногами заколебались слеги изрядной длины. Высота-а-а! Глянуть вниз - дух займётся. Он глянул и не увидел обережи внизу. Должно быть, вся сгрудилась на юге, у главного выхода. Куда держать путь с этих поднебесных лесов?
А вот и кмети первыми муравьями проникли в узкий проход меж дворцом и домом вельможи Михна. Запрокинули головы, обнаружили его.
- Пройдите через хоромы, - велит внизу властный голос. - Достаньте его оттуда.
- Да не беги, не расшибай лоб! - кричал сквозь смех другой голос. - Никуда он теперь не денется.
Род заметил, что кровля Михна оказалась вровень с лесами, где он стоял. Вытянуть одну слегу из-под ног? Намерение здравое, да дело нелёгкое. Слеги длиннющие! Удержи попробуй, чтоб развернуть, перебросить на соседнюю кровлю. Да ещё укрепи сумей на покатом пластьё, коим крыт дом Михна.
Кмети с любопытством взирали снизу, как явный силач справлялся с трудной задачей.
Вот длинная слега легла над пропастью. Крики одобрения замерли, когда Род, держа равновесие растопыренными руками, двинулся по коварному своему мосту. «Ветвь! Голая лесная ветвь! - внушал он себе. - Круглая и крепкая. Дрожащая и надёжная. Тело, как в молодости, лёгкое, глаз - точный, движения - неторопливые. Спокойный, уверенный шаг… ещё шаг… - Он попытался настроить себя на беспечный лад. - Кмети внизу небось об заклад бьются из- за меня». Вот и кровля посольника Михна! А те, что были посланы для его поимки, уже вылезли на леса из той же боковуши через то же окно.
- Эй! Побереги-и-ись!
Род дёрнул край слеги, и она рухнула вниз на рассыпавшихся в страхе охранышей.
Орлу пришлось обратиться в ящерицу, чтобы переползти многоскатную кровлю. Вот и однодеревый жёлоб для водостока, накрытый доской, превратившей его в трубу. Выдержит ли?..
Когда висопляс[497] с окровавленными руками почуял ступнями землю, он увидел себя в раю. Яблони шумели над ним, звеня зелёными завязями. Цветы пьянили взор, услащали воздух. Резные качели вздымали ввысь дебелую нарумяненную госпожу, окружённую цветастой женской прислугой.
- Силы небесные! Ужель это ты, Родислав Гюрятич? - закричала она, всплескивая руками.
Качели остановились. Она сошла наземь. Трудно было в этой тучной боярыне узнать прежнюю Лиляну.
- Годы тебе нипочём, Родислав Гюрятич! - радуясь неожиданной встрече, улыбалась она. - Как встарь, по теремам лазаешь, разве что без когтей железных, - И побелела вдруг: - Да у тебя все руки в крови!
- Где выход? - хрипло спросил Род.
- Выход? Вон выход, - указала Лиляна на потайную калитку, скрытую в кустах, и повелела одной из девушек: - Отопри боярину!
- Боя-а-а-рину! - недоверчиво проворчала красавица в красном сарафане, отодвигая засов.
Должно быть, вид Рода не внушал уважения.
- Ух, спас Господь! - перевёл дух Силка, подводя коня.
- Как ты здесь оказался, кстати? - спросил Род уже на скаку.
- Вижу, кмети дом окружили, а ты в вышине оказываешь своё искусство, вот я и рассчитал, где нам свидеться, - легко объяснил расторопный слуга.
- Куда мы теперь? - обеспокоился Род, видя, что Силка не направляется за город.
- К Вятчанину. Он укроет.
Шишонка и в самом деле, с двух слов сообразив положение, увёл их в подклет, сдвинул кадь овса с крышки подпола, и изумлённый беглец узрел знакомый спуск в подземелье: та же лестница без второй ступеньки, тот же, но уже древний сруб, в коем по- прежнему недостаёт двух брёвен.
- Здесь… здесь… - в ужасе отшатнулся он.
Шишонка вздул фонарь и деловито молвил:
- Ты угадал, Найден. Здесь был терем Степана Кучки. Князь сжёг его. Я ж на боярском месте свой дом возвёл. Спрячем-ка тебя тут, а за полночь выведем под землёй к речке Рачке, а там оврагом за Мосткву-реку, и - черт не сыщет!
В подземной каморе, где Петрок с Кисляком пытали Офимку, было даже уютно. Стены обмазаны глиной, побелены, под ногами тканые половики.
- Я тут порой отдыхаю от излишних шумов, - сообщил Вятчанин. - Силка! - распорядился он. - Принеси господину рукомойный таз с потиральцем… Ишь как руки ободрал! - заголил он рукава Роду. - Сейчас мы все обработаем. Силка! - крикнул вдогонку, - Вели готовить естьё, а кому - не сказывай. Сам сюда принесёшь.
Вскоре и стол был накрыт. Не только естьё, но и питьё услаждало взор. Уютно в гробовой тишине при светильниках кушалось. Спокойно, оттого и уютно.
- Вот теперь и нальём за встречу, - распоряжался Шишонка.
- Не ведаешь, здесь ли боярин Короб Якун? - на всякий случай полюбопытствовал Род, надеясь в трудный час обрести ещё одного старого, доброго приятеля.
- Якун? Короб? - переспросил Шишонка. - Слыхивал о таком. Он Гюргию Владимиричу служил, а с Андреем Гюргичем вдрызг рассорился. Говорят, прозябает ныне у своего нового государя Михаила Гюргича. Тот был изгнан братом Андреем, потом вернулся, в усобицах потерял удел, приютился в Чернигове.
Заскрипела лестница. Из противоположной двери, через которую четверть века назад проник в этот погреб Петрок Малой, чтоб похитить детей казнённого им Степана Ивановича, вошёл не кто иной, как Яким.
- Уф! - перевёл он дух. - Так и знал, что ты здесь укрылся, несчастный братец. Великокняжьи обыщики за тобой рыщут по всей Москве. Не ровен час, наведаются к Вятчанину.
- Тут им не повезёт, - пробурчал Шишонка.
- Как Андрей некстати появился? - до сих пор недоумевал Род. - Опять нюхалка Вевейка?
- В Боголюбове оставили злицу, - мотнул головой Яким. - Сиделка из неё никудышная. - Он налил себе до краёв и потянулся к Роду, чтобы содвинуть кубки. - Кто мог предполагать, что Андрей не заснёт после обильных яств? Пладенный сон его не взял. Решил проведать умирающую. Неслучай, и только.
Со своим кубком приподнялся Род. И внезапно ощутил дрожь в коленях. Спешно поставил кубок, расплескав вино. Вышел из-за стола, торопясь к одру, и… не смог шагнуть. Испуганными глазами уставился на пол, сплошь покрытый слоем каких-то липких подвижных частиц. В воздухе замелькали цветные пятна. Стол заколыхался. Стены покрылись паутиной. Лица Шишонки и Якима то исчезали, то появлялись вновь…
Нечто похожее приключилось с ним в отрочестве в зимнем лесу, когда, проблукав три дня, он ни на миг не сомкнул очей, остерегаясь волков. Цветные пятна, исчезающие деревья… Хвала Сварогу, волхв Букал отыскал его лыжный след, приволок пестуна домой.
Теперь нет Букала. Теперь ему много хуже. Отнявшая ноги слабость не даёт устоять. Он пошатывался, как быльё на ветру. Сердце пронзила боль. Лютым хладом дохнула смерть. Вовсе не та, что ему пророчили.
- Не моя! Не моя! - шептал Род, рухнув на дощатое ложе, застланное кошмой.
Что же это, живое, все наполняющее, могучее, разом покинуло его, выдернутое насильно? И опустело тело, словно безъядерный орех.
Яким с Вятчаниным поначалу опешили, затем бросились к нему.
- Помилуй, братец! Что стряслось? - теребил Кучкович.
Шишонка, приподняв голову упавшего, прижимал к его устам ендову с вином.
- Выньте из груди нож, - просил Род.
Спасатели переглянулись: какой, где нож?
- Снимите с головы шлем. Он сдавил лоб, - просил явно уж бредивший больной.
- Шлем сняли, - делал ложные движения Яким, - нож извлекли…
Род сам понимал, что бредит, но ощущал нож в сердце, шишак на лбу и путался между бредом и явью. Только что Яким был один - и вот… два Якима. А в кишках возбуяние, как от несвежей пищи. Руки и ноги немы - не шевельнёшь!
Бестолково и бурно соборовали над ним Яким с Шишонкой, решая, что предпринять. Вот к их голосам примешался ещё один… Как подсказала память, голос Силки.
- Человек… именем Пётр… желает видеть тестя своего…
- Зятёк Пётр? Веди его скорее, - велит Яким.
И - последнее, что услышал Род. Пётр, зять Якима, произнёс страшные слова:
- Государыня наша великая княгиня Улита Степановна только что покинула земную юдоль!..
4
Очнулся он в светлой одрине, значит, перенесли из подземелья наверх. Солнце ослепительно глядело в распахнутое окно.
- Ожил, кормилец? - склонился над ним Силка Держикрай.
Род шевелил губами, не слыша собственных слов:
- Где… она?
Силка, захлёбываясь, поведал, что поезд усопшей великой княгини давно ушёл, государь покинул Москву, оставленный им тиун не проявляет усердия в розыске скрывшегося боярина. Поначалу оказал рвение, разослал ищеек, да без толку. Решил: улетела птичка из города, а в лесу не поймаешь. Вот и перетащили болящего ближе к солнцу и воздуху.
- По-гре-бе-ни-е, - трудно вымолвил Род.
- Погребена, - успокоил Силка. - Схоронили матушку во Владимире в златоглавом храме Богоматери. Великий князь давно в Боголюбове со своим двором.
- Я… давно? - попытался выяснить Род.
- Месяц почти колеблется твоя милость между жизнью и смертью, - объяснил Держикрай. - Кормишься из рук. По надобности не можешь встать…
- Где Вятчанин?
- Со дня на день вернётся. Ищет укрытия понадёжнее. Яким Степаныч строго наказал позаботиться…
- Яким… уехал? - беспокойно зашевелился Род.
- Тюх-тюх-тюх-тюх! - заботливыми руками угомонил его Держикрай, - Яким Степанович, уходя, обронил случайно, - потайну зашептал он, - мысль свою обронил как бы про себя. А я слышал.
- Ш-што? - не понял Род.
- Он изрёк, - продолжал шептать Силка. И, словно посольник, передал заповедные слова: - «Если братцу не дадут жить, клянусь убить самовластца!»
Род прикрыл веки, всей внутренней силой сосредоточился, жаждая узреть, где сейчас Яким, что с ним, чем занят… И не увидел ничего.
Тем временем слуга-сиделка деловито бормотал:
- Нынче же приведу лечца. Теперь место подходящее. Пускай лечит…
- Никаких лечцов. Я сам себе лечец, - строго сказал Род.
По его наказу Силка принёс короб с травами, жбан кипятку, ступу с пестом. Под приглядом господина стал изготовлять питье.
- Как ты говоришь? «Если братцу не дадут жить…»? - переспрашивал больной.
- «…клянусь убить самовластца!»- с готовностью повторял Якимовы слова Силка.
А повечер явился Вятчанин.
- О, одолел свою хворобу, богатырь Найдён! - обрадовался он. - А я из самой что ни есть чащобы, из столицы бродников. Азгут-городок тебе кланяется. Лежбище готовит безопасное. Заботится сам атаман Могута.
- Жив ещё Могута? - отозвался Род.
- Жив старый ястреб! - сиял Шишонка. - Высох, аки перец, поседел, аки чеснок, а силушка не убавляется.
Воспрянувший больной кивал, переводил дух, но разговор поддерживать ещё не мог: сами собой смежались вежды, немел язык… Вскоре Вятчанин с Держикраем на цыпочках покинули одрину.
Крепко было у давешнего бродника намерение немедля увезти Рода от греха подальше. Однако постоялец проявил упрямство: не желал ехать, не поправившись. Обещал через седмицу быть здоровым. И зелье из травы-девятисила не подвело. Спустя неделю стал на ноги. Слабость ушла, хотя глубоко скрытая мука осталась.
- Я тебе надёжную охрану дам, - сжал кулак Шишонка.
- Ни одного охраныша! - настоял Род. - Во мне есть сила, да со мною Силка, - шуткою прервал он возражения опекуна.
Хозяин становища так и не постиг причины этого упорства, а постиг бы, ни за что б не уступил.
Перед отъездом крепко обнялись.
- Увидимся ли? - хлюпнул носом старый бродник.
Род заглянул в его бесцветные глаза и впервые за много лет не разглядел судьбы в чужих зрачках. Отнёс это на счёт болезни, понадеялся, что время все его способности вернёт на прежние места. Даже не заподозрил, как ошибся. С лёгким сердцем чмокнул старика в лысину.
И вот помчалась шестерня по путанице улиц. За много впереди жались прохожие к высоким тынам.
На улице Великой у Боровицкого холма пришлось призадержаться, попав в затор. Род окликнул Силку:
- К какой дороге правишь?
- Вестимо, к Старо-Русской, - обернулся тот.
- Правь ко Владимирской.
Держикрай сперва не понял, поняв же, осерчал.
- Глумишься, твоя милость? Непойманная птица сама летит в силки?
- Лети, куда велю, - сурово молвил Род, не затевая спора.
Однако Силка шестым чувством уяснил намеренье хозяина. Переклонясь к карети, мрачно произнёс:
- Не ищи умершего…
Род дрогнул: парень будто знал берестяную грамотку Букала. Одна из заповедей: «Не ищи умершего». Однако путник тут же успокоился: «Я ищу сына!»
На становищах Силка хлебал щи, скорбно глядя на хозяина. О сыне он не знал. О плаче Родовой души по отошедшей в иной мир княгине - так и видно по лицу! - догадывался.
Коней уж не меняли, оскудев средствами. Неторопливо отдыхали вместе с ними. Да и в пути их берегли, не гнали во всю прыть. Время путное растягивалось. И все-таки Андреева столица приближалась.
Вот наконец и земляной вал. Волжские ворота… Все здесь как в Гюргиевой столице Суздале: перекрестье главных улиц, в средоточии - церковь Богородицы и, само собой, как водится, - детинец.
В сравненье с Суздалем Андреевой столице придавали вящее величие Золотые ворота под стать киевским. И Кремль на Клязьме ну ни дать ни взять - двор Ярославлев на Днепре! Проникли сквозь врата детинца в Печёрный город, среднюю часть крепости. Остановились перед высоким каменным храмом с золотыми куполами.
- Златоверхий Храм Богоматери! - торжественно объявил Силка и деловито зачастил: - Сыщу место для постоя, разгружусь, заеду за тобой. Будь осторожен…
Род его уже не слышал. Устремился в храм, не удивляясь, что в будний дневной час дверь церковная не заперта.
В правом приделе возле клироса под сенью каменного свода поник в молитве юноша, высокий, светлокудрый, в иноческой рясе, хотя без куколя[498].Род истиха приблизился к нему:
- Не ведаешь, человек Божий, где тут погребена новопреставленная великая княгиня?
Не подняв взора, юноша молча указал перстом плиту. Род упал ниц на камень и застыл надолго…
Поднялся, не отогрев слезами душу. Холодный камень оставил в груди холод. Теперь юноша пристально вглядывался в него. Роду показалось, что и сам глядится в невозмутимую озёрную гладь близ Букалова новца. Себя видит!
- Глебушка? - вопрошая, позвал Род.
- Батюшка! - Юноша бросился к его груди.
- Как узнал меня?
- Здесь ждал. Матушка сказывала, придёшь.
- Иноческая одежда на тебе? - сокрушённо молвил отец.
- Я ещё не инок, - сказал Глеб. - Лишь рясоноситель. С твоего благословения приму чин ангельский.
Род жадно притянул его к себе.
- Нет, не отдам. - И, сглаживая судорогу собственничества, ласково спросил: - Пошто тебе монашество?
- Есть два состояния в сей жизни, - самозабвенно стал объяснять Глеб. - Одно обыкновенное, свойственное всем, то есть супружество, другое - ангельское и апостольское, выше коего ничего быть не может, то есть девство, или состояние иноческое.
- Будь, как все, обыкновенным, - убеждал Род. - Что влечёт тебя до срока покинуть мир?
- Зло, - выдохнул Глеб. - Слишком много зла и мало покаяния. В покаянии и есть иноческий образ. Он подражает служению ангелов, обещает святость, нестяжание, псалмопение, молитвы, послушание и чистоту. Монах носит и одежду покаяния. Она убога, худа, лишена всего, что люди почитают хорошим, не имеет ничего, что могло бы возбудить мирские помыслы. Наоборот! Она побуждает бежать всякого общения с украшенным миром. Она напоминает смерть, плач, обязует обитать духом не в здешней жизни, а желать жизни нетленной и ускорять течение к ней.
Отец вникал в речь сына, но не проникался ею.
- Вспомни глас матери. Матушка и ныне отговорит тебя…
Ланиты Глеба почервленели.
- Я так же, как ты, батюшка, лежал на этой вот плите, - указал он. - Камень ужасно холоден. Глас матушки не слышен.
- Да, камень холоден, - признался Род. - И плоть безжизненная холодна, как камень, - тяжело добавил он. - «Не желай жены, а желай сына» - завещал мой названый отец. Я потерял Улиту. Теперь тебя теряю, едва найдя. Ужель так хочет Бог?
Глеб взял в ладони его руки, сжал их не с юношеской, с детской силой. О, строгий постник!
- Клянусь, - произнёс он, - пока ты жив, буду с тобой. Мы пособоруем, как нам быть далее. Мой названый отец сулит удел отверженному не в своём, а в Божьем царстве.
- Не надобно нам царства, - жарко внушал Род. - Земля ещё покуда велика. Что ж, не найдём себе удела в ней? Мне этот удел ведом. Пусть не сладкий, не боярский, зато не рабский. Удел отшельников! Здесь, в людской гуще, - все рабы, даже князья. Рабы своих страстей, рабы друг друга. Там мы сами себе будем государи. Только бы выбраться отсель! Пойдём скорее…
Обнявши сына, он повлёк его из храма.
- Постой. Предчувствие дурное меня удерживает, - оперся Глеб.
Род отвечал самонадеянно:
- Со мной не бойся.
Он многажды угадывал любые западни судьбы. Привык к всевидящему глазу чуткости. Теперь же этот глаз молчал. Он ничего не видел. Стало быть, ничто не затаилось впереди, не стерегло. Глеб отцу повиновался…
Лишь покинув храм, ©становясь на паперти, Род обнаружил, что глаз предчувствия не просто ничего не видел. Этот глаз ослеп!
С полдюжины вооружённых кметей явно дожидались у ворот ограды. Дождавшись, бросились, отторгнули от сына, заломили руки… Вот это им не очень удалось. Отброшенные, словно свора псов медведем, они снова яростно напали. Род вновь их сбросил.
- Прочь! Пошли прочь! - срывающимся голосом приказывал тем временем, сверкая взором, Глеб Андреевич.
- Сам, княжич, ступай прочь, - рявкнул один из кметей, видимо, старшой. - Тут твоё дело стороннее…
- Нет, не стороннее…
Ему не дали досказать. Вновь закипела свалка. Род, переживший смерть Улиты как свою, лишённый способности влиять на ближнего, предвидеть людские судьбы, понял неожиданно, что потерял не все. При нем остались сила, ловкость. Они - не дар разрыв-травы, они природный дар. Могучий кметь отшвырнут, как травяной мешок. Висок его попал на камень, показалась кровь. Увидев её, Глеб затрясся и вскричал:
- Отец, не надо!..
Руки Рода опустились. И вот уже они в железах.
- Взят ты великим князем Андреем Гюргичем за дерзостное воровство твоё! - объявил тот, что прежде отгонял Глеба.
- Прощай, сын! - воскликнул Род.
Глеб что-то отвечал. Отец уже не слышал. Его сзади оглушили, чтоб легче было довезти.
5
О нежданное счастье! Он не в порубе и не в иной темнице. Доставлен гостем в великокняжеский дворец. Помещён в подклет, в камору о двух окнах, настолько мелких, что, высади дубовую оконницу, - и не пролезешь. Однако стол, скамья и лавка для спанья - все как в жилище человеческом, не скотском. И дневно-ночной посуды нет, смердеть не будет. Постучи в дверь, сведут в задец. Считай, что заперт в доброй келье, как летописец, чтобы трудился, не ленясь. Да вот забыли дать писало с чистым свитком. Зато еду принесли вытную, не заподозришь и не подумаешь на окорм проверить. Нет, тут не киевское мерзкое узилище, куда завлёк обманом Ярун Ничей. Пожалуй, не придётся делать гуся. За что же честь такая от Андрея Гюргича?
Род, вытянувшись, отдыхал на лавке, сложив руки на груди. Загрохотал дверной засов. Сурово заскрипела дверная толща.
- Оставьте нас, - прозвучал голос Андрея чуть- чуть с кыпчакским выговором. Такой знакомый голос, вгоняющий в озноб!
Род продолжал лежать, не размыкая вежд.
- Мертвяка изображаешь? - вкрадчиво спросил великий князь. - Как у Владимира Давыдыча? Мне Изяслав Давыдыч сказывал про ту твою придумку. С умом было сотворено!
Под низкой половецкой задницей Андрея скрипнула скамья. Значит, посетил надолго.
- Ужели не пожалуешь меня беседой? Я тебя жалую.
- О чём нам вести речь? - произнёс Род, не шелохнувшись. - Улиты больше нет.
- Я мыслил так же, - мрачно откликнулся Андрей. - Простил бы и твоё последнее нежданное вторжение на Боровицкий холм. Кучковны между нами больше нет. А вот Глеб… Глеб!
Великий князь вскочил. По грому опрокинутой скамьи Род это понял. Сам сел на лавке. Приземистый Андрей смотрел на него сверху узким половецким взглядом.
- На своё горе ты сюда вернулся! - процедил, он сквозь зубы.
- На своё горе, - согласно кивнул Род. - Ведь Улита умирала.
Андрей перевёл дух, восстановил упавшую скамью и снова сел.
- Как ты узнал в земле заморской о её болезни? Волхвованием? Кучковна да и покойный брат мой Ростислав говаривали, что ты в будущее зришь. Провидец!
Род понурил голову.
- Больше не провидец. Улита унесла с собой мой дар. Уж четверть века минуло, как мы с ней встретились в лесу. В ночь под Иванов день нашли разрыв- траву, соединили в один пучок. Её желанье было - стать великою княгиней, моё - все видеть далее и более других. Оба желания исполнились. Однако счастья нам не принесли. Потому я мыслю: сила в разрыв-траву не небом вложена, а преисподней. Мне нынче много легче: я снова стал таким же… ну, таким… как вот и ты.
На каменном лице Андрея чуть заметно дрогнули черты, изобразив насмешку.
- Таким, как я?.. Ты… ты такой, как я? Смешная, жалкая кощуна! Ты перекати-поле без роду-племени, глупьём усыновлённый несчастным Кучкой. А я потомственный, природный государь большой земли. Мне повинуются князья. По-моему изволу возникают города и храмы. Тебе со мной не токмо говорить, тебе и лицезреть меня вблизи бы не пришлось, когда б… когда б…
Андрей внезапно задохнулся, захлебнулся, замахал руками, даже, в конце концов, сплюнул прямо на пол, как степняк.
- Окстись и успокойся, князь, - попросил Род. - Скажи, зачем пришёл. Иначе нужды нет ни лицезреть, ни разговором оскорблять моей ничтожности твоё величество.
Андрей поднялся, унимая внутреннюю бурю, отошёл к окну, оперся взором в непрозрачную слюду, надолго замолчал, потом сказал спокойно:
- Не гораздо мы с тобой которуемся. Я сейчас, грешным делом, спрашивал себя: уж не всуе ли к тебе спустился? Нет, христианский долг повелевает досочиться. Ты трижды спас мне жизнь. - Князь обернулся, подошёл, склонился, заглядывая узнику в лицо: - Открой, признайся без утайки: зачем спасал?
Род в свою очередь поднялся с лавки и сразу стал намного выше князя.
- Это легко открыть, - сказал он добродушно, с высоты своего роста глядя на заиндевелый ёжик властелина. - Я выполнял заповедь…
- Какую заповедь? - с живейшим любопытством поднял князь лицо с крутыми скулами и реденькой бородкой.
- Коротенькую заповедь, - Род постарался произнесть высокопарно: - «Ненавидящего спаси»!
Андрей задумался.
- Не ведома мне эта заповедь. Не читывал её среди ветхозаветных и евангельских…
- Я читывал, - ответил Род. - Есть у меня берестяное завещание Букала…
- Ах, стало быть, ты вправду сын волхва? - обрадовался князь. - Никакой не Жилотуг! Вот и открылось самозванство, а?
Род устало опустился на свой одр.
- Полно, Андрей Гюргич. Твой покойный батюшка на пыточном щите хотел исторгнуть из меня это признание. Живой свидетель злодеяния колол ему глаза. Вот и желалось названого отца в родные произвесть. Однако Жилотуг я, что поделаешь? Праправнук Скифа-витязя, дитя знати новгородской. Тебе же это как заноза, сыну половчанки, правнуку варягов, промышлявших морской татьбой, наёмничавших в Господине Новгороде Великом. Как твой родитель моего, так и ты меня готов убить.
Великий князь снёс безответно прямое оскорбление, лишь отвернулся, а потом ответил вовсе на другое:
- Вздоры это. Ежели искать концы, так не отец, а Кучка убийца Жилотуга. Ты же по Кучковне сох всю жизнь.
Этот укол остался незамеченным. Род на иное возразил:
- Был бы суд истинный в страждущем моем отечестве, я смог бы доказать, кто меня породил, а кто осиротил.
Андрей промолвил не без раздражения:
- Ничего не докажешь. - Молчали долго, не глядя друг на друга. Потом великий князь стал говорить: - Теперь уверен: справедливо обрёк я смерти своего спасителя. Вин у тебя достаточно. Первая вина, - загнул он большой палец, - ты после свадьбы пытался хитростью похитить мою подружию, как тать пришёл на Боровицкий холм, пролез в мой терем… Вина вторая: обольстил её, прикинувшись затворником в лесах смоленских… Вина третья: покусился на её честь, прыгнув по-бродничьи в дорожную кареть… И, наконец, вина четвертая: обманом осквернил её одрину, прикинувшись лечцом…
- Прости мою погрубину, - вмешался узник, - За первые-то три вины ты преизлиха меня мучил, когда боярин-кат Ярун Ничей по твоему изволу…
Андрей нетерпеливо поднял длань.
- Ну хорошо, - остановился Род. - Возьмём четвертую вину. Ведь за неё ты отдал меня в рабство после битвы у Большого Рута. На двадцать лет я стал чужбинцем…
- Лучше им бы и остался, чем возвращаться в безвременную смерть, - прервал Андрей.
- А пятую вину - моё свиданье с умирающей, - заключил Род, - ты, кажется, готов простить?.. Улиты нет…
Андрей угрюмо глянул исподлобья:
- Улиты нет, есть Глеб. Ты только что видался с ним отай. Вы стакнулись, уж это как пить дать. Да что там!.. Вот тебе моё условие: исчезни, как исчез на двадцать лет, и будешь жив.
В каморе воцарилась тишина, отягощённая дыханием судьи и осуждённого. Род, собравшись с духом, сам себе вынес приговор:
- Для Глеба не исчезну никогда.
Князь не без удивления воззрился на него:
- Что тебе Глеб? Ты его не знал. Вырос без тебя. - Род не отвечал. Андрей как мог спокойнее стал объяснять: - В великокняжеской семье для посторонних все должно быть попригожу. В семейных распрях огнищане или смерды вольны вести себя свободно, их государи - нет. Во имя государственного блага прошу: исчезни, не вскрывай моей семейной тайны. - Чуть переждав, Андрей добавил: - Государственное благо меня и прежде понуждало поступать с тобой сурово… Ну, считай, несправедливо… Что молчишь?
Род подошёл к окну, вцепился пальцами в решётку.
- Я все сказал.
- Конечные твои слова? - Андрей поднялся.
- Конечные.
Великий князь наморщил низкий лоб, пощипал хилую бородку, тяжело раздумывая.
Вдруг Род захохотал. Он хохотал отчаянно, так что грязная слюда тряслась в оконцах, хохотал как одержимый, надрывая грудь, не в состоянии остановиться. Андрей взирал, расширив очи, не половец - варяг!
- Что, что с тобой! Из дурака плач смехом преет? Проклятый ощеул![499] Чему хохочешь?
- Смех двадцать лет ждёт у ворот, своё возьмёт, - ответил Род. - А хохочу я, припоминая, за что ты дважды изгонял епископа Ростовского Леона.
- Леона? - отшатнулся великий князь. - Леон был еретик!
- Он запрещал вкушать скоромное по средам и пяткам, хотя и в праздники, - ещё смеясь, говорил Род. - А ты - обжора!
Андрей, как из вертепа, бросился к двери.
- Воистину тебя подозревают: юродивый! - кричал он, негодуя, - Готовься к смерти! Солнцевосхода больше не узришь…
Лязгнул засов. Род бурно выдохнул весь воздух из груди и вытянулся на широкой лавке.
6
Синим утром за ним явились. Связали сыромятью руки, ноги, бросили ничком в телегу, почти не кинув сена. Сами сели - один в ногах на передке, а двое в головах в задке. И пара пегих повлекла телегу, наполнив внутренности Рода дрожью от тряски с тарахтеньем. Ужли сбывается пророчество Букала с Богомилом? Он умрёт позорной, страшной смертью! Урочный час настал… А повезли не к торгу, где совершаются обычно казни прилюдные, и не к Боголюбову, великокняжескому местопребыванию, что от Владимира невдалеке, как Берестов от Киева. Там мог бы наблюдать Андрей свою избаву от ненавистника. Нет, повезли по направлению к Москве. И ещё в сторону. Спешно свернули с дресвяного торного пути в кочкарник лесной росчисти… Ой-ой-ой-ой!
Пришли на память смертнику слова великокняжеские: «Не вскрывай моей семейной тайны». Его таинственная смерть не вскроет этой тайны. О ней узнают самые ближайшие, кого она коснётся. Глеб! Чем ответит юный Глеб на убиение отца, которого и знал-то миг? Уйдёт от мира, укроется от зла под иноческой понкой. Зато Яким… уж он-то досочится и от зла не отойдёт. В ужасное деянье может воплотиться клятва, подслушанная Силкой Держикраем: «Если братцу не дадут жить… клянусь убить самовластца!» Господи, не попусти!
Три возчика переговаривались хмельными голосами. Не кмети, не охраныши, а грязные головники в пестрядинных рубахах, в грубых портах.
- Кафтанчик ладненький. Как раз по мне.
- Сапожки востроносенькие доброй кожи. Ох, не придутся к моей голени, придётся надрезать.
- Кляп вам в рыло! - Это голос с передка. - Жеребьеваться будем.
- Как жеребьеваться?
- Грош надкушенный метать.
Уже делили шкуру неубитого медведя. Уже он для них труп. Какое дело, когда сгорит сноп, брошенный в огонь? Его уж нет.
Вот пара пегих замерла. Телега стала. Его подняли, понесли… Как слегу, прислонили к жёсткому стволу осины-великанши. А лес притих, ждёт солнца, чтоб тут же огласить мир птичьим щебетом.
Головники стянули книзу верхушки двух берёз, связали их, как обвенчали. Осталось к каждой привязать по ноге несчастного и разрубить вервие. Берёзы выпрямятся, разодрав жертву пополам.
Три парня, отирая потные ладони о штаны, перемигнулись.
- Вынь кляп, а то и крика не услышим. Тут самое забористое - крик!
Простые конопатые усмешливые парни. Морды уже пухлые, испорченные морды питухов. Кляп вынул самый младший, явно смешанных кровей. Отец, должно быть, яшницу ласкал, с Дикого Поля пригнанную.
- Разоблачать? - спросил подельцев рыжий, волжанин выговором.
Самый старший, самый мрачный кивком велел раздевать жертву. Именно он предполагал жеребьеваться.
- Дозвольте совершить молитву, - попросил Род.
- На что волхву молитва? - спросил любитель жеребьёвки.
- Я не волхв, - ответил Род. - Я, как и вы, христианин.
Сравненье рыжему понравилось.
- Мы - христиане! - заявил он с гордостью. - Молись.
- На что молиться-то? - спросил сын половецкой яшницы. - Иконы нет.
- Вот солнышко. - Смертник поднял взор на глаз Сварога, выглянувший из-за трепетных вершин, - На солнышко и помолюсь… Снимите храпы[500] с рук.
Рыжий подошёл, распутал сыромятные ремни.
- На руках не убежишь!
Род с благодарностью взглянул на трёх головников. Один грыз коготь, другой почёсывался, третий смотрел в землю. Им было невтерпёж. Хотелось поскорее кончить дело - и айда подальше от лихого места! Их занимала не молитва смертника, а его крик. И все же развязали руки. Чем отблагодарить за эту милость? Добрым словом? На что им добрые слова? И сразу ожил в памяти наказ Букала: «Одари своих убийц». Так вот к какому часу эта заповедь! Соображенье тут же подсказало, как выполнить её.
Молящийся согнулся в поясном поклоне. Миг понадобился, чтоб коснуться нужных швов одежды, надорвать один из них, извлечь перстень Жилотугов… Ещё миг - вознести его над головой, зажатым в пальцах так, чтоб солнце, отразившись в самоцвете, брызнуло цветным сияньем в алчные очи трёх головников. Ещё какой-то миг они стояли, как ослепшие. Затем все трое разом бросились вперёд… Перстень, пролетев над ними, упал в траву, и тати ринулись назад…
Червеподобно ползая, сшибаясь лбами, они искали вожделенную добычу и нашли. Трое сплелись в клубок, как одно тело, и покатились, хрипя и вопия…
Поднялись двое. Один остался на земле, тот, что помладше. Не обнимет больше сына пленённая лесовиком степнячка, ежели ещё жива. Подельцы ошарашенно взглянули на убитого. И рыжий волком бросился на старшего. Значит, у того был перстень. Любитель жеребьёвки сбил хваталу с ног и сам же рухнул, перехваченный повыше щиколотки. Опять катались по траве, пока захватчик перстня не поднялся, задушив соперника. Не глянув на него, он принял бычий вид и пошёл к смертнику. Вихры двумя рогами торчали на косматой голове.
- Один сумею порешить тебя, проклятый солнцепоклонник! - пообещал оставшийся в живых.
Род, сидя на траве, пока кипела драка, пытался снять храпы с ног. На сей раз попалась сыромять такая - не разорвёшь её, хоть лопни. А узел до того хитёр, не разгадаешь. И все же пальцы Рода нащупали в нем слабину. Жила начала распутываться. Хотя бы времени чуть-чуть побольше! Головник уж близко. С ним, по ногам связанный, не справишься.
По вытянутым пальцам, по подкрадыванию быкоподобного убийцы Род понял, что тот намерен удушить его, как рыжего. Способней будет раздевать. А после можно разодрать на двух берёзах нагого мертвяка. Что ж, мёртвым быть разорванному лучше, чем живым.
- Йа-а-а! - завопил безумный людозверь, бросаясь к Роду.
Но хотя руки смертника были свободны, не произошло борьбы. Кат ткнулся мордой в землю. В спине его торчала тонкая короткая стрела. Обычно в этих безотказных стрелах - яд. Они не поражают глубоко, достаточно укола.
Род глянул по-над росчистью. В просвете просеки в трёхстах шагах, на расстоянии дострела, увидел всадника. Тот подскакал, сминая росную траву, взбивая земляную ископыть…
- Повремени, боярин! Чуть повремени…
Нож резанул по храпам. Ноги свободны. Род - в объятьях Силки Держикрая…
7
Хвойное сушьё в костре искрило. Из чащи раменья[501] виделось поле с булавочной луной в июньском светлом небе.
- Вот уж и червец стали именовать по-новому - иунем, - завязывал беседу Силка.
Молчание…
- Сегодняшняя ночь - купальная, - объявил Силка. - Вскорости наступит час цветения разрыв-травы.
- Когда нальёшь мне кипятку? - поторопил Род безучастно. - Никак не уйму дрожь.
- Далече ускакали мы от страшной той поляны, а ты не успокоишься, боярин, - вздохнул Силка. - Потерпи чуть. Мой горшочек-скорокип уж начал запузыриваться… - Он сунул руку под одежду, достал с груди перстень Жилотугов. - Вот… вынул из руки убитого головника. Так зажал, едва извлёк. Три чужих смерти враз вместо одной твоей, и всё - перстень!
Род молча взял реликвию. Потом спросил:
- Что в поле смотришь?
- Так ведь там кони наши застреножены, - ответил Силка. Переждав молчание, он вновь воззрился на пепелёсый небосвод над синим морем ржи: - Напасть какая нынче на луну: не наливается, а будто усыхает на подъёме…
В то же время он заметил, что господский взгляд блуждал не в небе, а в огне костра, будто в нем бывалец-господин искал некую тайну. Однако потерявший дар воспитанник волхва, как ни сосредоточивался, ничего в огне не видел.
- Ну что уставился? - вскинулся он на Держикрая. - Гляди в поле на свою луну.
- Я на коней гляжу, - оправдывался Силка. Оставшись без ответа, надеясь все же завязать беседу, он свернул речи на иное: - Вчера, едва подъехал к храму за твоей милостью, узрел юного инока. И тут-то инок мне поведал, что ты пойман княжескими кметями. Я опрометью - к боярину Якиму, бух ему в ноги: спасай-де господина моего! Он - во дворец. Оттуда возвратился тучей. Я раным-рано подкараулил, как тебя везли на казнь, и… вовремя поспел! Спас тебе жизнь…
Род слушал уже в третий раз о подвиге слуги. И в третий раз как эхо повторил:
- Ты спас мне жизнь! - И с горечью прибавил: - Кому она нужна? Разве вот сыну? Юный инок вовсе и не инок. Это мой сын.
Очи Силки в отсвете костра расширились, как у обрётшего ночное зренье филина.
- Вот оно как, боярин? Пригож твой сын! Я сразу заподозрил сходство, сам себе не веря… Большую жизнь за сорок лет ты прожил, взрастив такого сына!
- Не я его растил, - признался Род. - А жизнь - большая… Множество людей… То появляются, то исчезают… Иные возвращаются… А я средь них - наедине с собой… Опять ты смотришь в поле?
- Луна совсем исчезла, - испугался Силка.
- Должно быть, хмарью заволочена? - предположил Род.
- Нет, небо не моложное. - Силка снял горшок с костра. - Вот кипяток, боярин. Заваривай! Пусть крепость зверобоя дрожь в тебе уймёт.
- Боюсь я за Якима, - отхлебнул Род зелёный кипяток, - Введёт его моя судьба в великий грех! Помнишь, что ты подслушал?
- Как не помнить? - пососал Силка сахарный сколок и отпил. - Дословно помню: «Если братцу не дадут жить, клянусь убить самовластца!»
- Ему не ведомо, что я остался жив, - вслух размышлял Род.
- Зря ты боишься за боярина Якима. - Силка отёр губы рукавом. - От страшных слов до страшных дел… ух, далеко! А хоть бы и исполнил клятву… Наш нынешний властитель - такая ноша на плечах народа, слишком долго не протащишь. И тиуны, и мытчики Андреевы овец умеют превратить в волков. Нельзя так помыкать людьми!
Род дул на кипяток, отхлёбывал и снова дул.
- Не торопись, Силантий, - молвил он. - Все властелины - тяжкий груз. И чем их больше, тем тяжельче. При Гюргии не жизнь была, а кровь. Андрей хотя и кулаком, да обуздал князей. Боюсь, с его безвременным уходом нас, северян, ждёт лютая судьба южан. Не хочу этого. Теперь вот даже сокрушаюсь, что не попригожу напоследок говорил с великим князем. Промеж нас не государственные, а сердечные дела. И все ж таки не попригожу…
Силку, видимо, не пронимали речи Рода. Или он попросту не понимал господских дум. Опять глядел из чащи в поле…
- Ой, что с луной? - вскочил он вдруг. - Вновь обозначилась… Сперва черна, потом кровава, а теперь двулика… Одно лицо зелёное, другое жёлтое… А посреди неё два ратника секутся обоюдоострыми мечами… У одного кровь из головы… Другой белеет ликом, как молоко текущее…
Род тоже встал, всмотрелся и быстро вышел в поле:
- Гаси костёр. Седлай коней.
- Помилуй, Родислав Гюрятич! Што с тобой? - ополохнулся Силка.
- Со мной ништо. С Андреем худо, - сказал Род. - Страшное явление в небе знаменует княжью смерть. Скачем в Боголюбов!
- Никуда не поскачу, - оперся Силка. - Тебя не отпущу. Довольно! Из Москвы в столицу сыкнулся неслухом, едва остался жив. Сегодня рвёшься сызнова. А коли на сей раз не выручу? Опомнись!
Нет, одержимый не опомнился. Тщетно Силка повисал на нём, напрасно хватал за руки…
Род поскакал: Ощущение - как в Диком Поле в предрассветный час побега. Только впереди не видно Беренди. И окоёма не видать, лес застит окоём. А ветер, как тогда… Ах, Силка! На кого оставлен? Да ещё с ломовой конягой, выпряженной из телеги смертника. Своего-то Воронка господину уступил.
А ведь так ладно все было придумано! Род предвкушал укрыться в тишине Букалова новца, пересидеть, доставить туда сына Глеба и - в Вятскую республику! Там тешиться сыновним благом, наконец- то усластиться долюби тем миром, что создал Бог для человека… Как просто было: из Мостквы-реки да в Волгу, а из Волги - в Каму, а там - Хлынов, и Кошкаров, и Никулицын - богатый выбор вольных городов для сына, для себя, для внуков… И - все прахом! Мечты - в сторону, голову - в омут!
Вот просека, поляна, где зарыты тела злосчастных катов… Вот торная дорога Владимирская…
Надобно, не доскакав заставы, сделать клюку, обтечь столицу лесными тропами. Кружной путь долог, да короче, чем разговоры со сторожами: «Кто таков? Откуда? И зачем?»
Должно быть, крепко спит Владимир в предрассветный час. Не ведает беды. А если нет её? Избегнув казни, рваться в Боголюбов - все равно что из огня в полымя… А полымя уж близко. Между Владимиром и Боголюбовом вёрст десять с небольшим, как между Киевом и Берестовом.
Вот и застава… Как миновать её? Рогатина опущена, но… сторожей не видно. Что за притча?
Всадник с разгону перемахнул препятствие. Заря ещё не занялась, а улицы полны людьми. Куда они спешат? Град Боголюбов невелик, Андреем учреждённый и украшенный. Род здесь впервые. Обычай городских застройщиков везде один: прямое перекрестье улиц, посреди - храм, площадь и детинец. Туда все и спешат. Зачем? Ему не отвечают.
Истошный крик:
- У Михна занялось!
И сразу многогорлое:
- Шарапь, ребята!
Не горожане - бродники…
Вот и гранитное узорочье дворца. Красива воплощённая мечта Андреева! А где же обережь? Ни одного охраныша!
Род беспрепятственно вошёл. Стрельчатые окна уже обильно пропускали свет. Украдкой, по-мышиному то там, то сям мелькали людские тени с воровскими ношами. Никто не останавливался на его оклики, будто не видя и не слыша. Мышиное шуршанье в мёртвой тишине…
Узкие высокие ступени каменной лестницы в кровавых пятнах… Лестница с крутыми поворотами. Пятна увидят в нишу под неё. Род подошёл и на полу в углу увидел человеческую руку в белом рукаве ночной сорочки. Рукав кровавый. Из отрубленной руки вся кровь уже стекла. Он поднял эту руку. Червлёный след повёл его к чёрному ходу из дворца. И тут было не заперто. Даже открыто. «Опоздал! - шептали губы, словно заговор творили. - Опоздал!»
Род с невысокого крыльца спустился в огород. Ещё сверху увидел в огороде белое тело в пятнах красных ран. Узнал ужасное лицо Андрея. Десницы у князя не было. Спинами к нему стояли двое, громко вздоря. Один-то Анбал Ясин, другой Роду незнаком.
- Не трожь его! - кричал Ясин незнакомцу. - Собаку выбросим собакам. Кто дотронется, тот враг нам и умрёт, как он.
На это незнакомец тихо молвил:
- Ах ты изверг! Государь наш взял тебя в рубище, а ныне ходишь в бархате. А тело благодетеля оставил без покрова…
Ясин, весь в брызгах крови, не вложивший в ножны кровавого меча, бросился с ним на обвинителя.
- Остановись, Анбал! - произнёс Род.
Оба обернулись. Лик незнакомца выражал лишь скорбь. К ней примешалось удивление при виде Рода, держащего отрубленную руку. Зато Анбал перекосился от испуга.
- Ты… ты живой? - по-щучьи разевал он рот, как выброшенный на песок из родной тины.
- Кто он? - Родислав кивнул на обвинителя Анбала.
- Кузьмище… Кузьма Кыянин…
- Ах, Кузьма Кыянин…
Род положил отрубленную руку на грудь убитому.
- Поди, Анбал, и принеси, чем накрыть тело.
- Где я возьму? Дворец разграблен…
- Ты ключник. Знаешь что и где, - выпрямился Род.
Ясин торопливо удалился.
- О, господин мой, господин мой! - запричитал Кузьмище, склонясь над телом. - Как не учуял ты лихих врагов, когда они на тебя шли? Как не сумел их одолеть? Ведь ты одолевал булгар поганых! - Кыянин посмотрел в сторону Рода. - И этот из их числа!
Род, проследив за его взглядом, заметил рудую каплю на своём корзне. Стало быть, от княжеской отрубленной руки… Однако на подозрение Кыянина он не ответил. Не было сил пускаться в разговор. И не подумалось, чем это обернётся для него.
Вернулся Ясин из дворца, принёс ковёр. В него и завернули тело.
- Помоги отнести в церковь, - велел Род.
Снесли втроём. Церковь оказалась запертой. Анбал привёл пьяного сторожа. Тот отказался отпирать:
- Бросьте в притворе. Вот носятся, нечего делать…
На крупный разговор сошлись зеваки. Все с ранья были пьяны. Всех боголюбовцев споили погреба великокняжеские.
Кузьмище вновь запричитал:
- Уже тебя, мой господин, твои холопы знать не знают! Бывало, из Царьграда гость придёт иль из какой иной страны, христианин ли из Руси, поганый ли из Поля Дикого или латынец фряжский, прикажешь: «Поведите его в церковь в ризницу, пусть смотрит истинное христианство, крестится…» Бывало, и крестились многие. Узрели славу Божию и украшение церковное. Теперь везде восплачут по тебе… Свои же не пускают тебя в церковь положить…
Род, взявши за плечо, остановил Кыянина:
- Слезам не время. Приведи попа. Чтоб государь был похоронен по поставу.
Кузьмище, всхлипывая, удалился. Сторож запер дверь в притвор.
Род обернулся к Ясину:
- Веди к Якиму.
Анбал повёл, клюя покляпым носом после кровавого ночного пиршества. Род глядел по сторонам, стремясь запомнить путь. Боярские хоромы, у коих бревна-то ещё не потемнели, жались ближе к дворцу. Далее тянулись избы и с ними вперемежку - терема дружинников.
- Всех за ночь кончили, - изрёк Анбал, убавив шаг и поравнявшись с Родом. - Постельничий Прокопий, воевода Михн… Да что там!.. Всех!.. Вот Жидиславич, кажется, убег. Да вот Кузьмшцу ты мне помешал прогнать из жизни.
- Жаль, государя твоего убить не помешал, - глухо отозвался Род.
- Я на него… он на меня… - путался в речах Анбал, - Когда я на него напал, он на меня кричал: «О, Горясер!..[502] Ты Горясер!» Какой я Горясер? Тот был наймит, я - мститель!
- Чей мститель, дурья голова? - потерял выдержку Род.
- Твой! - нагло посмотрел ему в лицо Анбал. - Яким сказал: «Ныне казнил брата, завтра казнит нас. Промыслим об этом князе». Вчера у Петра, своего зятя, он нам так сказал.
Род учуял смрад из уст Анбаловых.
- Ты пьян!
- Мы все нынче пьяны, - пробубнил Ясин. - У входа во дворец нас объял страх. Спустились в погреба и охрабрились чем покрепче. Потом охрану вырезали. Постучали в княжескую ложню.
- Много вас было? - спросил Род.
Ясин посчитал в уме:
- Двадцать… вроде двадцать.
- Он вам открыл?
Ясин опять задумался. Стал вспоминать:
- Ефрем Моизич - у него голосок тонкий - позвал, чтоб вызнать, у себя ли князь: «Господине! Господине!» Государь спросил: «Кто там?» Ефрем проверещал, будто постельничий: «Прокопий». Мы слышали, князь молвил спальному прислужнику: «Поробче, а ведь это не Прокопий?» Я подскочил, ударом ног высадил дверь… Тьма была в ложне хоть глаз коли. Наверно, Андрей Гюргич искал меч святого убиенного Бориса-князя. Этот меч всегда держал он в головах, как знал, что пригодится. Да я днём ещё убрал его, ключи-то у меня! А меч-то греческой работы. Ефрем Моизич прочёл надпись на мече: «Пресвятая Богородица, помоги рабу твоему… В лето по Христе…»
- Так вы боролись с безоружным? - спросил Род.
- Мы не боролись, мы убивали, - поправил Ясин. - Однако Андрей Гюргич был силен! Первого же уложил… Впотьмах решили: сам князь упал. Добили своего же. Андрей же Гюргич отбивался и ругал нас на чем свет…
- Ругал? - остановился Род, пытаясь с ясностью представить ужас этой ночи в кромешной тьме великокняжеской одрины. - Что говорил?
- Ругал нас: «Нечестивцы!» - вспоминал Анбал. - «Какое зло я сделал вам? Прольёте кровь, Бог отомстит мой хлеб!» Долго он держался. Мы друг друга переранили. А я во тьме хорошо вижу. Князь упал от моей сабли. Мы побежали… Внизу Ефрем Моизич остановил: «Государь сошёл с сеней. Я видел». Тогда Яким велел: «Ну так пойдёмте искать его!» Все слышали стон. Он внизу затих. Кучков зять Пётр взял у меня свечу, нашёл кровавый след. А уж Ефрем Моизич поднял хай: «Погибли! Мы теперь погибли! Скорей ищите!» Скоро его нашли. Наш государь сидел под лестницей за каменным столпом. Первым ударил Пётр, да не попал, только отсек десницу. Яким добил Андрея Гюргича…
- За что? - простонал Род. - За что такой позор?
- Не за тебя? - осклабился Анбал.
Лживые бесы заиграли в выпуклых его зрачках. Род отвернулся, спросил, куда пришли. Узнал: пришли к Петру, Кучковичеву зятю, где собирались накануне.
Взошли на сени. За большим столом, пригодным более для пира, чем для чего-либо иного, стоял Яким. Он говорил Петру, держа берестяной лоскут в дрожащих пальцах:
- Вот принесли ответ владимирцев.
- С чем посылывал ты во Владимир? - спросил Пётр.
- На рассвете послал им упредительную грамотку: «Не собираетесь ли вы на нас? Так мы готовы принять вас и покончить с вами. Ведь не одной нашей думою убит великий князь. Есть среди нас ваши сообщники». - Яким прибавил: - Про сообщников я ради страху приписал.
- И что ж владимирцы? - насторожился Пётр.
- Этих холопов-каменщиков, как их называют ростовчане, наш подвиг привёл в ужас, - поморщился Яким, - Они ответили: «Кто с вами в думе, тот пусть при вас и остаётся, а нам не надобен…»
Яким отшвырнул грамотку. Пётр почесал в затылке.
Ефрем Моизич за другим концом стола священнодействовал над грудой драгоценностей: монеты золотые и серебряные складывал слева от себя, каменья-самоцветы скучивал справа, кресты наперсные, огорлия, а также кольца, серьги, наручни[503] слагал перед собой. Тут подошёл к нему Анбал, сгрёб, сколько позволяли толстые кровавые персты, и опустил в бездонный свой карман. Моизич побелел лицом и не сказал ни слова.
Тем временем Яким на шум вошедших поднял взор, обвёл палату мутными глазами и увидел Рода.
- Братец?.. Жив!..
Он распростёр руки и… пошёл на названого брата, будто не Род казался призраком, а сам он обернулся страшным упырём, принявшим чужой образ. Лик, кудри, очи рано постаревшего Якима… даже голос - и на всем адова печать!
Род отшатнулся, бросился опрометью по стонущим ступеням, глотнул на крыльце воздуху и - вниз во двор к распахнутым воротам, где его пытались удержать.
За ним гнались. Он ощущал спиной погоню. Улицы были полны ворами, груженными чужим добром. Род сновал меж ними, боясь коснуться происходящего. Он помнил, что за ним гнались. Однако силы иссякали после бессонной ночи и всего увиденного. Задохнувшись, он прислонился к тыну и тут же вздрогнул от прикосновения к руке.
- Ну нипочём тебя не остановишь, Пётр Степаныч, Родислав Гюрятич!
- Ты кто? Ты кто?
- Опять Томилку не узнал! Как и тогда, в бою под киевскими стенами в обозе…
Ужасно постарел Томилка! Безвременье не красит.
- Тебя Яким за мной послал?
- Яким Степаныч? Со вчерашних пор его не лицезрел. Слуга твой ищет господина. Пришёл на двор к боярину Якиму. А я его привёл к боярину Петру. Ты вышел, мы не смогли остановить…
Подоспел Силка.
- Уф, сердце выскочит! От раменья, где жгли костёр, скакал я за тобой, боярин. Ломовика загнал. Другого отыскал у той поляны, где остались мёртвые головники и их телега. До Владимира добрался, взял нашу кареть со скарбом и коней. Здесь, в Боголюбове, нашёл приют у старого знакомца, боярского конюшего…
- Так ты нашего боярина к Кюриле Хотуничу ведёшь? - забеспокоился Томилка. - Ведь у него конюшим друг твой Баженок. Однако это не гораздо! Двор Хотунича почти у площади, а там теперь самый зыбёж!
- Кюрила ещё затемно бежал в свою глухую вотчину, - сообщил Силка. - Баженок сказал: крадёжники их двор уж посещали, взяли, что осталось, и ушли.
- Одни ушли, придут другие, - нахмурился Томилка, - Чужаками Боголюбов полон до краёв. Даже из дальних деревень слетаются хапайлы, как стервятники на падаль.
За разговором подошли к дворцу. Род оглядел площадь.
- Где мой Воронко? Утром привязал вон там, у коновязи…
- Ах, утром привязал? - хлопнул себя по ляжкам бывший кощей Кучки, - Значит, отвязал кто-то другой. Нынче мало ли кому отвязывать!
Силка успокоил, что из Владимира скакал на тройке. Кони есть.
Томилка стал прощаться. Волновался, как бы и до его боярина не дорвались с татьбой. Хотя и обережи много, и сам Кучкович не из тех, за кем сейчас охотятся, да все ли это знают.
- Скажи, дружище, - придержал Томилку Род, - ты помнишь битву у Большого Рута, видел, как я отдал князю Андрею свою игренюю кобылу, не знаешь ли её судьбу?
- Я даже имя её помню, - просиял Томилка. - Катаноша! - И нахмурился. - Князь чтой-то невзлюбил её. Отдал в обоз. Там наши коновалы быстро уходили твою красотку. Сапатая пошла на шкуру… Ну, не кручинься, Родислав Гюрятич. Дай поцелую руку… Ну дай пожать не по-боярски, а по-человечески. Приведёт ли Бог свидеться?
Ещё одно лицо ушло из жизни Рода навсегда.
Идти пришлось совсем недалеко. И дом, и двор боярина Кюрилы были разорены. В пустом амбаре - только кареть с поклажей и кони - Силкино хозяйство.
- Пора отсюда ноги уносить не мешкая, - настаивал Силантий. - Тут место не для нас. Возьмём твоего сына и…
- Истину ты молвишь, - согласился Род. - Да прежде надобно исполнить одну священную обязанность.
Он поискал глазами нужный короб, вскрыл и извлёк шёлковую ткань: на красном поле среди сказочных растений расположились львы с золототкаными мордами и золотые попугаи. Такая «мысленная красота» изготовлялась в шёлкоткацких мастерских Севильи, Малаги, Мурсии. Не для печального обряда, а для радости привёз её на свою Родину скиталец.
- Я скоро возвращусь, - пообещал он Силке. - Отдохни - ив дальний путь!
- Ух, красота какая! - разводил руками восторженный слуга. - Подобный пир души я испытал сегодня, взглянув на боголюбовский дворец.
- Опять же твоя правда, - согласился Род. - Я как глянул на тройное окно лестничной башни в замке Андрея, так и вспомнил дворцы немецких рыцарей по Рейну и по Эльбе: арочные окна, колончатые пояса…
Жаль, не пришлось нашему князю долго любоваться своим детищем.
Род ушёл в церковь, где лежало тело убиенного. У паперти стоял народ. Притвор уж был открыт. Кыянин отдавал распоряжения. В церковь внесли гроб каменный. Род подошёл к монаху, назвавшемуся игуменом Козьмодемьянского монастыря Арсением. Суровый черноризец мрачно рассуждал:
- Долго ли нам ждать старших игумнов? Долго ли этому князю лежать? Отпою над ним. А когда злоба перестанет, из Владимира придут и понесут его туда.
Материю Арсений принял. Не в ковре же отпевать покойного.
Отслушав панихиду, Род тихо удалился.
На подворье у боярина Кюрилы прибавилось разору: у амбара двери сорваны! Это испугало Рода. Он прибавил шагу. Войдя в амбар, прежде всего наткнулся на тело Силки. Парень лежал, запрокинув голову, прижав к персям кулаки, прикрывшие кровавое пятно… Ох, эти нынешние - всюду, всюду, всюду! - пятна крови!
Род осмотрел Силку. Грудь пробита острым железом. Кареть разломана и опустошена. Кони уведены. Род вышел из амбара, остановился посреди двора.
К нему подошёл лысый дрожащий человек:
- Боярин, я Баженок. Уж так ли уговаривал Силантия, чтоб спрятался, как я. Крадёжники чужие нагрянули откуда ни возьмись. Он не послушался. Один против десятерых стал защищать амбар. Куда там! Голыми руками!
Род попросил заступ. Конюший убежавшего боярина не дал ему копать могилу, взялся за дело сам. Род отыскал священника, уговорил отпеть, отдал случайные два златика, что отыскал в карманах Силки. Сам был без денег. Все осталось в коробьях.
Постояли с Баженком возле могилы на боярском огороде в дальнем углу. Род наскоро простился.
- Куда же ты, боярин, пеший, без мошны и без сумы?
- Сегодня без мошны и без сумы покойнее.
Пройдя растерзанный и опьянённый кровью Боголюбов, Род побрёл обратного дорогой во Владимир навстречу близкой ночи.
8
Серебряная июньская ночь накрыла Владимирскую дорогу, и поле, и тёмное раменье по сторонам. День после долгого солнцестояния исчезал незаметно. Небо открылось для смотрин. Зодии совершали беги небесные… «Все это кощуны», - услышал Род Улитины слова, будто плыл с нею в вятском каюке по Мосткве-реке, а не каликою перехожею, не богатырём во смирении шествовал по широкой Владимирке. А бог Ярило спрятался за окоём, не покинул Землю ради краткой ночи. Белый нимб его двигался северной стороной, отгоняя тьму. А Улиты уж нет на Земле. Да и остающийся на ней Род ощущает, как все призрачнее становится для него этот осязаемый мир, как бы отходя от ушей, глаз, сердца и всех остальных чувствилищ.
Вот с каждым шагом стала приближаться фигура справно одетого старика, стоящего посреди дороги одним плечом к Владимиру, другим к Боголюбову, а лицом к лесу.
- Что колеблешься, старче? - спросил Род, подойдя.
- Не надумаю, куда путь держать, - глухо произнёс старик. - В Боголюбове душу вынут, во Владимире калиту, а в лесу к двум стволам привяжут да и разорвут пополам. Ты-то куда путь держишь? От убийц к татям?
- Разве уж и в столице татьба? - удивился Род.
- Попы по улицам носят иконы, усовещивают зыбёжников. Однако рано ещё переставать бояться.
- Не знаешь ли, старче, - с надеждою спросил Род, - где тут, не доходя города, обитель Покровская?
- В корень зришь! - обрадовался старик. - Вот туда и пойдём покуда…
Он споро зашагал впереди, свернул на первый просёлок, и они пошли лесом.
- Я ожидал, старче, - признался Род, - что народ в клочки разорвёт всех убийц Андреевых, а гляжу, подвергли избою верных государю слуг, головники же глядят героями. Так ли уж здесь не любили Андрея Гюргича?
Старец, словно оглохший, шагал, посапывая, потом вдруг спросил:
- За что его любить?
- Н-ну… - несколько растерялся Род. - Андрей дал Владимиру славу Киева. Я двадцать лет на родине не был. Загляделся - шапка упала! Златоглавые храмы, Золотые и Серебряные ворота, дворцы на зависть франкскому королю Фредерику…
Старец долго кряхтел, не спеша с ответом, и промолвил негромко:
- Держава в золоте, а народ в дерюге.
Белый кремль Покровской обители встретил паломников настороженной тишиной. В привратницкой долго не отпирали. Род отбил кулаки, стуча. Наконец засовы загромыхали.
- На стену надобно подыматься, дабы разглядеть, много ль вас, кто такие, - объяснил привратник и присовокупил: - Время тёмное!
Им предложили, поскольку вся братия на всенощном бдении, переночевать в привратницкой. Род и старец вытянулись на одной длинной лавке головами друг к другу.
Проснувшись, Род уж не застал старца. Тот отправился в паломничью трапезную. Пришедшим монахам, пригласившим его туда же, Род объявил, что не мыслит о еде, ему бы поскорее увидеть княжича Глеба, обитающего в этом монастыре.
- Княжича Глеба? - переглянулись монахи.
- Глеба Андреевича, - подтвердил Род.
- Глеба Андреевича? - Они снова переглянулись, - А ты кто таков, Божий человек?
Род назвался. Монахи ушли, перешёптываясь, то ли таимничая[504], то ли творя молитвы. Такое их поведение удивило Рода, но не обескуражило. Он трепетно ждал. И хотя из богатого заморского гостя превратился в последнего местного бедняка, не терял надежды осуществить замысел, рождённый в златоглавом Храме Богоматери. Главное, уговорить сына покинуть монастырь. Затем скрыться в Букаловой келье, с помощью мужиков из Олешья соорудить лодью, а там с вёслами да под парусом - из Оки в Волгу, из Волги - в Каму… «Славен и преславен город Хлынов град!»
Вошёл монах. Долго молча взирал на погруженного в мечты Рода. Что за любопытный монах? Вот он падает на колени, кланяется земно, поднимает лик… Глеб! На нём клобук - камилавка с черным покровом…
- Глебушка!
- Слава тебе, Христе избавителю, Христе жизнодавче! - шепчут его губы.
- Ты в клобуке? Ты монах?
- Облёкся в броню веры и любви и шлем спасенья восприял, - опустил голову Глеб. Род не находил слов. Молчание становилось невыносимым. Тихий сыновний голос произнёс ещё тише:- Мыслил, нет тебя в живых. Вчера узнал, что и государя-батюшку Андрея Георгиевича мученически лишили жизни и среди лиходеев - стрый мой Яким Степанович. Тяжки, неподъёмлемы грехи мира сего. Давно готовился его покинуть. Нынешней планощью принял чин иноческий.
Род стиснул лицо в руках:
- Боже мой! Боже мой!.. Стало быть, ты теперь не пойдёшь со мною?
- Я пойду со Христом… Мне пора.
Отцовский рассказ о несостоявшейся казни Глеб выслушал, опустив очи долу. Видимо, молился мысленно, благодаря Бога. До чего ж худ и бледен!
Род приблизился к сыну:
- Попрощаемся, Глебушка…
Инок навстречу отверстым объятьям отеческим поднял десницу, чтоб осенить крестным знамением… Отец надолго припал к невесомой от постного жития сыновней деснице.
Как оправдание прозвучали над ним слова:
- Я принял от иерея целование Отца небесного… Прости меня, новоначального монаха, покинувшего бренный мир, обречённого миру нетленному…
Выйдя из врат обители, Род брёл, не ведая куда, и не утирал слез.
Солнце начало припекать. Он не расстегнул верхнего платья: холод одиночества был сильнее солнечной жары.
Подходя к Владимирской дороге с просёлка, сначала услышал пение, затем, вывернув из-за леса, увидел длинную вереницу людей с великокняжеским стягом во главе. Поднявшись на торный путь, он влился в шествие плачевопльствующих, под надрывные звуки «со святы-ми у-по-ко-о-ой» миновал предградие и вместе с сонмом скорбящих остановился у Серебряных ворот. Здесь ожидали владимирцы своего покойного государя.
- Страсти какие в Боголюбове! - молвил один из них.
- Гляди-ка, на нашем игумене Феодуле и демественнике[505] Луке лиц нет. Сплошные ужас и скорбь! - вторил ему другой, кивая на двух монахов в печальных ризах, начавших панихиду у гроба.
Род про себя отметил, что эти два священнослужителя, посланные доставить убиенного князя в столицу, остались надолго потрясёнными, попав из молитвенного духовного мира в кровавую плотскую суету.
Икона Богоматери, принесённая горожанами ради жалевой встречи, была Роду знакома. Он видел её в златоверхом храме, где обрёл сына. Сейчас подле неё стоял представительный иерей в сверкающей митре.
- Кто это? - спросил Род.
- Протопоп Микулица, - отвечали ему. - Это он вместе с государем доставил из Вышеграда нашу Заступницу и остался с нами. Теперь нет больше государя.
Отвечавшая женщина отвернулась, отирая слезы черным концом повоя. Стоявшая рядом с ней громко запричитала:
- Уж куда ты от нас ушёл, царь наш батюшка? Уж не в Киев ли поехал ты, господин наш, не в ту ли церковь у Золотых ворот, кою послал строить на великом дворе Ярославовом? Говорил ты: «Хочу выстроить церковь такую же, как и врата эти Золотые. Да будет память всему отечеству моему!»
Род впервые услышал, что великого князя Андрея Гюргича называли царём.
Шествие после панихиды двинулось к златоверхому храму Богоматери. Род шёл в хвосте среди простого посадского люда. Плач и стенания тех, кто окружал гроб, сюда долетали издали, как от головы до пят. Здесь велись речи отнюдь не покутные[506], а скорее рассудительные:
- Второй мудрый Соломон был…
- Дал бы Господь нам князя, блюдущего державу мирну и царствие!
- Отчего же вышло немирье? Низложили закон!
- Где закон, там обиды…
Большой панихиды Род не услышал. Он оставался у паперти в толпе. Лишь когда люди выстроились в цепочку для последнего целования, он занял место среди желающих отдать мученику последний долг и в свою очередь склонился над гробом…
Покойный лежал в покрове из той шёлковой ткани, той «мысленной красоты», что попала в Боголюбов из далёкой Севильи.
- Прости, ненавистниче мой! - беззвучно произнёс Род, касаясь губами мёртвого лба.
Лик князя Андрея, разглаженный смертью, омытый, не нёс на себе той печати ужаса, что увидел Род, найдя убитого в огороде. Следы человеческих страстей уступили место бесстрастию… Род, вздохнув, отошёл, вытеснился из храма, удалился в самый конец ограды за маленькое церковное кладбище, где на двух пнях белела доска, являя собой скамью. Понурившись, он сидел до тех пор, пока мягкая тёплая рука не коснулась его сцепленных пальцев.
Вскинувшись, он увидел женщину. Медные локоны из-под чёрной понки. Лазурный взор. Пухлые, словно протянутые для поцелуя, губы.
- Вевея!
Он вспомнил давешний свой приезд с Полиеном в Суздаль. Вевея встретилась на широком дворцовом крыльце. Она тогда была для него первой ласточкой из Кучкова дома, который все долгие годы разлуки сохранялся в мечтах. Дрянюка Вевея! Лазутка Вевея! Как же он ей в то время обрадовался! Вот и теперь потянулся, как брат к сестре, обнял, обхватил располневший стан, уткнулся лицом в родное, домашнее…
- Нельзя тебе тут сидеть, Родислав Гюрятич, - неохотно расцепляла она крепкие мужские объятья. - Обыщики владимирские уже не дремлют. Кузька Кыянин шёл с гробом из Боголюбова, незнамо как опознал, назвал имя Петра Кучковича, тебя то есть!
Род не торопясь встал. Она тянула его в один из глухих углов, где обнаружилась маленькая калитка.
Выйдя в заулок, сразу попали в запряжённую парой кареть. И кони помчались.
- Куда ты меня везёшь?
- В Заяузское городище.
- В Москву?
- В неё, деревянную.
Душно было в карети. Вевея сняла слюдяные оконницы за последней переспой. Обоих обласкал ветер.
- Ах ты, мой Родушка - седая бородушка! - счастливо улыбнулась рыжуха.
- Вчера был рус, нынче сед, - нахмурился Род. - А ты не седеешь, - отвлёкся он от тяжёлых дум, поглядев на спутницу, - Такая же рыжая.
Она откинула понку.
- Батюшка мой говаривал: «Сам я рыжий, рыжу взял, рыжий поп меня венчал, Рыжка до дому домчал…» - Вевея вдруг посерьёзнела, потом ласково дотронулась до его поседевшей в одну ночь бороды: - Ничего бы этого не случилось, не отлучись я из Боголюбова. Томилка-непря прозевал. Ведь совещались-то лиходеи не у Якима, а у зятя его Петра.
- Стало быть, Томилка - пособник твой, - удивился Род.
- Ушей и глаз надобно тьму тысяч, а у меня тех и других только по двое, - доступно объяснила Вевея и, помолчав, добавила: - Давно я подозревала этих обиженных. Стократ государю докладывала. А он их щадил. Не допускал, что пойдут на крайность. Не находил для розыску оснований. Намеревался удалить тихо. Да перемедлил…
На полдороге заночевали не в становище (Вевея остерегалась обыщиков), а в крайней курной избе, где безопасность Рода, по мнению спутницы, оставалась надёжной. Её возатай порыскал по деревне, раздобывая еду, да и вернулся ни с чем.
- Ну что же ты за мужик? - ругала его Вевея. - Не мужик, а какой-то теля-патя Фомка-староста!
Она взялась за дело сама, принесла жареного куря, чем и повечеряли.
- Обедняла деревня, - тряхнула яркими кудрями рыжуха, - значит, город голодать будет!
Её возатай в качестве сторожа улёгся в карети. Роду постелили на сеновале. Шуршало сено, когда он ворочался. Поскрипывали сверчки то там, то сям… Сон сморил его почти тут же. И потянулась перед глазами дорога далеко-далеко… Лес шумел… Сбруя на Катаноше неприятно скрипела. Надо бы жиром смазать сухую сыромять. А вот уже и река, к коей он так стремится. К берегу волной прибивает дубовый короб, а на коробе в белом платье - Улита. Он спрыгивает с Катаноши, она - с дубового короба, и оба бросаются навстречу друг другу… До чего крепок, до чего жгуч её поцелуй!
Род встрепенулся, открыл глаза и во тьме сеновала увидел над собою лицо Вевеи.
- Всю жизнь тебя дожидалась! - припала она сызнова к его губам.
Род едва оторвал от себя безумную.
- Мало тебе Улита срывала чемер, так я сорву…
- Ну сорви, сорви! - ткнула она голову ему в грудь. - Злица твоя, Царство ей небесное, ежедень держала меня в нелюбках, а я старалась ей же во благо. Степан Иваныч и Андрей Гюргич были умнее вас. Не спаривалась бы она с тобой, жила бы и по сей час. Двое лазутников было в Кучковом доме - я да Якимка. Только он - злой лазутник, я добрая.
- Пошто не даёшь поспать? - тяжело вздохнул Род.
- В избе дышать нечем, - разогнувшись, села Вевея. - Да и… и… наконец-то дорвалась до тебя! - Она взяла его руку в обе свои тёплые ладони, - У, холод, как от покойника!
- Я теперь покойник и есть, - отозвался Род, - Многажды убиваемый, многажды спасённый, а все ж покойник.
Вевея вновь припала к нему:
- Рано себя хоронишь. Я тебя оживлю! Надеялась, блюла девство, ожидаючи… Дождалась!.. Помнишь, как умоляла: «Врачу, исцели от любви к тебе!» Отказал в исцелении. Вот теперь и бери в подружии. Первый и единственный мой! Мы ведь спервоначалу предназначались друг другу. С Улиткой-то у вас судьбы - вразнотык. Поперечили предначертанному, вот и вышло несчастье. А теперь мы с тобой хоть остаточек жизни проживём счастливо. Я стану холить тебя, оберегать твой покой. Вот и помолодеешь душой и меня за добро полюбишь…
Слушал её несчастный, непроизвольно перебирая жёсткую медь волос, и думал вовсе о другом.
- Сейчас сызнова займётся усобица, - вслух произнёс Род. - Только убивать, полонять и жечь будут у нас здесь, а не на Руси.
- Твоя правда, - согласилась Вевея. - Ведь едва разнеслась по волости весть о смерти Андреевой, вся дружина съехалась во Владимир, все лучшие люди Ростова, Суздаля, Переяславля. Знаю, что говорили: «Делать нечего, так уж случилось, князь наш убит. Детей у него тут нет. Сынок ещё молодой - в Новгороде. Братья - в Руси…»
- А сын Глеб? - перебил Род.
- О Глебе - ни полслова, - жёстко сообщила Вевея, - Ведают, что не сын. Да и в монахах он.
- За каким же князем послали? - полюбопытствовал Род.
- Вспомнили про соседа нашего, князя Рязанского, - продолжала Вевея. - Побоялись, чтоб не нагрянул ратью внезапно. Решили: «Пошлём к Глебу Ростиславичу. Скажем, князя нашего Бог взял, так мы хотим Ростиславичей - Мстислава и Ярополка, твоих шурьёв».
- Сыновей старшего сына Юрьева Ростислава, коего я из болота выволок? - вспомнил Род.
- Все это происки рязанских посольников Дедильца да Бориса, - объяснила Вевея.
- Забыли… Гюргию ещё целовали крест жить под меньшими его сыновьями Михаилом да Всеволодом, - сонно вымолвил Род. - Посадили Андрея… Он братьев прогнал… Нынче, стало быть, сызнова их забыли…
- Глеб Рязанский обрадовался, - уже как бы издали достигал его слуха рассказ Вевеи, - послал своих послов вместе с владимирскими в Чернигов… Там сейчас приютились его шурья… Да ты уже в тридесятом царстве, мой Родушка - седая бородушка…
Большая мягкая теплота дышала на него, прижималась к нему… И когда он проснулся, разбуженный прямым солнечным лучом, проникшим в приотворенную дверь сеновала, голова спящей красавицы покоилась на его плече, пылая языками огненных прядей.
Отдохнувшая пара гнедых скакала весь день с краткой остановкой в лесу. Вевея остерегалась постоялых дворов.
- От кого ты меня хоронишь? - недоумевал Род.
- Да от обыщиков же! - втолковывала Вевея, - Я же ещё во Владимире сказывала, что молва людская не отделяет тебя от Якимки: братцы да братцы Кучковичи! Оглагольник Кузьмище Кыянин видел, как ты вышел в крови с отрубленной десницей Андреевой… Не довольно?
- Я-то тебе не вылгал, сказал всю истину, - растерялся Род.
Вевея глянула на него как на несмышлёныша:
- Мне ты не вылгал, а кату на виске вылжешь. Анбал с Кучковым зятем Петром уже взяты за приставы. Признались во всем. А виновному страшней признаваться, нежели невиновному.
- Уф! - только и мог развести руками мнимый Кучкович.
Повечер прибыли в град Москов.
- Отвези меня к Шишонке Вятчанину, - велел Род.
- Вздоры! - отказалась рыжуха. - Поедем только ко мне.
Род постучал возатаю.
- Ин, я пешком дойду. - Он отворил дверцу.
- Там тебя поймают! - округлила глаза рыжуха.
- Шишонка знает, где укрыть, - вспомнил Род подземелье.
Вевея высунулась из дверцы и приказала ехать к Вятчанину.
Остановились вблизи ворот, послали возатая за хозяином.
Тем временем отвергнутая благодетельница исходила слезьми.
- Что ж ты так зол ко мне? Отложи обиды. Оба мы сироты. Нам ли не поддержать друг друга?
Возвратился возатай, доложил, что Вятчанин третьего дня преставился, а хозяином становища стал Закно Чобот.
- Старый друг Михна! - обрадовалась Вевея. - А воевода Михн со своей подружней, моей врагиней Лилянкой, изведены по вине Кучковичей.
- Как?.. И Лиляны уж нет? - спросил в ужасе Род.
Хозяйка карети сделала знак возатаю:
- Езжай в Заяузское городище. Да шибче!
9
Предусмотрительная Вевея заблаговременно купила дом-пятистенок в тишайшем месте за рекой Яузой. Сюда с Боровицкого холма да с Кучкова поля ни частые пожары не достигали, ни княжьи да боярские кмети. Войдя в этот дом, бесприютный Род перво-наперво ощутил покой. Он исходил от большой печи вместе с берёзовой теплотой и вытными запахами, а также от кружев и вышивок на столах, поставах, настенных грядках. Скиталец не удержался, обнял хозяйку в порыве искренней благодарности, а та лукаво сощурилась, ударив пальцем по кончику его носа: «Обнятого остерегайся!..» Род отпрянул, вспомнив предпоследнюю Букалову заповедь. То, что заветные слова вырвались из уст самой же Вевеи, усугубило впечатление. И в первую же ночь, лёжа во второй избе пятистенки на высоких пуховиках пышного одра, Род уразумел, чего нужно остерегаться. Девуня[507] сошла с полатей в белых портах, в льняной срачице… Вот почему она настояла, чтоб гость занял именно это ложе, которое хоть и поздно, но с уверенностью в себе вознамерилась сделать брачным. Однако он решительно заявил, что сейчас же, ночью, покинет уютный дом, уйдёт в лес, в ту келью, откуда юношей явился в Кучково. И хозяйка вынуждена была отступить, не развязав на поняве вязаного пояса из волны[508]. Она отложила ночные приступы. Зато днём выражала любовь свою в тароватых застольях. Обедали почками заячьими на вертеле, курями солёными, двойными щами или ухой с шафраном. Вечеряли студнем из рябчиков, спинкой белорыбицы на пару, щучьими головами с чесноком, печенью бараньей просветлённой с перцем и с шафраном. А на заедки - хворост, орехи, творожная смесь, печёные ядрышки, шишки, редька в патоке. Запивали мёдом и квасом, простыми и с изюмом да с пшеном. «На что откармливаешь меня? На заклание?» - отшучивался он, отказываясь от очередного блюда. «Одолеваю немогуту[509] твою», - упрямо потчевала она. «Стою ли я такой суеты?» - вежливо отговаривался он, насыщаясь малой толикой её искусства. «Люди - дети сует, - скромно поджимала губы хозяйка. И тут же уговаривала: - Испей моего медку. Я не шептуха, влюбное зелье не подсыпаю».
Тихие летние вечера коротались у них в молчании. Вевее не удавалось завязать разговора. Устав, она умолкала, не спуская глаз с Рода. «Ты меня насквозь проглядела», - ворчал он, поёживаясь под её жадным взором. «Глазами влюбилась, глазами люблю», - вздыхала она. И, терпеливо снося его мрачную задумчивость, прибавляла: «От печалей - немощи, от немощей - смерть».
Не повторяя ночных посещений, она лишь однажды, перекрестив его на одре перед сном грядущим, шёпотом попросила: «Сделай меня непраздной[510]. - «Оставь безлепицу», - отвернулся он. И услышал спокойный голос отходящей Вевеи: «Девичье терпенье - жемчужно ожерелье»…
Днём было хорошо: Род домовничал один. Вевея чуть ли не ежедень ездила верхом то на Боровицкий холм, то на Кучково поле. Там и лабазы богаче, и вести из первых рук. От неё Род узнал, что призванные на владимирское княжение Ростиславичи не обошли и стрыев своих Михалку и Всеволода Юрьевичей. Те, возвратясь из изгнания, тоже обитали в Чернигове. Решено было поделить власть поровну. Ростиславичи даже признали старшинство Юрьевичей. И вот первые князья, Михаил с Ярополком, объявились на Боровицком холме по пути к Владимиру. Тут пришла просьба от ростово-суздальских бояр: Ярополк Ростиславич пусть едет, Михаил же Гюргич пусть обождёт в Москве. Нелепая просьба, но очёсливый Михаил сыновца[511] своего отпустил, сам же остался ждать.
Рода не столь занимала судьба князей, сколь своя собственная судьба. Жить нахлебником у Вевеи - что ни день, то стыд. Однако он продолжал откладывать свой уход. И не опасность быть взяту за приставы в качестве Кучковича удерживала его. Зрела решимость вновь побывать в Покровской обители, в последний раз повидаться с монахом-сыном. Этот поход он со дня на день откладывал. И не из боязни поимки во Владимире или по дороге, а из опасения смутить инока своим появлением. Дальнейшего жизненного пути после такого свидания он для себя не видел. Тупик!.. Куда ни кинешься мыслями, всюду тупик… А в тупик стоит ли спешить?
Он сидел у растворенного окна, видел через дорогу двуглазую хижину соседа Иевки Ручника и терялся в своих тупиковых думах. Вросшая в землю хижина Иевки - тьфу по сравнению с гордой Вевеиной избой на подклете. Бедный скорняк перед хозяйкой этой избы ломал шапку, с Панфилом же, её слугой и возатаем, крепко дружил. Вот и сейчас уселись на скамье под раскрытым окном и беседовали, не подозревая, что неотёсанные их голоса хорошо слышны Роду. Беседа шла, конечно, о делах государственных.
- Ростов ко Владимиру, как боярин к холопу. Блюдёт своё старшинство! - солидно окал волжанин Панфил.
- На чем старшие положат, на том и пригороды станут, - пустил в ход расхожую приговорку Иевко в рассуждении, где быть теперь стольному граду и сидеть князю…
Большой, трудный разговор долго не продержался.
- Опять пойдут сплетки[512] да подирушки, - подвёл красную черту Панфил.
Иевко с удовольствием опустился с неба на землю:
- Твоя воздержница, кажется, нашла древо по себе?
- Сколько ж можно девовать? - откликнулся Панфил. - Только пришлец какой-то смурной. Живёт, видать, по присловью: держи девку в тесноте, а деньги в темноте.
Иевко согласился:
- Оглядень! Знает, стало быть: рыжий да красный - человек опасный! Каждому это ведомо. Оттого и продевовала Вевея Власьевна столько лет.
- Оттого ли, не оттого… - раздумчиво произнёс Панфил. - Я уж который год, служа, наблюдаю: ей щенка, вишь, да чтоб не сукин сын!.. Огонь-баба! Манит, а не подступишься…
- Огненный жжёт, что мужик, что баба, - согласился сосед. - Не зря сказано: с рыжим дружбы не води, с черным в лес не ходи.
- Вон идёт моя госпожа с каким-то скороплешим монахом, - углядел Панфил.
Род прежде его из окна увидел Вевею, шествующую от Яузы в обществе молодого инока, на миг снявшего от жары клобук, чтобы утереть раннюю лысину.
- Сызнова расстегай с растопырей сошлись! - обратила внимание хозяйка на слугу и соседа.
Род поднялся в ожидании гостя, приводя себя в порядок. Но гость не был введён. Время шло. Монах и Вевея давно уже во дворе, а наверх не взошли. Что-нибудь случилось?
Рода как бы подтолкнуло внутреннее предчувствие и, не думая о том, нужно ли ему показываться перед прибывшими, он вышел в сени, стал сходить по ступеням и тут же остановился, услышав в подклете сторожкие голоса.
- Не приглашаю в избу, Тарасий. У меня отец Глеба Андреевича.
- Окстись, матушка! Андрей Гюргич не у тебя, а на небе.
- Стало быть, настоящий его отец. Глеб Андреевич - сын не княжеский, а боярский…
- Слухи есть, слухи есть… Веры не было…
- Отцу не надобно пока знать о сыновней смерти.
- Истинно, истинно… Не запасся здоровьем постник наш. Угодил из кельи во сыру землю на заре жизни.
Свет померк в очах Рода. Ему показалось, что он медленно-медленно опускается на пол. Отчего же последним звуком так явственно прозвучал на слуху стук тела?..
Очнулся он на широкой лавке в первой избе. Прямо напротив - печь, весь бок в петухах. Между ним и печью Вевея, смешно вытянув губы, дула в глубокое блюдце с темным отваром. Род сел, спустив ноги. Вевея - блюдце на стол и - к нему:
- Голубчик! Глазки открыл…
- Где монах? - спросил Род.
- Ох, и тяжёл ты! До одра не доволокли, здесь пришлось уложить.
Вевея поднесла блюдце, ещё источавшее пар.
- Где монах? - снова спросил Род.
- Испей целительного зелья, испей, - уговаривала она, - Не пугайся. Травка-девятисил. На ноги поднимет…
- Мне не девятисил, а стосил более потребен, - отпил Род несколько горячих горьких глотков. - Где же твой монах?
- А ушёл Тарасий, - обувала Рода Вевея, как новобрачная, - Отпустила его. Бог с ним. Ишь как напугал тебя! Пусть идёт в свою обитель.
- Хорошо ли ведом тебе этот вестоноша? Не вылгал ли? - впился Род в рыжуху глазами, полными надежды.
- Да что уж, - отвернулась Вевея. - Извещал меня о Глебушке постоянно. Все для-ради государя Андрея Гюргича, царствие обоим небесное! Вот и нынче… Худая весть, а куда же от неё денешься?
- Давно умер сын? - Род стиснул бороду в кулаке. - Отчего он умер?
Вевея гладила его голову, и потрясённый смертью сына отец чувствовал облегчение.
- Третьего дня похоронен, - поведывала она тем временем. - Уж так блюл Петров пост, так блюл! После заутрени удалился в келью, а к трапезе не пришёл. Послали послушника. Тот поцарапался в дверь, а ответа нет. Взошёл и видит: на одре только тело. Душа уже в горнем мире.
Род долго смотрел в окно, на дальнейшие хозяйкины речи не отвечал. Да и не слышал, что она говорила. Потом решительно встал, собрал свою кожаную суму - единственное имущество, оставшееся после боголюбовской татьбы, подошёл к хозяйке:
- Помозибо тебе, Вевеюшка, за хлеб-соль…
- Ты… ты это куда? - отпрянула она, словно от удара.
- Пойду занять в монастыре место сына. Иной жизни для меня нет, - попытался он объяснить.
Вевея, отскочив к выходу, раскинула руки, будто распятая на двери:
- Не пущу!
Глядя на такую прыть, то ли улыбнулся, то ли сморщился её возлюбленный:
- Успокойся, милая. Сил не хватит удержать.
- Иевку, Панфила кликну! - надрывалась женщина… И вдруг, махнув рукою, отошла, бухнулась на лавку. - Что тебе Панфил и Иевка? Щенки перед медведем!
Род, жалеючи, обнял её и снова вспомнил: «Обнятого остерегайся!» В то же время тяжко было унести свою невольную вину перед рыжухой. Ведь она всю жизнь думала о нём и ждала его. Даже презрев возраст, ради него кос не расплела!
И, едва он двинулся к двери, Вевея пала на колени, поползла, схватила полы его платья:
- Не уйди-и-и-и!..
Разжимая её пальцы, он твердил:
- Такова судьба, сестрица. Такова судьба…
Встав, намотав слезы на кулак, она спросила сухо:
- Стало быть, уйдёшь? Не пожалеешь?
- Всех жалею в этом мире, - бормотал скиталец. - И тебя жалею, и себя… Ради всех облекусь в куколь… Дозволь уйти…
Она вздохнула.
- Стало быть, не пожалел…
- Названый отец мне завещал, - твёрдо сказал Род, - «не желай жены, а желай сына». Вот за сыном и иду.
Вевея, по всей видимости успокоившись, произнесла:
- Слишком скороверты твои мысли, Родушка… Ну немного погоди. Коня хоть тебе дам в дорогу. Чтоб побыстрей добраться. Обождёшь?
Он кивнул: конечно, не расстраивать же бедную.
Мелкие оконца, глядящие на север, потемнели. Так и не успел он заменить в оконнице пузырь, пробитый из рогатки шалунами, с хохотвой снующими по улице… А ведь придётся на ночь глядя путешествовать. Зато не на своих двоих, на конских четырёх. Да и ночь в июне - хоть узоры вышивай!
Однако долго не было Вевеи…
Вот загрохали шаги. Но не её. Мужские. Множество шагов…
Род вышел в сени, не успев сообразить происходящего. И тут же тесно окружён был кметями, сверкающими бердышами, сжимающими руки за спиной сыромятным вервием.
- Пойман ты, убийца Пётр Кучков Степанов сын, князем Владимирским и Суздальским Михайлой Гюргичем! - Жестокое оповещение звучало грозным приговором.
Род не сопротивлялся. Да было бы и вовсе бесполезно. Много пришло кметей. Хотя, случись это гораздо раньше, с бородачами имел бы дело не овен, а пардус.
Вот его свели с сеней, с крыльца и повалили на телегу.
В распахнутых воротах у вереи ждала рыжуха.
- Не мне, так никому! - кликушей завопила сумасшедшая Вевея. - Самому Богу не достанешься!
Быстро потеряв её из виду, он запоздало повторял завет: «Обнятого остерегайся!»
10
Должно быть, ещё Гюргий позаботился об этом каменном узилище. Давненько подневольные кроты прорыли Боровицкий холм. Ступени тёрты-перетёрты. По уходе людей с факелом узник будто бы ослеп, оглох - такие тьма и тишина! Храпы сняты с рук. До чего же холодны мёртвые стены! В углу поганая посудина попалась под ногой. В ином углу - охапка хлеб но пахнущей соломы. Приятно было лечь на неналёжанное ложе из неё, хотя и жёстко стало тут же: с соломой поскупились.
Род призадумался о близкой смерти. Сбывалось предсказанье жертвенных костей. Сварожья воля! По памятным словам Букала и Богомила Соловья позорной будет его смерть. Он ждал её в порубе Азгут-города; затем под бичом Сурбаря, кинутый злобою Текусы в толпу полона; затем в земляной яме кутыря Ольговича; затем в амбаре под охраною двух торков, будучи распят на большом щите; затем в избе у киевской переспы, куда обманом заключил его Ярун Ничей, и… и… конечно, на столбе, где должен был сгореть во исполненье мести Владимира Давыдовича под Черниговом; и, наконец, недавно под Владимиром, когда три ката хотели умертвить его, как Бараксака бродники. Смерть многажды дразнила, как бы с наслажденьем нагоняя страх. И он боялся, хотя не очень в неё верил. А потому не так боялся, как хотелось косарихе. Теперь же верит. Но без страху. Нет, положа руку на сердце, есть страх. Сосущий страх не перед смертью, перед пытками. Их приходилось видеть, не испытывать. Теперь придётся испытать.
Удастся ли найти в себе ту крепость, что помогла достойно умереть боярину Коснятке? Казнь сама не так страшила, как бы лихо ни была придумана. В минуты казни муки коротки. При пытках же смерть будет дожидаться в стороне, не поторопится. Вот тут и продержись!..
Лязгнули засовы. Яркий факел осветил каменный свод. Род сослепу не сразу и узнал, кто перед ним. Сперва по голосу определил. О, до чего же голос добр!
- Не ожидал увидеться с тобой в темнице, Пётр Степаныч! - Боярин Якун Короб велел стражникам закрепить факел на стене, послал их вон, прикрыл за ними дверь.
- Сто раз просил тебя не называть меня Петром, - встал с соломенного ложа узник, разодрал у полы платья шов, извлёк перстень Жилотугов. - Вот…
- Знаю, знаю, - взял боярин перстень, покрутил перед глазами и не отдал. - Представлю государю моему Михайле Гюргичу. Убедит ли князя сия реликвия, не ведаю. Уж очень много оглагольников… - Боярин помолчал и досказал сурово: - Главный оглагольник Яким Кучкович. Он упорно именует тебя братом. Ну и сын его нероженный[513] твой тёзка Пётр на виске сказывал, как вы с Якимом называли друг друга братьями. И Анбал Ясин ту же молвку повторял. А уцелевший свидетель злодеяния Кузьма Кыянин видел, как ты вышел из дворца с отрубленной десницей убиенного…
- Дозволь, боярин, мне самому все рассказать тебе потонку, - попросил Род.
- С тем и навестил тебя перед застенком, - оперся на стену любитель дружеских застолий, - весь внимание.
Род исповедовался без утайки: начал со встречи, когда Андрей обрёк его на казнь, окончил пешехоженьем по Владимирке с выхолощенной сумой. И тут же на расспросы Короба назвал свои иные злоключения с тех пор, как оба не видались после битвы у Большого Рута.
- Уф, тяжело тебе досталось от покойного властителя, - сочувственно произнёс Короб. - Была причина жаждать его смерти.
Род помотал головой с видимым упрёком:
- Ведь ты, боярин, тоже натерпелся от Андрея, коли оставил его для изгнанника Михалки. Однако не желал же смерти самовластна?
Якун на это не ответил. Потрепав Рода по плечу, пообещал:
- На совесть потружусь промыслить о тебе. Не зря же била друг о друга нас судьба. Не обессудь, уж сколь смогу…
Оставшись в одиночестве, подстражник, как в лоно смерти, погрузился во тьму и тишину.
Время исчезло. По расчётам Рода, Якун Короб приходил повечер. Стало быть, поспишь - и новый день. Принесут воду и хлеб - вот утро. Потом затирку, пресную на вкус, - вот пладень. А к ночи проглоти слюну, засни - и новый день. Так он считал. Со счета сбился, перестал считать. И не расстроился. Не находил нужды вести счёт дням.
Когда опять пришёл Короб Якун, узник не встал ему навстречу, как не встал бы перед призраком.
- Совсем худшаешь тут, бедняга? - спросил боярин.
- Помозибо, не пожалуюсь, - ответил Род.
- Я трижды подступался к Михаилу Гюргичу, - поведал Короб, - предъявил ему твой перстень, - Боярин тяжело вздохнул, - Не принял князь моей заступы.
Однако Якун перстня не вернул, а Род и не спросил.
- Михалка, слава Богу, мне доверил доиск убийц Андрея Гюргича, - продолжил Короб. - Не я, так не остался бы ты здесь цел-невредим. Застенок жесточайший! Видеть, слушать не в измогу. А, да что!.. Михалка брата не любил: тот подверг его изгою, как и всех братьев. Однако народ жаждет скорого суда. И князь торопится. Его ждут во Владимире. Соперник Ярополк в Переяславле стакнулся с боярами и собирает рать. А брат его Мстислав уже в Ростове. Два Ростиславича, два сыновца, стелили мягко, а спать жёстко. Хотя в помогу Михаилу Всеволод идёт, да много ли дружины у изгоя? Кровавой будет сшибка за столицу у дядей с племянниками! Вот Михаил и льстит народу. Отверг твой перстень. Не время, дескать, и не место разбираться в сложностях. Кучковичи, и все тут. Иного люди не поймут. Так что до тла доискиваться некому. - Якун неловко замолчал, как бы устав от долгой речи. Но не снёс молчанья Рода и прибавил: - Я своей волей спас тебя от пытки, от смерти не сумел спасти. На это не достало моей воли. Прости, боярин Жилотуг, прости, ведалец Род…
- Как ты спас меня от пытки? - спросил узник.
- Подписал твоими титлами повинные листы, - прошептал Короб. - Вот все, что мог…
Род вспомнил Фёдора Дурного, когда тот спас его от казни, сдав на пытку пленом в Дикое Поле. Тут вышло все наоборот.
- Я неповинен, - поднял Род на Короба спокойный взор.
- Доказывать твою невинность - значит пытать, - напомнил Короб, вконец обескураженный. - Пытать, сам знаешь, без толку. Казнь неминуема. Зачем же тогда муки? За пустое красное словцо: «Я неповинен!..»
Род не стал спорить.
Помолчали неудовлетворённо.
- Тут приходила рыжая твоя предательница, - вновь заговорил Якун, - девка княгинина… Враг помнит её имя!.. Ну ещё с Кучкина дома знаешь ты её…
- Вевея, - подсказал Род.
- Вевея, - вспомнил Короб. - В ногах валялась у меня: спаси, не изволоча отпусти[514] преданного!.. Дура красная! Совала зелье, чтобы дал князю. Твердила, что тирлич да жабья костка смиряют гнев властей… Как же, смири попробуй, коли без гнева, по расчёту…
- Тирлич, - перебил Род, - зовётся по-иному стародубкой, норочной травкой. Её ведьмы собирают под Иванов день…
- Видать, обавница[515] эта рыжуха, - предположил Якун. Потом он крепко обнял Рода, щеку его оросил слезой. - Не ожидал, что так простимся, - бормотал давешний приятель. - В лучшем мире всего этого не будет…
Род не сразу обнаружил, что опять один. Куда-то отлучился мыслями, когда уходил Короб. Теперь же вспомнил Силку: единственный свидетель непричастности его к убийству. Силки больше нет. Да и не стали б разбираться. Князь Михалко спешит с казнью. Ростиславичи идут занять Владимир. Владимирцы хотят Михалку, законного властителя, завещанного Гюргием Ростово-Суздальской земле. Он даст покой и правду. Залогом этому - поимка заговорщиков, суд над злодеями и казнь… Род очень сожалел, что не спросил боярина, какая казнь. Гадай лежи и думай…
Он, кажется, забылся, потому что слишком скоро отворилась дверь. Принесли свет и пищу, от коей узник отказался.
Коморник подал чашу:
- Боярин шлёт тебе вино…
Род пил с надеждой на окорм, от казни избавляющий. Однако тщетная надежда! Вино наполнило живительным теплом. Чему-то радуясь, он вышел из темницы, глотнул воздуху, прищурился на солнце, сел в телегу между стражниками.
Потом охраныши сошли с телеги, подставив вязня суду толпы. На улицах глазели московляне, кидали комья грязи, замешанной в корытах, потому что была сушь. Кричали всякую безлепицу…
Лишь у заставы общий ропот перекрыл истошный вопль:
- Ро-ду-шка-а-а!.. Прости-и-и-и!..
Род не обернулся. Кричала прожитая жизнь. К ней не было желанья оборачиваться.
По Владимирской дороге везли весь день. Досужее народное судилище так залепило очи грязью, что «преступник» ничего не видел.
Уже при въезде в стольный град один из стражников отёр ему лицо… Вот миновали Волжские ворота… Вот церковь Иакима и Анны на вратах детинца… Вот последняя переспа, и Владимир позади.
А народ по сторонам обильней от версты к версте.
- Кучковичи!.. Алыры!.. Наалырничались!..
Род вспомнил: от кого-то слышал, что у Якима было много сел по реке Клязьме, подаренных Андреем Гюргичем в прибавок к владениям Кучковича на берегах Мостквы. Не оттого ль Яким склонял хозяина покинуть Киев ради Суздальской земли? На новом месте щедрые дары - в посулах, на старом месте они в руках, бросать их неразумно. Теперь к чему все скопленное, выпрошенное, выкраденное? Неосязаемо, как сладкое воспоминание, которое вот-вот погаснет… Чужды и неуместны были эти мысли. Род их отогнал.
Телега остановилась на берегу озера среди других телег с повязанными обречёнными. Род увидал Якима, Петра, Анбала и ещё каких-то незнакомцев. Моизича среди них не было. Ефрем Моизич не был привезён. Удачно скрылся? Помилован? Скорей всего, удачно скрылся.
Толпа не прекращала напирать на кметей. Связанных взводили на помост, ставили рядом. Петра, Якима и Анбала держали под руки. Запытанные не могли стоять.
Пока читались вины, Род искал глазами Якуна Короба. Вон он, склонился над носилками. А на носилках, должно быть, князь. Ни разу не доводилось Роду видеть Михалку Гюргича. И теперь не попытался разглядеть лица больного князя. Тот быстро шевелил губами, взмахивал руками, видать, спешил. В небе ни облачка, солнце - ласковей некуда, а воздух будто вздрагивал от страшного дыханья близкой грозы. Где рати Ярополка и Мстислава Ростиславичей? Сколько им поприщ до стольного Владимира?
Князь через Якуна подал знак. Первым к плахе подвели Петра. Он не издал ни звука, тупо, по-гусиному вытянул голову, и… тупой стук топора! Анбал кричал на непонятном языке. И тут же только что кричавшая его личина неладно покатилась по помосту, бритая, круглая, зрачки навыкате…
Род не видал дальнейших казней. Якима и его повели к берегу. Здесь на катках высились два короба из свежего дубового пластья. Кат подошёл к казнимым и деловито предложил:
- Проститесь…
Изуродованный пыткой лик Якима смутил Рода.
- Прости, Яким, - склонил он голову.
Из беззубого разорванного рта вместо «прости» вырвалось нечто несуразное:
- Ба-а-а-теч, жделай што-нибуч!
Что бывший ведалец мог сделать?
Якима посадили в короб первым.
- Пусть озеро Пловучее покоит грешников, - донёсся ясный голос из толпы.
Род попросил соизволения омыть лицо. Кат не ответил. Когда сажали в короб, Род не оглянулся на толпу, на низкое большое солнце, на утлый мир с берёзовым леском по окоёму. Едва освободили руки, крышка опустилась. Шипы вошли в пазы под обухами топоров. Опять темно. Не как в подземном склепе: в досках - щели. Запах свежей древесины, будто на Букаловом новце… Раздался всплеск… И домовина, неудачно спущенная, поплыла вверх дном. Едва смог перевернуться. Первая мысль - о казни голодом в плавучем коробе. Вторая - о казни утоплением: вода сквозь щели крышки быстро наполняла домовину…
Род тщательно отмылся от налипшей грязи. Нет, не освежился: слишком летняя озёрная вода тепла. Да и застарелая усталость нерастворима в теле. И не улечься, как в гробу: коротко! Только сидеть, притом чуть согнув ноги, макушкой упираясь в доску.
Берег, покрытый злорадной местью, все дальше уходил от слуха. Вот уж не слышно шума, только вода урчит, как кошка над опекаемым котёнком. Навечно убаюкает подкидыша великое лесное озерище!
А вода заметно прибывала… Когда не только стало тихо, но и темно (видимо, время - повечер), Род сидел уже по грудь в воде. А вскоре и по подбородок… Вот зыбкая поверхность пресной влаги соприкоснулась с нижнею губой… Тут не помрёшь от жажды, не Сурожское море, пей хоть все озеро!
Род вспомнил заповедь Букала, последнюю, одну из самых прежде непонятных: «Не разевай рта в воде!» Какой в ней смысл? И так, и этак судьба обрекла смерти. А надо умереть не абы как. Букал велит предаться смерти попригожу…
И смертник крепко сжал уста. Услышал из груди толчки. Грудь требовала продолжать дышать. Однако он не подчинился, с каменной стойкостью воспринял возбуянье плоти. Вода закрыла ноздри. Он пальцами сдавил их. Другой рукой зажал уста. И волновался лишь о том, что в неподвластный миг, когда ум помрачится, руки опустятся, открыв проход воде, и тело его примет вид ужасного утопленника-посинильца.
Он бился в поединке с собственной жизнью…
Ум не помрачился. Напротив, все стало ясным. Дубовую темницу уничтожил солнечный свет. Казнённый плыл без домовины, не в озере, а в небе. Озеро осталось далеко внизу, баюкая два короба. И ещё дальше, на заносчивом высоком берегу, - людный град с двумя переспами, с палишными и костровыми окрепами. Ой, что народу-то там скучилось! С внешней стороны ростовцы с суздальцами оточали крепость, подступали к стенам с передвижными вежами, делали примет… С внутренней же стороны, со стен, владимирцы встречали осаждавших кипятком, смолой, жестоко отравляя мир гарью, руганью, зловонием… Должно быть, все это внизу тянулось долго, всем стало невизмогу. Вверху иная мера времени. Род удивился, как быстро суета утихла. Нападавшие вдруг расступились. Из растворенных врат меж ними на носилках понесли князя Михалку. Он вынужден уйти. Что ожидает не устоявший под натиском соседей стольный град? Закрепятся ли в нем Ростиславичи? Возвратится ли сюда Михалка? А уж плывёт добро владимирцев в Рязань. От одолетелей, от Ярополка со Мстиславом к их вспоможеннику Глебу Рязанскому. От благодарных сыновцов к алчному стрыю…
Дальнейшую земную жизнь Род потерял из виду. Все там поблекло, умельчилось до ничтожности. Он поднял взор, взглянул перед собой. И первой увидал Улиту, простирающую руки.
«Наконец-то ты не рюмишь!» - подумал Род.
И прозвучал её ответ, подобно мысли в его душе. Голос не усталый, а задорный, не княгинин, а боярышнин: «Мне тут нечем рюмить. Все мои слезы навсегда остались там…»
Род и Улита сблизились, слились, как бы вошли друг в друга (две души - одна!) и испытали высшее блаженство, неведомое людям на земле.
О ТОМ ЖЕ СПУСТЯ ДВА ВЕКА.
Февральским утром на Соборной площади нашли труп тысяцкого московского Алексея Петровича Хвоста с явными признаками смерти насильственной. Толпы московлян ринулись изводить бояр, по общему мнению, - заговорщиков. Великий князь всея Руси, сын Калиты, Иван Иванович тем часом пребывал в Орде у хана Чанибека. Мятежники не видели отпора. Подозреваемые с жёнами, детьми бежали в княжество Рязанское…
Новгородский гость Твердило Домажирич, торговавший мягкой рухлядью поблизости от Кремника дубового, не отпёр своего лабаза в этот день. Повечер сквозь чёрный ход пожаловали к нему три верные давальца[516] - боярин Блуд, дьяк Остафей Братцов, дворник[517]-скорняк Павёлка прозвищем Мохнатка. Речь тут же занялась про убиенье тысяцкого.
- Сказывают, пострадал, как встарь Андрей Боголюбивый от Кучковичев, - передал народную молву скорняк. - Суеверные люди утверждают, будто бы на озере Пловучем близ Владимира доныне плавают тела злодеев в коробах.
Боярин Блуд его поправил:
- Сии мнимые коробы суть обросшие мхом глыбы, носимые по озеру волнами. - И обратился к дьяку: - Ты, Остафей, - книжный человек. Благоволи- ка разъяснить нам дело древнее. Известно, князь убит Кучковичами в союзе с его княгинею, а их сестрой Кучковной…
Дьяк рассказал потонку:
- Кучковна была с одним из братьев в плотском смешении. Совещалась зломыслием на господина своего. Отай вела злецов к мужнину одру…
- Я уж и не так начитан, - встрял скорняк Павёлка, - а все же знаю: о смешенье плотском не сказано у древних ничего. Позже сочинили. Просто Кучковна вознегодовала: муж перестал делить с ней брачное ложе, отдавался целиком молитве и посту…
Вскоре, проводив давальцев, Твердило проверил все засовы и вынес мысленно свой приговор случившемуся: века меняются, а события с малым разнообразием остаются те же.
ХРОНИКА СЕРЕДИНЫ ХII ВЕКА.
На Руси.
1147 г.
- усобица между Святославом Ольговичем Новгород-Северским и великим князем Изяславом Мстиславичем;
- встреча в Москве Юрия Долгорукого и Святослава Ольговича;
- убийство в Киеве Игоря Ольговича.
1148 г. - разрастание усобицы между Изяславом Киевским и Юрием Долгоруким.
1149 г.
- опустошение Изяславом земли Суздальской;
- захват Киева Юрием Долгоруким;
- союз Изяслава с венграми, богемцами и поляками.
1150 г.
- осада Луцка;
- возвращение Изяслава в Киев;
- битва с галичанами на берегах Стугны;
- уход Изяслава из Киева.
1151 г.
- новый поход Изяслава на Киев;
- бегство Юрия Долгорукого в Остёр;
- битва на реке Руте;
- уход Юрия в свой удел.
1152 г. - неудачный поход Юрия Долгорукого на юг.
1153 г. - смерть Галицкого князя Владимирка.
1154 г. - кончина великого князя Изяслава Мстиславича.
1155 г.- Юрий Долгорукий - великий князь Киевский.
1156 г.- тишина на Руси.
1157 г. - кончина Юрия Долгорукого.
1158 г. - на великокняжеском столе - Ростислав Мстиславович.
1169 г. - взятие и опустошение Киева войсками Андрея Боголюбского.
1170 г. - неудачная осада Великого Новгорода войсками Боголюбского.
1173 г. - неудачная осада Вышгорода войсками Боголюбского.
1174 г. - убиение великого князя Андрея в Боголюбове.
1175 г. - Михаил Юрьевич наследует великое княжение Андреево.
В Зарубежье.
1138 - раздел Польши Болеславом III Кривоусым между своими сыновьями.
1139 - борьба сыновей Болеслава Кривоусого, торжество Болеслава IV Кудрявого.
1142 г. - поражение шведов в морской битве с заграничными купцами.
1143 г. - поход карелы на емь.
1147 г.
- второй крестовый поход французского короля Людовика VII и германского императора Конрада III;
- завоевание шведами значительной части Финляндии;
- неудачный поход немецких князей на земли прибалтийских славян.
1148 г. - восстание крестьян в Польше.
1150 г. - торжество христианства в Швеции при Ерихе Святом.
1151 г. - война венгерского короля Гейзы с Византией.
1152 г.- вступление на германский престол Фридриха I Барбароссы.
1154 г.- вступление на английский престол Генриха II Плантагенета.
1155 г.- убийство в папской тюрьме демократического вождя римских горожан Арнольда Брешианского.
1160 г.- гибель князя прибалтийских славян Никлота в борьбе с немецкими завоевателями.
1164 г.- неудачный поход шведов на Ладогу.
1165 г.- вступление на престол «великого жупана» Стефана Неманя, объединителя Сербии.
1170 г. - убийство архиепископа Кентерберийского Фомы Бекета по тайному приказу короля.
1171 г. - завоевание Ирландии английским королём Генрихом II.
1176 г. - поражение Фридриха Барбароссы в Италии.
СЛОВАРЬ ЗАБЫТЫХ ВЫРАЖЕНИ.
АГАРЯНЕ - так православные называли всех неверных.
АГЛЯНЕ - англичане.
АЙРАН - разболтанная в воде простокваша.
АКСАМИТ - вид бархата.
АЛЫРНИЧАТЬ - жить обманом; алыра - майданщик, обыгрывающий в кости.
АРГАЛ - топливо из навоза.
АРЗИ - хмельной напиток из простокваши.
АРКАТЬСЯ - ругаться.
БАЗЫГА - старый хрыч.
БАЙБАРА - пустомеля.
БАЛАХЛЫСТ - шлёндра, потаскун, тунеядец.
БАРДАДЫМ - верзила.
БАРМИХА - шуба с оплечьями; от слова «бармы» (оплечье).
БАТЫРЬ - силач, молодец.
БАХТЕРЕЦ - доспех из продолговатых плоских полуколец и блях, нашитых на верхнее платье.
БАХТУРИТЬ - забивать голову чем-либо, пичкать.
БЕБЕНЬ - набитый мешок.
БЕЗ ПОСТАВА - беспричинно, неуместно.
БЕРКОВЕЦ - десять пудов.
БЗДЮХ - вонючий зверёк, хорёк.
БЗЫРЯ - сорванец.
БЛАФАРД - альбинос.
БЛЯБНУТЬ - дать оплеуху.
БОЛЬШОЙ ПОЛК - главные силы.
БОРКУНЫ - бубенцы.
БОЯРЕ - старшая дружина, ГРИДИ - младшая.
БОЯРСКИЙ, КНЯЖОЙ МЁД - хмельные напитки высшего качества.
БЫРНАСТЫЙ - рыже-бурый.
В ОДНОДЁРЖКУ - дёрнув один раз.
В ОДНОДЫШКУ - на одном дыхании, одним духом.
ВВОДНИЦА - женщина, принятая в дом.
ВДАВНИ - давно, с давних пор.
ВЕЖИ - жилища кочевников, а также башни или передвижные крепостные сооружения.
ВЕКША - мелкая кожаная монета.
ВЕРВИЕ - верёвки, путы.
ВЕРЕЯ - столб, на который навешивается створка ворот.
ВЕРТ - очень мелкая монета.
ВЕРШИЩЕ - место рыбной ловли.
ВЕСТОНОША - разносчик известий, вестовщик.
ВЕТХИЕ КУНЫ - ходившие в то время деньги старого образца.
ВЕЧНИК - гражданин с решающим голосом на вече.
ВЕЧНЫЙ КОЛОКОЛ - сзывающий на вече.
ВЗАБЫЛЬ - в самом деле.
ВЗЯТЬ КОПЬЁМ - взять приступом.
ВЗЯТЬ НА ЛЮБОК - однократно.
ВИРА - штраф за убийство (80 гривен).
ВИСЛЁНА - женщина дурного поведения.
ВИСЛЯЖНИЧАТЬ - докучать ласками.
ВИСОПЛЯС - акробат.
ВЛЕПОТУ - достойно, подобающим образом.
ВНЕВЕДЫ - по неведению.
ВОЗАТАЙ - управляющий лошадьми, кучер.
ВОЗБУЯНИЕ - непокорность, противодействие.
ВОЗГРИ - сопли.
ВОИСТЫЙ - любящий повоевать.
ВОЛНА - шерстяная пряжа.
ВОЩИННИКИ - торговцы воском.
ВРЕСЕНЬ - сентябрь.
ВСУЕ - напрасно.
ВЫЛГАТЬ - обмануть.
ВЫМОЛ - мельница.
ВЫТНЫЙ - аппетитный. ВЫТЬ - аппетит.
ВЯЗЕНЬ - арестованный.
ГАДОЕД - поедатель гадов (ругательство).
ГАДУЕТ - страдает рвотой.
ГВОР - пузырь.
ГЛОТА - толпа.
ГЛУМОТВОРЕЦ - артист, скоморох.
ГЛУМЫ - игры, забавы.
ГЛУШИЦА - глухой, непроточный рукав реки.
ГНУСИНА - гадина.
ГОЛБЕЦ - помост между печью и полатями.
ГОЛОВНИК - убийца.
ГОЛУБОЙ СКУРЛАТ - дорогая завозная цветная ткань.
ГОРЛАТНАЯ ШАПКА - из тонкого меха шеи животного, высокая, прямая, с тульей, расширяющейся кверху.
ГОРОДНИЦЫ - срубы, набитые землёй, стены из таких срубов.
ГОРЯСЕР - убийца святого князя Глеба.
ГОСПОДСКИЕ ДНИ - церковные праздники.
ГОСТИ - купцы.
ГРЕЧНИКИ - греческие купцы.
ГРИВНА, КУН, РЕЗАНЬ - Четверть гривны серебром; гривна - 25 кун или 50 резаней.
ГРИВНАЯ КОСИЦА - отборный волос из конских грив.
ГРОБЛЯ - крепостной ров.
ГРЯДКА - полка над лавками вдоль стены.
ГУДЦЫ - музыканты.
ГУЛЯМЫ - слуги, телохранители.
ГУСЯТНЯ - княжеский или боярский караул.
ДАВАЛЬЦЫ - те, кто держится в покупках и заказах одной знакомой лавки.
ДАТЬ ПЛЕЧА - обратиться в бегство.
ДАТЬ ПОТЯПЫШ - ударить.
ДВОРНИК - снимающий для работы помещение на чужом дворе.
ДВУХПРЯСЕЛЬНЫЙ - двухэтажный.
ДЕВИЙ ДОМ - увеселительное заведение.
ДЕВУЛЯ - принимающий женские обычаи, ухватки.
ДЕВУНЯ - старая дева.
ДЕВЧИЩА - заматерелая девица.
ДЕВЧУР - волокита, девичий хвост.
ДЕВЬЯ МАТЬ - мать, у которой одни дочери.
ДЕМЕСТВЕННИК - мастер старинного церковного напева.
ДЕСЯТСКИЙ - полицейский чин.
ДОЖДЕВНИЦА - дождевая вода.
ДОИСК - расследование.
ДОЛГАРИ - болотные сапоги с высокими голенищами.
ДОЛЮБИ - вдоволь, сколько угодно.
ДОСТОИТ - надлежит.
ДОСТРЕЛ - дальность полёта пущенной из лука стрелы как единица расстояния.
ДРЕСВА - крупный песок, каменная крошка.
ДРУЖНИЦА, ДРУГИНЯ - любовница.
ДРУЖЬЁ - товарищи.
ДРУЖЬЯ - чета любовников.
ДУРОСВЕТ - обманщик.
ЕЛАНЬ - обширная прогалина в лесу.
ЕПИСТОЛИЯ - послание.
ЕПИТРАХИЛЬ - одно из облачений священника, надеваемое на шею.
ЖАЛЕВОЙ - траурный.
ЖЕНИМА, ЖЕНИМАЯ - наложница, любовница.
ЖЕНИМОЧИЩ - сын наложницы.
ЖЕНОБЕСИЕ - непомерное женолюбие.
ЖЕНСТВО - брачное состояние.
ЖИСТОЧКА - любезный, желанный.
ЖИТЬ ГОВЕЙНО - поститься.
ЗАБОРОЛО - защищённая бревенчатым бруствером площадка, идущая по верху крепостной стены.
ЗАДЕЦ - отхожее место.
ЗАЖИТНИКИ - фуражиры.
ЗАЗЫБАТЬСЯ - заколыхаться.
ЗАКОМОРА - кровельное покрытие с дуговым очертанием.
ЗАМУМРИТЬСЯ - сидеть безвыходно, запереться.
ЗАМУХОРИТЬСЯ - замараться, запылиться.
ЗАМЯТНЯ - смута.
ЗАНАПАСТИТЬ - обижать нападками, сживать со свету.
ЗАНОЖИТЬ - привязать лошадь за ногу.
ЗАПОХАЖИВАТЬ - ходить взад-вперёд.
ЗАСАДА - гарнизон крепости (а также скрытое войско).
ЗАСЕДКА - стойка в корчме.
ЗАСЕСТЬ - занять чужое место.
ЗАСИДУХА - засидевшаяся в девках.
ЗАТВОРНИЦА - келья затворника.
ЗДАТЕЛЬ - зодчий.
ЗЕЛЕЙНИК - лечащий, чарующий травами.
ЗЕЛЕНОМУДРОСТЬ - незрелое мудрствование.
ЗЕЛЕНЯК - зеленоватый гад, лягушка, ящерица.
ЗЕНЬДЕНЬ - хлопчатобумажная ткань.
ЗЕРЦАЛО - зеркало, а также доспех, средний между панцирем и кольчугой.
ЗЛУНИЦА - болезнь типа лихорадки.
ЗМЕЕЦ - узор.
ЗНАДЕБКА - родинка.
ЗОБАТЬ - есть.
ЗОБНИЦА - мера сыпучих тел, лукошко берестяное, лубочное.
ЗОСКА - мальчишечья игра, когда свинец с меховым лопушком подбрасывают ногой.
ЗЫБЕЛЬ - топкое место.
ИБЕРИЯ - древнее название Испании.
ИЗВОЛ - желание, волеизъявление.
ИЗГАРЬ - то, что остаётся после выгорания масла.
ИЗДИРКИ - обноски, рвань.
ИЗЛЮБ - обоюдное желание (напр.: по излюбу).
ИЗЛЮБИТЬСЯ -- истощиться.
ИЗМЁТ - изгнание.
ИМПОЛА - крытая торговая улица.
ИМЧИВЫЙ - мастер находить, отнимать.
ИСПРОВЕЩИТЬСЯ - подать голос.
ИСПРОКУДИТЬ - навести порчу.
ИСПЫТАТЬ ПЛЕЧ - помериться силой.
ИСТОБКА - отапливаемая комната в доме.
ИСТОЧЕНЬ - мужской пояс.
ИЩИК - ищущий кого-либо, что-либо.
ЙУРА - Югра, земля по обоим склонам Северного Урала и в низовьях Оби.
КАБА - нарядный кафтан восточной знати.
КАВАРДАК - кушанье из мелких кусков.
КАЗАН-КАБАВ - жареная крошеная баранина.
КАЛДА - загон для скота.
КАЛИГИ - обувь странника.
КАЛЬША - конский подножный корм.
КАМКА - шёлковая ткань.
КАНАЗ - князь.
КАПТАН - зимний крытый возок.
КАРАКУЛЫ - тёмные подпалины.
КАРАЛЫК - харалуг, булатная сталь.
КАФИР - неверный.
КЕЛЬЯ - бедная одинокая хижина.
КИКА - головной убор замужней женщины.
КИСЛОЩИ - прохладительный напиток из ячменного солода и пшеничной муки.
КЛИКУН - глашатай.
КЛЮКА - кривизна.
КМЕТИ - воины, дружинники.
КНЯЖЩИНА - владения князя.
КОЛОНСКАЯ ВОДИЦА - одеколон.
КОМОНИ - так называли в старину коней. КОМОННИК - лошадник.
КОНЕЦ - древний Новгород делился на несколько частей, которые назывались концами.
КОНЧАНЕ И УЛИЧАНЕ - жители концов и улиц.
КОРБА - трущоба в лесу.
КОРЗНО - верхняя одежда в виде плаща.
КОРКИН - рак.
КОРКОТА, КОРЧЕТА - болезнь, сопровождаемая корчами, судорогами.
КОСТЁР - укрепление.
КОТОРИТЬСЯ - спорить, враждовать.
КОШТЕИ - обозная прислуга (от слова «кошт»).
КОШУЛЯ - лёгкая верхняя одежда.
КОЩЕЙ - пленник, раб.
КРАСИК - любитель покрасоваться, фат.
КРАСНЫЕ ПЛОТНИКИ - краснодеревщики.
КРАТКОПОЛИЕ - мода на короткую одежду.
КРЕНОВАТЫЙ - гнутый.
КРУЖАЛО - питейный дом.
КУББА - дом.
КУЗЛО - ковка; КУЗЛА НЕТ - не работают.
КУКОЛЬ - монашеский головной убор.
КУНЬИ МОРДКИ - вид кожаных денег.
КУТЫРЬ - толстый человек.
КУФА - бочка.
КУХАРЬ - повар.
КЫПЧАКИ - половцы.
ЛАЗУТНИЧАТЬ - подслушивать, подсматривать, шпионить.
ЛЕПЕСТ - лоскут, повязка, женский головной убор.
ЛЕПИТЬ - насильственно вкладывать идеи, понятия.
ЛЕЧЕЦ - лекарь, врач.
ЛИПЕЦ - июль.
ЛОВЧИВЫЙ - мастер ловить.
ЛОВЫГА - плут.
ЛОГОЗА - вздорный, спорщик.
ЛОХАЛИЩЕ - пасть.
ЛУХМАН - простоватый, нерасторопный.
ЛЮБЖА - приворотное зелье.
ЛЮТЫЙ - февраль.
ЛЯПУН - плохой мастер.
ЛЯРВА - маска, образина.
МАТЕРНИК - любитель ругаться матом.
МЕХОНОША - чернорабочий, таскающий мешки.
МЕХОРЕЗ - грабитель, отрезающий мешки с деньгами.
МЕЧНИКИ, СЕДЕЛЬНИКИ, КОШТЕИ (ОТ СЛОВА «КОШТ») - обозная прислуга.
МЛОСТНО - скучно.
МЛОСТЬ - слабость.
МЛЯВЫЙ - слабый.
МОЛВКА - оговор, обвинение.
МОРШНИ - вид тяжёлой кожаной обуви.
МУЖЛАТКА - мужевидная женщина.
МУРАВЛЕНЫЙ - покрытый глазурью.
МУХОЯР - хлопчатобумажная ткань с шерстяной или шёлковой нитью.
МУШЕРМА - сосуд для питья с носком и ручкой.
МЫЗА - отдельный загородный дом.
МЫТЕЛЬ - навар душистых трав, употребляемый для мытья.
МЫТНИК - сборщик податей.
НА ПОТОК - на расхищение.
НАБАБИТЬ - нарожать.
НАДИМ - приближённый царя.
НАЛОГА - тягость, осложнение.
НАРУЧНИ - браслеты.
НАУЛЁЖЬ - спать крепким сном, без просыпу.
НЕ ИЗВОЛОЧА ОТПУСТИТЬ - без проволочки.
НЕБО ЗАМОЛАЖИВАЕТ - заволакивает облаками.
НЕВЕДОК - не знаток.
НЕВЕДРИЕ - ненастье.
НЕКОВАНЬ - не подковав коня.
НЕЛЕПНО - неподобающим образом.
НЕМОГУТА - бессилие, слабость телесная.
НЕПЛОД - мужчина, у которого нет детей.
НЕПРАЗДНАЯ - беременная.
НЕПРЯ - лентяй, неумеха.
НЕПУТЬМА - отсутствие дорог.
НЕРОЖЕННЫЙ СЫН - зять.
НЕСТОРОЖА - непринятие мер к охране.
НЕТЧИК - отсутствующий.
НЕЧЕВУХА - никчёмный.
НЕЯСЫТЬ - прожорливый, жадный.
НОВИК - новый человек.
НОВОУК - недавно начавший обучение.
НОВЦО - расчищенный из-под леса участок.
НОГАТА - двадцатая часть гривны.
НОГОВИЦЫ - чулки суконные, вязанные из овечьей шерсти.
НОРОВНИК - пособник.
НОТАРЬ - писец, секретарь.
НУКЕР - отрок при господине, телохранитель.
НЮХАЛА - лазутчик, ищущий добычу.
ОБАВНИЦА - колдунья.
ОБЕЛЬНЫЙ - заслуживший свободу.
ОБЕРУЧЬ - обеими руками.
ОБОНЕЖЦЫ, ЮГОРЩИНА - прокладывающие пути на север.
ОБЪЕЗДОК - только что объезженный конь.
ОБЪЯРЬ - плотная шёлковая ткань.
ОБЫЩИК - производящий сыск, дознание.
ОГЛАГОЛЬНИК - обвинитель.
ОГЛАШЕННЫЕ - готовящиеся принять святое крещение.
ОГЛЯДЕНЬ - слишком осмотрительный человек.
ОГНИЩАНЕ - землевладельцы, зажиточные люди.
ОГОРЛИЕ - ожерелье (в иных случаях - ошейник).
ОД - невесомое вещество, сила, магнетизм.
ОДНОРЯДКА - однобортная долгополая верхняя одежда без воротника.
ОДРИНА - спальная комната.
ОКАРАЧУНИТЬСЯ - погибнуть; задать карачун - убить.
ОКОРМ - отравление.
ОКСТИТЬ - осенить крестным знамением.
ОНАГР - дикий осёл.
ОНОМНЯСЬ - позавчера, третьего дня.
ОПАНКА - деревянная чашка.
ОПЕРЁННЫЙ - ограждённый перилами.
ОПОЛОХНУТЬСЯ - испугаться.
ОПОЧИНУТЬСЯ - лечь спать.
ОПРЯНУТЬСЯ - приодеться.
ОСКАЛИНА - голое, ободранное место.
ОСКОМЫГА - зубоскал.
ОСЛОПЬЕ - колья, дубины, палки.
ОТАЙ - секретно.
ОТОЧЕНИЕ КРЕПОСТИ - обложение её со всех сторон.
ОТРОК - служитель (княжеский, царский отрок).
ОТЧИЧ - наследник.
ОХРЕБТАТЬ - овладеть.
ОЧЕРВЛЕНИТЬСЯ - окровавиться.
ОЧЕСЛИВО - вежливо, учтиво.
ОЩЕУЛ - зубоскал.
ПАВОЛОКА - бумажная или шёлковая привозная дорогая ткань.
ПАНЁВА, ПОНЯВА - юбка, нижняя рубашка.
ПАНФИРЬ - рысь.
ПАСЫНКИ - боярские отроки.
ПЕРЕКЛЮКАТЬ - обмануть.
ПЕРЕЛАДЕЦ - род дудки.
ПЕРЕПАСТЬСЯ - испугаться.
ПЕРЕСПА - городской вал.
ПЕРСТЯНКИ - перчатки.
ПЕСТРЯДЬ - ткань из крашеной основы и белого утка или наоборот.
ПИПЕЛА - свирель, флейта.
ПИПЕЛОВАНИЕ - игра на музыкальных инструментах.
ПИРНИК - распорядитель на пиру.
ПИСК - музыка.
ПИЮХА - пьяница.
ПЛАСТЬЁ - тёсаные бревна из горбылей.
ПЛАТЧИК - носовой платок.
ПО ПОСТАВУ - по порядку.
ПОГАРЬ - выгоревшее место.
ПОГЛАДКУ - не ссорясь.
ПОД СПУД - в заточение.
ПОДБАЯТЬ - уговорить.
ПОДВАЖНИК - воришка.
ПОДВЯЗЬЕ - местность, примыкающая к зарослям вяза.
ПОДДЫМЕНЬЕ - пора топки печи в курной избе, когда она наполняется дымом.
ПОДПТЕНЬ - приданный в помощь, подчинённый.
ПОДСОЛНЕЧНИК - зонтик.
ПОЗОВНИК - курьер с вызовом.
ПОКУТА - служение по покойнику, панихида.
ПОЛПЯТА - четыре с половиной.
ПОЛТРЕТЬЯ - два с половиной.
ПОЛЧНЫЙ РЯД - три части боевого построения: чело и два крыла.
ПОНИТОК - ткань на нитяной основе.
ПОНКА - верхняя одежда в виде накидки.
ПОНУКАЛЬЦЕ - лёгкий хлыст.
ПООБИЛУ - вдоволь, в изобилии.
ПОПРИЩЕ - дневной переход или путевая мера (ок. 1,5 км).
ПОРАМНИЦА, ПОРФИРА - царское наплечное украшение и пурпурная мантия.
ПОРЕКЛО - второе имя.
ПОРОБЧЕ - обращение к парню, то же, что парубок.
ПОРТЯНАЯ - грубая, пеньковая, посконная.
ПОРУБ - земляная тюрьма.
ПОСИДЕЛЕЦ - продавец за стойкой.
ПОСЛУГА - поручение.
ПОСПОЛУ - вместе.
ПОСТРИГАЛЬНОЕ - плата за стрижку.
ПОСТРИЗАЛО - инструмент парикмахера.
ПОСЯГ - интимная связь, супружеские отношения.
ПОТОНКУ - подробно, детально.
ПРИСТАЛОЙ - приставший к кому-нибудь, прилепившийся.
ПРОКУДА - пакостник, бедокур.
ПРОКУЛИКАТЬ - пропить.
ПРОЛАГАТАЙ - лазутчик, соглядатай.
ПРЯ - спор, пререкания.
РАМЕНЬЕ - лес рядом с полем.
РАСПАШНОЙ ОХАБЕНЬ - одежда из лёгкого сукна.
РУКОТЁРНИК - полотенце.
РЫНДА - телохранитель.
РЫПАТЬ - ворчать, гневаться.
РЮМИТЬ - лакать (слёзные или плачевные сосуды древних славян именовались рюмками).
РЮХА - свинья.
САЙДАК, СААДАК - лук с налучником и колчан со стрелами (в наборе).
САМОСТЬ - самостоятельность, независимость.
СБИТЬ В МЯЧ - увлечь за собой врага и напасть из засады.
СВАРИТЬСЯ - ссориться.
СДЕЛАТЬ ПРИМЁТ - обложить горючим деревом стены.
СЕЛЬГА - мелкий лиственный лес.
СКОРОВЕРТО - опрометчиво.
СКУДЕЛЬНИЦА - место погребения.
СЛЮБОМ - полюбовно, миролюбиво.
СМЕТИТЬ - сосчитать.
СМУРНОЕ СУКНО - самотканое, из тёмной шерсти.
СНАДОБИЦА - лечебная склянка, сосуд.
СОБОРОВАТЬ - совещаться (собор), а также совершать обряд елеопомазания над тяжелобольным.
СОБОРОВАТЬСЯ - принять перед смертью елеопомазание.
СОВСЕЛЬНИК - поселившийся с другим в одном месте.
СОЧИВО - пища постная: кашица и овощ.
СПЕНЬ СПНЁМ - сонный, заспанный.
СПЛЕТКИ - ссоры.
СРАЧИЦА - длинная рубашка.
СТАВЕЦ - точёная деревянная чашка.
СТАНОВИЩЕ - постоялый двор, гостиница.
СТЕРВЕНИК - самый большой, плотоядный медведь.
СТЕРВО - падаль.
СТОРОЖЕВОЙ ПОЛК - арьергард.
СТОЯЛАЯ УТВАРЬ - мебель.
СТРЕЖЕНЬ - середина.
СТРЫЙ - дядя.
СТУПЕНЦЫ - домашняя обувь.
СТУПЬ - самая тихая походка.
СУГОН - погоня.
СУЛИЦА - короткое метательное копье.
СУМНЫЕ, ТОВАРНЫЕ КОНИ - вьючные, обозные.
СУНДОЛОЙ - вдвоём на одном коне.
СЪЕДНИК - сутяга, жалобщик.
СЫНОВЕЦ - племянник.
ТАВЛЕИ - особая игра в кости на специальной доске.
ТАИМНИЧАТЬ - секретничать.
ТЕРЛИК - кафтан до пят с короткими рукавами, приталенный, с застёжкой на груди.
ТЕСНОТА - заточение.
ТИУН - приказчик, управитель (тиун дворский).
ТЛО - основание, дно (напр.: сгорел дотла).
ТОЛПЫГА - лезущий в толпу.
ТОРЧИН - представитель племени торков.
ТОЧИТЬ ЛЯСКАЛЫ - болтать попусту.
ТРАВЕНЬ - май.
ТРИГОЖАНЕ, КОЛОМЛЯНЕ, БЕРЕЖАНЕ - жители соответствующих улиц.
ТРОПОТЬ - сбивчивая нарысь, мелкий перебой.
ТУГА - горе, кручина, печаль.
ТУРСУК - малый кожаный мех.
ТУТ ЕМУ И СЛАВУ ЗАПОЮТ - о наступлении смерти.
ТЯНУТЬ ЗАДНИЦУ - отставать.
УВЫРКНУТЬСЯ - оглянуться.
УКРЮК - аркан, повязанный на шест.
УРАЗ - удар, поражение; УРАЗНАЯ - ушибистая.
УРИМ КРИЧАТЬ - кричать "ура".
УРОЕМ - с криком «ура».
УСОВЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ ГРЕБЕНЬ - дорогой гребень из китового уса.
ФЕЛОНЬ - риза священнослужителя.
ФЕРЯЗЬ - распашная одежда без воротника и перехвата.
ФИАЛ - чаша, кубок.
ХАЗУН - тщеславный, надменный.
ХАЙДУК - крикун, нахал.
ХАЛАБРУЙ - большой, нескладный человек.
ХАЛДЫГА - наглец.
ХАЛТУГА - хапун, алчный человек.
ХАЛУДОРА - шваль, оборванцы, негодяи.
ХАЛЯВА - неопрятный, дрянной человек.
ХАМКА - собака.
ХАНАНЫГА - праздный шатун по угощениям.
ХАНИЧ - сын хана.
ХАНЬГА - камыш, тростник.
ХАПАЙЛА - обирала, грабитель.
ХАРАЛУГ - цветистая сталь, булат.
ХАРАПУГА - нахал, дерзкий человек.
ХАРЧИТЬ - хрипло дышать.
ХВАТАЛО - вор, тот, кто хватает.
ХВАТОВЩИНА - награбленное.
ХИСМЕ - имя.
ХЛЮЗДА - плут, мошенник.
ХРАПЫ - путы.
ХРЕСТЬЧАТОЙ - цепь, рисунок которой образует соединение мелких золотых крестиков.
ЦВЕТЕНЬ - апрель.
ЧАГА - пленница, превращённая в наложницу, жену.
ЧАМРА - морок, сумрак, мокрый снег с туманом.
ЧАНГ - струнный ударный музыкальный инструмент.
ЧЕБУРАК - тяжёлая свинцовая гиря, которую носят на ремне.
ЧЕМЕРА - одуряющий табак из воробьиной гречихи.
ЧЕРВЕНИЦА - красильное растение.
ЧЕРВЕЦ - июнь.
ЧЕРВЛЕНЫЙ - багряный.
ЧЕРЕВЬЯ ШАПКА - шапка из подбрюшного меха.
ЧЕРНЕДЬМУЖИКИ - государственные хлебопашцы.
ЧЕРНИЗИНА - предмет, чернеющий вдали.
ЧЁРСТВЫЙ КВАС - кислый (в противоположность сладкому).
ЧИСЛОЛЮБЕЦ - математик.
ЧМУР - хмель, одуренье.
ЧМУРИЛА - шутник, проказник.
ЧМЫРКНУТЬ - выпить.
ЧУВАХЛАЙ - невежа, грубиян, неотёсанный.
ЧУДИНЦЫ - торгующие с Прибалтикой.
ШАЛЫГА - плеть, кнут.
ШАНЯВА - разиня.
ШАНЯМАНЯ - кое-как.
ШЕЛЕПУГИ - плети с металлическими наконечниками.
ШЕСТОКРЫЛ - таблица для гадания по знакам зодиака, по звёздам.
ШИБАЙЛА - буян, драчун.
ШИКАН - придира.
ШИЛЬНИК - мелкий плут.
ШТЕЦИНЦЫ - торгующие с Польшей.
ШТУКОВАТЫЙ - хитрый.
ЩАП - щёголь.
ЮРИТЬ - суетиться.
ЯПАНЧА - длинное верхнее платье без рукавов.
ЯТКА - прилавок под навесом.
ЯТРЁБА - мошонка.
ЯУРТ - холодный овечий варенец, заквашенный сметаной.
ЯХНУТЬ - осесть, съёжиться.
ЯЧАТЬ - жалобно стонать.
ЯШНИК - пленник.
[1] Пояснения старых слов даны постранично и повторены в конце книги. (Прим. автора.) ВЕКША - мелкая кожаная монета.
(обратно)[2] КЕЛЬЯ - здесь: бедная одинокая хижина.
(обратно)[3] ДОЛГАРИ - болотные сапоги с высокими голенищами.
(обратно)[4] ДОСТРЕЛ - дальность полета пущенной из лука стрелы как единица расстояния.
(обратно)[5] ПЯТНАДЦАТЫЙ ЧАС - дня в конце июня - примерно семь часов вечера, т.к. счёт дневного времени вёлся от восхода солнца, а ночного - после заката.
(обратно)[6] ГЛУМЫ - игры, забавы.
(обратно)[7] ЛЕПЕСТ - лоскут, повязка, женский головной убор.
(обратно)[8] ИМПОЛА - крытая торговая улица.
(обратно)[9] НОВОУК - недавно начавший обучение.
(обратно)[10] КОНЕЦ - древний Новгород делился на несколько частей, которые назывались концами.
(обратно)[11] ПОРЕКЛО - второе имя.
(обратно)[12] ЗЫБЕЛЬ - топкое место.
(обратно)[13] ПОСЯГ - интимная связь, супружеские отношения.
(обратно)[14] ЛЯРВА - маска, образина.
(обратно)[15] ЛУХМАН - простоватый, нерасторопный.
(обратно)[16] КОРКИН - рак.
(обратно)[17] РЮМИТЬ - лакать (слезные или плачевные сосуды древних славян именовались рюмками).
(обратно)[18] ПОДВЯЗЬЕ - местность, примыкающая к зарослям вяза.
(обратно)[19] ГЛУШИЦА - глухой, непроточный рукав реки.
(обратно)[20] НЕПУТЬМА - отсутствие дорог.
(обратно)[21] НОВЦО - расчищенный из-под леса участок.
(обратно)[22] ПЛАСТЬЁ - тесаные бревна из горбылей.
(обратно)[23] ПОДДЫМЕНЬЕ - пора топки печи в курной избе, когда она наполняется дымом.
(обратно)[24] ДРЕСВА - крупный песок, каменная крошка.
(обратно)[25] КИСЛОЩИ - прохладительный напиток из ячменного солода и пшеничной муки.
(обратно)[26] КМЕТИ - воины, дружинники.
(обратно)[27] НЕВЕДРИЕ - ненастье.
(обратно)[28] ИЗВОЛ - желание, волеизъявление.
(обратно)[29] ПОРАМНИЦА, ПОРФИРА - царское наплечное украшение и пурпурная мантия.
(обратно)[30] ВРЕСЕНЬ - сентябрь.
(обратно)[31] ИЗГАРЬ - то, что остается после выгорания масла.
(обратно)[32] ИЗМЁТ - изгнание.
(обратно)[33] ЧЁРСТВЫЙ КВАС - кислый (в противоположность сладкому).
(обратно)[34] ЗМЕЕЦ - узор.
(обратно)[35] МУРАВЛЕНЫЙ - покрытый глазурью.
(обратно)[36] ЗАКОМОРА - кровельное покрытие с дуговым очертанием.
(обратно)[37] ГРИВНА, КУН, РЕЗАНЬ - Четверть гривны серебром; гривна - 25 кун или 50 резаней.
(обратно)[38] ГРЕЧНИКИ - греческие купцы.
(обратно)[39] КУФА - бочка.
(обратно)[40] ГЛОТА - толпа.
(обратно)[41] ОТРОК - здесь: служитель (княжеский, царский отрок).
(обратно)[42] СЪЕДНИК - сутяга, жалобщик.
(обратно)[43] ТЛО - основание, дно (напр.: сгорел дотла).
(обратно)[44] ОГНИЩАНЕ - землевладельцы, зажиточные люди.
(обратно)[45] ИСТОБКА - отапливаемая комната в доме.
(обратно)[46] ОДРИНА - спальная комната.
(обратно)[47] ВЛЕПОТУ - достойно, подобающим образом.
(обратно)[48] ЛЕЧЕЦ - лекарь, врач.
(обратно)[49] ИСПРОКУДИТЬ - навести порчу.
(обратно)[50] МЫТЕЛЬ - навар душистых трав, употребляемый для мытья.
(обратно)[51] ТИУН - приказчик, управитель (тиун дворский).
(обратно)[52] ОБЫЩИК - производящий сыск, дознание.
(обратно)[53] ЗАДЕЦ - отхожее место.
(обратно)[54] ФЕРЯЗЬ - распашная одежда без воротника и перехвата.
(обратно)[55] НЕВЕДОК - не знаток.
(обратно)[56] ОТЧИЧ - наследник.
(обратно)[57] ПОРУБ - земляная тюрьма.
(обратно)[58] ВЕРЕЯ - столб, на который навешивается створка ворот.
(обратно)[59] УСОВЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ ГРЕБЕНЬ - дорогой гребень из китового уса.
(обратно)[60] ВВОДНИЦА - женщина, принятая в дом.
(обратно)[61] КОРЧЕТА - болезнь, сопровождаемая корчами, судорогами.
(обратно)[62] ЗЛУНИЦА - болезнь типа лихорадки.
(обратно)[63] КАМКА - шелковая ткань.
(обратно)[64] ОКОРМ - отравление.
(обратно)[65] ПОЗОВНИК - курьер с вызовом.
(обратно)[66] ЛАЗУТНИЧАТЬ - подслушивать, подсматривать, шпионить.
(обратно)[67] ВДАВНИ - давно, с давних пор.
(обратно)[68] ОГЛАШЕННЫЕ - готовящиеся принять святое крещение.
(обратно)[69] ВОЗБУЯНИЕ - непокорность, противодействие.
(обратно)[70] ДОИСК - расследование.
(обратно)[71] КОЩЕЙ - пленник, раб.
(обратно)[72] НОТАРЬ - писец, секретарь.
(обратно)[73] БЫРНАСТЫЙ - рыже-бурый.
(обратно)[74] ВОЗАТАЙ - управляющий лошадьми, кучер.
(обратно)[75] КОРЗНО - верхняя одежда в виде плаща.
(обратно)[76] ИСТОЧЕНЬ - мужской пояс.
(обратно)[77] ГУДЦЫ - музыканты.
(обратно)[78] ПО ПОСТАВУ - по порядку.
(обратно)[79] ГОСТИ - здесь: купцы.
(обратно)[80] ОГОРЛИЕ - ожерелье (в иных случаях - ошейник).
(обратно)[81] ПРЯ - спор, пререкания.
(обратно)[82] ЛЕПИТЬ - насильственно вкладывать идеи, понятия.
(обратно)[83] КИКА - головной убор замужней женщины.
(обратно)[84] ВЫТНЫЙ - аппетитный. ВЫТЬ - аппетит.
(обратно)[85] ПОНКА - верхняя одежда в виде накидки.
(обратно)[86] СТЕРВО - падаль.
(обратно)[87] БЛЯБНУТЬ - дать оплеуху.
(обратно)[88] ИЗДИРКИ - обноски, рвань.
(обратно)[89] СТУПЬ - самая тихая походка.
(обратно)[90] ИЗЛЮБ - обоюдное желание (напр.: по излюбу).
(обратно)[91] МОЛВКА - оговор, обвинение.
(обратно)[92] ЯТРЁБА - мошонка.
(обратно)[93] ВОЗГРИ - сопли.
(обратно)[94] ЕЛАНЬ - обширная прогалина в лесу.
(обратно)[95] ТУТ ЕМУ И СЛАВУ ЗАПОЮТ - о наступлении смерти.
(обратно)[96] СТАНОВИЩЕ - постоялый двор, гостиница.
(обратно)[97] ГОЛБЕЦ - помост между печью и полатями.
(обратно)[98] ЯШНИК - пленник.
(обратно)[99] ТОРЧИН - представитель племени торков.
(обратно)[100] ШИЛЬНИК - мелкий плут.
(обратно)[101] БАЛАХЛЫСТ - шлёндра, потаскун, тунеядец.
(обратно)[102] НЕЯСЫТЬ - здесь: прожорливый, жадный.
(обратно)[103] ХАЗУН - тщеславный, надменный.
(обратно)[104] ИСПЫТАТЬ ПЛЕЧ - помериться силой.
(обратно)[105] НЕЧЕВУХА - никчемный.
(обратно)[106] ПОГЛАДКУ - не ссорясь.
(обратно)[107] НОГАТА - двадцатая часть гривны.
(обратно)[108] ШИБАЙЛА - буян, драчун.
(обратно)[109] ШИКАН - придира.
(обратно)[110] ЧЕРВЛЁНЫЙ - багряный.
(обратно)[111] ГОЛОВНИК - убийца.
(обратно)[112] ВИРА - здесь: штраф за убийство (80 гривен).
(обратно)[113] ВЕТХИЕ КУНЫ - ходившие в то время деньги старого образца.
(обратно)[114] СМЕТИТЬ - сосчитать.
(обратно)[115] ЛОХАЛИЩЕ - пасть.
(обратно)[116] ДАТЬ ПОТЯПЫШ - ударить.
(обратно)[117] БЗДЮХ - вонючий зверек, хорек.
(обратно)[118] ХАЙДУК - крикун, нахал.
(обратно)[119] ЮРИТЬ - суетиться.
(обратно)[120] ПОДВАЖНИК - воришка.
(обратно)[121] БАЗЫГА - старый хрыч.
(обратно)[122] БЗЫРЯ - сорванец.
(обратно)[123] ЧЕБУРАК - тяжелая свинцовая гиря, которую носят на ремне.
(обратно)[124] МАТЕРНИК - любитель ругаться матом.
(обратно)[125] БАРДАДЫМ - верзила.
(обратно)[126] СКАЗКА - здесь: показание, свидетельство.
(обратно)[127] ПЕСТРЯДЬ - ткань из крашеной основы и белого утка или наоборот.
(обратно)[128] ХАЛУДОРА - шваль, оборванцы, негодяи.
(обратно)[129] НОВИК - новый человек.
(обратно)[130] ПЕРЕЛАДЕЦ - род дудки.
(обратно)[131] ГАДОЕД - поедатель гадов (ругательство).
(обратно)[132] СУКА-РЫБА - колючая рыба (здесь - ругательство).
(обратно)[133] ПРИСТАЛОЙ - приставший к кому-нибудь, прилепившийся.
(обратно)[134] ЧАГА - пленница, превращенная в наложницу, жену.
(обратно)[135] БЕБЕНЬ - набитый мешок.
(обратно)[136] ХАНАНЫГА - праздный шатун по угощениям.
(обратно)[137] ХАЛЯВА - неопрятный, дрянной человек.
(обратно)[138] КОРКОТА - болезнь, сопровождаемая корчами, судорогами.
(обратно)[139] БУКВОЙ ТВЁРДО - буква "Т" в древнерусском алфавите.
(обратно)[140] ЯХНУТЬ - осесть, съежиться.
(обратно)[141] ШАНЯМАНЯ - кое-как.
(обратно)[142] ПИРНИК - распорядитель на пиру.
(обратно)[143] ХАРАПУГА - нахал, дерзкий человек.
(обратно)[144] ОГЛЯДЕНЬ - слишком осмотрительный человек.
(обратно)[145] ВЕСТОНОША - разносчик известий, вестовщик.
(обратно)[146] МЕХОРЕЗ - грабитель, отрезающий мешки с деньгами.
(обратно)[147] МЕХОНОША - чернорабочий, таскающий мешки.
(обратно)[148] НЮХАЛА - лазутчик, ищущий добычу.
(обратно)[149] ПИЮХА - пьяница.
(обратно)[150] ХЛЮЗДА - плут, мошенник.
(обратно)[151] ХАЛАБРУЙ - большой, нескладный человек.
(обратно)[152] ЗАБОРОЛО - защищенная бревенчатым бруствером площадка, идущая по верху крепостной стены.
(обратно)[153] КОСТЁР - укрепление.
(обратно)[154] МОРШНИ - вид тяжелой кожаной обуви.
(обратно)[155] СЕЧЕНЬ - январь.
(обратно)[156] ЛЮТЫЙ - февраль.
(обратно)[157] АЛЫРНИЧАТЬ - жить обманом; алыра - майданщик, обыгрывающий в кости.
(обратно)[158] БАРМИХА - шуба с оплечьями; от слова «бармы» (оплечье).
(обратно)[159] ЗЕНЬДЕНЬ - хлопчатобумажная ткань.
(обратно)[160] БЛАФАРД - альбинос.
(обратно)[161] КЛИКУН - глашатай.
(обратно)[162] ТЯНУТЬ ЗАДНИЦУ - отставать.
(обратно)[163] ПОПРИЩЕ - дневной переход или путевая мера (ок. 1,5 км).
(обратно)[164] БОРКУНЫ - бубенцы.
(обратно)[165] ДУРОСВЕТ - обманщик.
(обратно)[166] ЧМУРИЛА - шутник, проказник.
(обратно)[167] ТОЧИТЬ ЛЯСКАЛЫ - болтать попусту.
(обратно)[168] ШАНЯВА - разиня.
(обратно)[169] КОТОРИТЬСЯ - спорить, враждовать.
(обратно)[170] ВЕРВИЕ - верёвки, путы.
(обратно)[171] РЮХА - свинья.
(обратно)[172] ХАЛТУГА - хапун, алчный человек.
(обратно)[173] КРУЖАЛО - питейный дом.
(обратно)[174] КАЛЬША - конский подножный корм.
(обратно)[175] ЧАМРА - морок, сумрак, мокрый снег с туманом.
(обратно)[176] ЦВЕТЕНЬ - апрель.
(обратно)[177] ТРАВЕНЬ - май.
(обратно)[178] ОКАРАЧУНИТЬСЯ - погибнуть; задать карачун - убить.
(обратно)[179] УКРЮК - аркан, повязанный на шест.
(обратно)[180] БАЙБАРА - пустомеля.
(обратно)[181] КАЛДА - загон для скота.
(обратно)[182] ХАМКА - собака.
(обратно)[183] АРГАЛ - топливо из навоза.
(обратно)[184] АЙРАН - разболтанная в воде простокваша.
(обратно)[185] КАЛЬЯ - похлебка на огуречном рассоле со свеклой и мясом (рыбой).
(обратно)[186] ХАНИЧ - сын хана.
(обратно)[187] АРЗИ - хмельной напиток из простокваши.
(обратно)[188] САЙДАК - лук с налучником и колчан со стрелами (в наборе).
(обратно)[189] БАХТУРИТЬ - забивать голову чем-либо, пичкать.
(обратно)[190] ХАНЬГА - камыш, тростник.
(обратно)[191] ТРОПОТЬ - сбивчивая нарысь, мелкий перебой.
(обратно)[192] ХАРЧИТЬ - хрипло дышать.
(обратно)[193] ЧЕРНИЗИНА - предмет, чернеющий вдали.
(обратно)[194] БАХТЕРЕЦ - доспех из продолговатых плоских полуколец и блях, нашитых на верхнее платье.
(обратно)[195] БАТЫРЬ - силач, молодец.
(обратно)[196] ЗЕРЦАЛО - зеркало, а также доспех, средний между панцирем и кольчугой.
(обратно)[197] ХАРАЛУГ - цветистая сталь, булат.
(обратно)[198] НУКЕР - отрок при господине, телохранитель.
(обратно)[199] КАЗАН-КАБАВ - жареная крошеная баранина.
(обратно)[200] ЯУРТ - холодный овечий варенец, заквашенный сметаной.
(обратно)[201] ПЕРЕКЛЮКАТЬ - обмануть.
(обратно)[202] КЫПЧАКИ - половцы.
(обратно)[203] ОБЪЕЗДОК - только что объезженный конь.
(обратно)[204] КАПТАН - зимний крытый возок.
(обратно)[205] ЧЕРВЕЦ - июнь.
(обратно)[206] ЯПАНЧА - длинное верхнее платье без рукавов.
(обратно)[207] КАНАЗ - князь.
(обратно)[208] ТЕРЛИК - кафтан до пят с короткими рукавами, приталенный, с застежкой на груди.
(обратно)[209] ЧЕРЕВЬЯ ШАПКА - шапка из подбрюшного меха.
(обратно)[210] ГЛУМОТВОРЕЦ - артист, скоморох.
(обратно)[211] ЯТКА - прилавок под навесом.
(обратно)[212] ГРИВНАЯ КОСИЦА - отборный волос из конских грив.
(обратно)[213] ПИСК - музыка.
(обратно)[214] МУШЕРМА - сосуд для питья с носком и ручкой.
(обратно)[215] АРКАТЬСЯ - ругаться.
(обратно)[216] ЯЧАТЬ - жалобно стонать.
(обратно)[217] ЧУВАХЛАЙ - невежа, грубиян, неотесанный.
(обратно)[218] ШЕСТОКРЫЛ - таблица для гадания по знакам зодиака, по звездам.
(обратно)[219] КАРАЛЫК - харалуг, булатная сталь.
(обратно)[220] НАЗУСТРИЧЬ - навстречу.
(обратно)[221] ТУРСУК - малый кожаный мех.
(обратно)[222] ЛЮБЖА - приворотное зелье.
(обратно)[223] ПОДБАЯТЬ - уговорить.
(обратно)[224] ОБЕЛЬНЫЙ - заслуживший свободу.
(обратно)[225] ВЕРТ - очень мелкая монета.
(обратно)[226] ДОЖДЕВНИЦА - дождевая вода.
(обратно)[227] ЧЕРНЕДЬМУЖИКИ - государственные хлебопашцы.
(обратно)[228] МЛЯВЫЙ - слабый.
(обратно)[229] МЛОСТНО - скучно.
(обратно)[230] ЖИТЬ ГОВЕЙНО - поститься.
(обратно)[231] НОГОВИЦЫ - чулки суконные, вязанные из овечьей шерсти.
(обратно)[232] ЗАСИДУХА - засидевшаяся в девках.
(обратно)[233] МЛОСТЬ - слабость.
(обратно)[234] РУКОТЁРНИК - полотенце.
(обратно)[235] СЕРПЕНЬ - август.
(обратно)[236] НЕТЧИК - отсутствующий.
(обратно)[237] ЗАСЕСТЬ - занять чужое место.
(обратно)[238] СБИТЬ В МЯЧ - увлечь за собой врага и напасть из засады.
(обратно)[239] ТЕСНОТА - заточение.
(обратно)[240] ГОРОДНИЦЫ - срубы, набитые землей, стены из таких срубов.
(обратно)[241] ПОСЛУГА - поручение.
(обратно)[242] ВЗЯТЬ НА ЛЮБОК - однократно.
(обратно)[243] ИЗЛЮБИТЬСЯ - истощиться.
(обратно)[244] НЕБО ЗАМОЛАЖИВАЕТ - заволакивает облаками.
(обратно)[245] ОСКОМЫГА зубоскал.
(обратно)[246] ОСКАЛИНА - голое, ободранное место.
(обратно)[247] ПЕРЕСПА - городской вал.
(обратно)[248] ГОРЛАТНАЯ ШАПКА - из тонкого меха шеи животного, высокая, прямая, с тульей, расширяющейся кверху.
(обратно)[249] БОЯРЕ - старшая дружина, ГРИДИ - младшая.
(обратно)[250] КУТЫРЬ - толстый человек.
(обратно)[251] МУХОЯР - хлопчатобумажная ткань с шерстяной или шелковой нитью.
(обратно)[252] КНЯЖЩИНА - владения князя.
(обратно)[253] ПОД СПУД - в заточение.
(обратно)[254] ДОСТОИТ - надлежит.
(обратно)[255] ВНЕВЕДЫ - по неведению.
(обратно)[256] ПОТОНКУ - подробно, детально.
(обратно)[257] ГРЯДКА - полка над лавками вдоль стены.
(обратно)[258] ВЫЛГАТЬ - обмануть.
(обратно)[259] ТУГА - горе, кручина, печаль.
(обратно)[260] ПРОЛАГАТАЙ - лазутчик, соглядатай.
(обратно)[261] ОПРЯНУТЬСЯ - приодеться.
(обратно)[262] СОВСЕЛЬНИК - поселившийся с другим в одном месте.
(обратно)[263] ОНАГР - дикий осёл.
(обратно)[264] ОДНОРЯДКА - однобортная долгополая верхняя одежда без воротника.
(обратно)[265] АКСАМИТ - вид бархата.
(обратно)[266] ГОЛУБОЙ СКУРЛАТ - дорогая завозная цветная ткань.
(обратно)[267] ЧМУР - хмель, одуренье.
(обратно)[268] ЧМЫРКНУТЬ - выпить.
(обратно)[269] ЛЮБОСТРАСТНЫЕ БОЛЕЗНИ - венерические.
(обратно)[270] ОПАНКА - деревянная чашка.
(обратно)[271] ЗАСЕДКА - стойка в корчме.
(обратно)[272] ПОСИДЕЛЕЦ - продавец за стойкой.
(обратно)[273] СТАВЕЦ - точеная деревянная чашка.
(обратно)[274] БЕРКОВЕЦ - десять пудов.
(обратно)[275] ОБЕРУЧЬ - обеими руками.
(обратно)[276] ПОНУКАЛЬЦЕ - легкий хлыст.
(обратно)[277] ЗОБАТЬ - есть.
(обратно)[278] СОБОРОВАТЬ - совещаться (собор), а также совершать обряд елеопомазания над тяжелобольным.
(обратно)[279] РЫПАТЬ - ворчать, гневаться.
(обратно)[280] ПЫРСКАТЬ - брызгать слюной.
(обратно)[281] ПАСЫНКИ - боярские отроки.
(обратно)[282] ОБЪЯРЬ - плотная шелковая ткань.
(обратно)[283] РЫНДА - телохранитель.
(обратно)[284] БОЯРСКИЙ, КНЯЖОЙ МЁД - хмельные напитки высшего качества.
(обратно)[285] ШТУКОВАТЫЙ - хитрый.
(обратно)[286] ОГЛАГОЛЬНИК - обвинитель.
(обратно)[287] ФИАЛ - чаша, кубок.
(обратно)[288] ЛОВЫГА - плут.
(обратно)[289] НЕПРЯ - лентяй, неумеха.
(обратно)[290] ЛЯПУН - плохой мастер.
(обратно)[291] ВОИСТЫЙ - любящий повоевать.
(обратно)[292] ЛЕГИОН ТЫСЯЧ - бесчисленное множество.
(обратно)[293] ЗАСАДА - гарнизон крепости (а также скрытое войско).
(обратно)[294] СВАРИТЬСЯ - ссориться (от СВАРА - ссора).
(обратно)[295] ОСЛОПЬЕ - колья, дубины, палки.
(обратно)[296] ЩАП - щеголь.
(обратно)[297] НАЛОГА - тягость, осложнение.
(обратно)[298] СУЛИЦА - короткое метательное копье.
(обратно)[299] УРАЗ - удар, поражение; УРАЗНАЯ - ушибистая.
(обратно)[300] ОТОЧЕНИЕ КРЕПОСТИ - обложение её со всех сторон.
(обратно)[301] ВЗЯТЬ КОПЬЁМ - взять приступом.
(обратно)[302] СДЕЛАТЬ ПРИМЁТ - обложить горючим деревом стены.
(обратно)[303] ВЕЖИ - жилища кочевников, а также башни или передвижные крепостные сооружения.
(обратно)[304] УРОЕМ - с криком «ура».
(обратно)[305] УРИМ КРИЧАТЬ - кричать "ура".
(обратно)[306] ОПОЛОХНУТЬСЯ - испугаться.
(обратно)[307] СТРЕЖЕНЬ - середина.
(обратно)[308] ГНУСИНА - гадина.
(обратно)[309] ОЧЕРВЛЕНИТЬСЯ - окровавиться.
(обратно)[310] ПОГАРЬ - выгоревшее место.
(обратно)[311] ЗАЖИТНИКИ - фуражиры.
(обратно)[312] СТОЛ - здесь: великокняжеский престол.
(обратно)[313] ХАПАЙЛА - обирала, грабитель.
(обратно)[314] НА ПОТОК - на расхищение.
(обратно)[315] МАЛАЯ ДРУЖИНА - здесь: тесный круг приближённых.
(обратно)[316] ВЗАБЫЛЬ - в самом деле.
(обратно)[317] ПОЛЧНЫЙ РЯД - три части боевого построения: чело и два крыла.
(обратно)[318] СТОРОЖЕВОЙ ПОЛК - арьергард.
(обратно)[319] ДАТЬ ПЛЕЧА - обратиться в бегство.
(обратно)[320] ПОСПОЛУ - вместе.
(обратно)[321] БОЛЬШОЙ ПОЛК - главные силы.
(обратно)[322] МЕЧНИКИ, СЕДЕЛЬНИКИ, КОШТЕИ (ОТ СЛОВА «КОШТ») - обозная прислуга.
(обратно)[323] СУМНЫЕ, ТОВАРНЫЕ КОНИ - вьючные, обозные.
(обратно)[324] ЗАМЯТНЯ - смута.
(обратно)[325] НЕКОВАНЬ - не подковав коня.
(обратно)[326] КУЗЛО - ковка; КУЗЛА НЕТ - не работают.
(обратно)[327] КЛЮКА - кривизна.
(обратно)[328] КАВАРДАК - кушанье из мелких кусков.
(обратно)[329] ВИСЛЁНА - женщина дурного поведения.
(обратно)[330] ХРЕСТЬЧАТОЙ - цепь, рисунок которой образует соединение мелких золотых крестиков.
(обратно)[331] РАСПАШНОЙ ОХАБЕНЬ - одежда из легкого сукна.
(обратно)[332] ПОНИТОК - ткань на нитяной основе.
(обратно)[333] ПИПЕЛОВАНИЕ - игра на музыкальных инструментах.
(обратно)[334] ОТАЙ - секретно,
(обратно)[335] НЕЛЕПНО - неподобающим образом.
(обратно)[336] ПООБИЛУ - вдоволь, в изобилии.
(обратно)[337] ЗЕЛЕЙНИК - лечащий, чарующий травами.
(обратно)[338] ЗЕЛЕНОМУДРОСТЬ - незрелое мудрствование.
(обратно)[339] СНАДОБИЦА - лечебная склянка, сосуд.
(обратно)[340] ЗЕЛЕНЯК - зеленоватый гад, лягушка, ящерица.
(обратно)[341] НАУЛЁЖЬ - спать крепким сном, без просыпу.
(обратно)[342] СПЕНЬ СПНЁМ - сонный, заспанный.
(обратно)[343] ПИПЕЛА - свирель, флейта.
(обратно)[344] ЧЕМЕРА - одуряющий табак из воробьиной гречихи.
(обратно)[345] НОРОВНИК - пособник.
(обратно)[346] ВИСЛЯЖНИЧАТЬ - докучать ласками.
(обратно)[347] КУХАРЬ - повар.
(обратно)[348] НЕСТОРОЖА - непринятие мер к охране.
(обратно)[349] ОНОМНЯСЬ - позавчера, третьего дня.
(обратно)[350] ГАДУЕТ - страдает рвотой.
(обратно)[351] ПЕРСТЯНКИ - перчатки.
(обратно)[352] «ЧЕКАЙ, ЧЕКАЙ, ПОБАЧИМО!» - «Подожди, подожди, посмотрим!»
(обратно)[353] ВЯЗЕНЬ - арестованный.
(обратно)[354] ЛИПЕЦ - июль.
(обратно)[355] СЛЮБОМ - полюбовно, миролюбиво.
(обратно)[356] ПОРОБЧЕ - обращение к парню, то же, что парубок.
(обратно)[357] СОЧИВО - пища постная: кашица и овощь.
(обратно)[358] ЕПИСТОЛИЯ - послание.
(обратно)[359] СУНДОЛОЙ - вдвоем на одном коне.
(обратно)[360] СТРЫЙ - дядя.
(обратно)[361] ВЕЧНЫЙ КОЛОКОЛ - сзывающий на вече.
(обратно)[362] ВЕЧНИК - гражданин с решающим голосом на вече.
(обратно)[363] ТОЛПЫГА - лезущий в толпу.
(обратно)[364] КАМО - куда.
(обратно)[365] СОБОРОВАТЬСЯ - принять перед смертью елеопомазание.
(обратно)[366] ХАЛДЫГА - наглец.
(обратно)[367] ЗАТВОРНИЦА - келья затворника.
(обратно)[368] ВЕРШИЩЕ - место рыбной ловли.
(обратно)[369] БЕЗ ПОСТАВА - беспричинно, неуместно.
(обратно)[370] СТЕРВЕНИК - самый большой, плотоядный медведь.
(обратно)[371] ПАВОЛОКА - бумажная или шелковая привозная дорогая ткань.
(обратно)[372] ЖИСТОЧКА - любезный, желанный.
(обратно)[373] ЖЕНИМА, ЖЕНИМАЯ - наложница, любовница.
(обратно)[374] ЖЕНСТВО - брачное состояние.
(обратно)[375] ЖЕНОБЕСИЕ - непомерное женолюбие.
(обратно)[376] ЖЕНСКАЯ ВЕЩЬ - месячные.
(обратно)[377] ОХРЕБТАТЬ - овладеть.
(обратно)[378] НАБАБИТЬ - нарожать.
(обратно)[379] ЖЕНИМОЧИЩ - сын наложницы.
(обратно)[380] СТОЯЛАЯ УТВАРЬ - мебель.
(обратно)[381] ПОСТРИЗАЛО - инструмент парикмахера.
(обратно)[382] КОЛОНСКАЯ ВОДИЦА - одеколон.
(обратно)[383] ПОСТРИГАЛЬНОЕ - плата за стрижку.
(обратно)[384] КУНЬИ МОРДКИ - вид кожаных денег.
(обратно)[385] ДЕВИЙ ДОМ - увеселительное заведение.
(обратно)[386] ДЕВЧУР - волокита, девичий хвост.
(обратно)[387] ДЕВУЛЯ - принимающий женские обычаи, ухватки.
(обратно)[388] МУЖЛАТКА - мужевидная женщина.
(обратно)[389] ДЕВЧИЩА - заматерелая девица.
(обратно)[390] ЕПИТРАХИЛЬ - одно из облачений священника, надеваемое на шею.
(обратно)[391] ДРУЖНИЦА, ДРУГИНЯ - любовница.
(обратно)[392] КОМОНИ - так называли в старину коней. КОМОННИК - лошадник.
(обратно)[393] ГРОБЛЯ - крепостной ров.
(обратно)[394] КАРАКУЛЫ - темные подпалины.
(обратно)[395] ЗАНОЖИТЬ - привязать лошадь за ногу.
(обратно)[396] КРАСИК - любитель покрасоваться, фат.
(обратно)[397] ЗАМУХОРИТЬСЯ - замараться, запылиться.
(обратно)[398] ИЩИК - ищущий кого-либо, что-либо.
(обратно)[399] ЗОБНИЦА - мера сыпучих тел, лукошко берестяное, лубочное.
(обратно)[400] ЗАМУМРИТЬСЯ - сидеть безвыходно, запереться.
(обратно)[401] ЗАНАПАСТИТЬ - обижать нападками, сживать со свету.
(обратно)[402] ПОДПТЕНЬ - приданный в помощь, подчиненный.
(обратно)[403] ДЕВЬЯ МАТЬ - мать, у которой одни дочери.
(обратно)[404] НЕПЛОД - мужчина, у которого нет детей.
(обратно)[405] ГУСЯТНЯ - княжеский или боярский караул.
(обратно)[406] ЧУР - здесь: черта заповедная.
(обратно)[407] ПЛАТЧИК - носовой платок.
(обратно)[408] ХВАТАЛО - вор, тот, кто хватает.
(обратно)[409] ЛОГОЗА - вздорный, спорщик.
(обратно)[410] ЛОВЧИВЫЙ - мастер ловить.
(обратно)[411] ХВАТОВЩИНА - награбленное.
(обратно)[412] ИМЧИВЫЙ - мастер находить, отнимать.
(обратно)[413] КОШТЕИ - обозная прислуга (от слова «кошт»).
(обратно)[414] КОШУЛЯ - легкая верхняя одежда.
(обратно)[415] СРАЧИЦА - длинная рубашка.
(обратно)[416] КРАТКОПОЛИЕ - мода на короткую одежду.
(обратно)[417] ГВОР - пузырь.
(обратно)[418] ПРОКУЛИКАТЬ - пропить.
(обратно)[419] ДРУЖЬЁ - товарищи.
(обратно)[420] ПАНЁВА, ПОНЯВА - юбка, нижняя рубашка.
(обратно)[421] ПАНФИРЬ - рысь.
(обратно)[422] ДРУЖЬЯ - чета любовников.
(обратно)[423] В ОДНОДЫШКУ - на одном дыхании, одним духом.
(обратно)[424] ИН - ладно, пожалуй, изволь.
(обратно)[425] В ОДНОДЕРЖКУ - дернув один раз.
(обратно)[426] ЗОСКА - мальчишечья игра, когда свинец с меховым лопушком подбрасывают ногой.
(обратно)[427] СКУДЕЛЬНИЦА - место погребения.
(обратно)[428] ВСУЕ - напрасно.
(обратно)[429] ПРОКУДА - пакостник, бедокур.
(обратно)[430] ТАНА, ТАНАИС - река Дон.
(обратно)[431] ОПЕРЁННЫЙ - огражденный перилами.
(обратно)[432] ШЕЛЕПУГИ - плети с металлическими наконечниками.
(обратно)[433] ЗАЗЫБАТЬСЯ - заколыхаться.
(обратно)[434] СУГОН - погоня.
(обратно)[435] ИСПРОВЕЩИТЬСЯ - подать голос.
(обратно)[436] ПЕРЕПАСТЬСЯ - испугаться.
(обратно)[437] УВЫРКНУТЬСЯ - оглянуться.
(обратно)[438] ПОЛТРЕТЬЯ - два с половиной.
(обратно)[439] ПОЛПЯТА - четыре с половиной.
(обратно)[440] СЕЛЬГА - мелкий лиственный лес.
(обратно)[441] КРЕНОВАТЫЙ - гнутый.
(обратно)[442] КОРБА - трущоба в лесу.
(обратно)[443] КАЛИГИ - обувь странника.
(обратно)[444] СТУПЕНЦЫ - домашняя обувь.
(обратно)[445] КАБА - нарядный кафтан восточной знати.
(обратно)[446] МЫЗА - отдельный загородный дом.
(обратно)[447] ГУЛЯМЫ - слуги, телохранители.
(обратно)[448] ЧАНГ - струнный ударный музыкальный инструмент.
(обратно)[449] ХАРИСА - густой суп из мяса и зёрен пшеницы.
(обратно)[450] САНБАДЖ - блюдо из мяса с кислым соусом.
(обратно)[451] БУРАНИЯ - блюдо из маринованных баклажанов.
(обратно)[452] ХАБИСА - кушанье из фиников, приготовленное на масле.
(обратно)[453] КАФИР - неверный.
(обратно)[454] ШАЛЫГА - плеть, кнут.
(обратно)[455] ОПОЧИНУТЬСЯ - лечь спать.
(обратно)[456] НАДИМ - приближённый царя.
(обратно)[457] ОД - невесомое вещество, сила, магнетизм.
(обратно)[458] МАДИРА - суп из кислого молока.
(обратно)[459] ЧЕРВЕНИЦА - красильное растение.
(обратно)[460] КУББА - дом.
(обратно)[461] БАБУНДИ - название.
(обратно)[462] ХИСМЕ - имя.
(обратно)[463] ПОРТЯНАЯ - грубая, пеньковая, посконая.
(обратно)[464] ИБЕРИЯ - древнее название Испании.
(обратно)[465] ДВУХПРЯСЕЛЬНЫЙ - двухэтажный.
(обратно)[466] ЙУРА - Югра, земля по обоим склонам Северного Урала и в низовьях Оби.
(обратно)[467] АГАРЯНЕ - так православные называли всех неверных.
(обратно)[468] ХОЛЬМГРАД - Новгород.
(обратно)[469] ЗДАТЕЛЬ - зодчий.
(обратно)[470] «ПАТРИА, АМИГО, ПАТРИА!» - «Родина, друг, родина!».
(обратно)[471] ОЧЁСЛИВО - вежливо, учтиво.
(обратно)[472] ПОДСОЛНЕЧНИК - зонтик.
(обратно)[473] КОНЧАНЕ И УЛИЧАНЕ - жители концов и улиц.
(обратно)[474] ВЫМОЛ - здесь: мельница.
(обратно)[475] ВОЩИННИКИ - торговцы воском.
(обратно)[476] ТРИГОЖАНЕ, КОЛОМЛЯНЕ, БЕРЕЖАНЕ - жители соответствующих улиц.
(обратно)[477] ЧИСЛОЛЮБЕЦ - математик.
(обратно)[478] ЗНАДЕБКА - родинка.
(обратно)[479] МЫТНИК - сборщик податей.
(обратно)[480] СМУРНОЕ СУКНО самотканное, из тёмной шерсти.
(обратно)[481] ФЕЛОНЬ - риза священнослужителя.
(обратно)[482] КРАСНЫЕ ПЛОТНИКИ - краснодеревщики.
(обратно)[483] ШТЕЦИНЦЫ - торгующие с Польшей.
(обратно)[484] ЧУДИНЦЫ - торгующие с Прибалтикой.
(обратно)[485] ОБОНЕЖЦЫ, ЮГОРЩИНА - прокладывающие пути на север.
(обратно)[486] САМОСТЬ - самостоятельность, независимость.
(обратно)[487] Вятская республика была взята войсками великого князя московского Василия Васильевича и обложена данью в 1459 году.
(обратно)[488] ДОЛЮБИ - вдоволь, сколько угодно.
(обратно)[489] ДЕСЯТСКИЙ - полицейский чин.
(обратно)[490] ЗАПОХАЖИВАТЬ - ходить взад-вперед.
(обратно)[491] ТАВЛЕИ - особая игра в кости на специальной доске.
(обратно)[492] АГЛЯНЕ - англичане.
(обратно)[493] СКОРОВЕРТО - опрометчиво.
(обратно)[494] ГОСПОДСКИЕ ДНИ - церковные праздники.
(обратно)[495] ОКСТИТЬ - осенить крестным знамением.
(обратно)[496] ЖАЛЕВОЙ - траурный.
(обратно)[497] ВИСОПЛЯС - акробат.
(обратно)[498] КУКОЛЬ - монашеский головной убор.
(обратно)[499] ОЩЕУЛ - зубоскал.
(обратно)[500] ХРАПЫ - путы.
(обратно)[501] РАМЕНЬЕ - лес рядом с полем.
(обратно)[502] ГОРЯСЕР - убийца святого князя Глеба.
(обратно)[503] НАРУЧНИ - браслеты.
(обратно)[504] ТАИМНИЧАТЬ - секретничать.
(обратно)[505] ДЕМЕСТВЕННИК - мастер старинного церковного напева.
(обратно)[506] ПОКУТА - служение по покойнику, панихида.
(обратно)[507] ДЕВУНЯ - старая дева.
(обратно)[508] ВОЛНА - шерстяная пряжа.
(обратно)[509] НЕМОГУТА - бессилие, слабость телесная.
(обратно)[510] НЕПРАЗДНАЯ - беременная.
(обратно)[511] СЫНОВЕЦ - племянник.
(обратно)[512] СПЛЕТКИ - ссоры.
(обратно)[513] НЕРОЖЕННЫЙ СЫН - зять.
(обратно)[514] НЕ ИЗВОЛОЧА ОТПУСТИТЬ - без проволочки.
(обратно)[515] ОБАВНИЦА - колдунья.
(обратно)[516] ДАВАЛЬЦЫ - те, кто держится в покупках и заказах одной знакомой лавки.
(обратно)[517] ДВОРНИК - снимающий для работы помещение на чужом дворе.
(обратно)






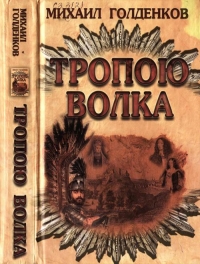
Комментарии к книге «Кровь боярина Кучки», Вадим Петрович Полуян
Всего 0 комментариев