Историческая повесть из молодости Петра Великого
I
Светло и радостно взошла заря красная 30 мая 1683 года над первопрестольной Москвой с ее пригородами, слободами и селами. Не высоко еще поднялось солнце, как по пыльному пути от города за Москву-реку, да по тому берегу ее к Воробьеву сперва одиночкой, а потом вереницей потянулись пешеходы. Поднял их на ноги не престольный праздник, не народное какое торжество, а небывалая доселе потеха малолетнего царя Московского — Петра Алексеевича.
По кончине благоверного «тишайшего» царя-батюшки Алексея Михайловича юный Петр Алексеевич проживал безотлучно при матушке-царице Наталье Кирилловне в подмосковном селе Преображенском. Вечор же он перебрался с товарищами-«ребятками» в старый Воробьевский дворец, а нынче, в одиннадцатую годовщину рождения Петрова, с Воробьевых высот впервые опять со времен царя Ивана Васильевича Грозного должна была загреметь над Белокаменной огнестрельная потешная пальба.
В числе пешеходов был и одинокий малец по десятому году с лотком на голове. Под толстой, плотной дерюгой, прикрывавшей лоток, были припасены у него для проголодавшихся зевак не остывшие еще пироги. Несмотря на свой детский возраст он нес свою полновесную ношу без видимого усилия, выступал бодро и, обгоняя взрослых, перекидывался с ними на ходу веселыми шуточками. Редко кто не откликался на его бойкий оклик. Все были настроены празднично; а юркие светлые глаза, заискивающе лукавая усмешка курчавого, краснощекого и пригожего из себя парнюги невольно располагали к нему все сердца. Были и такие, что признавали его:
— А, Алексашка! Где тебя нету!
Версты за полторы до Воробьева Алексашка нагнал двух женщин.
На одной, помоложе, лет тридцати, дородной, белотелой и румяной, поверх пунцового «летника» был надет нарядный «опашень» ярко-червчатого (лилового) сукна, внизу отороченный узорчатою золотою каймою, а под мышками перехваченный «источенкой» (разноцветным струйчатым поясом). Просунутые в прорезы опашня у плеч руки, полные, выхоленные, щеголяли расшитыми шелком и золотом рукавами летника и жемчужными запястьями. Из-под подола летника при каждом шаге выставлялись желто-сафьяновые, остроносые «чоботы», а на голове громоздилась высокая золотая парчовая «кика», унизанная рядами жемчужных рясок. Шибко припекало уже утреннее солнце; под грузным головным убором, в пышном праздничном наряде молодой женщине становилось все душней, несносней. Цветущее, круглое, как полная луна, лицо ее так и пылало жаром, так и лоснилось; дыхание у нее захватывало, но развязать пояс, расстегнуть хоть на одну пуговку опашень не дозволяло ей, видно, чувство собственного достоинства.
Спутница щеголихи, лет на десять ее старше, была одета не в пример скромнее: в простой кумачный сарафан безо всякого шитья и в поношенную душегрейку; волосы ее были подобраны под одноцветную шелковую шапочку — «подубрусник», повязанный сверху чистым белым платком — «убрусом»; на ногах же у нее были попросту смазные сапоги.
Маленький пирожник опередил бы и этих двух женщин, не подхвати он пару слов из оживленной их беседы.
— Больно ты уж страшлива, Спиридоновна, — говорила пожилая женщина своей молодой спутнице. — Ну, попалят, побалуют, — даст Бог, дурна ему никакого не учинится.
— Оно точно, будь опаска, — царедворцы, верно, не попустили б, — тяжело отдуваясь, заметила первая. — А все, знаешь, душа не на месте. Пусть первою кормилицей ему была эта новоявленная княгиня, а попросту такая же, как и ты, кума, как и я, грешная, баба деревенская: всячески я его, голубчика моего, без малого два года тоже грудью своей кормила! Пусть он там царского рода, а все же он мне теперича ровно свое родимое детище.
«Вторая кормилица царская! — сообразил мигом Алексашка. — Ишь, как вырядилась: инда дохнуть нечем. Что значит — на жирных харчах нагулять себе тело!»
Как всякому москвичу, Алексашке было хорошо известно, что первая кормилица меньшого царя, Петра Алексеевича, Ненила Ерофеевна, особенная любимица царицы Натальи Кирилловны, не выкормив еще царского младенца, овдовела и была вновь выдана замуж за князя Львова; а с тех пор, что она вторично овдовела, состояла по-прежнему при Дворе царицы на большом жалованье и в великом почете. Заместившую ее Олену Спиридоновну, оставшуюся и до сих пор, по собственному ее выражению, «бабой деревенской», Алексашка как-то видел уже мельком в селе Преображенском и тотчас узнал ее теперь по дебелому затылку и утиной походке с перевальцей.
«Ужели за десять верст пешком притащилась?» — рассуждал он, убавляя шагу и прислушиваясь к неумолчной болтовне двух словоохотливых кумушек.
С первых слов их он услышал ответ себе:
— Нарочно ведь вчерась к тебе в город отпросилася, — говорила с передышкой Спиридоновна, — спозаранку хошь собрались сюда… Уф! Умаялась… и так-то далеконько!
— А самой-то царицы не будет нонче? — допытывалась кума.
— Что ты, милая, перекрестися! Нешто она со вдовства своего куда еще покажется?
— Да мне-то, кумушка, отколе ж все порядки знать-то? — оправдывалась кума. — Место у нас глухое, никаких вестей к нам отселе не доходит, и сама я теперича в Москву впервой только, наездом! Ведь он-то, царь Петр Алексеевич, у нее, царицы нашей, один сын только свой и есть?
— Один, матушка, как перст. Все старшие братья и сестры у него — от первой супружницы покойного царя Алексея Михайлыча, Милославской. Царица же Наталья Кирилловна — из рода Нарышкиных. С первой встречи, слышь, в доме великого боярина Матвеева она ему до смерти полюбилася.
— В чужом доме? Ведь боярышен же наших родители, как жар-птиц каких, взаперти за тремя замками держат?
— Да Матвеев не чужой ей был, а друг старинный родителя ее, Кирилла Полуектовича Нарышкина. Живучи сам в отдаленной усадьбе своей Тарусской, тот выслал дочку, как заневестилась, на побывку, на воспитание к приятелю в Москву. Ну, а покойный царь-от наш любил Матвеева противу всех других царедворцев, что день — запросто наезжал к нему. Так-то вот одним вечером зимним засиделся государь у Матвеевых до самого ужина. Вышла тут в столовую вместе с хозяйкой и воспитанница их, Наталья Кирилловна Нарышкина, — ну, и делу конец: загляделся. Уж куда хороша была: высокая, статная, чернобровая, черноглазая.
— Так что опосля у царя и смотрин особых из отобранных девиц уже не было?
— Как не быть! Разве без этого возможно? Не единожды — дважды скликали для виду на Верх первых боярышен… опричь Москвы, со всех городов Земли Русской: из Рязани и Владимира, из Суздаля, Костромы и Новогорода. В потайное окошечко из соседней горницы переглядел их государь, почитай, до тысячи, но выбора не изменил.
— И счастливо жили?
— Уж так ли счастливо! Особливо, как Бог им сыночка этого Петрушу дал. Ведь старшие-то сыновья государя Алексея Михайлыча, из колена Милославских (что греха таить!), не в отца пошли, не в зазор молвить — радости от них ему было мало…
Спиридоновна на этом запнулась и опасливо оглянулась на шедшего сейчас позади них маленького пирожника. Но Алексашка, как ни в чем не бывало, словно ничего и не слышал, тихонько посвистывал про себя и засмотрелся куда-то в сторону.
II
— А меньшой царевич был не таков? — допытывалась кума.
— Петруша-то мой? — оживленно подхватила снова царская кормилица. — Не ребенка в нем Господь им — клад послал! Да и то сказать: не родился он еще на свет Божий, как знамение об нем в небесах прояви-лося — звезда большущая, пресветлая, и предрек молодой царице муж ученый, Симеон Полоцкий, что бу-дет-де сын у нее преславнее всех его отцов и праотцов, царей Московских. И точно: полугода ему еще не минуло, совсем малехонькой — ходить уж зачал, а еще через полгода сидел верхом на потешной деревянной лошадке, разъезжал по хоромам на потешном стульце. Жизненочек!
— Любили его, я чай, родители-то?
— Такого-то не любить? Надышаться не могли. Уж каких-каких игрушек ни раздобыли, ни понаделали ему! Ведь при Дворе-то царском тоже всякие мастера, свои и иноземные: живописцы да сусальники, столяры да токари. Были у него и барашки с заправской шерстью, и гнезда птичьи — голубей, канареек, чижей, щеглят, были всякие струменты: гусли, цымбалы да клавикорды, были книжки потешные с картинками расцвеченными. Паче же всего забавляли его игрушки воинские, оружие потешное: барабанцы, бубны, топорики, перначи, булавы, чеканцы, лучки, кончеры, знамена и пушечки золоченые на станках и колесцах.
— Ишь ты! — удивлялась заслушавшаяся кума. — Ничего, кажись, больше для ребенка и не придумаешь.
— Ан нет, — возразила царская кормилица, — боярин наш Матвеев придумал: бил царевичу челом такими подарками, какие другим и во сне не снились.
— Ну!
— А вот слушай. Приносил он ему примерно потешные листы фряжские, книжки с кунштами…
— С картинками значит?
— Вот-вот! Чего-чего там не было! И зверье-то всякое, и люди белые, красные да черные, и дворцы-то, и корабли, и бои воинские с пальбой, с шарами огненными. И все-то красками расцвечено: шафраном да белилами, ярью венецейскою да золотом сусальным. Заказал он для царевича еще в мастерских придворных, на больших листах этаких, александрийских, что ли, всю планиту — двенадцать месяцев и беги небесные: ни дать, ни взять, как в подволоках в столовой царской. Но лучший подарок малышу от дедушки Артамона (так звал Петруша боярина) была карета-игрушка — ни в сказке сказать, ни пером описать! Изнутри бархатом выложена, снаружи вся раззолочена, с золотой бахромой, а стекла хрустальные и на стеклах всякие цари да короли расписаны.
— А как же ездить ему в той каретце без коней-то было?
— Знамо дело, что не без них. Четверка живых коньков была впряжена, темнокарых, ростом не выше теленка, и упряжь тоже вся бархатная, золотом шитая, с наголовками, с нахвостиками разноцветными. Как выедет тут, бывало, царевич ваш в своей каретце — по сторонам четыре карлика в малиновых кафтанах с золотыми пуговичками, сзади еще один такой же и все тоже на маленьких лошадочках, — сбежится народ со всех концов поглазеть на диво дивное.
— Да, занятно бы поглядеть, — заметила кума. — Позавчера мне одного из таких карлов на Неглинной показывали: Комаром называли. И впрямь, как есть мизгирь.
— А это первый же нонече карла царский, Никита Комар… Да! Развеселое в те поры житье при Дворе было, — с сожалением прибавила Спиридоновна. — Живали мы тогда с царем, с царицей все больше в Преображенском: очень уж обоим полюбилося. И до Сокольницкой рощи недалече, где тешился покойный государь охотой соколиной.
— А как преставился государь Алексей Михайлыч? Кормилица царская испустила вздох и рукой махнула.
— Тут, милая, все обернулося! Осталось после царя-то три царевича: царевич Феодор, царевич Иван да мой Петруша. На престол родительский воссел, вестимо, старший. На Верху же, в Кремле, около молодого даря Феодора Алексеевича проявились, заорудовали новые припадочные лица (любимцы): Языковы да Лихачевы, а над всем-то, — прибавила Спиридоновна, понижая голос, — девичий терем сестриц-царевен.
— Терем! А сколько их было, дочерей-то, у блаженной памяти государя Алексея Михайловича?
— Да ни много ни мало — шесть душ[1]. Из шести же третья царевна Софья Алексеевна всех прочих умней, хитрей и отважней. Братец ее царь Феодор Алексеевич с младых ногтей хворый был, хилый, не жилец на сем свете. Царил словно бы он, а на самом деле — терем. Когда ж приключилась с ним последняя смертная хворь (упокой Господь его душу!), царевна Софья, противу исконного обычая девичьего, вышла из терема к больному брату, до самого смертного часа ни на шаг его уж не покидала, из своих рук лекарства ему подносила…
— Стало, душевно болезновала об нем?
— А уж там понимай, как хочешь. Только по ее же, слышь, приказу, у великого боярина нашего Матвеева, хошь ничем таким, кажись не провинился, первым делом, якобы у последнего преступника, все, имена отобрали, самого же за тридевять земель на житье спровадили, куда Макар телят не гонял[2]. Родных братьев матушки-царицы, Нарышкиных — Ивана да Афанасия — тоже от Двора удалили.
— А другие-то два брата-царевича что?
— Царевича Ивана покуда не тронули в его кремлевских палатах, зато нам с царицей да меньшим царевичем, Петром Алексеевичем, из нашего Преображенского ни шагу не велено делать.
— Да, сказывали об этом, помнится, и у нас на деревне. А как не стало царя Феодора Алексеевича, так пошла сейчас эта смута стрелецкая?
Царская кормилица осенилась крестом.
— Не поминай лучше, ох, не поминай! Только вспомню — дыбом на голове волос встанет, слеза прошибет. Сколько народу православного тут задаром было погублено — и счету нет. Сам добрый боярин наш Матвеев, что едва лишь был возворочен ко Двору из опалы, сложил голову победную… Вечная память мученикам Божиим!
— А кончилось дело все же тем: что меньших двух царевичей, Ивана да Петра, вместе на царство венчали?
— Для виду, точно, венчали, над обоими же, как над малолетками правительницей царевну Софью нарекли: сила воинская — стрельцы были за нее. Как ле-тось в Грановитой Палате завели этот великий спор с раскольниками, на царском седалище хошь и воссел мой Петр Алексеевич, а вкруг него все царское племя, старшее и младшее, — однако царевна-правительница уселась в переднем углу, рядом со светлейшим патриархом, так что ей словно бы принадлежало из всей царской семьи первое место. И в церквах тоже архидьякон во многолетнем поздравлении кличет правительницу наравне с братьями-царями, а опосля уж в особину прочих цариц и царевен.
— Ну, Петр Алексеевич еще юн, можно сказать, птенец, — вставила кума, — но старший царь, Иван Алексеевич, чего смотрит?
Спиридоновна горько усмехнулась.
— Хошь и старше он возрастом чуть не на шесть годков (семнадцатый год ведь в исходе), да Господь беднягу кругом обидел: скудоум, слышь, маломочен, подслеповат и косноязычен. Зато милый птенчик мой, Петр Алексеевич, как есть орленок: чует, что посажен в клетку, и, знай, на волю рвется. Просвети его Бог, открой ему очи! И нынче вон куда урвался — испробовать крылья! Сердце только у меня за него не на месте: как бы коршуны ненароком не налетели, не заклевали!
III
В таких разговорах две кумушки шли себе да шли незаметным подъемом гористого правого берега Москвы-реки, среди загородных садов и рощиц, пока не миновали села Воробьева, за которым против крутой излучины реки, на высшей точке Воробьевых высот показалась конечная цель их странствия — с десяток поставленных на высокие лафеты орудий с копошившимися около них пушкарями. Не на шутку заинтересованный беседой царской кормилицы с ее приятельницей, Алексашка теперь обогнал их и минуты две спустя очутился около самых пушек.
Открывшаяся внизу, под крутизною, обширная картина Москвы, на которую в 1812 году, как известно, загляделся сам Наполеон, не могла на этот раз занять нашего пирожника, неоднократно бывавшего уже здесь. Все внимание его приковал к себе распоряжавшийся пушками приземистый, но коренастый, с выпяченной грудью и внушительным брюшком пожилой мужчина в треуголке и капитанском мундире с красными отворотами, в высоких ботфортах и лосиных перчатках.
Алексашка хорошо знал его. То был огнестрельный мастер Симон Зоммер, выписанный за год назад из Неметчины для обучения царского войска «огненному бою» и назначенный тогда же капитаном в выборный полк думного генерала Аггея Алексеевича Шепелева. Несмотря на забавный ломаный русский язык, которым Зоммер отдавал орудийной прислуге последние приказания, ни сама прислуга, ни толпившиеся в стороне зеваки не смели выказывать слишком явно свою веселость: строгая воинская выправка иноземного капитана, его быстрый, пронизывающий взор из-под нависших серебристых бровей и повелительный, немного сиповатый голос внушал всякому если не уважение, то безотчетный страх.
Поэтому дерзость нашего мальчугана, остановившегося с лотком своим перед самым его носом, должна была тем более удивить господина капитана, который и разразился громовым раскатом:
— Sapperlot-Kreuz-Schock-Donnerwetter und Granaten!..
Но Алексашка был не из робкого десятка; с заискивающей улыбкой он почтительно-фамильярно снял с кудрявой головы обношенный войлочный колпак и довольно бойким немецким языком пожелал суровому немцу-пушкарю доброго утра, прибавив, что господину капитану нижайше кланяется фрау Елена.
Омраченные черты Симона Зоммера прояснились. Он и сам узнал теперь в краснощеком, пригожем пирожнике питомца-приживальца своей старушки-землячки Елены Фадемрехт, жившей с мужем и многочисленным потомством в пригородной Немецкой Слободе.
— So! Bist du das, Kleiner? (А! Это ты малец?) — промолвил он. — Что, фрау Елена, видно, свежих пирогов опять напекла?
— Самых отменных и горячих, — отвечал шустрый продавец, откидывая с лотка полотно. — Не угодно ли откушать?
— Спасибо, друг: видишь, не до того. Вот пожалует его царское величество, за делом, может, проголодается и потребует. Тогда смотри, чтобы хватило, да чтобы не остыли.
— А господин капитан кликнет меня?
— Я-то тут причем?
— Да уж коли господин капитан замолвит за нашего брата словечко, — молодой государь наш, верно, не оставит своей милостью, — вкрадчиво говорил Алексашка, старательно, однако, по доброму совету огнестрельного мастера, прикрывая опять свой лакомый товар, чтобы не остыл.
Зоммер только рукой отмахнулся: не до тебя, мол, и в явном нетерпении отрядил одного из своих пушкарей к Воробьевскому дворцу разузнать, скоро ли наконец молодому царю благоугодно будет пожаловать. Алексашка отретировался в толпе, которую два стражника с бердышами на плечах держали в почтительном отдалении.
— Ты, парнюга, куда полез! — зычно гаркнул на нашего пирожника один из стражников. — Вот я тебя! Давай, что ли, сюда твоих пирогов, да живо!
— Оботри сперва свое неумытое рыло! — огрызнулся тот, а сам благоразумно юркнул за ближайших зрителей, которые наградили его грубое острословие дружным смехом.
— Что, что такое? — озлобился стражник и с бердышем в приподнятой руке кинулся вслед за сорванцом.
Толпа раздалась по сторонам, и Алексашке ничего не оставалось, как прибегнуть к хитрости: уверить, будто пироги у него заказаны для самого царя Петра Алексеевича.
— Так бы и сказал! — буркнул стражник. — Ну, вы, зубоскалы! Что напираете? Грому на вас нет!
В это время по пути из города донесся быстрый стук лошадиных копыт. Симон Зоммер, заслонив глаза ладонью от бивших ему в лицо лучей невысоко стоявшего солнца, насупив бровки, засмотрелся по направлению топота. В облаках пыли мчался во всю конскую прыть, распустив удила, одинокий всадник, молодой стрелец из стражи царевны-правительницы Софьи Алексеевны.
— Ну? — спросил Зоммер, когда тот соскочил наземь и приблизился к нему.
— Благоверная государыня царевна наша повелеть изволила отнюдь не зачинать огненной пальбы, поколе сама сюда не пожалует, — отрапортовал с формальным поклоном гонец.
— Царевна персонально будет приезжать? — недоумевая, переспросил по-русски Симон Зоммер, и решительно покачал головою. — Этого быть не может!
— Вестимо, врет, господин капитан, — позволил себе ввернуть слово старший из пушкарей. — Царевна хоть и грамотейница, да девица степенная, разумная. С самого того спора раскольничьего из терема, слышь, ногой не ступила, в горенке своей, чай, шелковые кошельки только да пояски вышивает, бисерны лестовки вяжет…
— Молчать! — с сердцем оборвал капитан забывшего субординацию подчиненного и повторил по адресу гонца свое прежнее: — Этого быть не может!
— Но коли выслала меня вперед, стало — будет, — возразил тот.
— Не мое дело — государево дело!
И упрямый старик круто повернулся к гонцу спиною.
IV
Посланный на рекогносцировку пушкарь вернулся в это время и донес капитану, что государь идет сейчас от дворца.
— Идет! Идет! — загудел кругом Алексашки и заволновался народ.
— На места! — зычно скомандовал орудийной прислуге огнестрельный мастер, сам оправляясь и обдергивая на руках длинные лосиные перчатки.
По дороге показался стройный, осанистый юноша, сопровождаемый свитой малорослых, в сравнении с ним, товарищей-однолетков и несколькими взрослыми придворными.
Задерживаемая стражниками толпа любопытных выпирала из-за них со всех сторон и оттерла Алексашку в задние ряды, откуда ему из-за массы спин и голов ничего уже не было видно. Но сметливый мальчуган выбрался вон из толпы и обходом успел примкнуть к хвосту царской свиты.
— Что, горячи ли? — опросил его тут пискливым голосом карапуз с забавно сморщенной рожицей, кивая головой на лоток в руках пирожника. Оказалось, что то был не кто иной, как излюбленный карла молодого царя — Никита Комар.
— Прямо из пекла! — весело отшутился Алексашка. — Не отведаешь ли, Никитушка?
— Ужо поспеем, — приятельски подмигнул ему Никита. — Не отходи далеко-то, — покровительственно добавил он, — ступай за мной.
Алексашке только это и нужно было. Под протекцией столь важной в своем роде «персоны», как первый карла царский, он следом за ним пробрался к самым пушкам и с лотком наперевес смело стал впереди плотной линии глазеющей черни. Стоявший тут же навытяжку стражник сердито глянул на нашего выскочку, но не посмел уже его тронуть.
Недаром Олена Спиридоновна приравняла своего царственного птенца к орленку. Сегодня лишь царю Петру Алексеевичу исполнилось одиннадцать лет, а на вид ему можно было дать лет шестнадцать, даже восемнадцать: статный, стройный, ростом выше большинства окружающих взрослых людей, с выразительными чертами лица, с быстрым, проницательным взором, он высматривал бы совсем юношей, если бы не отсутствие всякого пушка над верхнею губою и на гладком подбородке. Гонец царевны Софьи приблизился было также и к Петру, но тот, не дав ему даже кончить свой рапорт, коротко приказал отойти и обратился к Симону Зоммеру.
Внимание Алексашки, впрочем, было уже отвлечено от царя-отрока. Пока последний осматривал орудия и с видимым интересом выслушивал мудреные технические объяснения немца-пушкаря, Никита Комар, точно польщенный своей ролью протектора вполголоса откровенничал с маленьким пирожником насчет себя и других присутствующих приближенных царя.
— Нам на житье свое жаловаться — Бога гневить, — говорил он с самодовольством оглядывая на себе пестрый шутовской наряд. — Не то вишь, что эти вон сермяжники и лапотники! К Светлому Христову Воскресению с ног до головы заново обшит. Да не я один! Вон хоть Никита Мосеич (карла мигнул на царского дядьку-учителя, Никиту Моисеевича Зотова, несколько чванного с виду, но благодушно улыбающегося толстяка). Книжной мудрости он, правду сказать, малую толику обучил государя нашего: псалтырю, часослову да за обедней петь на крылосе; но зато ж и превыше заслуг взыскан: сам я по приказу царскому закупил для него, Мосеича, тогда же у торгового человека Григорьева Ивашки нашивку плетеную золотую с кистьми. На целых шесть рублей раскошелился. Честь и место — думный дьяк!
— А Нестеров к Светлому Празднику чем был пожалован? — полюбопытствовал Алексашка, показывая глазами на другого учителя царского, Афанасия Алексеевича Нестерова, сухопарого и сумрачного старичка. — Ведь он никак стольник Оружейного Приказа?
— А то как же? Ему великий государь наш указал отпустить из мастерских палат на кафтан объяри, киндяку, галуну для нашивок. Вон, погоди, как ужо на солнышке взопреет, распахнет он опашень, — увидишь каков кафтан вышел: весь зеленый-то объяринный, подпушек камкою, расшит кругом галуном золотным с кистьми золочеными.
— Зато же он, слышь, и великий мастер в оружейном деле, во всяких этих воинских потешках, до коих государь наш так охоч, — заметил Алексашка.
— Знамо, что заслужил. Ведь кто первый-то государя с боярченками воинским артикулам этим наставил, кто поставляет им для их потех всякое оружие воинское? Все он же, Афанасий Алексеич. Пушки, правда, доселе были только якобы игрушечные, палили из них не порохом, а так, нажимом воздушным, — механикой, значит, да и ядра были деревянные, только для виду кожей обтянуты. Зато нынче палить из заправских пушек будем… Эге-ге! Вон и царевна едет посмотреть нашу пальбу.
В самом деле, в отдалении, на деревянном мосту через Москву-реку показался длиннейший торжественный поезд.
Впереди, во главе стремянного полка стрельцов, ехал дородный стрелецкий полковник, по временам гулко ударяя нагайкой по привязанному у седла его котелку-набату, чтобы попадавшиеся по пути пешеходы живей сторонились. Стройною цепью тянулись за ним в своих однообразных зеленых кафтанах, во всеоружии молодцы-стрельцы. Ярко играли золотые лучи солнца на светлых секирах; не менее ослепительно отражались они также в слюдяных оконцах следовавшей за стрельцами большой, позлащенной царевниной колымаги. Запряжена была колымага двенадцатью снежно-белыми «возниками» (упряжными конями). По бокам и позади нее бежали стольники-пажи, а по сторонам последних двигалась быстрым походным шагом ближайшая охрана царевны — рядовой стрелецкий полк в нарядных кафтанах, обращая колымагу правительницы как бы в огражденную со всех сторон подвижную крепость.
Но особенною роскошью и пестротою праздничных уборов поражали ехавшие за колымагой верхами бояре, окольничие, думные дворяне и думные дьяки. Опашни на них были из разноцветного шелка, у многих с золотыми узорчатыми вышивками; на князьях и боярах — высокие «горлатные» шапки (из меха с горла пушных зверей), на других придворных щеголях — плоскодонные мурмолки, опушенные соболем и усаженные жемчугом и самоцветными каменьями: седла у всех — бархатные либо сафьяновые, богато расшитые золотом, а вся конская сбруя разувешена светлыми цепочками, бляшками и бубенцами — смотреть любо-дорого!
За мужской придворной свитой ехало опять несколько обыкновенных придворных карет, в шесть темно-серых или буланых «возников» каждая. В каретах этих следовали «верховые» боярыни, карлицы и мамы царевны.
Хвост кортежа замыкался цепью пеших стрельцов в походном вооружении: с мушкетами, бердышами и копьями.
Подобно другим, и молодой Петр всматривался в пышный поезд, и между бровей его проступила зловещая складка.
— Те же янычары, — пробормотал тут кто-то за его спиной по-немецки.
Петр быстро оглянулся и увидел Зоммера, задумчиво следившего за поездом, скрывавшимся за поворотом дороги.
— Кто? Стрельцы-то наши? — с горечью переспросил Петр. — Да, истинная правда: янычары! Да что нам ждать их, господин капитан! Зарядите-ка сейчас ваши пушки.
— Зарядить недолго, — отозвался капитан, — но смею доложить вашему величеству с достодолжным решпектом и венерацией: благоверная царевна Софья недаром сравнивается современниками с вавилонской Семирамидой, с королевой английской Елисаветой…
— Да, государь, потерпи маленько! — просящим тоном вступился и учитель царский Зотов. — Неравно государыня-царевна наша осерчает, что ее не обождали.
— Да мы ей вперед отсалютуем! Сейчас же, капитан, извольте зарядить.
Зоммер не смел уже возражать. По знаку его подначальные пушкари расторопно стали забивать заряды в дула пушек, после чего засветили фитили. Ближайший пушкарь собирался уже поднести фитиль к запалу своей пушки, когда Петр остановил его:
— Постой! Дай-ка я сам…
Тут около него раздался пронзительный женский крик:
— Ай, нет, соколик, миленький мой! Побойся Бога… Но царь-отрок вырвал уже фитиль из рук пушкаря и приложил огонь к запалу. Впервые после сотни лет — со времен Грозного — с Воробьевых высот в ясное солнечное утро грянул над Москвою оглушительный пушечный удар. Гора под ногами толпившегося кругом народа словно дрогнула, заколебалась, а вырвавшийся из жерла пушки вместе с пламенем и относимый назад ветром дым окутал окружающих в легкое облако.
— Господи помилуй! Не убился ли, мой светик? — заверещал тот же слабый голос, и к молодому царю, вся бледная и трепетная от перепуга, с распростертыми руками протеснилась толстая, разряженная Олена Спиридоновна.
Такая неуместная заботливость отставной кормилицы перед всем собравшимся людом отнюдь не могла быть приятна ее бывшему питомцу. Он гневно вспыхнул и ожег Спиридоновну почти ненавистным взглядом.
— Дура глупая! Заряды-то ведь холостые. Ты как сюда попала? Вон!!
Не проронив ни слова, ошеломленная женщина отшатнулась, а усердные стражники мигом подхватили ее подмышки и спровадили подалей с ясных очей царских. Для Петра, впрочем, ее будто уже и не существовало. С дрожащими еще губами, но с напускным спокойствием, он отнесся к стоявшему рядом с ним учителю своему Зотову:
— Ну, Никита Мосеич, теперь твой черед.
Один за другим выпалили из всех заряженных десяти орудий Зотов, Нестеров, Зоммер, а там и кое-кто из отроков-сверстников Петровых: молодых Нарышкиных, Головкиных, Стрешневых, князей Черкасских, Мещерских, Голицыных. Пушкари с банниками захлопотались около пушек, чтобы скорее очистить их для дальнейшей пальбы.
— Этакая одиночная канонада еще что! — самодовольно говорил по-немецки Симон Зоммер. — Вот как опять зарядим да выпалим разом: так тут-то ваше величество узнаете подлинную канонаду.
Но и одиночная «канонада» настолько уже рассеяла вспышку юного царя, что он с повеселевшим лицом окинул кругом безмолвствовавшую, как бы запуганную толпу приветливым взором и сказал почтенному огнестрельному мастеру во всеуслышанье, по-немецки же, несколько благодарственных слов.
— Надо малость хоть дать остыть орудиям, — отозвался Зоммер, и чтобы несколько обуздать нетерпение Петра до прибытия сестры, он стал объяснять ему новые приемы артиллерийской пальбы.
V
— Наконец-то! — проговорил Петр и задорно приосанился, когда наконец из-за кустов по дороге замелькали зеленые стрелецкие кафтаны и блестящие секиры.
Поезд остановился; стрельцы живыми шпалерами стали по сторонам дороги, и вышедшая из своей колымаги правительница в сопровождении ближайших придворных чинов не спеша направились к месту «канонады».
Особенною красотою лица или хотя бы миловидностью царевна Софья Алексеевна никогда не выдавалась. В сентябре же минувшего года ей пошел уже двадцать шестой год, и цветущая свежесть первой молодости на лице ее заметно поблекла. Наперекор обычаю того времени, она гнушалась румян, белил, сурьмы: восковая бледность щек и густая от природы, «соболиная» бровь вполне отвечала непреклонному нраву и суровой величавости, отпечатленным в ее благообразных вообще чертах, в ее задумчивых, строгих глазах. Свою белую поярковую шляпу, подбитую по приподнятым полям золотным «червчатым» атласом, украшенную жемчужным «снуром» (лентой) и кистями, она носила гордо, как царскую «коруну» (венец), и нарочно, казалось, откинула с выразительного лица тончайшую, огненного цвета тафту. Вместо бывшего в руках ее «солнечника» (зонтика), ей гораздо более, конечно, приличествовало держать царский скипетр и державу…
Так, по крайней мере, думалось Алексашке, который подобно всем другим окружающим простым смертным, затаив дух, выжидал, чем-то разыграется встреча царственной орлицы с ее братцем-орленком.
— Ты стрелял уж тут без меня? — холодно и притворно спокойно начала царевна Софья; чуть заметно только дернуло у нее густую бровь.
Отрок-брат ее вскинул на нее огневой, смелый взор.
— Стрелял, — отвечал он и прибавил с легкой усмешкой. — Салютовал тебе!
Софья Алексеевна будто не заметила усмешки и продолжала с прежнею невозмутимостью.
— Гонец мой, стало быть, не оповестил тебя о моем приказе? Ты князь Василий, не оставишь проучить ослушника! — обратилась она к своему ближайшему советнику князю Василию Васильевичу Голицыну, красивому, видному мужчине в высокой «горлатной» шапке, в темно-зеленой ферязи с бархатным откидным воротником и серебряными застежками.
Голицын молча поклонился и вполголоса отдал стоявшему позади него подначальному стольнику приказание озаботиться «батожьем».
— Гонец твой, сестрица, тут ни при чем, — вступился Петр, — он упредил меня.
— Так как же ты дерзнул?
— Молчи, государь! Бога ради, опомнись! — шепнул Петру, наклонясь, Зотов. — Слово — не воробей: вылетит — не поймаешь.
— Так что же? — настаивала Софья, видя, что брат кусает губу и медлит ответом. — Прослышав про пустую затею, я тотчас отрядила к тебе нарочного…
Со смиренным поклоном выступил теперь вперед второй учитель юного царя, старик Нестеров.
— Не погневись, государыня царевна, на смелом слове! Дозволь рабу твоему всенижайше доложить: затея сия не совсем пустая, а хитрая заморская штука, при коей, как изволишь сама видеть, свой особый огнестрельный мастер…
Недоброжелательный взгляд сверкнул на заморского мастера из темных глаз царевны.
— Ума за морем не купишь, коли его дома нет! — сухо произнесла она. — Мы, люди русские, даст Бог и своим умом проживем.
— Да, ум хорошо, а два лучше! — не выдержав уже, подхватил Петр. — Заморская наука для русского человека — находка, а находку клади в карман: на что-нибудь пригодится.
С неприступным высокомерием слушала отрока-брата царевна-правительница, не удостаивая его даже взглядом. Обернувшись в сторону родной своей Москвы, она, казалось, любовалась расстилавшеюся внизу живописной панорамой первопрестольной столицы с ее пышными зелеными рощами и садами, с ее златоглавыми церквами, над которыми выше всех возносился к лазурному небу Иван Великий. Не так ли точно и она, Софья, самодержавно высилась теперь над всею Русскою Землею?
— Кабы Иван Великий был малость поменьше, — сказала она, и по тонким губам ее скользнула тень улыбки, — так и его бы, поди ты в карман положил?
— Погоди, подрасту — авось, положу! — нашелся ей тотчас меткий ответ.
Царевна через плечо пристально, почти враждебно оглядела брата. Точно впервые в жизни с удивлением заметила она, что перед нею уже не неосмысленный малыш, а полный сил отрок, чуть не юноша. Но сам он не смел знать этого, не смел!
— Ты забываешься, мальчик! — коротко отрезала она. — Выше лба уши не растут. А ты-то чего дожидаешься? — отнеслась она к Симону Зоммеру. — Пали!
И с величественным видом она отошла со свитою в сторону, чтобы не мешать пальбе.
Зоммер давно справился со своими пушками и был рад случаю прекратить тяжелую для всех присутствующих сцену между молодым царем и царевной. По мановению его руки пушкари одновременно поднесли зажженные фитили к запалам всех десяти орудий — и воздух огласился таким громовым раскатом, что одно только присутствие правительницы удержало многих из ее приближенных от слишком явного проявления обуявшего их смертельного испуга. Сама Софья сохранила прежний величаво-хладнокровный вид, — будто оглушительный залп вовсе не коснулся ее слуха.
— На сегодня будет! — промолвила она спокойным, не допускавшим возражения тоном.
Едва простясь с братом, милостиво кивнув окружающей черни, она двинулась обратно к своей колымаге и, немного погодя, только удаляющийся смутный шум поезда напоминал еще о бывшей сейчас сцене.
— Красна ягодка, да на вкус горька! — донесся сзади Алексашки говор народный.
VI
Подавляющее присутствие самоуправной сестры-правительницы, по-видимому, ошеломило и Петра. Теперь он будто пришел в себя и обратился по-немецки к огнестрельному мастеру:
— Зарядите-ка снова!
Симон Зоммер был, однако, так благоразумен, что не решился поступить вопреки прямому запрету самодержавной царевны. Он с сожалением пожал плечами и заявил, что после вторичной пальбы орудия не в меру нагрелись, чтобы можно было исполнить волю его царского величества.
— Так что же теперь: неужто и всему конец? — с видом разочарования спросил Петр.
— Не всему еще, — отвечал немец и поманил пальцем маленького пирожника. — Поди-ка ты теперь сюда.
Давно уже ждал Алексашка этой знаменательной для него минуты. Мигом подскочил он со своим лотком, преклонил перед молодым государем колено и раскрыл свой товар.
— Не побрезгай, милостивец, отведай! Есть с капустой, есть с вязигой и яйцами, есть и со всяким медовым вареньицем: с малиной, с вишеньем, с черной смородинкой. Сама Фадемрехтова для твоей царской милости испекла.
Сумрачные черты Петра слегка прояснились.
— Фадемрехтова? — переспросил он. — Пирожница немецкая? Едал уже ее печений.
Он наклонился к лотку и взял румяный, крупный пирожок.
— Этот с чем?
— С вишеньем, государь!
Петр откусил разом половину пирожка и причмокнул.
— А что, ведь превкусный! Даже не совсем еще остыл. Что же, мингер Зоммер? Угощайтесь. Никита Мосеич! Афанасий Алексеич! Прошу по-походному. И вы все, братцы мингеры…
Зоммер, Зотов, Нестеров, а за ними и вельможные товарищи-«ребятки» Петра взяли каждый по пирожку; сам Петр, справясь с первым, не замедлил приняться за второй, а там и за третий. Не прошло и пяти минут, как грузный лоток маленького пирожника был очищен, как ладонь. Питомец Елены Фадемрехт подвернулся, как говорится, под счастливый стих; он очень кстати рассеял накопившуюся по уходе царевны Софьи грозовую атмосферу. Радуясь за своего молодого государя, все закусывающие наперерыв старались расхваливать пекарное искусство «мадам Фадемрехтовой». Сам Петр, совсем уже просветлев, удостоил пирожника ласкового опроса:
— Ты, братец, что же, — сын Фадемрехтовой?
— Никак нет, государь, сызмалетства только ею в дом взят.
— Приемыш?
— Да… и блинами вот ее, печеньями немецкими промышляю.
— Да и говорит тоже бойко по-нашему, по-немецки, — одобрительно вмешался Симон Зоммер. — Вообще, ваше величество, у русского человека, надо признать, великий дар на чужие языки.
— Не на одни языки — на что угодно! — с ударением сказал Петр, ярким взглядом окидывая окружающих. — Рассчитайтесь-ка за пироги, Мосеич, — приказал он Зотову. — А ты, малый… Как тебя звать-то?
— Зовут Алексашкой, а крещен Александром, по изотчеству Данилыч, по прозванью Меншиков.
— Меншиков! — повторил молодой государь, вдумчиво всматриваясь в живое и смышленое лицо стоявшего еще на одном колене перед ним пирожника. — Твои, Меншиков, пироги пришлись нам по вкусу, и напредки ты можешь поставлять их нам в Преображенское.
Юркие глаза Алексашки радостно заблистали.
— Ты жалуешь меня, государь, своим придворным пирожником? Господь воздай тебе сторицей!
Он ударил в землю челом и крепко обнял ноги молодого государя. Тот смущенно усмехнулся.
— Ловкий малый: поймал на слове! Но от слова своего я не отступлюсь: быть тебе нашим лейб-пирожником.
На обратном пути ко дворцу на Петра нашло как будто раздумье. На вопрос одного из приближенных он вместо ответа пророчески заметил:
— У меня все на уме этот Меншиков. Даром, что простой пирожник, а сдается мне — далеко пойдет! Имя Меншикова Александра Данилыча будет знать, может стать, еще вся Земля Русская.
VII
— Ну, Александр, умница же ты, как погляжу, — говорила своему богоданному сыну скупая вообще на похвалы мадам Фадемрехт, пересчитывая принесенную им обильную выручку. — Лейб-пирожник царский — легко сказать! Смотри же, будь вперед еще угодливей с придворными боярами, а паче того с самим молодым государем: пусть думает, что ты ему всей душою предан.
— Да нешто я ему не предан? — воскликнул Алексашка. — Я за него сейчас хоть в огонь и в воду!
Чаще чем когда-либо захаживал теперь пирожник наш в Коломенское, вертелся там около хором отрока-царя, от которого на всех словно исходила какая-то животворная сила. С самым искренним сочувствием ловил Алексашка из неисчерпаемых рассказов придворной челяди всякие, мелкие сами по себе черточки из жизни Петра: из черточек этих складывались первые легкие очертания будущего могучего, лучезарного образа преобразователя России.
Красивое, смышленое лицо приемыша «мадам Фадемрехтовой», глядевшее всегда так бодро и весело, скоро так же настолько примелькалось Петру, что тот издали уже, бывало, приятельски окликал его:
— А! Лейб-пирожник наш! Что, по добру, по здорову ли твоя мадам-то?
Недолго спустя патронша Алексашки в Немецкой Слободе удостоилась даже личного посещения его царского величества. Петр сказал ей по-немецки несколько лестных слов о ее отменных печеньях, и после этого чистокровная немка Helene Fademrecht сама чуть не бредила молодым Русским царем.
Так особенное удовольствие доставили ей пересказы ее земляков-соседей из Немецкой Слободы о том, как держал себя царь Петр Алексеевич при торжественном приеме в Кремле славного в ту пору шведского путешественника Кемпфера, завернувшего летом 1683 г. в Москву.
Приемная-де палата была разувешена кругом цветными турецкими коврами; на одной стене поверх ковров блистали золотыми ризами и драгоценными каменьями святые иконы; под иконами же в серебряных креслах среди бояр придворных сидели рядышком два брата-царя — Иван да Петр, в царской порфире. Старший, Иван, которому в наступавшем августе должно было уже минуть семнадцать лет, насупясь, застенчиво потупил очи в пол; меньший же, одиннадцатилетний Петр, светлый и ясный, как день весенний, весело и задорно поглядывал по сторонам. Как подошел тут к ним посланец «свейский», как подал им с чинным «реверансом» верительную грамоту и дядькам царским, по уставу стародавнему, надлежало поднять обоих царей под руки, дабы подсобить им на резвые ножки встать, — глядь, Петр-то Алексеевич, не выждав, сорвался сам с кресел, снял с головки свою царскую шапку и звонким таким голосом приветствовал именитого гостя «по формуле».
— Его королевское величество, брат наш Каролус Свейский по здорову ль?
Бояре кругом, брады уставя, просто диву дались, смутилися: как им и быть-то! А сам Кемпфер после говорил своим родичам в Немецкой Слободе, что молодой-де лев с первого взгляда виден; как бы лишь белому медведю скандинавскому с ним как-нибудь на беду не сцепиться, что четверть века спустя в самом деле и случилось.
Отдав «приватным манером» визит Кемпферу, Петр с этого времени вообще зачастил в Немецкую Слободу, где скучилось пришлое из чужих земель население Белокаменной: немцы, голландцы, англичане, французы и где в лавочках и мастерских иноземцев ненасытная любознательность его находила всегда новую пишу. Более всего впрочем (как слышал Алексашка от придворной прислуги), занимали Петра со времени «огненного боя» с Воробьевых гор воинские потехи, и к прежним малым деревянным пушкам летом того же 1683 года стольник Головкин должен был доставить из Кремля в Преображенское шестнадцать новых пушек. Вместе с тем, в Немецкой Слободе у искусника-токаря из Любка было заказано для царских полковых «сиповщиков»-музыкантов двадцать пять точеных кленовых «сипош» (дудок).
Наступила осень. Пошли дожди, холода; выпал первый снег. Тут прошел слух, что меньшому царю, Петру Алексеевичу, для ратной потехи его мало уже своих однолеток, что намыслил он будто набрать себе для заправской воинской службы особый полк из людей взрослых. А в день Андрея Первозванного, 30 ноября, Алексашке случайно довелось быть свидетелем, как совершился первый набор царский.
Палаты отрока-царя в Преображенском были возведены около самой церкви Преображения Господня и ничем особенным не выдавались от домов зажиточных обывателей. То было деревянное жилье в два яруса, с обычными коньками и узорами по крыше и крылечку. По сторонам шли конюшни, оружейные и другие кладовые.
Наведавшись, по обыкновению, ранним утром в Преображенское, Алексашка застал на царском дворе большое сборище мужской придворной челяди. Никому на этот раз не было дела до маленького пирожника, который в иное время, как форменный поставщик молодого царя, пользовался в Преображенском изрядною популярностью. Толпились тут и служители комнатные, и постельные, и истопники, и повара, и конюхи, и все они, видимо, были возбуждены, смущены. Из отрывочного их говора Алексашке удалось перехватить одно: что согнали-де их всех сюда по личному приказу меньшого царя Петра Алексеевича. А для чего, про что? Кто его ведает! Бают что-то совсем уж несуразное: будто всех их ноне же, от мала до велика, «с борку да с сосенки», под стрелецкую шапку, под ружье!
Общее недоумение вскоре разрешилось. На крыльце в сопровождении думного дьяка Зотова, огнестрельного мастера Симона Зоммера, генерала-шотландца Патрика Гордона и товарищей-боярченков показался сам государь. Несмотря на то, что на дворе, как сказано, лежал уже снег и слегка морозило, на Петре была одна лишь летняя епанча. Но и без того от него так и веяло теплом и здоровьем молодости.
— Здорово ребята! — весело приветствовал он челядинцев, озаряя их с вышины крыльца своим быстрым светлым взглядом.
— Здравия желаем, государь! — перекатилось по толпе; однако передние пятились на задних, точно норовя схорониться подалей.
— Чего испугались? Ну, чего? — прикрикнул на них Петр, а сам, слегка вспыхнув, покосился на стоявшего рядом Гордона — почетного гостя, прибывшего накануне из Киева (где заведовал крепостными сооружениями) и приглашенного нарочно для присутствования при наборе. — Вперед!
Толпа заколебалась, и передние под напором задних довольно неохотно подались опять несколько вперед.
— Ближе! Вон сюда, говорю вам! — упорно настаивал молодой царь, указывая точку на земле, в трех шагах от нижней ступеньки крыльца.
Что тут было делать? Те придвинулись еще ближе, к самой указанной точке.
— Дело, ребята, вот какое, — заговорил Петр. — Для потешной службы моей нужны мне ныне заправские ратники, мой собственный потешный полк. Но зову я только тех, что пожелают идти ко мне доброй волей и охотой, что готовы без опаски и оглядки служить мне, исполнять все то, что ни повелю. Неволить никого я не желаю. Поняли? Но найдутся меж вами, я думаю, и без того добровольные охотники послужить царю верой и правдой?
Ратная служба на Руси в былое время была не в пример нынешней — куда строже и тяжелей, да притом и бессрочная. Коли взаправду новый полк у царя Петра Алексеевича будет все одно, что другие, — так чем идти туда на кабалу вечную, наперед-то надо было семь раз примерить, поразмыслить, пораскинуть умом-разумом.
Того же мнения, должно быть, был и рассудливый шотландец Патрик Гордон, когда на добровольный призыв царя никто сперва не откликнулся: задние, видимо, прятались за спины соседей, а стоявшие на виду уставились в землю. Наклонясь к Петру, Гордон шепотом сказал ему несколько слов. Но Петр нетерпеливо тряхнул головой и звенящим голосом крикнул челядинцам.
— Так что же, ребята? Найдется меж вами кто или нет?
Толпа загудела и сквозь это гуденье можно было разобрать отрывочный говор:
— Коли служить государю, так не все ли едино, — где да как! — говорил один голос. — Нешто это служба, где семеро одну соломинку несут? Чем без пути болтаться, так лучше ж по призыву идти. Велит голову сложить — сложим, не покинем!
— Ты, Серега, знамо, забубенная башка! — загалдели в ответ другие. — Грудь нараспашку, язык на плечо. А как за вихор поволокут…
— Зачем за вихор? И так пойдем!
— И ступай. Кто тебя держит, бесшабашная голова! Вольному воля…
— И пойду! Пропустите, что ли!
Вперед протискался среднего роста, но широкоплечий, ширококостный, беззаботного вида малый лет двадцати четырех, в одежде придворного конюха и, остановясь перед крыльцом, поклонился земно.
Затуманившиеся было черты лица царя-отрока точно осветились разом проглянувшим из-за туч солнцем. Он сошел на нижнюю ступеньку крыльца и, положив руку на плечо своего первого добровольца как-то необычно ласково спросил его:
— Ты, стало быть, идешь не по нужде горькой, а по охоте вольной?
— По всей охоте, надёжа-государь!
— А ружьем владеть умеешь?
— Есть, государь, у меня ружьишко немудрящее: грешным делом, похлопываю.
— Стало быть, и с ручной гранатой справишься?
— Рады стараться твоему величеству!
— Каяться вовек не будешь: даю тебе на том мое царское слово. Ни кола, ни двора у тебя, я чай, нету?
— Нет, государь.
— Так жалую тебя тут, в Преображенском, земельным наделом под двор, да лесом, сколько нужно для постройки.
— Спасибо тебе, кормилец наш!
Пожалованный бухнул в ноги великодушному государю. Петр украдкой глянул опять на Гордона, с добродушной улыбкой наблюдавшего за обоими, и обернулся к Зотову:
— Запиши-ка этого молодца первым бомбардиром[3] в наш потешный полк.
Зотов достал из кармана записную книжку и свысока отнесся к молодцу:
— Как тебя записать-то?
— Ужели ты его не помнишь, Никита Мосеич? — укорил своего учителя Петр. — Это Серега, второй конюх при наших потешных лошадях.
— Пиши, сударь, — сказал, приподнимаясь с земли, Серега: — Сергей Леонтьев сын, по прозванью Бухвостов.
VIII
— Поздравляю, ваше величество! — заметил по-английски Петру шотландец Гордон, указывая рукой на скучившуюся перед крыльцом придворную челядь. — Пример, как видите, заразителен: сейчас явятся еще новые добровольцы.
И точно: толпа, как море, заволновалась, одни подталкивали других.
— Идти так идти! На миру и смерть красна.
Но прежде чем кто-либо окончательно выступил перед другими откуда ни возьмись, перед молодым царем очутился Алексашка — без лотка, который он сложил в стороне наземь.
— Прости, батюшка-царь, прими и меня, пожалуй! Кругом раздался сдержанный смех; на губах самого Петра заиграла снисходительная усмешка.
— Ты тоже в мой потешный полк просишься?
— Точно так, государь. Прими, не откажи!
— Да не слышал ты разве, что мне один взрослый люд нужен. А тебе сколько лет-то будет?
— Да недалеко от тебя, государь: десятый год на исходе, — бойко отвечал маленький пирожник, а сам, сложа руки, так умильно глядел снизу в лицо отрока-царя, что тому жаль его стало.
— В потешные свои, братец, мне тебя принять никак невозможно — более серьезно произнес Петр, — ростом-то ты уж больно не вышел. Но приблизить тебя к себе, пожалуй, приближу: в денщики к себе приму.
Алексашка так и подпрыгнул от радости, а потом вдруг, опустясь на колени, обнял обеими руками ноги своего молодого государя.
— Ну, ладно же… будет — говорил, видимо тронутый Петр. — И его, значит, занотуй, Мосеич, денщиком нашим. Александр Данилов сын Меншиков. Так, ведь?
— Так, государь, так, — отвечал Алексашка Меншиков с блещущими от выступивших у него слез глазами и безгранично счастливо встряхнул густыми кудрями.
По весне по ранней птица тянет. Так и тут: за Бухвостовым и Меншиковым, взысканными царскою милостью, двинулись теперь на перерыв к крыльцу, чтобы записаться в новый потешный полк, «охочие люди», имена которых доныне сохранились для потомства: Данило Новицкий, Лука Хабаров, Еким Воронин, Григорий Лукин, Степан Бужеников и другие.
На первый раз, правда, набралось охотников не более двух десятков, но Петр и то был крайне доволен. Когда же Гордон заявил сожаление, что патриотизм русского народа ограничился столь скудной цифрой. Петр сгреб с перил крыльца охапку снега, скомкал ее в руках, бросил комок на двор и крикнул своим добровольцам:
— Ну, ребятушки! Сослужите-ка мне первую службу: выкатайте мне из этого комка большой ком.
Те хоть и недоумевали, на что такая «служба» потребовалась молодому царю, но, не прекословя, бросились все сообща исполнять волю государеву. За ночь выпал свежий снежок и все продолжал падать. Под совокупными усилиями новобранцев рыхлый снег липкой замазкой приставал к первоначальному кому — и в две-три минуты разросся уже в громадную снежную глыбу.
Петр с торжествующей улыбкой обернулся к Гордону:
— Видели, генерал, как из малого комка снега выросла, вон, целая гора? Так же точно нынешние новобранцы мои — только первое ядро моего потешного полка, моей будущей великой рати… Да поможет мне на том Бог! — тихо по-русски прибавил он про себя, снимая шапку и благоговейно осеняя себя крестом.
IX
Одному существу только пришлась куда не по душе новая затея царя Петра Алексеевича — «мадам» Фадемрехт. В Алексашке, произведенном в денщики царские, она лишилась не только образцового сбытчика ее образцовых печений, но и как бы родного детища, потому что всегда веселый, услужливый, шустрый мальчуган оживлял весь ее дом и был люб всем ее домашним.
— Ах ты, золото мое! — говорила почтенная булочница, когда он спустя несколько недель, навестил опять ее в Немецкой Слободе и принес для ее детей полный карман «заедков»: леденцов паточных, пряников медовых, орехов волошских, сбереженных им за это время с царского стола. — Где это ты все пропадал? Ведь вот государь твой бывает же у нас тут в Слободе, а ты хоть бы нос показал?
— Что делать, дорогая мадам! Служба — не дружба! — отвечал Меншиков. — Денщик дома гляди за господином своим в оба, а вышел господин за дверь — денщик шагу за ним сделать не смей.
— Вот то-то ж и есть! Ты, стало быть, скучаешь?
— Где нам скучать, мадам! До скуки ль, коли с утра до вечера барабанный бой да флейты.
— Пора бы, кажись, уняться от этого баловства!
— Нет, мадам, — убежденно возразил Меншиков. — Это у нас уж не баловство. Что день — к нам в потешную дружину записываются новые охотники, да не один лишь черный народ, а комнатные его величества люди из «изящных фамилий». Да как Нестерову и Зоммеру вдвоем со всеми новобранцами зараз не управиться, то государь наш завербовал уж в Москве и тут, в Немецкой Слободе, шотландцев и немцев, что прошли у себя дома воинские артикулы.
— Слышала, милый, слышала и дивилась им! — сказала мадам Фадемрехт.
— Да ведь они назначены с места либо штаб-, либо обер-, либо унтер-офицерами. Сам государь-то назвался рядовым барабанщиком, дабы все воинские чины прямыми заслугами пройти. Поглядели бы вы только, мадам, на наших молодцов потешных!
— Слава Богу, видела, шляются тоже по Слободе нашей: в темно-зеленых кафтанах чуть не до колен, в чулках, штиблетах, тупоносых башмаках, кожаных или лосиных перчатках да в черных шляпах с круглыми полями — этак набекрень, точно важные господа какие!
— А что же, разве нехорошо? Государь наш намыслил еще заместо этих круглых шляп завести треуголки, как нонче у немцев. А посмотрели бы вы их во фронте при оружии: офицеры — с пиками, сержанты да каптенармусы — с «лебардами», постарше рядовые — с «фузеями» одноствольными и двуствольными, а рекруты — с самопалами и все-то, известно, при саблях. Как выстроятся в ряды, под барабан да флейты, да литавры пойдут маршировать в ногу: «раз-два! раз-два!» как сомкнутся в колонны либо разбегутся врассыпную и заведут мнимый бой, зачнут тебе палить — трах-тарарах! — глядеть да слушать любо-дорого!
— Ну, да! А генерал-то Гордон отчего отказался играть с вами в солдатики?
Маленький царский денщик покраснел и замялся.
— Не то, чтобы отказался… Но он тут, сами знаете, наездом только из Киева. Зато не кто иной, как он же указал государю на своих земляков-шотландцев в Немецкой Слободе и помяните мое слово: Гордон станет еще царю нашему правою рукою!
— Давай Бог!
Не одна Фадемрехтова с этих пор, а можно сказать — все подмосковное население с неослабевающим интересом следило за воинскими упражнениями молодого царя. Стольник Головкин, как было известно, то и дело должен был поставлять в Преображенское из Оружейной Палаты всякие воинские снаряды: и пороху-то, и дроби свинцовой, и «лебард», и палашей, и «кончер» (род мечей), и «пищалей» всяческих — золоченых, винтованных, духовых и скорострельных о десяти зарядах, и «посольских» булатных топоров, и «бунчуков» крымских с хвостами…
Не довольствуясь уже своим Преображенским, Петр целыми днями делал со своими потешными объезды и «походы» в ближайшие окрестности Белокаменной. Но во все эти отлучки маленький денщик обязательно должен был брать с собою шахматную доску, расписанную по золоту разными красками, и коробочку с шахматными фигурами, искусно вырезанными из слоновой кости, потому что вечером, после утомительной воинской игры Петр Алексеевич отдыхал за умственной игрою — шахматами.
Царевна Софья Алексеевна со времени встречи с младшим братом 30 мая 1683 г., на Воробьевых горах заключилась снова в своем кремлевском тереме, и хотя до нее так же долетали туда слухи о воинских забавах брата, но она относилась к ним, по-видимому как ко всякой другой ребяческой затее: чем бы, дескать, дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.
Между тем забавы эти принимали все более обширные размеры. В вечерние часы, перед сном неугомонный Петр поверял своему неразлучному денщику «Данилычу» (как начал звать он теперь Меншикова) роившиеся у него в горячей голове новые планы и предприятия; а тот, имея природную способность мигом усваивать себе чужую мысль, подбивал еще своего царственного господина на всякие новшества, придавал им окончательно практическую форму.
Раз в самом начале 1685 года, середи ночи Меншиков, спавший в сенях, рядом с опочивальней молодого государя, был разбужен громким окликом Петра.
— Ступай-ка сюда, Данилыч, да накройся чем-нибудь потеплее, чтобы не остудиться. Садись ко мне: мне надо кой о чем важном потолковать с тобою… Изволишь видеть, — начал Петр, когда денщик примостился у ног его на краю кровати, — доселе мы с нашими потешными обучались одному только пешему строю в открытом поле, о крепостной же науке, фортификации мы и понятия не знаем. Так вот, дабы изведать на деле осадный куншт и хождение на штурм, не соорудить ли нам потешную фортецию, а?
— Крепостцу, государь? Да отчего бы и не соорудить! — воспламенился тотчас счастливою мыслью Меншиков. — Благо, зимнее время: по санному пути живой рукой навезли бы бревен…
— Вот-вот! — подхватил Петр, ободренный таким сочувствием маленького советника. — Только где бы ее лучше построить: тут ли в Преображенском или подалей где? Коли тут под рукой, так недалеко по крайней мере каждый день в поход идти.
— А вот что, государь, — сообразил мигом смышленый денщик. — Ведь крепостца-то этакая должна быть точно крепка, неприступна. На Воробьевых горах ей было бы, пожалуй, самое подходящее место. Но туда отселе далеконько — это раз, а потом, как проведает еще царевна Софья Алексеевна…
— Верно! Там не годится, — быстро перебил Петр. — Так где же лучше-то по-твоему?
— Да здесь же, на Яузе, только насупротив отсюдова, на том берегу: все же не так просто и скоро через реку под крепостцу подобраться. Там же по бокам две рощицы — Лосиная да Лебяжья: есть где осаждающим укрыться.
— Ай да Данилыч! — воскликнул Петр. — Так тому стало, и быть.
Глубоко в ночь, до первого просвета утренних сумерек совещались еще царь-отрок со своим денщиком о подробностях задуманного предприятия, и перед живым воображением обоих как бы воочию восстала на том берегу Яузы в совершенно законченном виде небольшая крепость с срединной башенкой, с подъемным через реку мостом, с земляным валом и прочее. Даже имя новой фортеции было тут же придумано Петром.
— Назовем ее Пресбургом. Такой город, знаешь, в Венграх столицею есть, — пояснил он недоумевавшему денщику.
Стремительно быстрый в своих решениях Петр не любил откладывать их исполнение в долгий ящик. С февраля месяца того же 1685 года по зимнему еще пути на противоположный берег Яузы, между рощами Лосиной и Лебяжьей, стали свозиться всякие строительные материалы: бревна, брусья и доски, железо и камень; а с первым весенним теплом усердно закопошились там, как пробудившиеся от зимней спячки муравьи, сотни землекопов, каменщиков и плотников. Само собою разумеется, что дело не обошлось без руководства знатоков-иноземцев из Немецкой Слободы.
К осени на той стороне Яузы возвышалась уже вчерне целая «фортеция»: два жилых домика с высокою деревянною башнею; при них необходимые служительские избы, оружейные амбары и навесы. Широким полукругом вокруг строений, начиная от реки и опять до реки, был возведен бревенчатый забор, окруженный снаружи высоким «барбетом» — земляною насыпью, покрытою в крепостце дерном, а снаружи обшитою бревнами, с «бруствером» для стрельбы из пушек. Через Яузу полагалось перекинуть два небольших подъемных моста: один — к селу, другой — к царским конюшням. Для переправы же более грузных повозок — карет и рыдванов — должны были служить плавучие плоты у укреплявшихся сваями берегов — «террас».
Нетерпеливый Петр ежечасно, ежеминутно, можно сказать, торопил работами, чтобы еще осенью иметь возможность испытать свои силы в «осадном кунште». Меншикову не раз приходилось успокаивать, урезонивать его, что нельзя же наперед не покрыть зданий тесом, не настлать полов, не поставить печей, не навесить дверей, не вставить и оконных стекол, не говоря о надлежащей окраске домов внутри и снаружи, чтобы они мало-мальски-то хоть были на царское жилье похожи.
— Да в походе-то разве разбирать положено? — запальчиво возражал Петр. — Иной раз ведь и на голую землю, под дождем и снегом ляжешь.
Однако вплоть до Пасхи следующего 1686 года главнейшие работы еще затянулись. Тут, на Фоминой, едва только тронулся лед на Москве-реке и Яузе, новая фортеция Пресбург была освящена «огнем и мечом».
X
Над селом Преображенским словно грозовая буря разразилась. Воздух сотрясался неумолчным грохотом пушек и ружейным треском, так, что оконные стекла во всех домах села дребезжали. Население, как местное, так и окружных слобод и сел, высыпали как на пожар, и столпилось на берегу Яузы, заглядываясь на ту сторону реки, где происходил штурм новой царской крепостцы, Пресбурга.
Подоспела туда почти к началу действия и знакомая нам вторая кормилица царская, Олена Спиридоновна.
— А где же сам-то он, голубчик мой, Петр Алексеевич? — тревожно спрашивала она у стоявшего около нее царского старика-прислужника. — Ишь дымище-то какой! Ничего насквозь не разглядишь.
— А вон он — впереди других со знаменем в руке, — отвечал прислужник.
— Вижу, родимый, вижу! Так чего ж он не упрятался в крепости?
— Экая ты, несуразная, Спиридоновна! Ведь государь же берет ее тепереча приступом.
— Да кто же там-то, в самой крепости?
— А учителя государевы — Нестеров да Зоммер. «Держитесь, — говорит им, — да защищайтесь, как знаете: вам, мол, и книги в руки, а мы, говорит, изловчимся и вырвем у вас книжку из рук».
— Ведь вот бесстрашный! И палатки вон там у Лебяжьей рощи, поди, его же, царевы?
— Вестимо. Оттелева и зачали бой. Глянь-ка, глянь! Завязали рукопашную.
В самом деле, нападающие среди облаков дыма бросились вперед врассыпную и полезли на приступ.
Но маститый комендант крепости, Нестеров, не хотел, очевидно, без упорного сопротивления сложить оружие перед своим прытким учеником. Сам, стоя на высоком валу, он одушевленно подбодрял защитников крепости к энергическому отпору, и те обнаженными саблями, прикладами фузей, а то и просто кулаками, отбивались и сбрасывали атакующих в ров. Несмотря на то, что отдельными отрядами последних руководили немецкие офицеры, все искусство, весь натиск их ни к чему им не послужили.
— Вон! Никак отбой бьют? Так и есть! На попятный пошли, — говорил, соболезнуя о неудаче молодого царя, старик-прислужник, стоявший по-прежнему на том берегу Яузы среди глазевшего народа рядом с царской кормилицей.
Спиридоновна, постоянно замирая от страха за своего питомца, как бы «дурна не учинилося», в то же время не могла не желать ему всякого успеха и потому готова была теперь заплакать.
— Ах, сердечный ты мой! Каково-то ему на душе? Мечется, небось, как угорелый… Ан нет, постой, братцы, глядите: у Петруши-то моего что-то, знать, уже надумано. Не с реки ли подобраться хочет?
Пока большинство Петрова войска стягивалось обратно к Лебяжьей роще, сам Петр с небольшим отрядом свернул уже к укрепленному «террасой» берегу, где был привязан большой плавучий плот, служивший, как упомянуто, для перевозки через Яузу грузных повозок. Не прошло пяти минут, как плот был отвязан, занят всем отрядом с молодым царем во главе и пробивался сквозь тонкую ледяную слюду, затянувшую за ночь поверхность воды, к невысокому барбету, которым фортеция была ограждена со стороны реки.
— Ура! — гулко донеслось в это самое время от царских палаток у Лебяжьей рощи, и вся нападающая рать беглым шагом двинулась оттуда снова на крепость.
На крепостном валу поднялся страшный переполох. Приходилось одновременно отбиваться и с суши и с «моря». Против Петра с его «морским» отрядом комендант крепости мог выставить только небольшую кучку отборных потешных, под начальством молодого лифляндца Менгдена (впоследствии полковника Преображенского полка), который одним богатырским ростом своим внушал уже к себе доверие.
Плот между тем причаливал к барбету. Менгден решился на крайнюю меру.
— В атаку! — скомандовал он, и весь отрядец его вслед за ним прямо с барбета навалился на стоявших на плоту.
Произошла отчаянная рукопашная схватка. Неустойчивый плот под напором и отпором дерущихся погружался в воду то с одного края, то с другого, и бывшие на нем один за другим срывались с плота и с плеском падали в реку.
— Вперед, братцы! За мной! — раздался вдруг сквозь общий бранный гомон отрочески звонкий голос Петра. Без шапки, с развевающимися кудрями, со знаменем в приподнятой руке он стоял уже на барбете.
Но Менгден также не зевал. Помощью большого багра он со всем напряжением своих геркулесовых сил оттолкнул от берега грузный плот со всеми стоявшими еще на нем бойцами, и плот, тихо качаясь, поплыл вниз по реке. Менгден с торжествующим смехом обернулся к Петру и распростер в обе стороны руки, чтобы не пропустить его.
— Ну, теперь сдавайтесь, государь! Ведь, все равно, вам от нас уже не уйти.
И точно: с разных сторон подскочило еще несколько неприятелей-потешных и окружили Петра.
— Попался! Ай, болезный мой! — глубоко вздохнула на том берегу Спиридоновна, свидетельница всей описанной сцены.
Но опасение ее было преждевременно. С пылающим от гнева лицом Петр прорвался сквозь цепь обступивших его врагов и мгновенно одним прыжком с барбета очутился в реке и скрылся под ее усеянною льдинами поверхностью.
Спиридоновна только ахнула и опрокинулась на руки своего соседа-прислужника: толстухе сделалось дурно.
В лагере неприятелей также произошло общее смятение, и бой по всей линии разом прекратился.
Но вот над водою показалась голова Петра. Десятки услужливых рук с «террасы» протянулись к нему навстречу. Но он сердито не принял непрошенной помощи, сам вылез проворно на сушу и, отряхнувшись, без оглядки быстрыми шагами пошел к палаткам. Слух о несчастном приключении с молодым царем мигом облетел все Преображенское и, недолго погодя, оттуда отчалил на плоте царский врач, голландец ван дер Гульст, которого переполошившаяся царица-мать Наталья Кирилловна отрядила к сыну.
— Сейчас назад вези его, сударь! — кричала вслед врачу с берега очувствовавшаяся опять Спиридоновна. — Мы тем временем истопим голубчику баньку: против этакой бани лучше средствия от простуды нету.
Но напрасно была истоплена «банька», тщетно ждала царская кормилица до позднего вечера обратно своего ненаглядного Петрушу. В этот день он так и не показался уже никому из своей походной палатки.
XI
А что же Меншиков? Он был около своего молодого государя в палатке, разбитой у Лебяжьей рощи. Одинокий ночник освещал внутренности палатки. Петр отдыхал на своей походной кровати, прикрытой мохнатой буркой; у ног его, свернувшись на войлоке, лежал его молоденький денщик.
По временам Меншиков поднимал голову, чтобы удостовериться, не заснул ли его господин. Но Петру было не до сна. Он то поворачивался с бока на бок, то стонал, вздыхал, и денщику сдавалось, что того бьет даже лихорадка.
— Ты не спишь, государь? — решился он спросить его наконец.
— Заснешь тут! — был сердитый ответ. — Что-то будто горло перехватило.
— Так и есть, — с беспокойством подхватил Меншиков. — Искупавшись в студеной воде, ты верно схватил лихоманку; тебя, государь, знобит.
— Давеча, может, и знобило, но теперь весь как в огне горю… Устал, знать, шибко…
— Нет, государь, ты простужен! Сейчас кликну твоего немца-лекаря…
— Не смей! — повелительно остановил денщика Петр. — Слава Богу, не малое дитя: и так пообмогусь.
— Но ты же до сих пор даже глаз не сомкнул…
— Потому что не спится. До сна ли после такого позора?
— Э, государь! В чем же позор-то? В том, что два старика-учителя твои, Нестеров да Зоммер сразу тебе не сдались? Да на кой прах бы они, скажи, годились кабы день-то один не смогли удержаться в крепости противу тебя? Гроша бы медного они не стоили!
— Так-то так…
— А что искупался ты раз ненароком — эка диковина! Шла туча блинная — столкнулась с тучей пирожною.
— Ну, да! Ты — старый пирожник: тебе все блины да пироги. А если мне и завтрашний день не удастся штурмовать крепость…
— Так это будет значить, что мы зело хорошо укрепили ее и что твои потешные там тоже лихие молодцы. Честь тебе, значит, и слава.
— Ты, Данилыч, меня все только улещаешь. А как никак, до сих пор честь и слава на их стороне…
— В заморских премудростях — пускай. А мы их нашею русскою хитростью-мудростью перемудрим. Дозволь мне, государь, слово молвить…
— Говори.
— Теперь они, поди, с денной работы все в повалку дрыхнут. Луны еще на небе нету, темень непроглядная. Подобраться бы к ним потихонечку, с бережью великою да захватить врасплох.
— Как бы не так! На валу они, верно, часовых расставили.
— А тех мы, постой, осилим по-своему. Прикажи только, государь, отпустить бочонок крепкого полугару…
— А! Понимаю: военную хитрость! — вскричал Петр и, весь встрепенувшись, вскочил с постели. — Вели трубить сбор…
— Что ты, батюшка! Все тихомолочком да полегонечку. Я за свое дело, а ты — за свое.
На валу фортеции Пресбург по распоряжению Зоммера действительно было расставлено на ночь несколько часовых. Но ночная служба после денной передряги была, видно, не понутру караульным: один, всего более выносливый и преданный своему долгу, расхаживал еще взад и вперед по валу с мушкетом на плече. Двое, завернувшись в свои плащи, прикорнули под лафетом пушки и изредка обменивались отрывочными фразами. Еще двое спустились сперва в сухой ров между валом и забором под предлогом, что там они лучше защищены от холодного ветра, а затем, пользуясь темнотою безлунной ночи, незаметно скрылись со своего поста, очевидно, не придавая еще должного значения строгой воинской дисциплине.
— Тоже служба называется! — ворчал один из наличных часовых, расположившихся под пушкой, поводя продрогшими плечами. — Глянь-ка вверх на небо: эвоно как вызвездило! К морозу, значит. Изволь тут мерзнуть, как пес дворовый, ночь напролет!
— А уйти тоже не моги, — отозвался другой, — этот немчурай огнестрельный мастер шутить не любит: бока таки нагреет.
— Тем, стало, теплее будет! — сердито усмехнулся первый. — Эхма! Кабы кто хошь шкальчик поднес.
— Как же, дожидайся!
В это время вблизи беседующих, под самым валом раздался осторожный свист. Неутомимый часовой на вале не замедлил окликнуть свистуна:
— Кто идет?
— Отвечал отроческий альт, да так тихо, что двум отдыхающим караульным нельзя было расслышать.
— Что там такое? — заинтересовался один из них. — Пойти разве посмотреть?
— Ступай, коли не лень, — был ответ.
Но минуты две спустя его самого вполголоса позвал товарищ.
— Эй, Сидорка! Поди-ка сюда, да чур не шуми. Сидорка не мог теперь не последовать зову.
— Что, небось, говорил я тебе сейчас про шкальчик, ан шкальчик уже тут как тут, по щучьему веленью, по моему прошению.
Оказалось, что пожаловал к ним царский денщик Данилыч. Как стало холодать к ночи, велел ему-де государь Петр Алексеевич выкатить для его потешных два бочонка пенника. И запало в умную головушку мальцу, что они, часовые, тут такие же потешные благоверного царя своего, а мороз их тоже по коже подирает, зуб на зуб у них тоже, поди, не попадает.
— И один бочоночек нам сюда спроворил? — подхватил Сидорка.
— Не полный, прости, а все же на вашу братию, часовых, я чай, хватит, — отвечал Меншиков. — Дай, думаю, свезу: хошь ноне словно бы и вороги нам, а те же христиане православные. Ведь вас сколько тут будет?
— А пять человек, да двоих что-то не видать, не слыхать.
— Вам же, братцы, лучше. Только, чур, Бога ради, ни гу-гу, не выдавать меня, паче же всего государю: добросерден он, да горяч и своеволия не потерпит.
Посовещались еще меж собой караульные, но кончили тем, что «всякое даяние благо». Полчаса спустя около опорожненного бочонка лежали на валу три мертвецки пьяных тела. Еще четверть часа погодя скрипнули крепостные ворота, грянуло стоголосое «Ура! Ура!» — и фортеция Пресбург была во власти осаждающих. Помощник коменданта Симон Зоммер, прилегший у себя в домике на лавку в полном вооружении, был застигнут, как и прочие, врасплох. Сквозь чуткий сон расслышав за стеною кутерьму, он быстро приподнялся на локоть, высек огонь и засветил свечу. Но дверь к нему с треском распахнулась, и в горницу ворвался сам царь Петр Алексеевич, а за ним Меншиков и несколько вооруженных потешных.
— Сдавайтесь, капитан! — крикнул Петр, победоносно налетая на полулежащего с обнаженной саблей.
Зоммер схватил лежавшую около него на ложе саблю и метким ударом отпарировал занесенный над ним клинок, а сам в то же время вскочил на ноги.
— Да это измена!.. — буркнул он, ретируясь за стол и становясь в оборонительное положение.
— Никакой измены, капитан, один военный фортель, — отвечал Петр, — крепость в наших руках, просите пардону!
— Но комендант наш, Нестеров?
— Тоже взят в постели. Вам одним ведь с нами не справиться. Просите, говорю, пардону: по крайности, оставим вам оружие, отпустим вас с миром.
Суровые черты огнестрельного мастера осветились полусердитой усмешкой.
— Одним хоть нам с Нестеровым утешиться можно, — проговорил он — что ваше величество — ученик наш. Получите!
И с формальным поклоном он передал ученику свою саблю. Но тот ее не принял, а заключил старика в объятия и звонко поцеловал его в обе щеки.
— Именно, что вы же оба подучили меня победить вас, — сказал он. — Вы — да вон еще этот малый, — прибавил он, указывая на Меншикова. — Спасибо тебе, Да-нилыч, надоумил! Не знаю, чем и отблагодарить тебя.
— Одну милость, государь, я просил раз у тебя, — бойко отвечал денщик, — ты тогда отказал…
— Какую милость?
— Да когда ты впервой набирал потешных…
— А! Да, помню. Ты просился тоже в потешный полк. Тогда, точно, ты был еще слишком мал, не под стать моим молодцам. Теперь хоть выровнялся… Возьмете ли вы его к себе в товарищи? — отнесся Петр к присутствующим потешным.
— Как не взять, государь, коли ты пожелаешь: за честь почтем, — был единодушный ответ.
— Ну, так желаю! Быть тебе отныне, Данилыч, моим меньшим потешным.
XII
— Видел ли ты уже, государь, сию куншту? — говорил любимый царский карла Никита Комар, входя раз поутру, летом 1686 года, в опочивальню молодого царя и подавая ему какой-то бумажный сверток.
Развернув сверток, Петр увидел гравюру, представлявшую портрет правительницы-царевны Софьи Алексеевны.
— Сестра Софья, — сказал он. — Ничего, схожа.
— Схожа-то схожа, а высмотрел, разглядел ли ты, милостивец, в каком она тут обличии и параде?
— Вижу, аллегория кругом: Разум, Целомудрие, Правда, Надежда, Благочестие, Щедрота, Великодушие. Дай Бог ей все сии добродетели!
— Да это же не все, государь, — вмешался тут безотлучный наперсник царя Меншиков. — Государыня-царевна, гляди-ка, изображена в венце царском, с державой, со скипетром в руках да с надписью, вишь — «Самодержица».
Открытое, красивое лицо отрока-царя слегка омрачилось.
— Что ж из этого? — промолвил он. — Титулуется же она второй год уже и в грамотах, и в челобитных «самодержицею» наряду с нами, царями-братьями.
— А намедни, в мае месяце, была с вами тоже на царском выходе! Да гоже ли это для нее, царевны, при царях-братьях? Не погневись, государь, на смелом слове, но кабы были у тебя уши слышать все, что говорится кругом тебя…
Глаза Петра вспыхнули огнем.
— Что говорится? Ну!
Меншиков с опаской огляделся на присутствовавшего Никиту Комара.
— Да говори, не бойся! — заметил ему карла. — Не от меня ль ты Данилыч, больше и слышал? А я, государь, не выдумщик, вот те Христос! Говорю только, что своими ушами слышал…
— Так что же ты слышал? — прервал его Петр и нетерпеливо ногою топнул. — Каждое слово из вас обоих надо клещами таскать!
— Изволишь видеть, — начал Комар, — бают, что благоверная государыня-царевна наша, а твоя сестрица, Софья Алексеевна, живучи годами отшельницею в своем девичьем тереме, начиталась всяких назидательных житий святых отцов, святых жен, царей и цариц…
— А что ж в том дурного?
— Дурного в том ничего бы, кабы не заняло ее про-тиву всех житие некоей цареградской царевны Пульхерии… Так сказывали мне, государь: за что купил, за то и продаю.
— Ладно! Дальше-то что же?
— А та Пульхерия-царевна, слышь, тоже была келейница благочестивая, великовозрастная, за малолетством братца своего царя Феодосия заправляла царством и приняла титул «Августы», сиречь «Самодержицы»: Как подрос он, царь-от, она самолично указы ему всякие к подписи подносила, поженила его, на ком вздумала, а как преставился он волею Божьею (царство ему небесное!), сама же выбрала себе из царедворцев своих супруга и воссела с ним на престол царский[4].
— И Софья возмнила-де себя такой же Пульхерией? — воскликнул Петр. — Но я, слава Богу, не Феодосий!
— Ты-то, государь, может, и нет…
— А кто же?
— А старший братец твой, царь Иван Алексеевич, не в зазор его царской чести: женила же его, не спросись, сестрица позапрошлым годом, как только ему шестнадцать лет исполнилось, на девице Прасковье Федоровне Салтыковой. Покуда-то Господь им только двух дочек дал, а даст сынка-царевича, так царевна именем племянника до смерти своей, поди, Москвой да и всем государством Московским заправлять станет. А о тебе и помину не будет.
— Нет! Нет! Ты, Никита, на сестру напраслину только взводишь! — возразил Петр.
— Ничего я, государь, на нее не взвожу! повторяю только, что кругом говорят. Слухом земля полнится. Зачем бы ей, сам посуди, было печатать вон этот портрет свой, да не на бумаге только, а и на тафте, на объяри, на атласе? Зачем было раздавать его направо да налево: «Гляди, мол, люди православные, кто есть истинная самодержица всея Руси». Объявила она ноне поход противу погани этой — татарвы крымской. Зачем, скажи? Вестимо, затем, чтобы явить себя и на поле ратном. Снарядила посольства во все царства христианские. Зачем? Затем, чтобы и те признали ее достойной носить венец царский. Вот, государь, что бает народ-то, а глас народа — глас Божий!
Нельзя сказать, чтобы откровенная болтовня карлика не оставила в душе впечатлительного пятнадцатилетнего царя никакого следа. Но он был еще слишком юн и неопытен в жизни, слишком мало задавался предстоявшим ему в будущем обширным государственным делом, чтобы вполне оценить те последствия, какие мог повлечь за собою самовластный образ действий его сестры-правительницы. Он сознавал только, что что-нибудь ему надо было и от себя предпринять.
— А кто, бишь, едет первым посланником нашим в чужие земли? — задумчиво спросил он. — Кажись, бывший стольник мой Долгорукий?
— Он самый, государь. Князь Яков Федорыч как раз нонче тут в Преображенском прощается с государыней-царицей. Соизволишь позвать к тебе?
— Позови.
Меншикову Петр приказал, между тем, подать большой глобус, по которому Зотов обучал его географии. Когда явился Долгорукий и объяснил, что собирается на поклон к королю французскому Людовику XIV и испанскому — Карлу II, Петр поручил посланнику передать тому и другому, что рано или поздно он лично намерен навестить обоих в их столицах.
— Ведь не так-то уж далеко тоже, — сказал он, одной рукой поворачивая на оси глобус, а указательным пальцем другой руки следя по глобусу путь от Москвы до Парижа и Мадрида.
— На шаре-то этом словно бы и близко, — отозвался Долгорукий, — а поди-ко-сь, сколько тысяч верст будет!
— Уж и тысяч! Кто их мерил?
— И не меря, государь, ученые люди тебе скажут точка в точку, как далеко от такого-то до такого-то места.
— Я что-то тебя, князь, не пойму. Как же так вымерить не меря?
— А вот как. Есть у них, слышал я, инструмент такой, астролябия, что ли, называется: как наставишь ее, так можешь, слышь, не подходя, вымерить хоть бы колокольню Ивана Великого.
— Ну!
— Ей Богу, правда. За верное слышал. Коли хочешь, нарочно тебе такую астролябию в гостинец из заморских краев привезу?
— Привези, голубчик князь, непременно, смотри, привези! Без того мне лучше и на глаза не показывайся.
— Обещаюсь, так уж сдержу слово.
Но долго заставил ждать себя Долгорукий. В те патриархальные времена, как известно, и за границей железных дорог не было еще в помине; шоссированные пути встречались там разве кое-где около столиц. Не диво, что вернулся Долгорукий в Москву не ранее мая 1688 года. Зато он не забыл обещанного гостинца. Когда, однако, распаковали астролябию, ни молодой царь, ни сам посланник не знали, что делать с нею. Смышленый и изворотливый в других случаях Меншиков на этот раз также стал в тупик. Послали за Зотовым и Нестеровым. Но и оба учителя, оказалось, к немалому «конфузу» своему, видели мудреный инструмент впервые.
Выручил врач царский, ван дер Гульст. Был у него в Москве земляк и однокашник голландский, купец Франц Тиммерман, который еще на школьной скамье в родном своем Амстердаме считался первым математиком и не мог не знать, как приспособить астролябию. И точно приглашенный в Коломенское Тиммерман живо приладил инструмент и, по предложению Петра, вычислил расстояние от царских хором через Яузу до фортеции Пресбург.
Не верилось, однако, Петру, чтобы дело могло обойтись без какой-нибудь уловки: велел он взять длинный канат, перетянуть через реку к фортеции, а затем измерить канат саженью. И что же? Расчет голландца оказался, что аптекарский: верен цифра в цифру!
— Как это ты высчитал, мингер? — удивился Петр. — Укажи, пожалуй.
— Из аттенции к особе вашего величества я душою рад, — отвечал с поклоном Тиммерман. — Дело само по себе несложное, коли знать арифметику да геометрию. Но далеко ли, ваше величество, дошли в сих науках?
Вопрос несколько смутил Петра. Четыре правила-то мы с Афанасием Алексеевичем проходили… — промолвил он.
— А геометрию?
Молодой царь безотчетно поднес руку к затылку и переглянулся, как бы ища поддержки, сперва с Нестеровым, потом с Зотовым. Оба пожали плечами.
— Моя часть была больше огнестрельная да фейерверочная, — стал оправдываться Нестеров.
— А моя — Закон Божий да письмо, — отозвался Зотов.
— Да, спасибо тебе, Никита Мосеич, почерк у меня великолепный, на загляденье! — усмехнулся Петр. — Вот кабы я писал так, как сестра Софья, которая нанизывает букву к букве, словно печатает…
— Дело, государь, не в красоте письма, — заметил Меншиков. — Было бы изложено красно, умно да толково.
— Верно… коли есть у кого ум и толк. Любезный Тиммерман, — быстро обернулся Петр к голландцу, — возьми-ка ты меня в науку!
Тиммерман не отказался, и с этого самого дня он сделался безотлучным наставником и спутником молодого государя.
XIII
— Делу время, потехе час, — говаривал в одобренье самому себе Петр, когда он душой порывался к своим потешным, а рассудок заставлял его корпеть над учебными тетрадями.
Меншиков, парень рассудливый, умница и книгочей, пользовался всяким случаем, чтобы присутствовать при уроках своего государя; в отсутствие же последнего тайком просматривал царские письменные работы.
Так, по следам царя он основательно прошел «адицию» (сложение), «субстракцию» (вычитание), «мультопликацию» (умножение), «дивизию» (деление); так искусился в началах астрономии и артиллерии, успешно преодолев понемногу рябившие у него сперва в глазах научные термины: «градусы» и «минуты», «деклинация», «квадрант» и «дистанция» и прочее, и прочее.
Натура Петра не была, однако, натурою кабинетного ученого. Ему, непоседе, требовалась деятельность живая, кипучая. Куда охотнее, чем за книгами, он набирался ума-разума у нового наставника своего Тиммермана на прогулках, где каждый предмет останавливал его чуткое внимание, а сведущий голландец своими обстоятельными комментариями давал всему надлежащую окраску и значение.
На одной такой прогулке летом 1688 года в подмосковном селе Измайлове Петр заметил ветхий амбар и полюбопытствовал узнать его назначение.
Царю объяснили, что это-де кладовая со всяким старьем еще от Никиты Ивановича Романова (двоюродного брата деда Петрова, царя Михаила Федоровича).
— Отоприте-ка! — приказал Петр. — Может, найдется что про нас.
Отперли амбар. В заднем углу, среди разного мусора и хлама виднелась большая опрокинутая ладья.
Необыкновенный вид ее тотчас привлек внимание молодого государя, и он не замедлил пробраться к ней.
— Челнок не челнок, барка не барка… — недоумевая, говорил он — Ты, Франц Федорыч, немало видел ведь судов на твоем веку: что это такое?
— Ботик английский, — не задумываясь, отвечал Тиммерман.
— Английский! Да как он попал сюда?
— Знать, выписан был из Англии.
— Но для чего?
— Чтоб и против ветра тоже ездить можно было.
— Как же так против ветра?
— А на парусах.
— Против ветра? — повторил Петр. — Покажи мне, Тиммерман, сейчас покажи!
Тиммерман усмехнулся.
— Есть у вас, русских, ваше величество, мудрая пословица: «Дело мастера боится». В мореходном деле я не мастер. Но каков ботик, сами, чай, видите: ни паруса, ни мачты нету, а дно насквозь продырявлено. Спустим на воду — мигом зальет.
— Так я велю его починить, велю сделать и мачту и парус! — вскричал Петр. — Достать бы только такого человека. По глазам твоим Франц Федорыч, вижу, что есть он у тебя. Есть ведь, да?
— Поискать, так, может, найдется, — уклончиво отвечал флегматичный голландец.
— Да кто он? Назови же! Не мучь ты меня, Господи Боже мой!
Тиммерману пришлось уступить.
— Голландец он тоже, столяр, Карштен Брант, — сказал он. — Покойный батюшка вашего величества, царь Алексей Михайлыч вызвал его с другими мастерами еще двадцать лет назад из Амстердама — поставить флот морской на Каспии. Да разбойник этот волжский… как бишь, его?
— Стенька Разин?
— Вот-вот… сжег первый же корабль их «Орел». На том постройка судов каспийских и остановилась.
— А Брант перебрался сюда, в Москву?
— Да, и кое-как перебивается тут изо дня в день своим столярным ремеслом. Но возьмется ли он еще теперь…
— Возьмется! Должен взяться! — перебил Петр. — Я ему всемерный авантаж окажу. Сейчас, сей же момент кати за ним, да без него, смотри, не смей и глаз мне казать.
Покачал головой Тиммерман, но «из почтительного аташемента» к юному царю не стал более перечить.
Старичку Бранту, понятно, грех было отказываться от улыбнувшегося ему на старости лет счастья: законопатил он, засмолил ботик: смастерил мачту и паруса, а затем стащил готовое суденышко в воду, в Яузу.
На берегу стоял Петр с неизменным своим Меншиковым, наблюдая за Брантом, и глазам своим не верил: под опытною рукою старого моряка ботик с распущенным парусом, как одушевленный, поворачивал то вправо, то влево, плавал то по ветру, то наперекос, а то и совсем против ветра.
— Каково, Данилыч? — говорил Петр, с сияющими глазами оборачиваясь к своему спутнику. — Что скажешь?
— Знатно! — отвечал Меншиков. — Занятная штука!
— Занятная! Нет, братец, мало что занятная — невиданная, дивная! Надо и нам испробовать. Эй, Брант! Мингер Брант! Назад, пожалуй, причаливай скорей.
Мингер Брант не без самодовольства спросил у молодого царя, дает ли он его боту апробацию!
— Как же не дать-то? — был ответ. — За твой мерит, мингер, я пребуду к тебе в вечном решпекте и эстиме. А теперь дай-ка и нам покататься с тобою.
И началось сообща катание на ботике, ученье у мингера управлять парусом и рулем. Не раз под торопливой рукой Петра парус перекашивало, обрывало, и ботик, накренясь, зачерпывал воду; не раз ботик ударялся в берег, либо садился на мель на узкой и мелководной Яузе.
— Нет, это что за катанье! — жаловался тогда Петр. — Не река это — лужица. Переберемся-ка на Просяной пруд.
Перебрались. Шире было там, чем на Яузе, точно! а все не было того простора, какого просила ненасытная душа Петра.
— Вот кабы добраться нам до Плещеева озера, — раздумчиво заметил Меншиков. — Будучи как-то, года четыре назад на поклонении мощам преподобного Сергия, довелось мне от лавры забресть туда. Ширь, доложу я тебе, необъятная: десять верст длины, пять ширины. И на немудрящей лодчонке есть где разгуляться.
— Плещеево озеро? — подхватил, встрепенувшись, Петр. — Это где же? Недалеко от Троицко-Сергиевской лавры?
— Не ахти как далеко, да и не близко: верст пятьдесят еще дальше будет, под Переяславлем.
— Ну, все единственно. Беспременно надо побывать там.
— Да отпустит ли тебя государыня-матушка в такую даль-то?
— Отпустит! Да и не один же я поеду, а с тобой да с Брантом. Кстати же нынешнего июня 25-го числа у Сергия, слышь, храмовой праздник: обретение мощей святого угодника. Вперед помолимся, как быть надо, а там уж…
Куда неохотно вдова-царица Наталья Кирилловна отпустила ненаглядного сына на далекое богомолье, но отказать в чем-либо своему любимцу ее слабому материнскому сердцу было не под силу. Пять дней спустя она снова обнимала возвратившегося сына.
— Ну, что, радость ты моя, золото мое червонное, расскажи, что да как? — спрашивала она. — По-хорошу ль ездил, здорово ль приехал?
— О! Да… чудесно… — рассеянно отвечал Петр, а у самого обветрившееся, загоревшее от воздуха и летнего зноя, славное лицо так и пылало, быстрые глаза так и разбегались.
— А много было богомольцев?
— Весьма даже…
— И сам ты тоже душевно этак, истово молился, прикладывался ко святым мощам?
— Прикладывался, понятно, а то как же?.. Ах, матушка! Родимая ты моя! Кабы ты ведала только…
— Что-что, сердечный ты мой?
— Дело-то у нас ладится…
— Дело? О каком ты это деле, батюшка? Господи, помилуй! У тебя, я вижу, совсем не то на уме. Где мыслями-то летаешь теперь?
— Где летать, дорогая моя, как не в Плещеевом озере? Больно облюбовал я его.
Царица в немом ужасе уставилась на сына широкими глазами. Петр поспешил ее успокоить, и так как скрывать что-либо от любимой родительницы было не в его нраве, то он выложил перед нею начистоту всю правду: что слетали они с Карштеном Брантом и Данилычем из Троицкой лавры дальше, в Переяславль; что высмотрели там, на берегу Трубежа, подходящее место для постройки больших морских судов; что подрядили и леса корабельного, досок, смолы, канатов, а парусины, железных гвоздей и скобок сами-де захватят уже с собой из Москвы…
Рассказывал Петр с таким увлечением, что царице Наталье Кирилловне и слова вставить нельзя было. Она слушала только, не сводя с сына глаз и приложив руку к бьющемуся сердцу.
— Святая Богородица, царица небесная! — воскликнула она тут и осенилась крестом. — Да на что тебе, дитятко, суда-то эти морские?
— Известно — на что. Как доберемся раз до Свейского моря, так выставим против Каролуса, короля Свейского, целый флот корабликов.
Царица руками всплеснула.
— Солнышко ты мое, светик мой! Что это ты надумал? Бог с тобой! Ты, ты сам, Петруша, войной идти хочешь против Свейского короля?
— Да не сегодня же еще, матушка! — засмеялся Петр. — Будет время. Покудова мне изведать бы только мореплаванье.
— Но ты потонешь, дитятко! Понимаешь ли, потонешь…
— Ты, матушка, считаешь меня все еще за малое дитятко, за младенца, а мне, слава Богу, семнадцатый уж год пошел!
— Пусть так, а все же, миленький, душа не на месте! Брось ты, ну, брось это, право! Ведь все одни пустые затеи.
— Не пустые, дорогая ты моя. И рад бы я сделать для тебя угодное, да никак, поверь, не могу. Лучше и не проси.
— Да кто тебе суда эти строить-то будет?
— Сам буду строить с Карштеном Брантом, с Данилычем…
— Ну, вот, так и знала! Без этого мальчонки-пирожника никакая дурь не обойдется. Как чертополох увязался за тобою! Он же, баламут, верно, и подбил тебя? Ах непутный!
— Нет, матушка, этому делу Данилыч не причинен. Сговорился я с Брантом. Этот, сама знаешь, человек обстоятельный…
— Час от часу не легче! Немчура ведь и, поверь ты мне, вконец тебя загубит!
— Не загубит, матушка, хоть не русский, а человек хороший и уму-разуму научит. Есть у Бранта еще на примете преотменный корабельный мастер — Корт: такие корабли мастерит, что, как в сказке говорится, ни в огне не горят, ни в воде не тонут. Нет, право же, милая ты моя, уволь меня с ними! Ну, не противься, коли ты хоть столечко меня любишь…
С обычной своей стремительностью и страстностью он стал, смеясь, обнимать, целовать родительницу. И могла ли она в конце концов не «уволить» своего баловня?
— Ох, приветный ты мой! — вздыхала она, задыхаясь от его бурных ласк. — Храни тебя Господь! Только, чур, именины-то хоть свои побудь у нас, в Преображенском.
Последней этой уступки не мог не сделать ей Петр. Зато на другое же утро после Петра и Павла, 30 июня, он умчался снова со своими кораблестроителями-голландцами в Переяславль.
XIV
Тем временем затеянный царевной-правительницей для своего возвеличения Крымский поход не доставил ей желаемых лавров: до первой еще стычки ее стотысячной сборной рати под начальством гетмана Самойловича с татарами, — те зажгли кругом свои необозримые степи, и перед бушующим океаном огня и дыма русские поневоле должны были обратиться вспять к низовьям Днепра. Самойлович был сменен и сослан в Сибирь, а на место его назначен гетманом генеральный есаул Мазепа. Однако неудачный поход настолько истощил царскую казну, что пришлось наложить на народ новые подати; от неурядицы в доставке провианта, от тяжелых переходов по палящему летнему солнцу в войске пошли повальные болезни и мор. Стоустая молва, по обыкновению, значительно преувеличивала еще зло. А тут, в довершение невзгод, из-под самой Москвы, от села Преображенского, надвигалась нешуточная туча.
Еще до первого снега, приостановившего лихорадочную деятельность корабельных мастеров на Переяславской верфи, царь Петр возвратился в Преображенское.
Две постельницы царицы Натальи Кирилловны — Нелидова и Сенюкова, подкупленные Верхом, наперерыв доставляли в терем царевен из Преображенского тайные вести, одна другой тревожней:
— Грехи наши тяжкие! Генерал Гордон второй раз уже без ведома, слышь, князя нашего Василия Васильевича (Голицына) поставил царю Петру Алексеевичу по именному приказу из полка своего наилучших музыкантов: сперва флейщиков и барабанщиков по пять человек, а ноне двадцать флейщиков и тридцать барабанщиков.
— А из Оружейной Палаты государь то и дело требует к себе снарядов всяких: барабанцев да трещоток, пищалей да скорострелок, топоров да мечей турецких…
— Э, матушка! Чему дивиться, коли шалопутов этих к нему, что саранчи залетной прибывает, на два полка, поди, уже разбилися. В Преображенском и места уже не стало: в Семеновское один полк перебрался. Так Семеновским полком и прозван.
— И благо бы еще записывались в барабанную науку одни смерды, служивые люди, а то нет, идут и родовитые: Бутурлины, Голицыны…
— И не говорите! — с сердцем прервала переносчиц царевна Софья, которой особенно было больно, что ближайшая родня князя Василия Васильевича, правой руки ее, также взяла сторону ее самоуправного меньшого брата. — Все оттого, что брат Петр с немцами этими хороводится.
— Вот это точно, государыня-царевна, это ты правильно: все новшества от тех баламутов окаянных! — злорадно подхватила одна из тараторок. — Чуть проснется он ранним утром, государь наш, как следом за молитвой немчура с ним за цифирную мудрость, а цифирь, известно, наука богоотводная. За цифирью же вплоть до вечера с потешной оравой всякие-то воинские «экзерциции» да «маневры», а потом, глядь, в Немецкую Слободу. Ну, те там, знамо, рады-радехоньки дорогим гостям, двери настежь: милости просим! Особенно же Лефорт Франц Яковлевич, человек забавный и роскошный, дебошан французский…
— А брат Петр что же? — спрашивала, мрачно на-супясь правительница-царевна.
— Да что, садится за один, слышь, стол со всякой чернотой и мелкотой, калякает тоже по-ихнему: по-немецкому, по-голландскому, по-французскому, по-английскому, — ну, вавилонское языков смешение, прости, Господи! В шашки-шахматы тешится с ними. От проклятого зелья табачного по горнице дым облаком ходит; угощается, знай, винищем басурманским. А тут, откуда ни возьмись, мамзель — дочери тех нехристей, Иван Андреичей и Карл Иванычей. Сами худенькие, жи-денькие: перехват осиный, ну, глядеть — жалость берет! Взойдут с ужимочкой этак, с книксеном, с улыбочкой умильной, — как вдруг, чу, музыка заморская: скрипицы да флейты. Вскочат молодцы наши, как шальные, подхватят тех пиголиц: Линхен да Тринхен, закружат их вихрем по горнице, ноги вывертывают, забрасывают — пятки, знай, одни мелькают, а каблучищами, что есть мочи, об пол. Грохот да хохот, гам да срам, смех да грех! Тьфу, мерзость безмерная! Страху Божьего нет на них окаянных!
— Да откуда вы знаете все это? — недоверчиво возражала Софья. — С чужих слов болтаете…
— Не с чужих, государыня! Сами своими очами в окошко подглядели — уверяли постельницы. — До утра, почитай, бесчинствуют с Ивашкой Хмельницким.
— Это еще кто такой?
— А так, изволишь видеть, свой хмель пьяный называют. Гульба у них и питье непрестанное…
Черня таким образом молодого царя в глазах сестры-прав ительницы, сплетницы, разумеется, умалчивали о том, что Петр, если и пировал охотно со своими потешными в Немецкой Слободе, то сам же из первых незаметно удалялся оттуда, шепнув перед тем на ухо Зотову: «Ты, Никита Мосеич, родной брат Ивашке Хмельницкому, — постоишь тут, я чай, за меня». И Зотов с честью исполнял свою ответственную роль, Петр же тихомолком возвращался к себе в Преображенское, чтобы выспавшись, спозаранку с свежими силами приняться опять за свою денную работу.
Охульные наветы двух переносчиц-постельниц достигли своей цели. С малолетства наглухо заключенная в своем девичьем тереме, вскормленная на заветах стародавних, царевна Софья до мозга костей была русскою, до самозабвения была предана родной старине. А тут собственный брат ее свычаи и обычаи отцовские, обряды заповедные ногами топчет; того и гляди, самую веру отцовскую переменит. Это была бы такая поруха царской чести, о которой и помыслить было страшно…
Исподволь, годами накипавшая в глубине сердца Софьи неприязнь к младшему брату обратилась теперь чуть не в ненависть. Губя себя, он губил ведь и сестру, мог погубить с собой и весь народ Русский! Надо было принять решительные меры.
XV
Один из самых главных приверженцев царевны, начальник стрелецкого войска, пронырливый и смышленый думный дьяк Шакловитый взялся оборудовать дело. В загородную усадьбу его под Девичьим монастырем, были созваны в ночную пору наиболее влиятельные стрельцы: пятисотенные, пятидесятники и пристава — всего числом 30. Хотя каждый из них был глубоко предан милостивой к ним правительнице, тем не менее они были немало смущены неслыханным предложением Шакловитого: бить челом царевне, чтобы единолично возложила на себя царский венец.
— А что же цари-то наши венчанные — Иван да Петр? — послышались робкие возражения.
— Царь Иван обо всем повещен, — отвечал Шакловитый, — а что до малолетка-брата его, то ужели же нам ребенка неразумного слушать?
— Да не так же он теперь уже мал, и патриарх тоже за него…
— Ноне патриарх один, завтра другой: все в руках великой нашей государыни-правительницы…
— Так-то так… Но бояре… да и товарищи наши стрельцы…
— Ступайте же, келейно опросите товарищей. Что скажут, на том и порешим.
Но начальник стрельцов напрасно слишком полагался на бессловесную их покорность к нему: долг совести превозмог у стрельцов, и они довольно согласно высказались против предложения начальника — насильственно отторгнуть у двух братьев-царей их царский венец.
Шакловитый изготовил было уже и челобитную от имени стрельцов, назначил и день для венчания царевны, но опомнившаяся Софья приказала объявить стрельцам, что Шакловитый не так-де ее понял и что «челобитной подавать ей непотребно»…
Чтобы, однако, отвести глаза народу и войску, она объявила новую войну Крымскому хану; пока же шли ратные сборы, она озаботилась другим путем обкарнать брату-орленку крылья. Те же две постельницы, Нелидова и Сенюкова, притворно соболезнуя о богопротивном будто бы житье молодого царя Петра Алексеевича, якшавшегося с нехристями в Немецкой Слободе, принялись напевать, причитать о нем с утра до ночи матушке-царице Наталье Кирилловне. Закручинилась бедная царица о своем ненаглядном детище, стала уговаривать его не губить души своей. Но малый совсем из воли материной вышел, речи ее мимо ушей пропускал. Долго ли вконец ему было сбиться с пути? А тут еще эта сумасбродная затея с кораблями на Плещеевом озере… Храни Господь, потонет! Что делать-то с ним, что делать?
И шепнули матушке царице добрые советчицы — окрутить сынка. Ухватилась она за совет, как утопающий за соломинку. И то ведь, малый на возрасте! Авось-де молоденькая красавица-жена его утихомирит, к белым ручкам приберет, заживут ладно и советно…
И подыскали малому подобающую невесту — дочь окольничего царского Федора Абрамовича Лопухина. Была она, Авдотья Федоровна, и молода-то, как он сам, и собой писаная краля, а паче того богомолица и скромница.
Петру и семнадцати лет еще не минуло, но пригожая невеста ему приглянулась, и 27 января 1689 года он принял с нею брачный венец. Сам Петр тем более торопил свадьбой, что очень уж занимало его свадебное празднество, и целый месяц до того он лично с наперсником своим — Данилычем — руководил приготовлениями к «огненному апофеозу». И точно: треска и огня было столько, как никогда еще дотоле. Тотчас после брачного обряда был торжественный обеденный стол, завершившийся пушечной пальбой без ядер. Затем следовал церемониальный развод потешных, шедших друг на друга «мнимым боем» и обстреливавшихся холостыми зарядами. В заключение, когда стемнело, был сожжен в полном смысле слова «блистательный» фейерверк, длившийся не более, не менее как три часа. Не обошлось при этом, правда, без беды: в скучившуюся перед редким зрелищем толпу черни упала с вышины пятифунтовая римская свеча и наповал уложила какого-то мещанина. Но молодой царь, узнав о прискорбном случае, тотчас распорядился пожизненным обеспечением оставшейся после пострадавшего семьи.
Кручина у матушки-царицы отошла от сердца; у сестры-царевны на душе тоже полегчало. Но расчет их оказался ошибочным: пылкому юноше было еще не до радостей тихой семейной жизни. Его тянуло по-прежнему на свет и простор: нараставшие в нем богатырские силы просили развернуться во всю свою мощь, требовали постоянного упражнения в живом деле для предстоявших подвигов.
Едва лишь в апреле месяце Плещеево озеро сбросило с себя ледяную кору, как Петр со своими корабельщиками был уже снова там, на месте, и писал матери в Преображенское:
«Вселюбезнейшей и паче живота телесного дражайшей моей матушке, Государыне Царице и Великой Княгине Наталии Кирилловне. Сынишка твой в работе пребывающий, Петрушка, благословения прошу, а о твоем здравии слышать желаю. А у нас молитвами твоими здорово все. А озеро все вскрылось сего 20-го числа, и суды все, кроме большого корабля в отделке; только за канатами станет. И о том милости прошу, чтобы те канаты, по семисот сажен, из Пушкарского Приказу, не мешкав, присланы были… По сем паки благословения прошу. Из Переяславля, апреля 20, 1689 года»[5].
Прискакал в Переяславль нарочный от матушки-царицы, чтобы пожаловал-де государь к 27 апреля в Москву, к панихиде по покойному старшему братцу своему Феодору Алексеевичу. Но оторваться Петру от дорогих ему кораблей было куда не по душе.
«…Недостойный сынишка твой Петрушка, о здравии твоем присно слышать желаю, — отписал он в ответ. — А что изволила ко мне приказывать, чтоб мне быть к Москве, и я быть готов; только, гей-гей, дело есть! И то присланный сам видел: известит явнее… По сем и наипокорственнее предаюся в волю вашу. Аминь.»
Встосковалась по отсутствующему и молодая жена-царица Авдотья Феодоровна, послала ему душевную весточку:
«Государю моему радости, Царю Петру Алексеевичу. Здравствуй, свет мой, на множество лет! Просим милости, пожалуй, Государь, буди к нам не замешкав. А я при милости матушкиной жива, женишка твоя Дунька челом бьет».
Нечего было делать: со вздохом вернулся молодой муж восвояси. Но прошел месяц времени — и он опять усердно рубил и стругал на переяславской верфи; а ввечеру, на досуге, усталою рукою на лоскутке бумаги набрасывал пару строк в утешенье жене и матери, уверяя, что «присылкам» их радуется, «яко Ной о масличном суке», но вместе с тем простосердечно хвалясь «о судах паки подтверждаю, что зело хороши все!» В конце же записки, словно каясь в вине своей перед ними, расписался: «Недостойный Petrus».
Но не одним топором работал Петр: он брался за всякое попадавшее ему на глаза рукомесло, и не было, кажется, такого ремесленного орудия, которое не побывало бы у него в руках. Недаром несколько лет спустя (в 1697 г.) курфирстина Софья-Шарлотта, отзывалась о Петре, что он — мастер в четырнадцати ремеслах.
XVI
Второй Крымский поход царевны Софьи был мало чем удачнее первого. Двадцать тысяч русских легло на месте, пятнадцать тысяч попало в плен, да кроме того отбито было у них семьдесят орудий, не говоря о множестве других воинских снарядов. Чтобы заглушить ходившие по этому предмету в народе неблагоприятные слухи, Софья намеревалась щедро наградить главных военачальников: князя Василия Васильевича Голицына, Гордона и других. Но Петр этому положительно воспротивился.
Вскоре нашелся у них еще новый повод к раздору, который привел к окончательному разрыву.
В день Казанской Божией Матери, 8 июля, из Кремля в Казанский собор, по стародавнему обычаю, имел быть торжественный крестный ход.
С утра еще небо заволокло кругом облаками; когда же призванное участвовать в крестном ходе духовенство со всех «сорока сороков» московских церквей стало собираться к кремлевскому Успенскому собору, то свет в окнах соборных разом померк, точно на дворе ночь наступила, и тут же разразилась страшная гроза. Внутренность храма поминутно озарялась снаружи ослепительной молнией, громовой раскат следовал за раскатом, а оконные стекла так и дребезжали от хлеставшего в них бокового ливня.
В самый разгар грозы явилась в церковь царевна Софья в сопровождении старшего царя — Ивана Алексеевича и, отряхнув с себя струи дождя, стала рядом с прибывшим ранее младшим братом Петром, который богатырским ростом своим выделялся между всеми окружающими царедворцами.
Петр наклонился к ней с тихим вопросом:
— Ты, сестрица, разве пойдешь тоже в крестный ход?
— Конечно, пойду! — был ему надменный и холодный ответ.
— Но ведь ты видишь, какая непогода?
— Так что ж!
— Но я убедительно прошу тебя, слышишь, прошу — не идти!
Он проговорил это с особенным ударением и глядевшие на нее в упор темные глаза его вызывающе засверкали.
Царевна изменилась в лице, и голос ее, несмотря на все ее самообладание, дрогнул, когда она с притворным смирением, но с прорывающейся горечью заметила:
— Скажи уж лучше напрямки, что мне девушке-царевне негоже идти рядом с тобою, царем, всенародне в крестном ходе!
— Сама же ты, сестрица, догадалася. Спокон веку ведь на Руси у нас этого не важивалось.
— Послушай, братец милый, — с тою же сдержанностью, притворным задушевным тоном заговорила Софья, хотя углы рта у нее нервно подергивало. — Вот тебе Никола Святитель, приняла я на себя за твоим малолетством все тяготы правления.
— И власть забрала непомерную! — порывисто досказал брат.
— Из одной, братец, любви к тебе и к брату Ивану…
— Любит и кошка мышку…
— А! Вот как… — пробормотала глубоко оскорбленная сестра и гордо выпрямилась во весь рост. — Ты вершишь в свою голову… Добро! Дай срок… Теперь не время. Видишь: уж подняли иконы.
И, кивнув старшему брату, чтобы не отставал от нее, царевна скорой поступью пошла к выходу, где в ожидании ее стояло уже с крестами и хоругвями, в чинном порядке, в праздничных облачениях, духовенство.
Сейчас еще яростно бушевавшие небесные стихии вдруг присмирели будто разом истощили всю свою необузданную силу. Когда крестный ход из Кремля Ильинскими воротами, мимо Лобного места и Гостиного двора, двинулся через Красную площадь, дождь вовсе прекратился, проясневшие облака разорвались дымчатыми клочьями, и из-за них сперва засинело чистое небо, а вслед затем брызнули жгучие лучи июльского солнца. Только свежая, блестящая на солнце грязь да мутные ручьи дождевой воды, весело журчавшие по обмоинам обширной площади, обличали миновавшую сейчас летнюю грозу. Попрятавшийся было от бурного ливня в Гостином дворе народ высыпал опять навстречу святым хоругвям.
Но чтобы это значило? С иконой Божией Матери «О Тебе радуется» в руках, с высоко вскинутой головою, следом за первосвященным патриархом Иоакимом шествуют лишь правительница-царевна со старшим братом; юный же царь Петр Алексеевич при самом выходе из Кремля свернул в сторону, в народ. Приближенные, переполошась, следуют за государем.
Сам патриарх неодобрительно озирается на удаляющихся. Но царевна Софья властно подает знак рукою — и торжественная процессия неуклонно продолжает свое шествие к Казанскому собору.
К вечеру вся Москва толковала только о том, что между правительницей и ее меньшим братом совершился полный разлад, так как он-де зело за что-то осерчав на сестру, прямо с Красной площади укатил вон из города.
Недели две спустя царевна Софья, одумавшись, сделала еще последнюю попытку протянуть руку примирения брату и выслала к нему в Преображенское посредником князя В.В. Голицына. Не без внутренней борьбы, после особенных убеждений Меншикова, Петр пошел на некоторую уступку, изъявив наконец согласие наградить «отличившихся» в Крымском походе военачальников. Но от личного свидания с сестрою он наотрез отказался. Отказ этот имел для обоих роковое значение.
XVII
В ночь с 7 на 8 августа того же 1689 года Петр был внезапно разбужен среди крепкого юношеского сна. Верный наперсник его, меньшой потешный Меншиков наклонился над ним с всклокоченной со сна головой и изо всех сил тряс его за плечи.
— Проснись, государь, проснися!
Петр быстро приподнялся на постели и, не придя еще хорошенько в себя, испуганно уставился на говорящего.
— Не полошайся, государь, — продолжал впопыхах Меншиков. — Стрельцы…
— Что такое, Данилыч? Что — стрельцы?
— Елизарьев Ларион, пятисотенный Стремянного Циклерова полка, прислал к тебе сейчас гонцов — товарища своего Мельнова и денщика Шакловитовско-го, Ладогина…
— Ну, ну?
— Оба они тоже преданы тебе. Шакловитый, мол, именем будто бы царевны замыслил нонешнею ночью со своими стрельцами пожаловать к нам сюда, в Преображенское, и выкрасть разом все «гнездо» твое: князя Бориса Алексеевича (Голицына), Нарышкиных всех до единого, Лопухиных, Апраксиных…
Оторопь Меншикова заразила и его царственного господина.
— Так надо упредить их, скликнуть сейчас наших потешных, — заговорил он.
— Где уж, государь! Забыл ты, видно, что вечор опять в Немецкой Слободе пировали. Ты-то сам спозаранку выбрался, а те все с Зотовым загулялись далеко за полночь и теперь, я чай, их и пушками не добудишься. Да и где их соберешь поодиночке по угодьям. А стрельцы, того гляди, нагрянут. Изготовься-ка бежать…
— Убегом бежать? Ни за что! Лучше запрусь в фортеции нашей в Пресбурге…
— Да удержим ли мы там с тобой одни, без потешных?
Тут в царскую опочивальню ворвался один из гонцов, Мельнов.
— Прости, государь, но мешкать тебе, ей-же-ей нельзя. Утекай отселе.
— Но зазор…
— Э, батюшка! Где волком нельзя быть — там зайцем прикинешься либо лисою: волка зубы кормят, зайца ноги носят, лису хвост бережет. Садись на коня моего и скачи без оглядки: он еще свеж и стоит тут у крыльца.
— Но куда я поскачу?
— Куда глаза глядят.
— Нет, государь: прямо в лавру к Сергию, — вмешался Меншиков. — Святые отцы там тебя, слава Богу, давно знают и схоронят от злодеев.
— Да как же мне оставить здесь матушку, молодую жену…
— Их, женщин, не тронут, — убежденно сказал Мельнов. — Но князя Бориса Алексеевича мы всячески упредим: доставил бы их только завтрашний день в лавру.
— Вот это так. Ну, с Богом!
Наскоро приодевшись, Петр вышел на крыльцо.
— Я с тобой, государь, — сказал Меншиков, — благо есть тут и другой конь.
Второй гонец, Ладогин, не посмел прекословить и уступил своего аргамака товарищу царскому. Так-то среди глухой ночи, без всякого конвоя, два юноши, распустив удила, помчались из Преображенского за семьдесят верст — в Троицко-Сергиевскую лавру.
Каково было изумление, каков переполох монастырской братии, когда в шесть часов утра в ворота лавры на измученных, взмыленных конях влетели молодой царь и его единственный провожатый, меньшой потешный.
— Где отец-игумен? — спросил Петр, когда его, донельзя избитого бешеной скачкой, дюжий отец-вратарь с молодым послушником приняли с седла и провели в келарню, а здесь обступили их старцы-монахи в камилавках и кафтырях, протирая глаза: не сонное ли то видение!
С трудом опираясь на свой старческий посох, ведомый под руки двумя послушниками, появился тут старец-игумен, благословил беглецов и с безмолвным ужасом выслушал повесть об опасности, грозившей юному помазаннику царского престола.
— Премудры Твои дела, о, Господи! — вздохнул он из глубины груди и вновь осенил Петра крестным знамением. — Как ты один-то, государь, бежать решился?
— Не один, вдвоем вон с Данилычем, — отвечал Петр, дружески оглядываясь на Меншикова, — да и кони попались доброе.
— Здесь, за каменой стеной, что за каменной горой, вас и пальцем не тронут! — подхватил Меншиков.
— Коли Господь не попустит, так помазанника Его не тронут, — внушительно заметил игумен… — Ты не взыщи, государь, не изготовились мы принять тебя, как подобало бы.
Того же числа, к немалому успокоению молодого царя, в Троицу прибыл форсированным маршем единственный преданный ему стрелецкий Сухарев полк; а вечером Петр имел радость обнять матушку-царицу и молодую жену, которых со всем придворным штатом сопровождали в лавру оба потешные полка — Преображенский и Семеновский.
XVIII
Под охраной святыни монастырской и трех верных ему полков Петр мог считать себя до времени в безопасности. Но прибывшие к вечеру принесли с собой весть из Москвы, что на завтра, 9 августа, в Кремль созваны для чего-то все стрельцы. Очевидно, там опять что-то готовилось.
Капрал Преображенского полка Лука Хабаров был тотчас отряжен обратно в Преображенское за пушками, мортирами и порохом; а один из царедворцев — в Москву к царевне-правительнице с запросом о причине созыва стрельцов. Последний вернулся с не совсем правдоподобным ответом, что царевна-де собирается на богомолье в Донской монастырь и стрельцы идут с нею. Но вместе с тем посланец донес, что народ в Москве сильно встревожен удалением царя в лавру и что назначенный в Кремле тогда же торжественный прием малороссийского гетмана Мазепы не мог состояться за недомоганием правительницы: зело, мол, разгорячена тем, что брат, крадучись, ушел.
И было отчего серчать царевне: среди стрельцов ее началось брожение — пошел явный раскол. Особенно полагалась Софья на стрелецкого полковника Циклера, и вот он был вызван в лавру с пятьюдесятью стрельцами, да так и застрял там. Что день после того — стрелецкие начальники не досчитывались в своих полках нескольких человек.
Приходилось царевне сделать шаг навстречу непокорливому брату: отрядила она к нему посредником князя Троекурова, затем князя Прозоровского и духовника царского, наконец патриарха Московского Иоакима. Первые трое вернулись ни с чем; последний же так и остался в лавре. Между тем, к стрельцам приходили от молодого царя указы за указами — явиться «без всякого мотчанья» в лавру «по царскому делу», и несмотря на все уговоры Шакловитого, число перебежчиков к прямому царю со дня на день возрастало.
Скрепя сердце, Софья решилась сама двинуть к упрямцу в Троицу. Но за десять верст оттуда, в селе Воздвиженском, поезд ее был внезапно остановлен комнатным стольником молодого царя, стариком Бутурлиным.
— Я к тебе, государыня, с низким… — начал он.
— От брата Петра? — холодно и резко оборвала его царевна Софья.
— От пресветлейшего государя нашего Петра Алексеевича.
— А сам чего навстречу к нам не пожаловал?
— Не удосужился он, государыня… Заместо себя меня да вон Меншикова Александра Данилыча, меньшого и… набольшого потешного своего к тебе выслал.
Правительница теперь только, казалось, заметила вошедшего вместе с Бутурлиным бывшего пирожника. Что царственный брат вместо себя выслал, между прочим, этого безбородого юношу, чуть не мальчишку неведомого рода и племени, — за кровную обиду ей показалось. Скользнув лишь молниеносным взглядом по-отрочески стройной фигуре Меншикова, она царственным движением руки указала на выход.
— Поди!
Меншиков не тронулся с места, а вопросительно оглянулся на своего старшего спутника.
— Вон, говорю я! — повторила повелительно царевна.
— Осмелюсь доложить тебе, великая государыня, — почтительно, но твердо заговорил Бутурлин: государю нашему угодно было в товарищи мне назначить своего первого любимца, и ты, я так чаю, соблаговолишь выслушать нас обоих.
В Софье, видимо, происходила глубокая внутренняя борьба. Но она совладала с собою и, по-прежнему не удостаивая Меншикова взгляда довольно сдержанно отвечала:
— Тебя, боярин, я готова слушать, а этого… — она подбирала выражение и, не отыскав, только пренебрежительным жестом повела в сторону меньшого потешного, — этого я тотчас вышлю вон, ежели он при мне хоть рот раскроет!
— Я буду молчать, пожалуй… — произнес Меншиков слегка дрогнувшим голосом.
Царевна подняла руку, как бы с тем, чтобы зажать ему рот. Наступило минутное молчание. Софья остановила свои неумолимо строгие глаза на царском стольнике.
— Ну?
— Скорбно мне говорить-то… — переводя дух, начал Бутурлин. — Но я, прости, чиню лишь волю цареву…
— Так сказывай!
— Не изволь ехать далее, государыня!
Запальчивая царевна в порыве гнева готова была, кажется, огненным взором испепелить посланца.
— Не ты, старик, остановишь меня! — вскричала она.
Сановитый старик со скромным достоинством тронул рукой свои серебристые седины.
— Стар я, царевна, — точно: поседел на службе царской, но и опытом жизни тоже умудрен супротив многих иных. Брат твой, а наш великий царь Петр Алексеевич вошел ныне в возраст и, поверь мне, старику, слова поперечного себе он отнюдь не попустит. Неугодно, слышь, его царской милости видеть тебя у себя в лавре…
Какого усилия стоило надменной правительнице, чтобы не вспылить снова, можно было судить по тому, как окрасились сразу ее бледные щеки, как на висках ее налились жилы.
— Не ладны твои речи, боярин, не дело ты говоришь, — глухо пробормотала она, кусая свои тонкие губы. — Зачем ему бежать-то было? Кто его гнал? Не сам ли он, скажи, как ножом отрезал себя от родной семьи: от сестер и брата…
— Кто кого отрезал, не мне рабу, судить, — отвечал старик-стольник, — но ломоть отрезан, и к хлебу его не приставишь.
Тупо уставясь в пол, Софья крепко-накрепко стиснула руки и вдруг хрустнула пальцами.
— Владычица многомилостивая! — почти в отчаянии вырвалось у нее. — Разве я за него ответчица?
— Кому какая планида, государыня, — успокоительно заметил Бутурлин. — На роду тебе, знать, так уже написано было. От походов твоих противу хана Крымского, сама знаешь, не столько славы было матушке-России, сколько сраму и тягот великих, всю же вину в том, кого ни спроси, валят на тебя.
— Так подай же мне, старик, по чистой совести совет, что мне делать? — упавшим уже голосом промолвила царевна. — Что мне делать?
— Что тебе делать? Да вот тебе, государыня, нелицеприятный совет мой, прости ты меня: вернись-ка восвояси, в кремлевский терем свой, к сестрицам-царевнам и жди там с ними приказа царского.
— Чтобы я теперь ни с чем вернулася, чуть не из-под стен троицких!..
— Вернися, родимая, послушай ты старика; не упрямься, не злобься по-пустому, — продолжал увещевать Бутурлин. — Опомнись, доколе не натворишь пущих бед. Смиренье — ожерелье девичье.
— Девица я, правда твоя, боярин, но не теремная затворница, а великая царевна, сокол вольный!
— И сокол, государыня, выше солнца не летает, — сорвалось тут у безмолвствовавшего до сих пор Меншикова. — А вкруг солнца нашего царя Петра Алексеевича собралася целая стая юных соколов — нас, «потешных» его…
— Ну, вот, ну вот!.. — задыхаясь, бормотала царевна, как бы не заметив, что последние слова принадлежали уже не старику-стольнику, а меньшому потешному, которому она и рот раскрывать строго наказала. — Каково-то мне слышать это, правительнице и самодержице! Давно чуяла ведь, что потехи эти к добру не поведут… Как я их ненавижу, этих «потешных»! О, как ненавижу! И стрельцов моих верных туда же совратили… Гром Божий на всех вас! Уходи, старик! Уходите оба, сгиньте с глаз моих!
Кровь хлынула в голову и маститому стольнику. Но он и на этот раз превозмог себя, чинно отдал уставный поклон, перекрестился на образ в углу и пошел к выходу.
— А ты-то что же? — недоумевая, свысока спросила Софья, видя что меньшой потешный и не помышляет еще следовать за своим старшим спутником.
— Твоя воля, государыня! — безбоязненно, но со всем придворным «вежеством» отвечал Меншиков. — Без твоего ответа нам не велено являться пред очи нашего великого государя. Что прикажешь сказать ему от тебя: что все же будешь к нему в лавру?
— Вестимо, буду! Мое слово твердо.
И она ногою еще притопнула. Теперь и Меншиков, согнув покорно спину, молча удалился.
Но прежде, чем царевна двинулась опять в путь, в Воздвиженское к ней прискакал царский гонец, боярин Иван Борисович Троекуров с повторительным наказом, чтобы отнюдь-де не изволила в Троицкий монастырь идти: «ежели же дерзновенно придет, то с ней нечестно поступлено будет».
Было то как раз накануне тогдашнего Нового Года, под 1 сентября. С небывалым сокрушением правительница Софья должна была наконец сказать себе, что брат ее взял верх, что собственная звезда ее меркнет, заходит и никогда уже не взойдет.
XIX
Так и не состоялось свидание между братом и сестрою. В ночь на 1 сентября Софья была уже в своем девичьем тереме. 7 сентября она выдала брату Шакловитого с приспешниками; а вслед затем Петр обратился к своему старшему брату, царю Ивану Алексеевичу с официальным письмом, в котором, между прочим, говорилось:
«…Известно тебе, государю, что милостью Божиею вручен нам двум особам скипетр правления прародительного нашего Российского царствия, а о третьей особе, чтобы с нами быть в равенственном правлении, отнюдь не воспоминалось. А как сестра наша, царевна София Алексеевна государством нашим учала владеть своею волею, и в том владении что явилось особам нашим противное и народу в тягость, — о том тебе, государю, известно. А ныне злодеи наши, Федька Шак-ловитый с товарищи, не удоволяся милостию нашею, преступая обещания свои, умышляли с иными ворами об убийстве над нашим и матери нашей здоровьем, и в том по розыску и с пытки винились. А теперь, государь братец, настоит время нашим обеим особам Богом врученное нам царствие править самим, понеже пришли есми в меру возраста своего, а третьему зазорному лицу, сестре нашей, царевне Софии Алексеевне, с нашими двумя мужскими особами на титлах и в расправе дел быти не изволяем… А я тебя, государя брата, яко отца почитать готов…»
Крайне слабый здоровьем царь Иван Алексеевич не прекословил, сам устранился от управления, и младший брат его всецело вступил в царские права: принял в отпускной аудиенции малороссийского гетмана Мазепу, допустил в руке своей 14 иноземных офицеров, в том числе и генерала Гордона, который затем в Александровской Слободе должен был произвести перед государем со своими солдатами разные воинские «экзерциции», за что пожалован был «камкою и атласом».
Ближайший советник бывшей правительницы, князь В.В. Голицын, был в это же время сослан в Яренск, а оттуда в Пинегу.
Когда 6 октября состоялся торжественный въезд Петра в первопрестольную столицу, самой царевны Софии также уже не было в Кремле: она «добровольно» удалилась в честную обитель — в Новодевичий монастырь, чтобы никогда уже не показываться оттуда. Одни только царственные ее тетки и сестры в великие праздники виделись там с нею. Молитвой и терпением врачевала царевна свою многомятежную, наболевшую душу. Обладая красивым и четким почерком, она в свободное от молитвенного бденья время переписывала святое Евангелие. Евангелие это и теперь можно видеть в Спасо-Преображенском монастыре г. Каргополя (Олонецкой губ.). Текст писан так называемым «уставом»; только подпись царевны в конце выведена прописью. Особенным же изяществом поражают заглавные буквы, виньетки и изображения евангелистов.
Десять лет спустя два «потешные» полка Петровы — Преображенский и Семеновский — наименованы были гвардией и, составив ядро нашего современного регулярного войска, доныне пользуются особенным почетом, как старейшие гвардейские полки.
Став самодержавным, Петр хотя и должен был уже значительную часть своего времени посвящать делам государственным, но любезные ему воинские «потешки» не только не прекратились, а получили еще большие размеры. Князь Федор Юрьевич Ромодановский, поставленный во главе преображенцев, шуточно титуловался «царем и государем Пресбургским» (по царской фортеции Пресбург), а Иван Бутурлин, командир семеновцев, был прозван «царем и государем Семеновским». В распоряжение того и другого отпускалось иногда до 15 тысяч пехоты и конницы, и одно такое дело в 1694 году, под Кожуховым, в Коломенских лугах, продолжалось не более не менее как шесть недель. В заключение (как повествует в своих записках один современник) «царь Федор Пресбургский царя Ивана Семеновского побил и взял в полон в фортеции».
На Переяславском озере точно также был произведен опыт «морской экзерциции» на нескольких кораблях о двадцати четырех пушках.
Первый «потешный бомбардир» Бухвостов дослужился до обер-офицерского чина, в разных «баталиях» был «многократно» ранен и скончался в чине артиллерии майора. Для увековечения его Петр велел знаменитому скульптору Растрелли вылить из бронзы «персону» Бухвостова.
Бывший же пирожник, денщик царский и «меньшой потешный», Алексашка или Данилыч, выдвинулся впоследствии, как главный сподвижник Великого Петра и Первой Екатерины, и имя его — князя Александра Данилыча Меншикова — никогда на забудется в летописи русской.
1899
Примечания
1
Евдокия (в 1676 г. — год смерти царя Алексея Михайловича — 26 лет), Марфа (23 л.), Софья (19 л.), Екатерина (17 л.), Мария (16 л.) и Феодосия (13 л.).
(обратно)2
Сперва в Пустозерск, потом в Мезень.
(обратно)3
Бомбардир — артиллерист, действующий ручными гранатами.
(обратно)4
Император византийский Феодосий II царствовал с 408 по 450 г., Маркиан, муж Пульхереи — с 450 по 457 г.
(обратно)5
Как это, так и последующие письма, за небольшими сокращениями, мы приводим дословно, исправив только неудовлетворительную орфографию, затрудняющую чтение.
(обратно)
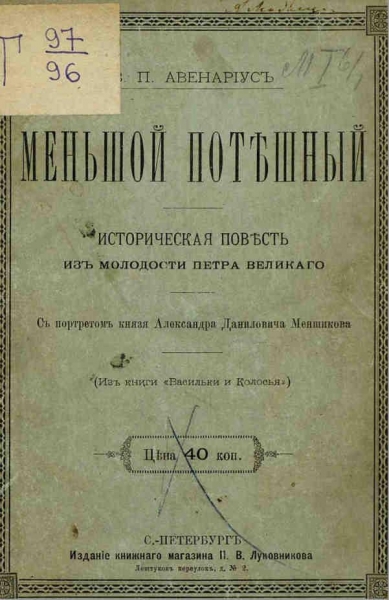

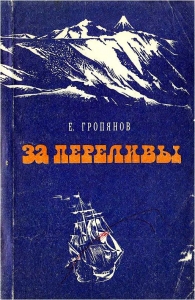


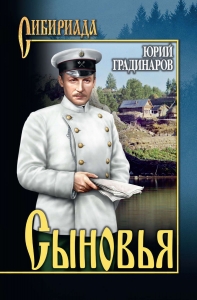

Комментарии к книге «Меньшой потешный», Василий Петрович Авенариус
Всего 0 комментариев