Альберто Васкес-Фигероа Гароэ
Alberto Vaźquez-Figueroa
Garoé
Перевод с испанского Т. В. Родименко
© Alberto Vaźquez-Figueroa, 2010
© Ediciones Planeta Madrid, S. A., 2010
© Перевод. Родименко, Т. В., 2014
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2014
1
Генерал Гонсало Баэса, волей случая появившийся на свет в Антекере, в немалой степени сохранил гордую осанку своей не такой уж далекой юности и, хотя зрение, естественно, уже начало сдавать, ежедневно проводил долгие часы за чтением в тени изящной бело-зеленой беседки в той точке своего ухоженного сада, откуда открывался вид на океан, а в глубине острова просматривалась громада Тейде.
Птолемей был последним царем Мавритании. В первые годы христианской эры так называли территорию, включавшую в себя Марокко и запад Алжира. Ее население составляли полукочевые пастушеские племена берберов, известные римлянам как mauris, от этого слова и происходит название «мавр».
В жилах Птолемея текла кровь берберов, греков и римлян, поскольку он был сыном царя Юбы II и царицы Клеопатры Селены. В свою очередь, Юба II был сыном Юбы I, берберского царя, который во время гражданской войны сражался на стороне Помпея против Юлия Цезаря.
Клеопатра Селена была единственной дочерью Клеопатры, последней царицы греко-македонской династии, которая заняла трон Египта после смерти Александра Великого и римского генерала Марка Антония.
Тем самым через Марка Антония Птолемей состоял в дальнем родстве с Юлием Цезарем.
А также приходился двоюродным братом императору Клавдию и троюродным – императорам Нерону и Калигуле. Он получил образование, положенное римлянину, и в 19 году отец посадил его рядом с собой на трон, а после его смерти Птолемей стал единоличным властителем. Он помог наместнику римской провинции положить конец долгой войне, опустошавшей Африку, которую здешние племена, возглавляемые нумидийцами, вели против Рима. В знак признания его заслуг сенат пожаловал ему скипетр из слоновой кости и триумфальную тунику, устроив торжественный прием, во время которого его чествовали как царя, союзника и друга. К тому времени он уже был женат на Юлии Урании, принадлежавшей к царской семье Сирии.
В 40 году Калигула пригласил Птолемея в Рим, и, согласно Светонию, когда тот прибыл в амфитеатр на представление гладиаторов, на нем был плащ из натурального шелка такого насыщенного пурпурного цвета, что Птолемей привлек к себе восхищенное внимание публики и вызвал зависть у императора.
Как известно, чтобы получить столь великолепную вещь, нужно было взять самый лучший шелк, привезенный с далекого Востока, и в течение долгого времени вымачивать в непомерно дорогой краске, добываемой только на Пурпурных островах – окраинном архипелаге в Атлантическом океане; до него за всю историю удалось добраться очень немногим мореплавателям.
По утверждению Светония, выставив напоказ вещь такой исключительной ценности, Птолемей, в сущности, хотел этим сказать, что его власть простирается дальше власти Рима, то есть достигает обоих пределов известного мира. Вот почему самолюбивый тиран Калигула приказал его убить, завладел драгоценным плащом и захватил Мавританию.
И тем самым положил конец династии Птолемеев, потому что тот был последним монархом, правившим под этим именем, и последним царем у себя в роду.
Генерал Баэса был поглощен чтением толстого тома в черном кожаном переплете, лежавшего у него на коленях. И лишь услышав, как кто-то приближается к нему со стороны дома, он поднял голову; его лицо невольно приняло удивленное выражение, когда он увидел, кто именно прервал его штудирование древнеримской истории. Это был монсеньор Алехандро Касорла, который с улыбкой направлялся к нему широким шагом и одновременно протягивал вперед руки в знак несомненного дружеского расположения.
– Мой дорогой Алехандро! – не выдержав, воскликнул генерал, рывком вскочив с места. – Вот так сюрприз!
– Мой дорогой Гонсало! – в тон ему ответил пришедший. – Как приятно обнаружить тебя там же, где и всегда, и к тому же в добром здравии! – воскликнул он вслед за этим. – Сколько же времени мы не виделись?
– Почти четыре года, если мне не изменяет память, – ответил хозяин столь уютного сада. – Что привело на этот далекий остров самого упрямого и влиятельного арагонца королевства?
Тот поднял вверх указательный палец в знак того, что необходимо внести уточнение:
– В любом случае я мог бы считаться вторым самым упрямым и влиятельным арагонцем королевства – первое место уже занято, и, надеюсь, надолго.
– На это уповаем, и все-таки что привело тебя на остров?
– Государственные дела и добрые вести, которые мне приятно время от времени лично сообщать в столь трудные времена. Можно? – Он задал вопрос, указывая на кресло, стоявшее с другой стороны столика, на который Гонсало положил книгу, и тот тут же ответил:
– Естественно! Хочешь что-нибудь выпить?
– С твоего позволения, я попросил Файну принести нам свежего лимонада… – ответил гость, протягивая ему запечатанный документ, который держал в руке. – Вот они, добрые вести.
Тот, кому, судя по надписи, сделанной изящным почерком, было адресовано письмо, сломал королевскую печать, ознакомился с напыщенным и высокопарным текстом официального назначения, вздернув брови, и на лице его тут же отразилось удивление вместе с ясно читаемым невольным неприятием.
Собеседник наблюдал за ним несколько обескураженный такой красноречивой реакцией и смутился еще больше, когда генерал вернул ему документ со словами:
– Прошу тебя, передай Его Величеству мою глубочайшую благодарность за оказанную честь, но я не могу это принять.
– Но почему?
– Это значило бы вернуться в то место и в то прошлое, которое я всю жизнь безуспешно пытаюсь забыть. – Гонсало Баэса покачал головой и непререкаемым тоном заявил: – Нет! Я не вернулся бы туда ни за что на свете!..
Едва оправившись от удивления, монсеньор Алехандро Касорла сделал небольшую паузу, чтобы осознать услышанное, а затем протянул руку, намереваясь положить ее – в знак явного дружеского расположения – на колено собеседника, и пробормотал, словно опасаясь, что его может услышать кто-то из посторонних:
– Умоляю тебя пересмотреть свое решение, дорогой друг. Если ты откажешься от назначения, то впадешь в немилость к Его Величеству, чем воспользуются недоброжелатели, которых, я уверен, у тебя более чем достаточно.
– Враги меня никогда не пугали, и я не думаю, что пора начинать их бояться, – сухо и твердо прозвучало в ответ.
– Одно дело то, что они тебя не пугают, другое – что ты сам даешь им карты в руки… – весьма резонно заметил клирик. – Если Корона весьма благосклонно относится к твоим попыткам защитить права туземцев и в качестве вознаграждения предлагает тебе пост, на котором ты можешь отвратить скрытое рабство, отказаться от предложения – значит отказаться от всего того, во что ты веришь и за что борешься.
Он умолк с появлением Файны, хлопотливой и невоздержанной на язык кухарки, которая принесла поднос с сухофруктами, двумя стаканами и большим кувшином лимонада и поставила на стол.
– Миндаль, грецкие орехи, инжир и лимоны из нашего собственного сада, ваше преосвященство. А лед мне доставили прямо с Тейде. Не желаете ли на обед отведать ушицы с гофио[1] и жареного козленка?
– Еще бы! – не раздумывая, с воодушевлением ответил тот, кому был адресован вопрос. – Если бы все искушения были такими, как твои, в аду негде было бы приткнуться. – Он окинул взглядом Гонсало, словно не мог поверить своим глазам. – Не знаю, как это ты не разъелся, как боров, с этакой кухаркой.
– У нас редко бывают гости, которые бы давали мне возможность предаться чревоугодию. – Хозяин дома приветливо улыбнулся своей ключнице и попросил: – Проветри комнату для гостей: его преосвященство останется ночевать.
– Уже, уже начала… А на ужин готовлю кролика в сальморехо[2] – ослица уписается.
Она удалилась, не дожидаясь ответа и пренебрежительно отмахнувшись, когда хозяин одернул ее непривычно суровым тоном:
– Что за выражение!
– Кто бы говорил!
– Ладно тебе, сразу видно, что она тебя любит и ходит за тобой, как за сыном, – заметил прелат. – Правду ли говорят, будто ты ее выкупил, когда ее должны были продать?
– Мне не нравится об этом говорить.
– Тебе много о чем не нравится говорить, но предупреждаю, что я проделал такое длинное путешествие – сейчас у меня голова просто идет кругом – не для того, чтобы ты со мной тут играл в молчанку, – подчеркнуто строгим тоном заметил прелат. – Корона намерена положить конец злоупотреблениям, восстановить справедливость на архипелаге, и, если те, в чьих силах этого добиться, отказываются действовать, тогда по-прежнему будут существовать крепостные, рабы, а детей будут вырывать из рук матерей, едва они прекратят кормить их грудью.
Генерал, казалось, внял разумным доводам человека, которому всегда слепо верил и которым восхищался. Он долго смотрел на заснеженную вершину гигантского вулкана, сиявшую, словно зеркало, и, громко вздохнув, сказал:
– Я буду всеми силами защищать туземцев на любом посту, куда бы меня ни направили, только, пожалуйста, пусть это будет не Иерро.
– Ты должен назвать мне убедительные причины, если хочешь, чтобы я поддержал тебя, – сухо прозвучало в ответ. – Мне стоило немалых трудов выхлопотать тебе данное назначение, поэтому я рискую оказаться в нелепом положении и потерять авторитет и доверие, которые завоевывал не один год, ведь придется сознаться в том, что я все это затеял, не заручившись твоим согласием.
Антекерец Гонсало Баэса был вынужден с ним согласиться: да, конечно, он здорово подвел своего наставника и друга. Он собирался было вновь ответить отказом, но, выпив лимонада и отодвинув от себя стакан, объявил:
– Я расскажу тебе, что случилось, при условии, что ты отнесешься к этому как к тайне исповеди и воспользуешься только тем, что я сочту возможным.
– Это смахивает на шантаж, но поскольку я тебя знаю и уверен, что ты еще упрямее, чем если бы был арагонцем, ничего не поделаешь, придется согласиться, – недовольно пробурчал гость. – Так что же такое стряслось на Иерро?
– Да там ужас что творилось.
– Мы живем в бурное время, когда «ужас что» – это хлеб наш насущный каждого дня, то есть, чтобы произвести на меня впечатление, это должно быть «очень ужасно».
– Именно так оно и было. Уверяю тебя.
– Ну, тогда дело плохо, ведь я знаю, что ты участвовал в жестоких войнах и кровавых битвах, – прошептал прелат чуть слышно. – Так что же произошло?
– Ты обещаешь держать это в тайне?
– Обещаю. И давай выкладывай, что бы там ни было, поскольку я уже сгораю от нетерпения!
Чувствовалось, что Гонсало Баэсе, загнанному в угол, приходилось бороться с собой, чтобы начать рассказ, однако после непродолжительного молчания он заговорил:
– Случилось так, что, когда я был юным лейтенантом, преисполненным энтузиазма, меня назначили заместителем командира отряда, перед которым была поставлена задача закрепиться на острове с тем, чтобы обеспечить права Испании на эту территорию и, таким образом, положить конец притязаниям португальской Короны и непрекращающимся набегам охотников за рабами. Нам был дан приказ убедить туземцев в том, что у нас нет намерения их поработить, и вдобавок мы должны были способствовать обращению их в христианство. Как тебе известно, Иерро – это небольшой вулканический и весьма суровый остров, где негде укрыться кораблям; к нему не подойти, когда океан волнуется, а это бывает слишком часто…
* * *
Волны неистово бились о берег, усыпанный галькой и черным песком, будучи лишь деталью величественной картины, поскольку далеко-далеко вдали просматривался остров Гомера, а еще дальше – Тенерифе, увенчанный громадой Тейде, на который открывался вид с юго-западной стороны.
Небольшая каравелла плясала на волнах в пол-лиги[3] от берега, в то время как качкие фелюги – каждая с дюжиной человек на борту – продвигались вперед на веслах, как им ни тяжело было преодолевать противоборство моря, ветра и течений.
На носу первой выделялась фигура юного Гонсало Баэсы, руководившего опасным маневром по высадке, а на второй – капитана Диего Кастаньоса, угрюмого великана с мохнатыми бровями и густой бородой, в которой уже начала пробиваться седина.
Среди остальных плывущих к острову обращал на себя внимание своим аскетическим обликом – ни дать ни взять живые мощи – доминиканский монах Бернардино де Ансуага, а также чудаковатый молодой человек, откликавшийся на диковинное имя Акомар.
С вершины ближайшего утеса группа островитян с беспокойством следила за тем, как суда боролись с волнами: временами казалось, что они вот-вот опрокинутся, – но все же они ткнулись в песок, и пассажиры смогли выпрыгнуть на берег, чтобы в срочном порядке выгрузить оружие и продовольствие, поскольку море прямо на глазах расходилось все больше.
Едва освободившись от груза, фелюги тут же повернули назад, к кораблю, команда которого занималась тем, что с помощью канатов и полиспастов со всяческими предосторожностями спускала вниз, в воду, громадного вороного коня.
То и дело поглядывая в сторону моря, как там продвигается дело, капитан Кастаньос, все еще мокрый до нитки, поспешно пророкотал, словно извергая из себя приказ (попробуй тут возрази!):
– Молина, возьми пять человек и прикрой северный фланг, а ты, Наварро, с пятью другими – южный.
Прочие перетаскивайте хозяйство вон за те скалы, а монашек пусть поставит тюк на землю, не то пуп развяжется. И не забывайте про дикарей там, наверху!
– Это не дикари, а туземцы… – возразил священник, опуская тяжелый тюк на песок.
– Для меня, святой отец, всякий, кто родился к югу от Кадиса, дикарь, – желчно ответил капитан. – Сейчас не время обсуждать глупости, уйдите с дороги.
Доминиканец беспрекословно подчинился, понимая, что не место и не время отвлекать от дела того, кто успевал уследить за всем, что творилось вокруг, да еще, подойдя к самой кромке воды, прокричал во все горло:
– Поосторожней там с Аттилой! Если с ним что-нибудь случится, получите по двадцать ударов кнутом…
Дело в том, что гигантское животное, привязанное к обеим фелюгам, смело преодолевая волны, подплыло к берегу, а тем временем несколько человек зашли в воду, чтобы взять его под уздцы, успокоить и вывести на сушу, где оно тут же начало отряхиваться и бегать то туда, то сюда вдоль пляжа с развевающейся на ветру гривой.
– Наше главное оружие! – вырвалось у гордого владельца; на этот раз он обращался к своему заместителю. – На дикарей он производит больше впечатления, чем полк пехоты, ведь там, где проскакал конь Аттилы, трава уже больше не росла.
– Но если коня зовут Аттила, значит, для того, чтобы трава больше не росла, скакать следует коню этого самого коня… – рассудительно произнес Гонсало Баэса.
Диего Кастаньос посмотрел на него в замешательстве, можно было бы сказать, почти обескураженно. Он пошевелил в воздухе пальцами, словно пытаясь привести в порядок мысли, и наконец разразился гневным монологом:
– Не лезь ко мне с глупостями, Баэсуля, и займись-ка устройством лагеря. Мне сейчас не до словесных фокусов. А этот чертов толмач пусть прекратит придуриваться, поднимется наверх и передаст дикарям, что я хочу потолковать с их вожаком.
– Без сопровождения? – встрепенулся Акомар, которого, судя по всему, имел в виду капитан.
– Естественно! Если они мирные, тебе незачем беспокоиться, – последовал жесткий ответ. – А если настроены враждебно, тогда прикончат что одного, что четырех, а значит, чем меньше потерь, тем лучше.
– Ничего себе утешение! – жалобно проговорил Акомар; у него был ярко выраженный андалузский акцент.
– Ты приплыл сюда не за утешением, сынок, а чтобы послужить Короне. Полагаю, ты должен чувствовать себя счастливым: как-никак после стольких лет встретишься со своими друзьями.
– Друзьями? – возмутился тот. – Меня увезли с острова в девять лет, чтобы продать в Севилье, так что мои друзья сейчас режутся в карты в Триане. Впрочем, делать нечего. Иду – и да не оставит меня Макарена![4]
– Я с тобой… – тут же вызвался брат Бернардино де Ансуага.
– Нет уж, спасибо, святой отец, – без всяких околичностей бросил ему островитянин. – Я предпочитаю Макарену.
Он положил оружие на камень и начал свое нелегкое восхождение. По пути он махал руками, чтобы продемонстрировать островитянам, что приближается к ним с мирными намерениями. Проводив его обеспокоенным взглядом, монах сказал только:
– Надеюсь, он еще говорит на их языке.
– Меня уверяли, что некоторые туземцы еще кое-что помнят по-французски с тех пор, как здесь побывали норманны Гадифера де Ла Саля[5], – заметил Гонсало Баэса.
– По мне, хоть по-китайски, – как всегда бесцеремонно, перебил его старший по званию. – Ты что, говоришь на языке лягушатников?
– Немного: моя бабка по матери была француженкой.
– В таком случае давай-ка оседлай мне коня.
– При чем тут французский язык? – не понял Гонсало Баэса, готовый оскорбиться.
– А то, что твоя бабка по матери была француженкой: наверняка это была прелестная кобылка. – Бородатый вояка громко расхохотался и подмигнул, добавив: – Шучу, Баэсуля! А сейчас пойду-ка припарадюсь для встречи с дикарями: на них доспехи производят впечатление, поскольку на островах нет металлов… – Он повернулся к ближайшему из солдат, занятых выгрузкой, и отрывисто приказал: – Сёднигусто, позаботься о том, чтобы Аттилу оседлали, а мне принесли кольчугу!
– Вы хотите сказать, что эти бедные люди все еще живут в каменном веке? – спросил удивленный брат Бернардино.
– Да не то слово!.. – ответил великан. – Швыряют каменюгами, только держись: раскроят тебе череп с пятидесяти шагов! Меткости им не занимать! – Он наклонился и показал широкий шрам на лбу: – Видите? Память об одном лансаротце.
– Боже праведный! – вырвалось у напуганного монаха. – Но если у них нет шпаг, чем же они дерутся?
– Деревянными копьями, пуская в ход ловкость, смелость и большую хитрость, святой отец. Они чертовски хитры! Сами видите, остров до ужаса суров, а они знают здесь каждую пядь земли. Иными словами, сколько бы шпаг, арбалетов и огнестрельного оружия у нас ни было, мы завсегда окажемся в наименее выгодном положении…
– Надеюсь, нам не придется с ними сражаться, – вмешался лейтенант; в его голосе звучала неподдельная искренность.
– Это зависит от них, только от них. Раз уж Папа постановил, что архипелаг принадлежит Испании, они обязаны подчиниться нашим законам, потому что, если бы мы позволили всем поступать, как вздумается, мир превратился бы в хаос. Посмотрим, с чем они придут!
Говоря это, он облачился в блестящие доспехи, водрузил на голову шлем с плюмажем и препоясал себя шпагой.
Покончив со всеми приготовлениями, он взгромоздился на коня и в сопровождении своего заместителя, монаха и полдюжины солдат, вооруженных копьями, арбалетами и разноцветными штандартами, торжественно двинулся вперед – к тому месту, куда спускался Акомар, за которым следовали трое мужчин и одна женщина.
Процессия застыла посередине пляжа. За их спинами бушевало море, солнце отражалось в кирасах. Это было величественное зрелище, которое, несомненно, произвело впечатление на туземцев.
Настолько сильное, что островитяне, которым оставалось пройти последний откос – чуть меньше двухсот метров, – замерли на месте, обменялись несколькими словами с переводчиком, а затем развернулись и стали поспешно взбираться по узкой и крутой тропинке, по которой спускались.
Огорченный Акомар развел руками, показывая, что он бессилен что-либо изменить, пожал плечами, смиряясь со своей судьбой, и продолжил путь в компании лишь одной полуголой, нечесаной и беззубой девицы, к которой, по правде говоря, мать-природа отнеслась не слишком благосклонно.
– Что случилось? – осведомился капитан, когда они подошли достаточно близко, чтобы услышать его зычный голосище. – Отчего эти болваны дали деру?
– Потому что вы их напугали, капитан, и своим конем, и снаряжением. Они сказали, что они всего лишь простые пастухи и что вам следует переговорить со старейшинами острова. И пошли за ними.
– И когда же их приведут?
– Завтра.
– Ладно. Подождем! – И презрительно кивнув в сторону девушки, спросил: – А это еще кто такая?
– Полоумная! Клянется, что она меня узнала и что наши родители обручили нас еще в детстве, потому что мы кузены. Она уверена, что я вернулся, чтобы жениться.
– Значит, ты провел на острове всего час, а уже успел обзавестись невестой, – насмешливо прокомментировал военачальник. – Поздравляю!
– Какая к черту невеста! – возмутился тот. – Моя невеста танцует фламенко в Севилье.
– Корабль отплывает… – вдруг произнес тот, которого называли Сёднигусто.
Все повернулись в указанном направлении, и солдаты замерли с тюками в руках, провожая взглядом корабль, который поднял часть парусов и начал удаляться.
Их лица выдавали тревогу и даже страх, поскольку они осознали, что остались одни на острове, населенном существами, чьи намерения им неизвестны. И никакой связи с внешним миром, кроме пары хрупких фелюг, лежавших на песке: на таких суденышках, уж точно, далеко не уплывешь. А вокруг океан, который с каждым часом становился все враждебнее.
Спустя два часа, когда солнце начало скатываться к горизонту, брат Бернардино сидел на скале и любовался закатом; внизу, у подножия, бились волны. Через некоторое время рядом с монахом пристроился Гонсало Баэса, также очарованный красотой зрелища, и спросил:
– Вы обеспокоены?
– А кто же нет, сын мой? А кто же нет? – ответил монах, не скрывая своего уныния. – Это самый край самого крайнего острова известного мира; там, дальше, ничего нет.
– В таком случае, где же заканчивается океан? – поинтересовался собеседник. – Мне не верится, будто, как утверждают, он низвергается в бездонную пропасть. Если бы это было так, уровень воды рано или поздно неминуемо понизился бы, но что-то не похоже, чтобы это происходило.
– Возможно, все дело в том, что океан бесконечен.
– А если он бесконечен, как вы объясните то, что солнце каждый раз всходит из-за него? – тут же последовал вопрос, не лишенный логики. – Мы люди сухопутные, поэтому с детства привыкли к мысли о том, что за картиной, которую мы видим, следует другая, а за ней, там дальше, еще одна, и еще, и еще, и свыклись с этим. Однако сейчас мы столкнулись с фактом, что никакой новой картины больше не возникает, и, сколько я ни размышляю над тем, что земля бесконечна, это объяснение мне ничего не дает.
– Не дает, потому что тебе не хватает веры, – заметил доминиканец. – Мы должны верить в то, что устанавливает Святая церковь, и если она утверждает, что в данный момент мы сидим на самом краю света, значит, так оно и есть… А мой долг – довести это до ума нескольких бедных неверных, которым еще не открылась Христова истина.
– Вы хотите сказать, что только вера объясняет необъяснимое?
– Вот именно, – без тени сомнения изрек монах. – И не советую тебе ходить по скользкой дорожке, ибо ты подвергаешь себя серьезному риску.
– Вы донесли бы на меня Святой инквизиции? – осмелился предположить собеседник, изобразив подобие насмешливой улыбки.
– Ну тебя, Гонсало, кончай молоть чепуху! Я такими делами не занимаюсь, хотя многие из моего ордена не преминули бы это сделать. Единственное, чего я хочу, – это заставить тебя понять, что ты человек военный и так же, как и я, обязан подчиняться, а не рассуждать.
– Однако как тут не рассуждать, – заметил собеседник. – Ведь мы действительно достигли пределов известного мира и находимся в окружении существ, которые мало изменились – вполне возможно, они одни такие – с тех пор как Создатель поселил на земле Адама и Еву. На мой взгляд, в подобной исключительной ситуации нам следовало бы попытаться отойти от принятых норм поведения.
– И что ты предлагаешь?
– Поступать так, как подсказывает нам здравый смысл, а не по указке тех, кто вместо простых пещер живет в римских дворцах.
Брат Бернардино де Ансуага отнесся к этому спокойно, можно было даже подумать, что он решил не отвечать, однако в тот самый момент, когда край солнца исчез за горизонтом, он уверенно сказал:
– Если кто и живет в римских дворцах, так это потому, что он культурнее и ученее тех, кому приходится обитать в пещерах. И раз уж мои умственные способности не позволили мне продвинуться дальше, пусть тогда мной руководят знающие люди; чего ради я буду исходить из того, что, как предполагается, я мог бы узнать.
2
Воткнув в песок длинные копья, солдаты натянули навес, поставили несколько складных табуретов и низкий стол. Он был завален маленькими зеркалами, цветистыми тканями, стаканами, бутылками, ложками, кастрюлями и ожерельями из желтых, зеленых и красных бусин.
Добавить к этому флажки и вымпелы, развешанные по углам, беспокойного Аттилу, привязанного к столбу на расстоянии трех метров, и множество шпаг, арбалетов и доспехов, разложенных со знанием дела – чтобы в них отражались лучи утреннего солнца. Эта на скорую руку созданная обстановка, отчасти напоминавшая театральную декорацию, служила одной цели – произвести впечатление или, может, поставить на место приближавшуюся троицу старейшин: те были явно ослеплены могуществом и богатством, выставленным напоказ надменными вояками, пожаловавшими издалека.
Акомар был отправлен навстречу делегации. Он почтительно поклонился и препроводил островитян к тому месту, где в импровизированном шатре их ожидали капитан Диего Кастаньос, юный лейтенант Гонсало Баэса и брат Бернардино де Ансуага.
После приличествовавших случаю ритуальных приветствий семеро участников переговоров, которые можно было бы назвать «Первой мирной конференцией», уселись на табуреты вокруг стола таким образом, что пришедшие видели прямо перед собой огромное количество предметов – незнакомых, соблазнительных и, по их представлениям, роскошных.
Первым заговорил военный с густыми бровями и седой бородой. Он обращался к переводчику, но при этом вперил взгляд в того из троих туземцев, который по положению явно был главным и который, по словам Акомара, отзывался на звучное имя Бенейган.
– Передайте ему, что мы прибыли не с умыслом нанести им вред и уж тем более не для того, чтобы их поработить, – уточнил он. – И что наша миссия заключается лишь в том, чтобы защитить их от вторжения охотников за рабами, высаживающихся на берег по ночам и похищающих у них самых сильных сыновей и самых красивых дочерей. Лучшим доказательством наших намерений служит то, что мы высадились при свете дня, а наш корабль ушел в море. Им незачем нас бояться, поскольку мы ищем не покорных рабов, а верных союзников.
Было очевидно, что юный Акомар не забыл сложный язык островитян, но он не мог похвастаться блестящей памятью, поэтому ему потребовалось немало времени, чтобы, преодолевая сомнения, а иногда прибегая к бурной жестикуляции, передать смысл столь длинного послания; при этом он говорил с ярко выраженным андалузским акцентом, что в какой-то степени выглядело комично.
Далее он внимательно выслушал все, что Бенейган высказал в ответ, заставил его повторить кое-какие слова и, наконец, повернулся к капитану, чтобы передать то, что, насколько он понял, хотел сказать туземец.
– Он выражает благодарность за наши добрые намерения, он в них не сомневается, но недоумевает, по какой причине такие богатые и могущественные люди, прибывшие издалека, беспокоятся о тех, кому нечего предложить взамен, кроме коз, овец и свиней.
– Господь наш Христос не делает различий между теми, у кого есть только козы, овцы или свиньи, и теми, кто владеет лошадьми, дворцами или сундуками, полными драгоценностей… – вмешался брат Бернардино, попытавшийся внести ясность.
Капитан Кастаньос тут же прервал его, вытянув вперед руку со словами:
– Оставим Божественные темы на потом, падре, и не будем валить в одну кучу политику с религией. Первым делом надо их успокоить и внушить мысль о том, что отныне они становятся подданными великодушных и снисходительных монархов, которые о них пекутся и уважают их обычаи.
– Но…
– И никаких «но»! – На этот раз его категоричный тон не допускал возражений. – Если дикари заподозрят, что мы намереваемся заменить идолов, которым они поклоняются уже не одно столетие, новым Богом, каким бы истинным Он ни был, они у нас живо взбунтуются – мы не успеем даже составить представление, с какими силами имеем дело. – Бородатый великан оскалил зубы, вероятно изображая примирительную улыбку, и добавил: – Если Господь наш всемогущ и бесконечен, как всем нам известно, то не думаю, что Он рассердится из-за каких-то нескольких месяцев задержки. Терпение, ибо Святая церковь заполучит себе души этих бедных неверных, когда следует.
Монах повернулся к Гонсало Баэсе, словно ища поддержки – по крайней мере, моральной, – но тот ограничился почти незаметным кивком, давая ему понять, что согласен со своим командиром: чересчур поспешные действия слишком часто приводят к неудачам.
Когда их отправили сюда вступить во владение островом, им дали с собой только весьма приблизительную карту его берегов, в которой погрешностей было куда больше, чем точных указаний. Да еще им было твердо сказано, что, мол, неизвестно, сколько мужчин, женщин, стариков, детей или голов скота обретается среди высоких гор, глубоких ущелий или густых лесов гигантского «утеса», который издали казался скорее неприступной средневековой крепостью, осаждаемой разъяренным морем, нежели обитаемым местом.
Никто в Севилье не имел ни малейшего понятия о том, скольким воинам со стороны островитян будет противостоять горстка испанских солдат, а значит, и спорить нечего: линия поведения капитана Кастаньоса, несомненно, была самой разумной с точки зрения военной стратегии.
И тот, сознавая свою непререкаемую власть, вновь вперил взгляд в «приглашенных» и с нажимом произнес:
– Разъясни им, что у нас нет намерения красть у них еду. Мы готовы заплатить за нее разумную цену. – На этот раз он улыбнулся, как огромный кролик с желтыми зубами, и уточнил: – Тот, кто захочет снабдить нас продуктами по своей собственной воле, сможет выбрать взамен любой из предметов, находящихся на столе.
Когда Акомар с трудом завершил путаный перевод, туземцы недоверчиво переглянулись, и самый молодой тут же спросил на своем языке:
– Он говорит серьезно? Я могу взять одно из ожерелий в обмен на одну из моих свиней?
– При условии, что она здоровая и упитанная… – ответил капитан, как только Акомар перевел ему смысл вопроса. – Мы люди щедрые, но не безмозглые.
После выяснения вопроса островитяне обменялись серией длинных фраз. Они были настолько возбуждены, что, даже не зная языка, можно было утверждать: им никогда не доводилось получать такого привлекательного, соблазнительного и щедрого предложения.
В отполированных зеркалах они увидели собственное отражение, мягкие ткани могли бы заменить их одежды из овечьих шкур, бусы украсили бы шеи их жен, а в блестящих металлических кастрюлях можно было бы варить пищу. Люди, которые до сего момента знали лишь глину, камень и дерево, о таком и мечтать не смели.
Когда прошел первый момент ликования, туземец, известный как Бенейган, судя по всему пользовавшийся непререкаемым авторитетом, указал на одну из шпаг, которые были воткнуты в песок, и пожелал узнать, распространяется ли на них соглашение. Однако на сей раз ответ Кастаньоса не оставил ни малейшего сомнения.
– Ни шпаги, ни топоры, ни копья, ни ножи, ни что-либо другое из того, что может быть обращено против нас, – заявил он таким тоном, что сразу стало ясно: данный вопрос не подлежит обсуждению. – Мне еще в юности внушили: желаешь мира – готовься к войне, а это, прежде всего, означает – располагать лучшим оружием, чем у противника… – Он жестом словно отодвинул от себя что-то воображаемое и при этом сказал Акомару: – Последнее нет необходимости переводить, скажи ему только: мол, об оружии не может быть и речи.
Туземцы согласились – лишних объяснений им не понадобилось – с тем, что пришельцы не расположены делиться определенными вещами, и тогда глава островитян вызвался отвести испанцев в одно место в глубине острова, где они могли бы расположиться, имея под боком небольшой источник чистой воды, поблизости с густыми лесами и плодородными землями.
– На каком расстоянии от ближайшего берега оно находится? – тут же поинтересовался дотошный капитан.
Из ответа, не отличавшегося особой точностью, следовало, что можно дойти до берега моря и вернуться обратно на протяжении одного утра. Это, судя по всему, совсем не устроило командира экспедиционного отряда: он напирал на то, что предпочитает разместиться как можно ближе к океану.
Однако участники импровизированной «Первой мирной конференции» дали понять, что на всем побережье нет такого места, которое может обеспечить водой столько человек в течение продолжительного времени.
– Здесь с водой всегда были большие проблемы, особенно летом… – со своей стороны подтвердил переводчик. – Помнится, когда я был ребенком, мы пережили такую ужасную засуху, что моей матери приходилось идти целый день, чтобы принести два жалких бурдюка из козьей шкуры; этого едва хватало, чтобы выжить… – Он сделал короткую паузу и осторожно добавил: – Не мне вам советовать, как поступить, капитан, но если мой опыт островитянина что-нибудь стоит, я вам рекомендую первым делом позаботиться о водоснабжении, поскольку у вас еще будет время оглядеться и выбрать место получше.
Диего Кастаньос тут же спросил своего заместителя:
– А ты как считаешь, Баэсуля?
– Считаю, что человек научился бороться со всем, кроме жажды, которая наводит ужас и убивает так же, как и шпаги. История учит, что из-за жажды исчезло больше цивилизаций, чем из-за действий людей.
– Кончай свои словесные выкрутасы и давай ближе к делу! – недовольно процедил капитан со свойственной ему бесцеремонностью. – Я допускаю, что этот чурбан прав и у нас еще будет время найти позицию получше, то есть в данный момент я согласен, чтобы дикари отвели меня на то место, которое они предлагают, а тем временем ты отправишься в плавание вокруг острова.
– В плавание вокруг острова на утлых шлюпках по бурному морю? – всполошился юный офицер, махнув рукой в сторону грозных волн, которые с все возрастающим грохотом разбивались о берег. – Это безумие!
– Насколько мне известно, у нас нет ни других шлюпок, ни тем более другого моря. Короче, я разрешаю тебе отобрать шесть человек по своему усмотрению, и выполняй себе задание хоть до второго пришествия, только вот тебе мой первый приказ: нарисуй мне подробную карту каждого мыса, бухты, пляжа и утеса, включая тщательный промер глубин, чтобы выбрать место, где судно среднего водоизмещения сможет подойти к берегу, не рискуя сесть на мель…
– Да я же человек сухопутный и не переношу качки!.. – возроптал антекерец.
– Ну так я тебя уверяю, что ты либо излечишься от этого, либо похудеешь…
Его прервал переливчатый свист, раздавшийся с вершины кручи. Сопровождаемый недоуменным взглядом капитана самый молодой из туземцев встал, вышел из-под навеса и, подняв голову в сторону свистевшего, поднес пальцы ко рту и засвистел в ответ; все это напоминало какой-то шифрованный разговор.
Обмен трелями, которые пронзали воздух, преодолевая расстояния, недостижимые для любого человеческого голоса, длился почти пять минут, поэтому, когда упорный свистун вернулся на место, капитан Кастаньос не выдержал и яростно завопил:
– И что все это значит? Уж не приказал ли он, чтобы нас атаковали?
– Вовсе нет!.. – поспешил успокоить его переводчик. – Тот, наверху утеса, просто поинтересовался, как идут дела, и парень ответил, чтобы он сходил за тремя козами, потому что хочет быть одним из первых, кто обменяет их на бусы.
– И все это он сказал с помощью свиста? – изумился военный. – Подумать только!
– Таким способом мы передаем сообщения с одной горы на другую.
– Да он и впрямь хорош!..
– А я-то думал, что этот язык используется только на острове Гомера… – вмешался брат Бернардино де Ансуага. – Один послушник, который родился там, но которого продали в рабство, уверял меня, что он способен кое-что понять, однако, что касается меня, я никогда не слышал, чтобы это практиковалось здесь, на Иерро.
– Язык свиста возник на Гомере, поэтому там он развит в большей степени, но мы тоже им пользуемся… – уточнил Акомар, гордясь тем, что он может продемонстрировать свои способности и познания. – Ведь до Гомеры рукой подать – камень можно добросить.
– Это должен быть совсем крошечный камушек, запущенный с помощью гигантской пращи, но сейчас речь не об этом, – пробормотал бровастый капитан, вынимая из сумки на поясе пучки растений, которые он разбросал поверх зеркал, и при этом добавил, обращаясь прямо к туземцам: – А еще объясни им, что те, кто принесет мне много-много этих водорослей, получат красивые подарки…
* * *
– Водорослей? – озадаченно переспросил монсеньор Касорла, собиравшийся отправить себе в рот аппетитный кусок жареной козлятины. – Что ты хочешь этим сказать?
– То, что сказал, – ответил хозяин дома. – Капитана Кастаньоса очень интересовало то, что он называл водорослями, хотя спустя годы я выяснил, что на самом деле это были лишайники.
– Что за ерунда!
– Я тоже так думал… – кивнул генерал Баэса с другого конца стола; они сидели в просторной столовой, наслаждаясь отменными кушаньями Файны, которая выглядела самой счастливой женщиной на свете, снуя туда и сюда с тарелками и подносами. – И мне даже не приходило в голову, что какое-то с виду безобидное растение в дальнейшем могло породить бесконечное число проблем и причинить жестокие страдания.
– Вероятно, из этих водорослей, лишайников… или что такое там было… получают что-то вроде наркотика или яда?.. – спросил озадаченный прелат.
– Вовсе нет, но капитан проявил к ним такой живой интерес, что, как только туземцы изъявили готовность доставить их в любых количествах, приказал снять лагерь и приготовиться к походу. Затем отвел меня в сторону и приказал, невзирая на непогоду, отправляться в море и во время плавания вокруг острова и составления карты обратить особое внимание на те места на берегу, где особенно много загадочных зеленых листиков. «Советую тебе взять с собой братьев Аресов, которые, как всякие добрые галисийцы, наверняка что-то понимают в мореходстве, – сказал он мне. – Остальных выбирай по своему усмотрению, только сделай это прямо сейчас, потому что в тот момент, когда скроется вершина этого утеса, я хочу увидеть, как ты держишь курс на юг». – Генерал сделал паузу, вновь воскрешая в памяти случившееся в тот суматошный и, как оказалось, несчастливый день, и, покачав головой, словно ему самому трудно было принять правду, добавил: – Карлос и Амансио Аресы действительно были «добрыми галисийцами», отсюда и предположение, что они «наверняка что-то понимают в мореходстве». Однако позже выяснилось, что они родились в Луго, поэтому видеть не видели никакой другой воды, кроме реки Миньо, до того дня, как их привезли в Севилью, где они оказались лицом к лицу с Гвадалквивиром, а затем с океаном, который их ошеломил. Из четырех остальных двое были леонцы, а самый сильный и решительный, Бруно Сёднигусто, – саморец, уверявший, что он всю свою жизнь занимался греблей на озере Санабрия.
– Сёднигусто! – не удержавшись, повторил удивленный прелат. – Любопытная фамилия!
– То была не фамилия, а прозвище, поскольку он имел привычку приговаривать: «Сегодня густо, а завтра пусто», – объяснил собеседник. – Но он умел грести, был силен, как мул, и оказался действительно замечательным парнем.
– А откуда был шестой?
– Предполагаю, из какого-нибудь селения в Сьерра-Морене, но я не вполне уверен, – сказал собеседник, смиренно пожав плечами. – Его звали Ящерица, и в тот день я даже не успел спросить его об этом, потому что не прошло и каких-нибудь десяти минут (нас ужасно качало, а ветер временами разыгрывался не на шутку), как этот паршивец начал блевать, будто намереваясь вывернуться наизнанку, вдруг неожиданно бросился в море, поплыл по-собачьи к берегу и исчез среди скал.
– Господи, воля твоя!
– Дьявола, а не Господа! Вот уж не думал, что такое случится!
– Твой первый дезертир и первое пятно в твоем личном деле…
– И самый болезненный прокол… – вынужден был без обиняков признать его сотрапезник. – За считаные минуты он поставил под сомнение мою способность выбирать подчиненных. Среди стольких вымуштрованных и оробевших рекрутов, стоявших передо мной в строю в тот день, я указал на единственного, который предпочел жить как дикарь на незнакомом острове, лишь бы не подчиняться моим приказам.
– Может, тебе послужит утешением мысль о том, что ты обратил внимание на человека с характером.
– Полно тебе, Алехандро! – воскликнул собеседник, притворно целясь костью козленка ему в голову. – Не пудри мне мозги. Просто этот мерзавец не переносил качки, и я его понимаю: при этом возникает такое чувство, будто ты умираешь. Поэтому он решил, что лучше уж прозябать на суше, нежели загнуться в море, в чем я тоже его не виню, потому что в такой обстановке, когда и волны, и ветер, и течения, и чертово солнце, которое немилосердно пекло, в голову лезло всякое дерьмо.
– Что за выражение, мой генерал!.. – с лукавой улыбкой попеняла ему старая Файна, убирая пустую тарелку. – Ну как тут научишься хорошо говорить с таким вот хозяином?
3
Фелюги напоминали бумажные кораблики, влекомые бурным течением по канаве. Они кренились на бок, вразнобой взбирались и спускались по волнам, несмотря на героические усилия гребцов, в движениях которых было больше отчаяния, нежели проворства. На каждую шлюпку приходилось всего лишь по три неопытных человека, тогда как, чтобы заставить судно двигаться в нужном направлении, требовалось никак не меньше десятка морских волков.
Чтобы фелюги не унесло в разные стороны ветром и течениями, их соединили между собой толстым канатом саженей в двадцать длиной, привязав его к корме судна, которым командовал лейтенант Баэса, и к носу второго, которым управлял капрал Карлос Арес. Можно было подумать, будто первое судно тянуло на буксире второе, поскольку мускулистый Бруно Сёднигусто был единственным гребцом, способным успешно справляться с трудностями, хотя с каждым взмахом весла становилось все очевиднее, что они слишком отдаляются от берега.
Все шестеро, обливаясь потом и отдуваясь, предпринимали отчаянные попытки вновь подплыть к утесам, которые защитили бы их от ветра, и высмотреть крохотный пляж или укромную бухту, где можно было бы обрести убежище, однако безжалостный океан, словно магнит, затягивает корабли в свои бесконечные просторы, так что понадобилось не так уж много времени, чтобы осознать, что они находятся на расстоянии уже больше пол-лиги от последнего известного острова.
А они прекрасно знали, что, если так пойдет и дальше, их навеки поглотит то, что географические трактаты и морские карты обычно с полным основанием именуют Мрачным океаном.
Если верить легендам и даже некоторым географам, пользовавшимся авторитетом, бескрайнее море, начинавшееся за островом Иерро, кишмя кишело гигантскими кальмарами, китами-убийцами и жуткими водяными змеями длиной в тридцать саженей и простиралось до такого места, где рычащий бездонный водопад сбрасывал его к пределу Вселенной.
– Давай! Давай! Давай! – не унимался офицер, подгоняя своих подчиненных. – Навались! Навались! Гребите, иначе мы пропали!..
Если кто-то желал ободрить товарищей, чувствуя, что их силы на исходе, а ладони содраны до крови, ветер заглушал его крики. Поэтому вскоре ответом ему было только прерывистое дыхание тех, кто уже не мог сопротивляться, да время от времени всхлипы тех, кто был уверен, что смерть уже расположилась на борту их утлых суденышек.
Крепкая веревка, соединявшая шлюпки, не раз натягивалась, а с приходом новой волны трещала, угрожая порваться и тем самым бросить более слабых гребцов на произвол моря, а оно было угрюмого темно-синего цвета и становилось все безжалостнее.
Их обогнала стая дельфинов, которые, играя, весело подпрыгивали, и люди не могли не почувствовать по крайней мере зависть к этим безмятежным созданиям, которые, казалось, радовались жизни, как дети, в самом центре того, что мореплавателям представлялось кромешным адом.
С неба за их тщетными усилиями наблюдали дюжины чаек.
Берег отступал все дальше.
Боже праведный! Неприступный вулканический остров словно ожил и отдалялся, будто это его относило ветром.
– Гребите, гребите, гребите! – надрывно кричал лейтенант Баэса. – Ради всего святого, гребите, иначе мы пропали!
Это уже был не приказ, скорее жалобная мольба.
Даже упорный Бруно Сёднигусто начал выдыхаться.
Через несколько минут двое гребцов во второй шлюпке, которая практически шла на буксире, повалились друг на друга, будучи не в силах бороться с волнами…
Или с судьбой.
Только старший из галисийцев все еще сопротивлялся.
Он продолжал грести один, в ярости и отчаянии, упрашивая своих товарищей не сдаваться до последнего, но вскоре, по-видимому, понял, что их шлюпка превратилась в тяжкую обузу и при попытке подойти к впереди идущей фелюге в таком бурном море они подвергнут опасности оба судна.
Несколько мгновений он сидел неподвижно, обхватив голову руками и упершись локтями в колени, словно ему было нелегко смириться с поражением, а затем встал на носу, вынул из-за пояса острый нож и крикнул:
– Прощай, Амансио! Прощай, брат!
Он перерезал веревку и замер на месте, следя за тем, как первая фелюга, освобожденная от столь невыносимого мертвого груза, набирает ход, устремившись к далекому берегу.
Лицо Амансио Ареса было мокрым от слез, но он был не в состоянии их вытереть, боясь сбиться с ритма. Он греб скорее сердцем, нежели руками, не отрывая взгляда от человека, с которым прожил бок о бок большую часть своей жизни, и вот теперь его фигура уменьшалась на глазах.
– Давай, давай, давай!.. – кричал ему неутомимый Сёднигусто. – Последнее усилие!
Вероятно, поскольку им приходилось грести, сидя спиной к острову и лицом к морю, и в силу этого обстоятельства наблюдать, как лодку с тремя товарищами словно заглатывает некое безжалостное чудовище синего цвета, который с каждым гребком все больше сгущался, их охватил такой ужас, что, не желая разделить подобную участь, они сжали зубы и постарались извлечь силы оттуда, где их не было.
Сколько миллионов несчастных на протяжении истории точно так же противостояло океану и сколько погибло, когда, казалось, спасение было близко, только руку протянуть?
Моряк, ты моря не бойся, бойся скалы. Моряк, ты моря не бойся, бойся скалы. Море качает тебя, скала – разобьет. Море качает тебя, скала – разобьет. Милая, губы не вспомнят, ты в сердце храни память мою. Милая, губы не вспомнят, ты в сердце храни память мою. Дно мне милей крутых берегов. Дно мне милей крутых берегов[6].Самоотверженная команда ветхой и обшарпанной каравеллы, на которой они прибыли на Иерро, не раз напевала эту старую моряцкую балладу, ставя паруса, чтобы придать себе бодрости в этом нелегком деле. Однако ни кастилец, ни андалусец, ни галисиец, которые сейчас так отважно боролись за свою жизнь, не могли и подумать во время долгого, однообразного и тягостного плавания, начавшегося в Севилье, что не пройдет и трех дней после высадки на берег, как они окажутся перед ужасным выбором: обрести вечный покой на темном дне океана или разбиться об утесы под яростным натиском ревущих волн шестиметровой высоты.
Что это было – предостережение или насмешка судьбы?
Не все ли равно?
– Впереди рифы, мой лейтенант! – неожиданно крикнул саморец. – Что будем делать?
Гонсало Баэса понял, что у него всего пара минут, чтобы выбрать какой-то из двух вариантов, один другого нежелательнее и рискованнее: перестать грести и, позволив ветру и течениям унести шлюпку обратно в открытое море, разделить судьбу товарищей, которые уже начали исчезать из виду, приблизившись к колеблющейся и волнистой линии горизонта, или попытаться пробраться через лабиринт остроконечных скал, покрытых белой пеной, которые неизбежно разнесут фелюгу в щепки.
– Ты что думаешь?
– Дело дрянь, мой лейтенант! Что бы мы ни предприняли, сегодня густо, завтра пусто.
– А ты, Амансио, что скажешь?
– Что земля есть земля, какой бы суровой она ни была.
– Верно! – согласился командир; в его голосе звучала убежденность. – Земля есть земля, а чертово море – рыбам! Плывем вперед, и будь, что Богу угодно. Лево на борт!
– А это что значит?
– Что надо повернуть налево, бестолочь. Попытаемся проскочить по проливу, который ведет вон к той бухте. Правда, это все равно что просунуть канат в игольное ушко, но у нас нет иного выхода.
Разумеется, толстый канат нипочем не пролез бы в узкое игольное ушко, однако в последний момент одна непривычно сострадательная волна решила сжалиться над горемыками, на долю которых выпало столько несчастий, мягко подняла их шлюпку, пронеся ее на несколько сантиметров выше острых выступов скалы, и опустила внутри маленькой природной бухты диаметром каких-нибудь двадцать метров, куда следом начали проникать другие, гораздо менее дружелюбные волны.
Берег острова с этой стороны являл собой результат резкого остывания изливавшейся из жерла вулкана раскаленной лавы во время ее низвержения в океан.
Черные и гладкие наплывы лавы представляли собой поразительное и одновременно мрачное зрелище – естественное следствие яростного столкновения самых противоборствующих стихий: огня и воды.
И внутри этого созданного природой цирка танцевала хрупкая и неустойчивая шлюпка, повинуясь капризу прибоя, который проникал через узкий пролив и играл ею, как скорлупкой, заставляя отскакивать от каменной стены, чтобы снова дать ей щелчка в тот момент, когда она плыла ему навстречу.
Не было никакого толку ни от гребцов, ни от весел.
Первым, кто это понял, был Бруно Сёднигусто, который бросился в воду, схватил канат и поплыл на спине, таща за собой шлюпку в направлении к единственной точке – крохотному пляжу, где он надеялся вытащить ее на берег.
Осознав, что от этого зависит их жизнь, Гонсало Баэса и галисиец последовали его примеру, и после десяти минут тяжких усилий, терпя удары моря и боль в ободранных ладонях, они сумели отвести фелюгу, весьма потрепанную и почти с пробитым днищем, в безопасное место.
Когда же, вконец обессилев, все трое припали к склону пятиметрового откоса, они являли собой живой пример того, чем и были: жалких остатков кораблекрушения.
И вот стоило им спастись, как мрачная игра тут же разонравилась взбалмошным стихиям. Ветер прекратился, прибой ослабил напор, а прилив, совсем недавно достигавший своей верхней точки, начал отступать, увлекая за собой воды небольшой бухты.
Они напрягли зрение, но лишь только когда солнце начало склоняться к горизонту, смогли различить выделяющееся на бесконечной синей поверхности темное пятно шлюпки, неподвижно застывшей посреди пустоты.
– Почему они не гребут?.. – чуть ли не всхлипывая, вопрошал Амансио Арес. – Почему не попытаются еще раз? Может, сейчас, когда море успокоилось, у них получится добраться до берега.
– Они сдались, а когда кто-то признает свое поражение, где уж тут ему воспрянуть духом, – мрачно заметил лейтенант. – Вот поэтому никогда нельзя сдаваться.
– Разве это лучше? – спросил безутешный галисиец, которому с трудом давалось каждое слово. – Я предпочел бы оказаться там и видеть, что Карлос остался живым и невредимым, нежели здесь, зная, какой конец его ожидает посреди океана.
– Но ведь ни у лейтенанта, ни у меня нет брата на этой шлюпке, что существенно меняет дело… – без тени язвительности напомнил ему саморец. – Твои родители живы? – спросил он и, когда тот кивнул в ответ, добавил: – Может, им послужит утешением, что, по крайней мере, одному из их сыновей удалось спастись.
– Но не вздумай рассказать им правду… – поспешно перебил его Гонсало Баэса. – Пусть уж лучше думают, что твой брат умер без мучений, чем представляют себе, каково им было, когда их унесло в море.
– А что я им скажу, если потом окажется, что он не погиб? – не успокаивался Амансио Арес. – Как я могу сказать им, что он утонул, если я не до конца в этом уверен? Если, как утверждают некоторые моряки, существует земля – там, дальше, за этими островами, – возможно, ему удастся туда добраться, и в один прекрасный день он вернется домой живым и здоровым.
– Этот чертов океан похож на жизнь, парень… – с поразительной бесцеремонностью перебил его Бруно Сёднигусто. – Какое там вернуться, если на то, чтобы дойти до конца, уходят все силы.
– Не понимаю, что ты хотел этим сказать?
– Какая разница? Я тоже не понимаю и половины того, что происходит вокруг, и не схожу из-за этого с ума. А что теперь мы будем делать, мой лейтенант?
– Переночуем здесь и отдохнем, – мягко сказал лейтенант. – Похоже, у Ареса вывихнуто плечо, у меня распухла лодыжка, и у всех нас содрана кожа на ладонях. Проклятые весла!
– Схожу-ка за водой и провизией, а то как бы с приливом шлюпку не унесло вместе со всем содержимым, – вызвался неутомимый саморец и, скользнув взглядом по ноге своего командира, мрачно прокомментировал: – Лодыжка начинает смахивать на спелый баклажан. Очень больно?
– Только когда я танцую… Ты справишься один?
– Лучше, чем с вашей помощью, конечно… – Он повернулся к третьему спасшемуся, который сидел с отсутствующим видом, вперив взгляд в горизонт, и поинтересовался у него: – Как твоя рука?
– Какая рука? – переспросил тот, словно вернувшись откуда-то издалека.
– Та, что висит у тебя плетью…
Амансио Арес опустил глаза, посмотрел на руку, будто увидел ее впервые, не сделал даже попытки ею подвигать, но вскоре проговорил:
– У меня все болит. Может, это рука, а может, и нет…
Сочтя ответ несуразным, Бруно Сёднигусто только пожал плечами и начал спускаться между камней к тому месту, где находилась злосчастная шлюпка.
Когда наконец он вернулся, с трудом дотащив на себе фляжку и промокший мешок с провизией, уже начало темнеть.
Они с жадностью попили, без аппетита поели и, как только вокруг сгустились сумерки, не могли не поддаться странному чувству уныния, заметив там, далеко-далеко на горизонте, дрожащий огонек.
Это трое отчаявшихся мужчин подожгли свою одежду, в последний раз с тоскою моля о помощи.
Но никто не мог прийти им на помощь.
Молодой офицер Гонсало Баэса привалился к лавовой стене и крепился изо всех сил, чтобы не застонать от невыносимой боли, охватившей его ногу, которая приобрела фиолетовый цвет. Однако он не сумел справиться со слезами, навернувшимися на глаза, стоило ему перебрать в памяти все события этого дня – его первого дня в роли командира, – закончившегося ужасным несчастьем.
Он потерял две трети личного состава.
Четверых из шести.
Один дезертир и трое обреченных на самую ужасную смерть, какую только можно себе представить. Единственное, что он мог сказать в свое оправдание, сводилось к тому, что ему не хватило смелости отказаться от исполнения приказа, сопряженного с чрезмерным риском.
Зачем было так спешить?
Почему понадобилось срочно пускаться в плавание вокруг неизвестного острова, не располагая необходимыми средствами?
Антекерец был подготовлен к тому, чтобы противостоять вооруженному противнику на поле боя, но никак не отправиться в глубь океана на неустойчивом суденышке, таком плоском, что на нем даже нельзя было поставить хоть какой-то парус, – и вот вам, пожалуйста, результат.
Он мечтал о блестящей военной карьере, а она провалилась в первый же день, хотя в данный момент это волновало его меньше всего.
А вот что на самом деле не давало ему покоя, так это огонек, блестевший и отчаянно мигавший почти час, прежде чем погаснуть, подобно пламени тающей свечи. Чувство безысходности, испытываемое лейтенантом, усиливали сдавленные рыдания несчастного галисийца, находившегося рядом; тот, по-видимому, понимал, что этот световой сигнал был последним приветом от брата.
Моряк, ты моря не бойся, бойся скалы. Моряк, ты моря не бойся, бойся скалы. Море качает тебя, скала – разобьет. Море качает тебя, скала – разобьет. Милая, губы не вспомнят, ты в сердце храни память мою. Милая, губы не вспомнят, ты в сердце храни память мою. Дно мне милей крутых берегов. Дно мне милей крутых берегов.Эти трое обреченных не были моряками, а дно Мрачного океана было слишком огромно, чтобы покоиться там с миром.
* * *
Когда Баэса разбудил первый луч солнца, он увидел, что Амансио Арес спит рядом, а вот Бруно Сёднигусто исчез.
Лейтенант поискал его взглядом, опасаясь, что саморец стал очередным дезертиром, но вскоре услышал крики, доносившиеся откуда-то сверху, и, подняв голову, обнаружил, что тот сумел вскарабкаться по гладкой и опасной лавовой стене – а это добрая сотня метров – и оттуда дружески машет ему рукой.
Когда галисиец наконец открыл глаза, они с лейтенантом, не отрывая взгляда, наблюдали, как Бруно с крайней осторожностью спускается, рискуя низвергнуться в пропасть.
Поставив наконец ногу на откос, он первым делом крепко выругался, а уж потом, тяжело переводя дыхание, пробормотал:
– А ведь подниматься и впрямь легче, чем спускаться, поскольку, когда карабкаешься, видишь, за что зацепиться, а слезая, действуешь наугад и того и гляди загремишь.
– Шлюпка еще видна? – жадно спросил Амансио Арес.
– Нет! Увы. Должно быть, она уже далеко.
– Может, ветер и течения пригнали ее обратно к земле.
– Не исключено!.. – произнес саморец, лишь бы что-то сказать, хотя было ясно, что он сам в это не верит.
– Ты обнаружил какой-нибудь способ выбраться отсюда? – поинтересовался командир, который тоже считал экипаж второй шлюпки без вести пропавшим.
– В том состоянии, в каком вы находитесь: один, считай, однорукий, другой хромой, – только и остается, что двигаться морем… – уверенно ответил Сёднигусто. – Здесь берег сплошь скалистый, но где-то чуть больше лиги на запад виден выступ, за которым море ведет себя более спокойно. Если бы мы сумели туда добраться, глядишь и нашли бы, где высадиться.
– Ты что, хочешь, чтобы мы отправились туда на этой фелюге?! – возмутился галисиец, словно речь шла о каком-то преступлении или святотатстве.
– Что поделаешь!
– Но ведь она почти затонула! – возразил Арес, и был совершенно прав. – Мы не отплывем и на пятьдесят метров от берега.
– И что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Что сегодня густо, а завтра пусто? Бери то, что есть. Что касается меня, то я без проблем могу вновь залезть наверх и выбраться отсюда.
– И ты на это способен?..
– Если не останется другого выхода!..
– Ты сукин сын!..
– Хватит! – властно прервал их Гонсало Баэса. – Вообще-то здесь я еще отдаю приказы. Ни ты, ни я не в состоянии вскарабкаться по этой стене, не свернув себе шеи. Что нужно сделать, так это разгрузить шлюпку и заткнуть по возможности все щели. Попытаемся какое-то время продержаться на плаву: мы с Сёднигусто изо всех сил будем грести, а ты – вычерпывать воду.
– Это большой риск.
– Ничего другого не остается. Если мы обогнем упомянутый выступ и попадем в спокойные воды и в надежное укрытие, возблагодарим Господа. В противном случае, да защитит нас Пресвятая Дева.
– Единственным утешением служит то, что в случае неудачи мы потонем, но нас не отнесет течением в открытое море.
– Мы постараемся, чтобы все получилось… – произнес лейтенант, вытянув руку и тем самым указывая, чтобы ему помогли встать, и добавил: – Нам следует поспешить: мы можем выбраться отсюда только во время прилива, когда уровень воды достаточно высок.
На них было просто жалко смотреть: подавленные, оборванные, израненные, убежденные в том, что их преследует злой рок. Они напрягали все свои силы – при этом чертыхаясь сквозь зубы и выкрикивая крепкие словечки – в изнурительной и отчаянной попытке вновь столкнуть в воду разбитую шлюпку, которая, казалось, желала лишь одного: чтобы ее оставили в этом укромном уголке на отдаленном берегу затерянного острова, а там уж пускай солнце, море и ветер превращают ее в груду щепок.
За их спинами возвышалась стена из черной лавы, перед ними простиралась необъятная ширь океана, а их единственным средством спасения была куча досок.
– Господи, только этого не хватало! – неожиданно воскликнул верзила саморец.
– Что еще такое? – всполошился галисиец, оглядываясь по сторонам в ожидании очередной неприятности.
– Да вот, перетрудился: сначала греб, потом еще лазил на утес – теперь шишки в кишке замучили.
– Сукин ты сын! – не выдержал антекерец. – Как ты меня напугал! Меняю твои шишки на мою лодыжку.
– Нет уж, спасибо, лейтенант. Что до шишек, то мне сейчас полегчает, вот только опущу задницу в воду, а ваша лодыжка выглядит все паршивее. – Бруно Сёднигусто зашел в воду по пояс и, закрыв глаза, издал протяжный вздох удовлетворения, а затем кивнул в сторону фелюги: – Вам лучше подняться на борт: прилив почти достиг верхней точки, и нам будет легче выбраться отсюда, если я буду толкать.
Они согласились, понимая, что это более разумное решение, чем пытаться лавировать на таком ограниченном пространстве с помощью весел. Поэтому спустя десять минут – пару разу чуть не перевернув шлюпку – они уже плыли по непривычно спокойному морю в метрах двадцати от берега.
Тут им опять пришлось вычерпывать воду, упершись ногами в борта и что было сил надавливая на куски ткани, которые они воткнули между досками – там, где те больше всего отошли друг от друга, – чтобы вода не хлынула внутрь. Двое из них гребли усердно, как только могли, в то время как третий своей единственной работающей рукой отчаянно пытался черпать воду.
Снова появились дельфины, они прыгали впереди шлюпки, словно желая ободрить людей.
Над головой кружили чайки. Птицы с пронзительными криками сцеплялись друг с другом, словно спорили, добьются ли мореплаватели успеха или потерпят неудачу.
Их жизнь в очередной раз зависела от них самих, и они не желали ее потерять.
В конце концов, это было единственное, что у них осталось.
Они гребли и гребли и больше ни на что, кроме мерного движения весел, не обращали внимания, пока не достигли выступа утеса, они обогнули его – и вот тут океан неожиданно повел себя почти как горное озеро.
Только тогда они решили сделать короткую передышку.
В глубине широкой бухты просматривалось устье ущелья, на склонах которого открывались проемы пещер.
С берега за ними наблюдали десятка два мужчин, женщин и детей.
4
– О ней столько сказано и написано, что, если пытаешься что-то добавить, в голову лезут либо банальности, либо нелепые оправдания: мол, какой спрос с неудачника, который оказался настолько непригоден к делу, что случившееся с ним никак нельзя отнести за счет невезения. Тот, кто с ней незнаком, упорно отрицает ее существование, однако человек, ощутивший на себе силу ее дыхания, признает, что это бесспорно единственное по-настоящему непобедимое чудовище.
– Кого ты имеешь в виду?
– Любовь.
– Любовь? – переспросил монсеньор Касорла, нахмурив брови в знак неодобрения. – Любовь всегда будет Господним благословением и никогда «по-настоящему непобедимым чудовищем».
– Случается, что река, дающая нам жизнь, выходит из берегов или огонь, который нас согревает, перекидывается на лес. Точно так же страсть, которая наполняет нас счастьем, все растет и растет, питаясь своими соками, – и в результате в мире не остается никакого иного горизонта, кроме любви. В такой момент ты перестаешь быть собой и превращаешься в совсем другое существо, состоящее из двух частей, хотя на самом деле они есть одно целое.
– Я пытаюсь уловить нить твоих мыслей, но у меня появляется странное ощущение, что ты уходишь от темы… – только и мог сказать прелат, воткнув чайную ложечку в аппетитное пирожное из смоквы и не отводя взгляда от лица своего старого друга. – С чего это вдруг ты пустился в рассуждения о достоинствах и недостатках любви, если меня интересует, как тебя встретили островитяне, когда ты оказался в столь тягостном положении?
– Просто мир может быть таким огромным, населенным, чудесным, ужасным, справедливым, несправедливым, приветливым и жестоким, да каким угодно, и вдруг происходит чудо – и все сходится в одной точке, в одном-единственном человеке, в глазах, которые впервые тебя видят и говорят тебе о том, что они будут существовать, только чтобы глядеть на тебя и чтобы ты глядел в них.
– Глупости!
– Как может человек, посвятивший себя Богу, считать глупостями то, что по сути является кульминацией главного творения Создателя? – чуть слышно произнес хозяин дома, словно замечание на самом деле показалось ему возмутительным. – Любой может насыпать гору, маленькую или большую, даже вырыть море, маленькое или большое, однако лишь Господь способен сделать так, что мужчина и женщина, впервые увидевшие друг друга, осознают, что они родились друг для друга, пусть даже на расстоянии тысячи лиг.
– Признаю свою некомпетентность в этой области, – вынужден был сказать арагонец с улыбкой, которая должна была означать просьбу о прощении. – Я чувствую себя увереннее в области политики, где правит не любовь, а ненависть и где все знают, что существуют не один для другого, а скорее один против другого.
– Мне тебя жаль.
– Не стоит меня жалеть, ибо тем, кто занимается политикой, с самого начала известно, в какую игру они ввязываются: здесь правят жадность, амбиции, ложь, предательство и нелюбовь. Так что, поскольку мы морально подготовлены, ничто не может ранить нас слишком сильно, – спокойно ответил прелат с невозмутимостью человека, принимающего жизнь такой, какая она есть. – Признаюсь, что на нынешнем этапе жизни меня скорее смутит добрый поступок, нежели удар кинжалом, но это к делу не относится. Что же все-таки произошло, когда ты ступил на тот далекий берег?
– Это случилось еще до того, как мы добрались до берега. Я увидел ее, едва мы попали в бухту: она стояла на скале с длинным копьем в руке, на конце которого трепыхалась только что выловленная рыбина. И, уверяю тебя, она была прямо сама – да простится мне такое сравнение – Дева Мария, вознесшаяся на пьедестал, на фоне голубого неба и белого облака. Тут наши взгляды встретились, и в тот самый момент мы оба поняли, что будем любить друг друга до конца дней. Прошло уже почти сорок лет, а я все еще продолжаю ее любить.
Монсеньор Алехандро Касорла не сразу решился что-то сказать. Его впечатлили не только слова, которые он только что услышал, но, прежде всего, та страстная искренность, с которой они были произнесены. Именно благодаря ей он начал понимать, по какой причине бравый офицер, сделавший блестящую карьеру, один из самых молодых генералов своего времени, удостоенный огромного количества наград, да вдобавок еще и обладатель значительного семейного состояния, отказался вступать в какие-либо романтические отношения, несмотря на то что у него была возможность подыскать себе жену среди первых придворных красавиц, о любви которых можно было только мечтать.
Многие недоумевали, почему он не прибег к посредничеству королевы, которая его высоко ценила; ведь пожелай он выбрать себе спутницу жизни среди самых утонченных фрейлин, она отнеслась бы к этому в высшей степени благосклонно.
«Ах, генерал, генерал! – как-то раз со всей откровенностью высказала она ему. – Почему вы так упорствуете? Почему позволяете исчезнуть вашему роду? Короне нужны дети, которые бы защищали наших детей так же, как вы защищали нас».
Так это и есть ответ?
– Расскажи мне о ней! – наконец попросил он.
– Что я могу тебе сказать, ведь, по твоему же собственному признанию, тебе не довелось испытать, что чувствует человеческое существо, встретившись с тем, кого Создатель предназначил ему даже раньше, чем начал рисовать звезды? – ответил генерал, который словно погрузился в колодец воспоминаний с очень чистой, но в то же время страшно горькой водой. – Она была самым удивительным существом из всех, когда-либо приходивших в этот мир. Внешне столь же прекрасная, как сама Венера, только-только вышедшая из пены морской. Но в то же время она вся лучилась таким внутренним светом, что даже солнце, которое в тот момент отражалось в море, казалось, отдавало ей дань почтения. Увидев меня, она вроде бы и не удивилась, будто находилась в том месте с незапамятных времен, зная, что рано или поздно я появлюсь, чтобы стать частью ее жизни.
– Страстное описание, ей-богу!
– Жалкое, по сравнению с действительностью, уверяю тебя, ибо тут нужен гений Данте, воспевшего Беатриче, или Петрарки, с его восторгами перед добродетелями Лауры, чтобы хотя бы приблизительно описать, какой была Гарса и что она для меня значила и продолжает значить, когда большая часть жизни уже прожита.
– Гарса![7] Красивое имя, что и говорить.
– Так я окрестил ее в тот момент, когда увидел у кромки воды с рыбиной в руке, и правильно сделал, потому что человек, не говорящий на языке островитян, не в состоянии произнести ее настоящее имя. Как и арабский, этот язык временами кажется слишком уж гортанным.
– А как же ты с ней объяснялся? – поинтересовался монсеньор Касорла.
– Нелепый вопрос, мой добрый друг! – насмешливо прозвучало в ответ. – Весьма нелепый, его способен задать только тот, кто не знает, что для настоящих влюбленных не существует языков. Взгляд, жест, простое прикосновение руки выражают больше, чем все слова, которые содержит в себе серьезнейший ученый труд по истории Рима, за чтением которого ты застал меня сегодня утром.
– Да ты прямо поэт.
– Нет такого сонета, который был бы достоин красоты Гарсы, никакой одой не передать, как она была нежна.
– Даже на солнце есть пятна!.. – запротестовал арагонец, коротко хмыкнув. – Ты просто источаешь елей. Ладно, допустим – хотя это непросто сделать, – что твоя возлюбленная была такой, как ты описываешь. Что же произошло дальше?
– Как только мы очутились в бухте, туземцы приняли нас за призраков, ведь накануне они были свидетелями того, как шлюпка с тремя чужестранцами на борту неожиданно появилась из-за ряда скал, однако ветром и течениями ее начало относить в открытое море. Большую часть ночи островитяне следили за огоньком, удалявшимся в глубь бесконечного, как они тоже думали, океана. Когда они уже решили, что эта чудовищная масса воды, перед которой они испытывали ужас, поглотила несчастных, та же самая шлюпка – поскольку, честно говоря, фелюги были похожи как две капли воды – с тремя пассажирами на борту вдруг оказалась у них в бухте. Позже я обнаружил, что они были убеждены: мы и есть те люди, в силу чего нас с первого же момента сочли сверхлюдьми, и это, конечно, сослужило нам добрую службу. Достаточно сложно жить с богами, поскольку все время ждешь какого-нибудь чуда. Совсем другое дело – с людьми, которыми ты восхищаешься, полагая, что они сумели победить море и ветер, показав пример мужества.
– А вы ведь и правда его продемонстрировали… – напомнил ему арагонец.
– Да какое там! Выходило, что после полуночи мы исчезли вдали, а утром вернулись назад, гребя как ни в чем не бывало. Уверяю тебя, что в представлении островитян, которые на протяжении истории никогда не плавали и не построили ни одного судна, это было настоящим подвигом.
Монсеньор Алехандро Касорла, с удовольствием съевший все – до последней крошки – пирожное из смоквы, несколько раз тряхнул головой, точно его внезапно посетила какая-то мысль, и, наставив на собеседника не раз облизанную ложечку, произнес:
– Точно-точно, эта деталь все время не давала мне покоя, и, сколько я ни спрашивал, никто не сумел дать мне удовлетворительный ответ. – Он сделал короткую паузу, перед тем как поинтересоваться: – Так почему на Канарах не строят лодок, чтобы поддерживать сообщение и вести торговлю между островами, которые находятся в пределах видимости?
– Не существует единого объяснения – их несколько, и, на мой взгляд, они вполне логичны.
– А именно?..
Генерал Гонсало Баэса подал легкий знак своей заботливой кухарке, чтобы та предложила гостю новую порцию десерта и рюмку вишневого ликера, а затем отогнул большой палец:
– Первое основывается на том, что за неимением металлов канарцы не обладали инструментами, столь необходимыми для постройки надежных судов: топорами, пилами, теслами, рубанками, молотками. Единственным их достижением были неуправляемые плоты из бревен или надутых меховых бурдюков.
– Такие использовались на Средиземном море.
– Народы Средиземного моря славятся замечательными мореходами, однако их небольшое и спокойное море – просто утиный пруд в сравнении с этим огромным и яростным океаном. Ветры зачастую непредсказуемы, а течения между островами похожи на реки, безвозвратно уносящие лодки в никуда, я сам был тому свидетелем. Предполагаю, что каким-нибудь смельчакам удалось добраться до соседнего острова, но совершенно точно, что господствующие течения не позволили им вернуться обратно.
– Действительно, стоит взглянуть с этого утеса и увидеть, как волны бьются там, внизу, прямо-таки кровь стынет в жилах, – согласился прелат, собирающийся насладиться очередной доброй порцией пирожного из смоквы. – А этот грохот!..
– Вторая – и не менее важная – причина заключается в том, что каждый остров, в особенности пять западных, обходился своими силами в обеспечении жителей всем необходимым. К тому же, похоже, осуществлялся жесткий контроль над рождаемостью с целью сдержать рост населения, дабы не подвергать риску сохранность всего сообщества.
– Что-то такое я слышал. Как они этого достигали?
– Я так и не узнал, но что важно – они располагали всем, что им было нужно, поддерживали равновесие с окружающей средой и никогда не проявляли склонности к излишествам. – Хозяин дома согласился, чтобы Файна налила рюмку вишневого ликера и ему тоже, попробовал его и добавил: – Впоследствии мне представился случай убедиться в том, что для первобытных племен весьма характерно знание того, какое число членов должно жить на определенной территории, бережное отношение к среде обитания и умение не выходить за рамки ее возможностей их накормить.
– Но ведь это идет вразрез с желанием Создателя, который наказал: «Плодитесь и размножайтесь».
– Ну, а я считаю, что не мешало бы уточнить, до какой степени следует размножаться, потому что довольно часто из-за чрезмерного увеличения числа обитателей появляется потребность завоевывать новые территории, а значит, начинать войны. К счастью, здесь ни один из островов не был поставлен в необходимость подчинять себе соседний, и, поскольку им было нечем торговать, так как все производили практически одно и то же, было глупо рисковать превратиться в корм для рыб. Если они были счастливы у себя дома, значит, ничего не потеряли за его пределами.
Вопрос, который вслед за этим задал прелат, таил в себе подтекст, не оставшийся незамеченным его сотрапезником:
– По-твоему, они были счастливы?
– Полагаю, что по-своему они были счастливы – до того дня, когда мы предложили им ожерелья, ткани, зеркала и множество предметов, которые им были не нужны, но постепенно превратились в такие, без которых не обойтись, что породило зависть, высокомерие и жадность. А это, в свою очередь, привело к раздорам, воровству и даже смерти, и все пошло к чертовой матери.
– Полегче, мой генерал!
– Молчи, женщина, не надоедай, ведь я рассказываю о том, о чем тебе известно лучше, чем кому бы то ни было, ведь ты все это испытала на собственной шкуре!
– Это точно.
– Уж не хочешь ли ты этим сказать, что мы плохо сделали, когда приобщили их к цивилизации и истинной вере? – поинтересовался монсеньор Касорла.
– Конечно! Или, быть может, ты считаешь, что лучше быть проданным на невольничьем рынке, чем жить без ожерелий или зеркал?
– А слово Божье?
– Да ладно тебе, Алехандро! – бросил генерал в лицо другу. – Ты знаешь так же хорошо, как и я, что слово Божье лучше воспринимается в далеких джунглях, когда тебе нечем прикрыть наготу, нежели в шитой золотом рясе перед главным алтарем Бургоса. Дело не в слухе, дело в сердце.
– Возможно… – нехотя признал тот, к кому он обращался. – Но я не думаю, что это подходящий момент, чтобы вступать в дискуссию такого рода; пора узнать, что же случилось, когда вы добрались до берега.
* * *
В их глазах читалось восхищение, уважение, а может, даже сострадание, поскольку трое оборванцев, выбравшихся из полуразвалившейся шлюпки, являли собой действительно жалкое зрелище и не имели ничего общего с надменными вояками в блестящих доспехах, которые четыре дня назад сошли на берег не так далеко отсюда.
Один хромой, другой однорукий и третий, мучимый геморроем, все в ссадинах и царапинах и в одних только грязных и изодранных штанах, поскольку остальной одеждой были заткнуты протечки в дне шлюпки, совсем не походили на конквистадоров. Ребятня, обступившая пришельцев со всех сторон, с успехом могла загнать их обратно в море, швыряя в них кокосами.
Пока островитяне вытаскивали шлюпку, женщины поспешили на помощь раненым. Впрочем, стоило той, которую лейтенант успел мысленно окрестить Гарсой, приблизиться к человеку, давшему ей это имя, как все расступились, словно почувствовали, что эти двое были отдельным миром, в котором больше никому не находилось места.
Не только любящие узнают друг друга по одному лишь взгляду, порой и от посторонних это не скрыть. А в данном случае это настолько бросалось в глаза, что никто из присутствующих не отважился встать между ними.
Вот так Гонсало Баэса попал в заботливые руки той, которой предстояло стать его госпожой и рабой до конца дней, отмеренных каждому из них.
Бывает, случается нечто необъяснимое, а никакие объяснения и не нужны.
Случилось – и все тут.
В истории бывало и так, что великие империи терпели крушение по причине неодолимого влечения, которое испытывал мужчина к женщине. И точно так же из-за неодолимого влечения женщины к мужчине завоевывались целые королевства.
Но когда это чувство оказывалось взаимным, крах империй или завоевание королевств мало что значили, потому что влюбленных волновала их собственная вселенная.
Во всякую минуту своего пребывания на земле Гонсало Баэса отдал бы все, что у него было, ради того чтобы вернуть волшебный миг, когда девушка впервые склонилась над ним, протянула руку и слегка коснулась его щеки.
Волна наслаждения пробежала по его телу, от распухшей лодыжки до корней волос; это было пока лишь смутное предвестие великого множества чудных мгновений, ожидавших его впереди.
Как он сам скажет много лет спустя: «Тот, кто с ней незнаком, упорно отрицает ее существование, однако человек, ощутивший на себе силу ее дыхания, признает, что это бесспорно единственное по-настоящему непобедимое чудовище».
Страсть и любовь могут считаться разными чувствами, однако в особых и очень редких случаях они переплетаются настолько тесно, что не существует человеческой силы, способной отделить их друг от друга и даже разграничить.
Именно это и произошло в то утро на покрытом вулканическим песком берегу самого дальнего из известных островов.
Нагнувшись над зеркальной гладью с длинным копьем в руке, девушка внимательно следила за рыбами, собравшимися вокруг приманки, которую она кинула в воду, и, ловко проткнув ту, что была всех крупнее, выпрямилась, намереваясь швырнуть ее в лужу, в которой еще били хвостами уже выловленные. В этот момент она подняла голову, увидела Гонсало Баэсу – и в мгновение ока из девочки превратилась в женщину.
Пришелец проник в нее с такой нежностью, с какой впоследствии проникнет бессчетное множество раз, и она возблагодарила богиню Монейбу, почитаемую женщинами и соизволившую выбрать ее в вечные спутницы человеку, который, при всем своем плачевном состоянии, показался ей просто фантастическим существом, о каком она в отрочестве не смела и мечтать.
Ей было неважно, что он хромает, что ладони сбиты в кровь, а лицо, грудь и спина покраснели от яростного солнца, которое безжалостно его отхлестало. Ничего из этого не имело значения, потому что она знала, что под столь жалкой оболочкой скрывается отец ее детей.
Дело в том, что бабушка не раз объясняла ей, что дети, спящие в самой глубине утробы женщины, приходят в волнение и покусывают ее внутренности, когда предчувствуют приближение человека, который пробудит их к жизни.
Когда она впервые наклонилась над Гонсало Баэсой и погладила его по щеке, дети, которые могли бы родиться, запрыгали от радости у нее внутри.
В этот момент ее мать, которая внимательно за ней наблюдала, поняла, что потеряла дочь и обрела подругу.
Ее первым порывом было взять дочь за руку, отвести к кромке воды и растолковать, какому риску она подвергнется, отдавшись чужаку. Впрочем, она, похоже, почти тут же поняла, что все ее увещевания окажутся бесполезными, так как перед ней была уже не девушка, которой она могла что-то советовать, а женщина, которая только что избрала тернистый путь.
«Когда двое, которые по-настоящему любят друг друга, идут по жизни рука об руку, горести делятся пополам, а радости приумножаются».
Кому-кому, а ей это было прекрасно известно, потому что она со своим спутником проделала долгий путь, где всего хватало – и дней горя, и ночей удовольствия. Им трижды довелось изведать небывалое счастье зачатия ребенка и страшное горе, когда пришлось увидеть, как он умирает у них на руках.
Поэтому она ограничилась тем, что помогла дочери перенести раненого в пещеру, в которой они жили, и оставила их вдвоем. Она была не в состоянии понять, что же все-таки чувствовала в этот момент – радость или печаль.
Глаза чужеземца цвета моря, каким оно бывает в тихие рассветы, словно вопрошали, почему она ведет себя так, будто все знает наперед.
А Гонсало Баэсе и ни к чему были слова: он бы все равно их не понял, – чтобы узнать, что творится у нее в голове. Это могло бы показаться нелепостью, но он испытывал странное ощущение, будто все случившееся в этот суматошный день он уже пережил ранее.
С того самого дня, когда лейтенант решил изменить течение своей жизни и отправился на незнакомый остров, у него было предчувствие, что должно произойти что-то необычное. Хотя он и вообразить себе не мог, что это действительно будет настолько ни на что не похоже и приключится с ним на самом краю света.
Он добрался туда, куда должен был добраться, и поэтому ему, обессилевшему в результате всех злоключений, оставалось только закрыть глаза и предаться отдыху.
* * *
– Что будем делать, мой лейтенант?
– Не имею ни малейшего представления.
– Теперь щиколотка больше смахивает на гнилую дыню, нежели на спелый баклажан, но у меня такое впечатление, что в конце концов все утрясется.
– Это всегда утешительно слышать, особенно от тебя. Как там Амансио?
Бруно Сёднигусто ограничился тем, что несколько раз постучал пальцем по лбу: мол, что тут скажешь?
– С рукой по-прежнему дело дрянь, но хуже всего то, что у него поехала крыша: он часами глядит на горизонт в уверенности, что брат вернется. Кто-то мне рассказывал, что вот так глядеть на горизонт в ожидании возвращения кого-то из семьи прямо-таки у галисийцев в обычае.
– Это, наверное, у тех, кто из Виго или Ла-Коруньи, но не из Луго… – заметил его командир. – А Амансио – из Луго.
– А это тут при чем?
– В Луго нет моря, дурья башка.
– Боже ж ты мой! Вот ведь правду говорил мой отец – в армии каждый день узнаешь что-нибудь новое. Ладно, пускай в Луго нет моря, зато здесь его хоть отбавляй, а в нашей шлюпке дыр побольше, чем в сердце ростовщика. Как же мы отсюда выберемся?
– Полагаю, пешком, когда будем в состоянии это сделать, – последовал спокойный ответ того, кто явно не горел желанием продолжить незадавшееся путешествие. – Как там твои шишки?
– Еще болят, но морская вода им на пользу – через пару дней буду как огурчик. И со всем моим уважением заявляю, что, если вам охота задержаться здесь подольше, с моей стороны нет никаких возражений: чем больше времени я проведу вдали от сержанта Молины, тем лучше.
– Я думал, тебе нравится армия.
– Армия начинается с сержанта и выше, мой лейтенант, все остальные – «чертовы рекруты». Кому в здравом рассудке это понравится: сидишь себе спокойно дома, и вдруг на тебе – являются какие-то вооруженные до зубов люди и уводят тебя с собой под тем предлогом, что ты обязан послужить королю. Моему деду пришлось служить четверым, в том числе одному мавру. Что это за армия, которая заставляет тебя сражаться с собственными соотечественниками?
– Да такая, что действует по прихоти политиков: известно же, что им переметнуться на другую сторону – все равно что рубашку переменить… – Раненый сделал выразительный жест рукой: мол, разговор затеян не ко времени, – и действительно это было так. – Что ты думаешь об островитянах? – поинтересовался он.
– Хорошие люди, порядком отстали от нас, но никому не способны причинить вреда. В конце концов, у них есть ячмень, фрукты, скот и рыба, они вполне могут в ус себе не дуть. Поэтому не вижу причины, по которой они стали бы усложнять себе жизнь, портя кому-то кровь. Это как раз то, чего я всегда желал: жить с Маримир.
– Кто такая Маримир? Невеста из твоей деревни? Собеседник не смог удержаться и хмыкнул, довольный, что офицер попался на его нехитрую удочку.
– Это не моя невеста… – объяснил он. – Море-и-мир – это то, что есть здесь: море, в которое можно окунуться, и мирная жизнь, когда никто не будит тебя в шесть утра, чтобы послать чистить уборные. Думаю, если бы я встретил такую невесту, как Гарса, я был бы не прочь навсегда остаться в этом уголке мира.
– Гарса мне не невеста… – поспешно поправил его командир. – Она всего лишь за мной ухаживает.
– Да ладно вам, лейтенант, не считайте меня глупее, чем я есть! – бросил ему подчиненный, явно забывшись. – Даже козы заметили, что вы без ума друг от друга, и, по-моему, это здорово, потому как если верить брату Бернардино и наша задача – приобщить туземцев к вере и культуре, то лучше уж добиться этого лаской, нежели таской.
– В этом ты совершенно прав, что я еще могу тебе сказать… – вынужден был признать его собеседник.
– Спасибо и на том. Я лишь бедный, темный невежда, а все же понимаю, что если нам предстоит стать с островитянами единым народом, то мы просто обязаны как можно скорее вступить в связь с их женщинами.
– Эк куда тебя занесло!
– Вовсе нет: ведь пройдет еще несколько лет, прежде чем сюда прибудут наши женщины, а так как вдобавок они имеют обыкновение чертовски ломаться, то не скоро сойдутся с теми, кого считают дикарями.
– Если подумать, здесь ты снова прав.
– Плохо то, что я знаю своих товарищей по оружию, и кое-кто из них – отпетые негодяи.
– Например?..
– Не тяните меня за язык, лейтенант, не тяните меня за язык: что-то мне подсказывает, что путь предстоит долгий – успеем еще разобраться, кто чего стоит в этой истории.
Гонсало Баэса с сомнением взглянул на него и, нахмурив брови, сжал зубы, потому что в этот самый момент лодыжку пронзила боль. Он подождал, когда она утихнет, и только тогда спросил:
– Вероятно, тебе известно нечто такое, чего я не знаю?
– В казарме, если кто-то не знает того, что знают остальные, ему приходится туго, а если знает и рассказывает не ко времени, еще хуже… – последовал циничный ответ. – Сейчас важно вылечить вашу ногу, потому что, как я понял, нам приказано начертить карту острова, и неважно, сколько времени для этого понадобится… Разве не так?
– Так… – согласился раненый, словно вдруг осознал, какая перед ним на самом деле стоит задача. – И раз уж ты об этом напомнил, надо бы мне начать работать, пока не забылись подробности. Принеси-ка мои рисовальные принадлежности, и пусть Амансио поможет тебе соорудить для меня стол в тени вон тех деревьев.
5
– Казалось бы, что тут такого: сел рисовать берега острова, его утесы, пляжи, пещеры, хижины и их обитателей, – тем не менее столь незначительное событие может полностью изменить судьбу человека и смысл всей его жизни.
Они только что расположились в бело-зеленой беседке, куда монсеньор Касорла предусмотрительно захватил бутылку вишневой настойки и рюмку, и, едва смочив губы (было очевидно, что на самом деле ему больше нравится сладкий вкус напитка, а не крепость), он шутливо заметил:
– Я пойму, если ты мне это растолкуешь, или же ты гений живописи, что каким-то образом прошло мимо меня.
– Да тут и не требовалось быть гением. Люди, не знакомые с краской и бумагой, пришли в изумление, когда я вдруг изобразил свинью, дельфина, осьминога или когда из-под моей руки появлялось лицо ребенка, которое иногда – уверяю тебя, что лишь иногда! – имело некоторое сходство с оригиналом.
– Это можно понять, – вынужден был признать арагонец уже другим тоном. – Мы, как правило, не осознаем, какую ценность могут иметь такие простые вещи, как клочок бумаги или чернила, необходимые для того, чтобы отправить послание, пока они нам не потребуются. Возможность общаться посредством рисунка или письма считается – и, по моему скромному разумению, совершенно справедливо – одним из наиглавнейших достижений в процессе эволюции человека.
– Я как будто открыл дверь, отделявшую мой мир от мира Гарсы. Главным образом благодаря тому, что она почти с первого момента проявила редкую способность – куда уж мне до нее – передать несколькими штрихами то, что чувствовала или хотела… – Гонсало Баэса вынул из нагрудного кармана старый кожаный бумажник, а из него – небольшой пожелтевший клочок бумаги, который, сразу было видно, он разворачивал и складывал уже тысячи раз, и при этом сказал, словно речь шла о постыдном секрете: – Вот таким она меня видела…
Его старого друга пробила легкая дрожь, природы которой он не понял, и, чрезвычайно бережно взяв в руки драгоценную реликвию, он обратил внимание на то, с какой любовью был выполнен портрет гордого юноши, лицо которого словно лучилось счастьем.
– Ей бы хорошего учителя и немного практики – и она могла бы стать великой художницей, – совершенно искренне согласился собеседник. – Хотя я считаю, что она рисовала не столько твое лицо, сколько твои чувства.
– Это заметно, правда? – отозвался генерал, вкладывая лист в бумажник. – Она как раз сообщила мне, что беременна, – вот откуда моя радость, которая сочится из всех пор. Я часто представлял себе, что этот ребенок, зачатый на первом берегу, оказавшемся на пути у волн, которые пересекли океан, придя неизвестно откуда, явится первенцем новой расы и унаследует достоинства обеих наших. А мы, его родители, позаботимся о том, чтобы ему не передались недостатки ни той, ни другой… – Он сделал короткую паузу, устремил взгляд на заснеженную вершину вулкана, которая уже начала облачаться в наряд из вечерних облаков, и с горькой усмешкой добавил: – Глупая мечта, которой никогда не суждено осуществиться.
– Никакая мечта о лучшем мире не может быть глупой, – уверенно заявил его собеседник. – Она может быть несбыточной, но не глупой. Благодаря таким вот мечтам нам удавалось двигаться вперед на протяжении истории. Через пень-колоду, правда, но все-таки двигаться.
– И мы бы продвинулись еще дальше, если бы не были такими самоуверенными, презирая все, что не наше. Островитянам ведомы замечательные секреты природы, которые облегчили бы нам жизнь, однако мы отказываемся это принять: мол, что «возьмешь с дикарей». – Гонсало Баэса, казалось, улыбнулся своим воспоминаниям, добавив: – Я как-то попросил Гарсу, чтобы она нарисовала то, что, на ее взгляд, является самым важным на свете, и после долгих размышлений она дала мне понять, что нарисовать это невозможно. И оказалась права.
– Что же она имела в виду?
– А вот ты сам скажи… Что на свете важнее всего и что нельзя изобразить?
– Бог?
– Лучшие художники изображали его тысячами разных способов.
– Любовь?
– Нечто большее.
– Вера?
– Вера важна, но она не «самое главное», так как миллионы людей живут или прожили без нее.
– В таком случае сдаюсь. Что же она имела в виду?
– Воздух. Мы можем годами жить без Бога или без любви, неделями – без еды, днями – без воды, а вот без воздуха нам удастся продержаться всего пару минут. Получается, воздух для нас – самое главное, однако способа изобразить его не существует.
– Хитрый ответ, несомненно, – нехотя признал прелат. – Откровенно говоря, умный.
– Гарса дала мне ответ не для того, чтобы показать, насколько она умна, а сообразуясь с простой логикой, которой подчиняется жизнь тех, кто не испытывает, как мы, необходимости демонстрировать свое превосходство. Островитяне привыкли делиться всем, поэтому они делятся большей частью своих знаний.
– Чувствуется, что ты ими восхищаешься.
– Больше, чем многими из наших ученых: слишком уж часто чрезмерная самоуверенность заставляет их совершать невероятные ошибки, – заявил хозяин замечательного особняка. – Нет большего невежды, чем тот, кто не осознает глубины своего невежества, и тут островитяне нас обставили, поскольку признают ограниченность своих возможностей.
– Вот поэтому – потому что ты ими восхищаешься, уважаешь и лучше всех их знаешь – ты и должен принять назначение. Только те люди, которые, как ты, приблизились к их пониманию окружающего мира, могут спасти их от рабства, крепостной зависимости и даже, не побоюсь сказать, от возможного уничтожения как расы.
– Однако тебе все еще неведомы причины, которые давят на меня, вынуждая ответить отказом, дорогой друг, – тут же последовал ответ. – Я рассказал тебе только предысторию того, что в итоге вылилось в худшую из трагедий. Жизнь научила меня тому, что попытка помочь угнетенным слишком часто приводит к еще большему угнетению, ведь мятежный раб получает больше ударов кнутом, нежели покорный, какими бы справедливыми ни были причины, подтолкнувшие его к мятежу.
Монсеньор Алехандро Касорла решил сделать короткую передышку, снова макнуть язык в настойку, взвесить все, что он только что услышал, и хорошенько обдумать свои слова, осознавая, что все то, что он собирается сказать, не дает ему права на ошибку.
– Термин «мятеж» следует оставить в стороне, поскольку он так или иначе подразумевает противодействие законам, и на самом деле к нему прибегают те, кто ловко их обходит. Тебе, как никому другому, хорошо известно, что землевладельцам достаточно обвинить туземца в том, что он поднял оружие, чтобы им позволили обратить его в рабство. И тупица чиновник ни на секунду не задумается над тем, какое такое оружие в состоянии поднять восьмилетняя девочка, которую кто-то вознамерился продать. А ведь мы хотим, чтобы хорошие законы неукоснительно соблюдались.
– С хорошими законами обычно происходит то же, что и с хорошими винами, мой наивный друг. Они не переносят путешествия на корабле, не выдерживают качки и портятся. Законы, принятые на полуострове, не соблюдаются на архипелаге, и виноваты в том не островитяне, а те, кто ухитряется манипулировать самыми справедливыми указами. Следовало бы завезти сюда нотариусов – пусть засвидетельствуют в письменном виде, что богачи подтираются королевскими указами.
– Полегче, Гонсало! Язык тебя все время подводил и будет и дальше подводить.
– Когда я дослужился до генерала, другой, который вот-вот должен был уйти в отставку, мне посоветовал: «Дай выговориться тому, кто режет правду-матку, какой бы обидной она ни была, и заставь заткнуться того, кто лжет, даже если он тебя превозносит: первый ранит, второй убивает».
– Умный совет, который я с удовольствием приму, поскольку при дворе действительно все время слышишь вокруг льстивые речи; приторность не делает их менее ядовитыми. Да я и по опыту знаю, что главным врагом правителя является избыток похвал, которые рано или поздно затуманивают его рассудок.
– Согласен, потому что плохо дело того полковника, которого его капитаны заставляют поверить, что он генерал…
Прелат отставил в сторону рюмку, словно осознав, что он слишком увлекся настойкой, и после минутного размышления спросил:
– Почему ты всегда называешь их островитянами или туземцами и никогда – гуанчами?
– Дело в том, что, хотя название и получило распространение, гуанчи – это исключительно уроженцы Тенерифе, и жителям других островов неприятно, когда их так называют. Это равносильно тому, как если бы кто-то решил, что всем испанцам надлежит называться астурийцами или кастильцами.
– Полагаю, это не доставило бы нам никакого удовольствия… – согласился арагонец. – Особенно баскам, каталонцам и моим землякам. Ладно, давай не будем вдаваться в смысловые тонкости и вернемся к тому, что имеет значение. Значит, ты очутился на краю света, потерял две трети личного состава, шлюпка вышла из строя, и ты не мог сделать ни шагу. – Он печально покачал головой, подводя итог: – Клянусь святым Иудой, вот уж не думал, что в таком месте и в такой момент можно влюбиться.
– Клянусь святым Иудой, что Вифлеемские ясли не кажутся мне лучшим местом, а разгар зимы – подходящим моментом для появления на свет, но именно так все и происходит, когда Господу угодно. Тебе известно, что у меня было предостаточно возможностей вступить в связь с великолепными женщинами, все условия для этого были, но я не почувствовал даже запаха дыма всепоглощающего пожара, который в те дни охватил мое сердце. Самое поразительное в любви – это то, что ей мало надо, чтобы гореть вечно.
– Не будем начинать снова! – прервал его собеседник, поднимая руку, словно пытаясь защититься от серьезной угрозы. – Хватит уже о любви, не то я брошусь вниз с обрыва. Признаю раз и навсегда и безо всяких оговорок, что купидон пронзил тебя своими стрелами, превратив в бедного святого Себастьяна, пригвожденного к столбу. Но если ты надеешься, что я испрошу у Его Величества прощение за то, что ты не принимаешь назначения, тебе следует привести более основательные и убедительные доводы, чем сумасшедшая любовь.
* * *
Амансио Арес решил перестать «изображать галисийца», то есть все время вглядываться в горизонт, ожидая возвращения брата, так как против собственной воли пришел к горькому заключению, что, как это ни прискорбно, не осталось ни малейшей надежды на то, что океан вернет свою добычу.
Почти залечив поврежденную руку, он, похоже, понял, что самый лучший способ смягчить горе – это полностью отдаться работе. По этой причине он развил бурную деятельность, чем привел в изумление невозмутимых островитян, которые привыкли ко всему относиться с неизменным спокойствием.
Он, словно белка, прочесывал окрестные леса, пока не нашел дерева с нужной смолой, и тогда поспешил набрать ее в больших количествах, чтобы потом нагреть на медленном огне и с осторожностью хирурга наложить на швы обшивки фелюги. Затем он стал вводить в них лучины толщиной в миллиметр – операция настолько кропотливая и тонкая, что любопытные островитяне следили за каждым его движением, словно завороженные.
Местные жители, которым прежде никогда не доводилось видеть ни лодки, ни молотка, ни ножа, ни металлического ковша и уж тем более такого мастерства и аккуратности, часто издавали восхищенные восклицания, словно это была не рутинная ручная работа, а необыкновенное и захватывающее зрелище.
Каждый из чужеземцев оказался окружен вниманием островитян: кому-то хотелось подать галисийцу инструменты, кто-то просил Гонсало Баэсу нарисовать портрет, а кто-то с восторгом наблюдал за Бруно Сёднигусто, когда тот рубил топором дрова.
Несомненно, все это казалось им чудесами того мира, столкновений с которым они до тех пор практически не имели, за исключением воровских набегов охотников за рабами.
Однажды вечером сгорбленная и щуплая старушка, бабка Гарсы, присела рядом с галисийцем, усердно занимавшимся своим кропотливым делом, и протянула ему что-то вроде самодельной кисти. Затем сняла крышку с глиняного котелка, который принесла с собой, и жестами показала, чтобы он использовал содержимое и нарисовал полосу на борту шлюпки.
Амансио Арес заколебался, но уступил настойчивости старухи, и под одобрительные крики присутствующих потрепанное судно тут же начало покрываться красивым и на удивление ярким цветом.
Бруно Сёднигусто не мог удержаться от удивленного восклицания и со всех ног помчался к Гонсало Баэсе, чтобы помочь ему спуститься на берег и взглянуть поближе на подобное чудо.
– Вот это да! – воскликнул он в изумлении. – Вы только посмотрите на это, мой лейтенант!
И действительно, было чем восхищаться, особенно если сравнить рассохшуюся, потрескавшуюся и ноздреватую древесину с новой – гладкой и блестящей – поверхностью. Ее цвет не поддавался описанию: красный с оттенком синего, но не фиолетовый. Это был цвет власти – пурпурный.
Когда испанцы поинтересовались, каким образом получается такой замечательный оттенок, им дали понять, что это великая тайна: мол, на всем острове она известна только трем «шаманшам», которым передавалась из поколения в поколение, – так как цвет заключает в себе не только наивысшую красоту, но еще и конец всех радостей и начало всех огорчений.
То, что пожилая женщина удостоила их подобной чести: позволила попользоваться чем-то столь ценным, – было проявлением приязни и уважения к чужестранцам, а также своего рода признанием одного из них близким другом любимой внучки.
Таким вот образом андалусец, галисиец и саморец стали членами большого семейства, главой которого она была уже много-много лет.
Три дня спустя, почти на рассвете, двое юношей, собиравших моллюски во время отлива, стали призывно кричать, протягивая вытянутые руки в сторону океана и указывая на место, над которым кружили сотни чаек и где то и дело выныривала на поверхность тьма-тьмущая дельфинов, плывущих вслед за каким-то пятном, напоминающим огромный серебряный ковер.
– Вайла, вайла! – загалдели островитяне – и почти тут же все до последнего кинулись к краю залива с корзинами и глиняной посудой.
Одновременно лучшие пловцы бросились в море и стали хлопать ветками по его поверхности, явно желая помочь дельфинам загнать рыб в небольшую бухту. Женщины и дети принялись лить в воду «молоко табаибы», густую и белесую ядовитую жидкость, которую они получали из одной разновидности кактусов, в изобилии произраставших на острове.
Спасаясь от ненасытных дельфинов, чаек и людей, сверкающий косяк судаков (вот что на самом деле это было такое) оказался в неглубоких водах, где под действием наркотика рыбы мгновенно засыпали, а местные жители, воспользовавшись этим, собирали их корзинами и поспешно переносили в ближайший естественный водоем, сообщающийся с морем узким каналом, перекрытым плетнем из толстых веток.
Через несколько минут большая часть рыбин очнулась от непродолжительного оглушения, но уже в ловушке – огромном садке, из которого островитяне будут доставать их по мере надобности.
Крупных особей, не переживших переправы, тут же вспарывали, потрошили и оставляли «просушиться» на ветру и солнце.
Чувствовалось, что, когда приплывали «вайла», для жителей деревни наступали напряженные дни, но вместе с тем это был праздник.
Гонсало Баэса, будучи не в состоянии сделать и шага без посторонней помощи, хотя опухоль значительно спала, в одиночестве сидел под деревом и с сожалением наблюдал за тем, что происходило в метрах пятистах от него. Он жалел, что не может разделить воодушевления остальных и принять участия в восхитительной рыбалке. И островитяне, и Бруно Сёднигусто с галисийцем явно получали настоящее удовольствие.
Гонсало Баэса был так занят происходящим, что не замечал, как кто-то появился у него за спиной, пока пришедший не сказал:
– Добрый день, лейтенант! Я рад, что вы живы, хотя вид у вас не ахти.
Он обернулся и увидел, кто был этим непрошеным гостем. Его первым порывом было вскочить на ноги и выхватить шпагу, но он тут же осознал, что не может подняться и у него нет оружия.
– Проклятый сукин сын! – не выдержав, гневно воскликнул он. – Какого черта ты здесь делаешь?
– Да вот, пытаюсь заставить вас понять, что если бы в тот злосчастный день я не бросился в море, то сейчас превратился бы в корм для рыб, ведь я был в экипаже той шлюпки, которую унесло.
– Ее унесло, потому что тебя там не было, когда надо было спасать положение.
– То есть грести? – казалось, возмутился тот и тут же коротко хохотнул. – А вы хорошо меня рассмотрели, мой лейтенант? Как только меня начало выворачивать наизнанку, я понял, что являюсь скорее обузой, чем помощником, я почувствовал, что нас ожидает, и принял решение, в котором теперь – зная результат – не раскаиваюсь.
– Ты стал дезертиром, – напомнил ему командир, хотя приходилось признать, что он сам дал маху: нечего было выбирать гребцом такого заморыша. – Что бы там ты мне ни говорил, по тебе плачет виселица.
– Для начала меня надо поймать, и, как бы веревка ни резала шею, я промучаюсь меньше, чем пришлось мучиться тем троим несчастным. – Он указал на какую-то точку у себя за спиной и добавил: – С вершины вон той скалы мне было видно, как огонек постепенно исчезал вдали, и, клянусь вам, я плакал. Однако единственное, что я получил при рождении, это жизнь, поэтому я изо всех сил стараюсь ее сохранить.
– Тебе также внушали чувство товарищества и чести.
– Товарищи – это те, кого человек выбирает сам, а не те, кого ему навязывает офицер. А что касается чести, я всегда считал ее принадлежностью благородного сословия, и, по мне, пусть остается ею и дальше.
– Ну, если ты пришел, чтобы я простил тебя за предательство, ты напрасно теряешь время.
Проворный человечек, которого он знал только по прозвищу – Ящерица, посмотрел на него так, словно лейтенант только что сказал страшную глупость.
– Простить меня? – повторил он. – Упаси Бог! «Простить» означало бы вернуться в строй, а это совсем не входит в мои планы. Меня поставили перед выбором: провести десять лет за решеткой или завербоваться в армию, и я не стал колебаться. А тут, надо признать, вполне можно жить, ведь я раньше занимался тем, что грабил на дорогах, и знаю, как приспособиться к таким условиям. В здешних горах в изобилии водятся козы, свиньи, кролики и всякие птицы, вдобавок тут полным-полно фруктов, а океан изобилует рыбой, которую можно поймать без особых усилий. Делаю себе, что хочу, и никто мне не указ, иными словами, я не нуждаюсь в том, чтобы меня прощали.
– И что же, ты собираешься остаток жизни бродить в одиночестве по этим скалам?
– Со временем, может, найду островитянку, которая меня примет, а нет, так уверяю вас – лучше уж быть одному, нежели в компании сержантов… – Он встал, широко улыбаясь, и заключил: – А сейчас мне пора сматываться, потому что сюда идет Сёднигусто, а он, чего доброго, вздумает меня словить, хотя бы ради вознаграждения, которое обычно выплачивают тому, кто поймает дезертира.
Ящерица пропал из вида между деревьями, а вскоре действительно появился саморец, который притащил дюжину замечательных рыбин и, ухмыльнувшись, не удержался от вопроса:
– Мне не показалось – я видел того, кого видел? Это был Ящерица?
– Он самый! – подтвердил командир. – Но сомневаюсь, что ты его еще увидишь. У меня такое впечатление, что этот остров похож на лабиринт, в котором настоящая ящерица, вроде него, может скрываться всю свою жизнь.
– А почему это он так быстро смылся? – удивился саморец. – Может, он воображает, что я попытаюсь его поймать?
– Наверно, он подумал, что лучше проявить осторожность, чем потом жалеть.
– Ну и плохо подумал… – со вздохом сказал Бруно Сёднигусто и, опустив груз на землю, стал собирать дрова. – Я не из тех, кто вмешивается в чужую жизнь, и, если кому-то выпадает редкий случай выбрать свою дорогу, я за него рад.
– А какой путь думаешь избрать ты? – поинтересовался его собеседник.
– Что вы хотите от меня услышать, мой лейтенант? Сегодня я так здорово провел время, как не проводил уже несколько лет, а сейчас мы набьем брюхо судаком, испеченным на углях. Если таково ненастье, не надо и красного солнышка, и чему быть, того не миновать.
– Но ведь нам поручено дело.
– Бывалый солдат, наставляя новобранца, не забудет сказать ему, что чем дольше тот будет выполнять порученное дело, тем позже ему дадут новое. Нам был дан приказ побрататься с местными жителями, и нет сомнения в том, что мы добросовестно его выполняем, потому что или я страшно заблуждаюсь, или кое-кто занимается «братанием» по крайней мере пять раз в день.
– Следует проявлять немного уважения к командиру, болван!
– Вам это кажется проявлением неуважения? – удивился его подчиненный. – Мне никогда не удавалось больше трех «братаний» за день, даже если я менял девицу. А теперь серьезно, мой лейтенант… – добавил он. – Я сомневаюсь, что нам пришлют замену раньше, чем через год, поэтому давайте не будем пороть горячку, поскольку поспешность привела нас только к настоящему несчастью.
Он не получил ответа по простой причине: антекерец был согласен с тем, что сказал Бруно, и если в чем и раскаивался всю оставшуюся жизнь, так это в том, что не оспорил нелепый приказ, совершенно неуместный в той обстановке. Он должен был поставить на первое место безопасность своих подчиненных, а уже только потом долг повиновения. Надо было заставить капитана Кастаньоса понять, что, если этот далекий остров тысячи лет обходился без чертовой карты, он точно так же мог обойтись без нее еще неделю – до тех пор, пока море и ветер не надумают передохнуть.
А ему не терпелось проявить служебное рвение, выказать храбрость, которую следовало приберечь для другого случая. И вот, пожалуйста, результат: бедных парней, которым действительно не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться, настигла смерть, страшнее не придумаешь.
Осознание столь грубой ошибки привело к тому, что он стал слишком часто сомневаться в себе самом и в своей способности к командованию. Он спрашивал себя, почему медлит с путешествием вокруг острова: потому ли что состояние здоровья не позволяет или потому что он наслаждается самыми счастливыми днями в своей жизни – а может, его пугает мысль о том, чтобы вновь оказаться лицом к лицу с океаном?
Ему и правда еще не удавалось проделать и полдюжины шагов без посторонней помощи. И он никак не мог потребовать от галисийца ремонтировать шлюпку не так тщательно. Но ведь в глубине души он действительно желал поджечь фелюгу, никогда больше не выходить в море и наслаждаться этим невероятным медовым месяцем до конца своих дней.
Разговаривая с дезертиром, он наверняка испытал некоторую зависть к тому, кто предпочел освободиться от пут.
Ничто так не приводит человека в растерянность, как открытие, что существует мир, нисколько не похожий на тот, в котором он родился и вырос, и что в этом незнакомом мире правила поведения и основные принципы, которых он до сих пор придерживался, не имеют ровно никакого значения.
Это все равно как если бы стены прочного здания вдруг взяли и дали трещину и у жильцов появилось странное ощущение, что все до последнего их представления о жизни, накопленные со дня появления на свет, рискуют исчезнуть под обломками.
Неожиданно оказавшись в обществе, где никто не заявлял прав собственности на что бы то ни было и никто никому не указывал, что ему следует делать, человек был вынужден пересмотреть многие из «истин», до того времени представлявшихся ему бесспорными.
Где-то в самой глубине сознания лейтенанта Баэсы начала разворачиваться битва, которая с годами будет набирать силу и в которой, вероятно, никогда не будет ни победителей, ни побежденных.
Кончилось все тем, что и на смертном одре сердце его пребывало в одном мире, а тело – в другом.
6
По мере того как увеличивался диск луны, в той же степени возрастало и беспокойство островитян. В бухте, защищенной высокими утесами, не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка, и зеркало воды – на удивление чистой – напоминало поверхность пруда, так что все было как будто замечательно. Однако чем светлее становились ночи, тем сильнее ощущалось нервное напряжение островитян, словно то был недобрый знак, и на крохотную деревушку вот-вот должны были обрушиться смерть и разрушение.
Однажды утром, заметив, что волны совсем прекратили ударяться о берег, они стали готовить стариков и детей к отправке в глубь острова.
Испанцы недоумевали, по какой такой причине их новые друзья ведут себя так, будто полнолуние вселяет в них ужас.
– Может, здесь тоже водятся люди-волки, как в наших краях… – не очень уверенно рискнул предположить Амансио Арес. – Известно, что они нападают во время полнолуния.
– Не болтай чепухи, чертов сухопутный галисиец!.. – тут же насмешливо парировал Бруно Сёднигусто. – Если на острове нет волков, с какой стати ты рассчитываешь встретить человека-волка? Тогда уж это должны быть люди-свиньи или люди-козы.
– Очень смешно, саморский умник!..
– Уймитесь! – вмешался командир, которому слишком часто приходилось их успокаивать. – Эти люди напуганы, стало быть, дело нешуточное, а значит, в первую очередь нам следует разузнать, что происходит и почему они так переполошились.
Им долго и многословно пытались это разъяснить, хотя, честно говоря, все стало понятно только благодаря удачным рисункам искусной Гарсы.
Судя по тому, что она сумела выразить, охотники за рабами обычно совершали свои ужасные набеги, воспользовавшись полнолунием и штилем. С наступлением темноты их корабли подходили как можно ближе к острову – почти на расстояние мили, – а там они пересаживались в фелюги с очень плоским днищем, и тогда им нужны были яркая луна и прилив, чтобы проплыть над рифами и добраться до суши.
Угроза появления двух дюжин вооруженных до зубов охотников за людьми, которые, ни перед чем не останавливаясь, насиловали, жгли и убивали, прежде чем вернуться на судно и увести с собой главным образом женщин и детей, и была главной причиной паники, охватившей все сообщество.
Чаще всего разбойники приплывали с африканского побережья, но точно так же это могли быть и португальские работорговцы, и даже кое-кто из испанских отступников, не признававших законы, которые, как предполагалось, должны были сурово наказывать тех, кто осмеливался покупать и продавать людей.
На рынках Агадира, Танжера, Лиссабона, а то и Валенсии очень часто предлагали уроженцев Счастливых островов, пользовавшихся заслуженной славой хороших работников.
И обычно давали весьма высокую цену за их красивых женщин.
Поэтому вполне можно было понять волнение тех, кто с очень древних времен по своему печальному опыту знал, что может произойти в эти жаркие и светлые ночи, когда так и тянет спуститься на берег, чтобы петь, танцевать и жарить козлят над потрескивающим костром.
– Одна из наших задач – защищать этих людей, но мне не приходит в голову, как это сделать… – Это было первое, что сказал лейтенант Баэса, как только ему стало понятно, что проблема действительно серьезная. – Человек двадцать, вооруженных шпагами, арбалетами и аркебузами, представляют собой значительную силу, поэтому, когда нам придется с ними встретиться лицом к лицу, мы окажемся в крайне затруднительном положении, пусть даже местные жители и очень метко бросают камни.
– Вероятно, мы могли бы вступить в переговоры и заставить их понять, что остров находится под защитой Короны… – предположил галисиец, хотя чувствовалось, что он сам не верит в то, что говорит.
– Вступить в переговоры? – Сёднигусто не мог упустить случая, чтобы его не поддеть. – Не болтай глупости! Если мы попытаемся вступить в переговоры, будь уверен – через пару недель нас уже будут предлагать одному из шейхов, которым нравятся испанские задницы. А у меня там шишки.
– В этом я с тобой соглашусь, хотя у меня и нет шишек… – сказал лейтенант. – Но ведь надо что-то делать.
– Как насчет того, чтобы уложить пожитки и помочь этим людям укрыться в горах? – осторожно предложил собеседник.
– Спастись бегством даже хромой, вроде меня, всегда успеет, – отрезал лейтенант. – Сколько времени осталось до полнолуния?
– Три дня.
– Может, в эти три дня нас осенит какая-нибудь мысль.
– Сомневаюсь, поскольку меня не осенила за все двадцать четыре года, – весьма серьезно заметил саморец. – Думать – это не по мне, так что на меня не рассчитывайте… – Он повернулся к галисийцу. – А тебе что-нибудь приходит в голову?
– Я хорошо работаю руками, но не головой. Если мне приказывают что-то сделать, я делаю, но если просят подумать, я обделываюсь.
– Очень выразительно… – сказал лейтенант. – И вдобавок у тебя получилась игра слов. Ладно! В конце концов, раз я командир, значит, это мой долг – решать проблемы… – Он показал пальцем на какую-то точку у входа в бухту, прежде чем добавить: – По всей видимости, вон там эти мерзавцы пересекают зону рифов, а следовательно, если мы поставим бомбарду на вершине того утеса, они окажутся на расстоянии выстрела.
– Точно! – поспешил ответить Бруно Сёднигусто, не скрывая иронии. – По-моему, это блестящая и превосходная мысль, достойная настоящего военного гения, но со всем уважением, мой лейтенант, по моему скромному разумению, главная загвоздка в том, что мы не располагаем ни бомбардами, ни порохом, ни боеприпасами.
– Мне это известно. И кончай ехидничать!
– Тогда что же?..
* * *
– Ни об одной из выигранных мной битв, ни об одной из войн, в которых я принимал участие, или переделок, в которых мне пришлось побывать за все годы службы, я не сохранил таких отрадных воспоминаний, как о том первом столкновении с противником, намного превосходившим нас по численности и угрожавшим не только нашим жизням, но и нашей свободе, а также свободе тех, кого мы любили.
– Мне трудно себе представить, чтобы ты повел себя настолько неблагоразумно, что попытался дать отпор тем, кто, по твоему же собственному признанию, превосходил тебя как в численности, так и в вооружении, – запротестовал монсеньор Алехандро Касорла, останавливаясь во время длинной, но неторопливой прогулки, которую они решили совершить, чтобы свести на нет вредное воздействие столь плотного обеда.
– Дело касалось жизни или свободы многих невинных людей. Прежде всего мы перевели в безопасное место «гражданское население» – в ближайший район, где было полным-полно пещер и ущелий; преследователям, вероятно, понадобились бы годы, чтобы обнаружить тех, кто там укрывался, – оправдывался собеседник. – Однако, на мой взгляд, это не решало проблемы: бедным людям приходилось из месяца в месяц спасаться бегством, чтобы по возвращении обнаружить, что у них украли съестные припасы и скот да вдобавок подожгли их хижины. Ты наверняка согласишься со мной, что не слишком-то приятно всякий раз начинать с нуля.
– Полностью согласен, – подтвердил прелат, возобновляя движение по широкой дороге, обсаженной фруктовыми деревьями, которая вела к смотровой площадке, откуда как на ладони был виден остров Ла Пальма; один из его бесчисленных вулканов выбрасывал вверх потоки лавы и столбы дыма.
– И ты согласишься со мной, что моей главной обязанностью было защитить жителей острова, ставшего частью земель Короны.
– Согласен.
– Ну а поскольку Иерро был уже испанской территорией, я решил его отстоять, даже если бы при этом потерял все до последней капли крови. – Гонсало Баэса легонько ударил своего старого друга по плечу, принуждая того остановиться и посмотреть ему в глаза, и при этом веско спросил: – Или ты поступил бы по-другому?
– Естественно, нет! – неохотно уступил арагонец. – Но всегда следует располагать соответствующими средствами.
– Любой может выиграть битву, «располагая соответствующими средствами», это точно так же, как приготовить тортилью[8], имея под рукой нужное количество яиц. Однако меня учили, что настоящий стратег – тот, кто умеет побеждать в неблагоприятных условиях, поэтому я должен был найти способ раз и навсегда покончить с набегами этих мерзавцев.
– Известно, что за все эти годы ты доказал, что являешься одним из лучших современных стратегов… – без малейшей тени сомнения признал прелат, не останавливаясь; он, как всегда, передвигался широкими шагами. – Недаром же ты прославился тем, что выиграл битвы, которые невозможно было выиграть, поэтому я горю желанием услышать из твоих собственных уст, как ты вышел из положения во время своего первого вооруженного столкновения. Откуда ты взял эти бомбарды, которые, по твоим словам, были необходимы, чтобы сдержать натиск врага?
– Ниоткуда… – был обескураживающий ответ. – Чтобы изготовить бомбарды, нужны металлы, а именно железо и бронза, которыми мы не располагали, однако, хорошенько поразмыслив, я понял кое-что в высшей степени важное: о нехватке металлов охотники за рабами ни сном ни духом не ведали.
– Я вновь напрасно пытаюсь уловить нить твоих мыслей, – пробормотал явно недовольный монсеньор Касорла, сбавляя шаг. – Ты не мог бы объяснить?
– Все просто: мы не располагали металлами, но остров-то вулканический, и поэтому нам оказалось нетрудно найти серу, а поскольку селитра была только руку протянуть, мы за несколько часов изготовили древесный уголь, необходимый, чтобы дополнить смесь и получить порох.
– Не имею никакого представления о том, как получают проклятый порох.
– Да и какая тебе в нем надобность во время мессы? Но меня-то в армии этому научили, – небрежно бросил ему собеседник. – Мы насыпали этот порох на дно глиняных горшков и придавили его толстым слоем очень сухих листьев, чтобы, когда их подожжешь, произошел громкий взрыв, а вслед за ним появилась яркая вспышка от горящей листвы. В результате – вот вам, пожалуйста, и грохот, и огонь, вырывающийся из жерла бомбарды во время залпа.
– Остроумно, что и говорить!
– Благодарю за комплимент. Одновременно я приказал поднять на вершину утеса три ствола одного очень гибкого дерева, которые мы воткнули в расщелины скал таким образом, чтобы они стали вроде катапульт, способных запускать внушительные обломки камней на расстояние почти полмили.
– Я начинаю улавливать твою мысль.
– В течение всего дня мы проводили испытания, пока не подобрали вес камней, угол стрельбы и наклон катапульт таким образом, чтобы снаряды падали приблизительно в том месте, через которое вражеские шлюпки должны были проникнуть в бухту. – На этот раз остановился генерал; его рассказ звучал так, словно речь шла о чем-то совершенно обыденном. – Когда эта банда выродков, прошу прощения за выражение, в конце концов появилась, кто-то из туземцев, спрятавшись среди камней, издал один из знаменитых свистов. Тогда мы подожгли первый фитиль, и охотники за рабами увидели, как с вершины утеса раздался залп, сопровождаемый вспышкой, а спустя несколько секунд сверху упал огромный обломок камня, подняв столб воды в считаных метрах от их шлюпки. – Гонсало Баэса злорадно ухмыльнулся – в его улыбке было что-то кроличье – и поинтересовался: – Что бы ты на их месте подумал, когда подобная атака повторилась в третий раз за какие-то две минуты?
– Что полк испанских солдат, который недавно завладел островом, разместил на вершине утеса батарею бомбард, готовую разнести черепа непрошеным гостям.
– И как бы ты поступил?
– Недолго думая, поворотил назад и ни за какие коврижки не вернулся бы в это место – судя по всему, враждебное, опасное и прекрасно защищенное.
– Правильно! – Гонсало Баэса вновь широко улыбнулся и добавил: – Важно не только иметь оружие, необходимо, чтобы противник поверил, что ты его имеешь, потому что воображаемое зачастую внушает больше страха, чем настоящее. Вдобавок островитяне научились получать порох и изготавливать катапульты, так что им больше незачем было скрываться в горах всякий раз, когда на океане воцарялся штиль и луна начинала расти на горизонте.
* * *
Праздник продолжался два дня. Туземцы пели, пили, танцевали и резали свиней и козлят, потому что в кои-то веки сумели уберечься от своих главных врагов.
Охотники за рабами были страшным кошмаром, с незапамятных времен преследовавшим островитян, которые сознавали, что с помощью палок и камней они не в силах защитить свои семьи от незваных гостей, вооруженных топорами, шпагами, арбалетами, металлическими щитами и огнестрельным оружием.
Когда опасность миновала, мужчины повели себя как дети, вновь и вновь испытывая катапульты в действии, пока не настал такой момент, когда они, совсем заигравшись, не рассчитали и чуть было не прихлопнули бедную старушку, справлявшую нужду у моря.
Перепуганная женщина с завываниями помчалась по берегу в чем мать родила, а лейтенант Гонсало Баэса, безуспешно пытавшийся довести до сознания туземцев смысл старой поговорки: «Нечистый заряжает – дурак стреляет», был вынужден принять меры и запретить запуск камней.
Бабка Гарсы, признанная старейшина деревни (это ее сестра оказалась на волосок от смерти, когда в нее чуть было не угодил огромный камень) и единственный человек, чье слово было законом, приняла мудрое решение: только двое самых благоразумных мужчин смогут подниматься на вершину утеса, а когда им вздумается произвести опасные «пробные стрельбы», пусть оповестят об этом заранее во избежание несчастных случаев.
Наивный рисунок Гарсы, на котором можно было увидеть, как камень попадает в центр шлюпки работорговцев и те взлетают в воздух, передавали из рук в руки, словно бесценное сокровище. Он вызывал воодушевление, смех и восхищенные восклицания.
Дело в том, что человек все время испытывает необходимость видеть, как силы зла в конце концов оказываются побежденными силами добра, а этот простой раскрашенный клочок бумаги впервые представил взорам островитян изображение такого триумфа.
Лейтенант, руководивший атакой с вершины утеса, в их глазах превратился чуть ли не в мифического героя, если не сказать «мистического». За последние три недели крохотное сообщество стало свидетелем такого количества изменений и чудес, какого ему не приходилось наблюдать на протяжении столетий.
В их жизнь неожиданно вторглись искусство судовождения, порох с его способностью грохотать и сеять ужас и тайны живописи. Впрочем, любознательность островитян, похоже, не имела границ, им будто не терпелось приобрести новые знания.
Это выглядело так, словно в их ограниченный мирок вдруг распахнулись доселе неведомые двери, через которые им хотелось поскорее выскочить, чтобы узнать, какие неизвестные и сказочные чудеса ожидают их впереди. Вот почему в тот день, когда Гонсало Баэса решил, что пора уезжать, казалось, все до последнего местные жители были готовы погрузиться в самую глубокую печаль.
По какой непонятной причине вдруг понадобилось уезжать таким чудесным существам?
Где еще к ним отнесутся лучше, ведь здесь они ни в чем не испытывают недостатка и все от мала до велика их обожают?
Какая необходимость так рисковать, ведь безбрежная океанская ширь может запросто их поглотить, тогда как просторные хижины и глубокие пещеры прочны и надежны?
Нет ничего сложнее, чем объяснить людям, привыкшим жить вольно, почему неподчинение офицеру высшего звания грозит заключением.
Для них никогда не существовало военной иерархии.
И к горькой печали добавлялась еще одна: те, кто столько всего им открыл, уедут не одни.
Поскольку юная и всеми любимая Гарса должна была отправиться с пришельцами. Кому-то дочь, кому-то сестра, кому-то свояченица или кузина в этой крохотной деревне, она покидала своих родных.
Галисийцу и Бруно Сёднигусто тоже не хотелось уезжать. Последний выразил всеобщее настроение парой слов:
– Вот черт!
– А что ты предлагаешь? – мрачно спросил лейтенант, у которого по мере приближения отъезда все сильнее и сильнее сжималось сердце. – Оставаться здесь до тех пор, пока нас не найдут и не повесят как дезертиров? Завербовавшись, я дал присягу выполнять свой долг, чего бы то ни стоило, и, признаюсь, теперь мне это дорого обходится.
– Но ведь ни я, ни галисиец не завербовывались, – напомнил ему Бруно. – Нас забрили насильно. Разве не так, Амансио?
Житель Луго звучно поцеловал скрещенные пальцы и сказал:
– Клянусь моей матерью, это так. Из троих братьев забрали нас двоих, а что случилось с беднягой Карлосом, вы уже знаете.
– Ну, если ты желаешь вновь увидеться со своей семьей, то, уверяю тебя, единственная возможность – это сесть в шлюпку и надеяться, что тобою же положенные заплатки не подведут, – заметил офицер.
– А что будет, если я откажусь? – тут же прозвучало в ответ.
– Останешься здесь до конца жизни.
– Вы донесете, чтобы меня поймали?
– Даю тебе слово, что никогда не открою, где ты находишься, хотя и не стану врать, будто ты умер.
– Это и меня касается? – тут же поинтересовался Бруно Сёднигусто.
– Само собой! – Голос лейтенанта звучал совершенно искренне. – По моему мнению – и раз вы оба не являетесь добровольцами, – вы с лихвой исполнили свой долг, а значит, впредь вольны поступать, как вам заблагорассудится. – Он пожал плечами, словно желая показать, что остальное от него уже не зависит. – Хотя боюсь, что капитан Кастаньос не разделит моей точки зрения и постарается достать вас из-под земли.
– Это уж как пить дать, – подтвердил саморец. – Я два года служу под его началом и точно знаю, что этого пройдошливого сукина сына фиг с два проведешь, в один прекрасный день он еще себя покажет – я уверен, что он принял это назначение не из горячей любви к родине, а с намерением разбогатеть.
– На этом острове не очень-то разбогатеешь, и я тебя серьезно предупреждаю: попридержи язык, – сурово одернул его Гонсало Баэса. – Предполагается, что я все еще являюсь твоим командиром.
– Не предполагается, – спокойно возразил тот. – Для меня вы как были командиром, так и остались. Однако это не мешает мне воспользоваться случаем, чтобы высказать все, что я думаю. И я серьезно вас предупреждаю: держите ухо востро с капитаном Кастаньосом, не угодите в ловушку, мой лейтенант!
– О чем ты, черт побери?
– О том, что первый же его приказ едва не стоил нам жизни, а ведь он считается достаточно опытным офицером, чтобы вот так взять и допустить промах, в результате которого три человека погибли, а остальные оказались на волосок от смерти.
– Ты что же, намекаешь, что он сделал это нарочно? – возмутился собеседник. – Что заставил нас поднять якорь, желая, чтобы мы утонули?
– Нет! Не это… – твердо сказал Бруно Сёднигусто. – Думаю, что на самом деле он надеялся, что вы откажетесь выйти в море, и тогда до конца жизни он будет держать вас в кулаке.
– Не понимаю, куда ты клонишь, – вынужден был признать лейтенант. – Что он этим выиграл бы?
– Он составил бы письменный рапорт – благо свидетелей, готовых его подписать, нашлось бы сколько угодно – о том, что вы не выполнили прямой приказ, и ваша карьера оказалась бы в его руках. Впредь вам пришлось бы хранить молчание о любых его поступках или словах, которые показались бы вам неблаговидными, в противном случае упомянутому документу был бы дан ход.
– Ты осмеливаешься обвинить офицера в шантаже?
– Нет! Я всего лишь осмеливаюсь предупредить офицера, которого я уважаю, об опасности, которая ему грозит, чтобы он и дальше подчинялся приказам и не торопился. Это продувная бестия, он и в самом деле очень хитер.
– Не могу поверить, чтобы он действовал так, как ты говоришь.
– Всему свое время, лейтенант, всему свое время. А сейчас вам лучше принять решение, потому что скоро начнется отлив и на перегруженной фелюге будет очень сложно пройти через рифы. Как сказал бы этот чертов галисиец: «Так мы плувем али не плувем?»
7
На расстоянии меньше мили от тихой бухты утесы вновь вздыбились над темным океаном, все еще пребывающим в необычайном покое. Самые западные острова архипелага напоминали суровые горы, возвышающиеся над водой. Чаще всего они появлялись в результате бурных вулканических извержений, поэтому у них отсутствовала континентальная платформа, и в нескольких метрах от берега начиналась бездна, из которой, так и казалось, в самый неожиданный момент поднимутся на поверхность жуткие морские чудовища.
Правда, на этот раз, спустя каких-нибудь полчаса с начала плавания, из глубины вынырнуло семейство китов; самый маленький оказался размером с фелюгу, самый большой – в три раза длиннее шлюпки.
Они не выказывали ни малейшей враждебности, неторопливо плавая вокруг лодки, которую разглядывали с явным любопытством, ведь смело можно было предположить, что до того момента ни одно судно не отважилось так далеко забраться в глубь Атлантики.
Если остров Иерро представлял собой западную оконечность известного мира, то, отдалившись от его западного берега на двести метров, мореплаватели оказались в «девственной» зоне – понятно, почему любопытных китовых привлекла странная штуковина, с которой какие-то крошечные существа следили за ними с выражением изумления на лицах.
Дело в том, что испанцам, жившим далеко от моря, никогда не приходилось видеть животное крупнее лошади; и громадные туши тридцатиметровой длины, весом в сто тонн, которые неожиданно появлялись на поверхности, сопя и пуская струи воды, казались им дьявольскими созданиями, от которых по коже бегали мурашки.
Юная Гарса, с детства привыкшая наблюдать за китами с вершины утеса, выглядела спокойной и чуть ли не счастливой от того, что может видеть их на таком близком расстоянии. А вот ее товарищей, двое из которых практически не умели плавать, вовсе не забавляла мысль о том, что в определенный момент, когда исполины будут выныривать из глубины, какой-нибудь из них «нацепит» их шлюпку наподобие шляпки.
– А точно, что они не едят людей? – почти прошептал испуганный галисиец.
– Я слышал, что нет… – в тон ему ответил лейтенант.
– Это не ответ; главное, чтобы чудища об этом слышали.
– Как я понял, они питаются крохотными рыбешками.
– Ну, чтобы достичь таких размеров, им, вероятно, пришлось проглотить их всех до единой. – Амансио Арес, который по-прежнему не верил в добрые намерения китов, все никак не мог успокоиться. – А если они не собираются нас есть, какого черта нас преследовать?
– Думаю, что они нас не преследуют, а всего лишь сопровождают.
– Почему бы им не оставить нас в покое? Они меня пугают.
– А может, они нас защищают от гигантских кальмаров… – вкрадчиво произнес Бруно Сёднигусто. – Вот те, насколько я понял, как раз не прочь закусить людьми, в особенности галисийцами.
– Будто они побрезгуют саморцем, хоть он и воняет, как свинья! А что, если нам держаться ближе к берегу?
– Тогда мы рискуем напороться на камни, – заметил Гонсало Баэса. – Пока киты плывут впереди, мы знаем, что здесь глубоко.
Спустя какое-то время у них уже не осталось ни малейшего сомнения в том, что, несмотря на гигантские размеры, киты двигаются настолько изящно и плавно, что нет причин чего-то опасаться. Мореплаватели даже почувствовали себя счастливыми от того, что стали свидетелями захватывающего зрелища, ведь очень немногие люди могли бы похвастать тем, что наблюдали подобное так близко.
Просто на Канарском архипелаге мир сохранился практически таким, каким был в момент сотворения, впрочем, этот момент все еще длился, так как вулканы время от времени вносили изменения в облик некоторых островов.
С наступлением вечера мореплаватели разглядели впереди крохотный пляж, с лужами и камнями, поэтому они решили покинуть компанию своих новых друзей, вытащить шлюпку на берег, разжечь небольшой костер, наловить рыбы на ужин и там же и заночевать.
За их спинами вздымался неприступный утес, и они ясно сознавали, что, если не дай бог ветер усилится, а океан вздумает разбушеваться, волны неминуемо разобьют их о каменную стену. Однако не море и не ветер прервали их сладкий сон, а крики Амансио, который неожиданно вскочил и начал отряхиваться, припоминая все непристойные ругательства из своего немалого запаса.
– Как же кусаются сукины дети! – то и дело вскрикивал он. – Как же кусаются!
Бруно Сёднигусто потребовалась всего пара минут, чтобы раздуть угли костра, и при его свете они обнаружили – в смятении и почти в ужасе, – что крохотный пляж покрыт шевелящимся ковром медно-красного цвета, образованным панцирями тысяч крабов. Они приползли, чтобы расправиться с остатками ужина, и, обнаружив, что на всех не хватает, уже были готовы приняться за уснувших пришельцев.
Те попытались отогнать их, орудуя руками и ногами, но крабы возвращались снова и снова, сознавая, что им несть числа, и вонзая клешни с такой силой, что вырывали кусочки плоти, когда люди пытались отцепить их от себя.
В отчаянии испанцы решили добежать до шлюпки, надеясь обрести в ней убежище. Гонсало Баэса крепко схватил за руку девушку, увлекая ее за собой, однако она вырвалась и, вооружившись тяжелым камнем, принялась давить и сосредоточенно разминать крабов, пока не превратила их в бесформенную массу, которую вслед за тем швырнула в одну из луж, образованных между камней.
Прошло несколько мгновений – и тут крабы, словно дисциплинированное войско при звуке горна, ринулись к луже, чтобы пожрать останки своих сородичей.
Началась жестокая бойня, которую невозможно описать, поскольку в стремлении урвать себе кусок поживы каждый краб пускал в ход клешни по отношению ко всему, что попадалось ему на пути. А Гарса продолжала бросать тяжелые камни, давя все новых и новых крабов, и наступил такой момент, когда в полутьме невозможно было разобрать, какой из них живой и какой мертвый.
Чем больше их приползало, тем больше умирало, и чем больше умирало, тем больше приползало.
Щелканье клешней множества огромных крабов, калечивших друг друга, превратилось в оглушительную какофонию.
Безмятежные волны, проникавшие в лужи, уносили за собой, возвращаясь в море, останки крабов и резкий запах убоины, поэтому по прошествии нескольких минут из глубины океана начали целыми дюжинами появляться, осторожно скользя, черные и слизкие существа причудливого вида, явно намеревавшиеся стать участниками столь обильного пиршества.
– Что это еще за чертовщина? – не выдержал Амансио Арес, который с каждым разом нервничал все больше.
– Осьминоги.
– Не ври!
– Я не вру. Просто осьминогам, видно, крабы весьма по вкусу.
– Мне не нравятся осьминоги.
– Ну, тогда, наверное, ты единственный галисиец, которому они не нравятся.
На рассвете крохотный пляж напоминал поле битвы.
Возможно, до сих пор сюда ни разу не ступала нога человека, благо на этот пятачок можно было попасть только со стороны моря. Однако было очевидно, что за одну-единственную ночь четыре человека произвели настоящую революцию, нарушив равновесие там, где с незапамятных времен действовали раз и навсегда установленные правила.
* * *
– Любой человек представляет собой потенциальную угрозу как для других людей, так и для природы, в силу своей неограниченной способности причинять вред, даже когда у него нет такого намерения. Остальные живые существа могут влиять на свое окружение в большей или меньшей степени, но поскольку мы, люди, обладаем свойством приживаться где угодно, будь то пустыня или льды, джунгли или моря, наша способность к разрушению не знает границ.
– Ну, подумаешь – всего одну ночь и в силу вполне определенных обстоятельств несколько осьминогов и крабов пожирали друг друга, не зная удержу. Не думаю, что это дает тебе основания говорить об «угрозе»… – заметил монсеньор Касорла, не придавая большого значения данному событию. – Думаю, что здесь ты преувеличиваешь.
– Происшествие и в самом деле не имело большого значения, – вынужден был признать генерал. – Вероятно, следовало бы считать его всего лишь незначительным эпизодом. Однако в последующие годы у меня было время над этим поразмыслить. Та безумная ночь явилась не чем иным, как прообразом ряда событий, случившихся позже, поскольку наш приезд нарушил установленный порядок.
– Хотим мы того или нет, обращение первобытных народов в христианство всегда означает нарушение установленного порядка, – весьма рассудительно заметил арагонец. – Однако речь идет не о нарушении, а о его улучшении, и, на мой взгляд, нести слово Божье – это бесспорно способствовать добру.
– Нам с тобой, дорогой друг, известно, что главная проблема заключается в том, что слово Божье никогда не странствует в одиночку.
– Что ты хочешь этим сказать?
– То, что слишком часто его сопровождают Божья шпага, Божий топор, Божий костер и даже стремление увеличить Божьи богатства, хотя я так и не понял, зачем Богу богатства, которые Он сам же и создал.
Монсеньор Алехандро Касорла глубоко и шумно вздохнул, покачав головой, словно хотел дать понять, что это давняя битва, проигранная заранее.
– Ах, господи, господи! – сокрушался он. – Ты никогда не изменишься! Кому-то достаточно произнести одну фразу – и никто не вспомнит про тысячу его ошибок, а кому-то стоит только открыть рот – и все забудут про тысячу его удач. В роли дипломата у тебя меньше шансов, чем у близорукого лучника.
– Купидон и вовсе слеп.
– Поэтому он и совершает столько промахов! Вот уж попал, так попал: пронзил тебя стрелой, до срока превратив в мертвеца!
Они отправились обратно к дому, когда архипелагом начали овладевать первые ночные тени, и только снег на вершине Тейде возвращал последние лучи солнца, скрывшегося за морем. Гонсало Баэса взял под руку своего спутника и сказал без малейшего оттенка язвительности:
– Эта «стрела», про которую ты упомянул, вовсе не превратила меня в мертвеца. Напротив, она дала мне жизнь, ведь я даже не подозревал о том, что только тогда существуешь по-настоящему, когда находишь часть своего тела, которой тебе недостает. Когда господь сотворил человека, Он, как никто другой, знал, что его создание будет неполным, если одновременно не сотворить женщину, поскольку повозка с одним колесом далеко не уедет.
– Ты считаешь нас, клириков, повозками, которые никогда далеко не уедут?
– В какой-то степени и за некоторыми исключениями, куда я отношу и тебя, целибат вынуждает человека ходить по кругу. Признаю, что я тоже не двигался вперед, пока Гарса не начала говорить по-кастильски, причем удивительно свободно.
– Или тебя все еще переполняет любовь, или же речь идет об исключительной женщине.
– Если бы речь не шла об исключительной женщине, меня не переполняла бы любовь… – заметил антекерец. – Чисто физическое влечение имеет свои пределы, которые я намного превзошел, если учесть, что Гарса была словно Ева, только что вышедшая из рук Создателя.
– С яблоком или без яблока?
– Яблоко раздора принесли мы с собой… – прозвучал ответ, в котором явственно слышалась горечь. – И очень скоро, говоря по правде, поскольку в тот же день мы столкнулись с группой туземцев, сидевших на берегу над телом погибшего парня. Судя по тому, что они нам рассказали, он поскользнулся, спускаясь с утеса, и тут же сорвался в пропасть.
– А при чем тут «мы принесли»? – спросил озадаченный монсеньор Касорла. – Что, разве это кто-то из испанцев столкнул его или спровоцировал несчастный случай?
– В определенном смысле, да, поскольку бедняга свернул себе шею, когда попытался добыть те самые странные водоросли, которыми так интересовался Кастаньос. Как нам рассказали, девушка, за которой ухаживал погибший, попросила у него ожерелье из разноцветных бусин – такое же, как подарили подруге.
Прелат остановился, словно услышав нечто невообразимое, пару раз покачал головой с неодобрительным выражением на лице и наконец пробормотал сквозь зубы:
– Какая глупость! Чтобы кому-то пришло в голову рисковать жизнью ради разноцветных бус?
– Почему ты считаешь это глупостью? – спросил генерал; он тоже остановился и необычно пристально взглянул на собеседника. – Какая разница между разноцветными бусами и ожерельем из бриллиантов – предметом гордости наших дам при дворе, ради которого их мужья зачастую занимаются воровством?
– Полагаю, что разница заключается в том, что бриллианты стоят целое состояние, а разноцветные бусины – дешевая безделица.
– Когда какая-то вещь украшает шею или подчеркивает прелесть груди, ее единственная ценность – та, которую мы желаем ей придать, и уверяю тебя, что на Иерро использовали бы и бриллианты, лишь бы только свести людей с ума. Правда состоит в том, что с тех пор, как мы высадились на остров, туземцы ничего другого не желали, кроме как заполучить зеркала, ткани, бусы или кастрюли. И в их душах поселилась жажда обладания новыми вещами.
– Из-за этих таинственных водорослей?
– Из-за этих проклятых водорослей, – отрезал собеседник.
– А что в них было такого особенного?
– Я объясню тебе это за ужином, потому что мне надо принять ванну.
– Ванну в такое время, да еще в середине недели? – не выдержав, воскликнул удивленный собеседник в тот момент, когда они входили в дом. – Что это вдруг?
– Гарса приучила меня купаться каждый вечер.
– Это не может быть хорошо для тела… – наставительно изрек монсеньор Алехандро Касорла и начал восхождение по лестнице, направляясь в свою комнату. – И для души, поскольку толкает к распутству… – Он поднял вверх палец, словно произнося приговор, не подлежавший обжалованию: – Или к мастурбации.
8
Бдение над покойником длилось всю ночь, без криков и плача. Родственники и друзья – отец был великаном, а сейчас словно переломился пополам – развели вокруг костры, положив тело погибшего на небольшой холмик, с тем чтобы сесть и смотреть на него, словно надеясь, что он передумает и вновь начнет говорить и смеяться, хотя и сломал себе шею при падении.
По представлениям туземцев, старики и больные не могли сопротивляться смерти: им не хватало для этого сил, – но молодой и здоровый парень был просто обязан взбунтоваться, памятуя о том, что очень скоро престарелым родителям понадобится его помощь.
Кто соберет урожай?
Кто пригонит обратно убежавшую скотину?
Кто родит внуков, которые скрасят последние годы их существования?
Этот юноша не имел права умирать, потому что его исчезновение нарушало нормальное течение жизни небольшого сообщества, не знавшего жестоких войн, которые в других краях обычно косили самых молодых.
Вот почему происшествие никак не укладывалось в сознании островитян.
Они столько раз видели, как юноша карабкается по таким скалам – просто озноб шел по коже, – что не могли себе представить, с чего это вдруг скользкий мох утеса стал виновником его падения.
А все потому, что раньше ему нечего было делать на утесах.
До того момента, как чужестранцы предложили ему зеркала и бусы в обмен на крошечные растения, которые росли как раз там, где бились волны и где селитра и сырость превращали каждый уступ в коварную ловушку.
На рассвете его мать все еще продолжала надеяться, что он одолеет смерть, но даже его девушка, которая думала, что когда-нибудь он станет отцом ее детей, сдалась и, понурившись, побрела вдоль берега.
Она ясно сознавала, что суровая богиня женщин Монейба навеки ее заклеймила, справедливо наказав за капризное поведение, так что отныне ни один мужчина не осмелится за ней ухаживать, опасаясь мести богини.
Ей суждено стать общей женщиной и ничьей женой.
Испанцы, державшиеся на почтительном расстоянии от убитых горем островитян и время от времени клевавшие носом неподалеку от шлюпки, проводили ее сочувственным взглядом.
– Дорого же ей обошлись чертовы бусы… – почти выдохнул из себя Амансио Арес. – Слишком дорого.
– Как показывает опыт, вещи все время дорожают… – в тон ему отозвался командир. – Когда зеркала и бусы закончатся, они начнут красть их друг у друга. Боюсь, как бы нам не пришлось выступать в роли судей и полицейских в ситуации, которую мы же сами и спровоцировали.
– А что нам еще остается делать, как не одаривать их подарками в доказательство нашей доброй воли? – поинтересовался галисиец. – Не мы виноваты в том, что эти вещи становятся предметом зависти и раздора, ведь эта история стара как мир. Как, бывало, говаривали у нас в деревне: «Подари что-нибудь одному другу – другой почувствует, что им не дорожат, а коли подаришь это каждому, никто не будет дорожить подарком».
– Соображают у тебя в деревне!
Несчастная девушка уже почти исчезла из поля зрения, когда с той стороны пляжа появились двое мужчин, двигавшихся в противоположном направлении.
Завидев шлюпку, они ускорили шаг и замахали руками, пытаясь привлечь к себе внимание.
– Ба, да это же священник! – тут же воскликнул галисиец. – И, если не ошибаюсь, второй – Акомар. Какого черта эти двое здесь делают?
Они рванулись им навстречу, начались бурные объятия, и брат Бернардино де Ансуага, поинтересовавшись местонахождением остальных и выслушав из уст самого Гонсало Баэсы горькую повесть о том, как те исчезли в морской дали, расплакался, как дитя.
– Это невозможно! – то и дело восклицал он, утирая слезы тыльной стороной ладони. – Эта злополучная экспедиция – какое-то проклятие. Мы пришли, чтобы попытаться утешить семью этого несчастного, и вдруг сталкиваемся с еще более ужасной трагедией, которая коснулась наших людей… – Он несколько раз помотал головой, настойчиво повторяя: – Это невозможно!
– Боюсь, что на самом крайнем острове известного мира возможна любая трагедия, святой отец… – смиренным тоном заметил Бруно Сёднигусто. – И сдается мне, что все случившееся – это только начало.
– Ты, как всегда, оптимист.
Акомар, отходивший поговорить с островитянами, вернулся и сказал, что родители покойного умоляют чужестранцев не приближаться, поскольку душа юноши все еще пребывает рядом с телом и ее нельзя беспокоить перед тем, как она отправится в долгое последнее путешествие в мир иной.
Очень скоро они оставят его одного, чтобы он мог поразмыслить над тем, что покидает, а через пару часов придут люди, которым поручено его мумифицировать. Они заберут тело, чтобы подготовить его, как он уже подготовил свою душу.
Гарса, которая всю ночь провела возле родственников покойного, наконец вернулась к шлюпке, и тогда Гонсало Баэса, заметив восхищение и смущение, с которым на нее смотрели как доминиканец, так и переводчик, поспешил представить ее как свою невесту, умоляя первого поженить их как можно скорее.
– Поженить? – переспросил тот, словно это была самая нелепая просьба, которую ему доводилось когда-либо слышать. – Кому пришло это в голову?
– Тому, кто хочет провести остаток жизни с любимым человеком… – прозвучал бесхитростный ответ. – И тому, кто хочет заручиться Господним благоволением, уладив свое положение.
– Но я не могу! – тут же запротестовал монах.
– Почему?
– Потому что ты служишь в действующей армии, и поэтому, как я предполагаю, тебе необходимо испросить разрешение у вышестоящего командира, – таков был обескураживающий ответ. – Что сказал бы капитан Кастаньос, если бы узнал, что ты вот так просто взял и женился?
– Разве мнение какого-то капитана важнее воли Господа? – поинтересовался лейтенант. – Позвольте вам напомнить, что я совершаю грех и мое самое большое желание – уладить это дело с Господом.
– Я могу тебя исповедовать.
– Зачем же, если я уверен, что сегодня ночью вновь согрешу? – тут же последовал ответ, не лишенный логики. – Если у согрешившего нет намерения исправиться – а я вас уверяю, что с моей стороны его нет, – любая исповедь не будет иметь смысла.
Бедный брат Бернардино, оторопев, несколько мгновений стоял в растерянности, явно не зная, что делать. Практичный Бруно Сёднигусто, воспользовавшись моментом, ласково подхватил его под руку и отвел на несколько метров в сторону, вкрадчиво приговаривая:
– Послушайте, святой отец! Хотя я очень уважаю лейтенанта Баэсу, мне как-то без разницы, грешит он или нет. Однако кое-что я представляю себе очень ясно: стоит только ему заявиться в лагерь с эдакой раскрасавицей любовницей, капитан Кастаньос, которого я знаю как облупленного, уж точно своего не упустит и, да извинит меня ваше превосходительство за прямоту, непременно попытается переспать с Гарсой, либо по-хорошему, либо по-плохому. – Он увлек монаха еще на несколько метров по берегу, подальше от чужих ушей, и добавил: – Лейтенант, само собой, этого не потерпит, потому что он от нее без ума, а значит, у нас возникнут серьезные проблемы… Вы меня понимаете?
– Понимаю, сын мой, понимаю… Боюсь, понимаю!
– А вот если лейтенант появится под руку с законной супругой, капитан ничего не сможет поделать, поскольку, кого Господь соединил, того никто не может разлучить.
– Но что скажет мое начальство, если сочетаю их браком, ведь невеста даже не христианка?
– Крестите ее!
– Вот так сразу?
Саморец, махнув рукой в сторону океана, насмешливо сказал:
– Уж воды-то наверняка хватит, а когда через восемь месяцев, а то и через год мы вернемся в Севилью, вы сможете объяснить своему начальству, что поступили так во избежание смертоубийства или ради спасения христианина, погрязшего в грехе.
– Ты ставишь меня перед сложным выбором, сын мой… – с горечью посетовал доминиканец. – Я не вполне уверен, но что-то мне подсказывает, что нельзя крестить и обвенчать идолопоклонницу в один и тот же день, это выходит за рамки моих полномочий.
– Ну так крестите ее сегодня и обвенчайте их завтра, – глазом не моргнув, предложил саморец.
– У тебя все просто.
– Нет, отец мой, вы заблуждаетесь: я-то как раз предвижу сложности, потому что, если капитан будет своего добиваться – а я уверен, что будет, – прольется море крови. Солдаты, возможно, останутся в стороне, но я уверен, что сержанты будут за него, а мы с галисийцем – за лейтенанта. Что, по-вашему, страшнее: выволочка, которую может устроить вам епископ, или полный провал нашей миссии на острове?
– Не преувеличивай, сын мой! Не преувеличивай!
– Я не преувеличиваю, отец мой. Не преувеличиваю. Вы хорошо знаете капитана Кастаньоса?
– Достаточно, чтобы признать, что ты совершенно прав. Да хранит меня Господь! Я обвенчаю этих двоих, даже если остаток жизни мне придется провести поваром в монастыре.
* * *
– Я так и не узнал, что сказал ему Бруно Сёднигусто, но в тот же день добрый монах крестил Гарсу, а на следующее утро нас обвенчал, устроив незатейливую и живописную церемонию. В каком-то отношении нелепую, но я почувствовал себя в преддверии рая, поскольку мои желания и моя совесть пришли в согласие, что бывает не так-то часто.
– И не говори, дорогой друг! И не говори! – охотно согласился монсеньор Алехандро Касорла. – Что касается меня, не думаю, что я ощутил это хотя бы пару раз за последние годы. А все потому, как мне кажется, что не отчеканили еще такой монеты, чтобы орел политики и решка совести не глядели в разные стороны.
– Тем не менее, как я убедился, ты не прочь подкинуть монету снова и снова, не зная, какой стороной она к тебе повернется… – упрекнул его хозяин дома.
– Кто тебе сказал, что я этого не знаю? – с вызовом ответил тот. – Редко когда такое случается, чтобы орел политики, победно сияя, не придавил решку совести к полу, но ведь сейчас не время погружаться в абсурдные философствования. Ведь ты обещал мне, что во время ужина расскажешь о загадочных водорослях, а мы уже приступили ко второму блюду… – Прелат без всякого стеснения облизал пальцы и с улыбкой добавил: – И признаюсь, язык можно проглотить!
– Кролик в сальморехо, как его готовит Файна, славится на весь остров, – заметил генерал. – И ты прав в отношении орхила.
– В отношении чего?
– Орхила – под таким названием известен этот лишайник, водоросль или что там дьяволу, который его создал, было угодно.
– Создателем всегда является Господь, а не дьявол.
– Но не в этом случае, уверяю тебя, поскольку я пришел к заключению, что орхил виноват в большей части напастей, свалившихся на обитателей этих островов, начиная с незапамятных времен.
Нижняя челюсть монсеньора Алехандро Касорлы слегка опустилась вниз, рот полуоткрылся, что ясно свидетельствовало о том, что он пребывал в сильном замешательстве после того, как услышал столь нелепое утверждение.
Он несколько секунд молчал, демонстративно, чуть ли не с пренебрежением уронил вилку на стол и, наконец, воскликнул с явной досадой:
– Ради всего святого, Гонсало! Ты спятил? Как ты мог подумать, что я поверю в твой рассказ о пребывании на Иерро, если сейчас ты несешь несусветную чушь: будто какая-то травка, о которой никто слыхом не слыхивал, выступает в этой истории в роли главного злодея?
– Сожалею, что ты так это воспринимаешь, но тебе придется согласиться с тем, что любая история имеет свою подноготную… – невозмутимо ответил его собеседник. – И хотя то, что я собираюсь тебе изложить, это всего лишь мои собственные соображения, они небеспочвенны: как-никак я провел на островах больше тридцати лет, говорю – один из немногих – на языке туземцев и посвятил много времени изучению их обычаев.
– Несомненно, но все же в отношении этого самого орхила или как там он называется, думаю, ты преувеличиваешь.
– Может, ты изменишь мнение, если я скажу, что так или иначе он явился причиной смерти моей жены и ребенка, которого она ждала.
– Этого я не знал, – извинился собеседник, явно смутившись. – Мне жаль, что я тебя расстроил.
Гонсало Баэса протянул руку и похлопал ею по руке своего друга, ответив ему с некоторым подобием улыбки:
– Ты меня вовсе не расстроил, поскольку не мог подозревать о существовании какой-либо связи между одной из примитивнейших форм жизни, произведенной природой, и самым совершенным созданием той же природы… – Антекерец несколько мгновений сидел, не шелохнувшись, уставившись в самый темный угол просторной столовой, и наконец проговорил – больше для себя, чем для человека, разделявшего с ним трапезу: – Я все еще не понимаю, как это могло случиться…
Воцарилось неловкое молчание: один из сотрапезников, казалось, погрузился в море горечи, а другой не знал, как ему поступить, поэтому сидел тише воды ниже травы, пока хозяин дома, словно вернувшись из другого мира, не решил заговорить:
– Секрет орхила заключается в том, что без него нельзя обойтись при производстве одного невероятно дорогого и ценного вещества.
– Это что, афродизиак?
– Нет.
– Эликсир вечной молодости?
– Тоже нет.
– Яд, который нельзя обнаружить?
– Ничего такого драматичного… – невозмутимо ответил Гонсало Баэса. – Просто-напросто из орхила добывают краску пурпурного цвета, а пурпур – символ власти, поскольку только императоры, короли и кардиналы имеют право окрашивать свои одежды в такой необычный и дорогостоящий цвет.
– Какая глупость!
– Абсолютная глупость, – вынужден был признать отставной генерал. – Известно же, что животные имеют весьма ограниченную способность к мышлению, тогда как мы, люди, можем стать необычайно умными или необычайно глупыми. – Он пожал плечами, словно этого было достаточно для подтверждения правильности его слов, и добавил: – То, что кто-то может считаться более важным, чем остальные его сородичи, только из-за цвета одежд, неоспоримо доказывает, что человеческая глупость не имеет пределов.
– С этим я согласен, но не пойму, какое отношение это имеет к несчастьям островитян.
– Имеет, и самое непосредственное… – возразил ему старый друг. – Судя по тому, что мне удалось выяснить, почти две тысячи лет назад финикийцы обнаружили, что Канарские острова являются тем местом в мире, где больше всего орхила, поскольку он растет только на утесах, о которые неистово бьются атлантические ветры.
– Как это обнаружилось, если, насколько я понял, они пускались в плавание только по Средиземному морю?
– Не имею ни малейшего представления, но известно же, что у них были поселения в Андалусии, так что рано или поздно они должны были проникнуть в океан. Зато мне доподлинно известно, что финикийские торговцы завезли на острова сотни рабов и создали колонии, занимавшиеся добычей орхила и производством краски. Вполне возможно, что в период упадка торговли о них забыли, и те, кого мы называем гуанчами (хотя я настаиваю на том, что слово использовано неверно), ведут свое происхождение от них.
– Всегда считалось, что островитяне произошли скорее от берберов.
– Дело в том, что некоторые из них имели своими предками рабов, которых финикийцы захватили во время похода на север Африки, а другие, главным образом на Фуэртевентуре и Лансароте, добрались до островов самостоятельно с близлежащих берегов пустыни. Однако, на мой взгляд, обитатели западных островов были привезены единственно с целью сбора орхила.
Прелат несколько секунд хранил молчание и вновь с воодушевлением принялся за аппетитного кролика, который уже начал остывать. Затем вытер рот тыльной стороной ладони и, наконец, заметил:
– Даже если и так, нет сомнения в том, что им оказали огромную услугу, поскольку лучше уж быть рабом, забытым на райском острове, чем бербером в североафриканских каменистых урочищах. Но впрочем, эта тема к делу не относится…Что еще ты мне расскажешь об орхиле?
– Что он растет очень медленно на своего рода корке, покрывающей вулканический камень. Если корка, соединяющая его с утесом, ломается, он в этом месте уже больше не вырастает, поэтому следует крайне осторожно срезать листья, которые едва достигают длины фаланги пальца. Я также выяснил, что французы Жан де Бетанкур и Гадифер де Ла Саль прибыли на острова не из любви к приключениям и не из жажды славы: они искали орхил, поскольку происходили из одного района Нормандии, известного своими красильнями. Говорят, лет двести назад один флорентийский путешественник обнаружил в Сирии древний папирус, в котором описывался секрет финикийцев, касавшийся способа изготовления пурпура на основе орхила. Он разбогател и передал формулу своим сыновьям, и поэтому семья стала называться «Оркилаи».
Не ведаю, каким образом этот папирус попал в руки нормандцев, но знаю, что в годы своего пребывания на островах они занимались производством краски, вот поэтому некоторые туземные женщины научились это делать.
– И ты предполагаешь, что Гарса была одной из них?
Отставной генерал несколько раз кивнул головой. Казалось, он мысленно вернулся в прошлое – на много-много лет назад.
– Я не предполагаю, а точно знаю, потому что этому обучила ее бабушка, и очень скоро она предупредила меня об опасности: что произойдет, если проклятая и уже забытая пурпуровая лихорадка вновь овладеет островом. «Жидкость, которой окрашивают шкуру, столь же бесполезна, сколь и разноцветные бусы… – сказала она мне. – Это не еда, не питье, не лекарство от болезней. Однако она может наделать столько же зла среди твоих соплеменников, сколько бусы – среди моих».
– Тонкое замечание, спору нет… – согласился прелат. – И, на мой взгляд, нетипичное для человека, у которого не было возможности учиться.
– Не впадай снова в заблуждение, к несчастью весьма распространенное, не путай ум с образованностью, – тут же укорил его собеседник. – При дворе я был знаком с сотнями ослов, по виду вроде бы образованных, тогда как десятки людей, которых мы считаем темными, отличаются невероятной сообразительностью. И хотя мне неловко в этом признаваться, лучшим доказательством служит тот факт, что Гарса за три месяца успела изучить испанцев лучше, чем я – ее соплеменников за целое десятилетие.
9
Продолжительные пересвисты проносились над ущельями, достигая вершин скал; получавшие сообщения с юга тут же передавали их на север, вследствие чего на второй день в первый час пополудни на берегу появились четверо членов Совета старейшин во главе с неизменно суровым Бенейганом.
Первым делом они расселись вокруг холмика, на котором лежал труп юноши, желая своим молчанием оказать ему последние почести, но где-то через час потребовали, чтобы юная Гарса явилась к ним и объяснила, по какой причине она приняла необычное решение соединить свою судьбу с чужеземцем, хотя, как известно, благодаря своей красоте и достоинствам была предназначена в жены предводителю.
– Я уже стала женой предводителя, – твердо ответила девушка. – Только мои родители могли бы возразить против нашего союза, но поскольку они этого не сделали, я не понимаю, к чему подобные расспросы со стороны людей, которых я даже не знаю.
– Таков обычай…
– Но не у нас… – заметила девушка. – Если моя семья, когда нам приходилось туго, никогда не получала помощи с севера, с какой кстати мы должны отчитываться в наших действиях?
– Иногда вы пользовались нашей водой.
– Закон гласит, что пастбища и вода, где бы то ни было, принадлежат всем, и мои сородичи никогда не возражали, чтобы скот спускался на наши земли, когда на севере была засуха.
Представитель высшей власти на острове, Бенейган, который до этого момента ограничился тем, что слушал, так как положение не позволяло ему опускаться до разбирательства «простой домашней проблемы», жестом приказал всем замолчать. Он внимательно посмотрел на девушку, осмелившуюся разговаривать с Советом старейшин столь непочтительным тоном, и затем сказал:
– Твоя дерзость превосходит твою неоспоримую красоту, но меня беспокоит, что ты ведешь себя так, полагая, что, раз ты являешься женой чужеземца, его власть тебя защищает. – Он легонько указал на нее концом длинного копья, которое всегда носил с собой, и добавил: – И все же тебе не следует забывать, что ты по-прежнему живешь на острове, и тот факт, что ты спишь с пришельцем, не отменяет того, что ты связана с нами кровными узами.
– Я этого не забыла и никогда не забуду, – успокоила его девушка. – Тем не менее хочу тебе напомнить, что, согласно нашим самым древним обычаям, когда женщина соглашается навеки соединиться с мужчиной, она должна служить ему, подчиняться и даже покинуть свою семью, чтобы войти в семью супруга… – Она сделала короткую и выразительную паузу перед тем, как завершить свою речь. – И я так и поступила.
– Этот закон был придуман не для чужеземцев.
– Это трудно утверждать, поскольку он был установлен, когда на остров еще не прибыл ни один чужеземец, однако они уже здесь, и этого никто не может отрицать… – Девушка сделала короткую паузу и добавила: – Я хочу, чтобы было ясно только одно: я никогда не поступлюсь интересами моего народа ради супруга, так же как никогда ничего не сделаю во вред супругу ради моего народа. Скорее наоборот: испытывая любовь к обоим, я считаю, что многое могу сделать для всеобщего блага.
Вождь островитян, который явно не привык к тому, чтобы кто-то ему перечил, особенно если это молодая женщина, выказавшая не по возрасту живой ум и красноречие, ответил не сразу. Он покрутил в ладонях копье, с которым никогда не расставался, словно, когда он ощущал его в руках, ему лучше думалось, и после долгой паузы заметил:
– Как тебе верить, если, насколько я понял, ты уже отреклась от наших богов, приняв бога испанцев.
– Моя семья никогда не принимала ваших богов, точно так же как я не принимаю бога испанцев. Моя бабушка, очень мудрая женщина, внушила мне, что существует только два бога, которых мы должны любить, бояться и уважать: солнце и вода. Вот они действительно нас защищают, потому что во мраке ночи царит смерть, а без воды нет жизни.
– Да как ты смеешь?! – воскликнул вне себя один из старейшин, будучи не в силах справиться с негодованием, хотя по своему положению он не имел права вмешиваться, пока Бенейган вел разговор. – Нас создали Эраоранзан и Монейба, мужчина и женщина, и только они…
Он осекся, заметив суровый взгляд своего предводителя, который немедленно обратился к Гарсе:
– Уж не думаешь ли ты, что что-то может родиться иначе, чем от союза двух существ противоположного пола? Если это внушила тебе твоя бабка, ты должна считать ее не мудрой старой женщиной, а сумасшедшей старухой.
– Солнце – мужчина, а вода – женщина… – последовал уверенный ответ. – Каждый день солнце посылает в море свои лучи, и в результате рождается дождь, который ветры толкают к островам, позволяя деревьям и растениям нас питать. И я никогда не видела ни Эраоранзана, ни Монейбы, которые делали бы нечто подобное.
– Ты никогда их не видела, потому что боги невидимы.
– Мне кажется нелепым поклоняться невидимым богам, которые ничего для нас не делают, и не поклоняться солнцу и воде, которые дают нам все.
– Их гнев падет на твою голову.
Прекрасная туземка пожала плечами, показывая, как мало ее тронула угроза, и сказала:
– Не представляю, как они смогут это сделать. Зато мне хорошо известно, каким сильным бывает гнев солнца, когда оно решает нас наказать, или воды, когда она отказывается прийти нам на помощь, потому что мы ее обидели.
– А вот как раз сейчас мы ее и обижаем, позволяя чужеземцам использовать ее не для того, чтобы утолять жажду или дарить жизнь, а для чего-то иного, и это меня беспокоит, – нехотя признал Бенейган, резко ударив своим длинным копьем о землю. – Может быть, смерть бедного юноши служит нам предупреждением о том, что может произойти, если мы не положим конец этому безумию. И я забуду твои оскорбления и твою неслыханную дерзость, если ты убедишь испанцев впредь не искушать наших людей.
– А почему я должна это делать?
– Потому что своими бусами, тканями и зеркалами они добьются того, что мир и согласие исчезнут, как исчезает ветер, раскачивающий деревья, – с горечью ответил он. – Мужчины соревнуются между собой, желая ослепить женщин незатейливыми безделушками, и дело дошло до того, что уже не одна поддалась на мужские уговоры, лишь бы заполучить то, чего нет у соседки.
Старик с белыми длинными волосами, к которому все явно испытывали величайшее почтение, подал почти незаметный знак, подняв голову, и этого оказалось достаточно, чтобы ему дали слово.
– Зло уже совершено, и отрава обладания тем, что раньше не было нужно нашим людям, подчинила себе их волю… – сказал он. – Однако, как я себе мыслю, решение заключается не в том, чтобы запретить хождение зеркал и бус, а как раз наоборот: чем их будет больше, тем меньше ценности они будут представлять, а поскольку от этих предметов в общем-то нет никакого проку, наступит такой момент, когда на них и не взглянут. И все же, стоит их сейчас запретить, как они тут же станут предметом вожделения, потому что жизнь меня научила, что запретное желанно в большей степени, чем дозволенное.
– В этом, возможно, Тенаро прав, а я ошибаюсь… – без колебаний признал Бенейган, обращаясь к остальным. – В далекие времена, когда власть находилась в руках одного человека, люди боролись и даже убивали ради того, чтобы ее заполучить, а вот с тех пор, как мы управляем с всеобщего согласия и власть не приносит доходов, она перестала интересовать большинство людей. Тем не менее я по-прежнему считаю, что данные предметы порождают беспорядок и поэтому представляют опасность.
Старейшина Тенаро несколько раз кивнул головой, молча показывая, что разделяет его опасения, но почти тут же снова поднял руку и сказал:
– Если из уважения к преклонному возрасту мои советы будут приняты во внимание, то, по-моему, следует разрешить торговлю с чужеземцами, обменивая то, что они нам предложат, на скот или продукты питания, но не на орхил.
– Но ведь орхил свободно растет на утесах! – тут же запротестовал один из присутствующих, словно подобное предложение показалось ему глупостью. – Нам дают нечто ценное в обмен на какую-то жалкую травку, которая ничего не стоит.
– Одно дело – сколько она стоит, другое – во сколько она нам обходится, – невозмутимо заметил Тенаро. – Она уже стоила нам одной жизни и стоит воды, а это гораздо более важные вещи, чем зерно или скот. Мы можем из года в год выращивать ячмень или разводить коз, но если у нас не будет воды или молодых рук – мы пропадем… – Он сделал короткую паузу и добавил: – А еще мы должны попросить чужестранцев прекратить строить хижины и заборы из бревен, благо для этого полным-полно камней. Мне пришлось прожить почти всю свою жизнь, чтобы увидеть, как восстанавливаются леса, которые извели французы.
Все уважали старого Тенаро за рассудительность и мудрость. Кроме того, он был единственным живым родственником доблестного Тинери, легендарного рыбака, убившего бискайца Ласаро, наемника, который семьдесят лет назад во главе бандитской шайки, собранной из отъявленных головорезов с половины Европы, приехал на остров в поисках орхила.
Этот самый Ласаро, которому французские норманны без всяких на то оснований присвоили титул «губернатора Иерро», устроил здесь настоящий ад, охотясь за самыми молодыми мужчинами, чтобы продать их в рабство, и преследуя и насилуя женщин, пока однажды неукротимый Тинери не положил конец его злодеяниям, выхватив у него его же шпагу и поразив бискайца прямо в сердце.
Когда французы узнали о происшествии и прибыли для наведения порядка, они не только признали правоту островитян, но и приговорили к смерти пятерых из приспешников Ласаро. По этой причине прочие наемники вскоре сбежали, оставив туземцев в покое, и с того момента угроза для них исходила только от берберских или португальских охотников за рабами, которые время от времени высаживались на их берегах.
Впрочем, с той поры уже немало воды утекло: одна только беззубая старуха, жившая в глубокой пещере и питавшаяся почти исключительно плодами и ящерицами, помнила «демонов с длинными и острыми ножами», которых видела, будучи еще девчонкой, когда они повсюду рыскали, пытаясь поймать ее сестру.
«Они спорили, кто первый возьмет ее силой, потому что она была непокорной и невероятно красивой, – рассказывала старуха. – Но еще и очень сообразительной, и, так как она взбиралась по скалам, словно настоящая коза, и прекрасно владела пращой, она всегда оказывалась наверху первой, вынуждая преследователей отступить под градом камней…» Тут старуха, довольная, начинала смеяться, показывая два своих единственных зуба, и добавляла: «Не одному проломила череп-то. Так никому и не удалось к ней прикоснуться, пока она сама не позволила себя поймать брату Тинери; она заставила его сделать ей пятерых сыновей и дала старшему из них имя Тенаро».
Это означало, что в венах старика текла мятежная кровь как со стороны отца, так и со стороны матери, но поскольку с момента его рождения на острове не произошло ничего существенного, он полностью посвятил себя наблюдению за крайне суровым и сложным миром, который, впрочем, не превышал тридцати километров, если считать от края до края острова.
Занимаясь всю свою долгую жизнь изучением весьма ограниченного пространства, этот человек, от природы наделенный недюжинным умом, в результате стал обладателем глубоких знаний относительно каждого дерева, растения, плода, корня, животного и даже человека, которые вызывали у него интерес.
И тут, когда он мог бы считать, что ему известно «почти все» об окружающем мире, вновь появились вонючие, шумные, некрасивые, грубые, облаченные в металлические «панцири» существа, от которых исходила какая-то угроза и о которых он ровным счетом ничего не знал.
Вот по этой причине по окончании «высокого собрания» он попросил Гарсу устроить ему встречу с ее новоиспеченным мужем. И тем же вечером, после того как брат Бернардино де Ансуага, Акомар и большая часть островитян отправились назад, в базовый лагерь, они встретились в небольшой пещере и уселись вокруг тлеющего костра, над которым поджаривались три круглые рыбины меру, надетые на колья.
В ходе неспешной трапезы Тенаро всячески пытался довести до сознания молодого лейтенанта мысль о том, что поведение испанцев, которые упорно продолжали заниматься нелепым делом – накапливать как можно больше орхила, повлечет за собой серьезные неприятности.
Насколько он понимал проблемы маленького острова, на котором они обитали, опасность заключалась вовсе не в добыче чертова лишайника: тот произрастал здесь в изобилии, – и все бы выиграли, если бы однажды он совсем исчез. Однако, чтобы превратить его в пурпур, требовалось слишком много пресной воды, поскольку соленая не годилась для изготовления краски, а опыт подсказывал старику, что скоро дожди будут идти все реже.
За свою долгую жизнь он сумел выяснить, что каждые восемь – десять лет влажные и сухие периоды сменяют друг друга. А пристальное наблюдение за растениями, особенно за некоторыми кактусами, которые сейчас в избытке запасали дурманящий сок, заставило его прийти к выводу, что вот-вот наступит ужасная жара, а вместе с ней жестокая засуха.
Поэтому в ожидании трудных времен следовало запасти как можно больше воды, а не растрачивать ее на приготовление малопригодной зловонной бурды, что, по его мнению, значило подвергать серьезному риску свое будущее.
– И вот тут я с тобой согласен… – заключил он, глядя девушке прямо в глаза. – Как бы мы ни умоляли Эраорансана или Монейбу, обычно они не оказывают нам никакой помощи, когда жажда убивает скотину и мучает людей.
Они оставили старика отдыхать у тлеющего костра и отправились в скрытый от посторонних глаз уголок на берегу. После того как они предались любви при свете зарождающейся луны со всей страстностью, будто в первый раз, девушка сказала, что это правда: с прекращением дождей жизнь на острове всегда серьезно осложнялась. Она все еще совершенно отчетливо помнила суровые годы, когда пастбища высыхали, почти вся скотина падала, и приходилось пробавляться рыбалкой.
– Брат Бернардино уверял меня, что, принимая крещение, я получаю право пользоваться всеми преимуществами, которое дает положение христианки. Это так?
– Конечно!..
– Я рада, ведь это значит, что Иисус Христос, который намного могущественнее Эраорансана, наверняка сумел сделать ваши моря пресноводными, чтобы никто никогда не страдал от жажды.
* * *
– Любопытный вывод!
– Логичный, если учесть, что, по мнению Гарсы, испанцы, стоявшие, как ни посмотри, на более высокой ступени развития, пришли, чтобы решать, а не создавать проблемы.
Они сидели в беседке с бутылкой вишневой настойки, в которой оставалось уже меньше половины. Напиток сообщал приятное тепло, и холод, которым тянуло от снегов Тейде, совсем не ощущался, поэтому монсеньор Касорла отреагировал очень живо:
– Ты должен был ей разъяснить, что Создатель захотел сделать море соленым, чтобы людям пришлось трудом зарабатывать себе на жизнь; безделье же толкает к пороку.
– Островитянам трудно понять, почему Бог, который дал тебе жизнь, заставляет тебя отрабатывать в уплату за то, что ты не просил… – прозвучал неожиданный ответ. – И, честно говоря, я без особых усилий согласился с тем, что, когда тебе дарят что-то, а затем требуют мзду с такими высокими процентами, это форменное надувательство.
– Вот уж язык без костей, думай, что ты несешь! – проворчал другой. – Сколько раз тебе говорить?
– Да хоть тысячу раз, и тысячу раз я тебе отвечу: общение с островитянами заставило меня пересмотреть представления, которые до того у меня не вызывали никаких сомнений.
– Например, в отношении веры?
– Оттенков веры, если говорить точнее.
– Вера не допускает оттенков… – отрезал прелат без малейшей тени сомнения. – Либо она есть, либо ее нет.
– Ты заблуждаешься, дорогой друг. И сильно! Вера допускает бесконечное множество оттенков, потому что она то есть, то нет, а бывает, меняется за считаные минуты… – Гонсало Баэса кивнул в сторону дороги, по которой они вернулись после долгой прогулки, и продолжил: – Сегодня я пригласил тебя прогуляться до смотровой площадки над обрывом, и ты ни минуты не колебался, доверившись мне, ведь я хорошо знаю дорогу. Тем не менее, предложи я тебе это сейчас, ты бы наотрез отказался, хотя я остался тем же, кем был, дорога по-прежнему опасна, а смотровая площадка не сдвинулась с места.
– До чего же нелогичный пример! Ночь же на дворе!
– Вот именно! И мы должны понимать, что, хотя порой наша вера сияет столь же ярко, как солнце, на наши сердца может внезапно опуститься темнота – и обрыв перестанет быть замечательной смотровой площадкой над морем, превратившись в устрашающую пропасть. – Генерал поцокал языком, словно желая этим сказать, что тут уже ничего не поделаешь, и заключил: – Зачастую с Богом происходит нечто подобное, когда вечное спасение превращается в вечное наказание – чересчур жестокая игра для огромного большинства людей, которые слишком слабы, чтобы выдержать такие резкие перепады.
– Сталь закаляют, вынув клинок из огня и погрузив его в воду.
– Ну, если Создатель хотел, чтобы мы были такими стойкими, проще было сотворить нас из стали, а не из плоти и крови… – Хозяин дома махнул рукой, показывая, что эта тема ему неинтересна, и добавил: – Я пытаюсь объяснить, по какой причине не могу принять злосчастное назначение губернатором Иерро, но при этом всякий раз, когда рассказываю тебе что-то важное, рассуждения на посторонние темы уводят нас от главной; так мое повествование продлится до смертного одра. Или оставим Бога в стороне, или мы никогда не закончим.
– Бога нельзя оставить в стороне… – заметил собеседник с легкой улыбкой после глотка вишневой настойки. – Но ты отчасти прав, и нам следовало бы придерживаться фактов. Что произошло после твоего разговора со стариком?
– А то, что, сопоставив его рассказ с тем, что мне уже успели поведать брат Бернардино и Акомар, я пришел к выводу, что Бруно Сёднигусто был прав, и капитан Кастаньос, послав нас чертить дурацкую карту берегов острова, намеревался под этим предлогом держать меня в стороне от своих дел. И тогда – а тут еще море вновь разбушевалось, и пытаться оставить берег было настоящим безумием – я решил, что самое верное будет направиться в его лагерь по суше, хотя лодыжка продолжала мне досаждать.
– Но ведь ты был уверен, что нарушаешь прямой приказ командира, и это могло повлечь за собой серьезные последствия… – заметил прелат.
– Еще серьезнее, чем потеря моих людей? – с горечью спросил генерал. – Мне уже ничего не казалось логичным. По этой причине я решил, что нам следует затащить лодку в пещеру, где она будет в безопасности, и отправиться пешком по горам вверх и вниз, что в моем случае было настоящим хождением по мукам, потому что порой я не мог сделать ни шага. Но, честно говоря, конец пути оказался еще хуже, поскольку то, что, по идее, должно было быть военным лагерем, местом расположения отряда испанской королевской армии, где царит дисциплина, в действительности оказалось вонючим свинарником, настоящей помойкой, выросшей, словно гнилой гриб, в сердце некогда райского леса.
– Просто не верится…
– Уж поверь, дорогой друг, уж поверь, – настаивал рассказчик. – Тебе придется мне поверить, если я скажу, что вокруг стоял такой запах, что нас затошнило еще до того, как мы разглядели первые хижины среди деревьев.
– Несомненно, ты преувеличиваешь, и это вызывает у меня сомнения в отношении всего твоего рассказа. Я бывал во многих лагерях, в некоторых даже во время войны, когда там находились раненые и мертвые, и нигде не было такого зловония, как в том, который ты описываешь.
– Дело в том, что на самом деле это был не военный лагерь, а огромная красильня.
– А при чем тут запах?
– А при том, что для получения пурпура необходимо растереть высушенный орхил до мельчайшего порошка, смешать его с водой и добавить большое количество протухшей мочи. Поэтому капитан Кастаньос заставлял всех мочиться в огромные глиняные сосуды, стоявшие на открытом воздухе. Когда моча начинала жутко вонять, ее выливали в смесь, приготовленную в других сосудах, которые прикрывали досками. Однако их приходилось проветривать каждые четыре-пять часов… – Гонсало Баэса фыркнул, поморщился, словно все еще ощущал едкий и резкий запах, и заключил: – Клянусь – тебе ведь прекрасно известно, что я не любитель клятв, – это было равносильно тому, что оказаться у братской могилы, заполненной разлагающимися трупами.
10
Капитан Кастаньос не стал утруждать себя оправданиями. Он придерживался особой теории, согласно которой те, кто уверял, будто никогда не лжет, как раз лгали больше всех, поскольку такое категоричное и нелепое утверждение содержало в себе заведомую ложь.
Он считал, что человек лжив от природы, более того, зачастую отступает от правды, сам того не осознавая.
Поэтому капитан совершенно откровенно признался, что согласился отправиться к черту на кулички только потому, что его непосредственные начальники, полковник Сория и майор Бермехо, убедили его, будто не пройдет и года, как все трое сказочно разбогатеют.
– Единственное, на чем можно разжиться на забытом Богом утесе, это чертов пурпур, который сейчас стоит дороже золота и даже алмазов. Уверяю тебя, никого не волнует, станут ли местные жители христианами, так же как будет реять над островом наш флаг или нет.
– Брата Бернардино волнует, станут ли туземцы христианами, а мне важно, чтобы флаг развевался, – ответил ему обескураженный лейтенант, не веря своим ушам.
– Брат Бернардино – тютя в сутане, а ты тютя в доспехах, Баэсуля, – нимало не смутившись, ответил капитан. – А недотепы всегда являются плохой компанией, недаром же гласит старая пословица: «Опасен тот, кому медаль милей серебряной монеты». – Капитан отклонился назад, положил ноги в огромных сапожищах на стол и дружелюбно улыбнулся, прежде чем завершить: – Они представляют опасность для себя самих, но в первую очередь для нас – тех, кому совершенно не улыбается менять свою шкуру на медаль. И заруби себе на носу, Баэсуля, на этом острове нет медалей, только монеты.
– Но я согласился с назначением не ради первого и не ради второго… – возразил его заместитель, который всячески старался не дать выхода переполнявшему его возмущению. – Я приехал сюда, потому что в этом состоит мой долг.
– Поверь моему опыту, Баэсуля, из-за чувства долга лишь задолжаешь всем – не расплатишься. А меня кредиторы просто со свету сживают, вот я и решил принять щедрое предложение, чтобы по возвращении домой не вздрагивать от каждого стука в дверь. – Он сделал длинную паузу, посмотрел на своего подчиненного, пытаясь предугадать его ответ еще до того, как задаст вопрос, и наконец решился бросить ему в лицо, словно перчатку: – Что думаешь делать?
– Вы о чем?
– О том, чтобы выбросить из головы медали и подумать о монетах. Сам видишь, у тебя всего две возможности: либо остаться, помогать в деле и получать свою долю от доходов, либо продолжать чертить подробную карту острова. – Он подмигнул ему с заговорщическим видом: – Вот выбрал бы картографию, тогда в случае чего были бы взятки гладки: мол, какой с тебя спрос – ты лишь выполнял приказ.
– Приказ, который уже стоил жизни трем подчиненным… – напомнил ему собеседник.
Капитан ответил с наглой ухмылкой:
– Надеюсь, что четырем: вот поймаю Ящерицу и вздерну его как дезертира. Остров-то не бог весть какой большой, особенно не спрячешься, будь ты хоть сто раз ящерицей. – Он снял ноги со стола, принял нормальную позу, словно считая, что отдает этим дань памяти погибшим, и добавил: – Клянусь тебе, Баэсуля, что у меня и в мыслях не было причинить зло этим парням, но ведь в здешних краях море способно взъерепениться в самый неподходящий момент. Случилось то, что случилось, и точка. Что ты решил?
– Сосредоточусь на картографии…
– Я так и думал, – как ни в чем не бывало сказал капитан. – Если я чему и научился за столько лет, что командую, так это отличать подлеца от кабальеро, и хочешь не хочешь, а приходится признать, что ты не мой человек. Поэтому дам тебе совет, который ты должен расценивать как приказ: держись подальше от лагеря вместе со своей красоткой женушкой, не суй нос в мои дела и наслаждайся долгим медовым месяцем, пока все не закончится. – Он направил на него конец хлыста, с которым не расставался, и спросил, словно давая понять, что разговор закончен: – Вопросы есть?
– Только один: могу ли я взять с собой Бруно Сёднигусто и Амансио Ареса?
– Они в твоем полном распоряжении, – ответил тот, махнув рукой, явно выражая презрение. – Гляди только, чтобы они у тебя не потонули, а то у нас людей не хватает.
Юный лейтенант Гонсало Баэса покинул грязную хижину, на стенах которой висела дюжина бурдюков из козьих шкур, наполненных тошнотворной краской, с зубовным скрежетом и сжатыми кулаками. Правда, он поздравил себя с тем, что сумел устоять перед искушением выхватить шпагу и одним ударом поразить мерзавца в самое сердце.
Ему было необходимо вобрать в легкие свежего воздуха, поэтому он решил взобраться на скалу, возвышавшуюся над пропастью. С ее вершины просматривалась большая часть острова, и он сидел там, пытаясь успокоиться и привести мысли в порядок, до тех пор, пока не подошел озабоченный Акомар, который опустился перед ним на корточки и без всяких предисловий спросил:
– Что будешь делать?
– Продолжать чертить проклятую карту, – последовал сухой и желчный ответ.
– И оставишь моих сородичей в руках этого сукина сына?
– Когда это они успели стать твоими сородичами? – удивленно спросил антекерец. – Ты же все время твердил, что чувствуешь себя скорее андалусцем, чем островитянином.
– Что островитянин, что андалусец, чувства-то испытываешь одинаковые, когда понимаешь, что капитан и два его сержанта, которые на самом деле всего лишь наемные убийцы, собираются превратить это место в ад. Растлевают женщин, развращают мужчин, а в итоге всех их сделают рабами, как когда-то меня… И все из-за своей неуемной жадности. – Он глубоко вздохнул и с горечью заключил: – Пурпурная мантия превратится в саван этого острова.
– А что ты от меня хочешь? Мятеж карается виселицей.
Переводчик поднялся, посмотрел вдаль, несколько раз едва заметно кивнул головой и, наконец, сказал с абсолютным смирением:
– Понимаю, это значило бы слишком многого требовать от человека, у которого такая прелестная жена и вся жизнь впереди… – Он обернулся, чтобы взглянуть в глаза собеседнику, и спросил: – Но что можем предпринять против такой вот банды преступников мы с монашком?
– Ничего.
– Разве это справедливо?
– Когда служишь в армии, самое скверное – это то, что, приняв присягу, предоставляешь своим командирам право решать, что справедливо, а что – нет. Но обещаю, что, когда придет время, я потребую, чтобы они понесли заслуженное наказание.
– Но тогда уже будет слишком поздно. Глупо после драки кулаками махать.
– А что тут можно сделать? – поинтересовался лейтенант; в его голосе слышалось явное бессилие. – Ведь мало того что мне, военному человеку, пришлось бы сознательно встать на путь мятежа, тут есть еще и тактическая проблема. На какие силы мы могли бы рассчитывать, выступив против тех, кого ты так точно назвал бандой преступников?
– Полагаю, что Бенейган встанет на нашу сторону.
– Это только твои домыслы, но даже если бы это было так и пролилось бы море крови, что сталось бы с моей честью и честью моей семьи, окажись я предводителем мятежа против Короны?
* * *
– Да уж, попал ты в передрягу… – изрек монсеньор Касорла, наморщив лоб, словно желая показать, будто не знает, что и думать обо всем услышанном. – Кое-кто на моей памяти оказался на эшафоте за гораздо меньшее преступление. Поднять мятеж против Короны! Упаси Боже!
– А как бы ты поступил?
– Ах, оставь, Гонсало, не заманивай меня в ловушку! – запротестовал собеседник. – Ты описал мне ситуацию, в которой никому не хотелось бы оказаться, поэтому я не готов дать тебе поспешный ответ. Вот ты там был, к тому же у тебя было предостаточно времени, чтобы об этом подумать, и то не сумел его найти. Или я ошибаюсь?
– Нет! – согласился хозяин дома. – Ты не ошибаешься.
* * *
Как тут можно было ошибиться, зная, что в те далекие времена лейтенант Баэса был честным и порывистым юношей, которого возмущало поведение товарищей по оружию?
Его первым желанием было высказать все в лицо своему командиру, однако, несмотря на молодость, ему хватило ума сообразить, что надежды на успех весьма ничтожны, притом что он рискует вызвать кровопролитие.
Позже, ночью, он попытался объяснить Гарсе, что им следует держаться подальше от лагеря, в противном случае их жизни подвергнутся серьезной опасности, и ее ответ поразил его до глубины души.
– Смерть есть то единственное, что, войдя в домашний очаг, оставляет пустоту, – шептала она, ласкаясь. – Если бы тебя убили, я бы бросилась в бездонную пропасть, и все же я не могу понять, почему ты обязан повиноваться человеку, который не умеет управлять?.. Это нелепо!
Женщина с самого рождения привыкла к тому, что правителей выбирают среди наиболее рассудительных членов общества, и у нее в голове просто не укладывалось, как это взрослый человек способен подчиняться нелепым приказам, закрыв глаза на то, что острову грозит катастрофа, масштаб которой невозможно себе представить.
Однако совсем уж непонятно было другое. Оказалось, что по ту сторону океана законы диктовали не самые здравомыслящие, а самые могущественные члены общества. В мире, который сам себя считал цивилизованным, жажда власти, как правило, одерживала верх над жадностью – просто потому, что деньги не всегда позволяли получить власть, тогда как власть имущие очень часто имели возможность завладеть богатствами.
Ее измученный муж, лейтенант Гонсало Баэса, не стал бы изводиться по поводу того, что капитан Кастаньос наживается на изготовлении вонючей бурды на потребу королям и кардиналам, ослепленным собственным величием, если бы это никому не причиняло вреда, но ведь это было не так. Вместо того чтобы завезти на остров рабочих и платить им за неприятную работу, капитан предпочел вовлечь в свои дела туземцев, соблазнив их побрякушками, да вдобавок расходовал их воду, без которой в дальнейшем они не смогут выжить.
Если, как уверял старейшина Тенаро, вот-вот начнется период суровой засухи, Иерро, где воды и без того было мало, не справится с таким потреблением.
Остров, лежащий на самом краю известного всем мира, позволил выжить человеку-охотнику, человеку-пастуху и даже человеку-земледельцу, но не прошло и месяца со дня прибытия человека-фабриканта, как тот создал угрозу для всего живого.
* * *
– Я предчувствовал, что, если покину лагерь, безумная пурпуровая лихорадка в конце концов приведет к катастрофе… – наконец проговорил генерал, опустив голову, словно не решаясь взглянуть в лицо своему старому другу. – По сведениям, которые славному Бруно Сёднигусто удалось получить у своих сослуживцев, Кастаньос расставил на утесах наблюдателей в ожидании суденышка с новым грузом побрякушек. На обратном пути оно должно было завезти первую партию краски на Лансароте, где один из дружков капитана, полковник Сория, который вроде как командовал там военным постом, готовил переброску груза на африканский берег, а затем во Францию.
– То есть ты намекаешь на то, что группа офицеров вела продуманную до мелочей нелегальную торговлю на основе обмена побрякушек на пурпур, вовлекая в это подчиненных и используя корабли военного флота?
– Я не намекаю, а утверждаю. И точно знаю, что по крайней мере двадцать бурдюков достигли нормандских красилен без ведома испанской Короны, которая не получила с этого никакого дохода.
– Но ведь это измена! – не выдержав, воскликнул прелат.
– Ты думаешь, я этого не понял с самого первого момента? – тут же отозвался генерал. – Но что я мог поделать и кому мне было об этом докладывать, если главный соучастник представлял высшую власть на острове?
– Что и говорить, сложное положение, и должен признать, что ты действовал правильно, когда не пошел на преступление и не стал поднимать мятеж против командира.
– А стоило, поскольку тогда я бы один отвечал за последствия. Как показывает развитие событий, из-за моего малодушия пострадали многие.
– Мы слишком часто склонны преувеличивать свою вину, – заметил монсеньор Касорла; казалось, ему неловко или он смущен темой разговора. – Для порядочного человека не существует более строгого судьи, чем его собственная совесть, и боюсь, что это как раз твой случай.
– Что мы склонны преувеличивать?.. – возмутился собеседник. – Какое уж тут преувеличение, когда это на самом деле многим стоило жизни, среди прочих – моей собственной жене и ребенку, которого мы ждали? Что, по-твоему, может быть хуже?
На этот раз он не получил ответа, поскольку и так было ясно, что ничего не может сравниться с потерей тех, кого любишь.
* * *
Беды точно так же, как грозы, становятся еще тягостнее, когда их предчувствуют, особенно если человек не в силах их избежать. Он страдает, видя, как они надвигаются, страдает, когда они на него обрушиваются, и его страдание растягивается на долгие годы, поскольку он не перестает себя спрашивать о причинах своего бессилия.
На следующий день молодой лейтенант отправился назад, на побережье, в компании Гарсы, Амансио Ареса и Бруно Сёднигусто, хотя и испытывал тягостное чувство, что предает многих людей. А тут еще брат Бернардино де Ансуага до последнего момента умолял «не бросать его одного». Несчастный доминиканец был убежден, что его апостольская миссия обречена на провал с того момента, когда островитяне волей-неволей пришли к выводу, что чужеземцы высадились на их берегах вовсе не с намерением им помочь, а чтобы конфликтовать друг с другом и лишить их самого необходимого: воды.
Объем воды в источнике рядом с лагерем уменьшился наполовину из-за того, что с каждым днем ее требовалось все больше, поскольку постоянно прибывали новые мешки с орхилом.
В то же время капитан Кастаньос одарял лоскутом ткани всякого, кто приносил сосуд с протухшей мочой.
– Если меня когда-нибудь рукоположат в кардиналы, я буду одеваться в зеленое, потому что не желаю без конца принюхиваться к мантии… – неожиданно заявил монсеньор Касорла; его шутливый тон не вязался с ситуацией, и, почувствовав это, он поспешно добавил: – Извини, просто вся эта история с орхилом настолько необычна, что я не перестаю удивляться. Кто мог подумать, что вещество, столь мало где пригодное, станет главной целью высадки военного отряда на самый удаленный из известных островов?
– За всем ведь стоит жадность, дорогой друг. В конце концов, пурпур – всего лишь высшая ступень жадности… – заметил его собеседник; судя по тону, он простил ему неудачный комментарий. – Именно жадность и привела на Канары финикийцев, а несколько веков спустя – норманнов. Подозреваю, что опять-таки жадность, а вовсе не мечты о славе, толкает нас к завоеванию Нового Света, который открыл адмирал Колумб и о существовании которого я даже и не подозревал в бытность мою на Иерро, хотя корабли экспедиции прошли совсем близко от его берегов. На мой взгляд, никто палец о палец не ударит ради того, чтобы приобщить обитателей этих земель к цивилизации и обратить их в христианство, если банкиры не дадут денег на экспедиции; эти всегда чуют, когда есть возможность получить огромную прибыль.
– Творится такое безобразие, и мне тяжело это принять. Снарядить флот стоит огромных денег, и я уверен, что Корона не располагает необходимыми средствами для покрытия расходов столь дерзновенного предприятия. Немногие готовы рисковать жизнью и капиталом ради простого удовольствия – чтобы за океаном дикий человек в перьях научился читать Библию и молился Младенцу Иисусу или Деве Марии.
Несомненно, он был более чем прав, и это мог бы подтвердить брат Бернардино де Ансуага, который не знал, как объяснить туземцам, что Бог, которому поклонялись христиане, не одобряет жестокого и неразумного поведения своих самых ярых приверженцев.
По мнению островитян, главная обязанность богов заключается в защите всего, что было создано, однако они все больше убеждались в том, что, с одной стороны, чужеземцы только и делали, что славили Господа, а с другой – разрушали его творение.
Простейшая логика подсказывала, что никогда не следует доверять тому, кто говорит одно, а делает другое.
11
Это выглядело так, словно одноглазый дракон со сморщенной кожей стряхивает блох и при этом громко выпускает газы из темного и глубокого нутра где-то за северо-восточными холмами, выбрасывая в пространство смрадный огненный фонтан, который тут же завладел звездами, окрасив их в красный цвет. Гонсало Баэса прыжком вскочил на ноги, испуганный и растерянный, и почти тут же упал коленями в теплый песок, будучи не в состоянии сохранить равновесие. Все вокруг было залито необычным, зловещим светом. И тут лейтенант с изумлением увидел, что Гарса лишь приоткрыла глаза, слегка ему улыбнулась и вновь погрузилась в сладкий сон. Казалось, ее совсем не волновало, что свод небес вот-вот обрушится им на головы.
– Проснись! – в смятении закричал он. – Проснись! Землетрясение!
– Это не землетрясение, – нехотя отозвалась она; казалось, для нее не было ничего милее сна – после того как они предавались любви чуть ли не до изнеможения. – Просто у какого-нибудь вулкана расстроился желудок. Однако не волнуйся: пока мы остаемся на берегу, опасность нам не угрожает, никакой потолок на нас не обрушится. Спи!
– Спать? – оторопев, с недоверием переспросил ее любящий супруг. – Такого грандиозного зрелища я никогда не видел! Это что-то неслыханное! И ты хочешь, чтобы я спал?
– Если оно тебе так нравится, наслаждайся им, но не мешай мне спать, дорогой. Я это видела уже много раз.
«Наслаждение» – не вполне подходящее слово для описания того, что испытывал юный антекерец, наблюдая, как черный песок узкого пляжа, скрипя, ходит ходуном у него под ногами, а бескрайний океан, подобно зеркалу, отражает снопы света, которые испускают раскаленные камни, прорезая ночное небо. Их траектория напоминала широкую арку, один конец которой упирался в далекий кратер, а другой – в ту точку, где они с легким шипением падали в воду, вздымая к небу столбы пара.
Иногда огромные раскаленные глыбы следовали одна за другой, подобно тяжелым снарядам, пытающимся поразить вражеские корабли, а то вдруг появлялись сотни или, может, тысячи мелких огненных шаров, которые каскадом сыпались вниз, весьма успешно соперничая со звездным дождем, какой бывает в летнюю ночь святого Лаврентия[9].
Амансио Арес и Бруно Сёднигусто примчались со всех ног с другого конца пляжа, и они втроем восхищенно наблюдали за чудом, которое совершалось у них на глазах, – вероятно, вот так рождался мир в процессе длившейся миллионы лет яростной схватки огня, земли и воды.
– А что, если остров вдруг пойдет ко дну? – неожиданно спросил галисиец.
– Тогда он перестанет быть островом, дурачина, – тут же отозвался саморец.
– Вечно ты со своими подковырками. Мы подвергаемся опасности, лейтенант?
Тот лишь кивнул головой в сторону Гарсы, которая продолжала спокойно и мерно дышать, невзирая на яркий свет и невыносимый грохот.
– Она считает, что нет, а ведь она понимает в этом больше нас.
– Она что, и правда спит?
– Сном младенца.
Наверное, так оно и было, потому что на следующее утро девушка даже не вспомнила, что на несколько часов ее остров превратился в подобие преисподней. Только заметив густое облако пыли и почувствовав сильный запах серы, который пропитал атмосферу, она как бы между прочим заметила, что «видно, где-то произошло небольшое извержение».
– Небольшое?.. – не выдержав, воскликнул Бруно Сёднигусто. – Значит, если случится большое, оно одним махом забросит нас обратно в Севилью! Святой Боже!
– Я себя чувствовал так, словно сидел на стволе бомбарды, – в свою очередь пожаловался галисиец. – И кусок раскаленного угля упал в каких-то трех метрах от меня.
– Не знаю, чем вы недовольны! – ответила Гарса с самой ласковой и обворожительной из своих улыбок. – Вам посчастливилось стать свидетелями чуда, какого вы никогда прежде не видели, и при этом вы нисколько не пострадали.
– Но ты ведь не станешь отрицать, что это могло быть опасно, – проговорил ее муж, который все еще чувствовал себя не в своей тарелке.
– Опасность – это хорошо… – ответила ему островитянка с обезоруживающей непосредственностью. – Пока подвергаешься опасности, ты жив, так что лучше уж быть живым в опасности, чем мертвым вне опасности.
– Ну, если посмотреть на это так!..
Кто, конечно, ни за что бы с этим не согласился – так это разъяренный и почти доведенный до истерики капитан Кастаньос. Лагерь располагался очень близко от кратера, и в результате первого взрыва, всколыхнувшего округу, замечательный конь капитана насмерть перепугался и понесся вскачь. Он ринулся вниз по такому крутому и опасному склону, что остаться живым было абсолютно не возможно.
Исчезновение Аттилы, на котором капитан любил скакать галопом, чувствуя себя при этом могущественной и намного более значительной персоной, чем окружающие, будь то христиане или «дикари», без сомнения, стало для него страшным ударом. И все же эта потеря не шла ни в какое сравнение с катастрофическими последствиями непредсказуемых толчков, сотрясавших землю на протяжении той долгой роковой ночи.
Огромные кувшины, в которых готовили пурпуровую смесь или хранили мочу в ожидании, когда она разложится, были изготовлены из глины низкого качества. Поэтому они по большей части треснули и в итоге лопнули; их содержимое вылилось на землю, и лагерь превратился в вонючую трясину, где не то что шагу ступить, даже дышать-то было невозможно.
Так что первые лучи солнца осветили пейзаж в духе Данте, а уж человеку, впавшему в отчаяние при виде того, что богатства, которые почти были у него в руках, исчезли в мгновение ока, он и вовсе показался кошмарным.
– Не может быть! – ревел капитан, стегая хлыстом по всему, что попадалось ему на пути. – Не может быть! Проклятый адский остров!
Возможно – это только предположение, – какой-нибудь другой человек смекнул бы, что столь нежданное-негаданное бедствие было явным предостережением судьбы, однако упрямый капитан Диего Кастаньос не принадлежал к этой редкой породе людей. Он согласился принять назначение, которое казалось ему суровой ссылкой, в уверенности, что по возвращении превратится в богатого отставного военного, и никак не мог смириться с несчастьем, ни с того ни с сего свалившимся ему на голову.
Он обдумывал свое положение почти два часа, расположившись на той самой скале, которую неделями раньше занимал молодой лейтенант, а по прошествии этого времени отправился в то место – вдали от зловонного лагеря, – где его ожидали остатки отряда.
– Соберите бурдюки с краской, которые уже готовы, и все, что еще может сгодиться, – приказал он своим обычным непререкаемым тоном. – Поищем другой источник и начнем все сначала.
* * *
– Начать все сначала означало, что потребуется еще больше орхила, а главное, еще больше воды, и как раз в тот момент островитяне явили лучший на моей памяти пример благоразумия и послушания, – заметил генерал Гонсало Баэса. – Срочно собрался Совет старейшин, который пришел к выводу, что все дары испанцев только поссорили островитян между собой, а посему приказал незамедлительно и без всяких отговорок вернуть зеркала, бусы, кастрюли, лоскуты материи – все до последней вещи.
– Разумное решение! – не мог не признать монсеньор Касорла. – Ей-богу, весьма разумное!
– В тот день меня там не было… – сказал его собеседник. – Судя по тому, что мне рассказали, на это стоило посмотреть: мужчины, женщины, старики и даже дети один за другим проходили и молча складывали некогда такие желанные вещи к ногам капитана Кастаньоса, который отказывался верить своим глазам. Затем выступил вперед Бенейган собственной персоной и объявил, что отныне, если испанцам понадобится орхил, им придется добывать его самостоятельно.
– Во едреный корень!
– Подобное выражение не пристало духовному лицу, но в данном случае оно вполне уместно, дорогой друг, – согласился хозяин дома. – Я не сумел бы дать более краткое и образное определение, да еще такое точное. Желание обладать тем, в чем мы не испытываем надобности, зачастую ведет нас к пропасти, поэтому тут необходимо благоразумие, чтобы вовремя остановиться, все взвесить и вернуться в исходную точку.
– Жаль, что мне вечно не хватало смелости это сделать! – посетовал арагонец. – А ведь, должен признаться, возможностей было более чем достаточно.
– Никогда не поздно все исправить.
– Для этого надобно быть мудрым, так что, сдается мне, это вряд ли у меня получится.
– У меня тоже.
* * *
С севера, пересекая долины и ущелья, донеслась серия свистов, и где-то после часа такого общения – эффективного и непонятного для постороннего человека – Гарса передала лейтенанту суть «разговора» одной-единственной фразой:
– Твой капитан объявил предателями Короны тех, кто откажется собирать орхил.
– Бог мой!
– Что значит «предатель Короны»?
– А то, что этот сукин сын может «законно» преследовать, казнить, обращать в рабство или подвергать всякого рода пыткам и притеснениям кого захочет, не отчитываясь ни перед кем в своих действиях.
– Как закон может заставлять кого-то работать против воли?
Это был один из многих вопросов, на которые Гонсало Баэсе никак не удавалось найти ответа, а все потому, что, как это слишком часто случалось, речь шла не о «законе», а о том, как его преподносил человек, стоящий в тот момент у власти и желающий навязать свою волю.
Уединившись в пещере, где он столько дней пролежал раненый и впервые познал любовь самой чудесной девушки на свете, лейтенант вновь и вновь обдумывал план действий. Как сделать так, чтобы маленький остров опять стал тихим и уютным местом, каким был в самом начале, когда они сюда приплыли?
Радость улетела куда-то далеко, словно чайка, которую спугнули шпаги и копья.
Улыбки исчезли, брови нахмурились, звонкий смех уступил место приглушенному шушуканью.
Даже неизменно бодрый Бруно Сёднигусто был молчалив. У него явно имелись на то причины: уж кому-кому, а ему были отлично известны грязные приемы человека, под началом которого он служил не один год.
– Этот сукин сын добудет свой чертов орхил, даже если ему придется спустить с людей шкуру, – заключил он. – Я бы мог поклясться, что, орудуя хлыстом, он испытывает наслаждение.
И как раз в один из тех – невыносимо горьких – дней Гарса сообщила своему супругу сладостное известие: у них будет ребенок.
Вслед за первым взрывом радости возникла естественная тревога: какое будущее ожидает ребенка, который родится от слияния людей из таких разных миров, да еще в такое тяжелое время?
Поначалу антекерец представлял себе, как будет учить сына ловить судака или находить на небе главные звезды. Однако почти сразу же он спустился с небес на землю. Укромная бухта с прозрачной водой не сможет и дальше оставаться преддверием рая, пока существуют люди, которые повсюду, куда ни доберутся – хоть на самый что ни на есть последний утес на краю света, – норовят неправедно извлечь выгоду, притесняя ближнего своего.
* * *
– Иерро подарил мне такое счастье, какое я только мог пожелать… – сказал генерал, словно обращаясь к ветру, а не к своему собеседнику, – но в то же время он украл у меня веру в Бога и в людей; сладость и горечь в одинаковой мере, но ведь известно же, что мед быстро тает во рту, тогда как горечь разъедает тебя изнутри еще долгое время.
– Остров-то ни в чем не виноват.
– Виноват, виноват – я пришел к мысли о том, что он наделен душой, похожей на его истерзанную поверхность: черные скалы в соседстве с глубокими ущельями, зловещие вулканы – с тенистыми лесами, а утесы, о которые денно и нощно бьются огромные волны, – с тихими бухтами, где видно дно, находящееся на глубине двадцати саженей. Небо по соседству с адом.
– Любопытное описание и, как полагаю, точное, – с искренним восхищением заметил монсеньор Касорла.
– Надеюсь, что это так. Я несколько лет подыскивал слова, которые бы лучше всего выразили мое душевное состояние: я чувствовал себя так, словно меня посадили в бочку и столкнули с вершины холма. Страх и возбуждение настолько переплелись друг с другом, что я и сам не знал, молился ли я о том, чтобы меня остановила некая гигантская рука, или же мне хотелось мчаться вперед, пока не разобьюсь.
– А раз ты нашел слова, что же не запечатлел их на бумаге? – поинтересовался его старинный приятель. – Эта история заслуживает быть преданной гласности, хотя бы ради того, чтобы исключить возможность повторения подобных случаев. – Арагонец вытянул руки, раскрыв ладони, словно показывая невидимую книгу, и добавил: – Перед Короной стоит трудная задача: обратить в христианство новые народы по ту сторону океана, а у нас нет ни малейшего представления о том, как это осуществить, так что, думаю, твой опыт весьма пригодился бы.
– Твое предположение неверно, умоляю извинить меня за резкость и прямоту. Мы еще недавно были подчиненной нацией – и вот, пожалуйста, перешли в разряд властителей. А насколько мне известно, ни одна нация в процессе расширения своих границ ничему не научилась – ни на собственных ошибках, ни на чужих. Довольно часто удается приобрести могущество, но лишь изредка – мудрость.
– Опыт – вот что позволяет нам стать мудрее, а, как я начинаю понимать, в этой области у тебя его немало.
– Он всегда был самым горьким способом обучения, дорогой друг… – уверенно изрек генерал. – Чтобы принять счастье, тебе не нужен опыт: оно приходит, охватывает тебя, и ты не извлекаешь никаких выводов, по какой такой причине оно тебя избрало. Даже склоняешься к мысли, что ты его заслужил, а вот с невзгодами все по-другому: это глубокие раны, которые в итоге называют опытом, хотя на самом деле это просто шрамы.
* * *
Они заметили его приближение еще издали, поэтому капитан Кастаньос вышел ему навстречу в сопровождении двух своих верных цепных псов, злобных сержантов Фернана Молины и Каликсто Наварро, которые с явным вызовом держали руки на эфесе шпаги.
– Я же приказал тебе не возвращаться, пока не закончишь карту, Баэсуля, – с явной угрозой сказал обладатель раскатистого голоса. – И где же она?
– Сожалею, но вынужден возразить вам, капитан: вы запретили мне приближаться к старому лагерю, но ничего не сказали относительно родников… – Он показал рукой на пустые бурдюки, которые были перекинуты у него через плечо. – Нам нужна вода.
– А что это ты явился собственной персоной? – проворчал капитан, которого обескуражил быстрый ответ лейтенанта. – Куда подевались твои люди?
– Чертят карту, поскольку в этом деле они сильнее меня, особенно Амансио. – Антекерец изобразил самую простодушную из своих улыбок перед тем, как добавить: – Это будет произведение искусства, потому что могу вас заверить, что никогда не встречал человека, который бы выполнял свою работу так скрупулезно, как этот чертов галисиец. Так вы разрешите мне набрать воды?
Его собеседник помедлил с ответом, и несколько мгновений казалось, что он склоняется к тому, чтобы отказать. Однако, заметив, что и доминиканец, и Акомар, а также большинство солдат внимательно прислушиваются к разговору, капитан слегка кивнул, что могло означать, что он разрешает лейтенанту пройти.
– Валяй… – неохотно процедил капитан. – Но чтоб в следующий раз прислал кого-то из подчиненных: офицеру не пристало таскать воду.
– Нет более достойного занятия для офицера, чем печься о своих людях. Этим я как раз и занимаюсь, потому что на юге пересохли колодцы.
– А что же пьют туземцы?
– Это мне неизвестно… – честно ответил лейтенант. – Может быть, морскую воду.
– Даже дикари этого проклятого острова не в состоянии пить морскую воду, так что нечего тут молоть чепуху, – проворчал капитан; было заметно, что он изо всех сил старается сдержаться. – Наверняка у них имеются тайные колодцы, но, клянусь тебе, я их найду. А сейчас давай наполняй свои бурдюки и проваливай туда, откуда пришел.
Он уже было повернулся, чтобы направиться в свою хижину, когда лейтенант остановил его, подняв руку с раскрытой ладонью, и при этом сказал, заметно повысив голос:
– С вашего разрешения, я собираюсь кое-что сказать и хочу, чтобы все присутствующие это услышали и были свидетелями на тот случай, если наступит день, когда с нас спросят за то, что сейчас здесь творится. По словам старейшин, которые лучше всех знают остров, приближается великая засуха, а поэтому почтительно советую вам расходовать оставшуюся воду исключительно строго по необходимости, а не то вы поставите под удар жизнь наших людей.
Капитан сделал такое движение, будто выхватывает шпагу из ножен, и закричал чуть ли не с пеной у рта:
– Да как ты смеешь обсуждать мои приказы? Ты что, не знаешь, что я могу обвинить тебя в измене? Я дрался с маврами, когда ты еще был в пеленках.
– Я в этом не сомневаюсь, однако согласно уставу, который вам положено знать по вашему рангу, почтительный совет офицера своему командиру не может считаться изменой, а является оправданным и необходимым поступком в трудный момент. – Он обвел указательным пальцем всех присутствующих и добавил: – Что я и делаю в присутствии свидетелей.
Чрезмерная жадность не всегда предполагает чрезмерную глупость, вот почему рассвирепевший Диего Кастаньос, похоже, пришел к заключению, что в данной ситуации его известное упрямство ни к чему хорошему не приведет. Он закрыл глаза, сжал зубы и постарался успокоиться, приложив к этому все силы, как никогда в жизни.
От него не укрылось, что, начиная с той роковой ночи, когда разбились кувшины, солдаты стали роптать. Они были уже по горло сыты всей этой мерзостью – мочой и пурпуром, – отравлявшей им жизнь, в то время как надежда когда-нибудь получить обещанную баснословную прибыль казалась им весьма призрачной. Вот почему капитан только громко фыркнул, повернулся и зашагал прочь, а его пособники Молина и Наварро последовали за ним. На сержантских физиономиях было написано, что их тоже не устраивает то, какой оборот приняли события.
Первый обычно говорил об этом так: «Капитан теряет авторитет из-за всего этого дерьма, и народ начинает воротить нос», на что его товарищ отвечал: «Пока в конце концов не ткнут нас мордой в грязь!..»
Не успели они пройти и несколько метров, как солдаты подбежали и подхватили бурдюки, предложив наполнить их водой из родника. Некоторые робко похлопывали юного лейтенанта по плечу: этим жестом они тайком благодарили его за попытку хоть как-то покончить с беспорядком.
Большинство из них высадились на остров пять месяцев назад, опасаясь, что им придется столкнуться со свирепыми дикарями, притаившимися где-то неподалеку, – казалось, что здешний рельеф, суровый и пугающий, как нельзя лучше подходит для всевозможных ловушек. А вышло все наоборот: они встретились с горсткой приветливых и простодушных туземцев, которые позволяли водить себя за нос, снабжая их молоком, сырами, фруктами, упитанными свиньями и вкусными барашками в обмен на какую-то ерунду.
Этот тихий остров был прямо-таки пределом мечтаний для людей, уставших от кровавой реконкисты, которая длилась уже почти восемьсот лет. Поэтому они радовались жизни: смеялись, шутили и поздравляли друг друга, пока не узнали, что им придется сменить род занятий: отложить оружие в сторону и стать «красильщиками».
Даже само это слово не казалось им подходящим, поскольку, как говорили те, кто умел читать и писать (таких было немного), красильщик – это рабочий, который красит вещи, а этого как раз от них не требовалось.
Капитан хотел заставить их изготавливать краску для этих самых красильщиков, однако никто так и не смог придумать, как же называть тех, кто занимается столь диковинным ремеслом.
Мочиться в кувшины, стараясь не пролить ни капли мимо, было даже забавно, пока моча не протухла и не завоняла. А бродить по острову в поисках колодцев или источников воды, необходимой для увеличения производства пурпура, оказалось в какой-то мере интересно, пока один из них не сломал себе обе ноги и руку, свалившись в ущелье.
Остались в прошлом утренняя рыбалка и вечера, которые они проводили за игрой в карты, теперь они трудились по десять часов в день, занимаясь изнурительным делом в невыносимых условиях. Поэтому чаще всего в лагере приходилось слышать такую фразу: «Если это и есть королевская служба, тогда я – папа Римский».
Брат Бернардино де Ансуага и неугомонный Акомар явно были не удовлетворены. Поэтому они поспешно взяли Гонсало Баэсу под локоть, чтобы отвести в ближайший лесок, подальше от посторонних ушей.
– Того, что ты сказал, недостаточно, сын мой, – первым делом высказал ему доминиканец, постаревший чуть ли не на десять лет. – Это было замечательно, но недостаточно. Если капитан упорно держит тебя в стороне, то это потому, что он знает: ты единственный, кто может положить конец этому безумию.
– Воды остается все меньше, однако этот сукин сын по-прежнему упрямо стремится превратить ее в пурпур, и порой мне кажется, что в нем говорит уже не алчность, а гордыня… – в свою очередь заметил переводчик; в его словах звучала уверенность. – Он из тех, кто не терпит возражений даже со стороны Господа Бога, а в ту кошмарную ночь пропала большая часть добычи, стоившая ему стольких усилий, и это явилось слишком сильным ударом как по его кошельку, так и по всемогуществу.
– Значит, дело плохо, – угрюмо заключил антекерец. – Алчность иногда излечивается монетами, а вот от гордыни лекарства не существует, поскольку, если человек ею одержим, это уже до самой могилы.
– Тогда нам придется отправить его в могилу.
– Помни, о ком и с кем ты говоришь.
– Извините, лейтенант, однако, чем больше я узнаю Кастаньоса, тем больше убеждаюсь в том, что он не тот человек, на которого можно воздействовать словами. Судя по тому, что мне удалось выяснить, он заядлый картежник; на Лансароте просадил полковую кассу, и его вынудили принять это назначение. Выбор был прост: либо он также делает богатыми своих начальников, либо один отправляется на скамью подсудимых.
– Боже мой! – вырвалось у монаха. – Да эта новость многое объясняет. Если я в этой жизни кое-что усвоил, так это то, что игра и вино затуманивают разум даже у самых здравомыслящих, а здравомыслия у Кастаньоса – кот наплакал.
– Вы забываете про женщин, святой отец. Вот уж кто действительно затуманивает разум.
– Нет, сын мой, не забываю. Просто женщина может сделать сумасброда лучше или хуже, а вот игра и вино его только портят.
Они дошли до небольшой поляны, на которой стояли необтесанные скамьи и несколько столов, чтобы солдаты могли спокойно поесть подальше от лагерного зловония, и, устало опустившись на одну из них, антекерец произнес, обращаясь к Акомару:
– В конце концов, уже не важно, что подтолкнуло к этому капитана и почему был нанесен вред. Какие действия предпринимают туземцы?
– Они выжидают, словно уверены, что все произойдет само собой: спелый плод рано или поздно свалится вниз. Они поняли, что мы копаем себе могилу, и дают нам возможность заниматься этим и дальше.
– Ты тоже думаешь, что у них есть тайные колодцы?
– Кто может знать это лучше тебя? – ответил тот, словно удивившись нелепости вопроса. – Спроси у Гарсы.
– Она сказала, что дала обещание никогда не действовать в интересах своего народа мне во вред, также как ради меня – во вред своему народу. Я, со своей стороны, не стал возражать, сочтя такое решение справедливым.
– Оно и правда справедливо, – согласился брат Бернардино. – Единственная проблема заключается в том, что невмешательство обычно напоминает тростник: пока он молод, выдерживает натиск самых разных ветров, а состарившись, ломается и сдается самому сильному.
– В таком случае, святой отец, обещаю, что никогда не стану пытаться пересилить остальных.
12
Зелень больше не была зеленой. Вода обладает свойством размывать цвета, делая их блеклыми, но вот что касается зеленого цвета растений, то из-за ее нехватки он поневоле становится охрой, затем – бурым, а под конец – соломенным, который в результате исчезает, поглощенный безжалостным солнцем, на котором все выгорает.
Августовское солнце превратило Иерро в наковальню: его лучи яростно били по острову, начиная с рассвета и до того момента, когда оно скрывалось за западным мысом, который теперь назывался Орхиловым, и исчезало за последним из известных горизонтов.
Огромный огненный шар не спеша скатывался в никуда, давая передышку живым существам, однако не успевал воздух охладиться, как он вновь появлялся на востоке с новыми силами, чтобы помешать до конца остыть черной лаве, еще частично сохранившей тепло.
Его власть была столь велика, что даже упрямому капитану Кастаньосу пришлось смириться с тем, что природа уже во второй раз наносит ему поражение. Не было смысла заставлять туземцев таскать ему мешками драгоценный лишайник, раз у него все равно не осталось воды, чтобы превратить орхил в краску.
Ее едва хватало на то, чтобы худо-бедно обеспечить солдат, которым начало казаться, что самый непобедимый из противников решил принять участие в этой нелепой схватке.
Даже последний трус способен взять в руки оружие, отбиваться и контратаковать, отчаянно пытаясь защититься, что, случается, приводит к победе. Однако и храбрец из храбрецов не знает, как сопротивляться жажде, которая на протяжении истории слишком часто уничтожала сверхзакаленные и хорошо вооруженные армии.
В пустынях половины мира так и осталось лежать в песке оружие всех тех, кто погиб там от обезвоживания; перед глазами испанцев, высадившихся на остров, еще стояли огромные барханы, которые они видели вдали во время длинного и тягостного плавания, начавшегося в Севилье.
Африканский берег (Сахара! – одно это слово уже пробуждало ужас) располагался как раз напротив архипелага, и с этим ничего нельзя было поделать, невольно возникала мысль – иногда даже споры, с каждым разом все более ожесточенные, – о возможности истощения скудных водных запасов острова.
Команда баркаса, присланного полковником Сорией с грузом безделушек (на которые уже не находилось желающих), мучилась жаждой почти так же, как те, кто был на Иерро. Единственное, что они сказали, перетаскивая на борт своей обшарпанной посудины вонючие бурдюки с краской, – что это дурацкий способ понапрасну расходовать воду.
– Если бы мы выпили эту дрянь, наверняка вернулись бы на Лансароте писаными красавцами… – пробормотал один из них. – Только мертвыми.
Как только утлое суденышко отчалило, чтобы исчезнуть из вида в восточном направлении, оставшиеся на берегу вновь испытали тоскливое чувство, что их бросили на произвол судьбы на самом краю света. Разница, однако, заключалась в том, что теперь они сознавали, что им предстоит столкнуться не с враждебными, как предполагалось, обитателями сурового острова, а с гораздо более конкретной и ужасной опасностью: последний из их родников постепенно иссякал.
Они сели и стали смотреть, как струйка воды, от которой зависело их существование, с каждым часом становилась тоньше, в то время как кувшин, в котором они пытались ее сохранить, звучал, будто пустой. И вот в какой-то момент наступила тоскливая тишина, прелюдия самого большого из всех несчастий.
Пришло время обрушить проклятия на голову зарвавшегося капитана, который пустил под откос их жизни, смешав их с мочой.
С соседних склонов за ними наблюдали островитяне.
Как и говорил Акомар, те словно ждали, когда пришельцы в конце концов выроют себе могилу, а значит, предположение о том, что с водой у них все обстоит не так плохо, как у испанцев, оказалось верным. Конечно, они потеряли свои урожаи: посадки сожгло солнце. Пришлось зарезать часть скота и засолить мясо, но делали они это очень тщательно и выборочно, желая создать лучшие условия для особей с наибольшей способностью к производству потомства. Отобранных животных отвели на самые вершины, чтобы они пробавлялись скудным подножным кормом и не страдали от жары; недостатка в воде они, по-видимому, не испытывали. А прочих камнями загнали в нижние участки, где им перерезали горло, пока они не успели испустить последний вздох.
У туземцев явно был накоплен огромный опыт разумного использования всего того, без чего просто невозможно выжить. Понятно, что за столько поколений – несть им числа – они научились приспосабливаться к перепадам настроения здешней до крайности капризной природы.
А тут вдруг прибыли издалека какие-то сомнительные персоны, которые взяли и создали им лишние проблемы. Вот поэтому они, судя по всему, и заняли мудрую позицию, терпеливо выжидая, когда столь нежеланные гости раз и навсегда исчезнут с лица земли.
Кто не способен бережно относиться к их острову, не заслуживает того, чтобы жить на нем.
* * *
– Я начинаю понимать, почему ты ими так восхищаешься.
– Много же времени тебе для этого понадобилось. Они встали поздно, поскольку накануне проговорили чуть ли не до рассвета, а теперь поглощали обильный завтрак, приготовленный неутомимой Файной, здесь было и молоко, надоенное с первым лучом солнца, и свежемолотый гофио.
– Мне понадобилось меньше суток, приблизительно столько времени, сколько я здесь нахожусь, – внес уточнение монсеньор Касорла. – Хотя за это время ты наговорил больше, чем за все те годы, что я с тобой знаком, а их немало. И что же, туземцы действительно располагали достаточным количеством воды не только для себя, но также для того, чтобы выжила часть их скота?
– Получалось, что так, и это привело к тому, что проблем стало еще больше, поскольку капитан организовал отряды, поставив перед ними задачу перевернуть на острове хоть все камни, но выяснить, как же, черт побери, удается раздобыть воду тем, кого он по-прежнему считал «чистыми дикарями». – Генерал налил молока, добавил гофио и немного меда в мешочек из кроличьей шкуры и начал не спеша месить тесто, словно это спокойное занятие приносило ему особое удовлетворение. – Кастаньос пришел к выводу, что водонакопители должны были находиться на дне некоторых пещер: на склонах гор открывались входы в них, – поскольку, на его взгляд, они образовались в период дождей… – Он несколько раз кивнул головой, прежде чем добавить: – Если честно, я тоже был уверен, что так оно и было – что островитяне использовали то, что здесь называют «водные галереи»: до них можно добраться, буря склоны Тейде. Они возникают, когда зимние снега просачиваются сквозь проницаемые почвы, но задерживаются в каменном слое, через который им не удается пробиться.
– Я слышал об этом и, признаюсь, тоже первым делом о них подумал.
– Вот поэтому солдаты проникли в бесчисленное множество гротов, но ничего не нашли, пока наконец практически по чистой случайности не обнаружили одну пещеру, вход в которую был завален огромными камнями. На одном из них был высечен символ богини Танит: круг, пересеченный горизонтальной линией, который как бы удерживается в равновесии на треугольнике, хотя иногда треугольник может быть заменен трапецией.
– Разреши мне хотя бы раз блеснуть знаниями… – взмолился прелат. – Если не ошибаюсь, Танит – это богиня-покровительница Карфагена, ипостась финикийской Астарты, почитаемая берберами и даже обитателями Ибицы. – Он сделал короткую паузу, а затем не без гордости добавил: – И если мне не изменяет память, ей начали поклоняться за пять столетий до Христа.
– Меня радует, что ты разбираешься в том, о чем я тебе рассказываю. Как мне удалось выяснить, Танит являлась божеством, от которого зависели природные циклы и плодородие земли, но также плодовитость животных и людей, и ее власть распространялась и на недра, то есть преисподнюю, на здоровье и на смерть… – Хозяин дома, продолжая месить гофио, заключил: – Что подтолкнуло капитана к мысли о том, что в этой глубокой пещере островитяне прячут свои водосборники.
– А разве тебе не пришло бы в голову то же самое?
– Конечно, особенно в тот момент, когда три человека собрались туда войти и старый Тенаро сказал им, чтобы они этого не делали, потому что, мол, это «проклятая пещера, из которой никто никогда не возвращался».
– Однако они не поверили…
– Не то слово. Выставили его оттуда взашей, а капрал с двумя солдатами, взяв с собой факелы, отправились внутрь; на самом деле это была не пещера, а скорее лавовый канал.
– Вот тут ты меня подловил! – неохотно признался арагонец, который до этого момента испытывал довольство собой: вон сколько всего ему известно о богине Танит. – Что это еще за «лавовый канал»?
– Он образуется во время извержения вулкана, когда кипящая лава устремляется вниз по склону. Сверху при соприкосновении с воздухом она остывает, а нижние слои продолжают стекать в море, оставляя после себя что-то вроде гигантской сети туннелей, порой протяженностью несколько километров. Со временем сверху накапливается земля, и какой-нибудь из них может засыпать, но другие, как в данном случае, выдерживают давление и остаются невредимыми.
– С тобой я всегда узнаю что-то новое, а эта тема меня особенно интересует. Только перестань мять этот треклятый мешок, ты заставляешь меня нервничать.
Собеседник с улыбкой повиновался и стал с видимым удовольствием понемногу откусывать от колобка, слепленного из массы, напоминавшей малоаппетитную коричневую замазку.
– Хочешь немного?.. – предложил он.
– Лучше умереть.
– Очень вкусно. Это Гарса показала мне, как добиться нужной густоты и вкуса.
– После того что ты мне рассказал, я испытываю огромное восхищение перед этой красивой, умной и решительной женщиной, однако, если ты не против, в кулинарных темах я отдам предпочтение Файне. Что же случилось с солдатами?
– Они так и не вернулись обратно. Ни они, ни двое других, которых на следующий день отправили на поиски; капитан выбрал их среди бывших заключенных, которым предоставили свободу в обмен на службу в армии. Вероятно, он решил, что, если кому-то еще суждено погибнуть, пусть это будут преступники.
– А почему они тоже не вернулись?
– В тот момент я не мог найти какого-либо объяснения, поскольку даже островитяне не знали, в чем дело. Однако спустя годы выяснилось, что в лавовом туннеле скапливались газы почти на уровне земли. Они не воспламенялись и не имели никакого запаха, поэтому тот, кто продвигался по туннелю, ничего не чувствовал до тех пор, пока не становилось слишком поздно – человек терял сознание. Старик Тенаро был прав: из этой пещеры никто не возвращался.
– Так поэтому в качестве предупреждения об опасности на входном камне вырезали символ богини Танит?
– Может быть! Гарса рассказала мне, что на острове имеется еще несколько подобных символов, однако, по словам ее бабки, «они появились до прибытия первых людей». Думаю, их оставили финикийцы, когда приплыли туда в поисках орхила, то есть, вероятно, еще до того как завезли рабов.
Монсеньор Касорла отодвинул тарелку в сторону, долгое время сидел в задумчивости, несколько раз подряд тряхнул головой, будто хотел показать, что услышанное произвело на него неизгладимое впечатление, и спросил, словно обращаясь к себе самому и не надеясь получить ответ:
– То есть две тысячи лет назад эти шельмецы финикийцы уже знали, что на острове, расположенном на краю света, существует проклятая пещера? Вот продувные бестии!
– Что за манера выражаться, Алехандро!.. Да еще в присутствии дамы.
Старая Файна в замешательстве невольно огляделась по сторонам и пожала плечами, как бы давая понять, что хозяин повредился рассудком.
– Про даму – это обо мне? – поинтересовалась она.
– А что, разве здесь есть другая?
– А ну вас!
Она вышла из комнаты, громко хлопнув дверью, и прелат рассмеялся:
– Тебе следовало бы вести себя осторожнее и не задевать ее, а то гляди, как бы не плюнула тебе в суп. Моя кухарка обычно так и поступает.
– Файна на такое неспособна… – Генерал вновь откусил от своего колобка-гофио, а затем добавил: – Надеюсь… Как думаешь, сможешь продержаться в седле пару часов? Мне хотелось бы отвезти тебя в одно необычное место.
– С учетом того, что я растолстел, держаться придется лошади.
* * *
Было известно, что островитяне собирают воду в так называемые эрэ. Эти водосборники представляли собой не что иное, как углубления в водонепроницаемой почве у подножия склона, предварительно очищенного от камней и растительности, чтобы ничего не мешало дождевым потокам скатываться вниз. Однако в середине августа испанцы, чьи скудные запасы воды стремительно подходили к концу, как ни пытались, не сумели обнаружить ни одного из таких вот эрэ.
Тем не менее каждое утро Гарса появлялась с небольшим бурдюком, чтобы утолить жажду своего мужа, Бруно Сёднигусто и Амансио Ареса, пока однажды лейтенант не отказался пить: он чувствовал себя преступником, поскольку в лагере соотечественники начали испытывать серьезные трудности из-за нехватки столь необходимого для жизни вещества.
– Я знаю, что они наломали достаточно дров… – сказал он. – Но ведь это не дает твоим людям права вести себя так бесчувственно: они спокойно смотрят, как умирают эти парни, и в то же время не дают подохнуть скотине.
– Если бы скотина подохла, мы все – мужчины, женщины и дети – не сегодня завтра погибли бы, – невозмутимо ответила девушка. – А если бы мы начали снабжать водой испанцев – каждый из них потребляет, сколько четверо наших, – скоро вообще никому не хватило бы.
– И вы дадите им погибнуть?
– Это зависит только от Бога.
– Не думаю, что Бог каким-то чудом обеспечивает вас водой, – уверенно заметил Гонсало Баэса. – Откуда вы ее берете?
– Ты же знаешь, что я люблю тебя больше жизни, и, если бы с тобой что-то случилось, я бы предпочла перестать дышать, но этого я тебе сказать не могу, – твердо, хотя и не резко, прозвучало в ответ. – Я, не колеблясь ни минуты, отдала бы за тебя жизнь, и единственное, о чем я тебя прошу, – не вынуждай меня выбирать между остальными испанцами и моим народом.
– Я никогда не стал бы этого делать.
– Тогда убеди своего неразумного капитана покинуть остров.
– Как? – поинтересовался лейтенант, который безуспешно ломал голову над поистине неразрешимой проблемой. – Корабль со сменным гарнизоном прибудет лишь через несколько месяцев.
– Не знаю, – ответила девушка. – Однако, если бы Кастаньос со своими сержантами покинул остров, вполне возможно (я в этом не вполне уверена), что мне удалось бы убедить Бенейгана помочь остальным твоим людям продержаться какое-то время.
– Сколько времени?
– Этого я тоже не знаю, но если бы людям, которые создали здесь такую невыносимую обстановку, удалось добраться на лодке до Гомеры, они могли бы вернуться с помощью. Рыбаки на севере видели три больших корабля, которые туда направлялись.
– Что это были за корабли?
– Громадные, с большими белыми парусами.
– На Гомере есть испанцы, – нехотя был вынужден согласиться Гонсало Баэса. – И насколько я понял, на этом острове почти никогда не бывает проблем с водой, но сомневаюсь, чтобы Кастаньос, зная об опасностях, с которыми ему пришлось бы столкнуться, на это согласился.
– Большей опасности он подвергается – и худшей смерти, – оставаясь здесь.
– Даже в этом случае он предпочел бы отправить других.
– Так не пойдет. Заставь его!
– Ты что, сошла с ума?
– Разве это безумие – попытаться спасти отца моего ребенка и дать шанс на спасение нескольким парням, обреченным на самую страшную из смертей? – спросила несчастная девушка; было заметно, что она действительно удручена. – Ни Бенейган, ни Тенаро, ни самая сердобольная старушка не дадут им ни капли воды, пока капитан остается на острове.
Она была права, и ее супругу это было известно: для туземцев Кастаньос явился своего рода воплощением того самого кровожадного Ласаро, жестокого наемника на службе у норманнов, причинившего столько вреда их предкам; алчность, безрассудство и самонадеянность капитана принесли им несчастья, смерть и разрушение. Поэтому, естественно, они не были настроены выказывать какое-либо сочувствие ни ему, ни его людям, считая, что однажды те могут вновь приняться за старое.
Антекерец понимал, что капитан все еще остается его командиром, тем не менее придется-таки выбирать между возможной гибелью в море нескольких нежелательных личностей и верной смертью на суше многих невинных людей, в том числе бедняги монаха.
Случаются такие ситуации, в которых не хотелось бы оказаться никому, вот это был как раз тот случай. Ведь какое бы решение он ни принял, все равно будет считаться предателем: либо придется нарушить присягу, либо предать тех, кто оказался на краю гибели, потому что в нужный момент ему недостало мужества выступить против командира, не оправдавшего своего звания.
Гарса, похоже, поняла, что ее измученному супругу надо все обдумать, поэтому она оставила его наедине со своими мыслями в скудной тени куста, уже сбросившего все свои листья. И тут точно из-под земли вырос тот, кто теперь полностью оправдывал свое прозвище, поскольку исхудал и загорел до такой степени, что стал смахивать на ходячие мощи.
– Черт тебя побери, Ящерица! – сердито воскликнул его командир. – Как же ты меня напугал!
– Сожалею, мой лейтенант, но ради вашей матери, если она еще жива, умоляю, дайте немного воды.
– Разве не ты хвастал, что грабитель с большой дороги способен выжить где угодно? – поддел его лейтенант, пренебрегая вежливостью. – Сдается мне, что тебя надолго не хватит.
– Так то ж была Сьерра-Морена, а не это пекло, где от солнца в голове все плавится.
– И то правда: жарища, да еще столько камней из черной лавы – наши головы, можно сказать, сунули в топку. – Гонсало Баэса окинул его долгим взглядом, в котором угадывалось сострадание: парню явно пришлось несладко, – однако все же отрицательно покачал головой: – Мне жаль, но у меня тоже нет воды.
– У твоей жены есть.
– Самый минимум, только для своей семьи. Пойми, не могу же я просить, чтобы она отняла воду у родных и отдала ее дезертиру.
Бывший грабитель с большой дороги, похоже, согласился со справедливым замечанием лейтенанта, попытался облизнуть растрескавшиеся губы, а затем сказал:
– Предлагаю вам соглашение: если вы раздобудете мне кувшин воды, я вам скажу, где берут воду островитяне.
– Я весь во внимании.
– Сначала вода.
– Сначала твоя история, и если я в нее поверю, то достану тебе кувшин воды, даю слово.
Парень обдумал ответ, понял, вероятно, что молчание ничего не даст, и наконец сказал, пожав плечами:
– Согласен! Хотя язык у меня стал суше, чем сердце капитана Кастаньоса, поэтому не знаю, дойду ли до конца. – Он перевел дыхание, прежде чем добавить: – На восточном берегу – там, где скалы обрываются в море почти отвесно, – существует каменистый пляж, на который ведет такая тропинке, что просто дух захватывает, а эти бестии островитяне снуют туда и обратно, будто это столбовая дорога. Как мне удалось узнать, источник называют «ико́та», что на их языке значит что-то вроде «выброс воды», хотя подобраться к чертовой струе можно только во время отлива.
– Я тебе не верю!
– Ваше право, но это правда, – ответил Ящерица, целуя ноготь мизинца. – Клянусь вам! Однажды я увидел издали десятка два женщин, которые спускались по скале с пустыми бурдюками, а возвращались с наполненными. Поэтому я сказал себе: если им нужна соленая вода, есть и более доступные места, где можно ее набрать. Я спрятался наверху и заметил, что в течение дня они только тем и занимались, что ловили рыбу или купались нагишом, но как только вода спала, отправились наполнять свои бурдюки под струей, которая била из отверстия в скале и до того момента не была видна.
– Это самая невероятная история, которую мне когда-либо приходилось слышать.
– Надо думать! Однако меня мучила жажда, поэтому как-то раз в полнолуние я решил спуститься, рискуя сломать себе шею, подождал, пока море отступит, и действительно – из отверстия в скале бил родник, который, вероятно, берет начало на одной из главных вершин острова, поскольку находится как раз у подножия. Я напился вдоволь. Однако вода была слишком соленой, поэтому на ней, как мне кажется, можно продержаться от силы неделю.
– И что же из этого следует?..
– Подозреваю, что ее смешивают с другой, хорошей, и таким образом удваивают количество. Они изворотливые, эти пройдохи островитяне. Находчивые, черти!
– Откуда же они берут хорошую воду?
– Вот этого я не знаю. Я несколько раз пытался за ними проследить, однако они все время меня обнаруживают и начинают швыряться камнями… – Он показал рану на левой ноге: на ней еще была видна корка запекшейся крови. – А какие они меткие, сукины дети! Не убережешься – того и гляди, проломят башку.
– Хорошо… – Антекерцу ничего не оставалось, как согласиться. – Твой рассказ не лезет ни в какие ворота, но на этом острове творятся такие чудеса, что меня уже ничего не удивляет. Будет тебе вода… – На этот раз он пристально поглядел на бедолагу и спросил: – И что ты теперь собираешься делать?
– Поступаю в ваше распоряжение.
– Тогда у меня не будет другого выхода, кроме как тебя повесить, а на моей совести и так слишком много смертей.
– Уверяю вас, что лучше уж болтаться на веревке, чем умереть от жажды.
– Возможно, ты и прав, только если не мне выпадет быть судьей или палачом, потому что, когда доходишь до такого состояния, при котором готов допустить, что даже такие сомнительные поступки, как дезертирство или предательство, можно оправдать, все остальное теряет смысл. – Он кивнул в сторону мужчин, женщин и детей, которые бродили по берегу и совсем не походили на восхищенных туземцев, которые однажды встретили их с распростертыми объятиями. – Взгляни-ка на них! – сказал он. – За считаные месяцы мы превратили их в тени тех, кем они были когда-то, разрушая уклад, который существует уже более тысячи лет.
Боже праведный! Как же это отвратительно – то, что я принимаю участие в подобном преступлении!
Он действительно испытывал негодование, поскольку в душе желал только одного: вернуться в те безмятежные и незабываемые дни, когда он был так счастлив рядом с самым нежным и чудесным созданием, какое только можно себе представить.
Если бы ему предложили выбирать, он отдал бы пятьдесят лет жизни во дворце в любой части света за двадцать лет жизни на острове, только бы видеть, как его дети бегают за крабами в этой уединенной бухте, купаться с ними в море и проводить ночи в простой пещере, чувствуя рядом пьянящий аромат и легкое дыхание Гарсы.
Лейтенанту Гонсало Баэсе довелось познать счастье, когда он был совсем молодым человеком, однако при этом его не миновала чаша страданий, ибо счастье прямо на глазах исчезало по вине некоторых людей, обладающих странной способностью обращать в прах все, чего ни коснутся, включая даже рай.
Как однажды кто-то сказал: «И небо не выдержит, как только там окажутся вместе тридцать человек».
Только небольшое сообщество, как у островитян, которое располагало лишь самым необходимым для выживания и в котором никто не стремился выделиться среди других, могло претендовать на настоящее счастье – просто потому, что в нем нечем было питаться честолюбию и алчности.
По мнению остального мира, островитяне были неимущими. Однако на самом деле у них было все, пока кое-кто не сообразил, что крохотный лишайник, растущий в недоступных местах на берегу и почти невидимый для человека, не обладающего способностью улавливать блеск золота даже там, где золота никогда и не было, сведет с ума некоторых безмозглых гордецов и те заплатят за обладание плащом необычного цвета, лишь бы только выделиться среди прочих смертных.
Просто невероятно, сколько всего могут напридумывать люди и до чего они доходят. Как же с этим бороться?
13
Антекерец рассудил, что, прежде чем выступить посредником, следует заручиться согласием Бенейгана и его советников. Поэтому в тот же день «длинные пересвисты» пересекли остров из конца в конец, уточняя день, место и время проведения очередной «Мирной конференции». Необходимо было найти такое решение, которое устроило бы и островитян, и испанцев. Бруно Сёднигусто и Амансио Арес были возмущены тем, что лейтенант отказывается взять их с собой, и, только когда он непривычно твердым тоном напомнил, что, хотя они и стали добрыми друзьями, он все еще остается старшим по званию и его «нет» следует считать приказом, они были вынуждены подчиниться. Уже то, что он созвал собрание за спиной своего непосредственного начальника, можно было расценить как заговор, и он совсем не желал, чтобы его подчиненные оказались причастными к делу, в котором решение принимал он один.
Лейтенант Гонсало Баэса осознавал, что с того момента, как он отправится к месту встречи, назначенной около Большого Можжевельника, обратного пути уже не будет, и впоследствии ему, скорее всего, придется предстать перед военным трибуналом.
Если «дикари» откажутся дать воду христианам, бывшим при последнем издыхании, они будут объявлены врагами Короны, и тот, кто отважится вступить с ними в сношения, рискует попасть в тюрьму.
А все потому, что из Севильи или Толедо это видится по-другому, нежели из затерянной бухты острова Иерро, особенно если в роли обвинителей выступят такие непорядочные люди, как капитан Кастаньос или полковник Сория.
«Да хранит меня Пресвятая Дева!»
Гонсало Баэсу все еще одолевали тяжкие сомнения, но, поскольку решение было принято и путь назад заказан, он отправился на встречу в компании одной только Гарсы, как всегда отважной, которая должна была выступить в роли переводчика. Где-то примерно через час из зарослей кактусов неожиданно вынырнул Ящерица.
– Не ходите дальше по этой тропинке, а то нарветесь на патруль, который охотится за Акомаром, – предупредил он. – Им командует сержант Молина, и я знаком с теми, кто его сопровождает. Это вам не честные разбойники, это головорезы, которых Кастаньос вырвал из рук палача.
– А с чего это вдруг они гоняются за Акомаром?
– Он перешел на сторону туземцев… – услышали они в ответ волнующую новость. – Вы не могли бы дать мне глоток воды?
– Только один.
– За два я проведу вас верной дорогой… – Человечек предостерегающе поднял палец, прежде чем добавить: – И еще два, когда взберемся наверх, потому что, пока вскарабкаешься по этим скалам, сто потов сойдет.
– Ладно! Что же произошло с Акомаром?
– Так как он отлично плавает, ему удалось добраться до самого большого из Лос-Рокес[10], где, как я предполагаю, он питается кровью гигантских ящериц. У них холодная кровь, что помогает утолить жажду; я вот держусь благодаря ей и соленому источнику.
– Ну, это не слишком тебе помогло… – заметил командир, окинув парня взглядом. – От тебя остались кожа да кости.
– Просто здешние ящерицы мельче и юркие, как черти…
– А ты не позволяй им убегать, – с легкой улыбкой вмешалась Гарса.
– Как это?
– Понаблюдай, на каком камне они обычно греются на солнце, вспугни их и помажь камень смолой вот этих кустов. Потом отойди, подожди, и, поскольку ящерицы всегда возвращаются на территорию, которую считают своей, лапки у них прилипнут, а тебе удастся без труда их поймать.
– Ловкий трюк!.. – согласился парень и, обращаясь к своему бывшему командиру, слегка кивнул в сторону девушки: – Меня не удивляет, что она вас подцепила, лейтенант, вон она какая ушлая.
– Сейчас ты у меня схлопочешь! И давай двигай, путь-то неблизкий.
Путь действительно оказался долгим и трудным, однако, как ни странно, мужчинам он дался труднее: оба задыхались, ругались и то и дело останавливались передохнуть. Можно было подумать, что в жилах девушки течет кровь козы: Гарса так ловко и легко взбиралась по кручам, что нипочем нельзя было догадаться, что она вдобавок еще и беременна.
Гарса перескакивала с камня на камень, необычайно цепко хваталась за самые невероятные выступы, и было ясно, что с самого раннего детства она только и делала, что носилась вверх-вниз по крутым склонам, рискуя сломать себе ноги.
– Вы только подумайте, мой лейтенант! Вы только подумайте! – время от времени, отдуваясь, приговаривал худосочный дезертир. – В Сьерра-Морене она бы разбогатела, грабя путников, поскольку фиг с два ее кто-нибудь поймал бы.
– Да замолчи ты, я совсем выбился из сил! – запротестовал его спутник. – И не несись так, милая, а то ты нас совсем загонишь.
Расстояние по прямой не превышало десяти километров, но склон был таким крутым, что временами они оказывались чуть ли не над пропастью. Поэтому антекерец не выдержал и начал ругать дезертира на чем свет стоит: мол, у них было больше шансов остаться в живых после столкновения с Фернаном Молиной и его подручными, нежели добираясь до вершины по этой чертовой «верной дороге».
– Хотел бы я знать, что ты считаешь опасной дорогой, дубина… – пробормотал он в тот момент, когда камень слегка коснулся его головы и, отскочив, упал на сто метров вниз и разлетелся на куски.
– Любую, на которой мы могли бы столкнуться с сукиными детьми, мой лейтенант.
* * *
– Вон виднеется ущелье, в нем хитрый менсей Бенкомо[11] задал нам изрядную трепку; это была настоящая бойня, на моей памяти одна из самых кровавых. Однако спустя восемь месяцев мы вернулись на то же место и одержали великую победу, сломив сопротивление гуанчей на Тенерифе, а значит, и на всем архипелаге. В тот же день сам аделантадо[12] Алонсо де Луго произвел меня в майоры.
– Так это здесь состоялись знаменитые битвы при Асентехо?[13] Бойня и Победа?
– Вот именно!
– Полное поражение и полная победа в течение одного года… что и говорить, судьба капризна.
– Думаю, так оно и есть: Бенкомо после его самой большой победы была уготована худшая из смертей; в этот промежуток и ребенок бы не успел родиться. Жаль его: умный был человек, гордый и смелый, и не заслужил той участи, которая его постигла.
– Правильно, противником следует восхищаться и отдавать ему дань уважения, когда он того заслуживает… – изрек монсеньор Касорла, спешившись и грузно повалившись на землю у подножия сосны. – Это правило действует на полях сражений, а вот в политике, увы, не бывает такого, чтобы ты кем-либо восхищался, даже самим собой.
– Невысокого же ты мнения о деле, которым занимаешься, – поддел его Гонсало Баэса. – Только и знаешь, что его поносишь.
– Моим настоящим призванием было служение Господу, хотя вынужден сознаться, что на каком-то повороте пути, сам того не заметив, я переменил господина. Я попытался убедить себя в том, что «на новом, весьма ответственном посту» лучше исполню свою миссию, однако со временем осознал, что пекся не об исполнении миссии, а об удобстве, поскольку из служащих перешел в разряд обслуживаемых.
Его старый друг в свою очередь тоже слез с лошади, чтобы устроиться рядом, и, подмигнув, протянул ему бурдюк:
– Я вовсе не собираюсь тебя осуждать, поскольку тоже предпочитаю быть отставным генералом, нежели лейтенантом на действительной службе… Хочешь глоток?
Прелат не заставил себя упрашивать, от души напился, вытер подбородок тыльной стороной ладони, вернул бурдюк и проследил за тем, как генерал поднял его над головой, чтобы вино потекло в рот струей, и только тогда возразил:
– Я чувствовал себя счастливее, будучи приходским священником, а не придворным прелатом. Полагаю, что точно так же влюбленный лейтенантик был счастливее вдового генерала.
– И кто только тянет тебя за язык? – парировал собеседник. – Как так получается: чтобы человек, привыкший столько врать, вдруг взял и сказал правду?
– Должно быть, по оплошности… – тут же нашелся прелат, подстраиваясь под его тон. – Сожалею, что задел твои чувства, но ведь наша дружба сохранилась благодаря искренности. Какой смысл подрывать ее основы? Когда-то любовь к Богу была во мне столь же сильной, как в тебе – любовь к Гарсе, однако разница между нами состоит в том, что ты хранишь ей верность, даже зная, что она умерла, тогда как я изменяю ему, даже осознавая, что он существует.
– И это тебя огорчает.
– Раздражение, охватывающее ум, обычно бывает намного более едким, чем желчь, поэтому отставим в сторону мои личные проблемы. Расскажи-ка мне, добрались вы до места встречи или нет.
– Добрались просто чудом, потому что, когда оставалось пройти еще приличное расстояние, нас окружил, как это часто бывает на вершинах архипелага, такой густой туман, что мы и в пяти шагах едва различали друг друга.
– Туман на вершинах и засуха на берегу!.. – не выдержав, воскликнул прелат; он протянул руку, взял бурдюк и вновь к нему приложился. – Поразительно!
– Не то слово! – согласился собеседник. – За какие-то несколько минут мы перестали обливаться потом, и нас начала пробирать дрожь. К этому привыкаешь, живя здесь, потому что, сам видишь, если бы легконогий козопас спустился бы со снежных вершин Тейде, где он рискует умереть от холода, на берег моря, где существует опасность умереть от жажды, дорога заняла бы у него всего пару часов.
– Но ведь Иерро намного меньше Тенерифе.
– По площади составляет пятую его часть, но по высоте – третью, то есть эффект примерно тот же самый, поскольку облака, приходящие с северо-запада, наталкиваются на вершины и сползают к берегам, образуя что-то вроде белоснежного водопада, прилипшего к склонам скал. Когда такое случается, появляется надежда, что они разгрузятся, выпустив из себя воду. Но нет, мало-помалу они начинают редеть, пока не исчезают, убивая всякую надежду на дождь, и тут вновь проглядывает солнце, горя желанием тебя испепелить. Тем не менее в тот день не произошло ни того, ни другого: туча не опорожнилась, солнце не выглянуло, – поэтому мы оказались окутаны ледяным ватным одеялом, из-за чего у нас зуб на зуб не попадал. Кончилось все тем, что проворный Ящерица выпил два обещанных ему глотка воды и скрылся из виду, устремившись вниз, где было теплее. – Генерал Гонсало Баэса взял бурдюк с вином, в результате чего тот убавил в весе еще больше, и, утолив жажду, пожал плечами, словно соглашаясь с тем, что решение дезертира было абсолютно верным. – И правильно сделал, потому что бедняга настолько обессилел и был так истощен, что, если бы он остался на вершине еще на какое-то время, я бы мог его вычеркнуть из числа живых.
– Он посмел бросить вас одних?
– Уж лучше быть одним, чем в компании мертвеца. Мы и без него могли добраться до Большого Можжевельника, и можешь мне поверить, появление этого необычного дерева в густом тумане было одним из самых поразительных зрелищ в моей жизни. Его искривленный ствол вымахал на двухметровую высоту и, начиная оттуда, наклонялся почти под прямым углом, ветви вытянулись параллельно земле, и удивительнее всего было видеть огромного козла, который упирался передними ногами в самые нижние ветки и, удерживаясь в равновесии, общипывал верхние. Это смахивало на дьявольское наваждение, и, если бы не холод, я бы поклялся, что мы попали в ад.
– Либо у тебя разыгралась фантазия, либо сей остров – шкатулка с множеством сюрпризов… – пробормотал арагонец и бросил на спутника косой взгляд, желая тем самым показать, как сильно он сомневается. – Твоей абсурдной истории недоставало только дьявола в козлином обличье!
– История вовсе не абсурдна, и я не думаю, что это был дьявол, потому что собственноручно перерезал ему горло ударом шпаги. Мы развели замечательный костер из ветвей можжевельника и, так как с наступлением сумерек туман рассеялся, провели незабываемый вечер, до отвала наевшись козлятины, наблюдая за звездами и выбирая нашему будущему ребенку имя, которое было бы приятно для слуха как туземцев, так и христиан. А это, клянусь Богом, было непросто!
Антекерец прислонился к стволу сосны и устремил взгляд в небо. Не требовалось особого ума, чтобы догадаться, что мыслями он где-то далеко, в воспоминаниях об одном из самых счастливых моментов своей жизни. Наконец едва слышным шепотом он произнес:
– Если бы мой сын родился, его бы звали Гароэ.
14
– Но это имя мальчика или девочки?
– Годится для обоих.
– А что оно значит?
– Узнаешь, когда придет время.
* * *
– Так нечестно! – запротестовал Гонсало Баэса, протянув руку и погладив округлившийся живот своей возлюбленной. – Я предложил Абель, как звали моего деда, или Леонор, как мою мать, но ты настаиваешь, чтобы это был Гароэ, тогда как в твоей семье ни у кого – ни среди мужчин, ни среди женщин – нет такого имени.
– Гароэ – это не человеческое имя, и малыш, который уже начинает шевелиться, станет первым, кто будет его носить.
– Если это не человеческое имя, тогда откуда оно взялось?
– Так называется самое большое чудо, существующее на земле… – Гарса положила ладонь на руку своего супруга и с бесконечной нежностью провела ею по своему телу. – В тот день, когда ты его увидишь, ты со мной согласишься.
– А если не соглашусь?
– Назовем его Абель, как твоего деда… – уступила она, целуя его в мочку уха. – Или Леонор, как твою мать.
– Я начинаю думать, что Ящерица был прав – и ты плутовка, которая очарует кого угодно…
– Мне неизвестно, что значит это слово.
– А тебе и не нужно этого знать… – тут же прозвучало в ответ. – «Ты» и есть это слово. Ты очаровала меня в момент нашего знакомства и продолжаешь очаровывать каждым словом, каждым жестом, даже когда спишь.
– Это значит обманывать?
– Это значит украсть волю того, кто желает, чтобы ее украли, потому что начиная с того дня, как ты меня очаровала, я желаю лишь одного – чтобы ты продолжала делать это и дальше.
– А что будет, когда нам придется расстаться? – поинтересовалась Гарса, и по тону ее голоса чувствовалось, что ей тоскливо даже при мысли об этом.
– Мы никогда не расстанемся.
– Но ведь корабль со сменой прибудет раньше, чем родится ребенок.
– Я не уеду, – заверил ее антекерец, убежденный в том, что говорит. – Что бы ни произошло, я никогда тебя не оставлю, потому что за пределами острова или вдали от тебя уже не существует ничего такого, что представлялось бы мне важным.
– Ты же сам мне рассказывал, что военный человек всегда обязан делать то, что прикажут.
– Нет, если все утрясется и вернется в нормальное русло, – заметил ее супруг, стараясь выглядеть как можно решительнее. – Тогда я смогу подать рапорт об отставке и надеяться, что у моей семьи достаточно связей в армии, чтобы мою просьбу удовлетворили.
– И тогда тебе больше не придется подчиняться капитану Кастаньосу?
– Я буду подчиняться только тебе.
– Вот это мне по душе.
Они предались любви и забылись сном, а покой их стерегли миллионы звезд. На рассвете они наблюдали, как первые лучи солнца отражаются от снегов Тейде, покрывающих безупречной белизной вершину единственного острова, который все еще оставался незавоеванным, и терпеливо дожидались появления Бенейгана и его советников.
Но тех все не было.
Проходили часы, безжалостное солнце вынудило их искать убежище под голыми ветвями можжевельника, от океана снова начал подниматься туман, но нигде, сколько они ни обводили взглядом окрестности, не было заметно ни малейшего признака человеческого присутствия.
Временами до них долетал то один, то другой приглушенный свист, однако тот, кто их издавал, находился так далеко, что даже чуткому уху внимательно прислушивающейся девушки не удавалось уловить их смысл.
– Судя по тону, происходит что-то плохое… – наконец сказала она с озабоченным видом. – Но мне никак не удается разобрать, о чем идет речь, потому что человек, который свистит, находится на противоположной стороне вон того ущелья.
– В таком случае будет лучше отправиться туда, потому что Бенейган и его люди, как предполагается, появятся как раз с той стороны.
Они собрали остатки ужина – а оставалось еще немало – и подошли прямо к краю ущелья, где Гарса начала изо всех сил свистеть в сторону противоположного склона.
Ответа она не получила, но через несколько минут внизу, среди камней, появился человек огромного роста и начал гигантскими шагами взбираться по узенькой тропинке, рискуя в любой момент сорваться вниз. Казалось чудом, что до сих пор этого не случилось.
– Да уж, этот остров не для тех, кто страдает головокружением, – не выдержал Гонсало Баэса, с опасением следя за великаном. – Мне становится не по себе при одном взгляде на этого сумасшедшего.
– Он вовсе не сумасшедший, – уверенно сказала Гарса. – Это Тауко, ему поручают ловить убежавшую скотину, поэтому он знает здесь каждую тропинку. – Она коротко вздохнула, а потом добавила: – К несчастью, его старший сын оказался не таким ловким: это тот самый парень, который погиб, добывая орхил.
– Сейчас, когда ты об этом сказала, я вспомнил, что видел его во время прощания с покойным, – произнес антекерец. – Он находился далеко, но я обратил на него внимание, потому что прежде мне не доводилось встречать таких великанов: он смахивает на медведя.
– Что такое медведь?
– Существо такого же роста, только более волосатое и очень опасное.
– Тауко никогда ни на кого не нападал, но с тех пор, как погиб его сын, стал крайне враждебным.
– Надеюсь, сейчас он спокоен…
Ну и громадина! Это и впрямь был необычный человеческий экземпляр: предплечья такой же толщины, что ляжки взрослого человека; кулаком же, казалось, ему ничего не стоило расплющить одним ударом череп.
Он взобрался наверх, даже не запыхавшись, а его хриплый голосище звучал ровно, как будто не было никакого тяжелого подъема.
– Испанцы устроили ловушку членам совета, когда те направлялись сюда… – первым делом сказал он, обращаясь к Гарсе и даже не удостоив Гонсало Баэсу взглядом, словно того здесь не было. – Они схватили Тенаро и еще троих, однако Бенейгану удалось ускользнуть, и он послал меня к вам.
– А почему испанцы так поступили?
– Из-за воды… – Тауко протянул руку, схватил без спроса заднюю ногу козла, лежавшую на камне, и начал жадно есть, отхватывая зубами огромные куски. – Пошли! – приказал он, не давая им времени возразить, и двинулся по краю пропасти в направлении густого леса, видневшегося вдали. – Так короче.
Короче-то оно короче, только вымотались они порядком, взбираясь, спускаясь и с трудом продираясь сквозь заросли сухих деревьев. Земля была усыпана хвоей, которая в любой момент могла загореться и превратить эту часть острова в гигантский костер, пылающий до тех пор, пока не останутся одни лишь сосновые пеньки.
– В засуху по этим лесам ходить запрещено… – шепотом объяснила девушка, словно опасаясь, что стоит ей повысить голос, как что-нибудь случится. – Простое падение камня может вызвать искру. Помню, один из таких пожаров полыхал две недели, и из-за дыма мы почти не могли дышать.
Время от времени у них на пути возникали обширные поля черной лавы, их поверхность имела вид причудливо изгибающихся толстых корабельных канатов, среди которых местами попадались застывшие пузыри некогда кипевшей магмы. Идти по ним было настоящей пыткой, потому что острые грани рвали обувь и ранили ноги.
Спустя два часа они проникли в узкое ущелье, на одной стороне которого открывался вход в глубокую пещеру.
В глубине ее сидел Бенейган, положив копье на колени, с отсутствующим взглядом и угрюмым выражением лица. Казалось, он был раздавлен невыносимой тяжестью, взваленной ему на плечи в тот момент, когда вдруг оказалось, что рядом нет никого, с кем он может разделить этот груз.
Они остановились перед ним и подождали. Наконец он перевел на них взгляд и произнес:
– Кастаньос уверяет, что послезавтра повесит моих советников, если мы не скажем, где берем воду. – Он посмотрел на испанца в упор и устало спросил: – Думаешь, он это сделает?
– Боюсь, что да… – честно ответил тот. – И они станут не единственными жертвами: он знает, что в случае гибели солдат начальство спросит с него по всей строгости, однако никому не будет дела до того, сколько островитян он повесил, если таким образом ему удалось спасти хотя бы одного христианина. К несчастью, в Севилье считают, что жизнь одного испанца стоит жизни десяти дикарей.
– И ты думаешь так же?
– Я думаю, что все люди одинаковы, где бы им ни довелось родиться, и лучшее доказательство, какое я могу тебе представить, – это то, что мой ребенок родится здесь.
– Ты считаешь себя одним из нас или одним из них?
– Ни тем, ни другим.
– Однако настало время выбирать. Лейтенант не стал спешить с ответом, от которого во многом мог зависеть исход событий. Он спокойно его обдумывал, переводя взгляд с прекрасных глаз Гарсы на нахмуренные брови Тауко и осунувшееся лицо Бенейгана, и наконец уверенно заявил:
– Выбирать – значит не иметь возможности быть посредником, а в такой сложной ситуации важно прийти к соглашению, чтобы обе стороны пострадали как можно меньше. Я намерен поступить так, как поступил бы мой сын, если бы уже родился и осознал свою принадлежность к обоим народам. Моя мысль понятна?
– Более или менее.
– С одной стороны, признаю, некоторые из моих соотечественников ведут себя самым постыдным образом; они заслуживают сурового наказания. Но с другой, мне кажется, несправедливо заставлять расплачиваться почти два десятка невинных людей, обрекая их на худшую из смертей, ведь они не причинили вам никакого вреда. Их единственное преступление состояло в том, что им хочешь не хочешь, а пришлось выполнять приказы негодяя.
– Они должны были воспротивиться, – заметил Бенейган. – Тот, кто подчиняется несправедливому приказу, совершает несправедливость.
– Здесь – может быть, поскольку у вас почти не было вооруженных столкновений на протяжении всей вашей истории, однако в моей стране все еще проливается немало крови в войне за реконкисту[14], начало которой теряется в ночи времен. У нас тот, кто не подчиняется командиру, оказывается на виселице, а кто не чтит заповеди Святой матери-церкви, заканчивает жизнь на костре.
– И зачем вы хотите навязать нам столь дикие обычаи? – поинтересовался собеседник. – Мы не соглашаемся с нелепыми приказами и не сжигаем того, у кого нет желания поклоняться какому-то богу. Сознание – вот что формирует человека, а не то, что решают другие.
– Так-то оно так… – согласился испанец. – Но ведь мы можем всю жизнь толковать о Божественном и человеческом, а между тем время уходит, и твои советники приближаются к виселице. Оставим этот разговор до другого раза и перейдем к сути: ты дашь воду моим людям, если мне удастся сделать так, что капитан и его приспешники покинут остров?
– Смотря по обстоятельствам.
– Каким?
– Долго ли еще не будет дождей. Мы всегда умели распоряжаться нашими запасами и выживать, хотя иногда это стоило нам огромных жертв. А твои люди слишком много пьют, и я не уверен, что запасов хватит надолго. Я обещаю давать вам воду пару недель, но, если к тому времени вы не уйдете, я предоставлю вас собственной судьбе. Ты же понимаешь, что мой народ для меня важнее.
Лейтенант Баэса вновь задумался: на карту было поставлено многое.
Он глубоко вздохнул, попытался уверить себя в том, что осенившая его мысль вполне осуществима, и, стараясь говорить убедительно, хотя сам он убежденным себя не чувствовал, наконец решился:
– Когда мы шли по лесу, у меня возник один план: если, как только капитан уедет, твои люди помогут нам перенести бревна на берег, возможно, мы сумели бы построить корабль, достаточно надежный, чтобы остальные солдаты перебрались на Гомеру.
– А ты что, знаешь, как построить корабль? – прогрохотал гигант Тауко, впервые вмешавшись в разговор.
– Я могу попытаться.
– Этого мало.
– Это никогда не узнаешь, пока не попытаешься.
Великан собрался было сказать что-то еще, однако Бенейган властным жестом его прервал.
– Слабая надежда на победу всегда предпочтительнее уверенности в поражении, – заметил он. – Если Кастаньос покинет остров, мы перетащим на берег столько деревьев, сколько тебе потребуется, но главный вопрос остается открытым. Каким образом ты вынудишь мерзавца убраться с острова, если у него больше людей, чем у тебя?
– Мне надо подумать.
* * *
– Да уж, не хотел бы я в тот момент оказаться в твоей шкуре.
– Я и сам не хотел бы в ней оказаться в те ужасные дни, и единственное, что укрепляло мой дух, было то, что каждую ночь Гарса гладила меня по лбу, пока я не засыпал.
– Пожалуйста, не начинай! – запротестовал монсеньор Касорла, поднявшись и обхватив руками поясницу: ее начало ломить с непривычки после долгой прогулки верхом. – Согласен, эта безумная любовь помогла тебе пережить столь тяжелый момент, но сейчас речь идет о том, как ты ухитрился убедить Кастаньоса, который считал себя – и не без оснований – высшей властью на острове, так или иначе его покинуть.
– Первым делом я попросил Бенейгана сообщить Бруно Сёднигусто и Амансио Аресу, чтобы они присоединились ко мне на подходе к лагерю. Меня мучила совесть, что я привлекаю их к участию в предприятии, которое вполне могут расценить как государственную измену, но что поделаешь – передо мной стояла трудная задача, с которой мне было не справиться одному.
– Что такое два человека, когда у капитана были его сержанты и трое бандитов? Ты что, думал, что островитяне примут участие в столкновении?
– Они выказали готовность, но я воспротивился, сознавая, что в случае неудачи их всех до последнего предадут смерти или обратят в рабов… – Отставной генерал сделал паузу, поднялся с земли, вновь протянул изрядно похудевший бурдюк своему другу и, пока тот пил, добавил: – Как только Кастаньос понял, что дело с пурпуром не выгорело, он стал искать предлог, чтобы начать торговать людьми. Если ты возьмешь на себя труд запросить документы, то убедишься, что в те годы на рынке в Валенсии были проданы с торгов сотни канарцев, главным образом женщины и дети.
– Мне и без документов об этом известно. – Прелат вернул ему бурдюк и подошел к лошади, намереваясь сесть в седло, что не помешало ему добавить: – И мне также известно, что это, к несчастью, продолжается, хотя сейчас рабы завозятся главным образом из Вест-Индии.
– Но ты против этого никогда ничего не предпринимал.
– А ты пробовал уговорить торгаша отказаться от намерения разбогатеть, убеждая его в том, что дикарь в перьях наделен бессмертной душой и с ним нельзя обращаться как со скотом? Да!.. – признал он, уже сидя в седле. – Ты же всю жизнь боролся с ними, и поэтому тебе лучше, чем кому-либо другому, известно, что, как правило, это досадная потеря времени. К несчастью, человек еще тысячи лет назад пришел к печальному выводу: либо порабощаешь ты, либо порабощают тебя.
– Островитяне так не считали.
– Надо быть совсем уж дикарем, чтобы так думать, дорогой, – прозвучал циничный ответ. – Настолько диким, чтобы считать, что все мы приходим в мир нагими и ложимся в могилу нагими, какими бы роскошными ни были одеяния, с помощью которых пытаются скрыть то обстоятельство, что мы всего-навсего разложившаяся плоть. Приобщение к цивилизации начинается с того – ты должен зарубить это себе на носу, – что существует иерархическая лестница, и твое продвижение по ней, вверх или вниз, зависит от того, насколько ты удачлив или хитер… – Он махнул рукой в сторону второй лошади: – Давай садись, а то у меня уже урчит в животе… Вспомни, Файна обещала нам на обед цыпленка в миндальном соусе.
– Желудок в конце концов тебя погубит.
– Лучше уж пусть убьет желудок, чем совесть… – Прелат подождал, пока спутник устроится в седле, и, как только они медленным шагом пустились в обратный путь, спросил: – Ты действительно думал, что сумеешь построить судно, которое не потонуло бы в открытом море?
– Вовсе нет!
– А что же тогда?
– Видишь ли, мы оказались в положении потерпевших кораблекрушение, выброшенных на скалистый вулканический берег, поэтому выбирать не приходилось. Остаться – значило погибнуть, следовательно, надо было искать способ оттуда выбраться. Кроме того, я надеялся, что кто-нибудь из наших владеет плотницким искусством.
– Ты рисковал многими жизнями.
– Рискуя пропащими жизнями, рискуешь только выиграть.
– Это верно… – с легкой улыбкой согласился собеседник. – Однако давай по порядку: первое препятствие, несомненно, представлял собой Кастаньос. Повторяю… как тебе удалось его убедить?
– Я появился в лагере в тот момент, когда зной сморил несчастных, отчаявшихся людей, убежденных в том, что они умрут, с четырьмя островитянами; они тащили бурдюки с водой и были готовы отдать их в обмен на свободу своих старейшин.
– Предложение, от которого трудно отказаться, как я полагаю.
– Невозможно, когда мучает жажда, но капитан Кастаньос не принадлежал к числу офицеров, готовых разделить страдания своих подчиненных, недаром он любил повторять: «Вожак всегда должен есть и пить первым – чтобы оставаться самым сильным в стаде и соображать лучше других».
* * *
– Клянусь гвоздями Христа, Баэсуля! – воскликнул капитан, с театральным жестом хватаясь за голову, словно он услышал самое нелепое в своей жизни предложение. – Ты что, считаешь меня таким дураком? Если бы я согласился на сделку, как только у нас закончилась бы вода, пришлось бы посылать моих людей за новыми заложниками. А тебе не хуже меня известно, что дикари скачут по скалам, точно кролики, и забиваются в пещеры, словно крысы. Нет! – твердо сказал он. – Ни за что!
– Что же в таком случае вы собираетесь делать, капитан? Позволите этим несчастным погибнуть один за другим? – Антекерец широким жестом обвел солдат и взмолился: – Взгляните на них! Вы же за них отвечаете, а они страдают!
– Я хорошо знаю, за что отвечаю, а поэтому понимаю, что твое предложение – это, как бы выразился болтун Бруно, сёдни густо, а завтра пусто.
Он властно махнул рукой, и из глубины хижины, находившейся за его спиной, возникли сержанты Фернан Молина и Калисто Наварро. Первый тащил табурет, а второй тянул за собой на длинной веревке старика Тенаро; веревка была накинута на его шею.
Не говоря ни слова, они проворно – сразу было видно, что для них это дело привычное и они, не задумываясь, выполнят любой приказ, – поставили табурет под сосной, подняли пленника, подхватив его за подмышки, на крохотную платформу и перекинули веревку через толстую ветку, чтобы привязать свободный конец к стволу дерева.
Кастаньос, наблюдавший за их ловкими и быстрыми действиями с улыбкой искреннего удовлетворения, повернулся к лейтенанту, чтобы объявить:
– У меня есть встречное предложение, Баэсуля. Дикари оставят здесь воду и отправятся восвояси, не то сержант Наварро пнет табурет, и старик будет болтаться в воздухе до тех пор, пока не сгниет и не распадется на части… – Он раскрыл руки ладонями кверху, словно желая показать, что выкладывает все как есть, и добавил холодным тоном, от которого продрал мороз по коже: – Как я понял, эти варвары убеждены, что, если не превратиться в мумию и не хранить останки в пещере, душе не суждено обрести покой.
– Я не верю, что вы способны на такой бесчеловечный поступок… – вмешался брат Бернардино де Ансуага, остававшийся до того момента безмолвным, хотя и обеспокоенным свидетелем происходящего. – Это жестоко и недостойно доброго христианина!
– А я никогда и не изображал из себя доброго христианина, отец мой, – был циничный ответ человека, знавшего, что здесь, на краю света, никто не сможет дать ему отпор. – Старый христианин[15], возможно, но не добрый, поскольку вера – это вам не вино, которое чем старее, тем лучше… А что касается методов, по-вашему недостойных, так я вам напомню, что «добрые христиане» частенько применяли их на практике, хороня мусульман завернутыми в свиную шкуру, поскольку тогда тем не суждено будет попасть в рай и насладиться «сорока девственницами», которых Магомет обещал павшим в бою. На войне – как на войне, а это уже война, отец мой!
– Насколько мне известно, никто ее официально не объявлял… – сурово напомнил ему доминиканец.
– В таком случае ее объявляю я как единственный человек, в чьей власти это сделать. Напоминаю, что такое право мне было предоставлено Короной с одобрения Святой матери-церкви… – Капитан прервался, чтобы подойти ближе к Тенаро; подняв голову, он окинул старика взглядом, словно пытаясь определить, насколько тот напуган, и добавил как никогда громко и твердо: – А посему, оказавшись в крайне тяжелом положении, когда дело касается жизни или смерти подданных испанской Короны и слуг католической церкви, приказываю предать этого человека смерти через повешение в случае, если не будет произведена передача воды, которую соблаговолили доставить сюда эти дикари. Все ясно, лейтенант Баэса?
– Яснее некуда, господин.
– Ну, тогда я хочу, чтобы кое-что стало тебе еще яснее: через каждые три дня этот проклятый старик будет вставать на табурет, и, если его люди не принесут необходимое мне количество воды, я одним пинком отправлю его в преисподнюю.
– Неслыханно!.. – почти всхлипнул доминиканец. – Вам придется за это ответить, капитан.
– Разумеется, только в свое время и перед тем, кто сумеет понять, что подчиненные для меня важнее какого-то безумца, который слывет колдуном и стоит одной ногой в могиле, даже толкать-то его туда не потребуется… – Показав театральным жестом, будто желает обнять и защитить солдат, которые с нетерпением ожидали, когда им передадут бурдюки с водой, он с вызовом спросил: – Или, может, вы считаете, что жизнь этих христианских юношей стоит меньше, чем жизнь старого язычника?
Измученный монах, несомненно, имел благие намерения, однако бедняга не был в достаточной степени наделен умственными или ораторскими способностями, чтобы противостоять человеку, который, как большинство людей, облеченных властью, проявлял необычайную ловкость в подтасовке фактов и оправдании преступлений.
В доказательство, что он не шутит, капитан Диего Кастаньос не придумал ничего лучше, как слегка постучать ногой по табурету, словно его забавляла возможность поиграть жизнью приговоренного.
– Пока удерживается на ногах… – прокомментировал он. – Но я сомневаюсь, что он устоит, если ударить как следует, то есть мне больше нечего сказать. – Он повернулся непосредственно к Гонсало Баэсе, чтобы добавить: – Ты же водишь дружбу с этими скотами и, думаю, уже говоришь на их языке, вот и постарайся, чтобы до них дошло, что мое терпение исчерпано: у них есть пара минут, чтобы отдать воду или попрощаться со стариком.
Антекерец понял, что капитан говорит серьезно, взглянул в бесстрастное лицо Тенаро, на котором можно было прочитать, что тот нисколько не боится смерти, и, поразмыслив какое-то мгновение, повернулся и подошел к туземцам, которыми командовал великан Тауко.
Они перекинулись несколькими словами и приблизились все вместе, но, прежде чем они передали бурдюки солдатам, капитан Кастаньос вытянул вперед руку и воскликнул:
– Секунду! Пусть никто не трогает эту воду, пока дикари сами ее не попробуют! Им ничего не стоило ее отравить.
Лейтенант Гонсало Баэса взорвался: было ясно, что подобное обвинение переполнило чашу его терпения.
– Вы считаете меня способным на подобную низость? – воскликнул он. – Вы и правда воображаете, что я принял участие в заговоре, чтобы отравить соотечественников?
– Ты мне тут не кипятись, Баэсуля! Не кипятись! Мне это даже в голову не приходило, однако мне известно, что у тебя женка – краля, и она могла запросто обвести тебя вокруг пальца. – Капитан кивнул подбородком в сторону островитян, сказав в заключение: – Пусть пьют и убираются восвояси, тогда вопрос исчерпан.
Разъяренному лейтенанту пришлось сделать над собой невероятное усилие, чтобы не броситься на своего командира со шпагой в руке. Он вовремя сообразил, что этим все погубит, и, немного поколебавшись, повернулся к туземцам и попросил их напиться вдосталь.
Тауко и его товарищи несколько опешили от такого странного предложения, но все же подчинились, поднесли бурдюки ко рту и начали пить взахлеб, не прерываясь, – так, что драгоценная жидкость текла по лицу, смачивала грудь и лилась на сухую землю. Присутствующие смотрели на это с тоской, почти с отчаянием.
Великан громко рыгнул, словно хотел этим показать, что достиг предела своих возможностей, и вскоре трое его товарищей тоже остановились и застыли в ожидании; выражение их лиц по-прежнему свидетельствовало о том, что они пребывали в явной растерянности.
Воцарилось долгое и напряженное молчание.
Капитан стоял, не шелохнувшись и не сводя глаз с островитян, словно ожидая, что они вот-вот рухнут замертво, он изучал их лица в поисках малейшего признака страха или недомогания и спустя несколько минут, которые тянулись целую вечность, нехотя кивнул:
– Ладно! Пусть оставляют воду и проваливают… – Он повернулся к сержантам и приказал: – Снимите старика, и пусть люди попьют, но в меру: сейчас каждому по черпаку, и еще по одному – вечером.
Он повернулся и исчез в глубине своей хижины.
15
Даже человеку, не знавшему столь необычного «языка», было ясно, что каденция первого свиста, пронзившего ночь, судя по всему, содержала вопрос.
Последовал короткий, отрывистый ответ, исключавший возможность дискуссии: сухое «да» или «нет» на четко поставленный вопрос.
Проблема заключалась в том, как понять, утверждение это или отрицание. Проведя на острове несколько месяцев, неугомонный сержант Калисто Наварро так этому и не научился.
Он постоял, наклонив голову и прислушиваясь, пытаясь определить, с какого близлежащего холма или дальнего леса доносятся не поддающиеся расшифровке сообщения, однако только и смог заключить, что, нарушая вековой уклад, дикари в большинстве своем в полночь не спали и свистели как с севера, так и с юга, востока и запада.
Растущая луна вызвала в его памяти знамена, реющие впереди грозных полчищ мавров во время бесчисленных сражений, в которых ему довелось принимать участие. А когда она вот-вот должна была скрыться за холмом, сержант понял, что опасность неизбежна, а потому спустя несколько минут он ворвался в хижину, чтобы растолкать своего командира.
– Проснитесь, капитан! – настойчиво умолял он. – Проснитесь, пожалуйста!
Кастаньос в тревоге открыл глаза.
– Что стряслось, Наварро? – пророкотал он. – Что это ты так раскричался?
– Слава богу! – прозвучало в ответ.
– Почему «слава богу»? – спросонья недоумевал капитан, приподнимаясь на своей походной кровати.
– Потому что вы проснулись.
– А чего ты ждал, скотина, ведь ты чуть не вывихнул мне плечо?
– Просто больше никто не проснулся. – Ответ суетливого сержанта совсем сбил капитана с толку. – Остальные не открывают глаз, даже если их пинать ногами.
– Как такое может быть?
– Не знаю.
– Они мертвы?
– Нет, но они в беспамятстве. Даже Фернан храпит как боров.
– Ты пил воду, которую принесли дикари? Сержант отрицательно мотнул головой.
– Вечером – нет, – смущенно сознался он. – Она показалась мне слишком соленой, и я решил попить из вашего кувшина.
– Проклятые сукины дети!
Тут капитан Диего Кастаньос понял – никаких других объяснений ему не понадобилось, – что попал в грязную ловушку: дикари не посмотрели на то, что их четверым товарищам пришлось вдоволь напиться из бурдюков, а потом спать без просыпу несколько часов кряду, лишь бы враги последовали их примеру.
Он натянул сапоги, схватил оружие, выскочил наружу и вскоре сам убедился в том, что все, начиная с сержанта Фернана Молины и кончая последним рекрутом, даже брат Бернардино де Ансуага, лежали бревнами и никак не реагировали на пощечины.
Пересвисты зазвучали все чаще, и по спине капитана пробежали мурашки.
– Нас провели, Наварро! – не выдержав, воскликнул он. – Нас кругом обставили, и боюсь, это все Баэсуля и его люди.
– И что же нам теперь делать?
– Сражаться!
– С кем?
Ответом был град увесистых камней, вылетевших из темноты. Он был таким интенсивным, что, когда камни просвистели у них над ухом, тут же последовал приказ:
– Беги, черт! Беги, не то нам вышибут мозги! Они ринулись в темноту, пригнув голову, спотыкаясь и чертыхаясь, уверенные в том, что вот тут-то им и конец, вместе со всеми их чаяниями и невзгодами. Не успели они скрыться из глаз, как появились (прав был Кастаньос) Гонсало Баэса, Бруно Сёднигусто и Амансио Арес, поспешившие зажечь факелы, которые несли в руках, и в их свете стали осматривать одно за другим лица спящих.
– Свяжите руки Молине и этим троим мерзавцам и освободите пленников, – отрывисто приказал антекерец. – И постарайтесь держать в стороне островитян: чем меньше они будут в этом участвовать, тем лучше.
Пока подчиненные выполняли приказ, лейтенант набросал кучу дров, развел костер, уселся на табурет, успевший послужить эшафотом, и приготовился ждать, когда спящие очнутся.
Он не смог бы точно сказать, счастлив он или несчастен.
Да, ему удалось решить трудную проблему без кровопролития, но при этом он ступил на скользкую почву, где его ожидало множество опасностей.
В первую очередь его мучил совершенно конкретный вопрос: кто он – все еще офицер королевской армии или уже изгой?
Кто на него ответит?
Как можно, не побывав на острове, не ведая, что именно здесь творилось в последние месяцы, разобраться, кто прав, а кто виноват?
Что может сказать в свое оправдание офицер, отдавший подчиненных на милость дикарей? Ведь те хоть сейчас могут выйти из своих укрытий и безнаказанно размозжить несчастным головы камнями.
До какой степени можно полагаться на слово Бенейгана? А что, если жажда мести, взыгравшая в туземцах, окажется сильнее уважения, которое они питают к предводителю?
Наверняка очень трудно забыть то зло, которое причинили им испанцы, не говоря уже о позорной сцене – когда самый почтенный член их сообщества на их глазах пытался удержать равновесие, стоя на табурете с веревкой на шее. Случись что-либо подобное в Антекере, эти спящие бедняги превратились бы в покойников.
– Тебе незачем за них бояться: мы не способны кого бы то ни было убить, и меньше всего – людей беззащитных.
Гонсало Баэса был благодарен Тенаро, который опустился перед ним на корточки. Лейтенанту передалось спокойствие старика: стоило только взглянуть ему в глаза, как стало ясно, что островитяне в самом деле ни за что не лишат жизни человека, находящегося в бессознательном состоянии.
Как по плоду можно определить, с какого он дерева, так и поведение стариков может многое рассказать об окружающих – тех, кто разделил с ними долгое существование, протекавшее без ненависти, злобы, насилия или алчности, в мире и покое. Кое-кто считает, что они спят на ходу или «обленились», однако их безмятежность – всего лишь результат того, что две тысячи лет поколения этих людей наблюдали, как солнце проходит у них над головой, вдыхали запах моря и слушали шум ветра.
– Твой дядя убил бискайца Ласаро… – напомнил он островитянину.
– Мой дядя – это особый случай, его поступок вошел в нашу историю как самое кровавое деяние, о котором сохранилось воспоминание, – невозмутимо ответил тот. – Ласаро был насильником, который не щадил даже маленьких девочек. Надо признать, что Кастаньос отвратителен, но он никогда не дотронулся до женщины без ее согласия. Если бы он так поступил, то сейчас был бы уже мертв, потому что даже самых мирных людей охватывает приступ ярости, если их довести до крайности.
– Ты тоже пережил тяжелый момент, когда тебя чуть не повесили, а я что-то не заметил у тебя ни малейших признаков ярости, – напомнил ему лейтенант. – По-моему, ты и бровью не повел.
Старый Тенаро протянул свою костлявую руку, ласково положил ее на колено собеседнику и широко улыбнулся.
– Глупо волноваться перед визитом, которого я жду уже давно… – сказал он. – И если хочешь, открою тебе секрет: в моем возрасте мгновенная смерть предпочтительнее страданий, вызванных бесконечными недомоганиями тела, которое ведет себя просто предательски. Если бы табурет выбили у меня из-под ног, мне не пришлось бы долго взбираться на гору по пути домой.
– Но ведь в таком случае твое тело не смогли бы забальзамировать.
– Еще одной заботой было бы меньше! – тут же прозвучал ответ, не без мрачного юмора. – Мое тело в любом случае неизбежно окажется на дне пещеры, зато мою душу ждут не дождутся в каком-то неизвестном замечательном месте.
Лейтенант Баэса, окончательно сбитый с толку, наклонился вперед с явным намерением увидеть вблизи реакцию собеседника и сказал:
– Этот ответ не очень-то вяжется с вашими верованиями.
– Они существуют для того, чтобы в них верить или не верить, сын мой, – с обескураживающей непринужденностью заметил старик в том же юмористическом тоне. – Приходится признать, что человек в них нуждается, но он точно так же волен от них отказаться.
– Честно говоря, ты меня всегда поражаешь… – признался его собеседник. – А что будет дальше?
Старик взглянул на него с улыбкой.
– Если ты этого не знаешь, кому это может быть ведомо? – спросил он. – Ты же теперь новый губернатор острова.
– Меня никто не назначал.
– Любопытно! – В тоне собеседника все явственнее звучала насмешка. – Вы, «цивилизованные», любите разводить церемонии: вам непременно подавай подписанную бумагу, которая бы засвидетельствовала, что вы поступили правильно. Разве голоса совести недостаточно?
– В настоящий момент он молчит, не отвечает даже на самые простые вопросы.
* * *
– Значит, вот так ты себя чувствовал?
– Я себя никак не чувствовал. У тебя никогда не было ощущения, что вот ты свидетель событий, ты принимаешь в них участие, но в действительности это не ты, а кто-то другой? – Антекерец не дождался ответа: собеседник был занят тем, что подбирал кусочком хлеба последние капли соуса замечательного кушанья, проглоченного им в мгновение ока. – Это как если бы в одном теле пребывали два совершенно разных человека, и неожиданно один из них решил остаться в стороне от происходящего: пусть, мол, другой тащит на себе груз вины, – а тот, другой, сбился с пути.
– Но, по-моему, ты владел ситуацией… – заметил монсеньор Касорла.
– Наоборот, ситуация владела мной, а это, дорогой друг, не одно и то же. Я сидел там в окружении спящих, которые храпели и при этом пускали газы из кишечника, и спрашивал себя, куда черти унесли капитана и что будет утром, когда первый луч солнца осветит эту дикую сцену. Еще немного цыпленка?
– Пожалуйста!
– Да сохранит Господь тебе аппетит!
– На свете не так уж много Файн. Продолжай!
– Глядя на то, как ты лопаешь?
– Насколько мне известно, я еще не засунул в ухо ножку цыпленка. Или ты думаешь, что я неспособен есть и слушать одновременно?
– Ладно! На чем я остановился? – Генерал отодвинул от себя тарелку, словно со своей стороны не чувствовал себя способным одновременно есть и говорить. – Ах, да! Я надеялся, что старик, умудренный жизненным опытом, каким-то образом поможет мне справиться со свалившимися на меня проблемами, однако вопреки всякой логике не он, а простоватый Амансио вывел меня из тупика неожиданным вопросом. «Какие деревья вы предпочитаете, мой лейтенант? – ни с того ни с сего поинтересовался он. – Здесь есть сосны, липы, можжевельник, груши, яблони и всякие другие… черт их знает, что за деревья». – Хозяин дома, раскрыв ладонь, протянул руку в сторону сотрапезника, словно желая этим подчеркнуть, что в жизни не слышал ничего более нелепого. – Представляешь? – добавил он. – В самый напряженный момент является эдакая голова садовая и спрашивает человека, который в древесине ни бум-бум, из каких деревьев он собирается строить корабль, тогда как тот понятия не имеет, как это делается.
– И что же ты ему ответил?
– Тех, что лучше держатся на плаву…
– Звучит логично!
– Логично? – возмутился тот. – Это прозвучало так смешно, что Бруно Сёднигусто захохотал, начал хлопать себя по бокам, беспрестанно повторяя: «Тех, что лучше держатся на плаву… держатся на плаву! Хорошо сказано, мой лейтенант». А этот черт Сёднигусто смеялся так заразительно, что тут и галисиец, а за ним я и даже старик Тенаро, которому, казалось, было не понять причины подобного веселья, мы все залились смехом, будто и впрямь сошли с ума. Да прибавь сюда такое необъяснимое явление: поминутно кто-нибудь из спящих со звуком, напоминавшим раскат грома, пускал кишечные газы.
– Немного уважения, я же ем… – запротестовал прелат.
– Будто это имеет для тебя какое-то значение! – Хозяин дома замолчал, с видимым удовольствием припоминая события той далекой ночи, а затем поцокал языком, будто недоумевая, как могло так случиться, что он оказался главным героем столь абсурдной сцены. И под конец, сдерживая смех, добавил: – Когда мы готовили бурдюки с водой, Гарса меня предупредила, что, если мы воспользуемся тем самым «молоком из табаибы», которым обычно усыпляют рыбу, тот, кто попьет, немедленно заснет, однако ненадолго. Тем не менее, если добавить к нему – как, по ее уверениям, советовала ее бабка – смесь сока некоторых кактусов, растущих на скалах, сон наступит намного позже, зато будет более глубоким. Единственная проблема – мышцы при этом расслабляются до такой степени, что спящие не могут себя контролировать и, бывает, даже ходят под себя.
– Ради бога! Ты лишаешь меня аппетита.
– Неудивительно, ведь ты взял уже вторую добавку.
– И что было потом?
– Потом появилась Гарса и попыталась выяснить, что на нас нашло, а когда Бруно пересказал ей мои слова о деревьях, которые лучше держатся на плаву, она заметила, словно речь шла о чем-то широко известном: «Лучше всего плавают те, что в море».
– «Те, что в море»? – в крайнем изумлении переспросил монсеньор Касорла. – Что она хотела этим сказать? На этом злополучном острове все, что ли, сумасшедшие? В море же нет деревьев.
– Есть… – вмешалась старая кухарка; она как раз в этот момент вошла в столовую с блюдом фруктов и успела услышать последнюю фразу. – И обычно здоровущие.
– Файна хочет сказать, что к берегам архипелага часто прибивает огромные деревья, которые так и остаются лежать на пляже. Понятно, что они отлично плавают, раз им удалось пересечь океан.
– Понятно.
– Три дня спустя Гарса привела нас в западную бухту, где было десятка два деревьев, сухих и потрескавшихся от солнца, и уверяю тебя, что по большей части я таких в жизни не видел. Тогда я решил, что, возможно, они попали сюда с севера Европы, но сейчас уверен, что течения принесли их с другой стороны Атлантики.
– Из Вест-Индии?..
Ответом был утвердительный кивок, на что Алехандро Касорла возразил:
– Но ведь Вест-Индия находится очень далеко!
– Верно, но верно и то, что это лесные края, деревья растут там испокон веков, и, когда какое-то из них падает в реку, она несет его в море. Моряки утверждают, что самый верный способ добраться до Западных Индий – следовать ветрам и течениям, которые направляются на юго-запад, а вот возвращаться быстрее, держа курс на северо-восток. Это навело меня на мысль о том, что течения, вероятно, очерчивают большой круг, а острова как раз лежат у них на пути. Хотя, признаюсь, я не слишком разбираюсь в морских делах.
– Возможно, и не разбираешься, но, как я подозреваю, слишком много времени проводишь в размышлениях.
– А это плохо?
– Трудный вопрос, дорогой друг! Трудный вопрос, на который я предпочитаю не отвечать.
16
С первыми лучами солнца солдаты начали просыпаться. Вид у них был такой, словно они очутились на другом свете: они удивленно озирались по сторонам, не понимая, что происходит, поскольку сок, подмешанный в воду, все еще продолжал оказывать наркотическое действие.
Они переглядывались, не узнавая друг друга, и, понаблюдав за ними какое-то время, Бруно Сёднигусто не смог удержаться от едкого замечания:
– Боюсь, вам предстоит командовать отрядом придурков, мой лейтенант.
– Что до придурков, мне и тебя хватает, – язвительно ответил тот. – Гарса обещала, что через пару часов они станут прежними.
– Жаль! Мне они больше нравятся такими, особенно эта свинья сержант Молина, который, как я погляжу, наложил в штаны.
– Теперь вы с Амансио сержанты, а значит, постарайтесь их расшевелить, потому что в таком состоянии от них мало проку. Туземцы обнаружили капитана в одной из пещер у восточных утесов, и мне бы хотелось, чтобы он немедленно покинул остров.
– А сержант Наварро?
– Предполагается, что он составит ему компанию, но я не уверен.
– Думаете, капитан окажет сопротивление?
Антекерец пожал плечами, показывая, что не представляет себе, какой будет реакция человека, который до минувшей ночи был его начальником.
– Полагаюсь на его здравый смысл, – сказал он. – Как только святой отец придет в себя, я пошлю его к капитану передать, что не собираюсь его казнить.
– Осмелюсь заметить, мой лейтенант, что заставить его убраться с острова на этой хлипкой шлюпке равносильно казни, – уверенно заявил саморец. – У меня до сих пор все внутри переворачивается, как только подумаю о беднягах, безуспешно боровшихся с проклятым океаном.
– А ты думаешь, со мной не происходит то же самое? – спросил командир; в его голосе прозвучала боль, вызванная воспоминанием о трагедии. – Иногда мне снится шлюпка, плывущая по спокойному морю, но, оказавшись рядом с ней, я вижу три скелета, высушенных солнцем.
– А теперь вы собираетесь за них отомстить?
– Жажда мести вызвала множество войн, но не положила конец ни одной из них, дорогой Бруно. Ни одной! Я же хочу покончить со всей этой историей, чтобы спокойно жить. А выгнать с острова капитана и его подручных – это единственное условие, которое выдвинул Бенейган, когда я попросил его о помощи.
– Бенейгану прекрасно известно, что им нипочем не добраться до Гомеры, – мрачным тоном заметил саморец. – По моим подсчетам, отсюда до Гомеры где-то четырнадцать лиг по открытому морю, а это волны, течения и чертов ветер, который никогда не стихает.
– Знаю, но ведь в ясные ночи с северных скал видны костры Гомеры; обещаю, что не буду заставлять их грузиться в шлюпку до тех пор, пока ветер не стихнет и море немного не успокоится, – пообещал ему командир. – Согласен, эта раздолбанная фелюга – не самое подходящее судно для подобного предприятия, зато я даю им шанс, который капитан не дал брату Амансио и двум другим несчастным. – Он сопроводил свои слова жестикуляцией, словно внушая собеседнику мысль о том, что у них нет иного выхода, присовокупив: – Нам придется выбирать: либо мы поступим так, либо умрем от жажды, поскольку лично я не способен кого бы то ни было подвесить ради бурдюка с водой.
– Ну, тогда мне только остается заявить, что, если все закончится неудачей, я почту за честь подняться на эшафот вместе с вами… – Бруно Сёднигусто собирался добавить что-то еще, но вдруг запнулся и, широко улыбаясь, показал куда-то за спину антекерца. – Посмотрите-ка, кто к нам пожаловал, лейтенант! – воскликнул он. – Пропавший Акомар! Откуда ты выполз, несчастный? Ни дать ни взять потерпевший кораблекрушение!
И это была чистой воды правда: на переводчике оказалась лишь грязная набедренная повязка, и он страшно исхудал и почернел, будто только-только покинул какой-нибудь плот.
– Я питался крабами и ящерицами… – бодро ответил молодой человек. – Прибыл в ваше распоряжение, – добавил он, вытянувшись перед Гонсало Баэсой. – Сожалею, что мне пришлось пуститься в бега, но, как верно заметил Ящерица, «от живого дезертира больше толку, чем от мертвого солдата», а капитан поклялся меня убить… – Вслед за этим он обвел взглядом лица солдат, которые смотрели на него, словно не видя, и растерянно спросил: – А с ними-то что творится? Их хватил удар?
– Они находятся под действием дурмана.
– Ну, дожили, если даже священники не прочь! – воскликнул юноша.
– Это произошло нечаянно, и мне жаль, что я довел его до такого состояния, – оправдывался антекерец. – Но если бы я предупредил его о том, что собираюсь сделать, весь план мог бы провалиться.
– Какой план?
Бруно Сёднигусто взял переводчика под руку и отвел на несколько метров в сторону, чтобы поведать о недавних событиях, и тут на лейтенанта Баэсу напали сомнения: а что, если он совершил трагическую ошибку и бедные парни так навек и останутся с помраченным рассудком?
Он слепо понадеялся на то, что бабке Гарсы известны все премудрости на свете, и никак не ожидал, что в итоге будет командовать толпой идиотов.
Если дело обстоит именно так (а при каждом взгляде на оторопевшие лица у него все сильнее сжималось сердце), то самое тяжкое преступление по сравнению с этим – всего лишь невинная проказа, потому что одно дело – подвесить кого-то на веревке, и совсем другое – до конца жизни казнить себя за то, что превратил своих подопечных в идиотов.
Мать всегда боится, что сын погибнет в бою или вернется домой калекой. Но она никак не ожидает, что ей возвратят его овощем, который не видит, не слышит, не разумеет.
Сидя на табурете с широко расставленными ногами, упершись локтями в колени и закрыв лицо ладонями, молодой лейтенант Гонсало Баэса впервые за долгое время почувствовал неудержимое желание заплакать. Он понял, что сейчас можно не строить из себя героя, а дать волю чувствам. Слезы уже потекли у него по щекам, как тут раздался громкий выхлоп кишечных газов, и чей-то жалобный голос умоляюще произнес:
– Проклятие, святой отец! Пукайте в другую сторону, не то я задохнусь: сутана не задерживает газы.
– Прости, сын мой! – отозвался смущенный доминиканец. – Со мной никогда не случалось ничего подобного.
– Надо думать, в противном случае вы бы один учились у себя в семинарии. Что такое вы ели на ужин?
Антекерец поднял голову, и ему пришлось вытереть слезы, чтобы иметь возможность проследить, испытывая при этом глубокое облегчение, как его подчиненные один за другим выходят из своей странной летаргии.
Никто не помнил, что произошло. Когда им сообщили, что человек, который довел их до края пропасти, где-то скрывается, они обрадовались, но брат Бернардино де Ансуага точнее выразил общее чувство, заметив:
– Тебе нужно было сделать это три месяца назад, сын мой: ты бы сохранил много жизней и избавил нас от многих страданий. Конечно же я отправлюсь к Кастаньосу и попытаюсь убедить его сдаться. Мужчина должен уметь признавать поражение.
– Хоть бы он вас выслушал!
Доминиканцу, преисполненному благих намерений, пришлось призвать на помощь все свое красноречие и способность убеждать, чтобы заставить разъяренного капитана Кастаньоса и перепуганного сержанта Наварро понять, что у них есть всего три возможности: сдаться, умереть от жажды в какой-нибудь грязной пещере или выйти сражаться, заведомо зная, что их побьют камнями.
– Стоит вам только высунуть нос наружу, как на вас обрушится град камней, – сказал он в заключение. – А это недостойный финал, пусть вы и наломали кучу дров. Лейтенант дает вам возможность спастись, и вы, как добрые христиане, обязаны ею воспользоваться.
– Баэса – предатель.
– Моя миссия не в том, чтобы судить, а в том, чтобы помочь по мере сил, – смиренно ответил монах. – Не угодно ли вам исповедаться?
– К черту, святой отец! – впервые вступил в разговор Калисто Наварро, до сих пор скромно державшийся в тени. – Единственное, в чем я раскаиваюсь, так это в том, что не выпустил сукиному сыну кишки и не отымел его женушку.
– Сержант!
– Нечего теперь мне рот затыкать, капитан! – взорвался тот. – Я же вас предупреждал, что этого несчастного молокососа лучше сразу убрать с дороги, а вы меня не послушали. Я согласился ввязаться в это дело, потому что вы поклялись сделать меня богатым, но вы оказались тряпкой. И вот теперь мы, точно барсуки, забились в нору и ждем, когда нас отсюда выкурят.
– Никто тебя не заставлял.
– Меня вынудила необходимость, и вам это известно. Лично я предпочитаю умереть со шпагой в руке: в конце концов, единственное, что я умею делать, – это драться за свою жизнь.
– Воевать с сотней дикарей – самоубийство… – заметил его командир и вдруг добавил: – Как ты думаешь, не кинуть ли нам жребий? Если выпадет орел, будем драться, пока нам не вышибут камнем мозги; если решка – сдадимся.
Сержант несколько секунд размышлял, затем пожал плечами.
– Ладно, – сказал он. – Дайте мне монету.
– Откуда я тебе ее возьму?
Ни у кого из них троих в тот момент не оказалось ни одной завалящей монеты, поскольку на этом затерянном острове от денег, честно говоря, было мало проку, и, разразившись бранью по поводу своей злосчастной судьбы, Диего Кастаньос протянул руку к распятию, висевшему на груди доминиканца.
– Вот это подойдет! – сказал он. – Одолжите-ка мне его на минутку!
– Вы что, рехнулись, капитан? – возмутился монах. – Бросать распятие! Кому такое в голову придет?
– Отчаявшемуся, – отрезал капитан. – В конце-то концов, кто лучше милосердного Иисуса определит нашу судьбу? – Он сорвал распятие, швырнул в сторону цепь и подкинул его высоко вверх, так, чтобы оно перевернулось в воздухе. – Если образ упадет лицом вниз, умрем как солдаты; если вверх – сдадимся.
* * *
– Этот мерзавец капитан, мало того что сукин сын, оказался еще и святотатцем!
Генерал Гонсало Баэса обернулся и с упреком взглянул на старую Файну, стоявшую возле двери: это она позволила себе столь грубое и неожиданное замечание.
– С каких это пор ты стала подслушивать мои разговоры? – осведомился он.
– Всегда слушала, – ответила та, нимало не смутившись. – Чем мне, по-вашему, заниматься, если я не умею читать? Здесь же скучно.
– Надо было позволить тому турку тебя купить, – процедил сквозь зубы рассерженный хозяин. – Ступай-ка к себе на кухню!
– Позвольте мне узнать, чем все закончилось… – взмолилась островитянка. – Пожалуйста!
Антекерец возвел очи к небу, давая этим понять, что чаша его терпения уже переполнена, и не успел он открыть рот, чтобы разразиться бранью, как монсеньор Касорла остановил его, протянув вперед руку:
– Позволь ей остаться, а то она потом сведет меня с ума, требуя, чтобы я ей все пересказал. Она ведь не отстанет!..
– Но какова!
– Это всего лишь естественное женское любопытство. И поверь мне, если ты сейчас же не продолжишь, я привяжу тебя к стулу и буду держать так до тех пор, пока ты наконец не скажешь, какой стороной упало распятие.
– Да вы прямо под стать друг другу! – воскликнул хозяин дома. – Одна сует нос, куда не следует, другой – обжора. Ладно! – сдался он. – Оно упало лицом вверх, и они предпочли сложить оружие. А где-то неделю спустя ветер, который на архипелаге обычно дует с севера-запада, начал поворачивать на восток, и море успокоилось. Я решил, что можно плыть, мы посадили мужчин в фелюгу в компании Фернана Молины и трех приспешников капитана, снабдили водой и пищей, и я предупредил Кастаньоса, что ни при каких условиях не позволю им опять высадиться на остров. – Генерал вздохнул и приказал Файне: – Принеси-ка вишневой настойки! Мне надо выпить.
Он подождал, не спеша выпил, закусил губу и пару минут сидел, уставив взгляд на дно рюмки, словно собирался с духом, чтобы продолжить свой рассказ.
– Они гребли изо всех сил, – наконец сказал он. – Шестеро мужчин, осознающих, что их жизнь зависит от их усилий. Поэтому они очень быстро отдалились от берега, держа курс на самый северный мыс Гомеры, который лучше всего был виден…
Генерал наполнил рюмку, осушил ее одним глотком и вновь погрузился в воспоминания – настолько глубоко, что, заговорив, даже не поднял глаз.
– Мы наблюдали за ними с вершины холма, все вроде бы шло хорошо, и мы были уверены, что они доберутся до цели. Но тут мы стали замечать, что сначала остров Тенерифе, а затем и Пальма с Гомерой стали исчезать из виду, словно некая своенравная пелена, тешась, взяла да и скрыла их от постороннего глаза.
– И что это было?
– Я совершил роковую ошибку, за которую один несу ответственность. Восточный ветер вовсе не был предвестником штиля – наоборот, вскоре должен был подуть из пустыни страшный сирокко и принести тучу клубящейся в воздухе пыли. От этого жара становится нестерпимой, а видимость ограничивается считаными метрами. Это то, что здесь называют «калима», марево.
– Очередное невезение!
– Это не невезение, – с горечью ответил генерал, не поднимая головы. – Это глупость или невежество; приметы были яснее ясного, только я не сумел их разглядеть.
– А островитяне не предупредили тебя об опасности? – тут же спросил арагонец.
– Бенейган приказал им держаться в стороне, даже Гарсе, положение которой было достаточно непростым, поскольку ее жизнь уже начала подвергаться опасности, – объяснил собеседник. – Подозреваю, что они с самого начала знали о грядущей напасти. Однако, с одной стороны, желали, чтобы Кастаньос поскорее убрался, а с другой – у них самих хватало забот, поскольку при таком резком увеличении температуры то немногое количество корма и скота, которое еще оставалось, в итоге должно было исчезнуть. Надо сказать, что в полдень остров Иерро напоминал раскаленный лист железа.
– Вот ужас!
– Еще какой, дорогой друг! Еще какой! С того места, где мы находились, можно было увидеть, как желтоватая масса постепенно заполоняет окрестности, а нам становилось все труднее дышать, и, хотя море уподобилось стоячему болоту, через какое-то время фелюга скрылась из виду, словно ее проглотило облако пыли.
– И что сталось с капитаном Кастаньосом? – не терпелось узнать Файне, которая на всякий случай села на другом конце стола. – Удалось ему добраться до Гомеры?
* * *
Диего Кастаньос был убежден, что достигнет цели – вон она, рукой подать, – благо океан пребывал в покое, а ветер дул не так уж и сильно, чтобы отклонить их от курса, который капитан задал своим людям, едва они отчалили от берегов Иерро.
По его расчетам, даже если принять во внимание то обстоятельство, что усталость быстро даст о себе знать, поскольку в последние дни их слишком ослабила нехватка воды, гребя в таком ритме, они высадятся на юге Гомеры с наступлением вечера, ну, а дальше, денек передохнув, он отправится в лагерь своего доброго друга майора Гандары (уж и не вспомнить, сколько раз они вместе наведывались к проституткам или сидели за одним игровым столом), который без лишних слов выделит в его распоряжение приличный корабль и полсотни хорошо вооруженных парней.
Не пройдет и недели, как он вернется на «свой» остров и разделается с гнусным предателем, который – вспоминать тошно – поднял мятеж и подстроил ему примитивную и унизительную ловушку.
Он греб, сидя лицом к покинутому берегу, и ему все время приходилось видеть перед собой оскорбительную картину – туземцев, взирающих на них с высоты утесов со смесью презрения и жалости на лицах. И он поклялся самому себе, что по возвращении уже не станет с ними церемониться и большинство из них будут проданы как вонючие бараны (а кто же они еще?) на рынках Танжера или Агадира.
Время от времени он оборачивался, чтобы уточнить курс, поскольку потный толстяк, сидевший перед ним, чаще зачерпывал воздух, чем воду, и с воодушевлением отмечал, что при всей явной неопытности их «экипажа» крутые обрывы Гомеры вырисовываются с каждой минутой все четче.
Капитан вновь спросил себя (эта мысль не давала ему покоя начиная с того момента, когда он ступил на борт хрупкой посудины), как это Баэсуля мог свалять дурака, позволив ему отплыть в такую тишь да гладь, тогда как, по логике, должен был турнуть его с острова, когда море, как обычно, вздыбливалось волнами, а ветер неистовствовал.
«Пожалей врага – у тебя их станет двое, – любил повторять со свойственным ему цинизмом полковник Сория. – Перережь врагу глотку – и можешь спать спокойно, пока не появится новый».
Своим необъяснимым поступком – тем, что оставил капитана в живых, – лейтенант Гонсало Баэса приобрел себе безжалостнейшего врага, собравшего в душе всю злобу и ярость, какую только может испытывать военный человек, чья гордость была уязвлена, и мужчина, чести которого было нанесено оскорбление.
– Я живьем сдеру с тебя шкуру… – бормотал он себе под нос. – И сделаю так, чтобы эта шлюха – твоя жена – стала полковой подстилкой.
Он поднял голову, обнаружил, что уже не может разглядеть туземцев, и заволновался, заметив, что даже внушительный утес и черные лавовые берега расплываются перед его глазами, словно на них упала плотная пелена.
Он обернулся и поискал взглядом остров, на который они держали курс, – тот исчез.
Через несколько минут гребцы прекратили свое занятие и растерянно переглянулись.
– Что происходит?.. – спросил Калисто Наварро, сидевший справа от него. – Какая корова слизнула языком острова?
– Боюсь, их проглотил сирокко… – подал голос озабоченный Фернан Молина, которому, как старожилу Канарских островов, было слишком хорошо известно, какую опасность в данных обстоятельствах таило в себе необычное атмосферное явление. – Вот теперь нам и впрямь крышка.
– Почему?
– Потому что калима не позволяет увидеть ни солнца, ни мало-мальского ориентира, и при такой гребле мы целую неделю будем плавать по кругу.
– Не могу поверить!.. – почти взвыл Калисто Наварро.
– Ну так придется. Вспомни-ка пословицу: «Бойся не той собаки, что лает, а той, что исподтишка кусает».
– Да чтобы лейтенанту провалиться!
Духота усиливалась, поэтому лоснящийся от пота толстяк протянул руку, намереваясь завладеть одним из двух бурдюков с водой, но капитан пресек эту попытку, схватив его за запястье.
– Ни капли! – отрезал он.
– Я подыхаю от жажды!
– От чего-нибудь все равно придется подохнуть.
Они замерли, словно превратившись в соляные столпы, на шлюпке, которая казалась пригвожденной к бескрайней синей доске, а тем временем на них оседала тончайшая и почти неосязаемая желтая пыль, похожая на перхоть. Постепенно они осознали весь ужас происходящего: у них не было даже отдаленного представления о том, в какую сторону грести, и плавать им, судя по всему, предстояло до скончания веков.
– Никто не заслуживает такого конца… – жалобно проговорил парень из Риохи, сидевший рядом с сержантом Молиной; их скамья была ближайшей к корме. – Никто.
– Не скули. Ты и так уже четыре года как должен кормить червей, а тебе дали отсрочку, – съязвил сосед, который греб с ним локоть к локтю.
– И сколько это может продлиться?
– Три дня!.. Пять! А то и больше!..
– У нас на три дня не хватит воды. Тем более в такую жару!
Капитан Диего Кастаньос повернулся к своему соседу и взглядом показал ему на уключину, служившую для упора весла. Вслед за тем он выразительным жестом показал, будто перерезает горло, кивнув на толстяка и его соседа, которые по-прежнему сидели к ним спиной.
Калисто Наварро словно только и ждал этого безнравственного и несправедливого приказа, поскольку он преспокойно вынул толстую палку из гнезда, в которое она была вставлена, и одним-единственным чудовищным ударом, нанесенным слева направо, раскроил черепа обоим ни о чем не подозревающим беднягам, которые не успели даже понять, что случилось.
Они упали ничком, толстяк – без сознания, его товарищ – замертво, и оставшиеся, недолго думая, вчетвером выбросили тела за борт и равнодушно смотрели, как те медленно тонут в бездонной сини.
– Вот так! – невозмутимо произнес командир, с подачи которого было совершено столь вероломное преступление. – Теперь воду придется делить всего лишь на четверых, но даже в этом случае мы должны расходовать ее экономно.
Вместо ответа сержант Фернан Молина схватил один из бурдюков и тут же пересел на корму.
– Ладно, капитан! – сказал он, кивнув в сторону своего соседа. – Только мы с моим другом Санчо забираем себе этот. Как вы поступите со вторым – дело ваше.
– Это мятеж, – заметил его командир. – И тебе прекрасно известно, что он карается виселицей.
– Дело касается жизни и смерти, капитан, а здесь у вас нет даже мачты, чтобы кого-либо вздернуть… – Сержант завладел ближайшим веслом и, указав на середину шлюпки, добавил тоном, не оставляющим сомнений относительно серьезности его угрозы: – Если кто-то попытается перешагнуть через эту скамью, я раскрою ему череп.
– То есть отныне мы враги?
– Я считаю врагом всякого, кто намеревается покончить со мной до срока, будь то мавр или христианин.
Таким образом, война была объявлена. Обе группы желали только одного – продержаться как можно дольше.
Мертвые не пьют.
Воцарилось молчание.
Четверо мужчин, оторванных от всего мира, следили друг за другом, осознавая, что никто никому больше не подвластен и при малейшей оплошности любой из них окажется на дне океана, поскольку тот, кто освободится от товарища, удвоит свои шансы остаться в живых.
Причудливая голова огромной черепахи выросла над гладкой синей поверхностью, неторопливо двинулась вперед и в метрах десяти от носа по левому борту растворилась в калиме. Она показалась им чуть ли не газелью, по сравнению с течением времени: по всей вероятности, это пышущий жаром воздух, который почти можно было жевать, заставил его замедлить ход.
Когда мозг сверлит мысль о том, что твоей жизни угрожает опасность, секунды превращаются в минуты, а минуты – в часы. Каждый сжимал в руке короткую и толстую деревяшку, готовый убить или защититься.
Желтый цвет уступил место оранжевому, тот – охряному, а потом подкралась ночь, которой они боялись, поскольку все четверо были уверены, что половине из них не удастся дожить до следующего дня.
Диего Кастаньос оказался наиболее проворным: как только он смекнул, что Калисто Наварро не может разглядеть его действий, незаметно вынул – левой рукой – острый кинжал, спрятанный в сапоге, и одним взмахом перерезал соседу горло.
Тогда, на острове, схватить-то его схватили, даже руки связали, а вот обыскать как следует не осмелились: как-никак главнокомандующий.
Сержант, который в течение многих лет был его доверенным лицом, неотрывно следил за правой рукой, сжимавшей уключину, и не успел заметить движение левой. С рассеченным горлом, он склонил голову на грудь, и кровь хлынула к его ногам.
В одно мгновение шансы капитана Кастаньоса удвоились.
Следующие три часа протянулись в тишине, время от времени нарушаемой какой-нибудь летающей рыбкой, которая стрелой прорезала небо, чтобы затем с легким всплеском нырнуть обратно.
Диего Кастаньос, ожидая нападения, сидел с кинжалом в одной руке и колом – в другой; он глядел в оба, но услышал только хриплый голос Фернана Молины, который прозвучал чуть ли не насмешливо:
– Вы все еще там, капитан?
– Да, я здесь.
– А Калисто?
– Спит.
– Какое совпадение! – прозвучало в ответ, а затем с особым упором на последнем слове: – Санчо тоже «уснул».
– Стало быть, нас осталось только двое. Попытаешься меня убить?
– Вода есть вода, капитан.
Прошло еще почти три часа, и капитан Кастаньос понял, что усталость начинает брать свое и нет смысла продолжать сидеть с открытыми глазами, поскольку темнота была такой непроглядной, что он не видел даже собственных рук. Поэтому он медленно разделся, отложил одежду и сапоги в сторону, сунул нож в зубы и скользнул в воду, двигаясь с осторожностью хамелеона.
Перебирая бок шлюпки кончиками пальцев, он постепенно приблизился к корме и, зацепившись за нее, выждал несколько минут, желая убедиться, что враг не заметил его передвижений.
Еще одна летающая рыба пронеслась рядом и исчезла в ночи.
Решив, что все спокойно, он взял в правую руку оружие, вылез из воды, опираясь на левую, и с силой полоснул по воздуху кинжалом, но рука ушла в пустоту.
Он чертыхнулся про себя, однако вновь погрузился в воду так, чтобы на поверхности оставалась одна голова, и, набравшись терпения, затаился.
Терпение выиграло много битв.
И столько же проиграло.
Он предпринял три попытки – и все без результата – в нескольких точках фелюги, а в четвертый раз острое лезвие погрузилось по самую рукоятку в спину сержанта Фернана Молины, который вскочил на ноги, взвыв от боли. Диего Кастаньос был достаточно сильным мужчиной, чтобы тут же забраться в лодку и наброситься на раненого, который продолжал стонать; капитан наносил ему удар за ударом, пока не понял, что тот перестал двигаться.
На рассвете третьего дня он сидел в шлюпке один, безраздельно владея обоими бурдюками с водой. Густое желтое облако постепенно отступало назад, по мере того как восточный ветер отгонял его на запад, а на горизонте не было видно ни малейшего признака суши.
По его расчетам, воды было достаточно, чтобы продержаться две недели. А между тем ветер неумолимо толкал шлюпку все дальше в глубь Мрачного океана.
17
Знойный сирокко дул восемь дней. Единственное, чем можно было заниматься в это время, – лежать в тени, стараясь не расходовать воду и энергию, или время от времени окунаться в гладь океана, усеянную маленькими коричневыми бабочками с белыми пятнами. Ветер принес их из далекой пустыни, и они не дотянули всего нескольких метров до спасительной суши.
Некоторые еще трепетали крылышками и то здесь, то там исчезали, проглоченные какой-нибудь рыбиной, которая тут же возвращалась в глубину, где вода была холоднее и приятнее.
Видимость по-прежнему была нулевой, поэтому у обитателей острова – как туземцев, так и испанцев – было ощущение, что они погрузились в какой-то причудливый мир, в котором изредка возникала человеческая фигура, направлявшаяся к морю как к последнему прибежищу.
Птицы не решались летать, а если и пытались, то самые слабые внезапно бросались на землю и успевали испустить дух прежде, чем сломать себе шею от удара о камни.
Даже игруны дельфины и неторопливые царственные киты уплыли подальше от острова, потому что всякий раз, когда они поднимались на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, вместо мягкого морского бриза им приходилось вдыхать пыль и жар.
Утром четвертого дня появился передовой отряд саранчи, однако сообразительные насекомые, должно быть, пришли к выводу, что этот небольшой остров из черного вулканического камня может превратиться в кладбище для миллионов их сородичей, поэтому, передохнув пару часов, вновь отправились в полет – ведь есть же где-то менее суровая земля.
Вероятно, они смекнули, что жить в пустыне, где яйца можно отложить в песок, это одно дело, а пытаться зарыть их в непроницаемую лаву – совсем другое.
– Если так будет продолжаться, тогда даже Гароэ не сможет нас спасти… – сказала Гарса однажды ночью, когда они не могли заснуть из-за невыносимой жары. – Старики говорят, что подобное стечение неблагоприятных обстоятельств бывало редко.
– Но что это за Гароэ такой?
– Я не могу тебе сказать, пока не родится ребенок: тогда ты будешь признан одним из наших. А в данной ситуации если бы я это сделала, то поплатилась бы жизнью. – Гарса ласково погладила его по щеке и добавила: – Тот корабль привез мне тебя, но одновременно принес острову все мыслимые и немыслимые несчастья: нас преследует злой рок.
– Я не верю в злой рок… – заметил ее муж, впрочем, без особой убежденности. – В невезение – да, но полоса невезения рано или поздно заканчивается.
– Если нынешняя полоса не поспешит завершиться, невезению больше нечем будет поживиться, разве что кучей трупов.
Достаточно было оглядеться вокруг: свет полной луны никак не мог пробиться сквозь густую завесу рассеянного в воздухе мелкого песка, – чтобы признать, что опасения островитянки имеют все шансы превратиться в реальность.
За тысячелетия человек доказал, что он способен справиться с любыми трудностями и выйти победителем, только если не борется с силами природы. И на этот раз природа не стала демонстрировать свою силу посредством разрушительного землетрясения, ужасного извержения или яростного урагана, а избрала иной, более спокойный, но все равно убийственный способ: абсолютный и безмолвный покой смерти.
Духота не давала передышки, жажда изводила, бездействие изнуряло. Казалось, нервы выступили на поверхность высохшей и потрескавшейся кожи, и лейтенанту Баэсе пришлось приложить немало усилий, чтобы держать в кулаке своих подчиненных, не знавших, куда себя деть.
Когда он решил обсудить с ними, как построить такой корабль, чтобы он был достаточно надежен и мог без риска одолеть расстояние в несколько лиг, отделявшее их от Гомеры, один только долговязый и прыщавый уроженец Кадиса, пользовавшийся вполне заслуженной репутацией вшивца и несусветного лентяя, хотя и отзывавшийся на звучное имя Курро Карро, осмелился поднять руку.
– Я никогда не строил кораблей, но видел, как это делается… – неохотно признался он; следовало отдать должное его честности. – Мальчишкой я часами сидел с удочкой на пирсе и наблюдал за стариком плотником на берегу; его мастерская находилась в метрах двадцати.
– То есть ты не подходил к верфи ближе чем на расстояние в двадцать метров? – осведомился Бруно Сёднигусто; в его тоне явно слышалось характерное для него ехидство. – Ей-богу, опыта тебе не занимать!
– Что есть, то есть… – нимало не смутившись, парировал уроженец Кадиса. – Хотя мне случалось и подзаработать – когда я помогал ему переносить доски или держал шпангоуты, в то время как он прилаживал их к килю.
– Что такое «шпангоуты»? – поинтересовался антекерец.
– Ну, вы даете, мой лейтенант! – невольно вырвалось у того, к кому он обращался. – Это такие искривленные деревяшки, которые придают форму судну; к ним еще крепится обшивка.
– А!
Для наглядности Курро Карро растопырил указательный палец и мизинец на той и другой руке, будто собрался делать «козу», и несколько раз ударил ими по коленям. Этим жестом он словно хотел снять с себя всякую ответственность.
– Не подумайте, – заметил он, – что я строю из себя умника, но, судя по тому, что я слышал от старика, шпангоуты – это самое главное, и, если их плохо положить, вся обшивка будет ни к черту.
– Что значит «вся обшивка будет ни к черту»? – заволновался Амансио Арес.
– А то, что, как только спустишь судно на воду, оно перевернется. Однажды так и получилось, и, клянусь матерью, в тот день я услышал столько крепких словечек, сколько не доводилось за всю мою жизнь. Старик метался, как в клетке, и рвал на себе волосы, и надо сказать, было из-за чего: все-таки три месяца работы – что коту под хвост.
– А еще чему ты научился?
– Конопатить.
– Это как?
– Впихивать паклю в стыки досок и промазывать корпус дегтем или смолой, чтобы не проникала вода, – снова вмешался в разговор галисиец Арес, явно гордясь собой. – Вот это у меня очень хорошо получается, потому что в фелюгу с тех пор не просочилось ни капли.
– Хвала святому Петру, хранителю ключей от рая, но в первую очередь моряку и рыбарю! – неожиданно воскликнул Бруно Сёднигусто, воздев руки, словно на него только что нашло озарение. – У нас уже есть конопатчик, или как там его называют, и вшивец, который жил неподалеку от верфи. Когда приступаем к строительству?
– Как только спадет жара… – совершенно серьезно ответил Гонсало Баэса, показывая на скелет козы, высушенный солнцем. – Тут ведь такое дело: либо мы построим корабль, либо нас ожидает тот же конец, что и ее.
– Ничего себе выбор!..
Другого выхода действительно не было. Поэтому, как только ветер переменился и духота спала, лейтенант Баэса приказал перенести «ставку» в маленькую бухту, усеянную валунами, в которую течения год за годом приносили большую часть приплывающих деревьев.
Для начала надо было выяснить, какого рода древесина больше всего подходит для строительства корабля, на котором им предстояло выбраться отсюда.
– Не имею ни малейшего понятия!.. – поспешно заявил уроженец Кадиса со свойственным ему прямодушием. – То были доски, а это бревна.
– А как мы превратим огромные бревна в маленькие доски? – поинтересовался растерянный брат Бернардино де Ансуага. – Тут нужна большая пила.
– Об этом вам следовало бы спросить у Ноя, святой отец, – заметил Сёднигусто. – В конце концов, на этом корабле поплывут, считай, одни ослы.
– Перестань молоть чепуху и давай ближе к делу, время же уходит! – одернул его антекерец. – Думаю, сначала следовало бы отобрать образцы каждого из этих бревен, бросить в воду и посмотреть, какой из них лучше плавает. Как ты думаешь?
Курро Карро ткнул себя в грудь указательным пальцем и при этом удивленно сказал:
– Я?.. Извините, мой лейтенант, но ведь я так до сих пор и не знаю, какая доска больше подходит: твердая, которая хорошо плавает, или гибкая, но не такая плавучая… – Он помолчал, с силой поскреб грязную шевелюру, давшую приют великому множеству самых разных насекомых, и закончил уже совсем за упокой: – Это что касается древесины, потому как, если вам интересно мое мнение в целом, у нас больше шансов добраться до Гомеры вплавь, чем на том, что мы тут вот так, на авось, сварганим.
Лейтенант, как будто разделяя его пессимизм, отошел в сторону, примостился на груде валунов и оттуда стал наблюдать за работой своих людей; вожделенный остров маячил на заднем плане открывшейся его взору картины.
Он спросил себя (как спрашивал по сто раз за день), как же так получилось, что длинная череда обстоятельств, соединившихся нелепым, жестоким и необъяснимым образом, завела их в беспросветный тупик. Будто некий злой дух-шалун развлекался, протягивая одной рукой счастье, а другой – беду.
Живот его возлюбленной все больше округлялся, а ее красота при этом нисколько не уменьшалась, скорее наоборот. То есть, с одной стороны, он получил то, о чем только мог мечтать мужчина, а с другой – его мучил самый горький кошмар, который преследует солдата.
Что ему теперь предстоит увидеть: как его люди потонут или как умрут от жажды?
Если подумать, придется признать, что разница между счастьем и несчастьем или же между жизнью и смертью заключена в нескольких граммах соли, растворенной в воде.
Как же несправедливо, что все зависит от такой вот малости!
Почти неосязаемая пыль, окрасившая в белый цвет соседнюю скалу, стала виновницей бедствия – из-за нее погибли целые цивилизации, не сумев утолить жажду на берегу моря. Зная, что его мысли никто не подслушает, Гонсало Баэса подумал, что творец столь нелепого мироустройства явно не справился с делом, что было бы еще простительно безбородому новобранцу, но никак не Высшему Создателю.
Или же он лишен способности к сочувствию, что не пристало хорошему отцу.
Гонсало Баэса надеялся стать хорошим отцом, и, поскольку его собственный родитель не раз повторял, что надо только «всем сердцем любить мать своих детей», он был уверен, что у него получится, потому что не представлял, как можно любить больше, чем он любит Гарсу.
Даже в такие периоды, как этот, когда судьба то и дело выказывала ему свою враждебность, мысль о том, что она рядом, была для него бальзамом, а одна минута, проведенная с нею, казалась вознаграждением за целый день невзгод и огорчений.
Подобно тому как это происходит с солью, попавшей в воду, простое соприкосновение с ее кожей становилось тонкой гранью между бытием и небытием.
Пока он наблюдал за тем, как Бруно Сёднигусто, Амансио Арес и остальные усердно занимаются подготовкой образцов, на память ему пришла старая песня, которую не раз пела команда корабля, доставившего его на остров:
Моряк, ты моря не бойся, бойся скалы. Моряк, ты моря не бойся, бойся скалы. Море качает тебя, скала – разобьет. Море качает тебя, скала – разобьет. Милая, губы не вспомнят, ты в сердце храни память мою. Милая, губы не вспомнят, ты в сердце храни память мою. Дно мне милей крутых берегов. Дно мне милей крутых берегов.Волны с грохотом разбивались об утес, к небу тотчас же вздымался впечатляющий столб пены, и у лейтенанта невольно возникал вопрос: как это люди могут доверять свою жизнь столь ненасытному чудовищу?
Бороться с океаном значило проявить подлинную смелость, это не то что драться с мавром, вооруженным такой же шпагой, как у тебя.
Любая битва рано или поздно заканчивается, и любой враг может быть повержен, а вот океан готов атаковать снова и снова, поэтому никому и никогда не удавалось его обуздать.
* * *
– Так тебе удалось построить корабль? – поинтересовался монсеньор Касорла.
– Корабль, корабль… одно слово, что корабль!..
– Так что это такое было?
– Несуразное порождение горячечных умов и неумелых рук, – искренне ответил хозяин дома. – Как уверял неподражаемый Бруно Сёднигусто, который никогда не лез за словом в карман: «Если бы у Ноя были такие помощники, человечеству не осталось бы ничего другого, как питаться лягушками до скончания веков».
– Судя по твоему рассказу, он никогда не терял чувства юмора. Что с ним сталось?
– Он был при мне несколько лет, затем уехал в Вест-Индию и, как я понял, присоединился к некоему Понсе де Леону[16], занимавшемуся поисками острова, на котором якобы находится мифический источник вечной молодости. Если такой источник на самом деле существует, Бруно его найдет, ему это будет весьма кстати, поскольку он уже далеко не молод.
– Ты по нему скучаешь?
– Моя способность скучать исчерпала себя со смертью Гарсы, хотя, должен признаться, я часто о нем вспоминаю и благодарю небо за то, что мне довелось с ним познакомиться. Когда мы спустили наше горе-судно на воду, он вцепился в штурвал, уверяя, что приведет корабль прямиком на Гомеру.
– И сделал это?.. – спросила Файна со смесью робости и страха. – Корабль-то поплыл?
– Поплыл, поплыл… – ответил хозяин, изобразив улыбку, словно ему самому все еще не верилось в подобное чудо. – Это было самое невзрачное и нескладное сооружение, которое когда-либо спускали на воду, однако вопреки всем прогнозам вшивец Курро Карро установил эти самые шпангоуты весьма удачно.
– Пути Господни неисповедимы! – очень серьезно изрек прелат, протягивая руку, чтобы налить себе более чем щедрую порцию вишневой настойки. – Таинственны и неисповедимы!
– И не говори, дорогой друг! И не говори! – охотно согласился антекерец. – Даже недоверчивый Амансио Арес перекрестился и упал на колени, возблагодарив святого Христофора за то, что тот сотворил столь неожиданное чудо. И тогда я понял, что должен разделить судьбу моих людей и покинуть остров.
– Почему? – спросила старая кухарка. – Отправившись с ними, вы вовсе не увеличивали их шансы добраться до Гомеры.
– Конечно! Скорее уменьшал: все-таки дополнительный груз. Но мне не хотелось, чтобы появилось еще одно пятно в моем испорченном послужном списке и меня считали трусом и дезертиром. До того момента как это сооружение начало плавать, я даже не рассматривал всерьез подобный вариант, поскольку никогда не думал, что мы как плотники на что-то способны, тогда как в противоположность мне эта измученная кучка смельчаков полагалась на меня как командира. Поэтому я чувствовал себя просто обязанным разделить их участь, пока мне не удастся доставить их целыми и невредимыми на христианскую территорию.
– А что думала Гарса о твоем отъезде?
– Она никогда об этом не думала, потому что начиная с того утра, когда мы впервые увидели друг друга, мы оба знали, что никогда не расстанемся. И хотя наверняка ей было больно оттого, что приходилось покидать привычный мир ради чужого, который ее пугал, она была готова сесть на судно без всяких возражений, как только я отдам приказ.
– Вот если бы раньше я могла так полюбить… – чуть слышно проговорила добрая женщина. – Мой-то муж был болван.
– Матиас был славным малым, и ты его просто обожала, зловредная старуха, – нахмурившись, укорил ее генерал. – Когда он умер, ты так плакала, что у меня в супе была одна вода.
– Это были слезы радости.
– Да ты просто лицемерка и лгунья!.. – бросил ей генерал. – Ты не находила себе места от ревности, как только здесь появлялась дочка молочника.
– Почему бы вам не оставить в покое бедного Матиаса, а тебе не продолжить историю о корабле? – вмешался прелат, прервав свое занятие: он потягивал любимую вишневую настойку.
– Историю о корабле?.. – вопросительно повторил хозяин дома. – Думаю, что не было на свете такого корабля, на который возлагалось бы столько надежд. Люди работали денно и нощно и отбили себе все пальцы, пытаясь справиться со сложным делом: заставить его появиться на свет из утробы старых забытых бревен. Не было никогда! Однако всего лишь на второй день после его спуска на воду, когда мы установили мачту, натянули парус и сложили на палубе наши скромные пожитки, послышался взрыв, земля легонько содрогнулась, и почти тут же над вершинами Пальмы поднялся столб густого черного дыма.
– Извержение вулкана в тот момент, когда вы готовились к отплытию? – сердито спросил прелат. – Ты меня разыгрываешь!
– Не знаю, почему ты так решил, только уверяю тебя, что мы не придали значения происшествию. Ведь Пальма находится почти на таком же расстоянии, что и Гомера, и мне казалось, что мы подвергаемся меньшей опасности, чем в ту ночь, когда проснулся маленький вулкан в каких-нибудь двух лигах от того места, где мы спали, и Гарса даже не удосужилась проснуться, чтобы на это взглянуть.
– Речь идет о том самом вулкане Пальмы, который мы видели вчера?
– Мне так и не удалось это выяснить. Одно могу сказать: спустя несколько минут островитяне, находившиеся на вершине утеса, начали свистеть как сумасшедшие. Тут же прибежали Бенейган с Тауко, чтобы предупредить нас о том, что необходимо вытащить судно на берег и отойти подальше.
– Почему?
– Надвигалась волна.
– Какая волна?
– Та, которую породило землетрясение, последовавшее за извержением. Ее называют «голубая стена», и это название, по моему скромному мнению, подходит как нельзя лучше, поскольку она надвигается быстро и бесшумно, словно грозная стена почти двадцатиметровой высоты. Как мы ни пытались спасти корабль, пришлось все бросить и бежать вверх по склону: это проворное чудовище угрожало нас раздавить, – и начался настоящий хаос, в котором, к счастью, в тот раз никто не погиб.
– А корабль?
– Волна поглотила его, чтобы затем извергнуть, превратив в груду щепок, – за пару минут она свела на нет три недели работы, разбив всякую надежду на спасение, которая у нас еще оставалась.
Монсеньор Алехандро Касорла и старая Файна настолько увлеклись рассказом, что первый даже потерял всякий интерес к своей рюмке с наливкой, но все-таки рубанул воздух рукой, словно стремясь что-то пресечь.
– Это уже переходит всякие границы! – воскликнул прелат, в голосе которого явственно слышалась обида. – Как бы хорошо я тебя ни знал и как бы тобой ни восхищался, тебе не удастся убедить меня в том, что в такой короткий отрезок времени может случиться сразу столько несчастий. Либо тебя подводит память, либо, по моему скромному разумению, у тебя разыгралась фантазия.
Генерал Гонсало Баэса, судя по всему, не обиделся на резкое замечание. Он спокойно воспринял суровый упрек, понимая, что именно так и должен был отреагировать тот, кто впервые услышал обо всех невероятных событиях, произошедших на затерянном острове меньше чем за год.
– Старый Тенаро уверял, что удача и рок составляют плодовитую пару, которая произвела на свет целую кучу отпрысков, только они никогда не держатся вместе, – сказал он наконец. – Некоторые тянутся к отцу, другие – к матери, однако, когда те или другие вздумают сесть тебе на закорки, ни за что не отвертишься: такова судьба…
– Глупости!.. – перебила его неугомонная кухарка с непозволительной для человека ее положения бесцеремонностью; то, что она много лет вела хозяйство, никак не могло служить оправданием. – Извините меня за мои слова, только все, что вы тут наговорили про капризы судьбы и про странное стечение неблагоприятных обстоятельств, вызванных неким высшим существом, сущий вздор.
– Немного уважения, я же просил!..
– Вам известно, что я вас уважаю, только ведь я уроженка этих островов и не счесть сколько раз пережила засуху; каждые три-четыре месяца по неделе жутко маюсь из-за чертова сирокко, который обжигает легкие; частенько меня будили землетрясения, а вчера вы сами наблюдали извержение вулкана на Пальме. Все это здесь – обычное дело! – заявила она, несколько раз ударив по столу сжатым кулаком. – И когда рыбаки видят, что приближается одна из этих ужасных «голубых стен», они просто-напросто взбираются на самые высокие скалы, чтобы побыстрей вернуться и собрать рыбу, которую большая волна, откатываясь, оставляет на берегу… – Она смущенно посмотрела на хозяина и гостя: похоже, ее сбивало с толку то обстоятельство, что они не выпроводили ее без разговоров, а внимательно слушали; осмелев, она продолжила: – Это как если бы у меня вдруг случилось расстройство живота, две недели спустя я простудилась, а через месяц подвернула ногу или обожгла палец кипящим маслом. Такое часто бывает, я же из-за этого не умираю. – Она вновь помолчала, чтобы обдумать то, что скажет дальше: – Но если я случайно проглочу червяка вроде отвратительного солитера, который будет сосать мою кровь, грызть печень и вдобавок заставит меня лезть на стенку от боли, небольшой понос, который прежде бы длился три дня, может меня доконать.
– Грубо, зато наглядно! – согласился ее хозяин. – Значит, ты хотела этим сказать, что мы, испанцы, что-то вроде гигантского и отвратительного солитера, сосущего кровь, грызущего печень и доводящего людей до помешательства… Или я ошибаюсь?
– Как может ошибаться человек, который все это пережил и хлебнул горя сполна? – поинтересовалась островитянка. – Если я с годами что-то и усвоила, так это то, что вред, причиненный кучкой людей, перевешивает сотворенное остальными добро. Поэтому, если бы бесноватых «причисляли к лику», вроде того, как это делают со святыми, список кандидатов был бы длиной отсюда до Такоронте. – Она чуть ли не угрожающе наставила палец на монсеньора Касорлу и при этом сказала: – Так что прошу вас взять назад свое дурацкое утверждение, будто мой хозяин заговаривается, иначе сегодня вечером вам придется ужинать луком и каштанами.
Тот прижал руку к груди и склонился в знак смирения, произнеся комически высокопарным и напыщенным тоном:
– Беру назад вышесказанное злосчастное утверждение, но не под давлением жестокой угрозы, которая, честно говоря, повергает меня в ужас, поскольку я видел, что ты зарезала аппетитного поросенка, и наверняка не затем, чтобы прочитать судьбу по его внутренностям, скорее он предназначен нам для сочного ужина. Я забираю свое утверждение назад, отступая перед неоспоримой логикой некоторых умозаключений, которые сводятся, говоря твоим неподражаемым языком, к шести простым словам: «Мы, испанцы, куда ни придем, нагадим».
– Одни больше, другие меньше.
18
«Голубая стена» унесла с собой всякую надежду на спасение, и все это знали.
Видно, океан, проглотив корабль и вернув его в виде груды щепок, захотел лишний раз продемонстрировать свое всемогущество. Если уж он решил, что те, кто несколько месяцев назад отважился высадиться на самый дальний из его островов, не двинутся оттуда без его соизволения, значит, им придется там остаться – в плену у волн, под охраной ветров, – пока он не придумает, что с ними делать.
По преданию, иногда с вершин Иерро можно увидеть еще один остров, Сан-Борондон, который, показавшись, по непонятной причине вновь уходит под воду. Старик Тенаро, уверявший, будто видел его, считал, что данное явление лишь служит доказательством того, что море господствует над землей, поскольку может утянуть ее на дно по своему желанию.
– Человек, который осмеливается царапать кожу океана своими кораблями, всегда будет испытывать на себе его ярость… – говорил он. – Море предназначено для рыб, которые плавают, а не для существ, которые ходят; эти должны оставаться там, где определил им быть Создатель.
Легенда ли это была или правда, суеверие или умозаключение туземцев, которые никогда не стремились победить непобедимое, только испанцы так и не сумели оттуда вырваться и умирали от жажды, окруженные бескрайней водой, которую не могли пить, в то время как соседний остров маячил на горизонте, оставаясь таким же недосягаемым.
Бенейган запретил своим людям приближаться к пришельцам, которые словно были отмечены печатью несчастья. Поэтому островитяне вдруг исчезли, будто по волшебству, даже их своеобразные пересвисты больше не пронзали воздух.
– Это не жестокость… – попыталась объяснить Гарса. – Это беспомощность. Ведь я хорошо их знаю – и уверена, что они страдают, видя, как мы умираем такой страшной смертью, но ничего не могут поделать: воды едва хватает, чтобы выжить. И меня не удивило бы, если бы моя семья поступила точно так же.
– Возвращайся к ним! – упрашивал ее муж.
– Ни за что: мой долг и мое единственное желание – быть рядом с тобой.
– Твой долг – выжить самой и сохранить ребенка.
Ответа он не получил. Несчастная девушка уже знала или предчувствовала, что этот, столь желанный ребенок решил не появляться на свет – в мир, где его не ожидало ничего хорошего.
Огромная волна словно вырвала его из утробы, превратив точно так же в груду щепок, и дело было не в том, что он уже не шевелился, просто у девушки появилось горькое ощущение, что она перестала быть матерью – понять это может только беременная женщина, это не выразить словами.
Известно же, что матери чувствуют, когда ребенок умер, даже находясь от него за сотни километров. И уж тем более чувствовала это женщина, которая вынашивала его в утробе.
Его крохотное сердечко уже не перекликалось с ее собственным сердцем и не отзывалось, когда в ночной тишине она шептала ему о любви.
Она была совершенно уверена, что он ее покинул, хотя он оставался в ней, и что их внутренняя связь оборвалась раньше, чем оборвется пуповина, связывающая их физически.
Не существует более глубокой пропасти, чем та, которая разверзается под ногами матери, теряющей своего ребенка, потому что его исчезновение равносильно исчезновению половины ее души.
И хотя пропасть, в которую погружалась несчастная Гарса, казалась бездонной, душевное состояние прочих обитателей крохотной бухты было не намного лучше. Утром третьего дня окончательно опустившийся и завшивевший Курро Карро предстал перед командиром, нехотя изобразил что-то вроде приветствия, отдаленно смахивающее на военное, и хриплым голосом произнес:
– Я же вам говорил, что у нас больше шансов добраться до Гомеры вплавь, чем на нашей бандуре, мой лейтенант. Как видите, я не ошибся, и, поскольку у меня нет мочи все это терпеть, я попытаюсь.
Он, шатаясь, направился к морю, зашел в воду и поплыл саженками, не торопясь, провожаемый равнодушными взглядами измученных товарищей, которые хорошо понимали, почему он так поступает.
Отплыв от берега метров на двести, он обернулся, чтобы помахать рукой, и сдался.
Море качает тебя, скала – разобьет. Море качает тебя, скала – разобьет.Хотя Курро Карро родился и вырос на берегу моря, видел, как строят корабли, и даже сам спроектировал один, способный плыть по волнам, он никогда не чувствовал себя моряком. И все же он понял, что те, кто пел эту печальную старинную балладу, были правы, и лучше всего было умереть в морской пучине.
Тем не менее океан на следующий день вернул его тело. Он не захотел его качать и разбил о камни.
Брат Бернардино де Ансуага кое-как пробрался к подножию утеса и опустился перед мертвецом на колени, чтобы помолиться о его душе: принимая во внимание обстоятельства, нельзя было считать, что тот совершил непростительный грех, – а затем чуть ли не ползком дотащился до того места, где находился Гонсало Баэса.
– Я хотел бы исповедовать и соборовать парней, – сказал он. – Ты даешь мне на это разрешение?
– Это не в моей компетенции, святой отец. В том, что касается их совести, они свободны выбирать, как покинуть сей мир, это уже не мое дело.
– Я не хотел проявлять к тебе неуважение.
– Какое тут может быть уважение? – спросил антекерец. – Мне надлежало о них заботиться, а они, как видите, угасают прямо на глазах.
– Это не твоя вина.
– А чья же? Может, того, кто предпочитает, чтобы они предстали перед его Божественным ликом причащенными и исповедовавшимися?
– Не следует так говорить, ведь близится момент, когда тебе придется предстать перед ним.
– Да ладно вам, брат Бернардино! – воскликнул собеседник. – Не время сейчас обсуждать тот свет и жестокость или доброту Господа. Займитесь выполнением ваших обязанностей, а то скоро вам некого будет спасать. Амансио умер.
Бедный доминиканец, похоже, понял, что ничего другого ему не остается, и направился туда, где Бруно Сёднигусто, пригорюнившись, сидел рядом с телом своего приятеля, положив руку на его плечо. Саморец словно бы старался ободрить галисийца, когда тот пытался преодолеть трудный барьер; на самом деле все препятствия были уже позади.
– Как ты себя чувствуешь, сын мой? – осведомился доминиканец.
– Да вот сижу здесь как дурак с вымытой шеей: этот чертов галисиец ушел по-галисийски, даже не простившись, и боюсь, он не собирается возвращаться, опасаясь, что я устрою ему взбучку.
– Он был хорошим человеком. Ты хотел бы исповедаться?
– Что бы мне хотелось, так это никогда не исповедоваться, – дерзко ответил саморец, который оставался верен себе даже при самых худших обстоятельствах. – Однако, если учесть, как было дело с беднягой Амансио, лучше уж заранее подстелить соломы, на случай если придется упасть… – Он сделал короткую паузу, наспех перекрестился и пробормотал сквозь зубы: – Исповедуюсь от всего сердца, искренне раскаиваюсь во всех своих грехах и обещаю исправиться, потому что, помимо всего прочего, у меня не будет времени совершить их снова… Так сойдет?
– Я не уверен.
– Ну так решайте поскорее, потому что другие ждут, а если я стану рассказывать, сколько дров наломал за всю свою жизнь, вон те трое в углу отправятся прямиком в ад.
– Ладно! Отпускаю тебе грехи во имя Отца, Сына и Святого Духа.
– Аминь!.. И советую вам начать с Венансио Козопаса: сдается мне, что у него уже начали разбегаться козы.
– Ты никогда не изменишься, сын мой!
– Да уж поздно!..
Он подождал, пока монах отойдет подальше, и, когда тот уже не мог его услышать, ласково похлопал по плечу своего мертвого товарища и сказал:
– Не волнуйся насчет того, что, если не исповедался, попадаешь прямо в ад – это все брехня. Главное, что ты был тем, кем был, – парнем что надо.
Бедный Венансио Козопас уже терял сознание, в полубреду (слов почти нельзя было разобрать) перечисляя свои грехи, когда Гарса опустилась рядом с ним на колени и протянула ковшик воды, который наполнила из бурдюка у себя за спиной.
– Подходите все! – пригласил пораженный священник. – Воды хватит всем.
Лейтенанту Баэсе, Бруно Сёднигусто и Акомару пришлось втроем сдерживать натиск отчаявшихся людей, пытавшихся захватить воду силой, и установить строгую очередь. Каждый проходил ее три раза, выпив свою порцию в три приема, чтобы избыток жидкости после двухдневной жажды не причинил вреда.
По завершении третьей раздачи бурдюк, который вначале был полнехонек, наполовину опустел.
– Нам пора идти… – сказала девушка тоном, не допускающим возражений. – И приготовьтесь к тому, что путь будет долгим.
– Куда мы идем? – поинтересовался ее муж.
– Чтобы принести еще воды.
– К Гароэ?.. – Видя, что Гарса не решается ответить, он сказал: – Ты не должна этого делать: ты сама мне говорила, что это будет стоить тебе жизни.
– Все изменилось.
– Что изменилось?
– Я не собираюсь давать объяснения, потому что уверена, что ты никогда не согласишься с тем, чтобы я спасла тебя одного, без твоих людей. – Островитянка пожала плечами, словно вывод напрашивался сам собой. – Хуже, если умрешь ты, а не я, так что не будем терять времени, поскольку оставшейся воды едва хватит, чтобы добраться до того места, куда мы идем.
Она была права: крутые тропки, по которым вскоре им пришлось карабкаться с риском для жизни, требовали от изнуренных путников огромных усилий. Жалкое это было зрелище: восхождение давалось им с большим трудом, те, кто покрепче, подставляли плечо товарищам, которые порой были не в силах сдвинуться с места.
Не прошло и получаса, как капрал из Алкаррии, известный тем, что обычно открывал рот только для приема пищи, неожиданно рухнул на землю. Бруно Сёднигусто, всегда готовый прийти на помощь, попытался привести его в чувство, но безрезультатно.
Капрал тщился поймать ртом воздух и пару раз трепыхнулся, словно рыба, вытащенная из воды. Ему не хватило сил даже на то, чтобы испустить последний вздох.
Островитяне наблюдали за ними с вершин обрывов.
Достаточно было выставить вперед ногу и пнуть ближайший камень – и ненавистных чужеземцев смело бы лавиной. Однако островитяне словно превратились в каменные изваяния – безмолвные и неустрашимые. Вероятно, их поразила отвага людей, которые в их представлении уже давно должны были признать свое поражение.
Тропинка с каждым разом становилась все более крутой, извилистой и петляющей; приходилось идти по краю пропастей, дно которых едва можно было разглядеть. Когда выбившийся из сил мурсиец, передвигавшийся чуть ли не на четвереньках, оступился и, не успев ухватиться за выступ, с воем полетел вниз, никто не повернул головы, чтобы проводить его взглядом, будто кровь застыла у них в жилах.
Или загустела до такой степени, что превратилась в рыжую глину.
Солнце стояло прямо над головой, и если они не обливались потом, так только потому, что ему не из чего было взяться.
Стенки бурдюка слиплись изнутри еще до того, как испанцам удалось одолеть половину пути.
– Далеко еще?
Даже отважная Гарса, которая проходила по этой тропинке великое множество раз, была не в силах ответить на столь нехитрый вопрос: усталость мешала ей прикинуть расстояние.
Но одно она знала точно: то, к чему они так стремятся, находится на вершине крутого утеса, – а потому просто продвигалась вперед шаг за шагом, словно карабкалась в полусне по отвесным склонам самого ада.
За поворотом они столкнулись со стариком Тенаро, он сидел на камне с небольшим сосудом на коленях.
Не говоря ни слова, он позволил каждому сделать по глотку.
Сверху, с другой стороны широкого и глубокого ущелья, за ними наблюдал Бенейган, как всегда опираясь на копье, с которым он никогда не расставался.
Лейтенант Гонсало Баэса даже не пытался угадать, что творится в уме туземца; главное, чтобы тот не решил поднять оружие над головой, призывая к атаке. Если он это сделает, их убьют; если не сделает, позволит древнему секрету своего народа, легендарному Гароэ, благодаря которому поколения островитян из века в век преодолевали все невзгоды, попасть в руки тех, кто причинил им столько вреда и еще причинит в будущем.
Таинственный остров на краю света вместе со всеми его обитателями навечно окажется во власти нежеланных чужаков, которые толпами понаедут сюда из далекой страны, находящейся по другую сторону океана.
Только у кого хватит духу хладнокровно убить горстку умирающих?
Бенейган проявил себя замечательным правителем, который знал, как поддержать мир, но не знал, как противостоять войне.
Когда он взял на себя честь стать представителем верховной власти своего народа, он не мог даже подозревать о том, что в итоге столкнется с требовательной совестью, которая в худший момент превратится в его злейшего врага.
По этой причине он так и не поднял копье над головой.
Воспрянув духом благодаря живительному глоточку воды – спасибо старику Тенаро, – кающиеся грешники возобновили шествие, следуя за той, которая бросила вызов самым древним законам своего народа, зная, что раскрытие «Большого Секрета» повлечет за собой страшное наказание. И вот, после почти двухчасового изматывающего похода, достигнув вершины горы, они увидели то, ради чего претерпевали такие мучения.
Гароэ!
Выбившиеся из сил испанцы волей-неволей начали переглядываться – с ужасом, изумлением и разочарованием, – так как, сколько бы они ни озирались вокруг, нигде не было видно обещанного обильного источника, который должен был спасти им жизнь.
– Куда нас привели? – почти рыдали двое из них – видно, бедняги совсем упали духом.
– К священному дереву.
– К священному дереву? – недоверчиво переспросил брат Бернардино де Ансуага. – Это шутка, дочь моя?
– Никаких шуток, святой отец, это же Гароэ.
– Хвала Господу! – не удержался от восклицания бедный доминиканец, хватаясь за голову. – Святых у нас более чем достаточно, Гарса. Чего нам не хватает, так это воды.
Вместо ответа девушка прошла вперед, пролезла среди густых ветвей и вскоре вернулась с самодельным ведром из козьей шкуры, до краев наполненным самой вкусной, чистой и свежей водой, какую только доводилось пить испанцам с того дня, когда они высадились на остров.
– Священное дерево плачет, – вот и все, что сказала она.
И так оно и было.
Они увидели перед собой величественную липу пятнадцатиметровой высоты с толстенным стволом, который не удалось бы обхватить и семерым взрослым людям, и такой обширной, густой и спутанной кроной, что среди ее ветвей могли бы свить гнезда тысячи птиц, не мешая друг другу.
По каждому из миллионов блестящих темно-зеленых листьев тихо скатывалась капля воды, отскакивала от следующего листа и падала на какой-то из располагавшихся ниже. Это непрерывная дробь звучала, словно упоительная симфония, показавшаяся испанцам самой дивной музыкой – так бы сидели и слушали хоть сотни лет.
Они просто не верили своим глазам: дерево плакало слезами радости.
Оно росло на вершине горы, на высоте тысяча метров над уровнем моря, невидимое с берега, но открытое северным ветрам, дующим с океана. Неисчислимые листья гигантской липы улавливали влагу, приносимую туманами, которые почти ежедневно овладевали вершинами. И как только вновь выходило солнце, она превращалась в миллионы капель, которые под конец образовывали крохотные водопады, стекающие внутрь подземных водосборников; целые поколения островитян с бесконечным терпением трудились над тем, чтобы выкопать их в каменистой почве.
– Вот это действительно чудо, куда там святому Панкратию, который ни разу не соизволил ниспослать мне хотя бы жалкое мараведи![17] – не удержался от комментария зачарованный Бруно, рухнув рядом со своим обессилевшим и мокрым от пота командиром, растянувшимся на густой траве, которая росла вокруг покрытого мхом ствола. – Вы ожидали увидеть что-либо подобное, лейтенант?
– Нет, мне такое даже присниться не могло.
– Можно считать это чудом?
– Насколько мне известно, чудеса случаются лишь время от времени и далеко не каждый день, – весьма здраво рассудил антекерец. – Предполагаю, что это скорее что-то вроде росы.
– В наших краях роса появляется только на рассвете, а не во всякое время, – возразил саморец.
– Но ведь это же Иерро, дорогой Бруно. Последний остров! Я уже привык к тому, что здесь происходят необъяснимые явления. Даже дерево плачет! – Он широко улыбнулся, прежде чем добавить: – Надеюсь, мой сын, который будет носить его имя, не будет столько плакать.
– Моя бабка говорила, что это хорошо, когда ребенок выплачет все свои слезы в колыбели. Что мы теперь будем делать?
– Пить в разумных количествах, делиться водой с островитянами и поклянемся своими матерями, что никогда не выдадим главный секрет тех, кто сохранил нам жизнь, когда она была у них в руках.
– Сдается мне, что последнее будет трудно выполнить, – заметил собеседник. – Провалиться мне на этом месте, если эта честная компания не мечтает рассказать в таверне у себя в деревне, как они были свидетелями настоящего чуда на другом конце Мрачного океана. Уж я бы не удержался!
– Я тебе выколю глаза и отрежу язык.
– Прошу прощения, мой лейтенант, только если я в чем и уверен, так это в том, что лишь «дикари» способны хранить такого рода секреты. Нам, «цивилизованным», нравится распускать язык, когда он чешется, зачастую и тянуть за него не надо, ведь нас хлебом не корми – дай только возможность утереть нос всем остальным: мол, я это знаю, а они – нет.
– Я порой удивляюсь, как так получилось, что ты, такой ушлый, дослужился только до сержанта, да и то потому что я тебя произвел, так как мне деваться было некуда.
– Неужто требуется еще какое-то доказательство моей изворотливости? – ухмыляясь, ответил Сёднигусто, к которому, судя по всему, окончательно вернулось его своеобразное чувство юмора. – Что, у лейтенанта меньше проблем, чем у меня, сержанта?
Его спутник не мог не признать, что смышленый парень, как всегда, прав. Чин лейтенанта, не слишком высокий в табели о рангах, доставлял ему одни хлопоты и, как видно, будет доставлять и дальше. Хотя на сей раз опасность миновала и в этот несчастливый день его люди не погибли все до единого, будущее по-прежнему представлялось весьма неопределенным.
Чудесное дерево действительно давало превосходную воду, однако лейтенанту достаточно было прикинуть на глазок вместимость водосборников – они были почти пусты, – чтобы прийти к выводу: сколь бы многочисленными ни были слезы, их никак не хватит, чтобы удовлетворить все потребности в период засухи.
Он поискал глазами Гарсу, нигде не обнаружил, но даже не успел встревожиться, поскольку неожиданно появился (как всегда, точно вырос из-под земли) неуловимый Ящерица, который бросился ему в ноги, норовя поцеловать сапоги.
– Хоть каплю воды, мой лейтенант! – прорыдал он. – Повесьте меня, но не дайте умереть в муках.
Гонсало Баэса разрешил дать ему воды, и несчастный дезертир, как только ему удалось восстановить силы, сознался, что все это время прятался на берегу, питаясь крабами и ящерицами, но что даже тот источник, к которому можно было пробраться во время отлива, истощился. Бродя по горам, он увидел, как они поднимаются по склону, и решил последовать за ними, хотя знал, что рискует быть схваченным.
– Дело дрянь, мой лейтенант, – сказал он в заключение. – Совсем плохо, потому что у островитян уже не осталось соленой воды, чтобы смешивать с этой.
– Если Господь соблаговолил защищать нас до сих пор, мы должны надеяться, что Он будет делать это и дальше, – изрек брат Бернардино де Ансуага, подходя к ним: он успел услышать последние слова. – Я рад видеть тебя живым, сын мой.
– А мне приятно видеть соотечественника, пусть даже на нем болтается нечто, отдаленно напоминающее сутану, – непочтительно ответил человечек, который, впрочем, тут же спросил: – Не могли бы вы исповедать преступника, которого вот-вот повесят?
– С превеликим удовольствием, но надеюсь, что, учитывая особые обстоятельства, в которых мы оказались, лейтенант проявит милосердие, а то и вовсе придет к выводу, что не стоит тратить время на то, чтобы казнить такую пустельгу.
– Никто никого не будет вешать, пока я здесь командую, Ящерица, – сказал Гонсало Баэса тоном, не оставляющим никаких сомнений. – Мы и так понесли слишком большие потери. Правда, если ты и дальше будешь валять дурака, клянусь, что не только казню, но еще и прикажу, чтобы перед этим тебе всыпали пятьдесят ударов кнутом. – Он взмахнул рукой, спешно отсылая его прочь. – А сейчас разыщи-ка Гарсу и попроси ее прийти: надо, чтобы она мне объяснила, что такое задумал Бенейган.
Тот помчался со всех ног, и, глядя ему вслед, лейтенант в очередной раз отдал должное его прозвищу. Хотя силы антекерца были почти на пределе, губы невольно растянулись в улыбке.
– Ну и вояки! – воскликнул он. – Хотелось бы мне посмотреть, что делал бы на моем месте Юлий Цезарь!
– Напомню тебе, что Юлия Цезаря убили его друзья… – заметил доминиканец. – А я могу поставить на карту лохмотья, оставшиеся от моей сутаны, что ни один из этих людей не поднимет на тебя руку.
– Хотя причин-то у них предостаточно.
– Лейтенант! – неожиданно раздался чей-то встревоженный крик. – Идите сюда, лейтенант. Скорее!
Они бросились на крик солдата, который отчаянно махал руками, стоя на самом краю пропасти, и увидели на другой стороне ущелья десятка два островитян – что-то вроде торжественного шествия с Гарсой во главе.
Девушка шла неторопливо, с поднятой головой, не выражая никаких эмоций, неотрывно глядя на горизонт, простиравшийся за утесом, резко обрывавшимся в море, и лейтенант Гонсало Баэса, родившийся в Антекере, тотчас, без всяких объяснений, понял, что его мечтам и надеждам на счастье никогда не суждено сбыться.
Ноги у него подкосились, и он не упал только потому, что Бруно Сёднигусто его поддержал. Он попытался закричать, но из горла не вырвалось ни единого звука.
Дойдя до края тропинки, девушка остановилась, обернулась и твердо, как она одна умела это делать, посмотрела на него, и, несмотря на расстояние, он смог прочесть в ее глазах ту же любовь, какая была в тот далекий день, когда он впервые увидел ее в бухте.
Прошло всего лишь несколько мгновений – коротких-прекоротких, длинных-предлинных, горьких-прегорьких, которые никогда не хочется вспоминать, но которые никогда не забываются: это по их вине жизнь цельного человека превратится в вечное наказание, – пока Гарса вновь не перевела взгляд на горизонт, и тогда великан Тауко медленно шагнул вперед и мягко толкнул ее в спину.
Я похоронил Гарсу в своем сердце. Нет места ближе, теплее, где было бы больше любви. Цветы там не вянут, плита никогда не покрывается грязью, тогда как в ее могиле лежат только кости — кости, которые я никогда не видел. Там от нее ничего не сохранилось — ни от ее глаз, ни от ее голоса, ни от ее смеха, ни от ее запаха. Могила есть могила, другое дело – боль.Это единственное стихотворение, написанное лейтенантом Гонсало Баэсой. Однако каждое слово пронизано болью, которая не оставляла его с того самого момента, когда он увидел, как женщина, которую он любил и которая носила под сердцем его будущего сына, падает в пропасть, а волна, разбившись о подножие утеса, поднимается вверх и, словно желая смягчить страшный удар, принимает ее в белую пену своих рук.
Всемогущий океан тем самым признал, что такую красоту нужно оберегать даже в мгновение смерти.
19
– Ее все любили, никто не желал ей зла, однако самый древний закон ее народа, закон, существовавший не одно столетие, приговаривал к смертной казни всякого, кто раскроет чужаку секрет священного дерева…
Монсеньор Алехандро Касорла и старая Файна, казалось, потеряли дар речи и своим долгим молчанием, как можно было предположить, почтили память той, которая пожертвовала жизнью ради любимого человека.
Наконец первый едва слышно проговорил:
– Я бы назвал их дикарями, если бы не был свидетелем того, как сжигали на костре невиновных, осужденных на основании гораздо более нелепых законов. Теперь мне ясно, почему ты отказываешься принимать это назначение.
– Возвращение на остров не разбило бы мне сердца, ведь в тот день оно умолкло навеки… – признался генерал, который, словно желая отвлечься, вертел в пальцах пустую рюмку. Он все не решался отвести от нее взгляд из опасения, что его глаза выдадут, как сильно он расстроился, рассказывая финал столь горькой повести. – Но, честно говоря, я не чувствую себя способным оказаться один на один с собственными воспоминаниями. Настаивать, чтобы я вернулся в бухту, где познакомился с Гарсой, на берег, где мы предавались любви, или на то место, где она объявила мне, что у нас будет ребенок, значит требовать слишком многого.
– Понимаю. Что было потом?
– А то, что мы прошли через все муки ада. Помню, я утратил ощущение реальности, все случившееся казалось мне кошмарным сном. А судьбе словно вздумалось вновь над нами посмеяться: через три недели зарядили дожди, воды вылилось больше, чем за предыдущие четыре года. – Хозяин дома пожал плечами: мол, непонятно, как все это можно перенести, – и заключил: – Вот такие это острова, такими они и останутся до скончания веков. – Опечаленный генерал Гонсало Баэса осторожно поставил рюмку на стол, улыбнулся той отрешенной улыбкой, которая появлялась на его лице, только когда он говорил о единственной любви в своей жизни, и добавил: – Сменный гарнизон прибыл в намеченный срок, я вернулся на какое-то время в Антекеру, и с тех пор моя жизнь превратилась в бессмысленное странствование в поисках дерева, с которого сочилась бы вода, способная смягчить мои страдания, но я не нашел такого.
– Такого, наверное, не существует.
– Да! Никогда не было и не будет. В мирной жизни я чувствовал себя ненужным, а в бесчисленных баталиях, в которых я участвовал, никто так и не удосужился выпустить мне кишки, предпочитая разделаться с несчастными бедолагами, умолявшими сохранить им жизнь.
– Подставлять брюхо, чтобы его вспороли, значит пренебречь самопожертвованием Гарсы, – проворчала хмурая кухарка. – Не думаю, что она бы на это пошла, зная, что вы тут же полезете на рожон, ища погибели. Но я уверена, что, где бы она сейчас ни находилась, она чувствует себя счастливой, оттого что прошло столько лет, а вы ее все так же любите, как в первый день. Важен только след, который мы оставляем в окружающих, все прочее исчезнет.
– И где только ты этому научилась? – удивился ее хозяин.
– Когда моешь тарелки, успеваешь о многом поразмыслить! Расскажите нам о Гароэ еще что-нибудь, – попросила она. – Слыхать-то я о нем слыхала, а вот человека, который бы его видел, не встречала.
– Как и утверждала Гарса, такого красивого дерева не сыскать на всем белом свете. Оно мне часто снится… чтобы я еще раз послушал ту незабываемую музыку… – откликнулся на ее просьбу антекерец. – Оно не только живое и дающее жизнь, но вдобавок наделено магической силой! Ты можешь часами сидеть перед ним, ощущая, как корни, проходя у тебя под ногами, передают тебе силу, которая берет начало во времени, предшествующем рождению Христа.
– Оно такое старое?
– О нем упоминает еще Плиний, когда пишет о Счастливых островах. Будь у меня возможность снова его увидеть, не возвращаясь на те тропинки, по которым я прошел с Гарсой, я бы не колебался, потому что меня часто посещает странное ощущение, что только оно одно и способно вернуть мне душевный покой.
– А ты попробуй!.. – предложил ему монсеньор Алехандро Касорла. – Пересиль себя, вернись туда, чтобы встретиться со своим прошлым, вновь пережить каждое из тех чудесных мгновений, когда ты чувствовал себя самым счастливым человеком на Земле, и провести несколько часов перед легендарным Гароэ, которое могло дать имя твоему сыну.
– Слишком поздно, дорогой друг! – прозвучал горький ответ. – Слишком поздно – нам отпущен короткий срок, чтобы испытать счастье, и долгие годы, чтобы вспоминать то время, когда мы были счастливы. Так нам на роду написано, так уж распорядился Создатель, и ничто на свете, даже сила чудесного плачущего дерева – а сейчас мне хочется верить, что оно оплакивает Гарсу, не в силах изменить нашу судьбу.
ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА
Гароэ продолжало давать воду и поддерживать жителей Иерро до тех пор, пока его не свалила буря ровно четыреста лет назад, весной 1610 года.
Водосборники, в которые стекали его «слезы», сохранились до наших дней.
Примечания
1
Гофио – мука из обжаренных зерен, а также название блюда. – Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Сальморехо – острый соус.
(обратно)3
Лига – мера длины; морская лига равна 5555 метрам.
(обратно)4
Макарена – один из наиболее почитаемых в Испании скульптурных образов Девы Марии; находится в Севилье.
(обратно)5
Гадифер де Ла Саль – норманнский рыцарь и крестоносец, который вместе с Жаном де Бетанкуром начал завоевание Канарских островов для Кастильского королевства.
(обратно)6
Перевод Анны Земляной.
(обратно)7
Гарса (исп. «garza») в переводе значит «цапля».
(обратно)8
Тортилья – испанский омлет.
(обратно)9
Ночь святого Лаврентия – ночь с 10 на 11 августа. Считается, что падающие звезды олицетворяют собой слезы святого, подвергнутого пыткам, по другой версии – это искры, исходящие от раскаленной решетки, на которой он был убит.
(обратно)10
Лос-Рокес – небольшие скалистые острова в 1 км от Иерро.
(обратно)11
Менсей– вождь гуанчей, Бенкомо – один из девяти вождей, управлявших на Тенерифе в 1494 г., менсей Таоро.
(обратно)12
Аделантадо – титул конквистадора, который направлялся испанским королем на завоевание новых земель.
(обратно)13
Первая битва при Асентехо состоялась в мае 1494 г., вторая – в декабре того же года.
(обратно)14
Реконкиста (исп. reconquista «обратное завоевание») – освобождение Испании от мавров.
(обратно)15
Старыми христианами в XV в. в Испании и Португалии называли людей, предки которых в двух предыдущих поколениях были католиками.
(обратно)16
Понсе де Леон, Хуан (1460–1521) – испанский конквистадор. Сопровождал Колумба в его экспедиции в Америку. Завоевал Пуэрто-Рико. В 1513 г. открыл Флориду.
(обратно)17
Мараведи – старинная испанская монета.
(обратно)




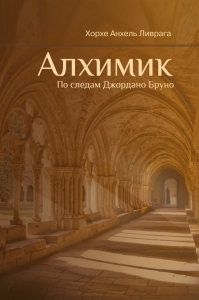
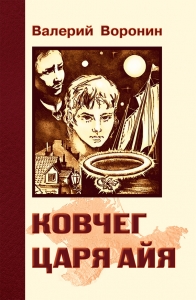

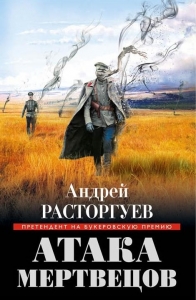
Комментарии к книге «Гароэ», Альберто Васкес-Фигероа
Всего 0 комментариев