Борис Дедюхин ВАСИЛИЙ I Книга вторая. В братстве без обиды
Глава I. Вправду, без всякой хитрости
Спасен будет тот, кто спасает.
Вл. Соловьев1
ногое множество всяческих забот и обязанностей у великого князя, но самым сложным было для Василия определить личные отношения с людьми — близкими, малознаемыми, вовсе незнакомыми. Один пришел и верит, что ты поможешь восстановить попранную кем-то справедливость и что это тебе ничего не стоит — только слово молвить. Второй хочет заручиться советом и подсказкой, словно бы Василий не юный князь, а царь израильский Соломон. А третий пришел с желанием убедить и разубедить, великого князя, доказать ему какую-то истину на деле и во благе, однако видит Василий, что тот сам себя еще не убедил, что у него у самого где-то в глубине души таится ощущение собственной вины и собственной неправоты А этот знатный боярин пришел из одного каприза — он говорит, чтобы полюбоваться самим собой, этому и говорить нечего и незачем, он все равно останется в убеждении, что ему и сам великий князь помочь не в силах.
Много у Василия гребты и беспокойства, а тут еще братья и сестры лезут со своими докуками. И нельзя, как некогда, отмахнуться от них: для Юрика, пяти других братьев и четырех сестер Василий стал теперь в отца место. Это легко сказать, а каково на деле быть им всем отцом[1], если слишком жива память об отце истинном — прославленном, могущественном, всесильном? И бессмертным он казался — Василий никак не мог согласиться с мыслью, что его больше нет на свете. Да так же, наверное, и другие братья и сестры, и для них отец незримо присутствует в семье и после своей смерти, а Василий всего лишь, как и прежде, брат.
Для самого младшего — Константина, появившегося на Божий свет за три дня до смерти отца, шестнадцатого мая, Василий был крестным отцом, этот несмышленыш еще, ничего не может еще сказать на птичьем своем языке; Иван болезным оказался, не жилец видно; Петр родился, когда Василий был на чужбине, застал его по возвращении уже трехлетним человеком, принял сначала за Андрея, которого запомнил, уезжая в Сарай, запеленатым и млекососущим. Для этих четверых старшинство Василия было безоговорочным, но вот для Юрика… Не в том даже дело, что он моложе всего на три года и они оба росли вместе, играли в одни игры, имели одни тайны, когда украдкой таскали в пост сладости или скрывали от родителей полученные на игрищах синяки и ссадины, в том дело, что Юрик всегда был заносчив, неуступчив, ни в чем не хотел отставать от старшего брата и даже норовил порой верховодить. Помнится, он первым придумал шевелить ушами, вызывая у всех зависть и восхищение. Василий после долгих стараний тоже научился этому — хоть правым, хоть левым ухом, хоть обоими враз умел двигать, не изображая при этом на лице никакой гримасы. А Юрик дальше пошел, наловчился шевелить по заказу любым одним пальцем любой ноги! Повторить такие фигли Василий, как ни бился, никак не умел; Юрик остался единственным среди всей ребятни штукарем. Ясно, что это пустое, вздор — любым пальцем любой ноги уметь шевелить, наверное, просто с такими уж ненормальными конечностями Юрик уродился, но он сам иначе считал, нос задирал и всякий раз, когда Василий метче из лука стрелял или ловчее козны выбивал, говорил: «Подумаешь… А я зато любым пальцем любой ноги шевелить могу!» Да, конечно, это сущий вздор, но вздор лишь для взрослых, измеряющих и оценивающих жизнь количеством повторений тех явлений и ощущений, которые давно уж знакомы им, а в детском мире каждый пустяк встает во всей остроте новизны и громадности. Взрослому человеку кажется, что двигать ушами и шевелить любым пальцем любой ноги — лишь игра, пустая забава, а ведь тогда — Василий помнит, очень хорошо помнит! — это была самая настоящая, неподдельная и серьезная суть его тогдашнего существования, это была его жизнь с уязвленным самолюбием и унижением, гордостью и торжеством, ревностью и завистью. А когда Янга позвала его, девятилетнего Василия, вечером к кремлевому дереву и показала светлячка, это был ведь не просто жучок, но истинное чудо, потому что ожидание его было ярче самого чуда, и ожидание это продолжалось несколько мгновений, но составляло словно бы целую законченную жизнь, в которой не было ничего ни привычного, ни повторяющегося и в которой невозможно разграничить произошедшее на самом деле от пригрезившегося, рожденного в мечтах и сожженного потом в едином клубке прожитого. А когда на Покров Богородицы перед возвращением отца с Куликова поля Янга накрыла Василия платком — кто, кроме них двоих, знает, что это ведь тоже не игра была, не-ет?.. И кто знает, какие тайны хранят в себе сердца семилетнего Андрея и четырехгодовалого Петра, не говоря уж о Юрике, — о-о, Василий слишком хорошо понимал, сколь наполнена, сосредоточена, а порой и трагична жизнь ребенка в их незаметных глазу взрослого переживаниях. Волей судьбы Василий стал самостоятельным до времени, не переступив еще и отроческого порога, когда оказался в двенадцать лет на чужбине. И взрослым стал в одночасье, не пережив зоревой поры юности. Одно только детство вкусил он полной мерой, потому, наверное, так оно было дорого ему и внятно. Он слишком хорошо помнил и знал, что детства счастливее, чем у него, нет и быть не может; знал точно так же, что детство это невозвратно, но оно и не отодвинулось для него еще в фантастические, немыслимо далекие времена, когда начинает восприниматься уж отдельной и словно бы и не им самим прожитой жизнью. Грань между жизнью и игрой, мечтой и действительностью обозначилась для Василия вполне отчетливо, но он еще помнил, что, подобно тому как в представлении каждого человека жизнь его состоит нераздельно из земной и загробной, у детей бессознательно смешаны воедино впечатления бытия и наивные грезы, а что из них острее и ближе к сердцу принимается — это еще вопрос. И вот почему, наверное, сумел Василий правильно разгадать ход мыслей Юрика, когда тот будто ненароком завел речь о Янге.
2
Поначалу, правда, Василий вовсе даже и неверно понимал братца, потому что слушал с высокомерием старшего — он же ведь в отца мест о! Да и Юрик поначалу излишне многомудрый вид делал — будто он все успел в жизни познать и изведать.
Он вспомнил историю, которая совершилась будто бы в небольшом приокском городке и которую Василий и сам давно знал, но как-то не задумывался над заложенным в ней рассказчиками смыслом. Удивился поначалу и тому, что Юрик ею заинтересовался, а тот настаивал:
— Так помнишь, чем кончилось у Давида с Ефросиньей? — И, не дожидаясь ответа, торопливо и сбивчиво, без многих подробностей рассказал о событиях, случившихся там, где родился и рос, копил в себе силы богатырь Илья.
Князь муромский блаженный Давид подвергнут был вдруг тяжкой болезни — тело его покрылось ужасными струпьями, и никто не знал, как выпользовать его. Взялась за это дочь бортника-древолазца Ефросинья. Она сумела вылечить больного мазью, а спасенный князь дал слово жениться на ней. Но хоть Ефросинья не только умела лечить тяжкие недуги, но славилась еще красотой и умом, Давид нашел неприличным для себя супружество с девицей простого рода, дочерью лесного пчеловода. Между тем болезнь его снова Возобновилась, и снова Ефросинья исцелила его. На этот раз князь выполнил обещание — сочетался с нею браком. Когда же он наследовал княжение после брата, муромская знать объявила ему: «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных боярынь, или оставь Муром». Князь, верный долгу христианина, согласился лучше отказаться от власти княжеской, нежели разлучиться с супругою. Он остался после того с весьма скудными средствами к жизни и нередко скорбел о том. Но умная княгиня говорила ему «Не печалься, князь, Бог милосерд и не оставит нас в бедности» В Муроме скоро открылись раздоры и кровопролития, князь Давид, по усердной просьбе бояр, возвратился с княгинею на свое княжение, что было справедливо и всем на радость.
Василий слушал брата с раздражением, виделся ему грубый намек на него самого, и он хотел даже сказать резко: «Меня Янга от тяжелых недугов не излечивала». Не сказал этого потому только, что в последний миг устыдился: «Получится, будто я от Янги отрекаюсь, а она-то не виновата». И решил поделиться с Юриком как с равным, как с братом, могущим понять его, — рассказать о своем конечном объяснении с Янгой.
А произошло оно почти год назад, вскоре как Василий из плена в Москву заявился. Когда во время свидания, назначенного ею на семик, ударила она его по щеке, как могла сильно, и простилась с ним навсегда, думал он, что и правда это так. Но на следующий день они, не сговариваясь, снова встретились на Боровицком мысу возле своего молодого дуба. Янга была приветлива, ясноглаза, но веяло от нее холодком, как бывает утром при ранних сентябрьских заморозках. «Ты думаешь, я почему тебя вчера ударила? Потому, что ты забыл меня и с литвинкой обвенчался? Нет… Знаешь, когда вдруг пронесся слух по Москве: «Княжич приехал! Сын Дмитрия Ивановича из плена бежал!», все высыпали на улицы посмотреть на тебя, ты верхом мчался, шибко скоро ты мчался, задавил белую собачонку и не заметил и не слышал, как она скулит… И я выскочила из избы посмотреть… как все. И ты не заметил меня, как всех!.. А я-то, дура, мнила себе, будто я не как все, я мечтала, что, как заедешь в Москву, первым делом — ко мне… Вот дура так дура!.. А когда поняла все, стало мне стыдно и обидно… Из-за этого стыда я и ударила тебя, грех-то какой взяла, теперь ни постом, ни молитвами…» Василий верил и не верил тому, что она говорила, искал потайной смысл в ее словах. И снова стал, только еще горячее, чем вчера, объяснять ей, что не мог он тогда поступить иначе, а сейчас не может нарушить данного литовскому князю Витовту слова жениться на его Софье «Понимаешь, Янга, как бы я того ни хотел сделать, я не могу, не мо-гу!» Янга молча слушала, с болезненного бледного лица смотрели на него вдумчивые и требовательные глаза, и по взгляду ее Василий понял: она, конечно же, верит, что он не может, вериг, но только какое ей дело до этого — ей надо, чтобы он смог!
Вспомнив все подробности того конечного объяснения с Янгой, увидев, как въяве, ее большие и грустные глаза, Василий почувствовал вдруг, что не может, не имеет права рассказывать об этом даже брату. И он промолвил лишь.
— Понимаешь, Юрик, меня же принудил Витовт, разве бы я по собственной воле стал венчаться…
— Да при чем тут ты! — вскинулся по-мальчишески нетерпеливо Юрик, но тут же и осекся, вспыхнул всем своим конопатым лицом. Василий не мог этого не заметить, Юрик и сам понял, что скрытничать напрасно, не поверит уж брат притворству, признался с разоружающим простодушием: — Да, да, люба мне Янга, давно еще, и ты сам об этом небось догадывался… — И добавил с коротким смешком, в котором можно было слышать горечь и безнадежность: — Но ты, конечно же, не дашь мне благословения, нет, не да-а-ашь…
Юрик набычился, умолк, Василий подумал, что брат ищет возможность закончить разговор безболезненно для своего самолюбия, даже хотел ему помочь в этом, сменить как-то тему, но он ошибся.
Преодолев минутное замешательство, Юрик вскинул голову, во взгляде его были вызов, прямота и строгость:
— А знаешь ли ты, как Янга смогла живой остаться?.. Тогда, в Тохтамышево разграбление Москвы?
Василий даже чуть растерялся.
— Нет, но я не думал, мало ли как — в лесу хоронилась, в плену была, может статься.
— Вот это так сказанул «В плену». И тебе, значит, все равно, где она была?
— Не все равно, однако, — Василий сам не заметил, как перешел на оправдывающийся тон, — а ты что, знаешь точно?
— Никто не знает, а она скрывает Тут какая-то тайна. Но я розыск проведу, я не я буду! — И чтобы пресечь возможные вопросы и уточнения, сам резко сменил разговор. — Поговаривают знатные бояре, не поспешил ли ты призвать на кафедру московскую митрополита Киприана?
— Нет, не поспешил, нет.
— Но знаешь ведь, отец его не жаловал.
— А я жалую! — В голосе Василия появились властные нотки, — Хватит смуты церковной, тринадцать лет уж идет она…
Три-над-цать? Неужели так долго? А я и не думал, я и не знал — Юрик признавался с такой трогательной растерянностью и покорностью, что показался Василию на миг тем маленьким братишкой, который когда-то нечаянно сломал его боевой лук и вот так же покаянно склонил голову, готов был принять любое наказание. Но только один миг это и было, потому что в следующий Василий заметил, как еле уловимая усмешка скользнула по тонким губам Юрика. — Хотя каждому свое… На то ты и великий князь, чтобы смутами заниматься. Не забывай только Божьи слова о том, что кому много дано, с того много, и взыщется.
Василий никак не отозвался на это, он узнавал и не узнавал брата, пытался вспомнить, каким сам был в четырнадцать лет, и всяко выходило, что был иным, и тут же и причину обозначил: Юрик в отца пошел, а Василий больше материнских качеств унаследовал. Вспомнив о матери, ощутил в сердце еще более острое беспокойство, но Юрику говорить о нем не стал млад еще, не поймет как надо…
3
В том самом монастыре, в который водил Василия отец Сергий, в стенах Николы Старого зародился — случайно или злонамеренно — слушок, чернивший великую княгиню. Сначала Василию донесли о нем его видки и послухи. Судачили меж собой монастырские чернецы, что испокон века так велось, что вдовы великих князей — Ульяна, супруга Ивана Калиты, и Марья, рано овдовевшая жена Симеона Гордого, постригались в обитель, а Евдокия Дмитриевна не захотела этого сделать, в миру осталась[2]. Осуждали, что носит одежды светлые, украшенные бисером, является везде с лицом веселым неприличествующим вдове.
Василий знал, как занята сейчас мать строительством храма в память о Куликовской битве, как много заботится о воспитании детей своих малолетних, и не осуждал ее нежелания переходить из великокняжеского терема в тихую келью, понимая, что мать поступает по негласному завету супруга своего, не принявшего перед смертью схимы.
Хлопнула входная дверь. Мать, возвращавшаяся из храма после вечерней службы, прошла через сенцы в свою опочивальню. На ней поверх шелкового летника, застегнутого до горла, с рукавами, украшенными у запястий шитьем золота и жемчуга, была накинута отороченная соболем душегрея, голова прикрыта яркой шалью, на ногах ладно сидели сафьяновые сапожки, расписанные жар-птицами.
Только побледнела за последнее время княгиня, осунулась лицом. Василий поспешил было за ней, но остановился. Сердце тяжело повернулось у него в груди. Опять вопила великая княгиня, тонкий голос вился бесконечной жалобой, слезной неизбывной печалью «Звери земные на ложа свои идут, и птицы небесные к гнездам летят, ты же, государь, от дома своего не красно отходишь. Кому уподоблюсь аз уединенная? Вдовья ведь беда горчее горечи всех людей».
Стиснув зубы, Василий толкнул дверь в палату матери.
Он давно уж не бывал здесь Смотрел, как внове, на огромный персидский ковер, которым была отгорожена пазуха — углубление в стене, где стояла кровать, на большую, во весь правый угол божницу с иконами византийского и суздальского письма, выложенными жемчугом, золотой и серебряной кузнью, с ризами, вышитыми собственноручно великой княгиней. Возле двери стояла широкая турецкая софа с прислоном и подушками из рытого бархата, с подножием из рысьей шкуры. В середине палаты расстилалась еще одна шкура, медвежья, — эту Василий помнил с детства, даже все крючковатые когти на распластанных лапах не раз пересчитывал и с безобидной медвежьей головой играл, пытаясь представить себе, каким был этот зверь, когда убил его отец на охоте вскоре после своей свадьбы в Коломне. Сейчас подивился только: как берегла, стало быть, этот подарок мать, раз уцелела шкура после стольких пожаров и разоров!
Княгиня окинула сына сухим летучим взглядом, позвонила в серебряный колоколец, висевший сбоку от пазухи, сказала вошедшей постельничной боярыне:
— Запри дверь из сеней и сама стой там, пока я тебя не позову.
Боярыня поклонилась и исчезла так же бесшумно, как и появилась в палате.
Мать молча и скорбно глядела на старшего. Пригож собой и строг характером, Бог даст, будет справедлив и умен у правила княжеского. Будет ли счастлив?.. Как хотелось бы! Уже в младых летах многое вынес, но ведь не на счастье, а на терпение и труды приходим мы в этот мир. Многое видел и узнал в странствиях своих бесприютных, значит, будет тверд в решениях и неспешен в суждениях, как подобает мужу, а не отроку. Княгиня потянулась погладить огрубевшие, обострившиеся черты сына. Он сам склонился к ней, давнее, детское выражение мелькнуло в его лице, — и отпрянул, точно как отец отпрянул при прощании, уходя в поход на Мамая. Княгиня сглотнула горячий комок в горле Сын увидел багрово-черный шрам, пронятый железной цепью, на которой держалась ее власяница. Вот оно что! Мать втайне истязает себя… Евдокия Дмитриевна свела на горле ворот накинутого на плечи мехового шушуна, улыбнулась через силу:
— Только после моей смерти раскроется эта тайна, а я буду освобождена от бремени злоречия. Не монахиню, но великую княгиню, дело мужа продолжающую, должны видеть во мне все люди, и знатные и мизинные, ведь наказал мой государь в духовной своей: «Живите заодин и мать слушайтесь во всем, не выступайте из воли ее ни в чем».
— Пожалей себя, — попросил он несмело, — Не убивайся так. Не должно.
— Нет, должно! Мы все — Донские и не вправе свою гордость хоть чем унизить! Дмитрий Иванович и при жизни не боялся людских клевет и суда потомков не устрашился, отказавшись принять схиму. Надо уметь быть достойными великого и памяти его.
— Но в греческом монастыре… — осторожно начал Василий, однако мать оборвала его:
— Не трог их, какой они мерой меряют, такой и им будет отмеряно. — Она с трудом передохнула, опустилась на лавку. — В длительности бытия не человек гонит случаи и события, но время. А человеку надо успевать за временем, постигать его. Ты млад, но ты — великий князь всея Руси: моим словам внемли, а время всякой вещи сам распознавай. Сила государя — не только рать и меч, но и мысль мудрая, в тишине продуманная и всякой хитростью измечтанная. Отче Сергий приезжал утром, не застал тебя. Сказал, что в Симонов монастырь поедет, там будет до Крещения. Тебя звал к себе, увещевал мир взять с Владимиром Андреевичем… Очень кручинился первоигумен из-за вашего нелюбья. Ну, иди с миром. — Она перекрестила его. — Господь да хранит тебя в любви своей!
На скользком, заледенелом крыльце его перехватил Юрик. Как-то говорил Василий матери, что брат в последние дни сильно повзрослел и поумнел. Тот слышал разговор, сразу стал вести себя самоувереннее и тщеславнее. А после разговора о Янге вовсе зачванился, обо всем стал свое суждение иметь, лез то и дело с советами к Василию. И сейчас вид очень самовластный напустил на себя, объявил:
— Дурная молва в свете о нашей матери идет.
Василий вспыхнул:
— Ты, Юрик, шныришь везде, лезешь в дела, кои ведать-то тебе негоже. Немудрен еще ты, сквозная пустота еще в голове у тебя. Погодил бы малость…
— Я и так уж годил-годил! — Юрик ослезился голосом. — Будет годить.
— Нет, погодишь, — твердо поправил Василий, — погодишь, когда велят. — Они стояли совсем близко друг от друга, так что дыхания их смешивались на морозном воздухе. Василий разогнал голичкой белесый пар, добавил грозно и тихо: — Вижу я, что назола ты, княжич. Ты, вижу, слов добром не понимаешь. Тогда я тебе волю свою объявлю! — возвысил он голос. — Все, что тут ты мне наязычил, ты из головы своей выложи, а взамен вложи вот что… Тебе отписаны отцом Звенигород, Галич и Руза-городок. Вот и отправляйся, нимало не медля, в свой удел, сиди там до поры, покуда я не покличу. — И наступил брату на ногу. Боль или досада исказили лицо Юрика, однако он и попытки не сделал высвободиться, давая этим молчаливую клятву никогда не своевольничать, не выходить из повиновения отца своего.
Он ушел, наверное тайно умывшись слезами, а уединившись, может быть, рыдал в голос, бурно страдал, как делал это с досады или злости в раннем детстве, бросаясь лицом в песок, стуча кулаками по земле, — всегда был Юрик вспыльчив, горяч, он и не мог быть иным, потому что, по словам матери, появился на свет как раз в ту ночь, как народился молодой месяц[3]. Василий по первоначалу испытал даже и жалость к брату, однако все маячило перед ним лицо Юрика с раздраженным взглядом круглых глаз, с выбившимися на лоб прядями темных волос и тонкими язвительными губами, впервые в жизни оно показалось почти что ненавистным, так что даже испугала эта мысль. И странным образом соединились в одном опасном ряду вместе: Юрик — Владимир Андреевич — отец Сергий… Почему?
Сергий самолично воспринимал Юрика от святой купели, крестный отец его… Троицкая обитель на Маковце лежит во владениях Владимира Андреевича: его отец Андрей Иванович, боярин из Радонежа, во времена Калиты еще дал Сергию дозволения сесть для пустынножительства на его землях, а сейчас городок этот с волостью в руках дяди как раз… В стольном городе дядина уезда Серпухове частым гостем бывал Сергий — по просьбе Владимира Андреевича закладывал там церковь Зачатия Богородицы с монастырем, затем освящал собор Святой Троицы. И не потому ли Сергий так кручинится, не потому ли в монастырь родного племянника Федора Симоновского зазывает… Но тут же и отбросил прочь Василий свои сомнения, нашел их даже и кощунственными и еще и за это рассердился — на себя уж. Игумен Сергий не может таить внутри себя разлад, двоедушие, не может, разрываясь надвое, проявлять вовне якобы совершенное спокойствие и этим лицемерным самообладанием помогать Василию и Владимиру Андреевичу переносить их которы и распри. Нет, нет, Сергий ведет себя истинно мудро, его внутриубежденное спокойное состояние как раз и помогает сейчас Василию, как помогло Дмитрию Ивановичу в его самый трудный и ответственный момент жизни, когда решал он идти на решающую схватку с Мамаем Сергий вносит покой одним только своим появлением, одной встречей, одним лишь присутствием своим — такова живительная сила истинной мудрости и благочестия.
Сергий, и только он один сейчас, может поднять силы Василия к героическому напряжению.
Последние сомнения оставили Василия, когда получил он сообщение от серпуховского гонца. «Преставися княгиня Марья, княже Андреева жена Ивановича, мати княже Владимира Андреевича». Сразу вспомнил ту княгиню Марью, хоть и видел ее всего один раз в жизни, — она успокаивала и утешала обмиравшую мать Василия в день выхода из Кремля московской рати навстречу Мамаю. И вот призвал Господь в небесные обители кроткую и боголюбивую душу праведницы. Непременно надобно бы поклониться покойнице, да что-то зело не борзо поспешал гонец — на третий день лишь доставил скорбную весть… Может, не нарочно так вышло, а может, и загодя измыслил это Владимир Андреевич, не желая видеться с племянником до примирения, не уверенный, что великий князь такого примирения ищет. И боль, и нежность, и стыд, и раскаяние пережил Василий, получив сообщение о кончине княгини Марьи. Не мешкая уж, не колеблясь и не рассуждая, послал в Симонов монастырь скорохода с вестью, что прибудет туда на другой день крещенской недели. Об этом же уведомил и Владимира Андреевича через его гонца.
4
Он приезжал в этот монастырь с отцом в год, когда случилась рать на Воже, и хорошо запомнил, что Симонов стоит со стороны татарского прихода — прямо у большой Болвановской дороги на левом берегу реки Москвы[4]. Но оказалось, что еще десять лет назад Федор Симоновский, родной племянник и любимый ученик Сергия, уклоняясь от шума, перешел несколько далее, в тихое и лесное место, где поставил себе келью и подвизался безмолвно и одиноко в окружении лишь зверей да пернатых. Вскоре, однако, потянулись к нему иноки, и игумен с помощью боярина Григория Ховрина возвел церковь Успенья Богородицы, кельи для братии. Так возникла на Руси еще одна обитель пустынножительства.
Новый Симонов — один из многих монастырей, родившихся уже в бытность Василия. Их обитатели смотрели на свое затворничество не как на уход от жизни, но, напротив, как на подвиг. На смену гордящемуся своей физической силой, дающему волю страстям своим богатырю, у которого «сила по жилочкам живчиком переливалась, которому было грузно от силушки, как от тяжелого бремени», пришел в облике Божьего послушника богатырь иного покроя — вооруженный силой и величием нравственного подвига, торжеством духа над плотью. И уже люди мирские, настороженно относившиеся, как относился поначалу и Дмитрий Иванович, к уходу в скиты и обители, сейчас понимали, что иноческий подвиг и выше, и труднее подвига человека, ополченного одной вещественной силой, и не случайно же на Куликовом поле закованный в железо чудовищной силы богатырь Челубей не смог одолеть схимонаха Пересвета…
Возле Старого Симонова, ставшего теперь монастырской усыпальницей, дорога резко поворачивала направо в лес. Снег тут лежал столь глубокий, что ехать по узким проселкам можно было только в одну лошадь. Пришлось остановиться и перепрягать троечные сани гуськом — вереницей, как летят дикие гуси. Коренник остался в оглоблях, а пристяжных конюший поставил на длинных постромках впереди, одну перед другой.
Крытые возки покатили резво, без остановок, не сваливаясь и не зарываясь. Впереди шел угонный санник — конь, приученный возить и зимой и летом сани на полозьях. Боясь завязить ноги в сувоях снега и управляемый вершником[5], он строго держался бой-ной дороги, не давая свернуть в сторону и следующим за ним лошадям. А чтобы возок нечаянно не опрокинулся где-нибудь на косогоре или крутом повороте, сторожко следили стоявшие на приделанных к коням широких отводах конюший Некрас и ухабничий Федор, сын покойного Захара Тютчева, оба они были людьми искусными в своем деле, их любил и жаловал еще и Дмитрий Иванович[6].
В ровно катившем возке было тепло, Данила молча притулился в ногах князя, а Василий пытался воскресить в памяти облик игумена Федора, но не мог этого сделать, что и понятно: он видел его, когда был семилетним отроком. Однако слышал о нем постоянно, знал, что Федор в тринадцать лет постригся в монашество и взрастал в чистоте и святости, недоступный соблазнам грешного мира, в пустыне своего дяди Сергия Радонежского. Удостоившись священства, с благословения первоигумена и с разрешения святителя Алексия он сам стал основателем обители. Отличаясь привлекательной наружностью, а главное — иноческими добродетелями и обширным умом, новый игумен быстро приобрел всеобщее уважение. Великий князь, отец Василия, избрал его после смерти Митяя своим духовником и часто поручал ему церковные дела. Помнится, вскоре после битвы на поле Куликовом отец послал его в Киев к митрополиту Киприану, а в год отъезда Василия в Орду ездил Федор в Царьград к патриарху Нилу. И в прошлом году он путешествовал в византийскую столицу с поручением великого князя, и, помнится, отец говорил, что человек этот вполне достоин занимать святительскую кафедру. Такими, как Федор, людьми и были тогда сильны монастыри, являвшиеся твердынями для нравственной охраны общества, от них исходили голоса, напоминавшие о высших, духовных началах, которыми должно спасаться всем людям. Дмитрий Иванович изменил отношение к ним потому, что понял: от них исходит проповедь не только словом, но и делом, и обитатели монастырей, казавшиеся умершими для мира, на самом деле были столь живы, что острее других чувствовали зло и порок, не могли оставаться равнодушными к несправедливости — именно поэтому же был столь деятелен Сергий Радонежский, не сидел в затворе, но знал обо всем творящемся в свете, настойчиво вмешивался в мирские дела. Василий долго колебался — ехать ли ему для заключения мира с дядей в Симонов монастырь или настоять на том, чтобы он явился в Кремль, а отправившись все-таки в дорогу, оправдывал свое решение рассуждением о роли монастырей в государственном правлении. Конечно, приятно было и то, что отец по-особому к Федору и его обители относился, обстоятельство это тоже способствовало тому, что отправился великий князь Василий Дмитриевич в дорогу, невзирая на крещенский мороз и глубокие снега. Не откажется, конечно же, и Владимир Андреевич Серпуховской, небось уж там, хотя ему и много дальше ехать…
Перед самым монастырем проселочная дорога перешла снова в большую, многопроезжую, лошади стали сбиваться на стороны. Пришлось сделать еще одну остановку, чтобы перейти с гуськовой на обыкновенную упряжь.
Конюший и стремянные, согревая дыханием коченеющие руки, стали вынимать из ноздрей лошадей сосульки, развязывать сыромятные, задубевшие на морозе ремни конской сбруи. Дело у них продвигалось не споро, и Василий вылез из повозки, пошел по направлению к монастырю, прислонившемуся к сосновому бору частоколом своих белых и мохнатых от снега и инея стен.
Навстречу Василию шел по дороге, зябко ежась и поджимая по-гусиному то одну, то другую ногу, странного вида путник. По рваным, постольным, гнутым из сырой кожи опоркам, по одежде, которая состояла вся из обернутых вокруг пояса лохмотьев и потертой куцей шкуры молодого черного медведя, можно было бы узнать в нем нищего, а по кованой цепи на шее — взявшего на себя тяжелый обет монаха. Но не был он, похоже, ни тем, ни другим: распущенные грязные волосы, дикий взгляд словно бы выкатившихся из черных впадин и немигающих глаз выдавали в нем безумца. То же и речь его свидетельствовала:
— Если, великий князь, съешь волка-пса, так и выгалкнешь.
— Выгалкну?
— Да, выгалкнешь, выблюешь.
— Кто ты?
— Человек Божий, обтянутый кожей.
— Далеко ли путь держишь?
— В Иерусалим схожу, Господу Богу помолюсь, в Иордан-речке искупаюсь, на кипарисном деревце посушусь и, приложившись ко Господнему гробу, в возвратный путь пойду в меженный день по дороге из камня семицветного, в лапоточках из семи шелков.
Василий подал несчастному монету.
— Блаженнее давать, нежели принимать, — поблагодарил тот и бросил на Василия взгляд человека вполне уж нормального, даже очень разумный взгляд. Показалось Василию, что где-то и когда-то он видел этого человека, может быть, даже и знал довольно коротко. И тот, видно, понял по взгляду великого князя, что может оказаться опознанным, опять вытаращил в безумии глаза и затараторил что-то громко, но совершенно невнятно.
Василий вернулся в повозку. Пока ехали до монастыря, все пытался постигнуть: кто бы это мог быть — странный безумец с просветленным взором; а когда вышел во дворе Симоновой обители, то первым, кого он там увидел, был этот же нищий-юродивый — то ли бегом он мчался следом, то ли прицепился на задках одной из повозок княжеского поезда.
Великого князя встречали, кроме Федора Симоновского, которого Василий сразу же узнал по дивно близко посаженным глазам, еще Сергий Радонежский и Стефан Пермский. Вышли они к въездным воротам, как видно, загодя: спасаясь от стужи, они все были в низко надвинутых, отороченных волчьим мехом клобуках, в плотно застегнутых волчьих же шубах, под которые были подоткнуты полы черных на беличьем меху ряс, отчего выглядели они почти как светские люди, если бы не наперсные кресты поверх одежд.
— Дядя мой прикатил? — спросил нарочито грубовато и небрежно Василий. И, как сердце его учуяло, Сергий ответил:
— Ждем, беспременно будет. Время, видишь, по гадливое.
— Да, мороз железо рвет, птицу на лету бьет! — добавил игумен Федор.
— Кто это? — спросил Василий про нищего, который и сейчас продолжал безумствовать, выкрикивая что-то и размахивая тяжелым посохом.
— У него такое прозвание, что с морозу не выговоришь. Милости прошу в трапезную! — Федор пропустил вперед себя великого князя и Сергия, а сам сделал, видно, какой-то грозный знак нищему. А тот не только не послушался игумена, но взвизгнул диким голосом и махнул напересек, едва не сбив с ног Сергия.
Федор виновато развел руками:
— Это Кирилл. Усердный и прилежный был инок, но вдруг стал чинить всякие непотребства и бесовства. Бесчинствовал в храме, в пятницу ел колбасу, а то стал на паперти плясать с лиходельницей — падшей, безносой женщиной, скаредные песни пел, соромщину всякую нес.
— Отчего же он в расстройство впал? Горе какое или тяжкую утрату перенес?
— Нет, в гордынности занесся. Отче Сергий выделял Кирилла среди братии, говорил, что он станет продолжателем его дела.
— И сейчас говорю, — спокойно вставил Сергий, и в это время, громко хлопнув дверью, в трапезную ворвался Кирилл, раздетый почти донага. Что он собирался сказать или сделать, осталось невыясненным, потому что игумен Федор упредил его приказом:
— На хлеб и на воду сорок дней!
Два узколицых бледных инока подхватили Кирилла под руки и повели, употребляя силу, хотя тот не только не оказывал противодействия, но громко радовался тому, что сможет теперь поститься не по своей воле.
— Вот, отче, смотри… Самым суровым наказанием подвергаю, а дух гордыни все гнездится в его сердце. Девять лет был строгим молчальником, строгим постником, строгим веришносителем — и вот, знать, всуе трудился. Великое зло, когда кто впадает в самомнение и думает, что знает, когда не знает, или что имеет, когда не имеет: ибо, думая, что знает или что имеет, не старается уже познать и приобрести, но остается ни с чем.
Сергий никак не отозвался на слова игумена, смотрел в задумчивости вслед Кириллу, непотребно выглядевшему в наготе своей.
5
Молчание и неловкость, настоявшиеся в трапезной после позорного изгнания Кирилла, нарушил Стефан Пермский. Он приехал из далеких краев за новыми книгами для новообращенных зырянских христиан, а также и для решения разных своих пастырских попечительств и гребтаний.
— «Юрод» — значит «необычный»… Это, значит, так нарочито ведет себя человек… Был у нас в великом и славном граде Устюге юродивый Прокопий, прозванный потом Устюжским. Почитали его все за божевольного дурачка, отроду сумасшедшего, никто не видел, что безрассудства и неразумие лишь личина его, не истинное, но накладное, ложное лицо. Однажды Прокопий вошел в церковь и возвестил о Божьем гневе на град Устюг. «За беззаконные, неподобные дела зле погибнут огнем и водосо», — объявил. Но никто из прихожан не слушал его призывов к покаянию, и он один плакал целыми днями на паперти. Только когда страшная туча нашла на город и начался трус[7] земной, все побежали в церковь. Молитвы перед иконой Богородицы отвратили Божий гнев, и каменный град разразился в двадцати верстах от Устюга. Там и поныне еще все сплошь поваленные да пьяные леса.
— А потом что с ним стало? — спросил Василий не потому, что его судьба юродивого волновала, а отгоняя этим вопросом зарождающийся в сердце гнев на дядю Владимира Андреевича, который позволял себе прибыть позже великого князя.
Стефан, видно, угадывал состояние молодого государя, нарочито медленно и многословно повел рассказ, обращаясь взглядом к одному лишь Василию, словно бы никого больше и не было в палате.
— Так и вел он житие жестокое, такое жестокое, что с ним не могли сравняться самые суровые монашеские подвиги: не имел он крова над головой, спал на гноище нагой, а по ночам молился, прося пользу городу и людям его. Питался подаяниями, но принимал милостыню только у богобоязненных людей и никогда ничего у богатых.
— А что же, люди-то разве не жалели его за то, что он город спас?
— Юродство его навлекало от людей по-прежнему досаду и укорение, биение и пхание. — Тут Стефан словно бы смутился, краска прихлынула к лицу, проступила даже через седину негустых волос, что видно стало, когда он потупился, склонил голову.
Федор добавил шутливо-уличающе:
— Нет, однако же, нет… Были у Прокопия в Устюге и друзья. В страшный мороз, какого не запомнят устюжане, когда замерзали люди и скот, блаженный не выдержал пребывания на паперти в своей разорванной ризе и пошел просить приюта у клирошанина Симеона. Прокопий предсказал тогда Симеону и жене его Марфе, что родится у них зело благочестивый сын. И верно предсказал, вот он, тот сын — Стефан, гость наш бесценный!
Сколько помнит Василий, о Стефане Пермском всегда говорилось с умилением, все его неустанно славили за необыкновенные дела и подвиги на северных землях, везде ему были рады, зазывали в гости, когда он приезжал в Москву. Стефан, конечно же, не мог не чувствовать особого к себе отношения и тяготился этим, приходил в смущение, от которого всегда старался избавиться каким-нибудь отвлекающим внимание предметом беседы. И сейчас он поспешил вернуть разговор в прежнюю стезю:
— И монах из Кирилла вышел примерный, и надзирателем слуг был он у Вельяминова исправным, когда звался в миру еще Кузьмой…
И тут Василий постиг, что не зря ему лицо юродивого еще за стенами монастыря показалось знакомым, — он очень хорошо знал расторопного, сметливого и ловкого управляющего в доме окольничего Тимофея Васильевича. Кузьма умел, как никто иной, все организовать на пирах так, что ни один из гостей не оказывался обижен, обделен или забыт вниманием слуг. И притом сам Кузьма оставался незаметным — без шума, без суеты все делал, и, помнится, отец хотел его переманить к себе на великокняжеский двор, и будто бы сговор сладился, Тимофей Васильевич согласился, да только вдруг Кузьма в воду канул..
Федор велел кутникам подавать на стол яства и питья, а сам стал неторопливо рассказывать историю Кузьмы-Кирилла, испросив на то предварительно согласие и пожелание великого князя. А Василий усугубил внимание неложно, без малой досады: мирно и покойно стало ему со святыми старцами да и захотелось доподлинно узнать, как мог превратиться в юродивого — в урода, значит, — красивый, сильный и веселый юноша.
6
Родился он в знатной семье, бывшей в родстве с родом бояр Вельяминовых. Рано осиротев, он нашел приют у великокняжеского окольничего, в доме у которого скоро завоевал всеобщее уважение и доверие своим умом и природным дарованием. Сам же он, однако, покончив с хозяйственными заботами, выходил на берег реки и мечтательно глядел на синеву далекого, заокоемного бора; там, в заборье, в безмятежных пустынях, молятся — знал он — праведники, ведя жизнь столь же чистую, сколь и таинственную. Вскоре благодаря многим талантам стал Кузьма главным управляющим своего опекуна, однако сам все чаще и чаще поглядывал на замоскворецкий глухой лес, где можно поставить келейку для безмолвного жития в одиночестве ли, в существующей ли обители. Дума его все росла и все ширилась, и он уже скоро не мыслил своей жизни без того, чтобы не уйти из мира в тихое пристанище. Вельяминов, принадлежа к самому высшему боярству, постоянно бывший около великого князя, находился в особой милости при дворе и пользовался таким влиянием, что Кузьма, стремившийся к монашеской жизни, долго не мог найти игумена, который бы согласился его постричь: все боялись гнева его великого покровителя. Наконец один из друзей преподобного Сергия Стефан решился принять на себя неминучий гнев окольничего, облек Кузьму в монашескую рясу и нарек Кириллом, однако и он не посмел все же дать ему постриг. Затем, оставив молодого человека у себя в монастыре, Стефан сам отправился к боярину. Увидев игумена, Вельяминов поспешил навстречу и попросил благословения. Стефан благословил и добавил: «А раб Божий Кирилл, твой богомолец, тоже тебя благословляет». — «Кто такой Кирилл?» — спросил окольничий. «Прежний твой родич, а ныне инок, раб Божий и молитвенник за нас всех», — ответил Стефан. Велик был гнев Тимофея Васильевича, несмотря на свое уважение к святому игумену, он позволил себе наговорить немало грубостей. Стефан выслушал и в ответ привел евангельский текст: «В какой бы город или селение ни вошли вы… там оставайтесь, пока не выйдете… А если кто не примет вас… то, выходя из дома… отрясите прах от ног своих». Сказав это, он ушел из дома боярина. Тогда-то вмешалась жена Вельяминова Ирина. Испуганная строгими словами Спасителя, обращенными теперь на ее дом, она стала умолять своего мужа как можно скорее помириться с игуменом и согласиться на монашеское призвание Кузьмы-Кирилла. Боярин уступил, послал за игуменом, попросил у него прощения и разрешил Кириллу поступать по своей воле — уйти в тот монастырь, который он сам себе облюбует. Раздав свое имущество бедным, Кирилл выбрал московскую Симонову обитель. Этот монастырь придерживался строгого киновийского устава. Здесь каждый послушник поступал в подчинение к опытному монаху, которому обязан был слепо повиноваться. Своему наставнику он должен был не только давать отчет во всех своих внешних действиях, но и открываться в малейших движениях своей души, безоговорочно принимать от него указания и советы. Кирилл с рвением и радостью исполнял все требования своего наставника. Он работал то на кухне, то в пекарне, проводил целые дни перед раскаленной печью, все время повторяя самому себе: «Терпи этот огонь, Кирилл, дабы избежать огня вечного». Он строго постился, много молился и предавался суровой аскезе. Зимой одевался как летом, спал только сидя, и при первом ударе колокола его уже видели спешащим в церковь. Бесы пытались искушать его страхованием, но обращались в бегство, не вынося имени Исусова, которое юный отрок повторял беспрерывно. В первые же годы монашеской жизни он стал встречаться с преподобным Сергием, когда тот приезжал навестить своего племянника Федора. Сергий скоро разгадал душевное богатство Кирилла и привязался к юноше всем сердцем. Когда он бывал в Симоновом, известно всем было, что легче всего его найти на пекарне, беседующего с Кириллом на духовные темы. Благосклонность преподобного Сергия и образцовая жизнь, которую вел монах, скоро создали ему немалую похвальную молву среди братии, а Кирилл этого испугался, боясь впасть в тщеславие, и стал думать о том, как найти занятие в полном одиночестве и навсегда затвориться в келье. В монастыре больше поста и молитвы требовалось послушание, поэтому он сам не мог просить игумена такой решительной перемены его образа занятий и лишь молча поверял свои мысли Божьей Матери, к которой имел обыкновение обращаться при всех трудных обстоятельствах жизни. Но Федор был прозорливым и чутким игуменом, он сам уловил настроение и помыслы Кирилла, призвал его к себе и объявил, что освобождает от работы на кухне и поручает ему работать переписчиком книг в келье. Казалось бы, осуществилась мечта Кирилла, но, к своему удивлению, он заметил вскоре, что, несмотря на одиночество, в котором он теперь находился, молитва его стала менее глубокой и давала ему меньше утешения, чем прежде, узда страстей показалась излишне легкой, и он впал в юродство.
7
Судьба Кирилла была отнюдь не безразлична игумену Федору Который во время своего рассказа не оставался на месте, но неторопливо мерил шаги по широким половицам палаты. Возле божницы, на которой потрескивал фитилек лампады, он непременно останавливался, на миг вскидывал обе руки вверх, и тогда через черное полотно рясы очерчивалось его тонкое и гибкое, сильное тело, не изнуренное в бдениях, но укрепленное в ежедневной деятельности на пределе. И очень высоко, видно, ставил игумен нравственные доблести Кирилла, в продолжение всего рассказа на сухом лице Федора сохранялось выражение сосредоточенности и напряженности, которое свойственно людям, привыкшим к самоограничению и удержанию страстей во имя правильного пути.
Сергий стоял спиной ко всем, смотрел на дорогу. «Тоже ждет Владимира Андреевича и тоже сердится», — решил Василий, и ему даже жаль стало согбенного чужими заботами да печалями старца.
— «Человек оправдывается верой», сказал святой Павел, — задумчиво обронил Стефан Пермский, желая оправдать Кирилла, но игумен возразил:
— «Человек оправдывается делами», сказал апостол Иаков.
Нарушил молчание и Сергий:
— Кирилла страшила мысль, что он может делать добро не ради добра самого, а ради похвалы, почета, внешних знаков почестей. Самохвальства и суесловия он испугался, — сказал он, отходя от окна. — Но не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Отправь его, Федор, снова к печи, монах он опрятный и радетельный, а весной рукоположим его в священники и пошлем в какую-нибудь вдовствующую епархию.
— В священники — юродивого?. — не сдержал изумления Василий.
— Да, великий князь, юродивый — это человек Божий. Нарочито отказывается он от своего достоинства, ни во что себя не ставит — так велико его смирение перед Господом. Вспомни святого Андрея, который во Влахернском храме в Константинополе, во время литургии, имел видение Божьей Матери, покрывающей мир в знак своего покровительства омофором, — в память об этом и установлен праздник Покрова первого октября…
Василий вспомнил, как на Покров возвращался отец с войском и как в тот день Янга накрыла его платком и Поцеловала… Этот любимый русскими христианский праздник, наверное, будет у Василия всегда теперь вызывать одни и те же воспоминания, не становящиеся с годами менее дорогими и волнующими. Он почувствовал, что подкатывается к горлу мягкий, теплый комок, подумал, что не к лицу будет великому князю ослезиться перед святыми отцами хотя бы и голосом, вспомнил, что и Владимир Андреевич возвращался тогда с Куликова поля, держась близ отцовского стремени, покорный и согласный, а сейчас вот позволяет себе не считаться с великим князем!.. На смену умилению пришел снова гнев, но и его Василий не выказал — игумен шумно пригласил садиться за стол, где уж поставлены были расторопными и бесшумными кутниками глиняные корчаги и корчажки, от которых исходил подстрекающий обоняние и вкус парок.
Пока рассаживались, игумен ловко с просьбой к великому князю подступился. Растет в монастыре число братии, пропитания все больше требуется, рыбки много надо. В Ржевском уезде хорошие ловы есть, да только земли-то там черные, княжеские… Василию жаль было тех мест, но и отказать игумену он не посмел — сразу же дал разрешение монастырю собирать оброк рыбою в слободках Всетукой и Кличеснской волостей, вылавливая в год по четыреста костоголов а щук, карасей и лещей без счета.
8
Снедали неторопливо и долго, молясь, благодаря Господа.
Владимира Андреевича все не было.
Сдерживал гнев и обиду Василий, молчал погруженный в сомнения Сергий, неловко чувствовал себя хозяин — созвавший гостей игумен Федор. Только Стефан один был тут словно бы ненароком и словно бы ни во что не был посвящен, а потому и сокрушаться ни о чем не имел причин. Обращаясь опять к одному лишь великому князю, рассказал историю из подвижнической своей жизни, когда пришлось ему в неимоверно тяжких условиях обучать крещенных им зырян по созданной им самим специально для них азбуке.
Кудесник и начальник местных волхвов Пам, которого зыряне чтили больше всех своих чародеев, называл Стефана «московским бродягой» и призывал одноплеменников жестоко расправиться с христианским проповедником. Однако новообращенные зыряне уже успели полюбить Стефана, потому что, обходя свою паству, святитель вместе с догматами истинной веры проповедовал правила семейной и гражданской жизни, миролюбиво решал споры, помогал бедным. Жители платили ему ответной любовью. Например, однажды в селе Тулине, в двадцати пяти верстах ниже Ярянска, одна женщина, видя худую обувь проповедника, дала ему новую, и святитель, благословляя простосердечную благотворительность, повелел сделать это место торговым, и там по сей день собираются ежегодные ярмарки. И никто не поддавался злонамеренным призывам Пама. Тогда языческий кудесник решился на крайнюю меру: предложил Стефану в оправдание своей веры. пройти сквозь огонь и воду. «Я не повелеваю стихиями, — отвечал смиренный Христов проповедник Стефан, — но Бог христианский велик, и я иду с тобой». Стефан велел собравшимся людям зажечь избу, стоявшую особо, и, когда пламя охватило ее, он, призвав на помощь Бога, взял волхва за одежду и принуждал его идти в огонь вместе. Но Пам упал к ногам человека Божьего и молил избавить его от верной смерти. Он отказался также и от испытания водой. Народ хотел убить обманщика, но блаженный Стефан сказал: «Христос послал меня учить, а не убивать людей. Когда Пам не хочет спасительной веры Христовой, пусть Бог накажет его, а не я». Пам был выгнан из пермской земли и удалился со своими сообщниками на берега реки Оби — там, между Березовскими Остяками, он основал селение Алтым.
— Да ведь не только языческий кудесник, — вставил Федор, — но и большие люди из христиан противились твоему желанию посвятить жизнь свою просвещению диких народов Севера.
— Верно. Так. Когда за год до побоища Мамаева благословили меня на святое и великое дело великий князь Дмитрий Иванович да вот преподобный Сергий, сам митрополит Киприан удивлялся: «До конца света всего-то сто лет осталось, а ты лесным людям азбуку измысливаешь, зачем? Ни у финнов, ни у венгров, ни у литвинов — у многих народов нет своего письма, а зырянам оно к чему?» Я отвечал ему. «Пусть хоть на Страшный Суд явятся с Христом в душе». Сначала сделал переложение с греческого на зырянский лишь двух священных книг, но народ этот столь любознательным и даровитым оказался, что понадобилось мне не единожды в Москву да в Ростов наведываться за новыми писаниями. Зато ныне все священники мои служат обедни на пермском языке, поют вечерню и заутреню пермской же речью, и канонархи мои возглашают по пермским книгам, и певцы всякое пение совершают по-пермски.
Василий уж начал свыкаться с тем, что всякий новый человек, о чем бы он ни говорил, заканчивал непременно какой-нибудь просьбой. Стефан Пермский не был исключением:
— Бью челом тебе, великий князь! Когда десять лет назад снаряжали меня на апостольский подвиг, то отец Сергий снабдил меня антиминсами да святым миром, а батюшка твой дал охранную грамоту. Божественная ткань для престола да святое масло для миропомазания в достатке у меня, а вот грамоту охранную поновить надо, поелику новый же теперь государь у нас.
Василий, конечно же, пообещал немедленно справить требующуюся грамоту, но у Стефана оказались и другие еще нужды, исполнение которых было намного сложнее. В пермском крае холодная земля, плохо она злак родит — овес еще поспевает, рожь кое-когда, а о пшеничке или грече и мечтать нечего. Кормятся пермяки от леса да от речек, а хлеба своего хватает даже в урожайные годы ладно если до Великого поста. А два последних лета выдались такими, что, какую страду ни прилагай к неродной земле, больше чем сам-один ржи не соберешь. Начинается голод, и надо спешно привезти из Устюга и Вологды хлеба, сколько можно гужом, а затем на ладьях, как вскроются реки. Тут не обойтись без слова и заступы великого князя, который ведь от пермяков не в убытке: они и мягкую рухлядь поставляют — меха куньи, беличьи, соболиные, бобровые; и смолу с дегтем садят; и лесные поделки самые разные — посуду точат, гребни, веретена, донцы мастерят; всякий щепной обиход работают — лоханки, ушаты, коробья да и мало ли чего!.. Не зря туда тати повадились ходить. И вот здесь особая нужда в заступе великого князя. Надо Стефанову паству от притеснений и насилия тиунов и бояр оградить — это одно, а другое — обуздать своеволие и наглость новгородской вольницы, которая производит грабежи в Перми, по Каме и Волге, опустошает население по Вычегде. Святитель Перми обращался уж к новгородскому вече, чтобы оно уняло своих ушкуйников, но те продолжают забижать Стефанову паству, и беспременно надобно воздействовать на них силою.
Василий испытывал затруднения с ответом он не мог бездумно обещать свою помощь, понимая, что отношения с Господином Великим Новгородом сложились слишком сложные и трудные, не в одних тут ушкуйниках дело. Несмотря на то что московский князь, как издавно ведется, являлся одновременно и князем новгородским, на деле он слабо мог воздействовать на его внутреннюю жизнь. Хотя, конечно, заставить, принудить имел право. Дмитрий Иванович вынужден был этим правом пользоваться, а последнее время сложились у Москвы с Новгородом почти враждебные отношения. А тут еще и дядя Владимир Андреевич что-то непонятное вытворяет: уехал после размирья в новгородский Торжок.
— Помоги пермякам, великий князь! — замолвил словцо за Стефана преподобный Сергий.
Василий в раздумчивости посмотрел на великого старца, и вспомнился ему дерзкий вопрос, который задавал себе он не раз, но не находил ответа:
— Отче святый, вот благословлял ты иноков на рать с Мамаем, сейчас ходатайствуешь за силу оружия. А как же Божья заповедь «Не убий!», ведь всяк сущий искуплен кровью Христовой, и, проливая кровь человека, разве же не проливаем мы кровь Спасителя нашего?
Сергий ответил сразу же, без малого размышления:
— Эта заповедь для тебя, великий князь, значит вот что: ты не должен носить такого помысла в душе своей, не должен начинать кровопролития. В борьбе с темными силами, которые ищут твоей смерти, ты не должен озлобиться, обуяться жаждой мщения, иначе и сам станешь темной силой. Гада можно и должно убить, но так, чтобы свою душу сохранить, не убить в себе Божьего человека. Поразить врага — не доблесть и не радость, — это долг, ибо силу зла в любой форме должно уничтожать. Первая заповедь не только государя, но всякого смертного, внимание к человеку, который к тебе обратился. Это главное дело, ради которого надо сразу отбросить все остальные. Святитель Стефан не станет запрашивать лишнего, если обратился он, значит, дело богоугодное и праведное.
За окнами раздалось многоголосое дребезжание поддужных колокольчиков:
— Вот и князь Владимир Андреевич прибыл, — сказал, поднимаясь из-за стола, Сергий.
Василию послышалось в его голосе облегчение, и он с вновь вспыхнувшей ревностью подумал: «А не лишнего ли позволяет себе Серпуховской, и не с благословения ли первоигумена?»
Сергий между тем добавил негромко, сам для себя:
— Все-таки залучил я вас обоих…
Прибытие нового княжеского поезда наделало много шума. Всполошились все монастырские галки, заметались над медью золоченным шеломом Успенской церкви, оглашая двор своими надтреснутыми, картавыми голосами. Монахи в черных рясах высыпали из келий на снег, словно белоголовые галки. В небе ярко светило солнце, белое и холодное.
9
Оказалось, что сердился он на своего дядю зря: Владимир Андреевич не приехал — его привезли, разбитого недугом. А когда стал вылезать из саней, то на первом же шагу споткнулся, запутался в длинных полах тулупа черной дубки и едва не упал, и упал бы, не поддержи его верные бояре, которые подхватили князя на руки, умело и привычно отнесли на том же черном тулупе в жарко натопленную избу.
— Зачем же ты приехал? — с сочувствием и сокрушением спросил Василий, совершенно забыв о своих недавних подозрениях и обидах.
Владимир Андреевич бросил из-под насупленных мохнатых бровей усталый, изможденный страданиями взгляд, сказал очень просто и разоружающее.
— Я слово отцу Сергию дал, он подумал бы, что я почестью побрезговал. Да и ты зело вскидчив…
— Владимир Андреевич знал, куда едет, — весело говорил игумен Федор, — знал, что лучше моего лекаря-травника не найти, любую хворь рукой отводит. И я знал, что за скорбь у него, баенку приготовил, со вчерашнего утра немец ее топит: скорее чем за сутки баенку в такую пору не прогреешь.
— Что за немец, не Штиглиц ли? — испугался Василий, вспомнив разговор с польским послом Августом, но тут упрекнул себя за неосторожность. Правда, никто о Ягайловом лазутчике, как видно, наслышан не был, никому щеглиная кличка не показалась достойной внимания и интереса. А Федор объяснил…
— Кобеллом кличут… Наемным воем был он когда-то еще у Ольгерда, в плен наши новгородцы заарканили его. Хотели вместе с другими вражинами в Крым на невольничий рынок отправить, а оттуда одна дорога — в галерники константинопольские либо венецианские. Вели всех горе-вояк мимо нашего монастыря, этот вот Кобелл сильно занемог, взяли мы его к себе, травник наш выпользовал его, в баенку сводил, попарил. И так Кобеллю наша баенка понравилась, что он взмолился — просить стал, чтобы окрестили его в православие и взяли в обитель. Вот ведь: ради баенки от веры своей отрекся. Взяли мы его, второй год у меня истопником, банщик исправный да услужливый.
— Что же это за баенка у тебя такая, мыльня, что ли? — спросил Владимир Андреевич, который полулежал на широкой лавке и, как видно, отогревшись и обнадежившись словами Федора, повеселел — страдальческая гримаса сошла с его лица.
— Мыльня и есть, обыкновенная русская баенка, в которой сгорает и гнев, и вражда. А Кобелл не видал такой отродясь, у них в Германии, говорит, мужик моется три раза за всю свою жизнь: когда родится, перед свадьбой и когда умрет. А я, говорит, всего только один раз и помыт — при крещении, да и то не помню, потому что еще титешным был.
Василий, когда был в плену у Витовта, удивлялся тому, что в Литве нет мылен, но думал, что это объясняется язычеством, в котором закоснел народ. Потом узнал, что все мыльни были там уничтожены после Краковской унии, в связи с принятием католичества[8]. Для каждого русского с незапамятных времен стало потребностью еженедельное горячее мытье, и обычай этот изумлял иноземцев, даже и сам Андрей Первозванный, по словам летописца Нестора, дивился тому, что русские люди секут сами себя в пару вениками — «творят не мытву себе, но мучение». И потом каждый иностранный путешественник считал непременным поразить своих соотечественников сообщением об удивительном обычае русских. В той же «Повести временных лет», написанной триста лет назад и служившей все это время постоянным чтением в княжеских и боярских семьях, в монастырских и светских школах, говорилось об одном таком изумленном страннике: «И рече им: «Дивно видех землю словенску. Идущу ми семо видех бани древяны. И пережгуть и румяно и идуть ню, изволокутся и будут нази. И облиются квасом кислым и возьмуть на ся прутие младое и бьются сами!»
Изумление — это ладно, много всегда в чужедальной стране найдешь необыкновенных вещей, но ведь не могли же приезжие европейцы не понимать, что еженедельное мытье с парением не просто дивный обычай и услада чудаковатых русских людей, а залог их богатырского здоровья: то и дело холера, чума, брюшной тиф, обшарив все закоулки европейских королевств и скосив многие тысячи людей, останавливалась на границах русских княжеств. Эпидемии не поражали Русь столь часто, как Европу, только потому, что существовали бани, охранявшие здоровье народа.
Если до приезда Владимира Андреевича игумен Федор и с ним заодно Сергий со Стефаном чувствовали какую-то вину перед великим князем, которого, получалось, зря зазвали в монастырь в крещенский мороз, то теперь, когда все так счастливо выяснилось, сам Василий. пришел в беспокойство, год назад отец взял «мир и прощение и любовь с князем Владимиром Андреевичем», а как теперь он сумеет это сделать, чтобы и дядю не унизить, и себя не уронить. И как только что Стефан Пермский, стал Василий сейчас многоречив. Все старцы и ближние бояре чутко и бережно поддерживали беседу, хотя касалась она предмета вполне низменного, малоинтересного. Правда, вскоре разговор от мыльни перекинулся на темы более серьезные.
— Не мудрено, что Кобеллу вашему так полюбилась русская баня, — сказал Василий, обращаясь к Федору, — другое тут чудно: Тебриз вон говорит, что грязь с тела смывать — душу счастья лишать. Но со степняка какой спрос, Тебриз ведь агарянин, а вот немцы и французы, итальянцы и британцы, болгары и испанцы не понимают нешто тоже, что баня — не просто для чистоты, что горячее мытье — это для силы и крепости телесной надобно? И как же церковь пошла на это, и не только латинянская, я слышал?
Игумен растерянно посмотрел на Сергия, вот-де великий князь второй раз с еретическими вопросами — то в евангельской заповеди усомнился, то опять каверзу противосвященническую нашел… Сергий, однако, и к такому вопросу был готов: обширные знания были у старца Радонежского, многое постиг он и превзошел. Ухмыльнулся в серебряную бороду, попросил отца Федора:
— Дай-ка сочинение отца церкви нашей Иоанна Златоуста, кое тебе Киприан прислал.
Игумен достал из настенного шкафа книгу с медными застежками и в досках — в деревянном переплете, обтянутом коричневым сафьяном. Она была, по обыкновению, толста, однако Федор уж очень безнатужно, одной рукой держал ее. Оказалось, что листы у нее не пергаментные, а из лощеной бумаги. И Сергий столь же легко принял ее, держа на весу, открыл на нужном месте.
— Прочти-ка, Федор, ты греческим бойчее моего владеешь.
Игумен, верно, владел греческим изрядно, читать начал сразу же в переложении на всем понятное наречие:
— Закрыл парь городские бани и не позволил никому мыться, и никто не осмелился преступить закон, ни жаловаться на такое распоряжение, ни ссылаться на привычку; но хотя находящиеся в болезни, и мужчины, и женщины, и дети, и старцы, и многие едва освободившиеся от болезней рождения жены — все часто нуждаются в этом врачестве, однако, волею и неволею, покоряются повелению и не ссылаются ни на немощь тела, ни на силу привычки, ни на то, что наказываются за чужую вину, ни на другое что-либо подобное, но охотно несут это наказание, потому что ожидали большего бедствия, и молятся каждый день, чтобы на этом остановился царский гнев…
Василий вслушивался в текст, и подмывало его новый кощунственный вопрос задать: «Хоть прозван Иоанн за свое красное речение Златоустом, хоть и один из «отцов церкви» он, однако же, словно бы оправдывается и словно бы желает побранить царя, да боится, лукавыми словесами обходится…»
Игумен хотел было уж закрыть книгу, но, бросив короткий взгляд на очень внимательно и вдумчиво слушавшего его великого князя, продолжал излагать проповедь:
— Видишь, что, где страх, там привычка легко бросается, хотя б она была весьма долговременная и сильная! Не мыться ведь тяжело: как ни любомудрствуй, тело выказывает немощь свою, когда от любомудрия душевного не получает никакой пользы для свое здоровья. А не клясться — дело весьма легкое, и не причинит никакого вреда ни телам, ни душам, но доставит много пользы, великую безопасность, обильное богатство. Как же не странно: по повелению царя переносить самую тяжелую вещь, а когда Бог заповедует не тяжкое и не трудное дело, но совершенно легкое и удобное, показывать небрежность и презорство и ссылаться на привычку?..
«А ведь я тоже царь! — озарило вдруг Василия. — Так титулуют меня все иноземные послы. Чего же я робею!» — И он вскинул голову, еще не зная, что скажет, как поступит, на уже исполненный решимости и готовности к любому исходу. А Сергий снова удивил его своим всевидением:
— Хочешь знать, Василий Дмитриевич, как стать могло, что люди царя слушаются покорнее, нежели Господа самого?.. Однако же такое ведь случается не всегда и не везде. Вот хоть с этими банями. Латинянство своим дыханием смрадным не только в верноподданных странах, но по всей Великой Римской империи уничтожило их, при этом еще и иные православные народы невинно пострадали. А Русь наша Христа в душе своей несет, потому особо хранит ее Бог для подвигов вселенских. Потому не может у нас быть тако. Не было при прежних царях, не будет при новых. Государю надлежит быть мудрым и мужественным, но должен быть он и человеком со всеми слабостями, должен чувствовать усталость и голод, болезнь и бедность, чтобы понимать своих подданных — людей и мизинных, и самых лепших.
Василий с благоговением смотрел на старца, сами собой сложились слова, которые произнес он про себя: «Господи, прости меня, грешного! Преподобный Сергий, помоги мне заступою твоею!»
Сергий услышал мольбу великого князя.
10
Владимир Андреевич в продолжение всего разговора не нарушал безмолвия; по напряженному взгляду, по скованности и скупости жестов, по беспомощности того положения, в котором он находился, видно было, что чувствует он себя скверно, перемогается. Даже и не верилось, что так жалко и немощно выглядит лихой князь, прозванный не всуе Храбрым! Сергий подошел к нему согбенно-скорбный, спросил с лаской и сочувствием:
— Как же это приключилось с тобою, светлый князь?
Превозмогая недуг и заикаясь сильнее, нежели обычно, Серпуховской ответил с отчаянной решимостью:
— За злобу, за ндрав мой покарал меня Всевышний… Повздорил тогда в Кремле с Василием Дмитриевичем, видно, неправым был, занесся в гордынности… Потом скакал долго, менял взмокших лошадей, а сам-то так потный и летел через лес. Спешился в Торжке — совсем немоглый, шага ступить не умел, ровно стрелой каленой мне чересла пронзило.
— Крепость мужа в чреслах, — отозвался Федор, призвавший уже в покои монаха Пантелеюшку, известного своим умением изгонять любую хворь из тела настоями и мазями из лесных да полевых трав. — Потрудись, помоги Владимиру Андреевичу, милость твоя ведь на всех людей распространяется, таким уж именем наречен ты[9].
Пантелеюшка взялся за дело без промедления. Для начала велел своему послушнику принести прострел-траву. Одиннадцатилетний отрок, без роду и без племени, круглый сирота, нашедший спасение в обители, был исполнителен и старателен, но не искушен и потому бестолков. Принес сначала связанные мочалом пучки засушенного зверобоя. Пантелеюшка, не сердясь, объяснил, что у прострел-травы цветочки не желтые, но лиловенькие. И опять послушник ошибся — душицу притащил. Пришлось Пантелеюшке самому идти на вешала.
— Так это же сон-трава! — оправдывался послушник, а Пантелеюшка опять не рассердился на неразумные слова, с улыбкой стал сшелушивать в березовый туесок сухие длинные листья и сморщенные цветочки, а оставшиеся бустылья отдавал отроку, который почтительно держал их на вытянутых руках, не зная, то ли они понадобятся еще и следует их беречь, то ли можно уже выкинуть в лохань.
Владимир Андреевич с опаской подкашивал взгляд на сморщенные похрустывающие и рассыпающиеся в пальцах лекаря листья и цветки, которые ни на что не были похожи, казались незнакомыми вовсе, хотя Пантелеюшка и сказал, что растут они повсеместно — на заливных и суходольных лугах, по окраинам болот, на полях и залежах.
— Травка это чародейная, — внушал Пантелеюшка. — Когда Сатана был еще светлым ангелом и в гордыне своей восстал на Творца, то Михаил Архангел согнал его с неба высокого на сыру. землю. Сатана со своими ангелами вот за эту траву спрятался, но Михаил Архангел кинул в него громову стрелу, прострелила стрела ту траву сверху донизу. От того прострела разбежались все демоны, а трава стала называться прострел-травой. От нее сейчас все твои, князь, болезни поразбегутся.
И тут вдруг вмешался кроткий отрок, сказал твердо, даже с обидой в голосе:
— Нет, Пантелеюшка, не так, не верно ты сказал! Я от блаженного Кирилла слыхал, что инак дело сотворилась с травой этой. Не потому листья у нее такие, что Михаил Архангел прострелил. Нет, это вот как было: Христос спрятался под листьями от врагов, а они давай его колоть копьями, вот и продрали да истыкали все листья-то…
Пантелеюшка был, как видно, существом совершенно незлобивым, живущим со всеми в согласии. Он внимательно выслушал запальчивую речь послушника:
— Ну, значит, так и была… Главное, брат, нам с тобой надо князя от прострела выпользовать. Тащи туес этот в предбанник, а я схожу за жиром, медвежьим да барсучьим. — Посмотрел на Серпуховского, словно бы желая сказать, что никакой тайны из своего лекарства он не делает и ни к каким колдовским средствам не прибегает.
Святые отцы пожелали князьям легкого пару, Сергий обронил, будто бы между прочим:
— В баенке сгорают гнев и которы.
Владимир Андреевич взял с собою двух самых близких бояр, и Василий пошел в баню не один — с Данилой и Осеем.
— Не знаю, как тебе, а мне шибко сильная парная невмоготу, я так — погреюсь только с тобою, — обронил Серпуховской.
— Я тоже не до смерти, тоже только погреюсь, — ответил Василий, жалея запечалившегося дядю своего и не желая выхваляться перед ним своим здоровьем.
Серпуховской выслушал словно бы с недоверием к словно бы что-то хотел сказать, да раздумал — так показалось Василию, когда шли они меж сугробов снега вслед за Пантелеюшкой. А тот почасту оглядывался, желая знать: поспевают ли за ним князья с боярами. На одном повороте, после которого дорожка шла широко расчищенная, вовсе приостановился, справился, не надобно ли Владимиру Андреевичу салазочек. Тот отказался.
11
Баенка была срублена из кондовых, сосновых бревен и впущена в землю более чем на половину, так что слюдяные в свинцовых рамах оконца оказались занесенными снегом, который банщик Кобелл не стал расчищать весь, но лишь вырубил лопатой ложбины в нем, чтобы свет попадал через слюду внутрь. Баня была хорошо протоплена, вымыта, а после этого еще и выстоялась достаточно долго — Василий понял это сразу же по тому сухому жару, который мягко окатил его с ног до головы, и по насыщенному смешанному аромату сгоревших березовых дров и вишенника, смолы сосновых стен, распаренных в липовых кадках веников, до звона прогретого полока из широких кипарисовых досок, истлевших на каменке смородиновых листьев.
Хотя и топилась курная баня по-черному целый день и целую ночь, копоти и сажи нигде не было, чисто и светло было даже в верхних углах, где, как известно, таятся обычно кикиморы, недотыкомки и всяческая другая нечистая сила. Липовый пол выскоблен до восковой желтизны, Василий с наслаждением прошелся по нему босыми ногами — мягкий и гладкий, без единой занозы, затем растянулся на нем в обнимку с большим скользким ушатом, наполненным холодной водой, — после того как Данила с Осеем умело пропарили его на полке: и ячное пиво, и настои разные в малых ушатцах плескали на спорник — дикий раскаленный камень, от которого с ревом долетал в ответ душистый жар, и вениками березовыми, то и дело окуная их в кадку с ледяным квасом, хлестали великого князя со всего плеча, да еще и с потягом. Василий не слез, но, можно сказать, свалился с полка — в такой истоме был. Окунул лицо в снеговую воду и лег у порога, подложив под голову два сладко пахнущих, распаренных веника — березовый да дубовый.
А на другой полок взгромоздился с помощью своих бояр Владимир Андреевич. Лежал он без движения, возвышаясь глыбой.
— Породист, князь, породист, — приговаривал Пантелеюшка, не желая, видимо, обидеть более точным словом — «брюхат». Два боярина и послушник были у Пантелеюшки на подхвате, он велел то одно подать, то другое принести, а сам трудился столь усердно, что скоро холщовая его рубаха промокла до нитки и плотно облепила его костлявую фигуру от плечей до колен.
Трудился он явно не зря. Владимир Андреевич стал подавать признаки жизни.
— Парко! — сказал не без удовольствия. Малое время спустя вовсе разговорчивым стал: — Эк, тело-то от жару как затомилось.
— От жару, от жару! — покорно соглашался Пантелеюшка, продолжая наюлачивать его чресла своими снадобьями.
Василий собирался еще раз слазить на полок, но раздумал, увидев, что дядя, своими силами лишь обходясь, спустился вниз и встал возле бочки с водой, придерживаясь для устойчивости за ее мокрый, скользкий край. Убедившись, что надежно ноги держат, улыбнулся:
— Однако словно санный воз меня по череслам переехал, перепоясан словно я тугим кушаком… Да, жене дано лоно, а мужу чересла… — Совсем разговорчивым стал Владимир Андреевич, многословно изъясняется и почти без заикания.
Пантелеюшка, ни слова не говоря и не ожидая слов благодарности, тихо выскользнул из бани, следом за ним юркнул и его послушник.
— Шубу мою кунью Пантелеюшке отдать! — велел Серпуховской своим боярам, и они тоже вышли из парной.
— Небось сейчас выйдут и объявят громкогласно: «Князь Владимир Андреевич Донской жалует…» — Василий не успел закончить свою язвительную фразу, Владимир Андреевич хрипло и натужно рассмеялся:
— Помню, помню, великий князь, обиду твою, когда был ты еще девятилетним отроком. И, смотри-ка ты, не забыл… Я же не виноват, княже… Однако повелю всем, чтобы впредь никто не смел именовать меня не принадлежащим мне званием и достоинством.
— Так, хорошо, так… — мялся Василий, ибо не это его главным-то образом заботило. Решился, спросил напрямую: — Не могу я вдомек взять, отчего ты в гнев пришел такой, что прострел тебя хватил?
— Да ведь сказал уж я тебе, что неправый гнев мой, но, однако, и вчуже обидно мне терпеть стеснение: твои бояре старейшие после смерти Дмитрия Ивановича большую волю забрали, а ты потворствуешь, укороту не даешь им.
— Чем я потворствую? — искренне не понимал Василий.
— Стеснен я в своих правах оказался, от управления Русью отринут, не у дел стал… — Серпуховской хотел казаться совершенно спокойным, но желваки на его скулах дергались помимо его воли.
— А если я тебя в поход пошлю?
— Я всегда был ревностным стражем отечества, — не совсем определенно ответил Владимир Андреевич, и Василий по-прежнему не понимал, как же умилостивить дядю, как выразить ему свое благорасположение, не уронив и своего достоинства. Решил повременить и пригласил его подняться вместе на полок.
— Дай-ка мне березовый веничек, — попросил Серпуховской и добавил с каким-то скрытым смыслом: — Да такой выбирай, где листочки на длинных ножках сидят…
Василий осмотрел висевшие на сухом жару возле входной двери дубовые и березовые веники, вытащил из кадок и распаренные.
Вспомнилось читанное у летописца Сильвестра, что славянские племена, облагая побежденных данью, включали в нее и березовые веники намовь.
— Дань хочешь с меня взять? — пошутил Василий, да прямо в кой попал. Владимир Андреевич потупился, укладываясь на шуршащих смородиновых листьях, которые густо насыпали на полок его бояре, процедил сквозь густую заросль усов и бороды:
— С в-вас в-возьмешь дань, на вас, Донских, где сядешь, там и слезешь, глади, как бы остатнего не лишиться… Были у меня раньше Галич да Дмитров, а Дмитрий Иванович, царство ему небесное, понял их на себя. А в Дмитрове-то тогда как раз родился у меня сын Ярослав.
— Помню. Как раз после рождения Ярослава было у вас с отцом размирье… На Крещение… А на Благовещение он ведь повинился перед тобой?
Серпуховской ответил уклончиво:
— Жить — грехи наживать…
— Стало быть, не простил ты его, обманно помирился?
— Что т-ты, Б-бог с тобой, Василий Дмитриевич, разве мог я быть с братом своим двоедушным?.. Нет, истинно закончили мы тогда размирье, однако… Галич-то с Дмитровом так и остались при Москве… А у меня вот-вот сын родится, Ф-федором назову, как игумена высокочтимого нашего, вот только княжить ему будет негде: отчина-то моя, как овчинка ношеная, не разделить ее больше.
Наконец-то понял Василий: недоволен Серпуховской своим жребием, рассчитывал, что после смерти Дмитрия Ивановича какие-то земли будут к его княжеству прирезаны… Ну уж нет, дядя, пусть твой Федя поколе без приданого поживет, так и Ярослав без Дмитрова обходится. Так подумал, а сказал шуткой:
— А ну как дщерь родится?
— Нет, сын, я чую, — стоял на своем Серпуховской, и Василию ясно стало окончательно, что просит дядя расширить его владения вне зависимости от того, кто родится и вообще родится ли…
— Но ведь не можешь ты не знать, что у меня из двух жеребиев отцовских лишь один остался, второй поделен между братьями. Так что мы с тобой одинаково по одной трети Москвы володеем.
— Вестимо, одиначеством мир силен… Веника вот не сломишь, а прутья, поодиночке, все переломаешь…
Не понять было, то ли соглашается, то ли возражает Владимир Андреевич, и Василий снова попытался на шутку свести разговор:
— Я ведь тоже не меск легченый. Знаешь, поди, что обручен я с литовской княжной…
Серпуховской никак на это не отозвался, только завозился неуступчиво на полке, шурша смородиновыми сухими листьями. Протянув вниз наугад руку, достал из липового извара-ушатца распаренные пучки душистых трав и можжевельника, подоткнул их под бока и затих. И в самом молчании его чудились Василию протест, вызов.
Данила плеснул ковш разбавленной медом воды на каменку. Пар оттуда вырвался с громким шипением, и боярин сказал Василию на ухо, так что Владимир Андреевич и не видел этого в облаке пара, и не слышал:
— Гонец верхоконный тебя дожидается во дворе.
Василий для виду еще малое время помахал на себя веником и направился, минуя мыленку, в предбанник. Холода не чувствовал, а под ногами была расстелена белая овечья кошма. Нагим и наружу вышел. Забухшая дверь отчинилась со скрежетом и гулом. Стоявшая возле бани лошадь вздрогнула, переступила ногами, и с ее ушей слетел иней. Поблизости, прижимаясь к стене бани и зябко кутаясь в бараний нагольный полушубок, ждал терпеливо гонец. Когда он убрал рукавицу, которой прикрывал красное от мороза лицо, Василий узнал его: это был тот самый холоп, что приезжал с Василием Румянцевым в Москву на посажение.
По-прежнему не чувствуя холода, Василий шел босыми ногами по снегу, как по кошме: «Вот бы меня сейчас иноземцы увидели, дивно было бы им: мужик в тулупе, лицо от холода прикрыл голичкой, а рядом великой князь московский в чем мать родила», — весело подумал, уже догадываясь, что в свернутой трубочкой грамоте содержится известие непременно желательное.
Вернулся в предбанник, сел за стол, сдерживая нетерпение, хватил через край корчаги кисловатого медку, затем только развернул тонкую бересту. «Хотматпшыдор…» Что за бестолковщина?.. A-а, хитро измысленное писание! Василий поменял буквы местами, каждую первую на каждую третью, и прочитал: «Тохтамыш продержал при себе Бориса Константиновича как пленника тридцать дней во время похода в Персию на Тимур-Аксака, потом отпустил, обещая жалованную грамоту. Поспешай, бо по заячьему следу волка не выследить».
Снова вышел на снег, печатая на нем следы босых ног, безмолвно, лишь взмахом руки отпустил гонца. Тот сразу понял, что ответа ждать не надобно, удовлетворенно похлопал кожаными рукавицами, надвинул на брови шапку, сбил иней с крыльев седла, перестал обсвистывать лошадь и сунул левую ногу в стремя. Сильно, видно, закоченел, потому что не сумел сразу взлететь на седло, долго прыгал на одной ноге.
Продолжая удивляться, что не чувствует холода вне бани, Василий подумал, что погода потеплела, но, когда, остановившись босиком на жестком укатанном снегу дорожки, провел рукой по затылку, понял — мороз на дворе по-прежнему крещенский, мягкие пряди волос обросли ледком.
12
Владимир Андреевич возлежал на полке, окутанный паром.
Василий надел кожаные перстчатые рукавички, взял два новых веника. Прошелся богатыми листвой, на Троицу вязанными веничками по дяде с ног до головы, а потом взмахнул высоко, захватив горячего верхнего пару, припечатал оба к животу дядиному, выдохнул одновременно:
— Волоком и Ржевом хочешь володеть?
— О-о-ой! — завыл то ли от ожога, то ли от давно чаемых слов Серпуховской, вскочил по-молодому и по-здоровому, сбежал вниз на прохладный липовый пол: — Волок и Ржева с волостями?
— Да, Волок со всеми переволоками и Ржеву со всеми ржавыми болотами и полями ржи, — шутил Василий, но дяде не до шуток было, он говорил озабоченно и пространно:
— Не моги меня корить, но не откажусь. Ржев давно по праву мой, еще ты на свет не народился, когда воевал я его ратью у взбунтовавшейся Твери, а Волок давно надо отнять у новгородцев, он исконно наш… Дело же такое надо крестным целованием да договором скрепить. Допрежь только попариться надобно. — И он дал знак своим боярам, находившимся в мыленке.
Помня предупреждение дяди, что ему невмоготу шибкое парение, Василий считал банное купание оконченным, а сейчас понял, что для Владимира Андреевича оно только начиналось.
Два дюжих боярина, хорошо, видно, знавшие привычки своего князя, настелили на полок душистого сена, накрыв его сверху холстиной. Владимир Андреевич улегся на спину, прикрыл одной рукой лицо, второй соромное место. Бояре взяли по два веника и начали охаживать Серпуховского, который лежал молча, без единого движения. Василий, сидя внизу на полу, наблюдал с растущим удивлением, даже и обеспокоился, как бы дяде дурно не стало. И бояре, видно, уж притомились, явно через силу усердствовали. А когда, казалось бы, дело к докончанию шло, Владимир Андреевич вдруг закричал сердито:
— Чего заснули!.. Поддайте и лупите!
Бояре, вздрогнув, торопливо зачерпнули из ушатцев медными лужеными ковшами ячного пива, плеснули на спорник, сменили оббитые веники на свежие, заработали с удвоенной силой, а когда наконец Серпуховской жестом руки отпустил их, поплелись из парной медленно, шатаясь и стеная.
Владимир Андреевич, малиново-красный, окутанный паром, побежал на двор столь по-молодому, что немыслимо было представить, что он уж четвертый десяток лет доживает и что только что был разбит недугом. С видимым удовольствием купался он в высоком пушистом сугробе снега, вскрикивая и взлягивая, как третьяк… Ну и здоров дядя! Василий чувствовал себя обманутым, но не сердился, даже и еще большим уважением к Владимиру Андреевичу проникся. Удивился снова, как это можно верстаться с ним обидами: лучистые глаза, милая улыбка, короткие и по-детски вьющиеся волосы, и сам, как ребенок, весел, непосредствен…
13
Межкняжескую договорную грамоту решили составить в Москве, а при совершении крестного целования обратиться к посредничеству игумена Федора.
Когда шли после банной услады, Василий обронил:
— А если я найду себе Муром, Тарусу, Городец, другие какие места, не будешь ли ты опять обижаться на свой жеребий?
Владимир Андреевич не мог не догадываться о притязаниях великого князя на Нижний Новгород, понимал, что не случайно тот надумал найти города, принадлежащие Борису Константиновичу и его удельным князьям, но виду не подал, ответил в согласии:
— Все, что примыслишь себе, все — твое, но я не участвую в твоих издержках.
— Вестимо… Как и то вестимо же, что из огородников[10] да мастеров, коих мы, князья, себе вымем и кои перейдут к нам как тяглые люди под нашу руку, мне, князю великому с братьями, два жеребья, а тебе одну треть…
— Зело крепко усвоил ты отцовские повадки? — такими словами высказал свое согласие Владимир Андреевич и счел нужным добавить: — Ни крестьян, ни холопов не закреплять за собой.
— Вестимо, вестимо! — Василий рад был, что примирение происходит не только по-человечески согласно, но и с державной радетельностью.
В покоях отца Федора, куда зашли пахнувшие баней и распаренным веником Василий и Владимир Андреевич, весь левый угол уставлен богато украшенным иконостасом в три тябла. Под нижним поставцом висят парчовые, золотом шитые и жемчугом низанные пелены. Перед иконами — негасимые лампады, внизу на аналое — священные книги в серебряных окладах, золотой крест с распятием. Богатый киот у отца Федора, но это и вое его богатство. Пол перед аналоем истерт: много тысяч поклонов отбито, бессчетное число теплых молитв пролито к Господу, к Богородице, ко святым апостолам…
— Ты, великий князь, ты — царь, а мне, князю удельному, ты — отец! — Бледно-серые, влажные, словно бы слезящиеся, глаза Владимира Андреевича смотрели открыто, в словах его была приятная уверенность и спокойствие, внушавшие доверие и уважение. И Василий ответил примиряюще:
— То царство временное, а в царстве вечном будем мы с тобой братьями равными.
Несмотря, однако, на столь благодушное начало разговора, не обошлось до того, как поцеловали они крест, и без пререканий и взаимных огорчений. Василий выговорил себе право посылать дядю в поход; и тот должен садиться на коня без ослушания, но при этом пояснил:
— Если я сам сяду в осаде в Москве, а тебя пошлю из города, то ты должен оставить при мне свою княгиню, своих детей и своих бояр.
— Это что же, Василий Дмитриевич, не доверяешь ты мне?
— Как можно! Нет, просто хочу я, чтобы никогда не повторилось прискорбное разорение, какое через два года после славных побед Куликова свершилось.
Серпуховской согласно кивнул головой:
— Мудро, зело мудро мыслишь! — И добавил: — А если же меня оставишь в Москве, а сам поедешь прочь, то оставишь при мне свою мать, своих братьев младших и бояр.
Василий не мог не согласиться с этим, а про себя опять подумал: «Да, такого волка-пса обязательно выгалкнешь… Напророчил юродивый. Но только, дорогой дядя, это еще не все…» И Василий последнее жесткое условие поставил:
— В случае если призовет меня Господь до времени в царство вечное, великим князем должен ты признать будущего сына моего, его будешь считать отцом своим. И если будет сын мой на моем месте и сядет на коня, то и тебе с ним вместе садиться на коня. Если же сын, мой сам не сядет на коня, то можешь ты тоже не садиться, но послать детей своих, им непременно садиться на коня без ослушания… А на сем на всем, князь Владимир Андреевич, целуй ко мне крест, к великому князю, целуй вправду, без всякой хитрости.
— Мал крест, но сила его велика, — произнес отец Федор, подкашивая взгляд на Владимира Андреевича. Видя, что тот медлит, продолжал: — Если смерть Господа нашего Исуса Христа есть искупление всех, если смертью его разрушается средостение преграды и совершается призвание народов, то как бы он призвал нас, если бы не был распят? Ибо на одном кресте претерпевается смерть с распростертыми руками. И потому Господу нужно было претерпеть смерть такого рода, распростереть руки свои, чтобы одной рукой привлечь древний народ, а другой — язычников, и обоих собрать воедино. Ибо сам он, показывая, какой смертью искупит всех, предсказал: «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе!» Как четыре конца креста связываются и соединяются в центре, так Божией силой содержится и высота, и глубина, и долгота, и широта, то есть вся видимая и невидимая тварь.
Владимир Андреевич покорно склонил свою седую голову. Почитал он отцом своим Дмитрия Донского, который был лишь на два года старше, затем им стал двоюродный племянник Василий Дмитриевич, а теперь вот согласился называть отцом и не родившегося еще двоюродного внука своего… Но что же поделаешь — таков выпал жребий. Да и понимать надо, что не тот отец, кто породить дитя сумел, но кто продолжателя дела своего взрастил. И сыном может называться только тот, кто сумеет продолжить дело отца. Есть Бог-отец Саваоф, мир за шесть дней сотворивший, однако же несовершенный мир, грешный, и люди поклоняются сыну его Христу, в нем одном видят и надежду свою, и воплощение отцовской, Божьей мечты.
Так утешил себя Владимир Андреевич Храбрый, на том целовали они с Василием Дмитриевичем запотевший на морозе от их дыхания золотой наперсный крест.
Глава II. Куда движется Русь?
Само собой разумеется, что при каждом завоевании более варварским народом ход экономического развития нарушается и уничтожается целая масса производительных сил. Но в огромном большинстве случаев при прочных завоеваниях дикий победитель принужден приноравливаться к тому высшему «экономическому положению», какое он находит в завоеванной стране; покоренный им народ ассимилирует его себе и часто заставляет даже принять свой язык.
Ф. Энгельс1
Василия знобило: плохо спал ночью накануне. Утро после дождя было свежим, ясным. С реки потягивало пронизывающей влажностью. Князь кутался в широкий охабень красного сукна, зябко поеживался. На берегу реки Москвы собралось много народу — и горожане, и приезжие купцы: пристанище было недалеко — из разных концов Руси торговцы и иноземные любопытствовали. Пришли люди из Кремля, Занеглименья, Заречья, Заяузья, из сел Хвостовского, Дорогомилова, Сущева, Семчинского, Воронцова, Ваганькова. Ваганьковские все пересмеивались, рты до ушей, недаром их так прозвали: «ваганить» значит «шутить, играть». Василий вглядывался в вереницу лиц: замкнутые — боярские, иные, впрочем, зевают, но иные мрачны; востроглазые лица ремесленников, посадских людей; надменные — у послов; недоверчивые — у сельских. Не было только равнодушных, всех привлекало редкостное зрелище.
Трое ордынцев в белых балахонах, босиком, растерянно топтались на рогожке, брошенной на берегу, чтобы не грязнили ноги. Василий усмехнулся про себя: пожелали принять православие? Младенцев в церкви в купель погружают, а этих куда погрузишь? Приходится прямо в реку.
Возле воды установили столик-аналой, на нем — маленькое походное Евангелие в серебряном окладе, крест, горящая свеча. Возле крещаемых слева — восприемники, крестные отцы и матери, у каждого в руках тоже по свечечке с бледными, почти невидимыми в свете дня огоньками.
Крестить взялся сам Киприан, ему помогали два священника. Один из них, в белой одежде и нарукавниках, взяв кадильницу, покропил душистым дымом на реку и окрест, дьякон весело зарокотал ектению:
— Еже очиститься воде сей силою, и действием, и наитием Святого Духа… от всякого навета видимых и невидимых врагов…
— Знавали мы врагов видимых, знавали, как с ними управиться. Теперь приобретаем и пригреваем врагов невидимых, — тихо и злобно гудел над ухом князя Данила Бяконтов, пристально глядя на изжелта-посинелых ордынцев. Те беспокойно и беспомощно озирались по сторонам: незнакомая речь, холодно в балахонах этих, и толмач далеко, возле пламенеющего в толпе княжеского плаща трется.
— Ах, красиво! — восхищался Тебриз, склоняясь к другому уху Василия, — Великолепно и торжественно. Хорошая вера. Хорошо моим маханникам будет.
— Насмехается, иуда немаканая, — усиливался шипом Данила. — Над своими же насмехается, змей. Ползучей твари руби голову, пока ластится, а то укусит. Ты что, великий князь, забыл, что ли, все?
— Не боясь, возьми тварь в руку и обороти жало ее против метящих в тебя, — негромко сказал Василий, тоже рассматривая ордынцев, — Станут они теперь «маканцами», а «маханину», мясо конское, есть перестанут… В Орде отступления от веры им не простят, ходу назад не будет.
Помолившись про себя, пока возглашал дьякон, вступил велегласно Киприан:
— Тебе трепещут умныя вся силы, тебе поет солнце, тебе славит луна, тебе слушает свет, тебе трепещут бездны…
— Какие из них православные? — гнул свое Данила. — Они же ни слова не понимают, стоят, как овцы, кучей бессмысленной. Эх, великий князь, — горько помотал он головой, — скор ты на прощение. Издевались над нами, измывались, а ты их крестить.
— А не прищемить ли тебе язык, Данила Феофанович? — добродушно спросил Василий. — Помнится, очень нужные денежки ты промотал, камешки драгоценные, что нам воевода Петр дал, спустил, грамотку его потерял, и по твоей милости княжича московского за татя приняли, в крепости под стражей держали, а теперь все дерзишь и дерзишь, а я тебе прощаю да прощаю, а?
Бяконтов смолк, только сопел гневно.
— Не дыши мне в ухо! — с досадой одернул его Василий.
Все обдумал великий князь, ночью принял самовластно решение. Пусть глядят иноземцы — купцы да посланники королевств. Хорошее представление. Пусть разнесут по свету, как притекают ордынцы — заклятые враги — под руку московскую. Приятный пример.
— …И главы тамо гнездящихся сокрушил, еси змиев, — заключил между тем Киприан.
— А языку они научатся, боярин, — утешил Василий Бяконтова.
— Дмитрий Иванович доверил Переяславский полк в Куликовской битве воеводе Андрею Серкизову, крещеному татарину, — тихо напомнила стоявшая сзади Евдокия Дмитриевна.
Василий благодарно оглянулся на ее родные грустные глаза. Белолична княгиня от притираний и снадобий, какие наносит печальными перстами каждое утро. Но кожа все равно суха, и зримо покрывает ее тонкая сеть морщин-трещинок, как покрывает она со временем старый глянец писаных ликов. От белого убруса и жемчужного ожерелья с наплечниками мать казалась еще бледнее, а высокие сафьяновые каблуки делали ее выше ростом, неподступнее. Она стояла прямо, неподвижно, но он-то чувствовал в ней что-то надломленное. Так дерево срубленное держится последнее мгновение в гордом и болезненном трепете всей кроной, но еще один лишь толчок — и узкая полоса его коры оборвется, и оно рухнет с прощальным шумом.
2
Священник, трижды перекрестив реку, погрузил в нее пальцы и, дунув на воду, возгласил:
— Да сокрушатся под знаменем образа креста Твоего вся супротивныя силы.
— Помрачение помыслов и мятеж мыслей, по-моему, наводит все это на крещаемых, — сказал, подошед, Вельяминов. — Будет ли духа обновление? — И оборвал смешок, наткнувшись на взгляд князя.
Священник макнул в поднесенную чашу елея два пальца и намазал нечестивцам крестики на лбу, на груди против сердца, на ушах и руках, потом, очень изумив крещаемых, нагнулся и помазал им ступни, знаком показав идти в воду. Ордынцы переглянулись, снова испуганно поискали глазами Тебриза.
Может быть, легче им было принять решение о перемене веры, отправиться к недавнему недругу было проще, чем теперь без оружия, без коней, без набитых легкой щепой плавучих кожаных мешков впервые в жизни идти в воду, путаясь в балахонах, которые полоскал вокруг ног ветер. Зашли, однако, глубже пояса:
— Крещается раб божий Ананий, — глаголил второй попик, ежась от воды, тоже объявшей его. Фелонь на нем подплыла, вздулась парчовым куполом. — Во имя Отца… — ухватил Бахтыхозю за волосы, притопил его с головой. — …И Сына… — Вынырнул Бахтыхозя-Ананий, фонтанчиком выплюнул воду. На берегу раздался неуместный смех собравшихся. Дьякон, забывшись, тоже смеялся в пышные усы. — …И Святого Духа… — торопился поп, снова топя новокрещеного Анания, — Аминь.
Таким же образом и Кыдырхозя обратился в Азария.
С Маматхозей вышла заминка. Уже цопнув его за волосы, поп вдруг проворно повел его вон из воды. Оказалось, в спешке забыли снять серьгу полумесяцем, какую носил щеголь Маматхозя, а на крещаемом не должно быть никакого металла. Дьякон ловко освободил его от серьги. Маматхозя глядел с нескрываемым сожалением: единоверцы, можно сказать, а грабят. Золотой полумесяц одиноко поблескивал, брошенный на аналое, пока Маматхозя, дрожащий, с вытаращенными глазами, не вынырнул уже Мисаилом. Когда двое других выжимали на себе балахоны и трясли полами, стараясь обсушиться, он, весь облипший, торопливо, дрожащими от холода руками вдел свое украшение обратно. И тут вдруг короткий и болезненный женский вскрик раздался в передних рядах. Василий оглянулся — Янга. С высокого седла ему хорошо было видно, как безжизненно повалилась она вдруг на руки своих подружек. Юрик тоже видел это, он находился от нее неподалеку, сделал знак рукой лекарю, что пришел на крещение. Итальянский врачеватель прошел через расступившуюся толпу к Янге, поднес к ее лицу откупоренный пузыречек с белой жидкостью. Янга сразу же пришла в себя, словно от сна очнулась, стала оглядываться и, все поняв, юркнула в народ, исчезла.
Юрик подавленно молчал, помутнев лицом, раздумывал и бросал искоса взгляды на старшего брата, сердитые, раздосадованные и обвиняющие.
Все случилось так быстро и мимолетно, что мало кто и заметил, среди собравшихся на берегу не прекращалось веселье: забавно и жалко выглядели мокрые вельможи-татары. Сердясь и конфузясь, митрополит Киприан собственноручно надел новообращенным нательные крестики, повел вокруг аналоя. Крестные отцы и матери, держа истомленные вялые свечечки, двинулись следом.
3
Василий отстегнул на горле фибулу, задумчиво покрутил в руке фигурную золотую застежку, решил сбросить вовсе с плеч опашень. Бяконтов ловко подхватил на руки ярко-красный с индигово-синей подкладкой плащ великого князя.
Солнце вовсю сияло над Кремлевской горой. Успенский и Архангельский соборы, Спас Преображения на Бору, Иван Лествичник под колоколами теснились близко друг с другом. Их главы — русские луковички, символизирующие пламень горящей свечи, и византийские воинственные шеломы — высоко вздымались над каменными белыми стенами и постройками живописным, сказочным сочетанием вышек, башен, резных затейливых коньков. Среди густой зелени садов и рощиц блестели золоченые кресты и свинцовые кровли, омытые ночным дождем.
— Боголюбивый город, — тонко, желая сделать приятное, заметил литовский посланник, дружески, по-свойски взяв князя под локоть. — Софье Витовтовне в нем будет славно жить.
— Еще краше стольный город Руси станет, — нечаянно хвастнул Василий.
— Что, великий князь, не забыл обещание? — Из теснившейся вокруг толпы глядели на него светло и дружелюбно знакомые глаза из-под длинных, до висков, бровей. Только вместо пуха на щеках — густая ровная бородка. А руки, как и прежде, неотмыты от белил и киновари.
— Андрей, монашек?
— Я, великий князь. Узнал?
— Помню, как прощались мы с тобой… И вот вернулся я… — Василий приобнять его был готов, почему-то очень рад был.
— Я чаял, великий князь. Будь здрав. «Жизнь жительствует», а?
— Жительствует, Андрей. Все хорошо. И Русь жительствует.
— Да. И несть красоте конца ни смерти.
И оба они оборотились глядеть за реку на Великий луг, где спелые, тучные сенокосы перемежались огородами с ровными строчками насыпных грядок, полями и вспольями с пересекавшими их малыми речками и ручьями, пастбищами, на которых бродили княжеские табуны.
— Что, Андрей, хороша наша отчина? — Василием овладело приподнятое настроение, какое-то возбуждение, будто только сейчас до конца осознал он, что все окрест — его, великого князя, отчина.
— Куда краше, великий князь! Все в согласии, каждый пригорок и долина, каждое прясло и каждая мельница с ручьем, а всяк на свой голос поет. Так бы и людям найти единение в душах своих и смысле жизненном. И смотри, как Бог поделал: не дробно, великий князь, не мозаикой, а все в строе. Почему — сказать? Свет солнечный, в воздухе растворенный, он всему совершенство дает, все собой проникает и радостью облекает, он для природы, как душа для человека.
— А ты красиво говорить мастер стал, — заметил Василий, любуясь монашком. — Все пишешь по-прежнему?
— Уже и лики могу, — со сдержанной гордостью признался тот, — Феофан и Прохор с Городца одобряют, многие работы одному дозволяют и хвалят, что по-своему делаю. — Он глянул сбоку застенчиво и ожидающе.
— Про собор во Владимире думаешь? — спросил Василий. — Помню. Будешь его расписывать. А допрежь того в Москве еще построим Благовещенский собор, каменный.
— В Кремле?
— Не просто в Кремле, а прямо в великокняжеском дворе. Хочешь, возьму тебя на фрески?
— Да. А еще — на иконостас, а? — Монашек застенчиво улыбнулся.
— Хорошо. И на иконостас тоже. Я разыщу тебя. Как прозвание твое?
— Рублев буду.
— Ну да, отец твой, Феофан сказывал, избы рубил знатно, оттого ты и Рублев…
Андрей не помнил своего отца. Может, верно, рубщиком был, а может, кожемякой, накатывал кожи рубелем — деревянной доской с поперечными желобами, потому получил прозвание Рубель, а сына уж Рублевым звать стали… И то может быть, что был отец хрестьянином, сено готовил на зиму, хлеб в снопах возил. И сено и хлеб нагружают возом на телегу либо сани, прижимают сверху жердью, которая тоже рубелем зовется и которая стягивается толстым вервием через концевые зарубки. Как-то ставили обыденкой, за один день, деревянную церковь в дотла сгоревшем селе возле Серпухова, Феофан Гречин и спроси: «Откуда у тебя, Андрюха, глазомер такой, умение и в угол рубить, и в крюк, и в обло, и в лапу?» — Андрей и скажи бездумно: «От батюшки родного все, откуда же еще?» Тогда и решили, что был его отец рубщиком изб и храмов. Андрей не возражал — пусть думают. И сейчас великому князю сказал только:
— В великий мор похоронили батюшку, несмышленышем тогда я был.
Василий прикинул про себя, когда был великий мор: значит, монашек лет на десять будет постарше… А тогда в Успенском соборе во Владимире показался почти ровесником. Василий искоса повел взглядом на опечаленное лицо Андрея, на складки черной рясы, под которой угадывалось сильное тело, привыкшее к труду и невзгодам. Сравнил с собой — да, помогутнее, покрупнее князя будет… Повторил на прощание твердо:
— Разыщу тебя, ожидай!
4
Обряд крещения меж тем продолжался споро, ловчее прежнего. Умывая руки, Киприан внушал одевавшимся ордынцам:
— Не будьте, яко конь или меск, им же несть разума.
Новокрещеные повеселели, сбрасывая липнущие балахоны, по-гусиному поджимали ноги, кивали, со всем соглашаясь, скорее бы только. Певчие стройно пели тропарь.
— Ризу мне подаждь светлу, одейяся светом, яко ризою, — подпевал мягко и верно монашек.
Киприан помазал миром очеса, и ноздри, и уста, и уши новокрещеным.
Дьякон бухал:
— Вонмем!
В городе звонили к заутрене, заскрипели по дороге телеги отъезжавших в села зевак, там и сям всхрапывали и коротко ржали оседланные лошади, из лугов им заливисто отвечали табунные кобылицы, повизгивали собаки, которым давили в толкотне лапы, перекликались соседи, кому надо было возвращаться вместе. Отпуст уж никто не слушал, все торопились по своим делам.
Тебриз покачивался в седле рядом с Василием, перед которым расступался простой люд и бояре, гундел себе под нос сарайскую песню:
— Сизый голубь воркует, треплет свой пух: кто будет собирать его пух?.. Разделим наше яблоко на пять частей…
— И я возьму твою, — неожиданно сказал великий князь по-татарски.
Тебриз блеснул зубами, прищуром потемневших глаз:
— Тут твоя воля. Я согласен. Снилось мне, что не одну еще часть прирежешь ты к своей земле. А у меня сны сбываются! — И захохотал, довольный своей дерзкой лестью и тем, что говорит с князем московским на не понятном для других языке, пусть думают, что отличает правитель Руси ордынского толмача.
Василий, однако, не ответил ему улыбкой, глядел непонятно поверх мелькавших в поклонах голов своих подданных. Тебриз тем не менее решил, что есть повод приосаниться. Подбоченившись, он небрежно поигрывал поводьями, усмешливо жмурясь на встречных: вчера на коленях руку целовал, сегодня свободно шутит с великим князем!
Перекинув полыхающее индигово-алым тяжелым цветом княжеское одеяние через руку, следовал за ними недовольный, нахмуренный Данила Бяконтов.
— А ну, посторонись, татарская морда! — раздался вызывающий, громкий и срывающийся на петуха голос Юрика.
Скосив глаза, Василий увидел, что атласная грудь братнина вороного теснит Тебризова коня.
По-мальчишески насупленный Юрик втискался между Тебризом и Василием. Направить коня в голову с великокняжеским, однако, не решился, держался на шею сзади. Не оборачиваясь, Василий сказал неторопливо, наставительно:
— Тот, кто едет рядом со мной и с кем я говорю, уже не «морда», и с ним надобно вести себя честливо.
— Вот еще! — фыркнул Юрик, перекладывая поводья и нагибаясь, будто возникла нужда поправить узду у коня.
— Ты дурак, брат? — кротко спросил Василий.
Юрик оторопел. Серые глаза налились обидой, полукружия редких бровей поползли вверх и встали домиком, похоже, княжич собрался зареветь, как бывало в детстве, если у брата лук оказывался лучше или бита метче. Но на этот раз скрепился, сведя губы гузкой. Бросил самолюбиво:
— Я бы таким почестникам головы рубил, как лозье!
— Охолонь пока мечом махать. Умысел допрежь изостри. Спешлив ты что-то больно стал. А я ведь долго править собираюсь.
Юрик понял, опустил глаза. Некоторое время ехал молча, набычившись.
«Своих-то налаживать не труднее ли будет, чем с чужими справляться? — думал Василий. — Это Андрею-иконнику хорошо рассуждать о единении человеческом: свет, мол, солнечный все заливает, всех примиряет. А тут что ни лоб — свой толк. Видно, наследством отцовым долго не продержишься. Я — Донской, но и Юрик — сын Дмитрия Донского, в завещании тоже упомянутый. Надо свое право не только по наследованию, но по уму и делам доказывать. И тому доказывать, — кинул он взгляд на Юрика, — с кем не так давно на лежанке в стеклышки играли, и Даниле, с кем столько лиха пополам разделили, и дяде Владимиру Андреевичу, прозванному Храбрым, и боярам, и Орде, и Витовту — всем. А то всяк, даже и переветник лукавый Тебриз, норовит великим князем по-своему вертеть».
— Что же, теперь и голос не подай, и слово не молви? — протянул Юрик с покорной уже досадой.
— Молви. Послушаю, — согласился Василий, похлопывая своего светло-серого коня по изогнутой шее.
— И молвлю! Что ты меня, как неука неезженого, все осаживаешь и губу уздой рвешь! — опять распалился Юрик, обманутый спокойствием брата. — Нельзя спуску давать исконно с нами враждующим. А ты, как на стол московский взлез, все наинак норовишь. С Литвой родниться издумал, татар на службу берешь, болгарина Киприана в святители принял, чему отец наш всегда противился. А уж поганых ворогов крестить — это только дьявол мог попустить… Ведь знаешь сам, что крещение все грехи, и первородные, и произвольные, уничтожает, человека в праведность и невинность возвращает. А зачем, можешь объяснить?
Лошади братьев шагом поднимались в гору, в тени садов было прохладно и тихо, свита почтительно отстала. Василий долго смотрел., как густеет от жары голубой просвет неба в конце тропы, думал, что обязательно прикажет замостить тут белым камнем широкий спуск, потом дал знак Юрику, что тот может подравняться.
— Объясню, — заговорил наконец Василий. — Но и сам думай. Как мыслишь, понравится Тохтамышу, что сегодня на реке было?
— Нет, — обрадовался Юрик, вообразив, как разозлится хан.
— Про Литву отчет давать тебе погожу. С Тебризом тоже не задирайся. Я понял, кто он. Это переветчик очень дорогой, цену себе знающий, оттого так вольно держится. У него ни родины, ни обычая. Это не только толмач со многими языками, но изветчик тайный, нужный. Его и в Европе, думаю, при любом дворе купят с охотой. Он этим всю жизнь занимается, ловкий, много чего знает и в Орде происходящего, но за все ему заплати. Служит только сильному и богатому. Я в Сарае слаб был, он меня предал. Ханы перегрызлись, могущество Орды закачалось, он сюда переметнулся. Это знамение подлое, но важное.
Юрик молча слушал, пораженный. Замыслы брата не во всем ему были понятны, но Тебриза решил впредь остерегаться.
5
У красного крыльца спешились. Наедине Юрик не мог не сознавать превосходство Василия, но едва оказались опять в окружении бояр, будто бес его толкал, взялся за прежнее (хотелось показать, что по важному делу советовались и он, Юрик, не уступил, свое взял), не удержался, попрекнул великого князя:
— Тебя здорово Орда переиначила. По их обычаю, тайностью действовать хочешь. На запад, на восток озираться — не от силы это. Мы не лоза под ветром. Не веришь мне, бояр старейших спроси. — Он остановил было сам себя, да поздно, увидел, как изменился Василий в лице.
— А ты уже спрашивал бояр? — с угрозой в голосе спросил Василий.
Юрик заметался взглядом, выдавил из себя, сразу вдруг осипнув:
— Нет, не спрашивал, однако…
— Вот и славно. А то я все думал, какую тебе свиту в дорогу определить, а теперь и думать нечего: верных своих бояр и возьмешь…
— Не понимаю… В какую дорогу?
— Поедешь, нимало не медля, в Орду. Надобно заполучить у Тохтамыша ярлык на земли Нижегородского княжества…
— Да разве он даст?
— Как просить будешь… Надо сначала умздить серебром да златом князей его, потом его самого.
Юрик понял всю нешуточность разговора, побелел, обескровленные губы стали мелко подрагивать, и он даже и не пытался скрыть своей растерянности перед братом. А тот сам все видел и понимал, но сказал неумолимо:
— Трусь не трусь, а року не миновать. Мне двенадцать было, когда отец меня туда направил. Сразу после разорения Москвы, вот было страшно!..
— Да-а… Ты ездил как прямой наследник великого князя, а я — как кто?
Лицо у старшего брата было жестко-насмешливое:
— Будто бы уж ни разу не держал в руках отцову духовную грамоту… Или скажешь, что не лазил в скаредницу? Нет, скажешь?
Юрик вскинул испуганные глаза:
— Нет, не скажу… Николи не врал тебе и впредь не собираюсь.
Василий прощающе приобнял брата.
Вдвоем поднялись на красное крыльцо, вдвоем же, без свидетелей, продолжали разговор. Тогда не выдержал, повинился Юрик, что не раз и не два забирался в великокняжескую сокровищницу, вынимал дрогнувшею рукою отцово завещание, писанное на пергаменте, скрепленное серебряной с позолотой печатью, читал-перечитывал духовную грамоту, пытаясь понять скрытый смысл ее. Кому из братьев что принадлежит, у кого какие жеребья, его мало интересовало, хотя и удивляло, почему это отец обидел своего пятого сына — Ивана, который получил по завещанию совсем ничтожную долю: две волости — «Раменское с бортями и что к нему потягло, да Зверьковское село с Сухоньским починком» и одно еще село Сохна. Правда, при этом отец зачем-то добавил: «А в том уделе волен сын мой князь Иван, который брат до него будет добр, тому даст», — значит, может свободно распоряжаться Ванька своим уделом, а вот другие, получившие большие города и многие веси, права такого не имеют, они все, в том числе и великий князь Василий Дмитриевич, находятся во власти матери, великой княгини Евдокии Дмитриевны. Зачем так решил отец? Но больше всего волновала Юрика в духовной Дмитрия Донского такая запись: «А по грехом отымет Бог сына моего князя Василья, а хто будет под тем сын мой, ино тому сыну моему княж Васильев удел, а того уделом поделит их моя княгини». Нет, не то чтобы Юрик мечтал стать поскорее великим князем — нет, нет, упаси Бог, он любил Василия и все будущее свое связывал с ним. Но хотелось понять: почему отец переписал за несколько дней до смерти духовную и предусмотрел, в случае если «отымет Бог сына», следующего брата его, а не сына, который у Василия родится? Значит ли это, что отец был против брака Василия с литовской княжной? И Юрик насмелился сейчас задать этот страшный вопрос брату впрямую.
— Так и есть! — ответил Василий с разоружающей открытостью. — А чтобы не терзался ты сомнениями, я тебе грамотку покажу, которую и ты скрепишь. Жуковина-то княжеская у тебя с собой? Да, вот и хорошо, что догадался захватить.
— Я не догадался, это Данила твой…
— Верно, верно, я ему наказывал. Пошли.
Городская казна хранилась в патронованной церкви — в Успенском соборе, а сокровища великого князя в домовом храме — Благовещения на сенях. Спустились вдвоем в ее подклеть. На рундуке, обитом снаружи золоченой кожей, лежали разные меха, дорогие ткани, серебряные и золотые сосуды. Над рундуком крепилась к стене наглухо сама казенка — ящик из толстых липовых досок. Василий отпахнул дверцу, достал пергамент и передал его брату.
Прежде чем начать читать, Юрик рассмотрел привешенные на лицевой стороне печати — одна черного воска, великокняжеская, с изображением ездеца, вторая желтовосковая, с серпуховским петухом.
— И еще одну, твою, сейчас подвесим, — весело говорил брату Василий. — Что у тебя на ней, воин с мечом и щитом? Хорошо. Чти.
— «На семь, брат молодший, князь Владимир Андреевич, — послушно начал Юрик чтение докончания великого князя Василия Дмитриевича с князем серпуховским и боровским Владимиром Андреевичем, — целуй ко мне крест, к своему брату старейшему, к великому князю Василию Дмитриевичу, и к моему брату молодшему, ко князю Юрию Дмитриевичу, и к моей братье молодшей. Иметь тебе меня, князя великого, братом старейшим, а брата моего, князя Юрья, братом, а братью мою молодшую братьями молодшими, — Юрик приостановился, еще прошелся глазами по строчкам, в которых он назван равным с Владимиром Андреевичем братом, продолжал с воодушевлением: — А добра ты нам должен хотеть во всем, в Орде и на Руси. А что ты слышев о нашем добре или о лисе[11] от крестьянина или от поганина, то ты нам поведаешь в правде, без примышления, по целованию, без хитрости. А держать тебе меня, князя великого, брата своего старейшего, честно. А нам тебя держать в братстве и в чести, без обиды. А кто будет нам друг, то и тебе друг. А кто будет нам недруг, то и тебе недруг. А тебе, брат, не кончивати[12] ни с кем без нашего ведома. А нам тако же без твоего ведания…» Знатно ты его взнуздал! — расплылся в улыбке Юрик.
Дальше продолжал чтение молча, изредка вставляя свои замечания по существу тех условий, которые Василий обговорил со своим дядей в Симоновском монастыре при Сергии и Федоре и которые без изменения вошли в текст докончания.
— А зачем ты пишешь: «Найдем Ржеву, будет Ржева твоя»?
— Видишь ли, как ты знаешь, роднюсь я с Литвой, чтобы с ее помощью бороться с Ордой. А дядя пусть мечом своим хранит наши западные рубежи. Для этого я ему и жалую Торжок и Ржев.
— Так они же не наши?
— Будут нашими.
— Ну, брат, ты и хитер! — искренне восхитился Юрик и снова уткнулся в пергамент. Самый конец докончания ему так понравился, что он его еще и вслух прочитал: — «А на сем на всем, брат младший, князь Владимир Андреевич, целуй ко мне крест, к своему брату старейшему, к великому князю Василию Дмитриевичу, и моему брату молодшему, ко князю Юрью Дмитриевичу, к моей братье молодшей вправду, без всякой хитрости». Знатно! — снова заключил Юрик и заверил искренне и очень пылко — Брат! Всегда буду при твоем стремени!
Через неделю в сопровождении многоумных ближних бояр московских и галицких Юрий отправился в Сарай самым кратким верхоконным путем.
6
Зря все-таки Владимир Андреевич обижался на великокняжеских бояр: не хотели, не думали они его стеснять. Он, очевидно, и сам понял это. Во всяком случае, на похоронах Ивана Родионовича Квашни, когда отпевали его в монастыре Святого Спаса на Всходне, он не сдержал слез, низким поклоном простился со славнейшим боярином, предводительствовавшим на Куликовом поле Костромским полком. И к другим боярам перестал он ревновать, разве что одного Данилу Бяконтова недолюбливал.
Решался важный вопрос: кого послать за невестой Василия, литовской княжной Софьей, в заморье, к немцам? Там, в чужедальней стороне, в каком-то Марьином городе обитался сейчас Витовт, гонимый судьбой; обиженный тем, что Ягайло назначил своим наместником в Литве не его, а Скиргайло, он вновь перешел из православия в католичество, чтобы заручиться поддержкой немецкого ордена в борьбе со своим вероломным двоюродным братом, нацепившим на голову польскую корону. Немецкие рыцари обещали ему содействие и дружбу, однако на всякий случай взяли в заложники двух его малолетних сыновей и брата Кондрата Софья тоже вынуждена была поехать с семьей в немецкие земли, хотя заложницей не являлась ввиду ее женского пола). Все эти сведения Василий получил от польского посла Августа Краковяка, причем получил своевременно, и последующие события подтвердили их достоверность. Так, Август сообщал, что весной Ягайло решил захватить Псков и Великий Новгород, и в мае войска Скиргайло и Семена Лугвеня уже стояли в Полоцке. Василий попросил Августа довести до сведения Скиргайло твердое решение московского великого князя породниться с Витовтом. Скиргайло немедленно остановил поход и помирился с Витовтом, который уже осенью встал на путь прямой борьбы против польского короля. А Август получил от Василия в подарок тяжелый серебряный слиток.
Владимир Андреевич согласился, что возглавить русскую посольскую свиту к Витовту должен Селиван Борисович, внук Боброка-Волынского! И против двух Александров — Белеута и Поля — не возражал, но вот посылку Данилы Бяконтова не одобрял.
Серпуховской знал Данилу давно, он помнил слишком хорошо дядю его — высокочтимого на Руси митрополита Алексия, сына бояр Федора и Марии Черниговских[13], На глазах Серпуховского рос митрополичий племянник, который тоже Бога возлюбил всей душой, заповеди его хранил в душе, это — да, это, наверное, так, однако не захотел же по примеру дяди постричься в иноческое житье, не захотел, как дядя, оставлять отца и мать, братьев и сестер, всех ближников и друзей, и игрища, и всякое другое мирское пристрастие — да, не захотел, а обязан был бы пойти по стопам дяди своего. Вообще, поведение Данилы постоянно настораживало Владимира Андреевича, недоволен он им был, а может, и излишне пристрастен, зная, что уж очень многое позволяет Даниле великий князь. По праву давней дружбы Бяконтов иной раз вместо князя великого, ничтоже сумняся, решение принимает, дерзок и непочтителен к людям нарочитым, в том числе и к Владимиру Андреевичу. Василий сам видел, что излишне постельничий его самоуверен и самонадеян, однако не считал это большим грехом, а в преданности его нимало не сомневался, потому-то послал Данилу сначала одного к Витовту, чтобы предупредить приезд других знатных бояр, все подготовить.
— Нельзя давать такому человеку произвол действия, — недовольно проворчал Владимир Андреевич. — Ему дашь волю, а он и две возьмет.
Как в воду смотрел Серпуховской…
7
Данила отправился на чужбину с большой готовностью, преисполненный усердия и прилежания, чтобы все исполнить, как угодно великому князю Василию Дмитриевичу.
Однако, видно, перестарался он: только-только отправились бояре из Москвы к литовской границе! а Данила уже назад заявился. Вид имел весьма прискорбный, хотя и пытался вначале держаться вполне самовластно, сказал великоречиво:
— Я не удивлюсь, княже, если ты не захочешь мне поверить, потому что и сам еще не могу пережить изумления.
Выяснилось, что Витовт с позором выпроводил Данилу из своей резиденции, да еще лишил его всей наличной казны, которая была у него немалой: Василий щедро снабдил в дорогу своего доверенного золотом и серебром.
— Как же это случилось? — спросил Василий.
Бяконтов потупился:
— Я человек мизинный, не моего толка дело сие — невесту князя сопровождать… Пусть уж твои бояре высокоумные…
— Что, опять небось с лиходельницей какой-нибудь по хмельному делу?
Тут Бяконтов не выдержал, повинился.
— Не в лиходельницах да питье суть… Хотя конечно, и не без этого, но главное — вот что… Тесть твой дорогой отчего-то стал всяких пришлых людишек привечать. Кишат у него при дворе, как мухи в назьме, хазары и иудеи, крымские татары и караимы — всякой твари по паре. А самым главным боярином при дворе Витовта — тот самый перхотный, что нас с тобой в Подолии околпачил, Келявым его называли. Помнишь, двух игреневых коней нас лишил?
Василий помнил, конечно, тот срамной случай, когда он бездумно сел играть на Каменецком базаре в зернь в отсутствие Данилы и продул все наличные деньги, а потом еще и обоих оседланных и осбруенных верховых коней. Сейчас благодарен был Даниле за то, что пощадил он великого князя, сказал «нас с тобой», словно и сам был виноват. Смутился Василий, даже краска стыда к лицу подступила. Деланно хмурясь, стараясь скрыть смущение, продолжал допрос Данилы:
— С Келявым давно покончено, ты-то что натворил?
— То-то и оно, что не покончено, говорю же, что у Витовта за главного он.
— Обознался ты!
— Никак не может того быть — перхотный все такой же, да и говорит так, словно сухая горошина у него во рту катается.
— Ну и что?
— А то, что я про тех коней Келявому припомнил, а он смеется, щерит свои гнилые зубы.
Василий, будто не слышал сказанного, ждал, что еще у Данилы есть.
— Я его под микитки, для острастки встряхнул, а у него пуговицы с камзола посыпались.
— Так! — жестко произнес Василий и словно один палец на руке загнул, ожидая, когда можно будет еще один загнуть. — Дальше что?
— Я велел сказать Витовту о моем прибытии, а он в ответ: «В субботу даже плевать в воздух нельзя, потому что это действие похоже на веяние неочищенной ржи». Разозлился я и вдругорядь по сопатке его дланью…
— Дрался, значит… Гоже… Еще что?
Данила сделал вид, что мучительно роется в своей памяти, что все уже перебрал и ему решительно не о чем больше рассказывать.
Василий безжалостно молчал.
— Надо же было мне что-то делать… Пробрался я тихонько к Нямуне… Ну, это постельничъя Софьи Витовтовны. А она в голос, весь Марьин город переполошила. А я же ничего такого, я же, чтобы до Софьи Витовтовны дойти… Вот и все.
Василий перестал смотреть на Данилу, отвернулся в огорчении и поверив, что больше его незадачливому послу не в чем каяться.
Киприан, настороженно молчавший все время, поднялся с лавки:
— Просвещенный это государь будет — князь Витовт, государственная у него голова Божьей милостью.
В лучах солнца жарко горел на верхнем конце креста крупный голубовато-фиолетовый аметист. Голос, кроткий, вразумляющий, переливался, подобно глубокому блеску дорогого камня на бархате.
— При Фридрихе Первом было разрешено убивать евреев, во Франции Людовик Святой определил цену еврею, равную цене дворовой собаки, король Ричард в Англии наложил на евреев такие подати, что многие не состоятельные евреи сами себя сжигали, великое множество их истреблено было в Испании. А вот Витовт Кейстутович понял лучше всех государей. — Взгляд митрополита добрый, обращен к великому князю с дружелюбием и мудростью. — В сердце не должно быть места вражде ни к каким иноплеменникам — ни к эллину, ни к иудею, ни к татарину, так Господь нас учил, записано о том у апостола Павла…
— А к русскому, стало быть, можно вражду иметь? — взметелился Данила, полагая себя прощенным.
И тут Киприан не возвысил голоса:
— Имя русское во всех трех частях света знаемо, а если бы чудо свершилось да и кроме Европы, Азии и Африки некая четвертая часть появилась, то и там русичи заняли бы место, им полагающееся. А вот положение сынов израилевых тягостно повсеместно, три столетия в Европе ценят их ниже последней собаки, без суда убивают, вешают, сожигают, закладывают и дарят, словно вещи. Гонят их отовсюду, и всюду изгоями чувствуют они себя, нуждаются в нашем заступе.
— Какая заступа нужна этому Келявому, он сам кого хошь… — начал было опять задиристо Данила, но Киприан осадил его на этот раз очень резко:
— Не трожь этого человека! Он, может быть, тогда не по своему дурному намерению коней у вас отобрал, а ради вас же это делал по чьему-то наущению.
— Твоему, что ли? — не унимался боярин. — Или Витовта?
— А что если так оно и есть?
Киприан повернулся, поигрывая драгоценным крестом, к Василию, подчеркнув тем, что будет теперь исключительно только с ним одним беседовать…
Данила прислонился к стене, в немалой досаде покусывал губы.
Два года назад при участии Киприана Витовт издал грамоту, по которой «за увечье и убийство жида христианин отвечает так же, как за увечье и убийство человека благородного звания; за оскорбление жидовской школы полагается тяжкая пеня; если же христианин разгонит жидовское собрание, то, кроме наказания по закону, все его имущество отбирается в казну. Наконец, если христианин обвинит жида в убийстве христианского младенца, то преступление должно быть засвидетельствовано тремя христианами и тремя жидами добрыми; если же свидетели объявят обвиненного жида невинным, то обвинитель сам должен потерпеть такое наказание, какое предстояло обвиняемому».
— Соответственно этой грамоте и поступлено у Витовта с твоим боярином…
Усмешка тронула морщины возле круглых глаз владыки, пробежала мимолетно по тонким губам в проседи усов. Сухая рука нервно перебирала четки на золотом набалдашнике тяжелого посоха.
Василий все видел. Молчал. Глаза уставил в бороду митрополита, пышно растекшуюся по груди. А все видел: и усмешку, и трепет пальцев в перстнях на четках и посохе. Многоумен его преосвященство, велеречив. Многодумен и многосмыслен. Всего много: знаний, опыта… а души? Но при чем — душа?.. В таких делах не ее повелением руководствоваться надлежит, но законами разума всеобъемлющего. Востри разум, слушай, думай, князь. Молчи. И молись про себя: «Господи, прости меня, грешного! Преподобный Сергий, помоги мне заступою твоею!»
— Много, говорят, было на Руси при Владимире Святом, при Андрее Боголюбском хазаров, иудеев, ляхов да берендеев, а как татары пришли, их ветром сдуло, сбегли, бросили нас в беде. За что же Витовт их привечает? Негоже он поступает, так скажу!
Это опять Данила не утерпел, встрял с возражением.
— Нет, боярин, гоже!
В голосе святителя появились грозные нотки. Он снова повернул в луче солнца крест с прозрачным граненым камнем. Аметист, виноградно-синий в тени, полыхнул, пролился багровым светом. Василий вдруг, вспомнил, что этот камень хранит от пьянства. Едва не засмеялся: зачем такой талисман священнослужителю? Робость перед митрополитом прошла.
— Однако, святитель, знаем мы, что до нашествия безбожного Востока Русь святая первейшая из всех держав Европы была, не имела равносильных супротивников. Не только была больше всех, крупнее даже, чем держава Карла Великого, но и по государственному устройству слыла наипервейшей. Когда мы с Данилой из Сарая шли, видели остатки русских застав и в Таврии, и в предгорьях Карпатских. Славна, богата и просвещенна была Русь.
— Верно говоришь, великий князь! Я рад, что чтишь и знаешь ты прошлое отчизны своей. Похвально это. Все русские князья в дотатарские времена оказывали любовь к просвещению необыкновенную. Еще вся Европа коснела в глубоком невежестве, а просвещенные князья читали по-гречески и на латыни, как и на староболгарском[14]. В то время, как в Европе повсеместно гнали и били евреев, наш Феодосий Печерский по ночам ходил из своего монастыря в Киев в еврейские кварталы, чтобы обратить неверных в православие, лаской и милосердием на них воздействовал. Так и мы. любым пришлым людям должны быть рады, как возрадовался ты, Василий Дмитриевич, трем ордынцам, крещенным нами, и впредь так должно поступать.
— Однако, — вставил Василий, к удовольствию Данилы, — пришлым людям не должны мы все же давать верховодить ни в мирском, ни в ратном, ни в ином каком важном для державы деле.
Киприан согласился:
— Истинно так. А инак поступать только в том случае, если они примут православие, и примут его нелицемерно. Этим мы и должны быть озабочены, а не тем, чтобы «дланью» — экое непотребство, а еще родный племянник святото Алексия!.. — Киприан метнул сердитый взгляд на Бяконтова. — И еще зело щадительно обошелся Витовт Кейстутович с твоим, великий князь, рабом худоумным; думаю, что и церковь православная кару на него свою наложит.
Это была прямая угроза, и Данила не посмел больше перечить. Василий попытался хоть как-то утешить его, сказал по-свойски, как некогда:
— Нам ли с тобой, Данила, поскитавшимся немало по чужим странам, по неведомым землям, не знать, что в каждом краю свой обычай и не приходит чужой закон в другой край, но каждый своего обычая закон держит.
Бяконтов печально мотнул патлатой, заросшей головой:
— Вот и я говорю, что мизинный я человек, нелепый. Однако думаю я своей худой головой, что ни на запад, ни на восток не надобно Руси нашей двигаться, поелику на западе рознь кровавая, а на востоке гнет дикий. — Данила поклонился низко, коснувшись кончиками пальцев навощенных дубовых плашек пола, и вышел из палаты шатким, неверным шагом.
Василий посмотрел на его усталую, узкую и рано ссутулившуюся спину, острая жалость кольнула сердце, хотелось ему остановить, задержать любимого боярина, но он не сделал этого, боясь рассердить митрополита, подумал: «Потом замирюсь».
8
Большая торговая дорога, ведшая из Твери в Москву, редко когда пустовала, часто возникали на ней даже и заторы от большого количества экипажей, повозок, телег. Плетущиеся со скрипом плохо смазанных колес крестьянские возы обгоняли лихие ямщицкие тройки, мимо тех и других ветром проносились верховые, но все покорно уступали дорогу, сходя на ее обочину, великокняжеским бирючам и герольдам. Они гудели в рожки, кричали: «Пади!», требуя освободить путь.
Важный шел поезд из-за моря от немцев. Шестерка цветных лошадей в богатой наборной упряжи везла с большим бережением каптан — крытый возок черной кожи, в котором находилась будущая великая княгиня московская Софья Витовтовна. Огромную ее свиту и верхоконную рынду в железных латах и при полном вооружении возглавлял близкий друг Витовта князь Иван Ольгимантович.
Путь литовской княжны к будущему супругу был небезопасным и нелегким: сначала по немецким землям гужевым способом из Марьина города до Гданьска, потом бурным чужим морем к берегам Ливонии и затем лишь — по Русской земле через Псков, Великий Новгород. Отдельно шел обоз из сорока пароконных телег: Витовт сдержал слово и прислал в подарок приглянувшиеся Василию в Трокайской крепости пушки — арматы и стрельба огненная.
Встречать литовскую княжну на подъезде к Москве, близ Городища, отправился целый сонм знатных князей и бояр во главе с Владимиром Андреевичем.
Жених, как должно по чину, сидел словно бы в неведении в Кремле, предавался размышлениям о ждущих его впереди испытаниях.
«Что есть жена? Сеть утворена прельщающи человека во властех, светлым лицем убо и высокими очима намизающи, ногама играющи, делы убивающи, многи бо уязвивши низложи, тем же в доброта женстей мнози прельщаются и от того любы яко огнь возгорается. Что есть жена? Свитым обложница, покоище змеино, дьяволов увет, без увета болезнь, поднечающая сковорода, спасаемым соблазн, безысцельная злоба, купница бесовская» — это ведь не каким-нибудь вздорным человеком сказано, это в многоумной книге черным по белому… Да-а, «купница бесовская»…
Был в Москве, наверное, лишь один человек, ждавший приезда Софьи Витовтовны с великой радостью и нетерпением, это — митрополит Киприан. Свершалось давно чаемое им и им самим измысленное дело: еще три года назад, залучив правдами и неправдами сначала в Киев, затем в Трокай бежавшего из ордынского плена Василия, он совместно с Витовтом развил бурную деятельность по сговору четырнадцатилетней Софьи и на год старше ее наследника московского престола. Помолвку удалось сладить, но не вдруг: упрямствовал, не понимая своей выгоды, Василий, а там и его отец, Дмитрий Иванович, обеспокоился, желая избежать рукобития, послал за сыном старейших бояр своих. Еле успели тогда упрятать от них будущего жениха, продержали в нетях еще почти год, пока тот не образумился наконец. Обручил молодых Киприан самолично, но все эти годы боялся, как бы по каким-нибудь причинам не расстроился брак, так нужный ему для достижения поставленных политических целей. И вот свершилось — едет!
Киприан вслед за Владимиром Андреевичем помчался на сретенье невесты со всем своим священническим чином — с архиепископами, архимандритами, игуменами, чтобы ни у кого уж — ни у наших людей, ни у иноземных — не было сомнений: то не просто женитьба князя, но событие огромного государственного значения.
Настырному Юрику, уже вернувшемуся из Орды, до всего было дело. Мотался по теремам среди бестолково-взволнованных бояр и испуганной, вспотевшей челяди:
— А что же отец невестин на свадьбу не пожаловал?
Как будто ему не жить без отца невестиного, будто бы без него чину должного, обычая не знают, не ведают кому положено, как соблюсти обряд радостный и важный.
Утомленный торжеством встречи и дорогой туда-сюда немалой, Киприан вечером в монастыре Николы Старого диктовал летописцу, опершись на руку, глядя пристально на яркий свет многочисленных свечей, озарявших пергамент, диктовал внятно, четко, как вдалбливая в головы несмысленных потомков:
— «…Бысть бо тогда Витовт в немецкой земле, бежал из Литвы в немцы по убиении отца своего Кестутья; восхоте бо отец его Кестутей Гедиминович княжения великого Литовского под Ягайлом Ольгердовичем, и бывшие собранию и бране велице, и тако убиен бысть Кестутей Гедиминович, и в той час того ради сын его Витовт побежал в немецкую землю и, много рати немецкие поднимая, воеваше Литву. И сице с великой радостью даде дщерь свою Софью за великого князя Василья, хотя воевати Литву с зятем своим».
9
В Кремле стало сразу заметно многолюднее, чем обычно, гостиные палаты гудели, как бортни в летнюю, медоносную пору. По княжеским сеням и палатам сновали люди разного рода и звания — князья и бояре, воеводы и священники, тиуны и монахи, ключники и дворяне, при княжеском дворе состоящие; и гости всякие — свои и иноземные, послы и посланники с толковинами. Иностранцев легко было выявить первым же взглядом: у иных бороды бриты и волосы коротко стрижены, на иных взамен исконно русского долгополого одеяния — платья богомерзкого беззаконного шитья, на иных — чудные, диковинные шапки с перьями, кафтаны с огромными блестящими пряжками.
Приехавший из Персии умелец рукознания[15] и шведский звездовещатель[16] предлагали услуги за немалую мзду сначала лишь лепшим людям — воеводам, боярам, нарочитой чади, но быстро и с огорчением увидели, что народ московский не очень о своей судьбе печется, словно бы сам знает слишком хорошо про свое будущее, и стали предсказывать завтрашний день всем уж желающим без отличия в чине и звании и за ничтожное вознаграждение, за полушку[17].
О предстоящем венчании великого князя московского оповещены были государи ближних и не очень ближних, дружественных и не очень, а то и вовсе даже недружественных, но скрывающих неприязненность и вражду свою стран; одним важным князьям и послам Василий радушно распахивал свои объятия, с другими обменивался рукопожатием, показывая воочию, что нет в его длани оружия, для третьих была у него заготовлена на лире вполне дружелюбная, но всякое истолкование могущая получить улыбка. Как с кем вести себя, загодя посоветовался Василий с Киприаном и подручными боярами.
Великий воевода Тимофей Васильевич Вельяминов следил, чтобы строгий порядок блюлся в великокняжеском дворе, чтобы не было суетни да бестолковщины.
Владимир Андреевич Серпуховской сидел на всех приемах по правую руку от Василия и одобрял кивком головы да ласковой улыбкой поведение великого князя.
Располагавшемуся слева от трона Юрику не все нравилось, однажды он даже осмелился спросить брата шепотом, зачем тот улыбается фряжскому посланнику, который — это известно точно! — на Куликовом поле был с Мамаем заодин, и получил ответ: «Подрастешь — узнаешь!» После этого Юрик нахохлился, как воробей в ненастье, надеясь выразить брату свое несогласие осуждающим молчанием. Василий, однако, слишком развлечен был гостевым многообразием и братнего порицания не замечал. Серпуховской с добродушной улыбкой наблюдал это, ухмылялся про себя: кошка дуется, а хозяйке и невдомек.
Подарки все везли и везли со всех краев, однако не вручали их, ждали венчания и свадьбы, так что Кремль скоро походил на хазарское торжище. Скопится теперь у великого князя еще больше всяких припасов, холстов, шелков да сукон, мехов простых и дорогоценных, шуб собольих да куньих. Только ведь и без этих подношений не гол московский князь: в далеких и ближних лесах ходят на звериное охотники, иные люди ведают бортные ухожаи, бобровники сидят на плотинах рек, где бобровые гоны; и на соляных зарницах работают на князя люди, и на полях да пашнях, и на рыбных тонях по большим и малым рекам; и в самой Москве не счесть принадлежащих великому князю дворов, садов и огородов, конюшен, амбаров и мастеровых слобод. Обо всем этом слишком хорошо знают и гости, этому богатству и кланяются, оттого-то и радуются чужой свадьбе, ровно бы своей собственной…
Софья, когда поднялась на маковицу[18] да вошла в жилые хоромы великокняжеского дома, не сдержала возгласа изумления:
— Никогда не видела такого!
— А что ты вообще-то видела? — самодовольно ухмыльнулся Юрик. — Москва наша — преславный и преименитый город для всей Руси.
— Лондон — тоже преименитый город.
— Нешто ты видела его?
— Видела. И Прагу с Флоренцией видела, и Париж.
— Ну и что, Москва знатнее и красивее всех?
— Нет, не знатнее… Но красивее… Красиво, что Кремль, дворец королевский, посередке города, а то ведь повсюду главным местом зовется торговая площадь — рынок да ратуша.
— А где же князья живут?
— Сеньоры свои замки строят вне города.
— Замки крепкие, надежные, — согласился Василий, — сидел в Трокае, знаю.
Софья смутилась, покраснела, но осталась по-прежнему такой же веселой, продолжала восхищаться городом:
— Славна Москва. И столь велика! В Париже, отец говорил, людей живет больше, но Москва зато как привольно раскинулась — глазом не окинешь.
Она повернулась к Занеглименью, где собственно городские строения мешались с окрестными селами, деревнями и слободами.
Конечно же, после каменных теснин Запада Софье Витовтовне не могло не нравиться в Москве, привольно строившейся среди садов, огородов, выгонов. И терема в княжеском дворе по душе были, высокие, с башнями и башенками, одетыми железом да медью, так что крыша — как бы доска шахматная, с расписными и резными наличниками окон и дверей, с великим множеством переходов, лестниц, крылец и одним большим, красным, крыльцом, на которое ей особенно нравилось выходить. И в опочивальне, ей отведенной, все ее радовало, а больше всего, что во всех паникадилах горело множество восковых свечей — жарко и щедро: надоело ей щуриться от копоти сальных — со светом неверным, мерцающим.
Удивили ее оконные стекла, белые и цветные.
— А где же «мусковит»? — спросила, и не сразу было понять, что ее интересует.
Оказывается, что слюду, которую вставляли в рамы вместо стекол, в Европе зовут «московской» (мусковит), и Софья считала, что это очень ценный и редкий материал. Объяснили ей, что богатые люди, и прежде всего великий князь, имеют возможность более роскошно закрывать свои окна — настоящим стеклом.
Но не такой уж простодушной да наивной оказалась Софья, приглядчивая, востроглазая: мало ли девок разных мечется по княжеским палатам да брусяным избам, связанным воедино сенями, крутыми переходами и гульбищами, широко раскинувшимися на отлете крыльцами, а она одну из всех выделила — ту, что прогуливалась с видом будто бы безразличным по коротеньким мосточкам между столовой избой и княжеской церковью Спаса.
— Кто это? — спросила вдруг будущая великая княгиня, а в глазах, водянистых, чуть выпуклых, не просто любопытство — недоверие. Вгляделась в лицо Василия и вспыхнула, подурнела. Он и сам понял, что скрывать напрасно, сказал, как в воду холодную прыгнул:
— Янга это.
Звоном оборванным имя это звучало, стоном, исчезнувшим в дали годов, в детстве колокольцем звенело, да кануло, стало угрозой, невидимой, кинжальной, холодной, как стальной клинок, имя — Янга.
Софья прищурилась. Не только, знать, приглядчива, но и памятлива. Улыбнулась через силу отвердевшими, непослушными губами:
— Та, что «соколиный глаз» тебе дарила в перстеньке?
Что ж, что литвинка знатная! Ревнива, как всякая девка молодая. Василий ждал даже и с любопытством: как будущая княгиня поведет себя, как с гордостью своей и обидой совладает, что в ней победит — подозрения женские, горячность сердца или достоинство и самолюбие будущей соправительницы своего супруга?
Лицо Янги, обращенное к ним снизу, с мостков, казалось меловым, брови тонкие, как соболиные росчерки. Накидная шубка на ней из московского сукна, кубовая, синяя, а глаза еще синей, гак море под крепким ветром, в черноту отдают. По шубке густые ряды оловянных пуговиц, рукава до пят свисают, руки, продетые в прорези, поддерживали полы шубки небрежно, забывчиво, а на среднем пальце — круглый и большой «соколиный глаз», в серебряной скани утопленный.
Все охватила в одном взгляде Софья Витовтовна, все до медных серег со множеством цветных стеклышек, называемых в Московии искрами. Выговорила голосом почужавшим, но уверенным:
— Красивая отроковица. Приблизить к себе хочу.
Василий, глазом не моргнув, выразил полное свое согласие назначить Янгу сверстной, то есть близкой, боярыней, должной на свадьбе идти для бережения за санями великокняжеской невесты.
Да, приглядчива и памятлива литовская княжна. И умна притом, и хитра, в отца, видно, пошла, только хорошо это или плохо — поди знай…
Янга повернулась к ним спиной и удалялась по мосткам, печатая на свежевыпавшем зазимке узкие черные следы, как ранки на белом полотне… Совсем, что ль, уходила из жизни Василия, ничего не забывшая, не простившая, недолюбленная, неразлюбленная… Усилием воли он прогнал эти мысли. Кончено. Не было ничего. Не об том думать князю пристало. Что ему девка, простолюдинка недоступная! Захочет — полон терем таких будет, понаведут прямо из бани, розовых, горячих, березой, мятой пахнущих.
Льняная, золотая толстая коса лежала на прямой спине, на кубовой шубке, неподвижно, как примерзшая.
И не были щекотны мысли про березовых, голых, мятой паренных, про горячих, банных, с мокрыми волосами тяжелыми. Василий опустил глаза. Стыдно стало под прозрачным взглядом невестиным за этих впотай воображаемых женок, за то, что судорога шершавая в горле колола и заставляла князя морщиться, глядя вслед золотой косе на синей шубке, метущей снег рукавами.
Софья запахнула атласную стеганую телогрею с куньей опушкой, стиснула пальцами оторочку — мех жестким, как волчий, показался. Бусы из родного прибалтийского янтаря в несколько кругов — холодными.
10
Данила был отходчив сердцем, снова весел, как осенний щегол, охотно балагурил. С Нямуной встретился так, словно бы и не было у него огорчений из-за нее, щипнул под локоток, спросил:
— Как Софья-то, переживает?
— А то-о! С тем платьем, в котором венчалась, помнишь, в Трокае, не расстается.
— Ну и что? Ну и правильно!
— Правильно-то правильно, да ушивать пришлось: похудела княжна от долгого ожидания свадьбы.
Данила хохотнул:
— Напрасно! Скоро енота придется расставлять.
Нямуна стрельнула зелеными глазами, замахнулась в шутку:
— Ну тебя, охальник!
Но не легкомыслен, однако же, был Данила, не бездумен: Нямуна — одно, с ней можно позубоскалить и рукам волю дать, а при Янге он почему-то робел.
Летом еще, как раз в то время, когда пришло с гонцом известие, что «великого князя Василия Дмитриевича бояре приехаша в Новгород из Немец со княжною Софьею с Витовтовою дщерью», заприметил Данила через окно своих боярских покоев Янгу и показалось ему, что как-то странно она себя ведет.
Она шла вдоль речки Неглинной, словно бы просто гуляя, но была беспокойна, тайком озиралась на стороны, как бы боясь преследователей или соглядатаев. Даниле захотелось узнать, что она затеяла.
Чтобы остаться незамеченным, пошел кружным путем, через Остоженку. Весной полая вода подходит здесь прямо к кремлевским стенам, а когда спадает, то выстаиваются богатые заливные луга. Теперь уж скосили их, уложили в стога сладко пахнущее мятой, донником, клевером сено, Данила не удержался, выдернул клочок, поднес к лицу — июльское, с ягодкой!.. Вблизи стогов и крестьяне поселились, потому и называется место Остоженкой, рядом совсем княжеские конюшни, для которых как раз сено и припасено.
Перебегая от стога к стогу, Данила вышел на берег Неглинной в том месте, где с шумом и скрипом крутились колеса водяной мельницы, гремели в бревенчатом амбаре жернова. Поток воды, шедший из пруда по желобу, обрушивался в корытца огромного деревянного колеса верхнего боя, которое неустанно и мощно крутилось, заполняя ровным гулом все окрест.
Янга стояла возле воды на песчаной отмели под ветками низко склонившихся ветел, задумчиво смотрела на вспененную и крутящуюся воду, которая, вырвавшись из заточения и круговращения, сейчас успокаивалась, приходила в себя после только что пережитой смертельной опасности.
Данила пробрался через заросли жгучей крапивы и дикорастущей конопли, встал за стволом самой толстой ветлы совсем близко от Янги. Думал, как объявиться — напугать или подшутить как-нибудь? Не собирался, конечно же, долго подглядывать да подслушивать, но сделал это противовольно, как только донеслось до него:
— Встану я, раба Божия Янга, благословясь, умоюсь водою, росою, утрусь платком тканым, пойду, перекрестясь, из избы в дверь, из ворот в ворота, на восток…
Данила понял, по Янга прокралась на пустой берег, чтобы в одиночестве сделать заклятие или примолвку, хотел было потихоньку же и уйти и уже шагнул в крапиву, но ожег руку и оступился. Янга чуть вздрогнула, оглянулась. Ничего не заподозрила, снова уставилась на воду.
На соль, на мыло, на кости мертвецов, на вино, на острый меч знал Данила наговоры, слышал, что и к солнцу, месяцу, заре, ветру обращаются люди в трудную минуту с заповедными словами. Янга, видно, надеялась на благодетельную силу возмущенной воды, но что — хорошее или дурное — будет наговаривать она на кого-то и на кого именно? Данила затаился. По первым же словам Янги понял, что это был заговор от него.
Млад младенец, не тумань, Мы не в лесе, прочь отстань, Не красуйся предо мной, Не пьяни, как гул лесной. Не буди в душе грехи, Уходи скорей на мхи, Уходи на зыбь болот, Млад младенец, Старший ждет,—говорила Янга воде страстно и истово, как молитву.
Даниле думалось, что он знает, от кого именно — от него — заговор, от какого искушения хочет освободиться эта странная худенькая отроковица с красотой неброской, но завораживающей, как голубой глазок льняного цветка.
Обжигая руки и лицо и не обращая на это внимания, он пролез ползком через крапиву, пробежал лугом к мельнице-мутовке и поднялся на плотину, а там уж пошел открыто. Казалось, и Янга была рада его видеть.
— Смотри-ка ты, избушка юрка, — показал он ей на висевшее у нее над головой на тонкой ивовой ветке гнездо, похожее на кошель. Ни один человек, видя домик юрка, не может удержаться от изумления: представить себе трудно, как эта махонькая ржаво-коричневая птичка с белым горлышком и серой уздечкой способна соорудить столь искусно и на редкость надежно жилище для своей семьи? Но Янга отозвалась почти равнодушно, с бледной, вымученной улыбкой:
— Не зря зовут ее первой пташкой у Бога.
Ему самому сказать бы ей что-нибудь ласковое, что сама, мол, она, как пташка Божия, невинная, но язык не ворочался, лежал во рту колодой распухшей. Данила и досадовал на себя, и умилялся, что делается с ним при виде этой девицы, не румяной, как красавице должно быть, не грудастой, не бокастой. Да и кому в ум вспадет похотно о ней подумать!
Белобрюхий дятел, держа в клюве еловую шишку, торопливо спускался задом по стволу. Данила обнял Янгу за плечи, молча показывая ей смешную птицу, коснулся пальцами подбородка, чтобы голову ей поворотить, и будто полетел на мгновение в черную яму, как в детстве, когда жеребец его в лоб саданул, мало не убил. Аж пот на висках проступил, рубаха на спине влажно прилипла, ровно пятерик муки Данила с мельницы на себе притащил.
Он, как ребенок, пал ей головой на плечо, чувствуя губами, как бьется теплая жилка у нее на шее, и, чтобы не впиться по-звериному в эту жилку, не заломить девку на руки к себе, как молодую березу, Данила, захрипев и слыша свой хрип, стал оседать на колени, на пятки, цепляя жадно бедра ее под скользким летником и пьянея от этого еще сильнее, тяжче.
— Данил ушка, что ты, голубчик мой, братец… — услышал он ее голос, печальный, увещевающий. — Не губи душу свою. Я жить не стану, если ты силой. И ты себе не простишь никогда. И Бог тебя не оправдает, когда придешь на суд к нему.
Данила мотал головой и задыхался, рвал пальцами молодой вязовый подрост, уйди, хотел сказать и не мог.
Прошелестело по кустам, будто ветер прошелся, и стихло. Данила открыл глаза — никого нет, будто во сне произошло с ним. Лишь на мокром песке — почти детские следы ее убегающих босых ножек с растопыренными пальцами.
Шум мутовинного колеса и грохот жерновов сюда не доносились. Стояла вязкая тишина. Не колыхнутся ветлы, и птицы затихли в тени листвы. Только гудят на цветах пчелы да стрекочут в траве кузнечики.
— Зной какой, — сказал Данила вслух. — Жарко…
Никто не отозвался ему.
С той поры, если встречались, всегда так (будто кого-то близкого похоронили), словно бы в сговоре были, словно бы имели общую тайну. А Данила — удивительное дело! — сам в ней словно бы какую-то опору стал видеть. Никому бы он не доверил того, что ей сказал — пожалился:
— Лихо мне, Янга, устал я, как лошадь… Вот здесь у меня болит, — он ткнул пальцем в грудь, где душа живет.
Они стояли вдвоем, нечаянно встретившись на подворье великокняжеского дворца. Хотя должны бы быть в эту пору трескучие морозы, вдруг упала оттепель, даже словно бы и дождик вместе со снегом вперемешку сыпался. Янга поймала губами холодные капли, прилетевшие с неба, засмеялась невесело:
— То ли дождик, то ли снег, то ли любит, то ли нет… — Тут же и посерьезнела: — Почему ты так говоришь — как лошадь? Если ты и конь, так ведь хорошо, весело скачешь, великий князь любит тебя…
— Я кнута боюсь, потому скачу.
— Неправда, Данила, наговариваешь ты на себя. — Голос ее был столь заботлив и участлив, что он и еще одну потайную дверцу души своей отомкнул:
— Знаешь, я только кажусь конем. Я даже и не лошадь, я — меск, ублюдок…
Янга метнула испуганный взгляд: слишком серьезными были услышанные слова, чтобы отнестись к ним шутя или хотя бы и с сочувствием, но не полным, что-то несказанное еще за ними крылось, и можно это несказанное узнать, только спроси — это чувствовала она своим женским сердцем, оно же и подсказало ей правильный выход.
— Данила, а скажи мне, верно ли княжеская челядь говорит, будто свадьба Василия Дмитриевича откладывается?
— Верно, — И увидел, как словно бы солнечный лучик упал на глаза ее. — Хотели на Рождество, но великий князь распорядился перенести на Крещение.
— Пе-ре-нес-ти? — Словно тучка набежала, померк солнечный лучик в голубеньких глазах ее.
— Да, на девятое января, на неделю[19], на память мученика святого Полиехта.
— А отчего же — «перенести»? — Снова чуть залучились ее глаза, удивительно: она еще на что-то надеется! Данила ответил жестко, почти мстительно, сам удивляясь своему раздражению:
— Осей, кормиличич Василия Дмитриевича, поколот в Коломне на игрищах — вот причина. Очень печалится Василий Дмитриевич. — Данила замолк, передохнул, подумал с раскаянием, что зря он так грубит, Янга же ни в чем не виновата! Но закончить на этом не мог, стал рассказывать о необязательных совсем подробностях, лишь бы не молчать и не видеть ее горестных глаз: — Удивительно, имел Осей силу нарочитую, бывалоча, вдарит кого кулаком — и все, вечную память надо тому петь… Ведь Осей знаешь когда великому князю приглянулся? На медвежьей травле — это, знаешь ли, забава такая, ее еще медвежьей потехой называют. Так вот, летошный год на Святки заявился в Коломну из Устюга ряженый окутник с бурым медведем-третьяком. Медведь в наморднике из ремешков, на когтях кожаные же рукавички. Народу на льду реки Оки собралось тогда видимо-невидимо, даже гости заморские пожаловали. Приехали вместе с государем нашим и все поближе к нему жались. Дмитрий Иванович, царствие ему небесное, посмеялся: «Душа в пятки ушла?» Посланник свейский не скрывал, сознался: «Я-я, в пятка…» А польский шляхтич спросил: «Не сорвется он с вервия?» И накаркал беду: верно — сорвался медведь с цепи, подмял под себя окутника, который с ним понарошке боролся, народ потешая, голову ему почисту снес — такая «потеха» вышла… А после этого на высокую ступень кинулся, где государь с семьей и важными гостями был. Вот тут и вышел Осей, простой тогда челядинин, осадил ярого медведя, будто котенка. Да, а нынче вот на ножик напоролся. Софья Витовтовна радешенька: значит, говорит, и на Руси есть рыцарские турниры для молодых витязей… Василий Дмитриевич самых знатных лекарей послал в Коломну, но они не смогли выпользовать, помер Осей. Привезли его вчера в Москву, я видел: лежит в розвальнях на соломе, мертвая голова, волосы мертвые, а в них — солома, мертвая же, и снег на зацепенелом лице не тает… Эх и жалко мне Осея, лучше бы меня покололи…
— Что ты, что ты, чур меня, чур! — И. она стряхнула своей белой с красными узорами варежкой снежинки с его плеча.
Данила потупил глаза, борясь со знакомой слабостью, настигавшей его от каждого такого ее прикосновения.
Но она не замечала ничего. Ту жалость, что плеснулась в ее глазах при известии о гибели Осея, заметно перебивала злость, такая, что белели края маленьких раздутых ноздрей.
— Рада, значит, Витовтовна, что русский витязь издох? Рада, пучеглазая, крапивы ей под юбку! Ах ты, государыня лягушачья, пупырчатая! А что, Данила, ноги-то у нее, поди, колючие, шипастые? Щупал ты ай нет ей ноги, допрежь чем князю ее положить?
Данила посмеялся в усы, чувствуя от таких откровенных разговоров охоту действительно помять, погладить пространственно бабьи ноги, ежели, конечно, они не колючие, желательно, чтоб не колючие… Гася озорной блеск в глазах, выговорил с напускной важностью:
— Не для таких делов мы Витовтовну привезли. Энто дело государственное. А уж каки ноги, как у петуха али шелковы, не наши заботы.
И они смеялись, как сообщники, глаза в глаза, блестя влажными зубами, уже как бы и примериваясь друг к другу для любовных игр. Как вдруг Янга, оборвав смех, сказала сердито и властно:
— А узнай-ко для меня, Данила, кто такой этот татарин важный, которого крестили на Духов день. Ну, который с серьгой в ухе! — И ушла, не дожидаясь согласия Данилы, уверенная, что знатный боярин все сделает, Как она велит. А он смотрел ей вслед и думал, что, видно, так уж ведется в жизни: кто умеет нас очаровывать, тот и право повелевать нами обретает. И интерес ее к татарину Маматхозе-Мисаилу нимало не удивил его…
Он обреченно вздохнул и направился на Арба-ат, где жил Тебриз. От Тебриза узнал, что Маматхозя поселился в Кожевниках, на правом берегу реки Москвы за Краснохолмским мостом, где жили ногайские татары, занимавшиеся с недавней поры продажей лошадей и выделкой кож.
И совсем не подумал Данила: откуда в Янге смелость такая взялась, слова такие про Витовтовну, кои более хмельному мужику приличествуют, нежели сироте-челядинке?
Простодушен, знать, был боярин.
Глава III. Злачные пажити
Я душевно люблю православный русский народ и почитаю за честь и славу быть ничтожной песчинкой в его массе; но моя любовь сознательная, а не слепая. Может быть, вследствие очень понятного чувства я не вижу пороков русского народа, но это нисколько не мешает мне видеть его странностей, и я не почитаю за грех пошутить под веселый час добродушно и незлобливо над его странностями, как всякий порядочный человек не почитает для себя за унижение посмеяться над собственными своими недостатками.
В. Белинский1
Всякая свадьба — событие и радостное, и шумное, а женитьба государя — дело вовсе исключительное, имеющее великий и самый насущно-жизненный смысл для всего окружающего люда. Были у кормила власти Василий, сын Дмитрия Ивановича, матерая вдова Евдокия Дмитриевна и их преданные бояре. Теперь добавятся в среде близких к великому князю, его домашних новые правительственные люди — родственники по жене. Кто они такие — неведомо, но ведомо, однако, всякому, что отныне что-то да изменится непременно в управлении государева двора, надобно ждать изменений людям и наибольшим, и мизинным.
Уже в момент самой свадьбы какая-то неразбериха началась.
Данила, по чину постельничего, возглавлял бояр, определенных к подклету, где была постель новобрачных, однако атласы по пути к этим холодным сеням расстилали какие-то уж пришлые люди, незнакомые Бяконтову и другим приближенным великого князя. И новый, из пришлых литвинов, конюший появился, коему доверено было великим князем быть у государева коня и ездить весь стол и всю ночь вокруг подклети с мечом наголо…
И не только то досадно было, что новые, люди заезжали прежних бояр, а то, что много бестолковщины и ненужного шума создавалось. Выскочки норовили почаще на глаза новобрачным попадаться, услужали и любезничали, а как до серьезного дела что-нибудь доходило, их словно ветром сдувало. Так вот и с литьем звона получилось.
Потом уж и вспомнить никто не мог, кому первому пришла в голову эта причуда — в честь женитьбы великого князя московского отлить стопудовый церковный колокол, — валили бояре на Данилу, тот на литовского князя Ивана Олгимантовича ссылался. А получилось так.
На четвертый или пятый день свадебного пира появился в Кремле Авраам Армянин, живший на Кудринке, и с ним один из ганзейских гостей[20]. Не сами пришли — Иван Олгимантович указал на них, а Данила притащил едва ли не силком.
— Вот, княже, умельцы колокольного литья, в Италии да Византии навострились этому мастерству. А нам давно надобно. Своих звонов мало осталось, а от малых привозных не благовест, а дребезжание. Надобно, чтобы слыхать было верст за десять кругом.
Авраам не отпирался:
— Знаю, сколько меди и сколько олова класть, а наипаче — как без пузырей лить.
— А я учился у самого Бориски[21], — добавил итальянский гость, имевший вид важный, значительный благодаря своим очам нарочитым[22].
Василий посоветовался с Киприаном, тот ответил уклончиво:
— Епископ ноланский Павлин заслушался однажды шелестом полевых цветов и по их подобию повелел колокола изготавливать. С тех пор служат они гласом Божьим — и к женитьбе звон, и к соборованию…
Молодая княгиня Софья обрадовалась, как дитя:
— Когда счастье приходит, надо в колокола звонить!
Она сразу же и в палатах женских свой порядок завела — стала вызывать слуг не серебряной свистелкой, как раньше делала, а звоном колокольчика.
Юрик, сразу невзлюбивший золовку, буркнул:
— Чужой человек в доме — что колокол.
Однако против отливки большого звона он тоже ничего не имел.
И Евдокия Дмитриевна не возражала, и все бояре как один поддержали. Медного лома накопилось много, олово тоже имелось. И уж очень обидно было платить серебро да золото за колокола европейские — кургузые, с кольцом вместо ушей да китайские — суженные книзу. И те и другие плохи были на русский вкус: первые имели звук хоть сильный, но резкий и короткий, а вторые звучали некрасиво, глухо, а вдобавок и те и другие надо было раскачивать, вместо того, чтобы железным языком их бить, — не с руки, непривычно. Своих же, удобных для звона и имевших звук на диво продолжительный и чистый, осталось в Москве всего несколько.
Стали свозить и стаскивать металл и всякие приспособления к реке Неглинной в то место, где берег ее был наиболее высок и крут[23]. Авраам сказал, что тут всего удобнее литейную печь поставить и необходимой глины под рукой много, вопреки названию речки. Обнаружились люди среди москвичей, которые хотя сами никогда не были литцами, но слышали, как изготавливают колокола, от своих дедов да прадедов — немногое передалось в изустных рассказах, зато самое главное:
— Когда колокола льют, надо вести распускать по городу, чем невероятнее, тем звончее колокол получится.
Так появилась нужда в людях, умеющих суесловить и пустобаить, небывальщину за правду выдавать. Кажется, чего проще — вздор да облыгу врать, ан нет, тоже, как и звон отлить, надо быть этому способну, навык иметь. Помчался вгорячах новый кормиличич великого князя Судислав в подмосковное сельцо Семчинское, что лежит в излуке реки Москвы за Ленивым Вражком, велел вознице останавливать возок возле каждой избы, ботать в окна, бычьими пузырями затянутые. Неохотно вылезали на мороз мужики, но Судислав их согревал:
— Бегите, православные, в Кремль, да ковши и корчаги поболее волоките с собой: великий князь отчинил три бочки с медами стоялыми.
Мужики теребили бороды, не знали — верить, нет ли, но соблазн все же велик был — потянулись по льду реки Москвы и прямиком через ее притоки Сивку да Черторый, кто пешим, а кто подседлав клячонку.
И что же — оказалось, что не соврал ближний боярин, в самом деле, три беременные, тридцативедерные бочки откупорены, пей от пуза хоть обарной, хоть любой ставной — яблочный либо черемховый — хмельные медки.
Судислав чувствовал себя сконфуженным, не знал, что это Данила подшутил над ним — распорядился выкатить на берег бочки как раз к прибытию семчинских мужиков.
— Вот так пустослов! — потешались над ним боярские девки. — Разоврался так, что и не уймешь!
— А хотите, я вот эту медную железяку один на розвальни отнесу? — раззадорился осмеянный Судислав.
— Соври еще! — не унимались девки.
Судислав хватил ковш меду для храбрости, хотя и так уже довольно подхлестнут хмелем был, подошел к вываленному в снегу и земле тяжелому осколку старого колокола, который важили из амбара трое мужиков. Не с одного раза ухватил он его, но все же изловчился и рывком взвалил на плечо. Тут же и почувствовал, что будто что-то оборвалось в нем. Однако виду не подал, даже головой тряхнул победно, откинув назад белые свои кудри. И шел к запряженным двумя лошадьми саням надежно, не виляя, хотя по ногам его, он чувствовал, струилась не изведанная доселе, предательская дрожь. Все еще красуясь, опустил неподъемную плаху меди бережно, не уронив и не бросив, сани мягко осели полозьями в снег.
— Дюже здоров, знать, его в кузнице ковали, — сказал кто-то из толпы.
Девки восторженно ахали и визжали. Судислав слышал их голоса, но не видел, как у них блестят восторгом глаза и как норовят они выхвалиться перед ним своими красотами. Натужно улыбаясь, он, сколь мог беспечально, стряхнул с белого нагольного полушубка налипшие ошметки грязно-зеленой медной окиси и побрел в ближайшую людскую клеть, чтобы спрятаться с глаз долой, не выдать своей боли.
На этом и кончилась его верная служба великому князю: он в тот же день слег, выздоравливал потом долго и трудно, сохнуть стал, вся сила куда-то ушла, исчезли и бойкость его, и проворство.
Беда с Судиславом была на княжеской свадьбе не единственной.
Сколько было гостей, званых и незваных, никто не считал, но известно было Василию, что на обслуживание пира отряжено триста человек.
Свадьба началась, как искону водилось, пированьицем. Затем — почестен пир, постепенно пошедший на веселье. Стали пьяны-веселы и бояре думные, и послы важные, и воеводы храбрые, и купцы богатые. Конечно, и челядь многочисленная радовалась женитьбе государя. Да и то еще надобно учитывать, что не одна лишь великокняжеская свадьба была в Москве тогда, много новых семей зарождалось — не зря же все время от Рождества до мясопуста слывет на Руси свадебным[24].
Пиры шли повсеместно — в боярских хоромах и в мужицких избах, а то и прямо под открытым небом, — люди убогие, калики перехожие пировали за наскоро сколоченными на дворе и на берегу реки Москвы столами. Для тех же, кто по нездоровью своему не мог явиться к общим столам, развозили по городу хлеб, мясо, рыбу, овощи и меды разной крепости, так что ни един человек в Москве не был тогда обделен едой или обнесен хмельной чарой.
Столь много было в Москве торжества, столь много веселья, отмеченного всеми правдивыми летописцами, что уже к неделе многие веселящиеся занемогли. А после того как начались хлопоты по отливке стопудового звона и гульба пошла с новой силой, несколько знатных москвичей от чрезмерного количества выпитых медов да злачных вин с воткой[25] прямо с пира отправились в мир иной, в жизнь вековечную Василию Дмитриевичу о таком прискорбии не сообщали чтобы не омрачить ему высокого настроя. Однако и это были лишь малые победки, настоящая беда еще караулила Москву.
2
Радостна была Василию мысль об отливке большого, самого большого в Москве звона. Слово-то какое — ко-ло-кол, клокочущее, набатное, в нем самом уже слышится гул медноволновый, размашистый, мерный, чистый.
Многое при отце впервые было сделано, каменные стены Кремля возведены, первые серебряные монеты отбиты, первые огнеметные пушки скованы, первые конские заводы для разведения «половецких», легконогих скоков устроены, — многое сделано, однако еще большее предстоит. Вот и начало будет положено: ко-ло-кол — первый стопудовый после пришествия татар на Русь.
Великий князь самолично участвовал во всех подготовительных работах. По требованию Авраама и ганзейского купца, настоящее имя которого запомнить и выговорить было трудно и которого поэтому звали просто Гостем, были выделены все необходимые материалы, отряжено для производства работ сто человек из числа мастеров и ремесленников — каменщиков, кузнецов, плотников, формовщиков, подъемщиков, чернорабочих.
Вырыли яму на высоком берегу Неглинной — не простую яму сверху уже. чем внизу. Укрепили стены ее дубовым срубом, обложили камнем. И дно ямы замостили дубовыми сваями, на которых стали изготавливать болван из глины. Рядом с ямой Авраам с помощью московских кузнецов и каменщиков ладил литейную печь. Поставили соху — вышку десятисаженную, снабженную вешками и сложной системой веревок с противовесами, — «собаки грузовые, хвосты у них по полусажени». А кроме того, построили два ворота с длинными веретенами, мост и амбар для снастей. На все это ушло две седмицы, после чего и начались собственно литейные дела.
С вечера накануне разжига домницы, загруженной медью и оловом, служили всенощную в Успенском соборе. Присутствовала вся великокняжеская семья и знатные бояре. Правил службу сам Киприан.
Утром затопили литейную печь. Из Кремля каждый час прибегали посыльные узнать, как идет дело. Однако Авраам сказал, что ввиду мороза и снега металл начнет плавиться не ранее как завтра.
Он не ошибся: на следующий день часа в четыре пополудни медь стала подтапливаться снизу, осколки металла начали терять форму и оседать. Событие это казалось столь важным, что поднялось всеобщее ликование, словно бы уж и колокол сам был готов.
Авраам с Гостем сказали, что для лучшего звона хорошо бы добавить в колокольную медь малую толику серебра да золота. Уговаривать москвичей не пришлось: желание заиметь стопудовый колокол было столь острым, что они вмиг натащили лома драгоценных металлов, так что Василию Дмитриевичу и казну свою не пришлось трогать.
Явилась Янга, разодетая празднично, как и полагается боярыне введенной, богато: в торлопе, подбитом куньим мехом и крытом зеленым шелком с вышитыми по нему золотой поволокой цветами, в меховом нарядном контуре Ее сопровождал тоже разряженный в богатые одежды недавно крещенный щеголь Маматхозя-Мисаил.
Василий удивился и не сказать чтобы порадовался, увидев их вдвоем. Софья, царственно восседавшая в своих брачных выездных санях, обитых алтабасом, зеленым шелком, багровым с золотом бархатом, круглила глаза, смотрела неузнавающе. Янга же всячески старалась обратить на себя внимание павой плавала, головку держала, что лебедушка, гордо, подвесками височными позванивала, устами малиновыми, улыбчивыми поигрывала, взгляды молодых бояр да гостей приваживала. Возле домницы остановилась, сняла с пальца перстень. Поиграла им, полюбовалась напоказ, чтобы ни малого сомнения — тот самый, с «соколиным глазом».
Неловко, из-за головы как это делают все девки, размахнулась и швырнула княжеский подарок в закипающее золотое варево. Перстенек малое время подержался на поверхности, потом прощально сверкнул своим «глазом» и утонул.
Янга победно смотрела на Софью, но молодая княгиня оставалась совершенно беспристрастной, то ли не поняла, какую жертву принесла Янга, то ли не смогла оценить, сколь велика она была.
Одежды, усыпанные драгоценными каменьями, давили Софью. Душно ей было, тяжко и втайне скучно, не привыкла еще к чужим обычаям, к еде, запахам. К рукам мужа молодого, жестковатым и проворным, еще не привыкла. Не сильно ласковым молодой оказался — нетерпеливый да властный. Скорей образа, скажет, задерни и валит. Не поговорит, не приласкает, ничто. А днем, напогляд куда как гож. На щеках пушок курчавится, плечами плотен, взгляд вострый голубой из-под собольева околыша так и мечет, только все мимо и мимо супруги. Пожаловалась — от украшений стоять, мол, тяжело, пошутила, понятное дело, эту тяготу вытерпеть можно, кто бы на такую тяготу не согласился.
А он — разу не улыбнулся, как не слыхал, брови студеные сводит, о чем-то думает, бородку почесывает, рукавицы перстчатые мнет. Ветром шубу его незастегнутую, епанчу из верблюжьей шерсти, волоком подбитую, раздувает — не замечает. Коснулась пальцами серой волчьей шерсти, хорош подарок из Орды, хотела придержать разошедшиеся концы высокого ворота, но не решилась, только оглядела супруга заботливо и слова единого не вымолвила, сдержалась: ночь ее будет, найдется у нее время сказать. Да и надо ли с того жизнь начинать новую, чтобы с попреков да с печалей.
Софья приосанилась, плечи ноющие расправила. Дерзка боярыня сверстная, глаз не тупит, смотрит с вызовом. Да ведь боярыня не государыня. Улыбка тронула бледные губы Витовтовны. Решилась-таки коснуться незаметно руки мужа: нахолодавшая, безучастная.
Янга скользнула взглядом по жемчугам и яхонтам государыни, сказала торопливо что-то Маматхозе-Мисаилу. Тот согласно закивал головой, принялся поспешно вытаскивать из уха золотую серьгу полумесяцем. Снял наконец, протянул драгоценность Янге. На приплюснутом носу выступили капельки пота то ли от волнения, то ли от жара близкой печи. Переводил взгляд с серьги на Янгу, с нее на великого князя и Софью, чуя здесь какую-то связь, но не все, однако, понимая.
Янга взяла золотой полумесяц и с тем же неумелым замахом бросила его в раскаленную домницу.
На этот раз Софья не осталась безучастной, улыбнулась понимающе и благосклонно.
Василий смотрел на огонь в упор, но словно бы ничего не видел. Свист пламени и треск стреляющих искрами сосновых чурбаков покрывали надсадные крики воронья, растревоженного таким многолюдьем. Смолистый дух исходил из печного чрева, простирался далеко за Неглинную, пахло свежей соломой и конскими катухами, натерянными на дорогах.
Воробьи носились со многим шумом, радуясь разварным пшеничным зернам, какие выклевывали они из катухов, насоренным семенам подсолнечника, а кое-где, если повезет, можно было ухватить и кусочек разгрызенного ореха земляного заморского.
Снег вытаивал возле печи, и лица ближнестоящих порозовели от жара. Русые кудри князя спускались из-под шапки до самых бровей, взгляд повлажнел от горячего воздуха, был задумчив, неподвижен. Губы по-детски приоткрылись.
Глаза послов, гостей, новых литовских родственников да и своих бояр исподтишка обращались к лицу князя и сейчас же поспешно отводились, новым, незнакомым было выражение князево — уж ничего нельзя было прочитать на этом лице. Где бродил думами юный правитель, что чувствовал? Странен взгляд человека, глядящего на огонь. Словно бы здесь человек — и не здесь. Отрешен от всего, в себя удален, но не горние мысли его занимают — земные, ибо стихия пламени — стихия земная, природная, животворящая и очищающая. Сердце ей радуется, ужасаясь, и веселится в тревоге.
Металл в котле, все тускнея оттенками, все более делаясь белесоватым, колыхался тяжко и медленно, будто живой, будто ему и впрямь делалось все жарче, невмоготу, колыхался слитно от края к краю, потом вдруг вспухал в середине плотным одиноким пузырем, несколько секунд медлил, прорывался и, булькнув, воронкой уходил вниз. Новый копился, поднимался рядом, всплескивал и исчезал. И уже нельзя было разобрать, где медь, где олово, что серебро, а что настоящее золото Все перемешается, станет сплавом, слитным и звонкий, предназначенным рождать звук, к душе и сердцу обращенный, к Богу призывающий, единству человеческих помыслов и красоты мира, к единению народа в беде и гордости его, к памяти о том, что в кипящем сплаве колокольном вложена толица каждого — трудом, верою или деянием
3
Софья давно заприметила Янгу, а в дни свадьбы девка эта бельмом на глазу ей стала. Началось с подарков нововенчанным.
Поздравители со свадебными дарами шли не все враз, не бестолково. Вельяминов и Бяконтов всем свое время и место определили, согласно роду-званию, чину, княжескому расположению. Все терпеливо ждали своего череда в набережных теремных сенях, откуда по одному поднимались в горнюю надстройку дворца. Для Янги Данила сделал исключение — пропустил ее в княжескую горницу сразу же, как заявилась она, следом за иноземными послами и посланниками, впереди знатных бояр и купцов.
Гости с низкими поклонами складывали свои подношения на ковер к подножию трона, на котором восседали великий князь и княгиня. Когда дареных вещей накапливалось слишком много, служки под присмотром Данилы относили из горницы в дальнюю повалушу, стоявшую особняком от жилых хором и служившую великокняжеской семье летними покоями. Часть подарков, впрочем, оставалась в горнем помещении. Это были все негромоздкие вещи, которые могли уместиться в кассоне — резном, высоком и узком сундуке, привезенном в дар нововенчанным французским посланником.
В кассоне была положена митра, окруженная венцом, — подношение хитрого льстеца Киприана, пояснившего, что именно из архиерейской шапки да сияющей золотой короны состоит головной убор императора византийского, а ведь Москве, как ясно всем, предначертано свыше стать скоро Третьим Римом.
Посланник самого византийского царя вручил кубок прозрачного стекла, изготовленного таким образом, что обрел он способность предохранять его владельца от опьянения, а при необходимости и обнаруживать яд, подмешанный к питью.
Уместилась в сундуке и привезенная хорезмским вельможей детская колыбелька, вырезанная из арчи: ребенок, спящий в ней, будет расти непременно здоровым и крепким[26].
Рядом с этими дарами нашлось место еще только подношению, которое сделала Янга. Все сносилось в повалушу: серебряные шандалы из Шотландии, французский геральдический гобелен, китайская фарфоровая ваза, украшенная желтой и алой глазурью, бронзовая с позолотой дарохранительница шведской работы, не говоря уж о флорентийских стульях с резными в виде фазаньих хвостов спинками и многих других ценных вещах, а вот Янгин гостинец оказался столь бесценным, что Василий его при себе оставил. А был это всего-навсего витень — плетенный из ремней кнут с тремя хвостами и рукоятью из рыбьего зуба[27]. На рукояти высечено и для верности киноварной краской прорисовано: «Руби меня татарская сабля, не бей царская плеть!»
Церемония вручения подарков была Софье приятна в высшей степени. Видя, как подобострастно все ломают шапки, какие низкие поклоны отвешивают, сколь дорогие вещи дарят, она не переставала лучезарно улыбаться, стала вся пунцовая от государской радости, даже кожа на голове у нее зарозовела сквозь пробор белых волос. Но на Янгу смотрела уж без всякого умиления — строго, настойчиво, не скидывая глаз. Почему Василий плетку не выпустил из рук, не спросила, но вечером поняла сама.
Очень кстати, оказывается, пришелся Янгин дар: Василий сунул его за голенище левого сапога, спрятав в правый несколько древнерусских злотников.
Невеста в знак ее покорности повинна была первый раз жениха собственноручно разуть — так велось на Руси со времен Владимира Святого. Софья наслышана была об этом обычае, готовилась его безропотно исполнить, но то ли невольно гримаса неудовольствия или брезгливости скользнула по ее губам, то ли как-то неловко стянула она сапог с левой ноги, но Василий выхватил плеть и ударил ею молодую жену — небольно, но обидно и унизительно, под веселый гогот челяди. А того огорчительней ей было узнать, что Василий нарочно скрестил ноги, и не понять ей было, даже если бы она и старалась, где сапог левый с Янгиным гостинцем, а где правый с деньгами для невесты[28].
Но не долгим и не стойким было это огорчение, к тому же не всерьез вроде бы вся эта затея с плетью, вроде игры. А что тут как-то Янга оказалась странным образом примешанной — эка беда: Софья — княгиня в одежде замужней женщины, с кикою на голове, с собранными в подубрусник косами, а Янга — простоволосая девка, пусть хоть и очень пригожая. А еще радовало и вселяло беспечальную уверенность то, как счастливо выпала утром примета с венчальными свечами.
Митрополит Киприан возложил им на головы золотые венцы, внушая при этом:
— Аще Бог сочетал, человек да не разлучает…
Софья слушала святителя и следила с тревогой, как сгорают у них с Василием в руках тонкие желтые свечки: чья длиннее после венчания останется, тот дольше проживет и дольше царствовать будет.
— Супружество есть такое обстоятельство, которое роду человеческому и всем животным для размножения их рода в природе утверждено, и есть такое нужное и полезное обстоятельство, что Всевышний творец, как скоро мужа и жену сотворил, первое узаконение положил им умножить род свой сими словами: «Плодитеся и множитеся!» — рокотал с сугубым усердием Киприан, а Софья подкашивала взгляд на свечку жениха и осторожно, незаметно собирала оплавившийся воск, подлепливая его снизу своей свечи.
Это заметил Юрик, насупился, предостерег Василия, но тот легкодумно отмахнулся:
— Не трог, она на два почти года младше меня. Но я зато первым на плат наступил, значит, главным буду в доме.
— Еще бы не хватало, чтобы во дворце она главенствовала! Но и то еще неведомо… — продолжал неуступчиво бубнить Юрик.
4
Вопреки утверждению, что деверь непременно бывает другом золовке, Софья и Юрик сразу невзлюбили друг друга, и каждый затаил в душе настороженность и опаску. Но в дни свадьбы сердце Софьи было переполнено счастьем, и каждого — даже и деверя Юрия с капризно надутыми губами, и даже досаждавшую ей своими выходками Янгу, — решительно каждого готова была одарить она частичкой своего счастья, и потому-то хотелось ей быть все время на людях, все время в окружении гостей, родни, челяди.
Она сразу же поняла разницу в своем положении. Еще вчера жила вместе со своими боярынями в гостевых палатах, а нынче уж заняла огромные хоромы, развела челядь свою по комнатам: в одной — постельничная боярыня, в другой — стольница, в третьей — чашница.
А главная приятность — отношение московских бояр: еще вчера они смотрели холодно-вопросительно, а нынче готовы были лбы расшибить — низко кланяются, в рот глядят, чтобы кинуться по какому-нибудь поручению.
В храм пришла — место ей прямо возле золотых царских врат, Киприан первой ей восьмиконечный крест подносит!..
А на паперть выйдет — нищие на колени валятся, норовя схватить подол одежды для поцелуя.
Одно слово — княгиня!
А Юрику между тем задаваться-то и нечем — не солоно хлебавши вернулся он из Орды. Строго встретил его Василий, выслушивая ответ недоверчиво, вопрошал непрощающе:
— Зачем же ты уехал, почему не ждал хана в Сарае?
Юрик лепетал в оправдание, что боялся задавнеть и опоздать на свадьбу, что Тохтамыш только перед его приездом ушел за реку Яик походом на своего заклятого врага Аксак-Тимура и ждать его было не резон, ибо мог Тохтамыш не вернуться до самого лета, мог в свою зимнюю ставку, в Таврию уйти, а то еще, поговаривали мурзы, в Литву, к Витовту за помощью…
Последним предположением Юрик хотел уязвить брата, но только еще больший гнев на себя навлек:
— Не суесловь! Я посылал тебя не продажных привратников слушать, а внушить им нашу корысть. Как деньгами распорядился, кои выданы были тебе на подкуп?
— Купил луков скорострельных генуэзских и ножей харалужных[29].
Ответ Юрика успокоил Василия, даже и примирил его с ним: подумалось впервые, что коль скоро тяготеет брат к ратным делам, то на них и следует направить его настырность, неутомчивость и рвение.
Сам Юрик свою поездку в Орду отнюдь не считал бесполезной — посмотрел на лютых врагов в их логове, наладил кое-какие полезные связи, оружие привез. А еще удалось ему прознать кое-что о Янге, что он решил держать до поры в тайне от брата. Увидев ее вместе с Маматхозей-Мисаилом, он, в отличие от Василия, не удивился, а лишь уверился в неложности заполученных сведений.
Не только Янгин витень был с назидательной подписью, а на рукояти меча, поднесенного с угодливостью и подобострастием новгородским послом, начертано: «Не напрасно князь меч носит, но в месть злодеям, в похвалу же добродетелям». Чуют, видно, новгородцы, что вот-вот предъявит им великий князь московский жестокий счет за прегрешения последних лет, ждут. Готовятся. Принимая меч, Василий снова вспомнил о Юрике, решил: «Пошлю его на рать вместе с Серпуховским».
5
Почти одновременно с Юриком возвратился в Москву из поездки в Тверь и Киприан. После занятия им митрополичьей кафедры эта поездка была его первым правительственным делом.
Между тверским великим князем Михалом Александровичем и тамошним епископом Евфимием Висленем, поставленным в 1374 году еще Алексием, было нелюбие, дошедшее до такой степени, что князь не хотел терпеть епископа и принудил его удалиться в монастырь. Вот и поехал Киприан по зову Михаила Александровича судить епископа, взял с собой в сопровождение двух греческих митрополитов Матвея Андреанопольского и Никандра Ганского, а также двух русских епископов — Стефана Пермского и Михаила Смоленского.
— Славно встретил нас Михаил Александрович, — обронил потом в разговоре с Василием Киприан, намекая, очевидно, на то, что Москва в июне прошлого года встречала его недостаточно славно.
Василий полагал, что устроил прием вполне торжественный: он самолично со всем своим семейством, с боярами, с многими жителями города вышел на Серпуховскую дорогу и встретил Киприана на девятой от Москвы версте возле села Котлы. Но тверской великий князь куда более важную почесть оказал: за тридцать верст от Твери приветствовал Киприана внук великого князя, за двадцать верст — старший сын Михаила Александровича, а за пять верст от города на Починце вышел он сам. Целых три дня в честь митрополита и его спутников устраивались пиры, вручались им всем дары многие, а на четвертый день имел место суд над епископом. «Дело Висленя» Киприан сумел завершить с византийской ловкостью: отвергнув местного кандидата, он возвел на тверскую кафедру своего архидьякона Арсения, а низложенного Евфимия отправил в Москву в митрополичий Чудов монастырь.
То, что митрополит не поддался нажиму местной светской власти, нравилось Василию, но его не могло устроить, что Киприан решил дело без участия в нем также и московского великого князя.
— О чем же вы с Михаилом Александровичем разговор вели? Небось вспомнили, как он тебя от Тохтамыша спас? — спросил, не скрывая своего уязвления, Василий.
Искушенный в светских интригах и много натерпевшийся Киприан сразу понял опасность: отъезд его тогда в Тверь стоил ему митрополичьей кафедры, и Василий Дмитриевич сейчас, чего доброго, может поступить по примеру отца. И он горячо уверил Василия в своей полнейшей приверженности одной лишь Москве, а затем стал настойчиво и громкогласно, к месту и не к месту титуловать Василия государем всея Руси. Конечно, он и туг преследовал прок свой больше, нежели князя московского: давно и страстно жаждал он присовокупить к своему святительскому чину титло это — всея Руси. И хотя теперь и впрямь не одна лишь Малая да Белая, но вся христианская Русь была в его митрополии, нужно было ему и формальное признание от великого князя.
Пожалуй, даже сверх меры старался он в своем возвеличивании Василия. Хитроумный подарок преподнес — митру с венком, как у византийского императора.
Киприан часто и подолгу бывал в Константинополе, хорошо знал греческий тип высокого и великого сана, к которому доступ сопровождался изумительною для простых глаз торжественностью и обстановкою несказанного блеска и великолепия. Именно таким царем, самодержцем с ничем не ограниченной властью хотел видеть Василия митрополит, на это настраивал его. Но для Василия тип великого русского князя был резко, определенно очерчен обликом его отца, великого Дмитрия Ивановича Донского. А отец не зря назвал в предсмертном слове своих приближенных не боярами, но князьями: они в самом деле пользовались почти равною с великим князем самостоятельностью голоса, власти и действий. Нет, конечно, титуловали его и царем, и государем, и Божьим слугой, и главою земли, но сам Дмитрий Иванович мало им внимал, ему больше по душе было обращение — «княже», даже и без добавления «великий». И Василий желал иметь, по примеру отца, власть и звание главного судьи и воеводы, хранителя правды и ратного защитника отчей земли, но с постоянным ощущением нерасторжимой личной зависимости от той массы людей, что именуется народом: бояр и дружинников, дворян и ремесленников, священнослужителей и крестьян. Все они выступают участниками великого дела оберегания правды и защиты родной земли от врагов, а великий князь — лишь их вождь, лишь кормчий, отношения которого с земством непосредственны, просты, прямодушны. Конечно, никто в Московском княжестве не может сказать так, как говорит новгородское вече — «Мы тебе клянемся, княже, а по-твоему не хотим», никто не посмеет и думать так — «Ты себе, а мы себе», а тем более — «Тобе ся, княже, клянем», нет, это наивное и простодушное время отошло, но и братская связь великого князя и земства еще не прервалась окончательно, и Василий, когда приходилось ему обращаться к подданным своим, называл их не иначе как «Братья мои милые!»
Киприан увещевал:
— Все мы братья во Христе, но твой сан государя всея Руси обязывает тебя держать Русь в своей власти, и тебе, самодержцу, все — князья и холопы, бояре и смерды — поклоняться должны, яко самому Богу. Так было в Первом Риме, так было в Риме Втором — Константинополе, так должно быть в Риме Третьем — Москве.
Вон куда замахивался Киприан, мнил себя, возможно, уж и патриархом всего мира православного! Пусть тешится, думал Василий, намереваясь сам строго придерживаться порядка, заведенного на Руси пращурами.
Однако что-то все же изменилось в привычных связях великого князя с его окружением. Василий зорко всматривался и чувствовал: кто-то его боится, кто-то трепещет даже, кто-то не любит, а кто-то ненавидит, но все ловко скрывают свое отношение. Иные многие, впрочем, не только не скрывают, но даже и подчеркивают свою принадлежность великому князю. И к этому Василию надо было привыкать.
Когда Судислав Некрасов порвал становую жилу и стало ясно, что он уже не жилец, Василий задумался о новом кормиличиче и обронил между прочим:
— Помню, встречал меня расторопный отрок боярский, когда я из плена шел… Сказался он внуком Акинфы и племянником Михайлы Акинфовича, того, что на Куликовом поле пал…
И сам забыл об этих словах своих, а окольничий Вельяминов через три дня сообщил:
— Нашли Бутурлю.
— Какого Бутурлю? — не понял Василий.
— Правнук Акинфы, сын Иванов Григорий Бутурля.
А Киприан тут же и полную справку дал.
Прибыл в конце двенадцатого века в новгородские земли «муж честна по имени Ратша, выходец из седмиградской земли». Один из потомков его, обрусевший венгерец Ратша Гаврила Олексич, участвовал, по свидетельству летописца, в Невской битве 15 июля 1240 года рядом с Александром Ярославичем, «в числе мужей храбрых» преследовал военачальника шведов Биргера до самого корабля его, был сброшен в воду вместе с конем, но выплыл и погнался за другим шведским воеводой — Спиридоном, которого и убил. Вскоре после того он был пожалован в бояре. Сын его Акинф Гаврилович был уже видным московским боярином при Иване Калите, но потом бежал в Тверь к великому князю Михаилу Ярославичу, за что поплатился жизнью.
Один из правнуков этого Акинфа Михайло надел боярскую шапку при Дмитрии Ивановиче и, начальствуя над сторожевым полком, погиб от татарской стрелы в Куликовской битве. Сына другого его правнука, Ивана Андреевича, прозвали Бутурля, он был в Коломне великокняжеским приставом, исправно нес службу, а сейчас вот был затребован в Кремль.
Подивился Василий могущественной силе своего слова, но постарался удивления не выказать, за должное принял исполнительность окольничего.
— Бутурля, значит? — спросил отрока, имевшего рост без малого сажень. Тот ясноглазо улыбнулся в ответ:
— Так отец мой Иван прозывался, а меня кличут Гришкой Бутурлиным.
Так появился у Василия Дмитриевича, к вящему неудовольствию бояр старейших и знатнейших, новый молодой приближенный.
Показалось Василию попервоначалу, что Бутурлин дерзок и непочтителен — уж очень небрежно, резко управляется он в едальной палате: своротил стол, а когда стал удерживать и поправлять его, наступил великому князю на ногу, и при этом ни повинился, ни в смущение не пришел, будто так все л должно быть! Не сразу понял Василий- что саженный верзила просто-напросто робеет в присутствии великого князя и потому столь неуклюж и неловок.
И Авраам Армянин излишне засуетился, когда Василий спросил его, скоро ли закончится плавка колокольной меди в печи. А засуетившись, он слишком мелкий желоб выложил для слива металла из домницы в кожух и форму. И получился в результате большой срам: пол печи поднялся, медь — та самая, в которую Янга бросала «соколиный глаз» и Маматхозину золотую серьгу, — ушла в земляные «печуры».
Зародился слушок, что из-за этой серьги все и приключилось: не принял-де для святого дела предназначенный металл магометанский полумесяц, не допустил Всевышний противоестественного смешения. Сам ли Данила пустил этот слушок, не чая, что потом тысячеустая молва охотно его подхватит, или был лишь переносчиком его, но узнала о нем Янга именно от него. Он не без тайной радости увидел, как при этом помутнела она лицом, скорее по движению губ, чем по произношению, угадал сказанное ею:
— Истинно, истинно… Противоестественное смешение, богопротивное!
Данила ничем не мог ее утешить, сказал только, лишь бы не молчать:
— Заново сплав люди готовят.
Да, все пришлось начинать сначала. Василий не стал больше торопить, но предупредил, что если не удастся управиться до Великого поста, то лучше уж не начинать. Авраам заверил, что гости иноземные еще со свадьбы не разъедутся, как заблаговестит новый стопудовый звон. Но итальянский Гость был иначе настроен, не верил уж, видно, в успех и, поправляя на носу очи нарочитые, повторял:
— Тутто пердутто… Тутто пердутто[30]…
6
Широко и горячо гуляла Москва — душа нараспашку. А впереди еще была мясопустная неделя[31], когда русская разливанная гульба обретает дополни тельную силу. Больше объявилось на улицах озорников и бесчинников, копилось и копилось для решения на великокняжеском суде количество доносов, жалоб, челобитных, обвинений в татьбе, в бое, в бесчестии. И уж нельзя было отдалять и отсрочивать решения.
Тот день для Василия начался как обычно. Встал, по обыкновению, в три часа утра[32]. Данила с помощью двух спальников и двух стряпчих подавал великому князю одежду, помогал ему убраться.
Умывшись и причесавшись, Василий вышел из опочивальни в Крестовую палату, где его уже ждал поп Авдоким с дьяконом, чтобы помочь великому князю обрести в начале дня духовный настрой, родственный сердечному горению Божественных творцов.
Авдоким благословил Василия крестом, возлагая его на чело и ланиты, начал утреннюю молитву. Предначинительные «Отче наш» и «Царю небесный» сменились пробуждающими в душе глубокие религиозные чувства «Богородица Дево», «От сна восстав», а «Помилуй мя, Боже», «Верую», «Боже, очисти» должны были окончательно подготовить государя к заздравной ектении:
— Спаси, Господи, народ твой и благослови наследие Твое, даруя благоверному государю нашему Василию Дмитриевичу победы на врагов и сохраняя крестом Твоим Твое жительство.
Василий с верой и охотой отозвался, осеняя себя.
— Господи, помилуй!.. Подай, Господи!
Между тем дьякон уже поставил перед иконостасом на налое с пологой столешницей и на тонких резных ножках образ святого Василия Великого. Обратясь к нему, Василий Дмитриевич закончил свою утреннюю беседу со Всевышним:
— Ангел Божий, хранитель мой святой, данный мне от Господа с небеси для сохранения меня, прилежно молю Тебя, Ты меня сегодня просвети и от всякого зла сохрани, наставь на добрые дела и на путь спасения направь. Да будет так! — закончил он с низким поклоном, веря, что так оно и будет — сегодня как вчера.
Авдоким окропил Василия водой, освященной в Троицком монастыре Сергия, крестовый дьякон торопливо прочитал духовное слово из Златоструева сборника.
Расторопный Данила тем временем уже сходил с обсылкой Василия в хоромы Софьи, занятой утренним молением у крестов, через крайчую боярыню Нямуну справился о здоровье молодой великой княгини, о том, как она изволила почивать. Убедившись, что все в порядке, что сегодня все как вчера, Василий прошел в столовую, где встретился и поздоровался с супругой самолично уж.
После утренней трапезы — встреча с боярами, окольничим, думными и ближними дьяками. После поздней обедни, длящейся два часа, снова деловые разговоры с боярами и выслушивание челобитных, которые успел напринимать с красного крыльца Данила Бяконтов.
Думный дьяк докладывал челобитные, записывал княжеские решения, которые Данила потом объявлял тем, кто бил челом государю и трепетно ждал ответа на площади в тридцати саженях от красного крыльца.
Тем временем в столовой комнате хлопотал уж новый кормиличич Григорий Бутурлин со своим ключником: настилали скатерть и ставили судки — солоницу, горчичник, хреноватик. В соседней комнате накрывался кормовой поставец, на который ставились кушанья кормиличичем перед тем, как быть поданными великому князю. Каждый стольник и ключник знали свое место, порядок и обряд великокняжеского обеда были четкими и неизменными: сегодня как вчера и как будет завтра. И послеобеденный трехчасовой сон, и вечерняя служба, и предужинная живая беседа и книжное чтение — все было обычным, размеренным и незыблемым, и никто не посмел бы усомниться, что завтра может быть все иначе.
А назавтра между тем ожидалось важное событие: Авраам с Гостем сообщили, что все готово для заливки колокольной формы. Василий в сопровождении бояр поехал к литцам, не скрывая нетерпения и любопытства, во все вникая, обо всем спрашивая. Даже и в дымную кузницу зашел, где ковался железный язык для будущего стопудового колокола.
Три дюжих кузнеца — все с одинаковыми ремешками на лбу, прихватывающими сзади их длинные волосы, с одинаковыми кожаными передниками, в одинаковых козловых сапогах — хлопотали возле наковальни, укрепленной на толстом, обуглившемся, но еще крепком пне. Высыпали из рогожного мешка уголь в горн, сверху бросили пучок лучин. Один из кузнецов надавил рукоятку меха, из горна со свистом вырвался воздух, нижний слой углей стал малиновым, и от них вспыхнули пламенем лучины. Кузнец продолжал раздувать мехи, искры летели под крышу. Два его товарища, с такими же, как у него, коротко стриженными черными бородами, сняли со стены клещи, ухватили ими длинную, уже побывавшую в горне и на наковальне железную заготовку языка. Снова сунули ее в горн, удерживая клещами, пошевеливая и поворачивая в жарких углях. На наковальню язык вернулся жарким, словно пламя само, два молота согласно стали бухать по нему, разбрасывая по сторонам каленые брызги.
Рядом с кузницей полыхал, взметывая высоко в небо дым и языки пламени, огонь плавильной печи. Авраам, смуглый от роду, теперь совсем почернел, словно обуглился, только белки глаз да зубы блестели, как у эфиопа.
— Малость погодя пустим медь в форму, а уж утречком, помолясь… — Авраам был радостно-беспокоен, то улыбался великому князю, то хмурился и кричал на своих подручных.
Возле ямы плотники уже срубили козлы, на которые утром будет вытащен воротом новоотлитый колокол. Готовы и подпруги — ремни для привязи железного языка. Кузнецы — это были, оказывается, родные братья Ковалевы — вытащили закопченную, но не остывшую еще поковку наружу, бухнули ее на землю. Снега почти не было, и лишь мерзлая земля стала с шипением плавиться, капельки воды тотчас же превращались в пар.
Василий хотел дождаться момента, когда начнется выливка расплавленной меди, но подул из-за реки знобкий и сильный ветер, поднявший тучи снега и колючего песка. Бояре укрывали бородатые лица отворотами меховых воротников и вслух сетовали, что такая нынче выдалась сиротинская, бесснежная зима. Василию и самому было неприятно стоять на взлобке, где ветер рвал особенно свирепо, а взвихренный речной песок сек лицо и руки. Он велел подавать запряженные гусем великокняжеские золоченые сани. Сытые кони вмиг донесли его крупной рысью до Кремля.
Когда Москва погрузилась в раннюю зимнюю сутемь, в Успенском соборе устроен был молебен за успех завтрашнего богоугодного дела. Совершал чин сам митрополит. Протодьякон возглаголил ектению особо чувствительно:
— Миром Господу помолимся…
Служба шла, как обычно, торжественно и размеренно, но вдруг показалось Василию, что причт на клиросе возле правых, пономарских, врат ведет себя обеспокоенно и не столь слаженно и старательно поет, как клирошане слева.
— О еже подати ему благодать яко да все слышащии звенение его или во дни, или в нощи, возбудятся к славословию святого имени Божия, — возглашал прошение митрополит, однако клирошане не поддержали его, но с ужасом в глазах повернулись как один к распахнутой двери, через которую видно было огромное багровое зарево.
— Пожа-а-ар! — донесся с улицы панический крик.
— Москва горит!
Прихожане, вздыхая и торопливо крестясь, потянулись к выходу. Дьякон уронил со своего левого плеча орарь, длинная эта лента заплескалась на сквозняке, запуталась у него в ногах. Так и стоял он столбом, растерянно кадил одно и то же место, не зная, то ли продолжать ему свое священнодействие, то ли служба прекратиться должна, ждал сигнала от митрополита, а тот не потерял самообладания и перешел на другое молебное пение:
— Во гневе Твоем, Боже, помяни щедроты Твоя, прах бо и пепел есмы, дух ходяй и не обращайся, и не яростию Твоею обличи нас, да не погибнем до конца: но пощади души наши, яко Един милосерд…
«Ну вот, начал за здравие, кончил за упокой», — подумал Василий, как подумали многие, не представляя еще себе размеров бедствия, подкравшегося к Москве, как тать в нощи.
7
Никто не мог себе представить, что займется огнем и выгорит в одночасье, почитай, вся Москва, и монастырский дьяк Куземка занесет на пергамент дрожащей от горя рукой: «Бысть пожар на Москве на посаде, загореся от Авраама некоего Арменина и несколько тысящ дворов сгоре и много зла бысть Христианом. — Написав это, Куземка прошелся по келье, возле узкого окошка остановился в раздумье и, учуяв снова горький запах дыма, настоявшегося во всех палатах и кельях обители, вернулся к пергаменту и дописал, хотя и знал, что игумен заставит вымарать эту отсебятину: — Большие колокола в те поры в Москве не лили, а если лили, то вон что получалось».
А получилось вот что.
Авраам с Гостем выпускали расплавленный металл. Печь неожиданно изрыгнула из своей пасти с сильным взрывом смрад и пламя, от которого загорелся деревянный ворот, с помощью которого намеревались вытаскивать из ямы будущий колокол, загорелись сразу же свежеструганые козлы, на которые этот колокол должен был бы быть подвешен, а также и дощаная кровля литейного амбара. Ветер перекинул пламя на ближнюю церковь Святого Афонасия. Огонь взвился над шеломом купола, высветил жаркий крест и тут же поглотил его, словно расплавил.
Авраам, чувствуя себя виновником случившегося, кинулся с багром в руках к горящей церкви, которую обступили уж зеваки. Не то странно, что никто не пытался сбить огонь, — это было бы бесполезной попыткой, ясно каждому, но то, что установилась вдруг полная, глубокая тишина, только трещал огонь, и Аврааму было страшно видеть молчаливую, расступившуюся перед ним толпу.
— Тутто пердутто!.. Тутто пердутто! — повторял Гость, потерявший в суматохе свои очи нарочитые и близоруко озиравшийся по сторонам.
Но он не встречал ни сочувствия со стороны, ни осуждения — люди продолжали молчать, словно зачарованные, смотрели на огонь.
Оцепенение, впрочем, длилось недолго.
Когда выгорел и стал рушиться купол церкви, полетели вниз пылающие балки перекрытия, бревна, горящие доски стали коробиться, сгибаться и рассыпаться на огненные головешки. Ветер не давал им упасть наземь, подхватывал в воздухе и относил прочь, опуская их на тесовые кровли изб, на соломенные крыши скотных дворов и амбаров с житом.
Василий видел с высокого крыльца, как быстро отдельные языки огня вжигались в тесовые кровли домов и соединялись в один бушующий костер. Страшно, непредсказуемо вел себя пожар — он то свирепствовал в Занеглименье, а то вдруг перекидывался в другую сторону и начинал загребать к Великому посаду. И уже становилось непонятным: то ли ветер разбрасывает огненные головни и играет ревущим пламенем, то ли это огонь сам создает такое свирепое сотрясение воздуха. И как-то так еще случалось, что иная изба воспламенялась не с кровли или с наружной стены, а изнутри: распахивались темные ставни, а в избе бушевал огонь.
Безумно орал скот, лаяли собаки, крики людей были жалки: никто уж, видно, не верил, что можно совладать с огнем, потому что в то время, как заливали водой или засыпали песком огонь в одном месте, он зарождался в десятках новых пожарищ.
Разноголосили, скликая детей, бабы, мужики в рубахах и исподних портах выносили из изб рухлядь, выгоняли с подворья обезумевших коней, коров, овец. Но мало что успевали спасти: огонь пожирал все мгновенно, враз. Сокрушительная стихия властвовала над беззащитной деревянной Москвой, и словно некая злая разумная сила управляла ею: казалось, испепелив торговые ряды, огонь стал залегать, но вдруг, словно спохватившись, вспомнив, что много добра еще на москворецких пристанищах, взъярился с новой силой, охватил стоязыким пламенем и амбары, и запасенные на зиму сухие березовые да дубовые дрова, деловой кондовый лес. Сгорят пристанища — сидеть москвичам с пустым брюхом, в нетопленных избах.
Но только, похоже, и самих изб-то останется мало… Василий все отчетливее понимал, что усилия копошащихся в сполохах огня маленьких людей совершенно бесполезны, никак они не могли вмешаться в разгул всесильного огня. И Киприан опоздал с крестным ходом: только вышли из Успенского собора священнослужители в церковных облачениях с запрестольным крестом, хоругвями да иконами, как увидел Василий, что белая кремлевская стена вдруг высветилась и зарозовела. Оглянулся: огонь, пересчитав одну за другой поставленные на Неглинной мельницы-мутовки, махнул в Кремль, уж занялись полымем постройки Чудова и Воскресенского монастырей, шум близкого пожара сразу заглушил молебный канон, крестный ход сбился, священники и церковные служители, подобрав полы ряс, бросились к митрополичьему дому. Белые церковные голуби, дремавшие на крыше притвора, всполошились, стали бестолково кружить над папертью, затем переметнулись к Свибловой башне.
Василий безотчетно устремился навстречу огню, который разъяренным сильным зверем скакал по кремлевским кровлям, запускал когти и в великокняжеские повалуши и амбары вблизи Троицкой башни. Василий выбежал на хозяйственный двор и не мог понять, отчего так красен на нем снег — от сполохов огня или же от крови: здесь целую неделю перед свадьбой резали поросят, били птицу…
Огня было так много и был он так ярок, что, кроме него, ничего и не рассмотреть, ничего не увидеть: пропали, словно выгорели дотла, высокие строения Подола, которые совсем недавно еще четко виделись в темно-синей сутеми, даже Свибловой круглой стрельницы, что и в самую глухую ночь высится призраком, будто бы и нет сейчас, и даже самого неба со звездами, кажется, нет над пепелищем — мрак, адова темень. Но привольно ушкуйничавший в деревянных посадах Москвы огонь, забравшись в Кремль, оробел и скоро заплутался среди каменных построек, хотя и успел довольно поживиться и здесь.
Василий запрокинул голову: студеные звезды вновь высыпали на небесном пологе, перемигивались многознающе и холодно. Оглянулся на Замоскворечье: как прежде, сторожит излучину реки Москвы призрак Свибловой башни, над которой плавали, подобно белым хлопьям, церковные голуби, а вдали мерцали желтые огоньки фонарей, зажженные обеспокоенными крестьянами Воробьевских весей.
8
Софья рыдала утром столь безутешно и горестно, что Василий стал уговаривать ее и увещевать, пришел в великую досаду. Торопливо облачившись в ставшую привычной в эти дни брачную одежду — долгополый терлик и русскую шубу на соболях, он в сопровождении ближних бояр покинул Кремль, чтобы воочию убедиться в размерах постигшего Москву бедствия.
Ветер, бушевавший ночью, к утру залег, и лишь слабая поземка змеилась на открытых сквозняковых местах, перегоняя с места на место сухой черный снег, а с ним золу и пепел пожарищ.
Пристанище с амбарами и клетями сгорело до основания — лишь груды седых головней, и даже не угадать сейчас, где какие были склады. Осокори вдоль берега, обуглившиеся, без верхушек и тонких веток, походили на мертвые обрубки, лишь на одном дереве чудом уцелело старое грачиное гнездо.
На пепелище стоял на коленях, обращаясь с молитвой на едва обозначившийся синевой рассвета восток, согбенный человек в лисьей шубенке, накинутой прямо на голое тело. При виде великого князя он поднялся, и Василий узнал боярина Ивана Уду. Не знатный, худородный был боярин, однако же неустанными трудами и рвением сумел умножить то скудное наследие, что оставили ему дед и отец. Худощавый, узкобедрый, с длинной русой бородой, он выделялся всегда среди бояр второй руки, Василий давно заприметил его и подумывал о том, чтобы приблизить к себе. Сейчас Уда имел вид прискорбный, будто меньше ростом стал, будто в глубокой старости и немощи пребывал.
— Гостиный двор с кружалом у него сгорели, — сообщил Василию Данила. — И портновская с готовым товаром и сырьем. И скотный двор с припасами…
— Ничего не осталось, — подтвердил сам Уда. — Осталось только псалмы петь.
— И без тебя будет кому христарадничать, ты лучше приходи ко мне на службу. Ты ведь, помнится, с отцом на Куликово поле ходил?.. Ну вот и славно. Не последняя то рать была, беспокойно и нынче на порубежье.
— Эдак, эдак, — неопределенно отозвался Уда и воздел руку для молитвы. Оглянулся окрест, но все ближние церкви торчали черными головами без куполов и крестов, и он снова стал бить поклоны на восток, произнося истово и скорбно заупокойный псалом: — На руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею, на аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона…
— Добро сгорело — это бы ладно, — говорил Данила, — дите малое погибло. — И он показал взглядом на сидевшую поодаль на обгорелых бревнах молодую бабу. Она держала на руках запеленутое тельце мертвого ребенка и причитала:
— Погорели у беднушки мои цветные все платьица, и жемчужно, ожерельице не видать мне боле, беднушке!..
— Разумком от горя тронулась, — пояснил Данила.
Василий подошел поближе, заглянул через плечо скорбно согнувшейся бабы. И отпрянул: жена Уды лелеяла на руках черную головню — вот чем завершилась коротенькая жизнь ни в чем не винного человечка.
— А как там? — Василий показал рукой в сторону Неглинной, где занялся вчера пожар.
— Все выгорело, остались на берегу железный язык да большущая медная лепешка, — сообщил Григорий Бутурлин. — Может, княже, из нее можно мельничный жернов изделать?
Василий не ответил, но и не рассердился на вздорное предложение молодого боярина, подавлен был той картиной, что с рассветом виделась все отчетливее и все безнадежнее.
— Хлеба у тебя сколько сгорело? — спрашивал один купец другого.
— Почитай, три тысячи коробей.
Тишина была в ответ на это признание — каждый подумал про себя: «Много! Три тысячи коробей — это ведь двадцать тысяч пудов!»
Простоволосый дед слезился красными глазками и жаловался, показывая на опаленную свою бороду. К ногам его жалась черная собачонка с обгоревшими усами и бровями, растерянно ощупывала себе морду сжатой в комок лапой.
— Данила, скажи ему, чтобы завтра пришел в Кремль, дадим вспоможение из основного истиника или из сбора[33].
Нуждавшиеся в помощи княжеской казны и общества объявлялись со всех сторон, и в несметном количестве.
Кожемяка повел показывать обгоревшие чаны с дубившимися и квасившимися в них шкурами.
Сапожник тащил на пепелище своего подворья, показывал, что удалось ему спасти от огня, — обгоревшие тюки овечьей шерсти и несколько начатых валкой, несоразмерно больших валенок.
Скорняк ходил с двумя покрытыми окалиной вислыми замками — все, что осталось от двух его амбаров с мягкой рухлядью и скорами.
Утлая старушка безмолвно тыкала перстом в кучу угля и золы, где была вчера ее избушка — пусть на курьих ножках, однако же дом родной, приют и упование…
Обезумевшие от горя люди — смерды и купцы, седельники, чеботари, златокузнецы, древоделы, лодейники, медники и иных дел мастера — лезли к великому князю со своими скорбями, рассчитывая на немедленное вспоможение. Данила терпеливо объяснял им порядок возмещения убытков от пожара, добавляя для острастки:.
— Не первый раз Москва горит, сами знать должны!
Сказал Данила громко, чтобы все слышали, и добился своего — даже утлая старушка воспрянула и разговорилась.
— Я-то думаю, чегой-то у меня в дому мыши пропали? Невдомек было, что перед пожаром, надо бы мне всю деревянную посуду да постелю на двор вынести… Не догадалась, а теперь вот какие убытки. Верно ли баишь, боярин, что князь все оплотит?..
— А мне и не надо ничего, у меня ничего не погорело, — выкрикнул одноглазый юродивый и заголил обезображенное язвами тело. — Мы с князем сочтемся на том свете горячими уголечками! Скоро уж, скоро архангел затрубит! — И юродивый припустил вприпрыжку к Кремлю, откуда долетел слабый благовест к заутрене.
Старые бояре утешали, как умели.
— Хорошо, свадьбу успели сыграть…
— А то бы что?
— Что?.. Помнишь, двадцать пять лет назад Москва также вот дотла выгорела?.. Дмитрию Ивановичу пришлось тогда свою свадьбу с Евдокией Дмитриевной на Коломне устраивать…
— Э-э, не потому Дмитрий Иванович в Коломне решил тогда гулять, это он назло Олегу Рязанскому делал, то была зело мудрая затея…
Василий вернулся во дворец. Софья была все в том же положении, в каком он ее оставил. От неутешного рева рот ее распух, она просто ревела без слов, но, увидев мужа, запричитала вполне внятно:
— Зачем было носить подарки в повалушу, когда столько много палат и комнат здесь… И кровать брачную зачем в холодные сени…
— Софьюшка, обычай таков, — пыталась утешить ее жена Владимира Андреевича Серпуховского Елена, тоже литвинка по происхождению, дочь великого князя Ольгерда Гедиминовича. — Молодоженам полагается первую ночь под холодным потолком провести, чтобы не очутились они под землей. Для тепла-то ведь на потолок землю насыпают[34].
— Глупый русский обычай! — И Софья снова зашлась в голос, вспомнив, видно, сгоревшую в неотапливаемых летних сенях широкую, мягкую постель с лебяжьими перинами, с одеялом, сшитым из кизылбашской золотой камки на соболях с горностаевой опушкой, с черевчатой сафьяновой кровлей — кровать брачную, привезенную ею в качестве приданого из Гданьска.
Данила пробурчал:
— «Лучше бы ми железло варити, нежели со злою женою быти», — как говаривал мой тезка[35].
А Василий вспомнил жену Ивана Уды с обуглившимся трупиком на руках, старика с опаленной бородой, схватил Янгин витень — вот чему не сгореть, не пропасть! — и уж замахнулся на глупую свою жену, но в последний миг сдержал руку, только щелкнул в воздухе всеми тремя волосяными хвостиками плети. Отошел кокну, повертел в раздумье кнутовище, скользнул взглядом по надписи: «Руби меня татарская сабля, не бей царская плеть»… Смутно подумалось, что свадьба хоть и пышно да громко прошла, но было в ней больше уставного обычая, нежели души, а Софья, может быть, тоже это чувствовала сердцем: не из-за дурацкой же крытой постели она убивается, в самом-то деле?.. А еще подумалось, что, может, кто-то сглазил Софью — ведь девкой-то она не такой была? Злое чародейство мало ли от кого могло проистекать, хоть от той же Янги… Известно по семейным преданиям, что великий князь Симеон Гордый по кончине первой жены своей сочетался в 1345 году браком с Евпраксией, дочерью одного из князей смоленских, но через несколько месяцев отослал ее к отцу, для того что «великую княгиню на свадьбе испортили: ляжет с великим князем, и она ему покажется мертвец». Может, и Софью…
Василий сдвинул в сторону желтое фряжское стекло окна, жадно хватил ртом морозного воздуха.
В Кремле продолжали благовестить к заутрене, в Замоскворечье орали поздние петухи. Жизнь жительствовала.
Глава IV. Черным по белому
Не хочу беспристрастия. Настоящий летописец Нестор, описывая свои войны, пожары, небесные явления, не удерживался от личных чувств и домыслов, давая всему и нелепое, и драгоценное для нас теперь толкование.
А. Пришвин1
К утру ветер окончательно стих, непроносные грязно-серые тучи траурным саваном нависли над Москвой. Снег сыпал торопливо, густо, но не мог укрыть пепелищ, а смешивался с углем и сажей, сам уж казался черным. Вороны и галки метались в косом, неверном полете над остовами церквей без куполов и крестов, не узнавая Москвы, не находя привычных пристанищ, граяли мрачно, озлобленно. И даже благовест долетал с Ивана Лествичника робко и уныло, словно боясь напомнить людям, что беда произошла от церковного как раз колокола.
Киприан причины того, что произошло минувшей ночью, усматривал в другом.
— Это должно было произойти, это не могло не произойти, ибо непотребно так пьянственной напасти предаваться! — горячо, пожалуй даже излишне горячо, внушал он Василию. — Вот и Тохтамышево разорение Москвы по причине хмельного возлияния произошло. Не упейся тогда защитнички, не взять бы агарянам города. А Дмитрий Иванович всю вину на меня взвалил, выслал меня из Москвы на худой телеге. — Давняя обида не заживала в сердце Киприана, хотелось ему как-то обелить себя в глазах Василия.
В старании этом Киприан, как видно, переусердствовал: не только в изустных разговорах, а еще и в летописи под 6890-м со дня сотворения мира (1382-й от Рождества Христова) годом он повелел составителю свода в монастыре Николы Старого так изобразить пожар и разорение Москвы Тохтамышем, что во всем оказывался виноватым один лишь великий князь, который «отошел от Москвы в Кострому», бросив Город на произвол судьбы. Умудренный годами летописец, привезенный Киприаном из Византии грек, очень хорошо понял, какой свод желает видеть митрополит, и в свою очередь переусердствовал тоже — вместо «отошел» написал «убежал вборзе на Кострому», а события 1380 года изобразил таким образом, что выходило, будто на Куликовскую битву благословил Дмитрия Ивановича в Кремле не кто-нибудь, а самоперстно Киприан[36]. А ведь события-то те были свежи в памяти, и слишком хорошо было известно, что великий князь незадолго до начала грозных событий с позором, «на худой телеге» выпроводил из Москвы Киприана, который в те опасные и ответственные для Руси дни обретался то ли в Киеве, то ли в Константинополе. Но если переиначивание текста летописи, связанного с личностью Киприана, можно было если не простить, так хоть понять, то причины бесцеремонного вмешательства в рассказы о делах давно минувших скрывались завесами тайных помыслов митрополита. Данила не без злорадства наушничал Василию, что по велению Киприана при перебеливании летосказания Нестора в новом своде выпущено место о том, как при Владимире Мономахе съехались в Выдобиче русские князья и, обсудив жалобы купцов и ремесленников, вынесли такой закон. «Ныне из всея Руския земли всех жидов со всем их имением выслать и впредь не впусчать, а если тайно войдут, вольно их грабить и убивать». Василий напомнил Даниле его срам во время поездки к Витовту и Киприаново объяснение происшедшего тогда, высказал предположение, что, может быть, Киприану опять известно нечто большее, чем знал черноризец Феодосиева монастыря Печерского Нестор. Но про себя Василий решил, что непременно выскажет свое неудовольствие митрополиту, как только приточится для этого подходящий случай.
Такой притечей посчитал Василий как раз то раздражение, которое он испытывал, когда Киприан пытался объяснить страшный пожар города хмельным возлиянием москвичей. Получалось, что виноватым становился сам Василий, ибо началось общее пирование с его свадьбы.
— Не верна твоя притча, святитель! — Василий сказал это голосом ровным, однако со скрытым вызовом. Киприан его, как видно, не уловил, отозвался с прежней брюзгливой самоуверенностью.
— Говорил и говорить буду, не упивайтесь вином, в нем бо блуд есть!
— Говорить — говори, — неуступчиво продолжал Василий, — но зачем велишь дееписателю своему наинак историю Руси перелагать?
В карих глазах Киприана зародилось беспокойство, он уточнил осторожно:
— Что разумеешь, великий князь?
— То хотя бы, что во время принятия христианства Святой Владимир будто бы уверял послов, что веселие Руси есть пити и что будто бы никак не можем мы без хмельного жить.
Киприан с облегчением перевел дыхание, в глазах его опять появился дерзкий блеск.
— Так и есть, великий князь. Черным по белому написал самовидец, что Владимиру, когда прилежно выслушал он магометан, неприятно было обрезание и неядение свиных мяс, а о непитии вина и слышать не хотел, глаголя, яко в сих странах весьма сие неудобно, зане руссом есть в веселие и здравие от пития вина…
— Дальше?.. Следующие словеса какие? — настойчиво вопрошал Василий.
— Дальше?.. Дальше о другом вовсе..
— Нет, отче святый, не о другом. В летописи вот как, я читал, я помню: «…руссом есть в веселие и здравие от пития вина, с разумом пиемого». Зачем ты велел последние слова вымарать в своем своде? К Нестерову свитку уважительно относиться должно, он писал на родном русском языке, тогда как вся Европа, ты сам говорил, латынью одной пользовалась, а свое письмо вот только-только что заимела.
— Говорил, говорил!. Это верно, это так и есть! — В глазах Киприана родилась уж нешуточная тревога, он заметался взглядом, однако быстро нашелся: — Это, великий князь, значит, нерадивый перебельщик попался, добросовестность у него не занимает первого места, повелю наказать. А изъятые словеса повелю вернуть на место.
— Да, да, а еще повели изъять всю напраслину на отца моего, Дмитрия Ивановича Донского, возведенную, и под годом шесть тысяч восемьсот восемьдесят восьмым, когда игумен Сергий на рать с Мамаем его благословил, и под шесть тысяч восемьсот девяностым, когда ты ослушался приказа великого князя, самовольно Москву покинул, в Тверь побежал, — Василий Дмитриевич смотрел не мигая, голубые глаза его были жесткими и холодными. Киприан сразу вспомнил весь позор свой, перенесенный по воле Дмитрия Ивановича, подумалось, что и сынок его, пожалуй что, горазд тоже будет на бесчиние, да кабы еще не пожестче да не покруче оказался… И Киприан сказал с полным прямодушием, ни лукавства, ни дерзости не было в его карих терпеливых глазах, а только понимание и согласие:
— Да, да, повелю правду в летописании соблюсти, везде так написать, как было и как писано было сразу же. «Нача великий князь сбирать воя и совокупляти полки своа, и выеха из града Москвы, хотя ити против татар»… В том беда, Василий Дмитриевич, что пришлый я человек, обычаев всех не знал. Бросил я тогда Москву потому, что боялся за Евдокию Дмитриевну да за тебя с братцами, а того не ведал, что в отлучку великого князя обязан митрополит хранить город.
— Нет! — жестко перебил Василий. — Отец оставил именно тебя, потому что ты представлял всю Русь. Надо было, чтобы все видели: Русь едина, Литва тоже с ней заодно, а то ведь тогда там Ягайло власть взял…
— Да, да, — опять поспешно согласился Киприан. — Зело мудро сделал тогда Дмитрий Иванович. А мне невдомек было… Смягчается моя вина тем только, что не знал я исконно вечного русского обычая. Но поверь, великий князь, с той поры я блюл и буду блюсти все древнерусские правила доброго и честного поведения. Я нимало не хочу возносить церковную власть над светской, в чем корил меня Дмитрий Иванович, да простит меня тень сего великого человека, только тщусь по мере сил своих споспешествовать твоим земным делам. А дела ныне таковы, что нам с тобой не резон старые которы и распри вспоминать, оглянись-ка окрест: скорбь и уныние разлиты по Москве, подумай, как быть-жить христианам твоим.
Киприан намеренно сыпал соль на свежие раны — Василий, может быть, и разговор-то о летописях затеял только того ради, чтобы отвлечься от тяжких сиюминутных забот… Но прав митрополит нет сейчас ничего важнее, как эти заботы. Он велел сделать маленький, словно игрушечный, гробик для дочки Уды, дал вспоможение утлой старушке, но разве же этого лишь ждала от него Москва? Василий переживал некое оцепенение, нудное и тягучее, как тоска. Василий не мог решить, что делать ему, с чего начинать?
2
Два тиуна не успевали разбирать челобитные, а многие прошения требовали княжеского суда, но Василий отложил их на завтра, сославшись на многотрудность и хлопотность нынешнего дня. Да и то. с чего же все-таки начинать восстановление стольного города, как помочь погорельцам, где взять деньги и строительные материалы? Василий рассчитывал получить ответы на эти вопросы от своих высокоумных бояр и воевод, повелев Федору Андреевичу Кобылину, ведавшему делами посольскими и судебными, стоявшему во главе Боярской думы, собрать всех лепших и наибольших людей Москвы в четыре часа, после обеденного сна.
Кобылин оповещал всех правительственных лиц, подчеркивая серьезность и ответственность момента торжественными словами:
— Великий князь будет с вами добрую думу думать, коя пошла бы на добро Руси!
К вечерней службе в Успенском соборе должны прибыть по зову Сергия Радонежского все святые старцы — игумены подмосковных монастырских обителей, епископы и архимандриты.
И Владимир Андреевич Серпуховской чуть свет прискакал без зову, изъявляя всяческую готовность оказать подмогу столице великого княжества.
Вправе был рассчитывать Василий и на душевное участие брата своего Юрика, но тот озадачивающе себя повел: заявился утром с текстом докончальной грамоты — нашел время!.. И уж печать свою из черного воску навесил.
Василий скользнул глазами по тексту — обычные условия: не посылать приставов в чужой удел… дани не имати на братие уделе, сел не купити… Да, обычная докончальная с обычными положениями, заимствованными из прежних договорных грамот князей московского дома: быти… заодно и до живота, иметь общих друзей и недругов, держать великого князя во отца место, а тот в свою очередь обещает держати братию молодшую в братстве и в чести, без обиды… Впрочем, кажется, есть кое-что, есть…
Василий вчитался внимательнее. В грамоте, состряпанной Юриком, речь шла лишь о признании им, галицким князем, прав на великое княжение, на Москву и на Коломну одного только Василия, но не его детей…
Ай да Юрик!
Василий сделал вид, что не разглядел в докончании брата подвоха, стал читать грамоту вслух:
— «А в Москве нам жити по душевной грамоте отца нашего, а не обидети». Зачем сие написал? Боишься, что я инак поступлю?.. Все торопишься!
— Так ведь в отцовом завещании оговорено черным по белому: «…а отоимет Бог сына моего старейшего Василья, а хто будет под тем сын мой, и тому сыну моему стол Васильев, великое княжение».
— Наизусть задолбил?.. «Черным по белому», говоришь?.. Вот и святитель Киприан ладит… Ну, да разберемся после, кто и зачем черными чернилами чернит. Что тут еще у тебя? «На сем на всем целовали есми крест, по любви». М-да, прыток ты, брат. Но погоди, не на всем сем буду целовать я крест. Погляжу да подумаю. Проездил попусту ты, прикатил домой не солоно хлебавши, а тут умен и расторопен, своего не упустишь.
Юрик отлично понимал причины раздражения брата, потому-то так не вовремя явился — рассчитывал, что, озабоченный произошедшим пожаром, Василий бездумно подпишет грамоту и скрепит ее печатью да крестным целованием.
— Не до грамот сейчас, сам видишь. Потом вернемся к ней… может быть, — сказал ровным голосом Василий и добавил: — Сгорели многие ценные подарки свадебные, но кое-что осталось. Колыбелька вот… Говорят, в ней без сглазу дети растут. Родится у меня сын — твоим именем нареку.
Если это и могло служить утешением Юрику в его честолюбивых мечтаниях, то очень слабым. А скорее всего, такой оборот разговора его еще больше распалил: вместо того чтобы начать растолковывать смысл отцовского завещания, к чему Юрик был готов, старший брат вон какое колено выломал — «твоим именем»… Но он не выдал чувств своих, сумел сохранить появившуюся у него после поездки в Орду величавость во взгляде и в поступи.
Василий, с трудом сдерживая гнев и раздражение, ушел в Спасскую обитель, заперся в заветной келье наедине со своими беспокойными попечениями и гребтами. Здесь в тайном уединении предавался он отвлекавшему от горестных мыслей занятию — чеканкой, ювелирным рукомеслом. Но, конечно, никуда от мыслей заботных не деться, занимали они его целиком и полностью — просто наедине с самим собой побыть хотелось. Он открыл шкатулку, где заперты у него были золотые и серебряные заготовки, стальные пунзеля и пунсоны, увеличительное стекло, маленькие молоточки и молотки с заострением да шариками на другом конце, гвоздильня с множеством дырочек, подсека, наковаленка с двумя лапками по сторонам, пробойник, бородок, паяльник, ножницы и всякие приспособления для чеканных работ.
Вспоминал разговор с Юриком, думал, как же Москву отстраивать, а руки между тем привычно сгибали серебряную пластинку, ковали ее, пробивали фигурными зубильцами, а когда получилась почти готовая вещь, Василий сам удивился: перстенек, почти такой, какой он Янге дарил, какой она бросила в колокольную медь, только «соколиного глаза» не хватало… Вспомнил, что духовная грамота отца, на которую ссылается Юрик, скреплена печатью с великокняжеским титлом и словами пророка Давида: «Все ся минет». Зачем отец велел их написать, что хотел сказать ими? Перед смертью призвал отец Василия на путь старшинства, передал в руки его великое княжение — престол отца своего, и деда, и прадеда со всеми исконными правами, а братью молодшую наказал держать в чести и без обиды, а как исполнить это, не вразумил…
Не во всем и не всегда был Дмитрий Иванович понятен Василию при жизни, но и после смерти своей продолжал он загадывать загадки. Приходилось сыновьям их отгадывать и толковать каждому на свой лад, по собственному разумению.
3
Гарь, пепелища, пожарища… Пустошь на местах недавних пажитей злачных, и может показаться, что навсегда ушла отсюда живая жизнь. Но нет: там и сям уж возведены временные чертоги — сложены шалаши из обуглившихся досок, вырыты землянки в крутых берегах Неглинной, Москвы, Яузы. А на Варварке стучат топоры и тесла, визжат пилы — часть плотов по нерадению была оставлена в зиму в реке, вмерзла в лед, а сейчас кстати пришлась чья-то беззаботность, сбереглись от огня кондовые бревна.
— И Лондон наш, — говорил Василию с сочувствием британский посланник, — постоянно превращался также вот в пажу раскрытую, горел, как факел. Но когда последний раз при Иоанне Безземельном, брате Ричарда Львиное Сердце, пожар спалил вот так же почти весь город, научились англичане строить жилища из камня. И вам бы надо…
Василий слушал, соглашался. Да, как и стены Кремля, всю Москву надо сделать белокаменной. Есть вот Успенский храм, церковь во имя Ивана Лествичника[37], Архангельский собор, еще несколько построек из кирпича или природного камня. И не так уж это сложно: запасов белого камня в Мячкове хватит не на один город, мастера есть и в Москве, и в ближних уездах, а времени на строительство не особенно много требуется — Ивана Лествичника возвели, помнится, за одно лето, с мая по сентябрь, Архангельский собор — всего за пять месяцев…
— Отстроим и мы Москву белокаменную, — ответил Василий, но тут же и осекся, смолк: и деревянную-то не на что строить, совсем оскудела казна. Но не хотелось выглядеть жалким перед заморским гостем, добавил: — Однако ведь Лондон вы начали строить несгораемым не из-за того, что любите в каменных избах жить, а потому что весь лес на своих островах извели.
— Верно, великий князь, — скучно согласился посланник. — Под корень леса у нас вырублены, даже Темза вся голая, без раменья. Приходится из других государств бревна привозить — дороже камня обходятся. На Руси, ясно, не то, тут новую избу срубить ничего не стоит по дешевизне материала.
Британский посланник правильно мыслил, верно рассуждал. Основой русского жилища с самых древнейших времен была клеть — связь бревен на четыре угла, первобытная простота помогла ей уцелеть и по сей день. Летняя клеть холодна, но если в ней поставить печь с выпуском дыма в центре потолка, то станет она отапливаться и благодаря своей истопке станет истьбой. Такие избы и строят русские люди в Залесской земле как в простонародном крестьянском быту, так точно и в княжеском.
Великокняжеские хоромы в Кремле хоть и пострадали при пожаре, однако большинство связанных воедино хоромин, теремов, изб и клетей уцелело, даже и горница — горние, верхние покои над подклетями с красными, косящими (с колодами и рамами) окнами — лишь чуть закоптилась с набережной стороны. Сгорели сенницы, повалуши, крытые переходы, несколько погребов, медуш, скотниц и бретьяниц, но великий князь ввиду общего бедствия не считал себя погорельцем и молодой жене запретил выть и причитать. Надо было думать о том, как помочь несчастным подданным, к которым у Василия, по понятиям его пращуров, воспринятым им от отца как заданное и заповеданное свыше, отношение было совершенно отеческое; свои права и обязанности по отношению к подвластным ему крестьянам и ремесленникам, купцам и монастырским инокам понимал он как опекунство над меньшими, над малолетними. Но подданные подданным рознь: иных надо поддержать, а иных и приструнить. Каждый раз после сильных пожаров княжеским тиунам приходится разбирать множество спорных дел: власть и богатство имущие владельцы норовят поживиться за счет худородных своих соседей — отобрать у них землю и свои постройки да огороды расширить. Оттого-то и Москва имеет столь кривые и разной ширины улицы со множеством переулков и тупиков. Приходится частенько определять худородных бедолаг на новые места, благо в Москве еще много чистых полей: когда-то было городище и вокруг него семь сел — Кремлевское, Драчевское, Лыщиновское, Чертольское, Андреевское, Сетунское и Симоновское, затем все они стали Москвой, но поля между ними остались, тянутся вдоль главных улиц и дорог.
На Боярской думе решено было отрядить три тысячи подвод с плотничьими старостами в Брянские раменные леса по Оке, а также на Угру, Жиздру, чтобы успеть до весеннего вскрытия ближних подмосковных рек и речушек привезти по льду сколь можно больше строевой древесины. Подсчитано примерно, сколько требуется купить рыбьих пузырей для паюсных окон, а пока их будут доставлять с севера, решено ставить избы с окнами волоковыми — узкими щелями под потолком, через которые должен выходить дым и которые после топки печей задвигали, заволакивал и доской. Сколь ни скупо считали, но наличных денег у великого князя не хватало на строительство нужного числа даже поземных и черных, то есть курных, срубленных прямо на пошив изб. Решено было немедленно разослать данщиков и вирников по вотчинам и уделам для сбора ордынского выхода, который можно было пустить пока на внутренние нужды, а к весне восполнить его за счет городских доходов и оброков с крестьянских дворов.
Василий с особым пристрастием опросил всех своих путных бояр, самолично вник в хозяйство всех приказов, и не зря: и чашник, оказывается, давно уж не наведывался в леса на промыслы к бортникам за данью, и дворецкий, и казначей, и конюший, и стольник, и сокольничий с ловчим — все правительственные люди хоть в какой-нибудь, но могуте оказались, у каждого нашелся запасной оплот, прибереженный на судный день. Всем волостителям, наместникам и посадникам велено было увеличить мытные и весчевые пошлины, ужесточить поборы на рынках, на перевозках, на конском пятнении, а также на крестьянских дворах — с дыма, от плуга, от орала. Хоть тоненькими струйками, но потекли дополнительные деньги в княжескую казну.
Без зова пришли в Кремль монастырские старцы во главе с преподобным Сергием. Василий встретил их с подобающей честливостью и вежеством, однако нимало не обнадеживался на счет получения от монастырей какого-либо способления.
Разные достоинства служат мерой стоимости человеку. Если ты земледелец — как хорошо платишь оброк, как вооружаешь воина для рати. Купец ты — какими средствами владеешь. Ремесленник — каково мастерство твое. Разных людей объединяет дело, и цена отдельного человека определяется умением это дело исполнять. У святой братии личность ценится за нравственные качества. Киприан вон расстарался, а что проку — только и помощи от него, что обедни с молебнами да назидательные проповеди. Ну и утешает еще словами святителя: «Кто удостоится Божией помощи, тот и среди бед посмеется им и не поставит их ни во что, потому что Господь все творит для него и благоустрояет, во всем споспешествует ему и тяжкое делает легким». Так-то оно так, но тот же Иоанн Златоуст предостерегает: «Бог Своими дарами не предваряет наших желаний, но когда мы начнем, когда обнаружим желание, тогда и Он подает нам многие способы ко спасению». Значит, надо прежде начать, а как — этого Киприан не знает. А с сирых монахов и вовсе нечего взять. Так думал Василий, но он счастливо ошибся.
В ризницах иных обителей хранилось, оказывается, кое-какое серебришко, пожертвованное некогда мирянами, его сейчас и привезли монахи великому князю для чеканки монет.
4
Самый большой взнос — триста рублей — сделал настоятель Симонова монастыря Кирилл. Тот самый Кузьма-Кирилл, которого Василий знал сначала как расторопного управляющего при дворе окольничего, а потом в непотребном облике юродивого: был он, как то и предсказывал Сергий, рукоположен в священники. Подобно своему предшественнику Федору, назначенному ныне архиепископом в Ростов, и любимому наставнику Сергию Радонежскому, держал Кирилл монастырь по тому же киновийскому уставу, однако в нестяжательности пошел даже дальше своих учителей. Он не позволял монахам иметь в личном владении ничего — даже и корыто запрещал держать в келье, даже и воду для питья. И все дары князей и бояр отклонял, была обитель его нищенски бедна, пробавлялась милостыней да слабыми трудами иноков. А триста рублей — их Кирилл словно бы нашел нежданно-негаданно. Так получилось.
Утром, как обычно, у красного крыльца собрались бояре Василия, ждали его выхода. Как обычно, он пригласил их в сени, где дал разные поручения, согласно их путям хозяйственного управления, затем стал выслушивать жалобы и челобитные купцов, крестьян, мастеровых людей. Челобитчики излагали свои просьбы перед князем и его боярами. Василий опрашивал истцов и ответчиков с их свидетелями, послухами. Разобрав все прошения в совете и согласии с боярами, поставил свои решения. Дела и делишки разнообразными были, однако несложными, решались на месте и устно, так что оба дворовых дьяка без дела стояли. Но под конец объявилась тяжебная ябеда, разобраться в которой оказалось не просто.
Посельский боярин Васьян Лукин бил челом великому князю, утверждая, что крестьяне Кузьма и Семен Узкие поставили починок на его заполицах, и требовал починок сметать. Братья-землепашцы, однако, уверяли, что посадили свои дворы не на заполицах, не на залежных землях, а на месте, заново вычищенном из-под леса, что они землю сильно поорали, житом посеяли.
— Никакого почина, господине, они не сделали, — спокойно стоял на своем Васьян, — а сели на мою пустошь с пепелищами и дворищами.
— Не печищь, не дворищь! — горячились братья. — Не пашенной земли. Лес мы рассекли и сели ново, деревню свою назвали Новосильем — в знак того, что раньше тут никто не селился.
— Верно ли, что деревня зовется Новосильем? — спросил строго тиун у боярина. Тот несколько смутился вопроса, вынужден был согласиться, что деревня под таким именем известна, однако привел новые доводы в свою пользу.
— В сутокех, где две речки в одну сливаются, старый камень мой лежит.
Братья Узкие готовы были к этому, отповедали:
— В сутокех мы надумали плотину городить, мельницу ставить, камень этот сами привезли летошный год, а пособляли нам хрестьяне Гаврил Кожа да Карп Фалалейков. А еще то подтвердить может и Торопец Панафин, сын Заходов.
Казалось, крестьяне были близки к тому, чтобы выиграть тяжбу, но хитрый боярин достал из кожаной калиты, что была пристегнута у него на поясе, бумагу, положил ее на столешницу перед тиуном:
— А во се грамота, даденная мне игуменом Евфросином, что починок ихний поставлен у монастырских деревень на заполицах, где печища старые, и они те печища и пашут.
Крестьяне дружно пали на колени перед великим князем, Кузьма сумел приложиться к руке Василия, а брат его Семен Узкий стал горячо убеждать:
— А пожалуй, великий князь и ты, господин судья, обозрите той земли и заросли, были ли там печища, пустошь да дворища, да борозды загонные, да изгорода старая?.. И пахотные земли, и плужные, и сошные по той пожне и по зарослям есть ли?
Боярин выслушал это спокойно и еще один пергамент достал:
— А во се грамота боярина, который землями этими владел, а потом монастырю пожаловал.
Это был страшный удар по братьям: оказывались они кругом не правы, хотя поди знай, прав ли боярин со своими грамотами. Но боярин в своей волости полный господин, а смерд всегда смерд, холоп всегда и везде холоп. Всегда и везде вдет скрытая или явная борьба людей мизинных с людьми наибольшими, и всегда и везде побеждают наибольшие.
При тяжбе присутствовал Кирилл, который в числе иных монастырских старцев стоял в сторонке, молча слушал про боярина с братьями-земледельца-ми. Когда Васьян Лукин вынул вторую грамоту, Кирилл вышел вперед, заглянул в пергамент и отмолвил:
— А ведь это земли-то мои, моих покойных родителей. Есть ли у тебя, боярин, купчая?
Васьян сначала высокомерно посмотрел на Кирилла, одетого в разодранную и многошвейную рясу, но сразу понял, кто перед ним, засуетился:
— А во се… А во се…
— Купчую на триста рублей с пополонком должно иметь, — сурово уточнил Кирилл.
— А какой пополонок? Кажись, корова с телком?
— Видишь, значит, ведомо тебе и о добавке к деньгам, а твердишь свое «а во се»[38].
Васьян Лукин понял, что проиграл тяжбу, но расставаться с облюбованными землями, которые он уж привык считать своими, было ему жаль, и он выразил желание немедленно заплатить требуемую сумму имеющимися у него новгородскими серебряными гривнами.
Крестьянам он возместил, тоже серебром, их затраты на починок, на постройки клетей и хозяйственных дворов.
Братья Узкие в растерянности мяли в руках свои овчинные шапки: и радостно было, что жадоба-боярин наказан, однако ведь как бы и не их верх-то все же оказался… Но Кирилл еще раз выручил их.
Передав триста рублей в княжескую казну для возведения новой церкви в Москве, он объяснил, зачем пожаловал в Кремль. Узнал Василий, что Кирилл ничуть не увлекся своим новым положением игумена и остался таким, каким был прежде, смиренным и кротким с иноками, почитая старых, как братьев, и любя молодых, как детей. Вследствие почитания, которым он пользовался в Москве, в его келье всегда были люди. Все шли к нему со своими заботами, со своими делами, но и с бесконечной болтовней. Кирилл всех принимал, всех выслушивал, всем давал советы, однако смиренная его душа смущалась от шума и суеты. Хотя было ему уже шестьдесят лет, душа его жаждала новых аскетических подвигов. Много удивлялся Василий прошлой зимой, когда увидел Кирилла беснующимся юродивым. Хоть внятно говорили Сергий с Федором о причине такого перерождения кроткого монаха, однако не сразу понял Василий, что бывшим управляющим Кузьмой руководило сознание страшной виновности его перед Богом, что надобны огромные силы для борьбы с гордынностью души в ее самых тайных и скрытых проявлениях. Сумел Кирилл попрать тщеславие монашеской аскезы, нарочито отверг внешний образ добродетели и душевного покоя, и попервости даже игумен Федор не понял и не оценил его, прибегал к насилию над ним, только проницательный Сергий из Радонежа разглядел причины, по которым примерный монах добровольно принял на себя унижения и оскорбления: братия монастырская насмехалась над ним, мирские люди с презрением смотрели на юродивого, а он оттого чувствовал себя все более смиренным, кротким и благостным. Эта же причина, понял Василий, толкнула Кирилла сейчас уйти от игуменства, даже и вовсе с глаз людских скрыться.
Без удивления, с полным пониманием отнесся Василий к просьбе Кирилла дать ему охранную грамоту для беспрепятственного поселения на севере, где-нибудь возле Белого озера, он только поинтересовался: почему именно туда, а не куда-нибудь в иное глухое место? Кирилл не сразу ответил. Хотел сначала рассказать о том, что слышал он глас Пречистой Божьей Матери и видел идущий с севера свет, когда в минуту душевного согласия читал акафист «Отрешимся от мира, вознесем помышления к Небу». Но не стал своей тайной делиться, боясь опять же обвинений в гордынности или избранности, попросил кротким взглядом, чтобы великий князь не настаивал на вопросе. Получив молчаливое согласие, сказал с большой живостью, с душевным облегчением:
— А к тому же… — Тут он опять кротко и виновато взглянул в глаза Василию, чуть осекся голосом, повторил: — Да, к тому же вот брат Ферапонт послан был мной по делам монастырским в дальнее Заволжье и зело хвалит те места. Отмолви-ка сам, Фоня — слуга Божий[39].
Седой, кроткий видом инок вышел вперед:
— Земли там никем не заведомые — ничья княжеская нога не ступала, ничья христианская рука не махала. В лесу зверя видимо-невидимо — на каждом дереве соболь либо куница. А рыбы в реке — ковшом можно черпать, даже медведи ее с берега лапами гребут! Гребут и едят, прямо на бережке. Оттого, верно, мясо у тех медведей не вкусно, рыбой шибает, но и ягодников да мед ведающих косолапых пропасть. Всякой живности многое множество.
— А когда так, то крестьянам там место найдется? — спросил Кирилл и посмотрел на все еще в растерянной позе стоявших братьев Узких. — Там широко можно хозяйствовать.
Старший из братьев Кузьма первым нашелся:
— Куды как с добром! — Подумал чуток, взвешивая в уме неожиданный поворот дела и уже, видно, представляя себя сначала в дальней дороге, затем в новой насельнической жизни. Вдруг чело его омрачилось: — Вот грех какой: брательник у нас скуден телом, а в доме сам-пят. Надоть подсобить ему. Земличку житом он сам засадит, а вот подворье изжилось у него — анбар надо поновить, в скотном дворе какую малость, крышу на погребе перебрать..
— А Божьи-то люди небось тебя ждать станут! — поддержал понявший очень хорошо брата Семен. — Где уж нам самим дорогу в райскую землю отыскать…
— Мы погодим, — успокоил братьев Кирилл. — Не нынче и не завтра мы и сами отправляемся.
— А я вас снабжу жалованной грамоткой на огнищенское земледелие, — сказал Василий, и братья дружно стукнули лбами о пол.
— И нам с Ферапонтом, княже, — напомнил Кирилл. — Мы ведь уж с братцем твоим князем Андреем можайским межевую разъезжую грамотку скрепили по случаю развода его со старцами монастыря близ Судищного пути. Нам теперь охранная грамотка твоя надобна, поелику Андрей — князь удельный, под твоей державной рукой.
— Самолично Андрюшка грамотку скрепил? — усмехнулся Василий.
— Бояре его, но печать сам навесил — конь на ней скачущий, надпись: «Князь Андрей Дмитриевич».
— Удалец! Родился, помню, прямо перед самым приходом Тохтамыша в Москву… Конь, говоришь, скачущий?.. Ну что же, пора, прошел уж Андрюшка посажение, восьмой годик… — Василий говорил, а сам что-то на уме держал, решался на что-то Кирилл слушал с недоумением, ждал ответа на свою просьбу. Понял все, когда великий князь подозвал дьяков и велел одному из них писать для крестьян грамоту охранную, а другому для монахов — несудную, которая освобождала Кирилла в тяжбе с посторонними людьми от подсудности наместникам и волостителям и давала ему право судиться лишь прямо с самим великим князем. Хорошо знавшие свое дело Тимофей Ачкасов и Алексей Стромилов дружно заскрипели гусиными перьями.
Как всякие великокняжеские грамоты, эти две тоже засвидетельствовали два боярина — Иван Всеволож и брат Данилы Степан Плещеев, чтобы в случае какого недоразумения Кирилл и братья Узкие могли сослаться на этих бояр и их показаниями освидетельствовать, что грамоты истинные.
Великий князь знал, что делал. Знал он, что когда едут в новые края княжеские люди, то края эти оживают на глазах: расчищаются глухие дебри, пришлые люди селятся на новях, сеют хлеб на огнищах, основывают промыслы, и в результате в княжескую казну начинают течь новые доходы. И не мудрено, что начинает казаться князю, что все эти новины и починки — его личная заслуга, его рук дело, и уж во всяком случае — его личная собственность. Здесь у него не будет подданных, а для насельников не будет он государем, но будет хозяином, а они — его работниками, вольнонаемными слугами. А раз будут жить они на его земле, то будут ему и подчиняться, у него искать суда, ему жаловаться на обидчиков, ему платить дани и оброки, какие он будет назначать как признанный собственник земли. Если им не понравятся его порядки — вольному воля: не совершая никакой измены Василию, просто переходя к другому хозяину, могут они уйти хоть к тверскому, хоть к рязанскому, хоть к новгородскому князю, хоть к ярославскому или суздальскому — путь между княжествами чист, без рубежей. В чьем княжестве жил русский человек, тому князю и платил подати, у него и судился. Сами князья друг на друга не в обиде за это были: они одного рода, все люди русские, говорящие одним языком, исповедующие одну веру. На новые земли пусть пока едут крестьяне да монахи, а мало погодя, когда появятся виды на какие-то доходы, направит туда Василий и бояр своих — волостителей и наместников, которые станут управлять землею его именем, получая за это часть сборов — кормления, как и будет именоваться их служба. И уж что касалось бояр, то они не могут перекинуться к другому князю — это уж измена. Отъехать они могут только по истечении договорного срока, а до той поры, любо это им или нелюбо, должны блюсти интересы московского князя.
5
Василию было очевидно: главное, что сейчас ему необходимее всего, — это серебро. Много серебра — и на внутренние нужды, и на торговлю, и на ордынский выход, и на покупку ярлыка на Нижегородские земли (Василий Румянцев прислал новую тайную грамоту, в которой сообщал, что Борис Константинович всячески старается умаслить Тохтамыша). Серебро нужно было и в слитках, и в изделиях, и в монете.
Русь никогда не имела серебра собственного, зато владела такими товарами, которые ценились на вес этого металла и даже дороже: сколько шло в Европу мягкой рухляди — соболей, серых белок, горностаев, степных лисиц, куниц, бобров, крашеных зайцев, столько и серебра вывозилось с западных рынков. Потому и стала Русь богатейшей страной. Прочесть можно в старых книгах, что Владимир Мономах был в состоянии поднести своему отцу обеденный подарок в триста гривен серебра, а сын некоего Шимона, пожелав оковать гроб святого Феодосия, мог пожертвовать на это пятьсот русских фунтов серебра и пятьдесят фунтов золота[40]. Но пришли хищные степняки, и вот уж сто пятьдесят лет течет серебряная река ордынского выхода, даже и малой части его татаро-монголам хватило для того, чтобы организовать невиданно массовую для бедного на серебро Востока чеканку джучидских монет. Немудрено, что оскудела ныне Русь. Кое-что, конечно, сбережено: монахи и священники вот пожертвовали, у мирян тоже нашлось серебришко в тайных погребах — несут сейчас погорельцы, просят великого князя отчеканить монет хоть исполу. Но как бы ни много было этих погорельских половин, все это лишь крошки, из которых кучи не соберешь. А чтобы чеканку денег вести, много кадей металла надобно запасти, это знает Василий не понаслышке, а по той пробе битья русских копеек, которую начал отец десять с лишком лет тому назад.
Русская монета отбивалась во времена Владимира Святославовича и Святополка. После прихода татаро-монголов на рынках совершенно исчезли металлические деньги не только собственного чекана, но и иноземные. Роль их исполняли пушнина, кожаные «жеребья» и даже женские украшения, каменные и свинцовые пряслица. Русь была унижена, но не покорена: в истекшие полтора столетия она прошла путь от удельной раздробленности к созданию национального государства во главе с Москвой, от грабительского разорения татаро-монголами к решительной победе над ними на Куликовом поле, от разрушенного до основания хозяйства к возрождению на новом, более высоком уровне. И вот настал момент, когда Дмитрий Иванович решил, что можно перекрыть реку ордынского выхода и начать чеканку своей монеты, не боясь, что она из-за сырьевого голода быстро иссякнет, распылится по всей обширной территории Восточной Европы. Василий хорошо запомнил, что для этого отцу пришлось накопить загодя большие запасы серебряного лома.
Сейчас нужного количества серебра не было — Василий раздумывал, колебался, не решаясь приступить к чекану денег, хотя нужда в этом была острой.
Многомудрый боярин Кобылин посоветовал пошарить в сокровищницах купцов, которые одни только и могли копить и придерживать имеющий постоянную и повсеместную стоимость товар — серебро.
К гостям — купцам иноземным, живущим в Зарядье суконникам и сурожанам, можно было обратиться лишь за займом, посулив им большой барыш. Закабалять себя не очень хотелось, потому Василий решил начать с русских торговых людей. Они, конечно, не в пример гостям, были бедны и робки. В Киевской Руси торговля некогда процветала, но здесь, в земле Залесской, она так и не смогла по-настоящему развернуться, ибо некуда и нечего было возить на продажу. С полуденной стороны запирает Русь беспокойная степь, с закатной грозит враждебный и скорый на захват чужих земель Запад. И на две другие стороны света не подашься: на рассветной — хищные азиаты да непроходимые пустыни, на полуночной — вечная мерзлота тундры, льды Студеного моря. В смутное время торговля не обеспечена особенно, а оттого ведется лишь мелкая торговлишка. Порой из города выглянуть страшно: в каждом лесу разбойник ждет, в каждом овраге душегуб караулит. Далеко с караваном не отправишься: что успел одолеть за светлое время суток, не остался гол да нищ — и то слава Господу! Да еще в каждом городе свои порядки, свои мытники и тиуны, разоришься на одних поборах.
Конечно, хорошо, что есть на Руси множество рек и речек — это множество торговых путей и тропинок, однако как выбраться на широкую купеческую дорогу? Помочь сделать это им мог только великий князь, а за помощь надлежит благодарить… А чем, кроме серебра, может купец отблагодарить государя? Это и имел в виду старейший боярин Кобылин по прозвищу Кошка.
Василий начал с самого богатого и известного на Руси купца, давнего Киприанового знакомца Игнатия, того самого, что первым привез в Москву известие о страшном поражении южных славян на Косовом поле. Игнатий много лет ходил торговым путем через Сурож и Трапезунд в Персию, Малую Азию, на Константинополь. Когда он шел из Руси, его товаром были мягкая рухлядь, юфть, однорядки, шубы, холсты, воск, рыбий клей и рыбьи зубы, бобровая струя, амбра, мед, мечи, кольчуги, ножи, седла, стрелы, посуда, а также иногда и рабы. Обратно он вез ткани и вина, красители и благовония. Теперь, когда Балканы подпали под турецкое владычество, Игнатий решил больше не ходить южным торговым путем, а поискать новые — в западные страны. И оказалось, что в этом своем стремлении он руководствовался не одной лишь своей выгодой или простым желанием, но интересами Руси: серебро можно было заполучить только на рынках Европы. И был умен Игнатий, и умел мыслить по-государственному.
События на Косовом поле интересовали Василия, но особенно волновали они Киприана, который начинал свою службу в тех местах и бросил их, поменяв на Русь, после немалых колебаний. Теперь вот оказалось, что решение его было очень дальновидным: над Сербией вместо православного креста водружен магометанский полумесяц.
— Сербы, босняки, болгары, валахи, албанцы сражались с изумительным мужеством, — рассказывал очевидец битвы Игнатий, — однако потерпели страшное поражение. Они были сильны и, наверное, одержали бы победу, если бы не исконный славянский порок — разлад и несогласие среди воевод. В войске предводителя сербов князя Лазаря были добродетельный герой Милош Обилич и злой Вук Бранкович. Обоим им было суждено сыграть видную роль в Косовой битве. По чьему-то наговору князь Лазарь обвинил Милоша Обилича в будто бы задуманной им измене. Милош отразил обвинение и заявил, что измену задумал не он, а Вук Бранкович, а он же намерен во что бы то ни стало убить султана Мурада. Так и произошло. Сербы бились храбро и мужественно, но победа была не на их стороне. Пал старый Юг-Богдан со своими девятью сыновьями и со всем своим войском, погибли и Мрнявчевичи со своими дружинами. Такая же участь постигла и герцога Стефана. Но сам князь Лазарь еще оставался жив и мог бы еще победить, но проклятый Бранкович предался туркам, погибло все славное войско Лазаря, а сам он принял мученическую кончину. Когда султан Мурад осматривал покрытое бесчисленными трупами поле битвы, из груды убитых поднялся Милош Обилич. Он приблизился к Мураду как бы для Приветствия и ударил его кинжалом в живот. А имя Вука Бранковича вызвало во всех Балканских землях горькое проклятие. — Так закончил Игнатий рассказ о Косовой битве, да вдруг и спросил: — А верно ли, великий князь, говорят, что брат твой Юрий галицкий уже начал бить свою серебряную деньгу?
Для Василия это было неожиданностью. Правда, он говорил Юрику, что надо будет начать чеканку монет не только в Москве, но и во всех удельных княжествах, благо каждый князь имеет право делать это, даже и полуторагодовалый Константин, чье «государство» состоит из ничтожных братниных наделов — одного сельца с одноглавой церковью да двух крестьянских дворов. Юрик поторопился заиметь собственные деньги раньше самого великого князя — это само по себе не вызвало бы недовольства Василия, если бы он не догадался сразу же о причинах братниной поспешности.
Когда Василий объявил дяде Владимиру Андреевичу и братьям о своем решении начать чеканку монет, то сказал, что он сам, как великий князь, обязан на лицевой стороне деньги печатать имя Тохтамыша, а они все, князья удельные, имеют право свою зависимость от Орды не выражать, ибо зависимы лишь от великого князя московского и лишь через него могут сообщаться с татарским ханом. Тонкость эту не все знают, вот Юрик и решил выхвалиться: смотрите, какой я смелый — сам по себе князь!
Василий, однако, не выказал своей досады и слукавил перед Игнатием, ответив:
— Мне ведомо это. Серебряная копейка Юрика будет пока лишь в его уделе обращаться, пока мы не напечатаем денег в довольном обилии. А для этого надобен нам металл многоценный…
Игнатий понял все. Он, собственно, заранее знал, зачем зовет его великий князь, и даже обговорил уже свои намерения с другими русскими купцами, а сейчас поделился ими:
— Мы сдаем в казну свое серебро, а ты нам взамен перепечатаешь «кожаные деньги». — И он показал связку старых беличьих шкурок, на которых не было шерсти и которые решительно ни на что не годились. — Каждая скора должна иметь беличью головку и не меньше двух лапок, тогда она сойдет за «деньгу». Восемнадцать таких белок идут за алтын[41], если ты, великий князь, подвесишь сбоку на шкурке кусочек свинца со своей печатью. Конечно, в Риме или Париже даже за целую телегу таких «денег» не отпустят хотя бы и один пирожок с аминем или одну стеклянную бусинку, но в наших северных землях на них можно все покупать, за них можно все продавать. Мы отвезем зырянам хлеба, ремесленных поделок и этих «денег», а у них в обмен заберем накопившуюся мягкую рухлядь: давно там уж не было купцов.
— А пушнину повезете в Рим да Париж?
— Ну да, — весело улыбнулся Игнатий, — и вернем себе все серебро, которое сейчас тебе уступаем.
— А Стефан Пермский не оскорбится за своих прихожан? — вставил слово Киприан. — Они вам белок, а вы им гнилые шкурки…
— Нет, святитель, не просто это шкурки, но с царской печатью. А торгуют они только между собой — мясом, рыбой, хлебом, квасом, медом, — им и не надобно серебро.
— Однако Стефан в последний свой приезд в Москву попросил у меня несколько монеток, значит, надо им? допытывался митрополит.
— Да, да, — согласился Игнатий, — надо. Они монетами закрывают глаза убитому медведю, чтобы тот «не видел», как они будут есть его мясо, и не причинил бы им потом за это никоего вреда… Они-ведь, как дети, пермяки-комики-то… Я был там. — Игнатий, как все купцы, был словоохотлив, любил рассказывать о землях, в которых побывал, о людях и обычаях, с которыми познакомился.
Василий слушал его, а сам радовался неожиданно удачному обороту дела: подмога купцов может быть очень существенной.
А впереди великого князя ждали между тем и другие славные неожиданности. Предстояло ему воочию убедиться, что привычка жить заодин, всем в единстве, как один человек, составляет главную идею народа, объединенного словом: Москва. Привычка не искать опоры на стороне, а надеяться на себя, на собственные силы и возможности и выработала на Руси ту особую народную твердь, при которой жертвенность и единомыслие столь естественно проявляют себя сразу же, как того потребуют обстоятельства: в дни стихийных бедствий ли, в уплате ли проклятого ордынского выхода, когда надо лишать себя и собственных детей куска хлеба, чтобы наскрести полтину с дыма, в случае ли необходимости собраться всем от четырнадцатилетних отроков до шестидесятилетних старцев — всем, кто только способен держать в руках копье, и в едином душевном порыве выступить против Мамаева сброда… Нет, неспроста Дмитрий Иванович в грамотах своих духовных да договорных многозначные обмолвки допускал: «А если нас Бог избавит, освободит от Орды…», «А если отдалится от нас Орда», «А если переменит Бог Орду» — великий князь выражал чаяние не свое личное, но всенародное, он крепко стоял на своей русской земле и крепко верил в нее. Вера в народную твердь одномыслия и готовности быть всегда заодин впервые остро ощутилась Василием именно сейчас, когда он при виде несчастной Москвы начал было предаваться унынию и отчаянию, и часто повторяемый Киприаном и отвлеченно звучавший псалом «Основаяй землю на тверди ея» стал сейчас наполняться смыслом вполне определенным.
6
Не просто было Василию решиться на начало массовой чеканки монеты: дело новое, неведомое, а воспоминание о недавнем сраме с литьем колокола было слишком свежо. Он часто рассматривал отцовскую копейку, на лицевой стороне которой изображен святой Георгий с копьем, а на оборотной кудреватый вензель, очень похожий на решето, подбрасывал монетку в воздух и, зажав ее в ладонь, ворожил: «Копье аль решето?»
— А у нас, — говорил британский посланник, — когда предают себя в руки судьбе, загадывают: «Голова или хвост». — И протягивал Василию бронзовую денежку с изображением государя на одной стороне и льва с хвостом на другой. Увещевал: — Чеканка денег — дело не хитрое, любому ювелиру, даже и малоискусному, по силам.
И француз один, выдававший себя за бывшего главного гравера королевского двора, а ныне подвизавшийся по купеческой части, показывал золотого «ягненка» и хвастал.
— Моя работа… Хоть из золота, хоть из серебра могу. А надо, так и деньги для нищих — медные — отолью, только прикажи, государь.
Про умение отливать говорил и толмач ордынский.
Федор Андреевич Кобылин мрачно слушал всех, отговаривал Василия, прибегнув даже к грубоватой лести:
— Мы с тобой, княже, и сами в ювелирном рукомесле искусны. Ты вот и кованью, и кузнью володеешь, любую оборонную работу можешь исполнить, хоть прорезную, хоть чешуйчатую или ячейчатую… И грановитая у тебя идет, и дорожчатая получается, и ложчатая — всякая. А я еще при Дмитрии Ивановиче деньги бил — без всякого отлива, из проволоки.
Василий все это знал, однако колебался: «Копье аль решето?» И то понимал, что негоже играть в отгадыши, что никак не можно наобум такое дело пустить, все надобно хорошо размыслить да рассудить.
По настоянию Кобылина он решительно отказался от услуг иноземцев и, стало быть, от принятого на Западе и в Орде способа чеканки денег из заранее отлитых монетных кружочков. Стали искать по всей Москве серебряных дел мастеров, которые бы помнили, как отбивали монеты при Дмитрии Ивановиче. В числе отцовского наследства были золотые утвари «Макарова и Шапкина дела», однако ни этих мастеров, ни их потомков отыскать не удалось. Но нашлось, однако же, много таких людей, из которых Василий смог самолично отобрать будущих весцов и ливцов, плющильщиков и бойцов, плавильщиков и резчиков штемпелей, чеканщиков и подкладчиков пластинок, а также тех, кто будет заниматься проволакиванием серебряной проволоки, подбором с полудорогого copy — пленочек и брызг серебра вокруг наковальни бойца, колоды чеканщика.
Много требуется людей умелых, знающих и надежно честных. Все они поступали под руку Кобылина, который и занимался всей организацией дела над Набережным садом близ Боровицких ворот. Данила Бяконтов, как видно, чувствовал себя уязвленным, хотя и не хотел выказывать этого, старался вид такой сделать, словно бы Кобылиц и не заехал его, держался с показным высокомерием и позволил себе в присутствии Кобылина сказать:
— Василий Дмитриевич, хоть и надежны чужие люди, однако свое пасти надо.
Федор Андреевич отповедал добродушно:
— Что же ты колокольную медь-то не пас? По всей Москве разбежалась…
Василий примирил бояр:
— Будешь, Данила, казначеем, ты деньги-то считать зело борзо умеешь, помню, в Подолии…
Данила взмолился взглядом, и Василий не стал выдавать своего приближенного любимца, добавил строго, по-деловому:
— Деньги складывай в кади и опечатывай. Расчет с купцами и издольщиками ведите вдвоем, чтобы ни их, ни меня не обмануть.
Ордынский толмач вился возле Кобылина, как оса возле дыни, норовил в доверие войти, сообщал как словно бы великую тайну:
— В том году, когда вы Мамая разбили, хан Тохтамыш провел в Сарае монетное преобразование. Вместо тех денег, что при Узбеке и Джанибеке чеканились, он новые серебряные монеты ввел. А со старыми знаешь как поступил? О-о, мудрый Тохтамыш!.. Он старые дирхемы обрезывал в знак своей власти и пускал вторично в обращение. А срезанное серебро — в казну, для новых монет! Каково? Подскажи великому князю, пусть так с отцовскими деньгами поступит.
— У нас их мало осталось.
— Когда объявите народу, что необрезанные деньги недействительны, сразу много прибудет.
— Нет, казнь обрезания отцовых денег наш великий князь не допустит!.. Фряжский гость посоветовал ему тайно плавку серебра чем-то разбавить, но Василий Дмитриевич отповедал: «На подмесы мы не пойдем».
Ордынец опечалился — видно, очень хотелось ему на новый монетный двор проникнуть: выведал бы все, да, глядишь, притом какая-то толика серебра бы к рукам пристала.
Не только фряжский гость да ордынский толмач не видели ничего дурного ни в казни денег, ни в злом примесе, даже и митрополит Киприан посоветовал Василию не выдерживать очень уж строго монетную стопу. Сделал он это, по своему обыкновению, очень хитро, невзначай словно бы и преследуя свои более дальние цели.
7
Приступили к чеканке после торжественного молебна с крестным ходом, в котором участвовали великий князь с великой княгиней, все знатные бояре, митрополит с епископом и церковным причтом; со святыми иконами и хоругвями, мощами, кадилами, дароносицами, с пением толпы и молитвами священнослужителей и богомольцев явились все к Набережному саду.
Кобылин дал знак денежным мастерам, и работа пошла дружная, слаженная, быстрая — веселая работка! В плавильную печь загружали лом серебра — то, что было когда-то кубками, ковшами, чашами, блюдами, ожерельями, цепями, поясами, украшением конской сбруи. Расплавленный металл выпускался в глиняные опоки, где получались серебряные прутки. А дальше — самое интересное.
Серебряные прутки надо протянуть через волочильную плиту в проволоку, из которой потом нарубить чурок — монетных заготовок. Сначала пробовали делать это с помощью испытанного ворота, но то ли воспоминание о недавнем литье колокола угнетало, то ли что-то не рассчитали, но ворот то рвал проволоку, то вытягивал ее разной толщины, что никак не годилось, ибо ради одинаковости веса будущих монет вся затея с проволокой и была начата. Кобылин уж стал подумывать, не отказаться ли от проволоки да не начать ли литье монетных кружочков, но нашелся среди л и в — ц о в, как всегда находится в рабочей артели, человек бывалый, на выдумки гораздый. Присоветовал этот глуздырь волочильную плиту укрепить на двух низких деревянных пеньках так, чтобы работник мог садиться перед нею на подвешенные к высоким столбам качели, держа в руках клещи. которыми захватывал проволоку у самой плиты. Сам же этот глуздырь и работать вызвался, уцепив выглядывающий из волоки конец серебряного прутка, он что было мочи отталкивался ногами от столбов, улетал на качелях задом наперед и крепко держа клещами тянущуюся следом проволоку. Как только чувствовал, что качели больше не понесут его, а, напротив, свалятся вниз, отпускал клещи, мчался вновь к волочильной плите, где начинал все сызнова. А весцы, загружавшие лом серебра в печь, полученную проволоку рубили на одинаковые по длине, а значит, и равновесные куски. Полученные чурки предварительно взвешивали всей массой, чтобы можно было подсчитать и сообщить хозяевам серебра, сколько металла ушло на угар да в отбойные крохи. После этого к делу приступали бойцы. Они одним ударом ручника плющили чурки с помощью гладких чеканов. Получались пластинки неправильной, но одинаковой формы. Такими же потом и деньги в окончательном виде выходили. Пластинки шли сначала в отжиг ручным горном прогревали их для большей мягкости, но не плавили. И тут самая сладкая часть работы, которую выполняют чеканщик со своим помощником: подкладчик пластинок удерживает заготовку монеты на нижнем, закрепленном на верстаке штемпеле, а сам мастер наставляет вершник, бьет ручником по свободному штемпелю резко и сильно, только один раз, иначе либо не пробьешь изображение, либо смажешь его.
Серебро и перед плавкой, и после него взвешивается на равноплечных коромысловых, с двумя чашами, весах и на безмене, с одной чашей, крючком и передвижной гирей. Взвешиваются и готовые монеты. У Василия Дмитриевича были складные весы, хранившиеся у него в кожаном футляре. Каждая вновь отбитая монета проходит через его руки, иные из них он на выборку взвешивал, а затем все их передавал Даниле, который ведет счет новым деньгам. Работенка ответственная и не простая: чтобы сложить в кадь один полуфунтовый рубль, надо отсчитать сто самых тяжелых монет или двести среднего веса, а полушек — тоненьких серебряных пленочек — аж целых четыреста!
Даже и под тусклым небом ослепительно блестят новые деньги, глаз не оторвать от их привораживающего дорогого отсвета. И тем загадочнее было поведение появившейся вдруг на монетном дворе Янги: она словно бы не замечала ни монет, ни безмерно озабоченных ими людей, смотрела лишь на великого князя да чуть скашивала порой мимолетный взгляд на сидевшую рядом с Василием в столь же богатом, обитом рытым бархатом кресле великую княгиню.
Янга пришла не одна — с Мисаилом-Маматхозей, который испуганно таращил глаза, словно бы ничего не видел и ничего не понимал. Янга разъяснила:
— Глашатаи твои, великий князь, зовут московлян всех вынимать какое ни на есть серебро из погребов, скрыней, бретьяниц, оглашают, что много тебе его надобно… Так ли?
— Так! — подтвердил Василий, глядя мимо боярыни и богача коновала Мисаила. Напрасно согласился ее при Софье оставить. Больно шустра и заметна. Странно, что все Время он чувствует себя с нею настороже, словно ожидая постоянно от нее чего-то недоброго, какой-то выходки последней.
— А красив, однако, этот крещеный татарин, — склонившись к мужу, ровно сказала Софья. — Смотри, какие яркие глаза, ямочка на щеке… От него и дети красивые пойдут.
— Не в обычае у нас женщинам красоты чужих мужиков обсуждать, — так же ровно, бровью не шевельнув, отозвался Василий.
Софья не смутилась, как было бы еще несколько недель назад, не поморщилась, что замечание ей муж сделал. Будто и не слыхала.
— Нос только… несколько в сторону глядит, так это от меча или стрелы титло. Так что дети все равно красивые пойдут, — повторила.
— Вот я и хочу тебе много серебра дать, чтобы ты денег набил и купил себе все, что захочешь. Нижний Новгород или Верхний вместе со всей Литвой… — Голос у Янги звенел и срывался, хотя говорила она уверенно, как бы даже высокомерно. Глаза ледяные, щеки пылающие. Хороша-то, хороша — по-недоброму, грозно.
Василий даже и не нашелся, что ответить, и Софья затаилась, ожидая каверзу от этой не в меру бойкой и дерзкой боярыни. И серебра хочется, и как бы неприличность какая не произошла, проще сказать, свара.
— Мы тебе дадим серебра столько, сколько во мне весу. Верно, Мисаил? — Прищурилась, покачала носком сапожка щегольского, сафьянового.
Мисаил-Маматхозя растерянно улыбался, но вопрос понял:
— Еще и такого человека, как я, можно из нашего серебра отлить. На трех конях приторочено было.
Разговор принимал какой-то шутейный оборот, денежные мастера прекратили работу, а Василий напряженно ждал, чем закончит Янга свою затею. А она не стала тянуть:
— Мисаил, когда был Маматхозей и когда приходил со своим Тохтамышем в Москву, много серебра… нашел, так много, что ни унести, ни увезти не мог… Да я ему еще тогда помешала… Тогда, в тот август, когда ты, великий князь, со святителем и матушкой своей из Москвы удалился, он ведь меня… заприметил, да… А серебро в землю зарыл. Где? Не ведаю. Он сам скажет и покажет, но при условии одном — что я тоже княгинею стану… Хочу тоже в короне быть, вот как она.
Василий не сразу понял, что хочет сказать Янга. Раньше это поняла Софья Витовтовна, спросила:
— Ну да, а князем будет он? — И показала на Мисаила.
Василий вздохнул с облегчением: у князей и крестьян, у бояр и смердов одинаково именуют жениха и невесту князем и княгинею, одевают невесте на голову пятилучевой венец, какой постоянно носит княгиня по званию и положению своему.
— Дозволь, великий князь! — И Янга с каким-то обморочным вскриком пала на колени, уронила голову на руки Василию.
— Благослови их! — резко и властно произнесла Софья.
Василий не мог выйти из оцепенения, смотрел растерянно на гладко причесанную голову Янги, чувствуя ее теплую тяжесть и шелковистость и прикосновение нежных губ, прижавшихся к его ладони.
Софья встала с кресла и помогла подняться Янге — грубовато, с несколько даже брезгливой гримасой на лице. Повторила:
— Благословляй, великий князь!
Слыша, как бухает в груди сердце, Василий заговорил невнятно, неуверенно:
— Свадебные-то месяцы прошли, Великий пост на дворе… Теперь до Семина дня…
— Да, конечно, — Янга подняла наполненные слезами глаза, улыбнулась зимним солнышком. — Мы подождем.
— Подождем! — эхом отозвался Мисаил.
Жена, она, конечно, жена, куда денешься!.. Но боярыню Янгу увидеть, в глаза ее посмотреть, будто выйти в сад на рассвете, на самой заре — знобко, роса и алое сияние неба над сонной еще листвой, теремами, дымной, в тумане, излучиной реки. Схватывает тебя всего, как в детстве, мурашками, то ли крикнуть чего-то хочется на весь мир, то ли руками замахать, как крыльями, и взлететь над рекой, над куполами, над островерхими шатрами крыш туда, где облако к облаку соседится: поплыли, мол, вместе?
Вот такое вот было мгновение, Василию привидевшееся и в глазах, в слезах у боярыни отразившееся со всеми куполами, облаками, златовершими от зари садами.
— До Семина дня далеко, через семь недель Светлое воскресение, а там Красная горка, — большие познания выказала неожиданно Софья, — А серебро сейчас, — то ли попросила, то ли приказала она.
Мисаил нахлобучил на голову лисий треух:
— Айда!
Оказалось, что зарыл свой клад Мисаил, «когда был Маматхозей», совсем рядом с Кремлем, под одним из амбаров пристанища Амбар сгорел, но Мисаил все равно безошибочно и сразу же указал место.
8
Похоже, что Маматхозя грабанул кого-то из богатых купцов, а может, и к великокняжеской казне или митрополичьей ризнице прикоснулся: закопанный им мешок из конской кожи набит был сплошь русскими денежными слитками — киевскими шестиугольными литами, новгородскими гривнами серебра, целыми и разрубленными на половинки, рублями. Было несколько клейменых полтин, два глиняных горшка с мелкими монетами.
Мисаил наблюдал, как грузится из ямы на запряженные парой лошадей сани его серебро, во взгляде карих его глаз читалось сокрушение и запоздалое сомнение, но недолгими они были: еще звякали заступы, ковыряя мерзлую землю, а он уж отвернулся от утраченного своего богатства, в глазах замерцали звездочки, когда увидел он Янгу. А к Василию обернулся уж с широкой улыбкой:
— Теперь моя Янга?.. Благослови, государь!
— Благословляй же! — подтолкнула супруга Софья.
Василий с недоумением посмотрел на ее сердитое лицо, потом на счастливое и ждущее Мисаила. Сказал словно бы в раздумье.
Я благословляю моих бояр, когда они, уже обвенчанные, на свадебном поезде ко мне приезжают Вот ужо на Семин день, когда осень в очи заглянет Сказал и метнул взгляд на Янгу И мгновенный ответ ее получил — вспыхнул блеск в заплаканных глазах и тут же затаился под скорбно изломанными тонкими бровями Этот обмен взглядами никем не был замечен, но только Софья поняла, сердцем почувствовала, что что-то решительное произошло между этими двумя людьми… И она снова вмешалась.
Свадебный поезд привозит государю свои подарочки, а ты загодя получил Да еще какой подарочек! Загодя и благословляй!
Василий смотрел на Янгу прямо и строго, и в безобманности слов его Софья не могла сомневаться. хотя и не совсем ими довольна осталась, — он сказал:
— Дозволяю тебе, Янга Синеногая, поступать так, как сердце повелит Вольна ты выбирать себе любой жеребий, любого супруга.
Янга поклонилась в пояс, скрывая лицо.
— А тебе, Мисаил, благодарение от Русской земли за то, что вернул ей у нее же нахватанное.
Мисаил слишком хорошо понял смысл последних слов, поторопился объяснить:
— На трех конях было приторочено. Один рязанский, второй — нижегородский, московский только один.
Кожаный мешок за почти десятилетнее время лежания в земле сопрел, рассыпался на куски, поэтому решили на всякий случай копнуть поглубже вдруг что-то из клада само по себе схоронилось. И правильно сделали, в мягкой, и сухой уже на саженной глубине глине, лопата звякнула — обнаружился сначала один тяжелый обод из серебра, затем второй, третий… Мисаил с изумлением смотрел на них, замотал головой.
— Это не мои… Это я не нахватывал, не клал.
Не трудно было догадаться, что кто-то еще раньше облюбовал приметный и скромный взлобок на берегу реки Москвы для своего клада, но кто именно и когда? Киприан внимательно рассмотрел арабские надписи на поясах и обручах, удивленно покачал головой.
— Однако раньше той поры, как Андрей Первозванный пришел на Русь с евангельским благовестием[42].
— Значит, когда еще и Москвы самой не было, раньше Юрия Долгие Руки? — Василий в нетерпении спрыгнул в яму.
Вслед за серебряными, искусно окованными изделиями стала обнаруживаться в еще более глубоко развороченном, песчаном уж нутре разная хозяйственная утварь — ножи, глиняные черепки, деревянные поделки.
— Была Москва — нет ли, однако люди жили. Такие, как мы, люди, — говорил Киприан, а Василий слушал его неверяще, не пережив изумления.
Думал он, что был тут со дня сотворения мира кондовый бор, из которого срубил пращур Юрий Владимирович первую городьбу Москвы, а Иван Калита затем и кремль первый, дубовый… А теперь что же выходит?.. Москва была тут всегда?. Люди в ней жили… И они тоже радовались, любили, тушили пожары, отстраивались, рожали детей, работали, пили-ели и били посуду — вон сколько черепков… Черепки эти ни к чему, а вот серебряные вещи кстати: можно из них отчеканить монеты. И может быть, когда-нибудь эти монеты станут единственным свидетельством того, что был тут стольный град Руси. Откопают когда-нибудь люди эти серебряные деньги, прочитают, как Киприан сейчас прочитал, скажут: «A-а, это Василий Дмитриевич сын Донского, извел арабские обручи на деньги для Орды…».
А Киприан между тем, утратив интерес к обручам, внимательно рассматривал новгородские гривны серебра. Что-то явно заинтересовало его в них, он заговорщически отозвал Василия в сторону, показал тусклый брусок:
— Смотри, сын, шов какой!
— Что же?
— Литье двойное… Слышал я, что были среди новгородцев безумные люди[43], правда, значит.
— Так что же? — все еще не понимал митрополита Василий. — Переплавим, олово и медь в угар перейдут, а серебро чистое останется.
— А зачем переплавлять? Вези их Тохтамышу так. Ты ведь не виноват, ты не в ответе за безумных новгородцев, а хан басурманский не поймет, да и поделом ему.
— Почему же не поймет? Ты ведь разглядел?
— Ненароком. Да и ведомо мне было, слышал я про тайну сию. Самая тяжелая часть из другого, низкопробного серебра, а доливка уж подлинная. А Тохтамыш рад будет им, ведь для крупных расчетов эти слитки удобнее всего.
— Все слитки такие?
— Нет, только те, что короткие и с горбатой спинкой…
— А гоже ли это, святитель, не подлог ли это?
— Говорю же тебе, сын мой: ты-то тут ни при чем! Ты и не знал будто…
— «Будто»?..
— Ну да! К тому же… — Киприан умолк, смотрел на Василия в раздумье, словно бы не решаясь выдать какую-то тайну. Решился-таки: — К тому же надо сказать тебе… Хотя лучше не сказать, а показать. Пойдем-ка в мою ризницу.
Киприан действительно тайну выдал да еще и такую оглушительную тайну. Василий на какой-то миг дар речи потерял — хотел удивиться, возмутиться, крикнуть, что это ложь, но язык не слушался его, губы словно морозом свело. Наконец выдавил из себя с сомнением и болью:
— Что же, святитель… Отец мой обманщиком был?
— Я этого не утверждаю, Василий Дмитриевич, — лисой вился Киприан, — смотри сам: вот монета, отбитая Дмитрием Ивановичем в шесть тысяч восемьсот восемьдесят втором году, вот та, что появилась через шесть лет, сразу после разгрома Мамая, все они одинакового веса, их в рубле двести штук, и рубль, из них составленный, вполне полновесный. А теперь возьмем монеты, которые Дмитрий Иванович отбил для Тохтамыша после погрома Москвы, их в рубле тоже двести, а весят они, смотри, много меньше полфунта, надо еще тридцать штук добавить, чтобы прежний рубль получился, каково?
— Но я ведь тоже такую монету чеканю! Значит, я тоже обманщик?
Киприан развел руками, прошелестев золотой парчой.
— Нет, я не хочу ни примеса, ни обвеса…
И опять Киприан ответил молчанием.
Первым побуждением Василия было немедленно прекратить чеканку монет, а уже готовые пустить в переплавку. С намерением сделать так он шел торопливо от митрополичьего двора через площадь к Боровицким воротам, а чем ближе подходил, тем больше замедлял шаг. Вовсе остановился, пораженный догадкой: «Если я прикажу увеличить вес новой деньги, значит, я признаю, что мой отец совершил подлог… Нет!»
9
Федор Андреевич Кобылин подтвердил, что вес монет был занижен по приказанию великого князя Дмитрия Ивановича и что было дано в свое время разъяснение причин этого, но вот каковы они, в чем заключались, старейший боярин то ли не понял, то ли запамятовал за давностью времени. Допускал Федор Андреевич предположение, что сделано это могло быть с целью получения прибыли, ибо с серебром было на Руси после нашествия Тохтамыша особенно трудно.
«Денга» — от татарского «тэнга», а это название заимствовано у индусов, которые завели у себя после прихода Александра Македонского монету «танка». На Руси назывались деньги еще и копейками, и мортками, но как ни называй, ее в рубле должно быть сто штук, а рубль известен как серебро высокопробное и полновесное на всех рынках мира, охотно имели с ним дело генуэзцы и фряги, немецкие и византийские торговые гости. И нет, не мог Дмитрий Донской пойти на подлог, что-то тут не так, но что?
Еще больше, чем количество отбитых денег и их вес, беспокоил Василия их внешний вид. Монеты — не просто мера стоимости, средство платежа, накопления и обращения, это еще и дело большой политики, внутренней и международной. Первую монету на Руси после прихода татар Дмитрий Иванович отбил в 1374 году, потом в 1380-м, мелкие партии чеканились и в другие годы и имели полноправное хождение на западе и на востоке, можно было ими расплачиваться на рынках Булгар, Сурожа, Карокорума. Были это все русские копейки, на которых изображался святой Георгий с копьем, но затем Тохтамыш, желая отомстить Дмитрию Ивановичу за унижение, потребовал после 1382 года чеканить монеты с именем хана. Копейки, или денги, стали носить полурусский, по-лутатарский характер: на лицевой стороне помещена надпись по-арабски: «Султан Тохтамыш-хан — да упрочится царствие твое», а на обороте печать великого князя Дмитрия Ивановича, изображающая петуха или человека с секирой. С сюзеренной арабской надписью и арабской легендой во славу султана Тохтамыша печатал сейчас монеты и Василий, лишь на одной стороне указывая свой великокняжеский титул. Что и говорить, унизительно для русского государя, но Василий сознательно пошел на это. Слитки хоть и тяжелы, но привычны и тусклы, как тускломертвенный блеск снулой озерной рыбы, другое дело — новенькие монетки с именем хана. Так повесомее должен выглядеть выход, который Василий собирался отвезти собственноручно. Мешки и кади, доверху наполненные блестящей монетой, не могут не произвести впечатления. Пусть порадуются ордынцы тому, какой у них на Руси улусник, покорный да признательный, пусть не врага, но друга — другого такого же, как он, ближнего и равного человека видит Тохтамыш в новом великом князе московском, пусть, пусть покуда… Не век же будет эта проклятая зависимость, ведь переменит же Бог Орду, не всуе слова эти пишутся во всех духовных русских князей последнего времени, скоро, скоро… Но покуда — терпение, благоразумие, рассудливость.
В чеканке денег самым ответственным и сложным делом оказалась подготовка штемпелей: вырезать их не всякий может, а служат они недолго. Ханский оборот монеты был неизменным, и штемпели для него резал один мастер. Русскую сторону Василий велел делать неодинаковой — с петухом, с четвероногим животным и скорпионом, с воином поколенно и по пояс, с человеческой большой головой. Но самой главной печатью, конечно же, был ездец, сам по себе уже служивший символическим изображением самого князя, но и с подписью же: «Князь великий Василий Дмитриевич».
Изображение ездца сделал для резчиков Андрей Рублев, нарисовал красками на гладкоструганых осиновых плашках, а мастера уж сводили их на железные штемпели.
Полюбившийся Василию с детских лет Андрей-монашек вызывал у него сейчас чувство неизбывного доверия, слова его, произносимые им спокойно, негромко и с безоглядной прямотой, воспринимались Василием как глас самой истины.
— Как думаешь, Андрей, мог отец мой сделать монеты нарочно легкими, чтобы прибыль получить? — спросил Василий после объяснения с Киприаном и услышал ответ чаемый и желанный:
— Нет Дмитрий Иванович был человек праведный Андрей ответил сразу же, без какого-либо раздумья ни тени сомнения у него не было. Василию даже и стыдно стало за свой вопрос, и он так оправдал себя в собственных глазах: «Я сам это знал, мне надо понять просто, зачем монеты сделаны легче». Перед Андреем своего смятения не выказал, отвел разговор:
— Так-таки не будешь ты храмы больше расписывать?
Вместо ответа Андрей, по обыкновению своему, потупился. Привычка ли такая, столь ли застенчив и робок он, но всегда вот так: чуть склонит набок голову, клинышек русой бороды его словно бы под мышкой правой руки спрячется, а глаза смотрят из-под бровей добро, кротко и всепонимающе. Но нередко бывал Андрей и разговорчив, словоохотлив, а так вот замыкался, видно, когда не хотел говорить или не знал, что сказать.
Он пришел в Москву вместе с другими изографами и зодчими Троицкого, Симоновского, Андроникова и других монастырей, чтобы отстроить и расписать в городе безвозмездно, в качестве помощи погорельцам несколько церквей. Андрей был в артели старца Прохора с Городца, однако через несколько дней пришел на княжеский двор и сказал Василию, что не хочет писать фрески в храме и иконостасы, но лучше будет в монастыре книги разрисовывать, штемпели и печати резать, а может еще и новые княжеские повал уши изукрасить изнутри рисунками забавными.
Василий поначалу не понял причин такого настроения известного уж на Руси изографа, однако обрадовался:
— А еще и крытые переходы в придворный храм распишешь? Как в Киевской Святой Софии?.. Видел я там на лестницах: красками писана княжеская охота, конские ристалища…
— То, княже, по сырой штукатурке писали византийские мастера… Вот будешь Благовещенский каменный храм ставить, как наметил, тогда, может…
— Почему «может»? Ты же обещал?
Андрей опять молчаливо потупился — не захотел отвечать. Василий попытался его разговорить:
— Ведь пишут и сейчас Прохор, Данила, Феофан и другие иконники по сырой извести, а ты почто не с ними? Тебя ведь много хвалили, я слышал?
Андрей пошевелил тонкими губами, словно бы желая воздуху побольше в себя забрать, с духом собраться для признания. В серых с голубыми искорками глазах его зародилось мимолетное смятение, совсем краткое, проблеском, тут же взгляд его снова стал прям, выражая покой души, полный и нелицемерный:
— Когда у Сергия на Маковце я был, мастера византийские пришли поновлять фрески в Троице. Мальцов привечали, дозволяли растирать разноцветные камешки на краски. Я изо всех сил старался, нравилось мне чудное их занятие. Мало-помалу научился и кистью владеть. Взяли меня в артель, был травником, потом доличником. Два года уж, как не только одежду и фон, но и лики мне стали доверять, а там работа тонкостная, мастерства доброго требующая. А Феофан Грек посмотрел на мое исполнение да и сказал: «Божья отмета есть на тебе, но большого мастера из тебя не получится, поелику оторопей ты очень, душа у тебя голубиная. А в нашем деле высокий, соколиный взлет надобен…»
— Ты обиделся, стало быть? — догадался Василий и сразу увидел, что неверно догадался: тонкое лицо Андрея исказилось болезненной гримасой досады, он даже вздохнул с большим сожалением: что же ты, мол, такой не сметливый, а еще великий князь!
— Како! Я обрадовался словам тем!.. Подумай-ка. «Большого»! Я не дерзаю большим быть, мне бы хоть малехоньким, но лишь бы мастером, ведь лики святых писать… — он запнулся, закончил с отчаянным чистосердечием, даже голос у него надтреснуто осекся, глаза обволоклись слезной блоной: — Неужто, княже, и впрямь сердце сокола надобно?
«Завида грызет, — решил про себя Василий, не знавший тогда еще, что перед ним стоял человек, по природе неспособный досадовать на чужую удачу, зариться на сторонний талант. — Жалеет, что сердце голубя у него, а не сокола». — И это заключение неправым было: не жалел, а сомневался и вопрошал Рублев, он пытался осмыслить то, к чему Василий и прикоснуться умом пока еще не мог, что было слишком далеко от его государственных забот. Но и что-то почувствовал он бессознательно, что подсказало ему бережные слова:
— Зело дивная работа у вас, эта ваша жи-во-пись… Я, как на чудо, смотрю и, как чудо же, не берусь постигнуть. Покажи мне, как Феофан твой работает, он сейчас, я слышал, иконостас богородичный пишет.
Андрей согласился с большой охотой: тянуло, видно, его к Феофану, хотя не было ни в Москве, ни в Новгороде ни одной иконы, ни одной фрески кисти великого Грека, которую бы не рассматривал долгими часами Андрей, пытаясь постигнуть нечеловеческую, неземную силу созданных художником образов.
10
Здание церкви только вчера было срублено, вчера же дружина художников и начала ее расписывать. Пахло стружкой, красками, олифой, разогретым клейстером. Изографы разбрелись, по обыкновению, по разным укромным углам — один трудился в притворе, второй за царскими вратами на амвоне, каждый работал, таясь от праздного глаза и священнодействуя: хоть и по готовым прорисям творили они живое письмо непостижимых, божественных ликов, однако же каждый чувствовал обостренным сердцем своим нерасторжимую связь с горним, высшим миром. И только один живописец-иконник работал прилюдно, не стесняясь присутствия зевак — толпа их была постоянной, хотя и изменчивой, ибо иные, постояв, поверхоглазив часок-другой, уходили восвояси по делам своим и заботам, им на смену являлись другие москвичи: чернецы и ремесленники, купцы и оратаи, кметы и бояре. Разный народ грудился — иные благоговейно ловили каждый жест, каждый удар кисти прославленного на весь Божий свет изографа, иные просто ротозеили бездумно. Даже и сами изографы из артели иногда отвлекались от работы.
Да ведь и было на что посмотреть!
Художник писал нижний, церковный ряд иконостаса — не одну какую-то икону, а сразу все пять, подбегая то к одной, то к другой, но чаще всего к заглавной, к «Преображению». Он не сидел и ни минуты не стоял на месте, был в непрестанном движении. Уходил к западной стене храма, бросал оттуда взгляд прищуренных глаз и, что-то высмотрев, что-то придумав или что-то важное решив для себя, устремлялся снова к иконостасу. Кисть он нес перед собой, словно боевое копье, в чуть вытянутой деснице, а в левой руке держал деревянный подносик. Не доходя двух-трех шагов, он чуть приостанавливался, цеплял на беличий острый кончик кисти нужной краски и, сделав резкий выпад, наносил на икону мазок — решительно, одним движением. После этого, словно бы утратив интерес к работе, неторопливо поворачивался к иконостасу спиной и уходил прочь размеренным шагом с видом как бы рассеянным, бездумно смотрел либо под ноги себе, либо в приотворенную дверь поверх голов входящих в храм новых зевак. На излюбленной, выбранной загодя точке останавливался, оглядывался на дело рук своих. Если только что положенный мазок ему почему-либо не нравился, он стремительно возвращался и замазывал его, однако чаще просто вглядывался, думал, прикидывая, оставляя свое окончательное решение на потом, так что зрители не всегда могли понять, удовлетворен мастер своим письмом или станет переделывать его.
Грудившиеся в боковых нефах справа и слева зрители с большим участием следили за возвращением художника к записанным большим доскам; пока шагал он к ним, они загадывали: к какой иконе именно подойдет, какую краску и куда положит.
Иных, впрочем, занимал другой вопрос, попроще и позабавнее. Перед началом работ художник, пробуя разные сочетания красок, растирал их прямо на некрашеных еще досках пола возле иконостаса, испятнал весь подход к алтарю, но удивительное дело — ни разу не наступил на эти разноцветные пятна, хотя под ноги себе и не смотрел. Наиболее проницательные зрители делали из этого вывод, что зело искусен и опытен художник, каждый шаг у него выверен. И еще более вздорные вопросы зарождались в праздных головах зевак: много ли верст надо ему исходить, пока хоть одну икону напишет, да сколько пар обуви истопчет он при этом? Но для всех без исключения загадкой было понять сам смысл непрестанного хождения. Наиболее нетерпеливые этот вопрос время от времени даже и вслух задавали:
— И чего ходит да ходит — побегушничает?
— Мыкается взад-вперед…
— Да-а. обмогается, сердешный.
Могло казаться, что художник, костистый, тощий и изнуренный, отрешен от всех и всего целиком и полностью поглощен своим занятием, но это было не так. Разговоры посторонних людей и его слуха достигали. И на этот раз он все расслышал, остановился на полпути и повернулся к вопрошавшим:
— А зачэм я толжэн торчат, как дроф?
В рядах зрителей произошло некоторое замешательство — не поняли:
— Как кто?.. Как — «дроф»?
— Ну да, — подтвердил художник, — как дрова, как этот самый пэнь, что ли, столп?
Дружный смех раздался в ответ ему. Он изобразил на лице огорчение и суровость, но сказал вполне добродушно:
— Лядно, смэйса… Ваш язык — труден язык. Но ты по-грэчески пробуй выружаться, это есть… будет очен смешна, я тоффольно посмэюс.
Заезжий греческий художник, ищущий на Руси применения своему труду и дарованию, сам по себе для москвичей не большое диво, многих приносило бедственными ветрами из этого последнего очага культуры, одиноко теплившегося в средневековой пустыне диких войн и варварства, а теперь шедшего к полному угасанию под сокрушительным шквалом турецкого вандализма. Не было недостатка в иконописцах на Руси в то время. Но Феофан Грек, он же Гречин, был среди многих пришельцев фигурой особенной, на редкость примечательной. Свыше сорока каменных церквей расписал он в Константинополе, Халкидоне, Галате, Кафе, пока не попал в Новгород Великий, граждане которого отличались вкусом, тонким пониманием в церковном строительстве и залучили к себе мастера всякими добротами. И может, по сей день украшал бы он там своей дивной стенописью храмы и терема, если бы новгородцы проявили в свое время побольше любви не только к своему гнезду, но и к другим городам и весям Руси и вместе бы вышли на Куликово поле. Они, однако, отстранились от совместного выступления русских против татар, и Дмитрий Донской не мог им этого простить. Круто он с ними обходился, безжалостно обкладывал черным бором, притеснял всячески, а незадолго перед смертью и знатного живописца забрал. Феофан не жалел об этом: в Москве его дарование развернулось особенно ярко.
Все прежние иконы греческого и русского письма непременно выражали величавое спокойствие, какую-то особую духовность облика, а вся опись человеческого тела выказывалась лишь в общих чертах, фигурам придавалось подобие мощей, нетленность, торжественность и строгость нездешнего мира, раскраска их была по большей части суха и темна. Но явился Феофан и нарушил столь же незыблемые, сколь и извечными казавшиеся каноны, написанные им лики праотцев и отшельников своей яркостью и необычностью производили ошеломляющее впечатление даже и на самих московских изографов.
«Завида взяла», — подумал великий князь об Андрее Рублеве, а когда сходил вместе с ним в храм и посмотрел Феофанову работу, утвердился в своей догадке. Андрей был немотен и бледен, когда смотрел остановившимся, зачарованным взором на сочные и столь непривычные для иконописного письма белые, голубовато-серые и красные блики поверх санкири, делающие знаемых святых и угодников не застывшими в вечности, а словно бы сейчас живущими, находящимися в постоянном движении под воздействием скрытой и мощной силы, которая угадывается даже по складкам одежды праведников, резко изломанным, с черно-белыми супротивностями света.
Дьякон Сергиева монастыря Епифаний пришел в Москву один, двое суток шагал без устали через лесные дебри для того только, чтобы воочию созерцать Феофаново деяние. С Андреем Рублевым встретился в храме как со старым приятелем — недавно еще они жили в соседних кельях на Маковце у Сергия Радонежского, только Андрей был неуком в монашестве, а Епифаний пришел в обитель в возрасте Христовом после долгих странствий по Востоку и за исключительные умственные качества и талант летописания получил прозвание Премудрого. Но поначалу и он отметил лишь странность, необычность поведения Феофана, сказав, что тот очима мечуще семо и овамо: что налево и направо взгляды бросает он не реже, чем на свою работу, сразу и всем видно, и всем удивительно. А Феофан еще и поговорить между делом горазд — острое словцо подбросить или вспомнить что-нибудь кстати о своей покинутой родине. И еще дивное диво — не пользуется Феофан прорисями!
— Когда он что изображает или пишет, — восторженно делился своими наблюдениями Епифаний Премудрый, — я не видел, и никто не видел, чтобы Гречин когда-либо взирал на образцы, как это делают все наши иконописцы, которые в недоумении постоянно всматриваются, глядя туда и сюда, и не столько пишут красками, сколько смотрят на прориси.
Эту особенность работы Феофана, конечно же, давно и сразу же отметил и Андрей, и другие изографы.
Все несказанно изумлялись, ибо с азов были приучены: иконы должно писать с древних образцов, от своего же мышления и по своим догадкам Божества не писать! На все даны изографу определенные правила: как приготовлять материал для живописи, как располагать композицию, какими изображать те или иные лица, даже какие цвета придавать их одеждам. Эти правила с мельчайшими подробностями изложены в книгах, называемых подлинниками и дающих иконописцу руководство день за днем, для святцев целого года, указание на то, в каком виде должно изображать каждого святого и каждый Господний или Богородичный праздник.
При таком способе исполнения, убивающем всякую особость у художника и допускающем совместное участие сразу нескольких рук в одной и той же работе, все иконы, и византийские, и русские, выходят схожими между собой, как будто писаны одним и тем же человеком. Так было и так есть: исполнитель священных изображений не может дерзнуть уклониться ни на шаг от предписаний и выразить свою личность в чем бы то ни было.
Но знаменитый Грек дерзает же!.. Дерзает и пишет так, как никто еще не писал и никто не слышал даже, что можно так писать, и не видели от сотворения мира столь божественного письма!
Не сразу, но все, один за другим, даже и признанные русские изографы покорно зачли себя в ученики Феофановы и стали стараться писать иконы и фрески так, чтобы на него походить… Андрей понимал их и не осуждал, но сам принять Феофанов стиль дерзкий все же не мог, ему больше по душе было тонкостное и мягкое письмо Даниила Черного.
— А ты-то не сумеешь, поди, так? — нечутко подтолкнул его Василий, а когда тот отмолчался, опять по-журавлиному склонив голову, подумал снова: «Завида…» И так был уверен в своем выводе, что с сожалением порассуждал про себя о том, что, видно, нет на свете людей безгрешных, идеальных. Иной раз думаешь, вот как с этим славным Андреем: вот человек, у которого нет ни одного порока, а есть одни только добродетели. Но как-то нечаянно обнаруживается и в этом человеке некая вовсе даже неприглядная черточка. Она не главная, не определяющая, но она же — есть! И так может получиться, что черточка эта постепенно перерастет в черту очень явную, такую даже, что перечеркнуть может и все достоинства. От зависти Андрей иконописание бросил — это для начала, а потом к чему может прийти?.. Написано же в умной книге: «Аще бо кто и многи творит добродетели, а будет завистлив, то горшии татя и разбойника».
Рублев чувствовал, что великий князь недоволен его молчанием, спросил, ни к кому не обращаясь, но так, чтобы слышал Феофан Грек:
— Если он не пользуется образцами, то, значит, дан ему неисповедимый промысл Божий собственными очесами горний мир лицезреть?
Удивительное дело: Феофан, так охотно, так беспременно откликающийся на каждый возглас зрителей, слова Андрея оставил без всякого внимания! Ответил Андрею Епифаний, не всуе прозванный Премудрым:
— Он, кажется, руками пишет роспись, ходит беспрестанно, беседует с приходящими, а сам умом обдумывает высокое и мудрое, чувственными же очами разумными разумную видит доброту.
Рублев подавленно умолк, но когда возвращались пешком в Кремль, спросил Василия:
— Ты тоже, великий князь, веришь, что Феофан чувственными очами разумными разумную видит доброту?
Василий не сразу отозвался, подумал, что, видно, не в зависти дело — в неверии, ответил вопросом:
— А ты, значит, сомневаешься все же, что дано ему собственными очесами горний мир лицезреть?
— В это-то я готов верить, другое повергает разум мой: неужто таков и есть он, Божий мир, каким его Грек пишет?
Василий не нашелся с ответом, решил про себя, что, значит, не зависть и не неверие руководят Андреем — сомнения господствуют над его душой. А тот между тем настойчиво повторил вопрос:
— Таков ли он, горний мир, а? Что скажешь, великий князь?
И великий князь вдруг с каким-то суеверным страхом подумал, что он совсем не понимает этого не столь, оказывается, простого монашка Андрея, что монашек этот мало того что не сомневается — он непоколебимо убежден, что он-то именно и знает, каков на самом деле мир Господа, Владыки нашего.
Глава V. О, тайна тайн!
Что такое человек, как подумаешь о нем? Как небо устроено, или как солнце, или как луна, или как звезды, и тьма, и свет?
Из «Поучения» Владимира Мономаха1
Простодушный вопрос Андрея Рублева надолго смутил великого князя. Как-то само собой предполагалось, что знания о горнем мире передаются людям не как всякие прочие истины, а особенным, сверхъестественным способом, и, таким образом, истинность этих знаний доказывается не соответствием узнанного с требованиями разума и всей природы человека, а чудесностью самой передачи, и эта чудесность и служит непререкаемым доказательством истинности.
Что знал Василий о мире?
Знал, что живет он на Земле, которая похожа на огромный четырехугольный плот, плывущий по бурной реке к Океану. На Земле есть Африка, Европа и Азия, моря и реки малые. А за рекой-океаном лежит иная Земля — Рай, из которого Бог изгнал Еву и Адама. В проливе же (Василий собственными глазами видел это на греческой карте) перед земным Раем стоит ангел с трубой, чтобы дуть в нее, если кто осмелится попытаться плыть обратно в Рай через пролив. В Рай можно попасть не иначе как по Божьему повелению, ибо все в руце Божией.
Слышал Василий краем уха, когда в бегах пребывал и когда не до того ему было, что будто бы Земля не плот вовсе, а нечто круглое, выпуклое, словно бы яйцеобразное. Не понял да и не поверил в серьезность слов какого-то калики перехожего. А тот толковал еще, будто есть некий незыблемый закон, нарушить который не могут даже и никакие высшие существа. Но в это Василий не стал и вдумываться, остался с младенческой своей верой в присутствие в мире сверхъестественных сил, которые управляют жизнью вселенной и его, стало быть, жизнью тоже.
С младых ногтей известно ему было, например, что Бог сотворил Землю за шесть дней, говоря после каждого своего усилия, что «это хорошо». Закончив творение Земли, Бог помышлял затем лишь о мире, и его действия по управлению миром называются Промыслом Божиим. Знал Василий о том, что зараженных грехом Адама и Еву Бог изгнал из Рая за нарушение заповеди, которая дана владыке земных тварей — человеку: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь, потому что в день, в который вкусишь от него, смертью умрешь». Затем — мятежная судьба братьев Каина и Авеля; всемирный потоп и Ноев ковчег с семью парами чистых и нечистых; Вавилон; содомский грех; борьба Давида с Голиафом; евреи, идущие из плена через чудесным образом расступившееся море; войны, гибель стран и народов, столпотворение вавилонское, но все это — мало что значившее по сравнению с чудовищным предательством Иуды сына Симона, из города Кариота… А сам всесильный Иисус, камни превращавший в хлебы, шедший по воде аки посуху, вдруг становится слабым духом, простым земным человеком, взмолившимся: «Да минует меня чаша сия!»… Духи бесплотные — светлые, а также и дьявольские, возмутившиеся; апостолы, святые угодники, праведники, люди Божии…
Все это знал Василий, и знал еще, что и поныне есть святые отцы церкви — люди, коим даны просветленные духовные очи: «Блаженны чистые сердцем, яко Бога узрят, и не только Бога, но в Боге и все сокровенное мира сего узрят». Таким благом высокой и особой степени духовного прозрения наделены Сергий Радонежский со Стефаном Пермским и Епифанием Премудрым, а также иже с ними вот как раз Андрей Рублев да Феофан Грек, другие изографы, способные созерцать то, что надлежит изобразить в иконе.
Андрей, однако, сказал, что изограф лишь ремесленник, владеющий кистью, хотя и подвижник благочестия. Икона — окно в мир, духовный, невещественный, не имеющий ни времени, ни пространства в простом человеческом понимании. А духовное видение, духовное прозрение, позволяющее заглянуть в это окно, является даром Божиим, подающимся за смирение и чистоту сердца. Сергий Радонежский — да, сподоблен этого дара, он способен видеть тайны сокровенные так же свободно, как простой смертный видит окружающий его мир внешним зрением.
Построенная на месте сгоревшей новая княжеская повалуша была превращена Андреем временно в художественную мастерскую: громоздились свежеструганые доски, на верстаках разбросаны в кажущемся постороннему глазу хаосе, а для Андрея в привычном и деловом порядке кисти, горшочки и крыни с разноцветными порошками, разные не растолченные еще камешки, ступки, терки. На полу по углам лежала яичная скорлупа, тут же стояли берестяные туеса, наполненные десятками куриных и утиных яиц для придания краскам яркости, блеска и крепости. Посреди повалуши стояла на листе жести жаровня, над которой художник время от времени грел зябнувшие руки.
— Вот смотри, княже, изображу я сейчас яблоко, — весело объяснял Андрей, мешая краски и бросая изредка взгляд на тот участок стены, который собирался расписывать. — Такое нарисую, чтобы не просто похоже было на настоящее, а чтобы тебе сразу съесть его захотелось… — Андрей тихо рассмеялся, довольный тем, что в силах его передать с помощью мертвых красок живую природу, передать даже соблазнительную сладость свежих фруктов. — А на дворе-то ведь февраль, не скоро яблокам созреть…
Василий прошел к окну, посмотрел через белую слюду во двор, прислушался к доносившимся извне звукам. Стучали топоры плотников, достраивавших повалушу, чирикали воробьи — радовались, видно: хорошо, будет новенькая стреха, мы в ней поселимся, отогреемся, а весной и детишек заведем.
— Что же ты не спросишь, княже, как я стану рисовать яблоко, не видя его?
— Ты же раньше видел много раз, запомнил, — ответил Василий, не поворачиваясь от окна, продолжая прислушиваться к тому, как гудит за окном ветер, то звякая будто бы листовым железом, то шаркая теслом по стропилам, то стегая бичами по широким доскам.
— Верно, так, — согласно подтвердил Андрей и сосредоточенно умолк, смешивая краски.
Василий по-прежнему стоял спиной к нему, продолжал смотреть в окно.
Зима пошла на убыль, мороз уж не такой хваткий, не такой каленый. Небо посинело, задымились сугробы, снежные вихри шершаво трутся о стены повалуши, снег залепляет окна… Пора готовиться в дальнюю и постылую дорогу — в Орду, и от Василия Румянцева, и от Тебриза, и от Кавтуся хоть и не с борзоходцами, а с попугностью, однако одинаковые сообщения пришли, из которых явствует, что самое сейчас время к Тохтамышу заявиться, имена всех жен хана, всех вельмож сарайских, равно как и их тайные желания, проведали доброхоты Васильевы, так, как он и велел им. Пока не вскрылись реки, надо бы с новгородцев серебро на ордынский выход стребовать да дождаться купцов из северных лесов со скорами и мягкой рухлядью. Тут Василий спохватился, что в сторону мыслями убрел, забыл про Андрея, резко повернулся. И не смог сдержать возгласа, изумленный видением: прямо из залепленного снегом окна просунулась со двора августовская ветка яблони, согнувшаяся от тяжелого плода с чуть трепещущими от слабого дуновения ветра листьями, — до обмана веществен был рисунок, столь легко и прозрачно наложил Андрей свои краски, и почти не рассмотреть было следов труда живописца. Так вот каково оно, живописное ремесло, вот как получается ощущение чуда, когда вдруг затрагиваются самые сокровенные струны души и человек не в силах сдерживать прихлынувшего восторга. Такое забытье самого себя, краткое и острое отрешение от всего, кроме того, что видят перед собой очи, испытывал Василий, когда смотрел на иконы тонкостного византийского письма. Но то ведь — иконы! То — не просто живописание, но зримое воплощение отвлеченных представлений о Божественном царстве, о горнем мире. А здесь, на стене повалуши — не храма, а временного земного пристанища, срубленного на выступах основного этажа, на повалах[44], — не Божественный лик, но всего-навсего-то яблоко боровинка, кажется даже уж и червем подточенное… Но что же роднит их?.. Магическое согласие рисунка? Невесомость и невещественность наложенных красок? Значит, одно мастерство, хитрость восторгает человеческую душу, возвышает ее до самозабвения?
Андрей, без сомнения, видел, сколь поражен великий князь его работой, попытался скрыть смущение, Однако все же выдал его тем, что без нужды снял скуфейку, запятнанную разного цвета красками. Добавив новые розоватые пятна и безуспешно попытавшись затереть их, водрузил некогда черную, а теперь нарядно-пеструю шапочку на голову, надвинул ее почти на глаза. Избавился от смущения, когда заговорил:
— Не всем дается способность проникать за внешность видимого, постигать, что обычному зрению не доступно. Но и это, великий князь, не самое главное… Самое главное… Как бы это?.. — Андрей перевел дыхание, помолчал, словно бы сомнение переживая. Продолжал трудно, с некоей даже болезненностью в голосе: — Ну, то, что я сказал, касается ведь только нашей земной жизни, нас окружающего вещественного мира. Но как быть с жизнью над мирной? С той жизнью, которая течет выше всего земного — колеблющегося, себялюбивого, страстного? Ведь именно тот мир должно нам отобразить в иконах, в церковной стенописи… Как же быть, великий князь?.. О, тайна тайн!
— Но, может, Феофан-то чист, смирен сердцем настолько, что дана ему способность Бога узреть?
Андрей не удивился вопросу, был готов к нему, но вдруг, словно бы ослаб телом или занемог, приклонился в бессилье на пристенную скамью. Сказал тихо, выверяя на слух свои слова:
— Человека, познающего Бога, можно уподобить стоящему ночью с малой свечой на краю безбрежного моря-окияна… Много ли, думаешь ты, великий князь, увидит этот человек из всего темного безбрежия воды? Ясно, что лишь малость некую или почти ничего. Но знает, что перед ним море, что море это безбрежно и что он не может его все объять взором даже и при самом ярком свете дня. Богопознание наше таково же… Так просто ошибиться, не то, не так увидеть… Ведь какой у Феофана на фреске в Новгороде Авель-то, знаешь ли ты?
Андрей тщательно вымыл руки, наклоняя над лоханкой висевший на косяке глиняный рукомойник с носиком в виде головы поросенка, сложил не спеша кисти и краски, достал из ларчика завернутый в тряпочку березовый уголек.
— Вот как он его изобразил!
Несколькими резкими движениями он набросал облик дерзкого и телесно сильного человека с прямо и гордо поднятой головой.
2
Прежние греческие иконописцы, работавшие в Древнем Киеве, а затем и в Залесской земле, оставили своим русским ученикам подробные руководства и образцы для писания святых икон, так называемые прориси, которые назывались также «подлинниками», «образниками», «персональниками». Из них иконописцы заимствовали не только размеры, типы лиц и костюмов, но даже цвет одежды, фон, подписи. А самое главное — были установлены особые, характерные черты для изображения Спасителя, Божьей Матери, апостолов, святых.
— Каждому лику дана своя опись и свой характер, — объяснял Андрей. — Например, Господу Саваофу — святолепное и строгое величие ветхого денми, Иисусу Христу — в крестных страданиях смирение и божественное истощение, Божьей Матери — умиление, святым — глубина смирения. Ну, а Авеля, которого брат Каин убил, как, думаешь, должно изображать?
Андрей нарочно повернулся к столу и начал с большим усердием мешать истолченную в порошок жженую кость, получая из нее аспидно-черную краску.
Василию казалось, что вопрос-то слишком простой, всякий ребенок знает на него ответ. Было у Адама и Евы два сына: Каин — старший, а Авель — его младший брат. Каин обрабатывал землю, Авель был пастырем овец. Вместе жили они, вместе и свершали жертву Богу, сжигая на алтарях продукты труда своего. Каин принес на жертвенник для всесожжения плоды земледелия, а смиренной жертвой Авеля были первенцы от пастушьих стад. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел — дым его жертвенника не полетел к небу, а стал стлаться по земле. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился? И отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Но Каин не внял предостережению и, снедаемый завистью, зазвал благочестивого и доверчивого Авеля в поле, где коварно убил его дубинкой. И тогда Господь обратился к Каину: «Где Авель, брат твой?» А Каин ответил: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И сказал Господь: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли; и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей; когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на веки веков на земле».
— Не ясно разве, как должно изображать первого мученика на земле, названного в Священном писании праведным?
— Но все-таки, как? — лукаво настаивал Андрей.
— Конечно, кротким, в душевном сокрушении, со страхом в очах, может быть…
— Истинно так. Робким да скромным юношей был Авель.
Андрей поставил напротив слюдяного окна доску.
— А у Феофана он в церкви Спасо-Преображения на Ильине улице в Новгороде вот какой, смотри[45].
Он продолжал рисунок только что растертой черной краской: добавил густые пышные волосы, обозначил мощный, энергичный поворот сильной шеи, выписал широко раскрытые глаза, смотревшие уверенно, прямо, решительно. Это был лик доблестного героя, Василий рассматривал его со смущением.
— Стало быть, не верно Феофан изобразил?
— Если бы так…
— А как же?
— Многие не верно рисуют… А вдруг Феофан один из всех правильно увидел Авеля?
— Быть не может! В Священном же писании — в Свя-щен-ном! — истинно сказано, что был Авель безвинным страдальцем. А этот разве бы дал себя в обиду!
Андрей задумчиво поправлял рисунок легкими касаниями.
— Мы приносим сейчас на алтарь храма бескровные жертвы свои. А тогда были жертвы ветхозаветные: «…тогда возложат на алтарь твой тельцов».
— Но жертва же Каина была бескровной? Не потому ли Господь на него осерчал? — спросил Василий, удивляясь, как этот вопрос у него раньше никогда не возникал.
— Давид, царь израильский, в псалме своем говорит, что жертва Богу — дух сокрушенный, смиренный. Бог не оставит сердца, в коем сознание вины и греховности мучительно, яко огнь сожигающий.
— Так что же, значит, Каин своего брата родного на алтарь Господу принес? Это ты хочешь сказать?
— Нет, нет! — решительно возразил Андрей и даже сделал неверное движение рукой, отчего на лике Авеля возле губ образовалась горестная складка. — Авель кровавые жертвы приносил, а убийца его — бескровные, плоды земледелия, взлелеянные дождем и солнцем, не дивно ли?.. И скажи, великий князь, кто на кого первым ратью идет: земледелец ли на кочевника или же скотоводы кочующие на оседлых хрестьян?
Василий был ошеломлен вопросами изографа, даже головную боль почувствовал, словно бы его и впрямь тяжким мечом или дубинкой Каиновой по шелому ударили.
— Вот и я думаю все, прав ли Феофан? Может, он один на всем белом свете сумел проникнуть за тайную завесу, увидеть то, чего никому больше не дано? — Андрей продолжал машинально подправлять рисунок, затем, еще раз всмотревшись в лик Авеля, вдруг решительно замазал его, превратив в сплошной черный круг. Нет, не может того быть, не должно!
Василий опять не нашел, что сказать, спросил после продолжительного молчания:
— Это Авель, а как другие лики у Феофана?
Андрей очень хорошо понял суть вопроса, ответил со вздохом сокрушения:
— То-то и оно… Хоть немощна человеческая плоть у его отшельников, мучеников и праведников, однако великие страсти обуревают ими, в очах у них напряжение нечеловеческое, буйный, душу раздирающий порыв… И нет, не можно, не должно это!
Последние слова Андрей произнес хоть и не повышая голоса, но словно бы споря с невидимым собеседником, словно бы обличая самого Феофана.
— А хочешь по святым местам пойти, гроб Господен увидеть в Иерусалиме, церковь в Вифлееме с пещерою, в которой Спаситель родился, Назарет?
Андрей просиял лицом.
— Я и сам все тайно об этом мечтал… Сяду перед чистой доской, а работа на ум не идет, думаю: а как иконостас в Святой Софии в Константинополе, такой же, как мы снаряжаем?.. Опочивать в келье лягу, все чудится мне, что в Афонском монастыре я, а не в Андроникове на Москве… И в Риме хочется побывать, и в Афинах, да и Киев достославный надобно посетить, дабы лицезреть работу и греков, и первого русского художника — инока Алипия…
— Одна икона его письма у нас в Успенском соборе…
— Одна — что?.. Если одного только Авеля из всего Феофанова письма знать… Хотя… — Андрей опять опечалился.
— Поезжай, а вернешься, Благовещенский собор новый будем строить, да? — думал Василий ободрить и порадовать этими словами художника, но тот в еще большую задумчивость и грусть погрузился, ответил неохотно, вяло.
— Если вразумит Господь…
— Вразумит, вразумит! И знаешь, — увлекся опять Василий, — поедем вместе. Я вот к Тохтамышу собираюсь, наверное, он в Кафе будет, не в Сарае. А там ты дальше уж один.
— О да, княже, да! Феофан ведь и в Кафе работал, и в других местах Таврии! Благодарствую, великий князь! Пока сбираемся в дорогу, я повалушу и сени[46] изукрашивать закончу, а может, еще и Священное Евангелие разрисую, видел я в Чудовом, что писец-каллиграф для тебя переписывает а боярин Кошка басманную ковань по серебру делает — знатная работа. Ну, да и я бы не хуже заглавные буквицы да красные строки сделал, а-а, великий князь?
— Хорошо, Андрей, повелю Кошке все листы от переписчика брать и тебе приносить. Может, еще и несколько досок для моей молельной палаты напишешь, а то после пожара… — Василий не закончил речь увидев, как снова опечалился Андрей, как потупился он по-журавлиному и посмотрел взглядом жалким и умоляющим.
Взгляд этот долго преследовал Василия. Да и весь разговор очень хорошо помнился.
На великой крестопоклонной вечерне Василий творил вместе со всеми молитву, видел, как иерей выносил из алтаря украшенный живыми цветами святой крест, чтобы возложить его на аналой, на покрытое покровцом блюдо, повторял слова тропаря «Спаси, Господи, люди Твоя», а сам все пытался понять: случайно ли Андрей Рублев стал говорить об Авеле или же какую-то потайную цель преследовал? Как странно то, что история людей началась с братоубийства… И неужто так: весь род людской произошел от человекоубийцы?.. Потом Ромул брата-близнеца Рема убил… А наш Святополк Окаянный! И случайно ли, что на Руси вопреки протесту византийских митрополитов убиенные братья Борис и Глеб возведены в святые, хотя и не были мучениками за Христа, а пали жертвами в княжеской усобице, явив миру совершенно новый, чисто русский тип святых страстотерпцев — людей, претерпевших страсти.
После вечерни Василий обычно покидал храм через крытые переходы, ведшие в княжеский дворец, а нынче изменил обыкновению вышел со всеми молящимися на паперть.
Зимний день рано осмерк. Вьюга улеглась, залепленные снегом Благовещенский и Архангельский храмы были белы, как новокрещеные младенцы. Так же смотрелись в темноте и теремные башенки великокняжеского дворца.
Небо было в редкой наволочи туч, через которые пробиралась, спеша куда-то в полуденную часть света, полная луна. На желтом ее, словно бы насквозь просвечиваемом, круглом диске отчетливо видна была тень Каина, несущего вязанку хвороста.
3
На левом клиросе собора пели по-гречески, Феофан было и занял место в северном нефе, но затем раздумал стоять службу розно от Андрея и перешел в правое крылосо, где церковный причт вел литургию на русском языке.
Феофан всегда и везде — писал ли он фрески, просто ли шел по улице — обращал на себя внимание резкостью и размашистостью жестов, беспокойством поведения, таким он был и на богослужении — поклоны клал глубокие, руки вздымал высокоторжественно, несколько даже картинно, так что иные из прихожан с любопытством косились на него. Андрей стоял в молитвенной позе, тихой и кроткой, слова обращения своего к Господу произносил вполголоса, хотя и чисторечиво. Но уже во время проскомидии он почувствовал, что его рассредоточивает и мешает совершенно предаться любимой молитве неотступный взгляд, обращенный на него со стороны притвора — там, в предхрамии, отдельно от мужчин стояли за богослужением женщины, разноликие и разного возраста, но все в одинаковых белых платках, все одинаково истово преклонившиеся в молитве. И даже, наверное, поп с дьяконом не выделяли среди них ту одну, которая не столько на них да на иконостас возносила свои очи, сколько на темно-русую голову стоявшего у амвона вполоборота к ней молодого инока. Но Андрей сразу почувствовал на себе ее взгляд, не оглядываясь понял, кому принадлежит он — Живане, конечно же…
Встречает его как бы невзначай и на крытом переходе из великокняжеской повалуши в собор, где мостовая из дубовых плашек столь узка, что только двоим и можно разойтись, и на тесной тропинке меж сугробами через Яузу, где никак уж не разминуться, и на паперти, где тоже ведь не отвернешься в сторону. И сейчас, конечно, взгляд ее ореховых прищуренных глаз все тот же, ничего не требующий и даже словно бы и не ждущий ничего, только вопрошающий. О чем? И как уйти от него?..
Словно бы душно стало в церкви — то ли от жара горящих свечей, ладана и дыхания молящихся, то ли от суетности, неуместности тех забот, что завладели вдруг Андреем. Чтобы оградить себя от них, он нарочито усилил голос, так что теперь и Феофан мог слышать.
— В тебе есть власть, жить нам или умерети. Уложи гнев, милостиве, его же достойны есмь поделом нашим… Отнеле же бо благопризрение твое на нас, благоденствуем, аще ли с яростию призриши, ищезнем, яко утренняя роса… Сущая в работе, в пленении, в заточении, в путех, в плавании, в темницех, в алкоте и жажде и в наготе вся помилуй, вся утеши, вся обрадуй, радость творя им, и телесную и душевную…
Взгляд Живаны чувствовал на себе Андрей до конца службы, а когда потом вышли с Феофаном на паперть, тайно вздохнул и подумал, что он нынче уж не встретится с ней лицом к лицу.
Пересекли заметенную, в сугробах площадь и, обогнув храм Архангела Михаила, через Константино-Еленинские ворота направились по улице Великой мимо церкви Николы Мокрого. А возле следующей церкви — Зачатья Анны на Мокром конце — поравнялась с ними женка в заячьем торлопе. Поравнялась и встала в колеблющемся свете факелов (два челядина у входа в храм держали в руках длинные шесты, на верхних концах которых жарко полыхало в медных чашах масло). Андрей с Феофаном сразу узнали ее, остановились, переглянувшись: она — Живана! Но странно: не досаду и раздражение, но тихую радость ощутил в своем сердце Андрей и подумал даже, что неудовольствие и беспокойство переживал бы он в том случае, если бы она не встретилась, не пришла… «Рассеянный ум мой собери, Господи, и оледеневшее сердце очисти, яко Петру, дай мне покаяние, яко мытарю — воздыхание и якоже блуднице — слезы», — помолился он тайно, обратив взор на храм Анны, давшей жизнь дочери своей — Пречистой Деве Марии.
А Живана тем временем высвободила тонкую белую десницу из рукава[47], придерживая его одной левой рукой, осенила себя крестом:
— Матушка-заступница, сделай тайное явным!
Повернулась к Андрею, и он не столько увидел, сколько угадал в ее глазах все ту же неисцелимую тоску и кроткую настойчивость. И хотя ему слишком все хорошо было понятно, спросил:
— Что Пысою передать?
— Разве же он еще не постригся? — ответила она вопросом. И добавила: — А я в Хотьково надумала.
Вот и весь разговор, больше не о чем и речи сказывать, всем троим это очевидно, однако все трое стоят немо: Андрей боялся обидеть Живану, а та чего-то ждала еще, Феофан выдерживал молчание из вежества. Когда решил, что достаточно времени отпустил им двоим, объявил громко:
— Нечего стоять, как дроф! — Он уже отлично знал, что говорить надо не «дроф», а «столб», но также хорошо известно стало ему, что коверканье языка неизменно веселит русских, и на этот раз не ошибся: Живана засмеялась. Теперь можно было уходить.
Когда стали пересекать Васильевский луг и еле угадываемую под снегом Рачку, Феофан буркнул.
— Вот дэвка — дороже шапки!
— Ты опять ошибся словом… Не дороже, а дешевле, — рассеянно поправил Андрей, но Феофан упрямо повторил:
— Дороже! Не ошибся, а сказал, что хотел сказать. Что же, пропала шапка-то твоя, гляжу, все в заячьем треухе величаешься?
— Да, да… — все в том же пригнетенном состоянии духа находясь, подтвердил Андрей.
— У тебя шапки нет, у Пысоя невесты, а у резоимца гешефт.
— Не трог его… Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Резоимец этот не верит в новый союз человека с Богом[48], а то бы устрашился, ведь сказано: «Легче верблюду пройти в игольное ушко, нежели богатому в царствие небесное».
Феофан доволен был, что сумел растормошить Андрея, и он с еще большим азартом поджег его:
— Не верблюду, а канату.
— Я сам читал…
— Ты же читал по-славянски, а по-гречески «канату»[49].
Вскоре вышли на накатанную и блестевшую при свете луны Болвановскую дорогу, стали пересекать второй приток Москвы Яузу, которая в этом месте была очищена от снега. Завидев гладкий лед, Феофан по-мальчишески заулюлюкал, разбежался и поехал на подшитых, осоюзенных кожей валенках к противоположному берегу. Андрей без особой охоты, но сделал то же, и, пока догонял в скольжении грека, тот стоял, не двигаясь и ревниво следя, не перейдет ли Андрей на шаг, не станет ли дополнительно еще отталкиваться.
— Моя взяла! — обрадовался. — Вона сколько ты не доехал, шагов пять не то шесть.
— Откуда же?.. Шага два-три всего…
— Какой «два-три», какой «два-три», считай — все дэсят! И каждый раз я тебя обгоняю! — довольно заключил знаменитый Грек, искренне радуясь и гордясь, словно бы речь шла о серьезном ристалище или даже каком-то важном жизненном предприятии.
Они уже вторую седмицу ходили вместе на работу в Кремль и вместе же возвращались домой в Заяузье — Андрей в Андроников монастырь, а Феофан в слободу Таганскую, где жил вместе с торговцами и ремесленниками после того, как повздорил с монахами греческого монастыря Николы Старого в Москве и покинул отведенную ему там уютную келью.
Верст по пять было в один конец, о многом можно было двум изографам поговорить и помолчать. И о разном-всяком говорили, вот только о главном не решался никак Андрей спросить. Собственно, не решался впрямую задать вопрос: мол, почему между иконами, написанными разными мастерами — и замечательными притом мастерами! — почти нет никакой разницы, так что даже трудно сказать, в какой стране, в какой местности и в каком столетии они исполнены, а вот праотцы и отшельники твоей кисти производят неотразимое впечатление мощью образов и величавым достоинством, неповторимой и ни на какую иную не похожей живописностью? И о том не спрашивал, почему скромный, робкий и невинно пострадавший юноша Авель у Феофана на фреске в доблестного героя превратился, с дерзким и прямым взглядом широко раскрытых глаз, с выражением самовластности и гордого самосознания… Спросить обо всем этом — святую святых грешными руками тронуть не то чтобы тут какой-то секрет был, с которым мастер не захочет поделиться — убудет ли у свечи силы огня, если прижечь от нее свечу новую? — нет, тут тайна, а непростой секрет, и пытаться разузнать ее — все то же, что взять да и начать колупать старинную церковную фреску, пытаясь распознать состав красок или замес штукатурки… Но было в колебаниях еще одно сомнение, которое Андрей даже и в мыслях своих с негодованием гнал прочь, однако же оно все-таки давало о себе знать, тревожило: а вдруг и здесь окажется та же святая святых, которая была у иудеев и разрушив которую римские солдаты-язычники увидели лишь пустоту?
Андрей смог позволить себе лишь слабый намек — спросил.
— Скажи, Феофан, верно ли, что хитрость наша изографическая суть иноческое послушание?.. Или же свободное художество в Византии дозволяется.
— Знает творящий, что сам по себе ничего творить не может, — отговорился Феофан. Добавил после некоторого колебания: — Да и ты сам знаешь, не моя будет воля, но Твоя!.. — И, словно чувствуя неубедительность своих слов, продолжал скороговоркой: — Истинная воля, творческая, сверхчеловеческая, излучается через нас, грешных и безвольных, нами Tвopeц волит…
— И ты чувствуешь, как волит тобой Творец? — допытывался Андрей, — А я почему же ровно в потемках бреду?
— Вот съездишь в Царьград, на Афон, в Рим может быть, образуешься.
— Как — «образуюсь»? — Андрей остановился от изумления, поскользнулся на льду, едва устояв на ногах, приблизился скользящим шагом вплотную к Греку, посмотрел в упор в его смоляные глаза Разве же считаешь меня не образованным? Разве же не ношу я в душе образ Творца нашего?
Феофан сошел с голого серого льда на заснеженную закрайку берега, зябко втянул голову в воротник своего волчьего тулупа и ответил опять как-то странно, до обидного непонятно и небрежно:
— Раз есть Божий мир, значит, должен быть и Бог-творец. Мы не видим творца, но разве можем мы утверждать, что видим и знаем весь Божий мир? И всех кто в этом мире обитается?
— Да, да, Авеля, например? — не удержался-таки Андрей, спросил тоненько и сразу понял, что в цвет угодил. Феофан откинул на спину мохнатый, из желтого меха матерого волка воротник, и стало видно, как раздуваются ноздри его ястребиного носа, что служило верным признаком душевного неспокойствия. И акцент сразу стал явственнее:
— Авэл, Авэл! — Феофан широко раскрывал свой большой рот, не смыкая темных, сведенных морозом губ. Был он сейчас какой-то разбросанный, неуверенный в себе либо же не желающий обнаружить свои истинные мысли, — Дался вам этот Авэл!.. А те, кому ты нынче в соборе поклоны клал, а-а?.. Они ведь тоже не страдальцами изображены — при оружии и на конях, один на красном, второй на вороном…
— Борис и Глеб?.. Первые русские святые, первые чудотворцы… А икона, однако, греческого пошиба, не московской работы.
Ошибаешься! Хоть есть признаки палеологовского искусства, однако грек не станет писать лики людей, в чьей святости сомневались византийские митрополиты.
Сомневались, однако же причислили все же к сонму.
— Как страстотерпцев лишь.
— Да, как страсть претерпевших и убиенных неповинными новым Каином, о-ка-ян-ным Святополком.
— Нэт! — только-то и смог возразить строптивый Феофан и широко зашагал вдоль раменного леса, словно бы желая избавиться от своего настойчивого спутника. Даже и со спины его можно было угадать досаду.
Андрей был тоже рослым и сильным, тоже легок на ногу и ничуть не отстал от Грека, сказал ему в спину с раздумчивостью, как бы самому себе лишь:
— Не можно сомневаться, что русский мастер писал… Верно изобразил братьев. Их образ навеки в памяти народа запечатлелся, передается от деда к отцу, от отца к сыну… И в летописи точное описание ликов их…
Феофан, прислушиваясь, сократил шаг и словно бы остановиться надумал, но лишь снова поднял высокий воротник и зашагал еще решительнее и злее.
Деревья на берегу Яузы были темными, молчаливыми, неподвижными. И кажется — они разобщены, словно бы общее горе не соединило их, а, напротив, развело, чтобы каждый в одиночку переносил зимние невзгоды. Но это лишь кажущееся разобщение — меж ними нет вражды, и уже это одно делает их едиными.
— Знаешь, Андрейка, — остановившись, заговорил Феофан голосом задушевным, растроганным даже, — знаешь, какую краску решил я положить для свода небесного?.. Я «Праздники» пишу, ты лицезрел небось?
— Да, да, лицезрел!.. Какую же? — Андрей не сомневался, что волшебник Грек сейчас раскроет ему один из своих секретов получения голубца, и не ошибся.
— Ни одна другая краска, Андрейка, не может передать так прозрачность неба и все его оттенки, как ультрамарин, краска лазуревая — нежный и высокий цвет у нее!
— Как же ты ее приготовишь? Истолчешь в порошок заморский камень лазурит?
— Я покажу тебе! — пообещал Феофан. — Видишь, уже огни за деревьями, моя слобода.
Греки, жившие в Таганской, слободе, готовили пищу под открытым небом на треножных подставках, которые называли по-своему, по-гречески, таганами, отчего москвичи и слободу их так обозначили.
При свете ближнего костра Феофан вытащил из кармана шубы нательный четырехконечный крестик, выточенный из синего с белыми прожилками камня. Крестик был старый, правый конец перекладины наполовину отбит.
— Вот смотри, Андрейка, ляпис-лазурь… Камень сей меди в себе нимало не содержит и из металла только несколько железных частиц в себе имеет.
— Откуда он у тебя?
— Был тут купец наш один… Ушел.
— Туда ушел?
— Да, в мир забвения ушел он, а когда заканчивал свои земные расчеты, отказал мне этот крест, который он выменял когда-то на прежний свой золотой у одного русского в Подолии — побратались они в какой-то тяжкий час жизненных испытаний.
— Как же можно, Феофан?
— Что такое, Андрея?.. Вот пойдем поближе к костру. Секрет сейчас тебе расскажу. Одному тебе, потому как только ты один и достоин…
— Так ведь крест-то нательный?
— Вэрно! На Божье дело и пойдет, куда как с добром! — Феофан оглянулся с подозрением на подходившего к костру кашевара, снизил голос до шепота. — Это, Андрейка, не просто сделать. Надо лазурит прежде на огне прокалить, отчего цвет его станет гуще. Дробить и отмывать надо в различных маслах и в воде, а только потом уж растирать, понял?
— Понять-то понял, но как же ты будешь калить крестик?
— Обыкновенно, в тигле.
— Да нет, не то… Ведь это же — крест, это — представительство жизни будущей, загробной и блаженной, а ты…
— Эка!.. Не восьмиконечный же, не православный, а латинский крыж.
— Все одно, его же два православных человека на груди носили… Купец твой с ним перенес страдание и смерть, ушел с верой в будущее счастье и радость, а ты — «в тигле» все это хочешь спалить! Не надо, не делай этого, Феофан!
— Э-э, кабы Бог послушал худого пастыря, так весь скот бы выдох!
— Я не браню тебя, взываю лишь, крест перейти — грех на душу.
Феофан смотрел на Андрея и не понимал его — это ясно было и по недоумевающему взгляду его, и по тем словам, которыми он бездумно отговорился.
— Много ума — много греха, а на дурне не взыщут.
Андрей помолчал, подождал, не скажет ли еще чего-нибудь Грек, а не дождавшись, молча повернулся и пошел прочь от костра. Дошел до дороги, и тут его догнал Феофан. Бежал по следу быстро, но не запыхался, задержал Андрея, схватил цепкими пальцами за рукав нагольного тулупчика:
— Слушай, Андрей… Я вот не видел чудного старца, святого Сергия… Он похож, я думаю, на тебя, такой же…
— Какой — «такой же»?
— Ну, как бы малахольный, что ли…
— Это вас, греков, дразнят малосольными! отшутился Андрей, но Феофан не отставал:
— Епифаний Премудрый говорит, что Сергий стяжал паче всех смирение безмерное и любовь нелицемерную равно ко всем человекам, и всех вкупе равно любляше и равно чтяше, как Епифаний говорит, не избирая, не судя, не зря на лица человеком и ни на кого же не возносяся, не осуждая, не клевеща, не держа ни на кого злобы, ни ярости, ни гнева, ни лютости.
— Да, я был в его послушании и знаю: правду пишет Епифаний про Сергия… Чудный старец, верно, исполнен смирения безмерного, тих и кроток так, что ему вовсе чужды гнев или ярость, жестокость и лютость Он незлобив без всякой примеси хитрости Знаешь, бывают люди себе на уме, а он нет он, как Епифаний говорит, имеет «простоту без пестроты», он исполнен любви не лицемерной и нелицеприятной ко всем людям без разбора…
А правду Епифаний рассказывает, будто Сергий в отрочестве, до святости, не брал с собой ни кнута, ни погоныча, а скот единого слова его слушался?
— Даже и медведи, приходившие к нему потом на Маковец, кротко трапезу из рук его принимали. Есть самовидцы этого.
Феофан зябко втягивал голову в волчий воротник, переступал ногами на хрустком снегу, но не уходил. Андрей чаял, что Грек затем догнал его, чтобы сказать о своем согласии не калить в тигле лазуритовый крестик, но Феофан, воздев очи небу, молча рассматривал холодные сгустки звездных сияний, изморозь Млечного Пути — невидимой глазу простого смертного, но ведомой каждому христианину дороги Богородицы ко Христу в рай. Но все же, видно, было что-то у Грека на уме, имел он что-то сказать Андрею. И сказал:
— А ты вот молитву в соборе тростил, мне вовсе не знаемую… Про то, что мы исчезнем, «как утренняя роса»?
Андрею приятно было, что Грек столь внимателен и приглядчив, что сумел оценить тонко и проникновенно выраженную в молитве терпимость и Божью снисходительность к людям, ответил с удовольствием:
— То обращение ко Господу первого митрополита из русских Иллариона.
— Видишь вот. и святые у вас свои, и молитвы тоже русские… Изографов ваших я тоже встречал и в Новом Городе, и в Суздале. В Москве тоже… А если еще и ты образуешься, когда съездишь в святые места Учись, только помни, что нельзя на доске или фреске допускать изображений, производящих воспламенение нечистых удовольствий.
— Разве же бывает такое? — искренне удивился Андрей.
И тут наконец раскрылся Феофан, сказал то, что так долго таил:
— Кирилл с Белого озера приезжал ко мне и не захотел икон моего письма брать — говорит, что излишне телесны, осязаемы у меня святые. Как, говорит, у латинян непотребство. Но какое же у меня непотребство, а-а? Ты вот в Рим попадешь — увидишь: византизм в живописи подвергается там гонению, вместо святых пишутся грешные человеки и грешного же обличья — фигуры тут и тут с выпуклостью, абы живая плоть, и даже одежда не простая на них, а в складках. Не в таких, как у меня, не светом да тенью, но многоцветьем усложненных, письмом многослойным углубленных, дабы телесность человечья сквозь них угадывалась. Один флорентийский изограф Варвару-великомученицу срисовал с лиходельницы, а в Деве Марии — подумать только, в Деве Марии, единственной женщине в мире, допущенной к трону Бога! — свою полюбовницу, известную блудницу изо-образ-ил… Нэ-эт, этому не учись! Бегом беги подальше от них, как я сбежал в вашу чистую, святую Русь. Вы любите, чтобы и в песнях, и в сказаниях, и в живописи все было пристойно, целомудренно. И это — я понял, я знаю! — не от глупости или отсталости, а от уважения святынь, вы даже ведь и что-то непотребное в жизни умеете обсказать со скромностью. И уж так это мне любо, что я Русь как родину приемлю. И обидно мне слышать, да еще от такого богоуветливого человека, как Кирилл, будто в моих досках непотребство имеется… Нэт, ты скажи, Андрея, рази есть непотребство у меня?
— Нет, нет никакого непотребства у тебя! — горячо заверил Андрей, — Зело смело ты пишешь, это — да, так смело, что иной раз я смотрю и мураши по телу… И то, конечно, видно, что не простые то люди на фресках и досках твоих — сильные и телесно, и духовно. — Думал Андрей, что этих слов ждет от него Феофан, но оказалось, что в душе Грека была еще одна потайная дверца, оказалось, что не просто отрицания непотребства желал он услышать, но нужна ему была похвала, нужно было признание его первым и единственным изографом — он спросил прямо:
— Скажи, писал ли кто-нибудь когда-нибудь иконы лучше, чем я?
Андрей не нашел вопрос Феофана ни смешным, ни дерзким, ни наивным: он слишком хорошо понимал душу этого художника, понимал, чувствовал, что в его обыкновенной, человеческой и хрупкой груди горит пепелящий огонь, держать который в затворе выше сил смертного; огонь этот то охватывает творца пламенем чудовищного по напряжению труда, то возносит его в славе и в счастье, то бросает ниц, как последнего изгоя рода человеческого, а то вот делает слабым и сомневающимся, тщетно борющимся со своими слабостями и требующим немедленного слова полного и безусловного ободрения.
Феофан ждал ответа, опять запрокинув голову, рассматривая Моисееву дорогу, состоящую из несчетной бездны звезд. Понужнул негромко, не очень уверенно:
— Ну-у, что же ты молчишь?..
И тут подумалось еще Андрею, что потому-то, наверное, и пишет лики Феофан так, потому-то, знать, убеленные сединами старцы на его досках не в силах преодолеть внутреннего разлада, вечного страха искуса и гордынности. Но это же ведь — страх искуса и гордынности — грех превеликий, которого не должно быть в душе божественного творца!.. Андрей сам испугался сделанного открытия и, конечно же, не посмел эту свою догадку высказать, а на нетерпеливый повторный вопрос Феофана сказал только:
— Ты пишешь так, как никто не писал. Я признаюсь, что ты потряс меня и перевернул во мне все представления об изографической хитрости. Ты великий живописец: все плоско писали, ты первый делаешь с выпуклостью и без непотребства. Я знаю, как ты это делаешь, я люблю смотреть на твою работу, но сам, если бы меня когда-нибудь вразумил Господь, не стал бы так писать — такими мазками, широкими и небрежными словно бы, с такими бликами, без ясных форм, зыбко так, призрачно… Нет, не стал бы!
— А почему ты никак не пишешь — ни по-моему, ни по-своему?
— Не знаю… Черти душу скребут… Но знаю: если когда-нибудь возьму кисть в руки, как ты — не стану.
— Нэ станешь, потому что нэ сумеешь, — опять с сильным акцентом стал говорить Феофан, как всегда в минуты волнения и глубокого самоощущения своего величия и своей изографической исключительности. Повернулся и пошел опять к огням таганов, а Андрей неспешно зашагал дальше по Владимирской дороге[50].
«Теперь уж, наверное, пустит он на краску побратимский крест», — с прежним огорчением подумал Андрей и, чтобы разогнать досаду, резко зашагал к стоявшему на расстоянии одного окрика[51] на крутом берегу Яузы монастырскому подворью. Маковка церкви во имя Нерукотворного Христа была облита серебряным светом луны, а очищенные усердными монахами от снега лемешные и тесовые крыши келий и трапезной выделялись на заснеженном дворе черными квадратами. Ни лампадного язычка, ни огня лучины или фитилька в плошке с маслом — ни малого светлого проблеска не рассмотреть было сквозь затянутые мутными рыбьими пузырями крохотные оконца. И ни живой души окрест, но Андрей знал, что в тени частокола непременно таится, карауля его, несчастный Пысой, утешить которого нечем и нынче опять.
Андрей знал, что стоит ему сделать несколько шагов, как Пысой сразу приметит и признает его, кликнет по имени и побежит навстречу прямо через сугробы. Этого не избежать, но хотелось побыть одному, обдумать разговор с Феофаном, слишком значительный разговор, первый у них такой разговор, и, наверное, неповторимый уж.
Он запрокинул голову, как делал это Феофан, и увидел белесоватый широкий пояс Млечного Пути, тянущийся от земли к небу, от дуги овиди к самому зениту. Над мерцающей дорогой в небесной глубине ярко горят шесть звезд небесного Трона[52]. Андрей с детства знал, что это престол Божий, а Млечный Путь — гигантская лестница, соединяющая землю с небом, человека с его Творцом. Но Феофан-то, может, не только это, что-то еще большее и значительное видел, когда смотрел так долго на находящееся превыше небес созвездие Трона?.. Кабы спросить об этом его? Но нет, как можно!..
Есть такие сокровенные вещи, о которых вслух никак говорить нельзя. Андрей корил себя и испытывал чувство стыда за то, что и великого князя уверял, и Феофану объявил, что не будет писать иконы и фрески, но сам-то про себя всегда знал: не сможет он жить без этого, как без хлеба и воды, как без воздуха и как без этих вот звезд.
Интересно, однако, почему так Сергий вдруг заинтересовал Феофана? А может быть, и не вдруг? И раньше замечал Андрей в заносчивом Греке не только гордынность и капризность, но и нечто вроде робости, застенчивости… Только возможно ли совмещение таких противоречий в душе?.. В обычной душе — нет, невозможно, но в душе титана, сложной и пониманию недоступной, выходит, возможно!.. О-о, Феофан Грек, потому-то, знать, непостижимо искусство твое, что и душа твоя непостижима столь же!..
4
«Разве же он еще не постригся?» — спросила Живана, и вопросом этим сказала: «Нет, не пойду я за Пысоя замуж, пусть поступает в монастырь, как и грозился сделать в случае моего отказа». И этот ответ надо было сейчас передать пришедшему из заречного села Воронцова и, может, давно уж караулящему Андрея возле монастырских стен Пысою.
Первый раз Андрей увидел его возле Андроникова монастыря с месяц назад. Тот слонялся перед монастырскими воротами, пытаясь заглянуть внутрь двора и не решаясь сделать это открыто и прямо. Андрей спросил его, стесняется тот или боится зайти. Пысой признался, что у него нет сил решиться. А решение его — идти в монахи или погодить? — зависело от того, оказалось, что не может Пысой понять, где лучше — у Андроника, что поблизости от родного села, или же, напротив, подальше податься ему от дома — в Крутицкий монастырь или даже в Симонов. Наивность парня сразу была видна, но Андрей не удивился ей и не осудил Пысоя.
Тот раз стоял солнечный и не очень морозный день, Андрей совершал свой обычный путь на Воронцово поле[53] до речки Черногрявки, откуда привозил, когда наступал его черед, на санках березовые дрова, заготовленные монахами — распиленные и расколотые, уложенные в поленницы. Пысой вызвался помочь, и на возвратном пути Андрей рассказал ему историю Андрониковой обители.
Монастырская лошадка была старой, с провислым брюхом. Одного уха у нее недоставало, знала она лучшие времена, участвовала в ратях да и пострадала от татарской сабли. Чтобы облегчить и как-то скрасить ей жизнь, Андрей всегда брал с собой куски хлеба, оставшиеся после трапезы, скармливал их лошади в многотрудном пути с дровами. И никогда не садился в розвальни, шел рядом. И на этот раз поступил так же. И Пысой шел рядом. Дорога была узкой, Пысою приходилось порой сходить на заснеженную обочину, и он, проваливаясь, спотыкаясь и даже падая иногда, старался не отстать от Андрея, слушал его рассказ.
Андроникова обитель основана самим митрополитом Алексием при памятных обстоятельствах. Возвращался он из Царьграда после поставления на русскую митрополию патриархом Филофеем. В море зеленые волны столь страшно разгулялись, что все плывшие отчаялись в живых остаться, каждый о себе молился. Алексий дал обет Богу: «Если пристанища достигнем, то церковь воздвигну и составлю монастырское общее житие». И, как записал летописец, «бысть тишина велиа, и достигохом в пристанище тихое месяца августа в 16 день; и по своему обещанию помыслих поставиги церковь нерукотворного образа Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и устроити общее житие». Пришел Алексий к блаженному Сергию и сказал: «Хощу ныне исполнити обещание свое». Сергий рече ему: «Добро убо и блаженно дело, еже хощеши сотворити; и аще что требуещи от нас, сиа убо вся невозбранна ти есть». Митрополит же рече: «Хощу ученика твоего Андроника в том монастыре начальником устроить», на что Сергий ответствовал: «Как хочешь, так и твори». Алексий дал монастырю милостыню довольну и братию учредил. Взял у Сергия инока Андроника, пришел с ним в Москву. Здесь на Яузе, при впадении в нее ручья Золотой Рожок, где было место, угодное к монастырскому строению, воздвиг церковь во имя Нерукотворного образа Христова, который с собою принес из Царьграда, золотом и бисером украшенный. Этот образ и доныне в монастырской церкви стоит.
Дорога от лесной делянки до монастыря была бы коротка, но извивалась и стала оттого вдвое длиннее. Она то берегом шла, то лесом, то спускалась на реку. Этой осенью Яуза долго не замерзала, долго тянулись и тянулись по течению куски льда, но в одну из ноябрьских ночей резко переменился ветер, погнал встречь течению, и они стали дыбиться, громоздиться, а тут прихватил реку мороз, получился покров льда торосистым. Но на многих излучинах, под прикрытием крутых и обросших берегов, лед все же был гладким, и тут-то дорога и сворачивала на реку, где тащить воз лошади было полегче. Когда выбрались на очередное гладкое место, передохнули, Пысой заключил: «Этот монастырь мне годится».
Снег скрипел под полозьями розвальней, а когда спустились по отлогому берегу на лед речки, лошадиные копыта забухали гулко, с протяжным, застывающим в морозном воздухе звоном.
«Пойду! Годится это мне!» — окончательно порешил Пысой.
Андрею пришлось охолонить парня: сказать, что главное не в том, годится ли монастырь Пысою, но подходит ли Пысой монастырю, что не всяк монах, на ком клобук. На вопрос же, очень ли он стремится послушником стать, Пысой ответил простодушно, что вовсе не стремится, а решил сделать это из-за того, что не может жениться на приглянувшейся ему девице по имени Живана.
Боярин, у которого Живана в холопках была, требовал за нее выкуп — двенадцать гривен, почти полфунта серебра. А Пысой такой суммы не только никогда в своих руках не держал, но даже не видел, чтобы кто-нибудь другой обладал такими деньжищами. Родом был он из боярской семьи, имелась у родителей вотчина немалая, жили не бедно, однако денег свободных никогда в доме не водилось. Как и все русские феодалы, они все продукты, производимые их холопами, смердами, сиротами, серебрениками, изорниками, старожильцами, использовали исключительно лишь для нужд своей семьи да многочисленной дворни, слуг, челяди. Полученные в качестве натурального оброка хлеб, мясо, рыбу, дичь, ягоды, лен, полотна, кожи, мед поглощались внутри вотчины, на продажу шла лишь малость, когда надо было заиметь какие-нибудь ремесленные изделия или редкие заморские товары. Никогда не было заведено у русских заготавливать впрок продукты; серебро шло на посуду, золото — на украшения; не принято было и деньги копить — этому постепенно научили пришлые из других миров люди. Родители Пысоя жили по старине: «Бог даст день, даст и пищу», а когда стряслась беда, остался Пысой гол как сокол.
Надо бы тогда Андрею поинтересоваться, только ли в деньгах дело, но он воспламенился желанием немедленно выручить парня, не стал вникать в подробности.
Сгрузили они возле монастырской поварни березовые напиленные дрова, распрягли лошадь, задали ей корму. Затем Андрей сходил в келью и вынес свою новую, ненадеванную шапку из соболей. Она, можно сказать, случайно оказалась у него: расписывали церковь в Звенигороде, после окончания работ получила вся дружина по уговору сполна, но князь Юрий Дмитриевич столь премного доволен остался, что наградил сверх меры еще и соболями вот.
Пысой шапку взять отказался, опасаясь, что его с ней сочтут за вора. Андрей посмотрел на его одежду, опорки, заячий треух, вытертый до шкурки, согласился, что да — не по Пысою шапка.
Пошли в Москву вместе. На Ленивом Вражке за Арбатом жил один резоимец. Это был притекший из Польши и быстро разжившийся довольно богатой усадьбой иудей. Иудей как иудей, обыкновенный иудей — с пейсами, в длинном хитоне, в ермолке, подбитой толстой кожей. Сначала был он ювелиром, отливал в каменных литейных формочках золотые и серебряные перстни, бляшки, нательные крестики, подвески, делал костяные гребни, прясла, браслеты из стекла, бусы. Даже из дерева он поделки готовил на продажу — коромысла, дуги, санные полозья. Однако разбогател он не на ремеслах, а на том, что давал в долг деньги под залог вещей.
Андрееву шапку хозяин усадьбы разглядывал презрительно, почти брезгливо, словно то были не соболя, а дохлые крысы. Сказал, что оценивает ее в два рубля, но после некоторого торга согласился дать четырнадцать гривен. «Дороже моей невесты твоя шапка!» — удивился Пысой, на которого ростовщик сделал долговую запись, уведомив, что через месяц шапка будет стоить шестнадцать гривен, еще через месяц — двадцать, а затем ее может побить моль. Пысой заартачился было, стал торговаться и оскорбил ростовщика, назвав его христопродавцем. Но тот не обиделся на слово, был он иудей умный и оттого покойный и печальный: понимал он трагизм своего положения, как и положение всех других евреев — вечных переселенцев[54]1. И он сказал Пысою очень толково и горестно, что у каждого народа есть пристанище, есть свой клочок земли, даже кочевые татары и монголы могут найти утешение в своих степях, даже дикие зыряне, у которых он скупал по дешевке мягкую рухлядь, имеют свою реку и свои снега, а у переселенца нет ничего, кроме этого вот кованого сундука, и чем полнее будет этот сундук, тем больше утешения получит его владелец. Пысой нашел эти слова вздорной отговоркой, но Андрей объяснил, что резоимец руководствуется Талмудом, который считается началом и концом мудрости человеческой, однако верить надо, что и он узрит свет истинный и главную божественную заповедь — любить ближнего, как самого себя; сидящий же на кованом сундуке достоин жалости и сострадания, а не гнева. Слова Андрея явно порадовали резоимца и даже на некоторое время вывели его из печали, он, вероятно, воскликнул при этом про себя: «А гуте идише коп!», как обычно делают еврейские ростовщики, если им удается удачно и ловко обтяпать какое-либо дельце, особенно если оно связано с надувательством христианина. Андрей заверил, что шапку выкупит, просил беречь ее от моли, в ответ услышал торжественную клятву: «Да чтобы я обнищал, как Иов!» — слова эти должны были свидетельствовать о том, что был он ростовщиком честным и порядочным. И он, конечно же, безошибочно угадал в Андрее добрую русскую душу, совершенно не зараженную безнравственностью национальной розни, а про Пысоя же подумал как о несчастном существе, лишенном природой сметливости, доброты и ума.
Поблизости от усадьбы ростовщика на берегу Черторного притока и тот боярин жил, у которого Живана была в невольницах. Андрею не хотелось идти к боярину, но поддался уговорам заробевшего вдруг Пысоя, о чем потом очень сожалел, потому что из-за этого совместного похода все, кажется, и приключилось.
Как выяснилось, Живана раз один лишь, и то мельком, в церкви видела Пысоя, вовсе не собиралась замуж за него идти, хотя и сказала, что хотела бы получить волю у боярина. Но Пысой из этих слов ее большие мечтания свои составил и сам в них поверил. Да, может, так бы оно и сталось, может, и глянулся бы он ей, не явись вместе с ним Андрей. Не то чтобы она сравнивала их, выбирала, капризничала, и не то чтобы Пысой проигрывал Андрею по обличью или был каким-то пыжиком — нет, и он, рослый, крупный, даже как бы и поважнее, позначительнее из себя выглядывал, нежели друг его в черной долгополой ряске. Загадочна душа человеческая, а душа женщины и вовсе не известно, чем руководствуется в своем выборе и в своих решениях. Почему показался ей Пысой непримечательным? Был Пысой вскидчив, резок, нетерпелив, а белое лицо Андрея, легкая осанка его являли пример спокойствия и устроенности, по взгляду его глубоко утопленных и потому не ясно какого цвета глаз нетрудно угадать было, как далек он от суеты будней.
Андрей раскаялся, что пришел, сразу же, как только Пысой рассказал о его соболиной шапке. Получилось, что Андрей против желания своего как бы нарушил заповедь Господню — «когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улице, чтобы прославляли их люди». А Живана с улыбкой, но вполне серьезно заявила, что раз ее выкупили за шапку Андрея, то она в таком случае становится его невольницей.
Сначала Андрей с Пысоем ее слова приняли как шутку, но Живана взяла их за незыблемое основание, неминучее начало, хотя скоро с несомненностью ясно стало, что словами этими она только лишь прикрывается, отговаривается.
Живану нельзя было, пожалуй, назвать красивой, но лицо ее сияло замечательной выразительностью. Она чуть подкашивала на один глаз, и этот порок вовсе не уменьшал ее дивной привлекательности, но, напротив, делал взгляд ее очень ласковым, лукавым и веселым — таким, какой может увлечь человека до болезненной страсти, что и произошло с Пысоем.
Он настойчиво преследовал ее, канючил: «Ну почему, почему ты не хочешь замуж за меня пойти?» Слышал в ответ: «Не догадываешься сам?» — «Нет». — «Что же, голова у тебя для того только, чтобы щи хлебать?» — смеялась она. «Нет, еще и меды пить, — надеялся он поддержать игривость общения, — да еще шапку носить». — «Вот-вот, дурень ты, Пыска!» — заключила она уже всерьез и с сердечной печалью.
Живана уехала от боярина, в рабстве у которого находилась с малых лет своих сиротских, стала жить трудолюбезно, кормясь тонкостным рукоделием. А когда поняла, что не может мирская судьба ее задаться, решила идти в монастырь, чтобы жить в постах и молитвах, в чтении божественных писаний, в умилении и в слезах. Иноческий идеал для оскорбленной женской личности был исключительным и самым высшим идеалом существования, ибо в нем одном только она и находила удовлетворение своим нравственным самостоятельным стремлениям: между семьей и монастырем ей не было места. Этим нравственносамостоятельным путем шли в основном вдовы, но и девицы немало постригались в монастырь — из тех, что увечны или стары, так что замуж взять их никто не хочет. И как редкое исключение были среди инокинь девицы и такой вот судьбы, как у Живаны.
5
Пысой, верно, ждал Андрея возле монастыря, но на этот раз не побежал ему встречь, видно безошибочно догадываясь, что и нынче обнадеживающих слов не услышит.
Андрей кивком головы позвал его за собой: еще утром уговорились, что вместе пойдут к игумену Александру, в послушание к которому хотел поступить Пысой.
В келью Александра войти без сугубого поклона было невозможно: дверной проем низкий, а Пысой, как и Андрей, росту преизрядного. Так и за порогом встали — в поясном преклонении. У Александра в келье в это время находились два монаха. Они стояли, сложив на груди в молитвенной кротости свои натруженные, крепкие руки, смотрели на вошедших приязненно.
Александра преемника основателя монастыря Андроника, знал Андрей много лет и любил его истинно по-братски. Если Сергий Радонежский был в Троице полным владыкой ума и сердца Андрея, то с Александром были они просто сотоварищи и сопостники. И судьбы жизненные у них были схожими. Александр тоже рано осиротел, тоже много поскитался по свету, тоже пережил горе, перевернувшее всю жизнь. Когда рассказывал Александр, как он в двадцать лет потерял сначала малютку-сына и как следом за ним ушла и двадцатилетняя жена, Андрею слишком понятны были его чувства: и в его жизни за одной страшной бедой последовала вторая, такая же неотвратимая. Оба они одинаково остались с сокрушенными и неутешными сердцами. В минуты особой откровенности поверял Александр самые тягостные свои воспоминания того, как он целые дни проводил на могилах жены и сына, друзья ходили за ним неотступно, боясь, что он с горя что-то сделает с собой, наложит руки на себя и тем тяжкий грех совершит против Бога. И совершил бы — это так было ясно Андрею! — ибо жизнь казалась совершенно бессмысленной, и не устерегли бы его друзья, не содрогнись он сам от мысли, что самовольный уход из земной жизни — это отступление от Бога живого и животворящего, это измена, нарушение присяги, данной Богу при крещении, это разорение святого, праведного и вечного Божьего закона, это оскорбление вечной и бесконечной Божьей правды, оскорбление Господа самого. И он сумел преодолеть великий искус — прервать своей рукой нить своей жизни, оставил себя пригвожденным к кресту страданий, хотя бесы и нашептывали ему советы насладиться свободой, подобно тому, как иудеи говорили Христу: «Сойди с креста — и уверуем». Не уклонился Александр от страданий, не позволил себе отделиться от Бога, а затем и всю свою жизнь без малого остатка посвятил одному Господу. Да и как было не сделать это ему, православному христианину, если даже начальник синагоги Иаир, когда умерла у него единственная дочь, презрев заповедь единоверных своих иудеев, при толпе свидетелей пал к ногам Иисуса Христа!.. Все это было слишком понятно Андрею, слишком близко и сокровенно.
И как кровь людская льется, оба они видели — один на Пьяне, второй на поле Куликовом.
Для обоих почти в одно время настала пора возмужания, пора гражданских тревог и душевных метаний, каждый чувствовал необоримую потребность выразить себя как сына своего времени, каждый понял, что как врага можно поразить мечом, так тьму можно разогнать делом, светлым, служащим добрым силам жизни. Александр переводил с греческого многие умные книги, а Андрею вложил Всевышний оружие более сильное, чем меч, — кисть изографа. И для обоих нормой жизни стал всепоглощающий труд: не только лес вырубать, дрова колоть, воду носить, огородничать, расчищать пашни, главное — ежедневные до изнурения труды ума и души.
К такому труду думал Андрей приобщить и Пысоя, с тем и ввел его в келью игумена. Сказал коротко, какая печаль подтолкнула Пысоя на иноческий подвиг, тот подтвердил, что да, в миру спастись ему не мощно, что там одни только мятеж да злоба. А когда Андрей сказал, что Живана в Хотьковский монастырь решила пойти, Пысой воскликнул:
— Тогда и я в Хотьковский! Я знаю, где это, буду с ней вместе[55].
Александр с укоризной посмотрел на Андрея: мол, кого ты привел! Повернулся к поставцу — узкому ящику с полками без дверец, выбрал из пачки пергаментных свитков один лист.
— Аз, буки ведаешь? Чти вот здесь.
— Азбуку я ведаю… Умею, — похвалился Пысой и начал читать медленно, спотыкаясь, но все же верно передавая смысл написанного: «Песни песней Соломона… Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое — как разлитое миро; поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою, — царь ввел меня в чертоги свои, — будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино… На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя…» — Пысой залился краской, рот растянул в улыбке.
— Что, нравится? — строго спросил Александр.
— А то-о! — опять без малой самоотчетности отвечал Пысой.
— Вот когда слова эти будут повергать тебя в стыд и неприятие, тогда и в обитель приходи, а до той поры будешь взбрыкивать, аки меск.
— Так ведь — Биб-ли-я же, писание священное! — огорчился Пысой.
— И то тебе надо постигнуть, что писание бо много, но не все божественная суть. Надо обрести правые списки, по возможному согласные разуму и истине.
— А зачем же ты переложил с греческого не то с арабского на общепонятный язык, если это не правый список? — нашелся Пысой, и Александр стал втолковывать ему, что нравственная чистота отнюдь не во внешних действиях выражается. Потом достал новый свиток пергамента, зачел из него:
— «Целомудрие же и чистота не внешне точию житие, но и сокровенный сердца человек егда чистотствует от скверных помысл». Так не я говорю, но великий учитель наш преподобный Сергий из Радонежа.
— Значит, я человек и в миру непригодный, раз Живана меня отвергла, и для постнической жизни не гожусь, видно, в тени я родился… — Пысой приуныл, так что Андрею жалко его стало, он вступился:
— Но, Александр, преподобный Сергий призывает большую терпимость изъявлять по отношению к тем, кто не хочет или не может следовать нашим жизненным правилам. Сказано им: «Ты, человече Божий, таковым не приобщайся, не подобает же на таковых и речьми наскакати, ни понощати, ни укороти, но Богови оставлять сия». — И, уж обращаясь к Пысою одному, добавил: — Более всего бояться надо, чтобы в душу к нам не закрались печаль и уныние, человек должен всякую скорбь отметать умною молитвою и чтением, упразднять ее сообращением с духовными людьми и беседами.
— Знаем мы с братом Андреем по себе, — сказал Александр, — что самое страшное, когда печаль и скорбь переходят в уныние, люта эта страсть и тягостна. Когда волны уныния поднимаются в нашей душе, теряет человек в это время надежду когда-либо избавиться от них.
— Пойдешь, Пысой, ко мне в помощники, будешь камешки для красок растирать, кисти мыть, доски… Хотя нет, досок не касайся покуда.
Пысой радостно согласился, и игумен одобрил:
— Станешь приобщаться к иноческому бытию, заниматься мысленным деланием, сердечным хранением, ибо высшая цель нашего существования на грешной земле — молитва. Но не простая, а умственная, внутренняя. Если молишься только устами, а не душой, то лишь воздуху молишься: Бог внемлет уму, только внутренним усилием можно достигнуть Бога. — Александр говорил еще о том, что внутренняя молитва служит не только средством для очищения нашего сердца и страстей, но является высшей целью иноческого самоусовершенствования.
Пысой не мог проникнуться сразу всеми обрушившимися на его неискушенный ум мысленными деланиями, не все вопросы практической морали, высказанные Александром и Андреем, были понятны ему. Слушал он с прилежанием, внимал благоговейно, а в душе билось радостной птичкой: «Андрей берет меня к себе, чего же лучше!»
6
Многие, и Феофан в их числе, удивлялись, что взялся Андрей великокняжескую повалушу расписывать, в придворные художники определился. Андрей, не вдаваясь в подробности, говорил просто:
— Любезен мне издавна великий князь Василий.
Он правду говорил, однако же не всю. А в чем заключалась полная правда, первым и сразу же понял Феофан.
— Предивная хитрость, пречудная красота! — восхищались и свои люди, и иноземные, жившие в посольском подворье Кремля.
— Как красоте нэ быть, когда Андреа руку приложил, — сказал бездумно Феофан, а потом позорче присмотрелся, посерьезнел и так вывел — Тонкостное и предерзновенное письмо, ровно бы дымом писано.
И пока лишь один Андрей понимал истинную цену этих слов, все в похвале великого Грека тонкостность письма находили главным, а значение дерзновенности не улавливали.
Горница, да повалуша, да меж ними сени — это обычная форма русского жилья, кому бы оно ни принадлежало — великому ли князю да боярину или крестьянину да ремесленнику. Обыкновенная русская крестьянская изба, срубленная в великокняжеском дворце для государева житья, сколь бы богато ни была расписана и изузорена, дорогими тканями убрана, оставалась все-таки избою по своему устройству, с теми же передними и кутными углами, лавками, коником, с той же мерою в полтрети сажени. Она и название общенародное сохраняла — изба. Но, конечно, была у великого князя изба многожильная: над одной — вторая, затем третья, а уж самая последняя — горница.
И резное дело, как и роспись, в великокняжеских хоромах по рисунку и исполнению отмечены были тем же нравственным началом, что и при обряжении простой крестьянской избы. Само собой, конечно, мастера тут выказывали больше затейливости и замысла, потщательнее да почище исполняли работы, однако характер художества оставался неизменным. И подобно подлинникам — раз. навсегда заданным образцам для письма церковных фресок и икон, так же и украшение избы делалось по ознаменникам — рисункам, которые рабски переводились с искони принятых, заученных и освященных веками примеров. Не могло быть и речи о проявлении какой-либо смелости и самостоятельности, да это казалось и ненужным: все в жизни велось по старине да по пошлине, сегодня так, как вчера, завтра — как сегодня.
И вот Андрей Рублев дерзнул сбросить цепи, которые с угнетающей силой сковывали воображение изографов и вынуждали их с младенческой наивностью изображать заморских львов, грифонов, райских птиц, сходство которых с натурой можно было подтвердить только предыдущими образцами, но не самими рисунками. Даже и человека самого изображали так, словно никогда его не видели, а если видели, то вовсе не умели рисовать.
Феофану достаточно было взглянуть хотя бы на травы, нарисованные Андреем, хотя бы на то же спелое яблоко боровинку, чтобы понять: тут нет ни повторений, ни заученных образцов, ни скудности и сухости, ни раболепства — тут творчество! Но даже Феофан не знал, что подвигнуло Рублева на этот шаг — расписать повалушу по-своему.
Малые дети из семьи великого князя — пятилетняя Анна, на два года старше ее Петр и самый младший из всех, недавно говорить научившийся Константин — бегали вдоль стен повалуши, радостно тыкали пальчиками в рисунки, спорили, какой из них лучше. Самый старший из княжат Андрей (ему уже десятый год шел) был вершителем, он отвечал на детские вопросы о том, кому отдавать предпочтение — пестрой ли черно-белой сороке со ступенчатым хвостом или сиреневой строгой вороне, тополю, липе или березе, простодушному цветочку ромашки или боярыне-розе, лошади скачущей или же мирно пасущейся на изумрудном лугу.
Андрею доставляло радость наблюдать за детьми. И вдвойне было радостно ему знать, что Феофан Грек умеет, оказывается, чужие святыни уважать: не то лишь хорошо, что он рисунки похвалил (хотя и это одно уже дорогого стоит!), а то, что пощадил — таки нательный крестик из лазурита, сказал, что сделал голубую краску из смешения разных трав — вайды, василька, черники да сон-травы.
Не только Феофан, все сплошь люди вокруг до того славные! Сколь отрадный разговор с великим князем состоялся нынче…
На дворе смерклось под вечер как-то внезапно, как всегда это бывает в феврале — кривые дорожки. Сначала крупные снежинки стали редко носиться в воздухе, словно бы не падали с неба, а толклись, играючи, на одном месте вниз — вверх, направо — налево, снова вверх — вниз… И становилось их все больше и больше, все гуще и непрогляднее становился свет за окном, пока вдруг, в одно мгновение ока, запуржило, уж не играючи и не шутя: решительно, свирепо завыл ветер, а плясавшие снежинки так зачастили, что превратились в сплошное неистовое месиво.
— Дьявол играет! — сказал великий князь и предложил Андрею остаться ночевать нынче в Кремле.
Андрей, уже вздевавший на руки тулупчик, заколебался, а Василий стал уговаривать — соблазнял тем, что очень весело будет вечером в потешной хоромине, что и в шахматы можно будет позабавиться при ярких свечах, а вдобавок сказал таинственно:
— Если останешься, я тебе свою тайну о Каине и Авеле поведаю.
— Вот если поведаешь, — хитро улыбнулся Андрей, — если это действительно тайна, то останусь.
— Да, поведаю то, чего не ведает никто! — Василий Дмитриевич имел сердце доброе и общительное, а нынче он был в особо хорошем благорасположении: добрые ведомости принесли ему гонцы и из Нижнего Новгорода, и из Новгорода Великого, и из Орды.
Они прошли вдвоем в отдельную палату, располагавшуюся в подклети терема и называвшуюся потешной хороминой: здесь в казенках, поставцах и скрынях хранились струменты: бубны, сурны, дойры, волынки, гусли с металлическими или жильными струнами и молоточками, обтянутыми сукном. Палата рассчитана была на многолюдство, потому преизрядно тут было скамей — простых на четырех ногах и с проножками, а также с переметом, у которых решетчатые спинки переметывались на вертлюгах; были скамьи малые передаточные и большие спальные с взголовашками на одном конце.
— Садись! — предложил великий князь, и Андрей вознамерился сесть на столец — обрубок толстого дерева, однако Василий не допустил этого: сам сел в кресло с ручными помочами и подручками, а Андрею указал на такое же почти, но только еще более удобное — с подножной приступкой внизу, весело пояснил: — Гостю — красное место!
— Благодарствую… Так за что же Каин Авеля убил?
— За то, что тот отказался иконы писать! — В игривом настроении был государь.
Андрей ответил в масть:
— Значит, из нас двоих Каин — это ты?
Василий оценил шутку, улыбнулся, а тут же и посерьезнел, сказал, близко глядя в лицо изографу:
— Знаешь… Я все думал, думал… О том думал разговоре с тобой… Ты тогда удивлялся: почему земледелец Каин убил скотовода Авеля, а не наоборот, что степняки — хищники, а оратаи домовиты… И как же понять это разумение, как уразуметь понимание? А вот как: справедливые и праведные люди, оседлые и возделывающие землю, взращивающие хлеб насущный, и должны взять верх, должны победить, это и предопределено самыми первыми детьми Адама и Евы в назидание всем поколениям до скончания века, до Страшного Суда.
Андрей был изумлен. Как много сам он об этом думал, сколь много с братией говорил: никто из иноков и высокоумных книжников в монастыре не умел так внятно ответить.
— Ты прочитал об этом в книге или своим умом понял?
— Разве же есть об этом в какой-нибудь книге? — огорчился Василий.
— Нет, я не встречал. Значит, своим умом?
— Да, своим… умом, — Василий смутился, краска прилила к лицу и даже видна была сквозь пушистые светлые волосы коротких усов и бородки.
И это растрогало Андрея: государь, великий князь всея Руси, а умеет еще смущаться, краснеть. Но больше всего, конечно, удивляло, ошеломило даже, что вот он все думал, выходит, не зря думал! Какое это счастье для Руси, что государь ее и молод, и думать умеет!
— Да, да, княже, хорошо… И потому, значит, Каин был самым первым человеком, родившимся на земле, чтобы все крепко-накрепко знали: первый человек — это земледелец, он соль земли… Но, однако, почему же таким дерзновенным изображен Авель у Феофана Грека?
— Все потому же, — И на этот вопрос, как ни странно, имел ответ великий князь. — Степняки-скотоводы ведь очень сильные, гордые и выносливые люди. Возьми тех же татар. Нешто Русь терпела бы их столько, будь они слабыми да робкими?
Когда зашла речь о татарах, Василий видимо опечалился, сказал, что вот опять ему надо в постылую Орду ехать, опять Тохтамышу кланяться — тому самому Тохтамышу, которому не может быть прощения за жестокое его разорение Москвы.
Андрей ведь тоже был очевидцем страшного несчастья: такое, говорит, можно вынести только один раз в жизни.
Вспомнили, что оба они очень хорошо знали перебелыцика рукописей Олексия, которому татары отрубили обе руки и который умирал потом долго и трудно.
— Мало успел сделать Олексий, а зело талантлив был, я любил смотреть, как он пишет да буквицы рисует, — сказал Андрей. — Помню, Псалтирь он отцу Сергию поднес на Благовещение, дивная книжица.
— Он и для меня по заказу отца моего тоже Псалтирь переписал. Она чудом не сгорела, в скрыне была, а татарам, грабившим терем, видно, не показалась чем-то, полоснули ее саблей, угол один отрубили. Вот, смотри.
— Нет, то была не такая.
— Лучше, хуже? — ревниво спросил Василий.
— Просто наинак сделана… Там строго, а тут, смотри-ка, потешно, знал, в чьи руки попадет Псалтирь: ты ведь, чать, дите еще был?
— Постриг и посажение на коня уже прошел, с отцом на рать ходил!.. Десятое лето мне шло.
Василий и Андрей склонились над раскрытой Псалтирью, рассматривали забавные рисунки и громко смеялись. Они похожи стали на расшалившихся, забывшихся в игрище детей, и премного были бы удивлены званные нынче на вечер в потешную хоромину иностранные посланники, если бы пришли чуть раньше и застали бы их — государя и монастырского чернеца, столь до самозабвения увлеченных рассматриванием картинок.
— Смотри-ка, букву «р» сделал как человека с поднятой банной шайкой в руке.
— Ага, а чтобы уж никто из малых детей не усомнился, что все верно нарисовано, приписал. «Обливается водой».
— Как-то чудно он обливается — в одежде, смотри, в белой подпоясанной рубахе до колен и в синих штанах…
— Да, маленько недодумал Олексий, царство ему небесное!
— А букву «м» как здорова придумал изобразить! — восхитился Андрей, рассматривая рисунок: два рыбака тянут сеть, левая мачта буквы — один рыбак с клячей в руках, средняя часть — сеть с рыбами, правая мачта — другой рыболов. Видно, сам большую радость от работы испытывал художник, мало и тут ему показалось рисунка, добавил от себя: «Потяни, корвин сын», — говорит один рыбак, а второй в ответ ему: «Сам еси таков».
— Помню, боярин Кошка сильно бранил Олексия за то, что он отсебятину вносит, когда текст перебеливает.
— Хорошо, что отсебятина, — весело возразил Андрей. — Без нее разве бы стали мы с тобой так радоваться. Смотри: букву «в» как придумал делать, эх и глуздырь был этот Олексий! Я бы не додумался… А хорошо раньше было в Москве зимой: бывало, идешь, а на улицах костры разложены, можно руки озябшие погреть, посидеть у огня, вот как этот человек, Олексием нарисованный.
Василий посмотрел на рисунок, на котором длиннобородый человек присел на корточки и протянул руки к небольшому ярко-красному костру, прочел отсебятину — «Мороз, руки греет», ответил со вздохом сожаления:
— Больно страшно погорели мы, как вспомнят люди о том пожаре, всякая охота руки греть пропадает — не самолично один я костры раскладывать запретил на улицах… Каменный город надо строить. Храмы все будем ставить на века, вот только где каменных здателей да изографов хороших найти…
Феофан нарасхват — и дядя Владимир Андреевич его манит в Боровск да Серпухов, и Юрик свой Звенигород отстраивает. Надеялся я зело крепко тут на одного своего изографа первостатейного, а он подводит…
— Кто такой?
— Да рядом со мной сидит.
Посмеялись, Андрей посерьезнел, после долгого молчания сдержанно пообещал:
— Вот съезжу, образуюсь, как Феофан выразился, тогда, может, наставит Господь, вразумит.
— Надо подсобить ему.
— Кому?
— Господу.
Андрей с укоризной посмотрел на великого князя, однако не сумел сдержать опять веселого смеха. Но это уж и последнее их легкомыслие было: начали собираться званые гости.
7
В хоромине заметно развиднелось, хотя свечей еще не зажигали. Василий и Андрей одновременно посмотрели в окно — пурга кончилась. Об одном подумали оба, встретившись взглядами, и молча объяснились: Андрей вскинул в изломе красивые свои соболиные брови — де, не судьба, значит, оставаться мне, на что великий князь негодующе погрозил перстом.
Если честно признаться себе, то Андрею и не хотелось уходить, влекло его остаться в потешной палате да послушать великокняжеских бахарей и домрачеев. Он умел радоваться и самым малым радостям, видел их там даже, где другие люди равнодушными оставались или даже впадали в уныние. Ну, не радость ли найти в лесу хороший гриб, а затем вдруг да и заблудиться, поплутать среди деревьев до темноты!.. Или с Пысоем, либо с Александром в городки сыграть, да еще и обставить фигуры на две!.. А сколь великое удовольствие рыбку в Яузе или в Красном пруду поудить — сорог оранжевооких, окуней с багровыми еловцами!.. Много, слишком много радости кругом, несказанно хорош Божий мир! Ночью выйдешь на монастырский двор, запрокинешь голову — там ковшик большой: зимой донцем вверх, будто проливает воду, чтобы не замерзла, летом — черпает будто. А вокруг тебя — люди, птицы, деревья, травы, все хочется видеть, впитать в душу и самого себя почувствовать в беспредельности этого прекрасного мира Божьего. И начинаешь чувствовать некое связующее тебя с бесконечностью начало, которое отвлекает душу решительно от всех житейских и земных забот — занимают они не больше, чем резной воротний столб у входа в монастырь; и начинаешь вдруг прозревать то, что долго и трудно искал и что сейчас словно бы само далось, — не это ли состояние называют люди счастьем?
В великокняжеском дворце жили старики, имевшие по сто лет от роду, а один старик, у которого уж и единого зуба во рту не осталось, был столь старым, что и сам не помнил, сколько лет ему — знал только, что давно уж второй век живет. Называли их все уважительно верховными богомольцами. Можно было бы именовать их и просто придворными сказителями, кабы не были они все слишком уважаемыми за благочестивую жизнь и ветхость дней. Называли их еще и верховными нищими, было на Руси нищенство не пороком, но доблестью.[56] Жили они все подле великокняжеских палат в особых помещениях дворца и на полном содержании и попечении государя.
В длинные зимние вечера Василий Дмитриевич, как до него Дмитрий Донской, а еще раньше того Симеон Гордый, Иван Калита, призывал верховных богомольцев в потешную хоромину, где в присутствии великокняжеского семейства и особо званных гостей они рассказывали о старине.
Менялись государи, умирали и приходили им на смену новые богомольцы верховные, но все они свято хранили свидетельства о событиях и делах минувших, о дальних странствиях и походах, свершавшихся не только на их памяти, но известных им по рассказам почивших в бозе предшественников.
А кроме них были еще слепцы домрачеи, которые распевали былины под домры, и бахари, говорившие песни и сказки, гудочники, певцы и плясцы. Все они были одеты в пожалованные великим князем дорогальные, для скитания по дорогам, кафтаны и рясы из недорогих, киндячных и смирных тканей, хотя на иных были одежды и из крашеных материй, кумачных или зеленых.
Андрей с любопытством наблюдал, как заполняется хоромина взрослыми и детьми, людьми знакомыми и незнаемыми, в одеждах привычных и чудных заморских.
Пришла и Евдокия Дмитриевна, великая княгиня непраздная — в окружении малых сыновей и дочерей. Как и подобает матерой вдове, сидящей на вдовьем столе — на отчинном владении своего мужа, она была, по нравам своего времени, активным деятелем государственной жизни, вместе с великим князем Василием заседала в советах с боярами, принимала послов. А Софья Витовтовна, хотя именовалась великой княгиней тоже, от общества отстранена была, являясь членом не светского, но лишь домашнего мира. Но в потешную хоромину они приходили вместе, как равные. И сейчас вошли они дружной парой, сели в кресла по обе стороны от Василия. Софья была уж чреватой, чего не мог сокрыть и покров — общепринятая на Руси целомудренная женская одежда, в коей не допускалось ни единой складки, могущей греховно обрисовать хотя бы и перси, без опоясья, коим можно обнаружить стройный лиф, с длинной постанью, дабы укрыть до пят белы ножки. Андрей вспомнил слова Феофана, восхищавшегося чистой, святой Русью, где все пристойно и целомудренно, чуть приметно улыбнулся этому воспоминанию, но Софья Витовтовна неверно, дурно поняла его улыбку и, чтобы отвлечь от себя внимание, повернулась к домрачеям и гудочникам, повелела капризно:
— Живее расскучайте нас!
А те только и ждали этих слов, сразу же стали играть небывальщину:
Сказать ли вам старину стародавнюю, Саму небывалую: «На синем море Мужики орут-пашут, А по чистому полю корабли бежат, Поросеночек в гнездо свивается, Курочка во хлеве супоростилась»,—задорно, с вызовом начал один домрачей, а второй стал урезонивать его:
Еще где же это видано, Еще где же это слыхано, Чтобы курочка бычка родила, Поросеночек яичко снес, Чтобы в середу-то мясопуст, А в четверг уж разговеньице.И все пошло своим чередом, весело и складно. В хоромине стало как днем: расторопные, неслышные слуги зажгли все свечи в паникадилах, висевших на в о з ж а х из красного бархата, в шандалах, укрепленных в простенках между окнами.
Домрачеи-певцы с гудебными сосудами начали исполнять толково, со вкусом песнопения и сказания не только о героях благочестивого подвижничества, но и о личностях действительной русской истории, о Борисе и Глебе, об Андрее Боголюбском…
Андрей слушал не без удовольствия, однако с сожалением отмечал про себя, что, подобно изографам, не отступающим ни на йоту, ни на самую малейшую черточку от прорисей, подобно монастырским летописцам, излагающим гольную правду без отсебятины, сухо и чопорно, по образцам, заданным еще Нестором, и домрачеи стоят совершенно в стороне от каких-либо своих личных воображений, умствований и устремлений — играют все по законам Бояна… Но только если изографы стеснены своими византийскими наставниками, если летописцы руководствуются исключительно любовью и пристрастным вниманием к памяти о делах минувших, о людях живших, то сказочникам, бахарям, домрачеям не заказано же переделать узнанное и услышанное на свой лад, сказать и спеть живым народным словом, подобно тому, как делают это бродячие нищие на торжищах, площадях, мостах, у городских ворот: раз возможно это в людных, перекрестных местах, почему же не делать этого в благочестивых домах? Ведь как небывальщину спели, чтобы великую княгиню расскучать, можно же складной народной речью поведать и былины со сказаниями о всем, что достойно памяти потомства.
И только-то посокрушался так Андрей, как бахари Богдашка да Любим Ивановы, вдруг как-то враз построжав лицами и посерьезнев, повели речь о делах совсем давних, но живо всем памятных:
— Что ми шумить, что ми звенить далече рано предъ зорями? Игорь полки заворачивает: жаль бо ему мила брата Всеволода. Бишася день, бишася другыи, третьяго дни к полудню падоша стязи Игоревы. Ту ся брата разлучиста на брезе быстрой Каялы; ту кровавого вина недоста, ту пир докончаша храбрии Русичи, сваты попоиша, и сами полегоша на землю Рускую…
Все в хоромине притихли, внимая слову о мятежной судьбе Игоря. И, точно уловив настроение слушателей, братья-бахари сыграли другую песнь о братьях-князьях. Опять вспомнили Каялу и недоброе небесное предзнаменование, но другим, счастливым уж, было тут воинское братство.
— Что шумит и что гремит рано пред зорями? — опять тяжкие сомнения перед битвой, опять желание угадать свою судьбу. Вопрошал это Богдашка торопливо, словно бы задыхаясь от волнения.
Любим успокаивающе поведал, что это брат великого князя Дмитрия Ивановича «полки пребирает и ведет к великому Дону».
А затем братья согласно и торжествующе скандировали:
Тогда князь великий Дмитрий Иванович И брат его князь Владимир Андреевич Полки поганых вспять поворотили И нача их, бусорманов, Бити и сечи горазно без милости И князи их, падоша с коней, загремели И трупми татарскими поля насеяша, И кровию их реки потекли Туто поганые разлучашася розно.У Андрея запершило в горле, когда слушал он песню о жаворонке — красных дней утехе, и многие в хоромине не сдержали слез умиления, а больше всех, кажется, был растроган Василий Дмитриевич.
— Ай да Любим, ай да Богдашка! Ай да мои Ивановы! — восклицал он и тут же повелел Бяконтову вознаградить обоих бахарей за высокую меру утехи — выдать им по полному наряду одежды, включая богатые сапоги, ферязь кафтан, штаны и шапку с колпаком.
Когда пришел час опочив держать, Андрей отправился в то помещение, где жили бахари, провел ночь на такой же, как у них, постели: кожаный тюфяк, набитый оленьей шерстью, подушка из гусиного пера и пуха, киндячное стеганое одеяло и для дополнительного тепла к утру, когда повыстудится дворец, одевальная овчинная шуба.
8
В один из весенних дней Василий позвал Андрея с собой в Спасский монастырь, где под присмотром Кошки переписывалось для великого князя Евангелие, которое Андрей хотел разрисовать по-своему. Еще и тайную одну мысль держал при этом Василий: хотел показать художнику заветную келью и похвастать своей кузней, поелику Андрей не только в живописи и зодчестве мастером слыл, но и в ювелирном рукомесле.
В монастыре боярин Кошка с большим бережением выложил перед великим князем и Андреем пергаментные листы с текстом божественных откровений. Листы еще не были сшиты в книгу, на каждом было оставлено место для рисования буквиц и заставочек. И деревянные, обтянутые зеленым сафьяном крышки для книги были готовы, но вот оклад для нее — серебряную кузнь — Василий решил изготовить собственноручно, хотя и не без помощи Кошки. Сейчас он хотел показать Андрею начаток работы, но тут вбежал запыхавшийся Бяконтов:
— Княже, святитель вернулся!
Новость была долгожданная: Киприан уехал в Великий Новгород еще две седмицы назад по делам неотложным и трудным, никаких вестей о нем до сего дня не было, а гонцы доносили лишь о смутах и беспорядках, о неповиновении граждан вольного города да еще о каких-то еретиках, каких-то стригольниках.
— И что же он? — нетерпеливо спросил Василий.
— Скорбен и возмущен, — отвечал со скрытой издевкой Бяконтов.
— Почто так думаешь?
— Ликом скромен, но зрак выдает. — В голосе Данилы прослушивалось злорадство, но Василий Дмитриевич принял это спокойно, зная, что боярин его давно и стойко недолюбливает Киприана.
— Где он?
— В сей же час ниспоследует сюда, — только-то и успел сказать Бяконтов, а митрополит уже появился в арочном проеме, скорыми шагами направился к Василию, громко, похоже даже нарочито громко, стукая костяным посохом о каменные плиты пола.
По привычке, перенятой от отца, Василий сделал вид, что приложился к деснице владыки, а Киприан в ответ тоже лишь видимость одну выказал, будто поцеловал великою князя в темя.
— Ну, каково там, в Великом? — спросил Василий, предощущая вести недобрые.
— Каково, спрашиваешь?.. Всяко там и авако. Все там есть, опричь порядка.
Василий выжидательно молчал. Своенравные новгородцы еще при жизни Дмитрия Ивановича вздумали поставить условия великому князю, чтобы он не звал их к суду в низовые города, под которыми разумели они прежде всего Москву. Следом за тем захотели они приобрести то же право и в отношении к суду церковному. Решение свое они приняли всенародно: посадник и тысяцкий созвали вече, где все укрепились крестным целованием — не ходить в Москву на суд к митрополиту, а судиться у своих владык по закону греческому. Вече и крестоцелование закрепили в утвержденной грамоте. Киприан и отправился в Новгород, чтобы навести порядок. Но, видно, не сумел, повторил еще раз.
— Да, опричь порядка… Стал я остепенять новгородцев, а они одними устами отвечали: «Целовали мы крест заодин грамоты пописали и попечатали и души свои запечатали». Думал я, что говорят они сие не по злобе, а не подумавши, увещевал: «Целование крестное с вас снимаю, у грамот печати порву, а вас благословляю и прощаю, только мне суд дайте, как было при прежних митрополитах». Две седмицы всяко оттрясал я их. чтобы вразумить, но без всякого преуспеяния. Не сладила моя сила, твоя, великий князь, сила нужна, не позволь, сын, отложиться новгородцам от суда митрополичьего.
Василий опять промолчал, думал. Он слишком хорошо понимал, что начатое митрополитом надобно довершить любыми средствами, ибо если новгородцы будут зависеть от владыки, живущего в Москве, то можно будет попытаться заставить Нов-город в целом зависеть от Москвы. Да, это необходимо надобно сделать, но как?
Киприан ответил на молчаливый вопрос великого князя.
— Вели взять с граждан Великого черный бор, и притом чтобы все пошлины княжеские немедля уплатили. Не захотят добром, пошли рать! — И продолжал с еще большим напором: — И ушкуйники ихние — холопы, рабы худые, обремененные долгами, в шайки опять собираются и разбойничают по Волге. Обещались в прошлое лето выдавать тех, кто на Волгу пойдет, а ныне все они опять собрались в насады и ушкуи, намерены опять пройти Вяткою и Камой, пограбить Жукотин, Казань, а потом выплыть на Волгу, задерживать наших гостей. А ты все благопокорно сносишь, но есть же, великий князь, мера терпения? — В последних словах Киприана улавливался уже и некий вызов. Василию подумалось впервые, что не столько судьбой дел государственных озабочен митрополит, сколько тем, чтобы взять верх над государем; тут же вспомнилось мимолетно, что и на отца вот так же все пытался давить Киприан. Так что же, не сумел тогда, так теперь нешто хочет на сыне своего обидчика отыграться? Словно бы спрашивая ответа, взглянул мельком на Андрея, и показалось, что в глазах того упрек был. «Неужто поддашься ты, великий князь, пригнетениям его?» И Киприан словно бы прочитал мысли Василия, переключился внезапно на иные горести. — Батюшка твой столько обид мне кровных учинил, и ты вот молчишь наидосадливейше… Если бы не незлобие мое, воистину голубиное, то я бы…
— Постой, святитель! — резко оборвал Василий и краем глаза подметил, как ворохнулся у стены Андрей. — Надо допрежь с Новгородом Нижним разобраться, потом уж о Великом будем думать.
— Ведомо, ведомо мне, что помыслы высокие тебя влекут, зане… — опять сварливо начал Киприан, но Василий снова жестко его упредил:
— Вот съезжу в Орду, это сейчас наипервейшее!
А Киприан из упрямства ли, заблуждаясь ли, а может, напротив, из каких-то тайных побуждений свое гнул:
— Нет, допрежь ты должен пресечь потворство свое и мироволение свое в Великом, зане…
— А ведомо ли тебе, святитель, что не ушкуйники, а царевич Бектут взял Вятку, перебил и попленил ее жителей?
— Нет, неведомо… — В крупных карих глазах Киприана впервые мелькнуло беспокойство, но тут же, правда, и исчезло. Киприан продолжал с прежней степенностью: — Неведомо, нет, но эка важность — какой-то царевич…
— Не какой-то, а Тохтамышем посланный.
— Что же из того? Тохтамыш не может просто ничего тебе учинить большего, чтобы хоть как-то в повиновении Русь держать, да нет — чтобы хоть видимость одну этого повиновения иметь. Переведаешься с ним — сам поймешь, что так это.
Василий ничего не ответил — не потому, что нечего было сказать, но не хотел открывать всего: из последнего тайного сообщения Тебриза узнал он, что к внутренним ордынским смятениям присоединилась уже почти явная борьба Тохтамыша с Тимуром.
Киприан снова неверно понял молчание великого князя, не преминул возвысить свой учительский перст.
— Тебе, великий князь, лишь двадцать лет минуло, а православию на Руси уже четыреста годин, учению Христа более тысячелетия, и не грех тебе поблагоговейнее советам церковного владыки внимать, по примеру царей византийских, твоих начальников… — Василий опять подметил некое беспокойное шевеление Андрея и тут же вспомнил, что в ведомостях, присланных Тебризом, есть слова, непосредственно Киприана касающиеся, и он перебил опять митрополита без намека на какое-либо благоговение перед ним:
— Погодь, святитель! В отсутствие твое получил я грамотку одну весьма огорчительную, но не стал разбирать без тебя, ждал, когда вернешься из Нового Города… Ну-ка, Данила, принеси нам тот пергамент.
Бяконтов с большой охотой помчался во дворец. Киприан, стараясь не утратить сановитости, обернулся к Андрею:
— Никак изограф наш… Слышал похвальные слова от Юрия Дмитриевича… Какие божества днесь пишешь?
На вопрос этот Андрей не мог бы ответить иначе как признанием в своем неожиданном для всех, его знавших, решении не писать больше икон и церковных фресок. Но Василию — странное дело! — очень не хотелось, чтобы Андрей откровенничал с митрополитом, и он вставил торопливо:
— Хочет понять Андрей, почему это Каин низринулся в бездну братоубийства, зачем история человеческого бытия на земле с братоубийства началась?
— Честна была смерть Авеля, а грех Каина — это семь грехов Адама: он позавидовал, не доверил брату, хитрость употребил, к убийству прибегнул, первую кровь на земле пролил, брата родного жизни лишил и солгал Богу. И какое же зло причинил Авелю Каин? Ему против воли ускорил вход в царство, а себя подверг бесчисленным бедствиям.
Андрей слушал с почтительным вниманием, однако же то ли какая-то тень недоверия скользнула по лицу его, то ли какое нетерпеливое движение непроизвольно сделал он, но Киприан насторожился, спросил с опаской:
— Не веруешь нешто?
— Верую, верую, — поспешно заверил монах, — однако просто излишне объясняешь ты. Да, Бог подверг Каина семеричному наказанию, но для чего? Чтобы кто-либо из будущих людей не сказал: я убил человека и ничего не боюсь более. Кровь его умершего вопиет более, чем голос живущего.
Киприан многозначительно насупился, со столь же многим значением изрек:
— Тайна сия велика есть… Пока ты еще внизу — в земном, не исследуй горнего, то есть небесного. Сам Господь положил тьму покровом своих тайн, и нужен некий великий свет Всесвятого Духа для постижения этих сокровенных тайн.
— А что, святитель, могут Андрею приоткрыться сокровенные тайны, когда святые места он посетит — Афон, Царьград, Палестину… Я беру его с собой до Сарая или до Таврии, а там уж он один поедет.
— Образовываться поедет? — по-феофановски выразился Киприан, опять царапнув Андрея, который снова подумал: «Разве же я не ношу образ Господа в сердце моем?» — Святое дело, святое дело, многопохвальное. — Киприан был рад перемене направления разговора, многословно заговорил: — Только латинскому безобразию не подчинись. Говорил мне епископ псковский, а ему епископ варшавский сообщил, что мерзопакостные дела творят римские и флорентийские художники.
Киприан явно неспокойно чувствовал себя из-за того «пергамента», за которым с такой видимой охотой помчался Бяконтов. Но способность владеть собой, усмирять чувства и скрывать мысли давно стала привычкой митрополита.
Киприан сел в одно из принесенных послушниками кресел, это же сделал Василий. Андрей остался стоять возле стены.
— В тот самый год, когда явилась на Русь страшная язва — «черная смерть»[57], была выставлена в Риме на всеобщее обозрение плащаница, на которой отпечаталось тело и лицо Христа, а также большие и малые раны, которые Христос получил при казни бичом, иглами тернового венца, гвоздями, копьем. Христиане обозревали эти страсти Господни, свято верили им, и что же…
Смуглые пальцы поспешно перебирали кипарисовые четки.
— О-о, эти латиняне, хуже агарян они! Французский епископ Пьер д’Арси признал, что плащаницу эту подделал некий безымянный художник, и днесь, всего год тому назад, обратился к папе Клименту Седьмому с просьбой запретить богохульный показ льняного полотна. И что же?..
Словно почувствовав, что за ним внимательно наблюдают приглядчивые глаза художника и великого князя, Киприан спрятал руку с четками под пушистую свою бороду.
— Папа римский год думал с сонмом своих кардиналов и епископов и порешил: выставлять плащаницу можно, но при этом разъяснять, что это не настоящая ткань, не та, в которую Иосиф Аримафейский завернул тело Господа нашего Иисуса Христа, а всего лишь его подделка…
— А вот и Данила, скор на ногу! — встал с кресла Василий. Это же и Киприан сделал, тревожно переводя взгляд с великого князя на Данилу.
9
Не напрасно Киприан встревожился: пергамент зело уязвил и сокрушил сердце его. И для ума его, изворотливого и цепкого, пища не весьма благодарная обнаружилась.
Попервоначалу вынужден был он занять политику выжидательную, как единственно пока возможную во вдруг сложившемся, довольно-таки срамном для него положении. А в последовавших за сим препирательствах с великим князем появился даже и оттенок некоторой непристойности. Под конец все же Киприан, как уверял потом с обидой и досадой Бяконтов, сам себя в злохитрости превзошел и повернул прение в такое русло, что великий князь вполне даже и на его сторону встал.
В пергаменте содержалось сообщение пролазчивого Тебриза о заемной кабальной грамоте митрополита Киприана и ростовского архиепископа Федора. Конечно, Киприан не мог о ней забыть, однако же не думал, что она столь позоряще его обнаружится.
— Ты все, помнится, упрекал Пимина за то, что он в Царьграде воспользовался чистыми харатиями, которые отец мой дал Митяю, а сам?
— Что, княже? — притворился не понимающим вопроса Киприан, хотя сам преотлично понял, откуда подул ветер.
— Писал грамоту Николаву Диорминефтту, ближнему нотаре державного царя византийского?
— Еже писах — писах… — отговорился, волыня, Киприан.
— Да ведь заем-то не мал: «тысяча рублев старых новгородских»?
— Случилось прискорбие сие, когда я в нетях был.
— Был — да, но днесь-то? Обязался ведь ты уплатить «чисто, а не товаром через купцов, проводя их с торговлею через землю Русскую».
«И это прознали!» — ужаснулся про себя Киприан, а вслух сказал с показным возмущением:
— Не жалел Дмитрий Иванович серебра для возлюбленного своего Митяя и Пимину вспоможения большие оказывал, а я, ровно калика перехожий либо приживальщик…
— Э-э нет, святитель, — уличающе прервал Василий, — Митяй получил из рук отца чистые харатии, а Пимин вершил долги втае, за что — будь уверен! — спросится с него на Страшном Суде. А ты должен ответствовать допрежь явления антихристова.
В голосе великого князя прослушивалось плохо скрываемое торжество, Бяконтов только что в голос не смеялся. И во взгляде Андрея, кроме раздумчивости и приглядчивости, можно было бы различить и одобрение, так что Василий подивился про себя: приличествовало бы иноку сторону церковного владыки держать, а не светского лица. А Киприан слушал с видом сокрушенным, стоял пригорбившись, нервно сжимал одной рукой конец шелковой епитрахили, а второй вертел свой золотой наперсный крест — в сокровенном раздумье пребывал, на что-то решался. Воспрял-таки:
— Вот что, великий князь… Я тоже одну грамотку показать тебе хочу. — Он подозвал к себе одного из монастырских служек, велел ему принести с митрополичьего двора, который находился по соседству со Спасской обителью, походный его ларец.
Покуда исполнялось его приказание, Киприан объяснил, что грамотка та не кляуза какая-то, но документ, который митрополит подготовил давно, и если бы не неотложные дела, то давно же бы с великим князем согласовал, ибо речь идет о надобностях, слишком важных не только для митрополии, но также и для всей Руси в целом.
Принесенный ларец Киприан водрузил на липовый некрашеный стол, железным ключиком отложил замок и достал бумажный лист, пояснив поспешно, что бумага у него из последних его запасов, сделанных в Царьграде еще третьим летом.
— Господи веси, — начал было он, но запнулся в размышлении: прямо начать чтение своей уставной грамоты или сделать предваряющее рассуждение. Остановился на решении срединном: рассуждал, а иные слова для подтверждения из грамоты брал. — Как ведомо тебе, великий князь, на Руси святой нет законов общих и обязательных для христиан наших, их отношения с князьями, боярами, священнослужителями — с теми, кто землей володеет, соразмеряются одним лишь обычаем — стариной. Да только это не надежная узда… Хрестьяне Константиновского монастыря, что близ Владимира, били мне челом — жаловались на нового игумена, который заставлял их работать «не по пошлине», чего «при первом игумене не бывало».
— Так это же бунт? Неповиновение? — вырвалось у Василия.
И Андрей не остался безучастным — ворохнулся, однако сказать свое слово не насмелился.
— Истинно так, княже, — продолжал Киприан. — Понеже я повелел опросить старого игумена и бояр моих, живущих во Владимире, о хрестьянских повинностях, которые существовали раньше во владениях Константиновского монастыря, и вот предписал им: «Хотите же вен по моей грамоте, игумен сироты держи, а сироты игумена слушайте, а дело монастырское делайте; а хотя кто будет иный игумен по сем игумене, и тот ходит по сей моей грамотке».
— Отец Сергий и все ученики его нестяжание проповедуют и поборы с крестьян делать не дозволяют, — не удержался-таки Андрей.
Киприан возмущен был дерзостью богомаза, однако, зная, что он пользуется особым покровительством и даже дружбой великого князя, не выказал своих чувств, а лишь спросил:
— Но разве на Маковце в Троице не несут насельные хрестьяне оброку?.. И в Андроникове тоже?
— Лишь что у кого в руках, лишь мало подношение добровольное, без кабалы.
Киприан сделал вид, что последних слов не слышал, ухватился за «что у кого в руках», сказал, что именно такого порядка и он решил придерживаться. Однако по мере того как читал и растолковывал он свою уставную грамоту, все яснее становилось, что Андрей верно понял глубинную суть митрополичьего предписания. Святитель, как ни обременен он был многими церковными и политическими заботами, не пожалел сил и трудов, чтобы в грамоте своей обозначить полный перечень крестьянских повинностей.
Крестьяне, названные Киприаном в грамоте «большими людьми», под которыми разумелась более зажиточная часть населения, имевшая лошадей, должны были чинить церкви, воздвигать хоромы, огораживать монастырскую усадьбу частоколом, косить и свозить на двор сено, обрабатывать монастырскую пашню, ловить рыбу, работать в монастырском саду, бить бобров, а кроме того, являться к игумену на Пасху и в день Петра и Павла с приношениями, «что у кого в руках» (тут Киприан слегка наклонил высокую фиолетовую камилавку в сторону Андрея). Крестьяне победнее — «пешеходцы», то есть безлошадные — должны были молоть рожь, печь хлеб, молотить, молоть солод, варить пиво, прясть лен и чинить невод. Все крестьяне — и большие люди и пешеходцы — обязаны давать в монастырь на праздник «яловицу», которую можно было заменить тремя баранами (тут Киприан не удостоил уж кивком камилавки Андрея, хотя тот и неспокойно себя повел, стал переступать с ноги на ногу). В случае приезда игумена в село на «братщину» коням его должно давать по «зобне» овса.
— Праздников-то много, однако же, — обронил Василий.
— Вот потому я предписываю, чтобы не тощали кони монастырские, а от меры овса у крестьян не убудет в хозяйстве.
Из дальнейшего текста грамоты выяснилось, что натуральный оброк не ограничивался «зобной» овса на «братщине», оговаривалась обязательная поставка крестьянами ржи, пшеницы, ячменя, гороха, льна, печеного хлеба, мяса, масла, сыра, яиц, кур, овчины. Помимо оброка крестьянам Константино-Еленинского монастыря митрополит всея Руси повелевает выполнять разнообразные барщинные работы (здесь Андрей усугубил свое внимание): большие крестьяне должны взгоном, то есть сообща, пахать «жеребий игумена», сеять, жать и убирать урожай на этом участке, а кроме того, косить сено и возить его на монастырский двор.
— Я бы в такой обители и жить не стал, это уж не пустынь, а боярское хозяйство, — негромко, но внятно сказал Андрей стоявшему рядом с ним Бяконтову. Киприан мог бы мимо слуха упрек этот пропустить, сделать вид, что не понял смысла, но он преследовал цели, слишком далеко идущие, не хотел допускать и малого риска, ответил Андрею с видимым неудовольствием:
— Что ты шипишь, как сырое полено, не ведомо тебе разве, что нельзя в чужой монастырь со своим уставом лезть? — Ища поддержки у великого князя, вскинул взгляд на него, добавил совсем уж иным, искательным, голосом: — Разумею я сам, что невместно мне ухищряться такой суетой, не должны влечь меня пустяки.
— Вместно, святитель, вместно! — неожиданно и очень решительно одобрил его Василий. — Должно это тебя влечь, чти дальше.
Киприан принял эти слова как должное, прежним ровным и назидательным голосом излагал, что монастырские крестьяне обязаны выполнять работы и внутри стен, во дворе обители: «наряжать» — строить и чинить церковь, ставить хоромы, возводить тын, оплетать сады, прудить пруды, ходить на бобров, ловить рыбу неводом и «бить яз» весной и осенью. Особо позаботился Киприан о пешеходцах: повелел им владыка молоть рожь, печь хлеб, подготовлять солод, варить пиво, квасить квасы, прясть из розданного игуменом льна неводные сети, а также делать всякие мелкие «изделия».
Кончив чтение, Киприан заключил.
— Мыслю, государь, что надобно тебе так же точно поступить и с черными сотнями.
— Закрепостить то есть моих черносошных хрестьян? — понял Василий.
— Да. И тех еще, что сидят не на государственной, а на боярской земле, тоже бы… Чтобы заодно все было и неповадно чтобы было холопам в бега пускаться да челом государю бить, жалуясь, что якобы не по старине и не по пошлине с них берут оброк.
— Стало быть, святитель, ты для того уставную грамоту столь сугубую шлешь, чтобы имела твоя митрополия достаточную казну, дабы не только прежние долги выплатить, но и новые бесстрашно делать? — В словах Василия Дмитриевича не содержалось шутки, но произнесены они были столь веселым тоном, столь явственно было в них благорасположение, что Киприан как-то сразу подобрался внутренне, построжал ликом и, воззрившись на тябло, на котором стояли три иконы новгородского письма, истово перекрестился, произнес прочувствованно:
— Благодарю тебя, Господи, что ниспосылаешь ты на Русь государей и деятельных, и многомудрых, невзирая на юность их.
Василия ничуть не тронула эта грубая лесть, он, наверное, и не поверил в полную искренность высоких слов, и, наверное, тут же и забыл их, потому что совсем другими заботами был развлечен:
— Так как же со строптивыми новгородцами быть?
— Я, княже, пошлю им увещевательную грамоту, если не внемлют…
— Да, да, если не внемлют твоему гласу, пусть говорит с ними Владимир Андреевич, засиделся он со своей дружиной в Боровске. Вот только съезжу в Орду сперва.
— Помогай тебе Господь в начинании сем! — благословил великого князя московского Василия Дмитриевича бывший воспитанник терновского патриарха грека Евфимия, ставленник Византии, нещадно гонимый в свое время Дмитрием Донским, а днесь окончательно утвердивший себя на давно и страстно чаемом посту митрополита всея Руси, болгарин родом и русский по должности Киприан.
10
Когда Василий сказал одобрительно о грамоте Киприана, Андрей вполголоса, так что один только рядом с ним стоявший Бяконтов слышал, произнес:
— Все за счет крестьян, выходит дело?.. И монастырские наряжения, и митрополичьи долги?
Бяконтов ничем не обнаружил, что слышал недоумение изографа, а когда они потом вдвоем вышли из Спасского монастыря, сказал раздумчиво:
— Отдай Богово Богови, кесарево кесареви… Не так ли ответил Христос на вопрос о том, следует ли платить подать кесарю.
— О, да-да! Это согласно новому союзу с Богом ведь!.. Сколь сложно все, тайна тайн кругом.
— Как ни ряди, но Киприан зело все же радетелен да работящ, всюду успевает. Себя, знамо, не забывает, но и о великом князе печется. А про Василия Дмитриевича высокопарно, однако справедливо сказал: государь он Божьей милостью, знает, где что у него делается, вникает во все, а провести его и не думай.
— Да я ничего, он и мне люб, однако…
— Однако не хочет он что-то меня с собой в Орду брать… Я ведь в Сарае все доподлинно знаю, все помню, не зря там три года провел, да еще два раза ездил по посылке великого князя.
— Может, поэтому и не хочет: ведь не только ты все там знаешь, но и тебя очень даже хорошо знают и все помнят?
Бяконтов остолбенел:
— Эка, а мне и невдомек! — И оживился, и успокоился, и обрадовался: — Тогда ладно, а то я думал, что в немилость впал, а за что, не ведаю…
Они прошлись молча по берегу Москвы. Река уже вскрылась от зимнего покрова, отмытые серо-голубые и заснеженные серые крыги льда, сталкиваясь, прядая, громоздясь горой, неслись по течению с шумом и треском, с угрожающим и таинственным скрежетом, звоном, шорохом, журчанием.
Не сговариваясь, остановились на Боровицком мысу, с наслаждением наблюдая великую работу воды и ощущая сквозняковый холодок, исходивший от льдин.
— Слушай, Андрей, — дрогнувшим голосом обратился Бяконтов. — Когда бежали мы с Василием Дмитриевичем из ордынского плена, то похоронили в степи друга нашего и наставника, боярина и воеводу славного Дмитрия Михайловича Боброка. Я еще молод был, сгинули бы мы с Василием Дмитриевичем в проклятом Сарае, кабы не мудрость да осмотрительность Боброка. И сам побег он организовал. Да вот настигла его молния… Если не поеду я с вами, отыщи его могилу, я тебе пропишу, где она.
— Это какой же Боброк, тот, что на поле Куликовом засадным полком командовал?
— Он самый. Много он Руси услуг оказал, а мы и могилу его забыли.
— Молнией его, говоришь?
— Да, страшная вдруг гроза нас настигла.
— Так ведь нельзя же земле предавать того, кого Бог поразил? Сожечь надо быть…
— Эт-то — да, я тоже это сыздетства помнил, а там перепугались мы с Василием Дмитриевичем, помрак нашел, мы бегом-бегом выкопали яму мечами и меч же русский заместо креста воткнули. Если найдешь…
— Непременно, Данила, непременно… И может, это от язычества в нас предрассудок такой — не хоронить убитых молнией да самоубийц?
При последнем слове Бяконтов как-то странно дернулся и в большую нервность и в раздражение впал. Заговорил часто и разбросанно:
— Э-э, мои предки верили, а иные люди и сейчас верят, что, съев мясо соловья, не сможешь уснуть… Что если намажешь глаза слепого желчью орла, то слепой обретет орлиную зоркость. Что, съев воронье яйцо, старик вместо седин будет иметь волосы цвета вороньего крыла… Ну, это пусть, это ладно, но при чем тут соловей и ночной сон?.. А смерть — это ведь тоже сон… Самоубийцы, известно, весь век мучиться будут, молиться за них николи нельзя, но земле-то почему же не предать?
Андрей не все, что выпалил горячечно Бяконтов, смог уразуметь, было много чего-то неясного, даже, кажется, и не сообразного ни с чем.
Данила сам, видно, опамятовался:
— Нет, не то я говорю…
Помолчал, снова малосвязную речь повел:
— Ты монах, тебе, я знаю, нельзя исповедь у грешных людей принимать. Но если я желаю именно тебе — не митрополиту Киприану, не епископу Герасиму, не попу Анисиму, а именно тебе, то кто может не позволить? A-а, скажи, Андрей?..
— Не позволить никто не властен.
— Тогда прими мою исповедь, а-а?
— Покаяться, исповедаться можно первому встречному, но отпустить грехи простой смертный не может.
— А мне и не надо отпускать. Я грешником уйду в ту холодную страну забвения. — Тут Бяконтов снова опомнился, смолк и так надумал: — Я тебе исповедаюсь, но не сейчас. Ты ведь в Спасском монастыре будешь Евангелие разрисовывать? Ну вот, я к тебе и зайду. Завтра… Или послезавтра.
С тем и расстались.
11
Ни завтра, ни послезавтра Данила в Спасском монастыре не появился. А через несколько дней встретил его Андрей на этом же вот самом месте — на стрелке, которую образует при впадении в Москву речка Неглинная.
Бяконтов нечаянной встрече не был рад, вроде бы даже попытался в сторону отвернуть, но тут же передумал, махнул рукой — вроде того, что ладно уж, была не была!
Река очистилась ото льда совершенно, и уже яроводье стихло, первая талая вода, прозрачно-голубоватая и словно бы невесомая, как воздух, вышла из берегов, зашла в Васильев луг и в огороды, подтопила калду и прошлогодние стога сена.
Данила показал на молодой дубок и выговорил с непонятной злобой:
— Знал бы ты, Андрей, как хочется мне взять вострый топор да в один замах срубить это деревце! Не ссек его, когда он леторослью был, и двухлеткой еще можно было как бы невзначай срубить… А нынче он заматерел, долго его крушить надо.
Андрей чувствовал, что за словами Бяконтова кроется что-то слишком серьезное, однако попытался перевести разговор в шутку:
— У того, кто сокрушит его, будет такая же слава, какую имел грек, сжегший храм Дианы.
— Это Герострат-то из Эфеса? — бездумно спросил Бяконтов, да вдруг и осенился: — А ведь как верно ты угадал! Деревце это, что храм, только не Дианы, а — Янги Синеногой! Сейчас дубок словно храм после пожара, но уже, смотри, набил почки, вот-вот лист брызнет.
— Нет, не скоро еще, он поздно распускается, после других деревьев.
— Да, одновременно и лист распускает, и цветет.
— Когда лист его развернется в заячье ухо, уже пора и овес сеять, земля теплая.
Так говорили они, оба чувствуя, что лишь подступают к настоящему разговору.
— Слушай, как на духу признаюсь, — начал было без обиняков Данила, да и осекся, то ли забоявшись, то ли засомневавшись в чем-то.
— Ты ведь хотел это сделать вчера или позавчера? — попытался ободрить его Андрей.
Данила вскинул лохматую и рано поседевшую — серебро с чернью — голову, улыбнулся в усы, тоже тронутые белизной — правда, тоненько, словно бы беличьей кисточкой, — свел брови (эти по-прежнему черны, ни единой сединки).
— Позавчера наметил я себе большие заботы на день. Хотел по поручению Василия Дмитриевича встретиться с польским посланником Августом Краковяком и расспросить его кое о чем. Намечал дать острастку конюшенному боярину за то, что он лошадей не перековал до сей поры, по распутице иные подковы надо навесить. Еще хотел проследить, как плотники великокняжеские анбары рубят, потом съездить в Кучково, там маленькое дельцо есть… А уж после того к тебе надеялся заявиться. Твердо решил, даже обдумал такое: поговорю с Андреем, изумлюсь сам на себя.
— Из-ум-люсь, значит, из ума выйду?
— Эдак, эдак!.. Из-ум-люсь, думаю, да и приложусь вечерком к бочонку, который мне кафский купец в дар прислал. Вот сколько гребты я наметил, но утром что-то захандрил, захандрил и из всего намеченного одно только последнее и проделал — к бочонку приложился. Да так, что вчера уж голова трещала весь день, стыдно было на глаза тебе показаться. Однако днесь я чист, как ангел.
Многоречив и суетлив был Бяконтов, и, как потом узналось, неспроста. Начал он издалека:
— Помнишь, в потешной хоромине домрачей Богдашка песню играл про глаз, который «глянет, словно светлый день»?
— Много тогда песен игралось, упомнишь все рази?
— Ну-у, нет, ту песню раз услышишь — век она будет в твоей душе жить. Вот, слушай, — Данила покосился на скандально граявших грачей, которые делили старые гнезда и удобные сучки на прибрежных осокорях, решил, что они все же не помешают ему и вполголоса напел.
Белое лицо как бы белый снег, Ягоды на щеках как бы маков цвет, Черные брови как соболи, Будто колесом брови проведены, Ясные очи как бы у сокола. Она ростом-то не высокая, У ней кровь-то в лице словно белого зайца, А и ручки беленьки, пальчики тоненьки Ходит она словно лебедушка, Глазом глянет, словно светлый день.Андрей, конечно, сразу вспомнил, что слышал эту песню в исполнении Богдашки. Бяконтов напевал голосом надтреснутым и не совсем верным, однако столь прочувствованно, словно бы свои собственные слова выговаривая, что Андрей искренне похвалил:
— Дивно как!
— Когда мы были в татарском плену, один вельможа, подосланный хромым Тимуром, тайно встретился с Василием Дмитриевичем и предложил ему жениться на одной из родственниц нового будущего повелителя степей. А Василий Дмитриевич (ему тогда четырнадцать лет было) отказался… Тот вельможа не разгневался и признал, что лучшие женщины — это русские: он, помнится, даже и сказал, какие цены в мире ходят на наложниц, сказал, что русские женщины из-за красоты и сложения продаются на рынках Европы и Азии в десять и больше раз дороже, чем татарки, черкешенки, вот, это правда! И думаешь, из-за чего наследный княжич московский отказался скрепить дружбу с Тимуром родством и получить свободу?
— Сам же сказал: русские женщины всех лучше в мире.
— Верно, но княжич одну-единственную имел в виду — Янгу Синеногую. Это ведь про нее Богдашкой песня сложена, у нее одной лицо снегоподобной белизны — «кровь в лице словно белого зайца».
Чем-то Данила стал похожим на Пысоя, Андрей почувствовал знакомую неловкость и жалость в сердце и, опасаясь, что сходство это может увеличиться еще больше, если и Бяконтов признается в своих страданиях от неразделенной любви, спросил торопливо:
— Что же заставило Василия Дмитриевича все-таки отказаться от русской женщины, на литвинке жениться?
— Мы с Василием Дмитриевичем постранствовали, словно иудеи со своим Моисеем (не сорок лет, правда, а всего три года), пока своей обетованной земли достигли, а в Литве было нам особенно лихо — пострашнее, чем в Сарае даже, опаснее, чем в кипчакской степи и в Подолии во время побега. И не обручись тогда княжич с Софьей Витовтовной, то, как знать, говорили ли бы мы сейчас с тобой на берегу этой всегда ведь такой смиренной — а сейчас, смотри-ка, как разбуянилась! — реки Москвы.
Андрей смотрел на непривычно и устрашающе широкую реку, на яростную круговерть мутной и замусоренной воды.
— Ну, да ведь Софья-то христианка все-таки. Вместо «Pater noster» да «Ave Maria» стала молиться: «Отче наш…» да «Богородица, дево…», — продолжал Данила. — Княгиня она прирожденная… Красива, глупа, не ревнива.
Последние слова он произнес словно бы с досадой, удивив этим Андрея.
— Но я бы, кажется, согласился скорее в нетях быть, в Трокае замурованным до последнего смертного часа, чем Янгу предать… Такая девка, может быть, одна только и есть во всей Москве, во всей Руси даже, а может, и во всем свете она одна такая…
Андрей стоял, опустив глаза долу, чувствуя, как весенний ветер шевелит волосы и полы ряски. Ему ли, монаху, такие признания выслушивать!.. У него ли по таким делам совет искать… Да что они, Данила с Пысоем! Жестока, видно, прелесть женская, коли такую неустойчивость и даже буйство в душах производит! Что же сказать-то ему? Взгляд у Данилы больной да сумрачный. Знать, жжется она, любовь, сковородка дьявольская.
— А за что ты на дубок-то осерчал?
Не чаял Андрей, что в самое больное место угодит. Бяконтов покривился, как от боли, даже как бы и рассердился сначала, но вспомнил, что сам же ведь и начал с этого дубка.
— Янга любит его, кажется, больше всего на свете, то и дело сидит здесь вот и… плачет. Они с Василием Дмитриевичем детьми были малыми, закопали желудь и что-то там загадали, что-то тайное, их двоих на всем свете связывающее.
…Мир приваживал Андрея, расставлял ему сети блистающие, как тенета в серебряной утренней росе. Соблазны, роковые, неизведанные, влекущие сердце тайной своею, туга человеческая, печаль неизбывная — ей же несть утешения! — топила сердце его в сострадании. Страсти плоти бунтующей и детская чистая святость являлись ему в миру обручь друг с другом и вопияли о понимании. А искушения дьявольские: вражда, месть, славолюбие? И им место Богом допущено в сосуде скудельном — человеке. Где ж согласие, благолепность, покой? Где слиянность с Богом и великими творениями его? Только веруя в слиянность эту, можно решиться приступить к художеству иконописному. Иначе зачем? И что тщиться воссоздавать в божественных ликах? Неужто у Феофана правда?.. Всюду раздоры: промежду народами и промежду соседями, посреди власть имущих и среди нищих, друг у друга пеню взыскующих. Набеги, грабежи, гибель слабых и безвинных — зачем промыслом святым посылаются? Кого наказывать надобно? Кто во грехе погряз? Ну, а непорочных почто, а, Господи? Допустишь годы тишины и покоя, без сражений и глада, без мора и пожаров — так человек сам себе беду ищет, внутри себя терзается, аки лев рыкающий, душа его самое себя пожирает. Любовь — радость и свет Господен, на избранных проливающийся. Но зачем в муку такую она превращается, что мир кругом чернеет и весь виноватым делается? Почему все перепутано, все перемешано в жизни, данной нам для восхваления и благодарения Господа? Как обрести понимание сущего и таинства произволения Твоего, Владыка живота нашего? Все — свет, Тобою посылаемый и каждою душою живущей обновляемый. И тени есть лишь оттого, что все объемлет собою свет. Научи, вразуми, Отче, как испить чашу судьбы, Тобой предопределенной, как быть достойным имени сына человеческого и раба Твоего, Господи?
Долго молчал монах после исповеди боярина, далеко, сам не замечая как далеко, убрел мыслями. Давно бился разум его над вопросами, которые не всегда и назвать-то осмелишься, и трепетала душа от собственной дерзости и сокрушенности.
Не сговариваясь, они развернулись возле дубка, молодого, но уже вышедшего из младенческого возраста, уже не корявого, но вытянувшегося и распрямившегося, и пошли по взгорку назад к Боровицким воротам Кремля.
— А срубить ты его не решаешься отчего — Янгу огорчить не хочешь или гнева великого князя боишься?
— «Янгу огорчить»?.. Знаешь, я ее порой столь вдруг ненавижу, что готов саму ее порешить, не то что ее деревце… И гнева Василия Дмитриевича я не боюсь, чего мне бояться… Нет, не боюсь. Я все думаю всяко, думаю: ведь желудь они закопали в то время, когда Дмитрий Иванович полки на Мамая увел, дубок этот, выходит, ровесник достославной победы нашей на Дону. Он в Тохтамышево разорение уцелел, от пожаров всех уберегся, а я возьму — и топором его, а-а?..
— Да, на него, я думаю, даже и Маматхозя не посягнет.
— Маматхозя?.. О нем я всю подноготную прознал. Юрий Дмитриевич, который недавно в Сарае побывал по повелению великого князя, тоже подтверждает все. Маматхозя этот лаком зело до женок. Когда, бывало, после победного похода, воины собирали добычу — все, что можно увезти с собой на верховой лошади, если нет заводной (всякие нужные железки, шкуры, ковры), Маматхозя же приторочивал к седлу непременно какую-нибудь юную полонянку. Немало женок у него побывало, а вот Янга занозой в его сердце вошла… Вот и боюсь я, как бы он дубок-то этот не порешил по дикости своей, хоть он и христианином стал, нет у меня веры ему. Я и думаю: уж лучше я, а еще бы лучше — сам великий князь своей рукой, ему-то Янга…
И тут они враз увидели, как с красного крыльца великокняжеского дворца скоро сошла и столь же скоро побежала к Тимофеевским воротам Янга. Андрей воскликнул про себя: «Надо же, до чего легка на помине!», а Данила нимало не удивился. И то ему было ожидаемо и понятно, что следом из дворца вышла великая княгиня Евдокия Дмитриевна.
Не успел или не захотел он рассказать Андрею, что за малое время до встречи с ним имел Данила у дубка того свидание с Янгой. Она призналась, что не хочет идти замуж за обидчика своего Маматхозю, но страшится слово нарушить. Дерзнула к Софье Витовтовне пойти: как-де мне быть, не хочу за Маматхозю идти, поелику он христианство принял, а свинину все равно есть не хочет, и посты ему в тягость, и растительную пищу вкушать не уважает… Все ли поняла Софья Витовтовна или удовлетворена была этими далекими от полней искренности словами, но заключила твердо: всенепременно должна, мол, Янга слово данное сдержать — и себя в пример поставила, как доблесть и великую добродетель выставила, что терпеливо ждала Василия Дмитриевича в мужья, хотя сватали ее принц датский да король свейский. Янга хорошо поняла, сколь сильного яду подпустила литвинка, постаралась сверстаться сполна, бухнула правду ли, со зла ли: «Не могу я стать княгиней, а наложницей быть мне невмочь!» Оставив онемевшую от услышанного Софью, кинулась Янга к Бяконтову, выкрикнула, словно в забвении находясь: «Возьми меня, Данила, в жены, а-а?» Он и слова в ответ не успел вымолвить, как она: «Нет, сперва я благословения у великой княгини попрошу!» — и побежала снова в великокняжеский дворец. Пепельные волосы ее спутанно метались по плечам и на спине.
Евдокия Дмитриевна обрадовалась, увидев Данилу и Андрея, позвала их:
— Данила Феофанович, поглядел бы за Янгой, что с ней? Как завороженная иль бесноватая… Благословения у меня просила как у матери князя Юрия.
Ослабло у Данилы и сердце, и тело от таких слов, хотя все происходящее было ему понятно и ведомо.
— Так что же, великая княгиня, благословила ты ее?
— Чего спрашиваешь!.. Говорю, разумка она решилась: уверяет, будто Юрик мой сватает ее и обещает ей корону княгини великой…
— Нет, Евдокия Дмитриевна, она в своем уме, и она правду говорит.
Со стороны реки донеслись крики. Слов нельзя разобрать, но ясно, что стряслась беда.
Данила опрометью бросился к Тимофеевским воротам. Следом устремился и Андрей, но сильно отстал, потому что бежать шибко ему мешали длинные полы ряски.
За кремлевской стеной крики слышались отчетливо:
— Тонет девка!
— С моста сосклизнулась…
Бабьегородский мост был единственным уцелевшим во время сильного нынешнего паводка, однако и он был подтоплен, река уж поглощала его, хотя пройти и проехать еще было возможно. Не мудрено, конечно, было и сосклизнуться, течение могло сволочь с мостовой запряженную лошадь, не то что Янгу. Однако упала она в воду почему-то в иную сторону, встречь реки. Понятно, всякое могло быть, надо спасать, а вот как сделать это, никто не мог сообразить, все только руками махали да вскрикивали.
Кабы вынесло ее за мост и потащило течением, она сама смогла бы как-то держаться на плаву, да и лодка могла бы пойти ей наперерез, но ее завертело в круговороте воды между двух волнорезных быков моста, и даже трудно сообразить было, где, в каком месте реки ее искать. И Данила этого не знал, но он и не раздумывал — махнул с моста в черную воду.
Андрей стоял под ветлами у разобранной мельничной плотины, видел, как вынырнул Бяконтов, озирался вокруг и снова погружался в пучину. На третий раз они уже вынырнули оба. На берегу радостно вскрикнули, но поторопились. Янга не выказывала никаких признаков жизни, Данила попытался перекинуть ее на мост, но то ли сил у него недостало, то ли течение в этом месте было неожиданно сильно — обоих их утянуло под нижнюю слегу моста. Данила все же изловчился, выгреб снова против течения и забросил Янгу на конец застрявшего поперек быков кондового бревна, принесенного, видно, с неглинского лесосплава, ухватился за него и сам красными от холода руками.
На берегу собрались уж большие толпы. Все стояли молча и растерянно. Теперь в беде оказалось двое, и помочь им было никак нельзя: с баграми или с веревками к ним не подступиться ни с берега, ни с воды, ни с моста.
Со стороны Кремля донесся цокот копыт — мчались к мосту во весь опор всадники, впереди на белом коне великий князь. И как-то сразу поверилось всем: вот оно, спасение!
Андрей стоял возле подтопленных ракит, видел, как Василий жестом руки послал двух всадников в реку. Лошади переступали ногами, страшились лезть в ледяную воду, а когда их все же заставили это сделать, сразу же потянули прочь от моста, не хуже людей, видно, чуя опасность. Один всадник вернулся на берег, второй не удержался в седле, его смыло водой и поволокло к мосту, а лошадь оказалась счастливее хозяина — выплыла к противоположному берегу, часто-часто забила копытами по осклизлому крутосклону, все еще, видно, переживая страх.
Василий принял новое и, наверное, единственное решение:
— Разбирай мост!
Бабьегородский мост был гордостью Москвы, построен прочно, высоко, надежно, в расчете, чтобы стоял долгие годы нерушимо, как бы ни была поводь зело велика. И нынешнее наводнение пересилил бы он, тем более что на него загодя завезены были уже тяжелые камни. Без этого моста теперь связь с Замоскворечьем прервется надолго, да и вообще жаль все-таки такую красоту губить. Решение разобрать его мог принять на себя единственно только великий князь, он один лишь мог взять на себя такую ответственность. И Василий повторил еще более настойчиво:
— Разбирай!
Несколько челядинов с баграми и топорами стали разбирать мостовую излишне бережно, пытаясь сохранить бревна, не дать им уплыть.
Князь гневливо понуждал их:
— Чего закоснели!.. А ну, круши, сбрасывай по течению!
Кто бы глянул в ту минуту на великого князя, поразился бы бледности его пляшущего каждым мускулом лица, его шумно рвущемуся дыханию, тому, как намертво стиснули руки поводья. Но никто не смотрел. Не до того было.
Работа сразу пошла споро.
Когда раскидали один пролет, река сама помогла: перед образовавшейся временной запрудой она выгнула свою сильную спину и разом разорвала все звенья моста, даже и те, которые были обременены камнями. Бревно, на котором держались Данила с Янгой, развернулось, пошло тяжелым комлем вперед и наискось к берегу, и это надо было расценить как большую удачу, потому что могло бы ведь тащить его и серединой реки среди многих других бревен, досок и мусора. И уже подхватили мужики баграми смолистый комель, уже начали подтягивать его к отмели. Комель ткнулся в берег, отчего хлыстовый конец бревна притопился. Данила, чтобы не хлебнуть еще раз воды, рванулся, размокшая сосновая кора под его пальцами не выдержала, отскочила от розовой древесины. Поначалу никто и не подумал, что это уже непоправимая беда пришла: Янгу на берег вытащили, а Данила — вот он, тут, никуда не денется. Но он, видно слишком много сил потерял, не хватило ему их на то, чтобы еще раз вынырнуть.
Василий послал двух всадников в воду, тех снесло течением. Еще двое ринулись искать Данилу, и еще один на рослом рыжем коне.
На повороте, в месте впадения в Москву Яузы, река сама вынесла Данилу, оставив его в ветвях распустившейся белыми сережками ракиты.
12
Поздно вечером жерновщики привезли на санях, запряженных четырьмя лошадьми в одну линию — гусем, большой серый камень, уложили его близ выкопанной могилы и споро, привычно обтесали так, что похож он стал по форме на домовину.
Резчики поставили на камне две плошки с льняным маслом и при неверном свете двух фитильков, время от времени грея около них назябшие руки, вырубали почти всю ночь продиктованное епископом Герасимом надписание: «Господи, спаси и помилуй раба своего Данилу Феофана Бяконтова. Дай, Господи, ему здравие и спасение, отданье грехов, а в будущий век жизнь вечнуя».
Хоронили, как исстари велось на Руси, на следующий же день после кончины (в первый день до захода солнца было не управиться). Положить его решили близ гроба дяди его митрополита Алексия, «у Чюда святого Архистрига Михаила, иже внутрь града Москвы», как счел нужным уточнить летописец.
Последний путь проделал Данила от боярских палат до митрополичьего монастыря в домовине на санях, как исстари же на Руси заведено было, в какую бы пору ни происходило то скорбное событие.
День выдался холодный, погребально-сиверкий, лишь с самого раннего утра обозначилось блеклым пятном солнце, но сразу же и занавесилось тучами.
Андрея била дрожь, но, как видно, не от холода, потому что он не мог унять ее даже и в жарко натопленной часовне.
Когда донесся заунывный удар кладбищенского колокола, Андрей уронил на грудь голову: вот, значит, и все!..
Ведал ли Данила, зачем жил? Что понял он в земной жизни? Что чувствовал, когда пришла последняя минута перед чертой двух миров?
Андрей скорбел, что совсем не знал души человека, так доверчиво приклонившегося к нему со своей неисцелимой предсмертной болью… Поостерегся сказать ему, что время врачует сердечные раны, словно знал, что времени-то и нет, что был канун ухода Данилы.
Он лежал в домовине с лицом чистым, спокойным, словно бы усталым и умиротворенным, словно бы навек запечатлевшим в чертах своих удивление миром и неожиданной смертью. Это лицо могло бы показаться совершенно прекрасным Оно, может выть, таким и было… Да и каким же оно могло быть у человека, который в минувшей земной жизни не увидел счастья — это одно только и знал о Даниле доподлинно опечаленный Андрей.
Василию Дмитриевичу, конечно, было известно о любимом его боярине все.
Великий князь не хотел на людях расслабить себя и единой хотя бы слезой, однако не сдержался, это подглядели многие, и это стало достоянием истории, правдивый летописец почел необходимым отметить скорбь государя среди наиважнейших мировых событий[58].
Тяжче тяжкого была Василию утрата наипреданнейшего боярина, чувствовал какую-то вину перед ним: ведь, может быть, решись он чуть раньше разбирать мост, смог бы выплыть Бяконтов?.. Ведь Янга спаслась?
Когда вчера сбежались на берег по велению великого князя все кремлевские лекари — свои и заморские (кембриджский и оксфордский) еще, стали приводить Бяконтова в сознание, он и очнулся, но на столь малое время, что только-то и успел схиму принять, почил в монашеском чине нареченным Давыдом. Но для великого князя он так и остался навеки в памяти Данилой. Как и в памяти брата родного Степана Феофановича Плетнева. Да и Янга, не зная еще, что ангел смерти уже принял отошедшую от тела душу Бяконтова, обратилась к нему, как прежде:
— Прости, Данила Феофанович!
С помощью тех же лекарей, что и Бяконтова пользовали, Янга столь скоро и столь окончательно к жизни возвернулась, что первое движение свое сделала рукой чисто женское — схватилась за золотую занозку, удерживавшую на груди сбившийся с головы убрус. Беспокойство это ее по-разному можно было отметить: кому-то, как Андрею, лишь как стеснительность и стыд оттого, что глубоко горло оголилось, а Василию могло подуматься, что это она золотой булавкой дорожит — как-никак, то кузнь собственноручная великого князя, подаренная ей втае от всех взамен утонувшей в металле неотлитого колокола жуковины с «соколиным глазом».
Прощаясь с Данилой, не мог Василий не вспоминать одновременно и Янгу: слишком горестный тут был завязан узел.
Какие еще чувства обуревали душу Василия — кто это скажет, какой летописец может проведать? Может, подумалось Андрею, когтят его сердце сейчас воспоминания о том, как вчера выехал он на горячем белом коне, испытывая сладостное чувство силы своей, уверенности, власти (не власти над людьми — к этому он успел привыкнуть, — но над собой), ослепляясь богоданной красотой окрестной земли, слепо и свято веря в будущее — бесконечно долгое и безмерно счастливое будущее свое, и, может, только сейчас с детским ужасом он осознал: когда переполнял его самого восторг жизни и казалось, что счастье точно так же, сполна, вливается в души всех людей, несчастный Данила думал лишь об одном, о единственном — о смерти, о том, что вот и исполнился срок, данный Господом для приготовления к вечности.
Нет, как ни смотри, как ни оправдывай, как ни утешайся, но безобразна она, смерть… Прекрасно лицо Данилы… Благоуханны живые цветы у его изголовья… Священник с дьяконом, песнопения. Ладан… Молитвы проникновенные… Но нет, нет, все же противоестественна, неприемлема смерть!
Сам Киприан встал у открытого гроба:
— Род людей земнородных! Оплачем общую нашу долю. Как унизилось высокое создание Божие, образ и подобие Творца! Лежит без дыхания, полно червей нечистых, испускает смрад гнусный. Как пропала мудрость, замолкло слово, распалось двойственное естество!.. Земля — состав наш, земля — покров, хотя земля же и восстанет. Нагим младенцем вышел я для плача, нагим и отхожу. К чему труды, к чему заботы, когда знаем такой конец свой? Выходим из тьмы в свет и отходим из света в тьму. С плачем выходим из чрева матерного в этот мир, с плачем и отходим из мира печального в гроб. И начало и конец — слезы. Что же в середине? Сон, мечты, тени — таковы блага жизни! Жизнь исчезает, как цвет, как прах, как тень…
Заголосили вопленицы, пали на землю ниц нищие, калики перехожие — все Божьи люди. А когда последняя лопата земли была брошена, возле выросшего глиняного холмика появился известный всей Москве юродивый. Затравленно посверкивая единственным своим глазом, он вострубил:
— Конец света, православные! Антихрист грядет!
Усилились вопли и стенания, а со стороны реки донесся пронзительный детский плач и лай собаки. Все невольно повернули головы.
— Светопреставление! — рвалось из обросшего неопрятного рта юродивого, и все следом за ним готовы были повторить, что так оно и есть.
Ночью вскрылись верховья речек Неглинной и Яузы, стали вздуваться талыми водами бесчисленные притоки и притоки притоков — вода в реке Москве стала прибывать с неимоверной быстротой, затопляла все низины и овраги, стала смывать строения. Течение было столь неудержимо, что своротило целиком мужицкую избу и поволокло ее, словно берестяной короб. Рядом плыла, крутясь, снявшаяся с запяток тяжелая дверь, на ней примостился ребенок лет пяти с черной лохматой собакой. Их могло в любой миг смыть водой, с берега видно было, что ребенок, закатившись в истеричном плаче, ничего уж не видит и ничего не соображает, ни малой попытки не принимает, чтобы хоть понадежнее укрепиться на досках. Собака, казалось, ведет себя благоразумнее: она переступала ногами, отыскивая опору понадежнее, лаяла, широко показывая красную пасть, не беспорядочно, но словно бы обращаясь к глазевшим на нее людям, и, не встретив сочувствие в одной толпе, поворачивалась мордой к другим.
— Близок Страшный Суд! — орал юродивый, и его возглашение стало особенно пугающим, когда дошло сообщение, что наводок не только мужицкие строения рушит, но затопил и Божьи храмы — Николы Мокрого, Георгия в Ендовах.
Митрополит Киприан пошел с крестным ходом вокруг Успенского собора, священнослужители притопленных церквей забирались на хоры и на стропила и там молили Господа о пощаде. Юродивый скакал в толпе потерявшихся людей, бесстрашно и победительно возглашал о конце света и, наверное, сам себе казался порой не уродом, но трубящим роковым архангелом
Глава VI. За сто лет до конца света
Неизьмерьна небесная высота, не испытана преисподняя глубина.
Из «Слова о расслабленном» Кирилла Туровского1
Летописный извод велся под наблюдением Киприана каждодневно. Заглядывал время от времени в него и Василий, побуждаемый подозрительностью и недоверием.
Но Киприановы доброписцы были хорошо осведомлены обо всем, умело угождали хозяину, не сердили и великого князя.
Читая запись о кончине Данилы Феофановича, со всем согласился Василий, удивился одному только:
— Как же пишешь ты — «того же лета», ведь Данила преставился в лето новое.
— Нет, княже, все правильно. Святитель повелел вести новое летоисчисление: не с марта, как было на Руси всегда, а с сентября, по-гречески…
Василий не стал возражать, знал, что разговоры о том, какой месяц считать началом нового года, велись и при отце еще, так ничем и не кончившись, обмолвился только:
— Ну и путаница будет когда-нибудь потом, когда люди будут читать этот пергамент.
— Не будет, княже, путаницы. Все на памяти людей, а там уж и конец света, знамение верное о том уже есть, — печально возразил дьяк Куземка.
Доброписцы нимало не прибавили, отмечая: «Зима же сиа студена бысть вельми, яко мнозем человеком от мороза измирати на путех, тако же и скоти умираху». Но хоть и верно, лютой выдалась в тот год зима, хоть и был вешний паводок неслыханно высоким и гибельным, однако принимать их за предвестие неминучего светопреставления все же не следовало, тут московский юродивый поторопился, когда вопил на набережной Москвы-реки.
Слаб человек, тороплив и суетен: иной жаждет скорого перехода в иную отчизну, в лучший мир, а иной до смерти застращен судным днем, грозным днем Страшного Суда над живыми и мертвыми. Десять лет назад, когда весной снег в Москве лежал целый месяц после Святой Пасхи, люди по Радунице[59] «дрова возили на конех, аки и зимний воз» — на санях, а «на небеси на востоце пред раннею зарею, аки столп огнем и звезда копийным образом»[60], то не было сомнений у людей, что вот он и наступил, предсказанный Апокалипсисом конец света. Задним умом потом поняли, что не конец света, а Тохтамышево разорение Москвы 23 августа того года предрекли небесные знамения. И три года спустя, когда Василий тринадцатилетним отроком томился в ордынском плену, занес доброписец на пергаментный лист: «Облака прехожаху в пол-утра и во обед, и по обеде бысть тьма. И толь страшно бысть, яко мнози мняху второе Христово пришествие быти».
Но образованные люди того времени знали совершенно точно, как то, что невозможно никак оградиться от Божьего суда, так и то, что конец света наступит в 7000-м году, если исчислять время по-иудейски со дня сотворения мира, или в 1492-м по христианскому счету — от Рождества Спасителя, а то есть ровно через сто лет. Еще не одно поколение рода Адамова сменится на земле, лишь правнукам ныне живущих людей доведется увидеть, как займется огнем сначала небо, а затем уж и край земли заполыхает, услышать, как на горе затрубит архангел, возглашая о наступлении времени антихристова, о воцарении на земле лукавого змея. Только тогда прервется время грядущее, сменится вечностью. Тогда и смерть будет иной: не придут священник с дьячком, не отпоют, не окурят ладаном, но наступят вмиг райские утехи для праведных и вечный огонь да зубовный скрежет для нечестивых.
Ровно через сто лет наступит час грозного решения, но, наверное, вековой рубеж не может не быть отмечен как-то по-особенному, событиями вещими и трагическими. Летописи под 6900 годом пестрят записями о довременных кончинах не только людей светских (брат великого князя Иван, в монашеском чине Иосаф, в возрасте ангельском, Данила Феофанович Бяконтов, княгиня литовская Ульяна Ольгердовна, дочь Александра тверского, посадники великого князя Василий Федорович и Михаил Данилович), но многих духовных лиц. «Преставился Матвей митрополит Гречин Андреанопольский в пяток 6 недели по пасце», «Преставился епископ Коломенский Павел», «Преставился владыка Ефимен Тверской Вислень», «Преставился Иван Михайлович, нарицаемый Тропань», «По велице дне на четвертой неделе в субботу на ночь преставилась игуменья Алексеевская Ульяна»… С большим опозданием пришла в Москву скорбная весть о том, что 11 февраля почил в бозе в Вологде Дмитрий Прилуцкий, которого в свое время Дмитрий Иванович Донской приглашал быть восприемником великокняжеских чад. Другой вологодский гонец сообщил, что «вятские татары» разорили основанную Стефаном Махрищенским пустынь в Авенже и зверски убили настоятеля Григория и келаря Кассиана. Вернувшийся из Новгорода Киприан поведал историю жизни двух юродивых, предрекавших конец света и накликавших смерть прежде всего себе:
— Жили в Великом городе двое угодников Божиих, подвизавшихся в юродстве, Федор и Николай Кочанов. Первый из них, полюбив с детства благочестие и привыкнув к посту, не имел нигде постоянного жилья; в жестокие морозы он бегал босой и полунагой по улицам Торговой стороны; все, что получал от богатых, раздавал бедным и переносил насмешки и оскорбления от буйной молодежи. Господь наградил его даром прозорливости. Случилось, что блаженный Федор говорил вслух: «Берегите хлеб», и наступал голод. В другое время он говорил: «Тут чисто будет сеять репу», и вслед затем пожар опустошал улицы Торговой стороны.
Блаженный Николай Кочанов был сын людей почетных в Новгороде — Максима и Иулиании — и подражал в благочестии родителям и, особенно праведной матери, соблюдая пост и чистоту душевную и телесную. Уважаемый вельможами и народом и желая избегнуть славы человеческой, он посвятил себя на подвиг юродства для Христа и скитался по улицам города, подобно безумному, терпеливо снося ругательства, а иногда и побои от людей безрассудных.
Впрочем, блаженный Николай юродствовал всегда на Софийской стороне, не переходя через Волхов и Торговую сторону, откуда всегда гнал его блаженный Федор, говоря: «Не ходи, юродивый, на мою сторону, а живи на своей». Оба блаженные рабы Божии вполне понимали друг друга, но показывали вид непримиримой вражды, обличая тем постоянную распрю двух частей, или сторон, Новгорода. Однажды блаженный Николай, преследуемый блаженным Федором, пробежал по волнам Волхова, как по суше, на свою сторону, кидая во мнимого врага своего капустными кочанами (по новгородскому выражению, «кочанми»), отчего и получил прозвание Кочанова.
Однажды посадник новгородский, пригласив к себе на пир всех именитых людей в городе, позвал и блаженного Николая, которого встретил на улице. Пришел в дом посадника до возвращения хозяина, слуги не знали, что он зван, побили и прогнали его. Когда собрались гости и настало время угощения, в погребах не оказалось ни капли вина и меда в бочках. Тогда вспомнил посадник о блаженном Николае и, узнав, что слуги прогнали его, послал отыскивать юродивого. Лишь только праведник вошел в дом и послал за напитками в погреб, все бочки оказались наполненными, как были прежде.
Много и других чудных дел числилось за обоими блаженными, но самое большое чудо в том, что мнимые враги окончили земное поприще в одно время — 27 июля 1392 года.
Всякий юродивый воспринимался на Руси как пророк, как обличитель греховной жизни, обличитель всякой ее неправды, а самой выразительной силой его обличений был его подвиг, всегда исполненный безграничного отвержения ее мирских требований; подвиг уродства жизни как необычное и чудесное неизменно возбуждал всякий, даже и застоявшийся, неподвижный ум; при этом гонимый человек, страдающий и страждущий, неизбежно возбуждал всякое доброе сердце к сочувствию, к милосердию[61]. Потому-то и очень сильно занимало умы москвичей сообщение Киприана: два юродивых умерли в одночасье — куда как страшное знамение!
Но ничего по тягости горя и неотвратимости рока не подействовало так на русских людей в том году, как кончина «чудного старца, святого старца» — преподобного Сергия Радонежского. Было ему от роду семьдесят восемь лет, из них пятьдесят пять отданы жизни монашеской, когда, как уверяли близко знавшие его сотоварищи, говорили с ним одним горние силы — языком огня и света: являлась воочию ему благодать Духа Святого и сама Божья Матерь, царица небесная с апостолами Петром и Иоанном, блистающими в несказанной светлости. А Василию слишком хорошо ведомо и памятно было, что Сергий благословил отца его на победный поход против Мамая, а затем долгие годы выступал духовным учителем всех русских князей, стал одним из строителей русского национального единства, оказался тем центром, вокруг которого вращалась духовная жизнь Руси, Московского государства.
Сергий отошел ко Господу в бесконечный век 25 сентября. В эту пору великий князь находился в Орде, откуда возвратился лишь спустя месяц. Но еще до отъезда Василий навестил Сергия и сохранил до конца дней своих благодарную память об этом простом, добром и чистом человеке.
2
После смерти любимого и преданного боярина Данилы Бяконтова вдруг ощутил великий князь, что власть, которую он, казалось уж, надежно в своих руках держит, стала утекать у него сквозь пальцы, как вода. Ну, может быть, и не совсем как вода, а как тающий снег, сжатый в ладони; и хоть сама ладонь стала холодной, снег все-таки тает, просачивается, начинает капать…
Началось все с Киприана.
Когда митрополит стал настаивать на том, чтобы великий князь послал рать на Новгород, Василий сердито сказал:
— Неужто не хватает тебе своих, святительских, дел, что ты еще и моими гребтами озабочиваешься?
Киприан не обиделся, но терпеливо попытался вразумить князя:
— Когда ты позвал меня на московскую кафедру, Царьград благословил меня и отпустил с большой честью, о чем ты и сам знаешь. Но надобно тебе еще и то знать, что до смерти твоего батюшки, в феврале того скорбного года, патриарх Антоний присылал в Москву грамоту. Вся грамота на уме у меня, а коли пожелаешь, так сам можешь прочесть. Осуждал он, что князья русские нападают друг на друга и поощряются к разорам, войнам и к избиению своих единомышленников, а чтобы привести к единству власть мирскую, преподобный Антоний повелел установить в Русской земле единую власть духовную того ради, чтобы древнее устройство Руси сохранялось и на будущее время.
— Ну и правильно, — согласился Василий, еще не понимая, к чему клонит Киприан. — Нынче ты один на все девятнадцать епископий, ими и занимайся.
— Но как же выполню я указание владыки своего, если ты не слушаешься меня? Должен ты поступать по примеру византийского царя, который тебя считает своим стольником.
Василий испытал великую досаду и запретил после этого Киприану поминать на ектениях имя византийского императора, что делалось раньше всегда со времени принятия христианства Русью.
Так уж складывалось, что все русские люди привыкли все четыреста лет смотреть на Византию как на колыбель и охрану православной веры. Русская церковь всегда была лишь митрополией церкви греческой, а патриарх константинопольский был главой всего русского духовенства, он же самолично назначал и митрополитов. Охранителем и главой же всего православного мира считался византийский император, а другие государи православных народов именовались в Византии его помощниками и слугами. Но однако великих князей Руси византийский император выделял среди других и в знак особого расположения именовал их сродниками. Но вот, оказывается, если верить Киприану, называют теперь русского великого князя стольником. Василию показалось это более чем оскорбительным, он вспылил:
— Я слышал, что греки до сих пор не смеют оторвать щит, который русские прибили им на царьградских воротах, а гречанки до сих пор пугают непослушных детей тем, что придут русские дружинники?
— Ты, Василий Дмитриевич, на подвластный тебе Великий Новгород никак не насмелишься пойти, — уязвил Киприан.
Не видя каких-то других возможностей выразить свое негодование, Василий и повелел тогда Киприану больше не усердствовать[62] на молитве, так сказав:
— Мы имеем церковь, а царя не имеем и знать не хотим!
Опрометчиво, неосторожно поступил Василий. Что бы задуматься ему: почему не шли на такой шаг до него великие пращуры, даже и отец, самовольно решавший вопрос о поставлении митрополитов? И Киприан, всегда такой несговорчивый, не остерег, послушно исполнил волю его.
Кто-то, а может, то и сам Киприан — темна вода во облацех воздушных! — донес слова Василия до ушей константинопольского патриарха Антония[63]. Тот пришел в великий гнев, который высказал в присланной в Москву грамоте.
«Святой царь, — читал Василий, не соглашаясь уже с этими двумя словами о царе константинопольском Мануиле, ибо, на его взгляд, все цари — люди светские, мирские, какие бы заслуги и добродетели ни имели, — занимает высокое место в церкви; он не то что другие поместные князья и государи…» Обличая великого князя московского за его греко-ненавидение, Антоний писал: «… за что пренебрегаешь ты меня — патриарха — и вовсе не воздаешь мне чести, которую воздавали предки твои, великие князья, — презираешь и меня и людей, которых я посылаю к вам, так что они совсем не имеют у вас чести и места, которые всегда имели люди патриаршие?.. Со скорбью слышу еще, что и о державнейшем и святом моем самодержце позволяешь себе некоторые предосудительные речи; доносят мне, что препятствуешь митрополиту — что есть дело совершенно невозможное — поминать имя царя в диптихах и что говоришь: «…церковь-де имеем, а царя не имеем и нисколько о нем не помышляем». А в заключение патриарх поучал великого князя, что великий грех презирать его — патриарха, который представляет собою Христа, и что император греческий имеет великое право на уважение по своему исключительному положению в церкви и по своим исключительным заслугам перед ней.
По мере чтения гнев и несогласие в сердце Василия росли, тем более что ему слишком хорошо ведомо было, в сколь плачевном состоянии находится Византия, теснимая османскими турками, которые пришли на смену туркам сельджукским. А патриарх, словно бы и не знает о том, что у «святого царя» Мануила нет уж ни Малой Азии с Фракией, ни сил и средств на защиту даже и столицы своей, продолжает жить днем давно прошедшим.
Василию впервые за время правления пришлось отменить собственное же распоряжение, и чувствовал он себя от этого обиженным, словно бы щелчок по носу получил. Киприан не преминул поучительствовать:
— Велика заслуга Византии в отражении наскоков иудаизма и магометанства, которые ведь смеют ставить под сомнение божественное сыновство Иисуса Христа и материнство Богородицы. И Византия — родная матерь Руси, негоже дитяти противоречить родительнице.
— А как же, отче, говорил ты, что Москве суждено будет когда-нибудь стать Третьим Римом?
— Да, говорил, — не смутился Киприан, — и буду говорить! Ни болгары, ни сербы, ни румыны, равно как ни осетины с грузинами, не в силах защитить православие. А Византия нынче между двух жерновов.
— И мы, однако же, меж двух каменьев мельничных оказались?
— Верно! Еще и в этом сказывается наше кровное родство с Византией.
Василий соглашался, что есть что-то родственное в судьбах двух стран — как у Византии, и у Руси тоже особая роль в борьбе Азии и Европы, и тем рассуждением утешился, что старших родственников, какими бы они ни были, надо почитать.
Ну, Византия — ладно, Византия — пусть, а вот как жить с Ордой дальше? Поначалу Василию вроде бы все ясно было: ехать с дарами к Тохтамышу и постараться заполучить ярлык на Нижний Новгород. Василий Румянцев в своих тайных писаниях увещевал поспешать, а в последнем его «хитро из-мысленном» (с простой перестановкой букв) донесении сказано так: «Яблоки созревают, налились и доходят, поспевают». А Тебриз своей криптографией (его тайнопись в том, что он чередует числа, обозначенные буквами, а также точками, черточками, кружочками)[64] намекает, будто дни Тохтамыша сочтены, что на смену ему вот-вот явится Железный Хромой — Тамерлан, он же Тимур. Может, и так это, однако известно еще, что «вятские татары» разорили Рязань, а царевич Бектут взял Вятку — так свою силу показывает ордынский правитель, чтобы не вздумал северный «улусник» свою волю заявить.
Но если в отношениях с Ордой была уж немалая история, в которой можно попытаться найти себе подсказку, выискать какой-то проверенный путь, то причинные связи Руси с Литвой и Польшей распутать, казалось, просто немыслимо. Польский посланник Август Краковяк оказался верным доброхотом, Василий был с ним щедр и получал важные Известия. Однако словами одними он утешиться не мог, нужны были дела, а они зависели от него одного лишь. И может быть, достало бы у него мудрости и решимости предпринять какие-то действия, кабы не удерживало сознание того, что Витовт-то ведь — и родственник, и союзник, как договорились в свое время в Трокае. Однако что же получается теперь?
В год, когда умер Дмитрий Донской и Василий принял русскую державу, Витовт вступил в смертельную схватку с Ягайло. Чтобы одолеть его, заключил договор с немцами, для которых борьба двух литовских князей была на руку. Три года ожесточенно дрался Витовт, а нынче вот вдруг взял и переметнулся, как оборотень, неожиданно и вероломно напал на один рыцарский отряд, захватил несколько немецких укрепленных замков. Совершив такое предательство, он предложил Ягайло заключить мир, на что тот охотно пошел: по договору Витовт получал достоинство великого княжества Литовского на правах самостоятельного государя (стал-таки великим князем!), обещая польскому королю неразрывный союз и полное свое содействие в случае любой надобности. Бывший наместник Ягайло на Литве брат его Скиргайло получил княжество Киевское.
Витовт все верно рассчитал, и он не упустил в своих расчетах и того, что два сына его (а других у него не было) и брат остались заложниками у немцев. Бывшие союзники не простили предательства — детей Витовта отравили, брата взяли в оковы. И не то только задевало Василия, что в состав владений великого князя литовского входило вдвое больше русских земель, чем литовских, но путь, каким пришел его тесть к могуществу: если сумел он пожертвовать двумя сыновьями и родным братом, то как же может обойтись в случае необходимости с зятем своим, с московским великим князем?
Василию очевидным становилось, что хоть и породнились они с Витовтом, однако, как и прежде, остались чужды друг другу. Властный и вероломный человек, Витовт руководствуется везде и во всем единственно лишь правом сильного, он, наверное, уж и к Василию относится сейчас как победитель к побежденному, а на захваченные русские земли смотрит как на свои завоевания, как на подвластную среду. Для него не существует понятия отчины — той земли и тех людей на ней, которых надо любить, опекать, относиться по-отечески. В отце своем видит Василий и честь свою, а честь Витовта — в рыцарских достоинствах его личности, в необходимости чувствовать себя постоянно лишь победителем. Потому-то и сыновей с братом лишился, что пустился во все тяжкие. Не зря Данила назвал его «неверником правды», сразу разгадал его нутро.
Эх, Данила, Данила… Рано ты ушел, как пригодился бы ты сейчас великому князю!
На место покойного Бяконтова взял Василий давно ему приглянувшегося боярина Максима. Высокий и сильный, хоть и гибкий, ровно ивовый прут, Максим все приказания великого князя исполнял проворно и неслышно — ни лишнего слова, ни неверного движения. И все желания своего повелителя вовремя угадывал, проявляя постоянно здравую сметку, некую лукавинку и врожденное чувство меры, подсказывавшее ему правильный подход, наиболее точную линию поведения с окружающими его такими разными людьми — от государей до холопов.
Как-то еще в крещенскую неделю обронил Василий, что надо бы весной не прозевать прилет гусей, вовремя устроить потеху. И вот сейчас это время наступило как раз. Данила — душа нараспашку — объявил бы небось с порога:
— Княже, гусь пошел, гусь! На охоту надобно сбираться!
Максим — другой человек, он высказался инак, велеречиво:
— Каждую Божью весну прилетают к нам гуси, привыкнуть бы пора, а мужики, ровно в первый раз их видят, орут ошалело: «Гусь идет, гусь!» Словно чудо какое.
Василий велел собираться на охоту, а про себя подумал, что ведь, пожалуй, это чудо и есть — охота на пролетного гуся: сколько раз бывал на ней, а вспоминается она как некий сказочный сладкий сон.
Когда под вечер Василий спросил Максима, все ли готово для охоты, тот опять же не так, как Данила, ответил, не просто:
— Все ключом кипит, все огнем горит, твоего слова ждет, государь!
3
Правду изрек Максим: гуси прилетают каждую Божью весну — это столь же незыблемо и просто, как всеобщая вера в близость конца света, однако и то достоверно, что каждый раз при виде летящих весенних гусей грудь человеку полнит необузданный восторг, и в этот миг представляется ему жизнь его земная нескончаемой, вековечной, со всеми ее привычными, а все равно вновь переживаемыми радостями.
Утром примчался из Серпухова Владимир Андреевич, сказал почему-то с придыханием и со свистящим шепотом:
— Гусь пош-ш-шел…
Юрик, не слезая с коня, закричал:
— Гусь идет! Гусь!
Во время сборов на охоту Юрик был нетерпелив, без меры возбужден, покрикивал на своих слуг, торопил Василия, так что тот не выдержал, сказал сердито:
— И чего ты казакаешь?
Ответ Юрика был неожиданным:
— Ну, брат, сильно же ты отатарился!
Пришел черед Василию удивиться:
— Как так?
— Казакать значит кричать гусем, потому что по-татарски «каз» — это «гусь».
— Да-а? А я и не знал… Но раз ты так сразу понял, значит, ты-то и есть татарин.
Юрик поджал губы и весь путь до Переяславских разливов ехал чуть поодаль от великого князя, молчал осуждающе и оскорбленно.
Еще задолго до того, как прибыли на условленное место охоты, увидели несметные косяки гусей. Они летели углом, клином, волнистой или прямой линией — все строго в одном направлении: в полуночные страны[65]. Летели высоко и скоро, видно, им очень хотелось побыстрее попасть туда, где белые медведи и тюлени, где из знакомых деревьев растет только ива-ракита, да и та крохотная, как богородская трава, одно деревце имеет одну-единственную сережку — суровы полуночные страны, но это их родина.
Гуси тянутся обычно две-три седмицы, но основная масса их идет валом лишь день-два, этот вал и имеют в виду мужики, когда орут ошалело, словно бы первый раз их видят: «Гусь идет!» Охотникам важно подловить этот момент. Лучше несколько суток в поле провести — победствовать, чем прозевать. Потому-то и великокняжеская охота была рассчитана не на один день, а по удаче.
Несколько подвод было засужено яствами да питьем, кухонными причиндалами, в особых повозках везли подбитые войлоками, шитые золотом шатры, постели с пуховиками и одеялами из собольих пупков (мех с брюшка соболей особенно тепло греет).
Шатры решили разбивать на широком взгорье возле леса — на давно облюбованном преотличном месте: высоко — весной сухо, а летом комаров нет, рядом родник, хвороста и посеченного дерева много, выгон для пастьбы лошадей есть. Тут, вне сомнения, и Дмитрий Донской, и Александр Невский, и Юрий Долгие Руки останавливались на привал, разжигали костры, охотничий шулюм варили. А самое главное достоинство этого местечка — близость любимых весенними гусями присадистых мест: устают птицы в пути и время от времени опускаются на землю, отдыхают, кормятся, набираются сил, чтобы потом одним махом одолеть следующую тысячу верст.
Гусь — птица строгая, осторожная. Как бы ни соблазнительно было место вешнего разлива с островами нежной зеленой травки, не снизятся, если приметят охотников. А чтобы уж наверняка избежать промашки, посылают загодя двух-трех разведчиков, свою сторожу: эти опытные и зоркие птицы совершают облет окрестной местности, удостоверятся в том, что никто их жизни не угрожает, и вернутся к своей стае, сообщат на своем языке о результатах своего дозора. Но как ни смекалист гусь, человек все же хитрее: в местах ожидаемого сниженного полета или даже посадки птицы загодя копаются глубокие ямы, в которые охотники прячутся с головой. При этом вынутая земля не разбрасывается где ни попадя, а сносится в одно потайное место, в старый камыш или в воду. Чтобы не замочиться да не перепачкаться вязкой землей и глиной, в ямы помещаются просторные, беременные бочки.
Понятно, что великому князю выделяется самое счастливое охотничье место, да только не всегда удается угадать его, может статься, что основная масса дичи пойдет не посередине разливов, а каким-то краем.
Но на этот раз скрадок для Василия устроили безошибочно. По правую его руку саженях в пятидесяти устроился Серпуховской, слева Юрик.
Федор Андреевич Кобылин, Максим и Григорий Бутурля вместе с другими постельниками, стольниками, думными дьяками и конюшенными остались за лесом, разбивали шатры, раскладывали костры, готовились к дневкам-ночевкам.
Юрик впервые участвовал в весенней охоте по гусю, не мог спокойно сидеть в своей бочке, все высовывался. Ему даже и не верилось, что вся эта неоглядная масса птиц — одни лишь гуси.
— Это вон там что, гуси нешто? — спрашивал Василия недоверчиво.
— Ясное дело.
— И во-о-он, видишь, у самой дуги овиди?
— По всей дуге, от окоема до окоема, все одни лишь только гуси.
— Так много?
— Да. И вон. И вон еще!
— Эх, и там еще гуси!
Они летели высоко и порой закрывали собой солнце. И никого в небе больше не было, кроме летящих гусей. Они сами, как видно, знали об этом — переговаривались отрывисто и часто на лету, а больше ничего и никого не слышали. И видеть ничего не хотели — летели целеустремленно и, можно подумать, безнатужно. Но иногда солнце высвечивало белые бляшки их натруженных мозолей у оснований крыльев, и становилось ясно: давно длится и нелегко дается им перелет.
Это все шли стаи гусей, недавно отдохнувших где-то, может быть, возле Рязани или Владимира, Коломны или Радонежа, готовых лететь безостановочно еще сутки или даже больше. Охотники провожали их взглядами, не огорчаясь, потому что знали: будут и свои!
Вот два клина задумали вроде бы снижаться, но чего-то испугались, снова набрали высоту и образовали один большой клин — как видно, знакомые, а может, и в родстве состоят.
Кажется, что летят они медленно, спокойно. Такой обман зрения объясняется тем, что гуси гораздо реже, чем, например, утки, машут крыльями в полете, а крупная величина птиц скрадывает расстояние и быстроту полета.
Поначалу каждую стаю провожали взглядом, лелеяли надежду: вдруг надумают снижаться. Видя, сколь важно и независимо проплывают они мимо в бездонной синеве неба, пытались с запозданием хотя бы сосчитать их, да где там — сотни, тысячи, пожалуй, даже миллионы… Странно даже, что это все птицы: они идут, как стихия, как бушующее море, как гроза.
Постепенно привыкли и стали высматривать только своих.
А они все летят, все гогочут. Порой начинает казаться, что это, люди переговариваются, запрокинешь голову — все они же, гуси. Да еще небо, не имеющее пределов для человеческих мечтаний и помыслов. Где-то там он, мир неизведанный, чертог душ усопших, туда не то что человек, но и гусь не прорыскнет… Через сто лет лишь все уйдут в тот безвестный мир, а кто находит путь туда сейчас уже, для того путь этот бесповоротный.
Перед отъездом на охоту Софья Витовтовна удивила. Подошла к стремени, сказала просительно:
— Приезжай скорей, боюсь я…
Чего бояться, не сказала, а Василий не стал допытываться. Обеспокоен был тем, что Юрик зачем-то к Янге пошел. Неужели правду сказал мятежный Данила Бяконтов о брате, будто тот от любви вовсе голову потерял и отговаривал Янгу идти замуж за Мисаила-Маматхозю, обещая ей венец великой княгини московской? Непостижимо!.. Чудовищно!.. Быть того не может, чьему-то навету поверил Данила, не иначе — так!..
С неба по-прежнему долетал неспешный басистый говорок гусей, но Василий уж больше не вскидывал на них глаз, разглядывал, что творится окрест на земле.
Отовсюду неслись ликующие голоса, птицы и насекомые пели осанну вечной жизни. Жаворонки, татарские воронихи[66], чирки, утки всяких пород разнаряженные, в брачных одеждах, ошалевшие от весеннего счастья. Они праздновали свои свадьбы в стороне от людей. Но пара жаворонков, с хохолками на затылках, не страшась, играла в нескольких шагах от Василия: самка то взмывала ввысь, то падала наземь, лукаво уворачивалась, а он норовил догнать и коснуться ее, да не успевал вовремя изменить направление полета, проскакивал мимо нее — они словно в пятнашки играли. Наконец она, видно, сжалилась над ухажером, стала мелко-мелко трепетать крылышками и падать, словно бы в изнеможении, уже почти достигла рыжей травы прошлогодней, он нетерпеливо и страстно догонял ее…
— Гуси! Гуси!!! — заорал слева Юрик так, что жаворонки, намеревавшиеся, очевидно, спариться, порскнули в разные стороны. — Вона, вона! На окоеме!.. Глянь, Вася! Гуси, много!.. Снижаются, Вась?..
Да, это были, несомненно, те самые гуси, которых полдня ждали.
— Сладки гусиные лапки! — весело пророкотал Владимир Андреевич, готовя для стрельбы лук и ныряя с головой в землю.
— Садись! — крикнул Василий Юрику, тот послушно юркнул в свою кадку.
Но, наверное, это была даже и излишняя предосторожность: гуси с криком в триста глоток, вытянув шеи, шли на снижение безоглядно и неостановимо. Вот они уже так низко, что можно различать на лбах некоторых из них белые пятнышки… Они снижаются, снижаются — уже выпустили вперед перепончатые розовые лапы, готовясь к посадке.
Охотники встали в рост, вскинули луки в наброс. Стрелы зазвенели в воздухе, как маховые перья особо крупных птиц.
Василий попал с первого же раза, все запомнил: как тенькнула тетива, как. блеснул на солнце белый наконечник стрелы, как грохнулся на землю гусь и как при этом сломалось древко вошедшей в него наполовину стрелы. Затем он сделал еще несколько выстрелов и вновь вернулся взглядом к первой своей добыче: гусь слабо и с сухим шелестом бил крыльями по земле, затихал.
Краем глаза Василий отметил, что и Владимир Андреевич бьет метко: один гусь от его выстрела бухнулся столь тяжело и гулко, что показалось, будто и земля сама содрогнулась, а второй падал под углом, скользнул по воде, высоко подпрыгнул над ней и снова ударился как-то вкось, так что брызги долетели даже и до охотника самого. Владимир Андреевич смахнул воду с бороды, поздравил Василия и Юрика.
— С полем, братцы!
Юрик взял тоже двух — гуменника и белолобого, на счету Василия оказалось на одного больше, как и полагается великому князю.
Косяк птиц расстроился, пошел врассыпную с резким крутым подъемом вверх.
Пришли забрать добычу Максим с Бутурлей. Больше всего обрадовались тому, что один из добытых гуменников оказался подранком — лишь с перебитым крылом: решили сохранить ему жизнь, чтобы к осени сделать из него подсадного, манного гуся. Перед тем как уйти, скромно сообщили, что и они с полем, но что им куда до князей, бьющих без промаха влет, они сидячую птицу промышляют. Говорили так не без лукавства. Что стреляют по сидячим, пасущимся на зеленях гусям, это — да, это верно, но поди знай — легче это или труднее. Надо ведь суметь прежде всего незаметно подобраться к находящимся на совершенно открытом месте птицам, у которых непременно несколько наиболее бдительных гусаков выставляются караульщиками. Они бесперечь крутят своими головами и при первой опасности бьют тревогу. Подкравшись к ним, надо стрелять не абы как — расчетливо: если ранишь одного гуся, он сразу же сообщит всем о своей беде. Значит, надо выбирать птиц, чуть отделившихся от общего стада, и бить стрелами непременно лишь в голову, тогда гусь падает беззвучно, и товарищи его не сразу могут сообразить, что же произошло. Таким способом бояре великого князя добыли, как потом выяснилось, целую гору гусей и лебедей, а также несколько журавлей, охотиться на которых особенно сложно и мясо которых считалось самым вкусным среди всей пернатой дичи.
Еще одна стая решила снижаться. Слышен скрип маховых перьев, отрывистые переговоры в строю:
— Идешь?
— Иду, иду!
— И я тоже, я здесь!
— Идем!
Но что-то вдруг нарушилось в их дружине, птицы стали как бы приостанавливать свой полет, переспрашивали друг друга, советовались:
— Ну как?
— Подозрительно…
— Не зря ли мы сюда ладим?
И решили, видно, что зря — то ли место чем-то не устроило их, то ли насторожило что-то, они вновь построились правильным клином, пошли ввысь могуче, строго, серьезно.
— Иду!
— Живее! Ровнее!
— Да-да-да!
Свернули чуть в сторону — на летошнее ржанище, знать, потянули по памяти, либо разведчики прежде отыскали. Но один гусь оторвался от косяка и продолжал снижаться, видно, не в силах был идти вместе со всеми. В стае заметили это, две сильные птицы резко нырнули вслед за ним, словно бы хотели поддержать, подбить его своими крыльями. Но уставший одиночка не желал принять их участия, из последних сил увертывался: он-то знает — гуси не терпят слабых в своем строю, решают, что не жить ему больше, и пытаются заклевать, забить сразу же до смерти.
Василий наблюдал участливо и уважительно: сколь серьезная и непростая жизнь угадывается и здесь, хоть и не поговорить с птицей, и в душу ей не заглянешь.
Когда почувствовал этот гусь, что силы его на исходе? Как долго скрывал он от товарищей свою усталость? И не мог все же утаить немощь, обнаружил ее в момент, когда товарищи вдруг изменили решение, не стали присаживаться на отдых. И он уже не смог собраться с силами, решил тайком отделиться. Но вот двое, может быть даже кровные братья его, не хотят позволить ему сделать этого. Однако не успевают все же: напрягая последние силенки, одинокий гусь резко падает в прошлогодний густой камыш, преследователи не решаются опуститься с ним, устремляются в погоню за растворяющимся в синеве клином.
Как рад, наверное, избежавший близкой смерти гусь… Забьется в крепи, отдохнет несколько дней, а потом пристроится к какому-нибудь пролетному отряду. Он спасен, он войдет снова в силу, может, станет даже со временем вожаком большой стаи.
— Беда, княже, беда! — услышал Василий за спиной, обернулся: нет, не послышалось, не гусиный гогот это — Максим бежит опрометью. Беда: Софья Витовтовна… тонко прядет… Скоровестник из Москвы… Кони подседланы…
Данила бы не выбирал слов, бухнул бы: «Помирает!», а Максим вон как изъясняется.
Василий вскочил на оседланную лошадь. Максим держался сзади с двумя заводными скакунами. Их подседлали, сменив умученных коней, на берегу реки Пажи близ Радонежа — как раз на полпути к дому. Василий вспомнил слова Софьи, сказанные ею перед отъездом на охоту, гнал прочь дурные предположения, а в голове вплоть до самой Московской заставы стоял в ушах гусиный гогот, так похожий на человеческий говор.
4
Софья не умерла, хотя разрешалась от бремени столь трудно, что Евдокия Дмитриевна и послала гонца за Василием. На счастье, оказался в Москве отшельник Иаков Железноборовский, который искусен был в бабичьем деле, сумел помочь растерявшимся повитухам и лекарям. При этом он сам истово молился и всем ближним велел обращаться к Господу да к Пречистой за милостью и заступничеством.
Софья разродилась благополучно, хотя новорожденный, которого Василий хотел, как и обещал Юрику, наречь именем брата, умер сразу же, некрещеным. Но жизнь великой княгини была вне опасности, Василий щедро вознаградил Иакова. Происходил этот старец из рода галитских дворян Амосовых и был давно известен семье великого князя московского. В этом году Иаков поселился в глухом лесу у железных рудников на берегу речки Тензы в тридцати верстах от Галича. Евдокия Дмитриевна и Софья Витовтовна тоже нескупо одарили Иакова, так что смог он вскоре после этого на месте своей одинокой бедной хижины устроить обширную обитель[67].
Растроганный вниманием Иаков говорил в ответ:
— Словеса ваши мне слаще причастного вина, да не достоин я их, сирый и малый. Я лишь чадо неразумное духовного отца нашего и наставника чудотворного Сергия… — Боялся Иаков пуще огня геенского впасть в гордыню, ибо гордыня оттого проистекает, что становится человек самодовольным и ограниченным внутри лишь самого себя, а перед Сергием Радонежским благоговение его было полным и делало его счастливым. — Много чад таких, как я, выпустил Сергий из-под крыла своего, разлетелись мы, как птицы небесные, по разным краям земли русской и свили себе священные гнезда — обители иноческие. И все мы слезьми горькими умываемся, узнав, что святой отец и учитель наш Сергий преподобный откровение получил, что умрет через шесть месяцев… Уже созвал братию, назначил вместо себя игуменом своего ученика Никона. Сам же решил остаток дней провести в полном одиночестве.
Слова Иакова были подобны грому при ясном нёбе.
— Сергий суть русский исихаст, в сугубом молчании истину прозревает, — молвил Киприан.
Евдокия Дмитриевна стала настаивать, чтобы Василий съездил на Маковец к Сергию, попросил у чудного старца, святого старца благословение перед дальней и опасной дорогой в Орду, как некогда Дмитрий Иванович попросил, отправляясь в поход против Мамая. Василий не противился этому, он сам чувствовал в Сергии великого подвижника в святом деле русского единства и возвышения Москвы. Слишком хорошо ведомо было ему, и всем русским людям того времени ведомо тоже, как тихими и кроткими словами убедил он в 1356 году ростовского князя подчиниться великому князю московскому, в 1365 году уговорил нижегородского Бориса Константиновича возвратить Городец князю Дмитрию Константиновичу, деду Василия по матери. В 1385 году Сергий сумел помирить с отцом строптивого Олега Рязанского. Высоко ценил Дмитрий Иванович радонежского игумена, в год смерти позвал его скрепить духовное завещание, узаконившее новый порядок престолонаследия на Руси от отца к старшему сыну. И самому Василию слишком памятно недавнее участие Сергия в примирении с двоюродным дядей Владимиром Андреевичем. Только истинный радетель и земляк мог столь близко к сердцу принять размирье московских князей. Василий понял тогда в Симоновом монастыре, куда старец залучил их с Владимиром Андреевичем, что Сергий не может таить внутри себя разлад, страдать и разрываться, а вовне проявлять совершенное спокойствие и этим лицемерным самообладанием пытаться помочь преодолеть которы великого князя с Серпуховским, — нет, Сергий сразу и откровенно повел себя, истинно мудро, его внутриубежденное спокойное состояние как раз и помогло обрести мир и дружбу враждующим сторонам. Мудрость и святость его имеют живительную силу, он может и сейчас поднять силы великого князя к героическому напряжению.
Василий послал Максима разузнать о Сергии в Троицком подворье[68]. Боярин вернулся не один, привел с собой незнакомого священника, в черном подряснике и скуфье, сказал:
— Он попит в Троице, только что приехал оттуда за утварью церковной.
Поп сказал, что Сергий вчера отстоял обедню в церкви, значит, не болен, а выезжать из Маковца не собирался.
Василий послал к Сергию гонца с уведомлением о своем приезде.
5
Хоть и очень настаивал Киприан на том, что Сергий являл собой на Руси верного последователя византийских исихастов, Василий в очередной раз усомнился. Он даже с Андреем Рублевым вел беседу об этом. Андрей не просто хорошо знал Сергия, у которого несколько лет послушничал, но всей душой воспринял подвижническую жизнь и взгляды на мир великого старца.
Греческие монахи на Афоне решили, что существует вечный, несозданный Божественный свет, который некогда явился на горе Фаворе во время преображения Христова, а ныне просиял им в награду за их отшельническую жизнь. Чтобы поддержать в себе этот свет, они целыми днями и ночами стоят на коленях, в спокойном сосредоточении. Отвлекаясь от всего внешнего, они и могут воспринять несозданный свет. Этих монахов зовут исихастами, а по-русски — молчальниками. Киприан уверяет, что исихазм охватил весь славянский мир, как лесной пожар, центром молчальничества на Руси стала Троица Сергиева, а раньше того — Григорьевский затвор, как звали монастырскую школу в Ростове, в которой образование получили Стефан Пермский, Епифаний Премудрый и сам Сергий Радонежский.
Андрей соглашался, что влияние греческого монашества на Северную Русь немалым было, однако жизнь и деяния Сергия, равно как и Епифания со Стефаном, мало общего имеют с афонскими исихастами. Да, был игумен Троицы созерцателем, молитвенником, как они, но он не порвал связь с миром. Это Василий и сам слишком хорошо знал, и был для него Сергий личностью яркой, великой и своеобычной. Кто из греческих исихастов, хоть бы и сам Григорий Палама, на которого Киприан все кивает как на первоучителя русских монахов, вникал столь в дела не просто мирские, но — государственные? Кто из них нес в сердце своем столь великую и чистую любовь ко всем людям? Прав Андрей: преподобный Сергий — исконно русский пастырь духовный и подвижник земли родной.
Приехав в Троицу, Василий и самого Сергия спросил напрямую:
— Отче, митрополит наш тебя исихастом величает, верно ли?
— Обитель наша спервоначала по студитскому уставу жительствует, а исихасты не приемлют его, — только-то и ответил Сергий, и Василий совершенно уверился в своей правоте и проникся к старцу еще большим доверием, нежели прежде.
Без утайки поведал он о всех своих сомнениях и страхах, даже сравнил себя с одиноким, выбившимся из сил гусем, и Сергий все преотлично понял, так заключил:
— Верю, что весь ты на руси.
Обоим им ведомо было, что значит слово это — Русь. Это не просто страна, не просто живущий здесь народ. Русь — это весь белый свет, что видят глаза человека. Когда человеку этому становится невмоготу оставаться один на один со своей печалью или гребтой, когда нужно ему участие сотоварища, которому можно открыть душу — выйти наружу, он говорит: «Выведу все на русь», а исповедовавшись, добавит: «Теперь я весь на руси!»
Весь на руси был перед Сергием и Василий, а потому и получилась у них тогда такая беседа, которую запомнил великий князь до конца дней своих.
Сергий занимался любимым своим делом — испекал для братии хлеб — и не прерывался ради приезда великого князя, хотя и испросил дозволения на поступок такой. Василий не смел обидеться, любовался старцем и не решался спросить: верно ли поп сказывал об обете молчания, а если верно, то почему же беседует Сергий с ним, да еще и с видимой охотой.
А старец, снимая круглые каравашки с капустных листьев, на которых они пеклись, и раскладывая их на длинной, во всю стену, дубовой лавке, где уже дозревали в сладостной истоме ранее вынутые из печи хлебы, довольно рокотал:
— Нет ничего на земле выше хлеба. Будь ты хоть святой чудотворец, хоть государь великий, но всему голова и венец — вот он, хлебушко!
Что значит хлеб для русского человека? Это для него не просто главное брашно, это сама жизнь. Потому-то с такой любовью, словно не труд тяжкий выполняя, а праздник празднуя, крестьяне по осени убирают поля: хлеб никогда не косят, а только жнут, чтобы ни зерна не потерять; ужинки складывают в скирды, в стога, в суслоны, в копны, в одонья — это хлеб стоячий, а еще клали на хранение в амбарах, в четырнадцатипудовых кадях — это гумно, клетный хлеб. Иные крестьяне, прежде чем упрятать зерно, сушат снопы в овинных ямах с печищами. Так поступали и монахи в Троицкой обители у Сергия. А уж размолом зерна, квашением теста и испеканием хлеба старец самолично любил заниматься. Василий залюбовался тем, сколь проворно и споро работал семидесятивосьмилетний игумен.
Закрыв заслонкой чело одной печи, он занялся второй. У порога стояли ручная мельница и две кади — с рожью и овсом, зерна которых были истолчены уже в ступе, подготовлены к помолу (из пшеничной муки в монастыре выпекали лишь просфоры да калачи по большим праздникам).
Василий тронул пальцем шершавую поверхность бегунка — верхнего камня мельницы. Сергий, достававший из квашни тесто, покосился из-под густых седых бровей:
— Такой в княжеском тереме небось нет?
— Какой, отче, смолоть муки — аржаной или овсяной? — в масть ответил Василий.
— Я из мешаной пеку… — Сергий повернулся спиной, худые лопатки под холщовой взмокшей рубахой заходили размеренно, в лад с тем, как он лепил руками большие хлебы из выложенного на столешницу теста.
Деревянный остов мельницы опирался о пол четырьмя крепкими ногами, сращенными друг с другом для прочности железными свайками. Надежно крепился и нижний жерновой камень, почему и назывался поставом. Бегунок же, с дыркой посередине для зерна, с выемкой для порхлицы и деревянным обручем с деревянной же скобкой, приходил в движение от малого понуждения веретеном. Василий засыпал две пригоршни зерна, начал раскручивать верхний камень с помощью махового стержня, верхний конец которого свободно крепился в брусе на потолке пекарни. Камень сначала поворачивался туго, потом разбежался — не зря бегунком назван.
Сергий оторвался от своего занятия, поверив, что великий князь всерьез будет работать.
— Надо порхлицу смазать, чтобы шип легче проскальзывал. — Он привычным движением приподнял бегунок, капнул льняного масла на упорный подшипник оси, затем на этой же оси сдвинул чуть ниже особое устройство для изменения тонкости помола. Заметив, что Василий сбросил с плеч синий суконный кафтан, обронил: — Верно, не шуба мужика греет, а цеп.
Потрудился Василий до пота, пока легкий короб с лотком, пристроенный вокруг поставного жернова, не наполнился всклень душистым драньем. Теперь его надо было измучнить вторично, чтобы стала мякоть, настоящая уж мука, пригодная для заквашивания теста.
Сергий тем временем управился и со второй печью. Вынимая желтые хлебы и раскладывая их на лавке, он скатанный напоследок кругленький колобок, в который для особого вкуса добавил ржаного солода, предложил съесть великому князю. Прежде чем передать его, любовно коснулся сухими губами поджаристой корочки. После некоторого раздумья, словно колеблясь — говорить ли, повелел строго.
— Беспременно съешь без остатка…
Он провел Василия из пекарни в свою келью, достал из настенного шкафчика очень старый, обесцветившийся уже, ставший пепельно-серым колобок хлеба. С бочка он был надкусан, Сергий пояснил.
— Два на десять лет тому назад, когда провожал я с Дмитрием Ивановичем на рать с Мамаем верных своих иноков, то испек им по такому же вот валенцу. Ослябя съел свой хлеб, а Пересвет надкусил только… А тебя, я чаю, трудная дорога ждет?
Как и в прошлую встречу, Сергий снова удивил большой своей осведомленностью во всех делах, в том числе и порубежных. Ведомо было ему, что Витовт в тайном сговоре с Тохтамышем состоит, что немцы в устье Невы вошли и все села и волости по обе стороны реки за три версты до города Орешка захватили, что новгородцы своеволие заявляют, от Москвы отложиться хотят, что ордынскому хану не устоять против Железного Хромого.
— Киприан говорит, будто нынче одна только Византия нам друг и союзник, — осторожно вставил Василий.
— Византия никогда не была с нами прямодушной, — возразил Сергий. — Коварство и жестокость константинопольских царей всегда дорого давались Руси. А нынче они сами себя в лукавстве обошли: по укоренелой привычке заботясь о себе только, использовали против славян османских турок, вскормили их на свою голову. Теперь с католиками готовы соединиться против турок… Напрасно это — ждать помощи от Палеологов.
— Так что ж, отче, кто же друг нам, кто поможет?
— Друзей у Руси было и будет много, однако помочь никто не поможет… Русичам надо рассчитывать только на себя, все поступки соразмерять только со своими силами…
Неприютно почувствовал себя после этих слов Василий, тут-то он и вспомнил одинокого, выбившегося из сил гуся, но вместе и жажду действовать, решаться на что-то он испытал, сказал пылко:
— Я, отче, сложу крестное целование новгородцам.
— Прежде Борису Константиновичу сложи.
— Дядя он мой родной…
— Тому нет спасения, кто в самом себе врага носит. Когда получишь ярлык на Нижний, укрепишься со стороны степи, в другую сторону сможешь оборотиться.
— Но ведь Железный Хромой…
— Ему еще надобно время, чтобы на Волге воцариться. Ты допрежь успеешь в мыт войти. В Орду ведь не сам по себе надумал ехать, ханом зван?
— Да, позвал меня Тохтамыш… как друга и гостя…
— Видишь вот — не по нужде и не по чужому велению едешь. Не клянчить, как Борис Константинович, даже и не просить и не покупать будешь ты ярлык, а просто — получишь… Ну, не совсем уж просто — не мне об этом тебе говорить, — однако же без унижения. Большое дело, а ты заладил — гусь! Когда отправляться-то думаешь?
— Перед Ильей за четыре дня[69].
— Как пойдешь, Волгой?
— Нет, поперек поля.
— Значит, вернешься после Покрова. Прощевай! Да хранит тебя Господь в любви своей! — Игумен осенил великого князя крестным знамением, и Василий, приложившись к сухой и хранившей еще запах ржаного хлеба руке старца, не смог сдержать слез: предчувствовал, что истинно прощание это, что дни Сергия и верно — изочтены.
6
О кончине первоигумена Руси узнал он, когда был в Кафе[70]. Андрея Рублева скорбная весть застигла в Афоне, куда уехал он вместе с Пысоем и епископом Герасимом после того, как расстались они с великим князем и его боярами в Суроже[71]. Совместный путь русских путешественников проходил сначала по суше из Москвы до Укека[72], оттуда к Дону, а затем водой до Азова вниз по реке и через Керченский пролив. Из Сурожа дальнейшую дорогу хорошо знал Герасим через Черное море до Синопа, затем вдоль берега Малой Азии, мимо Амастрии и Пандораклии в Константинополь, где вблизи гавани Золотого Рога располагалась русская колония. На берегу гавани находилось и генуэзское Поселение Галата, где также временами проживали русские.
Именно в Галате был похоронен митрополит Митяй. О судьбе его во всех мыслимых подробностях донес Василию Тебриз — первый из тайных доброхотов, встретивших великого князя на пути его в Орду.
Он ждал уже в Наручади[73], первом улусном центре Орды на пути русских. Поселение было крупным и, судя по большому кладбищу с мавзолеями, древним. В окружении глинобитных и каменных домов на пыльной и замусоренной разными нечистотами площади высилась мечеть, небогатая, построенная без роскоши, однако с медресе Хотя был в городе водопровод — вода текла из источника по желобам жители ходили, по татарскому обыкновению не мытыми со дня рождения, а оправлялись и по малой, и по большой нужде прямо на улицах и в переулках — как и в Сарае, здесь не было заходов.
Василию памятны были все порядки и обычаи ордынцев, и он, прежде чем справиться о чем-нибудь у стражников, развязывал калиту и доставал серебро. Загодя припас он монеты, чеканенные здесь, с надписью «Мохша», и эти подачки были татарам особенно желательны.
Тебриз с сожалением провожал взглядом деньги, словно бы они были его собственными. Наконец не вытерпел, сказал с обидой в голосе:
— И чего зря сорить серебро… Как будто я не могу все растолмачить.
— А ты жаден стал, Тебриз. Это плохо.
— А ты, великий князь, стал богат, — нашелся Тебриз, — и не знаю, хорошо ли это.
— Знай: это хорошо! А если тебе жаль сорящегося серебра, я его тебе сейчас отдам, как только растолмачишь, где сейчас находится хан Тохтамыш.
Тебриз поник головой:
— Этого не ведаю.
— Ну вот, видишь, как получается: серебро опять попадет в чужие руки.
— Нет, княже, не попадет: никто не знает, где Тохтамыш — за Волгой ли на Яике, в Сарае ли, а может, в степи или в Таврике[74]. Пойдем до следующего улуса, там, может, сведаем.
Но и в следующем на пути в Сарай ордынском селении Еткаре[75] узнать о месте нахождения хана они не смогли, об этом не знал даже и сам начальник улуса Иткар.
— А что, Тебриз, не знаешь ли — речку назвали в честь золотоордынского улусника или ему такое прозвание в честь речки дали?
— Не знаю, княже.
— А может, река Иткар текла задолго до того, как Иткар-татарин народился?
— Не знаю, княже.
— А когда же узнаем мы, где Тохтамыш?
— Это знаю, в Сарае-Берке.
— Нет, и этого ты не знаешь… Проведаем точно, как прибудем в Укек.
Василий говорил столь уверенно потому, что заранее условился встретиться в Укеке со своим боярином Иваном Кошкиным. Отец Ивана, Федор Андреевич Кошка, по ветхости дней своих постепенно отходил от государевых дел, хотя по-прежнему почитался старейшиной, в сыне видел он свою замену, загодя готовил его к службе великому князю. Иван уехал из Москвы неделей раньше и налегке, без обоза. По расчетам Василия, он должен был уже побывать в Сарае, все разведать и вернуться на правый берег Волги для встречи Василия.
Когда от Еткары свернули в утреннюю сторону, ровная степь перешла в поросшие густым лесом горы, где дорога была малоезженой, узкой и опасной. Подседлали коней, оставив в кибитках лишь челядь, приставленную к великокняжескому добру. Даже Андрей с Пысоем, подоткнув монашеские рясы, поехали верхом, хотя держались в стременах не столь уверенно, как остальные. И не в том дело, что не имели они должного навыка, а в том, что не готовы были к этому и не имели нужной одежды: отправлялись оба в путешествие в будничных русских штанах, которые шились без разрезов, с узлом, позволявшим сделать штаны, по надобности, шире или уже, но не рассчитанные на верхоконное восседание.
Максим, который находился близ великого князя неотлучно и который отличался велеречивостью и склонностью при случае снасмешничать, спросил Тебриза с видом полного простодушия:
— Знаешь ли ты, как наружная лузга ореха-лещины называется?
Тебриз оказался в неведении.
— А чем штаны от портков отличаются?
И об этом Тебризу неизвестно было.
— Значит, ничего ты не знаешь вовсе.
Василий решил поддержать своего оплошайшего лазутчика, сказал примиряюще:
— О том, что если орех в зеленых штанах, то, значит, он не поспел еще, степняку и знать необязательно… А вот как по степи этой Митяй ехал, Тебриз, наверное, проведал.
Тебриз не торопился с ответом. Знал себе цену, имел что сказать.
— Только одну правду надо, гольную правду, — предостерег Василий.
Тебриз отозвался на это:
— Ты же знаешь, княже, что в Орде правда тонет, когда всплывает серебро.
— Боишься продешевить?
Тебриз резко взял на себя ременный повод, его лошадь, сухая и цыбастая, враз подравнялась с лошадью Максима, но Тебриз тут же и осадил ее, держась почтительно за спиной великого князя.
Василий повернул голову, увидел рядом с собой загорелое лицо, в который раз удивился тому, что у черноволосого смуглого азиата такие светлые, цвета знойного степного неба глаза, умные и наглые. А Тебриз отметил про себя, что у великого князя глаза синие и холодные, под их взглядом он сразу подобрался внутренне и отбросил мысль о каком-либо своем притворстве или плутовстве. Ему довелось служить разным повелителям, и он научился безошибочно читать их взгляды. У хана Тохтамыша глаза хитренькие, смотрящие искоса, мол, меня не надуешь, а я вот могу, но — нет, это лишь самооборона, попытка спрятать свою опаску и страх оказаться обманутым самому. У нижегородского князя Бориса Константиновича глаза светятся чистой голубизной, доверием, он не боится быть обманутым и сам только и думает, как бы надуть любого, хоть простофилю-славянина, хоть чванливого и самоуверенного кипчака. И Тохтамышу, и Борису нижегородскому, когда выражали они сомнение или колебание, Тебриз клятвенно говорил: «Ложь в донесении — все равно что крысиный помет в кумысе». Хотел и сейчас защититься проверенным заклинанием, но сказал совсем иное:
— Да, государь, я тогда предал тебя…
Василий довольно улыбнулся, так что глаза его чуть сузились в прищуре. А у Тебриза, напротив, всегда по степняцкой привычке прищуренные глаза сейчас широко раскрылись, от них разбежались к вискам белые пучочки морщин. И уж вовсе неожиданное признание сделал Тебриз, для самого себя даже неожиданное:
— Я многих предавал, но сознаюсь и каюсь первый раз.
Василий молча отвернулся, довольная улыбка осталась на его лице: он поверил в искренность ордынского переветника.
Тебриз искательно подкашивал взгляд на великого князя, но не смел подать коня вперед. Видел лишь сбоку лицо Василия, подумал, что он что-то насвистывает про себя. Губы под мягкими белыми усами сложены трубочкой и изредка вздрагивают. И вспомнил, как впервые увидел Василия в Сарае почти десять лет тому назад: двенадцатилетний отрок, худенький и бледный, сидел на глиняном обрыве, смотрел неотрывно в волжскую даль и насвистывал нежную и грустную песенку, вспоминая, очевидно, дом, мать и отца, Москву, зеленую Русь. Думал Тебриз, что сердце его не способно испытывать жалость, однако же тогда вот пожалел русского княжича, хотел помочь ему бежать. И помогал, и едва не довел дело до конца, однако в последний момент сгубила жадность: подумал, что Тохтамыш щедро наградит за возвращение беглеца, и не ошибся, но с тех пор нет-нет да и начинает глодать сердце запоздалое раскаяние.
А Василий, раскачиваясь в седле, действительно насвистывал песенку, притом ту же самую, что и тогда в Сарае. Думал не о Тебризе, о совсем стороннем и ненужном. Думал: верить ли, будто все в мире известно, все земли исхожены, все загадки разгаданы? Если так, то отчего же по утрам солнце встает каждый раз по-новому? Оно, может быть, и верно каждый день новое? Облака вон плывут — и они ведь не одни и те же, нигде даже и двух похожих не увидишь? Откуда, куда и зачем плывут они? Попутным ли ветром гонит их, и они летят, не зная куда, или же идут они, как весенние гуси, по изведанным и проторенным воздушным путям?
Нет, не о Тебризе он думал, однако же неожиданно обернулся к нему, спросил в упор:
— Хочешь грехи свои замолить?
— Нет. Человеку до двенадцати лет Аллах записывает грехи на текучей воде, отроку прегрешения заносятся в пергамент из степного песка, а людям мужалым их проступки высекаются на камне.
— И много же гранита Аллах на тебя извел?
— Предостаточно, однако, не стесать и до Страшного Суда. Но один грех стесан, верь мне, Василий Дмитриевич!
Перед подъемом на Алтынную гору, за которой лежал на берегу Волги город Укек, решили сделать короткий привал. Василий велел откупорить бочонок с малиновым медом.
— Смотри-ка, Тебриз, как устроена жизнь: и мудрому человеку нужен друг, и сильному человеку нужна поддержка…
Тебриз не мог скрыть ликующей улыбки: великий князь московский ради него откупорил бочку с медом! И словно бы не стоялый мед, а сладкая отрава была в ковше, который Тебриз пригубливал с боязливым благоговением. Нет, даже и не яд — терпкую кровь пил он каплю за каплей, настал его звездный час!
7
Предлинное донесение для великого князя московского подготовил Тебриз, столь предлинное, что не изложить его не только на коне сидя верхом, но и на привале за откупоренным бочонком. И Василий понял это, не стал допытываться, хотя снедало его любопытство, отложил главный разговор на потом. Он предчувствовал, что за разговором этим может последовать некое конечное проявление дел давно минувших, но могущих иметь значение и для дня сегодняшнего.
Тебриз был всегда падок на деньги, но сейчас в алкоте своей стал он даже и потешен. Когда подъезжали к Укекской заставе, Максим обронил, надо думать, не без умысла:
— Опять придется серебро сорить…
Сколь алчен был Тебриз, столь же осторожен и догадлив, так отозвался:
— Что, боярин, хочешь бросить кость между двух собак?
— И себя севлягой нарицаешь?
— Хоть псом, хоть севлягой, хоть гавкой нарицай, только мосла не лишай, — отговорился Тебриз от Максима, а великому князю уж серьезно сказал: — Попробую сберечь твое серебро. — И он послал вперед свою чалую лошадь, подрысил к двум стражникам.
Один из них был старый и почти безбородый. И второй был безбород, но по молодости своих лет. Оба узкоглазы, с одинаковыми кривыми ногами — отец с сыном, можно думать.
Тебриз объяснил что-то старику, но тот, равнодушный и невозмутимый, как верблюд, только повел из стороны в сторону тяжелой плетью. Тебриз обернулся к молодому, но тот вовсе глух был, пощелкивал плетью по голенищу разноцветного своего сапога — задники зеленые, переда красные, голенища черные.
Потеряв терпение, Тебриз сорвался уж на крик, стал браниться на русском, татарском, арабском языках, даже и польское словцо подпустил под конец: «Пся крев!» — и сконфуженно обернулся к Максиму, вспомнив, видно, его севлягу. Он, конечно, не хуже Василия знал порядки в Орде, но надеялся на свою ловкость, так оправдался:
— Меня-то бы пропустили, а видят богатых русских… Да-а, придется бросить мосол.
В прошлую поездку в Сарай Василий видел Укек со стороны Волги. Помнится, тогда не двое, много стражников обступило их. Деньги раздавали, по выражению Кошки, «сюду и сюду», а «поминков» и даров не сосчитать, не упомнить, кому сколько дадено, но и то едва ли всех утолили: помнится, кто-то еще вдогон угрозы выкрикивал. Сейчас проще — двое всего, их нетрудно удоволить. Василий и собирался это сделать, как увидел, что из придорожной кибитки вылез с уздечкой в руке еще один ордынец. Посмотрел на приехавших, прищурившись. И так-то глаза узкие, а стали щелочками — поди разгляди через них, что у него на уме. Безошибочно определил, кто из приехавших главный, и пошел к Василию, позванивая на ходу серебряными украшениями уздечки.
Василий подал ему кожаный мешочек с монетами. Ордынец с достоинством принял подачку, взвесил ее на руке, потом развязал ремешок и заглянул вовнутрь — все так же не спеша, с достоинством. Достал одну из монет — попался серебряный дирхем. На одной стороне арабская надпись: «Тохтан справедливый. Чеканит в городе Укеке», на другой, оборотной стороне: «Почитание Богу и его посланнику». Очень доволен был охранник, вскинул голову, и стало видно, что и у него бороденка жалкая — растет пучками, словно кто-то проредил ее, выдергивая клочья в шахматном порядке.
— Спасыба! — И он ощерил мелкие желтые зубы, улыбнулся столь довольно, что глазенки его вовсе скрылись в прищурье.
Узнавал Василий Орду во всем.
Тот же зной.
Тот же бесконечный, унылый и всепроникающий крик муллы:
— Алла-алла-алла…
Те же рвы с нечистотами, зловоние.
На торговой площади белая мечеть с изразцовым минаретом, а золотой полумесяц на ее золотом шпиле еле проблескивает в облаках пыли, никогда не оседающей из-за того, что верхоконные снуют непрестанно, тянутся арбы, запряженные волами, верблюдами, ослами.
Ивана Кошкина нашли у Пулада, даруги московского[76]. Узнали, что хан ждет великого князя московского в Солхате[77].
Василий знал и помнил Пулада еще с детских лет — был тот при московском дворе сначала толмачом, потом ему доверили отвозить хану собранную дань, а при Тохтамыше стал он даругой, знатным вельможей. В Укек он приехал с Иваном по приказанию хана, встречал Василия не просто уважительно, но с лаской и искательностью, и это было хорошим признаком. Но вот про Ивана Кошкина даруга сказал со скорбью в голосе и с осуждением:
— Боярин твой прыток и горяч, знать, в кипятке крещен. Помню батюшку его Федора Андреевича. Не зря сам Кобылин прозван Кошкой — коготки свои умел в рукавичках держать, а сын Кошкин не знает своего лукошка, предерзостен.
«А мне такой как раз и нужен, — весело подумал Василий, настроение которого сразу поднялось после встречи с Иваном и даругой, — прошли времена, когда главным для русских в Орде было умение кстати молвить и вовремя смолчать».
Даруга был опытен и проницателен, угадал тайные мысли великого князя.
— В прежние времена нашли бы вы его уже не таким: тулово было бы отдельно, голова — отдельно.
«Вот и любо, что минуло, нам теперь важно не допустить возврата прежних времен», — опять с внутренним торжеством и с крепнущей верой в успех своей поездки подумал Василий, но для виду напустил на себя строгость и велел Ивану отправляться в Москву, чем даруга был очень доволен.
Чтобы путь по степи у Василия и его свиты был беспрепятственным, Тохтамыш переслал с даругой большую пайцзу.
Золотая пластинка с краткой, но выразительной надписью от имени самого хана Золотой Орды с этой минуты надежно охраняла Василия и его спутников, но, однако же, не освобождала от поборов, жадность нукеров и рядовых охранников пересиливала страх перед господином, и Тебризу пришлось не раз еще огорчиться тому, что деньги русских уходят мимо его рук. После сшибки с охранниками на заставе он был все время беспокоен и сердит. Ничего не говорил, не жаловался, только, монотонно раскачиваясь в седле, напевал вполголоса вспомнившиеся ему, очевидно не случайно, строчки из «Сокровенного сказания» монголов:
Небо звездное, бывало, поворачивалося — Вот какая распря шла всенародная На постель тут не ложилися, Все добычей поживлялися, Мать широкая земля содрогалася — Вот такая распря шла всеязычная.Укек покинули в тот же день, а для отдыха расположились на берегу Волги, поставив на высоком ровном взлобке шатры и походную полотняную церковь.
8
Поступая два года, назад на службу к великому князю московскому и получив от него поручение тайно дознаться до причин и обстоятельств смерти в Царыраде сначала Митяя, а спустя десять лет Пимина, Тебриз действовал обстоятельно — скрытно и неторопливо: ему слишком очевидно было, что загадочность смертей двух митрополитов связана с большой межгосударственной политикой, а когда увидел, что мало кому известные и скрывающие истинные намерения действия предпринимались не только русскими князьями и епископами, но правителями Орды и высшим духовенством Византии, понял, что задание, за которое он взялся охотно и бездумно, не только трудноисполнимо, но и небезопасно для собственной жизни. Но, как говорят монголы, боишься — не делай, делаешь — не бойся!
Как опытный лазутчик, побывавший на службе у двух ханов, он прежде всего позаботился о том, чтобы быть готовым в любой день хоть что-то, хоть о самой малости, да доложить Василию, если тот вдруг потребует от него отчета. Однако, дав поручение и обещав быть в Орде скоро, Василий задержался с приездом, прислал сначала своего брата. Юрий Дмитриевич вел в Сарае дела от имени великого князя, но Тебриз даже и на глаза его не захотел попадать: хоть и длинно стремя, а до земли не достанет, хоть и князь тоже младший брат, однако братом старшим не станет.
Побывал за это время Тебриз и в Константинополе, и в Таврике, и в Самарканде, но напасть на верный след не мог. Однако не отчаивался, знал про себя: начал — надо кончать, ищешь — надо найти. И нашел!.. Счастливый случай помог. Да ведь и всякое дело до случая, все случайность…
А сталось вот как.
В Таврику, страну щедрую и благодатную во всякое время, а ранней весной особенно желанную, он тогда приехал в облике дервиша. Никто не удивлялся появлению турецкого чернеца, ибо была эта земля, с трех сторон окруженная водой, сущим Вавилоном. Каких только разностранцев тут не встретишь! Высокие нормандцы, с голубыми глазами и белесыми ресницами, и темные, как южная ночь, эфиопы, смуглые арабы и трудно отличимые от них грузины, баски, евреи, индусы, итальянцы, греки. Появление мусульманского монаха ничьего внимания не могло привлечь — Тебриз смело шел через толпу, громко возглашая стихи Корана и расточая Пророчества, которые мало на кого производили впечатление, хотя и были жуткими да еще и освященными волею самого Аллаха. Пестрый и много повидавший на свете народ собирался в генуэзских приморских крепостях Солдайе и Кафе, в татарской столице Солхате, расположенной в двадцати поприщах от моря.
Татаро-монголы, захватив Таврию, не знали, что делать с ней. Выжженная солнцем древняя земля напоминала пришельцам их восточные страны пустынностью своих степей, не будь они заслонены причудливым нагромождением гор, за которым распахивались пугающие степняков бескрайние просторы воды. Дети моря — генуэзцы, приняв завоевателей за исконных хозяев полуострова, стали торговать у них пустующее побережье. Ордынцы охотно пошли на это: зачем им, степнякам, бесполезное и непонятное море, через которое ни конь не проскочит, ни стрела не пролетит? Как была оформлена купчая, доподлинно не известно. Так договорились: генуэзцы положат на шкуру вола золото и возьмут земли столько, сколько уложится под шкурой. Алчные татаро-монголы уверены были, что с большой выгодой для себя заключают сделку. Но генуэзцы разрезали шкуру на тонкие ленты и отмерили ими огромную часть побережья.
Так ли все в точности произошло, Тебриз не знал, но одно для него было бесспорным: скрытны, пролазчивы и коварны азиаты, однако европейцы в своей хитрости и тоньше, и искуснее. В этом убедился он и когда задание великого князя московского выполнял.
Не стоило ему больших усилий прознать истину о пребывании Митяя и Пимина в Сарае. Неверно осведомленные москвитяне считали, что Мамай задержал у себя посланника и друга великого князя Дмитрия Ивановича как гостя, а затем «отпустил его с миром и тихостью, еще и проводить его повелел». Так-то оно так — и с миром, и с тихостью, и проводить повелел, да только все это было лишь напоказ, а в тайные помыслы хана входило избавиться от Митяя и добиться поставления в митрополиты Дионисия Суздальского. Орда заигрывала с нижегородцами уже в те далекие годы, и об этом нынешнему правителю Руси Василию Дмитриевичу будет небесполезно узнать. Это первое, что имел уже на крайний случай Тебриз для доклада. Второе, что толмачом и проводником Мамай приставил к Митяю не абы кого, а отпетого головника, на чьей совести несчетно много тайных смертей. И можно бы почесть все выясненным, кабы сел этот головник вместе с русскими в Кафе на корабль да поплыл бы в Константинополь. Нет, он сразу же покинул Митяя, который принял смерть в море уже в его отсутствие.
Образовалась ниточка, и поиск другого ее конца стал уж казаться Тебризу столь же бессмысленным, как прядение нитей из сыпучего песка. Удалось узнать, что в Константинополе в тот год, как умер Дмитрий Донской, на одном патриаршем пергаменте были по поводу смерти Митяя начертаны по-гречески такие слова: «Суд Божий следовал за ним по пятам». Это и в Москве ведомо было: «Все епископы, просвитеры и священники молили Бога, чтобы не был Митяй пастухом и митрополитом на Руси», а первоигумен Сергий еще до отъезда великокняжеского ставленника предрек: «Однако не видать Митяю Царьграда». Выходило, что смерть Митяя-Михаила была одинаково желательна и для хана Орды, и для русского духовенства, и для византийских правителей. Но чей именно головник его задушил или «морской водой уморил»? И наверное, был там не один убийца, а с сообщниками, потому что все дальнейшее сокрылось под некоей мистической завесой: будто бы море так сильно сразу взбунтовалось, что корабль, на борту которого был покойник, не смог идти в Царьград, хотя другие суда в это время «плавали мимо его семо и авамо», пришлось тело Митяя перегрузить в барку и на этой малой посудине-барке отвезти для погребения в Галату, где жили итальянские купцы. И это кому выгодно было: не в Царьграде на левом, греческом, берегу бухты Золотой Рог похоронить, а на латинском, правом? Кто столь искусно следы запутал и замел?
Вот тут-то случай Тебризу и подвернулся, хотя теперь, когда время прошло, не случаем уж ту нечаянную встречу он считал, а нароком.
В караван-сарае останавливаются на ночлег люди самые разноязыкие, но услышать здесь русскую речь можно было редко, потому что и купцы, и духовенство из Московии и других княжеств останавливаются в русской провинции, существующей в Солдайе с незапамятных времен, когда еще и город сам назывался по-русски Сурожем. Генуэзцы поставили на берегу моря каменную крепость, в год смерти Дмитрия Донского завершили строительство главной башни, прикрепив на ней геральдическую плиту, а русские рубленые избы с конями на крышах не тронули, они так и продолжали стоять рядом с угловой башней, где впадал в море ручеек пресной воды.
Русский, пришедший в караван-сарай и заинтересовавший Тебриза, выглядел очень усталым. За ним шагала в поводу еще более истомленная подседланная лошадь, передвигавшая ноги с видимым усилием, оводы кружили над ее потным крупом, а она даже и не отгоняла их хвостом. Тебриз заключил, что русский проделал путь трудный и столь поспешно, что загнал лошадь, а значит, могла быть тут какая-нибудь тайна или хотя бы некое полезное известие. Чутье не подвело его, а повод, чтобы сдружиться с неизвестным, нашел он без усилий:
— Благословен грядый во имя Господне, — произнес нараспев запомнившиеся ему слова литургии.
На пропыленном лице путника родилась счастливая улыбка, он отозвался охотно:
— Господи Боже наш, седяй на Херувимех… — Добавил с горчинкой — На Руси сейчас вербу святой водой окропляют.
Тебриз и тут нашелся, сказал в лад:
— Да, не растет на Руси нашей финиковая пальма, ветками которой народ иудейский встретил Иисуса Христа за пять дней до его крестной смерти.
Так и сдружились, решили совместно поесть вербной каши по случаю большого праздника — входа Господа в Иерусалим. В караван-сарае оставаться не захотели: громкий разноязыкий говор, духота из-за очагов и жаровен, где готовилась жирная еда — горело на сковородах масло, скворчало сало, пахло тушеной бараниной, жареной рыбой.
Оба знали, что в удолье возле селения Биюк-Ламбат растет ореховое дерево, посаженное еще древними греками. Дерево выросло таким большим, что однажды, говорят, под ним укрывалось от дождя сто всадников. Владели им шестнадцать хозяев селения, у каждого свои определенные ветки. Тебриз и его новый знакомец, назвавшийся Кириллом, решили пойти к дереву-великану и потрапезовать под его сенью.
Когда проходили по дорожке, усыпанной белорозовыми лепестками отцветавшего иудиного дерева, Кирилл обронил:
— Ровно снег… А в Рязани небось взаправдашний еще не стаял.
— Рязанец, значит?
— Приходилось бывать там, — ответил Кирилл с какой-то искривленной улыбкой.
«Простота», — подумал про него Тебриз.
Прошли через ручей по перекинутому кем-то бревну. Кирилл, перейдя, столкнул бревно набок, пояснил:
— Кому надо, поправит.
«Злой мужик», — отметил Тебриз.
Разложили на ряднине трапезу. Кирилл достал из седельной сумки бутыль из долбленой тыквы — с водой и запечатанную и оплетенную морской травой пустышку — с вином.
«Добряк все же», — прикидывал Тебриз.
Кирилл разлил густое красное вино по берестяным кружкам, разрисованным синими узорами. Первым и пить начал, вытянув тонкие, как у овцы, губы.
«Нет, неспроста бревно столкнул — не любит другим добра делать».
— А что это у тебя имя-то нехристианское — Тебриз? — спросил Кирилл, разламывая пополам крут козьего сыра.
— Одну лошадь спотыкой зовут, другую губаном, — уклонился Тебриз. Подумав, добавил: — Богатого человека по отчеству величают, убогого по прозвищу.
— A-а, — понял Кирилл, — у меня тоже было уличное прозвище. Деда за что-то Корью звали, отца — Кореем, а меня Кореевым сыном. Потому, знать, что мелки росточком были все в нашей семье, ровно моль или тля…
По мере того как опоражнивалась тыквенная пустышка, оба становились все разговорчивее, все словоохотливее.
— А что это ты лошадь-то так запалил, куда опаздывал? — закинул удочку Тебриз.
— Прослышал, великий князь московский едет сюда….
Тебриз сдержал нетерпение, словно бы мимоушей пропустил столь значительные слова и поинтересовался.
— А дальше куда думаешь править, не попутчиками ли будем?
— В Москву мне надобно.
— Чего ты там потерял?
— Чего? Да понимаешь, каждую ночь Русь во сне стал видеть. Поля, облака, рожь, коноплю, раменный лес, озера в пойме.
Тебриз помолчал для порядка, выдохнул с чувством:
— И за что это мы так любим эту землю!
— Ты — не знаю, а я, — здесь Кирилл сильно нажал голосом, с умыслом, нет ли, — люблю ее уже за то, что это — моя земля. Это земля моего отца моего деда… И — моих детей.
— Верно, мы любим отчину так, как любят родных людей, которых ведь не выбирают. — И Тебриз полез в свою кошницу — и у него оказалась припасенной тыква с хмельным питьем.
Кирилл, видно, изрядно устал в пути, сон сморил его. Задремал, привалясь к белому, гладкому и теплому валуну, и Тебриз, а когда очнулся, оцепенел от ужаса: прямо перед его глазами висел раздвоенный язык змеи! Сама же гадюка обвила кольцами руку Кирилла, которую тот во сне отбросил на плечо Тебризу.
Первым побуждением было ударить змею и вскочить с земли, но Тебриз вовремя одумался, вспомнив, что змеи сами не кусаются, если их не придавишь, не растревожишь, не преследуешь… Еще подумал с надеждой: не простой ли это полосатый уж? Стал, сильно скосив глаза, всматриваться: нет ли красновато-желтых пятнышек в форме мусульманского полумесяца на голове позади висков у этого гада ползучего? Не увидел — значит, змея! Подумал с запоздалым сожалением: «Надо было бы под деревом лечь… Мухи не выносят запах греческого ореха, и гады бы не полезли…»
У Тебриза окаменели скулы, затекли руки и ноги, но он лежал не шевелясь, даже стараясь реже моргать. И змея моргала редко, словно две слюдяные пластинки время от времени лениво заслоняли ее холодные с вертикальным разрезом зрачков глаза.
С неба слетело на лицо несколько капелек собирающегося дождя. «Да, надо бы нам под деревом лечь, а не у камней», — снова пожалел Тебриз.
Дождевые капли потревожили змею, она зашевелилась, раскрыла рот так широко, что и самой головы ее словно не стало, одна сплошная пасть с острыми, скошенными назад зубами. Тут же и Кирилл очнулся, пошевелил рукой и прижал хвост змеи к своему телу. Змея в мгновение ока развернулась и ткнулась квадратной чешуйчатой головой в шею Кириллу, который вскрикнул то ли от боли, то ли от испуга, вскочил на ноги. Тебриз почувствовал, как острые зубы змеи вонзились ему в большой палец левой руки. «Все же не уберегся», — только и успел подумать, сбросил на землю гадюку, стал остервенело давить ее каблуком сапога. Спохватился: надо же яд высосать, говорили бывалые люди, что если сразу, то и не опасно…
Недобитая змея, трудно извиваясь, уползла в расщелину камней. Тебриз, громко чавкая, обсасывал палец и сплевывал себе под ноги. Кирилл, казалось, еще не все понимал, стоял столбом, держась рукой за укушенное место. Проводив взглядом рябой змеиный хвост, сказал отрешенно:
— Вот и все… Неужто умрем, как умирают лошади да змеи с мухами?
— От зачатия века так было, — бормотал в ответ Тебриз, еще не понимая, высосал ли он уже яд из ранки, избежал ли смертельного отравления. — Эх, есть у византийцев, слыхал я, камень, который исцеляет от змеиного укуса, так и камень называется — змеиный. Надо растереть его в порошок и присыпать к ранке.
— Лучше нам с тобой иметь камень винного цвета.
— Аметист?
— Да, «непьяный»… Тогда бы нас не тронула змея, тверезых-то… И вот скажи же ты, как нарочно: я всегда возил с собой белую одежду — вдруг прямо завтра затрубит архангел и померкнет солнечный зрак, а нынче у меня ее и нет с собой!.. У змеи уж не было яда, когда она тебя хватанула, ты-то будешь еще бренную жизнь на этом свете вести. А мне — закрыть глазки да лечь на салазки… Сгоняй-ка в город, купи на базаре мне белую одежду и попа какого-никакого приведи. Исповедоваться хочу, мне много чего надо сказать тем, кто остается здесь. Да может, еще, слышь-ка, может, и камень этот греческий найдешь…
Тебриза не надо было долго уговаривать. Он махнул в седло Кирилловой лошади, которая уж отдохнула и набралась сил за это время, побежала резво и безнатужно.
Вернулся он, когда уже начало смеркаться. Полотняную белую одежду купил, а змеиного камня не продают. И попа не нашел, но заверил, что он хоть и как турецкий чернец одет, однако таинство покаяния по всему христианскому чину может соблюсти. Кирилл согласился видеть в Тебризе духовника, которому можно принести покаяние в грехах.
Ранка на шее у Кирилла уже начала кровоточить, появилась кровь также в носу и во рту, он испытывал озноб, тошноту и боль в животе. Но был в полном самообладании, даже как-то сосредоточился внутренне, собрался с мыслями.
Тебриз делал вид, что слушает внимательно, кивал в знак понимания и сочувствия головой, а сам предавался извечному размышлению о том, для чего же родится человек: для жизни или для смерти? Будет — нет ли загробное воздаяние, жизнь вечная?.. Благодать ли для души смерть телесная? Об этом узнать можно было бы только от тех, кто уже поселился на том свете, но пока еще никто не возвращался оттуда, чтобы рассказать. Самому, значит, придется когда-нибудь испытать. Куда денешься? Мысли эти вызывали печаль и жалость к себе в грубой душе Тебриза. Не хотелось ему помирать, хотя бы и существовала эта загробная жизнь, хотя и считал он себя сам человеком православным с тех пор, как поступил на секретную службу к великому князю московскому. Но он сразу же бросил свои рассуждения о бренности и насторожился, как охотничий пес хорошей выучки, едва расслышал слова умирающего:
— Спешил-то ведь я на встречу с московским князем, надеялся, что вместе с ним едет и владыка Киприан либо служка его Фотий. На словах хотел сказать и грамотку заготовил о том, что исполнил я повеление — помог перейти в лучший мир самозваному влыдыке…
— Митяю? — всполошился Тебриз.
Кирилл помолчал, трудно ворочая распухшим языком.
— Нет, Митяй своей смертью почил, не потребовалось ничьего злохитрства.
— А почему же Сергий знал, что не увидит он Царьграда?
— Сергий на то и чудотворец: как посмотрел на Митяя, так и понял, что он уж глядец на дубец, что не выдюжить ему многотрудного пути.
— А отчего же корабль встал с покойником, а погребли у латинян?
— Я был там, видел все: в Царьграде война шла, генуэзские корабли никого не пускали, вот и пришлось… Митяй тихо предал душу свою в руце Божии. А вот другой лицемерный владыка русский — Пимин, этот от смертоносного зелия пал, аз многогрешный отравою окормил его… Возьми-ка в суме переметной грамотку мою, на бумаге начертанную. Киприану либо Фотию… Только смотри, как бы на глаза княжеских подручных не попала…
Тебриз нетерпеливо рылся в кожаной потрепанной сумке, отбрасывал в сторону всякие вещицы, не нужные уже хозяину, уходящему в лучший мир, нащупал хрусткую бумажку. Поднес близко к глазам, прочитал: «Архимандрит переяславского Горицкого монастыря, ко убиению имея дерзновение, от сего же возмездие принял. Вершил Епифан Кореев».
После этого Тебриз уж вовсе нерадиво принимал предсмертную исповедь, снедало его нетерпение остаться одному с бесценной грамоткой. Он отчужденно, даже и с неприязнью смотрел на Кирилла, думал о том лишь, сколь скоро возьмет того небо. А Кирилла вдруг оставила сила духа, он воскликнул с болью:
— Страшно, страшно умирать!
— Страшно жить, не умирать.
— Нет, жить хочу, сердце мое жизни жаждет, а не смерти.
— Что смерть? Это наша служанка и рабыня.
Кирилл долго молчал, словно бы обдумывал увещевание нечаянного своего духовника. Смирился все же — перекрестился непослушной, вздрагивающей рукой и попросил кротко:
— Панихиду закажи. Пусть отслужит батюшка церковный помин по усопшему Епифанию.
— По какому-такому еще Епифанию? — Тебриз уж и раздражения в голосе не мог сдержать, так не терпелось ему расстаться навсегда с Кириллом.
— Это я и есть, это мое прозвание по крещению.
— А Кирилл кто?
— И Кирилл я… Кореевым сыном по-улишному меня звали, Епифанием в честь мученика святого, а Кириллом стал я, чтобы Епифания уберечь от сглазу, от всякого вреда… Мало ли на свете людей лихих…
Тебриз восхитился про себя: ну и ну, ловки эти русичи — по три прозвания имеют, и притом без всякой утайки, как бы это так и надо. Захотелось еще раз в грамотку заглянуть, подпись Епифания увидеть. Он словно забыл, что в Таврии смеркается не постепенно, а вдруг, словно кто-то одним движением накидывает черный покров. Не мог ничего разглядеть, поднес к самым глазам бумагу, а тут порыв ветра — раз — и подхватил грамотку!.. Она вмиг исчезла во тьме, будто сгорела!..
Тебриз застонал от горя. Не веря, не надеясь, сделал несколько шагов в том направлении, куда дул ветер. Подошел к грецкому ореху. Показалось, что-то белеется на его толстом стволе. Подошел, крадучись, боясь ошибиться или спугнуть — она, грамотка, прилепилась, бьется-трепещет, вот-вот вовсе улетит…
Отлепил ее трясущимися руками, торопливо сунул за пазуху.
Так с того вечера и хранилась у него на груди грамотка Епифания Кореева — бесценная вещь, не один яхонт черевчатый небось отвалит за нее великий князь московский Василий Дмитриевич.
9
Он не ошибся: вознаграждение даже и превысило ожидаемое. Но не мог знать он, что самым существенным и ценным в его доносе оказалось имя Епифания Кореева, который, оказывается, давно разыскивается в Москве.
— Тот ли это Епифаний, рязанец ли? — сомневался Василий.
Тебриз не говорил больше того, что знал:
— Да, он обмолвился, что бывал там.
Известно было, что, когда Мамай двинулся на Русь, Олег Рязанский сообщался и с ним, и с Ягайло литовским как раз через Епифания Кореева, ближнего своего боярина. Когда семь лет спустя Дмитрий Донской с помощью Сергия Радонежского заключил с Олегом «мир вечный» и отдал свою дочь Софью за князя Федора Ольговича, Епифаний, боясь мести москвичей, хотя, может быть, и не стоило ему бояться, исчез и все эти годы был в нетях. Теперь, если верить Тебризу, покончил он все свои земные помышления, Киприан, конечно же, давно уж не ждет его известий, и тем язвительнее будет для него рассказ Василия о происшедшем.
— Но полно, взяло ли Епифания небо? — допытывался Василий.
— Змея смертельно уязвила, — отвечал Тебриз и таращил правдивые свои глаза.
— Гадючий яд не всегда смертоносен.
— Взяло, взяло Епифания небо, и уязвлен он был двумя жалами. — И Тебриз потупил лохматую голову, из чего можно было догадаться, что ушел Епифаний в мир забвения не без его участия.
— Жалко… Заковать бы его в железа, а уж потом и расспросить; у него, надо думать, много тайн было. Вот хоть с тем же Олегом Рязанским: испугался он тогда, не успел или же не захотел с Мамаем соединяться?
Тебриз преданно вскинул на великого князя светлые свои глаза, жаждал бы новое поручение исполнить, заверил:
— Кабы знал я, то живенького его доставил бы.
Василий брезгливо и так, словно бы намеревался заткнуть рот Тебризу, взмахнул рукой и отвернулся.
От Волги до Солхата таврического Василий решил пройти тем же путем, каким шел Митяй, минуя Тану[78] и устье Дона, сразу на побережье моря Кафинского.
Степь старались пересечь поборзее: знал и Василий, и его попутчики, сколь трудно и опасно путешествие по здешней земле. Степь — это не просто неоглядное море песка с барханами и дюнами, это сплошной песок, который и во всей еде, и в питье, как бы прочно ни запечатано оно было, и у тебя в волосах, и в тебе самом — сплошная кругом пыль, пыль, пыль, и из-за этой сплошной пыли не разглядишь порой и того примечательного, что можно встретить в южнорусских степях.
Часто попадались и каменные бабы, такие же, возле которых останавливались они отдыхать тогда, семь лет назад, когда втроем бежали из сарайского плена. И сейчас стоял такой же, как в тот полдень, зной: небо лежало полинявшей серой тканью, остатки надломленных жаждой растений дымились и плавились в мареве, редкие птицы, вспугнутые пришельцами, взмывали в воздух и тут же и замедляли свой полет, стремясь скрыться хоть в какой-нибудь томящейся тени. Все живое ненавидело сейчас стоявшее на самом темени солнце как заклятого врага — так именно и выразился светлокожий северянин Максим, но Тебриз, которому тяготы пути были привычны и почти им не замечаемы, возразил:
— Солнце — оно, как Господь, тебя всегда видит, а на себя взглянуть не дает.
Василий дождался отставшего, угадывавшегося на горизонте лишь по огромным клубам пыли длинного своего обоза и повелел сделать остановку на дне неглубокой балки, сказав.
— Вот этак же, бывалоча, останавливались мы с Данилой да Дмитрием Михайловичем.
Тебриз опять не смолчал:
— Боброк, конечно, воевода знатный, боярин бывалый, однако в степи я бы тебе больше пригодился тогда. Мучились вы от жажды, а можно было бы облегчить свои страдания. — Он достал из седельной сумки желтовато-серые клубни какого-то растения. — Смотри: ятрышник.
— Ятрышник? — Василий попытался вспомнить, что значит это слово. — Кажется, «ятреба» по-вашему — «требуха»?
— Верно, утроба. А это салепы ятрышника, они на дальних переходах степнякам и пищей, и питьем служат: одного такого салепы хватает на день.
— Это кисельный корень, что ли? — заинтересовался Максим.
— Ятрышник, — ладил свое Тебриз.
— А цветочки его зовут кукушкиными слезками.
— Какие такие слезки?.. Кукушкины сапожки знаю, кукушкин лен тоже знаю…
— А это слезки, ими у нас девки на семик кумятся, еще его змеевиком зовут, в наших лесах ведь тоже змеи водятся…
— Не знаю, не знаю, — бурчал Тебриз. — Ятрышник знаю. Знаю, что одного корня его в степи на целый день хватает.
— Эка невидаль: тоже и любка ночная ничем не хуже. Корня этой фиалки тоже на сутки хватит человеку, если ни есть, ни пить нечего.
— Не знаю, не слыхал, — огорчался Тебриз.
Максим не отставал:
— Конечно, не знаешь ты… Ты же ведь татарин?
— И этого не знаю, может быть, и татарин.
— Почему — может быть?
— Потому что сам не знаю, кто я… Хотел бы знать, да не могу. Ногаем называли моего отца. А кто такие ногаи, знаешь ли ты? Это, может быть, и не татары, а русские, славяне? Ногаи — это те, кто в степях по эту сторону Камня обитали, были подданными Золотой Орды, но, как и русские, не хотели подчиниться, бунтовали — тут были беглые люди со всех мест. И кто был моим предком, пращуром, как вы говорите, не знаю. И может быть, говоря «Чур меня», мы с тобой обращаемся за помощью к одному прадедушке, а-а? Забавно, а-а? И крови, может быть, мы с тобой одной[79].
Максим слушал с недоверием, резко возразил:
— Нет, когда мы говорим «Чур меня», мы обращаемся к своему деду, твой же «чур» — это нечистая сила[80].
Тебриз не стал спорить, он вообще почему-то побаивался Максима, не мог спокойно принимать его насмешек и недоверия.
Стоянку решили устроить на берегу оврага. Была совсем недавно здесь речка, но вода ушла, на дне, покрытом влажной белесой рапой, осталось множество следов от копытцев приходивших на водопой сайгаков.
— Сайга ушла, а змеи остались, они и без воды обходятся. А змеи просто кишмя кишат тут! — Тебриз говорил это явно для одного Максима. Тот поинтересовался вяло:
— Змеи тонкие или толстые?
— Какая разница, важно, что ядовитые.
— Не бойся, — опять снасмешничал Максим, — змея два раза одного человека не кусает, а у нас кошма и войлок из бараньей шерсти есть — отпугивает всех гадов, и толстых, и тонких. А если появятся маленькие, со сверчка, фаланги, то их легко стряхнуть и раздавить.
— Все же лучше, когда никаких гадов нет.
— Ага, а они думают: хорошо, когда этих двуногих гадов нет поблизости… Сам же говорил, что они первыми не нападают.
— Это-то — да, их не трогай, и они не тронут.
Пока ставили шатры, пока раскладывали костерки из окоченевших веток тальника и карагача и грели в кувшинах воду, зной спал. Небо было еще белесым, синева лишь чуть-чуть загустела на восточном окоеме, а на небосводе стали появляться одна за другой звезды, словно бы провожая солнце в его преисподнюю, словно бы подглядывая за ним. А как только солнце скрылось за барханами окончательно, пала непроглядная тьма.
— Почитай, и вечера-то тут не бывает, сразу после дня идет ночь, — удивился Максим.
— Потому-то у нас нет черных лошадей, — оживился Тебриз. — Будешь ехать темной ночью на черной лошади, надо все время щупать рукой — тут ли она…
— Черных лошадей не бывает, вороными они называются… Если бы ты, Тебриз, побывал у нас в Великом Устюге весной, так удивился бы до страха велего: там вовсе ночь не падает, сполохи да зарницы играют от зари до зари, а то встанут столбы белые, мерцают так светло, что можно глаза человека видеть, знать: правду он говорит или пустословит.
— А я и в темноте вижу, что пустословишь ты… «Стол-бы-ы…»
Никто не стал разубеждать Тебриза, такие дивные вещи, вот как раз вроде полярного сияния, трудно по чужим рассказам представить себе, чтобы поверить в их существование, надо собственными глазами их увидать.
10
Весь путь от Москвы до Таврии Андрей и Пысой почти не попадались на глаза Василию, не слышно их было и не видно, но в Солхате приключилась с ними история.
Им все здесь было в диковину, многое было непонятно. Не знали они и того, что хоть и рядышком, в каких-то двадцати поприщах друг от друга, находятся Кафа и Солхат, но порядки там разные.
Уступив генуэзцам побережье полуострова, татары тем не менее старались держать крепости Кафу и Солдайю под постоянным прицелом, для чего построили между ними, посреди долины, город для своего наместника — Солхат, который называли еще Сурхатом и Сургатом. Постепенно татары научились смотреть на Кафу как на свою морскую пристань, а генуэзцы на Солхат как на продолжение своего торгового порта. Посредниками между ними выступало привилегированное кодло — люди богатые и жадные, практичные и зоркие на выгоду. Обогащались они благодаря посредничеству в торговле и, главным образом, купле-продаже рабов.
В Кафе во время краткой остановки Андрей с Пысоем пошли посмотреть диковинный южный город. Все было внове: бездонно-высокое синее небо, бездонно-глубокое темное море, скалистые лиловые берега вдоль бухты, замыкавшиеся сказочным нагромождением черных камней — Карадагом. В порту корабли немецкие и шведские — шнеки да бусы, турецкие каторги, греческие гребные сандалии, множество и неизвестно из каких краев приплывших барок и лодий, а над ними всеми несметное число сварливо кричащих белых витах — и таких, как на Москве-реке, и огромных, словно степные орлы. Кроме витах, непривычно было видеть белых воробьев и черных, как сажа, дроздов. Козе и той удивились — ярко-желтая, с зелеными глазами. И крепость сама, сложенная из тяжелых камней, с круглыми и квадратными башнями, зубчатыми стенами, была для русских путешественников невидалью: московский Кремль хоть и каменный тоже, однако белый и какой-то не воинственный, не враждебный, как эта крепость, нависшая над морем неприступно и вызывающе. Андрей с Пысоем даже заробели в ворота башен заходить, хотя никто не преграждал им путь, только с тонким писком перечеркивали темный проем стрижи, налепившие свои хатки на шероховатых стенах сводов. Земля под ногами бурая, а не черная, растут на ней лавры вместо ракит, виноград вместо хмеля, кипарис вместо осокоря. И яблоки с грушами тут уж поспели, а еще китайские купцы предлагают плоды невиданные — персидские яблоки да цитроны[81]. Люди здесь теми же делами занимаются, что и на Руси, трудятся в мастерских гончары, бондари, кузнецы, но есть работнички диковинные — опахальщики, омыватели ног, мусорщики.
А у двух эфиопов, у которых черными были даже губы и ладони рук, такое занятие: бить воловьими жилами людей, за что-то и кем-то приговоренных к наказанию.
— Как бы и нам такой правеж не устроили, — заробел Пысой.
— За что же?
— Мало ли…
Тут очень кстати появился Максим верхом на коне, велел возвращаться в лагерь.
Оказалось, что в Солхате Василия Дмитриевича встретили послы Тохтамыша и сообщили, что хан ждет великого князя московского в своей ставке на Великом Черном лугу, расположенном за Солхатом в глубине таврических степей.
— На Великом лугу Мамай встречался с Митяем, — сообщил Тебриз, обряженный под купца-сурожанина, чтобы не быть узнанным татарами.
Можно было бы проследовать вместе с тохтамышевыми послами без остановки сквозь город, но предстояло русским путешественникам разделиться: свите великого князя идти в глубь полуострова по степям, а малой группке духовных паломников, в которую входили и Андрей с Пысоем, двигаться вдоль подножия прибрежных гор к Солдайе, которую татары называли по-своему Судаком.
На росстани дорог возле дворца хана Батыя и караван-сарая сделали краткую остановку, чтобы потрапезовать перед расставанием вместе. Но Андрей, снедаемый любопытством, решил воспользоваться и этой остановкой, чтобы посмотреть город, и опять сманил с собой Пысоя.
Посмотреть-то, конечно, здесь было что.
Солхат первоначально являлся постоянной ставкой наместника ордынского хана, а затем у подножия его дворца и подле жилищ его приближенных и начал постепенно строиться и расти этот самый крупный в Таврии город. Центр его, где первоначально была ханская ставка, оставался и сейчас свободным от застроек, там сберегалась как бы запасная пустошь для будущих временных шатровых поселений. Караван-сарай представлял собой большое пятиугольное здание с башенными пристройками, с деревянными галереями, многочисленными клетями, так что в этом постоялом дворе размещалось постоянно несколько сот приезжих купцов, служек, монахов. Поблизости была восхитившая Андрея своей красотой и великолепием мечеть хана Узбека. О ней Андрей много слышал, знал, что возводили ее зодчие, художники, мастера разных дел из городов Средней Азии, Китая, Кавказа. Много знатных дворцов, мавзолеев, усыпальниц, мечетей построили они, но в эту вложили весь свой дар — во славу Богу и как назидание ныне живущим и потомкам о богатстве и могуществе хана Золотой Орды. Андрею интересно было решительно все. и сама стена из пористого туфа, и окна из гладкого тесаного камня, и михраба — молитвенная ниша Удивляла своими размерами и медресе. Это было квадратное каменное строение с внутренним открытым двором, вокруг которого со всех сторон располагались кельи с узкими, как бойницы, окнами Андрей с завистью подумал, что в этой мусульманской школе, готовящей служителей культа, учителей, придворных, служащих, толмачей, занимается одновременно учеников больше, чем во всех самых крупных русских монастырях, больше даже, чем в Григорьевском затворе. Пысоя заинтересовала и рассмешила игра, которой забавлялись ученики медресе: называлась она чехарды и заключалась в том, что часть ребят становилась друг за другом, согнувшись, составляя таким образом мост, а другие по очереди разбегаются и, оттолкнувшись от земли ногами и опершись ладонями о поясницу крайнего согнувшегося игрока, должны перепрыгнуть через всех, сесть на спину переднему, а не сумевший это сделать становится сам в конец моста.
— Приеду в Москву, всех чернецов научу! — принял решение Пысой, но Андрей строго его одернул и повел смотреть мечеть Бебарса, на постройку которой, как рассказывал еще в Москве Епифаний, египетский султан Эль-Мелик ан-Насир Бебарс дал две тысячи динаров. Где-то еще должна быть и Мюск-Джами (Мускусная мечеть), при постройке которой, опять же по рассказам Епифания, в раствор извести добавлялось драгоценное благовоние — мускус.
Но ни той, ни другой мечети они не увидели. На пути встретился им рынок — не простой рынок, невольничий, никогда и нигде ими доселе не виданный. Слыхом слыхали, что есть на свете рабьи базары, где человека можно купить, как курицу, а собственными очами зрели впервые.
Пленники были в основном темнокожие, из разных стран собранные, изможденные, тощие и слабые, так что покупателей на них, видно, не находилось. Было больно видеть в их глазах застарелую тоску, безнадежность.
Андрей с Пысоем, поддернув полы длинных ряс, торопливо пошли мимо, но Пысой вдруг словно споткнулся. Андрей проследил за его взглядом, сам обмер: под дощаным навесом в углу стояли почти голые молодые рабыни, у этих в глазах обреченности не было, они смотрели с надеждой, даже и зазывно.
— Пойдем, чего встал! — громко сказал Андрей, и тут же на его слова отозвалось с другого угла рынка сразу несколько голосов:
— Русичи!
— Наши!
— Свои!
— Московляне!
И поднялся сплошной вой и плач, так что слов уже было не разобрать.
Тут же к Андрею с Пысоем подошли и работорговцы — двое из кодла. Оказалось, что русских продается двенадцать человек, все они из одного села, которое находится возле Ельца на Рязанщине и называется Туга. Андрей с Пысоем, не сговариваясь, полезли в свои подорожные сумки за серебром Оказалось, что его хватит, чтобы выкупить лишь одного старика. Пысой, конфузясь, сказал, что деньги-то у них и еще есть, только не с собой.
Торговцы, как видно, хорошо осведомленные о том, что за иноки перед ними, не спрашивая согласия, повели всех русских пленников прямо к караван-сараю, где остановился обоз великого князя.
Василию Дмитриевичу ничего не оставалось, как выручить из плена своих соплеменников. Тебриз, хорошо знавший повадки кодла, стал ожесточенно торговаться и не позволил обмануть своего хозяина.
Теперь оказавшимся по разным причинам на чужбине русским предстояло двигаться уже тремя разными путями. Василий хотел сначала вместе с освобожденными пленниками отправить в Москву и Тебриза, которому в ханской ставке показываться было небезопасно, но потом подумал, что Андрей с Пысоем нуждаются в покровительстве еще больше.
— Вернемся в Москву, я отработаю и эти деньги, и те, что еще потрачу, — обещал Андрей. И Пысой заверил, что будет на строительстве храмов в Москве и плотником, и каменщиком. А еще и изографом, если сумеет, будет подручным у Андрея, краски будет творить и растирать.
— Смотрите, уговор дороже денег! — очень серьезно, даже грозно ответил Василий Дмитриевич, и Андрей впервые подумал, что великий князь не такой уж добрячок, каким все время прикидывается.
Тебриз, получивший свою мзду за выкуп пленников и рассчитывавший, что и еще какая-то толика серебра может еще прилипнуть к его рукам, сказал:
— Я поеду с монахами в Судак, но уже не сурожанином, а татарским купцом.
— Боишься, что истинные гости-сурожане тебя распознают?
— Не только поэтому. Татарский купец может здесь находиться сколько хочет, может и закупать товар, и продавать, а сурожанину по Кафскому уставу разрешено быть лишь несколько дней и одни лишь закупки делать.
— А ты, стало быть, решил не только куплей, но и продажей поживиться? — не удержался от язвительного вопроса Максим. — Что же за товар у тебя? И что почем?
— Пока нет у меня товара, но, может, и появится. Это как великий князь решит.
Василий велел Максиму выдать из имеющихся в обозе запасов несколько выделанных кож, штуку холста и рыбьего зуба. Тебриз облобызал великому князю руку, припав на колено, а затем нахально попросил еще фландрского или английского сукна.
Василий даже и не ответил, только зло сверкнул глазами и жестом руки велел Тебризу идти прочь. Максим остался доволен таким оборотом дела, а Андрей снова с тревогой подумал, что либо он ошибался в оценке характера и нрава Василия Дмитриевича, либо тот сильно изменился с той поры, как они в потешной палате да повалуше говорили об Авеле да о буквицах, нарисованных в книге неведомым новгородским художником.
11
Сообщение Тебриза о том, что именно на Великом лугу Мамай встречался с Митяем, который через несколько дней после этого отдал душу Богу, внесло некую безотчетную опаску в сердце Василия, хотя он и понимал, что связи тут никакой нет и быть не может. О встрече с Тохтамышем думал он постоянно, но когда она стала уж совсем близкой, то и ожидание ее стало обостреннее.
Идя на встречу с ханом Орды, он знал твердо, что не имеет права поддаваться настроению, не может действовать по влечению сердца, но должен постоянно сообразовываться с обстоятельствами — где-то умом хорошенько раскинуть, изворотливость да находчивость явить, а где-то схитрить, а то и вовсе в притворство впасть. Надо уметь и выжидать, и терпеть, а коли дело до свары дойдет, то и в нее вступить, не теряя расчета. И конечно же, в нужный момент и твердость да силу свои надо показать.
Солхат располагался у подножия большой горы Агармыш, а в начавшейся затем степи встречались время от времени ровные курганы, иные из которых поражали своей шириной и высотой. Растительность была бедна повсеместно, потому трудно было определить: которые курганы древние — таврские да скифские, а которые насыпаны недавно.
Про один из курганов, едва ли не самый большой, Тохтамышев посол сказал:
— Здесь Мамай зарыт.
— Вот, значит, куда «отскочи поганый Мамай серым волком от своея дружины…», вот куда «притече»! — весело откликнулся Максим, наизусть повторяя слова из хорошо знаемой всеми москвичами «Задонщины». — «И молвяще ему фрязове: — Чему ты, поганый Мамай, посягаешь на Русскую землю? Нешто тебя князи русские гораздо подчивали, ни князей с тобой нет, ни воевод? Нешто гораздо упилися на поле Куликове на траве ковыли».
Встреча с курганом Мамая, бежавшего сюда после разгрома на Куликовом поле и в том же году нашедшего здесь насильственную смерть от рук генуэзцев, показалась Василию доброй приметой, во всяком случае, почему-то сразу исчезла гнездившаяся в сердце неуверенность, и Максим, умевший точно угадывать настроение и ход мыслей своего государя, сказал:
— У нас дома свой Великий луг, да притом не Черный…
При этих словах боярина не только Василию, но и всем, слышавшим их, вспомнились сразу родные замоскворецкие луга с их бескрайним разнотравьем и медовым воздухом, настоянным на подмареннике да таволге, на клевере да доннике. И потянуло домой тем сильнее, чем ближе ставка Тохтамыша. Что там ни говори, но приезд к хану Золотой Орды порой опасен и всегда унизителен. Не мог знать Василий Дмитриевич, что его нынче встретят в Орде так, как ни одного еще русского князя не встречали[82], и того не мог ведать, что никогда уж ему больше не придется приезжать к хану на поклон, хоть и процарствует он на Руси слишком долго, как никто ни из предшественников его, ни из преемников[83]. А о том, что нынешнее величие и могущество Тохтамыша уж закатные, последние в его жизни, мог прозревать лишь в тайных домыслах своих. Три года ордынского плена научили его многому, сделали зорким, приглядчивым, умеющим видеть за показной улыбкой вельмож и визирей злобу и лед на сердце, а за пугающей свирепостью эмиров и ханов утаиваемую слабость, осторожность мелкий расчет.
Степь кажется впервые попавшему сюда пустынной и скучной. Ковыль да полынь, полынь да ковыль — такой видит степь Максим, не зная, что есть дни весной — майские дни предлетья, когда степь укрывается нарядным ковром тюльпанов, а на берегах напоенных подснежкой речушек благоухают белокипенные цветы степной вишни, ракитника. Прекрасна в тот час своей жизни степь, но и это лишь поверхностное впечатление о ней. Кто бывал в ней не раз, и бывал подолгу, тот видит не только полынь да ковыль в знойную пору я не одни только тюльпаны в майскую благодать, есть в степи затаенная красота в любое время года, надо только уметь видеть ее. Вот хоть сейчас. Нестерпимым кажется зной, выжигает все дотла немилосердное солнце, однако стоит лишь присмотреться и заметишь — подрумянились на солнце стебли тамариска, тянутся вверх, жить собираясь долго, морковник, кермек, или перекати-поле, много других трав в расцвете сил, в страстной жажде жизни. Но надо не просто побывать, а пожить в степи, прочувствовать ее, чтобы уметь угадать и большую ее тайну: видимый ее — нынешний расцвет — это предвестие скорой и окончательной гибели. Надломленные долгим зноем травы, перед тем как совершенно засохнуть, вдруг начинают буйно цвести, едва-едва поднявшись над землей в самую зенитную пору засухи. Природа словно бы пытается возместить обреченность трав прощальным цветением, которое дает остатнюю возможность сохраниться от вырождения, продолжить род. Василию была понятна и видимая страстность летней степи, и противоестественность этого творения в пору, когда все живое обречено умирать.
На Великом Черном лугу татары обычно собирались на летовку, готовясь к дальним походам, которые совершали либо осенью, когда и лошади в теле, и дороги в лесах понадежнее, либо даже зимой, когда замерзнут реки и замостятся болота. Но сейчас Тохтамыш пришел сюда с иной задачей, здесь он объявил сбор своим полкам, чтобы идти войной немедленно, не дожидаясь конца лета. Не в Залесскую землю он собирался. В далеком Самарканде восседал непримиримый враг его — надменный Хромец, величающий себя Прибежищем веры, Щитом ислама, Колчаном Божьего гнева, Мечом справедливости. Тохтамыш так безоглядно верил в свою скорую и конечную победу над Тимуром, что велел именовать себя Повелителем мира, еще не вступив в стремя. Звездословы и звездочеты находили благоприятным для него сочетания небесных светил, муллы обещали помощь Аллаха, мурзы восхищались его мудростью, темники не сомневались в его умении победоносно водить полки.
Войсковой стан на Великом Черном лугу располагался по установленному еще со времен Чингисхана и хорошо знакомому Василию порядку. Каждая десятка воинов имела свою юрту. Войсковая сотня состояла из десяти юрт, ставившихся кругом, в центре которого находился сотник, и об этом оповещало знамя с его тамгой. Шатер тысячника располагался в центре десяти кругов, каждый из которых состоял из десяти юрт. Во главе тысячи стоял эмир, у него знамя иное — на древке полумесяц, под которым вьется красный конский хвост. Возле голубой, расшитой золотом юрты водружено зеленое знамя священной войны — знамя пророка Мухаммеда, здесь ставка самого хана.
Стан жил своей обычной жизнью: воины готовились к походу, чиня одежду, оттачивая сабли и наконечники стрел, возле каждой юрты горели костры, слышалось ржание лошадей, звяканье железа, гортанные возгласы татар. Немало было и разного рода нашельцев. Посреди поставленных кругом вплотную друг к другу кибиток и повозок приехавшие из Кафы генуэзцы показывали «пляску осы»[84]. Чуть поодаль светлокожий канатоходец удивлял искусством ходить по высоко над землей натянутой проволоке. Фокусник глотал живых змей и выпускал из рукава голубей и кур. Там и здесь пророчествовали колдуны, всячески зазывали к своим лоткам заморские купцы. Но вдруг раздался все звуки перекрывающий рык боевой трубы — и стан враз смолк.
— Идет хан Тохтамыш! — выкрикивали вестовщики на полном скаку своих разгоряченных коней.
При этом сообщении многие сидевшие возле ближних юрт от страха или почтения повалились на землю, канатоходец сорвался с проволоки. Один старый араб, как видно, глухой и не слышавший предостережения, остался в прежней позе. В руках у него была хлебная лепешка, он откусил от нее и начал жевать с усилием, сосредоточенно. Рядом стояла его лошадь, тоже старая, мосластая и тоже трудно жевавшая кусок той же лепешки. Вооруженные всадники налетели на них, словно смерч, смели прочь, и после них осталась валяться в пыли лишь обкусанная и раздавленная копытом хлебная лепешка.
Тохтамыш шел в сопровождении охраны и большой свиты вельмож. Посол, встречавший Василия в Солхате, что-то коротко выдохнул из себя и повалился к ногам хана, целуя его золотые сандалии.
Василий очень хорошо помнил то унижение, которое он пережил, когда впервые встречался с Тохтамышем в Сарае. Он тогда опустился на колени, а про себя повторял молитву Пресвятой Богородице. А когда в одно из следующих посещений ханского дворца увидел знакомую вещь — сковородку с золотой рукояткой, которую татары украли, видно, из Кремля во время нашествия, то стал спасаться от унижений тем, что тайно надсмехался над Тохтамышем, повторяя про себя: «Отдай мамину сковородку!»
Сейчас поступить так же, прибегать к детским хитростям ему не хотелось, но и другого выхода он не находил, решил уж принять почтительную позу, склонил голову, как услышал:
— О-о, тарагой канязь Василий!..
Разноземельные послы сообщат потом своим государям, что великий князь московский был принят в ставке хана с удивительной ласковостью, не как улусник, а как желанный гость. Но сам Василий Дмитриевич нимало не обольщался на этот счет, слишком хорошо понимая, что ласковость эта показная, гостеприимство ложное, а сказанные слова не более чем вожеватая фраза, за которой может скрываться все, вплоть до вероломства, однако сделал вид, что принял ее за чистую монету. А следом за этой фразой полился целый поток слов. Василий был знаком с восточной велеречивостью по прежним встречам с тем же Тохтамышем, не удивлялся диким на наш слух сравнениям, но сейчас хан Орды превзошел сам себя: речь его была столь пышной и затейливой, сравнения и возвеличивания переплетались столь туго, что ничего уже и не было, кроме сладкозвучия.
«Видно, дары мои пришлись по сердцу и хану, и ханским женкам, и эмирам с нойонами» — это первое, что подумал Василий и порадовался своему решению послать из Солхата с упреждением обоз, в котором заключалось не все, конечно же, богатство и не вся краса Москвы, как случалось это некогда, в особо тяжкие для Руси времена, однако все же преизрядное сокровище — меха соболиные и куньи, бобровые и песцовые, оружие из харалужной стали да с многоценными каменьями, утварь золотая да серебряная, конская справа, лучшими умельцами Москвы изготовленная. И знал — не мог не знать — Тохтамыш о том, что в обозе еще не все дары, что Василий отдельно везет серебро, переплавленное в деньги, а также и в слитках. И как нельзя кстати это серебро: много оружия предстояло еще закупить для предстоящего похода за Волгу, к пустыням Северной Азии, куда Тимур уже двинул свои войска от морей Аральского и Каспийского.
В тот же день Тохтамыш принял Василия в своей юрте, и эту поспешность тоже отметили и по-своему истолковали посланники европейских и восточных стран.
Теперь Тохтамыш не столь велеречиво говорил, но все равно цветасто, не всегда понятно. Василий скоро приноровился перекладывать в уме его речь на удобопонятную.
— Не узнать тебя, канязь, — радушно, словно родню, принимал Василия хан, — Был отрок, когда бежал от меня, а нынче — как это вы говорите? — за-ма-терел… Как волк матерый стал!
Похвала показалась Василию двусмысленной, он расслышал первые недобрые намеки. Отметил, что и хана не узнать — сутул и плешив стал, и сказал с совершенным простодушием:
— Нет, где мне соваться в волки с песьим хвостом…
Тохтамыш озадаченно помолчал, вытянув голову, отчего показался Василию похожим на грифа что питается падалью.
— Однако хвост-то у тебя погуще моего, — хан потрепал редкие волосики своей рыжей с проседью бороденки.
— Густ, да короток, — ответил Василий и тут же вспомнил присказку многомудрого Кошки: — У кого борода лопатой, а у кого заступом растет.
— Это ведь твой боярин так говаривал? — памятливым оказался старик Тохтамыш. — Что это нет его с тобой?
— Старым-старешенек стал. В молодости охотою, а в старости перхотою…
— Сын его Иван где?
И в этом вопросе чудилась опасность, Василий поостерегся:
— Старый Федор Кошка, да весел, а Иван Кошкин молод, да угрюм, повелел я ему в обратный путь оглобли завернуть.
Ответ, кажется, понравился Тохтамышу, но он какую-то свою линию продолжал:
— Если не согнулся, когда был прутиком, не согнется, когда станет палкой… Отчего замкнулся, как колчан после боя?
— Извиняй, повелитель, не свычно мне твое мудрое говорение… Я, прежде чем ответить, думаю, как твои слова на понятный мне язык перетолмачить.
Тохтамыш выслушал бесстрастно, даже как бы с некоторой опаской. Произнес раздумчиво:
— А у вас, русичей, речь пряма, а помыслы курчавы, как шерсть молодого барашка… Почему я о прутике говорю?.. Из прутика палка может получиться, а может и плетка. Заметил, что другой мой слуга тебя встречал?
— Да, царевич Улан меня в Солхате нашел.
— Чего же не спросишь, где прежний, Шиахмат, который тебя на великий стол по моему велению сажал?
— Где же он? — Василию и в самом деле было интересно узнать, а разговор вступал вроде бы в безопасную стезю.
— Нету твоего Шиахмата. Как вернулся из Москвы, так словно ты подменил его: из прутика в плетку превратился, зачванился сверх меры. Я тогда послал его в Мекку. А там — ты-то, наверное, это знаешь — слово «шахмат» крамольное, там все играющие в эту игру на клетчатой доске считаются потрясателями основ и сеятелями смуты, потому что «шахмат» значит «владыка умер». Доложился мой посол, а тамошний владыка повелел ему тут же голову снять. Вот ведь как плохо не знать порядков в той стране, куда приезжаешь.
Василий знал порядки в Орде, уже принял решение — сказал сразу уже:
— Дозволь, повелитель, поднести тебе заветную вещь, кою Федор Андреевич Кошка, который интересовал тебя, изготовил по моему заказу?
Тохтамыш, разумеется, дозволил. Максим проворно принес в юрту большой расписной сундучок. Василий достал из него тяжелый кубок и протянул хану. Тот сразу оценил подарок, был рад ему и не скрывал радости. Кубок был серебряный, золоченый, с кровлею на высоком стоянце. По кубку и по стоянцу устроены короткие ложечки, под пузом у кубка стоит у дерева лучник, метко стреляющий в лань. По кровле и по стоянцу спускаются белые травки с цветочками так, что можно прочитать. «Султан Тохтамыш, да продлится царство твое».
— Деньга, в твою честь битая, в кадях запечатана… Поболее захватили, прослышав, что в дальний поход ты собираешься.
Рассмотрев кубок и кивком головы одобрив последние слова Василия, хан велел виночерпию налить в серебряные чаши кумысу, одну из них поднес гостю, держа ее в обеих руках.
— Не побрезгуешь «черным молоком»?
— Благодарствую! — Василий принял чашу также двумя руками, помнил: все у татар может быть притворством, но чаша с кумысом в двух руках — это то, что у русских называется душа нараспашку.
После ядреного кумыса, который был хмельным и чуть заметно ударил сразу же в голову, разговор пошел совсем иным. Тохтамыш отстегнул пояс из золотых с чеканкой пластин, кинул его на руки стоявшего у входа в юрту челядинина. Затем сбросил с плеч темно-зеленый халат из тяжелого крученого шелка и, оставшись в светло-синем одеянии, в каком у монголов принято встречать истинно дорогих гостей, повернулся к Василию с лицом явно непритворным. не заметно было в глазах у него ни надменности, ни настороженности, ни враждебности, ни тайных помыслов.
— Мы по пути из Солхата мимо высокого кургана проезжали и твой посол сказал, что в нем зарыт Мамай. Верно? — не из праздного любопытства спрашивал Василий, и Тохтамыш это понимал.
— Он был выскочка, этот темник, возомнивший себя ханом-чингизидом. Поделом ему русичи побоище учинили. Я потом добил его, а к отцу твоему послов своих с дарами направил, потому как люб мне был Дмитрий Иванович. Сколь надменны все воители и короли в Европе, сколь тщеславны они, приписывая себе даже те успехи, к которым не имели никакого касательства, столь отец твой нимало к личной славе не стремился, вышел на бой в кольчуге простого воя!.. Ты ведь знаешь с моих слов, как я ценил канязя Дмитрия еще и при жизни его.
— Да, я помню. И вспоминаю. И горд знать, что не только друзья, но и супротивники отдавали моему отцу должное.
— Победа Дмитрия на поле Куликовом сгубила Мамая, но она ничего не изменила в наших отношениях, не правда ли?
— Правда-то, может быть, и правда, но для каждого русского, как и для каждого ордынца, тот день побоища стал как бы неким важным знамением и по наше время, не так ли? — Василий говорил мягко, дружелюбно, даже вкрадчиво, но, опасаясь сделать шаг в ложном направлении, внимательно следил за реакцией Тохтамыша на свои слова. Тот, чуть поразмыслив, согласился:
— Пожалуй… Даже в моей памяти тот день отложился. Но только без ярлыка моего по-прежнему русский канязь — не канязь.
— Нынче один твой ярлык на Руси мало уж что значит. — Как ни остерегался Василий, но все же не сдержал горячности, обнаружил истинный ход своих мыслей, чем едва не упустил плоды своей предыдущей тонкой игры. Вовремя сумел поправиться: — Дашь ты мне ярлык, к примеру, на Нижний Новгород, а к нему еще послов и воевод твоих надо, чтобы Борис Константинович смирился.
— Ловок же ты, канязь Василий, — произнес Тохтамыш как-то невесело, и не понять было, что он имеет в виду под ловкостью — нарочитую смену разговора или умело вставленное словцо о Нижнем Новгороде. Тут же и к прежнему разговору вернулся: — Вот видишь, стало теперь Москве еще труднее справляться со своими. Борис Городецкий из потомков Ярослава Второго за ярлыком все приходил ко мне. Новгородцы от суда твоего хотят отложиться. Рязань, Тверь, Смоленск, Киев — это все ведь не друзья твои… Так что ничего вы на Куликовом поле не выиграли, осталась только память одна, «Задонщина» какая-то…
— Нет, повелитель, нет. Хотя память о делах пращуров наших для Руси дело не последнее, но не только в ней дело. После «Задонщины» спор о том, кто в Залесских землях главный, решен совершенно и навсегда. Вот дал ты ярлык Борису Константиновичу, а новгородские ушкуйники не только его Нижний грабят, но и твои города — Жукотин, Булгар, Казань…
Тохматыш озадаченно покрутил плешивой головой, ничего не сказал, велел виночерпию наполнить чаши кумысом из бурдюка и подавать угощения. Василий сидел на ковре, как и хозяин, подогнув под себя ноги, брал руками из котла плававшие в жире куски баранины, не отказался и от сильно хмельной белой архи, которую виночерпий наливал из деревянного бочонка.
Во время еды обменивались малозначащими словами, и при этом каждый что-то важное обдумывал, готовясь к разговору новому и серьезному. Начал его Тохтамыш, и начал опять с Дмитрия Донского:
— Да, люб мне твой отец, его всепостигающая мудрость была прямой и острой, как русский меч. Помнишь, родился у тебя брат Константин?
— Как же! За три дня до кончины батюшки.
— За три, однако успел Дмитрий крестников Константину назначить. Это кто был?
— Я.
— Верно, ты. Но с женской стороны?
— Марья Тысяцкая.
— Вот! Случайно ли? Ведь Мария была вдовой Василия Тысяцкого, который вместе с Никоматом Сурожанином бежал из Москвы в Тверь, а потом к нам в Сарай за ярлыком для тверского князя.
— Переветник был поделом наказан.
— Да, смертью казнил Дмитрий его, не побоялся нашего гнева, однако через шесть лет как бы породнился с Тысяцкими… Ведь в крестные своему сыну взять — это у вас как бы вторую мать иметь, верно? И при этом Дмитрий успел до смерти своей сообщить мне через моего посла о примирении… Видишь, как не просто все. Постигая мудрость меж-державных связей, вникай в тайны их неожиданных поворотов.
— А скажи, почему не казнил ты меня, как собирался после моего неудачного побега и тайного свидания с вельможей твоего заклятого врага Тимура?
— Помню, я собрался завернуть тебя в ковер и бросить в Волгу.
— Пожалел?
Тохтамыш рассмеялся:
— Царь не должен знать таких слов. Просто нужен был ты мне. Донесли мне, что в том году Дмитрий и двоюродник его Серпуховской заключили соглашение с князьями Ягайло, Скиргайло и Корибутом, которые «грамоту докончали и целовали крест великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его князю Володимиру Ондреевичу и их детям лета 6892 года»… Видишь: не Дмитрий московский литовским князьям крест целовал, а они ему — обязались принять православную веру…
— Если бы тот уговор был исполнен…
— То не разговаривали бы мы сейчас с тобой. Съели бы тебя волжские раки да рыбы. Да и моя судьба неведомо как бы сложилась. Слава Аллаху, Ягайло сумел сделать верный выбор: он женился не на твоей сестре, как того хотел Дмитрий, а на польской королеве Ядвиге. Выполни он договор с Москвой, стал бы на Руси вторым лишь лицом, а так в Польше и Литве — первый! А самое главное — он сам-один, как и ты, великий князь Руси, как и Витовт, великий князь литовский.
Василий отлично понимал, почему с таким торжеством рассказывает о прошедшем Тохтамыш: ему удалась обычная ордынская политика по разобщению противоборствующих ему сил — в Литве да Польше он действует так же, как в Новгороде, Твери, Смоленске, Нижнем… Но понимает ли он, что все равно связи Москвы с литовскими землями значительно более жизненные и прочные, чем это может казаться?
Тохтамыш, словно угадал молчаливый вопрос собеседника, сказал:
— Рад я, что породнился ты с Витовтом, мне теперь спокойнее за русские земли.
И второй раз Василий не сдержал своей юности и не смог скрыть досаду:
— Так что же, значит, это ты решил, чьей женой стать надо было моей сестре Софье — Ягайлы или рязанского князя Федора Ольговича?
Тохтамыш самодовольно ухмыльнулся:
— Мне надо было тогда как-то уравновесить польско-литовскую унию… Помнишь, мы тогда отпустили из плена Александра тверского, Родослава рязанского… Да и тебе второй побег удался…
— Хочешь сказать, что нарочно меня отпустил?
— Нет, не скажу так, не нарочно. Однако не столь строго тебя содержать стали, помнишь? На охоту тебя отпускали, отлучался ты и в степь, и на Волгу, по Сараю шнырял, как по Москве.
Василию было очень хорошо известно, как тогда раздосадовал Тохтамыша его побег, он даже повелел казнить татарского охранника, который не устерег пленников. Сейчас он просто кичится, а это уж не от силы… Сразу стало спокойнее на душе, Василий сумел даже искусно притвориться, подыграть ему и выведать важные сведения.
— Удивлялись мы в Москве: Митяй, друг великого князя московского, тяжким путем шел и погиб безвременно, а Дионисий Суздальский, ставленник нижегородцев, по твоей земле как по отчей ходит.
— С Дионисием Суздальским я посылал в Царьград царевича своего. Патриарх меня послушался лучше, чем великого князя Дмитрия, выдвинул Дионисия на пост митрополита всея Руси. А зачем мне это надо было, как думаешь?
— Для того же, для чего дал ярлык Борису Константиновичу.
— О-о, ты не просто ловок, ты умен, канязь! Ты по праву будешь владеть Нижним Новгородом со всеми его городами и весями.
— Борис Константинович был у тебя прошлым летом, а Ягайло днесь…
— О-о, да ты не просто умен, ты — опасен! Откуда прознал? Ягайло заслужил ярлык на Волынь, Подолию и другие русские земли. Перед Куликовской битвой он от своего имени и от имени рязанского князя предлагал Мамаю: а мы княжество Московское разделим себе надвое, часть к Вильне, часть к Рязани, и даст нам царь ярлыки. Но опоздал он на Куликово поле, зато, когда Дмитрий возвращался с Дона, смело и решительно ударил по его войску.
Василий слушал с видом полного простодушия, на который горазды так москвитяне со времен Калиты, но упоенный своим величием Тохтамыш не мог разглядеть в его глазах лукавства и скрытой насмешки. Да, хоть и во многое посвящен хан Золотой Орды, однако же еще больше тонкостей русской политики для него за семью печатями. Верно, что шел Ягайло на встречу с Мамаем, только «опоздал-то» на сутки от страха перед Москвой. Август Краковяк прознал, что со слов Ягайло немецкие хронисты записали, будто ударил он по войскам Дмитрия Донского — так хотелось ему понравиться одновременно и крестоносцам, и Тохтамышу. Но Василию доподлинно известно, что не только «ударить» не мог он, но даже того опасался, как бы его Собственные полки не выступили не за Мамая, а против него, потому что шли под его знаменем воины из русских православных земель. Но конечно же, ничего не стал Василий выкладывать Тохтамышу, кротко внимал его велеречивости, умело подвел к тому, чтобы в ярлыке были названы, кроме Нижнего Новгорода, еще Городец, Мещерский городок[85], Таруса и Муром. Тохтамыш согласился на это, но не сразу, а покочевряжившись и напомнив, что Таруса и Муром николи не принадлежали роду Мономахову, были всегда уделом черниговских князей.
Василий осторожно возразил — сказал, что оба города давно к Москве прислоняются, напомнил, что тарусский князь, служа Москве, погиб на Куликовом поле. А еще и тоненький намек позволил себе сделать Василий, порассуждав, как это важно быть уверенным в своих соседях, как может, например, быть уверенным в московском князе Тохтамыш, собирающийся совершить победоносный поход за Волгу и Яик.
Не осталось, кажется, никакой неясности, и Тохтамыш закончил разговор так:
— Люб ты мне, канязь Василий, верю, что ты ко мне относишься не как данник, а как друг и союзник. И ты умно сказал, что один ярлык на Руси нынче мало уж что значит, потому пошлю я с тобой царевича Улана, он объявит мою волю нижегородцам и, если надо будет, власть применит. — Тохтамыш посмотрел на потолок юрты, проследил взглядом, куда падает солнечный луч сквозь круглое отверстие в кровле. — Однако, Василий, долго мы с тобой кумысничали, час зайца уже, а пришел ты ко мне, когда была мышь[86].
Царевичу Улану Тохтамыш дал все указания по делам присоединения нижегородской земли к Москве, а также поручил ему доставить на двор великого князя московского ответные подношения, которые заключались тоже в целом обозе, — они не шли, конечно же, по ценности ни в какое сравнение с полученными, хотя и были названы «дарами вельми» и в русских летописях, и в иностранных хрониках.
Тохтамыш считал приезд к нему Василия большой своей победой, однако и великому князю московскому стыдиться было нечего.
12
Весть о том, что великий князь был принят в Орде «с великой честью, многою любовью, с верой и смирением», гонцы принесли в Москву, а глашатаи объявили повсеместно задолго до прибытия Василия. И в Нижнем Новгороде скоро стало известно о новом ярлыке Тохтамыша, однако новость эта обнародована не была, осталась тайной одного лишь Василия Румянцева, главного боярина нижегородского князя.
В ожидании ответного известия от него Василий Дмитриевич сделал остановку в Коломне, раздумывая: идти ли сразу в Нижний Новгород или поостеречься, выждать момент.
Коломна была городком небольшим, но важным, много значащим в текущей жизни Руси. Двести лет назад принадлежала она Рязанскому княжеству, затем захватил ее Данила, младший сын Александра Невского, и с той поры владели ею владимирские князья. Дмитрий Донской, чтобы избавиться от всяких притязаний на нее Олега Рязанского и нижегородских князей, именно в Коломне, а не во Владимире или Москве устроил свою свадьбу.
Прибыв в Коломну, Василий первую службу отстоял в церкви Воскресенья[87], в которой двадцать шесть лет тому назад венчались его родители.
Епископ Григорий сводил великого князя и в собор Успенья Богородицы[88], который заложил десять лет тому назад Дмитрий Иванович в память о славной победе на Куликовом поле. Свою лепту в строительство собора внес и еще один герой Донской битвы — Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский. Григорий объяснил, отчего столь долго идет строительство: дважды разоряли Коломну соседи — Городецкий да рязанский князья, и оба раза с ними приходили татары, грабившие и разорявшие почти возведенную и украшенную уже иконами и драгоценной утварью церковь. После налета Олега Рязанского решили перестроить храм почти заново, а стены внутри расписать по сырой штукатурке. Дружина изографов из Городца сейчас заканчивает фрески и иконостас, до холодов должны управиться.
Василий посмотрел, как работают художники, вспомнил Андрея Рублева, который обещался по возвращении в Москву строить в Москве храм Рождества Богородицы — его решила воздвигнуть Евдокия Дмитриевна ко дню, в который минет пятнадцать лет славной победе на поле Куликовом.
Воевода Коломны Игнатий Семенович Жеребцов устроил в честь великого князя пир, который начался в Дмитровскую субботу. Поминали Дмитрия Донского и Сергия Радонежского, которые двенадцать лет назад постановили ежегодно в субботу Дмитровскую праздновать вечную память погибших на поле Куликовом, поминали «всех, на поле брани убиенных», желая им «покоя, тишины и блаженной памяти».
Отъезд в Москву пришелся на Дмитрия Солунского, отцовского патрона[89]. Не специально приурочивали к этому дню — как раз весть от Румянцева подоспела: сообщал верный доброхот, что Борис Константинович по-хорошему не отдаст престола, повелит ворота города запирать. Раз так, решил Василий, то без кровопролития не обойтись, и почел за благоразумное не заявляться сразу со своей властью, а допрежь подготовить свое воцарение неспешно и надежно. С этой целью он послал бояр во главе с Максимом и с ханским послом Уланом. Василий собирался послать в Нижний Новгород брата Юрия, для чего вызвал его в Коломну.
По старому уговору Владимир Андреевич во время отсутствия великого князя обязывался блюсти Москву, а чтобы Юрика не одолевали сомнения о будущем престолонаследии, Василий перед отъездом в опасную степь оставил духовную грамоту. Текст ее продиктовал дьяку Тимофею Ачкасову нарочно в присутствии Юрика и матери: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа се аз грешный, худый раб Божий Василий пишу душевную грамоту, идя в Орду, никем не нужен, целым своим умом, в своем здоровьи. Аже Бог что разгадает о моем животе, даю ряд братьям своим по духовной отца нашего Дмитрия Ивановича…»— Василий заметил, как при этих словах удовлетворенно ворохнулся Юрик. И когда подписывалась грамота в присутствии послухов — ближних бояр Максима да Ивана — самим Василием и митрополитом Киприаном, Юрик проследил внимательно и как дьяк посыпал на подписи промокательный порошок, и как скрепил Василий грамоты своей печатью, и как запер ее казначей в великокняжескую казну. Доволен остался Юрик — было ясно видно.
Посылка его с важным поручением в Нижний Новгород должна была бы, по соображению Василия, еще больше удовлетворить непомерное тщеславие и гордынность Юрика, и тот, очевидно, с большой охотой согласился идти, однако припозднился в пути, на полдня опоздал с приходом в Коломну — Василий встретил его на Болвановской дороге по пути в Москву.
Царевич Улан был молод и красив, словно девица: на нежном лице яркие глаза, опушенные черными густыми ресницами, застенчивая улыбка, ямочки на щеках и голом подбородке. Но был он, как видно, и неглуп, перехватил взгляд засомневавшегося Василия, заверил:
— Не беспокойся, великий князь, мы тетиву умеем крепко натягивать!
— Тетиву натягивай, а стрелы спускать я буду сам!
И опять все понял Улан:
— Клянусь всевидящими очами неба, великий князь, что никто из моих воинов и единого волоса твоих подданных не тронет.
Расстались на Девичьем поле — здесь, междуречье Оки и Москвы, близ третьей еще речки Коломенки двенадцать лет назад Дмитрий Донской устраивал смотр войскам, готовившимся идти навстречу Мамаю. Отсюда же победители Орды, миновав владения рязанского князя, начали свой последний переход к Москве: на всех ста верстах пути в слободах и селах, в сельцах и погостах, в деревнях и починках, в посадах и займищах встречали их женки и дети — со слезами радости, с горестным плачем.
Как и тогда, выпал утром снег, и, как тогда, белизна его слепила и влекла к небесному окоему. И растаял снег, как тогда же, в одночасье, будто и не было его. Ветер разогнал тучи, в подкове насупившегося леса тишину нарушил раскатистый хлопок пастушеского кнута, из села долетел звон благовеста. Воздух был родниково чист, журчал подкрепленный подснежкой ручеек, умытая земля запахла прелым листом, грибами.
Второй раз за свою недолгую жизнь возвращался Василий домой из враждебной и опасной чужбины, второй раз переживал сладостное чувство свидания с отчиной.
Юрик торопливо пересказывал наиболее важные новости, брат слушал рассеянно, кивал головой не всегда впопад.
— Я отговаривал Янгу идти замуж за Мисаила, за Маматхозю… Знаешь, как отговаривал?
Василий не отозвался, озирался влюбленно окрест себя, узнавал и принимал внове и синие перелески, и яркие зеленые озимя, и сиреневые пожми. Юрик по-своему расценил молчание брата, усматривая его корысть и заинтересованность, и не стал настаивать с вопросом, о другом сказал с большой печалью:
— Сергий, чудотворец всея Руси, отошел ко Господу в бесконечный век.
— Ведаю о том, в Кафе весть сия меня застигла, — обронил Василий.
Юрик опасливо покосился, добавил:
— День блаженного упокоения его — двадцать пятого сентября, в канун преставления Иоанна Богослова…
А с неба вдруг долетел скрип маховых перьев и отрывистые переговоры в строю:
— Идешь?
— Иду! Иду!
Василий запрокинул голову, засмеялся от счастья:
— Гуси! Они возвращаются!
Юрик даже лошадь свою остановил, так удивлен был словам великого князя. А тот продолжал шумно:
— Смотри же, как долго меня не было! Они вывели в полуночных странах детей, поставили их на крыло и вместе с ними летят теперь к теплу, а я только-то и успел сделать, что ярлык умздить…
Василий ждал, наверное, братниной похвалы и разуверений, сейчас был в его жизни такой миг, когда человек радуется неосознанно, бездумно всему, когда кажется ему все вокруг благостным и хорошим. Он не соизмерял глазом, не считал умом, он словно бы забыл, что у людей могут быть в душе боль и неустроенность. Такая боль была у Юрика, он поделился ей с самым близким человеком, а сейчас вдруг понял с пронзительной безнадежностью, что зря сделал это: Василий был столь далек от него, что не только не разделил его боли — он даже и не услышал ее, снова и снова повторял в восторге.
— Надо же, гуси! Те самые!
Юрика обожгла беспощадная мысль, что он безвозвратно потерял сейчас что-то очень дорогое, что он уж никогда больше не сможет прийти со своей болью к старшему брату.
А Василий вспомнил того одинокого весеннего гуся, которого хотели заклевать сотоварищи… Верилось, что он выжил и летит сейчас в одном из клиньев:
— Иду!
Одиночество иногда просто и необходимо и желанно. Поздней осенью степь начинает вдруг снова зеленеть, словно бы еще раз пытаясь восполнить весеннюю и летнюю утраты. Но только ни буйности, ни силы у земли нет — робко стелется под ногами крохотная травка. Подлинным хозяином степи становится одинокий куст перекати-поле: бурый шар несется уверенно, победно, одиночество его не угнетает ничуть, он ему даже и рад.
Великий князь самой судьбой обречен быть сам по себе, ему нет ровни — он один, как один Бог, как одна правда.
Глава VII. Москвичи и иных мест люди
Москвичи Москву страстно любят и думают, что нет спасения окромя и что нигде не живут окромя, как в Москве.
Екатерина II1
Все яснее и очевиднее становилось и друзьям и недругам Руси, что на огромном пространстве Восточной Европы осталось лишь три истинные силы: Литва, Орда и Москва — Москва-город, Москва-народ, Москва-государство. Вопрос мог теперь заключаться лишь в том, кому из трех принадлежит в истории главная роль. А пока ответ на этот вопрос искался, ближайшие братья — удельные князья, владевшие вполне независимо городами, но не чувствовавшие себя властелинами, имевшие в собственности богатые отчины, но лишенные самодержавного права распоряжаться ими, — пребывали в тяжких метаниях: под чью руку становиться, в чью волю отдаться, кому служить?
Василий осознал особую роль Москвы и ее великого князя еще при жизни отца, а теперь ему становились понятными и причины, приведшие к этому. Получая тайные донесения своих доброхотов из Нижнего Новгорода, Твери, Смоленска, Рязани, Новгорода Великого, а также и из городов, занятых Литвой и Польшей, он видел, сколь опустошительную усобицу проявляют там соправители после того, как их отец-завещатель закончит земные расчеты. Родные и двоюродные братья, дядья и племянники, вместо того чтобы перед раскрытой ракой усопшего дать клятву жить заодин, начинают безобразный дележ отчины, полосуя ее в лоскуты.
А Москве повезло с самого изначала. Когда получил ее — совсем крохотный, самый крохотный тогда удел — младший сын Александра Невского (его еще и Великим, и Беспокойным, и Храбрым, и Справедливым называли) князь Даниил, то сумел сразу же внушить детям своим Юрию и Ивану привычку свято держаться заветов отцов, дружно жить друг с другом. И братья жили заодин, даже и в помыслах не держали дробления удела, а если и казалась им Москва тесноватой для двоих, то искали другие пути обретения личной воли — за счет присоединения и обживания новых земель. И у сына Данилова Ивана, Калитой за сугубую бережливость прозванного, дети в чести и согласии жили, хоть и недолго княжили — что Симеон Гордый, что Иван, дед Василия. За четыре поколения — ни единой братоубийственной распри, всегда старший в роде умел держать младших в братстве без обиды, не нашлось никого, кто пошел бы стезею Каина. И знать, не так-то это просто, коли никакому другому княжескому роду на Руси не удавалось и не удается.
Так тешил себя Василий, но не из праздности или гордынности: он, конечно, не мог предугадать, что станет после его смерти, но уже явственно видел: среди пятерых сыновей Дмитрия Донского, по крайней мере, один пошел не в род, а из рода, всегда он выламывался из семьи, вроде бы вместе со всеми братьями и сестрами был, когда касалось дело утаивания сладостей в пост, проказ и общих игрищ, да, вместе со всеми был, однако порой — как бы и наобочь, наособицу, как бы сам по себе. Может, потому так казалось, что он один в княжеской семье не любил кошек?.. Впрочем, кошки —. это вздор, просто был Юрик излишне всегда самолюбив и высокомерен. Может быть, поэтому это, что слыл он красавцем? Так, во всяком случае, считала мать, добавлявшая иногда: «Весь в отца обличьем, в Дмитрия Ивановича!» Мать любовалась им, но не была к нему нежнее, чем к другим, нет, это бы сразу почувствовали братья и взревновали бы. Тем еще выделялся Юрик среди братьев, что его желания были всегда очень определенными, резко выраженными, ум он имел насмешливый, а характер неуступчивый. В этом он был не в отца, а в мать, а вернее, в деда по материнской линии, в Дмитрия-Фому Константиновича, князя суздальско-новгородского, который дважды отбирал у малолетнего Дмитрия Ивановича великое княжение, а потом силой вырывал себе у младшего брата Бориса Нижний Новгород. На Куликовом поле его не видели, а Тохтамышу навстречу выслал в помощь двух сыновей да и сам потом якшался с шурином Тохтамыша послом Шиахматом. Не дай-то Бог, чтобы во всем Юрик был похож на этого своего деда!.. Василий искал пути незаметного пресечения честолюбивых устремлений Юрика, а порой прибегал и к жестокому давлению на него.
Юрик рвался поехать в Нижний Новгород, видя в этом легком походе возможность без трудов и риска утвердить себя в качестве правителя и военачальника.
Василий уязвил его.
— Говорил мне Тохтамыш, что на Востоке много любителей вытаскивать чужой каштан из огня. Но такие и у. нас есть.
— Не понимаю, брат.
— Объясню слушай. Побывал ты в Орде, серебро рассорил и вернулся с пустыми руками. Посылал я тебя в Нижний, чтобы силой приструнить его, отбить охоту за ярлыком таскаться, а ты забоялся. Пришлось мне к Тохтамышу на поклон ехать. Когда я добыл ярлык, и ты расхрабрился…
— Но ты же меня сам в Коломну вызвал?
— И в Коломну ты ехал, будто на собственные похороны.
— Не понимаю, брат.
— Не поспешал.
— Неправда! Я торопился. Просто задержался чуток а ты не дождался меня.
— Ладно, оставим которы. В Нижний я еду сам, а ты готовься идти на Верхний Новгород.
— Ратью?
— Да, воевать будешь.
— Один?
— С Владимиром Андреевичем.
— Спасибо брат! — Юрик порывисто поднялся с переметной скамьи, так что лавка хряпнула по бревенчатой струганой стене, — Мы с дядей укротим этих строптивцев, только войска нам побольше дай.
Василий отпустил брата и, оставшись в палате один, задумался. «Мы с дядей…» Да, они если не в сговоре то явно в дружбе и приязни… Что их соединяет? Может, обида на великого князя? Вот ведь: как мамка говаривала, кошка дуется, а хозяйке и невдомек… И кто из них закоперщик? Владимир Андреевич, наверное, как старший по возрасту.
Размышления Василия нарушил звон серебряного колокольца на входной двери. Он оглянулся — Юрик. Губы поджал куриной гузкой — в гневе, значит. Спрашивает гневливо, с вызовом:
— Брат, ты Янге из Орды бусы привез?
— А что?
— Сардовые?
— Да, а что?
— Нарочно такие — красные?
— Кизил не бывает другого цвета[90].
— Бывает и желтый, я своими глазами видел! — Голос Юрика зазвенел уж почти что обвиняюще.
Василий, не вставая с кресла, произнес негромко, но выразительно:
— Я на выбор ей предложил бусы — сардовые и янтарные. От янтарных она отказалась. Заявила, что это слезы моря там, в Литве… Велела мне их Софье отдать, а сама красные взяла.
— Так даже! — Юрик ослезился голосом, ничего уже больше не смог вымолвить и вышел из палаты, горестно сугорбившись.
Василии Дмитриевич крепко задумался. Сознание того, что он, как государь, советы ближайших сподвижников слушая, решения должен принимать независимо, ибо ответственность прежде всего на нем, — это сознание уже основательно проросло в нем. Большая власть, высокое рождение поднимают человека над людьми, как бы прост он ни был по виду и поведению. Все знать, все предвидеть, любые начала и концы, истины и оговоры, наветы зла и ростки добра и правды — все должно сходиться в его державную думу. Больше и больше начинал он понимать, что власть княжеская не одне пиры да потехи, да беседы с людьми многодумными, многоведующими. Власть — это труд, наитруднейший, может быть, изо всех, и не всякий к такому труду способен. Он чувствовал, что научается уже этому труду, но чем глубже он проникал его, тем более понимал, что науке этой не кончаться всю жизнь. И как бы ни была велика власть, а и в ней есть окороты, почитай что, на каждом шагу. Того нельзя, того не можно, того опасно, того губительно, а этого совесть не велит да обычай. И стоит посреди всего этого великий князь, как цапля на болоте, на одной ноге: и туда не ступни, и сюда не следовает, и растуды не полагается!.. Как ни ворохнись, кого-нибудь обидишь, кого-нибудь заденешь. То Тохтамыша, то Ягайло, то родного братика Юрика, а то и собственную жену Софьюшку свет Витовтовну.
Велик ли проступок: бусы — боярыне? Ан, уже всполохнулось, пошло кругами. Почто, зачем, какие да не с умыслом ли, а если с умыслом, то с дальним или простым, ближним?
Сказать, что Василий был раздосадован, мало. Сказать, что разгневан, — повод невелик ко гневу. По пустякам государю гневаться не след — не в обычае и не в почете. Но сердит был и мрачен красивый лик его. Как посмел Юрик допрос ему этакий учинять? Как посмел неудовольствие и скорбь свою выказывать? Выходило, всем отчет великий князь давать должен, по любой малости. Это властитель-то московский?.. А еще и про пояс Вельяминов, будто бы подмененный на отцовой свадьбе, сведала Софья: откуда? Ни Трава, ни Свибл, никто из Вельяминовых слова не проронит — в этом уверен был Василий, но тем беспокойнее было ему: значит, кто-то такой в княжеском окружении есть, чьи помыслы и поступки от него скрыты… Рука стиснула железный поставец без свечи. Помедлив чуть, князь впечатал его с грохотом в стену. Сей же момент разлетелся по палатам соседним шепот многочисленных слуг. Но у дверей стихли: войти без вызова не посмели.
2
Во все прирезанные к Московскому княжеству новые города требовалось теперь определить надежных наместников, которые должны строго блюсти интересы великого князя, быть его послами и воеводами.
Двоих Василию удалось подобрать сразу: Григория Владимировича и Ивана Лихоря. Правда, и они немало поколебались, прежде чем согласились покинуть Москву. Большинство крепких бояр, связанных с обретенными их предками и ими самими увеличенными владениями — земляными с поселениями и разной рухлядью, меняло стольный град на украйну неохотно. Москва всегда была удивительно притягательна в равной мере и для русичей южных земель, и для выходцев из-за рубежа.
Знатный черниговский боярин Родион Нестерович, родоначальник бояр Квашниных, приехал в Москву со всем своим двором из тысячи семисот человек. Ехали бояре с семьями, челядью, дворовыми, слугами, дружинниками из Ростова, Мурома, Киева, Волыни — из многих и разных городов. Уже при Дмитрии Донском образовалось больше тридцати родов московских бояр — Бутурлины, Вельяминовы-Зерновы, Годуновы, Захарьины-Кошкины, Всеволжские, Заболотские, Карповы, Кутузовы и прочие. У Василия нашли приют многие новые люди, иные из них, как те же Юрий Патрикеевич, внук Наримантов, Иван Кошкин, Максим Верный, уже и заехали старых бояр, к их вящему негодованию.
Наместников Василий подбирал из обиженных либо разорившихся от каких-либо напастей бояр. Кто-то мог прельститься новой возможностью раз-богатеть, кого-то бы могло удоволить сознание, что он являет собой высший сан пусть местного, но правителя.
Более других приглянулся Василию боярин Владимир Данилович Красный-Снабдя, который сказал вполне прямодушно:
— Державной корысти ради заступлю, а потом, если дозволишь, в любезную Москву вернусь. Хоть через год, хоть через два…
Был Владимир Данилович из себя ничем не примечателен, так что спервоначалу и не понять было, за что его Красным прозвали. Прозвание такое получали всегда люди баские, рожаистые, как, к примеру, Васильев дед — Иван Второй. Но видно, ценят люди не только пригожесть — и за похвальные душевные порывы уважительно именуют Красным, как Владимира Даниловича.
Снабдя не был родовитым боярином, не имел вотчины — от отца перешедшей собственности, а входил в число детей боярских: землей владел условно — ни продать, ни наследникам завещать, ни на помин души в монастырь передать. Конечно, положение как бы не совсем устойчивое, однако же вольный человек, не холоп, каким был недавно совсем сам, как и отец и дед его были. Теперь при усердии и верной службе князю многим явилась возможность очень даже просто выбиться в люди наибольшие.
Старания и трудолюбия Снабде было не занимать стать, и, начав с малого клочка земли, скоро стал он держателем большого хозяйства. А еще считал он, что ему в жизни спорит, хотя склонен был подчас считать за везение собственную расторопность. Но как бы то ни было, сколько лихих годов ни пронеслось, сколько пожарищ, моров, набегов ни пришлось перенести, — удивительное дело — село его не пострадало ни разу! Незыблемо стояли даже самые первые курные избы и та первая, что стала когда-то его займищем на дикой земле, и те еще две, что подсоединились и сделали его владельцем починка, стоят как прежде, только чуть в землю закопались завалинками. Стал расти починок, в деревню превращаться: побежали вдоль по бережку реки Пресни уже избы и белые с трубами, а при них амбары, забои для скота, житницы, погреба, поварни, гумна, сенники, конюшни, птичники и мыльни, здесь же и дворы с одринами, где складывались плуги, сохи, косы. Скоро уж больше десяти челядинных дворов стало насчитываться, церковь возвеличалась на холме среди крестов — стал Снабдя владельцем сельца, которое выросло нынче в преизрядное село, такое, каким князю самому не зазорно владеть. И народ у него разный стал жить: вслед за холопами, крестьянами, сиротами, старожильцами стали поселяться и доверенные люди — тиуны, рядовичи, приказчики, конюхи.
Хоромы себе он поставил трехжильные: два круглогодичных жилья и верхняя еще, горняя надстройка — летняя. Но не избы, горницы, повалуши и сенники, из которых состояли хоромы, не богато изукрашенные всходни-крыльца с кувшинообразными стояками и остроконечными, кровлями, не изукрашенные резьбой ворота большого двора, посреди которого и стояло, по русскому обыкновению, жилье, а дорога, ведшая к владельцу, прежде всего говорила о том, что хозяин тут радетельный, мощеная, с канавками по бокам, чистая и в дождь и в снег.
«У меня таких в Кремле нет», — с завистью подумал Василий, но вместе и утвердился в правильности своего выбора: таким и должен быть великокняжеский наместник. А еще похвалил себя за решение самолично навестить Снабдю, а не затребовать его к себе во дворец.
Когда приехал без предупреждения великий князь Снабдя сидел в горнице, читал Псалтирь На нем была обычная исподняя одежда для дома узкий короткий, до колен, зипун из белой тафты Услышав цоканье копыт на мостовой, одел на себя кафтан, длинный, до икр, с длинными же, в складках, рукавами. А когда понял, кто приехал, то и третью одежду накинул на себя — широкую в плечах ферязь.
— Богато живешь! — произнес будто бы с упреком Василий, и Снабдя не знал, как расценить это, припал на колено перед высоким гостем. А тот наметанным взглядом схватил и то, как одет боярский сын: разглядел сразу, что зипун не из крашенины, а из привозного атласа и с воротником, разукрашенным обнизьем — шитым жемчугом, что и кафтан сшит не до пят, дабы видеть все могли раззолоченные сапоги, что ферязь не абы каким мехом подбита — куньим.
— Вот почему тебя Красным прозвали — наряжаться любишь! — В голосе великого князя прослушивалась лишь добродушная усмешка, и Снабдя поднялся с колена, ответил с большой серьезностью:
— Ко мне такое рекло присмолилось, когда я на рать с Дмитрием Ивановичем собирался. Кольчугу-то все одевали поверх рубахи да козлиной кожи, а я, отрок неразумный, прямо на голое тело. Ну и стал красным, как рак, кипятком обваренный.
— Э-э нет, боярин, знаю я, за что Красным тебя сотоварищи прозвали: как перешли Дон, стали исполчаться для битвы с Мамайкой, ты ту кольчугу Максиму отдал.
Тут только заметил Снабдя скрывавшегося за спиной великого князя боярина Максима, смутился и покраснел — верно, что как ошпаренный кипятком рак. Объяснил спотыкающимся голосом:
— Дэк… это, великий князь, мой побратан — Максим-то твой. Мы с ним тогда крестами нательными поменялись… Братом крестным он мне сделался, все одно что одноутробным… — Но видно, самого Снабдю объяснение не удовлетворило, побоялся, видно, что в хвальбе его могут заподозрить. Он помолчал в задумчивости, мотнул головой и продолжал уже голосом твердым, словно бы встряхнувшись в душе, набравшись решимости: — Дэк, бывает же и так: живут как братья, а считаются как жиды, особенно если ангел смерти поблизости начнет летать, как тогда… Просто тяжела и велика мне была та кольчуга, скажи, Максим?
— Да, — подтвердил его побратим, — тебе ведь тогда пятнадцатое лето шло, тела ты еще не набрал, а я постарше.
— Дэк, и покрупнее ты от роду, помогутнее.
Снабдя проводил гостей с красного крыльца через повалушу и сенник на заднее, которое тоже было крытым и с резными подпорками.
— Крепко живешь! — снова похвалил Василий, оглядывая двор с дворищем, гуменник с пожнями, скотные клети и хлебные амбары.
— С умом собину нажить, а без ума — растерять, — вставил Максим.
— Собинка моя славна, это так, да собник-то я плохой, середка на половинку…
— Будешь полным хозяином своей собины, коль послужишь мне, — подвел великий князь к цели своего приезда и сказал, что Максим, вернувшись вчера из Нижнего, посоветовал именно Снабдю назначить туда наместником.
— Конечно, свое прироженье нельзя вести к порухе, — несколько неопределенно ответил боярин, то ли свою собственную собину имея в виду, то ли Нижегородское княжество, сроднившееся теперь с Московским.
— Сейчас ты дитя боярское, — стал увещевать Максим, испугавшись, что побратан его откажется от великокняжеской чести, — а там сразу станешь человеком знаемым.
— Это так, — понятливо согласился Снабдя, — Жила у меня в селе бабка, никому не ведомая, мало кто и прозвание-то ее знал. Ушла она два года назад в лес по ягоды, по сей день ходит. И по сей день говорят о ней: вспоминают, какая она, по имени-отечеству величают…
— Верно заключаешь, Владимир Данилович, дело я тебе предлагаю небезопасное, однако верю, что не сгинешь, как та бабка. По рукам, что ли?
— По рукам, великий князь! Будем хранить-снабдевать отчину деда твоего.
— Снабдевать?.. Вот, значит, откуда твое второе прозвание?
— Нет, просто я больше всех в своем доме молитв помнил, дедушка меня за это любил и Снабдей называл.
— Ну да, значит: снабжен ты от Бога разумом, так? — заключил весело Максим.
Все трое рассмеялись, довольные ладным окончанием разговора. А затем нашлись в погребах боярина хлебное вино, пенная брага, сыченые меда — закрепили сговор недолгим, но утешным застольем, благо был еще только канун заговенья.
Домочадцы Снабдины оказались гораздыми песни играть — без гусельников, без волынщиков, только складным подыманием голосов.
Стоят санки у лесенки,—повел неторопливо начинщик, его поддержал тейнер:
Хотят санки уехати.А тут и другие голоса стали подмазываться:
Ладу, ладу,
Кому мы поем, Тому честь воздаем. Стоят санки Сонаряжены. Слава!И стали затем певцы казать, что уж и подушечки на санках раскладены, что уж к лесу хотят саночки покатиться и что сбудется хозяину все, неминуется, что будет добро всем, кому эта песня поется.
Василий сидел на скамье, покрытой шкурой медведя. Потрогал волос — мягок значит, молодой был зверь. Спросил хозяина:
— Сам добыл?
— С рогатиной хаживал…
— В Заволжье леса дикие, будет тебе потеха.
— И тебя, великий князь, позову, только.
— Что «только»?
— Только дозволишь ли мне опосля когда пора приспеет, в любезную Москву возвратиться?
И сразу в избе — тихий ангел пролетел: не один Снабдя ответа ждал.
— Я же сказал, что земля эта с селом твоей отчиной станет, как послужишь мне.
И тут шумно, многогласно и ликующе, будто плотина под напором вешней воды обрушилась, потекла-понеслась песня:
Перекину дугу На чужую сторону, Оставайся, хомут, На своей стороне —запевала вел, а тейнер вился поверху, к ним подмазывались, как голубки, другие певцы, хорошо свое место и свою роль знающие:
Кому поем, Тому добром! Кому выйдется, Тому лучше всего!Пока обедали, погода на дворе испортилась, пошел проливной дождь.
— Вот ведь называют октябрь грязником, но и ноябрь нынешний недалеко от него ушел, и не знаешь, на чем выезжать — на колесах ли, на санном ли полозе, — задумался Снабдя, явно желая проведать, когда великий князь думает в путь отправляться. Василий понял его, ответил:
— Поедем на Матфея, на другой день после начала поста.
Снабдя согласно кивнул головой, прикинув: Рождественский пост начинается через три дня, есть время в дорогу собраться, хозяйские распоряжения на время долгой отлучки сделать.
3
Заявился Тебриз.
— Многолюдство пойманное неименитое бьет челом господарю великому князю Василию Дмитриевичу, желая отдаться в волю его.
— Что за «многолюдство» такое?
— Андрей-богомаз с Пыской навыкупляли в Судаке русских пленников — кои рязанские, кои тверские. Есть и из Великого Новгорода, да и московлян помалу.
— На какие же деньги они выкуплены? Те, что я им в долг давал на отработку, они при мне истратили, остались скудные средства для поездки на Афон.
— К тамошнему епископу подрядились мечеть православную, сиречь церкву, расписывать.
Василий верил и не верил. Рублев дал зарок не писать ликов, не заниматься стенной росписью до возвращения в Москву, да и то добавил: «Если Господь вразумит». Что же, Господь его до срока вразумил?
— Епископу зарез изограф нужен был, старый в одночасье на тот свет отошел, а церква готовешенька стоит, — объяснял Тебриз.
— Так он же запрет на себя наложил?
— A-а, — понял Тебриз. — Верно, он сам зарок давал и Пыске наказывал, но, как услышал опять вой, да плач, да русские молитвы на невольничьем рынке, готов был собственную голову резоимцу заложить.
— Та-а-ак… Голову его в заклад никто не возьмет, а писем заемных не давал он?
— Давал, давал, как же! Видишь, сколько их одной церквой рази укупишь? Твоим именем епископу божился, тот снабдил деньгами разными.
Василий не шибко обрадовался услышанному но успокоил себя тем, что теперь сможет заставить Андрея несколько лет кряду работать в Москве — теперь уж ни Юрику, ни Серпуховскому не удастся его сманить. Да и «многолюдье» было, в общем-то, кстати; можно если не всех, то хоть часть некую вместе с подготовленными уже переселенцами послать на обживание новых мест на Волге.
Так и получилось: часть возвращенных из плена русичей решила пойти на волжские земли, иные бывшие ратники вступили в великокняжескую боевую дружину, остальные пожелали жить в Москве, хотя и были выходцами из разных земель. И в этом не было ничего удивительного. Так, в 1377 году, после того как ордынский царевич Арапша в союзе с мордвой жестоко разорил Нижний Новгород, большая часть его населения не захотела оставаться на Волге и переселилась в Москву. Постепенно город сам по себе уж стал все больше походить на объединение многих княжеств — на левом берегу реки Москвы, за Кремлем и Посадом появились и все разрастались, увеличивались слободы Тверская, Серпуховская, Ордынская, Смоленская, Новгородская, Дмитровская, Калужская[91]. Названия эти дали поселившиеся здесь пришлые люди в память о своих родных местах, но столь скоро стали чувствовать себя уж коренными москвичами, что начали выражать недовольство тем, что великий князь не обо роняет их от набегов татар и литовцев. Потому-то и начато было возведение земляного вала со рвом, чтобы оградить слободы[92].
Малое время спустя выяснилось, что купленные Андреем пленники — это лишь половина всех прибывших из Таврии.
— Фрязин еще тебе привез столько же, — сообщил Тебриз с какой-то отравленной ухмылкой.
— Кто такой?
— Перекупщик рабов. Прослышал, что тебе люди нужны, вот и пригнал.
Лицо иноземного купца в короткополой одежде показалось Василию знакомым, спросил на пробу:
— Бывал раньше в Москве?
— Бывал! — радостно осклабился купец, полагая, что это обстоятельство пойдет ему на руку.
— Что за товар привез?
— Из Москвы в Таврию вожу соль, рухлядь мягкую, кожи, солонину, меда, пшеницу, а оттуда тебе нужные товары…
— А нынче что за промысел у тебя? Живым товаром, я слышал, промышляешь?
— Так, государь. Раньше я арабов да турков покупал в Кафе и возил их за море. Родичи и хозяева брали у меня их, не обижали — возмещали всю потраву, ну и за рвение малую добавку.
— А я, полагаешь ты, прихожусь «родичем» всем этим «князьям»?
Фрязин был человеком предприимчивым, оборотистым, но не умным. А когда попадал в незнакомые условия, то вовсе дураком выступал. Вот и сейчас. Не чуя беды, подхихикнул:
— Коль худ князь, так в грязь! Так ваши новгородцы говорят.
Упоминание новгородцев было вовсе не к месту да не ко времени, хотя того, что великий князь собирался идти ратью на них, только что прибывший в Москву фрязин знать, конечно, не мог:
— Довольно! — рассердился Василий. — Веди сюда своих «князей».
Фрязин заподозрил, что почему-то гневает своими словами государя, заторопился с объяснениями:
— Холопы вперемежку с хрестьянами… В Кафе всех пленных русских мужиков зовут паробками, а баб — девками.
Василий велел Максиму вести расспросы людей, а сам сидел в сторонке, вдумчиво слушал, изредка сам ронял словцо.
Первым подошел к красному крыльцу великокняжеского дворца высокий, статный паробок. Глядел перед собой прямо, безбоязненно, на ходу хрустел сочным, спелым яблоком.
— Оголодал, что ли? — спросил Максим.
— Не то чтобы… Уж больно наше московское яблочко сладко, особенно с морозца.
— Москвич, значит?.. Чей же холоп был? Как невольником стал? Прозывать как? Который год от роду?
Паробок перестал хрустеть, зажал в кулаке огрызок.
— Двадцать другой год мне идет… Митя Кожух я, холоп Якова Петелина, утятником был у него.
Василий знал богатого переяславского вотчинника Петелина, велел:
— Отправить боярину.
— Не надо, великий князь! — пал на колени и стукнулся лбом о землю Митя Кожух. И фрязин заволновался, но Максим урезонил обоих:
— По уговору между князьями и боярами на Руси кто купил полонянина, тот берет цену по целованию, а из своего плена отпускает без откупа.
Митя Кожух, не вставая с земли, снова попросил:
— Не надо, великий князь! Сын Петелина Иван Хлам продал меня вот ему, купцу этому…
— Как так? — обернулся Василий к фрязину. — Стало быть, ты его второй раз продаешь, а может, потом еще и у меня купишь?
Фрязин заметался взглядом, не зная, у кого поддержку найти и что в оправдание сказать. Ничего не нашел умнее, как вытаращить бесстыжие глаза и рассудить:
— Раб, оставшийся без господина, торопится найти себе нового повелителя, на то он и раб. А я ему споспешествую.
— Довольно! — оборвал в нетерпении фрязина великий князь и повернулся к Ивану Кошкину: — Разберись!
Следующий паробок тоже отказался возвращаться к своему бывшему владельцу, но по другой причине:
— Беглый я. Сотом меня звать, потому как всю жизнь в бортниках. В Ярославле жил, взял у резоимца рубль один на год, обязался платить рост по расчету, как идет на пять шестой[93]. А тут пожар в нашем лесу случился от молоньи, все мои бортные знаки погорели, не достал я меду. Деньги по росту легли, опять на пять шестой пошло, уже задолжал я ему целых два рубля. Попросил я резоимца возместить долг изделием моим…
— А он что? — Максим проникся участием. — Не согласился?
— Согласился. Похотел, чтобы я у него во дворе холопствовал. Куда деваться, одел я ярмо его, а потом гляжу — чем больше гнусь, тем сильнее в кабалу залезаю. Взял и убег. Сначала за Волгу, потом через Камень[94] в степь, попал за рубеж да и угодил из огня в полымя… Спасибо вот добрый человек вызволил.
Недолгая тишина установилась. Василий задумался, как поступить. Несвободные люди, бежавшие в другие княжества, должны непременно выдаваться прежнему хозяину за твердое вознаграждение — два рубля. Услышав об этом, Сот тоже повалился к ногам великого князя.
Василий подозвал дьяка Ачкасова:
— Зачти, Тимофей.
Дьяк достал нужный пергаментный свиток, развернул его и огласил:
— «Холопа, раба, татя, разбойника, душегубца выдавать по исправе…»
— Как — «душегубца»?! — перепугался Сот.
— Значит, так же, как душегубец, должен быть передан в Ярославль.
— Но я же пять лет в бегах!
Ачкасов бесстрастно объяснил:
— «Холопу и рабу суд от века».
— «От века»? Бессрочный, значит?
— Да, кто холопом родился, тот холопом и умрет, если долгов заплатить не умеет, — объяснил Максим, а Василий знак рукой сделал: «Разобраться!»
Сот отошел в сторону, встал рядом с Кожухом, а Иван Кошка успел подмигнуть ему: «Не робей!»
— Я полный челядин, — начал рассказ следующий пленник, — и жена моя полница, и сын с нами. Вся холонья семья наша беглая, потому как…
— Довольно! — Максим повторил слово великого князя, но только голосом увещевательным, а не жестким. — Беглые возвращаются хозяину по два рубля за голову.
— Как «два», как «два»? Я за эту семью восемь рублей заплатил, да потрава какая еще, — всполошился фрязин. Но тут же два стражника по знаку Максима негрубо, но властно взяли его с двух сторон за рукава шелкового, расшитого золотом халата. Теперь только окончательно осознал он, что понимает далеко не все из происходящего.
Василий усмехнулся.
— Не умирай раньше времени, фрязин Сколько же ты за других платил на невольничьем рынке?
— Вот за этого холопа с женой три рубля… А этого холопа тоже с женой — за пять… Цены все уреченные, как сговорился, так и платил…
Покончили с беглыми, начали пытать всех остальных холопов, людей потяглых, несвободных. Были среди них приданные, купленные, были играмотные, перешедшие к другому владельцу по писаной грамоте. Но попался один холоп-вотчинник, бывший слуга боярский, отпущенный и вознагражденный за верную службу. Были среди холопов бортники, садовники, псари, рыболовы, повара, хлебники — умелый, к труду приученный, нужный в княжестве народ. Лишь один попался изжившийся, ветхий денми, на вопрос, какой нынче день, ответил:
— Не знаю.
— А месяц?
— Кто же его знает…
— Ну, а год-то хоть какой?
— Должно… Нет, не знаю.
Видно, остановилось для него время, не ведет он ему счета. Однако же не все на свете перезабыл. Когда Максим сказал, какой год от сотворения мира идет сейчас, озарился:
— Значит, сто лет нам жить осталось!
Дошел черед до крестьян. Это были люди вольные, платившие князьям, боярам или монастырям натуральный оброк. Они и держали себя иначе, не суетно, говорили рассудливо, обстоятельно.
— Ельцовские мы, — рассказывал Огонь Посельский. — Трудная жизнь на порубежье. Монахи и те утекли в дальние леса. Да и то бывало: отдыхает чернец после утрени, вдруг будит его страшный вой — то татары обитель божью грабят. А страдному хрестьянину вовсе невмочь. Выедет пахать — невесть откуда хищные степняки налетят, того и гляди, оратая самого убьют. А не убьют, так вот, как нас, в полон заберут… Увезли татары сначала в свои вежи, потом в Кафу… были вольные хлебопашцы, ржу сеяли, три поля держали, да вот рабами изделались.
Судьбы других страдных крестьян были схожими, только один — Яков Черт — бедолагой оказался, не зря, знать, такое прозвание получил. По его словам, стал он сошлым крестьянином из-за того, что вынужден был сойти с земли стародомной, плохо уже родившей. Задолжал оброк боярину, по нечаянности (по его же словам) татем стал. За это из крестьян вольных определили его в холопы, а за повторное воровство (опять нечаянное!) уж и в неволю продали.
Попался и один литовский крестьянин — Кирей Кривой, который бежал от Витовта и хотел бы жить в Москве.
— Я куплю тебя у тестя, — пообещал Василий, — о цене мы с ним сговоримся.
— А со мной? — не выдержал фрязин, видя все яснее, что дела его купеческие как-то не так поворачиваются.
— С тобой? — переспросил в задумчивости Василий. — С тобой уж и не знаю, как рассчитываться. Ты, выходит, не только за русских пленников хочешь барыш иметь?
— Не только, не только, великий князь! — засуетился опять не в дело фрязин. — Сейчас позову другостранцев.
Оказалось, что перекупил фрязин и два десятка иноземных пленных. Василий разглядывал их, пытаясь понять по лицам, кто они, откуда, с какими судьбами. Вот тот, с горбинкой на носу, небось потомок Биргера, которому князь Александр собственноручно «наложил печать на лицо». Про того, у которого лицо желтое, как дыня, и глаза щелками, гадать нечего. А в рыжем красномясом рабе немчина угадать нетрудно. Этот, с римским профилем, итальянец, очевидно. Вот ведь как: шведы, пруссаки, монголы, римляне — рабы!.. А купец-фрязин — работорговец, вот ведь как! Римляне в своих рабов превращали прусских «варваров», арабы заковывали в кандалы эфиопов, иудеи ниже себя считали всех необрезанных, татары свиньями называют любых «неверных»… А фрязин всех без разбору взял и пригнал, как стадо животных, к великому князю московскому, вот ведь как!.. И что же Василию Дмитриевичу с ними делать?
Решение подсказал один из пленников, о котором Максим спросил наугад, без выбора:
— Сколько ты за него заплатил, фрязин?
— Это кузнец Вяйнямаринен, очень сильный, видишь, кулаки у него, как кувалды, такие в большой цене.
— Сколько же?
— Просили двенадцать, я сторговал за девять рублей.
— Неправда! — сердито воскликнул кузнец. — Он два медных дирхема[95] отдал за меня, сказал, что больше денег не имеет, а степняк, который меня пленил, боялся погони или сам за кем-то гнался…
Фрязин потрясенно смотрел на кузнеца, наконец совладал с собой и посунулся к креслу, в котором сидел Василий:
— Великий князь! Это обманщик! Он ни слова по-русски не понимал… Сейчас вот решетом солнце ловит.
Максим вложенным в ножны мечом отстранил фрязина в сторону, сказал сурово:
— Это ты нам Москву в решето показывал, а он правду говорит.
— Тутто пердутто! — воскликнул фрязин, окончательно поняв, что дела его плохи.
И тут Василий признал его.
— А где же твои очи нарочитые?
— Как тогда в Москве на пожаре потерял, так и хожу, как крот, слепой, а сослепу-то долго ли проторговаться…
Максим снова отстранил его от князя, подтолкнул вперед кузнеца. Тот, застенчиво улыбаясь, отвечал:
— Я по роду-племени карьяла, ну и притворился, будто, кроме своего языка, ничего больше не разумею… Обманщик и я, выходит. Родился на погосте в Обонежском ряду, там и жил безвыездно. В прошлое лето шведы вошли в Неву, стали грабить села по обоим берегам, много людей пленили, и он под их руку подвернулся.
— Как же так? Жил ты безвыездно в Обонежском раду, а пленили тебя на Неве? — недоверчиво спросил Максим.
— Ну да, говорили люди, что лучше в Олонец ехать торговать, а я другого совета послушал — в Орешек пошел, там, сказывали, в большой цене кузнь… Я ведь сыздетства кузнечу. Бывало, с дедом железо из болота в горнило положим, железо плавится, мякнет, становится будто тесто из ржаной муки. А скуешь — какое тесто, вострое железо! А из него хоть ножик, хоть замок изладить, хоть ведро согнуть, хоть бляшки да колокольчики для уздечки отчеканить. — Кузнец рассказывал охотно, как видно, стосковался по своему делу.
Василий спросил с легкой, необидной усмешкой:
— А мелким бесом не поешь?
— Нет, — сразу понял вопрос карьяла, — уже и дед мой Арбую не поклонялся, да и никто у меня в роду никаких обрядов старинных перед едой не исполняет.
— Опять деда вспоминаешь, жив он, что ли?
— Дед жив, а вот пращур помер! Ох и здоров был! С вашим Олександром на псов-рыцарей, на город Копорье ходил и один раз немецкого воеводу руками изымаша, вытряхнул его из брони, как горошину из стручка.
— Значит, корелы вместе с князем Александром шли?
— Не только карьялы, но и ладожане с ижорцами — все православные же, все за землю святую.
— Домой небось рвешься?
— Рвусь, да! — признался Вяйнямаринен, но добавил: — Однако и в Низовской земле давно мне гребтилось пожить. Останусь у вас, если уведаемся.
— Уведаться нам не мудрено, только договор я с тобой хочу такой заключить: прежде чем поселиться на жительство в Москве или на Волге, сходишь с моей ратью на новгородцев, а-а?
Вяйнямаринен этого не ждал, огорчился:
— Не свычен я воевать… Но пойду, потому как все тамошние полешие леса мне ведомы, а еще я умею через болота ходить. Ваших ратников научу. Знаешь, как мы железо возили? Один конь вязнет, хоть на него и чуть-чуть нагрузить, он может и всадника одного не вывезти. Мы брали двух легких лошадей, ставили одну за другой, а меж ними две жерди с люлькой. В той люльке человек с железом сидит — правит. Из любой трясины можно выбраться.
— Сведи его, Максим, к Юрию Дмитриевичу, пусть поставит на кормление. Всем остальным волю даю, могут все восвояси возвращаться. Кого дома не ждут, те могут пойти со мной на Волгу, тамошние земли обживать.
Расчет великого князя оказался верным — лишь несколько человек колебались, как им распорядиться судьбой, остальные же, включая иноземцев прельстились возможностью стать вольными людьми на новых землях.
Фрязин дал знать о себе беспокойным шевелением и топтанием на месте. Василий покосился на него, велел:
— А этого Гостя (так ведь тебя раньше звали?) к боярину Беклемишеву в гости!
Стражники отвели незадачливого барышника за крепостную стену, где у Никиты Беклемишева на Подоле были устроены каменные темницы, столь крепкие и надежные, что еще никогда не удавалось бежать ни одному заключенному в них преступнику.
4
Вместе с выкупленными пленниками в Москву пришли из Афонского монастыря три чернеца, прослышавшие о кончине Сергия Радонежского. Долгий путь проделали они ради того лишь, чтобы поклониться мощам русского чудотворца. За время совместного путешествия Тебриз невзлюбил этих монахов, сказал Василию:
— Слава Магомету и Иисусу Христу, избавился я от этих молчунов.
Василий объяснил, что неразговорчивы они потому, что озабочены неустанным поиском смысла жизни и преисполнены религиозного смирения перед ее до конца непознаваемой сутью!
— Нет, не люблю я их! — неуступчиво ворчал Тебриз. — Как вороны, которые только и ждут, как бы глаза мертвым выклевать. — И не в силах признаться он был, что говорит это из одного лишь чувства противоречия, что и его поражают чистота и одухотворенность их лиц. Знал он и то, как они относятся к нему: называют его «Тридцать три беса» — для них, людей цельных, всякое раздвоение было мерзко.
Василий не удивился приходу византийских монахов: знал, что слава о духовных подвигах Сергия и дарованной ему от Бога благодати распространилась не только в Русской земле, но и в странах отдаленных. К богоносному пустыннику приходили посланники Филофея — они принесли ему крест, вырезанный из кипарисового дерева, обложенный золотом и украшенный драгоценными каменьями, параманд, схиму и личное послание царьградского патриарха. Преемник Филофея патриарх Нил тоже слал Сергию свое послание, в котором назвал учрежденное Сергием общежитие в монастыре «делом высокой духовной мудрости». Славны и светские подвиги Сергия: вдохновил он Дмитрия Ивановича на битву с Мамаем, мирил князей, и сам Василий испытал на себе его благотворное влияние. Но сколь ни много было известно Василию о жизни и подвигах Сергия, воображение его больше всего занимали те самые первые дни подвижника в лесной чаще на Маковце, куда пришел тогда он, еще Варфоломей, а не Сергий, сын разоренных татарами бояр Кирилла и Марии, из города Радонежа[96].
С детства запомнил Василий слишком хорошо, что значит быть в лесу одному. Страшно даже единственную ночь провести. Ночь тянется так, что кажется длиннее целого года. А если представить себе, что такие ночи повторяются два года подряд, летом и зимой, в зной и стужу!.. Сердце сжимается при мысли о том, что должен был претерпевать этот юноша; Сергия самого, без сомнения, ужасали образы, созданные его собственным воображением, потому что воображение просто невозможно обуздать, когда находишься один в глухом лесу. Приходилось ему бороться со страхом, который вызывали различные бесовские появления (по рассказам Епифания Премудрого, таких было немало). А кроме того, уже в действительности, а не в воображении он должен был преодолевать физический страх, который на него наводил вой голодных волков и рев медведей-шатунов, подходивших к хижине. И после каждой такой ночи, со всеми ее страхами, наступал день, когда надо было вести борьбу еще более тяжелую — с усталостью и тоской, одолевшей душу, предоставленную самой себе. Но наверное, эти годы борьбы и суровой жизни стали для Сергия также годами благодати, великого духовного обогащения. Один, все время отдаваясь молитве, черпая в ней силу и бодрость, он, без сомнения, укреплял в себе то самое состояние души, к которому стремился. Книг у него было всего две — Евангелие и Псалтирь, их он читал и перечитывал, вбирал их в самое сердце. Что до физического труда, то чего стоила одна лишь расчистка леса вокруг хижины, чтобы развести небольшой огород!
Но если преодоление всех тягот отшельничества можно отнести за счет пусть исключительного, однако все же в человеческих возможностях находящегося мужества, то уж совершенно непостижимой казалась Василию тайна исключительной притягательности Сергия для всех, кто только хоть познакомился с ним.
Приходили к нему первые ученики и подвижники — Василий Сухой с берегов Северной Двины, усердный труженик Иаков, престарелый диакон, служивший привратником Онисим, положивший себе обет молчания Исаакий… Число пустынников долго ограничивалось двенадцатью. Но пришел на Маковец архимандрит Симон из Смоленска — наверное, и сам Сергий был изумлен тому, что человек высокий сан решился сменить на звание послушника в крохотной обители, и принял сверх установленного числа тринадцатого. После этого перебывало у него в послушниках, добиваясь как милости иноческого чина, без числа уж людей знатных и богатых, князей и бояр, священнослужителей и воевод.
Что обрели они, отрекшись от всех мирских радостей и предавшись тяготам пустынножительства, чему научились?
— Послушанию, смирению, чистоте мыслей и слезной молитве, — отвечал Стефан Пермский.
— Нестяжанию, — добавил Епифаний Премудрый. — А еще — несуесловию, безмолвию.
Ну да, нестяжание: после него в обители остались ветхая крашенинная фелонь с епитрахилью и поручами, деревянные потир и дискос, аналав из схимы, игуменский посох простого дерева, кожаные сандалии, нож и деревянная ложка. Ну да, безмолвие: в пустыне разве что сам с собой будешь говорить… Хотя… Помнится, Андрей Рублев говорил о богопознании, о том, что немногим избранным дано проникнуть за тайную завесу в жизнь надмирную, которая течет выше всего земного — колеблющегося, себялюбивого, страстного… Мучился Андрей, в великом сомнении находился, пытаясь угадать: дана ли Феофану Греку способность своими очами зреть те лики, что так уверенно пишет он на досках? Так и не узнал, а Феофан сам молчит. Сергию являлась, уверяет Епифаний, в ночи долгого одинокого бдения сама Дева Мария!.. Ну да, конечно: вдвоем или втроем Богородицу не увидеть!.. «О, тайна тайн!» — восклицал в отчаянии Андрей.
Наверное, с таким же вот отчаянием шли да шли к Сергию смысл жизни пытающиеся постигнуть люди. И наверное, постигали, коли такую неизбывную любовь в сердце держат к нему и после его блаженного упокоения.
Сколь много паломников и учеников перебывало у Сергия, никто не считал, но та тропинка в глухом лесу, что некогда вела к его Троице, нынче превратилась в большую дорогу. Конечно, леса вокруг монастыря по-прежнему глухи, в них еще ловят бобров и есть довольно мест для новых иноческих обителей, но Сергий всегда отправлял своих последователей подальше от Москвы — в пределы тверские, новогородские, костромские, вологодские. И по его кончине, храня заветы великого подвижника земли Русской, устремляются ученики его в северную да заволжскую глухомань.
Многие игумены, иноки, священнослужители, глубоко опечаленные смертью богоносного своего наставника, решили покинуть ставшие многолюдными московские монастыри и пойти в леса Верхней Волги. Пожелал пойти с Василием в Нижний Новгород, с тем чтобы основать там в память учителя иноческую обитель, и преподобный Савва. Он был игуменом Дубенского монастыря, который поставил Сергий по желанию и на средства Дмитрия Донского «в благодарность Богу за победу над Мамаем».
Василий, конечно же, рад был взять с собой Савву, и тот начал уж готовиться в дальний путь, как опять заявил своеволие Юрик: вспомнил, что Савва когда-то обещал будто бы пойти к нему в Звенигород, устроить монастырь в его уделе на любом полюбившемся месте.
— Помнишь, были вы с крестным моим, с Сергием, приглянулась тебе гора Сторожа в том месте, где речка Разварня впадает в Москву? — подступал с некой даже обидой Юрик.
— Помню, сын мой, не запамятовал и слово свое сдержу, однако допрежь скрепу в новых землях надобно установить.
Судьба Саввы решилась сама собой: выяснилось, что преподобный Никон, которому Сергий передал игуменство, с горя и потрясения удалился в безмолвие, и братия неотступными просьбами уговорила смиренного Савву принять на себя управление Троицкой обителью. С Василием вместо себя Савва послал двух подвижников — Аврамия и Григория.
Вызвалось пойти и еще несколько насадителей иночества, распространителей веры православной и просветителей слова Божьего, и среди них, к изумлению всеобщему, новокрещеный Мисаил. Василий даже и не сразу понять смог, когда тот пал на колени со словами:
— Благослови, царь!
— Чего хочешь, Маматхозя? На женитьбу я тебе дал благословение.
— Не Маматхозя я — Мисаил! — Он вскинул твердые и блестящие, словно речная галька, глаза и не сумел скрыть в своем взгляде злобы. — Какой я жених!.. В монастырь хочу.
Василий насторожился, уловил и в голосе некую враждебность и вызов.
— Та-ак, Мисаил… Значит, нелицемерно крестился ты, веруешь в Бога-отца, Сына и Святого Духа?
— Молюсь. По праздникам и когда согрешу.
— «Когда согрешу…» Всегда надобно. Значит, послушником стать хочешь?.. Что же, люди в черных рясах у нас уважаемы и чтимы.
— Христос сказал, что они — соль земли.
— Житие у них многострадальное.
— Не убоюсь трудов праведных, во всем на Господа одного положась. — Мисаил говорил как по писаному, видно, загодя все эти слова наизусть затростил. Снова коротко и зло блеснул глазами, добавил приглушенно: — Все на волю его отдаю — казнить или миловать, неисповедимы пути Господни!
— В какую же обитель тебя берут? — Василий смотрел на толстяка Мисаила и не мог представить себе его среди тихих узколицых иноков.
— Возьми меня с собой в Нижний, а там я и сам решу, может, в пещере какой, может, в столпе с глаз людских скроюсь.
— Бог тебе в помощь! — И Василий протянул руку для целования.
Мисаил вздрогнул широкой спиной, будто его арапником огрели, ткнулся в руку великого князя не губами, а мокрым, вспотевшим от волнения носом.
В тот же день Василий позвал к себе Тебриза:
— Ты мне трех ордынских вельмож креститься привез, помнишь?
Многоопытный Тебриз, близко и не раз видавший смерть, смотревший в глаза многим ханам и князьям, хорошо знающий цену жизни, верности и предательства, сразу же догадался, что за вопросом великого князя кроется что-то нешуточное. Ни звука не проронил, только наклонил повинно голову, подтверждая этим: да, помню.
— Двое прижились, а третий в монахи просится, оскопиться, знать, хочет…
— Жених? — По губам Тебриза скользнула нехорошая усмешка.
— Чего скалишься?
Тебриз снова уронил на грудь голову.
— Ты в чем-нибудь повинен передо мной, что в землю тупишься?
Тебриз охотно вскинул свои правдивые глаза, светлые и преданные, весь обратился в зрение и слух.
— Пойдешь со мной в Нижний. Не со мной — с переселенцами, поближе к монахам держись, хоть ты и не в ладах с ними. Потерпи уж. Глаз не спускай с христовой братии…
— Понимаю, княже, потерплю… — Тебриз действительно все понимал, добавил: — А этот новокрещеный Маматхозя однажды оскорбил меня, назвав донгузом.
— Ай-яй-яй! — ужаснулся Василий. — Назвать свиньей правоверного мусульманина, каким являешься ты!..
— Да, великий князь, такое оскорбление можно смыть одной только кровью.
— Ступай! И будь осторожен, как вепрь.
— Буду как кабан-единец! — все понял Тебриз.
Выход из Москвы Василий назначил на шестое декабря. Специально подгадал на Николу Зимнего: слишком ответственное затевалось дело, чтобы не заручиться поддержкой русского угодника, покровителя детей и путников. Добрым знаком было и то, что нижегородцы, предуведомленные о прибытии к ним великого князя московского, прислали Василию Дмитриевичу в подарок седло — железные стремена, инкрустированные бронзой, из бронзы же хитрый узор растительный, вроде хмеля, вьется по лицевой стороне плоских дужек и по донцу. С седлом вместе пришло и донесение Василия Румянцева, который подтвердил то, что уже доносил Максим, но добавил, что ехать в Нижний Новгород надо не просто со свитой и охраной, но захватив надежную рать.
5
Василий собирался въехать в Нижний Новгород на большом белом коне под непрерывный трезвон церковных колоколов и приветственные клики граждан Низовой земли, счастливых возможностью стать под руку Москвы. Донесение Василия Румянцева опечалило и встревожило его: торжественно-победительного восшествия уж не предвиделось. Добавил беспокойства Киприан, который попервоначалу не хотел идти с Василием, однако в последний момент передумал:
— Коли ратью идешь — и мне не страшно, силой-то мы и суздальских епископов обломаем.
От митрополита хорошо, крепко пахло миром и ладаном, свежестью опрятного человека. Таинственно мерцал на кресте любимый аметист. Карий взгляд, теплый, беззрачковый. Вроде и прямо глядит, а все как-то выше лба.
— Не на лук наш уповаем, не оружие наше спасет нас, Господи, но Твоея всемогущая помощи просим и на Твою силу дерзающе, на врага наша ополчимся…
Глава VIII. Где рука, там и голова
В России покорение удельных князей шло рука об руку с освобождением от татарского ига.
Ф. Энгельс1
Борис Константинович величался князем великим, поскольку его княжество Нижегородское тоже великим звалось — не за размеры, но за самостоятельность, независимость. И очень дорожил он этим своим званием, потому что далось оно ему трудно, много муки претерпеть ему пришлось, прежде чем смог взгромоздиться на престол.
Был Борис третьим сыном суздальского князя Константина, и ему в удел достался Городец, называвшийся еще Волжским Городцом, Городцом-Радиловом или просто Радиловом. В народной молве известен он был еще как Малый Китер в отличие от Великого Китера (Китежа), который стоит теперь на дне озера Светлояра со всеми домами, церквами, монастырями с того дня, как скрылся там, не желая сдаваться в плен татарам.
Хотя Городец и самый древний в здешней земле, и самый прославленный (а некогда он был еще и самым главным: брат Александра Невского Андрей сделал его столицей княжества, предпочтя и Суздалю, и Нижнему Новгороду), однако лучшие времена его давно прошли, слыл он теперь городом третьестепенным.
Правивший в Нижнем Новгороде брат Андрей рано умер бездетным, и отсутствие наследников Борис посчитал своей удачей, не мешкая, прирезал Андреев удел к Городцу. Однако свои права предъявил старший брат — суздальский князь Дмитрий. С помощью Дмитрия Ивановича московского, с которым он породнился, отдав ему в жены дочь Евдокию, Дмитрий силой удалил Бориса из Нижнего, который стал теперь стольным городом княжества. А когда и старший брат отбросил свои земные помышления, Борис съездил в Орду за ярлыком и, казалось, прочно овладел наконец Нижним Новгородом, однако вмешались сыновья Дмитрия Семен и Василий Кирдяпа, не захотели удовлетвориться Суздалем и повели с родным дядькой борьбу не на живот, а на смерть. Сами едва ли одолели бы, но опять вмешался великий князь московский, принудил Бориса вернуться в Городец. Через шесть лет скончался и Дмитрий Иванович Донской, вздохнул Борис облегченно, полагая, что теперь-то путь к великому столу открыт. Второй раз помчался за ярлыком, но не застал в Орде Тохтамыша, который отправился к границам Персии воевать с Тамерланом. Нетерпение и жажда высшей власти так снедали Бориса, что он кинулся догонять хана, а затем больше месяца странствовал с ним в унизительной роли просителя и приживалы, но таки добился вожделенного ярлыка. И вот уже два года, как он великий князь.
Но и теперь Борис Константинович печален. Печаль навеки отпечаталась на его лице: глубокие морщины шли от губ книзу, взгляд запавших глаз был снулым, казалось, ничто на свете уж не могло радовать его. Самостоятельное княжение его шло трудно, беспокойно. Не только то беда, что тревожили своими набегами то татары, то русские ушкуйники, то мордва или черемисы, — от них можно укрыться за кремлевскими стенами, которые ведь и еще крепче, чем сейчас, можно сделать. И даже угроза молодого великого князя московского Василия Дмитриевича не столь сильно пугала: с ним можно потягаться на равных, неизвестно еще, кому больше будет благоволить хан Орды. Угнетало Бориса пуще всего недоверчивое и несогласное поведение его ближних бояр. Терялся он в догадках: почто невзлюбили они его? Может, за то, что прибегал к помощи Орды? Или что женился на дочери литовского князя Ольгерда? Но ведь делал он это ради благоденствия родной земли. Соборную церковь в честь Архангела Михаила поставил. На реке Суре в виде оплота от вражеских набегов — город Курмыш[97].
Когда заявились к воротам нижегородского кремля бояре Василия Дмитриевича с ханским царевичем и объявили, что Нижний Новгород отныне должен стать владением великого князя московского, Борис спросил старейшего своего боярина Василия Румянцева:
— Помнишь ли, на чем мне крест целовал?
Василий ответил с готовностью:
— Не печалься, господин князь! Все мы тебе верны и готовы головы сложить за тебя и кровь пролить.
Ответ порадовал Бориса, он решил было уж созвать совет бояр своих, чтобы обдумать с ними план обороны города, как Румянцев сказал:
— Но, господин князь! Бояре московские и посол ханский пришли сюда затем, чтобы мир покрепить и вечную любовь утвердить, нельзя с ними брань и рать учинять, надобно впустить их в город. — И добавил неуверенно, отводя в сторону глаза: — Что они могут тебе сделать?.. Да и мы все с тобой…
Угадывал Борис какие-то скрытные помыслы в речах Румянцева, поостерегся пускать в кремль послов, но и с боярами совет держать не решился, тянул время в надежде, что авось все само собой как-то уладится. Московские бояре и ордынский царевич расположились в Благовещенском монастыре, что на крутом берегу Оки, на вполне безопасном для Бориса расстоянии: монастырь и кремль разделяли переходящий с холма на холм полукольцом Верхний посад и речка Почайна с глубоким оврагом, не зря же раньше монастырь именовался «Пресвятые Богородицы иже вне града». Настораживало мнительного Бориса, что остановились они именно в этом монастыре, который издавна известен как прибежище московлян. Еще митрополит Алексий, самый ближний помощник Дмитрия Донского, возвращаясь из Москвы, останавливался «вне града», передал монастырской братии икону Корсунской Божьей Матери древнего византийского письма, много дорогих книг и среди них Кондарь — сборник нот, составленный в Константинополе не то двести, не то триста лет назад, а затем построил новую церковь Благовещения. Бориса раздражала и сама эта церковь, одинокую главу которой с резным барабаном, закомарами и ступенчатыми кокошниками он мог видеть в ясную погоду из сторожевой башни, устроенной между Архангельским собором и примыкавшей к нему колокольней, была эта церковь не такой, какие строили в Суздале и Владимире, явно несла на себе московский отпечаток некоего вызова[98]. Совсем занеслись в гордынности московляне, возомнившие себя победителями Орды!.. Борис не мог не испытывать в глубине души, как всякий нижегородец, чувства вины перед московскими князьями и за свое уклонение от участия в Куликовской битве, и за помощь Тохтамышу два года спустя, но покаяться в содеянном значило покорно отдаться в другие руки, в чужую волю, а на это не мог согласиться ни Борис, ни кто-либо из других нижегородско-суздальских князей, с молоком матери впитавших убеждение, что не Москва, а единственно лишь Нижний Новгород должен быть столицей Руси. Из поколения в поколение, в великокняжеской семье передавался рассказ о том, что племянник Андрея Боголюбского Юрий Всеволодович в честь родного своего Киева основал Нижний Новгород в точно таком же месте, высоком и на редкость красивом, и речку назвал Почайной, и монастырь Печерским: замысливал он этот город как новый Киев, как вторую столицу великой Руси. И о происхождении Дятловых гор, на которых раскинулся город, хранилось в памяти нижегородцев предание. Во времена стародавние на том месте, где теперь стоит Нижний, жил мордвин Скворец, друг и помощник Соловья Разбойника, связанного Ильей Муромцем. Скворец имел восемнадцать жен, которые родили ему семьдесят сыновей. Вся семья жила вместе, занимаясь скотоводством: пасла свои стада на горе, а к закату солнца гоняла их на водопой на Оку. Неподалеку обитал чародей Дятел, тоже друг и приятель Соловья Разбойника. Однажды спросил Скворец Дятла о будущей судьбе своих детей. «Если дети твои будут жить мирно друг с другом, — отвечал Дятел, — они долго будут владеть здешними местами, а если рассорятся, будут покорены русскими, которые поставят на устье Оки град камен и крепок зело-зело, и не одолеют его силы вражеские». В заключение Дятел просил честно похоронить его. Помер чародей Дятел, и похоронил его Скворец на месте нынешнего Благовещенского монастыря, и прозвалось то место Дятловыми горами. Умер и Скворец. Умирая, завещал детям своим взаимное согласие. Но они не послушались старика, и тогда Андрей Боголюбский прогнал их с устья Оки, а племянник его Юрий построил Нижний. Так ли, иначе ли было, но главное запомнили нижегородско-суздальско-городецкие князья: держаться надо заодин, не допускать братоубийственной розни. Потому-то Борис Константинович, как ни тяжело ему было в свое время лишиться Нижнего Новгорода, честно служил своему старшему брату. Потому-то и сейчас, в момент новой опасности, он поддерживал связь со своими суздальскими племянниками Семеном и Василием и уж, конечно, уверен был совершенно в стойкости собственных сыновей и близких родичей.
Десять дней прошло в томительном ожидании. Что предпримет Василий Дмитриевич? Странно повел себя его боярин Максим Верный: когда Борис Константинович не допустил его к себе, он тотчас же умчался в Москву за ратью, как всем подумалось, однако днесь вернулся опять один, поселился тоже в Благовещенском монастыре. И что особенно сердило и досадовало Бориса Константиновича, монашеская братия ничего не сообщала ему, обо всем он узнавал стороной и с большим опозданием. А ведь только-только что, восьмого декабря, сразу же, как стало известно о выходе из Москвы Василия Дмитриевича, Борис Константинович подписал Благовещенскому монастырю жалованную грамоту на рыбные ловы по Суре и на бобровые гоны. И никакой благодарности!.. Может быть, они уж и не признают эту грамоту, новую власть ждут?
И тут скоро вестник сообщил, что и сам великий князь московский вот-вот будет у Дмитровской башни кремля.
Борис Константинович решился, начал действовать.
Не доверяя по-прежнему своему боярству, он велел собрать вече, рассчитывая с помощью этого народоправства заручиться поддержкой купцов и ремесленников, которыми по преимуществу был населен город. Борис находил нижегородцев людьми сметливыми, добрыми и отзывчивыми, считал, что он как великий князь пользуется у них любовью за слова приветливые, за участие в скорбях народных, за справедливое разрешение тяжб и ссор, за правый княжеский суд. Люди мастеровые да торговые бесхитростны и благоразумны — это не то, что лукавые бояре. Получив на вече законное, но часто попираемое другими князьями право прилюдно вещать, они непременно предадут себя Борису и душой и телом.
Василий Румянцев не только не возражал против общего сбора на кремлевской площади, но самолично побежал за пономарем, повелев ему звонить в вечевой колокол. Пономарь был несчастным и запуганным существом. Летом он жил в волжском селе Лысково и едва остался в живых после побоев крестьян, которые осерчали на него за то, что он вовремя не зазвонил и не отогнал грозовую тучу[99]. В результате градом побило все крупяные поля, лысковцы остались на зиму без каши. Пономарь с той поры стал излишне усерден, перестарался и сейчас: ударил не в вечник, а сразу во все колокола. От трезвона не только в кремле, но в обоих посадах и на Гребешке взмыли вверх голуби и галки, ошалело залаяли собаки.
И люди, не понимая, по какой причине устроен сполох — пожар ли, набег ли ворога? — торопливо накидывали на лбы кресты, запирали ворота, с опаской выглядывали через ослонные тыны. Но пономарь скоро опамятовался стал верно руководить вечником, город успокоился. А тут еще и бирючи верховые засновали по улицам и межулкам, разглашая, что великий князь собирает всех людей в кремле.
Нижегородцы начали приуготовляться к совещанию — неспешно, с раздумьями и пересудами, поскольку участие в вече было правом каждого, однако же не обязанностью Сначала, как водится, провели свои маленькие вечера, уличанские и кончанские, а уж придя к одному какому-то соображению, жители улиц и концов направились уж на общегородской сбор.
— Как думаешь, боярин, отзовется народ на мой глас? — спросил Борис Константинович Василия Румянцева. Тот не сразу собрался с ответом — лгать было совестно, а прямить боязно либо не хотелось, сказал уклончиво:
— Слово твое, господин князь, должно быть твердо, как Бог на небеси.
Борис окончательно понял, что от боярина преданности и чистосердечия ожидать уже не можно, и все свои упования возложил на народный сход.
Хоть и крайне редко собиралось нижегородское вече, однако же в центре кремля между Спасским и Архангельским соборами возвышалась изготовленная исключительно для такого события степень — деревянный помост с лавками и сиденьями, на которых размещались все степенные люди города во главе с великим князем.
Народу набилось в кремль преизрядно: все торговые и мастеровые люди пришли, много и простого народу толпилось — монахов и монахинь, нищих и калик перехожих, странников со скоморохами и юродивыми, людьми одинаково дивыми.
Право высказать свое слово на вече имели все на нем присутствующие, но обыкновенно говорили только лепшие люди, смысленные — бояре и старейшины, а остальные слушали в молчании и только под конец выражали свое одобрение или несогласие, но случалось, что разговор начинал и кто-то из простолюдья. Богатеи, случалось, подкупали смердов и утлых мужиков для того, чтобы те своими криками и громким говором заглушали речи противников и тем способствовали утверждению желательных решений. Борис Константинович об этом знал и пользовался этим. А ныне особенно рассчитывал на своих приживальщиков, тех, что находились на княжеской застольщине и не имели другой возможности отблагодарить хозяина, как только бездумным согласием со всем, что он ни скажет. Именно поэтому, начиная вече, Борис Константинович обратился не к боярам, находившимся с ним на помосте, а к тем, кто стоял внизу, тараща в ожидании глаза и непрестанно крестясь то на церковь Спаса, то на главу Архангельского храма.
— Господа и братья, бояре и друзья мои! — гулко разнесся в морозном воздухе чуть надтреснутый голос Бориса. Мгновенно установившаяся тишина ободрила его, и продолжал он уверенно, напористо: — Богом данной мне властью я имею честь быть в челе великого нижегородского люда. Судьба нашего княжества самая беспокойная среди всех земель Руси, а мое правление самое мятежное. Вам ведома вся подноготная моей жизни, ведомо, как люб мне Нижний Новгород. Отстаивая его честь и свободу, я готов скорее погрести себя под его развалинами, уйти под воду, как ушел от Батыя наш заволжский непокоренный Китеж, чем допустить его поругание! И я обращаюсь к вам, братья и сестры, друзья мои не предадим отчину во вражеские руки!
— Мы заодин с тобой, великий князь! — донесся первый вечок, Борис по голосу признал в кричащем одного из своих подручников.
Среди бояр и воевод, сидевших на лавках степени, прошло легкое волнение, однако слова никто не взял, все выжидали, как дальше будет дело оборачиваться.
— Не хотим брани! — выкрикнул стоявший в первых рядах мужик в заношенном рубище, платанном новыми, белыми кусками холста. Борис при знал его — Иван Семибатюшный — известно, коль семь отцов у него стало быть, ни одного нет, а мать — вдовица несчастная, либо без жениха оставшаяся девка.
— Миром надо поладить с Москвой! — А этот вечок принадлежал другому Ивану, имевшему прозвание Подкрапивного, тоже, стало быть, неизвестно где и кем зачатого. Оба Ивана были, несомненно, чьи-то подголосники, на медные деньги нанятые и под хмелем уже сюда пришедшие. Борис это сразу понял, а потому противоречия их его не смутили, он все так же горячо продолжал:
— Самое верное средство, чтобы поладить с врагом, это побить его! Кто меч изощряет, мечом погубляет и сам ведь от меча смерть принять может. Николи Нижний наш град не становился на колени ни перед каким врагом, не станет и ныне!
С большой верой говорил это Борис, не сомневался, что основная масса горожан держится такого устремления мысли, однако вместо дружной поддержки, которую ждал он, началось в толпе какое-то глухое брожение, а затем стали долетать и выкрики:
— Кабы «не становился»… Только и топчут нас все кому не лень.
— Истинно, все забижают, ровно вдову бедную.
— Однако ни разу кремль каменный — ни разу! ни один супостат не взял!
— Что — кремль, посады горят, как свечки, кажинный год.
— Вдова что трава, всяк наступает ногой.
— Ну да, и татаре и мордва и ушкуйники зорят и жгут.
— Татары вон коней в храме поставили, можно ли сносить православному такое изголение?
— Вот то-то и есть!
— Чего «то-то», чего «то-то»? Ведь и зовет нас великий князь не становиться на колени ни перед татарином, ни перед иным каким ворогом!
— Эка, воин какой выискался! Где ты днесь-то был, когда татары церковь облупили?
— Верно, верно, сродники мои вон сбежали после Арапши в Москву и не жалеют живут как у Христа за пазухой.
— Всем кому голова дорога, подаваться туда надо.
— Всем нельзя…
— Верно, надо, чтобы Нижний-городок стал воистину Москвы уголок, московские государи блюдут свою отчину.
— Полно-ка: из московских князей один только Дмитрий Донской и был славен, а остальные лишь на хитрость да пронырливость горазды, московляне, они и есть московляне.
— Истинно, без воды моются, без ветра сушатся.
— Куда как ловки! Вон и Василий Дмитриевич… Он ведь с ярлыком идет, не токмо с мечом.
— А мы слабы.
— Одолеют московляне…
— Правосудие мудро!
— Гнев Господа на нас.
— Молитесь, братия, последние времена.
— Бог милостив.
— «Молитесь»… «Милостив»… «Мудро»… Нет, не минует нас чаша сия!
— Да, слабы мы, но пресвятая Дева Мария не оставит нас, я видел лик ее в заре.
— Таков жребий истории…
— Нет, не оставит нас промысел Божий…
Борис Константинович слушал людские толки, и в лице его, кажется, не было ни единой кровинки. Но он побледнел еще сильнее, когда услышал про ярлык. Вскрикнул, перекрывая гомон толпы:
— Гоже ли, православные, против единоверных братьев наводить агарян? Ведь ярлык-то на нас привез ордынский царевич, который сейчас в обители Благовещенской вином монастырским упивается!
Казалось, столь отравленная стрела должна была бы поразить сомневающихся в самое сердце. Была она последней в колчане Бориса, однако вовсе не смертельной, вече утихомирилось лишь на миг, а затем заволновалось с еще более яростной силой.
— А сам-то?..
— Да, на Москву навел Тохтамыша.
— Нет, это не он, это брат Дмитрий да племяши.
— Одного поля ягода.
— Нет же, агарян не наводил Борис.
— А за ярлыком два раза бегал.
— Како два, не сосчитать.
— И все без толку, серебро да рухлядь мягкую зря стравил.
— Чего нам татар остерегаться, нам ушкуйники покоя не дают.
— Верно, их и сама Орда боится.
— А московский князь и на них управу найдет.
— Найдет, как же не найдет!.
— Верно, не супротивник нам Москва.
И тут Борис Константинович понял, что выбранное им лекарство хуже болезни. Не будь этого вече, можно было бы делать вид, что не знаешь общего настроения, можно было бы принимать решения, сообразуясь лишь со своими умозаключениями да, пожалуй, еще и с советами верных бояр — небось и такие остались, не все переветники, как Румянцев. Вспомнив о боярах и понимая, что терять ему уже нечего, он попытался в них поискать заступу, обратился к ним со слезами в голосе, скрыть которые не мог и не хотел.
— Господа мои и братья, милая дружина! Вспомните крестное целование, не выдавайте меня врагам моим!
Первым откликнулся старый боярин Никифор Балахнин, приехавший в Нижний из Городца вместе с Борисом Константиновичем:
— Запрем ворота, не пустим московлян с татарвой!
Тут же с лавки поднялся Василий Румянцев, сказал осанисто:
— Это все одно, что запирать конюшню после того, как из нее украли лошадей.
— Как это?
— Что за притча?
Старейший княжеский боярин продолжал.
— У великого князя московского Василия Дмитриевича ярлык на Нижегородское княжество, а что даден он не шутейно, не так, как Борису Константиновичу давался, и прислан царевич Улан с ханской дружиной.
— Лошадей можно вернуть, татей наказать, — возражал Никифор. — А кроме лошадей, есть у нас немало и другого добра, его. надо хранить. Это ты, как Блуд, чужому князю добра хочешь, а своего предаешь[100].
Снова поднялся гвалт. Борис Константинович несколько приободрился. Никифор Балахнин владел соляными колодцами неподалеку от Городца, варил соли больше, чем требовалось нижегородскому населению, и был заинтересован в широкой торговле То, что он принял сторону Бориса Константиновича, было неожиданно для всех. Слово его было очень веским и предоставляло великому князю хорошую лазейку, он объявил:
— Нет у нас единоустия!
Вече озадаченно смолкло. Борис Константинович хорошо понимал, что молчание это кратковременно. Издревле велось на Руси так, чтобы решение на вече принималось едиными устами В случае разномыслия вече надо было либо продолжить (случалось, с утра до потух-зари на протяжении целой седмицы спорили), либо искать истину, отбросив мирные средства, в рукопашной борьбе — пусть это будет кровавое и неединое, однако господствующее суждение, имеющее силу закона. Но ни один из этих проторенных путей сейчас, когда решение надо было выработать немедленно, не был приемлем для Бориса Константиновича, и он нашел третий.
— Злых врагов земли Русской безбожных татар в кремль не допустим, а с князем московским будем братский совет держать! — объявил он толпе, которая нашла слова его вполне разумными и приветствовала сдержанным гулом одобрения. — А ты, Румянец, иди к Василию Дмитриевичу, скажи, что великий князь нижегородский ждет его на очи.
Василий Румянцев ухмыльнулся в бороду и проворно соскочил с помоста, желая показать этим, что преисполнен рвения стремглав исполнить приказание, однако сам Борис Константинович расценил это иначе, и расценил правильно: изобразив такую неотложную спешку, Румянцев как бы забыл приложиться к руке великого князя: ведь быть у государевой руки — значит, иметь честь эту руку облобызать при встрече и при прощании. И обычно после всяких сборов и собраний бояре шли строем, един за единым, и если не падали ниц и не били лбом об пол, то непременно припадали на одно колено и прикладывались к руке Бориса Константиновича. Это не было проявлением рабской зависимости или выражением страха — это просто принятая и утвержденная веками форма отношений старшего с младшим. А вот сейчас, пользуясь возникшей суматохой, мало кто из бояр принял отеческую милость, лишь Никифор да несколько молоденьких бояр воспользовались разрешением приложиться к руке великого князя. Понимая, что будет за благо скрыть явный бунт, Борис Константинович сделал вид, будто и сам шибко торопится, будто небрежен он сам со своими подданными. Уходя, он изобразил на лице подобие улыбки, хотя сердце его клокотало от гнева и бессилия.
2
Киприан со своей свитой получил подворье в Печерском монастыре, что лежал по другую сторону кремля на полугоре волжского берега. Сам приезд митрополита вместе с великим князем как бы показывал, что вражды быть не должно, что поход этот не военный, но поход судей на провинившихся для восстановления попранной справедливости. Так себя и держал Киприан попервоначалу, так его и встречал архиепископ суздальский Евфросин, а с ним духовенство, бояре и простые миряне — торжественно и радостно} — еще на подходе к городу, возле села Горбатово, знаменитого черной вишней и красными коровами. В Нижнем в честь митрополита сотворен был пир, честили Киприана дарами многими. А после того как попили-поели, и дружбе конец настал: Киприан совершил литургию, после которой сказал, что нижегородцы должны не только суд и пошлину ему дать, но что и вся епархия должна быть под его прямой властью.
Евфросин, как выяснилось, к этому был готов и поначалу, желая избежать большой брани, мягко возразил митрополиту, что он самостоятельно управляет епархией, подобно своему предшественнику Дионисию.
— Ведомо, ведомо мне это, — рассудливо да мирно начал Киприан, уверенный, что одними увещеваниями сможет решить дело включения нижегородских земель в свою митрополию, — Однако же управлял Дионисий спорными городами лишь на правах экзарха, только как глава отдельной церковной области, подчиненной митрополии.
Но и к этому Евфросин подготовился: показал предусмотрительно захваченную в дорогу из суздальской ризницы патриаршую грамоту на принадлежность Нижнего Новгорода и Городца к Суздальской епархии. А при этом еще, словно бы ненароком, показал мантию епископскую, пробитую татарской стрелой: еще в бытность митрополита Алексия приезжал в Нижний Новгород Мамаев посол Сарайка с немалой ратью, которая начала, по обыкновению, хозяйничать в русском городе, но новгородцы не потерпели обиды и, после того как Сарайка пустил стрелу на владычный двор, возмутились и перебили полторы тысячи ордынцев.
И всегда духовенство наше, нижегородское, за честь земли Русской без страха стояло.
Киприан уловил в словах архиепископа скрытый упрек себе и с еще большей отчетливостью понял, что без борьбы, может быть, борьбы очень трудной и жестокой, на своем ему не настоять.
— Невместно мне ухищряться такой суетой, и сущие пустяку не должны меня влечь, — с явным притворством сказал митрополит всея Руси, и Евфросин ответил ему в тон.
— Ведомо, ведомо мне, владыка, что помыслы высокие тебя влекут… Благодарствуем за Кормчую, кою ты самолично с греческого на славянский переложил и нам пожаловал…
Киприан насторожился, усиливаясь понять: и в самом деле думает Евфросин так или, зная, что митрополит лишь переписал книгу церковных законов, до него уже переведенную, уязвить хочет, обличить в самозванстве. Спросил на пробу:
— Откуда ведомо тебе сие?
— В монастыре Печерском летописание ведется давнее — зараньше в Нижнем Новгороде начали свод деяний российских вести, нежели в ином каком городе, — тут Евфросин потомил недолгим молчанием, чтобы все могли проникнуться важностью сообщения, разъяснил: — Раньше, нежели в Новгороде Великом, в Твери, в Рязани или хотя бы в Москве самой, где задержалась митрополия…
— Ну и что? — нетерпеливо перебил Киприан, чувствуя, куда клонит Евфросин и уже желая резко обозначить свои отношения с ним. А тот преспокойно продолжал.
— Так вот, составитель летописного свода Лаврентий написать возжелал так: «Киприан, митрополит киевский и всея Руси, егда прииде из Константинограда на русскую митрополию, и тогда с собою привез правильные книги христианского закона, греческого языка правила, и перевел на славянский, и Божиею милостью пребывают и доныне без всяких смутов и прикладов и новых вводов»[101].
Киприан уже не сомневался, что в тихих словах архиепископа была заложена издевка. Ишь ты, «написать возжелал», а написал ли? Спросить об этом значило выдать себя с головой, и Киприан сказал надвое:
— Книгу божественных правил я привез из Царьграда, и Катехизисом моим пользуются на православной Руси повсеместно — Все в этих словах было правдой, только всяк по-своему мог читать слова «привез» и «Катехизисом моим».
Евфросин был ветх денми, но умом ясен, взглядом зорок. Он согласно кивал седой головой и как-то по-цыплячьи зажмуривал глаза истончившимися от старости веками, что почему-то особенно раздражало Киприана. Он вообще был зол издавна на все суздальско-нижегородское духовенство: не мог простить и притязаний Дионисия на митрополичью кафедру, и возражений против поставления Киприаном основателя Спасского монастыря в Суздале Евфимия, да и настроение Евфросина давно было известно ему. Киприану стоило немалых усилий, чтобы выдержать приличие до конца. Поигрывая дорогим наперсным крестом, он попытался вернуться к искону разговора:
— Дионисий неправым путем заручился патриаршей грамотой и должен был претерпеть возмездие.
— Христианам, преимущественно перед всеми, запрещается насилием исправлять впадающих в грехи, — вставил кротко, но опять не без яда Евфросин, намекая на загадочность смерти Дионисия на чужбине.
— Верно, верно, — вполне согласно поддержал Киприан, — мирские судьи великую власть оказывают над людьми, преступающими законы, и удерживают их от преступлений против их воли, но в церкви должно обращать на лучший путь жизни не притеснением, а убеждением.
Евфросин покорно склонил голову: мол, исполать тебе, владыка, убеждай! И предложил осмотреть монастырь, пояснив, опять же не без умысла, что основан он пришедшим на Волгу из Киева другим Дионисием, мужем зело образованным, и построен точно по образу Киево-Печерского монастыря, который после Батыева нашествия приходит в окончательное запустение, и его некогда главенствующее место в русском иночестве призван иметь вот этот как раз, Нижегородско-Печерский.
Монастырь в самом деле очень был похож на древний киевский: имел подземные проходы и кельи, выкопанные в береговом склоне, одно слово — Печерский, с той только разницей, что в Киеве отшельники попервоначалу именно в пещерах жили, а не в обустроенных покойчиках. Но и здесь пещеры, как в Киеве, имеют много ходов, иные в рост человека и выше, а широки настолько, что двоим вполне можно разойтись. И даже построена подземная церковь, в которой служится обедня каждую субботу. Хотя в пещерах нет нетленных мощей, как и нет у монастыря своих святых, паломников и тут предостаточно.
По многолюдству Киприан сразу понял, что Печерский монастырь непросто сам по себе развивается, но и рассылает подвижников в отдаленные леса Заволжья. Наблюдение это его, как митрополита всея Руси, ничуть не трогало, но он с удовлетворением решил, что порадует таким сообщением Василия Дмитриевича: в Нижнем Новгороде обстановка складывалась нынче так, что впервые интересы великого князя и митрополита полностью совпадали.
Евфросин до поставления в архиепископы был архимандритом этого Нижегородского монастыря, а потому был по-особенному к нему привязан, хорошо знал здесь каждую подробность и повел митрополита в пещеры неспроста.
В одном из углублений, где устроена была небольшая молельня, он обратил внимание на плиты, которыми устелен пол: на них был дивной красоты орнамент в виде разнообразных и непринужденно разбросанных шестиконечных звезд, словно цветы кипрея на лугу. Киприан не мог не обратить внимания на шестиконечные звезды — таких он не встречал ни в одном храме или монастыре Руси. И спросил с вызовом:
— Что это за мастер пол устилал, не иудиного ли семени?
— Никак такое не возможно, — ответствовал с довольной ухмылкой Евфросин. — Гляди, святитель, как сильно плитки-то потерты да изношены. Стало быть, перенесены сюда после того, как послужили довольно в другом месте.
— Каком таком «другом»? В синагоге, что ли?
— Никак такое не возможно, — пел Евфросин. — Зело древен ведь Нижний Новгород наш и богат был всегда. Мастера из Хозарского царства, строившие там города Итиль и Семендер, после падения каганата нашли прибежище у нас — православные все люди.
— Что же, они и плитку оттуда привезли? — прикидывался рассерженным и бестолковым Киприан.
— Нет, здесь из своих глин обжигали и обклеивали гипсусом. Нижегородская земля бо-о-о-огата-а!..
Простодушный Евфросин надеялся поразить Киприана нижегородскими древностями и тем обосновать право на самостоятельное существование. И невдомек ему было, что искушенный в кознях Киприан не только видел его насквозь, но уже и тайные коварные меры принял — послал в Москву гонца за находившимися там патриаршими послами — архиепископом вифлеемским Михаилом и царским боярином Алексеем Аароном. Послы эти должны были привезти грамоту для Евфросина, текст которой патриарх составил, веря на слово Киприану. А тот, слишком хорошо зная по византийскому опыту, что лучшая ложь изготавливается из полуправды, сказал только, что при митрополите Алексии Нижний Новгород и Городец не входили в состав Суздальской епархии, но умолчал о том, что Алексий отбирал их лишь временно, лишь у епископа суздальского Алексея, а преемнику его Дионисию сразу же возвратил. Скрыть заведомую ложь Киприану помогло и общее двенадцатилетнее замешательство в русских церковных делах, так что многое можно было свалить на покойных Михаила-Митяя, Пимина, Дионисия и так все представить, будто искони были нижегородцы под рукой московского митрополита.
Все складывалось для Киприана как нельзя лучше: вожделенная грамота оказалась не только составленной, но и привезенной сначала в Москву, а теперь вот и в Нижний Новгород в самый ответственный момент.
Делая вид, будто он незнаком с ее текстом, Киприан пожелал поприсутствовать при вручении грамоты послами суздальскому архиепископу. Не подозревая еще всей опасности, но уже предчувствуя недоброе, Евфросин вздрагивающими пальцами развернул пергамент, вчитался в греческий текст. Иногда он повторял какие-то слова и фразы по-русски, порой прекращал чтение сокрушавшего его пергамента и озадаченно вскидывал глаза на митрополита, который занят тем лишь был, чтобы не выдать своего торжества.
В грамоте патриарх Антоний писал, что удовлетворяет иск митрополита Киприана и великого князя Василия Дмитриевича.
Евфросину все стало ясно. Отбросив всякие церемонии, он бесстрашно посмотрел в лукавые глаза Киприана, метнул гневные взгляды на двух других византийцев, без сомнения уже подкупленных в Москве.
— Я сам отправлюсь в Царьград!
— Есть у меня предощущение такое, что напрасны будут усилия твои.
Голос у Киприана был ровен, негромок, какой и подобает иметь человеку столь высокого сана. А про себя подумал: «Нет, только силой можно одолеть суздальско-нижегородское духовенство, надо за подмогой к Василию Дмитриевичу идти». И Киприан порадовался тому, что впервые за более чем десятилетнее пребывание на Руси он может смело рассчитывать на взаимопонимание и безоговорочную поддержку великого князя московского.
3
Если Киприан для достижения своей цели действовал с присущей ему византийской ловкостью, с изощренным в бесконечных смутах коварством, то Тебриз шел по следу своей жертвы осторожно и неотступно, как старый лис, скрадывающий зайчонка-листопадника, которого мать бросает на произвол судьбы на третий день после рождения.
Маматхозя-Мисаил казался Тебризу именно таким беспомощным зайчонком, не чующим, откуда и какая ему грозит опасность.
Помычку начал Тебриз еще в Москве, и было начало гона самым обнадеживающим: Маматхозя пристал к группе монахов, но вид имел светский, а Тебриз сразу же обрядился в черную одежду и прикинулся глухонемым старцем. Обличье изменил до полной неузнаваемости: прилепил длинную седую бороду, согнулся в три погибели, шаркал ногами так, что и в голову никому бы не могло прийти, что истинная-то его походка легка, беззаботна и быстра. А монахи принявшие Маматхозю в свою компанию, не помыкали крещеным татарином, охотно и терпеливо приобщали его к способности обретать благодать — ту силу, что даруется Богом человеку для спасения. Люди в черных рясах повсеместно на Руси уважаемы и чтимы, потому в каждом селении на пути в Нижний Новгород находили они в монастырях либо крестьянских дворах и приют, и кров, и пропитание.
В пешем ли неторопком пути, на постое ли монахи делились воспоминаниями о прожитом, гадали о своей судьбе да о грядущем антихристовом пришествии. Маматхозя сдружился во время таких разговоров с одним из чернецов, который шел из Оптиной пустыни, что под Козельском, и который рассказал — правду ли, нет ли, — будто ту обитель основал главарь шайки разбойников Опта, раскаявшийся, постригшийся и превратившийся в инока Макария. Чернец же этот, узнав о смерти чудотворца Сергия, возжелал непременно вершить подвиг иноческой жизни под приглядом кого-либо из его учеников и шел с большими надеждами, радовался предстоящему своему житью в лесных дебрях Заволжья.
— Если Опта смог, значит, и я могу? — спросил Маматхозя, но как-то вяло, без особого интереса спросил.
— Смочь-то сможешь, да только, я смотрю, ты все в землю тупишься, ровно потерял что, — ответил чернец.
Маматхозя горестно выдохнул:
— Э-эх, жизнь свою потерял я…
— Уж не безвинную ли кровь пролил?
— A-а?.. Что?.. — не сразу понял Маматхозя, — Что было, то отмолил я, как говорите вы, постами да молитвами искупил, а тут иное…
— Тогда, может, ты подружью свою потерял, таких много среди монахов?
— Верно, должна она была стать моей подружьей, из-за нее я веру сменил, чтобы умолить Господа всемогущего, Спасителя… Как Аллах не помог мне раньше, так и ваш Христос бессильным оказался, а я-то верил…
— Не знал, стало быть, ты, что натура женская лжива по природе своей.
— Нет, — горячо возразил Маматхозя, — Она, о которой молюсь я денно и нощно, — свеча воску ярого!
Чернец сочувственно, с пониманием слушал исповедь человека, не увидевшего счастья. Слушал ее и Тебриз, хотя и не очень внимательно. Сам Тебриз не раз пытался разжечь семейный очаг, да все он гас у него: «То ветром задует, то лепехи сырые для огня попадутся», — грубовато определял он причины своей неприкаянности, когда заходила об этом речь, но сам-то для себя знал точно, отчего жизнь его не задалась. И несчастного Маматхозю-Мисаила он очень хорошо понимал, он даже сочувствовал ему и даже подобие жалости к нему испытывал. Знал Тебриз по себе, что ни молитвами слезными, ни угрозами смерти невозможно вернуть свою подружью, если начнет она от тебя ускользать. Мольбы и клятвы могут, кажется, горы свернуть, но нимало не тронут ту, которой стал ты вдруг не нужен. Тут только одно из двух остается: уничтожить ее или себя. Тебриз выбрал первое, а Маматхозя что — второе?.. Решил заточить себя в монастырь — умереть для мира, как разбойник Опта? Но нет, можно ведь не только себя или ее — и это знал Тебриз очень хорошо, он-то сам сначала убрал с дороги его, а уж потом окончательно все порешил.
Уже три дня были монахи в пути. Тебриз не спускал лисьих глаз со скрадываемого «листопадника», а на четвертый день вдруг заподозрил, что не так уж и прост Маматхозя как кажется.
Заночевали в одной из деревенек из трех изб. Тебриз и Маматхозя оказались порознь. Среди ночи вышел во двор по малой нужде Тебриз, поежился, все глуше ветер, все непрогляднее ночи — зазимье. В блеклом свете едва пробивавшейся сквозь рваные облака луны увидел на снегу человека в сером халате — он, Маматхозя!.. Тебриз отвернулся нарочито, будто не видя ничего, а сам косил напряженным взглядом. Маматхозя, не замечая ничего, неторопливо направился к избе. А у порога вдруг резко оглянулся!.. Значит, таился: почему? И может быть, он уж и Тебриза распознал, да притворяется? «Завтра утром», — порешил Тебриз, толком еще сам не зная, что и как сделает завтра утром, однако надо было и знать и делать уже прямо сейчас: вышел утром он во двор, а хозяин горестно сообщает, что один из постояльцев украл у него лошадь осбруенную.
— Вот сволочь! — искренне возмутился Тебриз, и тут же сам сволок: пригрозив крестьянину ножом, отобрал у него вторую лошадь, неопределенно пообещав вернуть или щедро вознаградить на обратном пути.
Ночью выпал снег, и сослеживать беглеца не составляло трудов. Маматхозя держал путь на Нижний Новгород — это стало сразу ясно Тебризу, и он, уже не очень боясь потерять свежую ископыть, заботился только о том, чтобы не отстать в пути, а по возможности и опередить Маматхозю какой-нибудь окольной дорогой.
На второй день погони Тебриз понял, что «листопадник» уже сам его скрадывает: словно опытный заяц-русак, Маматхозя возле небольшой речки прошел петлей, вернулся по своему следу и сделал скидку — махнул на другой берег, где тянулся раменный лес и где, значит, легко можно было затаиться. Тебриз не дал себя провести он сделал вид, что потерял след, помчался галопом к одинокому починку.
Хозяину двора он строго намекнул, что выполняет важное поручение великого князя московского. Крестьянин недоверчиво покосился на монашеское одеяние, спросил с подковыркой.
— Ты, стало быть, друг Василия Дмитриевича Донского?
— Угадал, дружим мы с ним, как дружит лошадь с человеком: я везу, он погоняет. А ты давай мне поживее резвого коня, вот тебе серебро. — Тебриз решил, что сейчас уместнее подкупить человека, чем запугивать его. Очень верно решил: крестьянин, оставшийся очень довольным, объяснил ему, какой путь на Нижний самый короткий да снабдил в дорогу краюшкой овсяного хлеба и вареными вкрутую куриными яйцами.
Менял, нет ли лошадей Маматхозя, но продвигался он вперед ходко. Похоже, что погони за собой он все же не чуял: далеко вперед ушел, на сутки резвой скачки, об этом узнавал Тебриз по холодным следам, по задеревеневшим от мороза катышам конского навоза. Но когда до Нижнего Новгорода оставался всего один переход, след привел в маленький бедный монастырь на берегу Оки и тут оборвался. Тебриз держался на почтительном расстоянии от монастыря, объехал его по замкнутому кругу, убедился наверное — выходных следов нет, Маматхозя где-то там, за высоким дощаным забором, над которым одиноко и тускло выглядывал крытый лемехом шеломчик церкви.
Он привязал разнузданную лошадь к дереву на длинном чембуре, разложил на снегу холстину и высыпал на нее из торбы остаток дробленого ячменя. Нарвал и жесткой сухой травы, сложил рядом — если сильно проголодается лошадь, то и ее схрумкает.
Терпеливо ждал, пока окончательно падет ночь — покровительница влюбленных, беглецов и татей, как говаривал покойный боярин Данила Бяконтов. Вспомнив эти слова его, Тебриз огорчился, ибо получалось, что Маматхозя — влюбленный и беглец, а он, Тебриз, тать, как зовут в Москве всякого хищника, крадуна, плута.
Приняв опять облик дряхлого старца, неспешными стопами побрел к воротам монастыря. Постучался без нетерпения, а когда кто-то вышел из кельи и, хрустя снегом, подошел к калитке, прогундосил наизусть вытверженную Иисусову молитву, услышал в ответ «аминь» и звяк отодвигаемого железного засова.
Игумен, открывший калитку, оказался очень старым стариком, но голос у него был чистым, ясным и певучим:
— Смотри-ка, то от Козерога до Овна[102] лишь звери лесные навещают нас, а тут третий Божий человек за седмицу… Но ты, брат, в лихой час заявился: ангел смерти крылы свои приспустил над обителью нашей.
Игумен проводил гостя в трапезную, посадил вечерять. Плюнул в щепоть старчески скрюченных пальцев, снял со свечи нагар. Тебриз посмотрел в темное окно, перекрестился и взялся за ложку. Прежде чем отхлебнуть квасной тюри, спросил:
— Третий, говоришь, Божий человек?
— Третий, ты — третий, — охотно подтвердил игумен. — В четверток пришел один, переночевать попросился, да под утро занедужилось ему. А днесь второй путник, верхоконный, надысь выкрест татарский, с серьгой в ухе.
«Он вроде бы серьгу-то свою золотую в колокольную медь кинул… Нешто другую заимел?» — прикинул Тебриз, но тут же поймал себя на ненужных сомнениях, спросил нетерпеливо:
— Оба здесь?
— Оба, но один-то плох совсем, близко, чаю, к могиле посунулся.
— Это который в четверток пришел?
— Нет, другой… Они приятелями оказались, вместе поснедали, в одной келье опочив держали. Первому-то чуток полегчало, а второй нынче к вечеру на резь в животе жалуется, плох стал, видно, не жилец. — Игумен повернулся к тяблу, стал набрасывать на себя порхающими движениями руки кресты и вполголоса повторять молитву за здравие брата во Христе.
Но молитва не могла уж помочь Маматхозе — его голос сразу узнал Тебриз, когда приблизился к его келье:
— Сердце мое жизни жаждет…
— Бог милостив, славно жить в лоне его. — Этот голос принадлежал, очевидно, Маматхозину «приятелю».
— Страшно, страшно умирать.
— Страшно жить, а не умирать. Что смерть? Это служанка наша и рабыня.
— Умру я сейчас, брат…
— Умрешь, но так, чтобы ввек живым остаться.
Игумен проводил Тебриза в тесную келью, а сам пошел к умирающему. Через открытые двери покоев доходило до Тебриза певучее увещевание старого игумена:
— Господь Бог — наша защита, и покуда будем на земле, будем прилежно строить храм державного Господа, со страхом Божиим памятуя о смерти, но не мечтая победить ее слабыми своими силами. Брат! Знаю по себе, что всякий человек в долгие ночи перед ликом Спасителя искушался горделивыми помыслами о победе над смертью, но всяк, по себе же знаю, смирялся. Все мы смиряемся перед неведомым и неизбежным. Придем к алтарю со словами покорства, все мы — рабы Господа Бога нашего…
Только сейчас понял Тебриз, как истомился он за время погони. Чувствовал, что в обители уже витает дух смерти и тлена, пытался слушать заупокойные молитвы игумена, но глаза смежались против воли его, и, сам не заметив как, он крепко уснул.
Очнулся, когда слюдяное окно кельи было уж синим. Выскочил во двор и сразу почувствовал что-то неладное. Ворота были распахнуты, игумен стоял сугорбившись, печальный.
— Что стряслось, отче?
— Уехал, не поклонившись…
— Верхом?.. На лошади?.. Этот, с серьгой?
— Нет. Тот, что с серьгой, переступил последнюю земную черту и навсегда оставил юдольную сию обитель.
— Когда он… оставил? Сейчас вот?
— Да нет, он одубел уже… Земля мерзлая, поможешь ли могилку отрыть?
— Поспешаю я… — заметался взглядом Тебриз, но тут же укрепился в намерении своими глазами увидеть, что задубел именно Маматхозя, а не кто-то иной. — Но, конечно, предать надо грешное тело земле.
Убедился: это Маматхозя отошел от сего света. И то еще ему стало несомненно, что рассчитаться с жизнью Маматхозе кто-то помог. Вот так бывает: скрадывает хитрый лис зайчонка, уж готов его сцапать острыми зубами, как вдруг неведомо откуда с высоты упал камнем сокол, и уж трепещет в цепких когтях его листопадник, а лису только и осталось, что бессильно гавкнуть вдогон да униженно опустить свою трубу, которую только что он готов был победно вскинуть вверх.
Чтобы хоть какую-то пользу-выгоду извлечь из похорон, Тебриз незаметно для монастырской братии выдернул из уха покойника золотую серьгу полумесяцем, которая теперь одна уж может быть неоспоримым подтверждением того, что никого уж Маматхозя не сможет обозвать донгузом.
Тебриз принес своей заиндевевшей во время неподвижного стояния на морозе лошади охапку сена, которую надергал из монастырского стога, скормил и округу хлеба. Стряхнул рукавицей иней со спины лошади, обсвистал, потрепал ласково гриву. Лошадь благодарно фыркала, косила на него свой агатовый глаз.
Оставшийся до Нижнего Новгорода отрезок пути он проделал еще более спешно, чем в прошлые дни. А куда торопился, зачем — не мог бы сказать и сам. Когда сослеживал Маматхозю, был он трезво-спокоен, действовал обдуманно и четко, а теперь, когда все, казалось бы, позади, пребывал в трех волнениях.
И в Нижнем Новгороде не мог обрести покоя. Оставив лошадь на постоялом дворе, что в овраге неподалеку от церкви Жен-мироносиц, побрел бесцельно в Верхний посад, а из него к кремлю. Увидев, что мосты надо рвами подняты, кремлевские ворота запущены железными решетками, а мытная изба возле Дмитровской башни заперта на замок, понял, что замерла в городе жизнь в ожидании каких-то важных событий.
Не решаясь сменить одежду, ходил в ненавистной черной рясе, плутал в улицах и межулках, которые тут то сужались, то расширялись, меняя свое направление, оканчиваясь тупиком. Удивился, что прямо возле кремля большущий пруд устроен, а в нем несколько дымящихся паром прорубей. Спросил у торговца харчем, зачем выкопали пруд, когда радом такие большие реки. Тот в свою очередь удивился, не подозревая под монашеским одеянием степняка, однако все ответил:
— На случай греховного пожарного времени.
Поднявшись на откос волжского берега, услышал вдруг над головой грай ворона, вскинул голову, залюбовавшись тем, как две крупные черные птицы кружили и кувыркались высоко над рекой. Подивился: в суровую зиму ворон не только не отлетает в теплые края, но играючи переносит стужу, тогда как воробьи коченеют на лету и падают замертво на снег, а ошалевшие галки лезут прямо в дымящиеся трубы изб. И подумалось Тебризу, что, сравнивая монахов с воронами, не прав он был в своей нелюбви к ним. Вспомнил, что в том монастыре, где нашел свой последний приют Маматхозя, иноки все сильные, рослые, говорят языком ясным и немного певучим, а лица у всех простые и чистые. А решают эти люди заточить себя в монастырь, наверное, в том состоянии, когда вдруг не знают, вот как сейчас Тебриз, что делать им, на что употребить свою силу…
Тебриз снова посмотрел на воронов, позавидовал их свободе и понял: нет, он не такой, как они, он не имеет своей воли, его жизнь в руках господина, которому он служит. И он понял, что делать ему сейчас: искать великого князя Василия Дмитриевича, чтобы получить новое задание и опять стать деятельным, ловким, грозным.
4
Василий Дмитриевич в этот момент тоже засмотрелся, как хороводились в стылом синем воздухе могучие вороны. Поначалу, услышав их крики, он подумал с удивлением, что это гуси. А когда понял, что обманулся, что кричат победно, будто весенние гуменники да белолобики, вещие вороны, вспомнил: говорил Боброк, будто живут они по триста и больше лет, а если так, то видеть могли эти птицы не только отца, но и прадеда Калиту, но и Невского и даже ведь — самого Мономаха!..
«Чур меня, чур!» — мысленно обратился он к своим пращурам и уже увереннее ступил на крыльцо княжеского дворца, где встречал его Борис Константинович в окружении своих бояр.
Нетрудно было представить себе, сколь нетерпеливо и беспокойно ждал Борис Константинович прихода великого князя московского с ярлыком на его владения. Но и гнев его, с трудом сдерживаемый, представить легко.
Боярин Максим, действовавший от имени великого князя, и царевич Улан, исполняющий приказ хана Орды, ничего не смогли поделать с упрямым нижегородским князем — ни убедить, ни застращать не сумели. Признались:
— Надо тебе самому, государь, приневолить его, только в твоей это воле.
И Киприан, всегда такой самоуверенный и чванливый, в беспомощности своей признался, что тоже на одного лишь великого князя уповает.
Весомость своего слова Василий успел осознать. Помнится, очень удивился, когда окольничий Вельяминов доложил: «Нашли Бутурлю». А Василий вовсе и не думал его отыскивать, просто так обмолвился, к слову пришлось. О Маматхозе лишь намекнул, а Максим днесь уж сообщает: «Примчался из монастыря садовник Антиох, сказывает, что Мисаил наш, не успев пострижения принять, дуба дал…»
Но то говорил он верным боярам своим, а ныне перед ним супротивник. Каким словом воздействовать на него? Василий понимал, что не может обмануть надежд Киприана, Максима, Улана и всех других своих людей, которые верят сейчас лишь в него одного, лишь в его державную руку. И казалось ему великим срамом как-то нечаянно обнаружить и свои собственные сомнения, неуверенность, слабость.
Поодаль от Бориса Константиновича стояли его супруга Мария Ольгердовна и сыновья Данила и Иван, по прозванию Тугой Лук, тот самый Иван, которому в Орде Василий в мальчишеской драке выбил зуб. Вспомнив ту свою победу над ним, а также и то, каким простофилей выказал себя Иван в Москве, когда приезжал на посажение, Василий внутренне приободрился и уж на самого грозного Бориса Константиновича посмотрел смело, самовластно. И тот сразу уловил перемену в его взгляде. Начальные слова у него давно уж были обдуманы и приготовлены, но высказывать их он не торопился, ждал, как поведет себя юный московский князь. Он понимал слишком хорошо, что гроза над ним собралась неотвратимая, а выжидательная политика была единственная пока для него возможная. Главное же решение его было такое: что бы ни произошло, не дать унизить себя! Оттого, может быть, он излишне грубо повел себя с первого шага.
— Видишь ли, кто пришел к тебе, сын мой! — вкрадчиво спросил его Киприан, выступая вперед со своим благословением.
Борис Константинович склонился к руке святителя, а затем встал, широко расставив ноги и запустив персты рук за золотой пояс. Ответил без намека на почтительность:
— Глаза у меня не бельмы, вижу!
— И ярлык, однако, видел? — Это уж царевич Улан подошел сбоку. А с другого бока подступил Максим, который в ответ на признание Бориса Константиновича о том, что и ярлык он видел, спросил уж очень требовательно, почти нагло:
— А когда так, почему не пришел к великому князю всея Руси челом бить?!
Борис Константинович против воли своей оробел, не готов был к тому, что разговор столь жестоко начнется. Однако, оглянувшись на бояр своих, на жену да сыновей, на челядь и домочадцев, таившихся в дальнем конце палаты, овладел собой и вымолвил не совсем в пору загодя заготовленные слова:
— Я ничего не боюсь!
— Совсем ничего? — это уж Василий Дмитриевич вступил в разговор.
— Совсем ничего! — с отчаянной решимостью подтвердил Борис Константинович. — Ни мора, ни огня, ни меча, ни ярлыка твоего, ни тебя самого, со всей твоей дружиной. Ни-че-го!
— А геенны огненной? — снова вкрадчивый голос свой подал Киприан, который решил как можно явственнее выразить свое единомыслие с Василием Дмитриевичем, чтобы склонить его потом к себе в помощники, — Суда страшного тоже не боишься?
Борис Константинович смотрел на митрополита озадаченно, молчал довольно долго. Нашел все же ловкий ответ:
— Божьего суда, владыка, — да, боюсь. А потому ничего противохристианского не совершаю… Ничего противосовестного, — при этом он укоризненно посмотрел на Василия, — Должен бить челом я ведь не кому-нибудь, а ярлыку?
— Да, верховному решению султана Золотой Орды и великого князя всея Руси не смеет противиться никто, разве что одно правосудие Божие.
— А вы, стало быть, решили помочь ему?
— Кому?
— Да правосудию-то Божьему.
Дерзок был Борис Константинович. На пришлых враждебных людей хотелось ему произвести впечатление сильного человека.
— Москву промысел Божий предназначил быть истинным сердцем не токмо Руси, но всего православного мира, — Киприан возвысил голос, — А ты противишься, двоить хочешь Русь, сам за ярлыком волочишься, хоть и противно тебе поклониться ему, когда не в твоих он руках.
— Эт-то так, не раз добивался я ярлыка, да отходил с убытком, — сокрушенно согласился Борис Константинович. И понял: видно, чтобы производить впечатление сильного человека, надо быть действительно сильным. Подошел с видом большого доверия к Василию. — Я боролся с ветром, шел против течения, но когда и ветер и течение на меня одного, то сдаюсь, бью челом, о милости прошу.
Царевич Улан, обрадованный искомым окончанием разговора, решил вмешаться, сказать свое веское слово. Был он юн, красив и осанист, да, на беду, не шибко умом силен.
— Понял все же ты, канязь, что так уже ведется: имеющий сто овец обязательно отнимет последнюю у имевшего одну овцу! — сказал с издевательской ухмылкой, и, может быть, не столько слова, сколько эта ухмылка вызвала новый прилив гнева у Бориса Константиновича. Взволновались и его бояре, которые до этого либо вовсе молчали, либо высказывались очень кратко и так, что от их слов пользы немногим больше было, чем от молчания. Впрочем, и теперь их суждения были вполне бестолковыми, Борис Константинович первым понял это, пресек несогласный шум, взмыв над головой десницу.
— Не мыслю я, что так можно мыслить князьям русским, — он вдруг совсем потерялся, стал говорить косно и многословно, — да и никто, я мыслю, так не мыслит, ибо невозможно так мыслить, — Сам чувствуя, что никак не может выбраться из пустых словес, умолк, собрался с мыслями, закончил вполне вразумительно: — Давай, Василий Дмитриевич, поговорим с тобой с глазу на глаз, не на таком вече.
Василий вглядывался в лицо Бориса Константиновича, пытался понять: притворство?.. Вроде бы нет: в глазах ни излишнего беспокойства, ни настороженности, ни скрытой враждебности, ни тайных помыслов.
5
Разговором с глазу на глаз был совместный обед у боярина Василия Румянцева. К нему, конечно, загодя готовились, только неизвестно, ради какого князя так расстарался нижегородский боярин, кому угодить хотел — прежнему своему господину или же будущему.
Обед можно было бы и пиром назвать, столь пышен и торжествен он был. Пиром на Руси веселились, пиром тешились, отмечали победы, семейные события — рождения, крещения, погребения, поминовения усопших, именины, новоселья; пиры непременно давались по случаю Пасхи, Рождества Христова, Троицы, Николина дня, Петра и Павла; устраивались пиры и при встрече знатных гостей хозяевами, желающими поддержать доброе о себе мнение. Вот и Василий Румянцев, хозяин дома, поддержал его, учинил обед силен, хотя повод для него был отнюдь не праздничный, да и шел на дворе тридцать седьмой день Рождественского поста.
Когда Киприан с архиепископом Евфросином, Василий Дмитриевич и Борис Константинович с ближними своими боярами, а с ними и царевич Улан заходили в дом Румянцева, из дальних покоев до них донеслись ребячьи голоса, дружно скандовавшие:
Завтра встанем, Завтра скажем: «Завтра праздник!»Нетрудно заключить было из этого, что чада и домочадцы боярина строго блюли пост, нетерпеливо ждали разговения.
Василий Румянцев чувствовал себя несколько смущенно, приглашая к трапезному столу, уставленному яствами да медами с пивом.
Борис Константинович с новообретенным самообладанием пошутил:
— Постится весь дом, а старики сочельничают.
Киприан придирчиво осмотрел брашно стола, разрешил:
— Все сие разрешается в количестве умеренном. Скорома нет, а икорка…
— Добывается из холоднокровных тварей Божиих, а сие не грех, — повторил Василий слова, которые слышал от Киприана во время давней встречи с ним в Киеве. Киприан недовольно нахмурился, промолчал: не любил вспоминать те мятежные годы своего изгнания из Москвы. А Василий продолжал: — Да и то: грех не в уста, а из уст.
А Румянцев озабочен был тем, как гостей рассадить. По незыблемому уставу отцов и дедов передавался обычай гостевания: место по правую руку от хозяина — самое почетное, за ним другие нисходились по степеням.
Борис Константинович сразу занял высшее место — бездумно ли, просто по давней привычке либо же нарочито, чтобы насолить гостям и поставить хозяина дома в затруднение.
Киприан, придерживаясь евангельских слов, сел нарочно на самое низкое, третьеразрядное место, уверенный, что хозяин сведет его оттуда и посадит на то, какое следует. Румянцев так и поступил. Чтобы не было уж никаких недомолвок, он сразу же объявил нижегородскому великому князю:
— Господин князь! Не надейся больше на меня, я теперь уже не твой и не с тобой, а на тебя!
Борис Константинович не удивился и не опечалился — готов был к этому, покорно пересел на место второй ступени рядом с Максимом.
Василий Дмитриевич, усаживаясь на подобающее ему место и желая как-то сгладить неловкость, спросил:
— Шел я к тебе в кремль через ворота башни, которую Дмитриевской называют, это в честь кого же?
— Ее дед твой родной поставил, великий князь Дмитрий Константинович, — с явным удовольствием ответил Борис Константинович, счел нужным и добавить еще: — Отец Евдокии Дмитриевны, матушки твоей.
— И тот самый, который навел на Москву Тохтамыша, — вкрадчиво-ядовито дополнил Киприан.
— Нет, не он навел, а его шурья Василий да Семен, — стал торопливо оправдываться Борис Константинович. — Из безвыходности пришлось, хан принудил.
— Ведомо нам это слишком хорошо, — наставительно продолжал Киприан, уверенный в своем праве говорить и обвинять, — Дмитрий Константинович отнюдь не по нужде в услужение хану пошел, но сам первый погнал в Орду жениных братьев.
— Сам-то ты, святитель, бежал в тот август из Москвы к тверскому князю, — оборонялся Борис Константинович, — А надобно было бы тебе Москву блюсти в отсутствие великого князя.
— Меня с Евдокией Дмитриевной, Василием да малым братом его вече народное выпустило…
— Молву народа не надо предпочитать истине, ибо мнение народа часто бывает обманчиво, — кротко молвил архиепископ Евфросин. Киприан покосился на него, отповедал словами же Иоанна Златоуста:
— Но при беспрестанном испытании нельзя опасаться никакого обмана! — И, уже решительно беря разговор в свои руки, обернулся вновь к Борису Константиновичу: — Вот созываете вы третьеводни вече, горожане против тебя сказали. И бояре твои больше не верят в тебя. И хан Орды уж тебе не друг. А ты все упрямишься, на кого же надеешься?
Борис Константинович поднялся из-за стола, повернулся лицом к красному, восточному углу, где стояли в три тябла богато наряженные иконы, отыскал взглядом одну, с которой святой смотрел участливо и сострадательно, истово перекрестился и сказал с большой верой:
— Одна надежда на Николая Чудотворца, нашего нижегородского угодника.
Василий даже в лице переменился — столь неожиданно было признание: он ведь сам ехал сюда, больше всего уповая на заступу Николы, в честь которого отец монастырь поставил и икону которого брал с собой на Куликово поле. Образ этого святого был всегда перед очами Сергия Радонежского в его келье. И Стефан Пермский, великий просветитель народа, не расставался с иконой Николы. Небесный угодник искони сочувствует и содействует земле Русской, Москве как в больших ратных и трудных делах, так и в каждодневных — известно ведь всем, что однажды спас он ниву от града крестьянину, обратившемуся к нему за помощью, в другой раз помог мужику вытащить воз и не побоялся из-за этого замарать своего райского платья… Можно было принимать на веру, что когда-то, очень-очень давно, вершил он чудеса в иных землях: корабль от потопления спас, возвратил Вандалу похищенное у него имущество, а еврею золото, избавил отрока от утопления, освободил из темницы военачальника Петра, спас от плена Василия сына Агрикова, избавил Христофора от усекновения мечом, от потопления мужа по имени Дмитрий и много других услуг оказывал благочестивым константинопольцам, исцеляя расслабленных и ослепленных, выступая на защиту невинно осужденных, — да, все было это, было, но с той поры как пошла земля Русская, он «побеждает агарян, утешает христиан», как пели калики перехожие.
— С коих пор он вашим стал? — не утерпел и Максим, которого тоже задели слова нижегородского князя.
— А вот отче Евфросин поведает нам, пока мы будем снедать, — ответил Борис Константинович охотно и радуясь возможности как-то размыть и отсрочить опасный разговор, ради которого они все тут собрались.
Архиепископ суздальский едва притронулся к еде, сжевав единый капустный листочек, стал неторопливо повествовать хорошо известную всем нижегородцам историю:
— Как ни издевались татары-завоеватели над всем русским народом, над русскими князьями, над русской верой, как ни кичились они своей силой и властью, не могли они не видеть во многом явного превосходства христиан над ними, варварами. И вот один знатный молодой привратник-татарин в Сарае все сравнивал-сравнивал являвшихся к его хану на поклон в Орду русских со своими соотечественниками да и проникся против воли своей любовью к татарским данникам. А как стал узнавать их веру, жизнь, нравы и обычаи, вовсе привязался к ним сердцем и яснее стали ему дикость, невежество и безнравственность жизни единоплеменников. Стали разрывать его душевные муки, не выдержал он сознания своего нечестия и решился оставить свою степь и бежать в Русь. Тихо скрылся из Орды, притворясь утопленником в Волге, и поехал в Суздаль. Здесь он крестился и получил православное имя Клеопы, поступил на службу к князю. Очень он был рад, жил, служил и стал русским до неузнаваемости. Князь полюбил его за искреннее благочестие, доброту, честность. Он женился на русской; имел детей и стал истинным русским боярином. Когда великому князю Дмитрию Константиновичу нужен стал опытный посол в Орду, чтобы заполучить ярлык, Клеопа сам вызвался выполнить многотрудное дело. Да и кто мог быть опытнее здесь, как не прежний привратник царского двора, любимец хана? Князь благословил его, отправил с надеждой в ханскую ставку. Увидел Клеопа свои родные кибитки, степи, море Хвалынское, прослезился, однако теперь ему еще горше было видеть у своих единоплеменников неверие и варварство, порадовался он, что стал христианином, потянуло его скорее в Суздаль, на Русь — новую и дорогую родину. Поторопился он исполнить поручение великого князя, нетерпелив был, не так умело и успешно повел дело, как надобно было, и один старый придворный узнал его. Доложил хану, что это беглец, изменник и вероотступник. Хан в великий гнев пришел, велел заключить Клеопу в темницу. Стали его истязать и мучить, требуя, чтобы он во всем признался и вернулся в прежнюю веру. Клеопа отказывался. Его бичевали воловьими жилами, требовали отречения от православия. Клеопа стоял твердо. Тогда ему объявили от имени хана, что если он будет так упорствовать до следующего дня, то утреннее солнце своими лучами осветит только обезглавленный труп его, а затем в тяжелых оковах оставили его на ночь в темнице. Но исповедник Христов был непоколебим. Искал утешения и укрепления в молитвах к Господу и призывал на помощь святителя Николая. Господь услышал молитву мученика и прислал ему избавителя — своего угодника Николая.
Чудотворец, озаренный небесным светом, тихо явился Клеопе, разрубил единым своим прикосновением его оковы и сказал: «Иди за мной!» Неслышно прошли они через чудесным образом распахнувшиеся двери темницы, невидимо для стражи ушли из ханской ставки. Благополучно достиг Клеопа Суздаля, где уже были наслышаны о его злосчастии и не чаяли видеть живого. В память дивного спасения Клеопа написал икону святителя…
— Видел небось, Василий Дмитриевич, когда в кремль ехал, храм каменный на реке Почайне, где впадает она в Волгу, — пояснил Борис Константинович, — он как раз в честь Николы Чудотворца нами поставлен, там и образ его, написанный Клеопой, пребывает.
Василий слушал рассказ архиепископа с глухим раздражением, которое не хотел до поры выказывать, а благодушные слова Бориса Константиновича показались ему хорошим поводом для того, чтобы дать волю своему гневу.
— Я не только этот каменный храм видел, — начал он тихо, но с явной острасткой, которую почувствовали все, и все немедленно осмоктали бороды и усы. — Видел, что не на одного только Николая Чудотворца ты уповаешь… За ослонным тыном с опольной стороны ров копаешь, чесноку навез… Что, будешь берму из этих кольев устраивать?
— Так ведь, Василий Дмитриевич, известно же: умирать собрался, а рожь сей, — попытался Борис Константинович отвести в сторону разговор, но Василий вернул его в прежнюю стезю:
— Будешь оборонять город или подобру отдашь мне ключи от него?
Борис Константинович закорежился, как береста на огне. Как и всякому смертному, свойственны были ему горячность и обидчивость, повод вспылить был слишком ощутительный, но он однако сумел подавить в себе первое бездумное побуждение и произнес рассудливо слова, давно им обдуманные.
— Я ведь почему хотел с тобой с глазу на глаз говорить… Знаю я, Василий Дмитриевич, что ты глубоко чтишь предков своих, стараешься во всем следовать примеру пращуров.
Тишина настоялась такая, что слышно стало, как потрескивает фитилек лампадки на божнице, каждый задумался: куда это он гнет? Борис Константинович не долго томил.
— Когда Древняя Русь была не столь большой, один князь в ней управлялся. А разрослось Киевское государство, стало в нем два соправителя, помнишь Святослав Всеволодович владел Киевом самим, а в весях полным хозяином был Рюрик?
За столом произошло шевеление, все обратились взглядом к Василию Дмитриевичу. А тот сразу все понял, спросил насмешливо.
— «Весями» хотел бы ты считать нижегородскосуздальские земли?
— Ну да, по сравнению с Москвой наш Нижний все одно что село…
— А в чем же роль свою ты видишь?
— Выправлять кривду, быть заступой народу от врагов, помогать всем сирым и убогим.
— А я, значит, со своими князьями и боярами не управлюсь со всем и сирым да убогим не помогу?
Тут уж ясно прослушиваемое возмущение началось за столом, и скоро полностью обнаружилось, что Борис Константинович совершенно одинок во вчера еще гостеприимном, а нынче уж враждебном доме Василия Румянцева.
— Вот откуда, значит, это идет! — грозно и ликующе вступил Киприан. — А я-то все понять не мог, что это архиепископ суздальский надумал русскую митрополию расчленять…
— Это не я надумал, так испокон века было — слабо возразил Евфросин. — Но и то правда, где рука, там и голова.
Посчитал нужным свое верховное слово молвить и царевич Улан высокомерно повторяя слова хана:
— Как ни собирай кнутовые ремни в горсть, они будут расплетаться, если нет одного узла. — И добавил уж от себя. — Для Руси такой узел — грамота царя Тохтамыша.
— Имя мое, — произнес во вновь установившейся тишине Василий Дмитриевич, — значит по-гречески «царь», а разве же царь может иметь соправителей? — Он говорил спокойно и насмешливо, решив, что больше не должен ввязываться в споры и пререкания.
Борис Константинович, пережив сильное уязвление, сейчас вспыхнул:
— А мое имя нашенское, славянское… — Но вновь сумел подавить в себе гнев, понимая, что он может привести его лишь к окончательному надругательству над его великокняжеским достоинством. — Я почему, Василий Дмитриевич, осмелился предложить себя в соправители твои?.. Не потому только, что «сельцо» мое Нижегородское поболее любого европейского королевства будет, и не потому, что Нижний Новгород стал ловчее, чем Москва либо Тверь, Рязань, либо Верхний Новгород, не поэтому, а вот почему: сюда сходятся все пути — рязанский по Оке, московский по Клязьме, тверской и новгородский по Волге. Главное дело Руси — от них вот избавиться, — он небрежно ткнул перстом в царевича Улана, ударил во все тяжкие, надеясь хоть так вызвать сочувствие к себе, — Москва твоя уязвима со стороны Дикого Поля, а вокруг новгородских наших пятин заслон из лесов и болот. Но ты же не захочешь сделать стольным городом Нижний, в Москве будет по-прежнему голова Руси, а я стану ее верной рукой, стану голову эту оборонять.
— Полно, господин князь! Ты себя-то оборонить не умеешь, — грубо перебил своего бывшего властелина боярин Румянцев, давая этим знать, что он в своем решении непоколебим и что надеяться Борису Константиновичу больше вовсе не на кого.
— Молчи, холоп! — впервые вышел из себя окончательно Борис Константинович и ударил рукой по столешнице. Но был его гнев не страшен, но смешон; он только зашиб до боли мизинный палец, стал дуть на него, дрябло тряс рукой.
Василий Дмитриевич встал из-за стола. Поднялись разом и все остальные. Смышленые бояре Максим и Василий заняли место у входных дверей.
— Будешь в Нижнем, будешь, останешься здесь объявил Василий Дмитриевич, — однако не как соправитель, вообще не как князь, а как холопище! Данилу, Ивана, Марию Ольгердовну и всех еще, кто будет бунтовать, развести по разным городам.
Максим понятливо кивал головой, Василий Дмитриевич с опаской покосился на него, добавил:
— Развести, но без вредительства членов.
— С Евфросином бы тоже разом решить, — вставил Киприан.
Максим оказался догадливым излишне, брякнул:
— Ветх денми, встрясу не вынесет.
Василий Дмитриевич осуждающе посмотрел на верного своего слугу, решил:
— Архиепископ верно понял, что где голова, там и рука, однако, если пожелает, может ехать в Константинополь на патриарший суд.
Киприан охотно согласился с этим, поймав во взгляде великого князя уверенность в том. что суд этот будет и скорым, и правым. Понял все и Евфросин, произнес горестно:
— Казна патриаршая в Константинополе все скудеет, а я не имею серебра, чтобы хоть чуть пополнить ее…
— Вот, вот верно, отче, говоришь! Не правдою а златом да серебром добилась Москва права на Нижний Новгород! — Борис Константинович сорвался на крик. Он стоял у дверей и очень хорошо знал, что окружившие его слуги готовы сразу же за порогом заломить ему за спину руки и вести в поруб. — Сказано в Священном писании не всуе — «безумного очи конец вселенная», уж воистину конец света близится алчность да зависть не могут не довести мир до погибели. — Он что-то еще выкрикивал за дверями в сенях, но Василий не вслушивался он чувствовал себя уже за пределами тревог и напастей, мог теперь безбоязненно и спокойно заняться последками вершащегося действа по подчинению Москве обширного Нижегородско-Суздальского княжества. Были у великого князя московского земли вотчинные, наследственные, теперь заимел он еще и удельные — те, что самолично приобрел. Теперь имел он право послать в Муром, Городец, Тарусу, Мещеру своих наместников, данщиков, приставов, выдавать там жалованные грамоты, держать закладников и оброчников.
И, будто угадав ход мысли великого князя, Василий Румянцев обронил между прочим:
— В Москве рыбы много, однако не хватает все же… Надо везти ее и с Севера, и из Поволжья. У нас тут шибко богатые рыбные ловы и тони — не только в самой Волге, но и в речках Суре, Ветлуге, Унже, Керженце… Есть у нас такие рыбы, каких нигде больше не водится, белая семга-белорыбица, что вкуснее всякой красной, стерлядь особенная тоже, царская…
— Вот мы ее и попробуем у тебя, — решил Василий. — Здесь я жить буду, покуда в обратный путь не соберусь.
— Милости прошу, милости прошу! — обрадовался Румянцев.
Сделать дом боярина своим местопребыванием до отъезда в Москву Василий Дмитриевич наметил еще до начала обеда, сразу же, как только зашли сюда: был этот дом очень похож на поместье подмосковного боярина Красного-Снабди — тоже трехжильный, тоже с тремя крыльцами для троекратной встречи почетных гостей, тоже с навесами на кувшинообразных подпорках.
6
Когда Василий сказал Румянцеву, что намерен сделать своим наместником Красного-Снабдю тот поначалу опечалился: видно, втайне надеялся сам стать первым лицом в Нижнем, но сам же сейчас и понял, что нельзя ему этот пост занимать, ибо слишком много будет у него явных и тайных врагов. Он обещал по-прежнему быть надежным доброхотом Москвы, обещался негласно помогать молодому московскому наместнику. А Снабдя и сам тоже оробел — слишком большое, сложное и неизведанное дело принимал на свои плечи. И тогда Василий решил временно двух наместников-«соправителей» оставить: кроме Владимира Даниловича еще и Дмитрия Александровича Всеволожа.
Самолично ставил великий князь всех казначеев и дьяков, которые будут ведать прибытком, всех тиунов и посельских, доводчиков, приставов и прочих пошлинных людей.
Не мог не побеседовать он напоследок с Иваном, с которым они мальчишками смертный ужас переживали в ордынском плену и отношения с которым складывались по-мальчишески же вздорными, вплоть до зуботычин и ругачки. Беспременно, будет Иван и сейчас ртачиться и дерзить себе во вред, а Василию хотелось бы, чтобы он кротко признал поражение свое и своего отца, тогда можно было бы как-то облегчить его участь, сделать для него что-нибудь доброе, например, наградить маленькой опричниной.
Спросил на пробу:
— Отец твой сказал, что я златом да серебром только ваше княжество на себя взял, ты тоже так думаешь?
— Так, а не инак! — предерзко выпалил Иван, прозванный Тугим Луком не за физическую могутность (был он хоть и не мозглей, но и не богатырем), а за то, что любил оттягивать тетиву ногой.
— Что ж… — раздумчиво и благодушно стал рассуждать Василий, — верно: деньги, взятые мною из великокняжеской казны, немало подсобили мне в переговорах с Тохтамышем. Но понять должен и то ты, что не в одних деньгах дело, а в том, что сила Москвы возросла многократно, и Орда знает это и не может с этим не считаться. Ведь если бы твой отец, или тверской князь, либо рязанский и любой другой русский великий князь привез бы еще больше моего злата да серебра, то, как думаешь, дал бы ему Тохтамыш ярлык?
Иван надулся, покраснел. Как хотелось бы ему сказать: да, дал бы и моему отцу он ярлык, но знал, что слишком очевидна правота Василия. И сказал только:
— Что же, боится он тебя нешто?
Василия это не смутило:
— Бояться — нет, не боится, однако на мою помощь все же рассчитывает.
— Это на какую же? — взметелился Иван.
— Орда уже не может справиться с ушкуйниками, которые во время своих набегов грабили татарских купцов по Волге и доходили до Булгар и Сарая. На вас надежды нет, проходят сквозь вас ушкуйники, как через пустоту.
— А ты надеешься сладить с ними?
— Еще проще, чем с вами…
Иван был сыном своего отца, таким же вспыльчивым и обидчивым, и он, как и Борис Константинович, решил утешиться дерзостью:
— В Орде ты меня осилил, потому что старше меня на целый год, а здесь твоя могута в татарском ярлыке. Но забыл ты, что нам Александр Невский заповедал (он ведь в нашем Городце предал свой дух Господу), он вот что сказал: «Не в силе Бог, а в правде». А правота — она что лихота, все одно наружу выйдет, погоди, вот ужо тебе… «Аще не избудет правда ваша паче книжник и фарисей, не внидите в царствие небесное».
— Довольно! Кто сердит, да не силен, тот сам себе враг: хотел я тебе послабление дать, а ты, как кутенок, на собственный хвост лаешь. Будешь заточен в Городце в том самом монастыре, где пращур мой Александр Невский истому после путешествия в Орду принял. А захочешь наружу выйти, дашь мне знать, так, мол, и так, я, Иван Тугой Лук, прошу простить мне мою кривду. — Малую надежду хотел оставить Василий давнему своему товарищу по. несчастью, но тот отказался от нее и, уходя, такое отмщение нашел.
— А Василий-то с Семеном хитрее тебя, в Орду умыкнулись!
Напоминание о побеге «суздальских Дмитриевичей», которые приходились Василию дядьками и которые столь же решительно, как и Борис Константинович с сыновьями, противились присоединению Нижегородского княжества к Москве, конечно же, было очень язвительным — расчетливый удар нанес Иван напоследок. Василий днесь еще организовал за ними погоню, но надежд на успех было мало.
Киприан попенял:
— Мягок ты, Василий Дмитриевич, не знаешь по молодости своих лет, что с неприятелем надо сразу же обойтись круто, может, даже сверх меры, но разом, в единый день. Одна обида, пусть очень большая, меньше озлобляет и скорее забывается, нежели много маленьких и каждодневных обид. А благодеяния, напротив, надо постепенно по губам подданных своих размазывать.
— Так византийские цари поступают? — вяло поинтересовался Василий.
Киприан вдохновился.
— Да!.. О да! Учиться тебе надобно у них. Дмитрий Иванович все по-европейски норовил, как ни наущал я его…
— Как это — «по-европейски»? — насторожился Василий.
— В латинянских странах сплошь двоевластие светские князья и короли соперничают с духовными владыками каждый первенствовать хочет А зачем? В Византии император при вступлении на престол получает чин диакона Благодаря этому он может участвовать в церковных соборах, диктовать на них свои решения Император, стало быть, является там для церкви высшим господином и хранителем веры Патриарх стоит на втором месте.
— Нешто ты бы на это согласился — вторым-то быть?
— Ты слушай… Император — венценосный самодержец, но — простой смертный человек, слабый и грешный. Патриарх может наложить на него церковное покаяние, закрыть вход в церковь, отказать в венчании или разводе. Без благословения патриарха армия не может идти в бой.
— Эка!.. А отец без твоего благословения повел полки за Дон. Пусть так и впредь будет, по-европейски…
— Нет! Не ты, так преемники твои поймут, что нельзя терпеть, чтобы язвы разъедали власть в государстве. Пойми, сын, положение твое таково, что ты должен готов быть в любой миг повернуться в любую сторону, глядя по тому, куда дует ветер, ты обязан при необходимости с легким сердцем вступить на путь зла. Кто же в таком случае позаботится о спасении души твоей?..
Не все из того, что настойчиво внушал пролазчивый Киприан, доходило до сердца Василия, но соображение о том, что грех за клятвопреступление, жестокость, вероломство может взять на себя кто-то другой, а он, князь, простой смертный человек, слабый и грешный, может, таким образом, не совеститься и не каяться, было соблазнительным.
Василий велел организовать новую погоню за бежавшими от его кары дядьками Василием и Семеном, а при поимке обойтись с ними круто, как с переветниками, умыслившими злое дело.
Многочисленные чада Василия Румянцева горланили новую скандовку:
Завтра встанем, Завтра скажем «Нынче праздник!»Оголодавшие за пост ребятишки торопились, завтра лишь Рождественский сочельник.
В обратный путь из Нижнего Новгорода Василий Дмитриевич наметил выходить послезавтра — двадцать пятого декабря.
Этот праздничный день Рождества Христова был отмечен в летописном своде монахом Печерского монастыря как день черный — как конечный день истории некогда славной и могучей державы, основанной Андреем Боголюбским. Это понимал и чувствовал монах-книжник, чьей рукой водило высшее духовенство и великий князь; но что думал простой люд?
Василий возвращался домой, но возвращался не с чужбины, как месяц назад. Оглядываясь окрест себя, он не видел ничего ни чуждого, ни незнакомого, ни непонятного — Нижний Новгород был словно бы продолжением Москвы, частью, украйной ее.
Заснеженные улицы, избы, клети, терема. На карнизах домов, на ветках деревьев — куржа, что белые кружева на расшитом вороте у девицы, которая прошла быстрой походкой мимо, печатая следы узкими подошвами красных сапожек. Тихо утром возле домов. Где-то лает неохотно собака, запел и поперхнулся на морозе петух. Бабы у ворот, размахивая руками, посудачили недолго и разошлись.
Топятся печи, из изб дым выползает вниз через волоковые окна либо подымается столбом из труб. Не горький дым, даже и вкусный: пекутся праздничные пироги.
Легок воздух, мягок снежок, морозец чуть щиплет.
Василий, закутавшись в медвежью полость, выглядывал из крытого возка, прощаясь взглядом с городом, который стал теперь его собственностью.
Все его — дома, храмы, амбары, и люди — его подданные.
Девица в меховой шапке. Старик с усами и бородой в инее, направившийся к торговым рядам; и еще один старик, с деревянной лопатой, которой он чистит подход к своему дому от калитки.
Мелькают, кружась, тулупы — желтые, черные, зеленые… Березы с розовыми ветками… Гуси с красными ногами… Дятел на дубу… Черные вороны на небе… Лошадь серая в яблоках… Еще одна лошадь промелькнула — масть не разглядеть, видна лишь богатая серебряная сбруя.
Глава IX. Страшный суд
Нет ничего более ценного в мире и ничего, требующего большего бережения и уважения, как свободная человеческая личность.
В. Вернадский1
Что такое черный бор, знал Василий слишком хорошо с младых своих ногтей, о нем часто говорилось в семье как о важной части государственного приработка, особенно когда речь заходила об осенней тягости — выплате ордынской дани. Во время томления в сарайском плену зародилось в сердце Василия даже нечто вроде суеверного страха перед этим понятием. Тохтамыш требовал выплатить восемь тысяч рублей серебром, у Дмитрия Донского таких денег не было, и он рассчитывал выкупить сына из залога за счет этого самого черного бора, полученного с новгородцев. Василий терпеливо ждал, шли месяц за месяцем, год за годом, а отцу все никак не удавалось заполучить нужное количество серебра. У каждого приезжавшего из Москвы посла или великокняжеского боярина Василий спрашивал нетерпеливо: «Когда меня освободят?» — и в ответ слышал одно и то же: «Вот как черный бор с новгородцев получим». И стал этот черный бор даже уж ему в страшных снах сниться наподобие какой-то нечистой силы, на которую никак невозможно найти управу. И оттого, может быть, он и на самовольный побег из Орды решился?..
Теперь ему пришлось самолично разбираться с тем, из чего именно складывается черный бор, почему так упорно утаивают его новгородцы. Как и при отце, они одно ладили: «Бор дати не можем из-за полного оскудения черносошных смердов». По сообщениям московских доброхотов, не находившееся в зависимости от светских и церковных вотчинников сельское население черных, княжеских земель действительно очень бедствовало. Крестьяне, называвшиеся в новгородчине по-прежнему смердами, занимались в основном лесным перелогом, при котором земля использовалась лишь несколько лет, а потом надолго оставлялась для отдыха. В то время как на нивах Северо-Восточной Руси давно и прочно укоренилась трехпольная система, новгородцы и псковичи по-прежнему вели первобытное подсечное земледелие. К тому же и природа сама не благоволила им: то зима выдастся бесснежная, то поздние весенние морозы ударят и не дадут хлебам взойти, то дождливое лето вымочит все посевы на корню. Вот и в этом году летописец горестно занес на пергамент: «Весна была тепла, а лето студено и мокро и никакое жито не родилося с тех мест». И то было правдой, что бедствовал народ там постоянно. То запишет летописец, что «того же лета, разгневанием Божиим, умалися хлеба, и бысть драгость велми», так что зобница овса тогда стоила гривну, три меры ржи — полтину, пуд соли — гривну[103]. Случалось, от голода дело до людоедства доходило, если верить летописцу, записавшему: «…инии же и мертвыа скоты ядаху, и кони, и псы, и кошкы, и люди людей ядоша». А кроме людоедства в те голодные времена, когда в «Новгороде хлеб дорог бысть не только сего году, но всю десять лет: по две коробьи на полтину, иногда боле мало, иногда менши, иногда негде купить», еще и в рабство люди сами себя продавали: «…и бысть скорбь и туча хрестияном велми, толко слышати плачь и рыданье по улицам и по торгу; и мнозе от глада падающе умираху, дети пред родители своими, отци и матери пред детьми своими; и много разадошася: инии в Литву, а инии в Латиньство, инеи же бесерменом и жидом не хлеба даяхуся гостем»[104].
О бедственном положении новгородских крестьян рассказывали Василию Дмитриевичу бояре братья Никитины, которые, подобно Василию Румянцеву, перешли под покровительство Москвы. Братья жили раньше в городке твердом и толстом — Орлеце, один из них, Анфал, даже ходил ратью на Каму и взял принадлежавший жукотинским мурзам — вассалам Золотой Орды — город Джуне-Тау. Никитины стали подлинными хозяевами Заволочья, как называли земли за Волоком на нижнем течении Северной Двины. Но это не нравилось новгородским боярам, которые всячески старались их вытеснить из Орлеца.
— Бор тебе, великий князь, не дают, а сами богатеют, — ябедничал Анфал, старший из Никитиных. — Не всякий же год неурожай, а голод почти непрестанно. Иной раз жито потрошат ливонские рыцари, травят хлеб на корню, не то шведы либо другой какой неприятель зорит и хрестьян, и городской люд. Батюшка твой, Дмитрий Иванович, договор имел с тверским великим князем, чтобы тот не препятствовал провозу хлеба из Москвы к нам, а нынче опять препоны, потому как бояре и Твери и Новгорода норовят все наособицу жить, опять же купцов расплодилось много таких, что тоже скупают зерно и продают потом по вздутым ценам.
Подобно нижегородскому боярину Василию Румянцеву, братья Никитины тоже не просто изменили своей державе и перекинулись к великому князю Москвы — они видели необходимость преодоления раздробленности Руси, хотя помогали Василию Дмитриевичу не без собственной корысти. А помощь они оказали существенную. Черный бор, который обязаны были предоставлять новгородцы московскому великому князю, состоял не столько из дани и разных натуральных повинностей крестьян, сколько из обложения пошлинами разных промыслов, как сельских, так и городских черных, независимых от бояр и церкви простолюдинов. Братья Никитины точно подсчитали, сколько у новгородцев есть неводов на рыбных промыслах — каждый из них является единицей обложения. Знали Никитины и сколько имеется црен для выварки соли из морской воды и соляных источников Старой Русы — эти сковородки также приравнивались к сохе. В числе обложения черным бором были железные промыслы, кожевенные чаны и сапожские мастерские, кузнечные горны, гончарные круги. Даже и давившие с помощью особых жомов коноплю и орехи маслобойни были взяты Никитиными на учет. Сказали они Василию Дмитриевичу и общее количество тяглового населения (женщин и детей они не учитывали, но, если бы понадобилось, назвали бы и их примерное число).
Еще перед тем как идти в Нижний Новгород, Василий Дмитриевич отправил двух своих послов сказать гражданам Великого, чтобы они дали Москве черный бор, заплатили все княжчины и чтобы отослали грамоту о суде к митрополиту Киприану, который снимет с них грех клятвопреступления. Анфал Никитин сказал тогда, что новгородцы не согласятся, и он не ошибся: вернувшись из Нижнего, Василий Дмитриевич узнал об отказе Новгородской боярской республики поддерживать отношения с Москвой по старине. Это и сам Василий Дмитриевич предвидел, потому-то загодя велел Юрику и Владимиру Андреевичу готовиться идти на Новгород войной, чтобы припугнуть и заставить дать черный бор.
Это должен быть поход, подобный тому, какой совершил отец в год возвращения Василия из плена. Дмитрий Иванович, разгневавшись на Новгород и ушкуйников, собрал тогда войско от всех низовых городов, за исключением тверских, вообще редко принимавших участие в московских походах. Двадцать девять городов выслали свои рати — от Белоозера и Устюга до Нижнего, Можайска и Коломны. Вся эта рать направилась к Новгороду и, не дойдя тридцати верст, остановилась, желая не допустить кровопролития. Новгород струсил, начались переговоры, и дело кончилось тем, что вольные люди должны были за виновных ушкуев заплатить восемь тысяч рублей (три тысячи новгородцы и пять тысяч двинская земля, потому что две тысячи заволчан на семидесяти ушкуях участвовали в общем разбое). Раздел был несправедлив, заволчане, поплатившись дороже, чем следовало, остались недовольны и самим Новгородом. Хорошо бы и сейчас вышел такой исход дела, потому что двинская земля Давно тяготеет к Москве, с заволчанами ссориться не следует, а Новгород ничего кроме силы не признает.
Хотя и впрямь бедствовали жившие в нем простолюдины в годы неурожаев, княжеских междоусобиц и иноземных нашествий, однако же само Новгородское вечевое государство, уцелевшее от татарского погрома, было богато и сильно. С помощью северо-восточных русских княжеств новгородцы и псковичи сумели отстоять свою независимость от посягновений Швеции, ордена, Литвы. Но затем, когда Москва была слишком озабочена охраной своих южных и восточных границ, стало ей как бы не до Новгорода, который начал обретать из-за этого все больше независимости и от великокняжеской власти, даже стал отношения с соседями выстраивать самостоятельно — войны вести, договоры заключать. Однако ограждение от великорусского великого княжения принесло новгородцам и великие испытания: полагаясь на самого себя лишь, допустив самое полное за всю свою историю народоправство, Новгород не в силах был ни независимость отстаивать, ни мир сохранять. Единственно, что оставалось неизменным в Великом и что по-прежнему делало его могущественным и богатым, — это торговля: вел он ее и с Западом через Балтийское море, и с Востоком через Сурож и Кафу, одновременно поддерживая экономические связи с русскими княжествами и проникая с большой выгодой для себя в полуночные страны и за Камень.
В межгосударственных делах новгородцы тоже изрядно поднаторели, ловки да пролазчивы были, даже Киприана при всей его византийской хитрости сумели обвести вокруг пальца.
2
Успешно и крайне ловко завершив тверское дело, Киприан рассчитывал и на новгородцев легко найти управу. Поначалу все к тому и шло. Патриарх Антоний прислал архиепископу и всему духовенству Новгорода увещевательную грамоту, призывая отказаться от вынесенного еще при Пимине приговора не обращаться к суду митрополита всея Руси. Грамота самого царьградского патриарха, да еще доставленная не простым письмом, а двумя митрополитами — андреанопольским и ганским, на кого угодно произвела бы сиюмоментное усмиряющее действие, но только не на граждан Великого. Киприан, узнав с изумлением, что духовенство Новгорода ведет себя так, словно никакого увещевания патриарха не получали, вынужден был в минувший Великий пост поехать туда самолично. И не без опаски начинал он свое путешествие, предполагая любой неожиданный исход и приготовившись к самым решительным поступкам.
Когда подъехал он к городу 11 февраля, встречали его с подобающей почетной торжественностью и дали ему и его свите лучшее подворье — у Иоанна Предтечи на Чудинцевой улице. С пышными обрядами служил он две литургии в Софийском храме, велегласно учил народ с амвона. Архиепископ Иоанн устроил в честь митрополита всея Руси двухнедельный непрерывный пир, на котором присутствовали посадник, тысячный и все славные мужи Великого, которые в знак особенного уважения от имени всего города подарили ему несколько дворов. За прямо данное гражданам высшее архипастырское благословение получил Киприан надлежащие поманки — подъездную дань и кормовую пошлину — обычную и строго определенную поголовную подать со всего духовенства епархии приезжающему митрополиту. Все это принимал Киприан как должное, а 25 февраля, в неделю православия, совершив в Софийском соборе третью литургию, он потребовал суда своего месяца, как это бывало всегда при прежних митрополитах, получавших суд и пошлину через каждые три года на четвертый. Новгородцы отказались это сделать столь решительно, что не поддались ни увещеваниям, ни угрозам, которые Киприан высказывал им еще целых три дня, а закончил тем, что предал их, включая все духовенство с архиепископом во главе, церковному отлучению. Мера эта была столь невиданно сильная, что новгородцы отправили в Константинополь двух послов — Кюра Созонова и Василия Щечкина — добиваться от патриарха признания законности их приговора вместе с предъявлением нового требования, чтобы митрополит не вызывал их архиепископа к себе в Москву, а кроме того, хлопотали о снятии наложенного на них отлучения. И Киприан время не терял: возвратившись в Москву, он отправил в Константинополь с жалобой на строптивых новгородцев своего боярина Дмитрока Афинеевича.
И вот, пока завершались дела по присоединению К Москве нижегородской земли, как раз к моменту возвращения Киприана и Василия Дмитриевича в Москву прибыли сюда константинопольские апокрисиарии — архиепископ вифлеемский Михаил и царский чиновник Алексей Аарон с ответными посланиями патриарха. Обоих посланников встретили с подобающими почестями и разместили в палатах митрополичьего двора.
Алексей Аарон в первый же день бил челом великому князю. Как сугубую тайну сообщил, что архиепископ Михаил мог бы и один привезти послание патриарха, но Антоний специально приставил к нему надежного царского человека, дабы не допустить несправедливости, не ущемить как-нибудь ненароком интересы московского царя. Василий понял тайные помыслы молодого пройдохи Аарона, велел дать ему полчетверта ста рублей.
Пришел со своим благословением к великому князю и архиепископ из Вифлеема, степенный и добропорядочный старец Михаил. Он сказал, что бывал в Москве еще при Алексии, чье поселение находилось на Боровицкой горе возле Иоанна Предтечи и было скромно, даже и бедно, не то что нынешний митрополичий двор, поставленный рядом с великокняжеским. Из этого наблюдения патриарший апокрисиарий выводил, что Москве и верно суждено стать Третьим Римом, ибо все прочие православные митрополии приходят в великое разорение, а он, Михаил, еле наскреб в своей ризнице денег на поездку в Русию. Василий подумал, что проворный Аарон не совсем был не прав, а Михаил не столь уже и степенен и добропорядочен, однако велел и ему тоже выдать в качестве поминка полчетверта ста рублей.
А самый большой дар великого князя получил в этот же день Тебриз. В Нижнем Новгороде он пал на колени перед Василием, гулко ударил лбом о дубовые плашки пола и повинился: «Опоздал я, княже, со своей местью, теперь встречу жениха лишь там!» Василий, утешив его щепотью серебра, дал новое задание: тайно встретить и также тайно сопровождать константинопольских послов. Тебриз на этот раз преуспел и сумел разузнать, что патриарх Антоний, посылая в Русь своих двух апокрисиариев, дал им наказ, в котором настоятельнейшим образом предписывал «соблюдать между собою мир и любовь, ничего не говорить и не делать одному без другого и ни под каким предлогом не видеться порознь с великим князем и митрополитом».
Тебриз маленько запоздал, конечно, со своим столь важным донесением, однако же Василий не мог не оценить великую важность его.
Когда он пришел к Киприану, у того шла трудная беседа с архиепископом Михаилом. Патриарший посланник считал, что для решения вопроса следует выехать в Новгород, дабы обозреть епархию и выслушать противную сторону. Киприан отвечал, что архиепископ Иоанн со свитой уже в Москве и нет необходимости проделывать столь трудную дорогу, тем более что на дворе Сретенье, уже вот-вот начнется вешняя распутица и неизвестно, на чем ехать — на колесах или на санном полозе. Старец Михаил стоял на своем, считая, что до распутицы еще очень далеко, что одного архиепископа со свитой недостаточно, что надо и с горожанами иметь беседу от лица патриарха.
В том, что до распутицы еще далеко, он был прав — тут Киприан неудачный довод привел, потому что хоть и было Сретенье, когда будто бы зима с весной встречаются, однако снегу лежать еще не меньше двух месяцев. А вот желание непременно встретиться с гражданами Великого выглядело подозрительным, таковым оно было и на самом деле, что стало Василию ясно сразу же. Он позвал в палату Алексея Аарона и, когда тот явился с видом несколько растерянным, сказал:
— Ехать в Новгород нельзя, ибо я складываю свое крестное целование ему, какое дал, и иду войной. Вам же обоим здесь, в Москве, надлежит быть всегда вместе и под охраной моих людей, потому что в городе замечены новгородские лазутчики. — Василий потомил молчанием, после которого добавил слова, все константинопольским послам основательно разъяснившие: — Не должно вам «ничего говорить и делать одному без другого и ни под каким предлогом видеться порознь с великим князем или митрополитом».
Архиепископ Михаил скорбно поджал тонкие бесцветные губы, молчаливым поклоном седой головы выразил полное согласие. Но Аарон не смог сдержать изумления. Он таращил на великого князя свои темно-карие глаза, и Василий увидел, что они у него разные — левый слегка прищурен, как бы хитровато заужен, а правый — круглый и по-воловьи выпуклый. Киприан, конечно же, сразу увидел перемену в поведении патриарших послов, ничем не выказал своего ликования, однако константинопольцы не могли не почувствовать упрека в его словах, которые он высказал несколько позже, уже в присутствии новгородского архиепископа Иоанна:
— Священнослужение совершается на земле, но по чиноположению небесному. Сам Утешитель учредил это служение, и людей, еще облеченных плотию, соделал представителями служения ангелов. Посему совершитель этого служения должен быть настолько чист, что как бы он стоял на небе, посреди небесных сил.
Всем присутствующим ведома была проповедь одного из отцов церкви, но также и ведомо было всем, что нарушается она священнослужителями сплошь да рядом. Архиепископ Иоанн настроен был явно враждебно, он сразу же ответил митрополиту:
— Стоило ли из-за двух тысяч рублей вселенский шум поднимать, патриарха вовлекать в дела, кои недостойно вершим мы, не все стоящие «посреди небесных сил».
Всем ясно было, сколь расчетливый удар нанес новгородский архиепископ, а Киприану тем паче, и он не счел нужным сдерживать гнев:
— Жалею, что отлучил я тебя уже от церкви, не могу еще раз это сделать сейчас! Ведь отказываясь давать мне месячный суд, вы не две тысячи рублей лишь утаиваете, но члените митрополию, на единство Руси покушаетесь! Вы патриарха самого не чтите, ведь велено вам в грамотах Антония сначала одной, потом второй вот.
Грозный тон митрополита не произвел на Иоанна ни малого воздействия, он тихо, но настойчиво возражал:
— Митрополит Феогност во изъявление своего благоволения к архиепископу новгородскому Василию пожаловал крещатые ризы…
— Не «во изъявление», а по нарочитому исканию Василия, — вставил Киприан, но Иоанн не счел нужным возражать, продолжал:
— Имея с той поры вот уже пять десятков лет крещатые ризы, мы, архиепископы новгородские, на основании этого отличия усвояем особые права, как-то: белый клобук — принадлежность автокефальных владык. А сие дает нам право не ходить на твой митрополичий суд…
— Должно уточнить, однако, — вмешался архиепископ Михаил, — что крещатые ризы, данные Феогностом Василию, являли собою ризы, украшенные четырьмя лишь крестами, а не сплошь. Так что замышление присвоить своим архиепископам с помощью этих риз автокефалию вздорно…
— Имеем мы ризы, сплошь украшенные крестами, — слабо возразил Иоанн, но тут включился, тараща воловий глаз, Аарон:
— Приемлю смелость сказать, что надеялись вы подменить одне ризы другими — четырехкрестные на полиставрий, это ведомо в Византии.
Слушая константинопольских посланников, Василий подумал, что не напрасно стравил им по полчетверта ста рублей. Киприан, решивший, что победа над новгородцами уже одержана, стал по-отцовски увещевать Иоанна:
— У тебя под клобуком голова Божьей милостию, понял ты, что не след упрямиться, явился вот в Москву по моему зову…
— В последний раз!.. И каюсь зело в этом! — непримиримо вскричал новгородский архиепископ. — Единственно ради патриарших послов снизошел, а они тоже не по совести дело порешить хотят…
Тут началось общее возмущение: Михаил и Аарон горячо внушали, что отличие крещатых риз не связано с каким-либо умалением зависимости архиепископа от митрополии, Киприан обещал снести с новгородцев грех клятвопреступления, но Иоанн и слышать ни о каких уступках не хотел, ссылаясь на незыблемость закрепленной общим крестоцелованием присяги.
Слушая нервные голоса высокодуховных лиц, Василий подумал, что дело, конечно же, не просто в тех двух тысячах рублей, которых может лишиться митрополит, в случае если новгородцы отложатся от его суда. Московские князья тотчас после того, как в лице Ивана Даниловича Калиты осознали себя князьями великими — собирателями и объединителями русских земель, стали недвусмысленно заявлять о желании подчинить своей власти Великий Новгород, и тот, конечно, начал заботиться о том, чтобы отстоять свою независимость. Успев сделать митрополитов всея Руси своими, московскими, князья получили возможность влиять на все русские княжества через посредство власти владык духовных. Однако новгородцы всячески противились. Сначала они добились права избирать кандидата на свою архиепископию, а оно в общем укладе русских церковно-политических отношений было правом великокняжеским. После того как новгородские епископы возвысились в архиепископский сан, они приобрели внешнее отличие крещатых риз, чтобы окончательно отложиться от митрополии. Но если это произойдет, то и бояре Новгорода могут выйти из-под власти великого князя московского, потому что стоит на своем архиепископ Иоанн не из личного своего упрямства, а выражает отношение всех граждан Великого. Сам по себе известен был Иоанн как большой миротворец. Когда в очередной раз повздорили новгородцы с псковичами, начали проливать кровь христианскую, владыка Иоанн так пытался увещевать граждан Великого Города: «Вы бы, дети, мое благословение приняли, псковичам нелюбие отдали и свою братью младшую приняли по старине, потому что, дети, видите, уже последнее время приходит, надобно христианам быть заодно». Но вот то ли забыл он те свои слова, то ли так сильна у него неприязнь к московлянам, одно тростит:
— Целовали крест все заедин не звать нас к митрополиту на суд, и грамоту пописали, и попечатали, и души свои запечатали. — А напоследок добавил Иоанн даже такое, что никому неизвестно было, что и вздумать трудно: — Постановили новгородцы предавать смертной казни, убивая или сбрасывая с моста в Волхов, тех, кто захочет обратиться к посредническому суду митрополита.
Василий собирал рать, чтобы постращать новгородцев, теперь ему стало ясно, что надо идти войной карательной.
3
Поход начался в сретенские морозы. И хотя стояла стужа пляшущая, однако же не за горами была и оттепель сретенская. Поэтому приходилось поторапливаться, чтобы завершить рать до того, как начнут рушиться пути.
Снега в тот год выпали богатые, в лесу человек проваливался по пояс, а звериные тропы были столь углублены, что кабаны скрывались в них с ушами.
Собранное войско было, как обычно, пестро, неоднородно: вместе с обученными дружинниками князей и бояр были конные и пешие слуги, челядинцы, холопы. Особые отряды были из городских ополченцев — купцов, ремесленников, а также из пеших крестьян. Главной силой и гордостью, конечно же, были великокняжеские дружины из слуг да детей боярских, подвластных в отсутствие Василия Дмитриевича одному только его братцу Юрику. Только его одного слушались они, тогда как в других дружинах и отрядах командирами были их владыки — мелкие князья или бояре.
Юрик рвался в поход с мальчишеским нетерпением, повторяя свое любимое присловье: «Скорым-скоро, скорым-наскоро». Ему уже доводилось участвовать в войне, однако впервые стал он полковником — под его началом был его Звенигородский полк. Конно, людно и оружно пришел из Серпухова в Москву и Владимир Андреевич. Но если князь Серпуховской повиновался лишь долгу, хранил верность той круговой поруке, которой был теперь повязан он с Василием Дмитриевичем, у которого лишь был теперь простым служилым подручником, а не соправителем, как при Дмитрии Донском, то Юрик на правах старшего брата с видимым удовольствием командовал престарелым своим дядей.
— В великого князя играешь? — с ухмылкой, но беззлобно, понимающе сказал Владимир Андреевич. Юрик вспыхнул, собрался обидеться, но дядя вовсе уже дружески добавил: — Пока не вышли, можешь важиться, а начнем рать — без меня отвагу излишнюю не выказывай, потому как там будет жить или умереть…
Собственно, своим главенством Юрик кичился лишь для показа и лишь при матери да при Янге. Да еще, пожалуй, при изографе Андрее, который откровенно любовался и восхищался юным полководцем. Это ревниво заметил Василий Дмитриевич, даже сердиться стал. Не знал он, что, глубоко мирный человек, Андрей преклонялся перед людьми, способными на ратный подвиг во имя Отчизны, видя в этом выражение лучших свойств русского характера — душевной крепости и нравственной чистоты. Именно поэтому так люб был ему Дмитрий Иванович Донской, поэтому и так скорбел он по погибшему на поле Куликовом Пересвету… Поэтому и сейчас откровенно любовался Юриком, который легко, уверенно гарцевал на яром боевом коне, да и то: был Юрик прекрасен и юн, посеребренная кольчуга переливалась на солнце жемчугом, дорого поблескивали каменья, которыми были изукрашены меч, узда и седло, на ветру выбивались из-под золоченого шлема густые русые волосы — таким навсегда он запомнится Андрею…
Подготовке к скорому походу Юрик отдавался с такой истинной страстью, столь дотошно вникал во все, что и старые ратные люди вроде Серпуховского принимали его старейшинство без обид.
Оба полка размещались в Чертольском урочище[105].
Здесь же были кузница и мастерские. Юрик тут дневал и ночевал. Поначалу, правда, не все у него гладко шло, учился на ходу.
Пришел к мастерам, что лучные стрелы впрок готовили, спросил:
— Калена стрела?
— И каленые и коленые, — ответил старый оружейник.
— Как так?
— Копьеца — да, каленые, стальные. А древко, на которое они надеваются, клеим продольно из четырех коленых пластинок…
Узнал Юрик, что наколотые из выдержанной древесины пластинки долго просушиваются в печи на малом тепле, потом мастер тщательно выверяет их прямизну для однообразия полета. Бездумно выпускал он в уток да лебедей десятки, сотни стрел, а они, оказывается, вон как дорого достаются. И понял он песню, что слышал в великокняжеском дворце от домрачея Игната:
И в колчане было за триста стрел, Всякая стрела по десять рублей, А еще есть в колчане три стрелы, А и тем стрелам цены нет. Колоты оне из трость-дерева, Строганы те стрелы в Нове-городе, Клеены оне были клеем осетра-рыбы, Перены оне перьецом сиза орла.От Игната же, который в молодости был воеводой, услышал Юрик, что есть на свете дивной крепости и остроты меч— булатный[106]. Будто бы закаляют сталь особым образом: после поковки дают меч всаднику, который мчится с ним на коне во весь опор, держа лезвием вперед.
— Вот так, буестью, то есть струей воздуха, и охлаждается, — закончил Игнат.
— А тебе откуда это ведомо?
— Видел на Кавказе… А потом в наших старых книгах прописано, знаешь сам небось: «Ваю храбрая сердца в жестоцем харалузе скована, а в буести закалена»[107].
— В те времена, я слышал, у нас все белое оружие — мечи, копья, ножи, сулицы, а также и доспехи со щитами были не хуже, чем у кочевников, и лучше, чем во всей Европе.
— Верно, — согласился Игнат, — до татар у нас все было лучшим. И лошади тоже…
— И потом отец вывел было скоков, но сейчас опять свиньи, а не резвачи.
— Надо новый конский завод делать, разводить породы легконогих скакунов.
— Вот ужо скорым-скоро, скорым-наскоро!.. — с большой горячностью пообещал Юрик, а сам смутился бахвальства, нескромного, даже и преступного хода своей мысли, поправился: — Закончится рать, скажу великому князю… Если он не захочет, я в своем уделе разводить лошадей стану.
Всех удивил Юрик, когда придумал заготовить для пеших воинов деревянные лыжи, длинные и узкие, чтобы не проваливаться на глубоком снегу, но и двигаться скоро. В отсутствие Василия Дмитриевича, находившегося в Нижнем Новгороде, Юрик принял сам решение сделать мастерскую, в которой строгались из досок лыжи с острыми носами, загибавшимися затем при нагреве от пламени огня либо после распаривания в кипятке.
Свейский посланник, увидев, как на этих лыжах воины Юрика скользят по заснеженному льду Москвы-реки, признался:
— Нигде таких не видел… У нас в Скандинавии лыжи есть, но другие. Либо короткие и широкие, подбитые мехом, либо непарные — одна длинная, а другая короткая, чтобы ею отталкиваться… А чтобы так быстро ехать на них… И не видал, и не слыхал о таком…
— Это потому не видал, что недавно у нас. Когда мы на Булгары при отце ходили, такие вот уже делали. Я и вспомнил, — без всякого бахвальства ответил Юрик. — Теперь хоть через леса, хоть по болотам.
— Ну и Юрик, ну и дух! — восхитился Владимир Андреевич.
И великий князь одобрил, похвалил братца. Тот, чтобы скрыть смущение, нахмурился, спросил:
— А верно ли, что отец перед Куликовской битвой читал псалом «Бог нам прибежешь и сила…»?
— Да, «…скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей».
— Когда же выходить, брат? — спросил Юрик, лицо его было бледно, в глазах затаенный трепет.
— Надо дождаться Максима…
Максим был послан в Новгород московским полномочным послом, чтобы сообщить боярскому вече, что, в случае если новгородцы и впредь собираются утаивать дань и не являться на митрополичий суд, великий князь сложит свое крестное целование. Вернувшись в Москву, он сказал, что новгородцы стоят на своем и таким образом объявляют войну.
Накануне выхода из Москвы Юрик имел свидание с Янгой — тайное, украдкой, как она того захотела. Нежно просила его беречь себя в походе, говорила ласковые слова, а потом вдруг по тонким губам ее скользнула еле уловимая усмешка.
— Что ты? — обеспокоился Юрик.
Говорят, великий князь в полюбовницы какую-то девку силой взял… Будто в монахини она хотела идти, а он понял ее… Будто она косоглаза даже…
— Врут! — бездумно и горячо заверил Юрик.
— Что врут? Что — косоглаза?
— Нет… Врут вообще… Я не видел, я не слышал… И Софья Витовтовна мне ничего не говорила, она бы сказала… — Юрик смотрел в серые с голубыми крапинками глаза Янги и ловил себя на мысли, что впервые не только не сердится на Василия, когда заходит о нем разговор, но словно бы даже рад, словно бы какая-то тяжесть с его сердца спадает. Но побоялся сказать ей об этом, побоялся вновь лишиться вдруг народившейся надежды. И порадовался, что не сказал, когда услышал от нее давно чаемые слова:
— Ты люб мне, Георгий… — И тихо поцеловала его в щеку и перекрестила тонкими белыми пальчиками.
Утром Юрик прощался со старшим братом, испытывая к нему полное доверие.
— Так значит: «…не убоимся, хотя бы поколебалась земля…»? — спросил Василий, и Юрик пламенно продолжил:
— Да, да, хотя бы «…и горы двинулись в сердце морей». Брат, отныне я буду всегда твоей стрелой, куда пошлешь, туда и полечу!
Василий провожал взглядом уходившие по Ржевской дороге полки, повторял вполголоса тот псалом, что читал отец перед смертельной схваткой с Мамаем. Заметил и сам, что истовее всего произнес слова, рассказывающие о том, что Господь, «прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем». И загадал: «А может, и отец тоже это место больше всего любил повторять?»
4
Великая княгиня Евдокия Дмитриевна решила в это лето завершить строительство храма Рождества Богородицы в Кремле в честь победы своего великого мужа на Куликовом поле 8 сентября — в день рождения Пречистой. Сказала, что Андрей Рублев вернулся из дальних странствий и сразу же согласился вместе с Феофаном расписывать и украшать храм.
Василий порадовался:
— Значит, «образовался»!
Хотел немедля и повидать Андрея, но тут пошли из новгородской земли гонцы один за другим, понесли вести сначала ожидаемые и отрадные, но затем…
Торжок сдался почти без боя. Произошло это во многом благодаря той находчивости, которую проявил Юрик: из Волока-Ламского конные дружины пошли окружной дорогой, через Тверь, а пешие ратники на лыжах спрямили путь, через замерзшую Волгу, и вышли к Торжку с опозданием лишь на один всего день. Для защитников города появление большого войска было столь неожиданно, что они сразу же ударились в пополохи. Глядя на них, пустились в массовое бегство и стали искать покровительства Новгорода охранники и жители Вышнего Волочка, Бежецкого Верха, Телбовичей, Старой Руссы, Вологды.
Паника распространилась по всей новгородской земле. Победа была почти бескровной и, показалось, полной, окончательной. Во всяком случае, Владимир Андреевич и Юрик посчитали именно так и, оставив Максима в Торжке в качестве временного правителя, с трофеями и большим количеством пленных двинулись в обратный путь. Шли вборзе, стремясь быть дома к Пасхе.
И как раз в Светлое Христово воскресенье все и произошло: под вечер того великого праздничного дня разгулявшиеся торжокцы, вспомнив недавно перенесенную от москвичей обиду и подстрекаемые новгородскими сторонниками, предали мученической смерти великокняжеского боярина Максима.
А следующий гонец сообщил, что новгородцы не только не смирились, но сами пустились в разбой: охочая рать их захватила и сожгла Великий Устюг, Кличень, Белозерск…
Уточнял очередной скоровестник, что новгородцы в столь слепой ярости грабят города Московского великого княжества, что не щадят даже и святых храмов, обдирая иконы и книги церковные, пытают богатых людей, желая узнать, где спрятаны их сокровища, пленяют крестьян, вылавливая их в лесах, и, наполнив добычею множество ушкуев и насадов, сплавляют все вниз по Двине.
И это еще было не все среди горьких вестей с окраин государства: сообщили Василию, что предводительствует разбоем, кроме князя Романа литовского, воевод новгородских Тимофея Юрьевича, Юрия Онцифоровича, Василия Спицы, Тимофея Ивановича, Ивана Александровича, еще и князь Константин Иванович Белозерский, который был всегда подручником государя московского, да вот вдруг переметнулся к злостному неприятелю! Измена всегда отвратна, но всегда имеет какие-то причины. А чем объяснить, что юный князь в переветничестве своем не пощадил даже памяти отца Ивана и деда Федора, которые пали в славной битве на поле Куликовом?.. И не эта ли разгоревшаяся междоусобная брань подвигнула новгородского летописца напророчествовать: «Скует же копие свое брат на брата… и сулицею прободает сродник сродника»?
Собирался Василий Дмитриевич поначалу постращать новгородцев, потом хотел покарать походом, теперь же решил вести борьбу на уничтожение. Он удвоил военную рать, и на Радуницу, в день поминовения усопших, Юрик с Владимиром Андреевичем повели вновь на север четыре полка — Московский, Коломенский, Звенигородский и Дмитровский.
Великий князь поначалу решил сам возглавить поход, но тут случилось горе в семье — преставился брат Иван с нареченным иноческим именем Асаф.
Хоть и знали все, что болезный он, что не жилец, однако Евдокия Дмитриевна все равно убивалась, да и Василий не сдержал слез. Положили братца у Святого Спаса в монастыре, проводили на вечный покой в ангельском чине, и тогда Софья Витовтовна помирать собралась — опять разродиться не может. Лекари выходили ее, но новорожденный Георгий столь худо из себя выглядел, что вряд ли можно было предсказывать ему судьбу более счастливую, чем Ивану[108].
Андрей Рублев перехватил великого князя на паперти Успенского собора. Василий думал, что он о строительстве храма Рождества Богородицы хочет что-то узнать, думал отговориться на ходу — де, потом, потом, сейчас недосуг, но Андрей встал на пути, не пустил. Взгляд мученический, бледное лицо, столь исхудавшее, изможденное, что Василий невольно воскликнул:
— Ты как с креста снятый… В пост так изнурил себя?
— Не то, государь! Ты зачем Живанку обидел?
— Это присуху Пысоя, что ли? Так он же монах, зачем она ему?
— Она Христова невеста была, а ты изнасильничал.
— Нет, Андрей, — невольно стал оправдываться Василий, — она не постриглась еще тогда… Разве что сейчас…
Андрей смотрел в упор и молчал, на высоком и чистом челе его нервно пробивалась голубая жилка. Повернулся и медленно пошел прочь, и даже в обтянутой черной рясой чуть ссутулившейся спине его читалось осуждение. Василий хотел остановить его, окрикнуть, что-то объяснить или потребовать, но в последний момент поостерегся: а ну как Рублев даже и не оглянется на зов великого князя?
Мрачнее тучи явился Киприан, сообщивший:
— Доброхот скорбную весть с моей родины принес. Амуратов сын Челябий Амиря Турский взял землю болгарскую и славный город Тернов. Царя, патриарха, митрополита с епископами пленил, мощи святых пожег и соборный храм в мизгит — церквище варварское — претворил.
— Что агаряне христианский храм в мечеть превратили — не диво… А вот потомок князей Белозерских Константин в Великом Устюге православные церкви сквернит — это каково?
— А я и говорил тебе еще в Нижнем, что мягок ты, добр излишне. Государь не должен потворствовать беззаконию.
— Молчи, святитель, не сыпь на раны соль.
Василий Дмитриевич продиктовал дьяку текст грамоты к Юрику и Владимиру Андреевичу, в которой предписывал схватить и доставить немедля в Москву не только убийцу Максима, но и всех причастных к этому, как много бы числом их ни оказалось.
Приказ великого князя был исполнен очень скоро: на Троицыну родительскую субботу привели из Торжка в Москву семьдесят закованных в железо злодеев.
5
Дважды заметил Василий, что Рублев избегает встречи с ним — сначала прошел потупившись, не подняв глаз из-под низко надвинутого куколя, второй. раз вовсе перешел на другую сторону Соборной площади. Василий досадовал и не знал, как вернуть расположение любезного его сердцу изографа, но тот, видно, сам понял, что невместно же великому князю искать примирения с черноризцем, первый повиниться решил, подошел после великого славословия в день отдания праздника Пятидесятницы, спросил, волнуясь:
— Скажи, государь, правдива ли молва по Москве идет, будто решил ты семьдесят православных людей убить? — Спросил и замер, глядя в упор своими глубоко утомленными и потому кажущимися темными глазами. Василий уже привык к его обычаю вот так внезапно замыкаться, погрузившись в свой мир или словно бы сожалея о сказанном и ожидая подтверждения своим словам. И не мог, конечно, не увидеть Андрей, как тень неудовольствия и огорчения пробежала по лицу великого князя — не тех, знать, слов тот ждал…
— Убивают убийцы, а я разве похож на него?
— Если совершишь убийство, то станешь им.
— Нет. Я совершу казнь. Это не убийство, но на казанье.
— Лишить жизни — это убить.
— Убить можно человека, а если лишают жизни преступника — то будто возмездие.
— Что же, по-твоему, это справедливое воздеяние — лишить жизни стольких людей?
— Это мщение! А месть должна превышать преступление и предупредить новые! И сам Христос не запрещал казнить преступников…
Андрей не стал больше пререкаться, опять, как давеча, ушел с молчаливым осуждением. Своими напористыми вопросами он нимало не поколебал Василия, который все хорошо уже обдумал, принял решение, твердое, одобренное боярами, освященное митрополитом. А самая надежная мера была в примере отца: он ведь не поколебался совершить в Москве первую публичную казнь!.. Василий помнит, как возражал Митяй: говорил, что жизнь — это благо, дарованное от Бога, и прекращение ее зависит только от воли Творца, а не по усмотрению человека, хоть бы и великого князя. Но отец резко отповедал своему ставленнику в митрополиты — сказал, что Господь человеку даровал не единую лишь жизнь, но многие блага и радости, мы распоряжаемся ими по-своему, без ведома Творца.
Митяй, слывший речистым священником, книгам и грамоте гораздым, много еще разных противлений смертной казни Ивана Вельяминова высказал, но отец сказал, как запечатал: «Я задам урок вам, кто покусится впредь предать дело Русской земли». Мал был тогда Василий, но очень хорошо все разумел и запомнил.
Бестрепетно принял Василий Дмитриевич решение, не сомневался в нужности и необходимости его, однако в иных его словах и поступках окружающие могли рассмотреть малодушие либо робость, да и сам он временами переживал чувство некоей греховности затеянного предприятия. Оттого, может быть, и исполнение казни самой откладывалось со дня на день по причинам разным и неожиданным.
Он велел позвать к себе Тебриза после захода солнца. Почему в столь поздний час, когда все дела державные исполнены, он и сам бы не мог сказать — само собой почему-то разумелось, что эту бесед с с этим человеком надо вести не при свете дня.
Тебриз сидел у стола прямо перед многосвечовым шандалом, в немигающих глазах его отражались трепещущие язычки огня. Иногда он вздымал на столешницу руку, и тогда рубин на его перстне излучал кровавый, тревожный свет.
— Тот самый яхонт-то?
— Тот самый, княже..
— А говорил — «проел»…
— Говорил потому, что знал, все равно ты не поверишь…
Василий сидел в кресле, чуть смежив веки, готовясь к главному разговору. Челядин разлил в чаши сыченый мед, снял нагар со свечей и бесшумно удалился.
— Пей! — предложил Василий и сам пригубил душистый хмельной напиток.
Тебриз заметил в своей чаше какое-то насекомое, кажется, то была пчела. Подумал, как бы незаметно выудить ее пальцем да куда-нибудь спровадить, но не решился, боясь испортить хорошо начавшийся разговор с великим князем. «Маленькая», — успокоил себя и проглотил мертвую тварь без гримасы, только чуть задумавшись отрешенно и прислушиваясь к тому, как прошла она внутрь.
— Днями устроим на Кучковом поле прешумное празднество…
Тебриз кивнул лохматой головой.
— В древности, рассказывают, любимое народное зрелище было растерзание зверями преступников… У нас нет ни тигров, ни львов… Собаки злы но малы, только покусать могут.
— Злые люди нужны? — на поклеванном оспой лице Тебриза родилась довольная улыбка.
— Я знал, что ты сметлив…
— Готов хоть сейчас головы супостатам рубить — Тебриз был явно рад веселому дельцу.
— Нет, нет, тебе нельзя! — Василий нахмурился, добавил с неудовольствием: — Ишь, как у тебя губу-то разъело — православный народ изводить. Мне нужны свои…
И опять Тебриз все понял с полуслова.
— Верно, верно… У евреев казнь вершат царевы отроки, военачальники, родственники потерпевших.
— Но мы не евреи, у нас будут казнь делать желающие простолюдины. А ты их отыщешь в Москве. И научишь делать четвертование.
Тебриз и на это согласился с сиюминутной готовностыо и даже, кажется, сразу же и включился в дело — стал перебирать в памяти знакомых людей, взгляд его стал отсутствующим, но тут же он и спохватился:
— Серебро нужно… Не мне…
— И тебе тоже.
— Ну да, — согласился бездумно Тебриз, опять, видно, уже переключившийся на поиск мастеров, умеющих разрубать человека на четыре части. Он понимал, что надо искать их среди людей завистливых, жадных, раздраженных и разуверившихся, жаждущих власти, благ, славы, — через низменные страсти легко вцепиться в душу человека, надо только вывести его из равновесия, поселить в нем страх или вызвать жадность, а когда он будет в твоих руках, дать ему деньги и надежду на будущее еще благоденствие.
— Душа человеческая тридцать сребреников стоит.
— Столько и получишь, — с едва сдерживаемой брезгливостью сказал Василий. — Иди, а завтра приведешь людей к боярину Беклемишеву.
Тебриз раболепно припал губами к руке великого князя, пошел к двери легкой, пружинистой походкой хищного зверя.
Василий подошел к окну, отпахнул створку рамы. Свежий ветерок донес с Москвы-реки прохладу. Василий высунулся в окно по пояс. Возле красного крыльца стояли стражники. Один из них держал над головой факел, огонь в чаше метался на ветру, неровно и ненадежно освещая мощенную дубовыми плахами площадь перед Успенским собором. Два других охранника медленно прохаживались вдоль стены, позвякивая оружием. За кремлевской стеной процокал копытами по сухой жесткой дороге верховой всадник, затем протащилась упряжка, несмазанные колеса телеги создавали далеко окрест разносящийся скрип.
Василий сердито захлопнул окно и прошел через сени в летнюю повалушу. Хотя было темно, но ему казалось, что он видит яркие картинки на стенах, нарисованные Андреем. Вот тут, у окна, яблоко боровинка, как настоящее, даже съесть его хочется. Но сейчас же и легкую досаду пережил, вспомнив Андрея с его упреками и неудовольствием. Подумал тут же, что досадует не только на Андрея, но и на себя самого: зачем сказал Тебризу про четвертование — удивить хотел его, что ли, ведь думал до этого, что казнь будет обыкновенная, как при отце?.. А раз сказал, то нельзя уж назад подаваться. Что думает, интересно, на этот счет митрополит, он должен бы одобрить такую решительность, ведь эта жестокость ради большей острастки живущим…
Василий обогнул красное крыльцо и пошел к митрополичьим палатам, нужно ему было получить одобрение Киприана немедленно, прямо сейчас.
Ворота Кремля еще не были заперты, тут и там толкались беспокойными кучками люди, говорили с опаской — как видно, об одном говорили: о предстоящих казнях.
Об этом же разговор и у Киприана шел. А вели его явившиеся к нему монахи — Андрей Рублев да Епифаний Премудрый. Завидя великого князя, они осеклись было, но затем, поощряемые митрополитом, продолжили беседу. Василий слушал их, не вмешиваясь.
— Заповедь «Не убий» главная в том декалоге, — говорил Епифаний, продолжая, как видно, разговор о библейском десятисловии. — Однако потом в Пятикнижии Бог разрешает израильтянам нарушать этот запрет… Взять хоть Второзаконие… Если новобрачная оказалась не девственной, то «пусть отведут отроковицу ко входу в дом отца ее и побьют ее люди города ее камнями и пусть умрет она за то, что свершила срамное дело в Израиле». Как же так?
— Не токмо отроковицу, — невозмутимо отвечал Киприан. — Израильский бог требует убить непослушного сына, убить человека, который «нарушал субботу» и в этот священный день собирал дрова… Но не знаешь разве ты, Епифаний, что убивающий поражает мечом более себя самого?.. В самом деле, какое зло причинил Авелю Каин? Ему против воли ускорил вход в царствие небесное, а себя подверг бесчисленным бедствиям. Бог подверг ведь не Авеля, а Каина страшному наказанию, после убийства никто ведь не сможет сказать: я убил человека и никого более не боюсь!
И тут все трое, словно сговорившись, обернулись к великому князю, словно бы испытывая: как он на эти слова отзовется?
Василий Дмитриевич принял вызов, прошел степенно к тяблу, молча помолился на икону Спаса Нерукотворного. Указывая на него десницей, проговорил:
— Всяк сущий Его кровью искуплен. Много думал я: проливая кровь человека, разве же не проливаем мы кровь Христа нашего? И никто не мог мне дать ответ. Только один Сергий вразумил. — Василий боковым зрением увидел, как при этих словах ворохнулись Андрей и Епифаний. Потомил молчанием, истово молясь Спасителю, закончил: — Сказал мне наш русский чудотворец, что поразить врага не доблесть и не радость, но долг, ибо силу зла в любой форме должно уничтожать. И укрепился я на этом.
— Сергий — зерцало духовной жизни нашей. Епифаний большой труд взял на себя — житие его написать, и я на труд сей его благословляю. — Киприан торжественно перекрестил Епифания, а заодно и Андрея, тем дав им знак уйти. А они и сами чувствовали, что неспроста пришел великий князь к митрополиту и не рад вовсе тому, что их тут застал.
Когда остались вдвоем, Василий сказал без обиняков:
— Четвертовать я решил убийц Максима, дабы других недругов устрашить.
Киприан, по обыкновению, ответил витиевато, так что по-всякому можно было понять его:
— Латиняне на костре сжигают… Варяги и древние греки да римляне жгли преступников. В Европе сейчас не только четвертуют, еще и колесование есть, кипячение в масле или в вине на медленном огне… На Востоке на кол сажают.
— Значит, согласен ты с моим решением?
— Мы отвергаем только одну казнь — распятие на кресте, самая мучительная и долгая смерть…
— Мы не можем распятия допустить из-за благочестивого нашего воспоминания о смерти Спасителя…
— Истинно, истинно, великий князь!
Который раз, заканчивая разговор с Киприаном, думал про себя Василий: «Ну и склизкий же ты, владыка, прямо как линь!»
Возвращаясь в свой дворец, он прислушивался к долетавшим с посадов и подола звукам, чудилось ему, что Москва словно бы в осаде вражеской находится или будто бы те семьдесят, что в порубах закованными в железа сидят, опасность представляют, могут вдруг взбунтоваться, беду городу принести.
6
Наутро тысячеустая молва уже разнесла по городу: четвертовать будут все семьдесят человек. Количество смертей было столь неслыханно большим, а способ умерщвления столь неслыханно ужасен, что в вероятность этого никто и верить не хотел. И в дружине зодчих и изографов, что исполняли заказ великой княгини Евдокии Дмитриевны, никто в это не верил.
Закладку храма еще позапрошлой осенью осветил митрополит Киприан: выкопал лопатой ямку, окропил ее святой водой и положил первый камень возле старой деревянной церкви Воскресения Святого Лазаря, которую Евдокия Дмитриевна решила непременно сохранить как знак возрождения, воскресения страны после 8 сентября 1380 года и которая должна была стать приделом нового каменного храма Рождества Богородицы. Загодя были найдены мастера каменного дела, которые обустраивали Москву еще с 1367 года, когда Дмитрий Донской решил ставить новый Кремль. Затем пришли званые зодчие из Владимира и Суздаля. Московские каменные здатели способны были строить только маленькие церкви, подражая уцелевшим древним храмам. Но, создавая такие же формы и используя тот же материал — белый камень, они вели кладку столь непрочно, а своды возводили столь медленно, что даже и главный московский храм Успенья несколько раз рушился и нуждался в постоянном ремонте. А во владимиро-суздальской земле жили потомки тех немецких зодчих, которых подарил Андрею Боголюбскому германский король Фридрих Барбаросса. Узнав об этом, Евдокия Дмитриевна и решила позвать их, потому что хотела построить храм красивым и прочным, достойным памяти великого мужа и одержанной им знаменательной победы на поле Куликовом.
Потомки великих мастеров цену себе знали, повели себя сразу же очень важно.
— Ставить будем храм или создавать? — спросил один из прибывших, старший по возрасту и, очевидно, главный.
Евдокия Дмитриевна спокойно, но вразумительно ответила:
— Я звала здателей — зодчих, умеющих создавать здания, а деревянные церкви ставить у нас многие горазды.
Здатели намеревались закабалиться на три лета, получая в год по тысяче гривен серебром. Евдокия Дмитриевна на денежный их запрос не стала возражать, но вот срок строительства ее не устроил, она желала бы закончить все в два лета. Сказала, что московские каменщики уже выполнили работы по ломке, грубой околке и доставке белого камня, уже обжигается известняк, гасится известь, готовится раствор, отрыт и уже засыпается котлован, кладется бутовый фундамент, устраиваются леса и кружала. Здатели, однако, продолжали набивать себе цену и, узнав, какого размера и высоты храм хочет иметь великая княгиня, начали сетовать, что уж очень тяжело будет наверх камень таскать. Однако и тут Евдокия Дмитриевна нашлась с ответом:
— Умелые здатели каменья вверх не носят, но сотворят колесо и возвлекают все тяжелое ужищем… И вверху цепляют малые колесики, еже плотники зовут векшею. А как у немецких мастеров они прозываются?
Здатели замялись, не умея ответить, а присутствовавший при этом разговоре Феофан Грек, который обещал Евдокии Дмитриевне не только иконы для храма написать, но и стены изнутри украсить, спросил разочарованно:
— Зачэм нэмэц?! Пыл я у нэмэц в храме, пыл… Службу творят хорошо, но красоты не увидел никакой. Люччий мастер — свой, русич. — Феофан по-прежнему калечил русские слова, особенно если был возбужден. Успокоившись, говорил уже и рассудительнее, и чище, без сильного акцента. — Я видел Покров на Нэрли, зрел Дмитровский собор во Владимире. Нэт ничего лючче ни в каких странах.
— Конечно, — согласно молвила великая княгиня, — только на русской земле такая красота могла возникнуть, в этих храмах — сама душа нашего народа.
— Вэрно, вэрно! Я молился на храм, что на берегу рэчки Нэрл. Нэт, нэ скажу, что храм этот болше константинопольской Софии или римского Павла, нэт… Но никогда и нигде нэ переживал я такого волнения. Я опустился на колени, чувствовал, что весенняя земля мокра и холодна, но нэ мог отвести зраков своих… Церква та ровно бы и нэ руками человека сотворена, стройность и ясность божественные[109].
И тут пришлые зодчие со смущением признались, что никакие они не немцы, а выдавали себя за таковых из боязни, что великая княгиня не возьмет их. Оказалось, что прапрадед одного из них работал с мастером Аввакумом в Юрьеве-Польском на Георгиевском соборе, по точному подобию которого через сто лет построен был в Москве Успенский собор, а дальний предок другого — мастер каменной хитрости Авдий резал камень для церкви в Холме. Им, как и Феофану Греку, как и великой княгине, были известны и дороги великие образцы русского зодчества, однако не до Дмитровского. собора, не до Софии киевской или новгородской было сейчас, иные времена переживала Русь, иные и цели были у нее. Повсюду ставились одноглавые четырехстолпные или шестистолпные храмы, стоявшие прочно на своих кубах, словно бы вросшие в землю. Ни лестничных башен, ни галерей, ни полосатой, декоративной кладки. Главное — внушительность облика и непроницаемость стен. Завершал облик храма-твердыни купол, похожий на шелом богатыря.
Суждено было и этому храму Рождества Богородицы стать одноглавой четырехстолпной крестовокупольной церковью. Окна в виде щелей, словно крепостные бойницы, однако же на западной стене пробиты были оконца и круглые, словно розетки о восьми лепестках. А кроме того, сумели мастера кое-где не только излюбленное русское узорочье подвести, но так сделать, что весь облик храма обрел некую стройность и законченность, с какой бы стороны на него ни смотреть.
Феофан Грек долго осматривал находившееся еще в лесах и кружалах здание храма, отметил, что, хоть и грузно оно, приземисто, видна в нем красота силы, красота могучей простоты. И обронил будто бы про себя, но так, чтобы слышали зодчие:
— Нет, не от немца это здательство…
Мастера дружно подтвердили его слова и, высказывая давнюю, видно, обиду отцов своих и дедов, рассказали, что немецкие каменотесы, называвшие себя «вольными каменщиками», в сугубом секрете держали свое искусство, ни записей никаких не делали, ни изустно ничего не растолковывали, а между собой сообщались какими-то тайными знаками.
Евдокия Дмитриевна поначалу собиралась украсить новую церковь одними только иконами. Любила она до слез эти образы сияющей красоты: сколь много бессонных ночей провела она в своей трудной жизни государыни и жены, а затем матерой вдовы перед одиноким дивно расписанным ковчегом иконы, которая властно приковывала к себе ее взгляд, просветляла и обнадеживала неслышными посулами, утешала и укрепляла духом. Но не только одной этой своей сердечной привязанностью к иконам руководствовалась она: обходиться лишь иконами уже стало привычным на Руси, где каждые девять из десяти церквей были деревянными, а стало быть, делали невозможной живопись по свежей, сырой штукатурке. Но каменный храм Рождества Богородицы можно было украсить и фресками — если уж не драгоценной мусией, то хоть стойкими красками изобразить на стенах и сводах деяния святых, лики ангелов, мучеников, иерархов.
Андрей и Феофан неспешно прохаживались по свежеуложенным плиткам пола, прикидывали, размышляли, иногда тихо спорили. Андрею нравилось, что зодчим удалось сделать свод столь искусным образом, что в нем был какой-то чудный отголосок — сокровенно отзывались даже тихие слова. А Феофан считал, что храм должен строиться так, чтобы эхо подгоняло идущего человека, словно бы сзади еще кто-то следом шел.
— Зачем? — не понимал Андрей. — А как же тогда сосредоточиться в молчании, углубиться в себя, если кто-то тебя сзади понуждать будет…
— Нет, тарагой Андрэя, жизнь коротка, торопиться надо!
С тем оба согласились, что интерьер храма у мастеров удался не хуже, чем внешний облик. Конечно, это не константинопольская София, где купол производит впечатление чуда: в каком бы месте ты ни стоял, взор твой тянется непременно ввысь, к единому центру величавого здания, однако и войдя в малый храм Рождества Богородицы, человек невольно остановится и вознесет взгляд свой к куполу.
Дело теперь за изографами, их хитрость должна завершить начатое…
А слухи о казнях все полнились, все настойчивее ходили по Москве. Говорили, что из семидесяти человек иные уже дух испустили — задохлись в тесных порубах. Не готова оказалась Москва столь много преступников одновременно в темницах и погребах содержать. Разные слухи ходили и о месте казни. Говорили сначала, что великий князь велел лобное место на торговой площади возле Кремля сделать, а потом будто бы передумал, велел казнь вести в урочище Кучково поле, где некогда стояли красные села и слободы боярина Стефана Ивановича Кучки, чьи сыновья принимали участие в убийстве Андрея Боголюбского, а может быть, даже организовали это злодейство. На том поле Дмитрий Иванович Донской учинил первую публичную казнь изменнику земли Русской…
Андрей с Феофаном стояли в пустом храме, без слов понимали друг друга… Тако жизнь пестра, подобно жнивью под облаками, ветром гонимыми. Строили храмы новые, чтобы душа взор лила горе, и собирались семьдесят душ допрежь срока с телами разлучить, судя их судом человеческим, а не Божиим. И все это была жизнь единая, неразделимая, высшим произволением данная, человеческой волей творимая.
Полагали изографы, что Василий Дмитриевич не может никак решиться и потому затягивает окончательный приговор. Не знали они, что великий князь для вящей острастки пригласил на торжественное событие князей и бояр из всех уделов. И вот шли и ехали к Кремлю по дорогам, посадам и улицам Москвы смоляне по Волхонке и Знаменке, волоколамцы по Никитской, тверяне по Тверской, ярославцы по Лубянке, владимирцы и суздальцы по Покровке, серпуховцы через Замоскворечье по Ордынке и Полянке, калужане по Якиманке.
Большое празднество задумал учинить наследник Дмитрия Донского. А известный всей Москве юродивый разносил свою новость:
— На Сивцевом Вражке баба родила младенца с петушиными ногами… «Завтра Страшный Суд грянет!» — изрек тот младенец и тут же помер.
7
Феофан Грек писал главную, храмовую икону. Дивились все, кто видел его работу, Андрей созерцал благоговейно: истинное чудо вершилось на его глазах!
Письмо непревзойденного Феофана властно увлекало человека через видимый образ к неведомому величию Божества, одухотворяло и возвышало молящегося. На гордом золоте фона слепила голубизна одежды, словно бы сотканной из сияния небесной глубины, простая охра, коей выписан лик Пречистой, обрела пленительную нежность. Феофан, по обыкновению, писал образ не по подлинникам, не по образцам, а так, как ему представлялось. Изобразил он Деву Марию одну, без дитяти, не так, как привычно это видеть на всех богородичных иконах, начиная с Владимирской Божией Матери, написанной святителем Петром[110].
На иконе Феофана она стояла с воздетыми к небу руками.
Андрей видел в Новгороде в Софийском соборе Знамение — Божья Матерь там тоже держит руки перед собой. Восхищался он боголюбивой, написанной по велению князя Андрея Боголюбского такой, какой она привиделась ему — со свитком и молитвенно поднятыми руками, прижимающая благословенного Христа Спасителя[111]. И столь же древнего письма Ярославская великая панагия Оранта, Предстательство Пресвятой Богородицы за мир[112] вспоминалась Андрею, когда смотрел он на Марию, написанную Феофаном, только ни на одну из предшественниц нимало не походила она.
Художническое своеволие на его иконах принимал Андрей уже без былого недоумения, с пониманием тайны изографического искусства — новое, иное откровение поражало его сейчас.
Мария на иконе Феофана не была ни отвлеченной, малопонятной евангельской матерью, родившей Иисуса без зачатия ни простой земной женщиной — женой плотника Иосифа, но воспринималась истинной матерью всего сущего: это была такая понятная каждому славянину с языческих времен и по сей день дорогая и незабвенная Берегиня, предшественница Перуна и даже самого Рода с Роженицами!
Если раньше озадачивался Андрей тем, дана ли Феофану способность самолично лицезреть горние силы, то теперь его как мастера восхищало умение Грека тонко почувствовать и отразить в символах самое сокровенное и трепетное в судьбе того народа, среди которого он жил, для которого творил. Этот народ нуждался сейчас в бережении, в сохранении того, что легло в основу русской народности, что осознал он и оценил, вернувшись с Куликова поля. И неслучайное тут совпадение: можно рассмотреть на иконе, кроме самой Берегини, и берег жизни, и трепетную березу — священное дерево славян, обязательную принадлежность летних молений о дожде — в семик да Троицын день, а в языческие времена четвертого июня.
Андрей спросил без обиняков:
— Где видел ты такую Пречистую Деву?
Феофан все сразу понял, ответил с полным прямодушием:
— Гдэ же больше… как нэ на Руси! Трыдцать лет уже живу здэсь. И в Новограде, и в Вологде я пыл, там таких дэф с ангельскими крыльями зовут Берегинями[113]. — Феофан неспешно прошелся, по обыкновению, от окна к западной арке храма, придирчиво глянул на доску, вернулся уже более скорым шагом и положил ярко-красный широкий мазок (он выписывал башмаки на ногах Марии). Затем подошел снова к Андрею, продолжил тоном большой искренности: — Ты ездил образовываться в Царьград, на Афон… Но, тарагой Андрэя, тэбе там нечему учиться… Нэ веришь?
Андрей верил вполне, ибо сам понял во время поездки, что никаких тайн изографического мастерства для него уже нет и никто из византийских мастеров не мог писать лучше, чем умел он сам, однако не стал говорить это, лишь возразил уклончиво:
— Я не зря ездил…
— Во-о… И я нэ зря в Новограде и Вологде пыл. Вы чтите одного русского мастера, инока Печерского монастыря Алипия. Я пыл в Кыеве, видал его доски, хороши!.. А в Новограде какие русские мастера писали, знаешь ли ты, Андрэя?
— Сежир, Радио…
— Вэрно… А еще чудные изографы Георгий, Олисей, Стефан, Микула… Эт-то у них я Берегыню-то подглядэл…
— А началась война с Новгородом, ты и вспомнил? — подсказал Андрей. Для Феофана такой оборот разговора оказался неожиданным, он смотрел на Андрея в упор, в черных глазах его было удивление И некая даже растерянность, он долго собирался с ответом, подбирал, видимо, нужные слова, однако произнести их не успел — в дверном проеме храма появился юродивый и заблажил страшным голосом:
— Обаче всуе мятется всяк человек живый!..
От неожиданности ли, предчувствуя ли недоброе, Андрей чуть пошатнулся и прислонился плечом к стене, почувствовав через тонкую ткань рясы холодок и колючесть камня. И Феофан опешил, не стронулся с места и не пошел, по обыкновению, прочь от расписываемой доски, сделал неверное движение кистью — под башмаком Марии получилось красное пятно, словно бы лужица крови.
Тут же рык трубы ворвался в храм и отозвался эхом в куполе его. Изографы вышли на паперть. Глашатай сидел на высоком рыжем коне, кончив трубить, объявил:
— Великий князь начинает казнь преступников. — Заметив на себе тяжелые взгляды монахов, добавил от себя уже: — В велием гневе государь.
— Будь проклят гнев его, ибо жесток! — выговорил Андрей страстно.
Глашатай не расслышал или вид такой сделал, стеганул плеткой коня по крупу, развернулся и помчался галопом в сторону солнца, скоро скрывшись в розовой пыли.
— Аз есмь червь, поношение и презрение, — гундосил юродивый. — От всех беззаконий моих избавь меня, поношение безумного дал ми еси…
— Надо к великой княгине, к Евдокии Дмитриевне, — горячечно проговорил Андрей.
— Вэрно, она нэ допустит! — уверен был и Феофан.
Но великая княгиня была уже на Кучковом поле. Она и Софья Витовтовна сидели в специально принесенных, обитых рытым бархатом креслах рядом с Василием Дмитриевичем, по приказу которого началось четвертование: приговоренным к смерти отсекли руки, затем ноги и в последнюю очередь головы, чтобы выставить все это на четырех дорогах…
Киприана они нашли в митрополичьей церкви, где он истово молился, опустившись на колени. Услышав за спиной шум шагов, не поднялся, лишь скосил голову. Понял сразу же, почему пожаловали к нему изографы, упредил их благочестивыми размышлениями:
— Горе нам, что мы оставили путь правый. Все хотим повелевать, все быть учителями, не быв учебниками. Новоначальные хотят властвовать над многолетними и высокоумствуют. Особенно скорблю и плачу о лжи, господствующей над людьми. Ни Бога не боясь, ни людей не стыдясь, сплетаем мы ложь на ближнего, увлекаемые завистью. Лютый недуг — зависть: много убийств совершено в мире, много стран опустошено ею… Приобретем братолюбие и сострадание. Нет иного пути ко спасению, кроме любви, хотя бы кто измождал тело свое подвигами — так говорит великий учитель Павел. Кто достиг любви, достиг Бога и в нем почивает… — Произнеся это ровным нравоучительным голосом, Киприан снова повернулся к иконам, снова стал истово молиться, гулко стукаясь лбом о дубовые плашки пола: замаливал великий грех, который взял он на себя, как и обещал великому князю…
8
На Самсоновом лугу за Москвой-рекой[114], где пасли лошадей великого князя и косили сено для его конюшен, кто-то зажег оставшуюся на корню подсохшую траву, и теперь желтый дым застилал весь окоем, а потушить огонь никто не торопился, не до того всем в Москве было: который день уж шли на лобном месте казни. Весь привычный уклад жизни в Москве вдруг нарушился, больше стало в Москве озорников и бесчинников, вольготно чувствовали себя блудники, прелюбодеи, резоимцы, ротники, клеветники, поклепщики, лживые послухи, нечистые на руку корчемники, тати, разбойники и грабители. Там, глядишь, подрались двое-трое, у кого-то бороду выдрали либо ус, кому-то зуб выбили или нос расквасили — раньше бы вмешался народ, а сейчас — ладно, пусть их, до них ли, когда головы с плеч летяг, руки-ноги живым отсекают… Свели со двора у мужика лошадь, он признал ее у заезжего купца, а тот говорит: «Купил я ее». Надо бы разобраться, да опять некому: княжеские и боярские тиуны вовсе перестали заниматься судами да тяжбами, не оправляли виновных людей. Бобров безнаказанно стали красть из силков, знаки стирать на бортяных деревьях, выдирать из дупла диких пчел с медом, ломать охотничьи перевесы, резать и красть скотину, угонять от пристанища лодки, воровать одежду, оружие, да вот еще и княжеский даже луг подожгли.
Евдокия Дмитриевна вняла мольбам монахов-изографов и попыталась смягчить заболевшую душу сына — да, она не считала Василия жестоким, но находила глубоко несчастливым и нездоровым.
Как всякая честная вдова, как вообще всякая женская личность Руси того времени, по смыслу своего общественного положения была Евдокия Дмитриевна постницей и пустынницей, хотя и не жила в монастыре. Терем ее после смерти мужа стал кельей черницы, и в черничестве заключался смысл ее существования, ее истинное призвание. Она ходила пешком к Сергиевой Троице, долгие часы проводила в Переяславле у гроба преподобного Никиты и у честных его вериг, молила всех святых и угодников быть благонадежными ее ходатаями к Богу.
Сначала незабвенный образ мужа был предметом ее истовых заклинаний, а потом все больше скорби и заботы стал вызывать старший сын, первенец ее Василий. Не материнскую радость от успехов и благополучия его вызывал он, но постоянные и крепнущие тревожные предчувствия. И ни лучика надежды не просверкивало: она слишком ясно видела, что в этом неустроенном, озлобленном завистью и застарелой враждебностью мире нельзя ждать успокоения. Когда в набережных сенях, где стоял княжеский престол, Василий принимал иноземных посланников или давал в средней горнице пир в честь дорогого гостя, она не могла сдержать слез — сначала были они от радости и гордости за сына, а потом от сознания быстротечности и зыбкости этого благополучия, от сознания, что безопасности нет и не может быть в этом страшном житейском море предательств, мести, коварства, что не наступит никогда время простых, обыденных забот, время благоденствия и неубывающей радости. Нет, лишь новые семена вражды и раздора приносятся в Москву отовсюду, семена эти дают все более сильные побеги в юном, неокрепшем сердце Василия. Вот и эти ужасные казни…
Вечером первого дня она пришла в Архангельский собор к раке покойного мужа, пала перед ней на колени, взмолилась, обращаясь то к архангелу Михаилу, то к Дмитрию Донскому со слезной просьбой образумить и исцелить сына ее Василия. Не сразу заметила, что к молитве ее присоединились тихо вошедшие в храм монахи-изографы Феофан и Андрей.
Когда все трое в скорбном молчании покидали храм, Феофан приостановился на железной плите у порога, показал кивком на роспись, которую сделал он по заказу Евдокии Дмитриевны на стене прямо над гробницей Дмитрия Ивановича: яркими красками изобразил белокаменный город Москву со многими подробностями — с кремлевскими стенами и башнями, с храмами и монастырями, с дворцами и посадами.
— Однако надо было минэ Кучково поле киноварью сдэлать…
Евдокия Дмитриевна все поняла. Когда вышли на взгорок южной кромки Кремля, молвила виновато:
— Я все уже слова, которые знаю, сказала ему. Только одно он, несчастный, в силах был мне пообещать: не мучить болью их, сперва головы рубить…
Она хотела уйти во дворец, но Андрей остановил ее:
— Великая княгиня, не гневись, но работать в храме мы не будем, пока кровь христиан будет понапрасну литься…
— «Понапрасну»?.. — Евдокия Дмитриевна испуганно вскинула полные слезами глаза, снова потупилась и пошла прочь, покачивая головой — то ли отрицая что-то, то ли просто от боли и отчаяния.
Феофан размашисто пошел к новостроящемуся храму (наверное, чтобы прибрать краски да кисти), а Андрей спрятался в тени кремлевской стены и сквозь бойницу смотрел на далекий Самсонов луг. Желтый дым, оторвавшись от породивших его язычков пламени, поднимался ввысь, густел, темнел и сливался с низко шедшими, рваными облаками. Вот так, наверное, загорится край неба, и настанет время антихриста, и начнет вершиться Страшный Суд. И никто его не избегнет, не спасется — ни владыка церковный, ни великий князь.
Обнаженные людские души мечутся, терзаемые сознанием своей вины и неотвратимостью расплаты. У иных — смятение и ужас, у других — униженность и покорность, и у всех — ужас, душу леденящий страх. Вот-вот, еще миг — и решится судьба несчастных, ждущих участи своей. Андрей неотрывно смотрит на вихрящиеся клубы дыма, на череду идущих серых, с желтоватыми и темными подпалинами облаков, а ему чудятся взоры и судорожные движения грешников, трепетно ждущих решения Божьего Суда. Он чувствовал в себе силу и потребность изобразить всю бездну чувств людей, находящихся на грани двух миров, у него промелькнуло даже сожаление, что Феофан — нет, не доверит ему расписывать западную стену храма, где в назидание верующим даются картины Страшного Суда, и даже огорчился и подосадовал на то, что находится в одной дружине с Феофаном. Андрей владел искусством писать фрески, но знал, сколь ответственно это дело: надо иметь верный глаз и твердую руку, чтобы с одного раза же наложить рисунок на сырую штукатурку, которая быстро сохнет, а потому не допускает ни переделок, ни поправок. Будь он самостоятельным, главным в дружине изографом, он бы взялся за фрески над входом в храм, изобразил бы Страшный Суд таким, каким представил себе в эти минуты — действительно страшным, безжалостным и карающим! Вот, может, в Благовещенском соборе, который будет следом за Рождественским создаваться, может, в нем…
Андрей вдруг поймал себя на том, что в мыслях далеко в сторону забрел, а еще и на том, что ведь он и раньше много раз пытался представить себе, каким напишет он Страшный Суд, и никогда при этом в сердце его не было места злобе, но были милосердие, сострадание, страстное желание того, чтобы все люди без исключения спасли свои души… Да, да, в этом мире все же ведь больше добра, чем зла, это знал Андрей и по себе, и по рассказам своих содругов и сопостников — у каждого послушника находилось что вспомнить да порассказать…
Когда впервые вышел он пятнадцатилетним отроком на рать, то, слабосильный еще и тонкокостный, едва копье в руках мог держать. А битва так сложилась на Пьяне, что татары враз одолели и обратили русских в бегство. А он не успел скрыться, остался стоять возле березки. Свирепый татарин на коне подскочил, взмахнул кривой саблей — все, одно лишь мгновение жизни осталось… Но нет, скользнула странная усмешка по желтому безбородому лицу татарина, ссек он саблей ветку березы, а отрока пожалел. Да, уверен был в том Андрей, что именно чувство человеческой жалости отвело руку с саблей. Без меры жестоки были враги, бесчеловечно вырезали Тохтамышевы татары Москву, детей, до тележной чеки доросших, не щадили, ни женок, ни чернецов не щадили. Андрей сам был тому свидетелем, но и среди них могут встречаться такие, которые способны щадить и миловать…
А сколь жестоки были Ольгердовы воины, когда подошли к стенам Москвы. Не сумев взять города, ушли восвояси, но в сердцах пустошили деревни и села — словно туча саранчи по житу прошлась. А его угораздило же тогда прямо в ночной литовский лагерь забрести. Вскочили задремавшие было стражники, кричат: «Кто такой?» — «Русич я… — ответил. — Захворал шибко, сил никаких нет». И что же? Поверили! Нет, ни кормить, ни лечить не стали, но велели идти в ночь по дороге, сказали, что поблизости монастырь в лесу есть… Пришел в бедную обитель да и нашел там не только излечение, но счастье и цель жизни. Монахи почти месяц ходили за больным, сумели-таки выпользовать, изгнать злую хворь из тела, и все с той поры людьми родными стали.
Да, да, людей добрых и милосердных много, очень много, больше, чем людей злых, и если доведется Андрею Страшный Суд писать, то…
И опять он одернул себя, вспомнил: а ведь казни-то в Москве все вершатся!..
Они вершились еще целую седмицу.
Набранные Тебризом палачи менялись. Иные уже за свои доблести вознаграждены великим князем кто серебром, а кто стал владельцем амбаров, харчевен, торговых лавок, пирожен.
Но один из них не захотел никакой награды и подался — прямо в красной рубахе! — на Афон…
Глава X. Время надежд и бодрости
Исторические события поворачиваются совсем не так, как их направляют участники, а по до сих пор не выясненным законам общественной динамики.
П. Флоренский1
«Обаче всуе мятется всяк человек живый!» — все повторял юродивый. Как видно, пророчество это овладело всем несчастным существом его. Однако трудно ему было все же окончательно примириться с признанием суетности своей жизни, с тем, что земные блага — ничто по сравнению с благами небесными. Он словно бы вопрошал, словно бы сам ждал ответа от выходивших после литургии богомольцев: верно ли, что дающий милостыню нищему — дает взаймы Богу, что Бог возвратит этот долг на Страшном Суде, и верить ли, что Богом будут прощены все грехи, кроме жестокости и немилосердия, а за человеколюбие будет дана в награду вечная жизнь и вечное блаженство?
И Василий Дмитриевич знал, конечно же, что человек есть червь, поношение и презрение, что жизнь — суета сует и всяческая суета. Он и зодчим да изографам, которых позвал к себе для ряда о строительстве нового храма Благовещенья в восточном крыле великокняжеского дворца, напомнил о том, что жизнь человеческая скоропреходяща и подобна бурному морю, что человек — данник смерти, которая не дает отсрочек, а в жизни земной одно зло господствует.
Мастера слушали князя, потупившись, полагая, что говорит он с презрением о благах земных для того лишь, чтобы поменьше заплатить им за работу. Но Андрею хотелось думать, что Василий Дмитриевич желает найти оправдание совершенным казням и обрести душевный покой, потому столь велеречив с ними, простыми черноризцами. Похоже, так оно и было, потому что великий князь, прочитав псалом Давида, встал с престола, подошел к изографам, сказал со слабо скрываемым торжеством:
— Испугались моего гнева новгородцы. Бьют челом, мира просят, черный бор и все княжчины обещают платить по старине. Прислали вот в подарок десять тысяч рублей серебром.
— Дэсят тысяч! — восхитился то ли искренне, то ли наигранно Феофан. — А мэнэ упрекали, что за икону беру двадцат рубль.
— Двадцат тоже большие дэньги, — нечаянно передразнил великий князь Грека, но тот не обиделся, даже улыбнулся. И Василий Дмитриевич охотно осклабился, но от Рублева не ускользнуло, что через улыбку свою он зорко наблюдает — круглые синие глаза настороженны, приметчивы. — Двадцать рублей стоит целая деревня. — Говорит великий князь, а сам о чем-то другом, потайном, думает. Прошелся к престолу молча, вернулся и спросил внезапно, желая врасплох взять Феофана: — Зачем так стены расписал в новом храме?
«Заметил!» — одновременно с тревогой и радостью изумились художники. Они бы сейчас сами не могли ответить, кому первому пришла мысль сделать это: самому ли Феофану, руководившему росписями, или кому-то из его помощников — Андрею Рублеву или Даниилу Черному.
В новой церкви Рождества Богородицы было бы спокойно и радостно среди круглых столбов с мягкими арками, срезанными полукруглой фаской, но возникало чувство тревоги у каждого входящего оттого, что многолопастные завершения всех ниш имели кроваво-красную окантовку. В такую же красную раму заключили художники и седалище в большой нише западной стены — здесь были места для великокняжеской семьи в те обычные церковные службы, когда она не поднималась на хоры храма, куда вела в толще стен каменная лестница.
— Ровно бы кровь стекает… — как-то с сомнением полувопросительно произнес Василий Дмитриевич, а сам все так же настороженно и зорко вглядывался в лица изографов.
— Вэрно, — бесстрашно отвечал Феофан. — Много днэй тэкла в реках кров после Мамаева побоища…
— А-а, Мамаева… Да, верно, великая княгиня ведь в честь отца и победы славной заказала этот храм… Хорошо… — говорил с душевным облегчением Василий Дмитриевич, посматривая искоса на Андрея, и казалось ему, что в глазах изографа светится прощение и прежнее доверие. Но впечатление это оказалось обманчивым, в чем Василий Дмитриевич тут же и убедился: Андрей, чуть склонив по-журавлиному голову, смотрел словно бы сквозь великого князя, не видя его, без самого малого интереса, что было Василию и обидно, и непонятно.
Вошел митрополичий боярин Дмитрок, просил разрешения молвить слово. Великий князь сел на свое престольное, резное, с ажурным покрытием и золотой росписью, место, велел:
— Говори!
— Владыка просит тебя, государь, прошествовать к нему, зело важная новость у него есть.
Василий собрался было уже обронить привычное «Скажи, что скоро буду!», но, скользнув взглядом по отрешенному, равнодушному лицу Андрея, вдруг для себя самого неожиданно резко бросил:
— Скажи Киприану, что от его двора до моего престола ровно столько же шагов, сколько от моего дворца до архиерейского амвона.
Дмитрок поясно поклонился, Даниил Черный с неясной ухмылкой погладил прошитую серебряными нитями седины бороду, Феофан понимающе подкашлянул, а Андрей смотрел по-прежнему без всякого участия, даже и без любопытства.
Великий князь не сумел до конца выдержать взятой на себя роли самодержца, по примеру отца не считающегося с церковным владыкой. Когда явился Киприан и сказал, что по просьбе новогородского Иоанна ростовский архиепископ Федор приехал в Москву, бьет челом и вместе с целовальной грамотой привез великому князю тысячу рублей и митрополиту шестьсот для богоугодных дел, Василий Дмитриевич сошел с престола, сказал голосом словно бы приседающим:
— Вот и гоже, потому я и позвал тебя, видишь, каменные здатели у меня и изографы знатные… Надумал я храм Благовещения строить, хочу, чтобы похож он был на Рождественский, да только богаче, не об одну голову… А то что это за храмы — ни крестов золотых, ни куполов, ни звону… Этих вот искусников на фрески зову…
Почти уверен был он, что сейчас Андрей скажет, как говорил когда-то во Владимире в пасхальную ночь, как на берегу Москвы-реки во время крещения татар: «И на иконостас, а?» — и застенчиво улыбнется…
Но Андрей Рублев по-прежнему словно бы и не слышал ничего, словно бы он и не присутствовал в набережных сенях близ великокняжеского престола при очень важном ряде заказчиков — князя и митрополита — с мастерами.
2
Когда изографы и каменные здатели, обговорив ряд, ушли, Киприан спросил с большой печалью:
— Отчего же, княже, пренебрег ты моим приглашением, да еще предерзостно так?
Первым побуждением Василия было свою волю личности проявить, выказать независимость, свободу — отповедать зарвавшемуся византийцу, как делал это некогда отец, но вдруг почувствовал себя маленьким, слабым, побитым. Вымолвил после долгого и трудного молчания:
— Желаю я невидимо разрешиться от грехов самим Христом Спасителем при видимом изъявлении прощения от тебя, владыка.
— Исповедаться хочешь, сын мой? — Киприан знал, что великий князь исповедуется в посты перед духовником Герасимом, и сейчас не мог поверить столь неожиданно явившейся к нему удаче, продолжал с ликованием: — В непрерывной борьбе с грехом, которая продолжается всю земную жизнь человека, не обходится без временных поражений, отступлений и падений. Но милосердие Божие бесконечно, щедрости его бесчисленны.
Молча прошли в великокняжескую молельню.
Киприан был озабочен, как сделать великого князя своим постоянным покаяльником, боялся отпугнуть его первой исповедью и удерживал мысленно себя поучением епископа Ильи: «Достойно спрашивати с тихостью, ать онем легко поведывати».
Перед алтарем горела лишь одна лампада, в слабом круге ее света угадывались лики Спасителя, Божьей Матери, Николы-угодника.
Василий Дмитриевич, чуть отстранившись от митрополита, опустился на колени, Киприан, все еще озабоченный тем, как половчее начать поведовати великого князя, восклицал над ним:
— Помилуй нас, Господи, помилуй нас… Милосердия двери отверзи нам…
Василий, повторяя слова молитвы, готовил себя к покаянию, обращался взором к Христу, однако мысль и воображение уносили его прочь, и он вновь и вновь вспоминал недавно пережитое, но еще не осмысленное им.
…Слухачи донесли ему сразу же, в тот же день, что Андрей Рублев, узнав о казнях, сказал: «Будь проклят гнев его, ибо жесток!» Тогда Василий не придал особого значения словам иконописца, но чем дальше во времени отодвигались те дни, тем чаще задавался вопросом: «А смогу ли я снова, если доведется, предать страшной казни семьдесят человек?» И не находил ответа.
Как истинный сын своего времени, как человек, приученный с малых лет к роли государя и самодержца, Василий Дмитриевич знал один закон — свою волю, произвол старшего и сильного. Этим законом определялся весь уклад его жизни и всех людей, его окружавших, как наибольших, так и мизинных; этим законом определялись отношения сильных и слабых, самостоятельных и зависимых, старших и младших, властных и власти не имеющих, а наиболее полным выразителем этого закона служила личность историческая, какой являлся как раз великий князь. Потому-то для него произвол и самоволие были понятиями столь же определяющими и главенствующими, сколь и естественными, не могущими вызывать ни вопросов, ни сомнений… Своя воля личности была основой нравственного закона, который проявляется и в государственной, и в общественной, и в семейной жизни. Все дело в том лишь, сколь много свободы имеет человек, как позволит он себе расходиться, сколь безнаказанно может дать волю необузданной, ничем не сдерживаемой своей силе.
— Сам и раба твоего Василия кающегося, — молитвословил Киприан, а Василий вспоминал рассказ великокняжеского бахаря о том, как Илья Муромец от огорчения, что не позвали его на пир, хотел убить великого князя Владимира с княгиней, в Божью церковь стрелял, целясь в святой крест, а золоченую маковку отдал кабацкой голи на пропив…
— Се, сын мой, Христос невидимо стоит…
Новгородский ушкуйник и озорник Василий Буслаев не пощадил, расходившись, крестного отца и едва не убил мать родную… Вот и князь Белозерский, потомок героев Куликовской битвы, дал волю стихии своей, забыл честь и долг, переметнулся к врагам Москвы…
— …Христос невидимо стоит перед тобою, принимая исповедь твою. Не стыдись, не бойся и не скрывай чего-либо от меня, но скажи все, чем согрешил, не смущаясь…
А что тут скрывать: дал Василий Дмитриевич волю страстям своим, стал в гневе страшен и предал смерти ужасной семьдесят православных людей. Но как же иначе-то, так ведь и должно быть…
— …Вот и икона его перед нами: я же только свидетель, и все, что скажешь мне, засвидетельствую перед ним.
Но Андрей-то разве же не понимает, что никак иначе не мог поступить Василий? Спросить бы самого Рублева, перед ним бы и засвидетельствовать… Как хотелось Василию вернуть то простое доверие, которое связывало их совсем еще недавно… Но последнее время великий князь словно бы робел перед Рублевым, боялся первым заговорить. И не хотелось никого посвящать в свои отношения с ним. Даже и Евдокии Дмитриевне, когда спросила она, почему это изменился славный монашек-иконописец, неприветлив стал, не объяснил Василий ничего. Да и Киприану вот даже сейчас, на покаянии, нельзя этого сказать. Да и вряд ли это можно сделать, потому что нет ни слов, ни поступков: вот так же невозвратно ускользает от него Янга, он это лишь чувствует, но не может утверждать наверное, а уж тем более препятствовать этому.
— …Если же скроешь что-нибудь от меня, грех твой усугубится. Пойми же, что раз уж ты пришел в лечебницу, так не уйди же из нее неисцеленным!
Василий подошел к аналою, сделал земной поклон, затем поднял перед собой золотой крест и повинно склонил к нему голову.
Беседа кающегося и исповедника велась вполголоса мирно и согласно до той поры, пока Василий вдруг не спросил с вызовом, требовательно:
— А скажи, владыка, отчего византийские иерархи не хотят Дмитрия Ивановича Донского к лику святых приобщить? Нешто малы его заслуги перед миром христианским?
Киприан готов был к такому вопросу, лишь для виду озаботился, посмурнел, отвечал нравоучительно и ворчливо:
— Святой — это раскаявшийся грешник. Кто первым вошел в царствие небесное от Руси? Княгиня Ольга да Владимир. А знаем мы, что Ольга смерти предала послов в паровой бане, перебила пять тысяч древлян, приглашенных ею же самой на пир. Владимир же был развратником, человеком похотливым, державшим шестьсот наложниц. Но Ольга — первый крещеный человек на Руси, она твердо хранила веру среди искушений языческого мира, день и ночь молилась за сына, за внука, за весь свой народ. И Владимир, крестившись, от дурных привычек избавился, идолов сжег. Став христианином, он сомневался, может ли еще наказывать разбойников и воров. У византийской церкви такие сомнения его даже вызвали удивление, как же было не признать его святым. И Александр Невский в святые возведен…
— Он возведен был сразу после Куликовской победы, в честь нее, я помню…
Киприан поднял взор на лик Спасителя:
— Господи Иисусе Христе, сын Бога Живаго, вразуми его, кающегося…
— Господи, помилуй! — вторил Василий митрополиту, который затем продолжил:
— Святой Александр принял перед кончиной схиму, Дмитрий же Иванович, хоть и был человеком целомудренным, безгрешным, покинул мир сей без монашеского пострижения и раскаяния, которое спасло ведь и Ольгу, и Владимира, и Бориса с Глебом, и Александра.
— Но за то только разве Господь возлюбил их всех, что они раскаялись? Господь избрал и возлюбил наш народ и воздал дар Божьей благодати не им только лишь, но всему народу русскому.
— Да, потому что русские святые служили верно народу христианской любовью, являли пример милосердия, красоты и смирения. Сказал святитель Иоанн Златоуст о Маккавеях, что они сражались не за жен своих, не за детей своих, не за служителей своих… но за закон и за отеческий уклад. Вождем их на войне был Бог. Когда они были в бою и подвергались смертельной опасности, они били врагов, не уповая на свое оружие, но находя достаточный панцирь в самом деле, за которое сражались. Идя на войну, они не лицедействовали, не пели военных гимнов, не нанимали свирельщиков, как поступают в других войсках; но они просили у Бога, за которого вели войну и за славу которого сражались, посылать им помощь свыше, сражаться вместе с ними и подать им руку… Дмитрий Иванович Донской — доблесть и зерцало земли Русской — однако не поступал так, как семь братьев Маккавеев. Молю Господа я денно и нощно, чтобы он тебя на путь верный наставил, чтобы умножил ты содеянное твоим великим отцом. Хоть и не причислен Дмитрий Иванович к сонму святых, однако являл он собой пример целомудрия, чистоты и правды… Он тоже лишь единожды исповедовался передо мной, но до конца шел в своих признаниях, без утайки… А ты, сын мой, во всем ли покаялся?
Василий промолчал, продолжил класть низкие поклоны перед тяблом с негасимой лампадой.
— Великий князь! — голос Киприана слегка усилился и построжал. — Желая добра тебе, не хочу быть твоим потаковником… Я хотел бы не видеть того, что невозможно уже не замечать, хотел бы не слышать того, о чем говорят и послы, и бояре, и челядь твоя, однако…
— Живана, что ли?.. Каюсь, грешен, прости меня, Господи, недостойного.
— Прелюбодеяние, нарушение супружеской верности столь отвратительный грех, что ведет к духовной смерти еще до физической кончины человека..
Киприану положено говорить… наставлять… Господи, прости… Янга, простишь? Ты — нет! Единожды отступник — отступник еще и еще. Не тебе ли назло девку, невесту Христову испортил?.. Маматхозю прикончили… Что я тебе доказываю, когда сам один кругом виноват и душу мою бременят грехи!.. Бог узнает и простит. А ты даже никогда и не узнаешь.
— Милосердный, благой и человеколюбивый Господи! — бархатно рокотал Киприан вполголоса. — Ты по щедротам своим послал в мир сына своего единородного, чтоб он разорвал запись грехов наших, расторг узы связанных грехами и возвестил освобождение пленным. Освободи, Владыка, благости своей раба твоего Василия от уз, связывающих его, а даруй ему…
Киприан дочитал разрешительную молитву и повелел сорок раз с сорока поклонами произнести покаянный канон.
Оставшись один, Василий касался лбом холодного пола, осенял себя крестом, повторяя:
— Не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бо сия не веси кому оставищи, но возопий: «Помилуй мя, Христе Боже, недостойного…» Не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скоромимоходящую красоту, видищи бо, яко сильнии и младии умирают, но возопий: «Помилуй мя, Христе Боже, недостойного».
Душевного облегчения, однако же, не испытывал. Напротив, удушье почувствовал. И словно бы Киприан незримо продолжал здесь присутствовать, или это остался после него дух его тлетворный?..
Подумав о Киприане, вспомнил утреннюю беседу с ним. Митрополит убеждал в необходимости объявить войну псковским и новгородским стригольникам и их последователям в других городах, в том числе и в Москве.
«Что это значит — стригольник?» — не понял Василий. «Псковский дьякон Карп, который секту еретиков основал, был цирульником, всем своим прихожанам волосья и бороды подстригал. И вот что ныне написал мне в грамоте Антоний. — Киприан развернул пергамент и прочитал Василию грозные слова византийского патриарха: — «Как в древности дьявол, через змею, клевета на Бога Афиму, уверяя, что по жестокости и злой зависти запретил ему есть от древа познания добра и зла, так ныне ересиарх Карп отвращает людей от вкушения у древа жизни, то есть от причастия…» Дальше святой патриарх меня ругает, будто я потворствую стригольникам, кои не священнику исповедуются, но земле…» — «Как это исповедуются земле?» — «Не Божьей церкви поклоняются, а земле просто… Искоренить надо на Руси ересь, это антихристианство»…
Утром Василий согласился с Киприаном, а сейчас засомневался. Ведь земле исповедовались наши отцы, деды, пращуры?.. А еще Янга!!
Тогда, после публичной казни Ивана Вельяминова, на Кучковом поле, она потащила Василия на Боровицкий мыс к их дубу и научила древнему обряду исповедания: они тогда вместе, согласно попросили прощения у солнца, у луны, у звезд, у зари, у темной ночи, у дождя, у ветра, а особо у земли…
Он торопливо вышел из молельни, прокрался через повалушу, ступая бесшумно по половицам, так же крадучись, пробрался на красное крыльцо, спустился и нырнул в глухой и слепой сумрак ночи.
На Боровицком мысу поймал ртом сладкий ветер из-за Москвы-реки.
Дуба не сумел разглядеть во тьме, но нашел его по здоровому духу листьев и коры.
И, как тогда, с Янгой, опустился перед ним на колени, как тогда, истово произнес:
— Молю тебя, Мать-Земля Сырая, кормилица, молю тебя, убогий, немысленный, грешный, прости, что топтал тебя ногами, бросал тебя руками, глядел на тебя глазами, плевал на тебя устами… Прости, родимая, меня, грешного, Христа Спаса ради и матери его Богородицы Пречистой и Светлого Ильи — пророка премудрого…
Как учила его, ребенка, Янга, он и сейчас старательно омыл руки землей, упал на нее ниц. Затем, стоя на коленях, снова обратился к Матери Сырой Земле. Встал и, не вытирая рук, не отряхивая земли, пошел во дворец уже просветленный, уверенный, что в самых своих страшных и тяжких грехах он наконец-то истинно покаялся.
3
Храм Рождества Богородицы в Кремле освятил сам митрополит всея Руси.
Великая княгиня Евдокия Дмитриевна загодя припасла дорогое церковное имущество: кресты, кадила, книги, евангелия, облачение для священнослужителей, свечи.
Василий Дмитриевич пожаловал ризу, расшитую золотом, жемчугами, многоценными каменьями.
Однако новый храм, возведенный в честь Дмитрия Ивановича его супругою, был радостью не одной только великокняжеской семьи, но всей Москвы, всего народа.
Идет время, делает свое дело забвение. События сменяют друг друга, не все их даже и запомнишь, но тот сентябрьский день 1380 года не только не тускнеет в памяти, но становится волнующим до сердечной боли — день великого торжества преодоления и великой скорби утрат. В истории Руси не было более светлых, более христианских дней, 8 сентября 1380 года свершилось то, о чем страстно мечтали несколько поколений русских людей. И еще не охватить разумом в полной мере смысла и значения свершившегося, никто еще не загадывает о том, что и далекие потомки будут переживать сердцем и суровое величие того дня, и неизреченность вечной радости его[115].
— Красота пришла в мир с тем днем! — сказал Андрей Рублев. Слова эти нравились Василию Дмитриевичу, он с удовольствием повторял их, но сокровенный смысл их не был ему полностью ясен.
В каждую годовщину Куликовской битвы со всех концов Руси шли паломники пешком, либо объездом богомольным к Троице в Сергиев монастырь. Здесь в канун 8 сентября служили всенощную, а в самый день победы служилась обедня с благодарным молебном. И нынче стекались из Вологды и Смоленска, Ростова и Серпухова князья да бояре, крестьяне и ремесленники — все либо участники да самовидцы Донского сражения, либо потерявшие в тот день своих родных и близких. А нынче более, чем к Маковцу, устремлялись они умом и сердцем к новому кремлевскому храму-памятнику. И верно, притягательной была церковь Рождества Богородицы: ровная и белая, точно свечечка, а золотой куполок будто пламень торжественно-поминальной свечи. Это Андрей Рублев настоял — не шеломом, как Феофан предлагал, а луковкой увенчать храм. Василий поддерживал Феофана, считая, что повоинственнее надо сделать и построже, но Евдокия Дмитриевна заняла сторону Андрея и вот, видно, не ошиблась. Еще и службу не начали править в храме, а люди к нему идут и идут с утра до вечера, падают ниц на паперти, долгими часами молятся на надвратную икону Богородицы, которую написал специально к этому случаю Даниил Черный.
Василий жадно вглядывался в приходивших к церкви мужиков, тех мужиков, что не остались на бранном поле, вернулись домой и сейчас живут среди людей и для людей, — это особенные мужики, победители! И каждому слову их внимал.
Конечно, случается, путают старики что-то, забывают за давностью дней — не без этого, могут имя какого-то князя или воеводы запамятовать, хотя при этом точно назовут масть его подседельной лошади, его оружие и броню обскажут, а в самом главном — в воссоздании самого духа тех дней — нимало не прилгнут, потому что вспоминают и говорят о самом святом, что было в их жизни. И уж никто из них не станет празднословить, все избегают слов громких, хвастливых: люди одновременно добрые и беспощадные, гордые и стеснительные.
— Неужто ни царапины?
— Ни единой.
— Да-а…
— А что?
— Глуздырь ты, знать…
— Уметь надо драться.
— Вестимо! Но со страхом трудно совладать. Ты боялся за Доном?
— Нет.
— Тогда, значит, и верно: глуздырь ты, ловкач.
— Я прятал, давил в себе страх.
— Дело возможное…
— До десятка татаринов поколол.
— Дело возможное…
— А меня ни разу ни стрелой не царапнуло, ни саблей либо копьем не задело.
— Нет, это дело невозможное.
— Как же невозможное, когда вот он я!
— Коли так, айда в кружало?
Ушли два благоприятеля сыченого медку выпить по случаю счастливой встречи и веселого разговора. Новые люди на их место пришли.
— Мог я тогда уйти к праотцам, считай, пятнадцать лет выпросил у Господа! — говорит один из них и крестится левой рукой: вместо правой у него болтается пустой рукав посконной рубахи.
— Эдак, эдак, пятнадцать морозных зим, — соглашается второй мужик, у которого вместо правой ноги деревяшка.
А у третьего паломника хоть и целы обе ноги, но странные какие-то — тонкие, иссохшиеся. Перебирает он ими часто-часто, будто бы упасть боится. И вообще, он словно бы всего боится, смотрит испуганно, озирается постоянно на своего спутника. Именно с ним прежде всего и решился Василий Дмитриевич начать разговор, спросил простецки:
— Что с ногами-то? На брани пострадал?
— Нет, — виновато ответил тонконогий мужик. — Мальцом с голодухи объелся рожью, вот и обезножил, из-за этого на Мамая не смог пойти. А два моих старших брата бились в полку Дмитрия Ивановича.
— Где же они?
— Анисим — вот он, а Ивана нетути…
— На Куликовом поле остался?
— Не совсем так, но и так словно бы… Лучше вон Анисима спросить.
— Так и есть, — подтвердил Анисим, седобородый, уже сутуловатый старик. Говоря, он смотрел на брата как-то странно, словно бы мимо и куда-то вдаль, — Оба мы с Иваном ошеломлены были — язв телесных не имели, но удары по шеломам столь многие да сильные получили, что от ушибов и потрясений как бы замертво упали… Однако оклемались после. Иван заикаться начал, но вроде крепче меня на ногах-то стоял. Он и до рати такой был, что всегда под комель становился.
— Сильный такой?..
— Честный такой и жалостливый, меня жалел. Шли мы с ним с Куликова поля на своих двоих до дому, а дом наш в селе великого князя на Пахре. Доходим до гумна, переходим через тын. Иван, как увидел свою избу, перекрестился на соломенную крышу да так замертво и упал на огород, прямо на желтые огурцы возле плетня…
— Говорили, будто от радости большой, — вставил брат Анисима, но тот сурово осадил:
— Какая радость!.. Только-то и оставалось у Ванюши сил, чтобы до избы родимой достремитья… В избе этой и мы с братом родились тоже, да помирать придется где-то в другом месте: дом наш вот-вот рухнет, все венцы сгнили, пол провалился, потолок как решето… Был бы жив Дмитрий Иванович, пособил бы небось однополчанам, а молодому князю не до нас…
— Что ты мелешь, Анисим! Это же великий князь Василий Дмитриевич!
Анисим испуганно ахнул и повалился наземь.
— Слепой он после рати той, сначала-то видел, потом все хуже, хуже, теперь вовсе оскудел глазами, вот и вожу его…
Василий Дмитриевич велел своим боярам поднять старика и подвести к нему.
Анисим винился, норовил опять лбом о мостовую удариться, но два боярина удерживали его под руки. Василий Дмитриевич всматривался в незрячие глаза старого воина и вспомнил, что у отца вот так же один зрачок словно бы растекся чернотой по карей радужине… Вспомнил и то, что и отец ведь был на Куликовом поле ошеломлен: может, потому и у него глаза были чуть-чуть разными?..
Рассказы о том, как нашли отца после окончания битвы, Василий Дмитриевич слышал столь много раз от разных людей, что мог себе въяве представить, как все было.
…Опрокинув татар после трехчасовой битвы, русские гнали их потом до реки Мечи, а Дмитрия Ивановича начали искать, уже возвратившись из погони. До реки Мечи от поля Куликова тридцать с лишком верст, обратно ехали медленно — и кони были усталыми, и трофеи обременяли, — стало быть, много времени прошло с той минуты, как потерял отец сознание, несколько часов пролежал, потому уже и не надеялись его найти среди живых, искали среди павших по всему огромному полю Куликову.
«Мы видели его сильно раненного, потому стали среди мертвых опознавать», — говорил один самовидец.
«Я видел его крепко бьющимся с четырьмя татарами, они одолевали его», — признавался второй. Князь Стефан Новосильский поведал с горьким сожалением: «Я видел его пешего, едва бредущего с побоища. Язвлен ранами сильно он был, а я не мог помочь ему, понеже сам гоним был тремя татаринами».
Нашли среди мертвых во всей утвари царской Михаила Андреевича Бренка, наперсника великого князя, только оружие и коня не отдал ему Дмитрий Иванович.
Еще одного похожего на отца убитого нашли, но это оказался Федор Семенович Белозерский.
Нашли Дмитрия Ивановича едва дышащим под новосеченой березой два простых воина Федор Порозович и Федор Холопов. Но их расспросить не смог Василий Дмитриевич, потому как они недолго прожили, померли от полученных на Дону увечий.
И у отца ведь очень рано наступил предел земной жизни, в самую зоревую пору преставился он — и ему не прошли даром те язвы, что получил он, вступив в бой в первом суйме. Великий князь дрался как простой ратник, как вот Анисим или покойный брат его Иван, как те два рано ушедших из жизни Федора, как тысячи других, что недолго смогли радоваться своей победе. Все они не хотели умирать, все хотели жить, но сильнее и прежде всего хотели они — победить. Любой ценой, пусть ценой и жизни своей — молодой тогда, нерастраченной жизни, ценой всех своих надежд. Они хотели победить и при этом не думали, какой ценой, они не рассчитывали при этом еще и уцелеть, остаться в живых — это было желательным, но не обязательным условием. Вот почему они победили тогда орду Мамая, которая была многочисленнее, подготовленнее, сильнее русского воинства.
— А скажи, Анисим, страшно было умирать?
Анисим поморгал белесыми веками незрячих глаз, один из которых был серым, а второй казался совершенно черным от растекшегося зрачка, отвечал кратко:
— Сего не вем, государь.
— Отчего же «не вем»? Ты вспомни. Дмитрия Ивановича видел бьющегося?
— Как же, как же! — оживился Анисим, даже улыбка скользнула по его губам. — Поблизости от него я дрался… Меж нами стояли мертвые, убитые, кровью истекали, а упасть на землю не могли, столь тесно… Мечом не замахнуться, засапожным ножиком только… Вот было страшно… А умирать — нет, не думали об этом… Да и то: знали мы, что останутся после нас наши дети, — у Дмитрия Ивановича ты вот, у меня трое мужиков.
— Да ведь и то правда, что все погибшие победители в загробной своей жизни помещаются прямо в рай, а умершие побежденные поступают на том свете в рабство к победителям… А оттого не страшно, верно, брат? — охотно поддержал разговор тонконогий поводырь.
Анисим резко повернулся к нему, в глазах не родилось никакого нового выражения, однако можно было понять, что не доволен он, не согласен. Он, конечно, тоже слышал и знал, что перед убиенными на поле брани, как и перед детьми ангельского, до двенадцати лет, возраста, в загробной жизни святой Петр сразу отмыкает своими ключами врата рая, однако же и с жизнью по эту сторону расставаться совсем неохота, хоть ты и слеп, хоть и изба у тебя совсем обветшала… Что и говорить, красиво и привольно живет дуб с богатой разветвленной кроной и глубокими корнями, это жизнелюб и здоровяк, но разве же не жизнь и у тальниковой поросли, что за одну весну пробилась на плесе Боровицкого мыса, а теперь качается от каждой волны, от каждого порыва ветра? Даже единственная зеленая веточка на замытом в речном песке погибшем осокоре — не жизнь со всеми ее радостями?..
Анисим слушал рассказ своего тонконогого брата о том, как выглядит храм, построенный в честь победы, лицо его становилось все более благостным, и даже слезинки заблестели на глазах его — то ли ветром выбило их, то ли так растрогался старик.
Казначей великого князя Иван Кошкин подошел к ним, сказал, что Василий Дмитриевич распорядился каждому из них по пятистенной избе со всеми пристройками поставить на Пахре. Братья сначала ничего понять не могли, молчали озадаченно, потом креститься начали с испугу, а когда уяснили до конца, что произошло, наземь бухнулись, норовя старейшему боярину поцеловать полу кафтана.
Василий Дмитриевич, наблюдая со стороны, был горд своим поступком и своей щедростью. И даже мелькнула у него в голове — так, мимолетным проблеском — мыслишка, что хорошо бы разыскать и собрать вместе оставшихся в живых участников той битвы и всех бы вознаградить как должно.
Но не суждено было благому намерению осуществиться. Даже и саму подготовку к празднику пришлось немедленно прервать, забыть на время, что 8 сентября собирались в пятнадцатый раз благодарить Пречистую и Сына ее за дарованную победу над агарянами: новая хищная орда вырвалась из народовержущего вулкана Востока, новая смертельная опасность нависла над Русью.
4
Пятнадцать лет назад написал летописец: «Треклятый Святополк в пропасть побеже, нечестивый же Мамай без вести погибе. А великий же князь Дмитрий Иванович возвратился с великою победою, яко-же прежде Моисей Амалика победи, и бысть тишина в Русской земли».
До этого пестрели пергаментные листы горестными записями: «была брань зело зла», «ходили ратью», «рать без перерыва», а после 1380 года летописец повторял каждый год торжествующе: «…и бысть тишина в Русской земли». И вот вновь нарушил тишину набат: «Татарове!» А летописец занесет дрожащей рукой: «Сей бо царь Тимир-Аксак многы брани воздвиже, многы люди погуби, многы области и языки плени, многы царства и княженна покори под себе… И бяше сий Тимир-Аксак велми нежалостлив, а зело немилостив, и лют мучитель, и зол гонитель, и жесток томитель… Похваляется итти к Москве, хотя взяти ю, и люди рускиа попленити, и места святаа разорити, и веру христианскую искоренити, а хрестиан томити, и гонити, мучити, пещи, и жещи, и мечи сещи…»
Не преувеличивал ли страх и монах Воскресенского монастыря? Так ли уж страшен и грозен был Тимур? Если и ошибся летописец, то не по своей личной вине — он отразил лишь то настроение, что было тогда в Москве.
Василий Дмитриевич получал сведения о продвижении войск Тимура каждый день от надежной, проверенной сторожи — глубокую разведку организовал повсеместно на украйнах Русской земли еще Дмитрий Донской.
Опрокинув в апреле в кровавой сече на берегу Терека войска своего недавнего друга, а теперь заклятого врага Тохтамыша, новый гурган, как именовал себя Железный Хромец, вторгся в южнорусские степи, идя путем Батыя и Мамая и преследуя, очевидно, те же цели, что и они[116]. Известно было также Василию Дмитриевичу, что, в отличие от ханов Золотой Орды, в отличие даже от своего великого предшественника Чингисхана, Тимур сам не принимал никаких подарков и другим заказал — казнил для примера в Самарканде, Ширазе и Тавриде несколько замеченных в лихоимстве сановников. Да и воинствен был он сверх меры, с ним можно было договориться только языком оружия.
Василий Дмитриевич верно оценил меру опасности. В те тревожные и опасные дни он сумел отключиться от всего суетного, мелочного, сумел сосредоточиться на главном и был спокоен, расчетлив, ясен умом и сердцем. Юрик рвался в поход навстречу врагу, а великому князю предлагал хранить Москву. Владимир Андреевич тоже хотел, как в 1387 году, командовать ополчением, а великому князю рекомендовал пойти в Коломну собирать усиленную рать, как в 1382 году сделал это Дмитрий Иванович. Можно было согласиться с любым из этих двух предложений, но Василий Дмитриевич отчетливо сознавал, что обязан сам лично возглавить оборону Руси, как это сделал отец в 1380-м: чтобы играть чужой жизнью, надо доказать, что умеешь рисковать своей.
В 1382 году, когда дошла весть о том, что идет на Москву хан Тохтамыш, Дмитрию Ивановичу не удалось провести как следует даже военного совета, князья и бояре покинули Кремль под разными предлогами. Нынче положение было иным, Василий Дмитриевич сумел сразу же умыслить совет благ— никто не отказывался идти воевать, никто ни на болезни не ссылался, ни на скудость обеспечения не жаловался, ни в нетях не сказывался.
Великий князь решил после краткого сбора выступить путем Дмитрия Донского навстречу врагу. Владимира Андреевича Серпуховского он оставлял в Москве во главе гражданского и военного управления столицей. С ним должен был быть неотлучно и митрополит Киприан. Юрику было поручено проверить, как дружины и ополчение обеспечиваются оружием, хорошо ли обряжаются воины перед походом, достаточно ли коней: поводных, чтобы в поводу ратника послушно ходили, но и горячими да выносливыми были, товарных для упряжки в обозах обеспечения и сумных для прохода следом за ратниками с вьюками по бездорожью.
Как в Тохтамышево нашествие, сбегались в Москву под защиту белокаменных стен Кремля люди из ближайших сел и посадов, скоро город оказался переполнен, бурлил день и ночь. Но не как в тот страшный август вели себя сейчас и простолюдины, не было ни пьянства, ни бесчинств, ни растерянности.
Купцы и ремесленники несли в Кремль безвозмездно оружие, доспехи, конскую сбрую.
Из подмосковных монастырей, по примеру давнему Пересвета и Осляби, шли в ополчение бывшие монахи, просили сменить им рясы на кольчуги.
Привели на суровый суд к великокняжеским тиунам одного дружинника его же сотоварищи, требовали публичной смерти предать за то, что заложил он резоимцу за два рубля всю свою броню. Заодно требовали расправы и над ростовщиком, чтобы неповадно было на всем без разбору наживаться.
Сначала один безмездный лечец заявился, второй знахарь-травник пожелал при дружине быть на случай кровопролития.
И уж конечно, никто не пытался уйти от разруба, как то было в августе 1382-го: становились под великокняжеский стяг и княжие мужи — верхоконные ратники, и мужики— пешие воины, коих набиралось в ополчении по шестьдесят человек в каждой сотне. Малы и велицы шли в ополчение: из Звенигорода вместе с Юриком пришел участник битвы на Воже и на Дону, дед, уж ветхий денми, а подпоясался, повесил поверх новешенькой желтой сермяги меч в ножнах, лук и лубяной колчан со стрелами, сразу помолодел словно бы, выпрямился и стал словно бы ростом выше и стройнее, вместе с ним и внук его при оружии тоже, в желтой же сермяге и в новеньких, белых, только-только сплетенных, ни разу не надеванных лапоточках.
— Малой еще, — сказал Юрик.
— Слетыш, — согласился дед, — Ровесник победе Куликовской, а лук натягивает крепче меня. Он еще лонись рвался, когда ты на новгородцев рать собирал…
— Нет, в прошлом году мы бы его не взяли, тогда у нас и без отроков хватало люда, а нынче да: разруб, призыв всеобщий.
Юрик был возбужден и деятелен, похвалился перед старшим братом:
— Я как знал! Велел все прошлогоднее оружие наизготове держать.
Однако того оружия, с которым ходили на рать лонись, для нынешнего похода было, конечно, мало, и опять все мастерские и кузницы Москвы переключились на изготовление копий, сулиц, мечей, сабель. С сожалением, с неохотой доставали из тайников металлические заготовки для кос, серпов, лемехов, вспоминали, что до татарщины было железа на Руси столько, что не жалко было его пускать не только на топоры да орала, но даже и на лопаты!
— Ничто, вот заставим этого Железного Хромца отойти с убытком и взвернем все, — утешал кузнец дровосека, который принес свой топор с просьбой перековать его в боевой.
— А отчего это нового Мамая Железным Хромцом зовут?
— Ему в бою с султаном турецким два пальца на деснице оторвало и десную ногу. Он велел себе выковать ногу из железа.
— Нет, не всю, однако, ногу — только коленную чашечку ему из железа сделали, потому он и хромает.
— Не в бою то было, доподлинно мне известно, потому как Тимур, как и я, был раньше простым кузнецом, — Держа в одной руке клещи, кузнец второй рукой бросил на тлеющие угли пучок лучин, надавил рукоятку меха. Когда угли стали малиновыми, он сунул в них заготовку копья и продолжал: — Жил в холопстве он у некоего государя, но тот выгнал его из-за его злонравия. Остался он без пропитания и стал кормиться татьбой. Однажды украл овцу да и попался в руки хозяев. Они схватили его, отколотили до полусмерти, перебили ногу и, решив, что он умер, бросили его псам на съедение… — Кузнец снова прервал рассказ, выхватил добела раскаленную железку, положил на наковальню, велел подручному своему;
— Бей, но не сильно и не слабо… Главное — точно!..
— Ну, так что? — понужнул кузнеца, заглядывая ему в волосатый рот, один из нетерпеливых слушателей. — Не съели его псы?
— Нет. Поправился Тимур, оковал сам себе железом перебитую ногу, остался на всю жизнь хромым — Железным Хромцом…
— Татьбой перестал заниматься небось?
— Куда там! Это столь большой хищник, ябедник да грабежник, что после исцеления от ран еще пуще и лютее прежнего стал разбойничать. Собрал шайку в сто человек, объявил себя князем.
— Ишь ты, из грязи в князи!..
— Верно, а когда тьму таких же грабежников набрал, царем стал именоваться, законных государей в других землях стал опровергать.
— А от нас с убытком отойдет.
— А то-о-о!.. У нас князья христолюбивые да знатные, — говоривший эти слова отрок в бедной одежде с неподрубленными полами покосился на стоявшего в дверном проеме Юрика, — Великий князь Василий Дмитриевич, славные братья его — сыновья Дмитрия Ивановича Донского, внуки великого князя Ивана Ивановича, правнука благоверного Ивана Даниловича, и все они — Мономаховичи. — Отрок усиливался голосом, явно рассчитывая быть услышанным Юриком. Тот, конечно же, оценил его слова, спросил, деланно хмурясь:
— А твой отец да дед кто?
— Не ведаю… Я у матери пригульный.
Никто в кузнице не засмеялся над ним — слишком много было тогда безмужних вдовиц да девок, даже какая-то печальная тишина нависла, может, подумалось каждому: а сколько отцов и женихов отымет у росиянок Железный Хромец?.. И Юрика ожгла эта мысль, он продолжал спрашивать торопливо:
— Лет тебе сколько?
— Пятнадцать.
— А звать как?
— По-улишному Сиряком, а мать кличет Смарагдом, потому как я с зелеными глазами уродился.
— А я тебя буду звать Изумрудом, если сможешь послужить мне — седельник мне прямо сейчас надобен.
— О-о, я раньше, чем ходить, верхом на лошади научился ездить, я подойду тебе! — заверил и кинулся на колени перед Юриком пригульный сирота Сиряк-Смарагд.
Из кузницы они прошли сначала в торговые ряды, где Юрик одел и обул своего нового челядина: Изумруд первый раз в жизни почувствовал на своих плечах тяжесть суконного чекменя, а ноги даже и непослушными попервоначалу казались от яловых, из коровьей шкуры сшитых сапог.
С этой минуты Изумруд стал тенью следовать повсюду за Юриком, которого величал великим князем, подхватывал на лету каждое его слово, и Юрик нимало не сомневался в его полнейшей ему верности.
5
Не везде была такая бодрость, как в кузнице. В мастерской, где готовились впрок боевые стрелы, услышал Юрик слова иные.
— Пойдешь на рать? — спросил один, по голосу, хриплому, надтреснутому, как видно, старик.
— Рада бы курочка не идти, да за хохолок тащат, — отвечал второй голосом моложавым, а третий рассудительно выдохнул:
— Э-э, нас мало, а их — избави Господи!
Юрик слышал этот разговор, стоя за дверью, а когда переступил порог и увидел испуганно-настороженные лица мастеров, подумал, что, может, и в кузнице сейчас, в его отсутствие, что-то уже другое молвится и про Тимура, и про великих князей московских… Пытаясь по лицам угадать, кто «рад бы не идти», обратился к тому, что занят был оперением стрел.
— Это тебя, что ли, за хохолок тащат?
Ремесленник не перепугался, открыто посмотрел на Юрика:
— У меня и прозвание Птицын, и делом я птичьим занимаюсь… Да только… Вот, смотри, князь, маховых перьев лебедя и гуся почти нет, только все вороньи… Далеко ли полетят наши стрелы? Пожалуй, не дострелят до Тимура.
Юрик рассматривал помятые и поломанные перья, видел и сам, что плохие то будут стрелы.
— И наконечники тупые, — добавил второй мастер.
И третий не отмолчался:
— Рыбий клей старый, дерево с сучками. И для сулиц древки кривые да корявые. Нешто метнешь верно такое копье?..
Первым побуждением Юрика было выяснить, кто поставляет негодный материал, и примерно наказать за это, но тут же он вспомнил, что находится не в своем уделе, а в стольном городе Руси, где один хозяин — Василий Дмитриевич. И он пообещал только:
— Расследую и великому князю скажу. — Хотел уйти, но вспомнил, что не получил все же ответа от мастера, назвавшегося Птицыным, переспросил: — Не хочешь ты, значит, на рать идти?
Птицын оказался мужиком не робкого десятка, отвечал весело:
— Да что там… ехать так ехать, как сказал воробей, когда его кот Васька тащил из-под стрехи… Уже и броню себе изготовил, вот, смотри, князь: кольчуга хоть и не железная, а, как и лапти, из кож козлиных, но крепкая, а шлем настоящий… И стрел полный колчан, все одна к одной. Для себя делал…
— Всем надо такие, — угрюмо буркнул на прощание Юрик и скорым шагом направился в Кремль к великому князю.
Василий Дмитриевич от братнина сообщения пришел в сугубый гнев и велел немедля отыскать тех, кто поставлял негодный материал для боевых стрел. Столь же скоро был учинен и суд над виновниками. Заплечных дел мастера на дворе боярина Беклемишева, что на Подоле, мигом обнажили тела приговоренных, растянули их на широких деревянных лавках, от первого же умелого их удара плетью рассекалась на спинах наказываемых кожа, вздувалась пузырями по широкому рубцу. Кровь сначала змеилась ручейками, капала на пыльную землю, но после трех-четырех жестоких ударов она била уж ключом, брызгала на руки и красные рубахи палачей. То ли перестарались они, то ли один из осужденных оказался жидким на расправу — молча и неожиданно скоро ушел в холодную страну забвения, а двое других тоже не смогли долго сносить побои, начали слезными криками молить о пощаде и обещали немедленно и бескорыстно поставить оружейникам наилучший материал.
Василий Дмитриевич, присутствовавший при истязании и не испытывавший ни капли жалости, велел отпустить их под присмотр Юрика, а тот радовался тому, как верно и решительно поступил старший брат, думал: «И я таким когда-нибудь стану!»
Хотя жил в Юрике по-прежнему дух неукротимого соперничества и властолюбия, он научился теперь сдерживать его, как сдерживает всадник не в меру разгоряченного коня, а после того как Янга переехала жить из Москвы в Звенигород, он и вовсе подобрел к старшему брату и стал замечать в нем те добродетели и достоинства личности, которых раньше видеть не умел и не желал. Конечно, от былого восхищения братом, когда тот самовольно бежал из ордынского плена, не осталось и следа, однако и отчуждение, недавно так сильно разводившее их по сторонам, прошло и забылось, Юрик был верен и предан Василию, принимал его совершенно в отца место.
Радовался, что Василий Дмитриевич ничуть не утратил самообладания, не струсил и не растерялся, в каждом слове его и в каждом поступке были уверенность в себе, в своих силах, в неминучей победе, и эта уверенность передавалась всем, кто был близ него. И то по душе было Юрику, что Василий наконец-то признал его как полководца, делится своими тайными планами, советуется. Втроем (они двое и Владимир Андреевич Серпуховской) обсуждали, как скрыть свои намерения от Тимура, Как провести незаметно полки к Коломне на Оке, как выведать ближние и дальние планы неприятеля, где устроить засады, какое место выбрать для боя, как перехитрить врага и разбить его с меньшими потерями.
По примеру брата, который в свою очередь научился этому у отца, Юрик завел свою сторожу на окраинах Руси, разослав туда верных подданных. Сейчас ему доставляло удовольствие делиться с братом сведениями, полученными голубиной и верхоконной почтой.
— Моя сторожа сообщила, что засада в лесу готова. Ну да, там, где мы и договорились… Мои люди подрубили деревья так, что они будут держаться до первого лишь толчка. Вступит Тимур в чащу, мои люди толкнут первое дерево на опушке, оно опровергнется на следующее, то опрокинется на третье, а третье повалится на очередное — посыплются деревья со страшным шумом и треском!.. Вот изумятся татары — из-ум-ятся, из ума выйдут от страха!.. А кое-кого и поувечат деревья-то…
— Хорошо, но Тимур в чащу вряд ли сунется…
— Да, вряд ли, — опечаленно согласился Юрик, — он Волгой идет. Изгоном, безвестно.
— Нет, не безвестно, моя сторожа ведает о его продвижении.
— На Рязань путь стремит.
— И о том вестен я. Нынче уходят к берегу пешая рать и обозы, а завтра выступят в поход и конные дружины.
Берегом назывался тот отрезок реки Оки от Калуги до Коломны, какой со времен еще Дмитрия Донского постоянно защищался войсками. Левый фланг был прикрыт коломенской крепостью, правый серпуховской, а на востоке за Москвой-рекой и Окой простиралась непроходимая Мещерская низменность. Таким образом, все пути вокруг княжества находились под неослабным наблюдением и преграждались заставами. Путь до берега в сто пятьдесят верст гонцы одолевали, часто меняя в пути коней, за восемь-девять часов. Конному войску при движении в борзе, то есть одвуконь, требовалось времени вдвое больше, а пешему ополчению и обозам нужно было несколько дней. Так что Василий Дмитриевич здесь все очень точно рассчитал, Юрик вполне одобрял его решение, но его другое волновало.
— Сам поведешь? — спросил и приклонился ухом в нетерпеливом ожидании: а ну как брат передумал? Он уж не раз в горячечном воображении видел себя во главе всех русских полков — он едет впереди, в великолепном золоченом доспехе, на большом белом коне, и слышит за собой цоканье многих тысяч копыт, а впереди ждет его жаркая схватка с ворогом и блистательная победа над ним… Но Василий в очередной раз охладил его пыл:
— Сам и только сам. Как отец наш пятнадцать лет назад. Всегда нужен пример, перст указующий, а в ратном деле тем паче. Отец на Куликовом поле простым ратником в первом суйме был потому, что подвиг одного — призывный стяг для всех.
Юрик видел, что брат во всем равняется на своего великого отца, и это радовало его. Василий и смотр полкам решил устроить тоже возле Коломны и к соратникам своим перед выходом с теми же словами, что и отец, обратился:
— Братие, потягнем вкупе.
Как и отцу, князья, воеводы и бояре отвечали полным согласием действовать вкупе заодно.
— Пора приспела нам, братие, положить головы свои за правую веру христианскую, да не войдут в наши города поганые, не запустеют церкви Божии, и не будем мы рассеяны по лицу всей земли, да не поведены будут жены наши с дети в полон, да не томимы будем погаными во все дни, аще за нас, умолив сына своего и Бога нашего, Пречистая Богородица, — горячо говорил, обращаясь к полкам, Василий. Ему ответствовал за всех воевод Андрей Албердов, который недавно славно проявил себя в рати с новгородцами:
— Господин русский царь! Не раз говорили мы, что за тебя живот свой положим, служа тебе, а ныне час настал, ради тебя кровь свою прольем и своею кровью второе крещение примем!
Готовность сразиться с Тимуром не на живот, а на смерть выражали все собравшиеся в Кремле, и по общему настроению чувствовалось: Русь готовится принять второе крещение столь же решительно, как и пятнадцать лет назад.
6
Великие дела в истории обыкновенно начинаются и развиваются из простых, мелких поступков и обстоятельств. Потом, став общеизвестным фактом, они видятся как заранее обдуманные, хитро измысленные и славно осуществленные деяния исторических личностей. Мог ли думать тогда Василий Дмитриевич, что небрежно брошенное им Киприану словцо сыграет столь решающую роль в осмыслении всех тех грозных событий, что переживала Русь в 1395 году. А было так.
Верно замечал Юрик, что брат его во всем равняется на отца своего. Василий Дмитриевич не скрывал это, даже всячески подчеркивал свое желание быть похожим на Дмитрия Донского. Он и шлем не взял золотой, потому что металл этот мягок и тяжел, для жестокого боя непригоден, надел простой — железный, крепкий. И всю остальную броню велел приготовить себе точно такую, какая была на отце в Куликовской сече. Вот только от меча отцовского двуручного, с длинной рукояткой, чтобы можно было охватить для более сильного удара обеими ладонями, отказался: не потому только, что слишком тяжел и велик[117], просто теперь ясно стало, что сабля более удобна в бою: она способна наносить скользящим ударом длинные раны. И Пречистой Богородице долго, как отец тогда, молился в канун выступки конных полков из Кремля Василий, и крестный ход повелел Киприану устроить.
Митрополит через всё церковные приходы Руси заповедал в дни подготовки к походу всем христианам поститься и петь молебны. Во всех монастырях, храмах, часовнях, молельнях люди русские истово, с радостью и тщанием, с усердием и верою творили пост и молитву, покаяние и обеты.
Как и всякий крестный ход в Кремле — по случаю хотя бы моления о дожде или, напротив, о ведре, и нынешний возглавлял сам государь. Как обычно, Василий Дмитриевич с поднятыми иконами из своих церквей в окружении бояр прошествовал в Успенский собор, где встретил его митрополит всея Руси. После молений в соборе вышел Василий Дмитриевич, как обычно, за крестами. Впереди шли стольники, стряпчие, дворяне, приказные люди и гости по два и три человека в ряд, а во главе всех постельничий с великокняжеской стряпней — полотенцем, стулом, подножием. Отслужив обедню, великий князь с крестным ходом в том же порядке возвратился в Успенский собор, раздавая щедро милостыню нищим и всяким бедным людям. Все, как обычно, как всегда. Но нынче великий князь ровно бы недоволен остался и на искательные вопросы Киприана ответил:
— Когда отец на Дон шел и когда я в Орду первый раз уезжал, молились мы той иконе Богоматери, что во Владимире находится.
Киприан с полуслова все понял, начал почасту осенять себя и великого князя крестом и, обратившись взором на восток, в сторону Владимирскую, заглаголил:
— Верую, верую, что никто же не может избавите от нужа сея и печали, разве владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Мариа, та бо приложит печаль нашу на радость, та бо есть заступница наша, и града нашего и всякого града, и страны, и всего рода человеческого, иде же с верою призывает ее на помощь. Сие бо избавляет все христианы от глада и от пагубы, от труса и потопа, от огня и меча, и от нахождения поганых, и от нападения иноплеменников, и от нашествия ратных, и от междоусобные рати, и от напрасные смерти, и от всякого зла, находящего на нас, но точию с верою призовем имя Ее на помощь и со усердием помолимся ей и не погрешим прощения нашего.
Василий Дмитриевич взял с собой в поход икону Николы-угодника, которая была с Дмитрием Донским на поле Куликовом, а Владимирскую Богоматерь пожелал иметь в иконостасе Успенского собора Москвы, с чем Киприан преохотно согласился и немедля выслал за ней своих бояр с архиепископом и двумя священниками.
История той иконы известна каждому на Руси по множеству изустных рассказов, подробно изложили ее и летописцы на своих пергаментах. Доподлинно известно, что была она до Владимира в Киеве, а прежде того в Константинополе, где написал ее — это уж известно лишь по преданиям, но не доподлинно — сам святой евангелист Лука. Икона некогда была перенесена из Иерусалима в Царьград императрицею Евдокиею, супругою Феодосия-младшего, и поставлена во Влахернском храме, а патриарх константинопольский Лука Хризоверг[118] прислал ее в Киев к великому князю Юрию, который поставил икону в девичьем монастыре в Вышгороде. Андрей Боголюбский, учредив свой княжеский стол во Владимире-на-Клязьме, завоевал и разграбил Киев и при этом тайно увез знаменитую икону. Киевляне пустились в погоню и пытались с оружием в руках отбить свою святыню. Но икона, как записал с чьих-то слов летописец, «явила чудо»: повернулась спиной к киевлянам и заплакала, выразив таким образом собственное желание переменить местожительство. Это настолько обезоружило простодушных киевлян, что они смирились. Андрей повез ее дальше уж не тайно, но на берегу Клязьмы, не доезжая Владимира, кони вдруг остановились и не могли сдвинуться с места, как их ни понуждали. Князь построил на том месте каменный храм и поставил на время икону, а место назвал Боголюбовым в знак того, что Богородица возлюбила его. Построив во Владимире великолепный храм из привезенного из Булгарских каменоломен материала, князь перевез в него чудотворную икону, украшенную окладом из 15 фунтов золота, жемчугом с драгоценными каменьями. Для нового собора князь Андрей назначил лучшие села с купленными поселенцами, десятую часть своих стад и десятую же пошлину с торгов, а к иконе питал особенную веру и, когда выходил на брань, имел обычай брать ее с собой. Чтили ее и все последующие владимирские князья, не случайно и Василий Дмитриевич вспомнил о ней после крестного хода в Кремле.
Всем пришлась по душе мысль перенести икону в Москву, но никто не мог тогда прозревать, что во время этого перенесения явит икона самое большое свое чудо.
По слову великого князя, по велению митрополита в самый праздник Успения Богородицы во владимирской церкви Успения после пения и молебна перед образом Пречистой икону взяли из киота и понесли из города по дороге на Москву. Все священники Владимира провожали ее с крестами и кадилами, весь народ шел следом — малые и великие, юные и старые, мужи и жены, отроковицы и младенцы, сосущие млеко на руках матерей своих. Рыдали православные, падали перед иконой ниц, пролезали под ней на коленях прямо по густой после проливного дождя грязи.
С крестами же и кадилами, с богородичными иконами, хоругвями, святыми мощами, дароносицами, потирами и под медноволновый гул колоколов встретил икону Киприан, а с ним все московские епископы, архимандриты, игумены, иереи и дьяконы. Тут же были князья и бояре, княгини и боярыни, нищие и убогие, иноки и инокини, ремесленники и крестьяне, простонародье и купечество, и все под пение псалмов и молебных правил падали на землю ниц[119].
Когда устанавливали икону в соборной церкви Успения, митрополит обратился к ней со страстной молитвой, которая тронула сердце каждого слышавшего ее:
— О Всесвятая владычица Богородица, избави нас от нахождения безбожных мирян, хвалящихся достояние Твое разорити. Защити князя и людей от всякого зла, заступи град сей и всяк град и страну, в них же прославляется имя Сына Твоего и Бога нашего и Твое. Избави нас от нахождения иноплеменников, от поганых пленения, от огне и меча их, и от напрасного убиения, и от обдержащая нас скорби и от печали, нашедшие на нас, и от настоящего гнева, беды и нужа времени, от всех сих предлежащих нам искушений, пришествием Своим к нам и благоприятными молитвами к Сыну Своему и Богу нашему свободи. О пресвятая Госпожа Владычица Богородице, умилосердися на нищие и убогие и скорбящие люди Твои, на Тя бо надеющеся не побытием, но избудем Тобою от враг наших. Не предай же нас, заступница наша и надежа наша, ненавидящим нас, но советы их разори и козни их разруши во время скорби сей, нашедшей на нас, буди нам теплая заступница и скорая помощница и предстательница, да избивше от всех злых, находящихся на нас, благодарил ти возопием: «Радуйся, заступница христиан и покрове граду».
И вот тут-то и произошло великое чудо. Скоро-вестник, загнавший двух коней в стремлении принести скорее добрую весть в Москву, примчался к Владимиру Андреевичу Серпуховскому с устным донесением от великого князя Василия Дмитриевича. Весть была столь неожиданной и столь счастливой, что гонец, как видно, в пути не раз повторял слова ее, подбирал новые, предвкушая, сколь сильно изумит он изнывающих от неизвестности и страха москвичей. Не смог сдержать волнения, заговорил с придыханием, заикаясь:
— Тимур-Аксак, царь поганый, гордынный и бесчеловечный, не имеющий и обличья человечьего, но весь мерзок и безобразен.
— Н-ну и что т-там? — нетерпеливо понужнул его Владимир Андреевич, тоже заикаясь, как случалось с ним каждый раз в минуты душевного волнения на протяжении всех пятнадцати лет, прошедших со дня Мамаева побоища.
— Н-ни семо, н-ни инамо…
— К-какое «семо», г-говори тол-ком!
— Царь поганый, Хромец Железный, пакы убоялся зело, — уже более внятно ответствовал гонец, — вборзе в обратный путь устремился, так скоро, будто гонится за ним рать несметная!
— Воистину гонит его сила и гнев Божий благодарением помощи и заступницы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии! — вскричал Киприан. — Крепкая в бранях христианского рода помощница!
Серпуховской и верить боялся от радости такому сообщению, однако велел гонцу все в самых малых подробностях донести. Но тот смог добавить только, что Тимура после двухнедельного стояния возле Куликова поля обуял страх столкнуться с большим русским воинством, и он, жестоко разорив в рязанской земле город Елец, убежал, гонимый Божьим гневом.
7
В богатых хоромах и в бедных клетях, на улицах и рынках, на торжищах и в кружалах, по всем стогнам Москвы и по всем весям Руси шло великое ликование и многое размышления — раздавались горячие толки и споры, суждения и рассуждения, разглагольствовали даже и отроки несмышленые, и лесные люди дивные, ибо всех касалось свершившееся невероятное событие: изверг рода человеческого, кровожадный завоеватель Тамерлан испугался принять бой с русским воинством и постыдно бежал!
Хотелось постигнуть суть происшедшего и Василию Дмитриевичу. Москва встретила его как доблестного победителя, но сам-то он знал, что вряд ли Тимура заставил убежать один лишь страх перед «воинством, от Руси грядущим». Известно было Василию Дмитриевичу, что в церковных кругах и в простонародье паническое бегство грозного завоевателя вселенной связывали с перенесением иконы Владимирской Богоматери. Епифаний, не всуе прозванный Премудрым и много лет поскитавшийся в дальних странах, ведающий много разных языков, уверял, что грозный и неустрашимый Тимур и раньше, случалось, принимал столь неожиданные решения, что окружавшие его соратники «грызли палец изумления зубом удивления».
После того как Тимур превратил цветущую Армению в пустыню, где царило после того одно молчание, овладел Тифлисом и крепостью Ван, он повел поначалу себя как истинный дикий тиран, любимым развлечением которого было сооружение пирамид из отрубленных голов побежденных. Приказав увезти женщин и детей в рабство, он велел всех мужчин без разбора, праведных и неверных, сбрасывать с зубцов крепости в глубокую пропасть. Несколько дней бесчинствовали головорезы, вся местность вокруг крепости была затоплена невинной кровью христиан, равно как и чужеземцев. Тогда-то и случилось, что один благочестивый мусульманский богослов взошел на минарет и громким голосом стал читать из Корана молитву последнего дня: «Он пришел, день Страшного Суда!» Безбожий варвар, душа которого не знала ни страха, ни жалости, спросил: «Что это за крик?» Окружавшие его отвечали: «Пришел день Страшного Суда; провозгласить его должен был Иисус, но благодаря тебе он наступил уже сегодня. Потому что ужасен голос взывающего, подобен трубному голосу!» — «Пусть раздробят эти уста! — велел Тимур. — Если бы они заговорили раньше, ни один человек не был бы убит». И тут же отдал приказ не свергать больше никого в пропасть, а всех еще оставшихся в живых людей отпустить на свободу.
— Что же, милосердие в нем заговорило? — спросил Василий Дмитриевич.
— Нет, — ответил Епифаний Премудрый. — Не милосердие, нет. Приказ о пощаде вызван был одним только суеверием, которое заставляет всех восточных людей, даже и самых неустрашимых, пугаться каждого слова с дурным предзнаменованием.
Внимательно и вдумчиво выслушал Василий Дмитриевич и Кирилла — того самого Кирилла, что некогда был развеселым надзирателем слуг в доме окольничего, потом послушником в Симоновом монастыре, юродивым, игуменом, а ныне именовавшимся Белоозерским, потому что уже громка была на Руси слава о монастыре, основанном им несколько лет назад вместе с братом Ферапонтом на Белом озере. Если познания Епифания можно было объяснить его большой книжностью, то ученость Кирилла, который в сознании Василия Дмитриевича запечатлен ярче всего все же в облике юродивого, была столь же неожиданной, сколь и обширной.
— Смотри, великий князь, — приглашал к размышлению старец. — Тимур победил Тохтамыша, как и других царей в государстве куртов[120], в Сирии, Иране, Армении, Грузии, Кипчаке, не раньше того, как в рядах врагов его возникали раздоры и несогласия. А в твоем государстве он, значит, не сумел никого подкупить и устроить смуту… Так я думаю…
Рассуждения Кирилла вполне устраивали Василия Дмитриевича. Стоило бы ему поразмышлять, как случилось, что не нашел Тимур на Руси подлых изменников, а размыслив хорошо, он, может быть, и впредь мог бы править с большей мудростью и искусством, но тогда, пошла его мысль в ином направлении, и она затмила его разум, как помрак: Тимур не принял сражения, как только узнал, что против него выступил самолично Василий Дмитриевич. И может, впервые за шесть лет правления уверился он в том, что имеет реальную власть — ту власть, что не сама по себе дается человеку по праву наследования или простого завоевания, но вырабатывается каждодневным трудом и великими искушениями, вся жизнь его как государя — это не что иное, как выработка особенностей и характера этой власти, которые становятся точным отражением особенностей и характера всей жизни народа, его быта. Великий полководец Тимур не струсил, нет, он проявил благоразумие, поняв очень важное обстоятельство: ему противостояла сила, несокрушимость которой в единстве помыслов и устремлений народа и его государя Василия Дмитриевича, как един был со своим воинством Дмитрий Донской, победивший на поле Куликовом при обстоятельствах, которые, казалось бы, были направлены против него и обрекали его на безусловное поражение. Да, Тимур — это не Мамай и не Тохтамыш, с ним, наверное, еще не раз придется помериться силами!.. Так рассуждал Василий, опьяненный счастьем нечаянной оглушительной победы и поселившейся в нем рассудительной и твердой веры в то, что отныне победа будет сопутствовать ему всегда.
Когда сказал Кирилл о подкупах, вспомнил Василий, как в ордынском плену смущал его, тринадцатилетнего отрока, посол мало тогда кому известного Тимура предложением породниться, жениться на племяннице будущего повелителя мира красавице Кюрюльтей, что значит по-русски — желание. Наверное, донесли тогда о гордом отказе московского княжича Тимуру, и он не. мог не запомнить этого. А когда подошел к Оке, к берегу Руси и узнал о встречном движении Василия, вспомнил тот давний случай… А что?.. Вполне сбыточное дело!
Что и говорить, соблазнительные мысли овладели Василием Дмитриевичем, они увлекали его в необоримые победные дали, вздымали на крыльях славы, благо в славословии не испытывал он недостатка: встретили его в Москве после возвращения из похода разве что чуть-чуть не столь торжественно, как встречали пятнадцать лет назад отца. Киприан, видя настроение великого князя и не умея до конца понять и объяснить его, жалостливо приставал:
— Не подобает, о сын, забвению предавать Божью милость, помощь святой Богородицы, заступницы за род христианский, да не останется без праздника бывшее сие преславное чудо Богоматери пред очами нашими!
— Нет, не останется, — благодушно заверил митрополита Василий Дмитриевич и повелел поставить церковь и монастырь на том месте, где была встречена икона.
Освящал церковь сам митрополит «во имя святыя Богородицы, честнаго ее сретения».
Василий Дмитриевич повелел установить 26 августа праздник в честь и «во славу пресвятые владычица нашей Богородицы и Приснодевы Марии»[121].
Постоял на коленях, и не раз, Василий Дмитриевич перед иконой Владимирской Богоматери, однако дороже ему была та, что с ним в походе побывала — отцовская икона святителя Николая. Повелел установить ее на кремлевских воротах, отчего сама башня с той поры получила название Никольской, как и улица, от нее начинавшаяся. Малое время спустя передумал — решил другой образ Николы при входе в Кремль поместить: пусть будет он святителем, как прежде, пусть держит в левой руке храм Божий, но в десницу надо вложить ему русский четырехгранный меч — как то подобает небесному заступнику земли Русской, покровителю молодого крепнущего государства. Так рассудил Василий Дмитриевич, только не мог решиться: кому из изографов заказать икону — знаменитому ли Феофану Греку либо кому-то из своих, русских мастеров?
8
— Как думаешь, Тебриз, почему бежал от меня Тимур?
Тебриз не сразу ответил. Украдкой, но пытливо вглядывался в лицо великого князя, пытаясь предугадать, каких слов от него ждут. Для пробы сказал уклончиво:
— Тимур такой воитель, который имеет непременно у своего лука запасную тетиву…
— Ты не забыл ли, как водил тайно ночью к послу его?
Что-что, а тот свой очень рискованный поступок, когда он лукавил сразу перед всеми — и перед Тохтамышем, и перед послом Тимура, и перед московским княжичем, — Тебриз помнил всегда очень хорошо, да только не знал, можно ли признаваться в этом. Коль сам великий князь заговорил об этом, стало быть, тайны больше нет. Тебриз облегченно вздохнул и отвечал, уж не боясь промашки:
— Тимур татарам больший враг, чем русским.
— Не боится он их потому что.
— Верно, ах как верно, государь! — уж окончательно воспрянул Тебриз, — А про Русь он знает, что она молчит, молчит да как встряхнет плечами, как устроит еще одно Мамаево побоище!
Тонким льстецом был Тебриз, сверх меры угодил великому князю, за что и вознаграждение получил сразу же царское и поручение новое и почетное — следить за всеми шагами Тимура, сообщать в Москву о всех его намерениях и действиях и вообще обо всем, что касается Тимура. Василий Дмитриевич голосом подчеркнул — «обо всем», о каждой самой вздорной на первый взгляд мелочи.
Да и как было объяснить то сложное чувство, которое переживал тогда Василий? Как передать не то что Тебризу, но брату родному, матери или даже Янге либо Андрею Рублеву тот вихрь мыслей, тот подъем душевный, что переживал он тогда, вернувшись из победного и бескровного похода? Он часто задумывался тогда о судьбах Александра Македонского, Магомета, Цезаря, Аттилы, Чингисхана, Александра Невского, Дмитрия Донского… Да вот еще и Тимура… А еще — и о своей судьбе, о грядущей судьбе великого князя московского, государя всея Руси… О людях мизинных он, случалось, вовсе позабывал, словно бы их и не существует на свете, думал только о тех, кто богатырствовал на земле; все ничтожное прочь, в сторону, как пыль! Были и есть люди-великаны, люди-богатыри, властители дум человеческих, решатели чужих судеб, покорители миров. Почему бы и Василию Дмитриевичу не стать одним из тех, чья воля направляет ход истории, расширяет горизонты жизни? Может быть, он не сможет стать мудрейшим из мудрых, не сможет проникать умом в суть вещей, как это делали Сократ, Пифагор, но ведь и Тимур на это не способен… Великое призвание Василия Дмитриевича, как и Тимура, в другом: он человек не мысли и не слова, но человек дела, как вождь он стяжает себе на голову венок из лавра… Но нет, не хочет Василий Дмитриевич быть ни Тимуром, ни «бичом Божьим» Аттилой: не в этом слава его, он должен, как говорит Андрей Рублев, великий мир и красоту на земле Русской утвердить. Впрочем, впрочем… Можно ли без меча-то это сделать?.. Голова пылает, стремления высоки, но не ясны… Как хотелось бы соединить в себе мудрость и силу, утвердить себя в мире и мощью своего духа, и силой меча… А ради чего? Ради величия и прославления?.. Нет, ради того, чтобы принести благо всем своим подданным, всем людям.
Кроме Тебриза, о всех походах, поступках и даже случайно брошенных словцах приносили Василию Дмитриевичу ведомости многие доброхоты. Но после того как он узнал во многих подробностях о том, как Тимур осаждал города Сарай-Берке и Хаджи-Тархан[122], а затем в суровый декабрь со всем своим войском оказался в ледяной пустыне возле крепости «Чертово городище», испытал к нему нечто вроде даже сочувствия и жалости. Вести о его судьбе стали приходить реже и реже — лишь от одного Тебриза. А в последней ведомости тот сообщал, что один из доброхотов великого князя московского утонул в Дербентском проходе на Каспии, второй поражен неведомо откуда прилетевшей стрелой, третий в нетях оказался. Тебриз не пояснял, но легко было понять, что Тимур убирал неумелых соглядатаев тихо, но безжалостно.
Киприан, узнав об этом, сказал:
— Неспокоен мир, неустроен, жизнь государя тревожна, день сегодняшний шаток, а завтрашний и вовсе ненадежен, поди знай, когда он затрубит, ангел смерти… Надо тебе, сын, от всех своих бояр крестоцеловальные записи взять.
— Зачем же? Ведь доброхотов моих если кто-то и губит, то чужие же, не мои люди.
— На Востоке говорят: если змея ядовита — все равно, тонкая она или толстая, если враг коварен — все равно, близок он или далек.
Василий раньше несколько настороженно относился ко всякому предложению, исходившему от Киприана, но ныне митрополит стал казаться ему уже не соперником по правлению землей и народом, а одним из тех, кто без различия звания и возраста равен перед великим князем — как боярин, как челядин, как смерд. Он милостиво позволил Киприану провести обряд крестоцелования в покоях каменного храма.
Первым клялся в верности государю старейший в сонме бояр Федор Андреевич Кошка. Старик уж, он стоял перед великим князем прямо, смотрел открыто, говорил истово, как на молитве, и нельзя было сомневаться в том, что, скажи Василий Дмитриевич слово, Кошка бросится за него в огонь и в воду.
— Яз, Федор Кошка, сын Андреев, — громко и четко произносил он, — целую сей святый крест, животворящий крест Господа, государю своему великому князю всея Руссии Василию Дмитриевичу, матери его государыне Евдокии Дмитриевне, и великой княгине Софье Витовтовне, и всем их благородным детям, что есть и тем, которых им, государям, впредь Бог даст, на том: служить мне им, государям своим, по чести и добра хотети во всем безо всякой хитрости и мне мимо государя своего великого князя Василия Дмитриевича иного государя из иных и из никоторых разных государств и из русских родов никого на Московское княжество не хотети. Также мне, будучи у государя своего и у государынь, и у детей их, всем им добра хотети и их государского здоровья от всякого лиха оберегати и по сему государеву крестному целованию; а где услышу или сведаю на государя своего в каких людях скоп, или заговор, или иной какой злой умысел, и мне на тех людей про то сказати государю своему великому князю Василию Дмитриевичу; и с недругами его битися до смерти, и без его государева указу ни о которых делах ни с кем не ссылатися, и лиха ему, государю, ни в чем не хотети. Целую сей крест господен яз, Федор Кошка, сын Андреев, на том на всем!
Следом сын Кошки казначей Иван Кошкин целовал крест, поклявшись:
— Над государем, над великими княгинями и над их детьми никакого лиха не учинити и зелья и коренья лихова в платье и в иных ни в каких в их государских чинах не положити…
И кравчий присягнул:
— Ничем в естве и в питье не испортити, а зелья и коренья лихова ни в чем государю не дати…
Повторил все и стольник:
— Государя ничем в естве и питье не испортити и зелья и коренья лихова ни в чем не дати…
— В их государском платье, и в постелях, и в изголовьях, и в подушках, и в одеялах, и в иных во всяких государских чинах никакова дурна не учинити, и зелья и коренья лихова ни в чем не положити, — клялся постельничий, а за ним еще ясельничий, стремянный конюх, конюшенный дьяк свою божбу, целуя крест и преклоняя колена, — произнесли:
— Зелья и коренья лихова в их государские седла, в узды, в войлоки, в рукавки, в плети, в морхи, в наузы, в кутазы, в возки, в сани, ни под место, ни под полет в санную, в ковер, в попонинку и во всякой их государской в конюшенной и в конский наряд, и в гриву, и в хвост у аргамака, и у коня, и у мерина, и у иноходца коренья не вязати и не положити — самому не положити и никому конюшенному чину и со стороны никому же положити не велети, и никоторого зла и волшебства над государем не учинити, и всякого конского на ряду от всяких чинов людей конюшенного приказу и от сторонних людей во всем беречи накрепко, и к конюшенной казне и к нарядам сторонних людей не припущати.
Торжественные обеты сделали все стряпчие, жильцы, дьяки казенные, шатерничие и прочие бояре.
И великой княгине Евдокии Дмитриевне все ее боярыни целовали крест и клялись: «…лиха никоторого не учинити и не испортити, зелья лихого и коренья в естве и в питье не подати и ни в какие ее государевы обиходы не класти, и лихих волшебных слов не наговаривати, и без их государского ведома ни с кем ни о каких государских делах не ссылаться, и над государевым платьем, и над сорочками, и над портами, и над полотенцами, и над постелями, и над всяким государским обиходом лиха никоторого не чинити». Последней присягала верховная боярыня Софьи Витовтовны, приехавшая с ней из Литвы Нямуна.
Слушая ратьбу бояр своих, нимало не сомневаясь, что ни один из них не станет клятвопреступником, сожалел Василий Дмитриевич о том, что не может заставить целовать себе крест Андрея Рублева: все равны перед великим князем, а инок в черной рясе опричь рук государевых.
Дружина изографов, закончив роспись храма Рождества Богородицы, занята была поновлением Архангельского собора, который, как значится в летописях, пятьдесят лет назад «подписывали Русские писцы Захарья, Иосиф и Николае и прочая дружина их». Василий Дмитриевич время от времени заглядывал в собор Михаила Архангела, следил, как идут работы. Однажды, наблюдая, как Андрей Рублев расчищает старые краски на фресках западной стены, где над входом была картина Страшного Суда, обронил с усмешкой:
— Ты думаешь, Андрей, «бич Божий» — Аттила в аду, в геенне огненной гореть станет?
— Как и изверг Тимур.
— Но Тимур же велик, как мир!
— Это ты так думаешь, потому как из твоих жертв пирамиду не сложить, а я думаю, что он — чудовище из чудовищ.
— Он завоевал полмира.
— Он полмира превратил в погост.
— Тимур же не сам но себе, он делает лишь то, что хочет его народ, он выражает настроение своих племен.
— Да, как матерый волк выражает наклонности своей стаи.
— Но вот убежал матерый волк от меня! — хвастнул невольно Василий.
Андрей скосил насмешливый взгляд, обронил, заканчивая разговор:
— Удача, что волк, — обманет и в лес утечет.
Василий раздосадован был разговором, не столько слова Рублева сердили его, сколько тон их, не то чтобы небрежное, но безразличное, незаинтересованное отношение изографа к тому, что думал и говорил ему Василий Дмитриевич. Впрочем, и слова вырывались у него порой обидные, вот вроде тех — «удача, что волк…».
Не только Рублев, но и Евдокия Дмитриевна, и Владимир Андреевич говорили Василию в разной форме, что внезапный уход Тимура с рязанской земли — какая-то случайность и что враг может нагрянуть ратью снова, однако Василий не хотел в это верить. Вместе с тем он слишком хорошо понимал, что угроза для Руси со стороны степи отнюдь не устранена, и решил принять меры по дальнейшему укреплению берега. Юрик и Владимир Андреевич по его приказу проверили все засеки на Оке.
— Те, что с прошлых лет стоят, хороши, но много прорех, однако, — поделился своими наблюдениями Серпуховской, вернувшийся после объезда засек.
— Смолоду прорешки, под старость дыра, — значительно вставил Юрик.
Владимир Андреевич, пряча в усах улыбку, выслушал и продолжал:
— Один бортник сказал мне, что пчелы заклеивают воском отверстия в бортях, куда забирается мышь-воровка. Вот и нам бы так надо.
Всю осень Владимир Андреевич со своими серпуховскими и боровскими мужиками занимался укреплением южных и восточных границ. Там повсеместно росли лиственные леса с буйным подлеском. Рубили деревья на высоте человеческого роста, однако не дорубливали, так что стволы с кронами не падали наземь вовсе, а лишь низко сгибались. Рубить старались так, чтобы деревья ложились крестом, на все четыре стороны. Через полуживые деревья прорастают лещина, ежевика, шиповник, малина, терн и поросль молодых берез и осин — получается путаница ветвей и хвороста. Засеки были длинными, вдоль всей Оки, и имели в ширину до десяти верст. В тех редких местах, где лес был вырублен, выкапывали рвы, наполняя их водой и набив в дно чеснока — острых кольев, невидимых сверху.
И саму Москву решил Василий Дмитриевич укрепить еще надежнее, для чего надумал оградить земляным валом со рвом все выросшие возле Кремля посады. Копать ров начали от Кучкова поля полукольцом до Москвы-реки[123].
И сам Кремль решено было перестроить, сделать дополнительные башни с тем, чтобы не оставалось между ними пространства, простреливаемого из лука. По примеру новгородской крепости задумал Василий Дмитриевич изменить всю систему входов в Кремль: сделать их на открытых дорогах, поднимающихся вдоль насыпей валов и находящихся под обстрелом со стен, причем так расположить дороги, чтобы по отношению к противнику стена оказывалась с правой стороны, — в этом случае осаждающим город татарам или литовцам придется быть в невыгодном положении, ибо щиты они носят на левой руке.
Круговую оборону Москвы обеспечивали расположенные кольцом монастыри Рождественский, Сретенский и Покровский с севера, Зачатьевский с запада у Крымского брода, Данилов и Симонов с юга, Андроников с востока; на каждом из них побывал Василий Дмитриевич, самолично оценил их возможности отражать иноземных захватчиков.
Не боясь гнева Орды, великий князь повелел выселить из Кремля всех татар. А место им для жительства определил в посаде на Ордынской дороге, где была даже в июльскую жару непролазная грязь. Татары пороптали, однако — делать нечего — покорились и перебрались со всем скарбом за реку, а посад свой назвали Бал-чехом[124].
А еще задумал Василий Дмитриевич в честь пятнадцатилетия победы на Куликовом поле и в память пронесшейся мимо беды Тамерланова нашествия на Русь отбить новую серебряную монету — и запас денег пора уж пополнить, а главное, очень соблазнительно было пустить наконец по белу свету серебряную копейку без постылой, унизительной надписи: «Султан Тохтамыш-хан — да упрочится царствие твое». И уж дал он задание Федору Андреевичу Кошке да двум его сыновьям, Ивану и Федору Кошкиным, готовить лом серебряного металла, уж решил опять поручить Андрею Рублеву сделать для резчиков изображения обеих сторон монет, однако митрополит Киприан не дал своего благословения на начало нового дела. Он разразился длинной и не совсем ясной проповедью:
— Нет яда сильнее яда аспида и василиска, и нет зла страшнее самолюбия. Исчадия же самолюбия — змеи летающие: самохваление в сердце, самоугождение, пресыщение, блуд, тщеславие, зависть и вершина всех зол — гордость, которая не только людей, но и ангелов свергла с небес и вместо света покрывает мраком.
— Ты считаешь, что я в гордынности заношусь?
— В самомнении, сын мой, а самомнение ведь есть оскопление души, не позволяющее ей познавать свою немощь.
— Значит, ты меня немощным находишь?
— Святой Петр уверял, что не отречется от Господа, а до дела дошло, отрекся от него, и еще трижды. Такова наша немощь! Не будь же самонадеян и, вступая в среду врагов, возложи на Господа всеупование преодолеть их. Затем и попущено было такое падение и столь высокому лицу, как святой Петр, чтобы после никто, хоть бы и великий князь, не дерзал сам собой исправить что доброе и преодолеть какого-нибудь врага, внутреннего или внешнего.
— Значит, должен я руки опустить, на Господа одного лишь уповая? — растерянно вопрошал Василий Дмитриевич.
— Нет, нет, сын мой. Помощь от Господа приходит нашим усилиям и, сочетаясь с ними, делает их мощными. Не будь этих усилий, не на что снизойти помощи Божьей, она и не снизойдет. Но если ты самонадеян, и, следовательно, не имеешь потребности в помощи, и не ищешь ее, — она опять же не снизойдет. Боже, помози! Но и сам ты не лежи.
— Вот я и хочу…
— Хан Тохтамыш находится сейчас в Литве, вместе с тестем твоим великим князем Витовтом собирает силы против проклятого изверга Тамерлана.
Ах, вот оно в чем дело! Всегда и раньше, когда Киприан заводил речь о Витовте, испытывал Василий раздражение, досаду, даже порой испуг, но сейчас была лишь саднящая ревность: по-прежнему митрополит всея Руси отдает предпочтение государю Литвы, а не Московии, доколе? И как понимать действия Витовта? Вот тот случай, когда родные хуже врага: если верить донесениям Августа Краковяка, Витовт, захватив Гродно, Смоленск, подкашивает сейчас свой хищный взгляд на Псков да Великий Новгород. А может, и Москву надеется под свою державу подвести?.. И этот Киприан — лиса пролазчивая, он непременно в тайных связях с Литвой — все ведает, но не о всем говорит.
Василий Дмитриевич не выдал своего настроения, ответил рассудливо:
— Что же, тогда повременим, покуда запас денег еще имеется. А мало спустя отчеканим все же — с другими штемпелями, но веса точно такого же, точноточно такого же, — он сильно нажал на последние слова и умолк, выжидая, как отнесется к ним Киприан. И тот выдал себя, чуть ворохнулся, звякнув толстой золотой цепью, на которой висела у него на груди панагия, отвернулся к киоту. А Василий продолжал: — Да, точно такого же веса будут деньги, какие отец сделал в последний раз. Федор Андреевич вспомнил, что отбили их мельче не из бережения серебра и не обмана ради, а по нужде: сделали их такими, что их стало ровно две в одной новгородской беле, а два Тохтамышевых дирхема, которыми пользовалась Рязань, стали в точности как две московские деньги. А до того ни то ни се было, трудно было с соседями торговать, отец хорошо придумал!
Митрополит опять никак не отозвался, предался молитве, после которой вновь вернулся к своему поучению:
— Человека — своего благодетеля, брата ли, отца ли — человек любит, почитает и прославляет, хотя все, что ни получает от него, есть Божие. Небеса проповедуют слово Божие. Солнце, луна и звезды своим светом прославляют Бога. Птицы летают, поют и славят Бога. Земля, со своими плодами, и море, с живущими и движущимися в нем, хвалят Господа. Словом, все создание творит слово и повеление Божие и так хвалит Господа своего. Но человек, на которого гораздо большая излилась благодать Божья, чем на все другое созданное, ради которого, созданы небо и земля, ради которого сам Бог явился и пожил на земле, человек — разумное творение, окруженное Божьим благодеянием, не хочет хвалить и благодарить Бога, Господа, Создателя и Благодетеля своего. Так бедственно ослеплял грех Дмитрия Ивановича, царство ему небесное, но не хочу, сын мой, видеть я в тебе и признака неблагодарности и забвения Бога, ибо это удаляет от него, уничтожает веру. Коли правду сказал боярин твой, возблагодари за это Господа!
Василий Дмитриевич сделал вид, что приложился к руке митрополита, Киприан будто бы поцеловал в темя его. Разошлись тихо, но со скрытым недовольством друг другом и с предощущением неминучей в будущем вражды.
9
Теперь, когда беда миновала, можно всякое толковать, можно возносить себя, можно все объяснять и случайностью. А еще говорят: судьба да промысел Божий. Да, это бывает — судьба вдруг благоволит человеку. Но если разобраться, то благоволит она обычно человеку сильному, достойному, и тогда уж не кажется случайностью, а заносится в опись его заслуг, она уж всеми принимается как вещь законная и неизбежная, предопределенная и заслуженная. Но ведь, однако, случается же, что судьба благоволит и человеку недостойному, слабому — да, и такое случается, однако вот тут-то и ясно становится: случай, судьба, счастье сами по себе еще мало значат, надо уметь их взять. Личности слабые, не веря в силы свои, хотя бы и скрывающие это ото всех, оказываются неспособными воспользоваться случаем и судьбой, теряют нить — может быть, оттого это, что нить дается им на какое-то малое мгновение, когда некогда раздумывать и колебаться, а чтобы принять решение, не колеблясь и немедленно, нужны долгие сроки подготовки к этому. И если все же слабый и ничтожный человек окажется волей судьбы вознесенным высоко, он быстро и падает. Когда поступили с гонцами первые ведомости о нашествии Тимура, были в Москве неясность, смута, брожение — Киприан, Юрик, Владимир Андреевич, Евдокия Дмитриевна, многие из наибольших людей в сомнениях и колебаниях пребывали, то ли так надо поступить, то ли наинак… А когда Василий Дмитриевич без малых шатаний принял самолично решение выступить навстречу полчищам агарян, все облегченно вздохнули и все, даже и враждовавшие доселе, согласились, что решение великого князя не только правильное, но и единственное. А направь он тогда в поход Владимира Андреевича Серпуховского с Юриком — бежал ли бы, не приняв боя, Тимур? О-о, это еще не золото в огне, нет, неизвестно еще, как бы история Руси повернулась.
Так судил умом про себя Василий Дмитриевич и от такого хода мысли креп духом и устремлением, перемалывал всю досадующую суету сует. Не сомневался он, что и Андрей Рублев вернет ему свое благорасположение, которого Василий Дмитриевич — как он твердо сам полагал — вполне заслуживал и в котором — он это чувствовал все острее — очень нуждался. Вот и сообщением Кошки об отцовских деньгах захотелось поделиться именно с Андреем, к нему он сразу и направился после нервного разговора с Киприаном.
Рублев был один, сидел среди свежеструганых, медово пахнувших досок.
— Липовые? — догадался Василий.
Андрей молча кивнул головой.
— Смотри-ка, сколь тонкостно тесаны… И ни единого сучочка…
— Да, а то и треснуть доска может, разорваться. Не сразу, конечно, потом когда-нибудь.
— Хочешь, чтобы до Страшного Суда молились на твои иконы люди? — без усмешки, совершенно серьезно спросил великий князь. И изограф ответил в тон ему:
— А может, и больше ста лет суждено моим доскам жить. — Андрей не прервал своего занятия, продолжал сплачивать шпонками две узкие доски воедино. Они сошлись заподлицо, даже и линии годовых колец совпали. Перевернул заготовку для будущей иконы лицевой стороной, разметил по краям ровные поля и взялся за тесло.
— Что же в ковчеге-то хочешь поместить?
— Николы Чудотворца образ. Мужик один мне заказал.
— Как Феофан Грек будешь писать или по прориси?
Этот вопрос почему-то смутил Андрея, он оторвался от своего занятия, посмотрел раздумчиво на великого князя, словно решая, отвечать или нет. «Глядит на меня, как Анисим незрячий», — с обидой подумал Василий Дмитриевич, но тут же и успокоился, подметив, как залучились светом глаза Андрея, словно бы согласие и радость выражая.
— Понимаешь, пришел ко мне мужик, просит образ Николы написать и при этом поясняет: «А обличье его я тебе обскажу». — Андрей по-прежнему держал на коленях доску и осторожно выдалбливал в ней углубление ковчега. Иногда умолкал, стряхивая на пол мелкие стружки. — «Нешто ты знаешь, каково его обличье?» — спросил я мужика и добавил, что ведь даже для великого Грека Бог и его угодники так же далеки, как и для всех других смертных. «А я сподобился лицезреть Николу вот как тебя сейчас», — ответил мне мужик и рассказал об этом во всех подробностях. Угодил он на охоте в лосиную яму, никак не мог вылезти из нее. Думал, что уже все, сочтены его дни на этом свете, как явился какой-то незнакомый дедушка и говорит: «Спасу тебя, но за это обязан ты три милости подать после — нищим, сирым и убогим». Помог выкарабкаться из ловчей ямы и исчез. А мужик пришел домой, рассказал своей бабе о произошедшем и пошел в баню мыться, наказав престрого подавать первому же нищему все, что тому требуется. Только ушел, как является в дом (об этом ему уже после баба рассказала) нищий-татарин и просит есть. Баба дала ему свежий, теплый еще каравай. Захлопнулась за ним дверь, снова — тук-тук! — заходит девочка-сирота, дай, говорит, за Христа ради. Ей баба лапоточки новые, которые мужик только что для своей дочки сплел. И вдруг снова дверь настежь — дед ветхий с сумой. И ему баба дала, что захотел тот, а в это время и мужик сам из бани заявляется. Зашел в избу и — бух! — без памяти свалился. Оказывается, это был тот самый дедушка, что из ямы его вызволил. И думает мужик, что не иначе как русский угодник Божий это — Никола… Описал мне его лик, а я вот в сомнении… Уж больно на лаптежного крестьянина смахивает его угодник, не на святителя вовсе…
— Да, понимаю, был бы хоть в облике Владимира Мономаха, Александра Невского или хоть простого русского ратника, защитника отчей земли, — поддержал разговор Василий Дмитриевич, да невпопад, оказалось, угодил, Андрей метнул на него огорченный взгляд, возразил мягко:
— Не смогу я устремить свое мышление в духовном порыве к невидимому величию Божества через видимый образ… Хоть бы был это батюшка твой, Дмитрий Иванович, хоть бы сам Сергий Радонежский.
— Да, Андрей, я и забыл… Помнишь, я спрашивал тебя, мог ли отец вес новых монет умышленно занизить? Ты сказал, что нет, и ты оказался прав, Федор Андреевич доподлинно все распознал… Тут как получилось?..
Рублев не дал досказать, с негромким, но подчеркнуто резким пристуком поставил доску на пристенную лавку, встал и посмотрел на великого князя в упор, холодно и отстраненно:
— А ты, значит, раздумывал?
— Да нет, но… — Василий увидел, как обозначилась на лице изографа болезненная усмешка, не знал, что сказать и как поступить. И вдруг, для него самого неожиданно, вырвалось у него: — Я ведь зачем к тебе пришел… С заказом большим. Нужен мне на кремлевскую башню надвратный образ Николы-угодника.
Предложение великого князя было столь ошеломляющим, что Андрей даже слабость в ногах почувствовал и опустился в бессилии на скамью. Заказ был не просто большим, но — почетным.
— Вся Русь станет на этот образ молиться, каждый иноземец, приходящий в Кремль, поклониться будет обязан.
Андрей продолжал молчать, сидел на скамье, повесив голову.
— Отчего нишкнешь — думаешь, как отнесутся к этому Феофан, Даниил Черный, Прохор Городецкий, другие изографы, да?.. Не робей, они все твой талант признают.
Андрей не ворохнулся.
— А я как только решил это сделать, сразу про тебя вспомнил, — Василий Дмитриевич и сам уж верил, что было именно так, — Мне не нужна икона, какие Феофан пишет, не надо резких теней да бликов, наш Никола должен быть светлым, ясным.
Андрей вскинул взгляд:
— С мечом в деснице и с храмом в левой руке чтобы был?
«Прослышал, стало быть, о моем желании», — самодовольно отметил Василий про себя, а сказал опять себе в противоречие:
— Сам говоришь, что нужно божественное созерцание посредством чувственных образов… Как же я смею подсказывать тебе!
— Но вот мужик же посмел… И мне помог земной образ прочувствовать.
— Таким и пиши! — ликующе решил Василий, а про себя подумал: «Все, мой теперь Андрей-иконник, не переманят его покуда ни брат Юрик в Звенигород, ни дядя Владимир Андреевич в Серпухов».
— Но все ж таки, какое у тебя-то желание есть?
— Ну, разве что одежда… Пусть во всем красном будет наш Никола.
— В каком?
— В красном, говорю.
— В алом? Багровом? Или — черевчатом, смородиновом, брусничном?..
— Так много красного?..
— Маковый еще есть, огненный, жаркий…
— А как же выбрать, какой лучше?
— Кабы я знал, княже… У Феофана каждый цвет играет сам по себе и каждый усиливает другой во взаимном противопоставлении. А я тщусь так цвета подбирать, чтобы они дополняли друг друга, их красота должна быть в мерной согласованности. Но сподобит ли Господь?..
— Сподобит, сподобит! Все говорят, что дар у тебя Божьей милостью… Вот прямо завтра и начинай, а-а?
Рублев снисходительно улыбнулся в ответ, но улыбка эта великому князю не показалась обидной, он снова сказал себе: «Все, опять стал моим Андрей-богомаз». Уверен был, что и постарается художник как-то особенно, всю хитрость свою проявит.
Василий Дмитриевич стал с нетерпением ждать исполнения своего заказа, но Андрей не торопился приступать к работе, не начал письма ни завтра, ни через неделю, ни через месяц. Не отказывался, но тянул, откладывал со дня на день, как ни понуждал его великий князь.
Как-то затребовал художника к себе во дворец. Андрей явился, уверенный, что гневаться будет великий князь за затяжку, но тот весело очень спросил:
— Знаком ли тебе, Андрей, этот инок?
Андрей вгляделся в лицо одетого в черную рясу человека, воскликнул:
— Брат Лазарь! Пришел-таки!.. Прямо из Афона?
— Нет. Был на Балканах, да от турок сюда притекоше, вспомнив твое званье, — Серб-монах отвечал по-русски, хоть и не очень верно выговаривал, хуже, чем Феофан, однако же понять можно было все, — Срядились вот с великим князем часомерье в Кремле поставить.
— А верно ли говоришь, что ни в одной столице Европы нет таких? — спрашивал Василий Дмитриевич, нарочито хмурясь, хотя был предовольнешенек.
— Верно, государь. Ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Праге, ни в Риме. Есть часовники городские, но без часомерья. А я тебе исделаю такой, что на всякий час ударять молоточком в колокол будет, размеряя и рассчитывая часы нощные и дневные.
— А кто же будет молоточком-то бить, караульщик, что ли? — вопрошала с удивлением сидевшая на престоле рядом с великим князем Софья Витовтовна.
— Не человек бо ударяше, но человековидно, самозванно и самодвижно, страннолепно никако, — путано объяснял Лазарь, показывая чертеж, на котором была нарисована высокая, много больше человека башня. — Круг этот с семнадцатью буквицами я сам могу расписать, но лучше, если Андрей своей хитростью преизмечтает и преухищрит[125].
— Преизмечтает! Преухищрит! — весело вторил Василий. — Это ему нипочем, он для Евангелия вельми чудные буквицы сотворил. Сделаешь, Андрей?
— Лазарь же сказал, что сам может.
— Верно! — не огорчился Василий отказом. — Он ведь с меня сто пятьдесят рублей запросил за часомерье, огромадные деньги, не то что ты за свою икону возьмешь… Да и когда еще брать-то ты будешь? — По тому, как, спросив, надолго умолк великий князь, Андрей понял, что это-то больше всего и интересует Василия Дмитриевича, во всяком случае, больше, чем часомерье. Но и повторять вопроса он не стал, позволил Рублеву опять отмолчаться.
В другой раз, возвращаясь из загородной поездки, Василий Дмитриевич завернул в Андроников монастырь. Самого Андрея, званного в тот день на роспись церкви-обыденки, не застал, работал в келье его помощник Пысой. По заданию учителя он готовил левкас, замешивая мел на клею из пузырей осетровых рыб. Белый, как сливки, грунт этот он наносил широкой кистью на ковчег будущей иконы. Работа столь нравилась ему, что с лица его не сходила довольная улыбка. Похвалился перед князем:
— Раньше только краски творить Андрей мне разрешал, и то под своим приглядом, а теперь я левкасить могу и олифу варить хоть из льняного масла, хоть из макового…
— А отчего же ты не с ним сейчас?
— Ногу об гвоздь порушил, — и Пысой показал обвернутую тряпкой ступню.
— А Андрей-то что, образ Николы не знаменил еще, не ведаешь ли? — осторожно выведывал Василий.
— Знаменить знаменил, размечал жидкой водяной темперой, даже и руки Николы, воздетые, обозначал, однако на этом все и заканчивал, велел мне размывать либо записывать другими красками.
— Отчего же это? Не ладится дело у него нешто? — расспрашивал из простого будто бы любопытства великий князь, а Пысой, ничего не подозревая, простодушно выбалтывал все тайны Андрея, в которые был посвящен.
Оказывается, ждет Андрей, когда привезут ему ладан — смолу душистую из ливанского дерева, потому что на вишневой смоле — камеди — или на желтке яичном растворять краски не хочет, поелику икона на вольном воздухе висеть будет, всякой непогоде подвержена окажется.
— А что же он у меня не попросит?
— Андрейка никогда ничего ни у кого не просит, — с вызовом ответил Пысой, и все конопатое лицо его залилось краской удовольствия и гордости за друга и наставника. — А потом… Я думаю, он решится писать только после долгого поста, он ведь знаешь какой…
Теперь появилась у Василия Дмитриевича какая-никакая ясность, он не стал больше торопить художника и тому уж одному радовался, что знает, какой он, Рублев. И повторял: «Все, мой теперь Андрей-богомаз!» Но порой, правда, гнездилась в сердце и опаска: «А может, и не мой? Может, и не знаю я все же, какой он?».
10
И как для Василия Дмитриевича, как и для Пысойки, и для Андрея Рублева посты были трудны и казались бесконечными, ночные молитвы тяжелы через мучительство сна и холода, хотелось ему лечь на каменный пол кельи и забыться, а молитвы днем вершились вне сердца, скоро, невнятно, рассеянно. Влекло на подсохшие деревенские выгоны, где детский смех стоял с утра до вечера, ребятишки малые гоняли кубарь, ловили, визжа, друг друга, а которые по возрасту и на ногах еще. не укрепились, сидели на краю выгона на разостланных кожушках, рассматривали строго собственные растопыренные пальцы, время от времени бессмысленно вперяясь глазами в бегающих старших. Полушалки девочек, алые, кубовые, зеленые, как цветы, взошедшие по коричневому полю.
Подолгу стоял Андрей, разглядывая детские лица, удивляясь чистоте их и святости, бесконечному доверию, с каким взирали они на Божий мир, не ведая уготованных им страданий; не такие ли и у Божьих угодников, ведь изречено премудро — будьте как дети…
Все это — землю с белыми детскими головками и их смехом, яркие краски одежд, дали обнаженных еще лесов, трепет ветра, летящего с юга, — покрывала воздушная, пронизанная голубизной полусфера неба, лазоревая синь, нежно разведенная белилами, с прозрачной прорисью едва заметных облаков.
Он стоял и жадно впитывал запахи натерянной коровьей шерсти и птичьего пуха из старых выброшенных гнезд, весенней земли, древесной живой коры, под которой забродили сладкие соки новых лиственных рождений, запахи навоза и прелой соломы, веявшие из деревни. После тишины келий и монастырского двора, после кротких великопостных чтений, с редкими свечами, невнятными вздохами усталых братьев, мир оглушал Андрея ревом полой воды в овраге, синичьим настойчивым посвистом, резким граем грачей, дальним коровьим мыком и лошадиным ржанием. У кого-то в деревне визжал поросенок, пели петухи; поскрипывали колеса телеги, едущей через нижнюю плотину, все было бодро, деятельно, готовно к чему-то радостному, что обязательно и скоро должно произойти. Но главное — в мире были его цвета, краски, оттенки, переходы неуловимой просини в солнечность, блеклой печали только что открывшейся из-под снега прошлогодней пашни в затопляющую, ослепительную зелень веселых рослых озимей. Краски буйствовали, хлестали зрение, мягко перетекали друг в друга, спорили и растворялись одна в другой и обе — еще в третьей, и все было в дивной звучащей гармонии, Господом предначертанной и им одушевленной. За кисть возьмешься — и тысячной доли того не передашь, что око обоймет, думалось Андрею. И сметь ли мечтать человеку повторить творение Божье и заключить его на доске? Вечен свет солнечный, но переливы его бессчетны, на что падет, тому свой тон дает, то есть в предмете существующий выявляет. Вечен мир до второго пришествия, но сколько переливов жизни в нем, смена сна и пробуждения — она и душе человеческой и самой земле свойственна: становление непрестанное с восхода до заката жизни. Не предерзостно ли надеяться, что живописцу позволено сие передать, чего ни разуметь, ни объять он не в силах? Василий Дмитриевич, как дите малое, все восхищается тем яблоком боровинкой, что изобразил Андрей в вьюжном феврале на стене повалуши, но это потому только, что хоть и великий князь он, а не знает, что красоте этой переливчатой, изменчивой невозможно и не надо подражать. Вон только что розовел осинник в лощине, что ланита детская на ветру, а луч солнечный переместился — и кора стволов зелена, как стручок молодой гороховый, где за этим живописцу с его кистью угнаться, когда глаз не успевает схватить, не токмо рука! Быстрее взора человеческого видимость мира, во мгновение единое переменяются его прелести. И что же есть вечного в нем, спросить? Единый и вездесущий дух, являющий себя сердцам, могущим воспринимать. Истинно сказано: имеющий уши да слышит. Благодать Господня глаголет нам через красоту мира видимого. Загадки премудрые глаголет дух из глубины веков прошлых и неведомых свершений будущего «Так дух явленный писать на святых досках?» — спросил он себя и почувствовал, как сердце голубем кротко-радостным ворохнулось в груди под черной ряской: да, да, так мыслишь! Но как невидимое сопричаствовать видимому? В каких символах достойно выразить его? Разум мал, и чувства затемнены. В груди смятение веселья весеннего покрыло и утишило адов огонь зимних размышлений и страхов. Неужели так тяжко суждено было переболеть душе и токмо этим очиститься? Даже на исповеди скрывал страдания и сомнения свои, грешный, и к причастию подходил с сокрушенным сердцем.
Он стоял и корил себя за неравновесность, не-согласность мыслей, за мирское беспокойство, достигавшее его за толстыми монастырскими стенами Вервием подпоясанная легкая ряса грела плохо, Андрей засунул зябнущие руки в рукава, неожиданно наподдал ногой накатившийся на него кубарь и сам побежал за ним вместе с детьми, захлебывающимися от смеха. «Ах, грех, грех! Великий пост на дворе, какие игрища!» — корил он себя, а сам смеялся и бежал с детьми за кубарем вниз к луговине над овражьем, откуда несся сладостный шум вешней воды. Один из мальчиков упал и, беспомощно растянувшись, проехался по весенней густой грязи Встал черный, как эфиоп, однако весел по-прежнему И другие ребята веселы, тычут в него пальцами, хохочут.
— Все одно чернее монаха не станешь!
Уж над Андреем потешались пострелята, но ему оттого было лишь радостнее на душе: «От мудрецов скрою, а детям открою», — вспомнил он, глядя на закрасневшие ребячьи лица, их улыбки, чувствуя горячие ручонки, хватающие его:
— Покружи!
— Устрой карусель!
Он взял на каждую руку по двое. Они висли, цеплялись, иные срывались, иные держались крепко, пока кружил он их, оторвав от земли.
Великий князь Василий Дмитриевич наблюдал эту картину сверху, с седла своего белого коня. Видел черную рясу и цветные детские рубашонки, мелькавшие по лугу, сверкающие голые грязные пятки, разинутые в восторге рты… Только-то и отметил: «Ну и здоров ты, брат Андрей! И пост не изнурил тебя!» А еще подумал, что ведь не отрок и не юноша уж Рублев, четвертый десяток разменял.
11
Узнав, что Андрей наконец-то начал икону и остановился на найденном им знамении будущего образа Николы, великий князь не утерпел и снова завернул в монастырь. И опять не застал изографа, но одного лишь Пыску, который сказал прерывающимся голосом и даже вспотев от волнения:
— К брату Андрею великие старцы пришли!
— По какому такому делу?
— Видишь ли, отче Никон из Троицкой обители возжелал в память преподобного Сергия иметь храмовую икону, поелику един Бог, во святой Троице поклоняемый, есть вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца своего бытия, но всегда был, есть и будет.
— Видел я, в церкви во имя Троицы, которую сам Сергий срубил, есть такая икона.
— Никон другую хочет, для нового, каменного храма взамен старого деревянного.
— А Андрей что же, согласился? Он ведь мой заказ еще не исполнил! — в голосе великого князя Пысой расслышал угрожающие нотки, но не сробел, объяснил прямодушно.
— Испортил я все брату Андрею. Доверил он мне, а я испортил, неук я, только камешки растирать горазд, ну и еще левкасить, а я кистью шлепать возомнился. После покаянной молитвы я испорченную цку отмачивал в воде и стирал краску настоянном на уксусе хвощом, стер… Теперь все сызнова надо брату Андрею начинать. Вон смотри, стоит-ждет отлевкашенная цка для твоей иконы.
— Как же так? Ведь Андрей и знамения образа Николая-угодника сделал, а ты говоришь — сызнова?
— Не-е, брат Андрей не прорисовывает и не процарапывает грунт, как другие, не наносит на левкас рисунка, чтобы потом его краской покрывать, а сразу пишет! Так никто больше не умудрен. Потому и Никон вот благословил его на «Троицу». Эта икона, как и твой Никола, на полусаженной доске будет.
Василием Дмитриевичем овладело смутное беспокойство: а вдруг да передумал Андрей, не станет его заказа исполнять?
— Но как же Никон мог благословить? Он что же, нарушил обет молчания, который дал три года назад в знак скорби по почившему Сергию?
— Нет, он по-прежнему молчит, а игуменом вместо него на Троице отче Савва Сторожевский. Но вот пришли от Никона старцы…
— Где они? — уж не только беспокойство, но ревность и гнев стали прослушиваться в голосе великого князя.
— Там, в лесу у озера, где часовня с крестом, где Стефан Пермский поклонился Сергию, помнишь, чай?
Конечно, Василий Дмитриевич помнил рассказ о дивном событии, произошедшем при жизни Сергия Радонежского. Стефан был связан с пер во игуменом тесной дружбой. Однажды, направляясь из мест своей миссионерской деятельности в Москву для встречи нового митрополита Киприана и не имея времени на этот раз заглянуть на Маковец к своему другу, остановился на дороге, вышел из повозки, прочел молитву, поклонился в сторону невидимого Троицкого монастыря и сказан: «Мир тебе, духовный брат!» Сергий был в это время со своей братией в трапезной. Встав внезапно и в свою очередь прочитав молитву, сказал: «Радуйся и ты, Христов пастырь, мир Божий да пребывает с тобой». После трапезы монахи спросили преподобного, почему он так сделал. Сергий ответил: «Сейчас владыка Стефан проехал по московской дороге, поклонился Пресвятой Троице и нас благословил». С той поры стоит часовня с крестом на этом месте.
— А в нашей обители, — продолжал Пысой, — с той поры обычай заведен: за трапезой, перед тем как подается последнее блюдо, звонят в колокольчик, все встают и читают краткую молитву: «Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй нас».
— Зело говорлив ты, — поморщился Василий Дмитриевич, раздражаясь по непонятным ему самому причинам. — Пойдем к ним, к старцам, найдешь дорогу?
— А то-о!
Василий Дмитриевич повелел всей своей свите, даже и ближним боярам, ждать его в монастырском дворе.
Вдвоем с Пысоем они пошли по узенькой тропинке в раменный лес. По дороге Пысой сообщил, что Андрей жаловался ему, будто утомлен уж постами и молитвенными бдениями, «а дух его не только не укрепляется и не светлеет, но изнурен и день ото дня хуже. Уж и сон отдохновенный какую ночь вовсе не приходит, и от пищи отвращаются уста, хотя глад сосет, яко змей, в утробе сидящий.
— А ты, я вижу, ничего?
— Не, я терпеливый.
Пыска радовался весеннему утру, называл по голосам птиц, заговаривал с белками, а те, будто понимали его, вставали на задние лапки и прислушивались к его голосу.
— Пыска, ты ведь тоже, как Никон да как сам Сергий преподобный, исихастом, молчальником зовешься?
Он засмеялся:
— Какой я молчальник… Богу уж надоел, наверное, все время с ним разговариваю, трощу ему то то, то это. Пра, надоел! Это с людьми я молчальник, да и то если что пустое молвить.
— Значит, если думы у тебя, уже не молчальник?
— Похоже, так, — неуверенно согласился Пысой.
— Значит, чтобы и не думать совсем? — допытывался Василий Дмитриевич.
— Тверди: «Господи, помилуй!» — и все. А того лучше — к Троице Живоначальной: к Богу-отцу, высшей силе, к Богу-сыну, полноте всезнания, к Богу-духу святому, первой любви…
Василий Дмитриевич слушал Пысоя, узнавал и не узнавал его: нет, он не блаженный, он не хилый, ничего — он здоров, деятелен, свеж, голос звучный, часто, забывшись, начинает петь. И скрытный, однако, словно бы и не знает ничего про Живану… А может, правда не знает?.. Так пусть узнает! А то — ишь, какой безмятежный да благостный… И великий князь спросил с плохо скрытым злорадством:
— А где твоя невеста-то теперь, знаешь ли?
— Не моя она… И — не твоя! — ничто не дрогнуло ни на лице Пысоя, ни в голосе не прорвалось. — Невеста она Христова, в монастыре твоей матушки, княгини великой Евдокии Дмитриевны[126]. Во-он смотри, крест как жарко горит на солнце. Это та часовня, там и старцы с братом Андреем. Трое их там. А в Священном писании говорится, что Господь находится там, где трое соберутся во имя Его[127].
— А если четверо? Почему они тебя с собой не взяли?
— Велели дров наколоть, посуду еще раз в ручье промыть, то есть освежить, сварить кашичку жиденькую.
— Ты все сделал, что велели?
— Нет. Ты же позвал. Успею.
— А ну как не успеешь? Отправляйся назад, я один пойду дальше.
12
Пысой засвистел иволгой и скрылся за кустами.
В самое время спровадил Василий Дмитриевич своего веселого попутчика: впереди слышались негромкие голоса, потрескивал сушняк под ногами неторопливо шедших по лесу людей. Ну да, это они. Епифаний из Троицкого монастыря и Кирилл из Белоозерья — два прославленных и высокочтимых уже на Руси духовных лица, а меж них идет Андрей в простой иноческой рясе. Он что-то рассказывает дивным старцам, то смеясь, то, кажется, искажаясь гневом. А они слушают его, перебирая четки, то тихой улыбкой отвечая на Андреев смех и склоняя в согласии головы, то вспыхивают гневом ли, отчаянием ли, строжают лицами и вопрошают тревожно.
О чем же так говорит Андрей с умудренными духовниками и что такое те ему говорят, что Андрей слушает их, обхватив подбородок ладонями и полыхая лицом? Видит Василий Дмитриевич ревнивым глазом, что происходит у них что-то важное, значительное, а что именно — не понять, ни слова не расслышать. Особенно испытующе вглядывался в лицо Андрея: вот побледнел он… опустил глаза… смотрит с напряжением… теперь — счастливо… вопросительно… кажется, страдальчески, да, да, знакомый излом бровей длинных, кажется, пальцы ломает с хрустом… А Епифаний-то, Епифаний-то Премудрый — тоже совсем забылся, машет четками над головой, ну и ну!
Василий Дмитриевич собрался было окликнуть приближавшихся к нему святых отцов, но решил затем подождать, прислушался, по-прежнему таясь за терновым кустом. Стали доноситься голоса все отчетливее, все громче:
— Уж третья тризна его минула, никто, опричь тебя, не дерзнет облик старца пречудного запечатлеть, ты один и грамоте уразумей, и в приближении с ним долгие лета пребывал, — увещевал Кирилл, а Епифаний отвечал, и сомневаясь, и колеблясь, и решаясь:
— Как могу я, бедный, в нынешнее Сергиево время по порядку написать сие житие, рассказать о многих его подвигах и неизреченных трудах? Что подобает первым вспомнить? Или какой довольствоваться беседой в похвалу ему? Откуда взять умение, которое укрепит меня к такому повествованию? — слышались в его словах и глубокая тоска, и истинное преклонение перед величием жизненного подвига первоигумена Руси.
— Первым надобно вспомнить о том, что удостоен был Сергий наш созерцать мир вечного света, видеть свет безначального бытия, — уверенно подсказывал Кирилл, а Андрей переводил молча взгляд с одного старца на другого, напряженно вслушивался в их разговор.
Епифаний соглашался:
— Да, истинно так. Он первый из русских молитвенников удостоился явления самой Божией Матери. Завидую я троице мистической — ученикам Сергия, удостоенным быть свидетелями неизреченного видения, — келейнику игумена Михею, инокам Исаакию и Симону. Исаакий и Михей своей кончиной упредили Сергия и были связаны обещанием молчания до его смерти, но от Симона узнал я многое о тайнах, оставшихся неведомыми для остальных монахов.
— Поведай, отче! — попросил робко Андрей и воздел руки словно для молитвы.
Они близко подошли к озеру, их уже и видно стало плохо за прошлогодним камышом. И голоса долетали приглушенными. Василий Дмитриевич в нетерпении обежал лесную кулижку и притаился в кустах на другом берегу озера. Боясь быть обнаруженным, не высовывал головы из тальника. Вода тихая, все в ней отражается — подойдут, он увидит их, как в зеркале, и разговоры опять будет слышать: озеро узенькое.
Верно рассчитал: в светлом зеркале — тонкие фигуры старцев и Андрея, даже видны их длинные волосы, болтающиеся руки, которые тоже кажутся очень длинными; и слышно стало, что говорят. Каждое слово по водной глади долетало теперь очень внятно.
— Сергий с келейником вдвоем были, когда голос раздался: «Пречистая грядет». А затем озарил их свет ослепительный, ярче солнечного, и он увидел Царицу Небесную с апостолами Петром и Иоанном, блистающими в несказанной светлости. Сергий пал ниц, не в силах вынести этот свет. Пречистая прикоснулась к нему руками своими и сказала: «Не ужасайся, избранник Мой. Я пришла посетить тебя. Услышала молитвы твои об учениках твоих, о которых ты молишься, и об обители твоей; не скорби более, ибо отныне она всем будет изобиловать и при жизни твоей и по смерти твоей. Неотступна буду я от обители твоей».
Все трое, дойдя до песчаной отмели озера, неспешно развернулись, стали удаляться прочь, так что Василий Дмитриевич уж больше не мог слышать их беседы. Подумал, не обежать ли снова вокруг, но по зрелом размышлении решил, что они сами скоро должны вернуться, и не ошибся. Снова услышал их говор, но занимало их что-то уж другое, не о Сергии беседовали они уже:
— Так верно… В переводе с греческого значит: «Ты еси…»
— Я видел эту надпись в Дельфах. Вырезана она на Аполлоновом храме — храме Бога жизни и счастья; однако что же означает она?
— Возьми Плутарха «De Eiapyd Delpos»… Вера сокровенная, заветное чаяние человека…
— Дивен Бог во святых Своих…
— Нет, все-таки, видно, о Сергии речь… Да, верно, о нем.
— Григорий Синаит — да, его мистицизм, словно лесной пожар, выйдя с Афона, охватил греко-славянский мир. Но Сергий — нет, он николи не был исихастом.
— Как, отче? — снова воздел Андрей молитвенно руки к Епифанию.
— Да так, — отозвался вместо Епифания Кирилл. — Взять хоть отношения Сергия с великими князьями. Мог ли исихаст…
— …Устав студитский ввел в обители…
— А видение Божией Матери и апостолов!..
Обрывки разговора хорошо слышал великий князь, но всего понять в их беседе не мог. Да еще ходят так споро, ровно куда опаздывают.
Тут птаха пискнула рядом, возмущенно с куста на Василия Дмитриевича заругалась, крылья вспушила: он на ее гнездо чуть не сел. Великому князю смешно: такая кроха, а тоже свое право отстаивает и о детках печется. Потом глядь на озеро: что такое? Разбилось зеркало, пошли кругами волны мелкие, перебивая друг друга, рябыми стали отраженные небеса, изломались кусты, раздробились зелеными осколками седые склоненные ветлы. Великий князь на живот лег, осторожно продвинулся, глаз любопытный, можно сказать, силком просунул промеж травы — и что же? Господи! Кто поверит, если рассказать? Епифаний, прозванный Премудрым, и Кирилл, добродетель и справедливость земная, четки святые на ветку повесили, каменцов озерных насобирали и давай их по воде наискосяк пускать!..
Василий Дмитриевич глаз свой, зрящий из засады, протер, а преподобные новых голышей с приплеска подняли и опять стали их преизрядно вдоль озера отправлять. Андрейка же штаны узлом затянул, рясу за пояс подправил, уже других, плоских, каменьев насбирал и несет в подоле старцам. И себе толику оставил. И почали они сигать, блины испекать, друг перед другом похваляясь, и даже иной раз как бы переругиваясь, и плечами толкаясь. Отцы духовные веселы сделались, ровно дети, заспорили вдруг, кто оказался ловчее и чей камень больше раз подпрыгнул.
Великий князь увлекся, сам стал считать, у кого сколько блинов получается, даже в спор ему ввязаться хотелось, он мог бы точно сказать, что лучше всех кидал Андрей все же…
Василий Дмитриевич находился в заветрии, жарко было, а тут еще комары его облепили, мочи нет… А те трое, слышно, опять удаляются, про ристалище свое враз забыли, опять какую-то умственность говорят.
— «Познай самого себя», «Ничего через меру» — все семь изречений, что в пронаосе начертаны, зело мудры, но «Ты еси!». Это ведь значит — есть жизнь, есть радость и сила, есть счастье на земле.
— Верно, верно! То — не ложь, не призрак зыбкий, нет, «Ты еси!».
И снова о Сергии:
— Истинно: дивен Бог во святых Своих. Божественной благодатию, которую стяжал целожизненным подвигом святой Божий угодник, соделался он дерзновенным ходатаем перед Богом во время своей земной жизни и остается таковым по переселении от земли на Небо.
Они удалялись теперь уже совсем, зеленая стена молодой осоки сомкнулась за ними, шевеля верхушками. Будто сон Василию Дмитриевичу был — проснулся, и нет ничего… Но вдруг Андрей вернулся, четки с ветлы сдернул (Епифаний их забыл) и опять убежал. Василий Дмитриевич уже вставать хотел, на четвереньки уж было воздвигся, как Андрейка опять из осоки вынырнул, скоро голыш схватил, оглянулся и по воде, размахнувшись, пустил. Плохо, надо сказать, на этот раз у него получилось — торопился, видно; очень это великому князю отчетливо было видно с четверенек. И как Андрей его не заметил?.. Стоял, аки меск, только траву не жевал… Андрей шепотом помянул нечистого и скрылся в зарослях.
Василий Дмитриевич, уже не таясь, разогнулся, стряхнул с рук кусочки земли, попытался стереть зеленые пятна, что остались от травы на полях малинового кафтана, ухмыльнулся про себя: «Невместно мне, однако, на карачках-то ползать… Тот, кого власть возносит над другими людьми, должен быть выше человеческих слабостей, чтобы удержаться на высоте, не пасть ниц…» Но тут же и усмирил свою гордынность, снова опустился на колени, произнес про себя мольбу, которая уж не раз ему помогала: «Господи, прости меня, грешного! Преподобный Сергий, помоги мне заступою твоею!» Еще раз посмотрел с опаской в ту сторону, где скрылись старцы и Андрей Рублев.
Весеннее марево дрожало над прошлогодним жухлым камышом, как неясное желание, как неисполнимое чаяние.
Хронология жизни и княжения Василия I Дмитриевича
1371 год. Рождение Василия I Дмитриевича, сына Дмитрия Донского.
1382 год. Василий послан отцом в Орду представительствовать на споре за великокняжеский престол с тверским князем Михаилом Александровичем.
Удержан в орде как заложник.
1384 год. Василий бежит из плена.
1387 год. Возвращается через Литву в Москву.
1389 год. Смерть великого князя Дмитрия Донского.
Василий заключает соглашение с дядей — Владимиром Андреевичем, по которому тот признает полное свое подчинение племяннику.
Василий I Дмитриевич вступает на великокняжеский престол.
1391 год. Заключение брака с Софьей Витовтовной, дочерью литовского князя.
1392 год. Орда предоставляет Василию ярлык на Нижегородское великое княжество, Городец, Мещеру, Муром, Тарусу.
1395 год. Тамерлан, победив Тохтамыша, перешел Волгу и овладел Ельцом. Василий стал во главе ополчения, но Тохтамыш отступает. Витовт начал наступление на восток, взял Смоленск.
1396 год. Витовт разгромил Рязанские земли.
Василий принимает Витовта в Коломне, где они договариваются о совместных действиях против Великого Новгорода: заключившего договор с немцами.
1397 год. У Великого Новгорода отняты Торжок, Вологда, Устюг, земли коми.
1398 год. Новгородцы возвращают отнятые земли.
1399 год. Витовт разрывает мирный договор с Василием I.
1401 год. Московские войска воюют на Двине, в Заволочье.
1402 год. Заключение мира с Витовтом.
1406 год. Мир с Литвой вновь разорван.
Василий выводит войска против Витовта к р. Плаве, но битва не состоится.
Заключение с Литвой перемирия на год.
1408 год. Войска Василия и Витовта встречаются на р. Угре.
Заключение вечного мира с Литвой.
Предводитель ордынской рати Эдигей подходит к Москве и в течение месяца опустошает московские города.
Василий укрывается в Костроме.
1412 год. Василий выигрывает в Орде нижегородское дело.
1419 год. Василий назначает своим преемником сына Василия.
1425 год. Смерть Василия I Дмитриевича.
Примечания
1
В отца место — выражение это у древних славян означало, что старший в семье является лишь наместником покойного отца, который и после своей смерти остается главою рода. С исчезновением языческого обычая вызывать умерших стремление поддерживать кровный союз привело к тому, что в отца место стало иметь буквальное значение — вместо отца, и в описываемое время на Руси старший брат считался отцом для младших.
(обратно)2
Впоследствии, когда подросли дети, Евдокия Дмитриевна все же стала инокиней и, как Ульяна и Марья, заслужила даже и соборную память.
(обратно)3
По средневековым представлениям, характер человека предопределяется положением небесных светил в момент его рождения.
(обратно)4
В 1930 году на месте Симонова монастыря был построен Дворец культуры ЗИЛа.
(обратно)5
Верховой седок, ехавший на кореннике или на передней, угонной лошади.
(обратно)6
Должности конюшего и ухабничего были очень высокими, занимали их люди знатные и в XIV веке, и в более поздние времена (конюшим, например, служил Борис Годунов, а ухабничим при царских поездках был в молодости Дмитрий Пожарский).
(обратно)7
Словом «трус» в средневековой Руси называлось землетрясение, что неоднократно зафиксировано в летописных сводах.
(обратно)8
Бани были закрыты в Европе повсеместно по запрету церкви в начале IV столетия, а возродились лишь в XVIII веке. На Руси они существовали непрерывно и назывались «мыльнями», хотя и было в обиходе, что зафиксировано летописцами, слово «баня», означавшее вначале — «теплый источник, ключ, озеро», а затем и помещение с искусственным теплом и горячей водой.
(обратно)9
Пантелеймон — в переводе с греческого значит «всемилостивый», «жалостливый».
(обратно)10
Огородники — ремесленники, возводившие ограды, градостроители.
(обратно)11
Лиса — лукавый человек, корыстный льстец.
(обратно)12
Кончивати, взяти докончание — заключить договор или мир.
(обратно)13
Митрополит Алексий — до пострижения боярин С. Ф. Бяконт.
(обратно)14
Староболгарский язык использовался при богослужениях, позже его стали называть церковнославянским.
(обратно)15
Рукознание — хиромантия.
(обратно)16
Звездовещание — астрология.
(обратно)17
Полушка — четверть копейки.
(обратно)18
Маковица — верхняя точка Кремля.
(обратно)19
Неделя — воскресенье, день отдыха, когда нет дел; в сентябрьском 6898 (1390) году этот день приходился на 9 января.
(обратно)20
Гости — так называли богатых иноземных купцов или их представителей; существовали в Москве Сурожский ряд, Кадинский итальянский торг и западноевропейский торг суконников.
(обратно)21
Бориско — знаменитый мастер литейного дела, в 1346 году отлил в Москве три больших и два малых колокола.
(обратно)22
Очи нарочитые — очки, изобретенные в Италии в XIII веке.
(обратно)23
Здесь сейчас здание универмага «Детский мир».
(обратно)24
В иных летописях, в частности в Новгородской за 1402 год, январь и февраль просто называются свадьбами.
(обратно)25
Вином называли и привозные фруктовые и ягодные, и свои хмельные напитки, изготовленные из злаков пшеницы, ячменя, ржи, а воткой (водкой) — мед или квас на воде (крепких напитков вроде современной водки не было, они появились на Руси лишь в XVI веке, что засвидетельствовано много численными письменными источниками).
(обратно)26
Между прочим, это не средневековый вздор: ученые недавно установили, что древесина арчи (один из видов можжевельника) выделяет фитонциды, которые уничтожают болезнетворных микробов.
(обратно)27
Рыбий зуб — клык моржа.
(обратно)28
Сапоги тачались в те времена, по одной колодке, без различия левого и правого.
(обратно)29
Харалужный — так назывались на Руси до XVI века мечи, ножи и другое холодное оружие из дамасской, булатной стали.
(обратно)30
Все потеряно (ит).
(обратно)31
Мясопустная неделя — праздник на Руси еще со времен язычества, получивший в XVI веке название масленицы.
(обратно)32
Счет дневного времени шел от момента восхода солнца, стало быть, очнулся великий князь, по нашему счету, часов в 7–8 утра.
(обратно)33
Истиник — ранее созданный фонд, сбор — вновь выделенные средства в виде строительных материалов, муки и пр.; и то и другое шло на возмещение убытков граждан от пожара, и это было, таким образом, своеобразным страхованием имущества, предусмотренным еще «Русской правдой».
(обратно)34
Обычай этот удержался у русских крестьян до XIX века, а смысл его заключался в том, чтобы новобрачные в час своего «веселья» не могли предаться мысли о смерти.
(обратно)35
Бяконтов процитировал «Слово Даниила Заточника».
(обратно)36
Перенесенная потом бездумными переписчиками в другие своды чудовищная эта нелепость сохранилась в опубликованных документах и даже использована некоторыми недобросовестными историками в научных трудах.
(обратно)37
Ныне на этом месте стоит колокольня Ивана Великого.
(обратно)38
Частая ссылка на старые и не всегда точные «грамоты» словами «а во се» и породила знаменитое русское «авось».
(обратно)39
Ферапонт — по-гречески значит «слуга»
(обратно)40
Русский фунт — вес в одну сороковую часть пуда, или 96 золотников (в переводе на современную меру — чуть больше 409 граммов).
(обратно)41
Алтын — три копейки.
(обратно)42
По сказаниям русских летописцев, а также по некоторым иностранным источникам, апостол Андрей проповедовал в Древней Руси, бывал около нынешнего Киева, где водрузил крест, доходил до Новгорода и села Грузина (Друзина), где поставил свой жезл.
(обратно)43
Безумными людьми называли тогда тех, кто допускал обман в производстве денег; совершенно фальшивых, поддельных монет Русь тогда еще не знала, они появились в стране лишь в XVII веке — пришли с западной интервенцией.
(обратно)44
Свое название повалуша — высокая башнеобразная постройка в несколько этажей («многожильная») с парадными горницами — получила от слова «повал», что означало выпуски бревен над нижними венцами дома.
(обратно)45
Фреска 1378 года с изображением Авеля кисти Феофана Грека сохранилась до наших дней.
(обратно)46
Сенями называли тогда еще крытую галерею верхнего этажа, а в значении прихожей это слово стало употребляться лишь в последующем веке.
(обратно)47
Рукав — род муфты для согревания рук, шился из мягкой ткани длиной до девяти вершков.
(обратно)48
Новый союз — Новый завет (Евангелие).
(обратно)49
Вполне возможно, что Феофан был прав: слова «верблюд» и «канат» в греческом написании разнятся всего одной буквой, так что переводчику очень просто было ошибиться, а потом уж неловким посчитали править текст священной книги.
(обратно)50
Владимирская дорога — дорога из Москвы на Владимир, ныне шоссе Энтузиастов.
(обратно)51
Окрик — мера длины, равная примерно тремстам метрам.
(обратно)52
Трон — так называли в средние века созвездие Кассиопеи.
(обратно)53
Воронцово поле — село принадлежавшее знатным боярам Воронцовым-Вельяминовым, при Дмитрии Донском последний московский тысяцкий Вельяминов умер монахом и завещал село Андрониковой обители.
(обратно)54
Слово «еврей» в переводе значит «переселенец».
(обратно)55
Хотьковский монастырь был тогда одновременно мужским и женским.
(обратно)56
Нищенствовать, просить милостыню — значило воспевать о милостыне, а не просто побираться. И это касалось не только придворных (верховных) нищих, но и бродячих, бездомных, которые, когда просили милостыню, тоже непременно пели, притом пели исключительно духовные стихи.
(обратно)57
«Черная смерть» — моровая язва была на Руси в 1353 году.
(обратно)58
В Троицкой летописи читаем: «Преставися Данило Феофанович, нареченный в мнишеском чину Давыд, иже бо истинный боярин великого князя и правый доброхот, служаще бо государю безо лести в Орде и на Руси паче всех и голову свою складаше по чужим странам, по незнаемым местам, по неведомым землям. Многы труды понес и много истомы претерпе, егда бежа из Орды и тако угоди своему господеви, и тако тогда великыи князь любве ради иже к нему на погребении его сжаливси по нем прослезися, и тако плака на много час…».
(обратно)59
Радуница — день поминовения усопших во вторник послепасхальной недели; в том году она приходилась на 20 апреля (3 мая по новому стилю).
(обратно)60
Так летописец отметил факт появления кометы в небе Москвы весной 1382 года.
(обратно)61
В XVI веке в Новгороде был поставлен храм святого Пантелеймона, который был более известен под именем Николо-Кочановской церкви, так как здесь почивали под спудом мощи юродивого Николая Кочанова.
(обратно)62
Ектения — по-гречески «усердие».
(обратно)63
Василий Дмитриевич не мог знать тогда точно, но в подозрениях своих был прав: впоследствии выяснилось, что донос патриарху Антонию сделал посланный Киприаном в Константинополь Дмитрий Афинянин.
(обратно)64
Криптография — от греческого «крипто» — тайна.
(обратно)65
Полуночные страны — так русские летописцы, начиная с Нестора, называли остров Врангеля, полуостров Таймыр и окрестные им земли.
(обратно)66
Татарские воронихи — чибисы, называемые также и пигалицами.
(обратно)67
Основанная Иаковом Железноборовским обитель затем стала довольно крупным мужским монастырем; в нем был пострижен Григорий Отрепьев.
(обратно)68
Троицкое подворье — первое собственное строение иногороднего монастыря в Московском кремле, что свидетельствовало о той большой роли, которую играла эта обитель в жизни Руси того времени; позже от названия подворья получили название Троицких и кремлевские ворота, находившиеся в восемнадцати саженях; ныне на месте подворья Оружейная палата.
(обратно)69
Ильин день — 20 июля, стало быть Василий Дмитриевич собрался ехать 16-го.
(обратно)70
Кафа — город в Крыму, ныне Феодосия.
(обратно)71
Сурож — город в Крыму, ныне Судак.
(обратно)72
Укек — третий по величине город Золотой Орды, ныне южная окраина города Саратова, путь сюда из Москвы проходил по малозаселенным и бездорожным землям — через леса и степи а потому был долгим, кружным.
(обратно)73
Наручадь — золотоордынский город, построенный на месте более древнего мордовского поселения, ныне город Наровчат Пензенской области.
(обратно)74
Таврика — Крымский полуостров, где устраивалась иногда зимняя ставка хана Золотой Орды.
(обратно)75
Еткара — древнее поселение на реке Иткара, притоке Медведицы, впадающей в Дон; ныне город Аткарск Саратовской области.
(обратно)76
Даруга московский — так в Орде называли крупных чиновников, ведавших сношениями с русскими княжествами.
(обратно)77
Солхат — зимняя ставка хана в Крыму, ныне город Старый Крым, близ Феодосии.
(обратно)78
Тана — ныне город Азов.
(обратно)79
В этом своем рассуждении Тебриз был не совсем не прав: в самом деле, предками ногаев были не только остатки разгромленных Батыем племен половцев, степных аланов и среднеазиатских тюрков, но и жители окраины Руси.
(обратно)80
Максим имел в виду слово, имевшее несколько иное написание и произношение, родственное словам «черта» и «черт», а не «щур».
(обратно)81
Персидские яблоки — апельсины, цитроны — лимоны.
(обратно)82
«Много чести приим от царя, якоже ни един от прежних князей» (Ермолинская летопись).
(обратно)83
Василий I был государем Руси 36 лет.
(обратно)84
«Пляска осы» — средневековая разновидность современного стриптиза.
(обратно)85
Мещерский городок — ныне город Касимов.
(обратно)86
Основание монгольской юрты делилось на 12 частей, каждой из которых был присвоен один из знаков восточного зодиака: мышь, бык, тигр, заяц, дракон, змея, конь, баран, обезьяна, петух, собака и свинья. Каждое деление заключало в себе два часа. Знаки мыши и зайца разделяли три деления, стало быть, Тохтамыш и Василий Дмитриевич беседовали 6 часов (от 12 до 18).
(обратно)87
Воскресенская церковь Спасского монастыря была перестроена и обновлена в XVII–XVIII веках.
(обратно)88
Существует в Коломне и поныне, но перестроен в 1672 году.
(обратно)89
Память Дмитрия Солунского — 26 октября, Дмитрий Иванович Донской родился 12 октября.
(обратно)90
Кизил — от латинского cornum; так называли на Руси камень сердолик, имевший еще и библейское наименование — сард (от названия столицы Ливии — Сардис).
(обратно)91
Как память о тех слободах, получавших названия по направлениям дорог, сохранились поныне в Москве улицы с соответствующими названиями; некоторые, впрочем, позднее были переименованы.
(обратно)92
Об этом вале со рвом служит ныне памятью часть бульварного кольца от Кропоткинских ворот до Сретенских.
(обратно)93
Ростовщик (резоимец) дал Соту рубль под проценты (рост) из расчета 20 копеек (на пять шестой) в год.
(обратно)94
Камень — Уральские горы.
(обратно)95
Дирхем медный равнялся двум копейкам.
(обратно)96
Радонеж — ныне село Городец в Дмитровском районе Московской области.
(обратно)97
Курмыш — ныне село в Нижегородской области, слово «курмыш» в мордовском языке означало «беспорядочное расположение домов».
(обратно)98
Благовещенский собор до наших дней сохранился лишь как более позднее строение XVII века, прежний его облик, который он имел в XIV веке, мы можем себе представить по изображению на створе киота иконы Алексия Митрополита.
(обратно)99
Между прочим, соображение, что колокольным звоном можно предотвратить беду не совсем предрассудок, русские летописи и западные хроники средневековья отмечают разные случаи, когда крестьяне создавая на земле резкий и сильный шум, в том числе ударяя в колокола, отгоняли в сторону грозовые облака.
(обратно)100
Никифор имел в виду предательство киевского воеводы Блуда, жившего в X веке; Блуд изменил своей присяге князю, за что много веков порицался в народе.
(обратно)101
Лаврентьевская летопись составлялась в 1377 году для великого князя Дмитрия Константиновича по благословению Дионисия, процитированных Евфросином слов в ней не содержится, они взяты из другого источника.
(обратно)102
Козерог — 9 декабря, начало крепких морозов, а Овн — 8 марта, начало весенней распутицы.
(обратно)103
Цены указывались из расчета, что полтина серебром равна пятнадцати гривнам.
(обратно)104
Все приведенные наблюдения очевидцев изложены в «Новгородской первой летописи старшего и младшего изводов», и нет оснований подозревать летописцев в том, что они преувеличивали.
(обратно)105
Чертольское урочище — московский посад недалеко от Кремля, в XVII веке тут была поставлена сторожевая семиверхая башня, позже сооружен в честь победы над Наполеоном храм Христа Спасителя.
(обратно)106
Понятие «булат» появилось на Руси в XV веке, а раньше оружие, изготовленное из этого сорта стали, называлось харалужным.
(обратно)107
Игнат цитировал «Слово о полку Игореве».
(обратно)108
Сын Василия Дмитриевича Георгий прожил и в самом деле недолго — пять лет.
(обратно)109
Восторженные слова Феофана Грека о врожденном чувстве красоты у русских зодчих не были преувеличением. Немецкий монах Теофил в трактате «О различных ремеслах» приводит список стран, чьи мастера прославились в определенном виде искусства, домонгольская Русь стоит на втором месте (сразу же после Византии), а затем уже следуют арабы, итальянцы, французы и немцы.
(обратно)110
Ныне находится в Государственной Третьяковской галерее.
(обратно)111
Хранится во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.
(обратно)112
Хранится в Государственной Третьяковской галерее.
(обратно)113
Слово «берегиня» уцелело в ряде диалектов, а на русской Севере и поныне вырезают на досках и вышивают на полотенцах крылатых дев, сирен-«фараонок», называя их берегинями.
(обратно)114
Ныне тут стадион «Лужники».
(обратно)115
Имя Дмитрия Донского, победителя Куликовской битвы, стало символом не только для его современников. Например, Иван Грозный, связывая значение взятия Казани 11 октября 1552 года с победой над Мамаем, назвал своего родившегося тогда сына Дмитрием в честь первого победителя татар.
(обратно)116
Железным Хромцом звали Тимура: в тюркских языках слово Тимур (темир, темур) означает «железо», а хромым он стал после ранения в 1362 году; от персидского «Тимур и ланг» (Тимур Хромец) произошло прозвище Тамерлан. А прозвище Аксак — от татарского слова, означающего в переводе «хромой». Стремясь соединить развалившуюся державу Чингисхана, Тимур стал именовать себя «гурганом», то есть зятем дома Чингисхана (он был женат на двух женщинах-чингкзидках).
(обратно)117
Тот меч имел длину 152 сантиметра.
(обратно)118
Не здесь ли таится исток верования предков наших об авторстве Владимирской Богоматери: святого Луку знал каждый христианин а патриарха лишь церковные круги.
(обратно)119
Место это названо было в честь счастливой встречи иконы Сретенкой, от нее шла к Кремлю улица Сретенская же (в XVII веке переименованная в Никольскую, по названию башни Кремля, от какой улица брала начало; Никольская переименовывалась в улицу 25 Октября, ныне ей возвращено исконное имя).
(обратно)120
Территория современного Афганистана.
(обратно)121
Русская православная церковь и по сей день празднует 26 августа Сретенье Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году.
(обратно)122
Хаджи-Тархан — ныне Наримановский район Астрахани на правом берегу Волги.
(обратно)123
Кучково поле — ныне Лубянская площадь (бывш. Дзержинская); по валу и рву, когда они были окончательно ликвидированы в 1830 году, прошло Садовое кольцо с бульварами Тверским, Петровским, Сретенским, Покровским, Яузским.
(обратно)124
Бал-чех — по-татарски значит «грязь»; ныне тут улица Балчуг.
(обратно)125
Речь идет о циферблате, который назывался просто кругом и делился на 17 частей по числу часов наиболее продолжительного летнего дня (началом суток считался час восхода солнца), а поскольку в древнерусском алфавите не было цифр, вместо них употреблялись соответствующие буквы.
(обратно)126
Пысой говорил об основанном Евдокией Дмитриевной в 1393 году в Кремле, возле Чудовой обители, Вознесенском монастыре для безутешных вдов, потерявших своих супругов на поле Куликовом и в других ратях. Позднее монастырь этот стал усыпальницей великих княжон, цариц и царевен. В 30-е годы нашего века он вместе с древним Чудовым монастырем был «разобран» с помощью взрывов, на месте их построена школа красных командиров имени ВЦИК.
(обратно)127
Неточная цитата из Евангелия от Матфея: «…где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
(обратно)



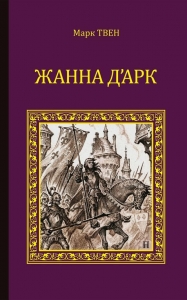

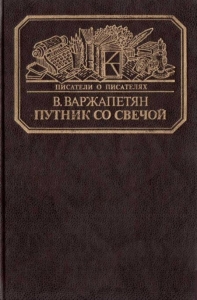


Комментарии к книге «Василий I. Книга вторая», Борис Васильевич Дедюхин
Всего 0 комментариев