Михаил Козаков Крушение империи
Роман в четырех частях
Конст. Федин МИХАИЛ КОЗАКОВ (1897–1954)
1
Есть писатели, которые при своей жизни оцениваются литературной средой либо неверно, либо далеко не исчерпывающе, даже будучи связанными с ней очень тесными узами. Иногда как раз близость писателя к своему профессиональному кругу, прочная общность интересов его с жизнью сотоварищей по литературе порождают у многих из них впечатление, что он хорошо всеми изучен и оценка достоинств его общеизвестна. Привычное мнение о таком близко знакомом, как бы раз навсегда понятом писателе мешает наблюдению за переменами, им переживаемыми, за ростом его художнических качеств. Критика часто скупится на внимание ко всему разнообразию живых литературных явлений, предпочитая уделять свои труды сложившимся, общепризнанным репутациям. Немало поэтому ценного мы теряем из виду в многоцветном богатстве, создаваемом нашими писателями.
Так сложилась литературная судьба Михаила Козакова: он был на редкость щедро наделен общественным темпераментом, был совершенно «своим» в делах и днях коллективной писательской работы, и слишком многие из его литературных ровесников, дороживших этими его выдающимися качествами общественника, забывали, что самым дорогим в нем всегда оставалось дело его жизни — труд по призванию писателя.
И как ни горько, но надо признать, что Козаков однажды в печати справедливо попрекнул критику невниманием к своей «основной работе» — к роману, который теперь, вполне законченный незадолго до смерти писателя, выходит под названием «Крушение империи». «Хотя первая часть этого романа вышла (начиная с 1929 года) пятью изданиями, все же она прошла при полном молчании критики…» — писал Козаков три года спустя после появления книги.
Но, конечно, не без основания переиздавались отдельные части большого романа Козакова: произведению этому принадлежит свое особое место в нашей художественной литературе, и советский читатель не мог не заметить, что в этой книге изображена существенная полоса революционного развития нашей страны, взят важный момент его истории и раскрыты характерные нравы времени в образе нескольких отлично выписанных фигур.
2
Жизненная дорога Михаила Эммануиловича Козакова напоминает нам знакомые биографии советских писателей старшего поколения, встретившего революцию в юности или на пороге зрелых лет, прошедшего гражданскую войну, взявшегося за перо в разгар борьбы за утверждение рабоче-крестьянской власти.
Козаков родился на Украине, и если не считать раннего детства, часть которого протекала в Крыму, где его отец работал весовщиком в порту, то Украине он обязан всем обилием познаний и представлений о человеке и обществе, приобретаемых на первых шагах жизни. Он учился в Лубенской гимназии, Полтавской губернии, окончил ее с золотой медалью во время войны, в 1916 году; тогда же поступил в Киевский университет и слушал курс сначала на медицинском, потом на юридическом факультетах.
Еще до февральского переворота он участвовал в революционном движении киевского студенчества, и это ему очень скоро отомстилось. Когда в 1918 году, после провозглашения «гетманом» Скоропадского, Козаков приехал из Киева к своей матери в Дубны, за ним устроили погоню офицеры гетманского «куреня» — недавние однокашники по гимназии. Ему удалось бежать, переодевшись.
С этого момента начались для Козакова годы, полные приключений и опасностей, которые бывали так обычны особенно на Украине и выпадали на долю не только профессиональных революционеров, но почти всех, кто им сочувствовал и помогал.
Козаков скрывался по городам и селам Украины. Встречаясь с законспирированными коммунистами летом 1918 года, он был арестован по обвинению в большевизме, в агитации против союзных гетману германских войск и заключен в одиночку лубенской тюрьмы. После революции в Германии его выпустили. Но на смену гетманцам пришли петлюровцы. Козаков снова подвергся аресту «за большевистское настроение и руссофильство».
Он не был членом партии. Однако захват города Лубны большевистским Ревкомом в январе 1919 года застает его на одной из явок большевиков. Его привлекают к работе в Ревкоме, он избирается в Совет рабочих депутатов, в Исполнительный комитет Совета, назначается Комиссаром Труда, становится членом редакции местной газеты и корреспондентом РОСТа.
«В моем архиве остался документ — мандат Совета рабочих депутатов. Любовно храню эту ветхую бумажку, как память о боевом и ярком годе моей жизни», — пишет Козаков в своей автобиографии спустя более трех десятилетий.
В августе 1919 года деникинцы занимают Полтаву. Возникает угроза Лубнам. Козаков входит в штаб обороны города. Его назначают начальником эвакуации рабочих с их семействами. Составляется огромный эшелон эвакуируемых, включающий в себя вагоны из разных городов Украины, и Козаков — комендант эшелона — доводит его сперва до Москвы, затем, до Казани.
Здесь в 1920 году он возобновил занятия в университете и продолжал их до своего переезда в Петроград в 1921 году.
Этому городу, о котором Козаков говорил, как о полюбившемся ему, еще в 1914 году, довелось сыграть решающую роль в биографии писателе Ленинград был ему школой в литературном труде, был источником воодушевления в непрестанной общественной деятельности, тут появилась его первая книга, тут он сложился как писатель и тут прошла без малого вся его жизнь. Не было почти ни одного литературного начинания, в котором он не принял бы участия, после того как выпустил в 1924 году книгу рассказов и стал известен в писательских кругах.
Его инициатива и страсть организатора нашли свое выражение в создании журнала «Литературный современник». За время пятилетнего участия в редактировании журнала ему удалось объединить вокруг этого издания писателей, ранее входивших в различные литературные группировки: здесь печатались Алексей Толстой («Петр I»), Вяч. Шишков («Емельян Пугачев»), Юр. Тынянов, Ник. Тихонов, А. Прокофьев, Ольга Берггольц, В. Каверин, Юрий Герман, Эльмар Грин, поэты Украины — П. Тычина, М. Рыльский и многие другие. Журнал сыграл очень заметную роль, в годы перестройки литературно-художественных организаций после, ликвидации РАПП. Козаков участвовал также в редактировании газеты «Литературный Ленинград», в работе «Издательства писателей в Ленинграде», отдавая им большие силы и всюду проявляя свое ясное сознание ответственности перед литературой. Как редактор журнала и издательства, он впервые опубликовал немало произведений молодых авторов, впоследствии занявших достойное место в рядах советских писателей.
В то же время Козаков непрерывно продолжал писать. За первое пятилетие своей работы беллетриста, в двадцатых годах, он выпустил, восемь книг рассказов и повестей. К началу тридцатых годов были напечатаны четыре тома «Избранных сочинений», куда включена и первая часть его романа.
Но труду над этим романом суждено было занять долгие сроки и сделаться главной задачей всей писательской жизни Козакова. Первоначальный вариант романа (под названием «Девять точек») потребовал целого десятилетия: последняя, четвертая часть вышла в 1939 году. Для самого автора, однако, произведение на этом не было закончено, — годы и годы возвращался он к переработке его глав и частей, пока, наконец, в, 1954 году, многое исключив из романа и многое написав зацово, не счел, свой труд завершенным.
В декабре 1954 года, в Москве, Михаил Козаков умер.
3
Из биографии Козакова видно, что жизнь дала ему богатые приобретения, и кладовая писателя была переполнена, так сказать, материальными запасами.
Но перед каждым писателем в течение всей творческой жизни — в конце ее едва ли с меньшей остротой, чем в начале, — стоит вопрос о средствах художественного выражения приобретенных жизненных познаний. Иметь что сказать в литературе еще не означает уметь сказать. Борьба за искусство выражения — трудная борьба. Чтобы выйти из нее победителем, требуется не одно природное дарование, не только настойчивость, воля, не только обожание литературы — требуется зрелость понимания целей искусства, зрелость, которая дается опытом художника. Ответ на вопрос «как писать» не может быть дан без ответа на вопрос «зачем писать». Нельзя отыскать средства, не зная цели. Мы видим, что поиски ответа на эти вопросы поглощают у писателей длительное время, потому что решаются как всею коллективной практикой, историей литературы, так еще и неизбежно индивидуально.
Козаков пришел к работе писателя с представлениями о литературе, распространенными среди молодежи в канун первой мировой войны, — со своего рода обязательными вкусами законодателей декадентского течения в искусстве. Литература реализма была в глазах этого течения устарелым видом искусства. Если сказать — что являлось общим требованием всевозможных вариантов разветвленного декадентства, то главное было в том, чтобы писать не так, как реалисты.
Отход от традиции классиков литературы привел модных писателей в начале века к пересмотру русской стилистики во всех элементах художественной формы. Это коснулось особенно языка и ритмики и вылилось в необычайную изысканность всего строя речи. Самое отношение к литературе необходимо свелось к отстаиванию декадентами художественной формы как самоцели искусства. Подспорьем их оказались теоретики литературного формализма.
Молодой Козаков в раннюю пору своих поисков очутился в этих унаследованных от дореволюционного времени потемках искусства. Разумеется, он был не одинок. Многие молодые советские писатели в начале двадцатых годов принесли с собою в литературу наскоро нахватанные клочья из последнего модернистского, «эстетического» наследия буржуазной России и с долгими усилиями высвобождались из его плена. Козаков принадлежал к тем из них, кто мучительно изживал влияния прошлого, и его первые книги могут служить примером подобных, довольно распространенных в ту эпоху литературных явлений.
Большое число рассказов и повестей Козакова дают нам картину постепенного продвижения писателя от крайне усложненной и потому «туманной» прозы к ясному языку и реалистическому стилю. Если сравнить книгу, с которой он начал — рассказы «Попугаево счастье», — с тем, что он писал через три-четыре года после нее, например, с повестью «Мещанин Адамейко», то и тогда можно говорить о двух разных его литературных возрастах.
Соблазнительная в те времена «сказовая» форма речи безраздельно господствовала во всей первой, да и не только в первой книге Козакова. Здесь были не то что следы, но даже явные сколки с хитрых изощрений стилизатора Алексея Ремизова и его подмастерьев. Зараза была прилипчива, и Козакову стоило труда превозмогать манеру, которой он поддался, и отучивать себя от напевного, причетнического ритма вперемежку с многозначительно-краткими фразами из одного-двух слов. В книгах, предшествовавших работе над романом, он уже расчистил себе путь к языку и стилю реалиста, значительно освободившись от искусственного построения фразы, надуманности и расточительности в метафорах, от вольного и невольного насилия над собой, неизбежного, когда писатель во что бы то ни стало стремится к тому, что Горький называл «фигурностью письма».
Но дело не только в овладении формой, будь то форма какого угодно художественного стиля. «Форма никогда не существует без содержания», — говорит Гете в наброске схемы своей великой трагедии, касаясь «спора между формой и бесформенностью». Всякое содержание может быть выражено единственно в присущей ему форме, и если так, то форма вызывает в нашем представлении непременно присущее ей содержание. Произвольно разорвать этот двучлен невозможно. И как только писатель, увлекаясь определенной стилистикой, перенимает внешние приемы и средства каких-нибудь художественных произведений, он не может никуда уйти от подсказки, которая ему навевается содержанием — существом и смыслом этих произведений, увлекших его своею стилистикой.
Тут — закон, «его же не прейдеши».
В рассказах и повестях Козакова голоса и отголоски студенческих, юношеских, молодых его литературных божков, естественно, прозвучали и тематикой и образным миром героев. Мы найдем у него не только сказовую ритмику Ремизова или нервическую патетику с возгласами Леонида Андреева, но встретим и андреевский демонизм и его устрашающую символику (о которой, как известно, Лев Толстой отозвался, что, мол, Андреев «пугает, а мне не страшно»), натолкнемся и на мифологически-невероятных, отталкивающих уродствами ремизовских персонажей. Карлики физические и карлики духовные, несчастные, жалкие, пригнетённые люди, или люди наглые, предатели, сластолюбцы, доносчики, воры, истязатели, — мир, где гибнет человек с сердцем и честной мыслью — обычный мир, живописуемый пером молодого Козакова. Его изобразительные силы, литературный дар, само его горячее жизнелюбие и восхищение человеком — все это приносилось в жертву, — чему? Созданию призраков, уже прошедших по книгам модной беллетристики, исчезнувших вместе с модой на нее и оставлявших нового читателя в недоумении.
Козаков чем дальше, тем больше чувствовал безжизненность своих старых пристрастий. К счастью, в мужестве своем и действительно в беззаветной преданности литературе он нашел силы, чтобы сбросить с себя путы, мешавшие росту. Он понял зависимость свою от усвоенного стиля и сломал его. Понял, что выбор того или иного жизненного материала определяет тему произведения, и отказался от своих мелких, книжных персонажей, обратив взгляд к широкому миру борьбы общественных противоречий. Яснее стала цель литературной задачи, определенней ответ на вопрос — зачем я пишу.
Переход от одного качества работы к другому, разумеется, не был волшебным. В новый период были занесены из старого известные навыки и приемы письма, в массе своей уже преодоленные. Козаков превосходно это видел, и потому так сложен был весь процесс труда над романом. Однако новое качество этого труда по сравнению с прошлым было неоспоримо для него, признано было и читателем.
4
Роман «Крушение империи» задуман был сначала как произведение по преимуществу бытовое.
Помню, как на первой стадии работы Козаков увлеченно рассказывал мне замысел будущей своей большой книги. В центре ее должна была стоять история семьи Калмыковых и фигура депутата Государственной думы Карабаева. Жизнь Калмыковых, дедом которых был содержатель почтового двора в глухой провинции, имела для этого замысла стержневое значение, — вокруг испытаний старшего поколения, вокруг судьбы детей и внуков вращалось действие повествования, рисовались нравы переходного от царизма к революции времени. Чувствовалось, что в историю этой семьи Козаков намеревался вложить свои коренные знания уходившей от нас старой эпохи, личный опыт пережитого в годы революции, факты своей биографии. На биографичность юного героя романа — Феди — он сам впоследствии указывал. Карабаев интересовал его в плане психологическом, как личность из иного круга, нежели Калмыковы, и только отчасти как выразитель формации русского буржуазного либерализма.
Историчность эпохи, в которой должны были развертываться сцены семейной жизни, автору казалась тогда лишь дополняющим центральные бытовые картины моментом.
Так думал Козаков и много позже, хотя финал первой части романа, как бы против воли, вытолкнул его из довольно замкнутых семейных отношений, личных коллизий героев и заставил очертить некоторые фигуры, взятые из фактической истории времен первой мировой войны. Работая уже над второй частью, Козаков еще не предугадывал вполне, какой охват примет в будущем его произведение. Он говорил в 1933 году: «Роман мой не исторический в строгом смысле слова, однако события такого порядка, как распутиниада, деятельность оппозиционной буржуазии в военно-промышленных комитетах, кадетская партия и ее думская фракция накануне февральской революции, «работа» охранки, а с другой стороны — подпольная революционная деятельность Петроградского Комитета большевиков — все это требует создания в романе правильного исторического фона».
Важность исторического осмысления событий эпохи для Козакова была очевидной, но если бы ему сказали, что материал истории в сущности, займет главное место в романе, он не поверил бы. Он утверждал, что исторические моменты в его плане «лишены характера самодовлеющей объективной хроники и жестоко подчинены законам развития и показа судьбы отдельных (и главных) героев моего романа». Он считал историю только фоном.
Но история заставила его буквально погрузиться в изучение своих фактов. И когда он перечитал газеты всех направлений за годы 1913–1917; когда засел за труды Ленина, принялся отыскивать по Ленинграду участников свержения самодержавия и взятия Зимнего дворца, прошел по следам подпольщиков-большевиков 1916 года; когда рабочий его кабинет превратился в библиотеку с сотнями книг мемуаров и документов по истории февральского переворота — тогда весь замысел романа был пересмотрен наново и события истории из отдаления общего фона стали выдвигаться на передний план. Изменилась рама картины. Прежнее намерение написать трилогию, действие которой обнимает пятнадцать или больше лет (Козаков предполагал довести его до 1928 и впоследствии даже до 1930 года), было оставлено, — новые границы романа сузились до изображения неполных пяти лет: 1913–1917. Зато содержание романа, уплотнившись, приобрело прочную идейную и композиционную опору: это роман о Феврале.
Является ли он в собственном смысле историческим? Несомненно. Все его основание покоится на подлинно исторических событиях, и весь строй служит изображению великого общественного перевала от России царской к России революции.
Примечательно одно наблюдение, сделанное Козаковым на встречах с читателями первой части романа. Он обнаружил, что историко-общественный материал романа, да и материал бытовой был мало известен аудитории, и больше всего это относилось к молодым читателям, задававшим автору не один «наивный» вопрос. Козаков пришел тогда к выводу, что его книга оказалась написанной для молодого читателя, желавшего основательно знать прошлое, из которого явилась к жизни революционная действительность, окружавшая и воспитывавшая новую, советскую молодежь. Вывод был верен для периода первой пятилетки, тем более верна будет сказать, что теперь, вступая в шестую пятилетку, новое, социалистическое поколение наших читателей воспримет роман Козакова как произведение историческое во всей совокупности материала.
Февраль — это предистория Октября. Даже старшее поколение, слушая в раннем детстве рассказ о Феврале от своих отцов, воспринимало его как давнее прошлое. Для нынешней молодежи свержение царизма — «преданье старины глубокой».
Для Козакова интерес читателей к событиям февральского переворота был сильнейшим толчком к тому, чтобы перевести свой семейно-бытовой роман на рельсы романа исторического. Но Козаков далек был от того, чтобы придавать повествованию характер исторической хроники. Тут он остался верен первоначальной своей установке: роман должен быть подвижным, наполненным происшествиями, столкновениями, неожиданностями. Сюжетность произведения, интрига, смена мест и обстоятельств действия, разнообразие характеров, контрасты положений — это тоже требование читателя, любящего большую, «толстую» книгу и всегда ждущего, чтобы она сама вовлекала его в создаваемую автором жизнь героев.
Такому требованию читателя, и вместе требованию романиста, Козаков ответил хорошо: книгу читаешь с увлечением, сюжет ее непроизвольно развивается из столкновений действующих лиц, фабульные моменты интересны разнообразием интриги, все время возобновляющейся на протяжении романа.
5
«Крушение империи» — роман с очень большим числом действующих лиц. Главные из них до типической яркости выражают существа определенных общественных слоев и классов России первой мировой войны и февральской революции.
Прежде всего это относится к образу Льва Карабаева — одного из лидеров кадетской партии в Государственной думе и затем министра Временного правительства. По меткости обрисовки и раскрытия образа Карабаев пока единственный в советской литературе тип «настоящего конституционалиста-демократа». Он дан полно, со всеми оттенками внутренних противоречий, — либерал-буржуа, добивающийся своей собственной, кадетской революции и носящий в себе свою же собственную законченную контрреволюцию с фразами о «политической совести» и готовностью переуступить ее не только англо-французским союзникам в войне, но кому угодно, если дело идет об интересах своей особы. Уже будучи на министерском посту, он, чтобы сохранить свое реноме, старается замять дело Теплухина, тайного агента царской охранки, служащего на предприятии родного брата Карабаева — Георгия. Кадетский лидер со своей славой «чистой совести лучших слоев общества», по иронии случая еще при царе разделивший эту славу, сам того не зная, с агентом охранки, вынужден спасать его уже после Февраля, в ореоле кадетского господства.
В эпизоде есть нечто символическое, хотя автор романа не думал о символике, а только вел героя по жизни, от одного этапа к другому, всматриваясь в лукавое и злое, иногда драматичное, иногда трусливое приспособление рыцаря российского либерализма к обстоятельствам времени. Фигура получилась весьма рельефной.
Ей под стать рисуется образ Георгия Карабаева. Фабрикант и заводчик делового толка, почитавшегося среди успевающей буржуазии прогрессивным, Георгий Павлович делал все возможное, чтобы наладить предприятия на западный образец, не исключая умеренного заигрывания с рабочими. Избранный им путь должен был вести тоже к свободе — ровно такой, которая облегчала бы быстрое продвижение его к вожделенному миллионерству.
Вокруг братьев Карабаевых вращается плеяда самых разновидных героев, в числе их — молодежь, играющая в романе важную роль. Новое поколение буржуазной интеллигенции с наступлением революции гораздо глубже своих отцов ощущало неизбежность сделать решительный выбор между столкнувшимися социальными лагерями. Инстинкт жизни обострял восприятие: трагедия войны, народное горе, распад правящей верхушки общества — все это тревожило создание и чувства молодежи, понуждало искать разгадку причин несчастья, обрушившегося на родину, толкало к действию. Дочь депутата Карабаева — Ирина — красочный характер, показывающий облик тех чистых, прямых натур юной русской интеллигенции, которые нашли в себе волю порвать с отцами и отдать себя на службу народу. Мне кажется, Козаков верно закончил роман на том, что Ирина рассказывает в письме своему другу ранней юности — Феде Калмыкову — о встрече питерским пролетариатом Ленина, перед Финляндским вокзалом, в апреле 1917 года — картина словно открывает перед молодой Россией дорогу к Октябрю, широкую дорогу к строительству освобожденного от власти карабаевых нового мира.
Не все, конечно, молодые люди, выходцы из мира старого, ступят на эту дорогу. Федя Калмыков (единственный, кстати, из Калмыковых, проходящий через весь роман) пока так и остается на распутье, так и не может выбрать — идти ли ему с большевиками, эсерами или еще с какой-нибудь «самой» революционной партией. От природы увлекающийся, живой, мечтательный, он тоже, как Ирина, ищет правды, горячо вступается за нее, но его стремления не ясны ему самому. Как в начале войны, он продолжает все еще неопределенно думать и гадать о своем «месте в мире» и после крушения царского строя, хотя ему даже довелось стрелять при разгроме типографии черносотенного листка «Двуглавый орел».
Другая группа героев романа располагается вокруг Ваулина — организатора подпольной печати большевиков, члена Петроградского Комитета партии. Его жизнь проходит от ареста к аресту, и Февраль освобождает его из «Крестов». Это профессионал-революционер, опытный пропагандист, ведущий свою работу и в заключении. С его образом связана в романе развернутая картина революционной героики, подготовка переворота, методическое, упорное накапливание тех усилий, которые привели к свержению царизма и организовали боевое руководство народной революцией. Рабочий Громов, инженер Петрушин, солдат Николай Токарев, политкаторжанин Власов — вот соратники Ваулина, партийцы, действующие в особой атмосфере конспиративных явок, печатания, распространения прокламаций, передаточных пунктов литературы, оружия и постоянной, изощренной слежки охранки. Опасны и тяжелы были препятствия на пути к освобождению России; и только цельные, стойкие, испытанные всеми трудностями жизни и самоотверженные характеры в состоянии были их одолеть. Таким характером показывает нам Козаков своего Ваулина.
Два антипода — буржуазная интеллигенция с ее либеральными вождями кадетской партии и люди из авангарда рабочего класса, организующие свою партию пролетариата для предстоящих боев с буржуазией, — стоят на переднем плане всего обширного произведения.
Если Козаков достигает того, что читатель на протяжении семидесяти двух глав с нарастающим интересом следит за сплетениями личных судеб героев и быстро сменяющихся исторических событий, то объяснить это надо раньше всего жизненностью главных фигур романа. Действующие на авансцене, они являются не иносказательными обозначениями тех либо других общественных классов, не ходячими схемами мировоззрений и политических программ. Постепенное раскрытие характеров, будни героев, слабости и привязанности, быт и события, формирующие душевный склад человека, — отсюда набирает писатель черты живого образа, и эти черты будят читательское доверие к истинности рассказа, вовлекают нас в воображаемую жизнь, как в действительную.
В этом смысле Лев Карабаев не вообще какой-то условный лидер кадетской партии, а определенный человек, которого мы знаем и который был кадетским лидером. Он объясняет самим существом своей личности, что такое кадетский лидер. Если бы личность его осталась не раскрытой, то персонажу по имени Карабаев можно было бы приписать любую партийность. Льву Павловичу Карабаеву не припишешь, — он мог принадлежать единственно к кадетской партии и притом непременно к ее «левому» флангу. Он приближается к литературному типу, он — именно формация российского либерала эпохи крушения империи.
Раскрывая образы, каждый писатель неизбежно в той или иной мере дает им заслуженную моральную цену. Это делается иногда малозаметными приемами, вплоть до едва уловимых оттенков стиля. Козаков чаще идет прямым путем, открыто выражая свое отношение к герою, особенно предпочитая авторскую откровенность в характеристике враждебных его чувствам действующих лиц. Однако в собственно литературном понимании герой — всегда «герой», даже если это ничтожный, падший или подлый человек в жизни. Писатель обязан и «отрицательную» личность проанатомировать своими инструментами, аналитически вскрыть ее психику. Злодейство, как всякий поступок, вытекает из личных качеств героя, и они должны убеждать читателя в своей реальности, как бы ни были низки и какого бы осуждения ни заслуживали. Козаков следует этому правилу реалистического изображения и, разоблачая своих отрицательных персонажей с нещадной ненавистью, показывает нам их преступное существо во всей полноте. Так он раскрыл в романе предателя Теплухина, выдавшего тайну киевской подпольной организации охранному отделению и ценой этой купившего себе досрочное освобождение из каторги… Отталкивающий путь былого «политического» заключенного к наемному провокаторству вскрыт и вычерчен автором с убедительной внутренней точностью.
Козаков уделил очень большое место описанию ненавистной народу, царской охранки, этому мерзкому дну абсолютизма с его грязными подонками. Здесь мы сталкиваемся с галереей многоликих мастеров черного дела — от жандармских генералов, своего рода «интеллектуального» класса, до шпиков средней руки с претензией на «психологию». Мог ли обойти автор эту среду в таком романе, как «Крушение империи»? Я убежден, обойти ее было нельзя.
Чем стремительнее к конечному краху катилась российская монархия, тем судорожнее она сопротивлялась угрожающей ей участи. С другой стороны, чем выше поднималась волна народной революции, тем меньше оказывалось у царских властей средств сопротивления. Уже и на армию и на гвардию нельзя было твердо опереться — почва ускользала из-под ног царя и его верных и полуверных слуг. Оставался последний опорный пункт: жандармерия, сыск, «охрана общественной безопасности» с ее тюрьмами, каторгой, убийствами без суда. Чудовища, лихорадочно действовавшие на последнем опорном пункте монархии, спасали не только царя, но и свои шкуры. Им лучше, чем царю, было известно, как быстро нарастает вал революции и насколько он уже высок. И они старались за Царя и за себя.
Козаков вывел в своих картинах эпохи эти мрачные лики из тайников охранки — отребье в мундирах и без мундиров. Это — третья группа персонажей, которая начинает действовать уже в первых главах романа и исчезает с последними: предатель Теплухин, жандармский ротмистр Басанин, сыщик Кандуша, жандармский генерал Глобусов, его правая рука — охранник Губонин. Всех их как бы венчает в канун революции пресловутый министр внутренних дел Протопопов.
Таковы в основном три группы героев, участники которых составляют фундамент всего образного здания романа. Каждую из групп населяет много лиц, и во всех трех выступают на передний план фигуры, органично связанные с темой произведения и представляющие собой выразительные жизненные образы.
6
Можно выделить еще немаловажных героев, чтобы сказать о многосторонности материала, введенного в «Крушение империи», но нельзя перечислить всех действующих лиц второго плана и обширного фона, собранного из огромного числа эпизодов. Лиц этих — десятки, и среди них становятся в особый ряд действительные участники исторических событий, описываемых Козаковым.
Царские министры, царь с царицей и Распутиным, председатель и депутаты Думы — Родзянко, Милюков, Гучков, Керенский, английский посол Бьюкенен и другие — не только входят составной краской в общий колорит исторической картины, но помогают читателю очень зримо уяснить расстановку сил в борьбе за монархию и против нее. О степени необходимости присутствия в картине именно того или другого реального лица истории могут быть споры. Но лица эти были нужны в интересах общего замысла.
Для меня очевидно, что одним из достоинств, с каким замысел осуществился, является правильная расстановка в романе общественных сил, участвовавших в событиях эпохи, и верно представленное стечение обстоятельств февральской революции.
Ленин в своих «Письмах из далека» так говорит об этой эпохе: «Если революция победила так скоро и так — по внешности, на первый поверхностный взгляд — так радикально, то лишь потому, что в силу чрезвычайно оригинальной исторической ситуации слились вместе, и замечательно «дружно» слились, совершенно различные потоки, совершенно разнородные классовые интересы, совершенно противоположные политические и социальные стремления»[1]. И дальше Ленин разъясняет, какие же именно разнородные потоки слились вместе, чтобы свалить монархию: это заговор англо-французских империалистов, которые, в своих интересах передела мира, толкали Милюкова, Гучкова и компанию к захвату власти с целью упорного и ярого продолжения войны — с одной стороны, и с другой стороны — «…пролетарское и массовое народное… движение революционного характера за хлеб, за мир, за настоящую свободу»[2].
Роман Козакова в идейно-общественном, историческом плане строится на этом ленинском толковании событий февральской революции. Монархия пала действительно «скоро», потому что у нее не оставалось, кроме разве придворных германофилов, черной сотни и охранки, никаких сторонников. Революция победила действительно лишь на поверхностный взгляд «радикально», потому что, «дружно» свалив с престола царя, вся буржуазия выступила за лютое продолжение войны, а народ во главе с пролетариатом — за хлеб, мир и против буржуазии и помещиков. Но это уже был новый период революции — конец «чрезвычайно оригинальной исторической ситуации» Февраля, и этот период не входит в пределы романа «Крушение империи», законченного Козаковым на встрече рабочими Ленина, возвратившегося из эмиграции в Петербург.
Достоинство романа, как обширной картины последних лет российской монархии, заключается в том, что автор ясно представил читателю своеобычность борьбы антагонистических классов русского общества в этот момент истории. Классовые противоречия не утихали в годы войны и февральского взрыва, а непрестанно нарастали до крайней вражды; и, однако, к свержению с престола трехсотлетней династии Романовых враждующие классы пришли, как к общей задаче всей страны. Царя сваливали с престола все вместе — рабочие, крестьяне, солдаты, ремесленники, торговцы, промышленники, но сваливали с совершенно разными целями. И едва только престол рухнул и запорошил своей щепой изношенную машину царизма, как эти разные цели, руководившие усилиями классов в борьбе против него, вышли на свет с небывалой очевидностью для народной массы. Буржуазия не могла терпеть царской власти над своими интересами, требуя себе свободы рук для наживы на продолжении войны заодно с англо-французскими союзниками. Но буржуазные партии с радостью сохранили бы царскую власть над рабочими и крестьянами, открыто показавшими, что они идут к своей собственной власти над буржуазией.
Козаков, изображая «оригинальность ситуации» Февраля, проявил историческую точность взгляда, поставив верные акценты на том, что сближало буржуазные партии с пролетариатом в разгроме империи, и на том, что их исторически разделяло с ним как выразителей интересов своего класса. Приход к власти Милюковых и карабаевых означал не победу кадетов, а подлинный конец их партии. Милюков, на Миллионной улице, у князя Путятина, умолял думцев сохранить монархию, а по другую сторону Невы, на Петроградской стороне, в здании Кронверкской биржи, ленинцы работали над сплочением рядов пролетариата вокруг Советов против возможной реставрации империи и во имя победы социализма.
В одной рукописи Козакова, найденной у него в архиве после его смерти, есть такие строки:
«В поле моего зрения попал последний предвоенный и предреволюционный ряд буржуазной и мелкобуржуазной, так называемой «демократической» интеллигенции. Вся она приняла Февраль, громадная часть ее была опрокинута Октябрем.
Октябрь — это начало конца старой, идеалистически мыслящей, «традиционной» русской интеллигенции. Поэтому ее последний ряд, увидевший революцию, имеет наибольшие права занять внимание наших современников».
Политически эту интеллигенцию, шире прочих партий, объединяли кадеты. Поэтому их партии и уделено главное внимание в романе «Крушение империи».
Роман построен на общественных фактах. Этого было бы недостаточно, если бы автор не исследовал факты в их развитии и не оценил бы закономерности этого развития. Писатель отправлялся не от схемы, он шел от изучения действительности, документов политической борьбы, и в первооснове его знания эпохи, конечно, заключены также воспоминания о времени, им лично пережитом.
Роман стал историческим по жанру, историко-бытовым и социальным по содержанию.
7
Долгий путь, пройденный Козаковым в работе над «Крушением империи», отразил не только этапы написания самого произведения, но и менявшиеся взгляды писателя на свою задачу, требования его к себе, как к советскому литератору.
В предисловии ко второму изданию первой части своего романа Козаков говорил, что он оглядывается на прошлое, чтобы распознать и разоблачить его. «Но этого мало: я прощаюсь с ним — без какого бы то ни было сожаления. В памяти это прошлое не уничтожаемо: уничтожить это прошлое в жизни таково призвание наше — современников».
Тема прощания долго занимала его. Она, естественно, влекла к воспоминаниям личного характера, а это должно было придать психологическую окраску всему роману. Козаков считал, что уже по одному тому, какой материал действительности выбран для романа, можно судить о мироощущении писателя, — выбор как бы объясняет интересы автора, и оттого в любом художественном произведении в той или другой степени звучит «исповедь». Я всегда был склонен тоже так думать и, когда рассматриваю роман Козакова, отчетливо вижу следы влияния материала, выбранного им на первых порах работы: тут много заложено автобиографического начала, очень многое толкает автора к «исповеди», к прощанию с лично пережитым и оставленным в прошлом. Если бы этот материал личного жизненного опыта взял перевес, роман сузился бы до истории отдельных жизней или семейств, переданной описательно либо «психологизированно», хотя бы и на фоне событий эпохи.
Но Козаков постепенно менял свое отношение к задаче и в конце концов переоценил ее в корне, выработав и новые для себя средства повествования.
Общественная жизнь выступила в романе из слитного фона на крупный план, и явления ее показываются целыми главами. Связи героев с событиями укрепились. Уже не один кадет Карабаев со своим братом заводчиком действуют перед читателем, а кадетская партия, думские фракции, буржуазия. Не один Ваулин как революционер интересует автора, но и организующая революцию работа большевиков, рабочее движение, борьба пролетариата. Ре в одном жандармском писаре, охраннике Кандуше воплощается царская машина подавления революции, но вся эта машина, с ее тюремными винтами, кандальными, цепными передачами шестерней, рычагами в руках царских помощников, громыхает точно под каждой страницей книги, рассказывающей о тоске по свободе и борьбе за нее сильных, чистых героев этой повести. Больше стало в ней драматического напряжения, жизнь личностей уступила первенство противоречиям событий, общая проблема времени вобрала в себя проблемы частных судеб. Появилась народная, объективная интерпретация эпохи на смену «прощания» с прошлой жизнью героев и самого автора. Все меньше оставалось в романе исповеди по мере продвижения работы над ним, все больше занимала места история. И если взглянуть на писательский путь Козакова в целом, то и от прежней манеры его письма уже почти ничего не осталось в «Крушении империи».
Я говорю — «почти», потому что каждая авторская индивидуальность всегда сохраняется в основе стиля, как бы его ни совершенствовать. Козаков освободился от искусственности старых своих речевых конструкций, от умышленной распевности своих ранних стилизаций. Он шел к простоте языка, к ясной фразе, к точному слову, без которого нельзя верно передать мысль, создать образ. Но его стилю присуща нервность, сама натура его настолько подвижна, возбудима, что ему совсем несвойственны были бы, например, обороты речи уравновешенные, ритм спокойный, темп плавный. Он с горячностью отдавался первым, острым впечатлениям действительности, и это накладывало свою печать на манеру, в какой он воспроизводил их в письме.
Длительность работы должна была по-разному отразиться на романе. С одной стороны, она обогатила его широтою материала, разнообразием контрастов. С другой — поставила перед более сложными требованиями в области композиции: материал начал разрастаться изнутри, — и чем дальше, тем труднее становилось его распределять. Вот почему в конце романа историческая тема, взяв перевес, вынудила Козакова к беглым развязкам взаимоотношений между героями. Движение, жизнь главных образов оказались стесненными, для полноты раскрытия характеров недоставало «площади», сюжет мог быть только досказан. Это все очевидно при сравнении частей романа между собой, прежде всего — первой части с четвертой.
Основательная и успешная переработка старой редакции романа, при которой Козаков исключил восемнадцать листов прежнего текста и написал более десяти листов нового, дала очень много для произведения, но не могла дать все. Есть в стиле заметы былых пристрастий то к отвлеченным понятиям, то к некоторой декламационности, или риторике. Эта касается отдельных мест, но такие места сохранились и в последней, теперь уже посмертной редакции романа. Среди множества лиц второго плана есть хорошо изображенные, играющие необходимые роли, но находятся и такие, которые могли быть удалены, чтобы избежать пестроты эпизодов и прийти к большей выразительности сцен.
Но то, что достигнуто произведением в художественном и конкретно историческом плане, не может быть умалено в большинстве частными недочетами.
«Крушение империи» — роман своеобразный уже в силу своеобразия писательского видения мира и той страсти, с какой донесены до читателя потрясения эпохи, послужившей содержанием книги. В художественной литературе нашей Февраль почти не нашел такого отражения, которое ставило бы в центр главные противоречия времени и с широким охватом политических обстоятельств истории давал бы ее картины. Поэтому я и считаю, что роману Козакова принадлежит особое место среди советских произведений на историко-революционные темы. С выходом его в свет читатель восполнит существенный пробел на своей книжной полке. Особенно читатель молодой.
Мы живем накануне сорокалетия со дня свержения царизма в России, этого первого победного акта революции. О, нем не только не может ничего помнить советская молодежь, но она слишком мало знает о событии даже по книгам. Новое поколение совершенно недостаточно знакомо с условиями народной жизни при царе в период первой мировой войны и, право, имеет чересчур схематичные представления о старой российской интеллигенции во всех ее мастях и разновидностях. А интерес к истории у нас большой — к истории, которая рассказывается не, по схеме: от готовых выводов, к тем же выводам, — но ведет к заключениям от фактов.
Художественная литература раздвигает раму исторического факта с помощью обобщенных образов действительности. Жизнь, раньше неизвестная читателю, возникая перед ним из прошлого, помогает вернее оценить настоящее, смелее глядеть в будущее.
Роман Козакова хорошо послужит советскому читателю своими красочными, образными и познавательными картинами последних дней императорской власти в России и дней начальных новой России после февральского переворота.
Выпуском «Крушения империи» в свет исполняется то дело, которого не удалось довести до конца самому Михаилу Козакову. В роман он вложил лучшие свои силы, но книга эта далеко не вместила в себя всех его сил.
Уже после его смерти появился новый его роман, написанный в 1949–1954 годах, «Жители этого города» — о партийной и беспартийной интеллигенции. Перед самой смертью он закончил повесть «Петроградские дни», посвященную октябрьским дням 1917 года. Остались в рукописях рассказы и повесть о Дзержинском.
Он был, несомненно, прирожденным литератором редкого темперамента. Проза влекла его к себе больше всего, и он жил в ней подолгу, и всегда с высшим для него подъемом. Но когда он увлекался другими жанрами, то эти увлечения были тоже долгими, исполненными его обычной страсти. Он очень любил театр и больше десятилетия с жаром отдавался работе в драматургии, часто испытывая разочарования и опять возвращаясь к новым попыткам упрочиться на сцене. Некоторые его пьесы принесли ему успех, больше других — пьесе о Феликсе Дзержинском, две пьесы вышли книгами в издательстве «Искусство».
Думаю, характеру его особенно близка была журналистика. Необыкновенно горячо это проявлялось во всевозможных дискуссиях, в которых он выступал как литературный, театральный критик и публицист. Большую полосу своей рабочей жизни он отдал спорам об искусстве, столь обильным и богатым в первой половине тридцатых годов. Это были годы, насыщенные многосторонними замыслами Горького, переполненные новыми предприятиями в издательском, литературном, журнальном мире.
Тут Козаков обретался весь целиком со своим непотухающим, беспокойным интересом к жизни литературных коллективов, к разноречиям, схваткам мнений, вкусов, талантов среди людей искусства. Кажется, от тех времен не осталось в ленинградской печати ни одного отчета о дискуссиях, в котором не было бы названо его имя. Он заявил себя последовательным сторонником общественного, воспитательного назначения литературы и всем неутомимым трудом своим литератора стремился показать правоту этого убеждения. У него не было никакого разрыва между тем, как он понимал задачу писательского призвания, и тем, как действовал в коллективном кругу литераторов: слово его не расходилось с делом.
Он умел жить общественной жизнью, отдавать свою жизнь обществу, и плоды ее сохранились в том лучшем, что он оставил советскому читателю, закреплены и в этой его книге.
Конст. ФЕДИН. 24 февраля 1956Часть первая От Смирихинска до Петербурга
ГЛАВА ПЕРВАЯ На почтово-земской станции зимой 1913 года
Извозчик въехал во двор и остановился у главного подъезда.
Из санок вылез человек в длиннополой меховой шубе и сибирской шапке, глубоко надвинутой на лоб. Он торопливо расплатился с извозчиком и, сняв с санок туго увязанную багажную корзину, взошел на крыльцо. Дверь, в стеклянный коридорчик была незаперта, так же как и из коридорчика в квартиру, и приезжий, неся впереди себя корзину, вошел в комнату.
Никто не слышал его прихода: дверь в соседнюю комнату была плотно прикрыта, другая вела в расположенную рядом кухню; оттуда доносился мерный, с посвистом, храп спавшей прислуги и шло густое тепло хорошо истопленной русской печи.
Приезжий поставил корзину на пол, снял шубу и шапку и положил их подле себя на скрипучем диване.
В течение нескольких минут он оглядывал незнакомую комнату.
Это была «комната для проезжающих» в доме содержателя почтово-земской станции Рувима Калмыкова. Назначение этой просторной комнаты полностью подтверждалось мебелью, в ней поставленной.
Два больших старинных, одинакового размера, дивана размещены были симметрично друг против друга. Как и они, тяжелые широкие стулья-полукресла были обиты черной, уже истрепавшейся клеенкой; из-под клеенки торчали размотавшиеся спирали жесткой пружины и клочья материи и волосяной набивки. Стульев было до десятка, и они вместе с диванами заполняли почти всю комнату. В ней, казалось, разместилось немое, неодушевленное семейство, замечательное тем, что все члены его — близнецы: тяжеловесные супруги-диваны и их такой же массивный и неподвижный черный широкоплечий выводок.
У стены, слева от входной двери, стоял такой же старый, как и вся остальная мебель, громоздкий письменный стол; он тоже был покрыт черной клеенкой. В правом краю она была отогнута, и на этом месте была большая гербовая казенная печать, наложенная на свободные концы шпагата, продетого в ушко тяжелой переплетенной книги; она лежала тут же на столе. Это была установленная традицией и законом «жалобная книга». Тот же закон повелевал вывесить на видном месте (над столом) оба промысловых свидетельства, выданных на имя купца 2-й гильдии Рувима Лазаревича Калмыкова, арендатора почтовой станции и земского дорожного пункта в городе Смирихинске.
Желтые бумажки промысловых свидетельств висели в черных рамочках под стеклом, и точно в таких же рамочках — вышитые шелковистым пестрым гарусом изображения двух львов с неестественно загнутыми кверху хвостами. На этой же стене, над промысловыми свидетельствами и цветистой вышивкой, помещена была тусклая репродукция с картины неизвестного художника: тройка ретивых вороных в нарядной упряжке и бородатый богатырь ямщик в залихватском облачении.
Наконец, что еще бросалось в глаза в этой просторной комнате — это массивные, шестигранные часы, висевшие в простенке между двумя окнами; длинные, крупные стрелки имели форму копья, а циферблат был желтоватый, пергаментный.
Приезжий взглянул на часы, и они мгновенно вывели его из состояния умиротворенного созерцания, в котором он находился несколько предыдущих минут: шестигранная массивная коробка показывала ровно пять.
Приезжий вскочил с дивана и, не заботясь уже о сохранении приятной ему ранее тишины, громко крякнул и шагнул к кухне.
Он понял, что несколько утраченных бездейственных минут прошли впустую потому, что телу его, уставшему от долгой поездки в вагонах, необходимо было, хоть на краткое время, опуститься на этот мягкий чужой диван, откинуться на его услужливую спинку и застыть без движения.
— Эй, кто тут… сонное царство! — окликнул он храпевшего человека, заходя на кухню. — Почтосодержатель мне нужен. Ну, отвечайте!..
Храп на печи не прекращался.
— Да ну же, просыпайся! — еще громче повторил приезжий, заглядывая наверх.
— Га? — на полуслове осекся чей-то сон. — Га? — И приезжий сначала увидел медленно спускавшиеся с печи голые белые ноги прислуги, а потом и ее заспанное, раскрасневшееся лицо.
— Кого вам треба? — спросила украинка.
— Лошадей мне нужно. Зови хозяина или приказчика.
— Подождить трохы, зараз поклычу.
Она протяжно зевнула во весь свой молодой полнозубый рот и потянулась, распрямляясь, сытым и теплым телом. Подавшись вперед, оно почти коснулось грудью незнакомого человека.
Будущее, совсем близкое будущее, наплыло в воображении приезжего таким же теплым и плотским, доступным и волнующим, как только что увиденная служанка.
— Ну, зови, зови там кого следует… — поглядел он весело, заигрывающе на молодую женщину.
— Зараз Евлантия позову… приказчика.
Она надела высокие мужские сапоги, полушубок, накинула на голову суконный платок и выбежала во двор. Через несколько минут она возвратилась в сопровождении хромого человека, у которого одна нога была сильно искривлена в колене. В левой руке он держал позвякивающую связку больших амбарных ключей, правой опирался на сучковатую тонкую клюку.
— Ось дид Евлантий. Балакайте з им, вин — приказчик.
— Здрастуйтэ, пожалуйста, — сказал тот и посмотрел внимательно своим далеко упрятанным, неуловимого цвета глазом на незнакомого пассажира. — А шо скажете?
— Мне, дед, лошадей нужно.
— По проездному свидетельству?
— То есть как это… по проездному свидетельству? — почему-то неожиданно пытливо спросил приезжий и заглянул с любопытством в серое, остроносое лицо мужичка.
— Ну, як ездют казенны люди? — рассердился также неожиданно старик. — Чиновники и земские диятели имеют свидетельство, с печатью, по хформе. Это вам, господин, не биржа извозчичья, а земска станция! У нас все по закону, все хформальности соблюдаем.
Глаз смотрел по-ястребиному, настороженно и недоверчиво: всяко бывало на Евлампиевом веку, — приедет иной раз подкусная собака-ревизор из губернии и прикинется дурачком; не раскуси его сразу, — гляди потом, какой крик подымет, а хозяину от того ревизорского крика лишний расход и неудобство!
— Х-хы… х-хы! Лошади у нас, господин, по закону идут. А закон… закон, х-х-и, есть закон, — как казалось самому, неоспоримо и вразумительно объяснил Евлампий.
Голос у него был громкий и всегда сварливый, слово шло чисто и коротко, хотя во рту недоставало уже многих зубов, но вслед за словом, во время пауз, из груди прорывалась одышка и сиплый, стариковский выдых — удвоенное сухое «х».
— Таковы не по билету, — це другое дило… х-х! А куда вам ехать? и куда подавать коней?
— Мне нужно в Снетин, — ответил приезжий и присел у стола, возле которого примостился на кончике стула хромоногий приказчик. — Подавайте лошадей сейчас.
— Сейчас? Ни, сейчас нельзя. Ни як нельзя… — разочарованно покачал головой.
Он посмотрел на туго завязанную длинную корзину, стоявшую у дверей, и вопросительно сказал:
— С поезда? С Полтавы чи с Киева?
— Нет, — уклончиво ответил приезжий. — Я, дед, много верст проехал… много… А теперь в Снетин мне нужно: всего восемнадцать верст не доехал. Восемнадцать, а?
— С гаком! Як по-землемерному считать, так верстов полных двадцать одна. С гаком восемнадцать, х-хы.
— Слушай, дед, вели запрягать да говори, сколько платить надо. Я сразу заплачу, ямщику на водку дам, — торопил приезжий, поглядывая досадливо на часы, незаметно накинувшие новые пятнадцать минут.
— Сразу… Це уже, господин, у нас такое правило… х-х! Только коней — нема, все в разгоне. Одна пара, правда, стоит в конюшне… х-хы, да с двора я их не выпущу…
— Я хорошо уплачу! — усиливал свою настойчивость приезжий. — Ты спроси хозяина своего, дед…
Приказчик вынул из кармана черную маленькую табакерку и поднес щепотку острой нюхательной пыли к своим плоским, придавленным к хрящику ноздрям. Втягивая ими привычную понюшку табаку, он, как прислушивающаяся птица, попеременно наклонял голову набок и по-стариковски присвистывал заострившимся носом.
— Хозяина… хозяина, — без отчетливого смысла повторил он, кладя табакерку в карман. — Я и сам знаю, шо говорю. Посидите тут, господин, я это дело выясню, — неожиданно изменил он свое первоначальное решение и поднялся со стула.
Ворчливо покашливая и шаркая по полу искривленной ногой, приказчик подошел к двери в соседнюю комнату.
— Придется, господин, как поедете, полтинник прибавить, бо кони для казны булы оставлены, — добавил он, прежде чем переступить порог. — Сами понимаете, господин, — и он потянул к себе дверь.
Приезжий увидел часть столовой: ореховую мебель, такой же диван с высокой спинкой, обитый красным плюшем, портрет знакомого, сразу припомнившегося старика и завешенный портьерой косяк другой двери, ведшей в соседнюю комнату.
Он видел, как прошел туда хромоногий, а через несколько секунд и услышал его покашливание и невнятно доносившиеся слова деловитой беседы.
Приказчик вернулся вместе с высоким длинноносым и гладко выбритым человеком, на ходу оправлявшим свою русую слегка рыжеватую шевелюру волнистых, назад зачесанных волос. Он был без пиджака, в жилете.
— Вот вам хозяин, балакайте с им, — отошел в сторону Евлампий.
Блондин смотрел вопросительно, хотя он хорошо знал, о чем должен начаться разговор. Это был Семен Калмыков — сын и главный помощник старого почтосодержателя. Приезжий, не приближаясь к нему, повторил свою просьбу: нужны, сейчас же нужны лошади в Снетин, и будет уплачено столько за них, сколько потребует почтосодержатель; ямщик тоже будет доволен.
— Ну, так как по-твоему, Евлампий: можно ли им дать коней? — советовался Калмыков с приказчиком. — Еще, смотри, черт какой притащится; и доктор Войткевич уже два дня не заказывал?..
Приезжему показалось, не без основания, что все эти опасливые разговоры ведутся лишь для того, чтобы заломить с него большую сумму. Он с нескрываемым раздражением вынул поспешно кошелек и, метнув в сторону резкий взгляд, спросил:
— Вот. Пять рублей вам… возьмите. Или сколько?
— Нет, что вы! — растерянно усмехнулся Калмыков. — Пять это много. Обыкновенно мы берем за такую поездку три рубля. Но вам, вы говорите, нужно срочно ехать, да к тому же мы немного рискуем, отдавая последнюю, запасную пару лошадей… В Снетин — четыре рубля! — коротко оборвал он свое объяснение.
Такая уступчивость и добросовестность была неожиданна и для приезжего и для станционного приказчика. Евлампий что-то пробормотал в свои щетинистые, неровно подстриженные усы и неодобрительно засопел: не умеет, — как бог свят, не умеет! — держать станцию в своих руках молодой хозяин. Куда твое дело — старик Калмыков, Рувим Лазаревич! Один только рост у Семена от отца да фамилия! А ум где?
— Господи! — не утаивая досады, сказал Евлампий, когда хозяин вышел. — Вы… х-х… ямщику же не забудьте на водку: дешево… х-хы… коней взяли!
Постукивая о пол палкой и волоча больную ногу, он ушел отдавать распоряжения. Приезжий остался один.
Как полчаса назад его прельщала сонливая тишина, осевшая в этом чужом теплом доме, так испытывал он подъем духа и радость оттого, что видел и слышал теперь вокруг движение, звуки, голоса. Из глубины квартиры приходили в столовую и уходили какие-то люди — члены семьи Калмыкова; туда же несколько раз пробегала прислуга, и слышно было, как протяжно скрипит отворяемая ею дверца буфета и словно в мелком ознобе дрожит в ее руках на чайном подносе звонкое стекло стаканов; в самоваре на кухне потрескивали сухие, горячие угли, огонь мелькал и гудел в просвечивающейся дырявой трубе, просунутой коротким коленцем в печное отверстие, и крошились, выпрыгивая на поставленный под самовар железный противень, огненные угольки.
Приезжий медленными и широкими шагами ходил по комнате, заглядывая то в одну, то в другую открытую дверь.
Он заплатил уже Калмыкову деньги, и через десять — пятнадцать минут станционные лошади умчат его, усталого путника, по долгожданной, последней дороге…
Приезжий посмотрел на свою корзину: она показалась ему хранилищем его туго завязанного прошлого. Кладь была тяжела.
Он вынул папиросу и хотел закурить, но вспомнил, что в коробке не осталось спичек. Пришлось идти на кухню — прикуривать от уголька, упавшего на противень. Уже приседая на корточки, услышал, как сзади него из сеней открылась, клямкнув рычажком запора, обитая войлоком дверь и кто-то, переступая порог, сказал другому:
— Осторожно, папа.
Приезжий выпрямился и обернулся.
В кухню входили двое: тонкий, худощавый гимназист в наброшенной на плечи старенькой шинели вел за руку плотного, выше среднего роста человека в черном пальто с каракулевым воротником и в каракулевой круглой шапочке. Господин был в очках, но по тому, как медленно и осторожно передвигал он ноги и инстинктивно, щупающе шарил впереди себя свободной правой рукой, приезжий понял, что вошедший лишен был зрения.
— Пусти… пусти, Феденька, здесь я уже совершенно точно знаю дорогу, — слабо улыбаясь, убеждал он сына. — Тут у меня уже все шаги сосчитаны… Направление выверено. Пусти… Я сам, сам…
Они прошли, не раздеваясь, в калмыковскую квартиру.
— Кто это только что пошел: в очках… слепой, кажется? — спросил приезжий у прислуги, пришедшей в кухню за самоваром.
— Ось тот, шо с Федей? — переспросила она таким тоном, словно приезжий хорошо знал этого Федю. — Так це ж сын нашего хозяина — Мирон Рувимович! Хиба вы не знаете?.. — словно он обязан был разбираться в родственных связях обширной калмыковской семьи.
— Анастаська! Неси чай, — громко позвал из столовой чей-то грудной женский голос, и прислуга заторопилась.
В комнате уже заметно темнело, все предметы в ней поблекли. Приезжий нетерпеливо ждал Евлампия и его обычных традиционных слов станционного приказчика: «Лошади поданы», когда можно уже будет поспешно одеться, взять свои вещи и усесться удобно в широкие почтовые сани, наполненные сеном и накрытые мохнатой овчиной в ногах.
Нетерпение и скука одолевали его. Медлительность, с какой делалось все на этой почтовой станции, раздражала его.
— Скажите, скоро подадут лошадей? — не утерпел он и постучал в столовую.
— Через пять минут все будет готово, — пообещал выглянувший на стук хозяин. — Корм засыпали.
Спустя минуту приезжему показалось, что прошли уже все пять; он хотел вновь напомнить о себе, но в этот момент он услышал в коридорчике чьи-то уверенные шаги, крепкий короткий топот тяжелых ног, отряхивавших снег, а затем и увидел на пороге вошедшего.
Тот был одет в жандармскую форму, а погоны на его длиннополой шинели указывали на его унтер-офицерский чин.
— Крепчает! — бросил пришедший с мороза. — Недаром к рождеству Христову дело подходит.
Он крякнул, вытирая рукой заиндевевшие, полукругом нависшие над ртом усы, и, улыбаясь, мельком посмотрел на незнакомого пассажира и на его корзину.
Приезжий насторожился: рыжеусый жандарм по праву и закону мог претендовать на запасную пару почтовых лошадей.
Нужно было действовать, немедленно и решительно.
— Послушайте, хозяин… Я готов: пускай подают к парадному крыльцу! — приказывал он в слегка приоткрытую дверь.
— Семену Рувимовичу — почте-ение, — ласковым протяжным голосом дал знать о себе унтер, подойдя к той же двери и открывая ее перед шедшим уже навстречу Калмыковым. — Приятного чаю вам! — дружелюбно пробежал унтеров глаз по лицам сидевших за столом и, возвращаясь, опять мельком задел незнакомого человека, облачавшегося в северную просторную шубу.
— Здравствуйте… здравствуйте, Назар Назарович, — протянул ему хозяин фамильярно, с высоты, свою длинную руку, но приезжий заметил, как досадливая, искусственная усмешка легла нехотя в уголки калмыковского рта. — Что скажете, господин Чепур? — неестественно любезно, пусто звучал его вопрос, хотя спрашивать не приходилось: цель унтерова прихода была ясна.
— Ну… так как насчёт лошадей: я — жду… — вмешался приезжий в разговор, не обещавший ничего приятного.
— Насчет лошадей у них всегда заторно, — сочувственно ответил унтер, интимно и панибратски мигнув хозяину. — Дело известное — любите денежку нажимать на казенных лошадях; ну, да я молчу, молчу… Мне, Семен Рувимович, по делу ехать надо, — уже серьезно и сухо указал он, усаживаясь грузно и небрежно в кресло, и казалось, любо было унтеру Чепуру сознавать свое начальственное положение, дарованное ему законом. — И сейчас ехать, Семен Рувимович. Обязательно! — наслаждался он еще больше, видя явное замешательство на лицах Калмыкова и пассажира.
— Так поздно, Назар Назарович? — И почтосодержатель обменялся с приезжим многозначительным, красноречивым взглядом: вот видите, опасался я не напрасно, — пришел черт, и от него не отвязаться: и вам и мне неприятность…
— А далеко ехать?
— Лошадям корм — на сутки, а куда ехать — ямщику будет сказано.
Зачем спрашивать, да еще при постороннем: разве не известны Семену Рувимовичу, права, присвоенные чинам жандармской полиции, — не называть места своей поездки прежде, чем они там не побывают?.. — Унтер Чепур неодобрительно покачал головой.
— Простите, господин… — извинительно, беспомощно развел руками Калмыков, обращаясь к приезжему. — Но тут выходит некоторое недоразумение.
— Недоразумение? Я ведь вам уплатил уже…
— Пожалуйста, пожалуйста… Возьмите ваши деньги. Что ж делать… Может быть, за эти же деньги вас повезет в Снетин частный извозчик, с биржи. Я пошлю сейчас Евлампия, приказчика, — он найдет вам лошадей.
— Ну, знаете ли, это безобразие!
— Ничего, к сожалению, не могу поделать. А с биржи, может быть, наймете.
Увлеченные спором, они словно забыли и не замечали жандармского унтера — единственного виновника происшедшей неприятности. Они не видели, как поднялся он с кресла и очутился совсем близко, сбоку.
— Семен Рувимович! Пассажиру, вы говорите, в Снетин нужно? — сказал он, и голос его звучал слегка удивленно и услужливо. — Так если вы, господин, желаете, можете ехать со мной: я довезу вас до места назначения, — неожиданно предложил он. — Это… по дороге. Частный извозчик пока соберется, с… сын, — конец фразы потонул в хриплом, захлебывающемся кашле: унтер Чепур был, очевидно, простужен.
Морщинка заботы на калмыковской переносице исчезла; гнев приезжего осекся, и резкий короткий взгляд его недоуменно и непонятливо остановился дольше обычного на хрипевшем жандарме. Тот с трудом, казалось, справился с душившим его кашлем; лицо его побагровело, жилки на плотных мясистых щеках посинели и вздулись, а выпуклые темные глаза слезились.
К сожалению приезжего, он ничего нужного для себя не мог прочесть в них…
— Вот хорошо! — воскликнул Калмыков, неожиданно выведенный из затруднительного положения. — Вы ведь ничего не имеете протев? Сани широкие, места хватит.
— Пожалуйста… — уступчиво пожал плечами приезжий и вновь посмотрел на своего случайного спутника: Чепур предупредительно и вежливо кивнул головой.
…В ожидании лошадей они сидели оба на одном и том же диване и молча курили.
Через минуту-другую внимание обоих сосредоточилось на новом человеке, появившемся в комнате. Это был гимназист — внук старого почтосодержателя, Федя Калмыков, которого приезжий видел уже раньше.
Он стремительно выбежал из столовой и, оглядев на ходу присутствующих, быстро направился к телефону, висевшему сбоку над письменным столом. (Кстати, почему-то только сейчас приезжий заметил бурую коробку с зеленым шнурком и слуховой трубкой.)
Гимназист позвонил на телефонную станцию и громко попросил:
— Пожалуйста, квартиру Карабаева, — а приезжий не без любопытства заметил в этот момент, как непроизвольно приосанился согнувшийся на диване жандармский унтер, как учащенней замигали его рыжеватые густые ресницы.
Карабаев — эта фамилия была знакома и приезжему, настолько, что и сам он чуть вздрогнул при ее упоминании.
Он, очевидно, мог и должен будет многое вспомнить, вернувшись сюда, в этот город…
Карабаев вспомнился сразу, без напряжения.
— Простите, Георгий Павлович… здравствуйте, — степенно, но несколько смущенно говорил с кем-то невидимым усевшийся на стол гимназист. — Да, да — Федя Калмыков… Можно Иришу к телефону?.. Хорошо, хорошо, — я подожду…
— Ох, барышни… всегда они чем-нибудь да заняты! — пытался игриво улыбнуться неловко вмешавшийся Чепур.
Гимназист даже не обернулся на его голос.
— Лошади поданы! — услышал вдруг приезжий давно, жданные слова: прислушиваясь к телефонному разговору, он не заметил, как вошел через кухню хромоногий Евлампий.
— Ну, кто ж поедет? — спросил приказчик, безразличным взглядом окидывая обоих пассажиров.
— Вместе… По дороге! — в один голос ответили они, шумно поднимаясь с места.
Жандармский унтер вышел первым. Приезжий, подняв свою корзину, последовал за ним.
Когда переступал уже порог стеклянного коридорчика, услышал неясные, сбивающиеся слова гимназиста:
— Могу… Никого нет, Ириша. Сейчас совершенно свободно могу… Знаете, это замечательная штука. Спасибо. Я буду очень рад…
Дверь захлопнулась, вернее — ее захлопнул шедший сзади хромой Евлампий, берегший тепло хозяйской квартиры, — и приезжий не дослушал конца фразы.
Он вышел на крыльцо. Лошади уже поджидали. Поверх сена и овчины лежала черная кавказская бурка. «Чья это?» — невольно подумал приезжий и тотчас же перевел взгляд на Чепура.
— Это рам? — впервые заговорил он с ним.
— Моя, — ответил унтер, набрасывая на себя бурку. — Моя, а то как же? — повторил он, влезая в сани и давая место своему спутнику. — В шинели, сами понимаете, ехать холодно.
Приезжий уже не спрашивал, каким образом бурка оказалась в санях, — он понял: жандармский унтер еще до разговора с Калмыковым заявил его приказчику о своих правах на запасную пару лошадей. Он был предусмотрителен — унтер Чепур!
Может быть, и неожиданная предусмотрительность его не была случайной? Но об этом время будет подумать в дороге.
— Трогай! — ткнул рукой приезжий в широкую спину ямщика и потуже запахнул свою шубу.
Лошади свежей рысцой прошли узкий тупичок заезда в калмыковскую усадьбу, качнули сани на горбатеньком мостике, перекинутом над уличной канавой, и, свернув налево, побежали по утоптанной снежной дороге.
ГЛАВА ВТОРАЯ Депутат Государственной думы Карабаев
Поезд уходил с Царскосельского вркзала в девять тридцать вечера. За полчаса до отхода поезда Лев Павлович Карабаев был уже на вокзале. Услужливый носильщик подхватил оба его чемодана и понес их по мраморной лестнице на второй этаж к перрону. Лев Павлович на ходу, расстегивая шубу, вынимал билет, чтобы предъявить его перронному контролеру.
Лев Павлович проявлял поспешность и некоторую суетливость, хотя отлично сознавал, что причин для этого нет: времени до отъезда было еще достаточно, торопиться, чтобы захватить место поудобнее, незачем было, так как его заранее приобрела канцелярия Государственной думы для него — депутата Карабаева, одного из лидеров кадетской партии. Тем не менее хотелось поскорей добраться до вагона, рассчитаться с носильщиком и расположиться поуютней в теплом и светлоту купе.
И, вероятно, он был бы удивлен, если бы мог сейчас видеть себя: широкоплечий, немного грузноватый, в шубе с широким бобровым воротником и в такой же шапке, степенный и солидный человек — не то профессор, не то присяжный поверенный (если не знать еще более высокого общественного положения Льва Павловича) — суетливо и озабоченно расталкивал на лестнице толпу, стараясь обогнать идущих впереди, наступал кому-то на ноги, натыкался на чьи-то поставленные на дороге вещи.
Он никак не походил сейчас на самого себя — человека со спокойной, уверенной походкой, с плавными и четкими движениями, неторопливыми, но, однако, достаточно настоятельными. Он изменил сейчас своей обычной манере держаться; тот, кто хорошо знал Льва Павловича, почувствовал бы сразу, что с Карабаевым происходит нечто такое, что заставляет его обнаруживать взволнованность гораздо большую, чем можно проявить ее в обстановке вокзальной сутолоки.
Что собственно произошло? Что нарушило его душевное равновесие? Известия из дому? Нет, в семье все обстояло вполне благополучно: все здоровы и ждут с нетерпением его приезда.
Его собственное здоровье? Правда, он очень утомлен, в эту сессию пришлось изрядно поработать, иногда пошаливало не совсем спокойное сердце, но ко всему этому, к работе и переутомлению, он привык уже давно, и, конечно, не в этом заключалась причина его теперешнего состояния. Как врач, Лев Павлович был даже доволен собой: в прошлом году и сердце и почки причиняли гораздо больше неприятностей.
Нет, нет, — он понимает, что породило это болезненно-досадливое, нервное состояние, что повлияло на его психику!
В сотый раз вспоминая о случившемся (в сотый, потому что полдня непрерывно думал об одном и том же), Лев Павлович с одинаковой силой, как в первый раз, испытывал чувство гадливости и возмущения. Ну, и нравы! Ну, и государственная система!.. Становится уже трудно отличить департамент полиции от уголовщины. Боже мой, боже мой, — что делают в России, что позволяют себе делать с ее народными представителями?!.
Не ночевавший дома и приехавший днем из Райволы Лев Павлович не осознал сразу смысл всего происшедшего: в обеих его комнатах все было перерыто, замки были взломаны, однако ничего не исчезло, если не считать кое-каких мелких предметов и пары желтых шевровых ботинок. Это и удивляло, потому что воры; имели возможность выкрасть вещи более ценные, находившиеся в этих же комнатах.
Как выяснилось, злоумышленники проникли в квартиру ночью, с парадного хода, когда все уже спали: обе комнаты Карабаева были близлежащими к прихожей и отделены глухой стеной от всей остальной квартиры. Хозяева квартиры и прислуга приносили извинения Льву Павловичу, хотя они были виноваты только в том, что, как и всегда, крепко в эту ночь спали, — Льву Павловичу ничего не оставалось делать, как отнестись ко всему этому происшествию с добродушной и мягкой иронией: приближаются праздники, православные воры блюдут рождественский ритуал, он требует усиленных денежных издержек, — вот и причина ночного нападения!..
Хорошо, что такой мелочью отделался: или воры чего-то испугались, или — ха-ха-ха! — они оказались снисходительными к имуществу популярного думского депутата?..
Но вот не успел свыкнуться с этой мыслью, как — спустя час — почувствовал всю ее пустоту и неубедительность.
Журналист Фома Асикритов — неприятный человек, с «сумасшедчинкой», как думал о нем Лев Павлович, но он оказался на сей раз догадливей и умней, чем он, Карабаев.
Пришедший попрощаться Фома Асикритов сразу сокрушил Льва Павловича своей упрямой догадкой:
— У ваших воров, сердце мое, очень хорошие документы. Оч-чень хорошие!
— То есть?
— Не то есть, а тут суть великолепные кавалеры с Фонтанки шестнадцать!
— Третье отделение? Да бог с вами…
— Он всегда со мной, ибо где мне, грешному, обойтись без него! Совершенно точно говорю, сердце мое, Лев Павлович: были у вас гости, да не простые. Опричники — вот что-о!
— Какой смысл?
— Ха-ха! — насмешливо сверкнул, перебежав с одного места на другое, маленький, словно клякса, черный зрачок. — Ха-ха! — Чай, вы, Лев Павлович, в оппозиции, как выражаются, настоящему режиму? К кадетской партии принадлежите? Пусть она и не «революционная»… Личность вы известная? Речи в Думе говорите? И все документами настоящий режим изобличаете. Документами! — многозначительно сверкнул опять маленький напрягшийся зрачок и быстро отбежал на свое место. — А интересно, откуда документы достали, кто дал их депутату, где крамола сидит? — в упор уже, настойчиво глядел Асикритов на опешившего Карабаева. — Ну, понятно? Бумажки искали, — вот потому и замки во всех ящиках взломаны. Денег не взяли — на что им деньги! А мелочишку да обувь нарочно прихватили — замести следы, симуляция одна, да и только.
Лев Павлович пробовал возражать, пытался исправить асикритовскую догадку, но Фома Матвеевич был непреклонен в своих суждениях.
Впрочем, Лев Павлович слабо защищался. Фома Асикритов нрав, — в этом Лев Павлович уже не сомневался.
Ну, и нравы! Ну, и государственная система!.. Что позволяют себе делать с ним — народным представителем, членом Государственной думы! Выследили, воспользовались его отсутствием и… преступно, воровски пробрались к нему на квартиру, разгромили его ящики, рылись в его бумагах… В его бумагах — известного общественного деятеля страны, члена российского парламента! Больно за Россию, за условия русской жизни, стыдно за правительство, потворствующее уголовщине…
В первую же минуту Лев Павлович почувствовал себя смертельно оскорбленным и в порыве искреннего возмущения решил скандалить, потребовать от полиции строгого расследования, сообщить оппозиционным газетам о всех подозрительных деталях ночного набега. Газеты сумели бы искусно оттенить их так, что русский читатель, эзопов ученик, сразу понял бы, кто и с какой целью взламывал замки у члена Государственной думы Карабаева!.. Но Лев Павлович ничего этого не сделал…
Весь остаток дня он провел в размышлениях. Сегодня правительственными агентами было нанесено оскорбление ему, Карабаеву. А совсем недавно петербургские власти вознамерились ни больше, ни меньше, как посадить в тюрьму депутата Государственной думы Бадаева. И за что? За то, что на похоронах рабочих, погибших при взрыве минного аппарата, он сообщил собравшейся толпе, что взрыв произошел из-за преступной халатности администрации: нагоняли экономию и передали аппарат в работу без испытаний.
Бадаеву, как и остальным большевикам, Карабаев отнюдь не сочувствовал. Но беззастенчивое покушение на депутатскую неприкосновенность его возмутило. Нужно было срочно вмешаться, нужно было потребовать объяснений от министра внутренних дел. И он вместе с некоторыми другими думцами-кадетами поставил свою подпись под запросом социал-демократической фракций.
Но почему-то так получилось, что к моменту обсуждения запроса депутаты-кадеты, а с ними и он, Карабаев, сняли свои подписи. Запрос был сорван. Не дали боя министру-реакционеру, отступили…
Сейчас, садясь в извозчичьи сани, чтобы ехать к вокзалу, Карабаев не мог не признаться себе: да, спрятались в кусты, струсили. Да, боязно связываться с «охранкой», — всяко ведь может быть…
Карабаев чувствовал себя беглецом, малодушным. Его охватила апатия, усталость. У него было одно желание: домой, К семье, к интимным радостям и печалям.
Он не уезжал, а бежал из Санкт-Петербурга.
…Купе было двухместное, в вагоне первого класса; Льву Павловичу принадлежал нижний диванчик.
Верхний заняла — за несколько минут до отхода поезда — молодая женщина, вошедшая в вагон в сопровождении двух мужчин.
Один из них был в зеленой студенческой шинели и в такой же фуражке, другой — в гражданском, узком, старомодного покроя пальто с каракулевым воротником и в картузе путейского инженера.
— Сюда… сюда, Людмила. Вот твое место, — мельком оглядывая Карабаева, говорил инженер. — А Леонид по соседству с тобой, в другом…
Он поставил чемодан женщины на пол и пропустил ее в купе. Студент с саквояжем в руке прошел мимо — в соседнее. Лев Павлович вышел в коридор, дабы не мешать своей попутчице расположиться.
Он не смог еще рассмотреть ее, но зато успел заметить брошенный в его сторону взгляд инженера, а минутой позже — и взгляд подошедшего сюда же студента.
Глаза обоих едва скрывали почтение и некоторое любопытство.
Вначале он не понял, почему это так. «Неужели мы знакомы?» — подумал Лев Павлович, но потом другая, более точная мысль подсказала истину. Ну, конечно, его — известного, популярного депутата Карабаева — узнали эти люди, узнали по портретам, неоднократно помещавшимся в журналах, а может быть, и запомнили, видя его в кулуарах или на трибуне в Государственной думе. Вот, вот — он вспомнил даже: не так давно ему пришлось побывать в обществе петербургских либеральных инженеров, беседовать со многими из них, — разве не мог этот, с черными подстриженными усиками, с чертами лица, удивительно схожими с гоголевыми, — разве не мог этот инженер быть там, принимать участие в общей беседе?
И Лев Павлович уже не удивлялся тому, что его узнали. Не желая, однако, останавливать на себе внимание чужих людей, он отвернулся к окну, разглядывая суетившийся на перроне народ.
Дважды ударили в густой железнодорожный колокол, заметались люди в толпе, за окном, заторопился провожающий инженер.
— Ну, с богом! Поезжайте. Отцу передайте «последнее прости»… Напиши обо всем, Людмила… обо всем.
Он крепко расцеловался с отъезжающими, надел перчатки, поправил соскользнувшую набок, во время прощания, инженерскую, с широкими полями, фуражку и, не глядя уже на обернувшегося Карабаева, вышел из вагона.
В окно Лев Павлович увидел, как инженер, медленно пробираясь в толпе, пошел к выходу. Лев Павлович инстинктивно а затем и по инерции, следил за ним, пока хватало глаза. Вот видна только шина и фуражка инженера, еще секунда — и они исчезнут и взор Льва Павловича сможет уже заняться чем-либо другим.
Но что такое? Инженер словно знал, что кто-то неотступно следит за его фуражкой: он слегка приподнял ее, обнажив на секунду черноволосое темя, затем снова опустил на голову и — уже не двигался. Вернее, не двигался вперед: инженер с кем-то поздоровался и остановился. С кем — Лев Павлович не видел.
Но вот толпа, вероятно, оттиснула инженера назад, вся верхняя часть его корпуса попала в поле зрения, Лев Павлович видит его чуть усмехающееся подвижное лицо, сильно освещенное широкощеким фонарем и теперь, — инженер вновь попятился под натиском толпы, — маленькую фуражку его повстречавшегося собеседника.
— Фу-ты! Неужели?.. — Перед глазами Льва Павловича мелькнуло на мгновенье знакомое лицо Фомы Асикритова.
Бом, бом, бом! — ударил колокол, и толпа на перроне отпрянула от вагонов; инженер и Асикритов растворились в ней. Картавый, пронзительный свисток обер-кондуктора — и вагоны осторожно качнуло. Лев Павлович отошел от окна.
Асикритов на вокзале? Зачем? Господи, ну что за странный человек! И со всеми знаком, знает почти всех в Петербурге… И вот с этим «гоголем»-инженером знаком…
Карабаев вошел в купе.
— Виноват, — поднялся с диванчика студент, уступая место Льву Павловичу. — Разрешите остаться, пока я устрою сестру.
— Пожалуйста, пожалуйста, — дружелюбно посмотрел Лев Павлович на обоих. — Устраивайтесь, как хотите.
Женщина тоже встала с диванчика, а брат ее принялся поднимать верхнюю полку. Он ушел к себе, как только помог сестре разместить ее багаж.
— До завтра, Людмила Петровна… до завтра, — прощался он с ней, и Карабаеву показалось, что он умышленно назвал ее полным именем-отчеством, дабы облегчить Карабаеву знакомство, которое так или иначе должно было состояться в течение долгого пути.
Женщина устраивала себе ложе и выбирала из коробка и чемодана вещи, приготавливаясь ко сну. Делала она это молча и сосредоточенно. Присутствие постороннего человека ее, очевидно, не смущало. Лев Павлович читал вечернюю газету, закрывшись наполовину ее листом. Но время от времени он невольно подымал глаза. Да, он не ошибся полчаса назад: женщина эта, Людмила Петровна, была молода, красива, а в её плавных, чуть замедленных движениях и во всей ее осанке Лев Павлович легко распознал то, что привыкли в обществе называть «породой», а он, доктор Карабаев, — выхоленным организмом, не знающим изнурительного труда.
В раскрытом чемодане попутчицы лежало тонкое кружевное белье, аккуратно сложенное шелковое платье, различные принадлежности изысканного дамского туалета и между всем этим — надушенные бумажные подушечки-саше, привозимые, как говорили, для петербургских светских дам непосредственно из Дарижа.
Лев Павлович видел, как она вынула из чемодана узорчатый халат и обитый кожей новенький несессер; переложив все это в желтый коробок, она не спеша пошла в конец вагона. Воспользовавшись ее отсутствием, Лев Павлович наскоро приготовил свою постель, разделся и, накрывшись одеялом, улегся на диванчике.
Никакой стыдливости Лев Павлович не испытывал, однако некоторое неудобство ощущал: он предпочел бы иметь спутником мужчину (ну, хотя бы вот этого студента — брата Людмилы Петровны), или женщину значительно старше, чем она, и менее светскую, то есть менее требовательную и обязывающую в вопросах этикета и барских привычек.
Утром, когда проехали уже Витебск, состоялось знакомство: с ней и ее братом-студентом, пришедшим навестить Людмилу Петровну. Вчерашняя догадка Льва Павловича о том, что спутники узнали его, подтвердилась теперь: в первые же минуты общего разговора студент почтительно сообщил ему об этом. А Людмила Петровна добавила, к немалому удивлению Карабаева:
— Мы — земляки ваши. Вот видите, — вы этого и не предполагали.
— Очень приятно, — улыбнулся Лев Павлович и вежливо заинтересовался фамилией своих спутников. — А-а, — продолжал он, что-то вспоминая, — так ваш батюшка — генерал Величко? Как же, как же, земляки, настоящие земляки… Генерал Величко… так, так.
Действительно, он знал эту фамилию, ему приходилось как-то видеть и самого генерала, но сейчас Лев Павлович тщетно старался припомнить, от кого и когда в последний раз он слышал о генерале Петре Филадельфовиче. (Имя и отчество отца назвала молодая женщина.)
— Отец при смерти, — поведала она, и Льва Павловича поразило спокойствие, почти безразличие, с каким произнесла она эти слова. — Нас вызвали телеграммой. Радостей мало, как видите.
В голосе Людмилы Петровны была не столько печаль, сколько досада, недовольство даже, — или может быть, Льву Павловичу только показалось так? Большие, серые, в бахроме длинных темных ресниц глаза спутницы смотрели на всех и на все с холодным любопытством и с нескрываемой надменностью. Они каждый раз словно оценивали что-то, откровенно выбирали для себя нужное и, — выбирая, оценивая, — не торопились и смотрели беззастенчиво, бесстыдно.
Умирал ее отец, но, сообщив об этом, она тотчас же посетовала на «несвоевременность» этого события: ей приходится раньше предположенного времени покинуть Петербург, где она гостила у старшего брата, инженера Величко. Из Петербурга не хотелось уезжать, Петербург развлекал, а это было совершенно необходимо теперь, по словам Людмилы Петровны.
Только четыре месяца назад она потеряла мужа, артиллерийского поручика, неизвестно почему покончившего самоубийством.
Присутствовавший при этой беседе студент слегка нахмурился, услышав о поручике, с тревогой и коротким любопытством скосил глаза в сторону сестры и словно приготовился услышать из ее уст что-то неожиданное или во всяком случае такое, что должно было прозвучать неожиданно для их недавнего и случайного знакомого — Карабаева.
Лев Павлович заметил это и понял, что молодая женщина имела, очевидно, основания не говорить подробно о причине, вызвавшей смерть ее мужа, артиллерийского поручика Галаган.
Весь остаток совместного долгого пути он старался теперь провести в молчании, избегая общения с Людмилой Петровной и ее братом.
В Жлобине, на узловой станции, сосед студента высадился, и Людмила Петровна перешла в купе к брату, — Лев Павлович неожиданно получил возможность остаться наедине с самим собой.
Он опустил верхнюю полку, и в купе стало свободней и шире. Теперь все выглядело уютней и приветливей. Эта внешняя перемена сказалась тотчас же и на самочувствии Карабаева. Он мог свободней держать себя, курить, не выходя в коридор, насвистывать, — что делал всегда, раздумывая о чем-либо, — наконец, вот думать, раздумывать без помехи, черт побери!..
Помянув в мыслях черта, Лев Павлович почувствовал облегчение и одновременно приток бодрости, душевный подъем: напряженное состояние вынужденного общения с чужими людьми разрядилось, ничто и никто не мешал теперь его поступкам и мыслям. И — вот странность! — он только сейчас вспомнил вдруг то, что ускользнуло раньше из памяти как неважное и случайное — чужое.
Генерал Величко? Ну да, это у него брат, Георгий Павлович, собрался заарендовать или купить сахарный завод. Соня, жена Льва Павловича, сообщила как-то об этом в письме. А месяц назад та же Соня писала, что брат, Георгий, слишком внимателен, как сплетничают в обществе, к «госпоже Галаган, хорошенькой и молодой вдове из местной дворянской семьи…»
«Значит? — Лев Павлович несколько минут что-то медленно и сосредоточенно соображал. — Так, так…»
Взгляд, усмешка и некоторые фразы Людмилы Петровны, казавшиеся раньше непонятными когда говорили о Смирихинске и его жителях, были теперь разгаданы Львом Павловичем.
«Дела семейные», — улыбнувшись про себя, подумал он.
…Плавно покачивало вагон. Поезд стремительно пробегал каждый перегон, и, запыхавшись, фырчал, и утомленно дышал на обнесенных снегом остановках.
Еще один перегон, другой, третий, — поезд шел уже навстречу ранней зимней ночи — последней ночи, которую Лев Павлович должен был провести в вагоне.
Он закрыл книгу — перевод скучного немецкого романа — и подошел к окну. Оно и днем было непроницаемо для глаза: наружное стекло было наглухо покрыто вьюжной ледяной корой, — тем реальней и острей представлялась сейчас Льву Павловичу и темная суровая ночь и потонувшая в ней и в тяжелых снегах близкая его сердцу русская молчаливая равнина.
Он знал, что за окном все уныло, сиротливо, вдово, — иначе он никогда и не думал о русской земле. Взор его, упавший на обледенелое окно, стал печален и задумчив.
Сквозь ледяную кору, мешавшую смотреть в окно, он мысленно видел теперь все отчетливо и безошибочно. Мутное зимнее небо. Земля в тяжелых снегах: шатры сугробов, среди них — прикорнувшие деревянные ящики мужичьих изб, лай недоверчивых мохнатых псов; завывает на ветру непонятная мужику телеграфная проволока, скрипит от мороза березовая роща.
Глаз Льва Павловича проникал за окно и видел то, что мог бы представить себе сейчас любой русский путешественник. Но Лев Павлович этого не сознавал: он был убежден, что воспринимает все глубоко лично, по-особенному.
Он продолжал смотреть в непроницаемое окно, за которым мелькали темнота, вьюга и снежная угрюмая пустыня. Он делал это так углубленно, сосредоточенно и проникновенно, что на одно мгновенье им овладел внезапный испуг, — Лев Павлович стоял по колено в сугробе, метель сорвала с его головы шапку, засыпала всего колючим снегом, валила наземь, вдувала внутрь его судорожное дыхание, он замерзал, умирал… Он протянул руки вперед, и мимо него промчался, сбивая ветром с ног, безжалостный змеевидный поезд, сверкнувший перед запорошенными глазами изломанной искрой чужого исчезнувшего света.
— О-ох! — непроизвольно простонал, вздрогнув, Лев Павлович и инстинктивно отпрянул от окна.
В купе было тепло, тихо, электрические лампочки излучали в него мягкий приветливый свет, бархатный диванчик был уютен, удобен. В зеркале двери Лев Павлович, повернувшись, увидел свое слегка побелевшее лицо.
— Слава богу… — прошептал он и опустился на дорожную постель.
Уже засыпая, он почувствовал, как сильно устал — и физически и душевно.
Когда проснулся утром, узнал, что ночью поезд простоял на какой-то станции свыше двух часов из-за свирепой метели. В общем, шли с запозданием на четыре часа. В Ромодан, где должна была быть пересадка на Смирихинск, прибыли уже после обеда; поезд на Смирихинск ушел два часа назад.
— А следующий когда? — спросил Лев Павлович у носильщика, поставившего вещи в зале первого класса.
— Ночью, барин. Одиннадцать десять идет.
Старик носильщик искренно разделял досадное чувство своего пассажира. Подумать только — сорок минут езды на машине, а тут изволь ждать чуть ли не полдня!
— Когда понадоблюсь — прикажите, барин! — распрощался он с не на шутку опешившим Карабаевым.
Лев Павлович остался сидеть на широкой скамье, стоявшей неподалеку от буфетной стойки. Станция была узловая, на скрещении двух огромных железнодорожных магистралей, и в часы прихода поездов и ожидания пересадок зал был полон народу. Сейчас же пассажиров было сравнительно мало (дневные поезда прошли уже во все четыре стороны), и Лев Павлович получил возможность в течение нескольких минут оглядеть всю публику. Среди всех этих лиц инстинктивно хотелось найти хоть одно знакомое лицо, и он искренно обрадовался, увидя вдруг вблизи, у буфетной стойки, недавних своих попутчиков: Людмилу Петровну в бархатной шубке и меховой шапочке и студента Леонида. Лев Павлович подошел к ним и посетовал на свое вынужденное ожидание.
— И у нас неприятность, — медленно и глухо сказала молодая женщина, опустив глаза.
— А что такое?
— Отец умер сегодня утром.
Лицо Карабаева выразило удивление и — тотчас же — учтивое соболезнование, а сам он тихо, почти шепотом произнес:
— Ай-ай-ай… Действительно, горе. Но откуда вы знаете, Людмила Петровна?
Она кивнула в сторону человека, стоявшего тут же у буфета: на человеке был кучерской тулуп, в руках — кнут и баранья шапка в одной, в другой — пузатая рюмка с водкой. Кучер, повторяя скороговоркой: «Покорно благодарю… покорно благодарю, барин», медленно подносил ее ко рту. Студент был занят тем же самым делом.
— Нас ждут здесь лошади, управляющий прислал из Снетина, — пояснила Людмила Петровна. — Вот и узнали сейчас. Печальная новость…
— Да-а… — протянул Лев Павлович и посмотрел в ее глаза: серые; большие, — они были сухи и холодно блестели, как новое серебро. — Да-а, — повторил он, не зная, что сказать. — Так вам в Снетин? Верно, верно. Отсюда совсем близко…
Когда распрощался с ней и студентом, опять уселся на скамью у стола с пальмами и филодендронами в деревянных кадках и заказал обед. Откушав, он только что намеревался пройти на телеграф — сообщить в Смирихинск о часе своего приезда, как был неожиданно остановлен незнакомым молодым человеком в порыжевшей студенческой фуражке, вежливо склонившимся перед Карабаевым.
— Очень прошу простить меня, Лев Павлович, — не спеша водворяя фуражку на ее место, заговорил почтительно ее обладатель, и Карабаев удивился, откуда незнакомый человек так точно знает его имя и отчество. — Я не смел тревожить вас, покуда вы обедали, — продолжал студент, — но теперь я позволю себе предложить вам…
— Что? — прервал его Лев Павлович.
— … поехать вместе со мной в город на лошадях. Я ведь тоже еду из Петербурга домой, в Смирихинск. Я вот только что звонил по телефону в город, домой, и узнал, что сейчас здесь, в Ромодане, на заезжем дворе находятся наши лошади. Через полчаса они отправляются порожняком в Смирихинск: к шести часам мы будем там. Я уже сговорился с ямщиком. Я очень прошу вас, Лев Павлович, не отказать…
Студент говорил гладко, без запинки; кончик продолговатого носа при этом вздрагивал несколько раз, а языком, едва высунув его, студент почти после каждой фразы облизывал то одну, то другую свою губу. Он говорил гладко, не робея, но был заметно взволнован.
— Вы меня знаете? — спросил Карабаев, не отвечая прямо на неожиданное и приятное предложение своего любезного земляка.
— Ну, еще бы! — с непонятной гордостью улыбнулся тот. — Я часто слушал вас в Государственной думе, бывал на ваших лекциях… Я читал вашу книгу о вымирающей деревне, я ссылался на нее у нас на семинарах… в институте. Как же! Помню ваше недавнее выступление вместе с Максимом Максимовичем Ковалевским, знаю отлично вашу речь на пироговском съезде…
— Ваша фамилия? — дружелюбно прервал его Лев Павлович и протянул руку, освобожденную от меховой перчатки.
— Калмыков! — ответил студент и, вновь учтиво сняв фуражку, осторожно пожал протянутую руку известного депутата Государственной думы.
«Умный и серьезный молодой человек», — думал Лев Павлович о своем новом спутнике, сидя уже вместе с ним в просторных, с поднятым верхом санях, выехавших на смирихинский тракт.
Ехали молча; в поле было холодно и ветрено, и оба глубоко уткнулись в поднятые воротники шуб. Лев Павлович знал старика Калмыкова, знал хорошо его двух сыновей, земских вралей, — своих бывших товарищей по университету и работе, и новое знакомство с членом той же семьи, младшим братом этих приятелей врачей, обещало оставить о себе такое же приятное впечатление.
«Калмыков…» — мысленно повторил он фамилию своего спутника и вдруг невольно (а он вспомнил в этот момент что-то заинтересовавшее) повернул голову к студенту.
— Вы меня спрашиваете? — встрепенулся тот и отогнул край теплого воротника. — Простите, я не расслышал на ветру…
— Нет, нет, — покачал головой Карабаев, приняв прежнее положение.
Однако через несколько минут он окликнул студента:
— Скажите, у вас есть еще один брат… младший брат?
— Нет.
— Позвольте, как же это?.. Брат-гимназист у вас есть?.
— В Смирихинске?
— Да.
— Это не брат, Лев Павлович. Это мой племянник… Есть, есть. Кончает вот весной, — старался поддержать разговор Гриша Калмыков, не решавшийся, однако, спросить, почему вдруг не известный никому Федька мог заинтересовать члена Государственной думы Карабаева.
Жена подробно, слишком подробно писала всегда о всех семейных делах, — оттого несущественное (то, что казалось несущественным по крайней мере там, в Петербурге, во время работы…) быстро забывалось, переставало интересовать. Другое дело — теперь, когда через какой-нибудь час он, Карабаев, будет сидеть в кругу своих родных, включится в этот милый сердцу круг семейных радостей, забот, интимных домашних новостей. О, теперь нужно быть внимательным ко всему этому, нужно вспомнить все то, о чем так подробно и старательно сообщала в своих письмах Софья Даниловна, Соня — преданная, любящая жена и такая же любящая и нежная мать Ириши и Юрика!.. Иначе — можно незаслуженно обидеть ее, а вместе — и всю семью.
Впрочем, Лев Павлович Карабаев без всякого принуждения к тому целиком отдал сейчас свои мысли предстоящей встрече: в его любви к семье была, как сам объяснял, не только здоровая биологическая тяга, но и то, что называл чувством «необходимой связи с вечностью». Этой связью были его, карабаевские, дети. Если бы их не было или, боже упаси, он потерял бы их, — мир стал бы наполовину уже, короче, темней: словно кто-то выколрл бы Льву Павловичу один его глаз.
И сейчас он думал о детях. «Калмыков… так, так…» — вновь повторил он про себя эту фамилию и, вспомнив, знал уже, почему вспомнил. Софья Даниловна писала: «…А у Ирки нашей роман. К ней неравнодушен один здешний гимназист-восьмиклассник, по фамилии Калмыков… Я не придаю пока особого значения…»
«Так, так… Ириша, — ах ты, дочка взросленькая, — любовь?.. Ну, ну, — посмотрим твоего уездного Ромео… посмотрим, Иринушка! Уж от отца скрывать нечего… А Юрка тоже, наверно, на гимназической парте перочинным ножиком имя своей Джульетты вырезывает? Любовь…»
Лев Павлович улыбнулся долгой, добродушной улыбкой.
Мир, Россия, жизнь, желания — все покорно сбежалось в один — вставший перед Глазами и мыслью — светящийся приветливо фокус; все, раздробившись неожиданно, уместилось в нем.
Этой точкой, вобравшей в себя все отраженное и преломленное в сознании Льва Павловича Карабаева, была теперь семья.
Точка была теплой и мягкой.
— Въезжаем в город, — прервал молчание студент и отогнул, ворот шубы.
Лев Павлович высунулся из саней.
На углу какой-то домохозяин зажигал у ворот свой керосиновый фонарь.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Федя Калмыков, братья Карабаевы и другие
На двубортной гимназической тужурке уже не было маленьких серебряных пуговиц — этих немых хранителей благообразия казенной русской школы. Пуговицы Федя Калмыков недавно срезал, и, к его немалому удовольствию, тужурка приняла цивильный вид. Сейчас вольность этого поступка была еще продолжена: был надет высокий гуттаперчевый воротничок с полукруглыми отогнутыми концами; они высунули свои белоснежные, твердые, надломленные язычки, и, чтобы не стеснить дыхания, пришлось отстегнуть на вороте верхний крючочек застежки. В тот же час, когда надевался франтовской гуттаперчевый воротничок, было учинено еще одно преступление против правил министерства народного просвещения и высочайше утвержденного положения о форме воспитанников среднеучебных заведений: был поврежден, испорчен вколотый в темносиний околыш фуражки старый гимназический герб… Жестяные, скрещенные внизу веточки должны были, казалось,) вот-вот друг от друга отпасть: скреплявшие их в середине герба две буквы «С» и «Г» (Смирихинская гимназия) были выломлены и брошены на пол. Жестяные веточки на фуражке, как и лакированный пояс с медной, посеребренной бляхой, все же оставались принадлежностью туалета Феди Калмыкова.
Традиция, этот не писаный, но священный закон, руководила теперь его поступками; за полгода до окончания гимназии можно срезать пуговицы на тужурке, выламывать буквы из герба; перед выпускными экзаменами должно уже оставить в гербе только одну веточку, сбросить пояс, демонстративно показать инспектору свой портсигар.
Золотые пуговицы с накладными гербами российской державы, синеголубая фуражка должны были вскоре заменить собой опротивевшую, гимназическую форму. В студентстве предвкушалась радость освобождения и недоступная до сего вольница жизни, суждений и поступков.
Золотые накладные орлы на пуговицах не представляли этому никакой угрозы; напротив, было теперь так, что этот символ державной империи на тужурках и косоворотках молодежи служил приметой «внутренних врагов» самодержавного престола. Федя Калмыков уже видел себя в их рядах, хотя не надевал еще студенческой фуражки.
Сегодня ощутил это с большей силой, чем всегда, хотя и без всякого повода к тому. Вернее, повод — косвенный — был: предстоящее знакомство с Львом Павловичем.
Пусть Карабаев и не социалист (а он, Федя, считает себя социалистом), он даже не знает, республиканец ли Лев Павлович по убеждениям, но все же в своих выступлениях и в Думе и в печати, об этом всегда с гордостью говорила Ириша, он ратовал за «лучшее будущее» России и этим вызывал Федину приязнь.
— Вот и все, — без всякой цели и смысла сказал Федя, не слыша своего голоса. Это был секундный перебой в мышлении, а мать, Серафима Ильинична, всегда принимала его за исключительную рассеянность своего безусловно нервного, — как уверяла всех, — сына.
Жизнь семьи сложилась так, что она, Серафима Ильинична, всегда должна была с опаской и скрытым подозрением следить за каждым проявлением характера своих детей и состоянием их здоровья: неразгаданная и неожиданная слепота мужа внушала боязнь перед возможным наследственным недугом. Оттого близорукие глаза сына — тревожили, а вспыльчивость его — казалась предтечей нервного заболевания. Повышенное самолюбие, какое проявлял в отношениях почти со всеми товарищами Федя, вызывало всегда потом — видела Серафима Ильинична — долгие часы упрямого тяжелого молчания и болезненной замкнутости, а такое душевное состояние сына больше всего пугало ее. К сыновней рассеянности она относилась тоже подозрительно.
— Чего это ты, Феденька, сам с собой разговариваешь? — посмотрела она внимательно на бормочущего сына.
— Это он считает, сколько хорошеньких гимназисток сегодня встретит… — улыбнулся слепой отец, молчаливо сидевший все время у горячей натопленной печки. — Покоряй, покоряй! — продолжал он улыбаться своими теплыми карими глазами, неуверенно перемещавшимися в узком продолговатом разрезе слегка собранных складками век. — Придешь, Феденька, — расскажи нам все: как Новый год встречали, какую наливку пили. Эх, и сам бы я выпил наливочки; попросить бы, Серафимочка, у Семена! У него гости сегодня будут, угощение припасено. Нас с жобой, Серафима, не приглашают…
Улыбка на лице отца быстро исчезла, теплые слепые глаза чуть сощурились и на минуту уставились в одну невидимую для них точку.
Начавшийся разговор ничего, кроме досады и огорчения, не мог принести, а этого больше всего опасался сейчас Федя. Не отвечая родителям, он заторопился.
Мать держала уже наготове носовой платок и помятую, как блин, Федину фуражку с оторванным в одном углу козырьком, конец которого небрежно свисал всегда на Федин лоб; можно было аккуратно пришить козырек, но разве посмела бы сделать это Серафима Ильинична вопреки священной традиции восьмиклассников всея Руси?..
Федя поспешно прошел узкий калмыковский тупичок и очутился на улице.
В кармане пальто лежал листок за подписью инспектора, разрешавшего сегодня гимназисту Калмыкову «прохождение по улицам» позже восьми часов вечера, так как оный гимназист направлялся в гости, в «семейный дом господина Карабаева, проживающего на Завадчинской улице».
Биографии обоих братьев — Льва и Георгия Карабаевых — существенно стали разниться с момента окончания обоими университета.
И тот и другой кончили курс на естественном факультете, и Льву было предложено готовиться к профессуре по кафедре ботаники. Но Лев Карабаев уклонился от открывшейся перед ним научной карьеры; он захотел быть врачом и сделался им, окончив курс медицинских наук. Вторично карьера приветливо улыбалась ему: знаменитый профессор Остроумов оставлял его при своей клинике. Но вновь Карабаев-старший отказался от этого многообещающего пути.
Он был в ту пору народником, его влекло к себе подвижничество, жертвенное служение «темному мужику», перед которым чувствовал себя виноватым и обязанным. Народ! Это слово было избранным, наилюбимейшим в русском словаре.
Отказавшись от научно-медицинской деятельности, Лев Павлович, женившись на Софье Даниловне Асикритовой, отправился в одну из южных губерний на вольную врачебную практику. В первые годы своей работы он даже отказывался от жалованья, предложенного уездным земством.
— Сколько тебе, батюшка, за труды твои? — спрашивала баба у карабаевского фельдшера Теплухина, готовившего микстуру, и фельдшер Теплухин отвечал строго и деловито:
— Рубль, да не забудь доктору отдать пятачок!
Так начинал свое поприще будущий народный представитель в российской Государственной думе, ставший верно служить там отечественному капиталу.
Иной путь нашел для себя младший брат — Георгий.
По окончании университета он тоже женился — на бывшей гимназистке, дочери крупного железнодорожного подрядчика, у которой был репетитором в студенческие годы. Тесть остался доволен своим зятем: Георгий Павлович оказался человеком практического ума, с деловой сметкой и крепкой волей, нужной человеку его круга, как клык волку.
— Жоржа — молодец, — отзывался о нем тесть, Аристарх Николаевич. — За два, за три года так мое дело понял, что всю линию не беда на него оставить. Делец — одно слово!
Действительно, Георгий Павлович вскоре стал правой рукой своего тестя, а сделавшись неизменным помощником его, стал и участником в крупных делах и заработках железнодорожного подрядчика. Когда Аристарх Николаевич умер, руководство всеми работами перешло к Георгию Павловичу, а одновременно перешло к нему и наследство тестя, оставленное единственной дочери, Татьяне Аристарховне.
Федя Калмыков знал, что в то время отец, Мирон Рувимович, служил заведующим строительной конторой у Карабаева, однако за все годы службы материальный достаток Калмыкова составляло одно лишь жалованье, строго определенное деловитым Георгием Павловичем. Когда постройка последней в районе железнодорожной линии была закончена, Калмыков остался без службы, а Георгий Павлович переселился в Смирихинск, чтоб стать уже владельцем сначала одной лишь махорочной фабрики, а позже — и выстроенного заново кожевенного завода.
С тех пор благосостояние карабаевское росло и увеличивалось с каждым годом, и городская молва не прочь уже была величать его «миллионером», хотя такой суммы у Георгия Павловича еще не было. Но он был уже одним из тех немногих людей в городе, которые, — помимо лиц должностных, — значились в толстых министерских справочниках как руководители местной промышленности, торговли и финансов, как обладатели крупного имущественного ценза.
Культурность и многосторонняя образованность Георгия Павловича сообщили ему черты и привычки, резко отличавшие фабриканта Карабаева от многих людей равного с ним социального, положения.
В среде местной интеллигенции он слыл «просвещенным буржуа», среди купцов и промышленников — «немцем», европейцем, и он сам всячески и во всем, но без какого бы то ни было бахвальства, подчеркивал и утверждал это мнение о себе.
Он одевался не так, как все, — на это прежде всего было обращено внимание здешнего общества. Ему и Татьяне Аристарховне шилось все у лучших портных Киева, а иногда и Петербурга, куда оба время от времени наезжали. Шилось все из лучших заграничных материй, покупалась обувь, изготовленная там же по специальному заказу известными мастерами.
Но скромный, невзыскательный Смирихинск не мог, однако, упрекнуть Карабаева в хвастовстве и нарочитом щегольстве: костюм он носил так привычно непринужденно и умело, так внутренне небрежен был к своему платью, что, обратив внимание сразу на изящную обновку Георгия Павловича, забудешь о ней вскоре же, разговаривая с ним, потому что никакой костюм, никакая обновка не могли существенно изменить ни внешнего облика Георгия Павловича Карабаева, ни представления о нем как о человеке и собеседнике.
Костюм, галстук, ботинки, превосходная заграничная панама — не столько украшали его, сколько служили ему: вещи — рабы его желаний и вкуса. Служили ему — ну, вот так, как остальное в его доме: мебель, шкафы с книгами, белый двухтысячный рояль, мраморная ванна, домашние служанки.
Он сделал большие затраты на эту самую мебель, на оборудование дома, он сам выбирал каждый предмет для каждой из восьми комнат, он, как придирчивый к себе художник, смывающий по нескольку раз краски с полотна, заботился о стильности комнат, о их соответствии предназначенной цели, он проявил в этом деле не только педантичность и деловитость, но и вкус. И, когда пришли гости в новый, заново обставленный дом, все были поражены удобствами оборудования и богатством обстановки, но никто не удивился тому, что все это стоит, лежит, висит в таком именно порядке, на этом именно месте, что все это принадлежит Георгию Павловичу Карабаеву, служит ему, создает его, карабаевский, стиль!
Да ведь иначе не могло и быть! — казалось всем присутствующим.
У себя на кожевенном заводе он сделал то, на что вряд ли решился бы кто-либо из остальных смирихинских промышленников. В течение почти целого года он не получал никаких прибылей, напротив — вложил новые капиталы в завод, значительно затратился, переоборудовывая его, выписывая новые машины, достраивая заводские корпуса: Георгия Павловича Карабаева не напрасно прозвали «немцем».
Проще и привычней было довольствоваться тем, что и так уже давал завод без тех новшеств, которые, ввел Карабаев. Осторожные люди подсчитывали с карандашом в руках затраты Георгия Павловича и приходили к выводу, что все нововведения его в лучшем случае только оправдают эти затраты, не обогатив, однако, его. И если так, то стоит ли возиться со всем этим делом.
И уже совсем необычным и неоправданным показалось людям еще одно карабаевское мероприятие: он предложил своим кожевникам построить для них в кредит удобные, освещенные электричеством дома.
Почти, все рабочие жили вокруг завода, верстах в трех-четырех от города, в деревушке Ольшанка, — в избах многосемейных родных, в тесноте, — и предложение Георгия Павловича на первых порах казалось заманчивым. Новая заводская динамомашина, впустую тратившая избыток мощности, должна была вскоре дать свет в близлежащие домики выросшего рабочего поселка.
Электричество не было разорительно для рабочих, но выплачивать стоимость домиков им предстояло ежемесячно в течение ряда лет, и Георгий Павлович сообразил, что это и есть наилучший путь спокойного, экономического прикрепления кожевников к его, карабаевскому, заводу.
«Кому из рабочих придет на ум бастовать, рискуя быть выброшенным с семьей на улицу из теплого, уютного домика?» — так думал Георгий Карабаев.
Промышленник, умный и культурный делец, Карабаев был по-своему прозорлив во всех своих поступках. Он считал себя передовым человеком в среде того общественного класса, которому, — искренно веровал, — должно было принадлежать будущее руководство страной.
Эх, ему бы, Георгию Карабаеву, не здесь, не в маломощном Смирихинске, быть, — ему бы распоряжаться рудниками и шахтами, сталелитейным гигантом или богатейшей мануфактурой где-нибудь под Москвой или в самом Петербурге! Разве не хватит уменья, разве не станет распорядительности, энергии и воли?.. Ого-го!
Немудрено, что дом Георгия Павловича стал самым интересным местом встреч тяготевших по-разному к нему знакомых друг другу людей. Однако и здесь все подчинилось незаметно отбору, строго и умело произведенному хозяином дома: он принимал тех, кто нужен был ему (по-разному нужен) или был приятен тем, что признавал его, Карабаева, ум и общественную значимость. Он стоял в центре, — радиусами его влияния служили люди, составлявшие его, карабаевскую, среду.
И вот теперь, когда приехал Лев Павлович, — брат, знаменитый брат, «политическая совесть», русской интеллигенции, как называли депутата Карабаева в буржуазно-либеральных газетах, — Георгий Павлович сумел и сейчас сохранить за собой свое место в глазах собравшихся гостей.
Лев Павлович знаменит? Им льстит знакомство с таким человеком?.. Но у кого другого, как только у Георгия Павловича, эта встреча может, состояться?.. К кому еще так близок этот известный в государстве человек, как не ему — Георгию Карабаеву? Брат достоин брата.
Так или иначе, приезд Льва Павловича, пребывание его в Смирихинске, доступность встреч с ним — все это лишний раз как бы подчеркивало исключительное положение в здешнем обществе Георгия Карабаева.
Юноша, Федя Калмыков, меньше всего думал сейчас о человеке, в дом которого он пришел. Мысль его почти всецело занимал знаменитый депутат и… отец героини его романа — Иринушки. Правда, он уже был знаком с Львом Павловичем Карабаевым, еще в самом начале вечера Ириша показала его отцу, — но разве достаточно одного рукопожатия, десятка ласково сказанных слов и мельком брошенного доброжелательного взгляда?.. Да и вообще Федя чувствовал неловкость: во время знакомства с Карабаевым присутствовала Софья Даниловна, и ее насмешливые, «посвященные» глаза невольно смущали Федю.
«Вот, молодой человек, — папа Ириши: так и знайте! — словно говорили эти глаза. — А вы думали, что все так просто, молодой человек?..» — И он почувствовал в этом неслышном вопросе заранее вынесенный приговор, осуждение, отказ.
«Дурак! Сробел, как гимназист! — с досадой подумал он о самом себе, лишь только Карабаев с женой прошли в другую комнату. — Как я держал себя? Что-то бессвязно отвечал — как мальчишка, как гимназист…» — мысленно повторял он это сравнение, не чувствуя в этот момент его правдоподобности и неоспоримости.
И теперь, когда Ириша и Федя, покинув гимназическое общество, вышли в гостиную, где сидело большинство гостей, Федя тотчас же заметил Льва Павловича. Он стоял, покуривая, у самых дверей в братнин кабинет, стоял, окруженный собеседниками, среди которых один был незнаком Феде.
— Кто это? — спросил он свою спутницу, указывая глазами на круглоголового, гладко выбритого человека в рябеньком, нескладно сидящем костюме и в черной, — как носят рабочие, — косоворотке, резко бросавшейся в глаза среди белогрудых манишек остальных мужчин.
— Политический! — шепотом ответила Ирина. — Дядин знакомый… политический, ей-богу! — повторила она и не прочь была бы рассказать о нем все немногое, что узнала сама час назад, но Софья Даниловна позвала ее в этот момент, и Федя остался один.
Чувствовалось, что человек этот сегодня не только не потерялся во внимании собравшихся, но и отвлек его столько же, сколько почтенный гость в Смирихинске — Лев Павлович Карабаев. С особенным интересом и острым любопытством всматривались присутствующие в его лицо, слушали его речь, многим льстила бы его дружеская расположенность к ним, но вместе с тем далеко не каждый решился бы открыто, на глазах у всего города, укреплять свою дружбу с этим человеком.
Присутствие его здесь, — как и Льва Павловича, — делало сегодняшний вечер необычным, волнующим, но… одно дело поддерживать общение с оппозиционным депутатом Карабаевым, другое совсем — принимать у себя в доме бывшего политического ссыльного социал-революционера Ивана Теплухина!
Близкое и открытое знакомство с ним может бросить тень на доброе, «лойяльное» имя доктора Коростылева — старшего врача земской больницы. Адвоката-еврея, Захара Ефимовича Левитана, наверно, уже после этого не утвердит судебная палата присяжным поверенным, и придется ему всю жизнь числиться в помощниках, а место городского инженера Бестопятова станет зыбким, ненадежным, как осевший в прошлом году выстроенный им мост на здешней речке…
Один лишь Георгий Павлович мог пренебречь всеми этими не без основания высказанными опасениями. Встретив сегодня в городе Ивана Митрофановича Теплухина, когдатошнего репетитора карабаевских дочек — Кати и Лизы, Георгий Павлович не замедлил пригласить его к себе на вечер: бывший «политический преступник», к тому же легализированный теперь правительством, — о, это могло быть интересным для гостей Георгия Павловича и придать его вечеру некоторое своеобразие.
И невольно случилось так, что присутствие Льва Павловича и Теплухина не только скрасило, но в значительной степени и насытило все разговоры в этот вечер политикой.
Мужчины продолжали уже свою оживленную беседу, перешагнув порог кабинета, а заинтересованный Федя занял их место у тяжелой синей портьеры. Некоторое время можно было не менять позиции: один из карабаевских пятнисто-серых догов разлегся тут же, у порога, и Федя, старательно лаская собаку, почесывая у нее за ухом, искоса наблюдал в то же время расположившихся в кабинете собеседников.
— …Уж у нас, думцев, цифры… цифры. У нас сотни сообщений с мест, — мягко гудел голос Льва Павловича. — Если хотите, — мы вступаем в полосу оскудения. Правительство тупоумно, реакционно и — при нынешнем курсе — беспомощно предотвратить расхищение народных благ. Эта бюрократия — бездушная и подлая машина. Помните, Гончаров, лучший знаток ее, сказал о русской бюрократии: «Одни колеса да пружина, а живого дела нет…» Ведь замечательно сказано, правда? Эта бюрократия печется о сохранении полицейского государства — и только, господа! А вы приглядитесь, например, к деревне. (Вам, вам, говорю, Иван Митрофанович…) В деревне давно пропал внутренний мир: обезземеление привело к междоусобице, сын идет на отца, брат на брата, а крестьянская земля треплется на рынке. И это называется землеустройством?! Сын убивает отца за то, что тот продал надельную землю, — хорошо? Ведь это же факты, факты… А приходится продавать, потому что нечего есть: продают на хлеб, от голода. За два года, оказывается, продано до двух миллионов крестьянской земли…
Его никто не перебивал, и, выдержав вынужденную паузу, затянувшись папироской, Карабаев продолжал:
— И вот получается… Куда идти этим несчастным людям, у которых не осталось ни клочка земли, ни хаты? Ведь банк-то «крестьянский» последний пуд хлеба забирает за недоимки. Куда идти? На фабрику? В город? Хорошо… Но к чему может привести такое скопление ожесточенных людей в городах? Кто-нибудь над этим задумался? При таком положении можно ожидать всяких крайностей. У нас нет разумного социального законодательства по рабочему вопросу. А оно нам сейчас необходимо… (Лев Павлович многозначительно, доверительно посмотрел на своего брата.) Вот вам экономический «подъем». Все это плюс реакционная остервенелость политического режима — вот судьба России, если…
— Если? — подхватил кто-то, и Федя узнал по голосу круглоголового, в черной косоворотке «политического», сидевшего в тени комнаты, на широком кожаном диване.
— …если только наша общественность, Иван Митрофанович, не сумеет выступить энергично, объединенной против произвола.
— Как это «выступить»? Выступит — посадят.
— Протестовать во весь голос… мобилизовать общественное мнение, все демократические элементы страны — все, что есть прогрессивного в населении. Меня удивляет, что вы задаете эти вопросы!..
— Ладно, не торопитесь удивляться, Лев Павлович… Я вот и спрашиваю: а если мобилизация прогрессивного да просвещенного не поможет, не подействует, бессильной окажется, — что тогда?
— Ну, тогда… Тогда двор и правительство могут дождаться такого, ого-го!
— А именно? — словно поддразнивал голос круглоголового, и Федя видел, как все сидевшие в кабинете привстали вслед за Теплухиным и, насторожившись, переводили взгляд то на него, то на сидевшего у стола Льва Павловича, словно вот-вот произойдет что-то такое неожиданное между ними обоими, что потребует вмешательства и всех остальных.
Это же состояние настороженности невольно передалось и Феде: он подался вперед, а рука, поглаживавшая дога, ухватилась за портьеру, раздвигая ее, чтоб лучше видно было все, что происходило в карабаевском кабинете.
Тогда… тогда…
«Революция!» — захотелось крикнуть Феде, но услышал тихий, размеренный, хотя и взволнованный голос Льва Павловича:
— Видите… история знает различные формы возмездия, и не всякого возмездия следует желать. Я не боюсь слов, не уклоняюсь от точных определений, понятий, — я говорю сейчас в кругу лиц, для которых родина одинаково дорога, так ведь? — и поэтому я скажу вам совершенно искренно: если Горемыкин, Маклаков и Кассо делают бессознательно все, чтобы вызвать в России революцию (а дела их подлы и преступны), это еще не означает, господа, что только революция может избавить Россию от этого режима! Да, вот так… Скажите, Иван Митрофанович, как здоровье вашего батюшки? Как у него с земством дела?.. — неожиданно прервал он разговор, подходя к Теплухину.
Все поняли, что Карабаеву захотелось переменить тему беседы: то ли он устал и не считал нужным продолжать ее — говорить все время о политике, то ли почувствовал, как и все остальные, что она должна закончиться непременно спором, а спорить, очевидно, не хотел.
Это не огорчило и не разочаровало всех остальных участников разговора. Напротив, все они почувствовали, что обрели вдруг для себя, для своих поступков свободу.
Кто скажет, что трем-четырем провинциальным смирихинским интеллигентам не интересно было слушать час-другой знаменитого думского депутата или рассказы вернувшегося из Сибири «политического» — Теплухина? Разве не должен быть отмеченным день этот в памяти знаком цветным, фосфорическим — на путях их, обыденных встреч, забот, печалей и радостей, повторяющихся множество раз, схожих во множестве дней, как колья в знакомой, стоящей перед глазами изгороди? И тем не менее каждый в душе был доволен сейчас тем, что общая для всех беседа прервалась и разговаривать и слушать друг друга должны были теперь только оба приезжих гостя, отошедших в сторонку. Невзыскательны русские провинциалы! И так уж много впечатлений за этот час-другой, уже каждый из присутствующих чувствовал себя посвященным во что-то необычно важное, значительное, что никак неведомо простому смертному смирихинцу, — и этого было уже совершенно достаточно, по крайней мере для сегодняшней встречи.
Так чувствует себя молодой студент, побывавший на первой, затянувшейся, как показалось с непривычки, лекции профессора: сиди, молчи, благоговей! И впрямь и здесь так было: вели все время разговор только Лев Павлович и Теплухин, да Георгий Карабаев вставлял иногда к месту свое спокойное, деловое, как всегда, замечание; остальные же слушали и запоминали. Теперь же обрели для своих поступков свободу. Этому помогла еще хозяйка дома, Татьяна Аристарховна, приглашая всех к ужину.
Федя не успел еще отойти от дверей, как услышал рядом с собой голос круглоголового, в черной косоворотке:
— Вот и вы здесь, молодой человек. Я вас знаю, видел вас недавно — познакомимся.
И он, улыбаясь, протянул Феде руку.
Федя поспешно пожал ее, с любопытством и недоумением глядя на никогда раньше не встречавшегося человека:
— Где вы меня видели?
— У вас в доме. Вспомните, а ну-ка? На почтовой станции, ну, да, да… вы говорили с кем-то по телефону, с какой-то барышней.
— А вы?..
— А я… я, милый друг, дожидался лошадей.
— Такой бородатый… и с усами?..
— Ну, да! — рассмеялся Теплухин, — и все, и бороду и усы, сбрил. Помолодел.
— Вот оно что! — воскликнул Федя. — Так это вы были.
Теплухин, пожав его локоть, хотел уже отойти, но Федя, удержав его руку, быстро, сбиваясь, неожиданно для самого себя сказал:
— Я слышал ваш разговор с депутатом Карабаевым… Я знаю, вы его спрашивали, будет ли революция, а он не захотел… побоялся прямо ответить. Я читал социалистические газеты… литературу. Я за социалистов… У меня есть знакомые товарищи, — они тоже за!
Резкий внимательный взгляд упал на Федино лицо, заполз в его раскрасневшиеся, возбужденные глаза. Заполз и несколько мгновений держал их испытующе в повиновении, так, что им стало больно, как от резкого, близко придвинутого света.
— Вы — серьезный, должно быть, юноша, — вполголоса сказал Теплухин и, приветливо кивнув головой, отошел от Феди.
В том, что сказал это негромко, сдержанно и без улыбки, что посмотрел как-то по-особенному проникновенно, — во всем этом почудилась Феде неожиданная интимность, которая должна была сопутствовать, очевидно, дружескому расположению к нему Теплухина. И если это так, то должен ли был бы Иван Теплухин сомневаться хоть на один миг в том, каким искренним чувством симпатии и преданности отвечает ему в этот момент наш молодой герой?
Ах, бедная, ничего не подозревающая Ириша! Если бы она склонна была проявлять ревность, если бы девичье сердце было слишком капризно, — то могло бы, по справедливости, упрекнуть Федю: весь остаток вечера мысли его были заняты встречей с Терлухиным. Правда, знакомство с Львом Павловичем Карабаевым льстило юношескому самолюбию, но Карабаев казался недоступным, недосягаемым «петербуржцем», а Теплухин — более простым и близким, и манера, с какой он держал себя на людях, — демократичней и «провинциальней», как оценил ее про себя Федя. И, стоя в сторонке в гостиной, и позже, после ужина (во время ужина молодежь сидела в другой комнате за отдельным столом), он преданным взглядом следил за каждым движением, за каждым словом Ивана Митрофановича. Иногда их взгляды встречались, и всякий раз Феде казалось, что тайком от других Теплухин кивает ему или улыбается улыбкой друга и заговорщика.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Речь смириосгтского Златоуста в новогоднюю ночь
Перед каждым из сидевших за столом стояли наполненные вином бокалы, но никто еще не пригубил. Все дожидались традиционного торжественного момента, когда со стены раздастся бой часов, возвещающий наступление нового года. До прихода его оставалось всего лишь три неполных минуты, и этот короткий срок заполнился нетерпением и волнением присутствующих.
— Дуня! — возбужденно отдавала приказания Татьяна Аристарховна молоденькой горничной. — Станьте у выключателя и тушите свет, как только я вам крикну… Ради бога, не опоздайте, но и не торопитесь.
— Вы не находите, — нагнулся Теплухин к своему соседу, адвокату Левитану, — что нашим гостеприимным хозяевам вряд ли стоит желать в новом году чего-либо, чего не хватало им в этом?
Левитан повел своими выпуклыми близорукими глазами из-под очков в золотой оправе и, остановившись взглядом на пышной фигуре блиставшей драгоценностями Татьяны Аристарховны, односложно, загадочно буркнул:
— Да. Утопают… Утопают…
Остаток фразы: «…в богатстве, довольстве, благополучии» — оторвался и застрял в мыслях. Впрочем, это, пожалуй, объяснялось тем, что Захар Ефимович Левитан испытывал сейчас волнение, истинную причину которого знали только он да жена его, Фаня Леонтьевна.
— Полторы минуты… минуты, господа, — приготовьтесь! — распоряжался поступками гостей сдержанный, как всегда, но улыбающийся сейчас Георгий Карабаев.
На его тарелочке все положено было с образцовой аккуратностью, и соседи украдкой поглядывали на эту тарелочку, следя за тем, что он делает, исправляли допущенные ими погрешности.
— Минута, господа… — отсчитал он и протянул руку к бокалу.
Словно наэлектризованная этим ожиданием, жена инженера Бестопятова быстро, раньше времени поднялась со стула и увлекла этим всех сидевших за столом.
— Что ты, Машенька! — успел только укоризненно бросить ей лысый, двухподбородный муж, от неожиданности чуть не уронивший вилку на пол.
Все расхохотались, и смех, как всегда, согнал царившую до того условную чопорность.
— Дуня, тушите свет.
— Рано, рано еще, господа.
— Вот уж поистине таинство!
— Еще несколько секунд — последний вздох тринадцатого года…
— Дуня! Тушите свет! — раздался голос Татьяны Аристарховны, и все умолкли.
Столовая погрузилась в темноту, и только из соседней комнаты молодежи на край стола падал молочный свет. Но и он через мгновение погас: молодежь делала то, что и взрослые. «Как бы не поцеловались еще в темноте…» — озабоченно думала в этот момент Софья Даниловна о Калмыкове и о своей дочери и в душе посетовала на Иришу, казавшуюся ей сегодня почему-то несдержанной и легкомысленной.
— Тс-с! — словно предостерегал ее шепотом кто-то неподалеку стоящий, но это короткое восклицание относилось к Ивану Теплухину, в темноте вышучивавшему торжественность, с которой все готовились услышать бой часов.
Последние секунды молчания, а затем короткий трескоток рычажка в стенных часах, и вслед за ним — первый, мягкий и глухой, бой часов. И, когда пробило двенадцать, та же Дуня вернула всем свет и голос.
— С новым годом, с новым годом, с новым годом!.. — поздравляли все друг друга одной и той же фразой, и звон хрусталя побежал вприпрыжку по столу. Каждый старался обязательно чокнуться со всеми.
— С новым годом, с новым годом! — влетело из соседней комнаты, и на пороге показалось молодое поколение, держа в руках маленькие бокальчики — все, что разрешено было им выпить в сегодняшний вечер.
— С новым годом! — шумели гимназистки.
— С новой жизнью! — выкрикнул Федя Калмыков, держа за руку раскрасневшуюся Иришу, и ему казалось, что все должны понять, какой смысл вкладывает он в эти слова.
— Хороша молодежь, ясна… хороша, Соня, — улыбнулся Карабаев рядом сидевшей жене. — Иринка наша какая хорошая!
— Красивая… — И Софья Даниловна опять озабоченно и ревниво посмотрела на дочь и ее спутника. «Ах, мальчишка! Неужели позволила поцеловать себя? Так и есть: наверно, позволила…» — сокрушалась она, заметив, что Калмыков держит в своей руке Иришину руку.
— Ирина, поди-ка, голубка, на секунду ко мне! — позвала она дочь, но та не услышала и вместе с другими вернулась к своему столу.
— Итак, девятьсот четырнадцатый, господа! — сказал кто-то, осушая бокал, и по интонации его нельзя было понять, радует ли его новогодняя дата, или он выказывает тому свое сожаление.
— Что-то принесет он? — заглатывая свежий балычок, к которому питал пристрастие, спрашивал самого себя хирург Коростелев, обладатель круглых, «шевченковских» усов, и думал: «Надо обязательно выдрать у земства десять новых коек и порвать связь с фельдшерицей Волынской!»
— Господа! — вдруг громче обыкновенного раздался срывающийся тенорок Левитана, и все повернули головы в его сторону. — Господа… — повторил он свое обращение и обвел присутствующих своими выпуклыми близорукими глазами.
Он встал и уперся обеими руками о стол.
— Мне хотелось бы сказать несколько слов…
— Просим, просим…
— Мне кажется, Захар Ефимович волнуется, — не смогла не поведать своей тревоги жена его Татьяне Аристарховне.
— Что вы, что вы! — ответила шепотом Карабаева. — Захар Ефимович — наш Златоуст.
«Это я знаю, Заря мой — умница… — с гордостью подумала Фаня Леонтьевна, — но ведь тут сидит депутат Карабаев — известность, оратор…»
— Господа, — начал свою речь Левитан. — У каждого человека бывают в жизни такие моменты, когда ему хочется жить не только днем сегодняшним — ступать ногой по знакомой, вымощенной буднями дороге, но хочется также занести свою ногу в стремена воображения, предчувствия. Ну, словом, желаемое становится на место существующего. Господа… (он чуть не сказал по привычке: «судьи и присяжные заседатели»). В этом разрыве между настоящим и будущим и заключается по существу причина того, что и каждый человек в отдельности и общество в целом испытывают необходимость борьбы, преодоления существующего, необходимость, иначе говоря, — прогресса. («Говорю скучно!» — прислушиваясь к словам, с неудовольствием, озабоченно подумал Захар Ефимович.) И вот, господа, есть ли у современного общества тяга, тенденция к тому, чтобы расстаться, — но расстаться не только на словах, но и на деле! — с косными, унылыми буднями сегодняшнего бытия? Есть ли духовный «порох в пороховницах» у всего русского демократического общества, чтобы стрелять им… это только вольный образ: «стрелять!» — словно испугавшись своих неожиданных слов, разъяснил адвокат, — чтобы пустить его, как в мишень, в эту самую косность воззрений и поступков? Есть ли это у всего современного демократического населения? Господа, да позволено мне будет ответить на эти вопросы искренно и с полной ответственностью за свои слова: нет, нет и нет. Лучшие представители нашей радикальной и демократической мысли, лучшие рыцари-интеллигенты, как дорогой наш и уважаемый. Лев Павлович…
— Браво! — захлопала опять, не сдержав себя, юркая, экзальтированная жена Бестопятова, и все вслед за нею обратили свои взоры на Карабаева и наградили его почтительными аплодисментами.
Ободренный тем, что сумел воздействовать на настроение собравшихся, ибо аплодисменты Карабаеву были в то же время, как думал, наградой и ему, Захару Ефимовичу, — адвокат Левитан, уже радостно поблескивая глазами и все больше и больше овладевая собой, продолжал:
— …Лучшие люди страны, не щадя себя ни в каком отношении, зовут Россию, ее передовое общество на борьбу за право и справедливость, против произвола и насилия, к прогрессу и процветанию. Это так, господа… А мы, — мы что делаем? И если делаем, то в той ли мере, в какой нужно делать? Horribile dictu! — не в ироническом, а в прямом значении употребил он, выкрикивая эти слова, и тотчас же пояснил их, вспомнив, что дамы не обязаны ведь были знать латинский язык: — Страшно сказать, но мы — российская провинциальная интеллигенция, — мы не только немы, но и глухи. Какая-то атрофия, полупаралич, безволие и, в лучшем случае, прекраснодушничанье, порыв и гнев у себя дома, за самоваром — и только. Не будем говорить об исключениях: всякое исключение только резче оттеняет общее, типическое положение. А это типическое, общее — вот каково… Господа, вы позволите мне привести, как пример, наш город, нашу местную интеллигенцию. Где та весна чаяний, надежд… гражданское чувство свободы и любви к ней, в условиях которой только и возможно было самопожертвование и служение народу таких отважных и правдивых людей, как пострадавший Иван Митрофанович? (Все повернули головы в сторону Теплухина и наградили его печальной и доброжелательной улыбкой.) Где это все? Тюлевые занавески мелкого себялюбивого уюта заслоняют наш глаз от резких огневых вспышек народного негодования против того позорного произвола, в который ввергнута после тысяча девятьсот пятого года вся страна. Это так, господа, это жестокая правда. Вот сегодня, сейчас, наступила еще одна «календарная дата», — впереди, может быть, еще один год кровавого беззакония. Да, господа, — кровь, кровь обильно сочится из ран всех народов России…
Захар Ефимович сделал короткую паузу, в течение которой мысль слушателей должна была, по его мнению опытного оратора, достичь зенита взволнованности и заинтересованности, и, проведя аккуратно сложенным беленьким носовым платком по слегка вспотевшему маленькому выпуклому лбу и торопливо спрятав вновь платок в карман, сказал тише обыкновенного, протяжно:
— Простите меня, господа… Под новый год не принято говорить печальных речей, но лучше вспомнить свою настоящую печаль, дабы знать, где именно пролегает дорога радости и удовлетворения… Мы обязаны крикнуть друг другу это слово, ибо всей нашей безвольной, косной жизнью за «тюлевыми занавесками» мы способствуем тому, что власть имущие управляют в стране огнем и мечом, а всему нашему народу угрожает бесславная гибель. Вы понимаете меня… И потому я хочу закончить свое краткое слово («Краткое ли действительно?..» — переспросила осторожная мысль), свою речь выражением надежды, что наступивший новый год принесет нам сознание нашей подлинной, ответственности, — демократического, свободолюбивого общества, — перед Россией, нашей родиной. Почувствуем же все так! И пусть присутствие в нашей среде глубокоуважаемого Льва Павловича, совести лучших слоев общества, и Ивана Митрофановича, — пусть будет символическим знаком того, что наши надежды оправдаются. Вот с таким новым годом мне хотелось бы поздравить нас всех в лице наших дорогих хозяев, Татьяны Аристарховны и Георгия Павловича, собравших нас в этот памятный день. С новым, новым годом, господа…
— Браво, браво… спасибо, Захар Ефимович! — откликнулся первым Лев Карабаев и крепко, через стол, пожал мягкую теплую руку адвоката.
— Браво, браво! — загудели все остальные, дружески рукоплеща.
Захар Ефимович сел и вновь вытер платочком свой лоб и — осторожно, едва прикасаясь, как учили тому приличия, — свои пухлые, как у женщины, уставшие губы.
В течение всего ужина он уже не переставал думать о том, какое впечатление произвела на всех его речь. Как и всякий оратор, он не помнил и не мог помнить ее всю.
Но он старался перебрать в памяти если не все сказанное им, то во всяком случае то, что считал главным, что должно было запомниться слушателями.
«Сказал ли я про тюлевые занавески? Кажется, не плохо…» — думал он и, вспомнив, что сказал, остался собою доволен. Впрочем, он тут же поймал себя на том, что «тюлевые занавески» он упоминал уже раз и не так давно в своей речи в окружном суде по делу о мещанине Бегунцове, из ревности облившем свою жену серной кислотой, но тотчас же успокоил себя тем, что речи этой в окружном суде никто из присутствующих не слыхал, и потому никто не упрекнет его, адвоката Левитана, в самоповторении.
«Ах, про Рошфора забыл… Рошфора надо было процитировать: совсем бы кстати», — укоризненно подумал Захар Ефимович и на мгновение так расстроился, что не донес ко рту вилку с куском отличной, жаренной в яблоках утки, пролившей (к счастью — на тарелку…) тяжелую слезу жира.
Французский публицист, однако, пригодился получасом позже, когда разговор зашел о молодом поколении, в котором, по словам Георгия Павловича, сильны теперь «вольные идеи», недостаточно привлекающие к себе внимание и родителей и общественного мнения. Захар Ефимович нашел момент подходящим и, улыбаясь, уверенно и авторитетно ввернул:
— Если верить, знаете ли, Рошфору, то нашему режиму опасаться этих настроений не приходится. Рошфор как-то так охарактеризовал обыкновенную эволюцию среднего человека: до тридцати лет — либеральствует, после тридцати — канальствует!..
Слово «канальствует» произнес как-то по-особенному смакуя, жадно; зубы, коротенькие, плотно друг к другу поставленные, обнажились влажной желтоватой дужкой; золотистые густые усы, сбритые по уголкам, но не подстриженные и округлые, прятали в своем волосе добродушную, но и самодовольную улыбку, и она же бесцеремонно покоилась в близоруких выпуклых глазах, за стеклом очков, словно очки эти делали непроницаемыми для других откровенные сейчас глаза Захара Ефимовича.
Самому Захару Ефимовичу было уже далеко за тридцать, — и Теплухин подумал об этом, когда адвокат заговорил о Рошфоре…
Новогоднее выступление Захара Ефимовича было признано всеми удачным, как и весь сегодняшний вечер у Карабаевых.
Георгий Павлович и Татьяна Аристарховна справедливо оценили тот такт, с каким адвокат сумел упомянуть имена их обоих в самом конце своей речи, когда, казалось, уже не представлялось возможности это сделать без того, чтобы не вышло упоминание фальшивым.
У Льва Павловича были свои соображения быть довольным: его все еще ласкала семейная обстановка, уют и отдых, внимание и любовь, которыми его окружали в этом тихом провинциальном городе, — это с одной стороны; другое, что удовлетворяло его, общественного деятеля и одного из вожаков политической партии, — это то, что он услышал сегодня из уст скромного провинциального адвоката. «Хорошо, хорошо, — думал о чем-то неопределенно Лев Павлович, поглядывая на свои карманные часы, потому что немного устал и ждал, когда все начнут уходить. — Мы еще повоюем… да, да, Россия спит тревожным сном, спряталась, как он сказал, за тюлевой занавеской (слова Левитана, оказывается, не пропали даром). Но не издевайтесь над ней чересчур развязно и бессовестно (он вспомнил вдруг черствое, презрительное лицо министра внутренних дел на трибуне в Государственной думе), потому что вы не знаете («Ириша вот сюда идет… голубка моя», — перебил он сам себя…), не знаешь ты, прохвост! — перешел он неожиданно на «ты» с министром, — не знаешь, когда придет час твоего падения».
Лев Павлович даже кашлянул гневно при этой мысли. Чтобы отвлечь себя от политических раздумий, он, докурив немецкую сигаретку, предложенную ему братом, пошел вслед за всеми в гостиную, где гости слушали музыку Татьяны Аристарховны: умиротворяющий Шопен был любимым композитором Татьяны Аристарховны.
Войдя в гостиную, Карабаев обвел всех взглядом, заметил отсутствие своей жены и Теплухина (они разговаривали с молодежью) и, сразу же забыв об этом, опустился в кресло слушать Шопена.
Игра Татьяны Аристарховны должна была заключить сегодняшний вечер: время было позднее, и притихшие, немного уставшие гости собирались уже уходить. С той же почтительностью, с какой была выслушана игра, они, каждый по очереди, подходили теперь к Карабаевым и благодарили за гостеприимство и внимание.
— Заря! — шепнула в прихожей Фаня Леонтьевна своему мужу. — Теплухину, кажется, с нами по дороге… Уйдем скорее без него! Пока он прощается со всеми…
Он молча посмотрел на нее и заторопился к вешалке, не дожидаясь услуг карабаевской горничной. Фаня Леонтьевна была уже одета, а он никак не мог надеть свою правую галошу с мягким, загнувшимся внутрь задником, а нагнуться и придержать пальцем задник — в шубе было тяжело и неудобно. Почти с ожесточением он тщетно старался всунуть ногу в измятую галошу и тут же вспомнил, как легко это всегда удается в вестибюле суда седенькому аккуратному члену гражданского отделения Мгальцеру, у которого, — заметил он, — на задниках галош набиты дужки металлических пластинок.
Уж уходя первым (догадался поднять ногу и на весу отогнуть пальцем задник), перешагнув порог, он услышал вдруг позади продолжительный телефонный звонок и удивился, кто бы мог так поздно звонить Карабаеву.
Впрочем; удивление сказалось и на лицах оставшихся в передней — и гостей и хозяев.
«Новогодний звонок. Но нужно быть в очень коротких отношениях, чтобы звонить ночью», — недоуменно посмотрела Татьяна Аристарховна, отыскивая глазами мужа.
Георгий Павлович направился в кабинет, к телефону. Гости умышленно задержались, любопытствуя и строя догадки.
— Я у телефона! — снял трубку Георгий Павлович. — A-а. Благодарю, благодарю. Вас также… Никак не думал… счел бы своим долгом, приятным долгом это сделать при личном свидании… Да, никак не думал… Слушаю, сейчас это сделаю…
Он действительно не ждал, не мог предполагать этого звонка, и сейчас он был ему приятен, хотя этот звонок был сейчас, по мысли Карабаева, и неожиданным. Неожиданность еще заключалась и в другом: Людмила Петровна Галаган спрашивала, у него ли в доме ее «односельчанин Теплухин» и может ли он подойти к телефону? Она встречала новый год у здешнего предводителя Масальского, «полувековое вино ее очень развеселило» («Больше, чем следует», — решил Карабаев), и она боится, как бы завтра ей не проспать весь день, а с «односельчанином Теплухиным» она должна условиться о деле.
«Какое может быть дело?» — подумал Георгий Павлович и позвал к телефону Теплухина.
— Меня? — заинтересовался тот. — Подождите меня две минуты, — кивнул он уже одевшемуся Феде Калмыкову. — Я живу недалеко от вашего тупичка, — и он прошел в кабинет.
— До свидания… до свидания, — уходили гости, и мужчины протягивали каждый заранее приготовленные полтинники карабаевской горничной.
Все Карабаевы вернулись уже в комнаты, причем Георгий Павлович поджидал в гостиной последнего задержавшегося гостя — Теплухина, а Ириша оставалась в прихожей с Федей.
Оглянувшись и не видя никого постороннего, он торопливо схватил ее руку и слегка привлек к себе девушку.
— Ира… — шепнул он. — Завтра ты не уедешь еще в Ольшанку. Позвони мне по телефону… Я хочу слышать твой голос. Твой! — повторил он подчеркнуто и улыбнулся.
В этот вечер, час назад, они впервые сказали друг другу «ты».
Ночь была лунная, морозная. Снег лежал сухой, легкий, коротко скрипевший под ногами.
Безлюдная, застывшая во сне узенькая улица, наполненная, почти в рост человека, снежными обледенелыми сугробами, казалась еще уже, сдавленной, и разобщенные друг с другом кособокими заборами низкие дома — еще мельче и незатейливее. Неподвижная исполинская серьга молодой луны — желтой, прозрачной — отсвечивалась на обледенелых сугробах голубовато-фиолетовой, в дымке, тенью, и девственный тихий снег мерцал вдали печальным фосфорическим светом. Деревья из-за заборов протягивали к улице свои причудливо длинные, мертвые ледяные кисти в изорванных кое-где, казалось, мохнатых снежных варежках. Лунный свет падал на дорогу прямо, отвесно, и сбоку деревья глядели угрюмо, по-кладбищенски, а приютившиеся между ними, вдавленные в снег дома казались чуть-чуть приподнятыми могильными плитами.
Кособокие заборы и мертвые холодные сады были неприятны Феде, и он старался смотреть по сторонам. Ему никогда почти не приходилось видеть такую позднюю и безжизненную зимнюю ночь, и покоившаяся на всем морозная тишина если и не наводила страха, то ощущалась теперь какой-то загадочной, колдовской.
Вначале шли молча, быстрым, деловым шагом, и Федя с трудом поспевал за своим спутником: Теплухин, слегка наклонившись вперед и втянув голову в заострившиеся плечи, далеко выбрасывал по тротуару свои крепкие ноги.
«Почему он молчит?.. Забыл о моем существовании, — сбоку посмотрел на него Федя и узнал на нем ту самую широкую меховую шапку, которую видел уже на Теплухине в комнате для приезжающих на почтовой станции. — Не хочешь — не надо», — обиделся в душе гимназист и вернулся в своих мыслях к только что оставленной Ирише.
Теплухин же в это время думал о своем. Ему приятно было сознаться самому себе, что краткое знакомство в Снетине с дочерью скончавшегося помещика-генерала, две-три встречи с Людмилой Петровной в ее доме — привели к тому, что и здесь, в городе, где у нее есть свое давнее общество, он, Теплухин, не забыт. «Да еще как! — улыбался он своим мыслям. — Среди бар была, другого барина ночью потревожила… и все для того… Любезно, любезно — что и говорить…»
Он живо представил себе, как завтра («Нет, это уже сегодня, выходит», — поправил, он себя), воспользовавшись приглашением Людмилы Петровны, сядет в ее крытые «генеральские» сани, рядом с ней, как два часа они будут вместе в пути и два часа он будет видеть близко подле себя ее красивое неразгаданное лицо….
«Ну, Иван Митрофанович!..» — едва не крикнул он вслух. И крикнул бы, толкаемый радостным возбуждением, если бы не вспомнил в этот момент об идущем рядом с ним гимназисте.
— Я недалеко от вас живу, у тетки своей, — вторично сообщил он юноше, тотчас повернувшему к нему свою голову. — Если таким шагом — минут через пятнадцать будем дома. Как вам понравилась новогодняя встреча? — спросил он, не придавая значения вопросу и еще продолжая думать о своей поездке с Людмилой Петровной.
— А я все-таки доволен…
— Чем? Кем? И что значит «все-таки»? — не уменьшая шага, коротко спрашивал Теплухин.
— Доволен тем, — простите мою откровенность, — что я познакомился с двумя людьми: с вами и депутатом Карабаевым.
— Так ли это важно?
«Скромничает, что ли?» — подумал Федя и ответил:
— Для меня интересно.
— А «все-таки» к кому относится?
— «Все-таки»… — ко всем остальным. — «Кроме Ириши, конечно», — не сказал вслух. — Все это лица знакомые и понятные… Тюлевые занавески! — повторил он насмешливо чужие слова.
— Вы тоже слыхали речь господина адвоката?
«Ага, расшевелился!» — подумал Федя, заметив, что спутник сдерживает свой шаг и все чаще поглядывает в сторону.
— Сколько вам лет? — неожиданно прервал его Теплухин, не поворачивая головы.
— Девятнадцать! — прибавил себе Федя. — «Какое значение имеет мой возраст? — хотел он спросить. — Я достаточно уже сознательный человек, чтобы понимать все. Какой странный…» — Дело не только в молодости, но и в убеждениях, — в меру вспылив, сказал Федя, — а у таких, как Захар Ефимович, нет по-настоящему убеждений.
— Это справедливо сказано вами.
— А речи, — о, их легко научиться говорить! Смотрите-ка, Иван Митрофанович: еле бредет человек. В таком состоянии он, пожалуй, еще замерзнет на улице…
Они поворачивали за угол. Впереди них, качаясь из стороны в сторону, бессвязно разговаривая сам с собой, плелся в тулупчике солдатского покроя человек. На нем была шапка с свисающими наушниками, и он неверными, пьяными руками тщетно, казалось, старался почему-то поднять наушники и связать друг с другом болтающиеся тесемочки.
— Ишь согрелся как! — почти поровнявшись с ним, пошутил Федя и незаметно для себя ощутил радость и от того, что в этот поздний глухой час повстречался, наконец, человек и что незнакомого этого человека встретил все же не один, а вместе с Иваном Митрофановичем.
Человек в тулупчике, по всему видно было, не расслышал Фединого замечания: он продолжал что-то говорить себе под нос, не оборачиваясь на чужой голос. Пройти мимо пьяного, опередив его, не удалось сразу: неожиданно, переваливаясь то на одну, то на другую сторону, он, плутая, заслонял узкий путь своим отяжелевшим, неповоротливым телом. Дощатый полуразрушенный в этом месте тротуар, из-под которого уже несколько лет как утащили поддерживавшее его поперечное бревно, протяжно скрипел под спотыкавшимися ногами пьяного.
— Ну, ты… новогодний пассажир! — старался обойти его Теплухин, протискиваясь между ним и выпиравшим на улицу ветхим забором. Задетый плечом забор качнулся слегка и обсыпал затылок и щеку Теплухина холодной снежной пылью… — Э, не пропускает еще!.. — вдруг рассердился он и с силой толкнул в бок плутавший тулупчик.
Под кожаным рукавом он ощутил неожиданно твердое, мускулистое плечо пьяного, — словно тот приготовился заранее к этому толчку, чтоб оказать сопротивление. Впрочем, незнакомый прохожий, секунду устояв на ногах после толчка, как-то неловко поскользнулся и, протягивая обе руки вперед, повалился на дорогу, в сугроб.
— Ай-ай! — невольно вскрикнул Федя, в первую минуту нагибаясь над упавшим, чтобы ему помочь, но, увидя быстро зашагавшего дальше своего спутника, тотчас же изменил свое намерение и догнал Теплухина.
— Чего это вы его так?.. Он и так едва на ногах держится…
— Чего? — зло усмехнулся Теплухин и оглянулся назад: человек уже вылез из сугроба и стоял неподвижно. — Так, знаете ли… По заслугам. Падающего толкни! — не то шутя, не то серьезно ответил он.
Опять шли молча, не обращаясь друг к другу. Шли в ногу, мерным, одинаковым шагом, откидывая носком в сторону сухой и легкий снег.
— У моей тетки гимназисты живут. У вас есть там товарищи? — возобновил Теплухин разговор, когда они недалеко уже были от калмыковского тупичка.
— У госпожи Шелковниковой? — оживился Федя, поняв тотчас же, что именно Шелковникова могла быть родственницей Ивана Митрофановича, так как вторую в городе гимназическую квартиру содержала еврейка Бобовник. — Да, там живут мои одноклассники. А что такое?
— Зайдите иной раз туда, — спросите меня. Буду в городе, — приятно будет побеседовать. Хотя, наверно, неудобно будет моей тетке давать часто мне приют! — усмехнулся он. — Как бы квартиру ей не запретили из-за меня… Ну, до свидания, друг мой. Приятно было познакомиться.
Он крепко пожал Федину руку.
— В уличке вашей не страшно, а? Скажите…
— Ну, что вы, Иван Митрофанович!
— Ладно. Шагайте. А я не один пойду, — озлобившись, насмешливо сказал он. — Обернитесь-ка: пьяненький, — ведь тот самый! — смотрите, как быстро догоняет нас… меня.
— Неужели шпик? — прошептал Федя.
— А вы думали! — И он, махнув рукой, пошел прочь.
По тупичку Федя пустился почти бегом. Он не считал себя трусливым, в эту минуту ничто собственно не могло ему угрожать, но необъяснимое и едва ли преодолимое в этот момент чувство, — если не страха в полной мере, то боязни, — погнало его к дому. Он знал, что никто за ним не гнался, не мог гнаться, но он несколько раз оглядывался назад, желая не столько успокоить себя, сколько, напротив, найти несуществующую причину своей боязни.
Но вот уже и дом.
И, не добежав еще до дедовского крыльца, Федя вдруг успокоился и устыдился минутного испуга.
Из конюшни доносилось мерное фырканье лошадей, стук о стену подтянутых на веревках яслей и отрывистый топот конских застоявшихся ног.
Братья остались одни. Дом постепенно затихал, отходя ко сну. Только из столовой еще доносились сюда, в кабинет Георгия Павловича, голоса и шаги служанок, занятых уборкой комнаты.
Карабаевы сидели в креслах за низеньким круглым столиком, на котором стояла в плетеной соломке четырехгранная бутылка французского коньяку с двумя такими же четырехгранными тяжелыми рюмками и горячий кофейник с белыми фарфоровыми чашечками.
И коньяк и черный кофе по-турецки, за умелым приготовлением которого следил обычно сам Георгий Павлович, были предложены сегодня Татьяной Аристарховной. Лев Павлович заметил, как счастливо улыбалась она от похвалы мужа, учтиво, но снисходительно, как показалось, отпущенной ей Георгием. «Самодержец в семье…» — шутливо подумал о нем Лев Павлович.
И — об обоих пятнисто-серых догах, разлегшихся в кабинете: «Телохранители самодержца!» Собаки лежали с боков кресел, полукругом, морда к морде, откинувшись на цветистом текинском ковре, выставив каждая на показ свое одинаково гладкое брюхо, вытянув длинные мускулистые лапы. Доги дремали, но при каждом новом и потому неожиданном для них жесте Льва Павловича косили в его сторону свои сторожевые угрюмо-спокойные глаза.
— Поздно уже… — поглядел на часы Лев Павлович и перевел взгляд на кушетку под картиной какого-то художника, где устроена была ему, гостю из Петербурга, постель на сегодняшнюю ночь.
— Хороша? — кивнул в сторону картины Георгий. И, не дожидаясь ответа, тут же сказал: — Прелестная женщина! Этот портрет я приобрел осенью в Киеве у одного маклера. Репин говорит: волосы надо писать так, чтобы видна была голова.
— Умная мысль! — оценил ее Карабаев-старший.
— Да. И скажу от себя, Левушка: платье женщины надо писать так, чтобы умственному взору нашему видно было ее тело. Во всяком случае, я угадываю тело этой молодой незнакомки. А ты? — улыбнулся брату Георгий Карабаев.
Краски крымского солнечного пейзажа — зеленого и багряного, кипарисы перед высоко поднятой над землей белой террасой, и на ней, в дачном плетеном кресле, — женщина в волнах легчайшей летней одежды, закрывающей наглухо круглолицую и красногубую красавицу от шеи до кончиков ножек. И только в одном — скромном, маленьком — месте не успела она укрыть себя от жадного подглядывания Феба: лучи его проткнули легкие ткани чуть пониже плеча этой женщины, — и уже можно было угадать не только ее загорелую полную руку, как бы ждущую прикосновения губ, но и всю силу ее скрытого телесного ожидания.
— Да, хороша… — скромно, конфузливо признал Лев Карабаев.
Ему вспомнилась сейчас Людмила Петровна в купе петербургского поезда. Вероятно, потому что она тоже была хороша по-своему и всего лишь минут двадцать назад заявила о себе по телефону. Он нескладно заговорил о ней и, ожидая какой-либо легкомысленной мужской реплики в ответ, услышал вдруг от брата слова деловитые и серьезные:
— Представь себе, Левушка, я теперь каждый день думаю о смерти генерала Величко. Приезд сюда его молодых наследников породил в моем уме некоторые… сладкие планы. Нужны, конечно, капиталы. Что ж…
— Я тебя не понимаю, дорогой, — сказал Карабаев-старший.
— Сахарный завод, — кратко пояснил Георгий. Глотнул коньяку и налил себе вторую по счету чашечку кофе. — Надо думать, что вопрос о продаже завода будут решать не эти двое молодых — Людмила и студент, а старший их брат, который в Петербурге… Кстати, ты незнаком ли с ним? — осведомился Георгий Павлович.
— Нет.
— Жаль.
— Но если тебе это надо, будет…
— Ты найдешь путь к знакомству? Спасибо тебе, Левушка.
— А тебе под силу такой завод? — заинтересовался Лев Павлович. И подумал: «Видимо, Егор-то наш прорезывается в подлинные капиталисты. А? Делец, вижу!» («Егорка» — так называл некогда сына-гимназиста Карабаев-отец, преподаватель арифметики в четырехклассном городском училище.)
— Силы надо подсчитать, — вздохнул и потрогал свой смолянистый ус Георгий Павлович. — Подсчитать… подсчитывать, брат, — с разной — осторожной и усилительной — интонацией повторил он, и Лев Павлович понял теперь, что именно этим-то был занят, главным образом, его брат в новогодний вечер.
Понял, что Георгию были глубоко безразличны в сущности все сегодняшние гости, примостившиеся как бы под навесом его здешней славы и благоденствия, что потому он был сегодня скуп в общении не только с ними, но и со всеми домашними и даже с ним — Львом Карабаевым. И что вот сейчас, в тиши ночного кабинета, брат решил, видимо, «замолить свой грех» пред ним, оставшись для беседы.
«Ничего, ничего, Егорка», — прощал его в душе Лев Павлович, называя брата давнишним семейным словцом.
Георгий словно невзначай спросил:
— Что ты скажешь о Теплухине?
Вопрос этот удивил Льва Павловича. Неужели брат перестал думать об единственно интересовавшем его деле, о предмете своих столь практических мечтаний? Почему вдруг спрашивает о чужом, выключенном, казалось бы, сейчас из памяти человеке?
— А что такое? — вопросом на вопрос ответил Карабаев-старший.
— Проверяю себя, — сказал младший, но, что именно хотел проверить, не пояснил.
— Один из многих теперь, — бесстрастно отозвался о Теплухине депутат Государственной думы.
Он снял с себя державшийся на резиночке черный шелковистый галстук, открепил от воротника белую пикейную манишку и вместе с воротником, манжетами и запонками положил все это на пуф возле братниного письменного стола. Сам удивился, почему раньше не сделал этого, не «рассупонился»…
— Очень хорошо, что таких, как Теплухин, стали освобождать, — продолжал он, зевая. — Чем меньше правительство будет мстить революционерам, тем больше у него шансов теперь не бояться их. Ты согласен со мной?
— Меня меньше всего интересуют глупые, — сказал насмешливо Георгий Павлович. — За здоровье тех, Левушка, кто должны быть умными!
Он налил себе коньяку и широким глотком опорожнил рюмку: словно янтарная жидкость из маленького сосудика вылилась в огромный, с далеким дном.
— Вспомни, Левушка, что ты сам сегодня говорил о бездарном, глупейшем нашем правительстве. Вам там в Петербурге не потерять бы своего ума — вот в чем дело. Надо быть умными политиками, Левушка.
Георгий Карабаев встал и заходил по комнате.
Возвращаясь к своему креслу, он перешагнул через одного из раскинувшихся на ковре догов, и тот даже не пошевельнулся. Но стоило Льву Павловичу привстать и протянуть руку к никелированному кофейнику, чтобы отодвинуть его от края стола, как тот же дог вскинул свое срезанное, остроконечное ухо и медленно, предостерегающе повел по полу длинным тяжелым хвостом.
«Ну, это уж свинство… Это, зверь ты эдакой, прямо деспотизм!» — возмутился и, признаться, устрашился Лев Павлович. Он решил потребовать у брата, чтобы тот избавил его от надзора этих «чудищ» — собак…
Однако не прерывал сейчас Георгия и выслушал его до конца. А тот говорил, как всегда, очень точно и неутомительно.
— Государственная власть, Левушка, находится у Николая и его правительства. Но экономика России ускользает из их рук. Мы, деловые люди, мы, промышленники, это хорошо знаем. Отдавать Николаю то, что нами завоевано естественным ходом вещей, мы, конечно, не намерены. Шиш! Мы, Левушка, как ты сам понимаешь, необходимы России. Чем скорей правительство приобщит нас… то есть вас, прогрессивных думцев… государственной власти, тем лучше будет и для самого государя. Если только он… не окончательный болван!.. Нам… и вам там в Думе! надо поугрожать его величеству. Поугрожать всему правительству новым возрождением революционных настроений в России. А этим, Левушка, уже сильно опять попахивает. Не поручусь, что даже среди рабочих такой дыры божьей, как наш Смирихинск. Кто, брат, не слышит до сих пор длительного эхо расстрелов на Ленских приисках, — кто? Только глухой.
— Поугрожать, говоришь? — оживился, как и всегда во время политических разговоров с единомышленниками, Лев Павлович. — Мы, знаешь, иной раз и прибегаем к такой тактике, — откровенен был с братом один из лидеров думской кадетской фракции. — Мы используем рабочие брожения в наших открытых и конфиденциальных предостережениях господам министрам. Увы, эти чиновники мало внемлют…
— Ты знаешь, что я тебе скажу? — прервал брата Георгий Павлович. — Ты не удивляйся моей мысли. Ваших кадетских «предостережений» — мало! Я бы изменил стратегию и тактику… Тебе, может быть, смешно слышать это из уст «провинциала», а?
— Да что ты, милый!.. — искренно запротестовал Карабаев-старший.
— Ты послушай, Левушка. Рабочий класс в России нельзя нам отдавать всем этим социал-демократам, всем этим подражателям, сторонникам Карла Маркса, и прочим, и прочим. Пожалуйста, только не преуменьшай их значения, Левушка!.. Почему умная, благожелательная интеллигенция занимается только своими узкими интересами? Почему?.. Культурный промышленник — это тоже, брат, интеллигенция. Такие, как я, знаем, как и куда следует направлять интересы рабочих. Надо их делать своими подчиненными союзниками в нашем споре с этой варварской, глупейшей монархией.
— Подчиненными союзниками… — улыбнулся не то одобрительно, засопев в усы, не то почему-то жалостливо Лев Павлович.
— Да, Левушка!
И вдруг Георгий Карабаев добавил:
— А почему теперь… ну, при нашей смирихинской обстановке… Теплухин, например, не может стать вот таким человеком… подчиненным моим союзником? Тебе, кажется, пришлись по душе эти слова, Левушка?.. Ну, я вижу, ты, дорогой мой, устал не мало. Спать, спать, Левушка!
— Теплухин… Гм… Ты, Жоржа, смелый человек! — поразмыслив минуту, сказал Карабаев. — Послушай, они что… они здесь так и останутся? — указал он на недвижимых собак, растянувшихся на полу двумя огромными тушами.
— О нет! — успокоил брат, улыбнувшись. — Да они тебе и шагу не дадут сделать без меня или кого-либо из моих.
Он тихо свистнул, и доги мгновенно вскочили, бия хвостами о кресла.
— На место! — не повышая голоса, скомандовал Георгий Павлович. — Выйти вон, на место!
И собаки, не оглядываясь, ткнув мордами дверь, послушно покинули кабинет.
— А пил-то, выходит, я один? — сказал Георгий Павлович, глядя на столик.
И верно: и первую рюмку коньяку и первую чашечку черного кофе Лев Павлович так и не допил. Можно было думать, что Георгий заметил это и раньше. Но нет, он, очевидно, целиком отдал свое внимание только собственным действиям, желаниям и мыслям.
ГЛАВА ПЯТАЯ Ротмистр Басанин и Пантелеймон Мандуша
Ротмистр Басанин проснулся сегодня позже обычного часа. Маленькие карманные часы, лежавшие поверх брюк на стуле, показывали десять с половиной. Но прежде, чем взять со стула часы, ротмистр Басанин протянул руку к лежавшему там же серебряному портсигару и спичкам и закурил, по обыкновению, натощак.
Всегда почти случалось так, что эти пять — семь минут утреннего курения в постели определяли уже на целый день настроение ротмистра. Первые думы приходили неслышно, крадучись, словно не он сам зарождал их под влиянием каких-либо обстоятельств и впечатлений, а возникали они непроизвольно и, возникнув, как бы говорили ему, Басанину: «Ведь мы что?.. Мы ведь только сообщаем тебе, обращаем твое внимание, а дальше — ты уж сам рассуди…»
Сегодня внимание ротмистра ни на чем долго не останавливалось.
Прямо перед его глазами висело большое овальное зеркало в коричневой раме. Оно было очень наклонено вперед, и ротмистр увидел себя лежащим на маленькой, почти детского размера, кроватке с высоко поднятым изголовьем; на подушке покоилась его, басанинская, голова, но сильно уменьшенная, игрушечная. Он поднял руку, — и рука в зеркале сделалась короткой, ребячьей. Высунул из-под одеяла теплую, согревшуюся за ночь ногу, поднял ее, — но она не видна была в капризном зеркале, и ротмистр шутя пожалел своего игрушечного двойника, лишенного важнейших конечностей…
Он перевел взгляд в сторону, на стену, смежную с другой комнатой, и увидел на стене знакомые портреты родителей — бородатого полковника Басанина и давно скончавшейся матушки, а под портретом — двух мух: уснувших, едва подававших признаки жизни.
«Зачем мухи?..» — пришла пустая, нечаянная мысль, и он схватил вдруг носок и бросил его на стену, но попал в портрет полковника. Родитель не обиделся и продолжал смотреть из-за стекла куда-то вбок, гордо и молодцевато подняв седую, коротко остриженную голову.
«Обошли его, — вспомнил о нем ротмистр, — неуживчив больно старик, независим… Одна радость теперь старику, что в столице жить». Здесь ротмистр умышленно заставил себя не думать больше об отце и сделал глубокую затяжку папиросой; как только вспоминался отец, невольно приходили в голову мысли и о своей не совсем удавшейся карьере, а часто возвращаться к этому вопросу ротмистр не любил.
Он слегка приподнялся и повернул голову к окну. Ясный солнечный день играл на затянутых морозным узором стеклах, тонкая ледяная слюда была в холодном золотом огне. «Умыться!» — приказал сам себе Басанин, но не вскочил, а вновь откинулся на подушку, бросив докуренную папиросу на железный лист, набитый на пол у печки.
Приятно было чувствовать под одеялом сухую теплоту своего собственного тела, достаточно насытившегося здоровым сном, но, как всегда, немного ленивого и избегавшего резких движений. Полежал еще две-три минуты бездумно, позевывая сладко и роняя на щеку пустую, истомную слезу довольства и безделья. Часы показывали без четверти одиннадцать. «Спешат, наверно», — усомнился ротмистр, хотя сознавал, что спал сегодня дольше обычного.
И потягиваясь в последний раз, — хрустя суставами и громко покряхтывая, так, что слышно было в соседней комнате, — он еще раз посмотрел на себя в зеркало и, улыбаясь забавному двойнику, отогнул одеяло.
— Ма-а-ка-ар! — крикнул он денщика, опуская босые ноги на коврик и стараясь, вытянуть одну ногу, зацепить ею лежавший неподалеку носок, которым раньше сгонял неудачно мух.
— Здесь, ваше благородие! — раздался знакомый услужливый голос..
В дверях показались сначала придерживаемые большущей узловатой рукой аккуратно начищенные ротмистровы сапоги, а затем и бесстрастное коротколобое лицо Макара.
Ротмистр Басанин, упираясь руками о кровать и поддав все тело свое вперед, зацепил носок большим пальцем ноги и, вытянув ее, старательно приближал теперь ногу к кровати.
— Не мешай, не мешай! — строго крикнул он денщику: тот сделал движение прийти на помощь барину.
Нога благополучно достигла середины своего пути, и тогда Басанин ловко подбросил ею высоко кверху злополучный носок, упавший теперь на кровать.
— Видал?.. — задорно смотрел ротмистр на непонятливого Макара.
— Рукой скорейше было бы дело. Не изволили б беспокоиться… — деловито возразил тот, опуская на пол сапоги.
— Чудак! — усмехнулся ротмистр и в душе презрел солдата за его неспособность понять спортивный характер его, басанинского, веселого каприза.
«Мужик и есть мужик, — подумал он о Макаре. — Прямолинеен в желаниях, расчетлив и скуп в своих поступках».
Мужицкая непонятливость чуть было не испортила ему беспечного настроения, в которое он пришел после удачи с носком. Но вовремя остановил себя — и к завтраку вышел со свежим, спокойным лицом и надушенный.
Жандармские унтер-офицеры, писарь и Макар знали уже, что господин ротмистр должен быть сегодня утром «в добрых чувствах»: только в таких случаях ротмистр Басанин употреблял крепкие английские духи.
Рука медленно свернула по загибу сложенную вчетверо хрустящую бумагу, и так же медленно, в раздумье, ротмистр Басанин положил ее перед собой на письменный стол.
«…11 август 1908 года происходило совещание о более рациональной охране города и производстве в Седлеце повальных обысков: последнее требовалось телеграммой главного начальника края. Подполковник Тихановский тут же требовал указать ему несколько граждан г. Седлеца, которые, хотя сами и не принимают активного участия в революционном движении, но так или иначе способствуют ему. Подполковник Тихановский высказал намерение посадить этих лиц в тюрьму, считая их заложниками, и хотел объявить им, что в случае покушения на кого-либо из государственных служащих они будут лишены жизни. На вопрос же, каким образом заложники будут лишены жизни, подполковник Тихановский обратился к полицеймейстеру с вопросом, не найдется ли у него стражника, который, прикинувшись или фанатически приверженным престолу, или сумасшедшим, перестреляет заложников в тюрьме или подсыпит им в кушанье мышьяку. Если не найдется такого стражника, — говорил подполковник, — то можно будет застрелить заложников «при попытке к бегству». «На террор революции мы должны ответить еще более сильным террором», — добавил подп. Тихановский.
Так готовились мы к производству мирных обысков, а драгунские офицеры, — как стало известно затем уже, — в тот же вечер, будучи в обществе, потирали руки и с самодовольной улыбкой заявляли громогласно: «Уж мы устроим им погромчик, пощады не будет».
Начальник жандармского управления полковник Выргалич на другой день… заболел и слег. Я же, бывая у губернатора, неоднократно обращал его внимание на настроение подполковника Тихановского и советовал не давать ему воли, открыто заявляя, что это может вызвать грабеж и ненужное кровопролитие, как это уже имело место в феврале после убийства полицеймейстера капитана Гольцова. Губернатор, повидимому, внимательно прислушивался к моим доводам и, делая заметки для памяти, обещал принять нужные меры (за три дня до погрома он также «заболел»).
В первую же ночь стрельбы в городе, около трех часов на, 27-е, подполковник Тихановский с целью «поднятия духа войска», как потом сам объяснил, вызвал из драгунских казарм хор трубачей и песенников — и среди трескотни выстрелов, кровопролития, грабежа и пожаров в городе раздавались пение и трубный глас…
Началось же все дело так. 26 августа около восьми с половиной часов вечера в городе раздалось несколько револьверных выстрелов, в ответ на которые немедленно открылась беспорядочная стрельба войск. Пулями были побиты стекла в общежитии при местной женской гимназии, откуда уже, наверно, никто не стрелял по государственным служащим. Войска подполковника Тихановского беспощадно расправлялись с мирными жителями и рабочими, не вышедшими на работу. Я был свидетелем, как драгун явился за патронами и подполковник Тихановский сказал ему: «Мало убитых».
Остановить подп. Тихановского порывался, кроме других лиц, также молодой подпоручик артиллерийского полка Галаган, кричавший потом: «Позор, позор для русской армии!», но на все свои доводы получил ответ: «Не ваше дело».
27 августа, с наступлением сумерек, отряды подполковника окончательно разнуздались, перейдя к грабежу мирного православного населения, а также пивных и винных лавок.
…О том же свидетельствует приказ по гарнизону за № 77, с надписью: «Не подлежит оглашению».
Ротмистр Басанин».Да, все это он писал в свое время… Пять лет назад он послал этот доклад своему высшему краевому начальству. «Дурак!» — насмешливо и горько подумал он потом сам о себе. Его поступок оказался непростительно наивным и роковым для карьеры. В официальном документе начальство усмотрело, хотя и сдержанное (как подобает офицеру жандармской службы), чувство возмущения тем, что пришлось наблюдать в разгромленном польском городе и что было, — вскоре понял, — не только не уместным, но и вредным для его собственной судьбы.
Подполковника Тихановского хорошо знали и ценили в Санкт-Петербурге: подполковник был произведен в полковники и переведен в особый корпус жандармов, а на докладе ротмистра Басанина была, — передавали враги, — начертана интимная резолюция: «Пошли дурака богу молиться…»
Он был назначен на юг, несмотря на то, что просился в Центральную Россию (полковник Тихановский зорко следил за его судьбой), а год назад переведен в Смирихинск — ротмистром на три смежных уезда.
«Глупо. Все вышло очень глупо», — неоднократно думал он о своем поступке и в душе сам себе признавался, что былое возмущение седлецкими событиями — досадная оплошность и только. Служить — так служить, делать карьеру — так делать по-настоящему! Кому и чему служить, какую карьеру делать, — ведь он это отлично знал, вступая в жандармский корпус…
Возмущаясь Тихановским и донося на него, он, жандармский офицер Басанин, уподоблялся неловкому кучеру, который, стегая лошадей, бьет нечаянно кнутом по лицу седока, сидящего сзади в коляске.
…Словно подстегнутый кнутом этой насмешливой мысли, ротмистр Басанин, очнувшись от минутного раздумья, схватил копию своего доклада и швырнул бумагу вглубь выдвинутого ящика. Беспечное настроение, в котором пребывал с утра, уже исчезло. Злополучная бумага, попавшаяся на глаза в то время, как рылся в ящике, ища служебную секретную корреспонденцию, омрачила настроение ротмистра, и то, о чем он меньше всего любил вспоминать, — но если вспоминал, то всегда с горечью, — озлобило его сейчас и сделало придирчивым. Вместо того чтобы погасить в себе это настроение, он сознательно, нарочито поддерживал его и также сознательно подыскивал теперь в уме лиц, на которых мог бы сорвать это настроение.
— Кандуша! — крикнул он писаря к себе в кабинет и услыхал, как в тот же момент пишущая машинка умолкла на полустуке, и в канцелярии раздались мягкие, торопливо шепчущиеся шаги писаря, обутого в глубокие кавказские сапоги.
— Я здесь, Павел Константинович, — сказал тихий услужливый голос, и ротмистр увидел сбоку знакомое, изученное хорошо лицо писаря.
— Да… — начал Басанин, — вот что, милый человек… — но он не знал, как продолжать начатый разговор, потому что и сам не понимал, зачем собственно позвал служащего. — «Спросить разве, почему Чепура и Божка нет, — но откуда он может знать?.. — подумал ротмистр. — Хотя… этот прохвост, кажется, все знает, — тотчас же возразил себе, оглядывая писаря. — Ведь догадывается мерзавец, что никакого дела у меня к нему нет». — Я хотел спросить, Кандуша, насчет того…
— Пакет, Павел Константинович, еще вчера послан, если об этом изволите напомнить, — почтительно перебил Кандуша и, выждав секундную паузу, в течение которой не последовало никаких возражений ротмистра, уже смело и уверенно добавил: — Пакет за № 31/2007 по делу о пребывании здесь члена Государственной думы Карабаева.
— Да, да… — обрадовался Басанин подсказанному разговору, но в то же время чувствуя, что на аккуратном и предусмотрительном Кандуше ему не излить своего дурного настроения.
Больше того: Кандуша был именно тем человеком, с которым (ротмистр вынужден был в этом сознаться) ему было интересно иногда не только разговаривать, но и часто советоваться, и не только по служебным делам, но и в делах личных, интимных. Причем и в том и в другом случае ротмистр осторожно наводил только на разговор, а сообразительный и словоохотливый Кандуша уже вел его так, что Басанину оставалось лишь слушать и делать для себя выводы.
Но это возможно было только тогда, когда хотел того ротмистр Басанин, когда он молчаливо позволял своему писарю выходить из рамок его прямых служебных обязанностей. Так во всяком случае считал ротмистр. Другого мнения (для одного себя) держался Кандуша.
Он, — как и предполагал Басанин, — безошибочно понял сейчас, не зная причины, душевное состояние своего начальника: духи-то духами, но вот упрямо, тщетно старается же Павел Константинович поймать передними зубами и откусить махонькую заусеницу на скорчившемся мизинце, а глаза смотрят исподлобья также упрямо и растерянно, словно негодуя на то, что он, тихий советник Кандуша, не облегчит ему борьбу с куценькой заусеницей… Да и слова-то Павла Константиновича — не собранные что-то, нетвердые:
— Пакет отослан, значит… Да, да — важный пакет… Надо иметь в виду… важный.
— Господи, боже мой! — с таинственной важностью сказал Кандуша, чувствуя, что вот сию минуту он сможет заговорить о том, что в последнее время его так живо интересовало. — Господи, боже мой, этот ли не важный? Дело, — позволю высказаться, Павел Константинович, — государственное, ответственное. Вот верите? — позволю себе сказать, — трепещу ведь. Господи, боже мой! Мне ли не оценить? Дураком надо быть, дураком, чтобы не уразуметь. Унтер, скажем, — одно, а Кандуша — другое… О-о! Сами вы, Павел Константинович, отличите, смею надеяться?
— Болтать много любишь, — насмешливо, но беззлобно посмотрел на него Басанин и отнял палец ото рта.
— Беседовать? — осторожно подменил Кандуша пренебрежительное слово «болтать» и подошел к столу. — Но с кем? — позволю себе спросить.
— Со мной хотя бы, — тем же насмешливым тоном ответил ротмистр и не решил еще: прервать ли ему словоохотливого писаря или слушать его болтовню, которая, знал, должна, как всегда, таить в себе что-то новое, не высказанное еще Кандушей.
Он, не вставая с кресла, отодвинул его вместе с собой от письменного стола и, откинувшись на мягкую высокую спинку, закинул широко, ногу за ногу: шпора на весу тихо, нерешительно шевельнулась.
Умышленно выждав эту секунду, покуда ротмистр поудобней усаживался, Кандуша совсем вплотную подошел к столу и легко облокотился на него одной рукой.
— Правы, Павел Константинович, — виновато улыбнулся он. — Но я — для пользы дела, посильный долг я исполняю. Тут, позволю себе высказаться, большой микроб в здешней организм всунулся, козырной туз к маленьким картишкам привалил. Козырной туз пришел, — тут тебе, Павел Константинович, и семерочка и восьмерочка на одной руке заиграют! Неправду говорю? Господи, боже мой! — захлебнулся он этими словами. — Ведь трепещу, трепещу! Фельдшера Теплухина сын — микроб? Микроб! А туз в членах Государственной думы ходит. Например, поднадзорный Теплухин если с тузом известным соберутся, политический разговор между собой, конечно, имеют и все такое. А? Которые значатся в адвокатах — речи, понятно, навстречу, то да её , про народ, конечно, беспокоятся…
— Ты о ком это? Откуда все знаешь? — встрепенулся ротмистр.
— Речи кто говорил? Господин жид Левитан, который по доброте вашей и доверчивому благородству клички даже у вас не имеет!.. Битой семеркой считали, а при тузе тоже козырем смотрит! Вот ведь и унтер и филер — что молотобоец при кузне: учись еще только, а Кандуша хоть и писарь только при государственном человеке, но, позволю себе сказать, с полной душой служит… У кого какие чувства, Павел Константинович, — а у меня все пять верноподданные!
— Погоди, погоди! — выпрямился в кресле ротмистр, и нога, быстро опущенная на пол, громко звякнула потревоженной шпорой. — Да ты рассказывай все подробно. Значит, под новый год речи говорились… да? И ты все знал и не говорил мне? Почему? Ты понимаешь значение всего этого? — рассердился ротмистр, отплевываясь и бросая недокуренную папиросу, от которой вдруг начало горчить во рту. — Брось ты ревновать к унтерам и филерам. Твоя преданность делу известна, милый человек, в губернском управлении: я оплачу ее дополнительным месячным жалованием… Ведь «туз», как сам понимаешь, не простой. Это один из тех, кем интересуется правительство!
— Золотые слова, золотые мудрые слова, Павел Константинович. Ведь подумать только, позволю себе высказаться: за что деньги некоторым людям платите? Приходит и сообщает: день есть день, ночь есть ночь. Тьфу! Изобретатели! Скучно, позволю себе сказать, живем. Никакого тебе волнения на струнах душевных. И вдруг, Павел Константинович, событьице приходит — вознаграждение за скуку нашу… Господи, боже мой, да разве можно не трепетать от восторга, когда нежданно орел на болото сядет?! Незримо… незримо, Павел Константинович… отметить себе поведеньице орла, перышки пересчитать, незримо одно-другое перышко выдрать, и — удержать, удержать при себе. Полетит орел в гнездо, в Петербург, — тут-то перышки куда след дослать, доставить в известный вам адрес. И, позволю себе сказать, выйдет, что незримо… незримо, Павел Константинович… за крылья сего орла державшись, прибыть можно в Петербург — сразу чин заслужить, жизнь веселую.
— Ты, я вижу, не плохой птичник! — усмехнулся ротмистр. — Только, Кандуша, данные… данные надо иметь, понимаешь?
— Факты в коробочке… Вот где факты — в коробочке все собраны! — мягко ударил себя несколько раз по лбу Кандуша. — Прошу разрешения вашего — официально сообщить, письменным документом, за полной своей подписью, позволю выразиться? За полной, как есть: Пантелеймон Никифорович Кандуша.
— Как хочешь!
— Так лучше будет. Имею наблюдение, — сознаюсь, — почти постоянное и для умственных заключений вполне полезное и отличное. Разрешите восвояси вернуться? — закончил Кандуша разговор и снял руку со стола.
— Иди, — кивнул ротмистр. И он с любопытством посмотрел на писаря.
Кандуша был такого же роста, как и Басанин, — выше среднего, широкоплечий, но плечи казались уж больно широки и мягки: мешковатый пиджак лежал на них немного свисло и топорщась. Копна под скобку подстриженных темно-русых длинных волос, разделенных сбоку пробором на две неравных части, была тяжела и густа: волосы были смазаны какой-то пахучей маслянистой жидкостью и аккуратно приглажены щеткой. Покрытая длинными тяжелыми волосами голова казалась непомерно большой и раздуто-круглой.
Землистый, зеленоватый цвет лица никогда не пропускал сквозь себя иной краски, и хилый, редкий волос на щеках и подбородке пробивался меж овальными прыщами и прыщиками, как выжженный вереск среди камней и кочек. Но прыщи не всегда были сухи: то под ухом, то на скуле синел кровяной след, — это вчера еще, наверно, Кандуша выдавливал прыщики, а сегодня присыпал их тальком.
Темные глаза были мутны, как разбавленные чернила, а зрачок мал и совсем незаметен.
«Прохвост, ах, какой прохвост, — подумал Басанин, отпуская от себя писаря. — Ну, пойми ты что-нибудь по таким глазам египетским!»
— Погоди! — окликнул он Кандушу, подходившего уже к дверям, и оглянулся быстро.
— Слушаю! — обернулся тот.
Взоры их столкнулись: кандушин блеснул на мгновенье короткой отсыревшей спичкой усмешки и радости.
— Мечтаешь слишком, — сказал вдруг ротмистр холодно, неприветливо. — Далеко залезаешь, брат. Ты не о Петербурге мечтай, — слышишь? Ты — об Ольшанке, слышишь? Об Ольшанке думай! — сбрасывал ротмистр с небес на землю своего писаря. — Ты мне наших кожевников подай — вот что. Их! Их! — стал покрикивать Басанин. — Ты что: батьку своего родного Кандушу… ольшанского Кандушу не можешь там приспособить? Не можешь, что ли? Можешь. Теперь время такое. Собрать мне все дела об Ольшанке! — распорядился ротмистр. Он не хотел повторять ошибок прошлого.
Унтер-офицер Чепур не знал истории, унтер-офицер Чепур обязан был знать только служебный устав.
Это ротмистр Басанин кончал в Петербурге жандармские курсы и потому должен был изучить законы и повеления всех императоров; унтер Чепур, былой кавалерист, знал повеление только одного существующего — в России царствующего: ищи, следи, унтер-офицер Чепур, за недругами моими внутренними и доноси о них по начальству, и жизнь тебе тогда, Назар Назарович, — калач с маслом и мед ковшом!..
Легко уверовал в это повеление Чепур, и жизнь пошла с тех пор теплая, добротная — как царева шуба. Под горой, у самой реки, стоял крепко сколоченный, небольшой и немалый дом Назара Назаровича; сад в полдесятины давал сладчайшую вишню на варенье, вишню эту продавала жена на базаре. По двору Назара Назаровича бродила без счету всякая живность, и свинья и поросята — отправь их на выставку, — могли бы принести славу своим весоэд и тучностью. Весной и летом приносила немалый доход мужская и женская купальни, выстроенные тут же у дома, на реке, и десяток лодок для катанья; купальнями и лодками ведал тесть-приживал, рыбак, прибылью — унтер Чепур.
Жена была тихая и покорная, в дела мужа не вмешивалась и только оставила за собой право следить за обоими детьми — мальчиками — и воспитывать их. И гордостью Назара Назаровича был старший сын Ваня — темный рыжик, низенький, близорукий, в очках, приносивший каждый год похвальные листы и награды и кончавший теперь смирихинскую гимназию. Учился Ваня бесплатно, на казенный счет, благодаря тому, что отец числился в табеле государственных служащих, которым повелено было давать всякие льготы, и был особенно любим инспектором гимназии как юноша «чистосердечный и патриотически настроенный». И то, что начиная с пятого класса Ваня носил очки, как у инспектора Розума, аккуратно ходил на все гимназические молебны и мало с кем дружил из товарищей, — все это казалось Назару Назаровичу лишним предзнаменованием того, что сын — умница, в недалеком будущем станет не то инспектором, не то каким-нибудь ученым человеком, а может быть, пойдет и дальше в своей карьере: важным чином в министерстве. Для младшего Петьки — второгодника и буяна — о большем, чем служба околоточного надзирателя, Назар Назарович и не мечтал.
Унтер Чепур любил своих детей, семью, свой дом, поросят, вишневый доходный сад. Родная страна, Россия, была для Назара Назаровича Чепура не столько отчизной его народа, сколько необозримо-великим хозяйством его царя. И если вспоминал о ней в будничном разговоре и говорил слово «Россия», — разумел искренно государя (верней — портрет его, так как самого никогда не видел), власть имущих государственных чиновников и офицеров, православную церковь и себя самого. Выше этого понятия мысль никак не возносилась: как выпускающий воздух, утерявший свою форму мяч, не перелетающий больше через забор.
Унтер Чепур знал и видел только Смирихинск да два смежных уезда — ротмистровы владения, почитал людей высшего звания и строго нес службы русского жандарма.
«Чур! Наше место свято!» — в исступлении, в испуге крестился и кричал на всю Россию из года в год призраку революции синодский и министерский Санкт-Петербург; «свято, свято…» — зловещим, предостерегающим шепотным эхо словно откликались гробницы-усыпальницы сторожевой Петропавловской крепости; «чур, чур — наше место свято!» — одержимый падучей и безумием страха надрывался тогда санкт-петербургский Зимний дворец и крестил Россию острой казацкой шашкой.
Тогда вставал ночью унтер Чепур, брал земских лошадей, выезжал в уезд и привозил оттуда в ротмистрово управление малокровную, с горящими глазами, сельскую учительницу, мужика, плюнувшего в бороду волостного старшины, или заводского парня, читавшего товарищам запрещенную литературу.
Привозил, сдавал их господину ротмистру, закручивавшему при встрече упавший, книзу растопыренный, как у кота, жесткий ус, и отходил в сторонку, дожидаясь приказаний. Ротмистр подзывал к столу арестованного, всматривался, щурясь, в растерянное, взволнованное лицо и, нервно играя приподнятым плечом, шевеля им серебряный с красным просветом погон, начинал медленно допрос: «Сознайтесь во всем для облегчения своей участи…»
Потом, вспомнив, что унтер-офицер Чепур ждет распоряжений, ротмистр поворачивал в его сторону голову и милостиво кивал ею:
— Можешь отдыхать, Чепур.
— Слушаю, ваше благородие! — признательно и с достоинством (чтобы оценил арестованный…) отвечал Назар Назарович и выходил из комнаты, легко, почти на цыпочках ступая по полу.
Уже по канцелярии управления и по коридору он шагал в полную ногу, четко позванивая шпорами, но еще сохраняя свою походку, выверенную и созданную долголетней солдатской службой, — походку прямую, грудью вперед, твердо ставя ступню. Но когда выходил из управления, — по четырем ступенькам с крыльца спускался замедленно, самодовольно и лениво покачивая тяжелое тело, — невольно подражая тем походке своего начальника ротмистра, кривил оттого каблук, и шпоры звенели коротко, но громко и внушительно.
Возвращаясь домой, съедал целую миску жирного борща с пшенной кашей и сладкой фасолью, потом пил чай с вареньем и медом и, взглянув на икону, но не крестясь на нее, ложился в теплую, со свисающей к полу пышной периной, постель.
«На бога положишься — не обложишься», — учил и себя и свою семью обласканный жизнью унтер Чепур.
Возвращение в смирихинский уезд «политического» Ивана Теплухина несколько нарушило обычное течение жизни Назара Назаровича: вот уж когда пришла нежданно-негаданно забота и служебная ответственность!
Департамент полиции сообщил, что в вверенный ротмистру Басанину район направился отбывший ссылку сын фельдшера смирихинского уезда — Иван Митрофанович Теплухин, за коим учинить бдительное наблюдение со дня его прибытия на место жительства, донося впредь все относящееся к жизни сего Теплухина по принадлежности в Третье отделение. Ротмистр отдал Теплухина под усиленный надзор унтер-офицера Чепура и его секретной агентуры.
В душе Назар Назарович подосадовал, что «политический» этот поручен ему, а не унтер-офицеру Божко, который, казалось, всегда избегает длительной и хлопотливой работы; но мысль о том, что эта работа принесет в случае успеха награды не унтеру Божко, а ему, заставила Чепура с первого же дня наладить наблюдение тщательно и, — по оценке ротмистра Басанина, — добросовестно.
В течение полутора месяцев каждую неделю ротмистр Басанин получал подробную рапортичку о жизни Ивана Теплухина в Снетине, у отца, и в городе, куда иногда приезжал. Поведение и занятия «Неприветливого» (такова была кличка Теплухина) также подробно освещались ротмистром в донесениях, которые посылал к пятому числу каждого месяца в губернское жандармское управление и в департамент полиции.
Последнюю свою рапортичку, прежде чем отнести ее ротмистру, Назар Назарович внимательно просмотрел несколько раз, вспоминая, все ли он вписал в нее, что стало ему известно о жизни поднадзорного за истекшие дни.
«…Еще сообщаю, — читал он про себя, — что бывал Неприветливый много раз в снетинском доме покойного его превосходительства генерала Величко, Петра Филадельфовича, с каковой дочерью Галаган видали их также вдвоем гуляющими по величкиной экономии. Первого сего месяца февраля Неприветливый с указанной выше госпожой, а также житель города фабрикант Карабаев ездить ездили на сахарный завод и обедали там на квартире г. управляющего. Про что разговор был, установить точно не удалось. Житель города Карабаев поехал из завода на станцию Ромодан, к поезду, двое же остальных лошадями вернулись в Снетин. На заводе Неприветливый со служащими разговора не вел и держал себя вполне конспрактивно…»
На этом месте своей рукописи Назар Назарович задержался глазом дольше обычного: начертание последнего слова, которое должно было так точно говорить о существе всегдашней его, унтера Чепура, службы и занятий, каждый раз тем не менее вызывало в нем сомнения. Вместо «конспиративно» писал то «конспрактивно», то «конспрективно». Хотя сын Ваня учил писать правильно;
«Еще сведения про Неприветливого давали бессознательно родичи его, а именно, что желает будто проситься на официальную службу, по какой специальности — неизвестно».
Кладя рапортичку в карман и одеваясь, чтобы идти к ротмистру, Назар Назарович с надеждой подумал о том, что хорошо было бы, если бы Иван Теплухин устроился где-нибудь на службу в городе: не вызывал бы такой тщательной заботы. Чепур знал, что в городских учреждениях у ротмистра Басанина имеются «свои люди», которым и будет передан надзор за «контспрактивным» Теплухиным… Назар Назарович искренно желал им удачи.
Ротмистра не застал в управлении.
— Куда? — кратко спросил Назар Назарович, обращаясь к писарю.
— Эстафеты позади себя не оставляют, Павел Константинович… — иронически усмехнулся Кандуша, недолюбливавший ротмистровых помощников. — Но, между прочим, предполагать могу. Умозаключаю, что ушел по делам не официальным и прямо противоположным.
— Не егози, брат! — поморщился Назар Назарович. — Я по-служебному спрашиваю: где могу видеть господина ротмистра?
— Срочно?
— Мое дело!
— Новости?
— Господина ротмистра дело!
— Э-эх! — вздохнул укоризненно Кандуша и подошел поближе к унтеру Чепуру. — Вот вы всегда так, Назар Назарович… Я к вам вполне с чистосердечием, а вы до меня, — извиняюсь за выражение, — унтер-офицерским тылом. А я не такой, амбиций не строю. На амбицию, говорят, чина не спросишь. Да-а… Вы меня про Павла Константиновича спрашиваете? Ну, почему действительно не сказать своему человеку. Ушел господин ротмистр по делам не официальным, а прямо даже противоположным. Мог бы потому не говорить, а скажу. Вам скажу: по делам женским.
— Фью-фью! — свистнул Чепур и свистом этим сорвал свой официальный до того тон беседы. — Среди бела дня да по женским?
— Ну, да. С известной вам дамой, потому фигурировала эта женщина однажды в донесениях ваших Павлу Константиновичу. Господи, боже мой! Чему удивляетесь… Сказать бы — новичок вы… На машинке кто донесения по принадлежности переписывает?… кто? Я! Доверие имею — сами знаете. А раз доверие — значит, могу умозаключить, какие голуби в чьей голубятне. Так?
— Я зайду еще к господину ротмистру, — сказал Чепур сухо. — Прощай. Часы дослуживай! — И, не оглядываясь, он вышел из управления.
— Эх, дурак! — уронил громко Кандуша, как только захлопнулась за унтером дверь. Мысленно он обругал жандарма еще крепче.
Впрочем, так он относился в душе не только к Чепуру. Он недолюбливал и другого унтер-офицера — Божко, он почти презирал и своего начальника — ротмистра Басанина.
Двое первых казались всегда Кандуше приспособившимися к делу служаками, без инициативы и без внутренней преданности идее своей службы, и к тому же людьми, ограниченными по своим умственным способностям и немало жадными к благам, дававшимся им этой самой службой. В его представлении это были ремесленники, иногда умеющие, а иногда и не умеющие выполнять работу «на заказ».
К ротмистровым унтерам Кандуша и не хотел в сущности предъявлять больших требований. Но другое дело — жандармский ротмистр Басанин…
Ротмистр Басанин разочаровал Кандушу: он оказался таким же ограниченным, лишенным инициативы человеком, как и оба ему подчиненных унтера. Он тоже представлялся только ремесленником — старшим по чину, а скрытая мысль Пантелеймона Кандуши, еще никем не оцененного сотрудника провинциального и заурядного охранного отделения, искала и ждала не будничного ремесла, а таинственного, волнующего искусства.
Он видел явную несправедливость судьбы.
Дворянское происхождение? Да, он — Кандуша — должен был родиться дворянином, сыном какого-нибудь полковника, а не мальчишкой в семье ольшанского мужика, отдающего теперь всю жизнь свою чужому кожевенному заводу.
Образование и служба? Он мог бы, как и ротмистр Басанин, кончить корпус и специальные курсы, получить чин жандармского офицера, а не учиться только в четырехклассном городском училище и служить теперь писарем и машинистом в бесталанном ротмистровом управлении.
И если бы все это басанинское было у него, Пантелеймона Кандуши, — о, как смог бы он показать свое старанье и таланты! Правда, он не отчаивался: то, что не было дано ему до сих пор судьбой, могло быть завоевано жизнью. Можно завоевать, — но не здесь, не в тихом и скучном ротмистровом управлении!
Сыскная служба представлялась Кандуше наиболее острой и интересной из всех иных. Она требует изощренности и ловкости, хитрости и коварства и — полного проникновения в настороженную психику врага. А враг казался притаившимся, расползающимся по всей России, и находить его, угадывать и обезвреживать — для этого требовалось своего рода искусство.
Ротмистр Басанин не владел этим искусством, по мнению Кандуши, он не старался даже постичь его, — и не оцененный пока никем писарь презирал в душе своего бесталанного и ленивого начальника.
«Филером… филером не годится — не то, что начальником района, — думал с досадой о нем Кандуша. — Куда ему ротмистром быть: на кота широко, на собаку узко».
И он вспоминал департаментскую, хорошо заученную инструкцию по организации наружного наблюдения. Господи, боже мой, — да разве таков ротмистр Басанин, каким филер должен быть по департаментской инструкции?!
«Филер должен быть, — писалось там, — политически и нравственно благонадежный (Кандуша, обдумывая, загибал один палец), твердый в своих убеждениях, честный, смелый, (одной кандушиной руки уже не хватало), ловкий, развитой, сообразительный, выносливый, терпеливый (обе руки сжались в слабый, беззлобный кулак), настойчивый, осторожный, правдивый, откровенный, но не болтун, дисциплинированный, выдержанный, уживчивый, серьезно и сознательно относящийся к делу и принятым на себя обязанностям, крепкого здоровья, в особенности — с крепкими ногами, с хорошим зрением, слухом и памятью, с такой внешностью, которая давала бы ему возможность не выделяться из толпы и устраняла бы запоминание его наблюдаемыми. Но при всех достоинствах чрезмерная нежность к семье или слабость к женщине — качества, с филерской службой несовместимые и вредно отражающиеся на службе…»
Двадцать три качества насчитывала инструкция для простого филера, а было ли их хоть пяток у ротмистра Басанина?!
У него не было нежно любимой им семьи, но слабость ко многим женщинам он питал чрезмерно и без разбора… И сколько уже раз аккуратный и услужливый писарь был бескорыстным помощником в этих неловких интимных делах?..
Но иногда презрение его распространялось не только на одного ротмистра и его сотрудников, но и на весь ротмистров район, на все три города и уезда, отданные ротмистру под надзор.
Кому знать еще, как не Кандуше, тихостную и неспешливую жизнь трех одноликих Смирихинсков. Господи, боже мой, сколько людей втихомолку думают противоправительственно, но ни один не действует.
И когда время от времени унтеры привозили какого-нибудь «политического», Кандуша с жадностью всматривался в его лицо, в его одежду, в его походку, ища во всем этом чего-то необыкновенного, еще не виданного, что должно было отличить этого человека от всех остальных знакомых и понятных людей. Но незнакомцы ничем не разнились по внешнему виду от сотен других горожан и мужиков, — и Кандуша уже с озлоблением думал о том, что тихостные ротмистровы уезды, неспешливый, притаившийся Смирихинск ловко обманывают его, кандушин, глаз, его догадливость тайного ловца человеков.
И каждый раз после привода нового «политического» Кандуша с удвоенным вниманием и упорством, долгими часами рылся в громадном, во всю стену, плоском шкафу, в котором помещалось тайная тайных всего ротмистрова управления. Кроме Басанина, только он один имел право, по обязанности своей службы, обозревать заключавшееся в шкафу. Это было последнее изобретение охранного отделения — «дуга сведений о домах и лицах наблюдаемых».
На дугу надевал Кандуша листки трех цветов — в порядке номеров домов по каждой улице. На первый — красный — заносились все сведения о доме по агентуре и делам. Второй — зеленый — служил ротмистру сводкой всего наружного наблюдения: на нем аккуратный Кандуша отмечал отдельно, кто, когда и кого посетил в этом доме. А на последний — белый — были нанесены фамилии лиц, живущих в доме. Все три листочка накладывались по порядку один на другой. Сотни человеческих жизней, тысячи людских поступков отмечались — неведомо для этих людей — на таинственной дуге, собравшей на себе всю ловкость и рвение продажных доносчиков и шпиков.
Ротмистров сотрудник, Пантелеймон Кандуша, занимался этой дугой, как настройщик — клавиатурой рояля. И как тот по нескольку раз проверяет чистоту и правильность звука, так и Кандуша неустанно следил за клавиатурой доносов.
Стоя у шкафа, он отгибал и просматривал каждый цветной листочек.
«А… вот, вот: о тебе, голубок, и забыли! Нехорошо, нехорошо… — неслышно разговаривал он с кем-то, почему-то вдруг начинавшим интересовать его. — А мы напомним… мы про тебя, пипль-попль, напомним. А мы пощупаем, пипль-попль, проверим…»
Слово «пипль-попль» было выдумано самим Кандушей. Что точно оно означало — он и сам не знал, но употреблял его часто (особенно в разговоре с самим собой) и по самым различным поводам. Произносить это слово вошло уже в привычку, но тем не менее он все же вкладывал в него то тайное, не поддающееся пониманию со стороны содержание, о котором можно, при каждом отдельном случае, только догадываться по той интонации, с какой произнесено это слово.
И на следующий день Кандуша говорил ротмистру Басанину:
— Позволю себе сказать, Павел Константинович, давно что-то о господине Ставицком из городской управы ничего не известно… Не освещается, позволю себе высказаться… Как у покойничка будто благонадежность получается. Хорошо бы сию «могилочку» открыть… да проверить…
— Ты думаешь? — встрепенувшись, спрашивал Басанин.
— Умозаключаю так, Павел Константинович, по личному «делу» господина Ставицкого. Не прозрачен человек и сомнителен все же. А всякого человека, позволю сказать, надо сквозь хребет просмотреть, нервик каждый выузнать, слово на пластинку взять — во!
Когда на сикофантской дуге появился новый, свежий листок Ивана. Теплухина, а на белом листке фабриканта Георгия Павловича Карабаева появились отметки о брате его — члене Государственной, думы, Кандуша ощутил вдруг такое возбуждение и радость, каких не испытывал уже очень давно.
— Трепещу, трепещу ведь, Павел Константинович! — говорил он ротмистру Басанину и был искренен в своих чувствах. — За крылья сего орла (он разумел депутата Карабаева) державшись, прибыть можно в Петербург… да, да! Господи, боже мой! Чин заслужить можно, жизнь веселую.
Все это относилось как будто только к ротмистру Басанину, — на самом же деле в этот момент Кандуша мечтал о своей собственной удаче.
Он был спокоен и не ждал сейчас этой встречи, хотя все это время предполагал, что рано или поздно она может произойти.
Он заканчивал свои служебные дела, — как в этот момент в коридоре послышались чьи-то незнакомые шаги, и спустя секунду в канцелярию жандармского управления уверенной быстрой походкой вошел человек и, сделав несколько шагов от двери, остановился посреди комнаты, мельком оглядывая ее. Он увидел тотчас же настежь распахнутые дверцы дубового канцелярского шкафа, между которыми стоял Кандуша: внизу, за дверцей, видны были только его близко поставленные одна к другой ноги, не спеша повернувшиеся теперь носок в сторону.
— Могу я видеть господина ротмистра? — заметив движение этих ног, спросил вошедший.
Левая дверца медленно, с гнусавым скрипом захлопнулась, и Кандуша, повернув голову в сторону вошедшего, натолкнулся на его встречный любопытствующий взгляд.
— Пантелейка!.. Пантелеймон… ты? — вскрикнул вошедший человек, шагнув к Кандуше.
И как камень о камень высекает короткую, мгновенную искру, так память обоих, столкнувшись друг с другом, уронила ее брызгами первых сорвавшихся слов.
— Что? Как? — отступил слегка Кандуша. — Здравствуйте… Совершенно верно: это я, Иван Митрофанович… я, — заставляя себя успокоиться, сказал он, прищурившись, скрывая свои встревоженные глаза. — Я… я, — повторил он опять, и это «я», как он произносил его сейчас, усиливая каждый раз, каждый раз все тверже, как будто служило ему средством не то самозащиты и собирания самого себя, не то наступления в одно и то же время на так неожиданно появившегося здесь противника — Ивана Теплухина.
— Ты… в охранном отделении?
— Письмоводительствую… всего лишь, Иван Митрофанович. Служу по бедности, а распоряжаются другие, как вам известно…
— Однако…
— Упрекаете? Что ж, упрекайте, Иван Митрофанович. Презирайте. Не всем в Сибирь мучениками ходить: мы люди маленькие, нестоющие… Сломило… сломило нас, силенки надорвало, — сознаюсь, конечно. Да вы шапку… шапку снимите: жарко тут… Да и портрет царский, пипль-попль, обязывает! Не так?
Он уже в полной мере овладел собой и вел свою привычную игру, как вел ее почти с каждым собеседником, подсовывая ему, как силки птице, сразу несколько фраз различного содержания, чтобы тот, растерявшись, не знал, на какую ему в первую очередь ответить. И тем временем всматривался в нерешительности топтавшегося на одном месте Ивана Митрофановича.
— Да вы садитесь… садитесь, пожалуйста. Честь и место.
Нет, не очень изменился за эти годы Иван Теплухин. На присланной из департамента фотографии он был бородат, и борода, обрамлявшая все лицо, настолько преображала его, что Кандуша в первый момент не узнал тогда своего близкого знакомого, земляка. Но сейчас… сейчас Теплухин был таким, каким знал его четыре года назад.
Тот же резкий короткий взгляд серых глаз, круглое лицо с маленьким, слегка вздернутым носом и чувственные, расстегнутые губы — большеротый человек…
— Честь и место! — повторил он, садясь за стол и приглашая туда же Теплухина. — Эх, пипль-попль, долго не виделись! Судьба играет человеком, позволю себе высказаться.
— Откуда столько наглости у тебя — у Пантелейки? — не скрывая нарочито насмешливого и недружелюбного отношения к нему, подошел поближе Иван Митрофанович и, секунду поразмыслив, снял шапку и опустился на стул.
— Оттуда же, Иван Митрофанович, откуда у вас теперь покорность и натуральное, как говорится, спокойствие, — также подчеркнуто невозмутимо ответил Кандуша. — Зачем пришли к господину ротмистру? Давно мы не видались — это верно…
— Доложи ротмистру Басанину, что мне нужно выяснить с ним один вопрос.
— Касательно?
— Касательно того, что может интересовать только меня.
— Не доверяете… мне не доверяете? Господи, боже мой! — как-то неожиданно печально и серьезно вздохнул Кандуша и перегнулся через стол к Ивану Митрофановичу. — Воля ваша, конечно, а напрасно не доверяете. Теперь можете доверять. Смысла мне нет вас обманывать: вы мою планиду видите, а я — вашу. Так? Вражды, — как, например, вражды личной, — нет у меня к вам? Нет. Уважал я вас? Уважал. Эх, вспомните только, Иван Митрофанович… Постойте, не перебивайте… Верил я вам? Верил. Пипль-попль! Атаманом своей души считал драгоценного Ивана Митрофановича! Может, вру? Сами знаете, так оно было, так… Брошюрки, прокламации по всем углам разносил, нелегальные листки чуть не городовому на спину наклеивал…
— Вот именно — городовому. Наверно, в руку ему совал да называл тайком наши фамилии.
— Не смеете! — вскрикнул Кандуша, и черные фитили его глаз зажглись на мгновение неподдельным гневом. — Не смеете так говорить, слышите? «Пантелейка»! Презрительно теперь называете, — а раньше? Кто раньше не щадил себя, позволю себе высказаться? Кому важную, опасную работу поручали? Мне, Пантелейке. Только называли тогда так — с дружбой, с любовью даже…
— Напрасно, значит.
— Нет, тогда — не напрасно. Не перебивайте, дайте досказать. Если уж встретились, выслушайте до конца. Вас и всех ваших товарищей по каторжной дороге увезли, а я остался. Кто знал меня? Никто, никогда. Что я есмь, что был тогда? Ну, что? Ну, ноготь с пальца вашего, Иван Митрофанович… Не больше. Кому ноготь срезанный во вред пойдет, — не так? А срезали тогда всех начисто, под самый корень… Революция или послабление государственной власти? Не будет ничего такого в России нашей — крышка! Выдуло сие помышление, как пыль с камня. Видали теперь Россию? А-а… то-то же!
— Мне нужен ротмистр, — перебил его Теплухин, хмуря брови и нетерпеливо поглядывая на плотно прикрытые двери в соседнюю комнату. — Болтай, болтай, — на язык пошлины не ставят.
— Доскажу, доскажу вам, Иван Митрофанович…
— Хорош охранник, который так исповедуется? — вдруг зло усмехнулся Теплухин. — Смотри, Пантелейка, выдует и тебя отсюда… Смотри.
Кандуша выпрямился на стуле, но через секунду вновь перегнулся через стол и, прищурившись, посмотрел вызывающе на собеседника. Иван Митрофанович увидел близко перед собой очень реденькие и жесткие, как мочало, кандушины сероватые усы — словно не живые, не растущие на губе, а натыканные в нее каждым волоском порознь, и среди усов — свежий выдавленный прыщик. «Гнилушка какая», — невольно отодвинулся Иван Митрофанович.
— Господин Теплухин, — медленно выговаривал слова ротмистров писарь. — Господин Теплухин, глупо и напрасно пугаете меня — государственного верного служащего. Понятно? Заблуждения своего молодого прошлого не имею надобности скрывать от своего начальства. Понятно? А вам говорю: выдуло всякие болезненные помышления, потому вижу и убеждаюсь, как ваше собственное, Иван Митрофанович, буйство умертвилось. Умертвилось окончательно и с пользой для вашей личной жизни… Не так разве? Выходит, буйство всякое требуется своевременно пресекать, — и польза будет и человеку этому и нашему государству. Жалею, что так гордо отвергли, позволю себе сказать, душевную нашу беседу по-приятельски: в противном случае мог бы пояснить вам свою исправленную биографию. Пожелаете когда — не откажусь. Вот и все! Господина ротмистра нет, кстати, а когда придет — доложу: приходил господин Теплухин Иван Митрофанович — не то за советом, не то…
Но продолжать было уже бесцельно: услышав, что ротмистр отсутствует, Теплухин, не говоря ни слова, поднялся со стула и быстро вышел.
— Пипль-попль! — проводил его непонятно звучащим словом ротмистров писарь и в сильном раздражении переломил надвое попавшийся под руку карандаш.
ГЛАВА ШЕСТАЯ Обед в чиновничьем клубе
Как условлено было с Людмилой Петровной, ротмистр Басанин зашел в чиновничий клуб и занял, поджидая ее, отдельный столик в боковой комнате. Днем в клубе бывало сравнительно мало посетителей, так как почти все члены его обедали дома и приходили сюда к вечеру — к зеленым карточным столикам, чтобы «записать пульку», или сыграть в макао, или иногда посмотреть спектакль на устроенной здесь же сцене, или — по воскресным дням — послушать концерты, даваемые смирихинским «Обществом культуры и разумных развлечений».
Ротмистр заказал обед для двоих, но попросил повременить с ним, покуда не прикажет.
Толстый седой буфетчик Семен Ермолаич, тридцать пять лет кормивший сначала дворян, а после — чиновников и всех именитых и благонамеренных горожан, знал не только вкус каждого, но и капризы его желудка, почек и печени так же хорошо, как и материальные и личные дела посетителя. Многие из них были, тайком от других, его постоянными, а иногда и долголетними должниками, но старый буфетчик никогда не давал им этого чувствовать. Проигравшемуся в карты он вручал поспешно золотую пятирублевку — так, словно он сам был должником неудачника:
— Прошу прощения, прошу прощения, Иван Андреевич. Мне бы, неучу, и самому бы след догадаться…
И нетерпеливый и благодарный в душе Иван Андреевич брал золотую монетку и быстро, двумя пальцами, опускал ее в нижний кармашек своего потертого, с золотыми чиновничьими пуговицами жилета и этой же рукой похлопывал потом по плечу добрейшего буфетчика:
— Так вы не забудьте, Семен Ермолаич: теперь пять да в прошлом месяце десять…
— Уж вы не надейтесь, — отвечал старик. — Забуду, обязательно забуду: на такие дела памяти нет.
Он, старый буфетчик, считал себя близким, тесно связанным всей жизнью, всем ее прочным укладом со всей этой средой бар, помещиков и чиновников.
В свое время, многие годы назад, благодаря балам и кутежам этих людей он составил себе приличное состояние. Но, составив его, он не стремился к дальнейшему обогащению; к тому же обмельчание и значительное материальное оскудение обслуживаемого им сословия сказалось и на делах самого Семена Ермолаича. Он не искал уже прибылей и потому не ушел купечествовать, как сделал бы другой на его месте. Он остался верен не только своему первоначальному занятию, но и той традиционной среде, неустранимым свидетелем жизни которой он был в эти годы. Он жил ее интересами, потому что они стали как бы его собственными. Иное отношение ко всем этим Иванам Андреевичам он почитал бы недостойной изменой со своей стороны. Он никогда не проявлял к ним угодливости и лакейского низкопоклонства, а они, начиная от старшин клуба и кончая случайным посетителем, были всегда с Семеном Ермолаичем учтивы и доброжелательны, — и потому он считал свое долголетнее занятие почетным и несомненно полезным.
— Обед изволили, Павел Константинович, заказать на двоих? — спросил он медленно, не спеша подойдя к столику.
— Да, да… но не сейчас.
— Уведомлен, уведомлен официантом. Однако позволю себе доложить: заходил часом раньше господин студент один, сынок покойного его превосходительства Величко, и заказал сервировку на четверых, притом сказал: «Обедать будет с нами господин ротмистр». Просил передать, пусть самостоятельно, значит, господин ротмистр не заказывает. Как прикажете теперь, Павел Константинович?
— Четыре нас будет? А кто же это четвертый? — недоумевая спросил ротмистр, отбрасывая в сторону последний номер «Нивы», который читал здесь, чтобы убить время ожидания. — Вам не называли?
— Никак нет, Павел Константинович, не упоминали.
— Что ж… ладно, — согласился ротмистр, пожав плечами.
— Считал обязанностью, считал долгом…
Семен Ермолаич так же вперевалку, не спеша, как подошел раньше, двинулся к дверям.
Ротмистр Басанин мог предполагать, что вместе с Людмилой Петровной придет ее брат студент, но еще об одном своем спутнике она не предупреждала Басанина, и он теперь тщетно пытался предположить, кто бы мог оказаться этим человеком. Уже было три часа, а Людмила Петровна не появлялась. Он взял опять журнал и углубился в чтение какого-то неизвестного до сего романа; иллюстрации он бегло просмотрел еще раньше.
Во владениях Семена Ермолаича царила тишина. Только из биллиардной комнаты доносился сухой, костяной звук шаров да изредка позванивала, вздрагивая от провалившегося в нее шара, дряблая луза: то упражнялся в игре скучающий здешний маркер.
За дверью, в театральном помещении, шла репетиция какой-то пьесы, и десяток раз одни и те же, неестественно взведенные голоса повторяли одни и те же — очевидно, плохо понятые актерами — фразы. И Басанин, невольно прислушивавшийся к ним, запоминал почти каждое громко произнесенное слово. Несколько раз он хотел вникнуть в их смысл, но его мысль и внимание были все время отданы другому: читая журнал, слушая репетирующих актеров и прислушиваясь к каждому новому полосу, раздававшемуся в вестибюле клуба, он думал только о предстоящей встрече с Людмилой Петровной.
И когда он услышал неподалеку уже ее голос, быстро встал, сделал несколько шагов, но тотчас же остановился, сдержанный лукавой и осторожной советчицей мыслью: «Подождем, подождем. Излишняя инициатива вредна-с… Да, да».
Он сделал вид, что не предполагает даже о ее присутствии здесь, и приняв небрежную позу: широко расставив ноги, заложив руки за спину и сцепив их там пальцами, покачиваясь на одном месте и посвистывая, — он слегка закинул голову, уставился в зеленую афишу, извещавшую об очередном спектакле. Времени было достаточно, чтобы пробежать ее глазами всю, но Басанин только и видел перед собой то, что бездумно, бессмысленно повторял сейчас про себя: Рюи-Блаз, драма Виктора Гюго… Рюи-Блаз, драма Виктора Гюго…
— Да вот ведь где господин ротмистр! — громко сказал, переступая порог, студент, — и тогда только ротмистр Басанин оглянулся, выпрямился и шагнул к входившей Людмиле Петровне.
Она протянула ему руку, и он чуть задержал ее, прикладываясь к ней губами.
— Вы, кажется, знакомы? — улыбались глаза Людмилы Петровны, и она, не оглядываясь, прошла вперед, давая дорогу своему спутнику.
Это был Георгий Павлович Карабаев.
— Знакомы, Людмила Петровна.
— Так точно. Встречались раза два-три в присутственных местах.
— Два раза, — поправил и уточнил со свойственной ему привычкой Георгий Павлович, здороваясь с ротмистром.
Басанин сначала коротко пожал теплую, слабо ответившую руку Карабаева, потом — длиннопалую и порывистую студента и направился вместе с ними к столу, за который села Людмила Петровна.
Официант проносил на ладони кому-то в соседнюю комнату открытый судок, из которого шел пар: запахло томатом, кореньями.
— Голодна, голодна ужасно! — живо, простодушно говорила Людмила Петровна, по-ребячьи хмуря брови и вытягивая свои тонкие, вырезанные серьгой ноздри, словно хотела вобрать в себя запах всей кухни Семена Ермолаича.
— Я заказал… — поспешил сообщить о своей распорядительности ротмистр Басанин, но студент перебил его:
— Все уже готово: Людмила Петровна как хозяйка выбрала уже меню… Вот видите, господа, уже несут, несут тарелки, ложки… Действительно, есть хочется…
Официант нес сервировку, а следом за ним, плавно переваливаясь, плыло тяжелое, медлительное тело старого буфетчика. Да, тут требовалось его, Семена Ермолаича, непременное участие: разве суметь простому официанту примирить и сочетать вкусы на вина столь различных господ, как эти?
Вина предлагал и выбирал Георгий Павлович: он заказал наиболее дорогие. Буфетчик спокойно, как всегда, но с особым вниманием и почтением прислушивался сейчас ко всем указаниям Карабаева. Георгий Павлович сидел вполоборота к нему, но Семен Ермолаич смотрел не на него и ни на кого из присутствующих, а в сторону, на белый кафель печки — как будто там, на ней, запечатлялись кем-то подробные распоряжения барина-заказчика. Георгий Павлович Карабаев говорил повелительно, мерно, не повторяя дважды своих желаний, — и неприятно и совестно было старому буфетчику ошибиться перед ним.
Нечто схожее испытывал сейчас и ротмистр Басанин.
Он с досадой подумал о том, что фабрикант сумел так незаметно и неоспоримо руководить сегодняшним обедом и, следует ожидать, предстоящим разговором в эту встречу. Ясно было, что Карабаев решил оплатить весь этот обед и потому выбирал самое дорогое вино и фрукты, — и ротмистр Басанин не мог счесть для себя возможным как-нибудь вмешаться в этот выбор.
Присутствие здесь этого независимого по своему положению, богатого человека некоторым образом подавляло ротмистра. Это состояние подавленности, неудобства он всячески старался скрыть от Людмилы Петровны.
«Зачем пригласила меня?» — досадовал ротмистр.
— Мы немного задержались, — говорила Людмила Петровна. — Дела, дела! Тяжело быть наследниками какого-то хозяйства, какой-то земли, завода. Ни я, ни Леонид, конечно, абсолютно не приспособлены заниматься всем этим. А вот приходится.
— Если не ошибаюсь, — вставил ротмистр, — Георгий Павлович может предложить вам свою авторитетную помощь?
— Да, да. Это верно. Он мог бы лучше распорядиться заводом. Но надо еще подумать, надо еще посоветоваться с Михаилом Петровичем, со старшим братом. Леонид уезжает сегодня в Петербург. Ну, а там посмотрим… Ведь, правда, так лучше будет? — обратилась она к Карабаеву, отпустившему уже буфетчика.
— Простите, я не слышал, Людмила Петровна, вашей беседы.
— Это все продолжение сегодняшних наших деловых разговоров. Все о том же заводе.
— А-а… — протянул Георгий Павлович. — Завод хорош, может давать прочную прибыль, но требуется коренная реорганизация всего хозяйства его и руководства. Основное: свекловичные плантации должны быть собственностью завода, а не в аренде постороннего человека. И чем умней и предприимчивей этот человек, тем по существу опасней он для заводского хозяйства.
— Почему? — спросил студент, хотя он меньше всех интересовался этим разговором.
— Очень просто: он, заготовитель сырья, будет всегда держать вас в зависимости от своих собственных расчетов. А если еще договорные отношения с ним оформлены не слишком строго…. — Карабаев мягко, но иронически улыбнулся в сторону обоих наследников… — если не совсем предусмотрительно, то…
— Ах, боже мой, все верно, верно! — словно отгоняя от себя какую-то неприятную мысль, воскликнула Людмила Петровна. — Надо прямо сказать: никуда наши помещики не годятся. Никуда.
— Вы так серьезно думаете? — вмешался ротмистр Басанин.
Он был задет сейчас не сутью признания, а тем, что оно сделано в присутствии человека, откровенно и умно насмехавшегося над чуждым ему дворянским сословием.
— Однако кто же, как не ваш почтенный покойный батюшка, строил этот завод? Наша отечественная промышленность зачалась именно на дворянских, помещичьих капиталах. И другое дело, конечно…
— Ну-с? — внимательно и выжидающе смотрел на него Георгий Павлович.
Это был предостерегающий вопрос. Ротмистр Басанин собирался сказать, что другой вопрос — почему этими капиталами овладевают теперь люди другого сословия (в этом заключался бы выпад против фабриканта Карабаева), но, поняв сразу, что тем самым обязательно заострит разговор и вызовет недовольство присутствующих, продолжал фразу не так, как раньше Думал:
— И другое дело, господа, надо сознаться, было создано в России теми же людьми: это — искусство, литература, просвещение. Есть какая-то духовная прелесть в этом петербургском, господа, периоде нашей истории. Именно — петербургском! Настолько все это было хорошо, что обаяние этого… да, Георгий Павлович, обаяние, — ну, как бы это лучше выразить… незримо (почему-то вспомнился писарь Кандуша, словно он подсунул сейчас это слово…), незримо прелесть и обаяние всего этого вошло в душу культурного привилегированного общества… А тени этого Петербурга, так сказать, вызывают мистическое, что ли, состояние преклонения…
— О, вы — поэт, господин ротмистр! — одарил его черствой улыбкой Георгий Павлович. — Но, простите, — традиционный поэт и эпигон. Вы не обижаетесь, конечно, любезный Павел Константинович? Ведь не Аполлон же ваш шеф?! Я потому позволил отнестись критически к вашим поэтическим эмоциям, что не они суть ваших повседневных, деловых занятий, — не правда ли?
— Я вскользь упомянул о Петербурге…
— Совершенно верно. А я говорю: представление об этом прекрасном ученом и промышленном городе как о болотистом рассаднике какой-то мистики и прочих измышлений пора сдать в архив. Петербург так же реален для нас, как вот и маленький Смирихинск: и там и здесь фунт сахару стоит одиннадцать с половиной копеек.
— Прозаично…
— Не спорю, Людмила Петровна. Я позволил себе привести этот житейский грубый пример в доказательство своей, отнюдь не порочной, с точки зрения современной культуры, мысли… Отнюдь не еретичиой, господа. Кто это решится сказать, что для нас, для России, не существует общих законов экономики?
— Но Петербург символически, так сказать…
— В первую очередь он ведет эту экономику. И если говорить «символически», как вы, то следует сказать: вы цепляетесь за Елагины острова, Петергофы и живописные Стрелки и музеи; вы прикладываетесь, расслабленные, к нежной ручке прошлого, а у того же Петербурга давно уже, — вы этого почему-то не замечаете, — у Петербурга давно уже, говорю я, выросли здоровенные мускулистые руки и плечи промышленности, техники, исследовательских лабораторий.
— Боже мой, да и вы поэт, оказывается! — не утерпела Людмила Петровна, принимая из рук официанта наполненную тарелку. — Вот, вот, я так «взволновалась», господа, что чуть-чуть не пролила сейчас суп…
— Никак не претендую на это звание. Я не поэт, не мечтатель. Я — только русский промышленник.
— И вы гораздо лучше знаете те западные доктрины, которые были сотворены не столько в интересах промышленников, сколько для «просвещения», так сказать, работающих в промышленности? — решился ротмистр перейти в наступление против Карабаева.
Георгий Павлович хлебнул супу, положил ложку на нижнюю, мелкую тарелку, как будто ложка мешала ему сейчас, и, ухмыляясь, посмотрел на Басанина.
Тот поднял голову. «Да, да… я — жандармский офицер, черт побери, а ты не смеешь игнорировать мое положение! — пришла вдруг своевольная, упрямая мысль. — Язык твой попридержи…»
И он не отвел, как раньше, своих выжидающих глаз.
— Видите, — ухмылялся уголками рта Георгий Павлович, — я лишен (от природы, очевидно, и благодаря своему занятию) тех способностей, которые в такой, право, лестной мере присущи вам, любезный Павел Константинович. Я не умею догадываться и читать в сердцах. Не знаю — равно как и того, какие источники питают вашу уверенность, — что эта доктрина господ европейских социалистов оспаривает пользу и значение промышленности.
«Не знает, а говорит… Хитер!» — озлобился ротмистр Басанин: тон, в котором отвечал фабрикант, был подчеркнуто вежливым, но самый ответ заключал в себе немалую долю неприязни и колкости.
— Я не понимаю никаких доктрин, и мне становится скучно, — сказала недовольно Людмила Петровна. — По крайней мере сегодня мне не хотелось бы слушать такого спора.
— Виноват, Людмила Петровна, но в этом «доктринерстве» я, право, не повинен. Свою же мысль позволю все же высказать до конца. Я так привык, господа. Вернемся к «символическому» Петербургу… Я уже сказал: некоторым любы Стрелки и музеи, — и я большой поклонник всего этого. Но что такое музей? Музей — это застывшие в истории шаги нации. Застывшие, господа. А нация идет вперед и во главе своего движения ставит в каждую эпоху новое общество, новые, так сказать, производительные силы. Вот и все, господа. Но если это положение мое может вызвать спор, я согласен оставить его сейчас без защиты… дабы не омрачать нашей встречи. Вино не плохое, — тотчас же переменил он тему разговора. — Разрешите, Людмила Петровна, ваш бокал?
Конец обеда прошел в ничем не примечательной беседе о местных, смирихинских делах, и ротмистр Басанин тщетно старался понять, для чего собственно его пригласили сюда.
Единственно, что было ему приятно — присутствие здесь Людмилы Петровны. Ротмистр давно уже определил свое отношение к ней.
Красота и женственность Людмилы Петровны всегда волновали Басанина — притягивали к себе своей недоступностью и воспаляли его воображение. Ее молодость и богатство дочери крупного помещика сулили немало радостей и удобств в жизни, а ее неожиданное вдовство и независимый характер облегчали задачу сближения с Людмилой Петровной.
Если бы ротмистр Басанин узнал ее только сейчас, если бы этот обед был бы их первой встречей, Басанин с одинаковой, вероятно, силой испытывал бы желание этого сближения. Он никогда по-настоящему — преданно и глубоко — не любил, у него не было ни к кому раньше интимной привязанности, которая располагает к чувству длительному и внутренне оберегаемому, и, сойдясь с женщиной, он стремился прежде всего сделать так, чтобы остаться независимым от нее и свободным. Встречаясь же с Людмилой Петровной, он думал: Людмила Петровна его, ротмистра Басанина, жена — вот что было его конечной целью!
Его страстное, но внешне скрытое желание обладать этой женщиной сочеталось в то же время с трезвым и верным расчетом: женитьба могла принести удачу и в карьере.
— Я хотела вас кое о чем попросить, — словно вспомнив о чем-то, обратилась к нему Людмила Петровна.
— Приказывайте! — И ротмистр поднял плечом свой серебряный с красным просветом погон.
— Вот видите, Георгий Павлович, какая у меня власть, — рассмеялась она. — Вы мне так не отвечал! А моя просьба, милый Павел Константинович, состоит в следующем… Господи, как бы это проще сказать. Слов ом, вот что… Вы имеете представление о господине Теплухине? Да или нет?
Ротмистр быстро обвел глазами всех присутствующих: Людмила Петровна и студент смотрели на него с нескрываемым любопытством, Карабаев, закурив папиросу, старательно пускал колечки и, казалось, только и был поглощен этим занятием.
— Да, — медленно ответил ротмистр, тихо пощелкивая пальцем наконечник своего серебряного аксельбанта. — Имею представление о господине Теплухине. «Ага, вот оно в чем дело. Но почему это так интересно ей?»
— Господин Теплухин имел желание явиться к вам.
— Вот как!
— Да. Но после нашего разговора с вами этот визит, я думаю, будет излишним. Дело в том, что Теплухин имеет возможность поступить на службу… на завод Георгия Павловича.
— Это обоюдное желание? — подчеркнул ротмистр.
— Теплухин ищет заработка, я имею возможность предоставить ему службу, — спокойным и безразличным тоном ответил Карабаев.
— Кто же запрещает уважаемому Георгию Павловичу благодетельствовать?
— Я говорю не об этом, — сощурились серые, обещающие, улыбнувшиеся глаза, и, на минуту загипнотизированный и обласканный ими, ротмистр перевел свой разгоряченный взгляд на капризные губы слегка наклонившейся к нему Людмилы Петровны. — Теплухин понимает, что он находится под надзором полиции, — так он говорил мне.
— Он никому не опасен, — вставил Карабаев.
— Совершенно верно. Я того же мнения, — продолжала она. — Но вы, господин ротмистр особого корпуса жандармов (Людмила Петровна с нарочитым и шутливым пафосом произнесла титул Басанина), вы должны мне откровенно сказать: вы против того, чтобы Теплухин служил в Ольшанке, или нет?
— Господа, вы как-то превратно судите о моих официальных обязанностях, — попробовал уклониться ротмистр.
Он протянул руку к бокалу с вином и безмолвно чокнулся им с Людмилой Петровной. «Для вас… для вас я все могу сделать, знайте…» — говорил его взгляд.
— Право же, это так, господа. Разве мы кому-нибудь запрещаем или мешаем заниматься законным делом? Напротив, мы призваны оказывать наиусерднейшее содействие таким подданным империи. Мои слова не нуждаются ни в каком подтверждении, потому что они говорят о том же, о чем говорит высочайше утвержденный указ о характере нашей службы… И я думаю, что, например, Георгий Павлович не откажется засвидетельствовать пользу этой службы. Кто у вас работал в той же Ольшанке под фамилией Сенченко? Бежавший и долго разыскивавшийся преступник, калишский рабочий, стрелявший в своего хозяина. Мы его обнаружили.
Ротмистр Басанин уже не скрывал того, насколько приятно ему сознание своей силы — жандармского офицера, которому вверена охрана имперского режима хотя бы и на столь незначительной территории.
Пощелкиваемый небрежно наконечник аксельбанта подскакивал все выше и выше.
И от сознания ли своего, ротмистрова, положения, или, может быть, от того, что крепко играло выпитое, лукавое вино и хотелось — инстинктивно — казаться красивей, лучше и значительней перед Людмилой Петровной, — Басанин именно таким почувствовал себя в эту минуту.
Свой собственный голос показался ему необыкновенно плавным и выразительным. Улыбка, все время не сходившая с лица; блуждала по нему так легко, как безукоризненно ловко пудрящая пуховка, и, как она, была мягка и нежна ротмистрова улыбка. Кисть левой руки, непринужденно лежавшая на ослепительно белой, выкрахмаленной скатерти, нервно и быстро играла всеми пальцами, — он испытывал сладостное, почти осязаемое, возбуждение; оно должно было или передаться другим, или подчинить их себе…
Ротмистр почувствовал, как тело его, весь он, от головы до пят, стал мускулистей, подвижней, свободней и плавней в своих движениях, — и ему невольно захотелось встать во весь рост и показать всего себя наблюдавшей его женщине.
Он с радостью подумал о том, как отлично лежит на нем темносиний двубортный сюртук с красным кантом по воротнику и обшлагам, гордо выпячивающий его, басанинскую, грудь; как туго и ровно натянуты на штрипках безукоризненно выглаженные диагоналевые брюки, как обманно-небрежно волочится по полу спущенная на серебряной портупее скосаревская шашка в притупившихся — да, притупившихся! — в конце ножнах и нежным колокольчиком звенит великолепная савельевская шпора с чарующим малиновым звоном.
— Господа! Я говорю вам: ничто нам не страшно, ничто не поколеблет нашу государственную власть. И поэтому, Людмила Петровна, если вы почему-либо хотите протежировать Теплухина, — пусть поступает на службу, пусть… Я не хочу вмешиваться в это дело. Не имею формальных оснований для вмешательства. Тем паче, господа, что Теплухин досрочно помилован и возвращен на родину.
— Досрочно? — удивленно поднял брови Георгий Павлович.
— А почему это вас так поразило?
— Ну, да… ему было зачтено предварительное сидение, вероятно?
Ротмистр Басанин вдруг сдержал себя, остановленный быстрой и короткой мыслью: «Ага… Ты мне Ольшанку подай, Кандуша!»
— Словом, Теплухин освобожден теперь, прав не лишен и следовательно…
Ротмистр не закончил фразы и развел только руками.
— Вот и хорошо, — спокойно сказала Людмила Петровна. — Мне очень приятно, что вы не оказались чиновником. Скучна… ах, как скучна у нас, господа, эта пресловутая «буква закона»!
— Но если я оказался вам приятен, — спасал себя Басанин, — то только потому, что я в данном случае никак не нарушал ее. Я пока не имею никаких формальных оснований для вмешательства в дело господина Теплухина.
— Только потому? — иронически смотрели теперь отдалившиеся серые глаза. — А я, грешным делом, думала, что моя просьба… Леонид, ты, голубчик, ужасно много куришь. Вы не находите этого, Георгий Павлович?
«Ч-черт! Я поскользнулся на апельсинной корке», — с тревогой подумал ротмистр о своем неловком ответе. Улыбка еще оставалась на лице его, но была уже ненужной, лежала на нем, как неряшливо оставшийся после бритья, прилепившийся волосок из облезлого помазка.
Резко приподнятое настроение Басанина так же резко изменилось: он несколько раз пытался вернуться к утраченной теме, но, как только начинал этот разговор, Людмила Петровна искусно отводила его.
Ему стало душно вдруг, не по себе в отлично сшитом мундире, который показался теперь почему-то узким, а рукава — безобразно короткими; он с досадой заметил сейчас, что стул под ним немного расшатан и при нерассчитанном движении скрипит и, вероятно, издавал все это время малопонятный окружающим звук. Глядя исподлобья и скосив глаза в сторону небрежно расплачивавшегося с официантом Карабаева, он увидел свой закрученный кверху, растопыренный рыжеватый ус, на котором торчала — предательской свидетельницей его, басанинской, небрежности — не забранная салфеткой жирная крошка пирожного. Он снял ее незаметно длинным ногтем мизинца.
«Для чего пришел сюда? — спрашивал себя. — Ну, захотелось им вместе после деловых разговоров пообедать… А меня зачем позвала? Чтоб о Теплухине узнать, просить меня о нем? Этот миллионщик-либерал взятку мне обедом дал… или как?»
Он тяжело поднялся из-за стола вслед за другими.
— Вы разрешите мне к вам приехать в имение? — спросил он, прощаясь с уходившей Людмилой Петровной, и почувствовал, как грустно и виновато смотрят сейчас его глаза.
— Конечно, я буду очень рада: у нас так скучно, — приветливо улыбнулась она, подавая руку для поцелуя. — Вы давно уже ко мне не приезжали и потому не имеете права желать, чтобы я о вас помнила. Но вот видите: когда решила увидеть вас, Павел Константинович, я нашла способ это сделать… Не правда ли? Господа, я сию минуточку иду! — крикнула она стоявшим у вешалки Карабаеву и брату.
— Вы знаете, — тихо сказал ротмистр, — что я хотел бы вас видеть всегда.
— Да? Фу, какие здесь грязные ступеньки в чиновничьем собрании, — смеялась она, спускаясь к вешалке. — Вы, значит, остаетесь здесь, господин ротмистр? До свидания!
Басанин остался один. Растерянность уже исчезла, но оттого, что не мог еще разобраться во всем, что произошло в конце обеда и после, был зол и придирчив, как и сегодня утром, когда наткнулся в столе на свой давнишний неловкий доклад.
«На улицу, черт побери! Душно мне…» — быстро сбежал он в вестибюль.
— Шинель! — громко крикнул он глуховатому здешнему швейцару, заметавшемуся у вешалки. — Живей, старик!
— Резвости, резвости-то сколько, ба-а-атенька! — услышал Басанин знакомый, погружающийся в одышку голос и оглянулся.
Здоровенный, тучный исправник Шелудченко стоял в другом конце вешалки, протирая запотевшие стекла очков большим красным платком. Синие маленькие глазки исправника добродушно посмеивались.
— Драгоценному Павлу Константиновичу — мое искреннейшее почтение, уважение, красотой восхищение, любовь моя без сомнения, примите заверения и всякие томления…
Исправничья туша подвигалась на Басанина, протягивая мягкую руку и расточая на ходу привычные шутливые приветствия.
В другое время ротмистр Басанин ответил бы, как всегда, схожей шуткой, но сейчас ему было не до этого.
— Здравствуйте, Иван Герасимович, — сухо сказал он, влезая в подбитую ватой шинель, поддерживаемую швейцаром. — Тороплюсь.
— Вижу, вижу, — тем же тоном продолжал исправник. — Ну, а все-таки, что нового? Тишь да гладь, да божья благодать… а? Да вы что это на афишку загляделись, словно императорский театр на ней помечен?
Он был прав: ротмистр Басанин смотрел каким-то странным взглядом на зеленую афишу, висевшую на стене.
— Тишь да гладь? — вдруг, обернувшись, насмешливо и зло сказал он. — А-а… — уже почти застонал он, чувствуя неожиданную радость от того, что может сорвать сейчас свое раздражение. — Я не видел раньше этого безобразия… но вы полюбуйтесь, что это такое.
— Что? — недоумевал Шелудченко, вскидывая голову кверху и вглядываясь в афишу.
— Вот вам ваша тишь да гладь… Сорвать, заклеить эти афиши! Это черт знает что! — не унимался уже ротмистр. — Читайте-ка, Иван Герасимович, если раньше, давая разрешение, не читали…
— Ну, читаю… читаю, — не совладая с одышкой, взволнованно сказал исправник. — Рюи-Блаз, драма Виктора Гюго…
— Гюго!
— Ну, Гюго… Рюи-Блаз. А что есть этот Рюи-Блаз… а?
— Да не в том дело! — презрительно смотрел на него ротмистр. — А дальше… помельче шрифт… вот… сбоку…
— Сбоку? Ага… вижу.
— «Так вот они, правители страны, министры бескорыстные народа, так вот у нас дела какого рода…» — медленно, с расстановкой, обдумывая каждое слово, читал исправник, оглядываясь по сторонам.
— Ну? — процедил ротмистр, чувствуя удовлетворение после приступа гнева. — Ну-с, Иван Герасимович?
— Думаете? — односложно спросил исправник и мигнул смешливо Басанину.
— А по-вашему, как же?
— Думаете, присочинили актеры… а? Или научил кто?
— Не присочинили, а напечатали нарочно. Цитату напечатали «со смыслом». Оштрафовать типографию на сто целковых да проверить паспорта у актеров! Это ваше, ваше дело, Иван Герасимович… Губернатор бы увидел сию минуту афишку…
— Так вот у нас дела какого рода… — повторил, пыхтя, Шелудченко, — Изречение! Действительно! Виктора бы мне сюда этого Гюго — поизрекал бы у меня! Да ведь не в моем уезде, прохвост! Распоряжусь, распоряжусь насчет типографии, Павел Константинович. Что говорить — легкое упущение!
Ротмистр Басанин козырнул и выбежал на улицу.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ Друзья Феди Калмыкова
Последние месяцы гимназического курса пробежали в подготовке к выпускным экзаменам, начинавшимся в конце апреля. И по мере приближения экзаменов Федей все сильней и сильней овладевало новое чувство, отодвинувшее в его сознании все существовавшие до сих пор интересы и даже влечение к Ирише Карабаевой, с которой — по той же причине — редко теперь встречался. Это было чувство ответственности перед самим собой, перед всем продолжением своей жизни будущего российского интеллигента.
Получить золотую медаль, пропуск в университет — это стало уже вопросом чести для Феди.
Часто он уходил после обеда к товарищам, жившим в гимназических общежитиях Шелковниковой и Бобовник, и просиживал там долгие часы за тригонометрией и физикой — науками, неохотно постигаемыми и никогда не привлекавшими его внимания.
Дома, в семье, все было по-старому: будни вывязывались мерно, одним цветом, как неразличимые петли в чулке.
Райка утром отправлялась в гимназию, слепой, скучающий отец — на смежную половину старика Калмыкова, а Серафима Ильинична занималась хозяйством и уборкой своей маленькой квартиры.
Из ее окон были видны стоящая напротив просторная, широкая ямщицкая изба, плотно прижавшаяся другой стороной к станционному амбару, и почти весь большущий калмыковский двор, уставленный летом фаэтонами и шарабанами, а зимой — санями различных фасонов и размеров; во всю ширину двора, в конце его, поставлены были высокие конюшни, за которыми уже шел фруктовый сад.
Как докучливо знакома Серафиме Ильиничне картина калмыковского двора!
Весной раскрываются окна в ямщицкой избе, и вывешиваются на подоконники грязные, блошиные зипуны и тулупы, на которых укладываются кошки с котятами или старая дворовая шавка с подбитой ногой. Из избы потянет кислым запахом щей из котла и опарного теста и удушливой цвилью. Вспотеет на солнце навоз, горой набросанный возле конюшен, и пар от него тяжело пойдет сизыми теплыми клубами по двору, в раскрытые окна калмыковского дома. Зажужжит у навоза густой хоровод больших и жирных зеленых мух. Мушиные стаи заполнят все комнаты в доме и только под вечер утихнут, покрыв сплошной черной сыпью выбеленные стены.
От первых дождей вспухнет и размякнет земля и утонет станционный двор в многопудовой жидкой грязи — иссиня-черной, маслянистой, как колесная мазь. Лошади, проваливаясь в нее, кажутся низкорослей и мельче; двор засыпают жужелицей и кирпичами, но пройдет новый дождь — и насыпи эти смываются.
Ямщики ссорятся из-за очереди на дальние поездки, пьянствуют, грозят прибить сварливого, хромого старосту Евлампия, — скачет по двору крепкая и свободная ямщицкая ругань. Не остается в долгу и молодой хозяин — Семен Калмыков.
«Что видят, чему здесь научиться детям?» — скорбно думает Серафима Ильинична.
Она терпеливо живет здесь с тех пор, как ослеп муж. И, когда это случилось, приехали из соседних уездов братья Мирона Рувимовича, оба врачи, — устраивать судьбу его семьи. В то время старик Калмыков отошел уже от дел и всем ведал Семен — старший сын от второй жены. Старуха и он, боясь участия слепого Мирона в общих станционных доходах, поспешили выделить ему долю: были куплены лошадь и фаэтон, был нанят ямщик, который стал выезжать на извозчичью биржу и кормить тем самым семью Мирона. Теперь ее существование зависело от ямщика — Карпа Антоновича.
Старый, благообразный Карп Антонович, с шелковой седой бородой, приезжал под вечер чаще всего пьяным и неразговорчивым. И еще за час до его возвращения домой Серафима Ильинична, ведя под руку мужа, выходила на улицу и усаживалась на скамеечку в ожидании своего кормильца. Вот следом за десятком других извозчиков показывался и он из-за поворота. Боже, с какой тревогой и надеждой всматривалась она в его лицо, в то, как крепко сидит он на козлах, как держит в руках вожжи, — рысью или понуро бредет взмыленная или сухая лошадь!..
Он, словно не замечая своих хозяев, взлетал на горбик мостика и въезжал по уличке во двор.
— Карпо вернулся, — сообщала она тогда невидящему мужу и торопила его домой.
— Да, да… мне так и показалось. Ей-богу, Симочка, мне эти новые очки, кажется, помогут, — неожиданно оживлялся он. — Я тебе правду говорю: я смутно заметил его длинную бороду. Скажи, у него ведь борода длинная?
— Да, да, родной… длинная, — печально улыбалась она: «О, если бы он видел!»
Слепой — он жил только памятью. Иногда она ласково обманывала его, и ему казалось мгновениями, что он прозревает. Тогда его уверенность была особенно болезненной для окружающих.
— Смотрите, смотрите… — задыхался он от непостижимой радости. — Вот… вот смутно я вижу свои пальцы… очертания… очертания. Вот указательный… особенно указательный ясней всего. Смотрите, смотри, Симочка, — вот ведь он. Я вижу! — почти безумный, гипнотизирующий шепот вырывался из его уст.
Он держал перед своими открытыми мертво-лучистыми глазами дрожащую руку с растопыренными пальцами, а другой — осторожно ловил эти пальцы, нежно притрагиваясь и скользя рукой по ним, словно боясь, что от прикосновения к ним они могут исчезнуть. И как будто их можно было вспугнуть громким голосом, и они могут уплыть из его неподвижно, настежь открытых глаз, — он уже только тихо, перехватывая дыхание, шептал:
— Я вижу… Вижу туманно… Я могу, я хочу прозреть…
Он ничего не видел.
— Хо-хо-хо! — смеялся кто-нибудь из дворовых, наблюдавший такую сцену. — Хиба так видют?.. А вы скажить, Мирон Рувимович, чи стриженый я, чи бритый? Не-ет, ни дули вы не видите!
— Уходите вон! — налетал на того Федя. — Как вы смеете вмешиваться?
— Тю! — плевал дворовый. — Хиба можно обманывать человека? Человеку свою судьбу не переспорить.
Калмыков бледнел и низко опускал голову.
— Феденька… не надо. Я видел… видел, — подкатывалась спазма. — А теперь… я разволновался, я опять слеп. Мне нельзя волноваться. Мне профессор Гиршман сказал еще.
— Ты видел, отец! — горячо, не понятным самому себе убежденным тоном говорил Федя.
…Надо было ждать, покуда Карпо Антонович распряжет лошадь, засыплет ей овса в конюшне и отнесет свою извозчичью одежду в избу. Потом он приходил в кухню Серафимы Ильиничны и приносил, как всегда, на сохранение снятую с лошади упряжь, вожжи и свой «батюг» — кнут, которым больше всего дорожил.
И опять с тревогой и надеждой смотрела молча на него Серафима Ильинична: «Хоть бы два рубля привез, — Архип два десять привез Семену…»
— Выручка, барыня, одно дело… простите за выражение. Кобыла моя подкову потеряла! Ну, в кузню пришлось, конечно, — час и пропал, да и деньги тоже. Околоточный на два часа взял — в долг, конешно. Не везет! Прямо говорю вам — не везет! Верьте, не верьте, а вот больше, как рупь сорок, не заработал. Н-да!
Хмельной — он тряс своей длинной шелковистой бородой, добрыми глазами смотрел на хозяйку: «Н-да…» Он выворачивал в доказательство грязный широкий карман своих штанов, и оттуда падали на подставленную ладонь серебряные гривенники и пятиалтынные вместе с мелким мусором черносерой махорки, обломков спичек и кусочков измятой папиросной бумаги. Половину выручки Карпо Антонович крал, — но разве можно было его проверить?
И Серафима Ильинична покорно говорила:
— Рубль сорок пять… спасибо. Вы уже завтра, Карпо Антонович, постарайтесь… пожалуйста, постарайтесь…
— Да, конешно, — тряс он бородой. — Понимаю положение… это верно.
И случалось иногда так, что, сдав уже выручку, он вновь приходил через несколько минут и — удивлял:
— Хозяйка… а, хозяйка! Извиняюсь за ошибку, не досмотрел: пятнадцать копеек еще ваших у меня завалялось. Получайте.
И никто не понимал: упрекнула ли ямщика его совесть, или дарила пятиалтынный ямщицкая хитрость.
Жизнь жужжала надоедливо, докучливо, как зеленая муха на теплом перегоревшем навозе. Серафима Ильинична все эти годы была в ожидании: вырастет, окрепнет Федя — увезет ее и всю семью из этой калмыковской улички, так символически загнавшей всех ее обитателей в семейный калмыковский тупичок… Она мечтала переехать с семьей к своим родным в Петербург, где Федя станет врачевать, женится и начнет подлинно культурную жизнь хорошего российского интеллигента.
И, прячась от калмыковских будней, она часами читала мужу рассказы Короленко, газеты и «Русское богатство» и застенчиво играла на рояле Мендельсона и «Молитву девы».
Она уже любила свою грусть, потому что ее больше всего было в смеси чувств и ощущений, наполнившей уготовленный стакан ее, Серафимы Ильиничны, судьбы.
Давнишние мечты ее обманули, и она покорно приняла свой жребий. Согласовать судьбу со своей свободной волей — это было недоступно для нее, человека минувшего века.
Максим Порфирьевич был педагог, математиком смирихинской гимназии. Внешне угрюмый, иногда и придирчивый в классе, он был добродушен у себя дома.
Эту черту характера математика Токарева, как и многое другое, что было ему присуще, Федя и некоторые его товарищи хорошо узнали за последний месяц своего пребывания в гимназии.
Максим Порфирьевич тайком от начальства «натаскивал» по математике группу гимназистов-выпускников, которых вел в этом году не он, а другой педагог. Тайком приходилось это делать не потому, что Максим Порфирьевич брал за это занятие деньги («натаскивал» совершенно бесплатно), а из опасения перед начальством. Оно строго следило за тем, чтобы не поддерживалось между гимназистами и педагогами какое-либо иное общение, кроме предусмотренного гимназическим режимом и особыми, секретными наказами господина попечителя учебного округа.
Поэтому и случилось так, что вместе с Федей приходили к Токареву на квартиру еще только двое, которым Максим Порфирьевич и Федя могли довериться, — братья Вадим и Алеша Русовы, кончавшие гимназию в один и тот же год.
Для «натаскивания» собственно было достаточно двух-трех посещений математика (гимназисты быстро постигли все каверзные премудрости, которые могли встретиться на экзаменационном испытании), но так уже сложилось, к их удовольствию, что встречи с Максимом Порфирьевичем превратились в встречи «духовные», как назвал их Вадим Русов.
В доме Максиму Порфирьевичу мешала его многочисленная семья, и он уводил гимназистов в сад, к полуразрушенной беседке, посреди которой стоял вкопанный в землю круглый стол на толстом трухлявом столбике, а вдоль стенок — такие же старые, полукругом, скамейки с выползшими из дерева — крючковатыми, проржавевшими — гвоздями. Все усаживались осторожно, стараясь не зацепиться брюками об эти предательские гвозди, и Максим Порфирьевич начинал занятия.
— С логарифмами совсем плохо орудуете, господин медалист без пяти минут! — насмешливо говорил он Калмыкову, засматривая сбоку в его тетрадь.
— Не люблю вашей математики, ваших логарифмов… Ох, не люблю, — вздыхал Федя. — Мозговая сухость и только.
— Скажите, пожалуйста!
— Вы не смейтесь, Максим Порфирьевич, — подхватывал старший Русов, Вадим. — Разве можно симпатизировать, так сказать, этому слову… понятию, которое вкладывается в это слово?..
— А ну, что есть сия скучная ерундистика — напомни, я всегда забываю этот замечательный выверт! — насмехался в свою очередь Алеша, подталкивая локтем брата.
— Мозговая сухость — верно сказано. Вы подумайте только, Максим Порфирьевич… Показатель степени, — глядя в одну точку перед собой, стараясь не сбиться, вспоминал Русов, — …степени, в которую следует возвести число, принятое за основание, чтобы получить данное число… Вот чертовщина! Кому это надо, Федя… а?
— Кому? — сбегались одна к другой сердитые брови математика. — Кому? Образованным людям, молодой человек.
— Не всем, — сказал Федя, предчувствуя, что сейчас начнется, как всегда, спор, в котором злополучные логарифмы уже будут забыты. — Я вот, например, буду врачом, стану заниматься к тому же общественной (хотел сказать, «политической») работой, — зачем же мне тратить время на всю эту ерундистику, простите, когда я лучше буду изучать то, что меня действительно интересует? Не так, Вадя?
— Врете вы, молодой человек, — упрямствовал Максим Порфирьевич. — Всем это нужно: инженеру, физику, архитектору, математику…
— Это еще не значит, что всем! — в три голоса прерывали гимназисты. — Вот, например, вашему соседу — адвокату Левитану — на кой ему черт помнить о логарифмах? А таких примеров уйма.
— Нас, кучку привилегированных людей, учат всяким ненужным тонкостям, а от простого народа прячут начальную грамоту! — Алеша Русов откинулся к стенке беседки и хмуро посмотрел на присутствующих.
— Наивничаете! Книжничаете! — разгорячился Максим Порфирьевич, вскакивая и шаря инстинктивно рукой по брюкам: «славу богу, не порвал…» — Да, да, молодой человек… Я вам говорю: книжничаете и… и провоцируете на спор! Какая уж тут математика?!
— Верно, верно, — посмеивался старший Русов, складывая тетрадь. — И грянул бой — Полтавский бой, Максим Порфирьевич.
— Ах, вот что, господа? Значит, провокация… Действительно?
— Допустим.
— Из искры — пламя! — многозначительно подмигивал Федя своим товарищам, и оба они отвечали ему таким же многозначительно-таинственным кивком головы.
— Какие искры? — ворчал Максим Порфирьевич. — Никакие искры вас не должны увлекать, господа хорошие… Ибо искра, — играл он словами, — может казаться яркой в каком-нибудь погребе, а на свету — пропадает… блекнет — вот что! А сами вы — люди необразованные, на фуфу люди и, как все интеллигенты, падки на всякие словесные фейерверки.
Так начинался спор, в котором исчезал уже ворчливый педагог Токарев и появлялся перед тремя юношами Максим Порфирьевич: друг, но не признанный ими проповедник и учитель.
— Вы интеллигентщина, я — настоящий, лучшего волевого образца (волевого, молодые люди!) россиянин — человек, — говорил он, обводя строгим взглядом своих слушателей. — Меня фейерверком не соблазнишь, — шутишь! Мой батько и сейчас еще крестьянствует, а братуха самый младший — дубильщиком на карабаевском заводе. Не верите? Хотите — позову? В квартире у меня сидит. Жена моя просвещением его занята… Вы — интеллигентщина необразованная, мечтатели. А я образованный мужик… Ага! Никто из вас, господа, не думает о самом простом, но и самом важном: как правильно устроить авою личную жизнь… Чтобы она не была праздной, неряшливой и некультурной. Вы совсем не думаете, какими вы должны быть инженерами или врачами, но зато отлично болтаете об «общественном долге», о народе, о политике. Ерунда! Служение народу? — грозно вопрошал Токарев. — Пустая, фальшивая фраза! Я вот, мужицкий сын, заявляю вам: мужик, господа хорошие, идет другим путем. Кто живет на гимназических квартирах? Мужицкие дети. А для чего мужик тратится на них, последние деньги и сало посылает своим сыновьям? А вот зачем… Пускай Иван да Трифон одолеет науку, пускай Иван да Трифон станет агрономом, техником и врачом… Пускай потом нужное мужику дело делает. Для мужика разный там фурьеризм, позитивизм, марксизм, вся эта интеллигентщина — пустой звук.
Но и братья Русовы не оставались в долгу. При всем уважении и приязни к Токареву — ну и «кастили» же они его во время таких домашних споров!
Особенно старался суровый острослов Алеша Русов. Федю всегда удивляли его исключительные по объему познания — будь то литература, политика и даже философия. И его-то Максим Порфирьевич решается причислить к «необразованной интеллигентщине»? Кого, — Алешу?! Или Вадима?
Да имеет ли понятие Токарев о его благородной, мягкой душе поэта?
Недавно Вадим читал в дружеской гимназической компании свои стихи — «Невеста сокольничьего»:
Закричали в поле кречеты, А на сердце — смерти тень. С милым другом нежной встречи ты Ждешь напрасно целый день. У царя рука гневливая, Умоли ты божью мать, Встала утром ты счастливая, Горькой ляжешь почивать. Принесут его застольники, Ветер взвеет злую пыль, И расскажет, как сокольнику Грудь пронзил царев костыль.Федя предполагал, что стихи эти написаны не без влияния кого-либо из признанных поэтов (в поэзии Федя Калмыков мало разбирался), но разве сам то Вадя не настоящий талант? Да и за словом в споре он в карман не полезет, А Алеша — тот безжалостно припирал в спорах к стене Максима Порфирьевича. Берегитесь, Максим Порфирьевич!
— Так, как ругаете вы нашу интеллигенцию, поносят ее теперь литераторы и философы, испугавшиеся насмерть недавней русской революции. Они — возвеличители нашей буржуазии, они — перья кадетской партии, они — зазывалы церковного и помещичьего мракобесия.
Да, да, да, Максим Порфирьевич! Почитайте-ка их писания в разных сборниках, выходящих в Петербурге и расхваливаемых кадетами и октябристами. Не читали? Напрасно. К сожалению, вы, Максим Порфирьевич, иной раз говорите нам то же самое, что и авторы этих сборников. Ей-ей.
Когда господа Бердяевы, Струве, Булгаковы, Гершензоны… («Откуда Алеша знает всех их? Я убежден, что Максим Порфирьевич о них понятия не имеет!» — думал Федя)… выступают против интеллигенции, они ополчаются на самом деле против демократической части ее. Против той интеллигенции, которая вместе с рабочими участвует в освободительном движении.
Помните ли вы, Максим Порфирьевич, письмо Белинского к Гоголю? Помните. Ну, так вот: разве страстность Белинского не зависела от возмущения крестьян крепостным правом?
А нынешние предатели освободительного движения называют письмо Белинского «интеллигентщиной». Крестьянам, видите ли, письмо это было «ни к чему». Вот ведь какая гадость, Максим Порфирьевич!.. Знаете, что пишут теперь люди, которые, как и вы, насмехаются над материалистическими «измами»? История нашей публицистики после Белинского, в смысле жизненного разумения, — сплошной кошмар! — говорят они… Ну, так вот: интеллигенция интеллигенции — рознь, Максим Порфирьевич!
— Да, мы станем интеллигентами в Алешином смысле, — подавал свой голос и Федя Калмыков.
— Вы хотите нас убедить, Максим Порфирьевич, — не унимался Алеша Русов, — что самое важное — это, став врачом или инженером, устроить свою личную жизнь, как чеховский Ионыч, например. По вечерам вынимать из всех карманов кредитки, добытые за день от пациентов, покупать дома и имения…
— Я вам совсем о другом говорил, — негодовал Максим Порфирьевич.
— Ну, конечно, конечно о другом, — смиренно язвил Алеша. — Вы громили бескультурье. Личную жизнь надо устроить культурно. Чтобы в гостиной на столе стоял бронзовый Мефистофель, лежали переплетенные комплекты «Нивы», а на стенах развешаны репродукции Бёклина. У Ионыча, наверное, так и было…
А на нищую, бедственную жизнь масс — наплевать, а с неслыханным произволом — мириться…
Да, Федя преданно любил братьев Русовых. Он целиком полагался на их вкус, знания и суждения.
…В доме Максима Порфирьевича Федя познакомился с его братом — Николаем Токаревым.
У молодого рабочего были такие же, как у Максима Порфирьевича, густые и колючие, словно подстриженные, рыжеватые брови и глубоко уползшие светлые глаза. Они всегда были направлены на собеседника, всегда с некоторым любопытством рассматривали его.
От Николая Токарева всегда пахло кожей. Запах ее пропитал всю его одежду. В руки въелся дубильный экстракт, с которым приходилось иметь дело на заводе, и на пальцах, на сгибах суставов, оставались и после работы зеленовато-желтые заеды-пятна.
С одной поры дубильщик Токарев приобрел известность на заводе, стал популярен среди рабочих. Это случилось тогда, когда приехала днем в Ольшанку полиция и арестовала нового рабочего, Сенченко, — такого же дубильщика, как и Николай.
Рабочего увезли, но в тот же день Токарев созвал в своем отделении несколько рабочих и подбил их пойти к Карабаеву.
— Что вам нужно? — заинтересовался Георгий Павлович, невольно обращая свой вопрос к Токареву, выдвинувшемуся вперед.
Николай стоял посреди директорского кабинета, нервно зачесывая наверх растопыренной пятерней свои непослушные, растрепавшиеся волосы.
— Пришли насчет товарища нашего узнать: за что под бляху попал? Родни у него нет тут, никто за него не побеспокоится. Просим, Георгий Павлович, объяснить.
— Да, Сенченко арестован. За что — не могу сказать, не знаю.
Георгию Павловичу неприятно было посещение полиции, но еще неприятней, то, что на его запрос по телефону о причине ареста — исправник не пожелал ему ответить. Теперь, когда пришли рабочие, ему еще более неприятно стало оттого, что в их глазах он мог уронить свой авторитет всесильного смирихинского фабриканта, перед которым должны были быть открыты все двери.
— А вы, может, узнаете? — напирал Токарев. — А потом вызовете кого-нибудь из нас и скажете. Может, Сенченко помощь какую сделать, — так мы, рабочие, скупиться не будем. Верно я говорю, старики? — обратился он к молчаливо стоявшим товарищам.
— Правильно он говорит, Георгий Павлович… На чужой стороне человек работал. Не здешний он, Сенченко.
Через некоторое время Карабаев узнал: арестовали скрывавшегося «преступника» Ржосека, стрелявшего в Калише в хозяина фабрики, где раньше работал.
Георгий Павлович вызвал к себе Токарева и рассказал ему все.
— А за что стрелял? — насупился Токарев. — Может, по заслугам пуля.
— То есть как это? — возмутился Карабаев и строго посмотрел в озабоченное лицо Николая. — Ты мог бы оправдать его за убийство человека?
— Не знаю, — упрямо сказал Токарев. — Убийство бывает разное. Эх, да в судьи нас не позвали еще! — повернулся он к выходу. — Так и скажу заводским нашим, арестовали, мол, политического человека, — запомните, значит, товарищи…
Однажды, при встрече с Федей, он немало поразил его.
— У меня к вам просьба есть, — оглядываясь по сторонам, сказал он и уставился, уже улыбаясь, в лицо гимназиста. — Читаете, знаю, литературу. Мне бы на денек — верну непременно в сохранности. Уж у меня не пропадет.
— Вам, Николай, роман дать или отдельные рассказы?
— Да нет же! — хитровато заулыбался Токарев. — Мне политическую литературу — вот что!
— Почему вы у меня просите? — растерялся Федя и в свою очередь посмотрел теперь по сторонам.
— Да вы не беспокойтесь, не подозревайте. Я — рабочий! — как показалось Феде, с гордостью проговорил Токарев. — Для меня ведь это писано. Да вы не беспокойтесь: мне про это Иван Митрофанович… ну да, Теплухин сказал. На заводе с ним встречаемся. У меня, говорит, к сожалению, ничего нового нет, да и получить неоткуда. А вот, говорит, у гимназиста Калмыкова должно быть. Будто вы ему хвалились. Если, говорит, знакомство какое с ним имеешь, — попроси. Знаком, говорю. И брат мой, говорю, ему хорошо знаком. Так что прошу вас: дайте почитать…
— У меня нет сейчас, но я вам достану… непременно достану, — прощаясь с ним, пообещал Федя.
«У Вадьки Русова возьму», — сказал он сам себе и обрадовался, что может оказать эту услугу знакомому рабочему.
Токарев был тем единственным «настоящим» рабочим, с кем удалось познакомиться Феде Калмыкову.
Рабочий был известен ему до сих пор лишь по книгам, по литературе. Этот источник сведений не давал, однако, ясного и полного впечатления. Искомый образ двоился, рассекался надвое в Федином представлении: в политических книгах писалось о целом классе рабочих, художественная литература, которую читал Федя, мало говорила о рабочем, живущем интересами своего класса. Так по крайней мере казалось Феде.
Внутренне считая себя верным социалистическим идеям, Федя по тем же книгам знал, что всякий социалист должен вести политическую работу среди рабочих. Он готов был ее вести, готов был, как только станет студентом, сдружиться с какими-нибудь рабочими, но как это сделать — он точно не представлял себе.
Всю жизнь он видел вовне людей иных занятий и профессий. Некоторые сразу стали ему чужды. Это был мир чиновников, средних и мелких купцов и городских мещан; он знал эти семьи, потому что в них воспитывались его товарищи по гимназии. Иные люди вызывали симпатию и казались ему близкими по духу. Помогла тому дружба с детских лет с братьями Русовыми.
Отец Вадима и Алеши был земским врачом и местным общественным деятелем. Но еще больше, чем он, Николай Николаевич, была общественным деятелем его жена — Надежда Борисовна. Сестра знаменитого адвоката и публициста, вынужденного после поражения революции эмигрировать, она, как и брат, была недюжинно талантлива и умна, культурна и духовно активна, и эти качества Надежды Борисовны быстро завоевали ей широкую популярность не только среди врачебного мира в уезде, но и в среде местной интеллигенции и среди местного населения. Почти ни одно культурно-просветительное и общественное начинание не обходилось без ее участия, никто и нигде не принимал решения по этим вопросам, не посоветовавшись с Надеждой Борисовной. А уж когда случался врачебный съезд или земское собрание — квартира Русовых переполнялась съехавшимися из уезда, и многие, многие дела решались здесь до официальных заседаний. Здесь творилась в значительной степени уездная земская «политика».
Надежду Борисовну любили и уважали еще и за другое. Она умела быть серьезным и внимательным до мелочей другом и советчиком для всех этих врачей, учителей, землемеров, закопавшихся на всю свою жизнь в тяжелый сугроб русской деревни. Всем им — врачам, учителям, землемерам — было приятно и радостно, что в доме Русовых не только помнят о них, не только оказывают каждый раз широкое гостеприимство, но и проявляют живой интерес к их человеческой судьбе. Все чувствовали себя обласканными.
Туберкулезному учителю Николай Николаевич доставал десятки порошков тиокола и при случае досыпал еще какое-нибудь заграничное патентованное средство. Землемеровых детей всегда устраивала в гимназию и следила за их успехами Надежда Борисовна, и она же деловито ходила по магазинам с молодыми и старыми сельскими врачами — «бирюками», отыскивая им наиболее модный галстук или шляпу, а газеты и журналы (литературные и специальные, медицинские) они получали в деревню неожиданно для себя.
— Я решила выписать вам, потому что все это для культурного человека и врача необходимо, — говорила она некоторым при встрече. — Сами небось поленились бы потратиться: лучше в копилочку класть! Вам бы курицей да поросенком обжираться.
— У, бирюки! — журила Надежда Борисовна. — Бирюки! Что будет, если вы не будете просвещаться и народ вокруг себя не будете просвещать? А еще «прогрессивный элемент»! — укоризненно смеялись ее черные живые глаза.
Это «просвещать и просвещаться» стало внутренним знаком для всей семьи Русовых и в первую очередь для их обоих сыновей. Уже в средних классах гимназии Вадим и Алексей хорошо знали старую и современную литературу, позже познакомились с рядом философских и политических течений, чему немало способствовал отец — незаурядный эрудит.
Семья Русовых духовно воспитала и Федю Калмыкова — их частого гостя и закадычного друга их сыновей. Больше того: считая своих друзей даровитей и образованней, чем он сам, Федя иногда жил отраженным светом их мировоззрения, устремлений и вкусов. И подобно тому, как родители Русовы, воспитывая своих сыновей, считали, что их жизнь должна быть несравненно шире и значительней рамок уездной жизни, так и он, Федя, видел свою будущность примыкающей к будущности своих друзей. Но, как и они, он не видел еще ясно ее контуров. И если ее можно было бы изобразить графически какой-нибудь фигурой с каким-нибудь условным центром, то этой идейной, смысловой и цельнонаправляющей точкой в жизни должна была стать политическая и общественная работа.
Нет, нет! Не убедить насмешливому Максиму Порфирьевичу молодых русских социалистов, готовящихся плыть к далеким, но уверованным берегам…
Знайте, уважаемый, но консервативный Максим Порфирьевич, что у вас есть брат — Николай Токарев — рабочий, социалист, что крепнет, к вашему удивлению и неудовольствию, столь осмеянная вами российская демократия!
И однажды он, Федя, принес Николаю Токареву (пришлось идти в Ольшанку) обещанную литературу. Но прежде, чем успел вручить своему другу взятый из русовской библиотеки томик Салтыкова-Щедрина, Токарев с торжествующим видом протянул Феде какую-то газету и сказал:
— Новое название «Правды». В петербургской газете «Путь правды» напечатали мою заметку. Здорово? Моя, моя, только подписи не поставили. Но вот видите — мне же прислали!
— Какая же ваша? — разглядывал Федя малознакомую, очень редко попадавшую ему в руки газету социал-демократов большевиков.
— Глядите — «Песня под запретом». Это — моя. Мне брат рассказывал об этом случае — я и написал в рабочую газету. Читайте.
— «Академия наук, — читал про себя Федя, — послал в Полтавскую губернию комиссию для изучения народной песни. Но по пословице: «куда ни глянь — всюду начальство» — комиссия наткнулась на него и около песни. («Не очень грамотно тут», — подумал гимназист Калмыков.) Оказалось, что за пение Коляды и песен на Купалу певцы попадают в… холодную. А на станции Ромо дан начальство разрешило послушать песни, но только… в уединенном помещении и при закрытых шторах.
Пожалуй, скоро выйдет такой приказ:
«…лиц, поющих «сухой бы я корочкой питалась», подвергнуть денежному взысканию не свыше трехсот рублей или аресту до трех месяцев».
— Молодец! — одобрил Федя. — «Куда ни глянь — всюду начальство». Молодец!
— Эти слова редакция написала, — сознался Николай. — Может быть, потому и нельзя было мою фамилию печатать? Как скажете, Федя?
— А я думаю — это по другой причине.
— Какой?
— Я думаю, не хотят вас подвергать риску. «Охранка» — она ведь за всем следит. Смирихинск?.. Николай Токарев?.. А ну, кто такой? Так. Рабочий. В социал-демократическую газету пишет. Запомним!
— И то резон, — согласился счастливый автор печатной заметки. — Из Петербурга просят присылать корреспонденции. Шик-блеск, — а?
— И хорошо. Не надо оставлять это дело. Стиль надо немножко улучшить. Я бы только дал вам, Николай, один совет.
— Какой, Федя?
— Надо быть в таких делах осторожным, — сказал назидательно Федя. — Охранка… она ведь такая…
— Щука — что и говорить!
— Щука, вот именно. Во-первых, выберите себе какой-нибудь псевдоним.
— Ага.
— Например: «Т. Николаев». Понятно? Наоборот.
— Ага. Подходит.
— А, во-вторых, корреспонденцию бросайте в почтовый ящик только на вокзале. Там вынимают почту перед самым приходом киевского поезда.
— Сами отправляли куда? По опыту знаете? — дружелюбно улыбнулся Николай, не осознавая всей наивности калмыковского совета.
Федя промолчал и тоже заулыбался. Никуда он, конечно, и ничего не отправлял скрытно, но если иное подумал сейчас Коля, — пусть! Чем больше доверия будет питать он к Феде — тем легче будет крепнуть их дружба.
— Вот! — И он вручил Николаю книжку Салтыкова-Щедрина. — Завтра, кстати, исполняется двадцать пять лет со дня смерти этого великого писателя-сатирика. Прочтешь — увидишь, в самую точку бьет! — добавил он, вспоминая слова Алеши Русова.
Ну, и смеха и разговоров было, когда в одной из рабочих хат собрал Николай Токарев человек пятнадцать кожевников и стал читать им щедринский рассказ «Торжествующая свинья, или Разговор Свиньи с Правдою»…
— Вин, ты кажешь, помер двадцать пять рокив назад? — недоверчиво спрашивали Токарева. — А не брешешь?
— Нет, не брешу. Рассказ этот, знаете, когда написан? Еще в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году он написан, — рассказывал рабочим Николай Токарев. — Есть такая рабочая газета «Правда». Наша это газета. В Петербурге издается.
— Читав я. У позапрошлом году читав. Но не бильше, чем два раза, — подал реплику дубильщик Вдовиченко — человек с добродушно-лукавыми темными глазами и краснощеким нетускнеющим лицом, не сдавшимся еще отраве карабаевского завода. — Но, говорять, «Правду» эту саму жандармы прихлопнули. Чи нет, Коля?
— Она печатается теперь под другим названием… Писатель Салтыков-Щедрин этот будто многое предвидел еще тридцать один год назад… Царская Россия-матушка. Она и сейчас такая.
Собрались в ольшанской хате и второй раз, другие рабочие, и среди них — опять Вдовиченко, — и Токарев вновь читал им с равным удовольствием полюбившийся всем сатирический рассказ великого писателя.
«Свинья (кобенится). Правда ли, сказывают, на небе-де солнышко светит?
Правда. Правда, свинья.
Свинья. Так ли, полно! Никаких я солнцев, живучи в хлеву, словно не видывала?
Правда. Это оттого, свинья, что когда природа создавала тебя, то, создаваючи, приговаривала: не видать тебе, свинья, солнца красного!»
В ольшанской хате грохотали так, что казалось, от сотрясения воздуха вот-вот погаснет жестяная керосиновая лампа, висевшая над голым, почерневшим от времени столом.
Токарев продолжал:
«Свинья. Правда ли, будто в газетах печатают: свобода-де есть драгоценнейшее достояние человеческих обществ?
Правда. Правда, свинья… Так ты и читаешь, свинья?
Свинья. Почитываю. Только понимаю не так, как написано. Как хочу, так и понимаю. (К публике.) Так вот что, други! В участок мы ее не отправим, а своими средствами… Сыскивать ее станем… сегодня вопросец зададим, а завтра — два. (Задумывается.) Сразу не покончим, а постепенно чавкать будем. (Свинья подходит к Правде, хватает ее за икру и начинает чавкать.) Вот так!
Правда (пожимается от боли. Публика грохочет. Раздаются возгласы: «Ай да свинья! Вот так затейница!»).
Свинья. Что? Сладко? Ну, будет с тебя. Теперь сказывай: где корень зла?
Правда (растерянно). Корень зла, свинья? Корень зла… корень зла (решительно и неожиданно для самой себя) в тебе, свинья!
Свинья. А! Так ты вот как поговариваешь! Ну, теперь только держись!.. Точно ли, по мнению твоему, есть какая-то особенная правда, которая против околоточной превосходнее?.. Сказывай дальше. Правда ли, что ты говорила: законы-де одинаково всех должны обеспечивать?»
— Одинаково обеспечивать… Держи карман — «одинаково»! Одинаково меня, тебя, Вдовиченко да нашего Георгия с догами-собаками! — зажег кто-то острой репликой давно созревший и не раз повторявшийся разговор.
Слово «одинаково» было в этой среде наиболее раздражительным и неуместным, коль скоро заходила речь о жизненной справедливости. Слово это произносили поэтому иронически и озлобленно. Какая, к черту, справедливость тут!
И не только с жизнью хозяина, фабриканта Карабаева, сравнивали они свою собственную жизнь (фамилия Георгия Павловича упоминалась, естественно, чаще других), но и вели речь шире, переступив очерченный для них самих круг смирихинской жизни.
Так, например, из газет, — в частности, из петербургских телеграмм в «Киевской мысли», — они узнали о недавнем приезде в Россию известного бельгийского социалиста Эмиля Вандервельде. Писалось, что он приехал для ознакомления с русским рабочим движением. Цензура ни разу, ни в одной из газет, не выбросила информации о суждениях Вандервельде (в противном случае на газетной полосе оставалось бы белое место — столь выразительный след вмешательства государственной власти…) — и карабаевские рабочие рассудили справедливо и не без юмора:
— У этого Эмилия не опасная царю фамилия. Факт!
Два года назад, когда залпы ленского расстрела разбудили совесть и гнев во всех закоулках российской империи, смирихинские кожевники, махорочницы и мельничные рабочие вслед за питерцами, москвичами и соседями-полтавчанами бастовали один день, а заработки второго дня пожертвовали семьям расстрелянных на Лене.
В маленьком, уездном Смирихинске не существовало никаких партийных обществ или групп, кроме официального, черносотенного «союза русского народа», возглавлявшегося вечно пьяным стариком, штабс-капитаном в отставке Сливой. Политикой в чистом виде карабаевские рабочие, по сведениям жандармского ротмистра Басанина, не занимались партийные из связей с иногородними подпольными кружками, а тем более — организациями, упаси бог, не имели, профессионального, ремесленного содружества — для защиты своих экономических интересов перед Георгием Карабаевым — тоже как будто для себя не искали.
Везде, казалось, тишь да гладь, — а вот-вот иной раз задумаются вкупе ротмистр Басанин и тугодум-исправник Шелудченко об этой тиши да глади: да подлинно ли это так?
Нет, нет, тишина здесь, слава богу, подлинная, без начальственной ошибки — тишина, но… следить все же надобно!
Во-первых, как-никак эта история с защитой карабаевскими кожевниками беглого польского рабочего из Калиша. Во-вторых, конечно, присоединение их к протесту всех российских пролетариев против кровавых ленских событий.
Правда, с тех пор в общественной жизни смирихинских рабочих ничего не произошло, но на примете и у ротмистра и у исправника остались не без причины, брат гимназического учителя — Токарев (первым номером в списке), дубильщик Вдовиченко, однажды давший почитать газету «Правда» старику Кандуше, старик Бриних — мастер кожевенного завода: потому что — чех, а чехи все свободолюбивы, — и ряд других ольшанских рабочих, из тех, что пришли слушать теперь щедринский рассказ о свинье.
Заводские рабочие Ольшанки — люди в основном деревенского уклада с полукрестьянской психикой — проявляли еще малую политическую активность. Но завод все больше и больше делал их пролетариями по образу мыслей, и ясно было, что в какой-то — общий для всех рабочих — час эти мысли приведут их к необходимым классовым, революционным поступкам.
И часто приходило на ум Токареву:
«Ничего, ничего… Пусть это еще «малая закваска». Но ведь говорят: малая закваска, а квасит, однако, все тесто?..»
ГЛАВА ВОСЬМАЯ Выпускной экзамен
Первым выпускным экзаменом была письменная работа по русскому языку — сочинение.
Сквер, разделявший обе гимназии — мужскую и женскую, уже с самого раннего утра был наполнен гимназистами и гимназистками. (У семиклассниц в этот день была письменная работа по математике.) Еще по старой привычке, созданной годами строгого школьного режима, юноши и девушки держались сначала порознь, по скверу плыли живые сцепляющиеся пятна серых гимназических курточек и праздничных, свежих и белых передников гимназисток. Но вскоре эти пятна смешались; все были друг с другом знакомы, и волнение, дарившее сейчас в молодых сердцах, вылилось в общую шумную беседу, растекшуюся теперь в разные концы гимназического скверика. Гимназистки вслух, наперебой, вспоминали в последний раз заученные формулы, и чему равен злополучный «π», или как следует применять «C» из «m» по «n»; гимназисты переводили разговор на возможные темы предстоящего сочинения: из Тургенева будет или из Гончарова?…
Еще почти час оставался до начала экзамена, но каждую минуту друг у друга проверяли время и напряженно всматривались в обе стороны улицы: не идет ли уже кто-нибудь из сегодняшних экзаминаторов — один из вершителей их судьбы.
Некоторые уединялись на скамеечках или, прислонившись к дереву и держа перед собой учебник или «подстрочник», жадно перелистывали его, стараясь наспех вобрать в себя коварную, ускользающую из памяти науку. Но стоявший кругом шум возбужденных громких голосов мешал сосредоточиться, отвлекал, и тогда уединившийся закрывал вдруг книгу и бежал к товарищам. Эх, читай не читай — все равно теперь: перед смертью не надышишься!
В сторонке оставались одиночки: это были экстерны, все — евреи; их было всего лишь два-три человека, и можно было сразу отличить среди всех остальных экзаменующихся. Они были значительно старше обычного гимназического возраста и носили штатские костюмы. Перед этими людьми закрыли в свое время двери казенной средней школы, потому что пятипроцентную норму для школьников их нации уже заполнили другие. Это случилось лет пятнадцать назад, и за это время они успевали делаться фармацевтами в аптеках, конторщиками и бухгалтерами в кредитных обществах, но мысль об «аттестате зрелости» упорно не покидала их. Они становились экстернами.
Они знали свою судьбу: на экзаменах их нещадно «резали», но через год и еще через год они вновь приходили, чтобы переспорить свою судьбу. Так навещают и тревожат иногда призраки убиенных совесть непокаранного преступника. Убийца иногда сожалеет о содеянном, — царская казенная школа лишена была и этого минутного чувства. Упрямых экстернов пропускали на всех экзаменах, но «резали» уже на последнем — на Тите Ливии или Овидии!
Придя в сквер позже других, Федя тотчас же начал разыскивать среди отдельных группок Иришу, но ее не было среди присутствующих.
— Ты не видел… вы не встречали Карабаеву? — спрашивал он почти каждого, обходя все аллеи. — Ну, да, Ирину Карабаеву, — чего вы так смотрите?
— Кому что, а ему Ириша на уме! — смеялись ему вдогонку. — Нашел время, брат, играть в Ромео и Джульетту. Федул, ты лучше скажи: по Тургеневу будет или по Гончарову?
— Ему мало беспокойства: медалист — за год все пятерки. Словесность — конек его…
— Федул! — подтрунивали над ним другие. — Может, тебе инспектор Иришу заменит: вон, гляди, — идет Розум!
— Идите к черту, парни! — беззлобно отмахивался он.
В душе ему было сейчас приятно. Это чувство имело двойную причину. Он был сегодня уверен в себе, не в пример очень многим своим товарищам, боявшимся важнейшего экзамена, за исход которого он, Федя, был спокоен. Он ловил себя на том, что даже умышленно играл перед всеми своим легким небрежным отношением к предстоящему сегодня испытанию. Это не было бахвальством или кичливостью «первого ученика», какую нередко, например, проявлял в классе тихий во всем остальном Ваня Чепур, — этому воспротивились бы натура, характер Феди. Но сознание своей отличной подготовленности к предстоящему испытанию позволяло уже быть уверенным в себе и проявлять свою уверенность в легкой игре ею. Но, может быть, не было бы и этой свободной, непринужденной игры, если бы в то же самое время, в те же минуты он не испытывал и другого чувства. Ему было приятно сейчас еще и оттого, что он мог не скрывать перед своими товарищами и подругами Ириши свое интимное отношение к ней, свое откровенное желание встречи с ней. Они любили друг друга, — и пусть знают теперь все об этом! — думал Федя.
Наконец, он увидел Иришу: она только что подъедала к скверику на заводской, карабаевской линейке, всегда доставт лявшей ее и брата из Ольшанки в гимназию. Федя пошел ей навстречу.
— Здравствуй, — сказал он, нежно пожимая ее руку. — Я соскучился по тебе.
— Вот как! — лукаво улыбнулась она. — А я — ничуть. Ну, ну… вот уж и поверил. Пойдем, пойдем туда, ко всем. Федик, я так волнуюсь сегодня. Воображаю, какие задачи придумал для нас Максим Порфирьевич? Ай-ай, он уже пришел. Смотри, как окружили его все наши… Федик, дорогой, — я не провалюсь сегодня?
Схватив его за руку, Ириша увлекла его в сквер, где, окруженный гимназистами и гимназистками, беспомощно топтался на одном месте математик Токарев. Он старался казаться, как всегда, хмурым и строгим, но сегодня это ему мало удавалось. Взволнованность молодежи передалась ему.
— Да чего вы, в самом деле, пристали ко мне? — говорил он нарочито грубым тоном. — «Намекните, намекните!» Да разве, господа, я имею право это делать? Вот еще выдумали… Пропустите меня, — я пойду в учительскую.
— Ни за что не выпустим! — шумели гимназистки.
— Нам с вами спокойней, Максим Порфирьевич, — созналась Ириша.
Токарев оглянулся.
— A-а, спокойней, — добродушно усмехнулся он, глядя на Иришу. — Со мной, говорите, спокойней? Так зачем же вы, мадемуазель Карабаева, так уцепились не за мою руку, а за руку сего молодого человека? Или он вас не отпускает, а? — мигнул он в сторону Феди.
— Поймались, голубчики? — расхохотались товарищи. — Отпусти, отпусти, Калмыков! Вот так, так…
— Намекните, ну, хоть немножечко намекните, Максим Порфирьевич, — умоляюще смотрел на него десяток девичьих глаз.
— Не могу! Не имею права! Да, наконец, комиссия будет выбирать задачи, — чего вы пристали? Отстаньте! А то дам вам нарочно такую задачу, что и в сутки не решите. Правда? — поймал он взглядом стоявшего вблизи Калмыкова. — Вот подшучу над ними и — оскандалю, — обороняясь от настойчивых гимназисток, старался он отвлечь их внимание. — Иные прочие серьезные «умы» уже оскандалились, господа. Спросите Русова или Калмыкова… Задача как будто простая.
— Максим Порфирьевич, скажите… ну, скажите, пожалуйста. — Многим показалось, что Токарев решился все же «намекнуть», выдать частицу экзаменационной тайны, но не сам, а устами названных им гимназистов, которым, очевидно, уже приходилось решать эту или аналогичную задачу.
— Калмыков! Русов! Где вы? Да скажите скорей, в чем дело… Ведь это свинство же, господа! Раз Максим Порфирьевич разрешает…
— Не волнуйтесь, — разоблачал Федя математика. — Максим Порфирьевич пошутил. Он напрасно ссылается на меня и Русова.
— Как не стыдно скрывать! — возмутился кто-то.
— Ерунда, господа! — вспылил Алексей Русов. — Федя правду говорит.
— Сущую! У вас будет экзамен по тригонометрии, и никто не будет задавать вам таких задач, как предложил нам однажды Максим Порфирьевич.
— А вы скажите… ты скажи все-таки! — не унимались гимназистки и растерянно посматривали на посмеивающегося Токарева.
— Извольте, — сказал Федя. — Пожалуйста, проваливайтесь сейчас, как и мы раньше! Эта задача не математическая, а скорей психологическая…
— То есть как это? — нарочно поддевал Максим Порфирьевич. — А ну, ну…
Он, воспользовавшись так искусно созданной им суматохой, выскользнул из толпы и через минуту исчез в подъезде женской гимназии.
— Удрал Токарев! — кликнула одна из гимназисток, но всех уже занимала Федина задача.
— Это, конечно, интересно, но сейчас для вас, ей-богу, не существенно. Вот смотрите… Подложите-ка, книгу под мой листок… неудобно иначе писать, — распоряжался он. — Ну вот, теперь смотрите… Даны девять точек, расположенных вот так:
— Если их соединить по краям, получается, господа, прямоугольник, — поспешил кто-то высказать свою сообразительность.
— Совершенно верно, — продолжал Федя. — Но не в этом дело. А вот требуется… требуется соединить все эти точки — или зачеркнуть — как хотите! Надо это сделать только четырьмя линиями… не отнимая карандаша от бумаги.
— Построить в прямоугольнике два треугольника с одним основанием, — очень просто!
— Попробуй, — иронически огрызнулся Федя и вышел из замыкавшего его круга гимназисток, ища глазами Иришу.
Через три минуты выпускной класс смирихинской мужской гимназии должен был, наконец, узнать, кому в этом году попечитель учебного округа отдал предпочтение: Тургеневу, Гончарову или Гоголю, — тема сочинений присылалась всегда в запечатанном пакете непосредственно из округа.
В громадном актовом зале были расставлены черные столики и стулья (каждый на три шага от другого, как предписывала специальная инструкция), а за каждым столиком сидел гимназист. Уже задолго до прихода экзаменационной комиссии гимназисты аккуратно разложили перед собой большие листы бумаги с отогнутыми полями, проверили перья и чернила, с максимальной тщательностью потом надписали именем и фамилией свой первый лист и — притихли в напряженном ожидании.
Минуты текли медленно и напряженно, как собранные со дна капли из наклоненной горлышком вниз бутылки.
— Идут! — крикнул кто-то, заслышав шаги в коридоре, — и зал, тяжело и протяжно вздохнув, застыл, онемел…
Быстро, не глядя ни на кого, вошел директор, держа в руках белый тонкий пакет. Оба словесника, инспектор и классный наставник почтительно следовали за своим начальником. Весь зал встал, выпрямился, подчиняясь бессловесной, неслышной команде.
И, словно следуя той же команде, вышел из-за столика вперед маленький темный рыжик в очках — Ваня Чепур — и начал читать громко и прочувственно молитву. И, кончая ее, широко перекрестился, а глядя на него, — и весь почти зал.
— Садитесь, господа, — сказал директор и весело обвел глазами бледные лица гимназистов.
Он имел право, распечатать пакет еще полчаса назад, но не сделал этого, точно ему доставляло удовольствие держать в неизвестности не только гимназистов, но и всю экзаменационную комиссию и себя самого. Теперь он надорвал уголок конверта, осторожно просунул в него мизинец и прорвал им конверт по ребру. Он вынул оттуда плотный, вдвое сложенный лист и развернул его. Быстро прочел его и молча протянул лист и конверт с сургучовой печатью ожидающим и переминающимся с ноги на ногу членам комиссии. Лист подхватил словесник Матвеев, ведший экзамен.
— Позвольте? — недовольно сказал инспектор и в свою очередь протянул желтую и дряблую свою руку.
Матвеев и двое остальных через инспекторское плечо смотрели на вскрытую тайну пакета.
«Да скорей же, черт возьми, объявите!» — неслышно кричал зал, но члены комиссии, словно забыв о нем, обменивались уже тихими, короткими словами и такими же встречными улыбками.
Наконец, раздался голос инспектора:
— Господа экстерны, извольте сесть в первом ряду; поменяйтесь местами. Вот так. Иван Чепур, Вадим Русов, Алексей Русов и Федор Калмыков, пожалуйте поближе. Сюда, во второй ряд; поменяйтесь местами.
— Это, чтобы у нас не списывали! — объяснял, покидая свое место, Чепур.
Он был прав: инспектор разрушил надежды многих, ждавших помощи от «первых учеников».
— Господа, — начал Матвеев, — приготовьтесь записать тему сочинения.
Он подошел к переднему столику одного из экстернов и оперся на него свободной рукой; в другой, слегка дрожавшей, он держал присланную из округа бумагу.
— Диктую, господа, тему.
И очень медленно, делая долгую паузу после каждого слова, покуда оно будет записано, он продиктовал:
— Лучше… Не жить… Иль вовсе… Не родиться… Чем… Чужой… Стороне… Под власть… Покориться…
…Прошло добрых четверть часа, но никто из гимназистов не начинал еще писать. Не начинал еще и Федя Калмыков.
Для него, как и для других, тема сочинения была неожиданна и маловразумительна. Растерянность, охватившая весь зал, в первую минуту передалась и Феде. Но у него она быстро перешла в какую-то апатию, в такое же внезапное, но спокойное чувство безразличия к тому, над чем, казалось бы другим, обязан уже был думать горячо и напряженно.
Все — и по-разному — отвлекало сейчас его от основной и главной мысли. Минуту он следил (забыв о всем остальном), как ходит вдоль первого ряда столиков — медленно, заложив руки за спину, — низенький, кругленький директор, как саркастически поглядывает он на безмолвно сидящих экстернов, которым это хождение директора зад и вперед перед их глазами в достаточной мере, вероятно, мешало думать, сосредоточиться.
И, словно в первый раз он видел этого всесильного начальника гимназии, Федя с пустым любопытством всматривался в его одутловатое розовое лицо с маленькими смеющимися глазами умницы и самодура, в его жесткие и курчавые седые волосы, разделенные на голове двумя боковыми проборами и спускавшиеся до половины щеки широкими вьющимися бачками.
Когда уже всмотрелся и изучил это лицо, так же пусто и безразлично перевел взгляд в сторону, наткнулся им на рыжую лысеющую голову одного из экстернов с большими оттопыренными ушами и, скользнув небрежно глазами по этим ушам, посмотрел в открытое окно.
Верхушки тополя и акаций заглядывали издалека, из притихшего сквера, в скованный трепетом актовый зал. На зеленых, густо поросших листьях лениво, неподвижно покоился утренний солнечный луч. Федя не отводил от него глаз, но мысль сейчас вопреки всяким возможным ассоциациям и впечатлениям деловито и хлопотливо подсказывала: «…тема больше историческая, чем литературная… Начать с Ивана Сусанина, что ли?..»
А верхушки акаций скрывают от глаз угол большого светлозеленого здания; в этот угол заперт другой актовый зал — женской гимназии, в этом зале, тоже за столиком, сидит Ириша, — и Федина мысль неожиданно переносится туда.
Он вспоминает зал, в котором столько раз бывал на гимназических балах… И не Ириша встает в памяти, а почему-то лезет сейчас в глаза громадный, во весь рост, портрет царя, заключенный в вызолоченную тяжелую раму.
Царь в военной форме, в белых перчатках. Перед ним — маленький столик, накрытый свисающим до пола зеленым сукном, правая рука царя легко опирается на этот столик.
Федя старается вспомнить все детали портрета, старается восстановить в памяти каждую черточку в лице неподвижно стоящего царя, но память вдруг до крайности ослабевает, и царево лицо расползается, расплывается в Федином воображении, и он — в испуге уже — начинает чувствовать, что так точно расползается, далеко убегает от него его мысль о другом — о самом главном сейчас, об обязательном, данном ему, Феде, в испытание сегодня…
Он оторвался от окна и растерянно посмотрел вокруг себя: на него, на весь зал смотрел голубой портрет царя. Портрет был точно такой же, как и в женской гимназии, и висел здесь те же два десятилетия, но Федя сегодня его не заметил. Забыл о нем.
Он обозлился на свое легкомысленное отношение к экзамену, на свою растерянность, обозлился на неприятную тему сочинения и… на царский портрет; не подымая головы, он видел только на портрете черные царевы сапоги, упрямо наступившие на красную бархатную подстилку. Он вспомнил теперь ясно, отчетливо и лицо царя, но не пожелал взглянуть на него.
«Патриотическая тема», — заставил он себя вернуться к экзаменационному сочинению, и слово «патриотическая», как он сказал его самому себе, отождествилось в сознании с другим словом, со словом «политическая». Это уже дало направление его последующим мыслям.
«Патриотизм… Да, я могу свободно написать о патриотизме, — следовал уже за своей мыслью Федя, в десятый раз перечитывая заданную тему. — Я — патриот, я люблю Россию, русский народ, русскую культуру. Быть патриотом — не стыдно, но каким?»
«Конечно, — вилась рядом другая мысль, — а вот Ванька Чепур тоже «патриот»… и такую черносотенную гадость по этому поводу разовьет».
Ему опять стало не по себе. «Нет, нет. Надо опираться только, на ушедшее… на историю». И вдруг цепкая память подсказала ему слова Белинского: «Любовь к отечеству должна вытекать из любви к человечеству…» Так, кажется? Как это я сразу не вспомнил? Точка! С этого начну. Эврика!
Он оглянулся: как будто еще никто не начинал писать.
Товарищи вопросительно, с широко открытыми глазами смотрели на него, отжимали растерянно губы и недоуменно пожимали плечами: что делать, друг Калмыков? «Вот те, бабушка, и Юрьев день!»
…Он обмакнул перо в чернила и наклонился над своим листом.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Начало тайны
В летнем саду играла музыка. Она услаждала слушателей во время антрактов, когда на сцене переставляли декорации и толпа бросалась из театра к клубному буфету пить ситро и кушать мороженое. Публика, толкаясь и теснясь, прохаживалась по аллеям. Те, кто постепенней, не доходили дальше последних зажженных фонарей; простонародье отдыхало в глубине сада, беспечно раскинувшись на теплой ночной земле.
Сад, как и весь город, стоял на горе. Он кончался высоким откосом. Вниз шли дикие яблони, орех и кусты лозняка. Там пел прощальную песнь последний июньский соловей. Крадучись спускались туда люди по узенькой обваливающейся тропинке. Там любили — робко и мятежно; в театр уже не возвращались.
Вдалеке — темная, заросшая водорослями, белыми и желтыми лилиями река. Вдоль берега — белыми и желтыми лилиями — одинокие рыбачьи огоньки. За рекой — влажные, сытые травы лугов. Кричат вдалеке лягушки, — бормочет и ворчит во сне река.
У откоса стоит мечтатель. Он нашел глазами Большую Медведицу, но не знает, где Малая. Млечный Путь лежит в черном небе, как наследившая по земле мука из дырявых мешков.
Вдоль откоса прохаживается городовой. Звезды не увлекают его взора. Он будет дежурить сегодня в саду до поздней ночи: до поздней ночи, вероятно, в летнем клубе Семена Ермолаича будут веселиться молодые студенты. Вот сколько их суетится по всему саду! Новенькие зелено-синие фуражки, новенькие штатские костюмы, цветные косоворотки с золотыми пуговицами, а в руках — модные стеки или отцовская непривычная палка. Еще никто не пьян. Но будут: городовой приставлен для ограждения порядка.
Каждый год бывает так: напьются на радостях — сбрасывают с откоса садовые скамьи, портят резедовые клумбы, ругают известных в городе чиновников. Вдоль темного откоса ходит городовой. Здесь ему спокойней: на освещенных аллеях приходится часто козырять начальству.
У откоса еще назначают друг другу свидания. Влюбленных городовой не смущает. Напротив: его спрашивают, не видал ли он здесь такого-то или такую-то, — городовой всех в городе знает.
Антракт окончился: музыка перестала играть. Аллеи на время опустели, откос — тоже. Городовой потянулся за всеми.
Словно выждав, покуда он скроется за поворотом, торопливо выбежала из-за деревьев низенькая полногрудая женщина в черных ботинках и белых чулках. Она побежала к тому месту, где, опершись на палку, стоял человек, любовавшийся июньскими золотыми звездами.
— Пантелеймон Никифорович! — окликнула она.
Мечтатель быстро оглянулся. Это ротмистров писарь Кандуша тщетно искал в небе Малую Медведицу.
Они сидели теперь чуть пониже края откоса — за кустом. Кандуша лежал, опустив голову на мягкое колено тихо посмеивающейся женщины. Четверть часа назад они были в овраге.
— Очень вы, Пантелеймон Никифорович, сегодня нежный. Очень вы сегодня ласковый. Спасибо за удовольствие, что доставили… — прижималась к нему Дуня, карабаевская прислуга. — Любовь промеж нас полная, хотя и не официальная.
А отчего все-таки, миленький, хочется официальных чувствий? — гладила она его волосы и вкрадчиво засматривала в его темные, наполненные ночью глаза.
— Вот уж не скажу, Дунечка. Полный я в этом деле граф Витте…
— Необразованная немного я, Пантелеймон Никифорович.
— Граф Витте, говорю… Сказал это я для интеллигентного объяснения. Значит — за всякие я реформы в этом самом деле. Понятно? Ты, Дунечка, воображай и поясняй себе в уме. Вот, например, ночь, кустик, птичка поет. Молодые люди целуются, милуются. Кустик, значит… Ноченька, пипль-попль, и все такое наслаждение, желание… А почему желания, Дуня… а? Желаешь того, чего не хватает, — вот что-с! Официально если — значит, все уже на месте, всего уже хватает. Ноченька уже тогда не нужна, птичка может и; не петь, за кустик — зря прятаться. Господи, боже мой, да разве это любовь, когда поцелуешь, скажем, прижмешь, например, — и не удивишь никого?!. Целуй, прижимай, — подумают, — хоть и самое стыдливое на людях изображай, — удивления нам совершенно мало! Раз официально, — желай не желай, — все равно, что заблагорассудится, можешь… Тайна-с, вот что для всяких чувств небеспременно необходимо… волненье-с, как масло для каши!
— Не могу я так понимать, как вы, Пантелеймон Никифорович.
— Пипль-попль, Дунечка!
— И пиплю-поплю вашу не понимаю: Смеетесь все, кажется, и дразните. Я вам все дочиста рассказываю, даже чужие разговоры передаю, а вам стыдно будто, что вы мне ласку делаете… Велите все тайком да крадучись. Хоть бы раз прошлись со мной на людях… Обидно мне! Маня вот — инженерная, бестопятовская прислуга — все меня спрашивает… Что это, говорит, ты, Дуня, кавалера вовсе не имеешь? Такая, говорит, хорошенькая, а в полном одиночестве. Или, говорит, гордости у своей богатой барыни набралась? Обидно мне! Хотела я ей сказать: уж я такого миленького имею, такого… да вспомнила про ваше приказание, да только и усмехнулась той Маньке. А мне хочется официальных чувствий!
— Я могу пройтись с тобой на людях, — сказал бездумно, лениво Кандуша.
Он вновь мечтательно запрокинул голову и смотрел молча на путаный и мерцающий звездный путь.
— Можете? — обрадованно подхватила она. — Пускай мои господа увидют! Они здесь, в тиятре… Пойдем, ситром угостите.
— Погоди, — едва скрывал он свое недовольство, — ты иди сейчас. Ну, да — одна. Иди, иди, пока никто не видит, откуда ты вылезаешь. А я…
— А вы как же? — приподнялась она.
— А я минуты через три приду. Понятно? Будто только что встретились.
— Не обманете?
— Ревность Арцыбашева, пипль-попль! Подойду через три минуты… вместе домой пойдем.
Он ущипнул ее за ногу, и эта ласка показалась ей двойным обещанием.
— Хорошо. Иду, Пантелеймон Никифорович.
Он остался один.
И, как только она ушла, он забыл о ней. Он ни о ком уже не думал, да и не хотел думать. Разнеженный и расслабленный любовной встречей, он раскинулся теперь на земле, спокойно и бездумно глядя в темную, причудливо забрызганную звездами высь.
Он созерцал. Кругом — не шелохнется, ничто не коснется тончайшей паутины ночной тишины. Только вдалеке журчит и бормочет лягушечьим голосом река да из глубины сада изредка доносится чей-то быстро, пропадающий возглас. Но в кустах — все та же тишина.
И вдруг Кандуша услышал сначала чьи-то приближающиеся шаги, похрустывание песка на аллее, затем вполголоса роняемые слова, становившиеся все явственней. Он поднял голову. Два человека приближались к откосу, к тому месту, чуть пониже которого за кустом лежал Кандуша.
В этот момент он сам еще не знал, что сделает: останется ли лежать, или подымется и уйдет, досадуя на пришельцев, нарушивших тишину, но через секунду он принял уже первое решение. Он услышал знакомый голос Ивана Теплухина. Но… но кто это второй с ним?
Кандуша медленно, осторожно опустил голову на землю, словно боясь, как бы не хрустнуло что-то в шее и не услышали б этого Теплухин и его спутник. Кандуша оставался лежать на спине, с широко откинутыми в стороны, неудобно положенными руками.
— Вот скамейка, сядем здесь, — коротко и тихо сказал незнакомый голос. — Отсюда — великолепный ландшафт, вокруг — ни души: отличная обстановка для тихой и дружеской беседы. Вы не находите? — продолжал, очевидно усмехаясь, тот же голос.
— Сядем. Пожалуйста, — отвечал безразличным тоном Теплухин, — о, зачем такие предосторожности?..
В руках его спутника блеснуло круглое выпуклое стекло, и в то же мгновенье свет от электрического фонарика пробежал по краю откоса.
— Да, здесь никого нет, — деловито сказал незнакомец, засматривая вниз.
Кандуша вздрогнул, но не пошевелился. Густой куст лозняка скрыл его от фонарика.
— Теперь закурим, — тем же тоном продолжал теплухинский собеседник. — Хотите, Иван Митрофанович, моих? «Ля-ферм», высший сорт, по заказу. Вы как будто удивляетесь. Нет? Или вы недоумеваете, почему я так медлю? Ха-ха! Друзья могут позволить себе роскошь и мелких приятных разговоров. Впрочем, вот я уселся уже, закурил — и мы можем начать… Ну, дорогой мой, разговор вот какой…
Кандуша не знал точно, сколько времени он пролежал в таком положении. Он позабыл уже о неудобной своей позе, он перестал чувствовать свое распластанное, отяжелевшее тело, занывшее от неподвижности. Он слушал.
Нет, это не совсем верно. Кандуша вбирал, впитывал в себя каждое услышанное слово, наполняя ими свою память, как скряга — случайно найденными монетами свой жадный кошелек. Боже, кто это рассыпал на одном месте столько их — блистающих, новеньких и никем еще не поднятых с земли?!. А вот еще одна… еще и еще, они откатились в сторонку, они утонули почти в пыли и лежат незамеченными и притаившимися. Нет, нет, счастливый скряга поспешно подберет и их — все, все — и найдет их местечко, всунет в уже наполненный туго, тяжелый и незакрывающийся кошелек… Всякая — даже махонькая — денежка напрасно не чеканится!
Кандуша походил на этого счастливца — скрягу. Но если находку скупого счастливца можно было оценить и он сам всегда мог бы заменить без ущерба груду монеток несколькими большего достоинства, то совсем иная ценность заключалась в том, что услышал в этот вечер ротмистров писарь. О, ее не постичь сразу, уму не уразуметь ее сокрытое сверканье!.. Нет, никому не скажет он (никаким ротмистрам Басаниным!) того, что сейчас узнал.
Господи, боже мой, да не причудилось ли все это? Нет, — истина, явь чудесная…
— …Запишите мой адрес, дорогой Иван Митрофанович, — вполголоса повторил незнакомец. — Ах вы чудак… ну, чего нервничаете? Не ожидал от вас. Зачем целую пачку вынимать из кармана… смотрите, бумажки растеряли!
— Не беспокойтесь, — громко сказал Теплухин. — Не беспокойтесь, я вам говорю. Я сам… сам подыму. Ну, вот и все. Записывать незачем, и так запомню, — переменил он решение.
— Ладно, так не забудьте. Ковенский переулок, дом номер…
О, если почему-либо забыл бы этот адрес Иван Теплухин, — ротмистров писарь Кандуша сможет ему напомнить. Пипль-попль, сударики!
«Уходят», — понял он, когда голоса обоих стали вдруг в меру полными и громкими, а слова ненужными и пустыми, как скорлупа, из которой вынули уже зерно.
Монетки были уже все собраны: рука жадного счастливца напрасно искала бы новых среди мусора и пыли. Кандуша осторожно приподнялся, несколько секунд прислушивался (из театра выходила публика, глухо приближался шум) и вскочил на ноги. Теперь только он почувствовал, как затекло его тело. Он сделал несколько движений и, опираясь на палку, быстро выкарабкался, минуя дорожку, наверх.
Вот эта скамейка, где они только что сидели, вот белеют брошенные окурки… Кандуша опустился на скамейку, чтобы тотчас же вскочить. А, так, так… он должен тайком настичь их на аллее, рассмотреть лицо этого «незнакомца». («Незнакомец» ли он уж теперь, — хо-хо!)
Кандуша радостно, озорно ударил концом палки по земле и… осторожно, нерешительно поднял ее вновь: звук от удара был мягкий и что-то коротко зашуршало.
Ротмистров писарь нагнулся, вглядываясь в бумагу: это был синий почтовый конверт. Кандуша поднял его: он был распечатан, но не пуст. В нем лежало какое-то плотное письмо. Конверт был грязен: на нем были следы чьей-то неосторожной ноги.
Кандуша чиркнул спичку — неудачно, но при мгновенном отблеске огня он успел прочитать:
«…трофановичу Теплухину».
«Потерял он!» — едва не крикнул на весь сад.
Сунул письмо в карман и побежал к выходу на улицу.
…Карабаевская Дуня металась, ища его среди хлынувшей из театра публики.
А он, стоя уже под фонарем, на боковой от сада улице, читал:
«Любезный Иван Митрофанович…» — писал кто-то неровным, угловатым почерком. (Нетерпеливый Кандуша заглянул в конец письма, нашел там подпись и, словно предвкушая что-то отменное — интересное, причмокнул и улыбнулся.)
Да, письмо было от женщины. Да еще от какой! Письмо от Людмилы Петровны Галаган.
«Любезный Иван Митрофанович, — писала она. — Чтобы внести раз навсегда ясность в наши взаимоотношения, я решила написать вам. Запомните, что этим я никак не могу себя скомпрометировать К тому же я уверена, что вы сами захотите уничтожить это письмо, и это целиком совпадает с моими желаниями. Да, возможно, что в начале нашего знакомства я дала вам повод думать, что наши встречи приведут к чему-либо большему, чем то, на что только и могли надеяться остальные мои знакомые мужчины. Затем я исправила свою ошибку, но вы, я видела, отнеслись уже к этому недоверчиво, заподозрив с моей стороны обычную «женскую игру». Напрасно, Иван Митрофанович. Если и была «игра», то только в самом начале и по причине, вряд ли могущей вас удовлетворить. Нё обижайтесь, мой друг. Здесь такая утомительная скука, в душе я так презираю все здешнее серое общество, в котором приходится мне вращаться, что невольно я обрадовалась вашему приезду. Вы для меня, естественно, должны были показаться человеком «экзотическим». К тому же вас все почти здесь чуждались, а для меня это было совершенно достаточно, чтобы поступить всем наперекор. Отсюда — наши частые встречи в Снетине. Кой-кому они могли показаться «подозрительными», как, например, жандармскому офицеру Басанину — глупцу и животному («Ага, выкуси!» — показал Кандуша фигу кому-то невидимому), который не прочь в любую минуту «осчастливить» меня своим предложением. Ну, будем искренни, Иван Митрофанович. Я совсем не порицаю вас за то, что и вы — осторожно и умно, правда, — искали во мне женщину… Слава богу, я не стала вашей «idee fixe». Мне передавали, что традиционная «солдатка» на селе с большим успехом выступила в свойственной ей роли… Я, кажется, немного груба, но я терпеть не могу светского жеманства и ханжества. Ну, вот — теперь мы друзья, Иван Митрофанович. И, как другу, скажу вам еще раз. Я как бы утратила компас в жизни, я не вижу для себя пути, кроме… кроме того, по которому идут женщины нашей среды. Но меня этот путь не устраивает. Что делать? Впрочем, советов не ищу. Я сама решу, когда надо будет. Я говорила вам уже, почему это так случилось. Да, если бы не застрелился Сергей, все было бы по-иному. Басанин одно время служил с ним в одном и том же городе и знает, что это был за человек… Если бы я знала, кому мстить за эту смерть, — о, я жестоко, кажется, смогла бы отомстить.
Желаю вам удачи в жизни и всяческих успехов. До осени проживу в имении, а потом поеду в Петербург.
Людмила Галаган».— Можешь мстить! — тихо засмеялся ротмистров писарь, пряча письмо в карман. — А мне разве жалко! Только у Пантелеймона Никифоровича разрешеньице получи, сударынька, — вот что-с!..
…Он опять нашел в небе Большую Медведицу, но не знал, где лежит Малая. А, наплевать на вас, недосягаемые звезды, на земле поважней теперь дела творятся!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Хмельной июньской ночью
Федя Калмыков вспоминал…
Это было еще только вчера: за несколько часов до попойки в летнем клубе Семена Ермолаича Федя был в гостях у Карабаевых в Ольшанке.
Семья Льва Павловича жила во флигеле, расположенном в саду и отделенном от заводской территории заборчиком.
Под вечер, когда умолкал завод, в саду, в карабаевском флигеле, оседала тишина, и наступала к тому же часу успокоенность — наседка, подобравшая под свой теплый уютный пух и крылья мелких цыплят житейской заботы и будничной суеты. В доме Софьи Даниловны воцарялся тот плавный и ленивый час сытой провинциальной жизни, когда приходит вязкое, спокойное бездумье, а тело испытывает сладостную тяжесть отдыха. У тела не хватало движений. Количество их словно было рассчитано не на этот медленно тянущийся солнечной черепахой июньский день, — к ясному золотисто-желтому предвечерью время шло неторопливо, оставив далеко позади себя погоню земных, человеческих дел и поступков.
Да и устраивать ли погоню за временем?
Семья, дети — этого было не только достаточно, нет — в этом заключалось то неизмеримо великое, что сделало ее, мать и жену, такой безгранично жадной к жизни — счастливой и безропотной рабыней.
В этом ее чувство было схоже с чувством мужа, Льва Павловича. Но оно было еще более полным и обостренным.
Она не требовала от жизни большего, чем было отпущено ее семье. Семейное счастье стало ее религией. В этом заключалась невзыскующая простота верования: милосердный боже, пусть ничто злое и сильное не заглянет в чашу жизни моей!..
Так и видела самое себя Софья Даниловна: молитвенно-тихо и осторожно несет она в руках хрупкий сосуд с неоценимо-драгоценной влагой жизни, и каждую каплю в сосуде бережно хранит она при неминуемых всплесках, когда шагает по ступенькам времени.
Она вообще не умела скрывать своих чувств и меньше всего умела внешне уйти, от тревоги, которую испытывала всегда, когда дело касалось детей. За последний год это чувство все чаще и чаще посещало ее.
Софья Даниловна не опасалась того, что новый, чужой человек заставит Ирину забыть или отодвинуть в памяти всю их скрепленную любовью семью. Во-первых, — справедливо подсказывал рассудок и материнский инстинкт, — Ирина еще очень молода, чтобы решиться на какой-либо самостоятельный поступок, и первое чувство — словно корь: оно почти всегда не опасно, без неожиданных последствий, а во-вторых, — и что Софья Даниловна считала безусловным, — Ириша если полюбит кого-нибудь, то уж, конечно, такого человека, который будет во всем духовно близок и родственен их, карабаевской, семье.
Условия воспитания, духовные качества дочери, наконец наследственные черты характера — все это должно же будет предопределить Иришин выбор!.. И если этот выбор когда-нибудь будет сделан, о, как рада и счастлива будет Софья Даниловна!.. Случится то, что семья только увеличится еще на одного близкого, понятного и понимающего человека, и он уже может не сомневаться в материнской любви к нему Софьи Даниловны.
Она инстинктом своим угадала, что отношения между Иришей и Калмыковым значительно разнятся от обычных «гимназических» увлечений.
Кто виноват в этом? Может быть, частично и сама Ириша, но главным виновником Софья Даниловна считала Калмыкова. Почему? На сей раз ее доводы, по внутреннему ее убеждению, отличались точностью и несомненностью.
Из разговора с дочерью, да и по наведенным справкам она знала, что Калмыков — юноша настойчивый и самолюбивый (вероятно, и тщеславный, — прибавляла она), что он не по возрасту серьезен, ищет всегда общества старших, заражен политическими идеями (господи, того и гляди, в подпольщики готовится!..) и, надо думать, как и все такие люди, полуутопист, полуциник во взглядах на семью, привязанность и чувство. А если он внутренне честен и искренне увлечен Ириной, то это еще опасней, — рассуждала Софья Даниловна, — так как в этом случае Ирише труднее будет разочароваться в нем, а она сама настолько хороша, — с гордостью думала мать, — что ему ли первым уходить от нее!..
…Федя беседовал с Иришей в саду, а вдали, сидя на нижних ступеньках террасы, Софья Даниловна с ложкой в руках присматривала за первым вареньем из роз, варившимся тут же в медном тазике, помещенном на новеньком, наполненном углями треножнике. Над пенившимся вареньем кружились осы, и Софья Даниловна ревниво отгоняла их, замахиваясь просторным широким рукавом своего капота.
Ириша глубоко сидела в гамаке между двумя распускающимися тенистыми вишнями и, откинувшись назад, заложив руки за голову, слушала Федин рассказ о предстоящей сегодня вечеринке новичков студентов.
— Ну, вот и все, — заканчивал он свое сообщение. — За ужином нацепим на себя, все двадцать семь человек, серебряные жетоны на память об Окончании и дадим обещание друг другу съехаться здесь через шесть лет. Ведь любопытно: кто кем окажется?..
— Любопытно, — соглашалась Ириша, внимательно всматриваясь в него. На ее лицо набежала какая-то неясная мечтательная улыбка.
— Знаешь, очень любопытно. Ты, вероятно, будешь врачом, будешь сотрудничать в каких-нибудь журналах… еще такой молодой, но «подающий надежды» доктор! Федулка, чего ты застенчиво усмехаешься? Тебе не верится? Ведь ты сам говорил мне об этом…
— Ну, ну, гадай! — радостно улыбался он и, — словно мешал сам себе слушать ее, слегка раскачивая гамак, — отнял от него руку и оперся ею о дерево.
— Это ведь вполне возможно, Федя.
— Допустим.
— Ну, вот я и говорю… Через шесть лет мы о тебе услышим что-нибудь такое интересное.
— Кто ж это «мы»? — неожиданно нахмурился Федя. — Отдаете вы себе, сударыня, отчет в этом слове?.. — попытался он стать шутливо-строгим, но глаза смотрели тревожно и серьезно. — Кто же это «мы»? Ты тоже объединяешься этим словом?
— Ой, какой ты бываешь… смешной! Конечно, все мы — знакомые: и папа, и мама, и я… Федулка, отчего ты позеленел так вдруг? Что с тобой?
— Ты просто поймалась на этом слове, Ириша! — не отвечал он на прямой вопрос и уже почувствовал, что действительно позеленел, потому что в этот момент кровь отхлынула от его лица. — Ты выдала себя, Ириша.
— Чем? Как?
— Очень просто! — смотрел он печально. — Через шесть лет ты, как и все другие, только услышишь обо мне? Только? А ты сама где будешь? Не там, где я? Не со мной? А я, дурак, думал…
— Ах, вот что! — тихо засмеявшись, покраснев, высунулась она из гамака и тотчас упала в него, приняв прежнюю позу. — Ох, и придирчив ты!
— Я не придирчив, я верен своему чувству.
— Я тоже, Федя!
— Так зачем же ты сказала?
— Я не придавала в тот момент значения…
— Ириша! А если я тебя вновь переспрошу?..
— О чем?
— О том, где ты будешь не только через шесть лет, а… через четыре, три?
Он испытывал не только сильное волнение, но нечто, как ощутил, гораздо большее, с чем уже не мог совладать.
Он любит. Он ждет сейчас ответа на свое чувство, хотя давно уже его получил.
— Я хочу, — ответила Ириша, — быть там, где ты.
— И вместе со мной, значит?
Он упрям, жесток, эгоистичен в своей настойчивости, — но ведь он любит и живет сейчас только этой любовью! Кто осудит его?
— И… вместе с тобой. Ну, Федулка, разве можно меня так смущать! Поди ты, право! Сам все знаешь, а нарочно так делаешь, чтобы я покраснела.
— Ириша… Ира… Любишь? Крепко?
Она медленно, чуть кивнув головой, смыкает ресницы, а ее светлокарие большие глаза льют горячий, притягивающий свет.
Тогда Федя хочет броситься к ней, сесть с ней рядом… но издали смотрит с крыльца Софья Даниловна, — и он останавливает себя, хватаясь обеими руками за сетру гамака и с силой притягивает его к себе вместе с полулежащей в сетке Иришей.
— Не раскачивай сильно, у меня голова кружится… Отпусти, родной! — почти шепотом молит она, — и он, торжествуя, выпускает из рук сетку.
Через минуту они ведут обычный разговор. Но так ли просто забыть, что любишь? Любовь! Что хранит в себе для Феди это древнее, но никогда и никем не забываемое слово?
Сейчас, в эту минуту, все забыто Федей, все подчинено этому чувству, и вся будущая его жизнь, весь мир зарождаются, ведут, свое начало с этой самой минуты, на этом самом месте, где сейчас находится он и Ириша…
Казалось бы, что он опьянен своим чувством, что, подчинив себя ему, он, как это бывает со многими, не отдает себе отчета в своих поступках и словах, что мысль его хмельна и безрассудна. Однако это было не совсем так, и он, — хотя и бессознательно, — но сам это чувствовал.
Как и все юноши его возраста, Федя не мог не испытывать естественной физиологической тяги к любимой девушке. Он вполне сознавал это при каждой встрече с ней, но эта тяга значительно уменьшалась, была почти неощутима, когда не видел Ириши. Его отношение к ней не носило платонического характера, но в то же время чувство его — любовь — не до конца было насыщено теми упрямыми, ведущими за собой человеческую волю желаниями, какими полон человек, познавший уже однажды полноту любовной, интимной близости.
Он мечтал о том, что через несколько лет Ириша станет его женой, и тем самым должна будет наступить в их жизни эта самая предельная физиологическая близость, но он никогда не предвкушал ее, не заострял в этом направлении своей мысли и своего инстинкта. К девушке любимой он хранил чувство целомудренное и внутренне-застенчивое.
Он сам провел черту, за пределы которой его чувство к Ирине могло, оказывается, и не идти.
…Утром, после пьяного ужина в клубе у Семена Ермолаича, Федя вспомнил все, что произошло накануне и посла попойки.
…Он вышел из летнего клуба поздно ночью. Кто-то из озорничавших товарищей тянул его вглубь пустого сада, где молодые студенты назло огорченному городовому опрокидывали скамейки и сбрасывали их под откос. Городовой и сторож бегали из одной аллеи в другую, ловили студентов и тщетно угрожали им полицейским протоколом. Федя не помнит, принимал ли он участие в этой озорной возне, не помнит и того, почему собственно он решил раньше других отправиться домой и как он очутился в знакомом калмыковском переулочке.
Он понимал, что пьян, что хмель крепко сидит в его теле, и ему хотелось поскорей дойти до своей квартиры. Вот он ужа миновал парадное крыльцо. Еще несколько шагов — и второе, дедовское, крыльцо, а за углом дома — уже и его, Федина, дверь…
Но в этот момент, когда он поровнялся с черным калмыковским крыльцом, дверь тихо заскрипела и кто-то в длинной белой сорочке быстрыми, но сонными шагами вышел во двор. Это была прислуга Калмыковых, Анастаська.
— Ишь ты… куда? — окликнул ее Федя и протянул к ней руку.
Она не предполагала идти дальше крыльца, но, увидев Федю, побежала, тихо засмеявшись, к погребу, за насыпью которого и скрылась на минуту. Федя осторожно вошел в сени. И тут он неожиданно столкнулся с дедом.
Незадолго до полного рассвета старик Калмыков, проснувшись, встал с кровати и, надев халат, вышел на веранду.
Еще не ушла поздняя луна, но быстро, с каждой минутой, она теряла свой матовожелтый лак. Лиловое облачко торопливо пробежало по зардевшемуся краешку неба: там разольется вот-вот первый нежный румянец еще недобежавшего солнца.
Калмыковский двор спит. Но вот-вот подымется в конюшне какой-либо залежавшийся за ночь конь, ударит тяжелым копытом по деревянному настилу и потянется мордой в пустые ясли — и разбудит своих чутких соседей; какой-то из них заржет, другой — порезвей — шарахнется задом в сторону, собьет наземь непрочно укрепленную перегородку и протянет свои теплые, влажные губы к встрепенувшемуся уху кобылы. Пойдет глухой шум по конюшне, и спросонок прикрикнет беззлобно на лошадей чутко спящий поблизости, на сеновале, ямщик; и все же перевернется на другой бок — удержать в приятном забытьи последние минуты неполного сна.
Конюшня первой предчувствует утро. А тотчас же за ней встрепенется наверху голубятня, и заворкуют нежные пары — сначала коротко, словно для того только, чтобы перекликнуться, проверить друг друга, а потом хлопотливей и уверенней.
В саду, за конюшней, вспорхнет шустрый воробей, каркнет и прохлопает шуршащими крыльями бездомная кочевница галка, в душном сарайчике встрепенутся бессчетные куры, индюки и гуси, и, как всюду и везде в этот час, ворвется озорно в чуть поколебленную тишину троекратный петушиный клич.
Бегут в норы, под амбар с овсом, рыскавшие у помойки крысы.
Потом проснется человек: в ямщицкой избе, на сеновале, на кухнях.
Проснется первым хромоногий староста Евлампий. Он спит в амбаре, где овес и вся ценная упряжь станции, спит — летом не раздеваясь, не снимая шапки и тяжело пропахших дегтем сапог, со связкой ключей под головой. Он выйдет со своей клюкой, запрет амбар, поковыляет в конюшню. Обойдет, просмотрит все стойла, поворчит, пожурит, поразговаривает на одном ему понятном языке с хозяйскими лошадьми. И, выйдя из конюшни в сопровождении уже неизвестно когда примкнувшей к нему, такой же хромой, как и он, дворовой собаки, пойдет будить ямщиков на сеновале, в избе, — чтоб вели они препорученных им коней на водопой к колодцу, чтоб засыпали им корм.
Ямщики, потягиваясь и зевая, высыпают на двор босые, в исподнем белье, вспотевшие в теплом сене, взлохмаченные. Ведут лошадей на водопой, и сами тут же, у длинного и широкого желоба, добродушно и беспредметно, матерщинясь, обливают друг друга водой.
Умывался ли когда-нибудь старый Евлампий, — того никто не видел.
Выкатится из-за безмятежно-тихого сада, прорвав тонкую, розовую паутину неба, раннее, еще незлобивое солнце: сначала багряный полукруглый лоб его, быстро, вслед, через минуту — издалека пылающие щеки, и, словно залив их жидким, легким золотом, выйдет из-под лба громадный и лучистый глаз. Так будет спустя короткий час.
…Старик Калмыков сидел, не шевелясь, на веранде, вдыхая теплый свежий воздух.
Так он часто поступал: не хватает дыхания в душной маленькой спальне, — проснется, выйдет во двор, подышит свежим воздухом и вернется к своей постели, чтобы крепко поспать еще часок-другой здоровым утренним сном. Так должно было бы случиться и сегодня.
Возвращаясь в комнаты, Рувим Лазаревич услышал чей-то неосторожный короткий стук. Скорее машинально, нежели заподозрив что-либо, старик на ходу тихонько толкнул дверь и заглянул в сени. Вихрем мимо пронеслась Анастаська. Растерянно усмехаясь, стоял у стены внук.
«Поди сюда»… — молча поманил Рувим Лазаревич к себе пальцем Федю, и внук на цыпочках последовал за дедом. Старик вернулся на веранду и сел на свое прежнее место.
— Басяк! — без гнева ругнулся Рувим Лазаревич и, улыбаясь одними глазами, посмотрел на стоявшего перед ним внука.
Они оба не знали еще, к чему должен привести так случайно начавшийся разговор. И в столь необычное время.
«Дома небось волнуются», — вспомнил Федя вдруг о матери, которая с полуночи, вероятно, ждала его прихода, и в первый раз в эту ночь забеспокоился.
И он шагнул с веранды на ступеньку, но тут же в нерешительности остановился, боясь своим быстрым уходом оскорбить деда.
Рувим Лазаревич, неслышно посмеиваясь, смотрел на внука. Ему казалось, что внук смущен, побаивается его, и ему было это приятно.
Уже давно никто из близких не делится с ним, Рувимом Лазаревичем, ни радостями своими, ни горестями, уже давно он — словно забытый, покинутый людским вниманием столб, с которого сняли провода семейной жизни и протянули их над ним, поверх него. И оказалось, что провода оттого не оборвались, не упали, семейные интересы не остыли, жизнь вокруг течет и гудит, но все это — в стороне от него, Рувима Калмыкова, не задевая его.
Между ним и Федькой возникают теперь какие-то новые, близкие отношения — вот с этим самым синеглазым, слегка скуластым, как все прародители-калмыки, смуглым Федькой.
И Рувим Лазаревич, не зная еще, как и с чего должно сейчас проявить свое чувство к покорно стоявшему внуку, несколько минут журит его, добродушно повторяя свое любимое, по-своему произносимое слово:
— Басяк… Ах ты басяк такой! А если я твоей матери, Серафиме, скажу?
Феде неприятна, хотя бы и шутливая, угроза. Дед замечает это, и, вдруг испугавшись, что своими словами может вызвать со стороны внука неприязненное и подозрительное отношение к себе, он, — никогда и никого не боявшийся в своей калмыковской семье, ни перед кем не отступавший, властный и черствый в своих требованиях, — ощущает сейчас свою собственную слабость и покорность перед этим неведомо что думающим, молчащим юношей.
— Нет, нет, я не скажу, Федька, — уже серьезно и ласково говорит он и, словно затем, чтобы придать своим словам еще большее значение, настороженно оглядывается по сторонам, вытягивая голову, и снижает свой голос до шепота: — Иди сюда, посиди с дедом минутку…
Федя садится:
— Как ваше здоровье, дедушка?
— А тебя это в самом деле интересует?
— Ну, конечно, — искренно отвечает внук, секунду до того и не думавший, что его обычный вопрос будет нуждаться в каком-либо подтверждении.
И он спрашивает:
— Почему вы задали мне этот вопрос? Разве вы сомневаетесь в моих словах?
— Нет, нет, — поспешно сказал Рувим Лазаревич и положил слегка руку на плечо внука. — Мое здоровье — восьмидесятилетнее… хм! Вот доживешь, бог даст. Здоровье, здоровье… — тихо повторил он. — Только никто меня про него по-настоящему не спрашивает.
Он, очевидно, подавил в себе набежавший вздох, потому что рука, лежавшая на Федином плече, на секунду сжала его, и старик глухо и стесненно откашлялся.
Федя почувствовал неожиданную жалость к нему, хотел сказать что-то утешающее, ласковое, но, зная, как и все в калмыковской семье, что дед не терпит — из гордости — всяких семейных соболезнований, считая их всегда услужливостью и заискиванием перед ним, смолчал, не желая быть дурно понятым.
— А ты спросил по-настоящему! Я знаю: ты — по-настоящему! — продолжал вслух свою мысль Рувим Лазаревич и, отыскав на бледном лице боровшиеся с сонливостью глаза Феди, заглянул в них своими серыми пристальными.
Он как будто в эту минуту проверял себя и внука, и какая-то нечаянная вначале мысль словно ждала только этой короткой проверки, чтобы потом уже овладеть полностью им, Рувимом Лазаревичем. Спокойно выжидающий взгляд Феди, его ответное молчание были тем наилучшим, чего желал сейчас старик: каждое слово, произнесенное в доказательство чувств, питаемых к нему, он счел бы, как и подумал Федя, фальшивым и приниженным.
— Ай, босило! — впал он в прежний тон в разговоре, хлопнув осторожно внука по затылку и сдвинув его фуражку козырьком на нос. — Скубент! Гуляка! Молоко на губах не обсохло, а к девкам лезешь… Не моргай, никому не скажу, Федька, — неожиданно лукаво подмигнул он. — Чтоб ты поверил, что не скажу, я тебе один свой секрет открою.
И прибавил:
— Наследство — дело спорное, завещание в тайне должно быть. Ох, важное дело — завещание… — словно стараясь подтолкнуть, навлечь на себя Федино внимание, повторил Рувим Лазаревич слово «завещание».
«Если спросит сейчас, значит корысть у них есть, — рассуждал он. «У них» — это означало: в семье сына Мирона. — Мальчишка обязательно должен выдать все!»
Но внук молчал. Усталость и сонливость одолевали его.
Он уже почти ни о чем не думал; все словно притихло в сознании. И вдруг — кто-то встряхнул его:
— …а тебе вот скажу, Федька! — услышал он и осознал конец какой-то длинной и недоходчивой вначале фразы (это прорвалось теперь наружу брошенное в азарте интимное и сокровенное желание Рувима Лазаревича). — Ты только не болтай никому — не смей! Половину всего я твоему отцу оставлю — слепому, обиженному… Там… там у меня подробно написано, что и как. В общем, выходит половина. А после него ты… ты — наследник. Никому не смей мою тайну… Узнаю, что проболтался ты, — порву все, переиначу!.. Там… там все сказано, — протянул он руку к темным окнам своей квартиры и сурово блестящими глазами всматривался во внука. — Никто, никто не знает… бумага у меня спрятана — там мое слово последнее, Федька. Сам я сказал, сам! Хочешь — покажу? — неожиданно зашептал он. — Хочешь? — поднялся старик. — Ты посиди здесь тихонько. Я бумагу… бумагу только покажу — всего не доверю! — покажу, и можешь идти спать. Я иду…
Федя вскочил и оторопело посмотрел на деда.
— Нет, нет… — уже переменил тот свое решение. — Иди спать. Завтра, когда-нибудь потолкуем… Иди — и не смей болтать, слышишь?
— Хорошо, — ответил Федя и, оглядываясь на деда, сошел с веранды.
Старик стоял на пороге в стеклянный коридорчик, вполоборота к внуку. Сквозь стекла коридорчика струился вкрадчиво матово-розовый отсвет рождающегося утра, набросивший свои мягкие светящиеся пятна на плечо, на обнаженную шею, на часть большой, еще не расчесанной седой бороды. Словно упавшая горячая слеза — блестела на сорочке маленькая перламутровая пуговочка. Халат распахнулся на старике, сухая, длинная нога была вынесена чуть вперед, из прорванной в носке красной туфли высовывался наружу кончик большого пальца.
Старик протягивал вперед руку: она дрожала, и пальцев оттого казалось больше, чем было, и все они словно болтались, покачивались, едва связанные с повисшей кистью.
— Иди! — махнул он рукой, и Федя побрел к своему крыльцу.
…Ночь уже прошла бесследно, как высохшее на солнце бесцветное пятно. Ах, эта странная, полная неожиданностей, хмельная ночь!
Федя уже не хотел, не в силах был разобраться ни в чем, что случилось.
Он возвращался домой, нагруженный впечатлениями, как носильщик — беспорядочно сунутыми в его руки различными, крупными и мелкими вещами: лишь бы не уронить ничего, донести и сложить в одно место, а там уже каждый предмет найдет по указанию хозяина свою полочку и угол.
С этой мыслью он заснул.
Проснувшись, Федя узнал: сегодня на рассвете с дедом случился удар. Никто не понимал истинной причины тяжелого заболевания старика. Никто — кроме его жены и сына Семена.
Старик Калмыков не нашел в потайном месте, между отставших друг от друга досок в шкафу, своей упрятанной пергаментной бумаги. И он не знал, сколько месяцев назад она унесла на себе в огонь Семеновой печки его, Рувима Лазаревича, последнюю земную волю.
Прилив гневной крови отнял у него дар суровой, карающей речи.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Недавнее прошлое Ивана Теплухина. «Колесуха»
Каторгу Иван Теплухин отбывал в Александровском централе. С апреля и по осень гнал Александровский централ сотни каторжан на знаменитую «колесную дорогу» — к Амуру. Эта прокладывали уже почти два десятилетия тысячеверстное шоссе от Благовещенска до Хабаровска.
«Кому нужен этот путь, проходящий по голой, никем не населенной, утонувшей в тайге и болотах земле?!» — задавал себе вопрос Теплухин.
Ответ был прост и ясен, как прост и ясен был и сам старший конвойный надзиратель Гвоздев.
— Нам не дорога нужна, а ваша кровь, — сказал он однажды в присутствии Теплухина, и того поразила в ту минуту не столько обнаженная откровенность надзирателя, сколько поистине деловитый тон, с каким это было сказано. И еще — гвоздевское лицо в этот момент: оно было покойно и беззлобно, а большие янтарно-желтоватые, как у филина, глаза из-под реденьких седых бровей смотрели задумчиво и проникновенно.
Он отвернулся и закричал уже, как всегда, своим визгливым и сухоньким голосом ретивого старичка:
— Тачки сломаны? Жалуетесь, каторжье чертово! На то и каторга, чтобы тачки были сломанные, — с целыми не мудрено! Марш!..
Но сейчас он был уже менее страшен, чем минуту назад. Жестокость сильна скупым и тихим словом.
…До Иркутска от централа идут семьдесят пять верст пешком: в кандалах, нагружены каждый полуторапудовой тяжестью, голодны, — и потому проходят не больше четырех верст в час. Идет вместе со всеми и Теплухин. На голове узенький арестантский «пирожок», за плечами скатанная в халат казенная кладь, свое одеяло и белье, на ногах неуклюжие, грубые башмаки, натирающие на пятках нестерпимо ноющие пузыри. Ноги болят: несвободные, укороченные кандалами шаги расшатывают и расслабляют и без того усталую поступь, и оттого все тело тянется книзу, к земле. Но это желание запретно и наказуемо, нужно идти, не нарушая рядов, иначе случится то, что было несколько дней назад с шагающим рядом товарищем.
Этот товарищ, низенький желтолицый Загермистр, не вынес дорожной пытки: покрытые кровоточащими волдырями ноги отказались служить, не защищенная от солнца, одолеваемая им голова перестала соображать, настороженность, свойственная всем здесь, покинула его, — и Загермистр, забыв обо всем, опустился в изнеможении на землю. Ряд был нарушен.
— Товарищ Моисей! — оглянувшись на него, зашептал Теплухин. — Вставайте… дайте руку. Ведь бить будут!
— Не могу больше! — И Загермистр уткнулся головой в землю, держа в дрожащей руке снятое с носа запыленное пенсне.
И, может быть, спустя несколько секунд, опомнившись, он и сам бы поднялся, но было уже поздно.
— Ага! — крикнул сбоку конвойный, и, врезавшись в ряды каторжан, растолкав их, он ударил упавшего высоко занесенным прикладом.
Раз, другой, третий — в бок, по руке, по плечу.
И, обернувшись, Теплухин видел, как сжавшийся в комок обороняющийся Загермистр старался подставить под удар висевший за плечами мешок с вещами и как прятал от солдатского приклада свое маленькое, уроненное на землю пенсне, прикрывая его сгорбившейся, поставленной на пальцы кистью судорожно шарящей руки…
— Довольно! — сорвалось у кого-то в толпе, и конвойный, услышав это, бросился на голос.
— Ага! Вон что!.. — орал он. — Ага-а!.. Застрелю. — И он метался вместе с другими, солдатами по торопливо удаляющимся рядам, ища «виновного».
Он не найден, он никем не выдан, но тем хуже: ответит за это вся партия!
— Ага-а!.. — несется со всех сторон, сзади и с боков, разъяренный, азартный хрип конвойных.
Они щелкают затворами, подталкивают и бьют в спины прикладами, и десятки беззащитных, избиваемых каторжан, пуще всего боясь споткнуться и упасть, бегут, — держась своего ряда, — быстро и неловко семеня закованными в сталь, израненными ногами.
Клубится пыль, хрипят и скрежещут мерно звеневшие раньше кандалы, плывет по голой, необъятной земле стоустый, унылой запевкой, стон.
Так — до Иркутска, а оттуда до Сретенска везут по железной дороге.
Кто, побывав на Амурской колесной дороге, утеряет в своей памяти сретенского капитана Лебедева, местного начальника конвоя?
— Шапки долой! Смирно, окаянные!
Он ждал, с нетерпением ждал каждую партию амурских каторжан. Он встречает их тут же, на вокзале, принимает рапорт конвоиров, обходит понуро выстроившихся ряды, пробегая по ним своими мутными и бегающими, как ртутные шарики, глазами. Кривая, веселая улыбка еще пуще растягивает и без того большой, жадный рот, и губы, сползшие, каждая в сторону, набок, открывают подбитые золотом плоские передние зубы. Рыжие рогали нафабренных усов подняты кверху, до самой скулы, и маленькая жирная ручка капитана Лебедева, поддерживая ус, нежно сворачивает кольцом его упругий, жесткий кончик.
— Слу-ушай! Сознавайся, у кого кандалы распилены!
Еще раз обегают глаза молчаливую, насупившуюся толпу, и кругленький капитан Лебедев, стоя перед строем, приподнимается, вытягивается на цыпочках, заглядывая вглубь рядов.
— Р-равняйтесь на меня! Гляди честно в глаза цареву офицеру. Бунтовщики, отребье!
Он долго не отпускает толпу, мечется и бегает по перрону все с той же кривой, веселой улыбкой, но видно, как все чаще и чаще бледная судорожная тень набегает на его лоснящееся, розовое лицо: этот сброд застыл, окаменел, — ни одного звука, черт побери!
А он, капитан Лебедев, так ждал эту очередную партию! Вот ослушайся кто-либо, заговори, пожалуйся, и уже долго будут помнить сретенского начальника конвоя. О, капитан Лебедев не позволит в своем присутствии бить прикладами, — в Сретенске наказывают розгами, но бьют только по голому животу: любит причуды темная царская каторга.
Сорвалось сегодня у капитана Лебедева… Но вот мелькает одна последняя надежда:
— Слушай команду, конвойные! Кто найдет распиленные кандалы, получит четвертак за пару. А у кого найдет — двадцать пять на пуц горячих!
Бегают по кандалам ощупывающие солдатские руки.
После обыска ведут всех к пристани. Баржа не велика, палуба огорожена высокой сплошной решеткой, и в узкие дверцы ее гуськом проходят каторжане.
— Залезай в трюм!
Люк открыт, и в черный зев его вползают, ссутулившись, скованные цепями люди.
Трюм невелик и тесен; низенький, нависший над головой черный потолок, маленькие, узенькие окна, пропускающие скупо ползущий и словно упершийся в тупик искривленный свет. Не погляди в окошко, и не знаешь — едешь или все стоишь на месте: крошечный пароходик медленно тянет на буксире тяжелую баржу, как снатужившийся муравей — хлебную крошку.
За стеклом мягкий маслянистый плеск воды. Далеко от окошка на реке — опрокинутый в нее, рассыпавшийся диск предвечернего солнца, и на воде в том месте — растопыренный пучок вызолоченного света.
Теплухин не отводит от него глаз: он боится отвернуться от окошка, как будто позади уже — зияющая кромешная тьма, подкарауливающая его глаза, чтоб навсегда ослепить их.
В последнее время, во имя сохранения самого себя, он развивал в себе бессердечность и сдержанное, скупое отношение ко всему окружающему. То, что в первый год тюремного заключения могло производить сильное впечатление и вызывало повышенное и обостренное реагирование, теперь уже совсем по-иному доходило до его сознания.
Внешне он сочувствовал страданиям своих товарищей по заключению: он делал все, что обыкновенно делается, когда испытываешь чувство сострадания. Он ободрял заболевших и умирающих, подавал им воду, оправлял их постели, но делал все это потому, что именно так надлежало поступать в условиях тюремной жизни, а не потому, что его побуждало к этим поступкам внутреннее, душевное чувство — прийти на помощь другим узникам.
Он сам никогда не считал себя мягкосердечным, а испытанные им самим страдания, борьба за самого себя — все это еще больше огрубило его, — он защищался.
Каторга была создана для умирания, для смерти. Людей бросили в тайгу, в болото, к сопкам, где смерть, забыв азарт мгновенной казни, расчетливо копила для себя ее садизм и сладострастье.
Кусает мошкара в болотах, бьет по темени тяжелое и жадное солнце, душит в исступлении жажда в безводной пустыне, скрючивает, переламывает каторжанина дикая лесная амурская земля.
А позади него и рядом с человеком каждую минуту, днем и ночью, — такой же одичавший, исступленный, приученный наймит смерти — человекоподобный зверь с винтовкой в лапах и с зеленой кокардой на картузе.
Питерский рабочий, большевик Власов попросил дважды за ночь выйти из палатки, — и, рассвирепев, бьет его часовой прикладом, валит на землю и разбивает ему два ребра. И говорит наутро часовому конвойный начальник, подмигивая рапортующему помощнику:
— Плохо, что сломал ребра, в больницу проситься будет, — цо молодец, что верен присяге!
Смотрят все люди исподлобья и знают, что присягали человекоподобные смерти. Одна надежда на время убежать от нее — попасть снова в тюрьму, в больничный околоток. И люди залезают по горло в наполненные водой рвы, калечат ноги, пьют махорку с солью, продевают иголки с шерстяными нитками сквозь одеревеневшую кожу.
Так собирает смерть на каторге свой хмурый оброк человеческих жизней. Дань велика и обильна.
Ах, помнит, часто вспоминает Иван Митрофанович и так же часто отгоняет прочь воспоминания о «колесухе», о централе, о худощавом и близоруком Загермистре, о питерском рабочем Власове, томящихся еще в недрах великой, темной каторги…
Но «колесуха» неумолимо вновь встает перед глазами, и тогда Иван Митрофанович, невольный данник своему прошлому, возвращается к нему, опять глядит во все его углы и тайники, отыскивая в прошлом, — как в чужом обвалившемся доме, из которого успел выскочить и спастись, — наиболее памятные, запечатлевшиеся места.
Сидя в тюрьме, в одиночной камере, он по временам, в полосу тюремного мертвого штиля, испытывал приступы тихого, медленно душившего отчаяния. Он знал, что это предтеча душевного заболевания.
Крепкий телесно и до сего времени не менее сильный психически, он чувствовал вдруг угрозу, более страшную, чем смерть. Тогда он напрягал всю свою волю и заставлял себя упрямо и подолгу думать о том, что существовало сейчас далеко, за стенами тюрьмы, и не только об этом, но и о том, что было задолго до настоящего момента.
Будущее в такие минуты он не пытался постичь: он жил, как сам говорил, «в обратном направлении». В строгой последовательности, день за днем, он перебирал в своей памяти, собирал кропотливо все звенья пережитого, и, — словно цепь минувшего опущена была глубоко вниз, а сам он повис в конце ее, — он подымался теперь по ней осторожно, боясь сорваться на дно реальной, осязаемой жизни. И с каждым шагом вверх мысль становилась радостней и спокойней, хотя пережитое и не всегда было приятней и легче настоящего. Но каждый минувший день был ближе к тому последнему, утро которого было еще счастливым и свободным!..
Не с горечью ли и содроганием подумаешь о первом прикосновении кандальных браслетов, наброшенных на ногу умелым тюремным кузнецом?.. Не проклянешь ли час тот?
Вот рябой одноглазый кузнец вынимает из кожаного фартука заклепки и приказывает сесть на пол:
— Держи ногу рядом с наковальней, — слышь! Да так, чтоб кольцо ей не касалось, а то ноге больно будет!
И кажется: вот-вот кузнец, заклепывая кандалы, промахнется и ударит молотком по выступающему горбику кости, — и страшно становится, вздрагиваешь и закрываешь глаза и боишься шевельнуть напряженно вытянутой ногой.
Остро пахнут сыромятной кожей поджильники. Еще не зная, как прикрепить их к поясу, растерянно берешь их в руки, поддерживая тем волочащиеся по полу кандалы.
— Эх! — улыбается и прячет свои инструменты одноглазый кузнец. — Вы не смотрите, что на их ржа: недельку поносите, так очень даже серебром блестеть будут, отбелятся!
И вспоминаешь первые звенящие шаги в них — чужие, неуверенные шаги: точь-в-точь такие шаги у актера на сцене, когда, передавая чье-то страдание, горе, внезапное безумие, как призрак, медленно пошатываясь, идет он куда-то.
— Шагай! шагай! — хохочет кузнец, потешаясь над тем, как неловко старается Теплухин найти свой новый, рожденный кандалами шаг. — Тпру! Не торопись, а то щиколотку нажмешь!
Кажется, что упадешь, невольно тянешься за ремнем и отвешиваешь всем туловищем приниженный, робкий поклон.
Нет, не страшен памяти Теплухина этот первый кандальный день: ведь ближе он, ближе к тому последнему, утро которого было еще свободным!..
А за спиной этого последнего вырастают все больше и больше, как поставленный чьей-то заботливой рукой ряд фарфоровых, приносящих удачу слоников, — поистине счастливые дни далекой, неомраченной молодости.
И, взбираясь наверх по цепи дней, мысль Теплухина, уже выбравшись словно на поверхность, быстро бежит теперь мимо последних его годов и — утомленная — ищет приюта в далеком доме теплухинской семьи.
Вот… вот: его вдруг начинает умилять то, что раньше было даже неприятным и чуждым. И, перебрав в памяти каждую деталь, он снисходительно и добродушно вспоминает и те настоящие фарфоровые фигурки слонов, которые мать почтительно ставила на подзеркальник — на вышитой бархатной дорожке.
В памяти его живут не только люди, но оживают и вещи; мысль воскрешала былое спокойствие и уют.
А часто, когда воспоминания о былом не могут в полной мере отвлечь от беспощадной дёйствительности одиночного заключения, приходит на помощь причудливая игра воображения — фантазия.
Иван Митрофанович иногда, в моменты пребывания в общих камерах, встречал людей, которые, как и сам он, жида этим наркозом мысли.
Была своя фантазия и у Теплухина.
Он видел уже себя свободным от насилия тюрьмы. Мысль делала прыжок через пропасть незаполненных дней и годов, оставляя далеко позади тяжелые, темные будни реальной жизни.
И перепрыгнув, она продолжала свой безудержный, фантастический бег, не видя уже никакой другой цели, кроме одной: безотчетной выдумки, неограниченного сочинительства.
Его собственный мир объят был пламенем гипертрофии; она сжигала все реальное, существующее и; подгоняемая ветром фантазии, неимоверно раздувала его самого — Теплухина. Гипертрофировались честолюбие, воля, ум, — и все это в мечтах приносилось к подножию славы и самовозвеличивания.
Кем только не видел себя Иван Митрофанович! Но только не тем, кем стал в жизни…
Полтора года назад, зимой, в общей камере эсер из Полтавы, студент-филолог, радостно сообщил:
— Иван Митрофанович! Вам, как эсеру, могу сообщить: я встретился на прогулке с товарищем из новой партии ссыльных: присланы сюда по киевскому делу. Вот видите — оказывается, не всю еще Россию усмирили! А вы говорите!.. Рана затягивается, растет новая кожа. Она еще тонкая, молодая, но все-таки рана вылечивается.
— Вы думаете? Вот эту молодую «кожу» опять содрали: пополнили централ еще несколькими людьми.
— Ну, и что же? Так было и так будет — если хотите знать! Да, да! Но в Киеве все-таки работает подпольная организация. Она хорошо законспирирована, она будет медленно, но верно делать свое дело. Есть люди, которые ей искренно сочувствуют.
— Сочувствие не браунинг — стрелять не будет! — угрюмо покосился Теплухин. — Одна метафизика — это сочувствие.
— Я не хочу с вами спорить, Иван Митрофанович. Я хочу поделиться с вами радостью. У киевлян — настоящая организация. Они налаживают свою типографию, у них есть даже связь с военными. Да, да, представьте себе: с военными, с некоторыми военными… Эти люди дают им деньги.
— А не охранка ли дает? А потом — провал?
— Идите к черту, Теплухин! — возмутился вдруг студент. — Слышите — к черту, я вам говорю!
— Ну, допустим.
— Не допустим, а факт! У организации есть деньги. Но этого мало. Они тонко и по-настоящему работают. Эти товарищи случайно провалились, но там остались такие, которые удержатся! Вы знаете Голубева?
— Киевскую знаменитость? Монархиста?
— Ну, да, студента Голубева — о нем теперь часто слыхать. Так этот Голубев…
— …член подпольной организации, скажете?
— Ваша ирония, Иван Митрофанович, может вам показаться не совсем беспочвенной. Ей-богу! Нет, этот Голубев имеет товарища по университету… Так вот этот студент — наш! Вы понимаете?
— Пока — по-своему только.
— Как хотите! Только я вам долженсказать, что этот студент, который «дружит» с Голубевым и ходит при шпаге, умеет выкрадывать из типографии «Двуглавого орла» шрифт, а по ночам читать молодежи замечательные рефераты..
Этот разговор происходил зимой в конце 1912 года. А в начале весны следующего года иркутский генерал-губернатор «совершенно секретно» сообщал в Санкт-Петербург, в департамент полиции:
«Начальник Александровской каторжной тюрьмы при донесении своем от 8 марта сего года представил мне заявление государственного преступника Теплухина Ивана Митрофановича, социалиста-революционера, и донес, что Теплухин, осужденный в каторжные работы по делу о беспорядках в Полтавской губернии, обратился через него ко мне с просьбой о переводе его в Иркутский тюремный замок, где бы он, будучи удален от сотоварищей, подлежащих вместе с ним вторичной отправке на Амурскую колесную дорогу, мог бы сделать важное сообщение.
Вследствие этого я предложил Теплухину через особо доверенного чиновника Губонина представить мне более подробное объяснение по сделанному им заявлению, а перевод его в Иркутский тюремный замок назначил после высылки всех его товарищей, чтобы он, не стесняясь присутствием их, имел возможность сделать обещанное разоблачение.
Но Теплухин этого не сделал, чем подал повод предполагать, что ходатайство его о переводе в Иркутск имело другие побудительные причины. Однако спустя неделю мне было вновь представлено прошение Теплухина, в коем он просит дать возможность ему в обстановке, не вызывавшей бы подозрений у его сотоварищей, сообщить уполномоченному мной лицу подробные сведения, обнаруживающие лиц, участвующих в революционном движении.
Мною вновь был откомандирован г. Губонин, имевший с Теплухиным подробную беседу в больничном околотке. Сообщение, сделанное Теплухиным в форме подписанного им заявления в департамент полиции, при сем препровождаю».
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Что услышал Кандуша
Уже почти вся публика хлынула из сада в Teatp досматривать спектакль, когда Иван Митрофанович, задержавшись в буфете, торопливо вышел оттуда в сад. Едва он сделал несколько шагов, как кто-то, поровнявшись с ним, вежливо и тихо окликнул его:
— На одну минуточку, Иван Митрофанович…
Он приостановился и повернул голову в сторону говорившего. Тот приподнял вбок свою панаму, обнажившую наголо выбритый шишковатый череп, учтиво поклонился и, пристально улыбаясь одними только глазами, сказал;
— Добрый вечер, Иван Митрофанович. Припоминаете?
И Теплухин узнал тотчас же: черная, густая и круглая бородка и тонкая, совершенно лишенная усов верхняя губа, гладко выбритые щеки, — такое необычное распределение растительности на лице делало ёго быстро запоминающимся, знакомым.
— Губонин!.. Вы здесь? — воскликнул Иван Митрофанович и оглянулся по сторонам, словно убоявшись того, что кто-нибудь мог услышать эту фамилию.
— Я вполне понимаю ваше удивление, но я — здесь. Здравствуйте, здравствуйте, Иван Митрофанович.
Панама покрыла голый шишковатый череп, секунду примащиваясь на нем аккуратно, затем освободившаяся рука медленно вытянулась вперед, поджидая встречную.
— Это не обязательно! — отступил на шаг Иван Митрофанович, не отводя взгляда от губонинской руки. Она не отдернулась сразу, но спокойно загнулась кверху, и сухие тонкие пальцы два раза щелкнули с отдачей, выдержав короткую паузу.
— Тэк-с. Однако, господин Теплухин, это не может помешать моему решению; я должен с вами поговорить кое о чем. Вы отлично меня понимаете, надеюсь. Пойдемте. Стоять на одном месте не рекомендуется: зря только привлекать к себе внимание… Вот уже добрых полтора часа я издали наблюдаю за вами — и здесь и в театре, и мне не хотелось вас тревожить. Но, посудите сами, я ведь для этого и приехал сюда!
Они уже медленно, останавливаясь почти после каждой фразы и поглядывая друг на друга, шли по саду: у обоих была сейчас одна и та же походка. Они оба были равного роста и телосложения. Со стороны оба походили на, мирно, деловито беседующих людей, которым некуда торопиться, у которых нет сейчас никакой заботы.
Они еще не вышли из полосы света, падавшего с разных сторон от двух больших шарообразных газовых фонарей, и Теплухин хорошо видел своего неожиданного собеседника.
Губонин бросал исподлобья внимательные косые взгляды, коротко задерживавшиеся на теплухинском лице и сразу же соскальзывавшие с него и пропадавшие где-то в стороне, как только Иван Митрофанович замечал их.
Губонин вертел в руках маленькую помятую веточку сирени. Он каждую минуту подносил ее к носу, а Иван Митрофанович думал в этот момент, что Губонин делает это нарочно, чтобы закрыть веточкой свой голый, незащищенный рот, вокруг которого, как показалось, блуждала неясная, едва сдерживаемая улыбка внутренней несобранности.
Приезд Губонина и встреча с ним поразили Ивана Митрофановича, тем более что он не представлял себе точно в качестве кого, с какой целью приехал сюда этот человек. Цивильный костюм и панама Губонина скрывали его принадлежность к какому-либо ведомству. Но что неожиданная встреча с этим человеком таила в себе опасность для него, Теплухина, — он инстинктивно почувствовал это тотчас же и потому насторожился.
— Там, у откоса, я высмотрел удобное место, — продолжал разговор Губонин. — Сейчас там пусто, и нам никто не помешает. Не правда ли?
— Как вам угодно. Мне все равно, — сдержанно ответил Иван Митрофанович и свернул круто на боковую аллею, которая была кратчайшим путем к откосу.
Ему действительно было безразлично в этот момент, где произойдет их разговор; он хотел только одного: чтобы разговор этот как можно скорей вскрыл цель губонинского приезда, чтобы наступила, наконец, какая-либо определенность, потому что ему казалось, что Губонин станет хитрить, присматриваться к нему и проверять свои наблюдения, а Иван Митрофанович ждал сейчас точных вопросов и предложений.
«Да, вот именно — какие-то предложения хочет сделать Губонин, чего-то обязательно хочет добиться!» — решил Иван Митрофанович и пожалел, что в аллее темно и он не может в эту минуту увидеть как следует губонинского лица.
Он ускорил шаги. Аллея показалась темней и же, чем была на самом деле. Теплухин почувствовал себя словно сплюснутым, сжатым разросшимися с обоих боков деревьями. Он потерял свободу движений, он ощутил внутреннюю скованность.
Подошли к откосу, сели на скамью. Когда забегал ощупывающе, со стороны в сторону, губонинский электрический фонарик, Иван Митрофанович инстинктивно чуть-чуть отклонился порывисто от своего соседа, как будто бы тот намеревался сейчас бросить и в его лицо резкий пучок недоверчивого света.
— Начнем, пожалуй… — иронически пропел Губонин. Он держал в руках папиросу и вынутую из коробки спичку, но не зажигал их.
— Что вам надо? — прервал его Иван Митрофанович.
— Вы правильно, но поспешно ставите вопрос. Не торопитесь, — тем паче что ответ… ну, ближе, скажем, чем вы сами предполагаете. Простите… Одну минуточку.
Спичка высекла о коробок хилый, робко вспыхнувший огонек. Секунда — и он, моргнув печально, умрет. Но Губонин, умело держа спичку, заботливо и осторожно закрыл ее глубоким и плотным полукругом друг к другу сдвинутых ладоней. Пальцы легонько повертели спичку, — фиолетовый огонек медленно схватил ее кончик и вдруг жадно побежал по ней вверх.
Губонинские ладони светились изнутри восковатым ровным светом. Он поднес — уже небрежно — сгорающую спичку к торчащей во рту папиросе, зажег ее и отбросил спичку на траву.
И покуда он все это делал, Иван Митрофанович, против своей воли, сосредоточенно и с любопытством следил за судьбой огонька.
— Ну, вот… я и готов, — тем же спокойным тоном продолжал Губонин, затягиваясь папиросой; сухой табак потрескивал и ронял крохотные искорки. — Я вовсе не хочу затягивать разговор, — если вам это могло показаться почему-либо. Ни в коем случае! Но когда люди собираются говорить интимно и проникновенно…
— Ого-го!
— Не иронизируйте, Иван Митрофанович! Повремените. Прошу верить: наша беседа должна быть интимной и задушевной. А вот в таких случаях люди стараются устроиться поуютней и — внутренне — поближе друг к другу.
— Что вам угодно? — вновь повторил Теплухин свой вопрос и озлобленно посмотрел на собеседника.
Губонин сидел сгорбившись, подавшись корпусом вниз, упираясь локтями в широко расставленные колени. Это была поза бездельника, ничем не озабоченного мечтателя, но ни в коем случае не человека, собиравшегося вести осторожный, строго конспиративный разговор, и Теплухин недоуменно подумал об этом и еще пуще разозлился.
— Мне угодно, — не меняя позы, сказал Губонин, — довести до вашего сведения, что я переменил место службы и живу теперь в Петербурге. Затем: по роду своей службы я уполномочен в числе прочих своих обязанностей интересоваться вашей судьбой. Вы меня, надеюсь, понимаете? Еще одно замечание: последний год чашей жизни известен всего лишь трем официальным лицам, считая и меня. Знал кое-что еще один человек — иркутский генерал-губернатор, но, как вам, вероятно, известно из газет, он скончался недавно.
— Меньше одним прохвостом! — не утерпел Иван Митрофанович, но совсем, совсем не это захотелось выкрикнуть сию минуту: он уже догадывался о цели губонинского приезда!..
— Напротив, — все тем же невозмутимым тоном возразил Губонин. — Старик был ревностным и честным служакой. Впрочем, не в этом дело. Объезжая юг, я заехал в Смирихинск повидаться с вами и просить вас об одной услуге.
— Никакой! — все более и более ожесточался Теплухин.
— Не торопитесь с ответом, Иван Митрофанович.
Подброшенная щелчком папироса полетела в траву, Губонин выпрямился и поправил сползшую набок панаму.
— Вы сами поймете, Иван Митрофанович, — тихо, но настойчиво произнес он, — что есть вещи, которые каждый из нас уже обязан сделать. Не правда ли?
— Я не буду служить в охранном отделении, — знайте это! Я отказался от борьбы с вами, это не значит, что я буду служить вам.
— Формула ясная, но не устраняющая возможности нашего с вами соглашения. Я отнюдь не предлагаю вам служить в охранном отделении.
— То есть… как же это? — сбился в мыслях Иван Митрофанович и перевел взгляд на своего врага.
Густая черная бородка медленно поползла навстречу, ведя за собой голый, тонкий рот с острыми, приподнятыми кверху уголками. Бородку эту Теплухин видел и раньше еще, на каторге, но сейчас, на ночном свету, она показалась ему почему-то неживой, нарочитой. Бородка путала, сбивала с толку Теплухина, а вот, казалось, сорвать ее с губонинского подбородка, оголить его, — и Губонин сразу станет совсем понятным, разгаданным.
— Служить у нас я вам не предлагаю, Иван Митрофанович. Прекрасно понимаю, что вы не можете стать таким «профессионалом», каких у нас много. Надо быть глупым и некультурным жандармом, чтобы на это рассчитывать. Прельщать вас золотыми копейками, сделать вас платным осведомителем, — это не входит в мои планы.
— Вы пытаетесь быть «умным жандармом»?
— Не надо колкостей, Иван Митрофанович, умный я или глупый — на это я вам потом отвечу. Ну, так вот. Вопрос ставится не о службе у нас.
— Короче, пожалуйста. Какой подлости вы ждете от меня?
— Какой еще подлости? — легонько засмеялся Губонин, но тотчас же принял свой прежний, спокойный и бесстрастный тон. — Вам угодно употреблять это слово? Какой услуги? Меньшей во всяком случае, чем та, какую вы уже однажды оказали государству, беседуя со мной в Иркутском тюремном замке. Вы, конечно, все помните? Та-ак… Условимся, значит, что вы все помните. Благодаря вашему показанию остатки киевской организации спустя несколько месяцев…
— Можете не сообщать, — прервал его Иван Митрофанович и сам удивился тому, что голос его, сорвавшись, прозвучал вдруг громче обычного, хотя слова еще за несколько секунд до того были наготове для ответа, так как предчувствовал уже, о чем станет говорить Губонин.
Черная бородка вновь приблизилась:
— Вы меня простите, Иван Митрофанович, мне было бы приятней вести беседу в другом тоне, но… вы сами виноваты.
Он заметил в этот момент на теплухинском пиджачке прилепившийся к вороту грязный, завернутый в паутину лист, упавший, очевидно, когда шли темной аллеей, и, не прерывая своих слов, осторожно и предупредительно снял его и бросил наземь. Иван Митрофанович инстинктивно скосил глаза к вороту и потер его рукой, но там уже ничего не осталось.
— Можно смело сказать, — продолжал Губонин, — что киевская организация была ликвидирована исключительно при вашей неожиданной помощи. Смешно отнекиваться, Иван Митрофанович! Правда, вас никто не может в этом заподозрить. Арестованные и по сей день думают, что их провалил голубевский «приятель». Увы, он убит при попытке бежать из-под ареста.
— Я ни на кого не указывал, я не знал ничьей фамилии, — защищался уже Иван Митрофанович и сам понимал, что обороняется от собственной своей памяти, что успокаивает ее, старательно скрывается от нее, как делал все это время после приезда из каторги.
Правда, он умел совладать с собой, он умел, когда нужно было, умерщвлять свои воспоминания, и яд в таких случаях оказывался почти всегда испытанным и сильно действующим. Этим ядом была его собственная свободная жизнь. Она была сильней всего. Перед самим собой он не боялся сознаться в том, что чувствует себя ее бесконечно обязанным холопом, до фанатизма преданнейшим рабом, в душевном исступлении падающим ниц перед каждым ее мельчайшим, но доступным ему проявлением. И он никогда не докаялся бы…
— Совершенно верно: вы не знали ни одной фамилии, — кивнул головой Губонин, — но факт остается фактом. Вы не согласны разве со мной?
Иван Митрофанович чуть-чуть отодвинулся: Губонин глубоко положил ногу на ногу, ступню на коленко, и неловко зацепил носком лакированной туфли его брюки.
«Даже не извинился», — подумал Иван Митрофанович.
Губонин, придерживая обеими руками ступню закинутой ноги, мерно раскачивал свой корпус. Голова его была немного откинута назад и глаза устремлены в сторону Теплухина, но не на него, а куда-то ввысь.
Неподалеку раздалась хриплая, кряхтящая трель дергача. От неожиданности оба вздрогнули, и Губонин быстрей обычного сказал:
— Я знаю; вы не откажетесь выполнить нашу просьбу. Тем паче что требуется в конце концов сущая ерунда. Хотите — прямо? Извольте! Вы должны будете поделиться с нами вашими впечатлениями о «делах и днях» небезызвестного вам человека, А может быть, и не одного, а двоих.
— О ком вы говорите? — не без сильного любопытства спросил Иван Митрофанович.
— Одну минуточку, Иван Митрофанович. Что касается первого, то он займет у вас не так уж много времени, ей-богу! Ну, летние месяцы, иногда — в середине года. А второй не столь важен, но при известных условиях — любопытен. Ну, теперь изволите догадываться, что я говорю о братьях Карабаевых?
— Они опасны вам? Вы их боитесь? — насмешливо посмотрел на врага Иван Митрофанович: слова Губонина его по-настоящему удивили, и в эту минуту он был занят только мыслью об этом, забыв даже коварный и обидный смысл губонинского предложения.
Почему-то стала забавной одна мысль о том, что всесильная русская охранка, справившаяся с боевыми рядами революции, трусит, оказывается, перед еще более трусливыми и совсем беспомощными в политике, по его мнению, людьми, какими считал общественных деятелей типа Льва Карабаева.
Вот-те на! Пуганая ворона и куста боится… И, неизвестно отчего, он вспомнил вдруг не обоих Карабаевых, а самодовольно улыбающиеся, спрятанные за очки глаза красноречиво вздыхающего адвоката Левитана. «Видали такого… словометателя, ха-ха-ха!» — И Теплухин невольно рассмеялся.
— Неужели они опасны?! Нет… ну, о чем же тут разговаривать! Спите, господа хорошие, спокойно. Никаких таких «впечатлений» я вам не буду докладывать. Не собираюсь и не буду, — уже твердо и облегченно сказал он. — Ну, пора нам расстаться, — сделал он попытку встать, но в тот же момент почувствовал, что на этом беседа их не окончится, не может окончиться, — и он остался на месте, неловко заерзав на скамье.
— Не будете? — качнулось назад губонинское плечо и — застыло.
— Н-не хочу!
— Ах, Иван Митрофанович, Иван Митрофанович! Темперамента в вас много. Но, впрочем, ближе к делу! — оборвал Губонин себя и выпрямился на скамье. — Еще раз напомню вам: киевляне-то — ваших рук дело, а? Ведь «просвещенные, демократические» слюнтяи, если бы узнали, немедленно объявили бы вас предателем, — не так? Одну минуточку, Иван Митрофанович, — спокойней. Я не угрожаю. Я только помогаю вам проанализировать создавшееся положение. Далее: кое-кто имел бы полное основание считать вас виновником смерти близкого человека…
— Вы — убийцы; — глухо сказал Иван Митрофанович. — Я лично не знал никакого голубевского студента.
— Но потому, что нам стало известно о его существовании, мы и открыли все. Но не в нем дело. Вы не знали также офицера Галагана!
— Я?.. Его?..
— Да, вы — его!
— Я ничего не понимаю, господин Губонин., Вы просто клевещете и приписываете мне подлость, в которой я неповинен. Это, конечно, «стиль» охранки!.. При чем здесь Галаган? Какой офицер?
В голосе Ивана Митрофановича появилась хрипота придушенного гнева.
Упоминание фамилии Галагана было самым неожиданным из того, что случилось в сегодняшний тяжелый вечер.
Еще только час назад он думал о Людмиле Петровне, он вспоминал каждую фразу ее письма, лежащего сейчас в боковом кармане, обсуждал письмо, подыскивал решение… Еще только час назад, читая в письме о поручике Галагане, он меньше всего обратил внимание на это место в послании Людмилы Петровны, потому что никогда и ничего не знал подробно о ее муже, за исключением того, что он застрелился, но почему — Людмила Петровна не считала нужным рассказывать, а сам он, Теплухин, не испытывал такого интереса, чтобы разузнавать. И вдруг Губонин, — кто же? — Губонин! — напоминает почему-то о поручике Галагане!.. Что за нелепость!
Иван Митрофанович искренно недоумевал.
— Я понимаю: для вас эта история действительно неприятна, — продолжал уже Губонин таким сочувственным тоном, как будто бы собеседнику все было ясно, хотя он всем своим видом доказывал противоположное, в чем сам Губонин и не сомневался. — Подумать только, Иван Митрофанович… Вы в очень хороших отношениях с женщиной, муж которой застрелился потому, что вы послужили тому… ну, что ли… существенной причиной. Хоть кому это отравило бы настроение! Одну минуточку, — спокойней! Я объясню все. Поручик Галаган — порывистый и увлекающийся человек, о котором мне случайно пришлось слышать еще в царстве польском, где я был в служебной командировке. Этот человек не плохих душевных качеств и не плохой дворянской крови был причастен к подпольной киевской организации.
— Что-о?..
— Да, Иван Митрофанович, так оно и было. Но биография Талагана — это не биография революционера. У него и психика, конечно, была совсем, совсем Другая. Беспочвенный, неуравновешенный романтик. Он хорошо декламировал революционные стихи, отдавал все свои деньги каким-то проходимцам, которые гипнотизировали его своим «аскетическим» видом, и в то же время… очень любил свой полк, свою молодую жену и вообще своих дворянских папу и маму! Он застрелился, когда узнал, что его должны арестовать вместе с остальными участниками организации. Ведь впереди — крах, Сибирь, потеря всего, что по-настоящему только и было ему близко, — не правда я ли? Словом, впереди — позор. Ни один Галаган не попадал еще в тюрьму… вы понимаете. В общем, это может служить хорошим сюжетом для Леонида Андреева. Однако в этом сюжете мы должны с вами «похитить» одно звено: вдова поручика никогда не должна узнать, какое отношение имел Иван Митрофанович Теплухин к смерти ее мужа… «Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий». Правильно, кажется, поэт рекомендовал, — не так ли?
Иван Митрофанович уже все понимал. Губонин бросил «игру» — она была не нужна. Губонин угрожал и принуждал.
Он сделал уже свое дело и смотрел теперь на своего пленника с едва скрываемым любопытством. «Я ведь тебя хорошо изучил, — говорил словно его взгляд. — Тебе не уйти от меня, потому что уходить-то некуда. Ты не уйдешь и от самого себя: «жизнью пользуйся живущий», — ха-ха!»
Иван Митрофанович молчал. Губонин вновь закурил и уже не обращал внимания на своего соседа. Он знал, что сейчас надо дать время Теплухину подумать, взвесить все, учесть оценить и его, губонинские, слова, а каково будет решение — он не сомневался.
Он курил, любовался непривычным для его глаза бархатным южным небом и сосредоточенно, как будто только этим был сейчас всецело поглощен, отгонял от себя комаров, суя им навстречу горящий кончик папиросы. Иногда ему удавалось смертельно обжечь комара, тот быстро сгорал на огоньке, Губонин подносил к себе папиросу поближе и следил за казнью насекомого.
И вдруг он опять заговорил, и Теплухин даже обрадовался теперь этому, потому что тягостно стало думать в присутствии молчащего победителя-врага.
— Разъезжаю я по России, Иван Митрофанович, и всматриваюсь в нее. Вы не думайте, что люди моего «ведомства» все уж такие тупицы, прохвосты и негодяи. Ведь так привыкло думать так называемое «прогрессивное» общество? Я сам, конечно, интеллигент, но по совести говорю: презираю громадную часть этих российских культуртрегеров. Не уважаю, Иван Митрофаныч!.. Вот съезды теперь всякие устраивают: шумим, братцы, шумим! Что ни съезд, то всякие легальные либералы, вроде Думского Карабаева, стараются исподтишка протащить кусочек «политической» революции. Гинекологи ли съезжаются, агрономы — все равно! Жив, мол, еще либеральный курилка. А посметь? — На то и зайцы! А могли бы полезное дело делать в нашей азиатской стране. А дело делали бы, — не казалось бы уже все таким «деспотическим, варварским».
— Какое дело? — поспешно спросил Иван Митрофанович. Ему показалось, что неожиданная словоохотливость Губонина вот-вот себя исчерпает и в разговор, как в затухающий костер, следует подбросить сухие сучья новых слов.
— Ясно, какое… (Папироска, как и в первый раз, подброшенная упругим щелчком, полетела в траву.) Стране нужны квалифицированные работники, а наш массовый интеллигент не знает своего дела и не любит его. Он — плохой инженер, непрактичный техник, необразованный врач, некультурный учитель… Пусть занимаются своим делом, а не провоцируют «обиженный» народ.
Он несколько минут еще говорил, но Иван Митрофанович не вслушивался хорошо в его слова, изредка подхватывал только какую-нибудь фразу, и тогда ему казалось, — вопреки первому впечатлению, — что Губонин не так уж умен, что в мыслях его нет ничего оригинального и что все это ему, Теплухину, давно уже знакомо, и, заметив, что Губонин умолк, он озабоченно сказал:
— Ну… а дальше что? — и сразу же понял, что спросил невпопад: Губонин закончил свою речь сообщением о неудобствах в здешней, смирихинской, гостинице.
— Вы меня не слушали, оказывается! — громко расхохотался он, но тотчас же понизил голос и стал, как несколько минут назад, серьезен и настойчив. — Итак, мы договорились, — не правда ли? Мы друг друга хорошо понимаем. Я буду поддерживать с вами письменную связь, язык — условный, конечно. Иногда (на беспокойтесь: не часто, не часто!) я буду руководить… вашими впечатлениями и в свою очередь ставить вас в известность о том, что может и для вас представлять интерес. Уверяю вас, это не так скучно бывает подчас. Запишите мой адрес. Ну, ну… зачем нервничать, вот уж не ожидал. Смотрите, не уроните чего-нибудь. Адрес такой: Петербург, Ковенский переулок, тринадцать, квартира двадцать один, инженеру Вячеславу Сигизмундовичу Межерицкому. Ну, чему удивляетесь: это моя квартира!
Он встал, оттянул, потоптавшись на одном месте, немного наползшие наверх брюки, поправил на голове франтоватую панаму. Над ней, пьяно качнувшись в сторону, пронеслась, едва не сбросив, коротко посвистывающая летучая мышь.
Издалека доносился шум выходившей из театра толпы.
— Пойду в ресторан — поужинаю, Иван Митрофанович… Попрощаемся здесь, что ли?
Иван Митрофанович молча последовал за ним.
Входя в темную аллею, он оглянулся и посмотрел на откос. Чуть пониже края его, причудливо, по-человечески согнувшись, стояло голое сучковатое дерево, нахлобучив на себя черную мохнатую папаху листьев. Он не знал, как близко от дерева неподвижно лежал уставший, изумленный человек.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ Последний мирный день на заводе Карабаева
Сегодня новая заводская динамо-машина должна дать свет в красные домики рабочего поселка.
Георгий Павлович Карабаев пожелал придать событию некоторую торжественность: рабочие были отпущены раньше на час, а сам он в этот день приехал к торжеству не один, а вместе с Татьяной Аристарховной.
Она никогда почти не бывала на заводе; она даже не посетила его после переоборудования и расширения, проведенного в прошлом году: собралась посмотреть, но занемогла в то время и с тех пор не искала случая съездить в Ольшанку, Карабаев же не предлагал. Он мог однажды только пригласить, порекомендовать, но навязывать что-либо жене, а в данном случае эту поездку — это никак уж не входило в его привычки и не было свойственно его характеру.
Так было и во всем в их совместной жизни.
Георгий Павлович полагал, что достаточно уже одного того, что жене известно его мнение по тому или иному вопросу, и оно тем самым должно стать и ее мнением.
Его роль и значение в семье хорошо усвоены были всеми близкими, а интимней и лучше всех — Татьяной Аристарховной.
Она любила его и была предана в своей привязанности, но он приучил ее к тому, чтобы любовь эта замкнулась в самой себе и всегда таила для любопытства посторонних остроту и свежесть неразгаданности, а привязанность лишена была бы малейшего проявления сентиментальности.
Он внушал ей мысль, что при ином поведении может пострадать в глазах других ее достоинство и женское обаяние, а Татьяна Аристарховна была самолюбива и дорожила своим завидным положением жены такого человека, как Георгий Карабаев, и потому приняла без труда и это его указание.
Георгий Павлович умел по заслугам вознаграждать всякого своего союзника — тем более он был щедр в отношении такого интимного и верного союзника, каким была для него в жизни Татьяна Аристарховна: жена, мать его детей, хозяйка его дома. Он очертил ее жизнь широким, просторным кругом материальных и культурных возможностей, желаний, удовольствий; она могла считать себя счастливой.
Он завоевал себе право на свободу и на независимость своих поступков: это было то преимущество, которым, по его мнению, должен был пользоваться. В частности, короткая связь с женщиной в Киеве, в Петербурге, где приходилось бывать, или совсем случайная тут же, в Смирихинске, о чем, кстати, никто никогда точно не мог знать, была ему наградой за приятный, но бесстрастный и однообразный ритм семейной жизни. (Так в последнее время он не прочь был осторожно приволокнуться за вдовой поручика, Людмилой Петровной…)
Другое, во что не допускал ничьего вмешательства, — было его занятие промышленника.
Фабрика и завод, всякие промышленные и коммерческие дела, которые вел с большим умением и недюжинной изобретательностью, — все это оказалось его призванием в жизни!
Из двух своих предприятий он больше любил кожевенный завод. Фабрика также была доходной, но вырабатываемый продукт — крестьянская махорка — казался Георгию Павловичу каким-то простецким, невнушительным, мелколавочным и недостойным того, чтобы помечать на своей упаковке его высокомерную карабаевскую фамилию. Он не позволял печатать ее на копеечных пачках, раскуриваемых мужиками, извозчиками и солдатами!
Фабрика давала немалую прибыль, но все же к махорке своей Георгий Павлович не переставал в душе относиться иронически, с непонятным презрением, про себя называя ее почему-то «нюхательным табаком».
Другое дело — завод! Выросший, заново созданный им, механизированный, «мускулистый» завод!..
В нем словно заложено волевое, мужское начало самого Георгия Павловича, часть энергии его и силы (часть, потому что вся не нашла еще своего воплощения!): завод управляет здесь, диктует свою волю, держит в повиновении присягнувшую ему, покоренную крестьянскую землю.
И Карабаеву было приятно сегодня показать жене своего любимца, еще издалека посылавшего ему навстречу отсвечивающуюся на солнце, приветливую яркозеленую улыбку своих свежеокрашенных крыш, самодовольный дымок трубы и строгое спокойствие каменных широких корпусов.
Он приехал с Татьяной Аристарховной, когда работа еще не была приостановлена.
В заводской конторе их встретили служащие и в том числе Теплухин.
Довольная, что увидела здесь знакомого человека (а по настоящему «знакомыми» считала тех, кто бывал у нее в доме), Татьяна Аристарховна приветливо поздоровалась с ним за руку, удостоив всех остальных бесстрастным ответным кивком головы. Она решила, что иначё и не должна поступать, не уронив в их глазах свой авторитет хозяйки завода.
Она прошла вместе с мужем и Теплухиным в директорский, карабаевский, кабинет. Ей казалось почему-то, что здесь перестанет преследовать ее этот острый зловонный, запах кожи, отравляющий вокруг себя воздух на далекое расстояние..
Неужели же и здесь, в его кабинете, такой же едкий запах?.. Ведь должна же быть, — обязательно должна быть, — какая-то разница между ним и всеми здесь работающими?! И, убедившись сразу же, что и в кабинете тот же запах, ка ой и во всей конторе, Татьяна Аристарховна горько улыбнулась:
— Какая неприятная и грязная должна быть тут работа! Неужели нельзя, избавиться от… этого воздуха?
— Никак! — отвечал Георгий Павлович. — Пойдем на самый завод, не то еще придется обонять.
— Но, может быть, лучше — закрыть здесь окна? (Она уже пыталась проявить навыки своей обычной домашней распорядительности.)
— Закупорим — совсем душно станет. Садись, пожалуйста. Сейчас я распоряжусь принести тебе халат: не запачкаться бы на заводе, — и он позвал одного из служащих, и отдал ему соответствующее распоряжение. — Иван Митрофанович, — обратился он к молчаливо стоящему Теплухину, — сегодня новостей никаких?
— Нет, ничего особенного на заводе.
Между ними завязался короткий, малозначащий деловой разговор.
Татьяна Аристарховна не садилась: ей представилось почему-то, что если здесь такой тяжелый, неприятный воздух, то, вероятно, и на кожаном диванчике и на стульях должно быть пыльно и грязно. Проходя мимо диванчика, она, оступившись (подогнул высокий каблук туфли), наткнулась ногой на угол его и тотчас же озабоченно посмотрела на подол своего платья: не запылилось ли оно… Это была излишняя предосторожность, — в карабаевском кабинете всегда было чисто.
— В нашем распоряжении сорок минут, — сказал Георгий Павлович, передавая ей принесенный чистенький халат. — Пойдем, Таня, — успеешь кое-что посмотреть. Иван Митрофанович, а где Бриних?
— Леопольд Карлович на заводе, он встретит вас там.
Теплухин помог Татьяне Аристарховне надеть халат и вместе с Карабаевым вышел в заводской двор. Они направились к ближайшей постройке.
Татьяна Аристарховна знала, что чех Бриних — заводский мастер, крупный знаток своего дела, которым Георгий Павлович очень дорожит, считая его своей правой рукой в производстве. Значит, и она, жена Георгия Павловича, должна быть соответствующим образом внимательна к чеху, должна быть приветлива. Она подумала поэтому о том, что при встрече надо будет подать мастеру руку, но тотчас же вспомнила, что у него, вероятно, руки не первой чистоты, так как «возится где-то там», — и чуть брезгливо поморщилась.
Если уж пришлось приехать сюда, но лучше бы сидеть у Софьи, а так — и то и другое придется сделать… Она недолюбливала Софьи Даниловны, но, дорожа родством с таким известным человеком, как депутат Карабаев, всячески скрывала свое чувство.
Она посмотрела на рядом шагавшего Теплухина и вдруг подумала о нем так, как раньше не приходилось думать.
И чех Бриних, и служащие в конторе, и вот эти встречающиеся на пути рабочие, и муж — властелин на заводе, присутствие всех их здесь не вызывало и не могло вызывать никакого удивления. Мужу все здесь принадлежит, все служит; все эти люди живут, приходят сюда, работают, как делали и раньше и как будут делать и впредь, потому что это — их место в жизни и другого они не искали и не ищут. Но как удивительно, что среди них оказался теперь вот этот человек — Теплухин!
Татьяна Аристарховна знала, как и все в городе, его тюремное прошлое, его испытания на каторге. Жизнь Теплухина никак не походила на жизнь всех остальных и тем самым выделяла его среди окружающих.
В первый раз увидев его по возвращении из Сибири, она с любопытством смотрела на Ивана Митрофановича, с большим интересом слушала его необычные рассказы, и рассказанное так не походило на все знакомое ей из жизни окружающих и ее собственной.
Его биография никак не давала основания предполагать, что он очутится здесь, на заводе Карабаева. Иван Теплухин исправно нес обязанности старшего конторщика-корреспондента. Он был уравнен со всеми в глазах Татьяны Аристарховны, он потерял свои отличительные черты, свою особую «окраску», — он стал безразличен Татьяне Аристарховне, как и все служащие ее мужа.
…У корпуса, где происходило золение, их встретил мастер Бриних. Он учтиво поздоровался с Карабаевым, дольше обычного, но все же мельком задержал свой взгляд на Татьяне Аристарховне и повел их в отделение. Пожимать ему руку не пришлось, потому что руки его были в кожаных черных перчатках, которых при встрече не снял.
Чех понимал, что его обязанность сейчас — давать пояснения почтенной «madame», и он, идя впереди, вдоль стоны, говорил размеренно и монотонно, с акцентом, а Ивану Митрофановичу казалось, что, должно быть, сухонькому старику Бриниху скучно это делать, что он сам не слушает своих слов, но отказаться от своих обязанностей не может.
— Мы практикуем, madame, круговую золку. У нас много ям с известью. Отработанный раствор из последней ямы спускается вон, и в этот яма разводится свежий раствор. Теперь в этот самый яма перекладывается кожи из предыдущей, где были, madame, кожи самой старой загрузки. Затем из предыдущей и предпоследней яма, и пошел так дальш. В яме номер первый бывает самый старый раствор, и в ней закладываются самый свежий шкура. Когда шкура объехала все ямы, ее вынимают — готово, madame. Эпидермис и шерсть легко отделяются от кожи. Легко, очень легко делается это. Ну, какой пример… ну, пример? Вроде как отделяется кожа со свежей жареный окорок…
Окорок Татьяна Аристарховна без труда представила себе, но всего остального, о чем говорил аккуратный мастер, она не понимала, да и не старалась вникнуть в его пояснения.
Она осторожно шла за Бринихом по узкому дощатому настилу, стараясь не запачкать туфель о какие-то отбросы, валявшиеся на пути. Когда Бриних останавливался у какой-либо ямы, останавливались и все, и тогда Татьяна Аристарховна, не заботясь на минуту о туфлях, подымала голову и оглядывала зольник.
Как мало интересен был ей этот осмотр завода, как неприятны зловонные грязные ямы, наполненные вымачивающимися в извести шкурами, как безразличны все эти рабочие, приумолкшие при появлении Карабаева, и как досадует она, что приходится слушать объяснения исполнительного и неторопливого чеха… Татьяна Аристарховна смотрела вокруг пустым, рассеянным взглядом.
Они подошли к промывальному барабану. Он вертелся с относительно большой скоростью, шумя и отбрасывая от себя прохладные волны короткого ветра. Татьяна Аристарховна старалась держаться подальше от барабана: она инстинктивно боялась его движения, которое, того и гляди, причинит какое-нибудь увечье. Но в то же время он заинтересовал ее — к удовольствию Карабаева, которого первоначальное безразличие жены несколько коробило.
— Здесь, Таня, промывается кожа, — почти выкрикивал он, чтобы заглушить шум. — Барабан полый, с перегородками внутри. В нем вода и кожи, — понимаешь? Быстрая и сильная встряска — и вся соль извлекается из кожи. Раньше двое рабочих вертели, и скорость не та была, а теперь, смотри, — машина! Один человек за двумя барабанами следит: только и дела!
— Голова тут может закружиться, — слабо улыбнулась она.
— Пустяки, барыня! — не утерпел надсмотрщик-рабочий и хитро подмигнул остальным. — Вот кабы в самый барабан кому сесть — тогда другое дело! Верно: закружить вполне может…
И глаз его, чуть-чуть тронутый бельмом, перебежал вдруг на Карабаева и украдкой нацелился на него: «Черт его знает, может, хозяин еще рассердится за вмешательство в их разговор?!»
Но Георгий Павлович не выказал признаков недовольства.
Когда они прошли в дубильный корпус, оборудование его показалось Татьяне Аристарховне уже знакомым, так как во всю длину отделения растянулись такие же ямы, как и в зольнике.
Ямы издалека были похожи на открытые, незасыпанные могилы. Между ними были узкие проходы, по которым, ловко уступая дорогу друг другу, шныряли рабочее. На стенах висели длинные крюки: ими опускали и вынимали из ям дубильные кожи. Вдоль ям стояли — в половину среднего человеческого роста — наполненные какой-то мутной жидкостью насосы.
В дубильном отделении рабочих было гораздо больше, чем в зольнике, и Татьяна Аристарховна почувствовала на себе множество любопытствующих, но почему-то угрюмых и настороженных взглядов.
* * *
Зловоние душило ее. Вынув из сумочки надушенный батистовый платочек, Татьяна Аристарховна поминутно подносила его к носу.
— Ишь ты, без духов и минуты не может, — негромко сказал костлявый Вдовиченко, работавший у ямы рядом с Николаем Токарёвым.
— Надышалась бы нашими «духами» — хоть неделю, — буркнул Токарев. — А мы всю жизнь так.
Слова их до Татьяны Аристарховны не долетели. Внимательно, как «способная ученица», она вслушивалась в слова мужа.
— Волокна кожи жадно поглощают танин, соединяются с ним — в этом, Таня, и состоит дубление, — рассказывал Георгий Павлович. — От соединения волокон с этим желтовато-серым порошком — танином — свойства их изменяются.
— Как? Почему? — забрасывала она вопросами.
— Они делаются, Таня, нерастворимыми в воде, более прочными и стойкими по отношению к гниению. Понимаешь?
— Конечно, все понимаю! — говорила она, улыбаясь, и не обманывала.
Уже нет времени осматривать весь завод, так как через десять минут — гудок, но она уже многое, многое знает, она, ей-богу, «способная ученица»…
Ну, хочет Жоржа, — и она может повторить все то, о чем вот рассказывал ей сейчас медлительный Леопольд Карлович! Хочет? — ну, пожалуйста…
И Татьяна Аристарховна повторяет, как хорошо выученный урок.
— Ну, вот… Кожа выдублена… ее помещают в сушильный сарай. Там ее вешают на жерди и просушивают. Так, Жоржа? Когда она несколько просохнет, ее прокатывают на особых катках. Ну, конечно, так, господа! Кожу нужно хорошо прокатывать на особых станках или на вальцах, и они придают коже мягкость и окончательную отделку. Разве я не понимаю, господа? Я все, все хорошо понимаю… Но самое ценное, Жоржа, танин! Верно?
Она тихо и ласково смеется, засматривая мужу в глаза.
— Та-нин! — весело, вполголоса говорит она Георгию Павловичу и многозначительно повторяет: — Таня — танин — самое главное, правда?
Она случайно набрела на эту выигрышную игру слов, и ее это забавляет и радует. Как удачно — «танин»! И как нельзя без этого вещества обойтись здесь, на заводе, так нельзя ему, мужу, обойтись в жизни вообще без «Тани», без нее, Татьяны Аристарховны, — жены, матери его детей, устроительницы их совместной семейной жизни. Все, все в его, карабаевской, жизни, должно быть пропитано, насыщено этим замечательным «танином». И она жертвовала уже ударением на первой гласной в этом слове, ибо разве не все здесь — ее, Танино?..
— Да, танин, — усмехнулся игре слов Георгий Павлович и подумал с удивлением, как это ему самому ни разу не приходило в голову это любопытное словесное совпадение.
Да, сейчас он испытывал сложное, двойное чувство удовлетворения. В одно и то же время он рад был двум разным, казалось, обстоятельствам. Жена прониклась, наконец, робостью и уважением к его детищу — заводу, а стало быть, еще лишний раз почувствовала силу, власть и независимость его самого — Георгия Павловича, мужа. Он горд был победой завода.
Но вместе с тем он гордился перед заводом своей женой. Дома он привык и сжился с ней; здесь же, в обстановке необычной для Татьяны Аристарховны, ее внешние качества он увидел и оценил как бы вновь и ярче.
Ему было приятно, что она еще женственна и красива, что у нее свежие, молодые глаза и такие же губы, что долгое замужество почти никак не сказалось на ее статной фигуре, а смех все еще звучит волнующе и весело.
Да, он показывает, демонстрирует, почти с надменностью перед всеми свою красивую, «удачную» жену, как только что ей показывал, демонстрировал — с такой же гордостью — свой завод, своих рабочих, свою удачу. Ибо и завод и жена — это его неотъемлемая собственность, ибо и завод и жена принадлежат только ему одному — Георгию Карабаеву.
…Он самодовольно смотрел поверх окружающих в одну точку, роняя сытую, спокойную улыбку в свой смуглый цыганский ус.
Электрический ток был дан в красные домики рабочего поселка, но ожидавшийся эффект не последовал: вспыхнувший желтоватый свет в лампочках над потолком потонул и растворился в еще не угасшем дневном свете природы, широко все объявшем вокруг.
Лампочки припали к потолку безжизненными, хилыми и ослепленными.
Татьяна Аристарховна была недовольна. Ей хотелось бы видеть праздничную иллюминацию, а внешне получилось все как-то скучно и совсем уж без торжественности. Неужели же он, Жоржа, не мог этого предусмотреть?
Она искоса поглядывала на окружающих, и ей казалось, что одни из них сдержанно улыбаются, другие смотрят исподлобья, третьи только делают вид, что благодарны Георгию Павловичу. Да как они смеют не выказывать сейчас же, открыто своей признательности ему?!
Гневный, раздраженный взгляд Татьяны Аристарховны натолкнулся в этот момент на Теплухина.
Иван Митрофанович стоял в сторонке, спиной, к ней, и разговаривал с каким-то молодым рабочим. И, словно почувствовав на себе ее острый и пристальный взгляд, Иван Митрофанович обернулся. Он не знал, что приобретает в эту минуту если не активного врага, то во всяком случае неприязнь и недружелюбие человека, со стороны которого эти чувства к себе считал бы менее всего возможными и заслуженными.
Но так случилось. Татьяне Аристарховне вдруг показалось, что эти развернутые, «расстегнутые» теплухинские губы еще не успели подобрать злой, насмешливой улыбки, которой, очевидно, отвечал на замечания своего собеседника: тот с серьезным выражением лица, сосредоточенно говорил о чем-то и время от времени протягивал руку то в сторону завода, то по направлению к новым домикам рабочих. «А он его еще разубеждает, — у-у, неблагодарный! — подумала Татьяна Аристарховна о Теплухине. — Зачем ему Жоржа протежирует? Вероятно, исподтишка еще настраивает против нас рабочих… Змея на груди!»
И уже никто бы сейчас не мог разубедить ее: она всегда и во всем доверяла, только своему инстинкту, а на этот раз он явно вооружился против Ивана Митрофановича.
— Доказательства? — спросил Георгий Павлович жену, когда они сидели уже в экипаже, отвозившем их в город. Ну, что значит «впечатление», Таня? Ты сама говоришь, что не слышала, о чем он говорил с этим рабочим Токаревым. Так ведь?
— Я твоего Токарева и не обвиняю. Он, может быть, и ценит тебя, но Иван Митрофанович…
— Дался же он тебе сегодня?
— Мне сердце подсказывает, Жоржа. Он злой, завистливый человек. О, поверь! Мы, женщины, умеем тонко чувствовать и распознавать людей, если они почему-либо нас заинтересуют.
— А в данном случае в качестве кого может интересовать тебя Теплухин?
— В качестве… ну, как тебе сказать? В качестве… твоего, нашего недоброжелателя.
— Доказательства? — вновь переспросил Георгий Павлович и лукаво посмотрел на жену.
Рессора мягко сплющилась и разогнулась (дорога изобиловала выбоинами), и их обоих покачнуло и слегка подбросило на экипажной подушке. Лукавая улыбка, на мгновенье сломавшаяся от толчка на карабаевском лице, вновь аккуратно разместилась на нем, встречая растерявшийся, несобранный взгляд Татьяны Аристарховны.
— У меня одно доказательство, Жоржа, — сказала она, — это моя преданность тебе! Ты доволен?
— Спасибо, Танин!
Искренно растроганный, он взял ее руку и, отогнув у кисти шелковистую перчатку, неслышно поцеловал женину руку.
Но эта награда ему самому показалась недостаточной. Он счел нужным ответить на ее подозрения, ответить и разбить их, успокоив тем Татьяну Аристарховну.
— Ты не беспокойся, Таня. Я хорошо знаю таких людей, как Теплухин и ему подобных, — уверенным, чуть-чуть флегматичным тоном сказал Георгий Павлович. — У них испорченная биография. Жизнь подвергла их своеобразной эпитимии: коситься, угрюмничать и самоотравляться своим же, каким-то золотушным ядом…
— …недоброжелательства и зависти! — упрямо подсказала Татьяна Аристарховна и тотчас же испугалась, что перебила мужа, так как он этого не любил во время серьезной беседы, а по его тону поняла, что Георгий Павлович собирается посвятить ее в нечто значительное.
— Зависти? Пожалуй, — согласился он и добавил: — припадков зависти, сказал бы я, и еще мелкого скепсиса. Конечно, это и есть у Теплухина. Причина ясна, друг мой: революции уже нет, да и вряд ли теплухинская революция будет в наш век… А люди «теплухины» живут, да и жить им надо — биология! Надо примириться, покладистей, оказалось, надо быть. Чтобы понять и знать Ивана Теплухина, надо обобщить вопрос о всех «теплухиных». Я говорил об этом, между прочим, с нашим Левушкой зимой, когда он приезжал сюда. Я Теплухина отлично разузнал, понял и всего вижу насквозь. Он человек способный, и этот бывший эсер-каторжник будет служить моему делу не хуже, чем когда-то — бесформенному делу революции. Когда ты его встретишь следующий раз, поздравь его с новой службой.
— С какой? — удивилась Татьяна Аристарховна и от неожиданности протянула руку к прямой, вытянутой спине кучера, словно быстрая в этот момент езда мешала ей расслышать и понять слова мужа, и хотелось, чтобы кучер сдержал лошадей.
— На днях Иван Митрофанович заявил мне, что хочет уйти со службы, — не отвечал на прямой вопрос Карабаев. — Я, должен сознаться, был удивлен и спросил его о причинах.
— Ну, и что же?
— Он отвечал мне как-то невразумительно, ссылаясь на какое-то недомогание… Словом, ерунда, конечно! Не в этом дело. Но я понял: Теплухин хочет лучшего места, чем он у меня имеет.
— Но ведь на казенную его никто не примет!
— Совершенно верно. Значит ли это, что его способности должны загнивать на службе у меня? Я прямо ему сказал об этом и тем самым… покорил его, Таня! Доказал ему — понимаешь? Я предложил ему место моего доверенного лица… Ну, вроде личного секретаря.
— Ты… ты не шутишь, Жоржа? Почему это вдруг?
— Я не шучу, — серьезно и деловито сказал Георгий Павлович. — Я намерен вскоре поручить ему дело, вести предварительные разговоры в Петербурге.
— В Петербурге?!
— Да, в Петербурге, Таня. Я отправляю его к Величко — получить у него согласие на продажу сахарного завода. О, как еще наш Иван Митрофанович покажет себя! Это — благодарный человеческий материал. Но помни, никогда не надо напоминать ему, без серьезного основания, о его прошлом: воспоминания — вещь ревнивая и капризная!
Георгий Павлович вдруг оборвал беседу и замолчал.
По тому, как он смотрел сейчас вперед себя — немым и долгим взглядом, — Татьяна Аристарховна поняла, как всегда в таких случаях, что он начал о чем-то думать, и прервать его в эту минуту она никогда бы не решилась.
Она хорошо знала привычки мужа. Она никогда не могла ему противоречить и мешать.
В тот день, когда Теплухин впервые очутился в Петербурге с поручениями к инженеру Величко, в тот самый день впервые Георгий Павлович Карабаев почувствовал вдруг, что допустил некоторую ошибку: переговоры о покупке сахарного завода следовало, по всей видимости, отложить. Все полученные сегодня в Смирихинске газеты изобиловали крупным шрифтом, тревожно возвещавшим близкую, неминуемую войну.
В этот вечер Георгий Павлович созвал всех своих друзей. Большой географический атлас Ильина подробно был изучен присутствующими. Все уже знали, где Сараево и Белград и сколько верст от австрийской границы до мирного Смирихинска.
Ночью, лежа в постели, Георгий Павлович подумал уже о том, чего вслух никому бы не высказал.
Сухая, и точная, как цифра, мысль сменила и подытожила все впечатления и разговоры: «Во время войны требуется много сапог и очень популярна махорка!..»
Он протянул руку к ночному столику и закурил туго набитую сигаретку: это помогало думать.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Так было в Петербурге
Ни ротмистр Басанин, ни исправник Шелудченко не уследили, когда и каким путем выбыл в июле из Смирихинска Савелий Францевич Селедовский, находившийся под надзором полиции.
Газетный киоск его отца, Франца Юзефовича Селедовского, занимал особое место в жизни смирихинских горожан. Старик выписывал газеты всех политических направлений — киевские, петербургские, московские, и у его магазинчика на центральной Гимназической улице собиралась в час доставки с вокзала газет немалая толпа покупателей. Распространял Селедовский по преимуществу «левую», либеральную печать. И потому, что ее, конечно, больше всего читало население; но и потому, что этим выбором газет старик воспитывал, как признавался друзьям, общественное мнение жителей города. Да, да, пускай и члены окружного суда читают только эти газеты, и все чиновники, которых так много в Смирихинске, и гимназические учителя пусть читают, и военные, и даже сам исправник, и жандармский ротмистр пусть… Правда, последним двоим он обязался доставлять шульгинский «Киевлянин», «Новое время» и погромное «Русское знамя», но старик с удовлетворением заметил, что в последнее время оба представителя правительственной власти не берут этой черносотенной газетки, а присылают городового за «Русским словом» и «Речью».
У старика были свои счеты с русским правительством и его чиновниками. После революции 1905 года, когда в киевской судебной палате слушалось нашумевшее тогда дело «смирихинской республики», три сына Селедовского и он сам сидели на скамье подсудимых. По приговору суда он отбывал двухгодичное тюремное наказание, а сыновья получили по четыре года тюрьмы.
Эта польская, обрусевшая социал-демократическая семья даже за обеденным столом была разделена на фракции: самый старший сын был плехановцем, средний — Савелий — большевиком, а третий — Геннадий — признавал только Мартова.
С Геннадием Францевичем дружил Федя Калмыков и этой дружбой гордился. Это потому, что ни с кем из гимназической молодежи Геннадий Францевич не якшался, был замкнут, ходил одиноко по городу — очень высокий, длиннорукий, всегда в толстовке с черным бантом, всегда с какой-либо книжкой в руке и хлебным шариком — в другой, который он вечно мял, покручивая большим и указательным пальцами. Ни шляпы, ни картуза летом не носил, голову держал прямо, придерживая на ветру всей пятерней густую шапку своих волнистых черных волос с серебристыми — не по летам — прядями; темные глаза его казались тоже черно-серебристыми.
Он был бы очень красив, если бы не утолщенный, примятый в кончике нос: словно, появляясь на свет божий, Геннадий Францевич, идя из утробы лицом вперед, наткнулся носом на что-то твердое. Брат Савелий уверял шутя, что это революционный марксизм больно нащелкал по носу Геннадию за его упрямство, книжность и близорукое восприятие жизни.
— Его теоретическая позиция, — весело говорил о брате Савелий Селедовский, — напоминает мне такой анекдотический случай. В начале семнадцатого века, знаете ли, один из начальников иезуитского ордена, которому какой-то монах хотел показать в зрительную трубу недавно открытые солнечные пятна, отказался от этого, заявив: «Напрасно, сын мой, напрасно, я, голубчик, дважды прочел всего Аристотеля и не нашел ничего подобного. Пятен нет! Они проистекают от недостатка твоих, сын мой, стекол или твоих собственных глаз». Таков и наш Геннадий: «пятен нет». Поговорите с ним — он не дважды; а трижды поклянется обеими бородами: и Марксовой и бородой Энгельса. Но он не понимает того, что теория, не доказанная революционным В наши дни опытом, — все равно, что святой, не совершивший чуда.
О старшем брате, плехановце Болеславе, земском статистике, Савелий Селедовский отзывался так:
— Ну, с этим в поход не тронешься: насыпь ему кажется горой!
— Что ж, каждый со своей свечой ходит в жизни, — рассуждал примирительно старик Франц Юзефович, деля свои отцовские симпатии между всеми тремя сыновьями.
Но нет, «свеча» в жизни не устраивала Савелия; он давно уже держал в своих руках светильник иной силы и яркости и, когда, тайком покидая город, распрощался с родными, — сознался им:
— За границу, к, Ленину…
Это случилось в начале июля 1914 года. В Петербурге Селедовского уже ждали. Он покидал Россию с ведома ЦК партии. Вместе с Савелием Францевичем должна была перейти нелегально шведскую границу разыскиваемая охранкой молодая чертежница-большевичка, родители которой эмигрировали еще год назад в Париж. Ее звали товарищ Магда.
Разве могли они оба думать в первую встречу, что жизнь обручит их друг с другом? А так произошло вскоре.
Опасаясь неудачи (охранка могла арестовать кого-либо из них) или возможных происшествий в нелегком пути, каждый из них — и Селедовский и Магда — повезли с собой по экземпляру большого информационного письма, которое направлял через них Петербургский Комитет партии Центральному Комитету за границу. В этом обзорном информационном письме сообщалось:
В середине мая в Петербурге была организована большевиками забастовка протеста против приговора обуховским рабочим, участникам прошлогодней стачки. Наряду с политическими забастовками происходили и экономические. Одной из наиболее крупных и упорных, сильно обеспокоивших правительство, была стачка в Колпино, на Ижорском заводе, принадлежавшем морскому ведомству. В Колпино была направлена казачья сотня — однако это не запугало рабочих. После трехнедельной стачечной борьбы ижорцы добились удовлетворения своих требований.
Пример питерского пролетариата послужил толчком к чрезвычайному подъему рабочего движения по всей России. Стачки — как экономические, так и чисто политические — перекатывались из одного промышленного города в другой. Шла пробная мобилизация сил, уже открыто угрожающих ненавистному режиму. Бастовали текстильщики Московского района, текстильщики Костромы и Владимира.
На далеком юге, в Баку, произошли события, о которых в письме Петербургского Комитета рассказывалось особенно подробно. Непосредственным поводом для объявления бакинской забастовки послужили несколько случаев чумного заболевания вблизи нефтяных промыслов. Угроза страшной болезни была чрезвычайно велика: по свидетельству виднейших русских ученых, обследовавших жилища рабочих-нефтяников, условия жизни бакинских рабочих были ужасны.
Профессиональный союз промысловых рабочих потребовал от нефтепромышленников постройки новых жилищ, но получил в ответ не только отказ, но и полицейские репрессии: ряд деятелей профессионального союза был арестован. Тогда рабочие объявили всеобщую забастовку, в которой приняли участие пятьдесят тысяч человек. Стачечный комитет возглавлялся большевиками. Несмотря на пестрый национальный состав: азербайджанцы, русские, армяне, татары, персы, — вся масса бакинских рабочих единодушно объединилась для борьбы с нефтепромышленниками. Стачечники потребовали увеличения заработной платы, улучшения квартирных и продовольственных условий на промыслах, допущения представителей от рабочих в организации медицинской помощи, устройства поселков, постройки народных домов, введения всеобщего обучения и проч.
На все эти требования союз предпринимателей ответил локаутом. Всем забастовщикам был объявлен расчет, паспорта уволенных были переданы в полицию, к рабочим было предъявлено требование немедленно очистить занятые ими «казенные» квартиры. Судебные инстанции с завидной быстротой штамповали многочисленные иски владельцев нефтепромыслов. Промысловая администрация свирепствовала: выбрасывала из рабочих казарм мебель, ломались в квартирах печи, приостанавливали подачу электрического тока, накладывала пломбы на водопровод.
Бакинский градоначальник превратил город в военный лагерь: после восьми часов вечера запрещено было выходить на улицу. Шесть казачьих сотен готовы были пустить в ход свое оружие. Профессиональный союз нефтяников был разогнан, тюрьма не могла вместить всех арестованных. И тем не менее в последних числах июня рабочие-бакинцы устроили двадцатитысячную политическую демонстрацию!
Недобор нефти, добыча которой прекратилась вследствие забастовки, начал беспокоить ряд крупных промышленников и в первую очередь влиятельных судовладельцев: гляди, приостановится движение судов… Для борьбы с неукротимыми стачечниками царь послал в Баку товарища министра внутренних дел — известного жандармского генерала Джунковского.
Бакинцы обратились за помощью к рабочим других городов. В Петербурге начались денежные сборы, на ряде фабрик и заводов рабочие отчисляли определенную часть своего заработка. Узнав об этом, петербургский градоначальник издал «обязательное постановление», воспрещающее сбор денег «на цели, противные государственному порядку и общественному спокойствию, какими бы то ни было способами, в том числе и путем печати в виде объявлений, воззваний, открытием редакциями газет и журналов сборов денег на поддержание забастовщиков, в пользу ссыльных, на уплаты взысканий, наложенных судом или административной властью и других недозволенных сборов».
С первых чисел июля массовое движение на петербургских фабриках и заводах начало быстро нарастать. Первого июля забастовали рабочие заводов Лангезиппена, Трубочного, Лесснера, Эриксона, Сименса и Шуккерта, Айваза: «Товарищи бакинцы, мы с вами», «Победа бакинцев — наша победа!»
3 июля произошли события, эхо которых прокатилось по всей стране, — так же как и бакинские дела. Шел двенадцатитысячный митинг дневной смены путиловцев. Решено было по предложению ораторов-большевиков усилить сбор в пользу бакинцев и объявить однодневную забастовку солидарности. Митинг происходил на заводском дворе, — расходясь, рабочие подошли к воротам и потребовали от охраны открыть их. Но не успели ворота распахнуться, как во двор ворвались отряды пешей и конной полиции. Были пущены в ход нагайки. Рабочие ответили камнями. В ответ последовали ружейный залп и конная атака на толпу. Выстрелами, полицейских было ранено пятьдесят человек и двое рабочих убиты. Свыше ста путиловцев были брошены в тюрьмы…
На другой день большевистская газета «Трудовая правда» вышла с подробным сообщением о расстреле. Не забастовки протеста, а забастовки гнева и возмущения охватили на следующий день рабочий Питер. С утра забастовало девяносто тысяч человек. Рабочие и работницы с красными флагами и пением революционных песен высыпали на улицу.
— Особенно бурно прошли демонстрации в районе Путиловского завода, — рассказывал Селедовскому снабжавший его различными документами большевик по фамилии Ваулин. — По требованию рабочих были закрыты все трактиры и казенки. На Путиловской ветке толпу встретил отряд полиции. По демонстрантам дали несколько залпов, но толпа не расходилась, она булыжником разогнала «средиземную эскадру»… полицейских: у нас их так почему-то называют. Другое, крупное столкновение произошло в тот же день на Выборгской стороне, на Сампсониевском проспекте, около завода «Новый Лесснер»… Петербургский Комитет наш обсуждал дальнейший план действий, — продолжал свой рассказ Сергей Ваулин, а Савелий Францевич старался не пропустить ни одного слова, дабы со всеми подробностями передать товарищам в Швейцарии о питерских делах. — Нашей задачей было соединить разрозненные еще покуда выступления рабочих и превратить их в единое, мощное движение. Решено было, товарищ, продолжать массовую забастовку еще на три дня и организовать новые, уличные выступления. Приурочили к седьмому, ко дню приезда сюда Пуанкаре, французского президента. Если раньше партия обращалась с призывом выступить на поддержку бакинской забастовки, то теперь основным нашим лозунгом — протест против расстрелов рабочих в Петербурге.
Седьмого июля не узнать было многих питерских улиц. Уже первые трамвайные вагоны, вышедшие из парка, были остановлены демонстрирующими рабочими. У вагоновожатых отбирались ключи и ручки от моторов, пассажиров высаживали, вагоны опрокидывались. В середине дня многие трамвайщики присоединились к бастующим. Во многих частях города рабочими были закрыты все лавки и магазины. Буржуазные газеты С крайним удивлением писали об абсолютной трезвости, царившей в те дни в рабочих районах.
Савелий Селедовский покинул Россию в тот день, когда в ее столице бастовало уже сто пятьдесят тысяч человек, когда на проспектах, улицах и в переулках Петербурга появились баррикады и на многих из них развевались красные флаги.
Готовились к революционному штурму самодержавия, но пришла — война…
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ Война! Царь и петербуржцы
В этом году в Европе, как утверждали политики, скопилось много свинца и очень много неразрешенных и принципиальных вопросов.
Война, кружилась над государствами Европы, как коршун над дворами заботливых и стерегущих свое добро поселян. Выхвати коршун чьего-либо цыпленка, — и пойдет среди дворов жестокая кутерьма.
Нужен лишь был повод для войны, и он был найден. Безусому сербскому юнцу суждено было стать известным народам всего мира: гимназист Гаврила Принцип, юнец с аллегорической фамилией бросил, смертоносный свинец в австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда и его светлейшую супругу, герцогиню фон Гогенберг.
Бедный эрцгерцог! Еще недавно, как сообщали петербургские дипломаты, он мечтал вместе с Вильгельмом германским в замке Конопишт об осуществлении идеи триализма, — монархия должна стать трехчленной: сербохорваты, сербы и словенцы «ждали» своего объединения под скипетром Габсбургов.
Нужен был только повод для войны с этим мелким, провинциальным Белградом!..
Бедный эрцгерцог! Судьба решила, чтобы искомым предлогом сделалась его собственная смерть.
Так говорили в Санкт-Петербурге сдержанные и скупые на слова дипломаты в знаменательный день объявления австросербской войны.
Дипломаты оправдывались, дипломаты возмущались, дипломаты сконфуженно разводили руками… Да помилуйте, кто же из честных и следующих международному, что ли, «этикету» политиков мог предполагать, что упрямая и коварная Вена престарелого Франца-Иосифа решится в это время начать столь опасную и непроверенную игру?! Ведь между преступлением 15 июня и попыткой наказать родину Гаврилы Принципа прошел почти целый месяц!
И правда: всей Европе казалось, что при всем возмущении поступком сербского гимназиста дело пойдет обычным путем и расследование убийства не перейдет с юридической почвы на политическую. Да разве можно в каникулярное время для королей и дипломатов… начинать войну?
Наступило летнее затишье, и чем не мирны и спокойны прогулки утомленных за год европейцев?.. Французский президент Пуанкаре в сопровождении премьера Вивиани прибыл в Петербург, и почти в то же время, немного раньше, великобританский адмирал Битти пришвартовал свою дружественную эскадру к берегам Невы. Император австрийский поехал в дачный Ишль и вызвал туда же своего министра иностранных дел. Сербский премьер объезжал страну для выборной агитации, а старик главнокомандующий, генерал Путник, лечил, как говорили, свой суставной ревматизм в австрийском курорте.
Полный штиль!
Дипломаты недоумевали, дипломаты возмущались: Извольский — из Парижа, Свербеев — из Берлина, Шебеко — из Вены приехали к себе на родину, в Россию, и вдруг — пожалуйте! Добро, что можно оправдать невольную несвоевременность своего отъезда примером, поданным другими: английский посол уехал из Берлина (куда? — на родину!), французский — из Белграда и хитрый Сан-Джулиано (министр иностранных дел!) — из Рима на курорт Фуиджи.
И вот уж, наконец, и сам творец европейской политической погоды — император Вильгельм — отправился в обычную прогулку, в норвежские Шхеры!
Европа напоминала самоё себя в то воскресенье, в которое согласно военному роману Вильяма Лe-Кё произошла внезапная высадка германцев в Англии, и нельзя было достать ни одного из министров, так как все они были на даче, а воскресенье, как известно, — день неприсутственный…
Так говорили в Санкт-Петербурге дипломаты.
Поздно ночью Фома Асикритов, вооруженный всеми этими сведениями об австрийском коварстве, сообщенными ему в «хорошо осведомленных кругах», возвращался на извозчике в редакцию газеты. Нужно было сдать собранный материал в уже верставшийся номер.
Редакция помещалась на одной из боковых улиц в районе Загородного, а ехал Фома Матвеевич с конца Каменноостровского.
Извозчичья лошаденка попалась никудышная, вялая, и Асикритов с досадой подумал о том, что так, пожалуй, пройдет добрый час, прежде чем он доберется в редакцию. Он хотел уже сменить извозчика и пересесть к другому, на вблизи ни; одного не оказалось. Все же он решил это сделать, как только доедет до бодрствующего всю ночь «Аквариума», у подъезда, которого дежурили всегда «лихачи».
Нетерпение еще усиливалось потому, что Фома Матвеевич хорошо знал, что в редакции он узнает последние телеграммы, которые должны были известить весь мир о судьбе сербского ответа, врученного за пять минут до истечения срока, установленного правительством «его апостолического величества» Франца-Иосифа. (Международные дипломаты в это время уже были все на своих местах, и пять оставшихся минут они выигрывали друг у друга, как ловкие и не стесняющиеся друг друга шулера — карту: с переменным успехом, редко, однако, не вызывавшим бы в конце концов скандала и побоища…)
— Ну, гони ты, ради бога! — понукал Асикритов извозчика. — Гони, гони! — повторял он, хотя сам сознавал, как нелепо и смешно звучит это слово в обращении к хозяину такой никудышной лошаденки.
— Подстегиваю, барин. Но-но, ты… работничек, — лениво-меланхолически отозвался извозчик и задергал вожжами, но тотчас же вновь опустил их. — Пролетария моя серая: какова кормежка — такова и побежка! — И он оглянулся с чуть лукавой улыбкой на седока.
Седок был так же невзрачен и хил, как и состарившаяся, плохо накормленная лошаденка: уважения к нему не было, но какое-то глухое сочувствие и доброжелательство все же звучало в голосе плоскогрудого, бородатого извозца.
— Конторский? — неожиданно спросил он.
— Что? — не понял Асикритов, думавший в эту минуту о своем.
— Конторский вы, спрашиваю, или каких других занятий, — пояснил извозчик. — Если конторские, — хотел объяснений насчет одного дела спросить.
— Конторский… — согласился Фома Матвеевич, хотя никак не понял, какое содержание вкладывает тот в это слово. — Ну, так что?
Извозчик бросил еще один — пристальный, проверяющий — взгляд на Асикритовц и живей, чем обычно, сказал:
— Конторские, думаю, присоединятся или им это дело без интереса?
— К кому присоединятся?
— Известно, к кому! К заводскому народу… Говорят, двести тысяч забастовку держат? Два брата мои у «Феникса», на Полюстровой.
«А-а, — усмехнулся про себя Асикритов, — вот оно где прищемило…»
— Не идут мои братья на завод, — откровенничал извозчик. — К чертовой матери, говорят, за копейки потом исходить! Пора, говорят, кадыки вырывать — воевать будем…
— С кем?
— Да известно, с кем… Не с австрияком же, а со своими, натурально, русскими — кадыками! Н-н-но, ты! — неожиданно хлестнул он лошаденку и замолчал.
Лошаденка — по обязанности словно — сделала неловкий и неуверенный перебой в своем скучном шаге и вновь сонно пошла по гладким и тихим торцам проспекта.
Извозчик, не оборачиваясь, сидел молчаливо на козлах, выставив Асикритову свою длинную узкую спину, перетянутую ремнем. Согнутая, она походила на спину рыболова, понуро застывшего в своей вынужденной позе ловца и созерцателя.
«А причем же здесь «конторский» я или нет? — подумал Фома Матвеевич, вспомнив об этом уже тогда, когда новый извозчик, лихач, мчал его по Троицкому мосту. — Человек просто ощутил потребность заговорить со мной и сказать то, что самого его сейчас интересовало. Воевать будут, — раздумывал Фома Асикритов, — да не с австрияками же… Хэ-хэ!.. А что, если именно с австрияками, господа?»
Но, прежде чём успел пересесть на лихача у освещенного, брызжущего огнями кафешантана, пришлось задержаться против воли еще на несколько минут.
В тот момент, когда договаривался с лихачом, из подъезда «Аквариума» вышла компания в несколько человек — мужчин и женщин.
— О-о!.. Фома Матвеевич! — окликнул кто-то развязным, подвыпившим голосом и, неизвестно почему, захлопал в ладоши.
Асикритов оглянулся: отделившись от компании, шел на него, слегка покачиваясь и встряхивая высокие плечи, студент Леонид Величко.
— И вы, почтенный, были здесь? Вот что-о? А я не видел вас… Жаль… Господа! Эй, послушайте, господа… Куда вы спешите? Господин Теплухин, Калмыков, Зиночка!.. Знакомьтесь, господа, с з-замечательным человеком. Это — приятель моего брата…
Леонид держал за руку Фому Матвеевича и оттаскивал его от извозчика.
— Бросьте, я тороплюсь, — досадливо поморщился журналист. — Нигде я здесь не был, а просто на перекладных вот еду в редакцию. Кланяйтесь Михаилу Петровичу… Давно не был я…
— Запарились с «политикой»… м-да? А мне наплевать!
— Ну, да — запарился. Пустите..
— А мы славим Петербург… м-да. На радостях… земляки собрались… ну, и девочки, конечно. Гриша Калмыков! Гри-и-ша! Ушел, ч-черт! С Зиночкой ушел… А вот господин Теплухин, хотя и не студент и даже… тово… м-да… идейно…
— Перестаньте, Леонид Петрович! — оборвал подошедший незнакомый Асикритову человек и оттянул, захмелевшего студента.
— Знакомьтесь, Фома неверующий… м-да. Сие — земляк мой… коммерсант: Теплухин, Иван Митрофаныч… Простите, господа, я пьян…
— Я очень рад, что так случайно встретил вас, — протянул руку подошедший Асикритову.
— А в чем заключается ваша радость? — не без легкого раздражения поинтересовался Фома Матвеевич и кивнул посмеивающемуся лихачу: «Сейчас едем».
Белые перчатки на руках у лихача, блестящие, лакированные крылья экипажа и массивные раздутые шины обещали молниеносную езду.
— Я привез вам привет и письмецо от Софьи Даниловны Карабаевой.
— От кузины Сони? Вот оно что… А у Льва Павловича были?
— Был.
— А ко мне не заходили?
— Н-нет… то есть…
— Да как же? Постойте, Иван Митрофанович, — так, кажется.
— Совершенно верно.
— Ко мне: на Ковенский тринадцать, квартира девятнадцать?.. Да, конечно же… Или я ошибаюсь… Да нет: чай, нелепой!
Фрма Матвеевич с любопытством всматривался в своего нового знакомого. Право же, он где-то встретился однажды с этим человеком… На днях это было, совсем недавно.
— Вы не слепой… — глухо откашлялся Теплухин. — По редакционному адресу я к вам не заходил, но по домашнему — был, но не застал дома, — солгал, не опасаясь быть пойманным, Иван Митрофанович и торопливо вынул из пиджачного кармана письмо Карабаевой.
— Да, да… не застали дома, — подтверждал Асикритов, принимая письмо. — Разминулись, ах, досада! Вы, наверно, от меня спускались… я-то в этот момент подымался по лестнице. Вот тут-то я вас и приметил.
— Я тоже вспоминаю.
— Как же, как же, — озабоченно посмотрел Асикритов на поджидавшего лихача, дававшего прикурить пьяному Леониду. — К кому же вам еще в этот дом ходить… Как же, как же, — бессмысленно повторял он, не зная, как поскорей отвязаться от повстречавшихся. — Ну, спасибо. Будьте здоровы… Заходите… потолкуем: новости могут быть интересные… Еду! — решился он, наконец, и вскочил на подножку экипажа.
Лихач тронул с места.
— Удрал-таки, жулябия! — крикнул вслед студент и подхватил об руку застывшего на месте Ивана Митрофановича.
— Какой же я «коммерсант», в самом деле?! — вдруг желчно сказал тот, но студент пропустил мимо ушей его восклицание.
Черный, без крапинки, громадный жеребец в одну минуту домчал к Троицкому мосту и здесь только убавил скорость. Асикритов даже обрадовался этому. Черный рысак несся с шальной быстротой, и никто и ничто, казалось, не могло его остановить. И Фома Матвеевич с благодарностью посмотрел на широкозадого, с тяжелой мясистой спиной «лихача», когда тот, раздвинув локти в стороны, натянув вожжи, заставил жеребца пойти по мосту осторожной, выверенной рысью.
«Фу, хоть подумать можно!» — сознался сам себе Фома Матвеевич и откинулся всем своим худеньким тельцем на спинку экипажа.
Вихревая езда захватила его, лишив на минуту способности думать и следить за чем-либо другим. Он переставал даже чувствовать весомость своего тела: от усиленной беготни по приемным разных министерских учреждений, от голода (он вспомнил, что не удалось сегодня даже пообедать) и вот теперь из-за этой бешеной езды у Фомы Матвеевича закружилась голова. Думать, о чем хотелось, не удалось.
Пока проезжали по мосту, мысли приходила в голову случайно, без связи друг с другом — как съемщики в пустую, свободную квартиру.
«О чем пишет Соня? — подумал он, вспомнив о письме, полученное несколько минут назад. — Поехать бы к ним туда, в провинцию, отдохнуть… Знает ли она, что Левушка ее болен… Фу, черт, понесся!» — выпрямился он вдруг на сиденье, почувствовав, как рванулся опять рысак.
— Эй-эх, птица! — выкрикнул лихач, в тысячный раз любуясь своим жеребцом, классически выбрасывавшим бабки.
Проплыло куда-то необъятное, пустынное Марсово поле, отброшенное в сторону на повороте; мелькнул окруженный рвами замок и темная узенькая улица; лег навстречу длинный проспект букинистов — Литейный.
Через десять минут Асикритов был у подъезда редакции.
— Хорош конь! — хвалил он, покуда лихач отсчитывал сдачу.
— Орел, барин, — кровный!..
— Война будет — забрать могут, — неожиданно подумал вслух Фома Матвеевич.
— Кто? — недоверчиво спросил лихач. — Чай, своих, военных, мало?
— Всяко может случиться… Жеребец твой — генералу под стать.
— Угоню… — нахмурился лихач и отвернул лицо от освещавшего его фонаря… — В деревню угоню! Да разве можно такого отдать. Искать мне веревку тогда, ей-богу!
«Гм… прищемило!» — вторично подумал Фома Матвеевич и с какой-то нелепой, неясной, назойливой усмешкой вбежал в подъезд.
Еще на лестнице, подымаясь в кабинет ночного редактора, он столкнулся с бежавшим вниз шустреньким остроносым метранпажем, державшим в руках широкий лист.
— Война! — крикнул метранпаж и взмахнул перед собой листом, словно отгоняя рой наскочивших на него ос.
— Давай… прочту! — схватил его за ру у Асикритов.
— Уж будьте благонадежны — антракт окончен, действие начинается!.. Иван Степаныч подмахнул к печати…
— Ну-ну, скорей…
«Вена. Срочно, — читал Асикритов жирные, зловещие строки. — Так как королевское сербское правительство не ответило удовлетворительным образом на ноту, переданную ему австро-венгерским посланником в Белграде, императорское и королевское правительство вынуждено само выступить на защиту своих прав и интересов и обратиться с этой целью к силе оружия. Австро-Венгрия считает себя с настоящего момента на положении войны с Сербией».
— …А Россияне Австро-Венгрией, — добавил Асикритов вспомнившуюся фразу, сказанную сегодня одним из дипломатов.
— А я — никак вовсе! Пошли они все… — И метранпаж зло и горячо послал кому-то рассыпную ругань.
— Аминь! — сказал Асикритов и засмеялся.
Уже несколько часов стотысячная толпа стояла перед дворцом.
Все было известно, что вчера германский посол, граф Пурталес, не добившись отмены мобилизации русских войск, вручил ноту об объявлении войны.
Весть о том, что царь обнародует сегодня манифест о войне, еще с раннего утра пронеслась по столице. Тысячи петербуржцев устремились к Зимнему, наполнили собой громадную, глубокую, с отогнутыми концами подкову Дворцовой площади, набережную и все прилегающие к Зимнему улицы.
Для романиста важные события истории, — считал легкомысленно всем известный Александр Ддема, — это то же, что для путника — огромные горы: он смотрит на них, приветствует мимоходом, но не взбирается на их вершину.
Так ли это? — законно, усомнится русский писатель нашего века, привыкший понимать историю, пользуясь вершинами научного объяснения ее событий? И это познание истории становится тем точней и ясней, чем поколения людей восходят все выше и выше на высоты передового, реалистического понимания жизни народов и государств.
Граф Пурталес неизбежно должен был вручить вербальную ноту министру иностранных дел Сазонову об объявлении войны России, потому что Германия стремилась отнять у нее Польшу, Прибалтику и, если удастся, то и Украину. Россия могла предвидеть этот «визит» Пурталеса к Сазонову, потому что сама готовилась к захвату Галиции — части Австро-Венгрии, союзницы Германии, и мечтала об отобрании Константинополя и Дарданеллских проливов у Турции, о чем знал союзный с Турцией кайзеровский Берлин.
Другими врагами Германии были Англия и Франция. Только в войне надеялись англичане разбить своих опасных немецких соперников: построив Багдадскую железную дорогу на Ближнем Востоке, Германия угрожала в этом районе господству Великобритании. К тому же немцы стремительно стали увеличивать свой флот, свои морские вооружения, чего признанная «владычица морей» ни в коем случае не могла допустить. Английские купцы и промышленники с тревогой Следили за тем, как германские, более дешевые, товары стали вытеснять на мировом рынке манчестерские и шефильдские фирмы. Надо было срочно принимать военные меры. Они необходимы были Англии и для того, чтобы отторгнуть у Турции Месопотамию и Палестину и навсегда обосноваться в Египте.
Империалистическая Франция стремилась вернуть себе Эльзас-Лотарингию, отнятую у нее немцами в 1891 году, и заодно уже захватить у них Саарский бассейн, богатый железом и углем.
Россия вступала в войну не потому, что были задеты и оскорблены ее «славянские» чувства, и не только потому, что с 1907 года входила формально в «Антанту» вместе с Англией и Францией: она пошла с ними рука об руку именно потому, что находилась в финансовой и экономической зависимости от этих крупнейших империалистических стран.
Оба брата Карабаевых отлично знали (торгово-промышленные круги вели свой учет), например, что важнейшее металлургические заводы России находились в чужих руках: 55 процентов — в руках французов, 22 процента — у немцев, 10 процентов — в руках смешанных франко-немецких фирм. В каменноугольной промышленности французы владели почти 75 процентами продукции. Нефть почти на 20 процентов находилась в руках англичан, и до 50 процентов ее принадлежало англофранцузским компаниям. Значительная часть прибыли русской промышленности шла в заграничные банки: преимущественно — французские.
Война преследовала своей целью капиталистический передел мира. Ее виновники — империалисты всех стран, — вот та правда, которую скрывали от народа не только императорский двор, но и Государственная дума русских буржуа и помещиков.
Руководя уже Россией экономически, торгово-промышленный класс не управлял, однако, ею политически: власть оставалась в руках самодержавия, трона и его опоры — в руках дворянства, помещиков. И отечественная буржуазия не спешила разрешить это противоречие между своей экономической силой и политической недостаточностью. Не в ее интересах была решительная схватка с царем. Отстранить самодержавие, взять государственную власть в свои руки и… остаться один на один с рабочим классом? О, слишком велика опасность! 1905 год уже показал, чем может закончиться такое единоборство. И потому русское самодержавие продолжало оставаться наилучшей защитой для русских промышленников, финансистов и купцов.
Теплухин попал на площадь как раз в тот момент, когда государь, покинув у Николаевской пристани яхту, на которой приехал из Петергофа, приближался на паровом катере к Зимнему дворцу.
Еще задолго до того, как Николай покинул катер, толпа, стоявшая шпалерами на набережной и сдерживаемая цепью полиции, приветствовала его длинным, непрекращающимся, протяжным «ура». И, как только оно замирало или утихало, — офицеры на балконе дворца и около его подъезда, и полицейские чины, стоявшие впереди толпы, вновь подхватывали это охрипшее «ур-ра» и сотнями голосов подбрасывали его над толпой, как мяч, за которым она должна была погнаться.
Любопытство нагнало сюда толпу и управляло сейчас ею.
Толпа сдерживалась полицейскими и еще какими-то разбитными людьми, выказывавшими привычку и умение устанавливать порядок и распоряжаться. Некоторые из них были в чиновничьих сюртуках и кителях, другие в цивильных пиджаках поверх косовороток и в русских сапогах, как носят мастеровые или дворники. В толпе говорили, что это городовые, но выражали недоумение, почему в этот день понадобилось им переодеваться!
Стоявшие впереди — шагах в тридцати от Александровской колонны к дворцу — держали в руках трехцветные русские флаги, портреты царя, набитые на раму плакаты:
— За Родину! За самодержца!
— Боже, царя храни!
— Час славянству пробил!
— Живио Сербия!
— …Молебствие идет. Царь поклоны бьет, — говорили в толпе.
— А ты знаешь?
— Соображаю.
— Чем это, Сеня?
— Головой, чай!
— Кто — царь?
— Нет — я!
Собеседники тихо и коротко засмеялись. Теплухин оглянулся и посмотрел на них через плечо. Он не сообразил, кто из них «Сеня», потому что они молчали теперь, а глаза обоих чуть-чуть занозил одинаковый — незлобивый — смешок. Он немедленно исчез, как только вспугнули его незнакомые — теплухинские — глаза.
Через минуту разговор возобновился:
— Нет, верно: я соображаю… Какой могит быть манифест без молебну? На всякую, сказывают, глупость есть божья премудрость.
— Господин хороший! А, господин хороший! Вы что-то много болтаете…
— Не больше вашего!
— Ну, ну, завели! Брось, Сеня…
— А пущай она…
— Нет, нет? Вы что сказали? Про какую глупость, про чью глупости?
— Про вашу, выходит!
— Да брось, говорю, Сеня!
— А пущай она…
— Забываетесь, хам! На молебне наш государь! Кому божья премудрость? На чью глупость… а-а?
— Сеня!
— А пущай она…
— Нет, нет… Вы, кажется, оскорбляете государя…
— Ну, да — немецкого! — выпалил вдруг «Сеня». — Чего, барыня, пристали в сам деле? Тьфу! На германскую дурость пошлем господа бога премудрость. Ну, и на вашу долю хватит! — закончил он под общий хохот окружающих.
Барынька скрылась за спины своих соседей, оставив раскрасневшемуся скуластому парню со взбитым рыжим хохолком на обнаженной голове длинный, как стрела, взгляд презрения и ненависти.
— Ишь невопря! — прокашлялся кто-то рядом с Теплухиным, в извозчичьем летнем армяке, степенный, с широкими сивыми усами и мохнатыми подусниками на кирпичном лице и живыми маслянистыми глазами — черными, как брызги жирной грязи из-под колеса его экипажа. — Парню для движения ума простор требуется, а она ему простор горизонту заслоняет…
Он, очевидно, мог быть суров с норовистой лошадью, но признавал свободу для людских высказываний.
У барыньки были прыгающие губы и раздувающиеся ноздри кликуши, и, разыскав ее глазами, Иван Митрофанович увидел, как исступленно, с костлявым, мертвенно-бледным лицом проталкивалась она в первый ряд, протягивая руки к древку плаката, поставленного наземь каким-то тучным и непомерно брюхатым, разморенным почтовым чиновником.
— Дайте… подержу… Дайте… подержу! Позвольте мне, позвольте, пожалуйста…
Теплухину удалось протискаться почти к самому центру площади.
Выдвинувшись немного вперед, стоя почти в первом ряду, он окинул взглядом площадь. Знамена и плакаты услужливо подставили себя окнам дворца. И вдруг Иван Митрофанович заметил, что большинство полотняных плакатов на деревянных рамах — одного и того же размера, слова на них написаны одним и тем же четким, раздельным шрифтом, а шесты — копьеобразные, белые — одной и той же формы.
«Какое удачное совпадение! — насмешливо подумал Теплухин, — словно их делал один и тот же мастер и по желанию одного и того же заказчика…»
Он остановил свой взгляд на голом лоснящемся, как змея на солнце, подбородке стоявшего поодаль молоденького упитанного помощника околоточного, но подумал не о нем, а о «голландской» черной бородке и бритой губе «инженера Межерицкого».
И вспомнил:
«Вы пришли: я вас ждал. Выкупить «вексель»? Раз и навсегда? Наросли кое-какие «проценты». Вам же на пользу — поймите! Вы чувствуете? Ведь опасно… потрясение! Вы, вы заинтересованы в нашей победе. Помните, я знаю главный рычаг всех ваших поступков… Жизнью пользуйся живущий! Философия эпохи! К делу, к делу! Мне теперь некогда!»
На его голом шишковатом черепе словно вздуваются и опадают бугорки, — это кажется так Ивану Митрофановичу, потому что у самого кровью наливаются глаза, кружится от ненависти голова, и окостеневший сжатый кулак тянется, едва сдерживаемый, ударить по этому наголо выбритому черепу…
«Подумаешь, друг мой, нашли выкуп за «вексель»! Эка штука: кадеты бегают с заднего крыльца к английскому послу! Нашли, что сообщить! Вы это поняли из намеков Карабаева, а нам это известно почти от самого посла. Не трудитесь… Я сам сообщу вам, что нужно для нас и что вам надо делать. Прощайте и уезжайте домой в Смирихинск!»
Иван Митрофанович забывает на минуту, где он, что делается вокруг него, он чувствует себя затерянным в лабиринте своих собственных мыслей — таких неотступных, придирчивых и пугающих.
Он чувствует себя ненаказанным, скрывающимся преступником, и, как преступника, его тянет к месту совершенного преступления: перед ним всплывает «колесуха», Александровский централ и образы убитых солдатскими прикладами политических.
«Жить!» — чуть не выкрикивает Теплухин это слово, и оно летит в вставшие перед глазами видения прошлого. Так всегда, обороняясь, от него, поджигал Иван Митрофанович фитиль своей последней — спасающей — мысли, и она, вспыхнув, рассеивала, уничтожала врагов — горячечные воспоминания.
И он вздрогнул, как и вся стотысячная толпа в этот момент, услышав, вдруг подлинный. — густой и тяжелый — пушечный выстрел.
— У-у-ух-х!..
Раз… другой… третий…
— У-у-ух-х!..
Это стреляли с верков Петропавловской крепости: дворцовое молебствие о даровании победы над врагом «христолюбивому российскому воинству» кончилось.
— Война объявлена… Объявлен манифест! — говорят в толпе; и многие, — особенно женщины, которых большинство здесь, — усиленно крестятся и что-то молитвенно бормочут.
И действительно, в эти минуты дворцовый священник кончал чтение царского манифеста в Николаевском зале.
— Эх, хотел бы я там быть да одним глазком посмотреть! — выразил кто-то искренно и простодушно желание толпы.
А «там» было:
Отзвучали последние слова манифеста. Громадный зал, протянутый вдоль набережной, вызолоченный сейчас со стороны Невы широкими раструбами солнечной пыли лучей, затих. Это была та чуть вздрагивающая, конвульсивная тишина замирания, которая вот-вот должна будет бурно разрядиться и перейти в безудержный пароксизм шума, кликов. Ведь к этому так готов был все время этот тысячный застывший кортеж лейб-гвардии офицеров, заменивший сейчас собой императору народ, многомиллионную Россию…
С аналоя, поставленного посредине зала, печально и неразгаданно смотрели в тусклоголубеющие глаза царя «чудотворные» иконы спаса нерукотворенного и казанской божьей матери. Перед последней в отечественную войну фельдмаршал Кутузов долго молился, идя к Смоленску.
И, словно вспомнив об этом, Николай делает несколько сбивающихся развинченных шагов к престолу и, не глядя ни на кого, подходит к священнику, держащему евангелие. И, остановив дыхание, видит зал, как поднялась вверх над евангелием короткопалая правая рука царя, как мучительно одеревенело его желтеющее лицо; оно силится умертвить корчащуюся между усов скользкую змейку растерянности.
Николай медленно, прислушиваясь к каждому своему слову, как нерасторопный ученик, который боится сбиться, забыть выученный с трудом урок, — роняет в тишину зала:
— С спокойствием и достоинством… встретила… наша великая матушка Русь… известие об объявлении нам войны….
…Я здесь торжественно заявляю, что… не заключу мира… н-не… заключу… до тех пор, пока… последний неприятельский воин… не уйдет с земли нашей…
…Стоявшие на площади слышали неистовый шум восторженных, оглушительных возгласов, взрывавших, казалось, дворец неповторимого Растрелли. Это кричали в пароксизме ликования последние санкт-петербургские преторианцы российского самодержца.
Как одержимые, они бросились к нему, целуя в плечо, в спину, тыкаясь губами в его оробевшее, вздрагивающее тело, и падали на одно колено, хватая для поцелуя белые шлейфы и подолы Александры и ее ошеломленных дочерей.
«…Не заключу мира, пока последний воин не уйдет с земли нашей…»
Эту клятву царь точно уворовал у своего предка: ее дал России Александр в 1812 году.
И в народе вспоминали этот год.
— Мы стоим у памятника отечественной войны. Символ… это же символ, господа!.. Теперь вот вторая отечественная… и все должны идти, все на защиту родины и престола. Били французов, будем бить немцев. Вы только посмотрите, господа, на эту площадь. Живете, господа, и не присматриваетесь, плохо знаете, — звенел, как голодный комар, тоненький срывающийся тенорок.
У «тенорка» был льстивый, фарисейский рот и вогнутый, как дно тарелочки, лоб молодого дегенерата из благовоспитанной чиновничьей семьи. «Тенорок» вызванивал всем, что знаменитая «Вандомская колонна увенчана была («Чем, чем?» — выкрикивал и захлебывался он…), увенчана изображением полководца», а «что, что воздвигли мы в центре этой единственной в мире площади?» — «Столп, чем увенчанный?»
— Над Александровской колонной вознесен, господа, символ страдания — крест!
Окружающие слушали, нетерпеливо поглядывая на дворец.
— Глядите, глядите на эту площадь: символика!.. Наш русский характер!.. — уже терял свой голос «тенорок», но не унимался. — Все здесь как будто нарочно создано для народной военной манифестации…
И он объяснял. Полукольцом замыкается площадь Главным штабом с его гениальной римской аркой и ее колесницей Победы, влекомой шестью лошадьми. Но с другой стороны — величавая завеса Зимнего дворца… «Капризная прелесть его, господа, ни единым, изгибом линий не напоминает о военной суровости. Так и в русской душе, — задыхался «тенорок», — порыв воинственности живет, неразрывно связанный с веселым миролюбием…»
— Нас оскорбили… Оскорбили нас, славян, — и мы покажем теперь… Мы разобьем Берлин вдребезги!..
— Ишь ты… молотобоец языком!
— Что? Кто это сомневается? Вы слышали, господа?..
— Я сказал. Я… Вдребезги? Не всех коли, говорю, хоть одного на племя пустим! А ты, падаль говорливая, на русско-японской трудился… а? А я был!
— Держите… держите, господа! Шпион, австрийский шпион!
— А почему именно — «австрийский»? — услышал Иван Митрофанович позади себя чей-то насмешливый знакомый голос, рассмешивший окружающих, давших возможность порицателю «тенорка» куда-то нырнуть.
Оглянувшись, Иван Митрофанович не сразу заметил маленького быстроглазого Асикритова. Журналист не стоял на одном месте, а пролезал ужом куда-то в сторону, отдаляясь от Теплухина. Иван Митрофанович хотел его окликнуть, но раздумал.
— Гляди, гляди — начинается! — прошелестело вдруг в толпе, и она качнулась немного вперед, подтолкнув своих знаменосцев.
— Выпустите… пропустите — старушке дурно стало!
— А чего перлась?
— Городовой, помогите!
— Петь надо будет, а у меня, недавно ангина была…
— Несут…
— Кого? кого?
— Старушку.
— А-а…
— А вы потом смажьте горло.
— Тише-е! Выходят!
— Бо-оже, царя хра-а…
— Да нет же, Митя, — не царь!
— А я вот, Антоновна, и говорю ему…
У Ивана Митрофановича ныли от усталости ноги. «Подожду минут десять и уйду», — решил он.
Но вот все время не сообщавшийся с площадью дворец сделал первое движение. Распахнулись на некоторое время ворота с массивными вензелями, чтобы выпустить чьи-то экипажи. Это уезжали домой певчие придворной капеллы.
— Сейчас, сейчас!..
Глаза всех обращены на второй этаж дворца, где вдруг подскакивают вверх висящие изнутри сторы и медленно раскрываются две боковые двери на средний балкон.
Ток четырехчасового ожидания с новой — предельной — силой выпрямляет толпу. Она напряженно всматривается в раскрытые двери. Ближе к балкону, в зале дворца видно какое-то движение.
Кто-то шепотом вспоминает: с этого самого балкона Александр второй читал свой манифест о крестьянах.
Движение в зале, и народ отчетливо увидел вышедших на балкон людей.
— Бо-о-же, царя…
— Тс-с-с, вы!
На балкон вышли два камер-лакея в красных, обтянувших фигуры камзолах. В руках каждого были метелки из перьев, а лица лакеев — с гладкими, голыми подбородками и пышными оттопыренными бакенбардами — удивительно схожи были с лицом всем известного по портретам председателя совета министров.
Камер-лакеи, глядя на толпу, вытирают перила и гуськом исчезают. Еще минута — и у стеклянных дверей показываются плечи и спины царедворцев: великие князья и свита.
Затем вновь это куда-то отхлынуло, и на балкон, шагнув на то же место, где только что стояли лакеи, вышел царь, сопровождаемый Александрой.
Их узнали. И вдруг толпа упала на колени, как огромный непроезжий лес, срезанный мгновенно под корень. С высоты балкона те, кто не упал, — тоже казались коленопреклоненными.
— Ур-ра-а! — полетели в воздух картузы, шляпы, фуражки.
— Боже, царя храни!
Толпа, склонив знамена, запела гимн. Царь, оглянувшись, протянул руку Александре и подвел ее поближе к перилам.
Где-то близко на флагштоке реет в синей выси огромный императорский штандарт. Светло-желтый стяг с изображением орла играет с мягким июльским ветром.
С балкона площадь кажется покачивающейся, наплывающей палубой огромного корабля, а Александрова колонна — на фоне бегущих лиловых облаков — его вознесенной мачтой.
И — кто знает? — может быть, видит своевольная немка, владеющая этим всесильным русским офицером и его страной, может быть, видит она эту самую площадь по-иному, чем он, — так как хочет того истерически-ненавидящее сердце… Может быть, кажется ей, что раздавлена сейчас на этой площади — как в январе 1905 года — под тяжелым постаментом царственной колонны строптивая, непонятная и страшная в своей неразгаданности страна — Россия?..
— Спаси, господи, люди твоя…
Не спасет он, нет!
Царь был доволен. Он сделал еще шаг вперед, поднял руку и, казалось, хотел что-то сказать.
— Тише, тише! — просили те, кто стоял ближе к дворцу, но в конце площади видели только крошечную — оттуда — голову государя и белую высокую шляпу Александры и не унимались.
— Ур-ра! Ур-р-ра-а!
Тысячи кликуш в соломенных шляпках, в платочках горничных и с непокрытыми головами, с растрепавшимися волосами обессиленных фурий, плакали, выли и крестопоклонно стенали.
— А-а-а…
В миг, когда толпа упала ниц и: словно еще выше поднялся тогда дворец, Иван Митрофанович вместе со всеми подогнул ноги, и одно колено его коснулось земли. Да, да — и здесь он смалодушествовал, он испугался, остаться стоять во весь рост среди всего коленопреклоненного народа!
Теплухин смотрел уже не на балкон, а на землю — на кусочек выпуклого, круглого булыжника. Но это продолжалось одну только секунду. Теплухин нерешительно, воровски поднял голову и увидел вдруг прямо перед собой выпрямленное широкое дамское пальто.
Он скосил глаза чуть набок. Седая крупная женщина с дородным благородным лицом генеральской вдовы, имеющей что вспомнить в жизни, со спокойной умиленностью лорнировала балкон. Рука в шелковой желтой перчатке уверенно держала у глаз золотой старинный лорнет.
Тогда Иван Митрофанович тихонько, медленно поднялся, прячась за ее спину, — но, не разогнувшись в полный рост, а оставшись согбенным, упираясь руками в колени, опустив голову, как стоят люди, играющие в чехарду.
— …Царствуй на сла-а-аву нам-м…
— Тише, тише! — озирались передние ряды: они думали, что услышат голос государя.
Но Николай, стоя спиной к площади, смотрел, улыбаясь, на императрицу. Она повернулась вполоборота к дверям, лиловые повелевающие губы снисходительно подергивались.
Она переступила порог, — царь отступил от перил и, оглянувшись на толпу, медленно, бочком пошел к двери.
И в это время толпа, вскочив на ноги, давя друг друга, стремительно передвигается вперед, словно желая удержать удалявшегося монарха.
— Ур-р-ра!
— Бо-о-же, царя храни…
Не помогает. Силуэты пропали где-то в глубине зала, кто-то, невидимый теперь, закрывает двери на балкон, и падают стремительно изнутри непроницаемые сторы.
Не то кричат, не то беззвучно хохочут разинутыми ртами с красных стен дворца лепные арабески. И только…
— …Поворачивай назад!
— Ну, ты — полицейская бляха!
— А-а? — Р-р-р…
Картавый полицейский свисток.
— Мимо дворца закрыт ход, говорят тебе!
— А мне на Миллионную…
— Так мне пройти только, братцы!
— Господа… городовой, городовой! Держи-и!
— Кого?
— Часы и цепочку срезали…
— Вот-то дело — а? На сухом берегу рыбу ловят.
— Хо-хо-хо!..
— Знаменательный день! Исторический день!
— Вернем мы им Берлин или нашим останется?
— Неужели социалистов теперь не повесят, Котик?
— Веч-че-ерняя «Биржевая»!
— Сеня, говорю, брось! А он ее, ведьму, чертохвостит, чертохвостит… Бедовый!
— Царь-батюшка на груди с Егорием, а она, сказывают, с Григорием!
— Тс-с-с, дурак!
— Веч-че-ерня-я «Биржева-а-я»!
— Газетчик, покажь!
— Давай, давай!
— Барышня, я раньше уплатил… Ну, что за свинство… вырывать!
— Газетчик, газетчик!
— Читай, Юленька, вслух…
…Иван Митрофанович мельком, на ходу, пробегал глазами первую страницу газеты. Что это? Подлинно, по Европе шли взрывы один за другим: выстрел Гаврилы Принципа детонировал ее.
«Париж, 19, — мелькало перед глазами Ивана Митрофановича. — Вечером в кафе «Круассан» неизвестный произвел несколько выстрелов из револьвера в знаменитого депутата-социалиста Жореса, который был тяжело ранен в голову. Вскоре Жорес скончался».
Теплухин вздрогнул. «В голову… в голову, — подумал он. («А скоро социалистов будут вешать, Котик?» — выскочили чьи-то услышанные слова…) — В голову… Символично!» — И он вдруг вспомнил это самое слово в фарисейских устах «тенорка», и ему показалось, что и он сам сейчас похож на того лицемера. А может быть, «тенорок» был просто глуп?..
Перед тем как завернуть за угол, Теплухин оглянулся и приостановился. Площадь была почти свободна от народа. Зимний был отгорожен глубоким полукругом от всего остального народа. Он подчеркивал словно свое величие повелителя. «Символично… Фу, прет же это слово!» — отмахнулся Теплухин.
Дворец, казалось, — две взгроможденные одна на другую колоннады. Отдельные части его густыми багровыми массами выступали одна перед другой, словно стремясь друг от друга отойти, — застывший грузный шаг на месте…
Прорезанные в стенах бесчисленные громадные окна, оберегаемые с боков колоннами, шли вдоль площади таинственной полупрозрачной галереей, по которой, чудилось, тихо и безмятежно блуждала все время душа великого зодчего.
Пышное барокко дразнило очарованный глаз гениальностью своих линий.
Теплухин направился к своей гостинице. Сегодня вечером он уезжал домой. Он и так задержался: еще несколько дней назад была получена телеграмма Карабаева, предписывавшая воздержаться от переговоров насчёт сахарного завода.
Улицы нашли в эти дни своих героев. Всюду маршировали войсковые части и колонны ополченцев с узелками в руках. На перекрестках сталкивались десятки оркестров, позади которых длинной вереницей тянулись, сбиваясь в шаге, вихлястые ряды бывших и будущих солдат.
— Ать-два, ать-два!..
У Фокина (офицерские вещи и приклад) — очередь. Из магазина выходят с новенькими желтыми ремнями крест-на-крест, — и Петербург наводняется роем «прапорщиков запаса».
Каждый молодой офицерик чувствовал себя слегка Бонапартом. Он старается смотреть как можно решительней и суровей на встречную толпу, но мальчишки, бегущие впереди рядов, видят, как полуребяческая улыбка наивного самодовольства и в то же время смущения конфузливо бегает вокруг его безусого рта.
С грохотом проносятся вдоль проспектов зеленые походные повозки. Пронзительно гудят рожки и сирены военных автомобилей. Набегает друг на друга поток экипажей, прорезывают людской водоворот стройные казачьи сотни на одномастных лошадях. Выкатывая глаза, раздувая жабьи щеки, свистит городовой.
Теплухин чувствует себя неловким провинциалом в этой разгоряченной сутолоке столицы. Он садится в трамвай и почти в изнеможенье опускается на скамью.
— Россия тронулась! — говорит кто-то рядом с Теплухиным.
Он молчит. Он одинок. Он не знает своего пути.
Но не все ли равно?!
Теплухин, конечно, и предположить не мог, что почти одновременно с ним появился в Петербурге человек, несколько лет назад оставленный им на «колесухе». Месяца четыре прошло, как человек этот, бежав из каторжных краев, осторожно приближался к родному Питеру.
Товарищи по партии помогли Власову в Омске, в Перми, Самаре, Москве и, наконец, в самом Питере.
На первое время партийная организация снабдила его паспортом, выданным в Ельце на имя некоего мещанина Троекурова, тоже Василия Афанасьевича, и под этой фамилией он поселился не на родной своей Выборгской стороне, а на одной из Рот, ответвленных от Измайловского проспекта.
Ему необходимо было соблюдать осторожность: таков был наказ партии — районной исполнительной комиссии, — и Василий Афанасьевич ослушаться; естественно, не смел. Даже тогда, когда, по мнению Власова, ничто не угрожало его личной безопасности.
— Пойду и я! — объявил он в районном большевистском комитете, когда зашла речь об организации одной из первых антивоенных демонстраций в ответ на кликушество, царившее на площади перед Зимним дворцом, на Невском, Морской и в других местах.
— Не пойдешь, — спокойно ответил ему Громов, старый питерский друг Андрей Петрович Громов, — его партийный, можно сказать, побратим, превративший Власова в «Троекурова». — Не пойдешь — и все! Понятно? Не для того ты, Василь Афанасич, прибыл сюда, чтобы сразу же упекли тебя в полицейский участок.
— Почему меня должны упечь? — пожимал плечами Власов.
— А потому! — не считал нужным объяснять Громов и зашевелил, как поршнем, своим адамовым яблоком. (Примечательное оно у него было!)
И Андрей Петрович был прав.
По улицам Петербурга с утра и до вечера шествовали теперь «патриотические» демонстрации — с портретами царя, с трехцветными флагами, с жаждой громить любых других людей, которые, — казалось манифестантам: дворникам, чиновникам и «охранникам», — не выражали в должной мере националистических чувств. Черносотенцы сбивали с прохожих фуражки и шляпы, врывались в трамваи и в дома и там учиняли хулиганскую расправу с «инакомыслящими».
На Исаакиевской площади было разгромлено германское посольство и с темнокофейного фронтона его сброшены бронзовые кони, на Садовой и Владимирском громили ювелирные магазины, фамилии владельцев которых смахивали на немецкие, на окраинах пускали пух из подушек в квартирах рабочих.
Уличная толпа, особенно в центре города, взвинченная шовинистическим кликушеством, теперь не только не соблюдала обычный «дружественный нейтралитет» при виде рабочей демонстрации, но и сама набрасывалась на демонстрантов, помогая полиции и погромщикам. Те из толпы (обыватели всех видов, всякого рода уличные фланеры), кто во время рабочих демонстраций торопливо прятался в боковых улицах и переулках или робко жался к подъездам и воротам, стараясь издалека наблюдать происходящее, теперь уже считали своей обязанностью присоединиться к «охранникам».
Точно так же поступила толпа и в тот день, когда рабочие, в ряды которых хотел встать Власов, вышли колонной навстречу предводительствуемой офицером партии призванных на войну ратников запаса.
— Товарищи! Братья! Долой войну!
Запасные молча переглядывались и, сбиваясь с шага, почесывали затылки.
Раздались свистки городовых и брань офицера, и тогда, как по сигналу, толпа бросилась с панели на мостовую (приключилось это у Варшавского вокзала) и с истерическими криками: «Изменники, предатели, германцы» — начала избивать рабочих. На долю полиции остались лишь аресты демонстрантов и, как и предвещал Андрей Громов, отправка их для выяснения личности в «гостеприимные» в те дни полицейские участки.
— Отказываться от организации антивоенных выступлений, конечно, не следовало, но принимать в этой демонстрации участие Власову ни к чему, рассудил Андрей Петрович.
Найдется, найдется, еще настоящая работа для таких, как Василий Афанасьевич Власов! Настоящее революционное дело в новых условиях еще только начинается.
Такие, как Громов и Власов, знали свой путь: в России и в жизни.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ …Лишь для возгласов «ура»!
«В тяжелую минуту, когда внешний враг стоит у ворот, когда наши братья вышли к ним навстречу и готова пролиться родная кровь за спасение родины; когда те, кто остались, силой вещей призваны к великим жертвам, духовным и материальным, — руководители партии народной свободы высказывают твердую уверенность, что их политические друзья и единомышленники до конца исполнят свой долг российских граждан в предстоящей борьбе.
Каково бы ни было наше отношение к внутренней политике правительства, наш первый долг — сохранить нашу страну единой и нераздельной и удержать за ней то положение в ряду мировых держав, которое оспаривается у нас врагами.
Отложим же внутренние споры, не дадим врагу ни малейшего повода надеяться на разделяющие нас разногласия и будем твердо помнить, что теперь первая и единственная наша задача — поддержать борцов верой в правоту нашего дела, спокойной бодростью и надеждой на успех нашего оружия. Пусть моральная поддержка всей страны Даст нашей армии всю ту действительную силу, на которую она способна, и пусть защитники наши не обращаются с тревогой назад, а смело идут вперед навстречу победе и лучшему будущему».
— …Господа! Наконец, в таком виде принимаете? А? Согласны?
— А вы, пожалуйста, прочтите сначала, Павел Николаевич…
— Слушаю…
Седая голова Павла Николаевича Милюкова с раскрасневшимися, как у стыдливой девушки, ушами наклонилась над исписанным и исчерканным листом. Упругие серебряные волосы, словно насильно согнутые, повисли тонким крылом над широким прямоугольным лбом, на который вверх от переносицы протянулись крошечным веером три резкие морщинки.
Голова вновь приподнялась:
— Ну, слушайте, господа: читаю в последний раз… Пора кончать…
Гладко выбритое лицо Милюкова с нежным стариковским румянцем улыбалось Карабаеву. Модное, без оправы, пенсне, чуть-чуть наклоненное вперед, коротко метнулось куда-то в сторону.
— «В тяжелую минуту, когда…»
Все, повинуясь, замолчали и вслушивались теперь в его слова. Это были не простые слова, даже не речь его, которую потом печатают все газеты, — это была его программа, которой, как казалось ему и его единомышленникам по кадетской партии, ждала сейчас вся страна…
Льву Павловичу было приятно, что это «историческое», так он считал, в жизни партии заседание происходит у него на квартире. Правда, это произошло потому, что он расхворался в последние дни и никуда не выходил, а собраться надо было всем членам Центрального Комитета, живущим сейчас в Петербурге. Но тем лестней, что без него, Карабаева, не могли обойтись.
А если бы заседание происходило где-либо в другом месте, разве не побежал бы он туда, рискуя даже своим здоровьем?! Таковы ли времена, чтобы беречься!
— «…сохранить нашу страну единой и нераздельной…» — еще тверже и настойчивее читает тот же чеканный голос, и Лев Павлович, упрямо надавив каблуком пол, отбивает поднятым носком ботинка такт каждому из этих слов…
«О да! Страна должна остаться единой и нераздельной, — в этом он, Карабаев, был всегда убежден, в этом всегда были убеждены все эти люди, сидящие сейчас здесь. — Стране — России! — угрожает смертельная опасность, и надо отложить на время борьбу с правительством. То, с чем мы боролись в Думе и обществе еще неделю назад, — думает Лев Павлович, — должно быть отодвинуто сейчас на второй план. Три месяца назад голосовали против военного бюджета, — теперь его надо увеличить — увеличить, во что бы то ни стало! — потому что жребий брошен уже историей… И в грозный час испытания да будут забыты внутренние распри!»
Эти последние, слова — из царского манифеста, и Лев Павлович неожиданно морщится, как будто вспоминает что-то особенно неприятное: «Под этими замечательными словами такая лживая подпись государя!..»
«Нет, все равно, — успокаивает себя Лев Павлович. — Дело не в нем, не в его правительстве — дело в России! А разве она виновата, что у нее в этот момент такие правители?»
— «…навстречу победе и лучшему будущему».
Румяный глава партии поднял голову и оглядел всех присутствующих. Теперь еще резче, бросились в глаза его раскрасневшиеся маленькие уши и жесткие, так хорошо знакомые всем усы. Седые, с пепельными искрами у корней, они были чуть подняты, отогнуты вверх, очертив линию, рта, и тщательно приглажены в обе стороны, словно только что парикмахер снял с них сетку наусников, петлями державшихся на этих розовых маленьких ушах.
Усы были «слабостью» профессора, знаменитого политического деятеля: он их холил, и это все знали.
Он любил еще скрипку и английскую конституцию, — и это тоже было хорошо всем известно.
Его недолюбливали за чересчур осторожный, сухой, «профессорский» ум, — это от него скрывали его друзья.
— Решено, значит… — прервал первым молчание Лев Павлович. Он чувствовал себя сегодня «хозяином» дома, обязанным облегчать гостям выход из затруднительного положения, как только оно наступало. А это положение будто создавалось… Депутат с фамилией знаменитого поэта вдруг встал и заходил по комнате, ни на кого не глядя. Сидевший на диване упитанный, с круглой, как пушечное ядро, выбритой головой, Владимир Дмитриевич обратился к председателю:
— Я согласен, Павел Николаевич, с этой окончательной редакцией.
— Отлично. Вы, Лев Павлович? За? Сергей Иванович? Владимир Александрович? Николай Виссарионович — вы?
— Я… за. Допустим — за…
— Что значит — «допустим»?
— Ну, я «за», господа… хорошо. Решено… Но… но скажите, пожалуйста, где мы это воззвание напечатаем… а?
Он остановился посреди комнаты, заложив руки в карманы, подняв вопросительно плечи.
— В газетах, конечно, Николай Виссарионович. В газетах! Мы прокламаций не печатаем! Предоставим эту сомнительную честь сторонникам социализма… Да и нужно ли такое воззвание, под которым распишутся все лучшие интеллигентские силы страны, печатать прокламациями?
— Ни прокламаций и ни «манифестов» мы не выпускаем! — пожелал уравновесить настроение Лев Павлович.
— Позвольте, господа… Я сам знаю, что… такое воззвание разрешат, конечно, напечатать. Разрешат. Но где? В чужих газетах, Павел Николаевич! В чужих!
Он мрачным и слегка торжествующим взглядом обвел присутствующих и подошел к столу.
— Газету нашей партии верховный главнокомандующий закрыл. И за что? За ваши же, Павел Николаевич, статьи! Вы советовали не начинать войны даже тогда, когда Белград будет занят австрийцами. Так? Вы в глазах правительства оказались антипатриотом. Смешно, конечно!
— И печально, Николаи Виссарионович!
— И вот мы лишены своего печатного органа. Мы, партия либеральной демократической интеллигенции!.. А? Мы, мозг народа!.. Вы знаете, господа, — он опять отошел на середину комнаты, — я встретился сегодня в одном месте с нашим думским социал-демократом…
— Вы часто с ним встречаетесь, Николай Виссарионович?
— Думаю, что реже, Сергей Иваныч, чем кое-кто из нас… с сиятельными лицами!
Тот, кого звали Сергей Иванович — широколобый, с пышной седой шевелюрой и черными усиками, — скривил растерянно губы.
«Ах, до чего люди изнервничались, ужасно!..» — волнуется Карабаев и предостерегающе и дружески смотрит в злые, прищуренные глаза сидящего на диване товарища.
— Я продолжаю, господа… У эсдеков сидело несколько рабочих. Один из них говорит мне: «Вот вашу, говорит, газету закрыли, а нашу и еще раньше: как бастовать начали. Выходит, — говорит он, — есть пункт, чтоб вместе сейчас на этот режим идти, требования предъявлять». Вы понимаете, господа?..
— Мы — понимаем, а вы… — резко поднялся с дивана, отдернув вниз безукоризненно отслеженные коверкотовые брюки, тот, кого звали «Владимир Дмитриевич», и вынул из кармана слоновой кости портсигар. — Господа, пора кончать. Решение принято и как будто единогласно, хотя, возможно, и не единодушно, — играл он, как всегда, словами. — Газету нашу откроют: вчера Родзянко обещал мне и Павлу Николаевичу ходатайствовать об этом. Это во-первых. Затем — относительно нашей позиции до объявления войны. Я подчеркиваю: до объявления войны… Мы должны были советовать правительству избегать войны только потому, что Россия к ней не подготовлена. Только! Это бой в невыгодных условиях и при бездарном министерстве. Но… случилось! То случилось, что было неминуемо. Рано или поздно. России душно не только политически, но и экономически. (Белая, серебряная голова профессора одобрительно кивнула.) Это, господа, во-вторых. Теперь — о «встречах» дорогого Николая Виссарионовича… Ваши знакомые меньшевики сами не знают, чего они хотят в настоящий момент. Это — безответственная оппозиция гемороидальных книжников. Рабочие, которые к ним приходят, — поменьше бы эти самые рабочие бастовали на радость Германии! Пора одуматься рабочим, если они — русские!.. У них с нами может быть только один путь — путь России, государства, наш путь… Это — в-третьих, господа. А в-четвертых, вот что… Вчера мне показывали прокламацию одну. Она выпущена социал-демократами — большевиками. Программа ясная и четкая, несмотря на явное сумасшествие и преступность идеи. Эта идея — разрушение русской государственности и война войне. Не только правительству, но и войне. Вы, кажется, не придаете значения этой кучке людей, Николай Виссарионович? Напрасно. Это — тот наш враг, который при первых же серьезных затруднениях раньше всех пожнет плоды народного недовольства. Россия знала уже Пугачевых и Разиных. Так вот, господа… Мы, политические вожди русской интеллигенции разных званий и профессий, — мы должны взять пример у наших союзников, да и у наших врагов. А там — посмотрим!..
Некоторые зааплодировали, все снялись со своих мест и задвигались по комнате. Вот уж подлинно четкий партийный курс — наконец-то!
— Это правый флюс на лице партии… — нерешительно и сконфуженно улыбался Николай Виссарионович. — А где же «левый», демократический, так сказать?.. — смотрел он на Карабаева и на других, словно ища поддержки.
— Левый, Николай Виссарионович?.. Да ведь он уже был, да благополучно лопнул: посмотрите на свое лицо, — оно очень осунулось, дорогой друг!..
Круглое, плотное, с туго натянутой кожей лицо Владимира Дмитриевича лукаво постреливало дробью черненьких упрямых глаз.
Кто-то чересчур громко расхохотался. Тогда глава партии, пряча в боковой карман «исторический листок», приблизился к собеседникам и стал в центр их.
— Лучше, — сказал он, и все умолкли, — лучше, однако, переболеть уже, чем быть еще больным флюсом, не так ли? Но, господа, никто не болен. Владимир Дмитриевич просто… умышленно раздул свою щеку, — не так ли?
О, этот осторожный седоглавый человек всегда мог находить равнодействующую и в шутке и в серьезном деле… Эта равнодействующая определяла курс политики: он, глава ее, не аплодировал сегодняшнему оратору, но и не возражал ему. Их было двое таких: он и Лев Павлович.
…Стали расходиться вскоре же после окончания заседания. На послезавтра было назначено открытие обеих законодательных палат и — до того — высочайший прием депутатов в Зимнем.
Едва Лев Павлович успел проводить участников заседания и вернуться к себе, чтобы отдохнуть, как в передней раздался звонок, и через минуту кто-то постучал в дверь.
— Войдите…
В комнату, с портфелем в руках, вошел Фома Асикритов. Журналист был в чесучовом пиджаке — длинном, почти до колен, и коротком в рукавах, отчего его маленькая подвижная фигурка приобретала еще более смешливый вид.
«Чертик!» — невольно улыбнулся Карабаев, глядя с дивана на своего родственника, который не всегда был ему приятен.
Асикритов положил портфель на выступ камина и засеменил к лежащему на диване Льву Павловичу. По дороге он споткнулся о загнувшийся край тяжелого ковра, чуть-чуть не упал и, размахивая в воздухе руками, не дошел, а долетел, как подпрыгнувшая пружинка, к первому попавшемуся креслу.
«Ох, чертик!..» — еще раз подумал Лев Павлович и вспомнил куклу-арапчонка с вращающимися глазами в витрине одного из табачных магазинов: и действительно, Асикритов чем-то напоминал сейчас того арапчонка.
— Придвигайте кресло сюда, Фома Матвеевич. Простите, что я лежу, но я очень устал.
Асикритов не замедлил очутиться у дивана.
— Я к вам на пять минут, Лев Павлович, всего лишь. Я хочу знать…
— Интервью?.. — улыбнулся Карабаев и подумал, что мог бы, конечно, многое сообщить из сегодняшнего заседания, но разбалтывать кому-либо секреты своей партии он никогда не стал бы.
— Комитет у вас заседал, Лев Павлович?
— А вы откуда знаете?
— Очень просто: я встретил всех ваших в подъезде. Понять нетрудно. Ну так вот, что решили?
Лев Павлович сразу насупился: ему не нравилась такая напористость журналиста уж очень бестактно, по мнению Карабаева, желавшего использовать их родственные отношения. И он сказал, грузно повернувшись с бока на спину и глядя в потолок:
— Страна узнает наше решение.
— Вот я за этим, чай, и пришел, Лев Павлович? Или как вы думаете?
— Наше решение унес Павел Николаевич.
— Остроумно и зло сказано, Лев Павлович! Ай, да-да… В боковом кармане своего профессорского сюртука унес… хэ-хэ-хэ!
— Фома Матвеевич! Вы… знаете… как-то странно… расцениваете мои слова! (Лев Павлович хотел сказать: «странно ведете себя».)
— Да не сердитесь, золотце наше, Лев Павлович… Измотался, очень взволнован я.
«Правда, — подумал Карабаев, — все тёперь страшно взвинчены», — и сдержал свое раздражение.
— Так вы и все ваши, Лев Павлович, за или против? Против войны или нет?
— Мы за Россию — это вам хорошо известно.
— Хе-хе… За какую Россию? Э-э, не понимаете? Нет? Да что же это, бог ты мои, со всеми вами сталось в самом деле! Царя поддерживать будете, Распутина обелять… а?
— Не говорите гадостей, Фома Матвеевич.
— Гадостей? Нет, стойте. Ответьте мне на один вопрос. Вы за демократию или нет?
— Глупый вопрос, простите. Конечно, да.
— Дальше, дальше! Демократия разве может желать войны? Нет?.. Воюют короли, президенты всякие, холуи, императрицы, — причем же здесь демократия, а?
— Вы наивны.
— Если наивность — человеколюбие! Пускай Николашка ведет войну без всякой помощи изнутри, без поддержки общества. В два счета революция будет. Чай, нет?
— Это крушение страны! Она не должна быть разбита… Да потом… потом, — Лев Павлович вскочил с дивана, закашлялся, побагровел и, когда немного отошел, схватил вдруг подушку с дивана и отбросил ее в другой его конец: — Я ни на какую разнузданную революцию не поменяю ни одну русскую губернию! Слышите, вы? Слышите?
Он опять закашлялся и убежал в спальню. Широкоплечий, немного грузноватый, в черном люстриновом пиджаке, он на ходу расстегивал его… жилетку… верхнюю рубаху… срывал галстук и все это делал нерешительно и невпопад, словно руки его заблудились в его собственной одежде.
Через пять минут он вновь вышел — во всем том же, но без галстука и с расстегнутым воротом.
Под глазами у него были мешки. Черные густые волосы — торчком на большой голове; черные усы и такая же широкая, но не длинная борода еще резче оттеняли сейчас бледножелтый цвет его лица.
Он медленно, молчаливо прошел к письменному столу, протянул руку к лампе, но не зажег ее, словно пожалел в этот момент обжечь сумерки, бабочкой припавшие к окну — утомленно растопырившей крылья, большой, прозрачной бабочкой…
Он шагнул на мягкий ковер, потом куда-то вбок и облокотился локтем на выступ книжного шкафа.
Фома Матвеевич сидел неподвижно в кресле. Он обгрызал ноготь.
Вдруг он тихо, как-то постепенно поднялся и почему-то на цыпочках прошел к камину. Он взял оттуда свой портфель и пошел к двери. У самого выхода он остановился, обернулся и переложил портфель из одной руки в другую.
— Прощайте, Лев Павлович, — хрипло сказал он.
— Вы что ж… До свиданья, Фома Матвеевич.
— Больше… гм… того… расстраивать не буду.
— Да нет же, чудак вы!.. Погодите.
— Нет, прощайте, Лев Павлович. Прощайте! — сердито и глухо сказал Фома Асикритов. — Все уж промеж нас ясно…
И он закрыл за собой дверь.
«Что такое? — немного всполошился Лев Павлович. — Неужели я его обидел?.. Чем? И что за странные у него сегодня мысли? Откуда это все?»
Он даже шагнул, чтобы позвать журналиста, но тотчас же остановился: сам он, Карабаев, ни в чем не виноват.
Он подошел к дивану, положил подушку на прежнее место и улегся поудобней.
«В Каноссу! В Каноссу!» Эти слова назойливо приходили в голову Карабаева, когда он подымался вместе с другими по мраморной лестнице дворца.
И вновь он их вспомнил перед самым выходом государя.
…Это был тот самый белый Николаевский зал, где несколько дней назад провозглашался манифест о войне. Лев Павлович с любопытством оглядел его: он никогда здесь не был.
В центре средней стены, прямо против балкона на Неву, висел большой портрет императора Николая Первого — в любимой им конногвардейской форме, на коне. Высокий покровитель Бенкендорфа — в белой фуражке с красным околышем, с круто натянутым поводом в руке — как будто принимал невидимый парад своих преданных жандармов.
Вдоль стен стояла бальная мебель — золоченые кресла и стулья с плетеными сиденьями. Она казалась легкой и жеманной, как участницы былых придворных танцев.
По углам и в простенках — массивные хрустальные канделябры знаменитой Петергофской гранильной фабрики, а вверху — такие же массивные, хрустальные — три громадные люстры, поделившие потолок на четыре равные части.
Утреннее солнце разбросало в хрустале смеющуюся свою радугу, и высоченный, в «два света», зал казался еще выше и беспредельней.
Между окон вышитое панно с навешенными на нем блюдами и солонками: это подносили в свое время царю «верноподданные» его «хлеб-соль».
За четверть часа до выхода Николая в зале был установлен порядок. Думцы были поставлены в левую сторону от двери в царские покои, члены Государственного совета, министры и высшие придворные чины заняли правую, как предписывал сегодня ритуал.
В первых двух рядах стояли виднейшие депутаты и руководители думских фракций, и Карабаев очутился по праву среди них — рядом со своими партийными единомышленниками.
Широкая просека зеркального паркета разделяла собравшихся.
«Нейтральная зона… — посмотрев на пол, подумал Лев Павлович. — Бюрократия в расшитых мундирах со звездами — и мы… (Новая белая манишка, высокий воротник и наглухо застегнутый сюртук сковывали движения Льва Павловича.) Враги! И вот «ему» (он подумал о государе)… ему суждено нас примирить».
— Вы видали… а? И трудовики здесь, и они пришли, только сзади стали!.. — тихо, но оживленно говорил Карабаеву бледный, похудевший Николай Виссарионович, и голос его не мог скрыть радости и удовлетворения: «Слава богу, что пришли: ему, левому кадету, как-то спокойней теперь, меньше ответственности! Раз трудовики пришли — о, это уж что-то означает!»
— И «забастовщики» тоже… — усмехнулся одними глазами Карабаев. — Совет министров. Сколько времени мы с ними не встречались? Вспомните…
— А-а… — протянул Николай Виссарионович: «Да, да, верно: еще так недавно бойкотировали Думу, а теперь вот, поди ж ты, не могут без нее… То-то же!»
В рядах, в обеих половинах зала, разговаривали между собой совсем тихо, отказавшись от своего голоса и вогнав его куда-то внутрь.
«Значит — примирение…» — продолжал думать Карабаев, искоса поглядывая в сторону, где стояли министры.
Он отворачивается и старается не смотреть в ту сторону, где сидят министры и придворные. А сосед, стоящий за спиной Николая Виссарионовича, словно читая его мысли, вновь придвигает голову к его уху и вполголоса шепчет:
— Неужели сегодня… разрешат «бессмысленные мечтания»?! Как вы?..
— Так же, как и вы! — растерянно смотрит на него Карабаев через плечо и вдруг, с непонятным для соседа испуганно-заботливым взглядом, широко раскрыв глаза, быстро шепчет ему: — Вытрите скорей усы! Как же можно… вы завтракали… у вас следы на усах!
— Ну? — конфузится тот и вынимает носовой платок.
Пышнобородый старик — церемониймейстер — поднял вдруг свою трость с гербом на набалдашнике и с голубым андреевским бантом и оглядел весь зал. Он слегка постучал тростью об пол и объявил:
— Государь император…
И спустя несколько секунд обе половины дверей из царских покоев бесшумно и быстро распахнулись, и два пучеглазых арапа; сверкнув белой чалмой, колыхнули у дверей своими цветными шароварами.
В зал неторопливо вошел плоскогрудый офицер ниже среднего роста, в черно-красной форме гвардейского Преображенского полка, с широкой андреевской лентой через плечо. В нем нельзя было не узнать царя: он был похож на свои портреты, но они были красочней и ясней. В шагах трех позади него шел костлявый, длинный великий князь, главнокомандующий Николай Николаевич.
Царь на ходу коротко почесал одним пальцем левой руки свой подбородок и так же быстро провел им по рыжеватому, соломенному усу; словно сбрасывая с него приставшую крошку или оправляя заползавшие в рот нерасчесанные волоски.
Зал поклонился тысячью голов.
Николай сделал еще несколько шагов и остановился. Потом еще передвинулся чуть-чуть вправо, как будто желая остаться незадетым падавшим на прежнее место солнечным лучом, и опять повторил тот же быстрый жест рукой по усу.
— Приветствую вас в нынешние знаменательные и тревожные дни, переживаемые всей Россией… Тот огромный подъем патриотических чувств любви к родине и преданности престолу, который, как ураган, пронесся на всей земле нашей, служит, в моих глазах, и думаю, что и в ваших, ручательством в том, что наша великая матушка Россия… доведет ниспосланную богом войну до желанного конца.
Карабаев, как и все, напряженно всматривался в него и вслушивался в его слова. Если несколько минут назад он думал о том, что скажет Николай, то сейчас главное внимание Льва Павловича было обращено на то, как он говорит, как держится и Каков он: так близко Николая он видел в первый раз.
Николай говорил не громко, внятным низким голосом, которого никак нельзя было предполагать, судя по внешности этого человека.
Первые две фразы он произнес гладко, не запинаясь, на спокойном дыхании, но никак не интонируя — как бесстрастный чтец-протоколист чужих омертвевших слов. Они уходили чинно и выученно, группа от группы отделенные неслышными, в уме расставленными знаками препинания, в зал — как невзыскательные безмолвные статисты, по режиссерским ремаркам — со сцены.
Он говорил с некоторым налетом иностранного произношения, по-гвардейски — с легкой растяжкой, акцентируя иные слова, и слово «преданность» звучало — «прэ-эданность», а «крепко» — почти как «крэ-эпко».
— …И в нынешнюю минуту… я с радостью вижу, что объединение славян происходит… крепко и неразрывно со всей Россией.
Голос начал делать перебои, в чередовании слов произошла несколько раз заминка: это память, словно ослабевший, разжимающийся кулак, силится сохранить до конца в своем зажатии выпадающие слова, собранные ею с приготовленного, написанного еще вчера мемориального листка в спокойном Петергофе. Заботливая Александра советовала положить листок в фуражку и держать ее в руке, как уже сделал однажды. Но разве можно… возможно ли это сегодня, когда приходится так близко от себя видеть такую массу чужих, незнакомых людей!..
Луч солнца опять дотянулся до лица и непозволительно, проклятый, щекочет сейчас ноздри.
«Пропустить фразу? Все равно ведь листок целиком обнародуют!»
Николай подергивает два раза плечом (придворные знают этот характерный жест после удара японской дубинки), словно что-то укусило его в лопатку или царапает где-то в том же месте перекрахмаленное белье, — и уже торопливей и взволнованней кончает, освобождая совсем свою память:
— Уверен… что все, начиная с меня, исполнят свой долг до конца. Велик бог земли русской!
Царь осенил себя крестным знамением.
— Ур…
— …ра-ра! — проносится по залу.
И под грохот этого приветствия Николай, задержав дыхание, втянув в себя воздух, вдруг всхлипывающе чихает, но чох этот сейчас не слышен в зале, и только многие видят, как быстро государь вынимает из кармана носовой платок, подносит его к лицу и вновь прячет.
— Ур-р-ра-а! — еще раз громыхает по залу, и кажется, звенят от сотрясения по углам тяжелые хрустальные канделябры.
И — вновь тишина.
Выступив вперед, с почтительным поклоном начинает свою краткую речь председательствующий в Государственном совете.
Он «повергает к стопам великого государя и самодержца всероссийского» выражение безграничной любви и готовности к временным жертвам на благо России. Он напоминает монарху, что на Россию ополчились две страны, которые обязаны ей своим нынешним могуществом. Россия спасла их в свое время от праха и позора: Германию, сто лет назад, — от занесенной над ней руки наполеоновской Франции, Австрию — от поражения 48-го года.
Седенький маленький старичок молебно складывает руки. Вялые, сморщившиеся губы тихо и медленно роняют слова — как капли сока из высохшего лимона. На узенькой голове старичка — редкий пушок коротеньких седых волос к розовато-пергаментные плеши.
Царь спокойно и уверенно смотрит в его глаза. Он прекрасно знает этого ветхонького человека в блестком, расшитом золотом мундире, он уже не раз слышал его ковыляющий голос и видел его хилую подпись на каких-то бумагах.
И, когда речь его окончена, Николай едва заметным кивком выражает свою благодарность. Он искоса поглядывает сейчас налево, и Лев Павлович видит, как учащенно подымаются и опускаются его ресницы.
Наступает момент, которого правая часть зала и монарх ждали с неменьшим интересом, чем левая — отзвучавшей уже речи Николая: слово за Думой!
Стоявший впереди депутатов их председатель — Родзянко — сделал несколько шагов по направлению к царю.
— Ваше императорское величество! — громко, на весь зал, Прокатились, как шары при кеглях, слова Родзянко. — С глубоким чувством и радостью вся Россия…
Зычный, растроганный бас несет теперь волны прочувственных величавых слов, охватывающих сплюснутый длинный полукруг людей. Стоящие подальше от центра и в задних рядах незаметно придвигаются, наседают, приподымаются на цыпочки и вытягивают головы, чтобы лучше запечатлеть в своей памяти этот «знаменательный момент».
— Пробил грозный час. От мала до велика все поняли…
Медленно подталкиваемый сзади, Лев Павлович, уже не упираясь, вместе с другими наплывает все ближе к тому месту, где стоит государь и, чуть поодаль от него, великий князь.
Бас Родзянко приобретает все больший и больший пафос.
Родзянко массивен, большеголов, с крупным носом и тяжелым кадыком. «Громадный индюк с весом коровы!» — вдруг приходит в голову Льву Павловичу, словно до сего он никогда раньше не замечал выразительной внешности председателя Думы.
Николай слушает, глядя мимо оратора — на зеркальный коричневый паркет. Лицо шафранное, чуть-чуть курносое, и, — если вглядеться в него повнимательней, — чем-то напоминает лицо Павла, но… может быть, это только так кажется Карабаеву?
Государь не смотрит на громадного, тяжелого Родзянко: Николай всегда испытывает неприятное, неловкое чувство, видя перед собой очень близко людей высокого роста. В таких случаях он подавлен и застенчив, — и долговязый костлявый великий князь предупредительно стоит, сейчас поодаль.
А этот громадный, жирный «индюк» Родзянко, увлеченный своим верноподданническим пафосом, накаляющим весь зал, наступает время от времени, все придвигается незаметно вдоль изломанной депутатской шеренги, и шафранное лицо Николая делается немного растерянным и беспомощным, и учащенней подымаются и опускаются неровные ресницы.
Рыжеватая, цвета прелой соломы, борода вокруг всего лица кажется неживой, набухшей — как на монетах.
Лев Павлович охвачен общим состоянием. Он проникается неожиданно какой-то кающейся жалостью былого обидчика к этому плоскогрудому, невзрачному офицерику, словно он, Лев Павлович, должен сейчас судить и карать его.
Да… нет же, нет! Разве может он, «человеколюбивый бывший земский врач», карать и быть безжалостным?!
Ах, может быть, сейчас, в этот «грозный час» для всей страны, свершается здесь чудо, и вся мощь и тревога России пронижет слабенькую фигуру этого человека, которому суждено было стать императором, и он воспарит орлом над врагами России, над врагами ее народа?! (Мысль Карабаева сделала бросок в сторону придворных министров.) И если это случится, то все, все можно простить, забыть, и не как судья, — нет, нет! — а как преданный, несказанно счастливый патриот, ведущий за собой толпу доверчивого, обрадованного (и обманутого, Лев. Павлович?) народа!.. И поймут все (и «он» — первый…), что все русские — братья не только по крови, но и по идее.
— Дерзайте, государь, — русский народ с вами! — потрясает стены зала и покаянные сердца депутатов зычный растроганный бас.
Царь переступал с ноги на ногу.
Наконец, Родзянко кончил. Николай поднял голову и решился посмотреть на него:
— Сердечно благодарю вас, господа… сердечно. От всей души желаю вам всяческого успеха. С нами бог!
Царь передвинулся, скользя по паркету бочком, как имел привычку, поближе к рядам министров. Он перекрестился, за ним — и весь зал.
И тот же Родзянко, как опытный регент, первый затянул:
— Спа-аси, госпо-оди…
Он торжествующе, победоносно оглядывал своих противников из лагеря министров и придворных: сытый индюк оказался сегодня нужней, чем старческие павлины!
«Спаси, господи, люди твоя…» — чинно, молитвенно пел торжественный зал.
О, коварная российская Каносса с вынесенными вперед предательски светящимися башнями взаимного всепрощения, примирения и трепетной лжи!
Царя уже в зале не было, и все торопились уходить: через несколько часов должно было открыться заседание Государственной думы.
Лев Павлович рассеянно, с еще не уложившимися впечатлениями, пробирался к выходу. У дверей он натолкнулся на великого князя и Родзянко, жавших друг, другу руки.
И вдруг он услышал самодовольный, увещевающий бас:
— Ваше высочество, они наглупили… наглупили и сами не рады. Возьмите с Милюкова слово, — и он изменит направление. А газеты теперь нам, ох, как нужны!
«Наглупили?..» — старался Карабаев вспомнить, по поводу чего могло быть сказано это слово, и не сразу сообразил, что речь шла о недавней позиции его самого и всех его единомышленников по вопросу о невмешательстве в австро-сербскую войну. И, словно оправдываясь сейчас, он ясно вспомнил заседание у себя на квартире и чьи-то прямые и отчетливые слова: «…Только потому, что Россия к войне не подготовлена. Это бой в невыгодных условиях:..»
Хочется ни о чем не думать сейчас, что могло бы вызвать какие-нибудь сомнения.
Лев Павлрвич садится в первую попавшуюся пролетку и едет домой.
«В Каноссу… в Каноссу»… — словно пробует догнать его оставленная позади мысль, но он отмахивается от нее небрежно, как от надоедливой и страшной попрошайки.
Через несколько дней он получил почтовый пакет. Он разрезал его, и оттуда выпали два сложенных один в другой листка. Оба были густо заполнены машинописными строками.
Лев Павлович развернул первый из них и с удивлением стал читать:
Принахмурив очи строгие, Чтобы в корне зло пресечь, Коноводам «демагогии» Царь сказал такую речь: — За благие пожелания Вас я всех благодарю, Но бессмысленны мечтания Власть урезать мне — царю! Эх, калики перехожие! Либералы! Дикари! Провинциалы толстокожие, Санкюлоты из Твери!.. Или вы воображаете, В самом деле (как умно!), Что собою представляете Вы парламента зерно? Далеко зерну до колоса, Не пришла его пора. Дам пока вам право голоса Лишь для возгласов «ура!»Это была «песенка», широко распространенная после знаменитого приема Николаем членов земской депутации.
Лев Павлович вспомнил ее и усмехнулся. Но… но кто и почему прислал ее?!
Он быстро разогнул второй листок, надеясь найти в нем ответ. Напрасно, — первые же строчки были ему уже знакомы и… неприятны, но он все же пробежал их глазами.
Это была декларация социал-демократов, оглашенная недавно в Думе, но не опубликованная в газетах.
«Сознательный пролетариат воюющих стран не мог помешать возникновению войны… Но эта война окончательно раскроет глаза народным массам Европы на действительные источники насилий и угнетений… Теперешняя вспышка варварства будет в то же время и последней вспышкой».
Лев Павлович досадливо поморщился и застыл на минуту в медленном раздумье у стола.
Голова его, откинувшись вбок, неподвижно лежала на подставленной ладони. Он думал… Потом встал и вновь наклонился над только что брошенным листком. И вдруг заметил в нижнем углу его краткую, тоненькую — царапающим карандашом — надпись: «Сопоставьте! Ф. Асикритов».
— Ах, вот что! — сказал вслух Лев Павлович и как будто обрадовался. — Какой странный человек!
Он сложил листки так, как они лежали в конверте, всунул их туда и медленно, неторопливо разорвал наполненный конверт надвое.
Почти в одно и то же время, чуть ли не в один день, уехали из Смирихинска Людмила Петровна и ротмистр Басанин. Она — записываться в сестры милосердия, он — хлопотать о переводе в действующую армию. Чаша скуки опрокинута, и ее надо наполнить новым зельем.
Сокровенные, тайные планы ротмистрова писаря Кандуши были грубо нарушены происшедшими событиями. Он растерялся, «ловец человеков»!
Старик Калмыков умер в тот же вечер, когда пришла телеграмма о мобилизации.
Из груди его все время вырывался клокочущий хрип, и глаза его были закрыты и неподвижны.
Иногда хрип становился упрямей, сильней и настойчивей, и, казалось, хочет навзничь поваленный Рувим Лазаревич сказать что-то, в последний раз приказать, и захлебывается невысказанное слово его в клокочущем хрипе, как обессиленный пловец, упавший в кручи водопада.
Какое слово?.. Может быть, требует старик дать ему в руки исчезнувший пергамент, и тогда откроются его закатившиеся глаза и увидят в последний раз последнюю подпись его — приказ родоначальника, кому и как нести на земле его, калмыковское, завоеванное в жизни добро?..
Федя Калмыков шел полем к Ольшанке.
Сидеть дома было скучно и тягостно: приехавшие дети Рувима Лазаревича, похоронив старика устраивали теперь семейные дела. Старшие Калмыковы — врачи — отказались от своей доли наследства в пользу слепого брата Мирона.
Во время этих разговоров Федя чувствовал какую-то неловкость. Он вспоминал недавний ночной разговор с дедом, и тайна погибшего дедовского завещания иногда колебала принятые Федей решения. «Встать и сказать, что я все знаю?.. — думал он, сидя с матерью в углу дивана. — Ведь отец… мы имеем право на половину всего этого состояния. А что же с ним делать? — словно выглядывала откуда-то своевольная ребяческая мысль. — Семен потребует, чтобы я вместо отца помогал ему вести дело?! И он будет прав, конечно… Благодарю покорно! А как же университет, Ира и… вообще своя жизнь?!.»
И узнав, что отец, мать и Райка будут в какой-то мере обеспечены принятыми решениями на семейном совете, Федя успокоился и никакого участия в этих делах уже не принимал.
…Он шел знакомой дорогой, безлюдной и тихой, и ничто не отвлекало почти его внимания. Уже далеко позади него остались последние городские домишки, уже, ничем не стесненный, ласково, мягко бьет беспрерывной волной по лицу полевой душистый ветер, и свободная во все стороны, напоенная солнцем земля открывает глаза свои — золотисто-синие просторы.
Он не мог бы сказать, о чем он сейчас думал. Ни о чем глубоко и мучительно и ни о чем легко и радостно. Но он знал, что обо всем — с любопытством и неуспокоенностью.
Он не мог бы точно и связно пересказать своих мыслей, но они были о многом…
Он думал о людях умирающих и нарождающихся: вставших в его памяти и дорисованных его воображением. О дружбе, о ненависти, о любви, зависти — о многих других неумирающих человеческих страстях: о том, что вечно, покуда дышит жизнь.
Он думал о себе и о мире, о своем месте в нем — обо всем, о чем думает каждый человек.
Он понял, что только вступает в жизнь, что многое ему еще непонятно, что неминуемы потери чего-то привычного, близкого, — взамен того, что будет найдено в просторах и лабиринтах грядущего, еще неизвестного.
Он знает: мир получил толчок; значит, получил и он, Федя Калмыков.
— Федя! — крикнула с крыльца выбежавшая навстречу девушка.
— Иду! — крикнул он и — побежал.
Это глядела на себя самое — любовь…
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ B ночь на 6 ноября 1914 года в Петрограде
Под новый 1915 год в доме доктора Русова читали напечатанную на гектографе прокламации, посвященную аресту пяти депутатов Государственной думы — большевиков.
Прокламацию эту привез из Киева молодой студент Алеша Русов, никому не поведавший, как она к нему попала.
«Товарищи! — так начиналось обращение питерских большевиков. — В ночь на 6 ноября подлое царское правительство, обагрившее себя кровью борцов за лучшее будущее демократии, правительство-палач, замучившее на каторге представителей пролетариата во 2-й Думе и тысячи его лучших сынов, правительство, веками сосущее кровь народную, бросило в темный сырой каземат депутатов Росс. соц.-дем. фракции.
С такой наглостью и цинизмом расправилось самодержавное правительство с думским представительством 30-ти миллионного рабочего класса. Лживость и лицемерие фраз о единении с народом вскрыто. Обману и развращению рабочих масс наступает конец. Царское правительство сделало последний шаг, дальше некуда. Фиговый лист российской конституции еще раз сорван и на этот раз окончательно. Во весь рост встает перед рабочим классом и всей демократией вопрос об истинном народном представительстве, об Учредительном собрании.
Только война и военное положение, железными тисками сжимающие пролетариат и демократию, дали возможности правительству совершить гнусную расправу над избранниками рабочих, стоящими самоотверженно на страже их святейших интересов.
Под грохот пушек и ружей правительство старается задушить революционное движение рабочего класса. В потоках крови насильно угоняемых на бойню миллионов рабочих и крестьян оно надеется утопить их освободительные стремления.
Прикрывая свои хищнические замыслы лживыми фразами об освобождении славян, царское правительство во время войны еще с большей свирепостью душит рабочий класс: оно разгромило все рабочие организации, уничтожило рабочую печать, ежедневно заточает в тюрьмы и ссылает в далекую, холодную Сибирь лучших борцов пролетариата.
Но смертельному врагу рабочего класса было мало этого. Он решил, что настал удобный момент для расправы с представителями рабочего класса, геройски борющимися с правительственной политикой, политикой гнета и насилия, и железные кандалы зазвучали за тюремной решеткой. Избранникам пролетариата царские бандиты сказали: ваше место в тюрьме.
В тюрьму посажен весь рабочий класс. Шайка грабителей и эксплуататоров, шайка погромщиков осмелилась осудить, как преступника, 30-тимиллионный рабочий класс России. Рабочему классу брошен смертельный вызов.
Но и железные тиски военного положения не удержат рабочий класс от гневного крика протеста. Крик: «Долой палачей и насильников!» — громко вырвется из груди многомиллионного пролетариата России, грудью вставшего на защиту своих депутатов.
Товарищи!
Петроградский Комитет Росс. соц.-дем. рабочей партии призывает рабочих Петрограда к однодневной забастовке и митингам протеста против гнусного и беззаконного деяния царско-помещичьей шайки.
Долой царское правительство!
Да здравствует демократическая республика!
Да здравствует Российская соц.-демокр. рабочая партия! Да здравствует социализм!»
Суд над рабочими депутатами Петровским, Бадаевым, Мурановым, Шаговым и Самойловым состоялся 10 февраля 1915 года.
Накануне этого дня в Петербурге бушевали метели, выли снежные ветры на проспектах и набережных столицы. Высунуться в такую погоду на улицу было весьма неуютно, а в вечерний час — и подавно. Но все, кто был зван прокламациями ПК большевиков на сходку в один из пустовавших складов «Треугольника» на Обводном канале, пришли сюда сквозь белую зимнюю бурю — послушать представителя ПК.
Это был человек со строгим, северным русским лицом — молодым еще, но уже помеченным причудливыми седыми височками, казавшимися сейчас двумя приставшими к лицу снежными хлопьями.
Стоя на широком ящике, этот человек говорил:
— Вспомните последние два года, товарищи… Кто в Думе отстаивал всегда рабочие интересы? Кто больше всех беспокоил министров запросами о беззакониях властей? Кто расследовал взрывы на пороховых заводах и в угольных шахтах? Кто мешал гулять полицейскому кулаку при похоронах рабочих и при демонстрациях? Кто собирал пожертвования для пострадавших товарищей? Кто издавал газеты «Правда» и «Пролетарская правда»? Кто протестовал против убийства и увечья миллионов людей на войне? Всё они, рабочие депутаты! И за это они все пойдут на каторгу… Защита рабочих депутатов есть дело самих рабочих. Либералы Милюковы, Коноваловы, Карабаевы вместе с правительством рады этой расправе. Трудовики в Думе и фракция Чхеидзе как будто сразу оглохли и онемели. Кто же может защитить теперь наших товарищей? Только те, кто их избрал и поддерживал. Только пролетариат может защитить их. Товарищи! Бастуйте десятого февраля. Устраивайте митинги, демонстрации. Протестуйте против наглого издевательства царского правительства над рабочим классом!
— Ваулин? — тихо спросил своего друга Власов.
— Он! — ответил кратко Андрей Петрович.
И по-мужски ласково посмотрел на оратора.
Конец первой части
Часть вторая От Петрограда до Лондона и Парижа
ГЛАВА ПЕРВАЯ Каждый дипломат, живя, в чужой стране, должен найти там друзей своего отечества
Было лето 1916 года. Истекал второй месяц пребывания думской делегации за границей.
В апреле Лев Павлович Карабаев вместе с другими членами Думы и Государственного совета выехал на Запад, куда приглашали представителей русского парламента правительства Англии и Франции. Три месяца назад отбыла туда же группа столичных журналистов. Она должна была посетить западный фронт, чтобы рассказать потом русским читателям о доблести и геройстве войск маршала Жоффра и Фоша, Фрэнча и Дугласа Хэга, об испытаниях бельгийского народа, о борьбе союзных наций — английской, итальянской, французской — с «тевтонами-завоевателями».
Организовал приглашение обеих русских делегаций (знали об этом очень немногие) Джордж Бьюкэнен, английский посол в Петрограде. Льву Павловичу, в частности, это было известно, потому что он принадлежал к числу руководителей кадетской партии, к которой полномочный министр Великобритании питал плохо скрываемую симпатию. Что эта симпатия была взаимной — свидетельствовали органы тайного наблюдения: они установили многочисленные случаи встречи оппозиционных депутатов-либералов с излишне гостеприимным хозяином особняка на невской набережной. А что проявление этих симпатий мистером Бьюкэненом нарушало обычные нормы дипломатического такта — утверждали некоторые придворные люди они передавали по секрету, что государь намерен послать телеграмму королю Георгу с просьбой воспретить сэру Джорджу вмешиваться во внутреннюю политику российской империи.
Очевидно, сэр Джордж был другого мнения о задачах и характере своей деятельности, и дошедшие до его сведения угрозы русского императора не изменили поведения полномочного представителя английского королевского правительства. Он поступал так, как считал нужным, он делал то, что в первую очередь было необходимо и полезно для Великобритании и возглавлявшейся ею теперь западной коалиции. И как иначе он должен был понимать цель своего пребывания в царском Петербурге?
Было известно, что правительство его величества короля Великобритании весьма одобряло деятельность своего многолетнего посла, и на приеме в Букингэмском дворце Лев Павлович и его спутники получили подтверждение этого из уст Эдуарда Грея, министра иностранных дел.
— Каждый дипломат, — сказал тогда он, — живя в чужой стране, должен прежде всего найти там друзей своего отечества. Если он не нашел сразу, — надо их создать. Мантия, камзол и сюртук должны вызывать одинаковое внимание со стороны такого дипломата. Но там, где мантии и камзолы смешались с грязными поддевками (намек на Распутина), скромный деловой сюртук особенно приятен своей незапятнанностью! — закончил сэр Эдуард свои суждения о «русских костюмах».
Шесть русских литераторов, командированных шестью редакциями, предприняли поездку вполне своевременно, — рассудил справедливо Джордж Бьюкэнен: они должны были выступить свидетелями грядущих побед коалиции несущими на конце своих перьев ее уверенность, бодрость — не сокрушимую ничем бодрость! А ведь это так необходимо было! Восточный союзник испытывал в том потребность больше, чем когда бы то ни было: минувший год покрыл Россию трауром военных поражений.
Весной 1915 года армия Макензена прорвала русский фронт на Карпатах. В течение трех недель пришлось оставить Перемышль и Львов, — немецкий генерал шел победоносно от Горлицы на Равву-Русскую и дальше.
Взяв Варшаву, Гальвиц, Леопольд Баварский и подымавшийся с юга Макензен спешили к Брест-Литовску: он был повержен. Еще раньше, в Курляндии, была взята Либава, флот адмирала Тирпитца прорывался в Рижский залив.
Сшибленные ударом германских армий, пали в августе Ковно, Осовец, Гродно и Луцк, а сентябрь отнял у России Вильно.
От Двинска до Тарнополя пролегала на карте прямая жирная черта неприятельского вторжения.
«Пожалуй, можно начать уже переговоры о мире?.. Разве Петроград не знает, в каком гибельном состоянии находятся его полуголые, технически бессильные армии?» Джордж Уильям Бьюкэнен, а через него и его русские друзья (и Лев Павлович в том числе) хорошо были осведомлены о том, кто и кому шлет эти вопросы.
Если бы почта на имя русского императора шла обычным путем, удивиться надо было бы царскосельскому почтальону, почему на конверте — штемпель, поставленный чиновником венского почтамта, уже давно не переправлявшего корреспонденций во враждебную, воюющую Россию?.. Но фрейлина русского двора Мария Александровна Васильчикова не прибегала к услугам венского почтамта. Из своего имения Глогниц, около самой Вены, она отправила письмо Николаю в Александровский дворец. Письмо никем из работников почтово-телеграфного ведомства не штемпелевалось, а шло в сумке нарочного через нейтральный Копенгаген и Стокгольм. Это случилось еще в феврале минувшего года; в пространном письме Мария Васильчикова, задержанная из-за военных действий в Австрии, делилась своими впечатлениями о мощи серединной Европы. Она вспоминала историю — лучшую свидетельницу того, что никогда собственно не было и нет никаких противоречивых интересов у Германии и России, а что касается Англии — то стоит только вспомнить Персию и Афганистан, а также козни Альбиона на Дальнем Востоке, чтобы понять, сколь доверчив оказался русский орел, принесший свою дружбу в логовище британского льва…
Письмо (это доподлинно было известно сэру Джорджу Уильяму) осталось без ответа. Да и что было отвечать тогда? К концу 1914 года русская армия заполнила Галицию, взобралась на Карпаты, стремилась к Будапешту, — все это подавало надежды на будущее.
Но вот у Марии Александровны приключилось горе: умерла в Петербурге престарелая мать, урожденная графиня Олсуфьева. Опечаленная дочь так сильно затосковала в своем Глогнице, что узнавший об этом герцог Гессенский помог ей отправиться на три недели, как обусловлено было, в Петроград — погрустить на кладбище, у фамильного склепа Васильчиковых. Услуга за услугу: Мария Александровна спрятала в свою сумочку братские письма великого герцога к сестрам — русской императрице Александре и Елизавете, вдове великого князя Сергея, десять лет назад разорванного бомбой Каляева в Москве.
Справившись о здоровье и самочувствии всех родственников и передав почтительный привет от всех гессенских и рейнских родичей, Эрни Людвиг, заканчивая письмо к «младшей сестре Алисе», сообщил, между прочим, что вскоре посылает «частным образом доверенное лицо в Стокгольм», что «хорошо было бы и Ники послать туда частным образом человека, и они могли бы полюбовно уладить многие временные страдания и начать строить мост для переговоров».
Сэр Джордж не без любопытства прочитал также копию и другого письма, прибывшего почти одновременно с пакетами герцога Гессенского: прусский министр двора, обер-гофмаршал Эйленбург, свидетельствуя свои самые сердечные чувства министру двора русской империи, запрашивал графа Фредерикса — не настала ли пора приступить к мирным переговорам «после всего того, что случилось, и предвидении того, что может еще случиться неприятного с Россией, к которой Германия ничего плохого не питает: это не то, что Англия, — «Gott, strafe England!»[3]
«Не настала ли пора?» — спрашивал тогда же в частной беседе посла в Стокгольме, камергера Неклюдова, прибывший в Швецию директор «Deutsche Bank»[4]. И вежливо напоминал собеседнику: с Галицией пришлось расстаться; польские и литовские земли — очистить; Ригу — эвакуировать; армия — без снарядов и современной техники; почти все политические партии, презирая неудачника царя, ненавидя его правительство, помышляют «о недобром»; доходят слухи о рабочих волнениях в стране; население тяготится проигранной войной, а союзники… о, те думают только о себе! Особенно Англия: она меньше всех теряет в этой великой игре: лорд Китченер, Асквит и Ллойд-Джордж готовы воевать до… последнего русского солдата! «Не настала ли пора?»
И мистер Бьюкэнен решил, что пора настала… для ответа!
В новогоднюю ночь двери ресторана «Контан» пропустили в свой самый большой зал свыше трехсот гостей сэра Джорджа Уильяма. Пришла английская колония — офицеры, инженеры, журналисты, промышленники, купцы, руководители и представители торговых фирм — верные сыны горячо любимой королевской Англии. Пришли государственные и политические деятели русской империи и чины всех союзных посольств.
После первых кратких приветствий и тостов поднялся со своего кресла хозяин, вскинул привычный монокль на широкой черной тесьме, беззвучно шевельнул вдавленными, поджатыми губами (словно желал, готовясь к выступлению, размять и проверить свой рот) и, чуть скривив его, начал ту самую речь, которую политические друзья Льва Павловича Карабаева, да и он сам, назвали потом «памятной и знаменательной».
— Прошло без малого полтора года войны, — говорил в своей речи мистер Бьюкэнен, — и мы, англичане, имеем все причины гордиться той ролью, которую сыграла в ней наша страна. К прискорбью, небольшая количественно часть русского общества держится, повидимому, другой точки зрения. Небольшая кучка людей прилагает все усилия, к тому, чтобы посеять разлад между Россией и ее союзниками. «Где британский флот и что делает британская армия?» — спрашивают эти господа в Петрограде, в Москве и других местах. Я скажу им сейчас, что делают флот и армия его величества короля Великобритании! Вспомните карту мира, почтенные джентльмены… Где английские корабли? В Дарданеллах, в Суэце, у мыса Горна, у мыса Доброй Надежды, в Зондском проливе, у Зунда, в Ла-Манше, в «немецком» Северном море, всюду, — вот где английские корабли! Не многие могут увидеть флот Великобритании, но все и всегда могут его почувствовать! На воде англичанин — хозяин, и только англичанин! Хозяин ли он на суше? Он сражается у Ипра, у Салонник, в Галлиполи, по дороге в Багдад, в Южной Африке, в Конго, в Египте. Везде, во всех частях света раздается наша славная походная песенка «It s a long way to Tipperary»[5], вселяя в душу народов бодрость и надежду. Откуда пришли эти разноцветные, разноликие, в «хаки» одетые, чудные парни? Из Ирландии и Валлиса, из Англии, из Канады, из Индии, из Австралии, с острова Фиджи, из Трансвааля, — весь мир откликнулся на призыв нашей родины… Почтенные джентльмены! Когда-то знаменитый русский прогрессивный писатель, мистер Герцен, нашедший приют на берегах нашей радушной Темзы, назвал нас, англичан, существом берложным, любящим жить особняком, упрямым и непокорным. Да, мы упрямы и непокорны, когда покушаются на нашу свободу, на жизнь нашей родной Великобритании. «Никогда, никогда англичанин не будет рабом» — это поет и знает каждый пастушок на полях нашей родины… Что делает британский флот? Кто хочет угнать, проявил ли наш флот свое могущество, тот может дойти до истины самым простым путем. Флот может выполнять семь задач. И только семь, почтенные джентльмены! И в этом смысле я ничего не могу прибавить а тому, что ответил в июле прошлого года лорд Бальфур газете «New York Herald». Только семь задач — и ни одной больше!.. Флот может прогнать с морей торговлю неприятеля; флот должен охранять свою собственную торговлю; он обязан обессилить неприятельский флот, сделать невозможной перевозку неприятельских войск; флот может перевести войска своей страны куда захочет; он должен обеспечить продовольствие для этих войск и — последнее: он должен помогать войскам в их операциях. Мы выполнили все семь задач, восьмой не существует! По этому вопросу, почтенные джентльмены, я ничего больше не могу добавить к тому, что имел честь сказать пять минут назад… Наши враги подымают вопрос о мире… Но какой может быть мир, когда сожжена героическая Бельгия, раздавлена Сербия и Черногория, когда отняты у России польско-литовские земли, когда славная Франция утратила двенадцать лучших промышленных департаментов?.. Мы знаем о посредничестве его величества короля Испании, мы знали миссию из Америки — мистера Форда, мы знаем и другие миссии и других корреспондентов германской главной квартиры, которым, к сожалению, не отказано резко в праве на переписку. (Слова эти произносятся замедленно, каждое отделено от соседнего выразительной секундной паузой.) Дело не в мире, а в условиях мира, — так писал после Аустерлица Наполеон Бонапарт своему брату Иосифу. Мы тоже отвечаем так. И если Англию спрашивают, каковы ее условия, — она отвечает всем, почтенные джентльмены: «War to the finish» — война до конца!
Через несколько дней после этой речи выехали на Запад шесть русских литераторов, чтобы в газетах, журналах, книжках описать все то, о чем говорили в новогоднюю ночь сэр Джордж Уильям, полномочный посол королевского правительства Великобритании.
А спустя три месяца отбыла туда же парламентская делегация, в состав которой вошел и Лев Павлович Карабаев: нужно было не только описывать, но и учиться здесь и, — что особенно было важно, — представительствовать волю своей родины (буржуазии!): идти в войне до конца вместе со своими союзниками. Никогда, никогда еще Лев Павлович не чувствовал так своей ответственности за дело, выполнить которое он должен был вместе с другими соотечественниками.
ГЛАВА ВТОРАЯ Что хотел Карабаев увидеть и потому увидел это на Западе
В Стокгольме муниципалитет устроил банкет в честь русской делегации. Швеция была нейтральна и — внешне — одинаково приветлива со всеми: еще несколько дней назад тот же муниципалитет столь же радушно принимал группу купцов, приехавших из Бремена и Гамбурга.
Пожизненный мэр города, опрятненький старичок Линдгаген — седой, голубоглазый, с вечным шведским румянцем на щеках, — настойчиво убеждал русских гостей в том, что «войну можно остановить», что он, старый шведский социалист Линдгаген, «говорит это всем и каждому», но мало кто согласен с ним, к сожалению. Не хотят ли русские гости встретиться с miss Balch — замечательно энергичной американкой, входящей в «пацифистскую» миссию, отправленную Фордом в Европу? Миссия выработала отличный план, a miss Balch может показать «сенсационные письма» английских солдат о 24-часовом перемирии, которое установили между собой солдаты обеих воюющих сторон… О, не надо относиться так недоверчиво к документам miss Balch!.. Пожалуйста, депутат риксдага Седерберг может подтвердить вам все это.
И депутат Седерберг — такой же румяный, такой же светлоглазый, но помоложе и ростом повыше — медленно, бесстрастно подтверждал: да, перемирие было; да, англичане не стреляли в немцев, и немцы не стреляли в англичан; да, у англичан нет никакой злобы к немцам, — в пасхальную ночь и те и другие вышли без оружия из окопов на полянку, разделявшую их, пели друг другу песни, ели один и тот же шоколад, курили один и тот же, табак, играли в чехарду, показывали карточки своих жен, детей и невест и потом целый день не сделали ни одного выстрела.
Да, — это все было, да, это все факт, да, с этим фактом надо считаться, — пожизненный мэр Линдгаген торжествовал.
Тогда в Стокгольме, сообщениям этим Лев Павлович мало поверил, сомневались в их правдивости и его спутники. Больно уж лукав ныне Стокгольм, больно уж суетлива и многоязычна обычно тихая и сдержанная шведская столица, ставшая теперь пристанищем для людей всех стран и национальностей!.. Да и кому на руку распространение слухов о солдатском «братании», как не тем же немцам, а они в большом количестве стали теперь завсегдатаями Скандинавии. Во всяком случае, здесь, в Стокгольме, отношение к ним, заметил Карабаев, было весьма предупредительным и поистине добрососедским.
А норвежская столица показалась сдержанной и спокойной, здесь было значительно меньше немцев и их поклонников, чем в Швеции. Тихая, маленькая Христиания готова была, — если так надо было, — отдать предпочтение своей могущественной островной соседке: бритты скупили весь богатый улов рыбы, дали работу всему большому флоту Норвегии (а цены на морской фрахт выросли втрое, и это было очень выгодно), они вместе с французами вложили капиталы в крупные заводы азотистых соединений и алюминия. Кроме того, было еще одно обстоятельство, всегда влиявшее на политические чувства страны: близость того самого английского флота, о котором так красноречиво повествовал лорд Бальфур в Лондоне и сэр Джордж в Петрограде.
На банкете у русского посла Гулькевича депутаты стортинга, журналисты, купцы и даже осторожные норвежские чиновники говорили об Англии более чем почтительно. В эти дни Христиания праздновала трехсотлетний юбилей Шекспира. Торжественное празднование, в котором приняли участие король, правительство, стортинг и все муниципалитеты, превратилось, как писали газеты, «в демонстрацию дружбы обеих стран».
Скромная Христиания расположила к себе Льва Павловича своим идиллическим, как показалось ему, уютом, чистотой и спокойствием.
Ничего особенно примечательного в городе не было, но вот люди на его улицах, на старинной площади, где продавали цветы в стеклянной карете, — все эти торговки в «каплоухих» головных уборах, в соломенных галошах, хотя всюду уже было сухо; кадеты и школьники с аккуратно застегнутыми портфеликами в руках; стройные деловитые девушки с маленьким букетиком анемон — первых весенних цветов севера — в петлице и с газетой подмышкой; прогуливающаяся пожилая чета в безукоризненно отглаженном платье; беспечно похаживающий у присутственных мест круглолицый, рыжебровый солдат в коротком сереньком пальто (узенький ножик, примкнутый к ружью, не внушает никакого страха); щеголь в цилиндре и франтиха в яркой шелковой юбке, — все они казались веселыми, благословляющими счастливую жизнь, все — краснощекие, здоровые и, вероятно, долговечные.
На приеме у посла Лев Павлович познакомился с двумя норвежцами. Оба они хорошо говорили по-русски, а один из них, профессор Брок, известный славист, оказался коллегой Льва Павловича по Московскому университету. Студенческие годы, знакомые профессора, знаменитая история брызгаловских беспорядков, — целый час оба живо вспоминали прошлое и толковали о настоящем. Профессор — приятно слышать! — любит и знает Россию, часто бывает в ней. Поездки необходимы ему для научных целей: сидя в Христиании, он занят изучением… говоров Тотемского уезда, Вологодской губернии, и Козельского — Калужской! Как же, как же — это очень интересно…
И если профессор Брок вызвал восхищение Льва Павловича «служением чистой науке», то второй норвежец, господин Лид, возбудил к себе интерес всей делегации прямо противоположными своими качествами: он оказался участником первой экспедиции Нансена к устью Енисея, он организовал перевозку торговых грузов из Норвегии и Англии в Сибирь и обратно, он пролагал водный, экономически выгодный путь для русского хлеба, пеньки, масла и леса. Англо-норвежское акционерное общество, в котором он состоял, делало то, что так необходимо было для русских промышленников и купцов. И русские парламентарии не без зависти смотрели на смышленого, с размеренными движениями г-на Лида, на этого хозяйственного «варяга» из страны викингов.
В день отъезда профессор принес в поезд Карабаеву свою книгу, цветы и коробку шоколада — преподношение семьи. В Христиании ничего не говорили о немцах, и Лев Павлович стал забывать неприятные стокгольмские новости.
Из Христиании выехали в расцвет весенней погоды, но на пути в Берген поезд и время словно повернули вспять: за стеклом, вагона царствовала густая, грузная северная зима — облепленные тысячепудовым снегом клинкоголовые гранитные скалы, белые мохнатые леса, навьюченные снежной кладью узкие горы. Но за перевалом, после десятков различных туннелей, принимавших поезд в свой гулкий черный футляр, — мертвые скалы, обледеневшие, крытые деревянные галереи от снежных заносов, холод — все это уже не возвращалось.
Поезд шел по откосам крутых берегов. Зигзаги фиорда словно обведены были голубым нежным карандашом. Свежие, молодые листья деревьев, никогда не знавшие пыли, казались подернутыми веселым зеленым лаком, а придорожная густеющая трава — выхоленной чьими-то заботливыми руками: до того она была чистой и яркой! На холмиках, опоясанные все той же зеленью, выстроились вдоль пути красные готические, с квадратными окнами, рыбачьи домики и сельские фермы. В эту нежную пестрядь красок весеннее, голое на небе, солнце струило щедрые золотисто-оранжевые лучи. Вновь любовался Карабаев таким же пейзажем, уже покинув Берген, пересев в открытом море с норвежского пароходика на специально дожидавшийся британский крейсер «Donegale», доставивший делегацию к берегам Англии.
Только что покинутая страна — Норвегия — запечатлевалась, входила в память как счастливая «обетованная» земля. Он так и отметил свое впечатление в дневнике, который вел наспех, но почти каждый день — в поезде, на корабле, в гостиницах и даже в землянках французского фронта, куда впоследствии ездили на несколько дней.
Дорога, переезд через море, новые страны и города; новые, незнакомые люди, матросы, солдаты, чиновники, главы правительств и знаменитые политические деятели; торжественные банкеты и деловые беседы, захолустные уголки и громадные промышленные города; осмотры крупнейших фабрик и заводов; безлюдные с виду, изборожденные траншеями, переходами, укрытиями и дорогами передовые линии фронта — с полями, взвороченными снарядами, с остатками обломанных, обугленных, искалеченных лесов; улицы и площади городов, обрывки услышанных разговоров; людская приязнь, горечь, ненависть, патриотизм, воля одних и растерянность других, смешное и трагическое, крупное и мелкое — все это прошло перед глазами, все это хлынуло и врезалось в память. Все это волновало, восхищало, печалило, ободряло, смешило, удивляло.
Но главное: он увидел Европу такой, какой она была мила его политическим верованиям и вкусам. Ничего другого он не хотел видеть — и потому не увидел.
Он увидел Европу такой, какой хотел бы видеть Россию.
Встречи… С кем только их не было за эти шестьдесят дней пребывания за рубежом!
И в Эдинбурге — гостеприимный муниципалитет, еще гостеприимней, чем в Христиании: все местные нотабли и лорд-провост чествовали поочередно каждого из членов русской делегации. Но без всякой скромности Лев Павлович мог сказать, что все же теплей всего эдинбургцы говорили о нем да еще о ближайшем его друге — знаменитом русском профессоре и еще более знаменитом вожде отечественного либерализма, влюбленном в английскую конституцию сильней, чем сами англичане.
Друг этот, Павел Николаевич Милюков, глава политической партии Карабаева, отвечал на приветствия нотаблей, и только тогда, признаться, узнал Лев Павлович, что «Россия и Шотландия имеют одного и того же патрона — святого апостола Андрея Первозванного — и что русский морской флаг с андреевским крестом — тот же, что и шотландский». Профессор — англоман с маленькими розовыми ушками и тщательно холеными седыми усами, всегда дававшими пищу для карикатуристов, изображавшими его ангорским котом в пенсне, оказывал делегации неоценимые услуги: кроме того, что он владел многими иностранными языками, он обладал еще завидным даром отыскивать в истории, быте и склонностях любых народов то, что обязательно уж должно было подтверждать неизбежность их общих интересов с российскими!..
На улицах Эдинбурга Лев Павлович впервые увидел части английской армии: шотландские хайлендеры в мохнатых черных киверах и коротеньких яркокрасных, с темными клетками юбочках — повыше голых коленок, заменявших шаровары… Они отправлялись на фронт, сопровождаемые тысячной толпой родственников и соотечественников. Впереди полка шел оркестр: сопилки, рожки, кожаные барабаны и еще какие-то причудливые инструменты. И под звуки их коренастые, с упругими, сдвинутыми набок от ходьбы икрами хайлендеры пели песенку, обращенную к кайзеру Гогенцоллерну:
Пляши, коль пляшешь, Вилли, Пляши вперед и вспять, Зови танцоров, Вилли, — Нам не устать играть!Совершенно очевидно было, что маскарадный костюм стрелков никак не пригоден в условиях этой войны, утерявшей какое-либо сходство с походами средних веков, однако бережно и ревниво хранившие традицию шотландцы отвергали «хаки» всей остальной английской армии. Впрочем, в этом был не больший консерватизм, чем тот, наблюдать который — в ином и более значительном — пришлось Льву Павловичу в Лондоне.
Не без волнения в тот день вышел он со своими товарищами из «Клэридж»-отеля на Брукстрит, направляясь к древнему Вестминстерскому дворцу. В автомобиле капитан Скэль — гид из «Интеллидженс сервис», прикомандированный к Льву Павловичу, потерявший на войне руку, узкий и длинный, беркширец с бритым лицом землистого цвета и вздернутым носом так круто, что в широкие темные дырки его так и хотелось, озорничая, воткнуть рогатку, продолжал беседу, начатую еще в номере гостиницы. Ничего нового не было в том, что говорил этот славный парень Скэль (кстати сказать, не плохо знавший русский язык), и все же Лев Павлович не без любопытства слушал своего спутника.
— Мы самая консервативная страна — это верно. У нас семивековая неписаная конституция. Привычка и обычай управляют нашим бытом, судом, парламентом. И мы существуем — го-го!.. А что из того, что у пруссаков писаная конституция? Она уже тогда, в сорок восьмом году, была названа их королем «листом бумаги»: взял да и разогнал пруссак франкфуртский парламент!.. Что из того, что русский царь в пятом году написал манифест, — хо, листок бумаги! Лучше всего — джентльменское слово, сэр. А кто прав, кто из нас будет счастливей — wait and see: поживем — увидим!..
В парламенте шли так называемые «большие дни», палата общин дебатировала правительственный «билль о конскрипции» — первый раз в истории своего существования Англия вводила у себя обязательную воинскую повинность. Льву Павловичу довелось услышать речи Асквита и вожака английского либерализма Ллойд-Джорджа. Слов нет, впечатления этого дня были ярки и сильны, но не малым способствовала тому, — не забывал Карабаев, — и внешняя обстановка, в которой все это происходило.
Так вот она, «колыбель европейского парламентаризма»! Сидя на хорах, Лев Павлович напряженно всматривался и вслушивался во все.
Вот спикер палаты, сэр Доутэр, идет открывать заседание. Он в длинной черной мантии и парике. В париках и окружающие его секретари — с гусиными перьями в руках. Впереди — два герольда. Один несет жезл, другой открывает процессию троекратным восклицанием:
— Нет ли здесь иностранцев? Если они здесь — удалитесь!
По старому обычаю заседания не публичны, и стоит какому-либо коммонеру заявить: «Спикер, я вижу посторонних в зале», чтобы вся публика была удалена.
Форма живет, но содержание ее изменилось, рассказывает все тот же капитан Скэль. Давным-давно бывает в палате не только английская публика, но и любой иностранец, и почти никогда не раздается сакраментальной фразы. Коммонеры не видят посторонних! Особенно после одного случая, когда пришлось уйти из заседания наследнику престола, принцу Уэльскому, хотя замеченным «посторонним» был не он.
По окончании заседания привратники-глашатаи выкликают в коридорах:
— Джентльмены, кто собирается домой?
Это восклицание, как и все зрелища парламентского заседания, перешло из недр XV столетия, когда поздно вечером было небезопасно на темных улицах Лондона возвращаться домой в одиночку.
В палате депутаты сидели на простых длинных скамьях, места всем не хватало. Говорили речи с мест. Министры — тут же, на первой скамье. Отвечают, подходя к столу, опираясь на ящик, в котором лежит евангелие и клятва.
Казалось так Льву Павловичу: вся процедура выхвачена из жизни далекого, знакомого по литературе и пьесам средневековья. Или, например, этот курьезный диван лорд-канцлера: wool sack, попросту — мешок с шерстью, точно такой же, а может быть, и тот же, что был еще в XIV веке… Встречи… Впечатления… Раздумья…
Ночью, перед сном, в номере «Клэридж»-отеля Лев Павлович садится за письменный стол, вынимает из чемодана дорожный бювар и оттуда — аккуратно нарезанные листки свежей, хрустящей бумаги: это листки дневника.
В комнате матовый свет, тепло, тихо. Широкая, чуть волосатая рука Льва Павловича бережно берет пузатую янтарную вставочку, погружает перо в тяжелое серебряное гнездо чернильницы, и перо, скользя по аккуратно нарезанным листкам хрустящей бумаги, не поскрипывает, а словно тихо поет какой-то неприпоминающейся, но знакомой птицей.
Янтарная пепельница копит в себе обклеенные золотистой бумажкой корешки выкуренных сигареток.
«Пришлось купить дурацкий цилиндр и перчатки. К королю надо было идти во фраке, которого у меня не оказалось. Но и тут выручил добряк Скэль: повел утром к какому-то кудеснику-портному, и тот к семи вечера сшил классическую пару. Одевался в присутствии моего капитана. Произошел курьезный «инцидент». Вот бы Соня моя, Ириша и Юрка смеялись!
— Вы неправильно надеваете брюки, — укоризненно сказал Скэль.
— То есть, как?
— Вы надеваете стоя: так случайно можно разорвать их. У нас, в Англии, брюки надевают сидя, сэр.
У Демченко на приеме во дворце выпала одна из перламутровых запонок на белоснежной накрахмаленной рубахе. Рубаха стала неприлично топорщиться. Что делать? Бедняга. Демченко, истерически хихикая (ко всеобщему нашему ужасу), пальцем прикрыл опустевшую петлицу, да так и простоял весь прием в дурацкой позе, не отнимая от груди словно припаянной руки. А когда под конец опустил ее — на том месте, где должна быть злополучная запонка, — темное, неприличное пятно!.. Мы в «Клэридже» потом немало веселились по этому поводу, а П. Н. Милюков в нашей среде — членов «прогрессивного блока» — пустил каламбур о дактилоскопии, которую следует применять к правым националистам, как Демченко. В общем, будет что рассказывать забавного в Петрограде, в думских кулуарах.
В Ирландия бунт, восстание. Руководит какой-то сепаратист Кэзмент.
Говорят, немцы подговорили. Охотно верю. После гибели «Лузитании» здешние немцы меняют фамилии, — одна маскировка, удобная для шпионов и агитаторов!
Кажется, ждут очередного налета цеппелинов. Сегодня всюду в отеле расклеили приказ: «Во избежание налета воздушных разбойников воспрещается зажигать на видном месте огонь». На ночной тумбе я нашел свечу и записку: «В случае воздушного нападения возьмите эту свечу и отправляйтесь по черному ходу в подвал».
Я и Милюков в гостях у Дионео (Исаак Владимирович Шкловский). Он — лондонский корреспондент «Русских ведомостей», много поработал, пропагандируя наш приезд сюда. Два дня назад, выкроив время, Милюков и я посетили его прекрасную лекцию о Сервантесе и Дон Кихоте. Его сын — сержантом в английской армии. На квартире у Дионео встретились с несколькими лицами из русской эмигрантской колонии. Все хотят победы России, солидаризируются с Плехановым и Кропоткиным, ругают «циммервальдцев», Исаак Владимирович показывал нам «труды» и резолюции раскольников, возглавляемых нашим эмигрантом Лениным. Говорят, он уроженец Симбирской губернии и родной брат казненного Ульянова.
Записал цитаты из него, чтобы, как только будет время, хорошенько побить в «Речи» или где-нибудь в другом месте. Ну-ну!.. «Превращение современной империалистской войны в гражданскую войну (страшные слова, господи…) есть единственно правильный пролетарский лозунг, указываемый опытом Коммуны, намеченный Базельской (1912 г.) резолюцией (подумаешь, событие!..) и вытекающий из всех условий империалистской войны между высоко развитыми буржуазными странами». Этот вождь всех «пораженцев» считает, видите ли, что нельзя защищать отечество иначе, как «борясь всеми революционными средствами против монархии, помещиков и капиталистов своего отечества, т. е. худших врагов нашей родины; — нельзя великороссам «защищать отечество» иначе, как желая поражения во всякой войне царизму»…
Здесь говорят, что влияние Ленина на многих западных социалистов огромно… Даже в нейтральной покуда Америке. Ох, какие бешеные прибыли получает эта смышленая страна от европейской войны! Если говорить о капиталистах — то вот где они по-настоящему. Но даже в Америке есть люди, целиком находящиеся под гипнозом идей г. Ленина.
В американской газете «Appeal to Reason» (мне показал ее и перевел текст капитан Скэль) американский социалист Евгений Дебс написал буквально следующее: «Я не капиталистический солдат, я пролетарский революционер, я принадлежу не к регулярной армии, плутократии, а к иррегулярной армии народа. Я отказываюсь идти на войну за интересы капиталистического класса. Я против всякой войны, кроме одной… во имя социальной революции. В этой войне я готов участвовать, если господствующие классы сделают войну вообще необходимой».
По поводу этого заявления г. Ленин в швейцарской газете «Berner Tagwacht» высказался следующим образом: «Ужасы и страдания народа на войне невероятны, но мы не должны и у нас нет никакого основания с отчаянием смотреть на будущее.
Не напрасно падут миллионы жертв на войне и из-за войны. Миллионы, которые голодают, миллионы, которые жертвуют своею жизнью в окопах, они не только страдают, но и собирают силы, размышляют об истинных причинах войны, закаляют свою волю и приходят к все более и более ясному революционному пониманию. Растущее недовольство масс, растущее брожение, стачки, демонстрации, протесты против войны, — все это происходит во всех странах мира. И это служит нам ручательством, что после европейской войны наступит пролетарская революция против капитализма».
Господи, дался же ему этот «капитализм»!..
Я сообщил стокгольмские разговоры о «братании». Странно: оказывается, здесь всем это хорошо известно, английские газеты без всякого смущения печатали письма с фронта, где все это подробно описывалось. Мы много беседовали на эту тему. Дионео вспомнил Толстого. «После этого, — повторил он, — нужно было, казалось, разрядить ружья, взорвать снаряды и разойтись всем по домам». Но Павел Николаевич продолжил: «Но ружья остались заряжены, бойницы в домах и укреплениях так же грозно смотрели вперед и так же, как прежде, остались друг против друга обращенные, снятые с передков пушки»… И все это было понятно. Супруга Дионео, Зинаида Давыдовна, специально приготовила нам славные сибирские пельмени. Вспомнил тебя, Сонечка!..
Мы ездили осматривать заводы в Рединг, Кардифф, Лидс и другие места, мы видели Англию, ставшую арсеналом войны — мне понятна злоба Германии: поистине, у англичан бульдожья хватка. А у нас? Стыдно, стыдно за сегодняшнюю Россию… Одни нас здесь жалеют, другие — презирают. А притязания у нас насущнейшие. Пав. Ник. говорит, что англичане наконец-то согласились насчет проливов, — так надо же уметь взять их! Эх, положение…
Здесь общественная инициатива не имеет пределов. Даже курьезы характерны. В Бромли, например, имеется госпиталь, основанный одними Маргаритами. Так и называется: «Лазарет Маргарит»! Мне показывали воззвание «Собачьего и кошачьего фонда»: собирают деньги в пользу пленных в Германии. Все владельцы кошек и собак обложили себя налогом в шесть пенсов, а какой-то фокстерьер «Том», собачонка убитого героя, собрал на выставке 13 000 рублей: это потому, что убитый хозяин его удостоился в числе немногих награды крестом Виктории — самое почетное отличие.
От русских ждут решительных действий, чтобы облегчить положение, заставить германское командование оттянуть войска с Западного фронта, ослабить нажим на Верден.
Сегодня на министерском банкете передавали, между прочим, что, если в эти дни наши войска перейдут в наступление на юго-западном и погонят австро-немцев, царю будет предложена «Виктория». Гм, гм… Тот самый орден, который учрежден после злополучной Крымской кампании!
На банкете сидели все за десятью круглыми столами, за каждым — член правительства и наши депутаты. Павел Николаевич и я сидели за столом Ллойд-Джорджа. Милюков успел с утра побывать на завтраке, в его есть устроенном старой корпорацией купцов «Russian Company», произнес речь о хозяйственных связях обеих стран. Совершенно очевидно, что после войны вся наша прежняя торговля с немцами должна перейти к Англии. В армии и государственном аппарате немцам тоже отныне нечего делать…
После речей Асквита и спикера Лоутера (теперь он, конечно, был без своего средневекового одеяния) говорил Ллойд-Джордж. Слушали его не вздохнув, хотя всем хотелось, вероятно, громко стонать. Сам он определил свое выступление как «кровавый бухгалтерский отчет». Вот он вкратце: то, что успел я запомнить.
Самая богатая страна Англия (по национальному богатству и национальному доходу) — 18 миллиардов фунтов стерлингов. Затем — Германия (16), на третьем месте — Франция (13), за ней — Россия (12), потом — Австро-Венгрия (9). Война уже поглотила одну восьмую всего национального богатства воюющих. Что случилось бы с Европой, если бы ей суждено было вновь испытать сроки наполеоновских войн!.. Ни одна война не обходилась хотя бы приблизительно столько, сколько теперешняя..
Двадцать три года наполеоновских войн стоили Англии 650 миллионов фунтов стерлингов! Государственный долг всех воюющих стран уже сейчас удвоился, и прав германский министр финансов Гельферих, определивший ежедневную стоимость войны для всех — в 16 миллионов фунтов стерлингов. Однако в приведенный расчет не включены убытки от разрушения строений, дорог, сельскохозяйственного инвентаря и пр., причиненные войной. Не включена значительная потеря производства в Северной Франции, в Бельгии, в Восточной Пруссии, Польше, Галиции и Сербии, погибшие суда, истребленные запасы сырья, металлов, продовольствия, износившиеся машины. И, главное, — люди, люди!
Выбыло из воинского строя свыше 16 миллионов человек… Из них убито, умерло от болезней и ран и потеряло навсегда трудоспособность почти четыре миллиона. А если перевести эти жизни на деньги (цинично, но при экономических расчетах личность ценят не как таковую, а как создательницу известного количества материальных благ) — это составит еще около одного миллиарда шестисот миллионов фунтов стерлингов!
Какой вывод? Все, все сделать, чтобы скорей добиться полной победы!
Мы все громко рукоплескали. От нашего имени отвечал Протопопов. Ничего в упрек ему не поставишь, так бы отвечал и я, и Милюков, и, в общем, все мы были довольны его речью, но столь частое всюду упоминание им «нашего великого, благородного монарха» у меня лично вызывает неприятное смущение. Наш «обожаемый» не пользуется здесь ни на шиллинг уважением, а на Алису и всю царскосельскую камарилью смотрят как на грязных предателей.
— Вам надо что-то делать. Вернее, не что-то, а «кое-что», — говорил хозяин нашего стола мне и Милюкову в частной беседе. Я говорю с вами как с единомышленниками, как с людьми подлинного прогресса, как с европейцами двадцатого века. Вся Россия, да и весь политический Запад знают вас как признанных, постоянных «антиминистров» царя. Когда телеграф приносит нам речи Сазонова или Барка, мы знаем, что вслед за этим тотчас же будем читать ваши критические выступления. Вам пора поменяться ролями. Вы будете отличным министром, сэр!.. Вы хорошо сделали, что приехали сюда. Будем откровенны. России пора вступить на путь просвещенных западных буржуазных конституций. Союзы ваших муниципалитетов, комитеты промышленности, объединение разных ваших партий в «прогрессивный блок» — все это начало, которое должно иметь успешное продолжение. Иначе — революция. Бойтесь ее в вашей стране! Поэтому надо опираться на все слои населения, идущие против абсолютистского строя. Я читал неопубликованные высказывания вашего Коновалова. О, повидимому, это настоящий просвещенный промышленник: он ищет дружбы рабочих, — ну, а как же иначе можно? Очень широкое законодательство по рабочему вопросу — вот на что надо идти. Помните: мы с вами либералы. Мы — адвокаты всего народа. Либерализм считается почему-то в темных уголках мира чем-то похожим на бунтарство. Но ведь это ерунда, сэр! Либерализм есть друг порядка и эволюции. Посмотрите на Англию! Право, мы… адвокаты народа, сэр! Хотя наш гениальный Джонатан Свифт и не любил этого сословия и очень зло высказался о нем, но я рискую вспомнить великого сатирика, — рассмеялся он, — не боясь распространить на себя и на вас его саркастическое остроумие!
— Как же, помню, — чокнулся с нашим хозяином Павел Николаевич и, удивляя Ллойд-Джорджа своей безукоризненной памятью и эрудицией, процитировал: «Сословие адвокатов — это собрание людей, воспитанных с юности в искусстве доказывания словами, в случае надобности — помножаемыми, что белое — черно, что черное — бело, смотря по наемной плате».
Между нами троими завязалась оживленная беседа и тогда, когда вышли из-за стола. А. Д. Протопопов, по всему видно было, хотел примкнуть к нам, пытался сделать это несколько раз (с ним говорил о чем-то министр финансов Маккена), но мы его не приглашали. Поистине, мы чувствовали в великом государственном деятеле Англии своего партийного единомышленника (я даже больше, чем Павел Николаевич), и нам не хотелось нарушать единство в нашем маленьком кружке.
Ллойд-Джордж в сером костюме, среднего роста, крупная голова с поседевшей уже, обильной, зализанной к макушке шевелюрой. На боках и сзади прямые и тяжелые волосы его не подстрижены и не приглажены, а торчат, оттопыриваются — чуть надломленные кверху, словно на голове всегда узкий, не покрывающий всех волос картуз.
Он говорит о своей партии (как полновластный ее лидер и вожак), о консерваторах, вошедших в национальный кабинет, об оппозиции по этому случаю среди некоторых либералов.
— Но, — говорит он, — всадник не спрашивает советов у лошади, когда нужно оседлать ее и ехать.
Это сказано им о своей собственной партии. А что он «всадник», теперь в Англии ни у меня, ни у кого нет сейчас сомнений. На прощание он вновь повторяет:
— Хорошо, что приехали. Хорошо. Ваша поездка — апелляция к либеральному, цивилизованному Западу. С этим у вас там должны посчитаться. Англия дает в кредит России деньги, снаряжение и… соглашение о Дарданеллах. Разве мало? Но что такое Россия? Это не метафизика, а люди, политическая система. Не так? Значит, кому мы даем?.. А?.. Нет, нет… там у вас должны посчитаться!
И вышел почти бежащей походкой, не одернув загнувшейся повыше башмака штанины, — некогда!
Я думаю, что мы очень нужны Англии, если ей приходится без какого-либо «аппетита» к тому говорить о Дарданеллах.
Завтра отбываем все во Францию. Каким путем — еще не знаем. Поездку обставляют также таинственно, как из Швеции сюда. Не нарваться бы на немецкую подводку!»
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Иносказательное интервью, или смятение чувств Л. П. Карабаева
Как лучше ответить на вопросы французской газеты? Как оградить себя от излишнего ее любопытства?
Лев Павлович Карабаев искоса посмотрел на своего собеседника: парижский журналист, сидя в кресле, держал на коленях крохотную бесхвостую собачонку — беспокойную, шустренькую, с ярко-красным язычком. Она облизывала им свою миниатюрную мордочку каждый раз, как француз вынимал из кармана белого жилета плоскую серебряную коробочку и — оттуда — какие-то розовые и желтые лепешки: одну давал гладенькой, кукольной собачонке, другую посасывал сам.
На широком подлокотнике кресла лежала записная книжка журналиста и точно такая же — зеленая — ручка с вечным золотым пером, какую вчера только приобрел для себя Лев Павлович.
— Ну, вот, — повернул он голову к своему собеседнику. — Разрешите сказать приблизительно следующее, — начал он, пристально и серьезно посмотрев на журналиста, словно не столько желая пойти навстречу вопросам известной французской газеты, сколько отвлечь внимание журналиста от лилипутки-собачонки, приплясывавшей у него на коленях.
— Джо! — строго сказал француз живой кукле и схватил с подлокотника свои журналистские принадлежности.
Лев Павлович откинулся на спинку кресла, — интервью началось.
— Представьте себе, monsieur Гильо, что вы несетесь на автомобиле по крутой и узкой дороге. Ну, вот… один неверный шаг — и вы безвозвратно погибли. А в автомобиле — близкие люди, родная ваша мать.
— Ошень неприятно! — воскликнул француз. — Надо брать с собой хорошего шофера, n'est-ce pas?[6]
— Но вы вдруг видите, что ваш шофер править не может: потому ли, что вообще не владеет машиной при спусках, или он устал и уже не понимает, что делает, но он ведет к гибели и вас и себя. Если продолжать ехать так — перед вами неизбежная смерть.
— И больше никто не умеет управлять машиной? — не то соболезнуя, не то презрительно, как показалось Льву Павловичу, отозвался француз: он быстро разбирался в этой русской аллегории, да и какой журналист не изучил эзопов язык?!
— К счастью, в автомобиле есть люди, которые умеют править машиной, и, конечно, им надо поскорее взяться за руль.
«Правильно! Ну, так в чем же дело?» — жестом одобрил Карабаева его собеседник и что-то мгновенно занес в свою записную книжку.
— Но задача пересесть на полном ходу — нелегка и опасна, monsieur Гильо. Одна секунда без управления — и автомобиль будет в пропасти, n'est-ce pas? — словно передразнивая француза, чуть иронически сказал Лев Павлович.
Прямолинейность суждений журналиста несколько раздражала, пожалуй была даже оскорбительна. Боже мой, ведь разговор шел о России, о родине, а этот сидящий напротив человек, потрудившийся изучить только русский язык, но не страну, в которой говорят на этом языке… этот эгоист-парижанин готов, вероятно, бездушно-просто судить о том, что стоит ему, Карабаеву, стольких страданий!..
— Однако выбора нет: вы идете на это, но шофер ваш не ждет, — продолжал, помня свою задачу и свои политические взгляды, член русской Государственной думы, следя за тем, как быстро и сосредоточенно записывает его слова сотрудник известной французской газеты. — Оттого ли, что шофер ослеп и не видит, что он слаб и ничего не соображает, из профессионального самолюбия или упрямства, но он цепко ухватился за руль и никого не подпускает. Что делать в такие минуты? Заставить его насильно уступить свое место?.. (Утвердительный кивок интервьера, розовая лепешка — в рот крохотной собачонке.) Не торопитесь, monsieur Гильо! Это хорршо на мирной телеге или в обычное время на тихом ходу, на равнине. Но можно ли сделать это на бешеном спуске по горной дороге? Как бы вы ни были ловки и сильны, — в его руках фактически руль, он машиной сейчас управляет, и один неверный поворот или неловкое движение его руки — и машина погибла. Вы знаете это, но и он тоже это знает! И он смеется над вашей тревогой и вашим бессилием: «Эге, не посмеете тронуть!»
— Vous etes dans une position fichue! Pardon…[7] продолжайте, monsieur Карабаев. Я ошень преклоняюсь перед вашим талантом вести cette causerie[8].
— …Он прав: вы не посмеете тронуть. Если бы даже страх или негодование вас так охватили, что, забыв об опасности, забыв о себе, вы решили силой выхватить руль: пусть оба погибнем!.. Но вы остановитесь: речь идет не о вас — с вами едут ваши близкие, ваша мать… Разве можно их губить?! И тогда… вы себя сдержите, поверьте мне. Вы отложите счеты с шофером до того вожделенного времени, когда минует опасность, когда вы будете опять на равнине. Вы оставите руль в руках шофера. Более того: вы постараетесь ему не мешать, даже будете помогать… советом, указанием, содействием. И вы будете правы — так и нужно поступать!
Жиденькие, с плешинкой посередине, рыжие брови Гильо обладали изумительной способностью мгновенно подскакивать кверху, уплотняя и без того густую гармошку морщин на низком лбу, маленькие зеленые глаза — выкатываться навстречу собеседнику двумя неожиданно увеличивающимися круглыми, фосфорически светящимися пузырьками, а мягкогубый рот — выразительно открываться, не уронив ни одного слова, но так, что собеседник как будто бы должен был уже услышать короткую, жаркую фразу с вопросительными и восклицательными знаками. И Лев Павлович Карабаев — член парламентской делегации, кандидат в члены «ответственного министерства» России, столь нетерпеливо ожидавшегося сейчас союзными правительствами Рима, Лондона и Парижа, — поспешил закончить:
— Но что же вы будете испытывать при мысли, что ваша сдержанность может все-таки не привести ни к чему, что даже и с вашей помощью шофер не управится?.. Что будете вы переживать, если ваша мать при виде опасности будет умолять вас о помощи и, не понимая вашего поведения, с ужасом обвинит вас в преступном равнодушии?.. Однако предоставим это будущему.
— Bien![9] — отозвался француз. Лицо его приняло обычное выражение.
Они сидели друг против друга. Их разделял низенький кофейный столик, на котором сейчас лежали тоненькие сигаретки (Лев Павлович часто курил) и пахнущий новой кожей небольшой зеленоватый портфель с серебряной монограммой журналиста.
— Ошень хорошо, — повторил Гильо, складывая свои журналистские принадлежности в портфель, и Лев Павлович заметил теперь не без удивления лежавшую там пачку русских (таких знакомых!) газет. Неужто «Русское слово» и «Речь»?..
— Вы читаете нашу прессу? — спросил он.
— Это наша неизменная обязанность, — ответил Гильо. — Мало научиться языку, — надо знать еще вашу русскую жизнь… чтобы понимать все ваши поступки! — добавил он, и Лев Павлович понял в эту минуту всю опрометчивость своего первого суждения о французе. — Газеты сообщают, monsieur Карабаев, что ваш парламент дебатирует сейчас проект нового закона об отмене сословных ограничений для крестьян. Как поздно, как поздно это делается, monsieur Карабаев!.. Я вижу — вы со мной согласны: тем лучше. Крестьянство — ха! В вашей стране это maitre de la position[10], n'est-ce pas? Так должно быть в вашей стране! Наше французское дворянство имело одну славную минуту в своей истории: оно вовремя отреклось от своих привилегий, и сразу же его лучшие представители взяли в руки это знамя равноправия. У вас в стране делают ошень много глупостей (вы простите меня за откровенность: ведь я говорю с человеком, который так мужественно-с ними борется!). Уходите вон, Джо! — прикрикнул он и согнал собачонку, пронзительно скулившую у него не коленях. — Вот — хотите? — я покажу вам кое-что из последней русской почты… Вы были, кажется, с вашими коллегами у Ротшильда? — неожиданно спросил он.
— Да, мы были приглашены к завтраку. Но почему собственно вы… — недоумевал Лев Павлович, удивляясь тому, как быстро переходит журналист от одной темы разговора к другой.
— Да, да… вы были. Monsieur Протопопов мне сообщил об этом.
— Вы были у него? — заинтересовался Лев Павлович. И насторожился.
— Вот… вот… я прочту вам несколько слов, — рылся в своем портфеле Гильо, не отвечая на вопрос.
Он вынул сколотые вырезки из французских газет, отогнул несколько из них, отыскал нужную и, наклонившись к своему собеседнику, стал медленно переводить:
— «Из сведений, Поступивших в штаб главнокомандующего русской армии, устанавливается, что в последнее время среди войск значительно учащаются случаи заболевания венерическими болезнями, в особенности сифилисом. Есть указания (о, слушайте, monsieur Карабаев!), что германо-европейская организация тратит довольно значительные средства на содержание зараженных сифилисом женщин для того, чтобы они заманивали к себе офицеров и заражали их дурными болезнями». Impossible![11]— развел руками француз и, подбросив свой корпус, порывисто встал, поправляв бантик-бабочку, плотно прижавшую свои черные шелковые крылья к белоснежному воротничку такой же рубашки.
— Вы правы, — с горечью сказал Карабаев. — Это выдумка штабных генеральских бездарностей, желающих оправдаться в своих поражениях. Вас удовлетворила встреча с господином Протопоповым? — повернул он голову в сторону очутившегося у окна monsieur Гильо.
— Нет.
— Можно узнать — почему?
— Мы виделись с ним всего лишь несколько минут. Он сообщил мне о своих официальных визитах и только! А настоящий разговор отложил.
— Ах, вот что… — разочарованно пробормотал Лев Павлович.
— Если вам интересно, посмотрите вот сюда… Жюля Гэда хотите посмотреть? — торопливо вдруг позвал его стоявший у окна monsieur Гильо.
Лев Павлович встал рядом с ним, и оба чуть высунулись в окно.
— Смотрите правей… вот туда, где этот коричневый дом с балконами в шахматном порядке: он совсем напротив входа в нашу гостиницу. Видите открытый автомобиль. Это у подъезда дома, где живет наш известный социалист Жюль Гэд. Смотрите — он как раз выходит!.. Он министр теперь. А знаете, кто прислуживает ему шофером? Mon Dieu![12] Что сказали бы ваши русские епископы?! Обязанности шофера у Жюля Гэда исполняет аббат Дюпон, бывший до мобилизации первым викарием в приходе Сен-Брен в Бордо.
— Вот как! Это очень любопытна.
— Война! — строго и назидательно, как показалось Льву Павловичу, пояснил француз, отходя вместе с ним от окна. — На войне все возможно и… обязательно!
«Они считают нас политическими школьниками, считают нужным нас обучить. Почти что… цукают! Впрочем, разве они не правы?» — теребил свою черную густую бородку Карабаев, думая во множественном числе о своем собеседнике, кстати сказать, не торопившемся, как было видно по всему, уходить, потому что уселся, как хозяин, на прежнее место, посадив вновь к себе на колени коричневую кукольную собачонку.
— Вы были в четверг у Альберта Тома, вы видели у него нашего остроумнейшего Вивиани…
— Да, — уже не удивлялся Карабаев осведомленности французского журналиста, но в эту минуту она его несколько обеспокоила: неужели этот «человек с собачкой» (так про себя окрестил парижского газетчика) может знать все о беседе на квартире у французского министра! Если это так, то парижские политические друзья весьма неосмотрительны: Штюрмер и царь имеют всюду своих людей, как можно с этим не считаться?!.
Серые, теперь задумчивые глаза Льва Павловича укоризненно посмотрели поверх головы monsieur Гильо, словно за ним стоял сейчас широкобородый, с широконосым круглым лицом, как у славянина-сибиряка, плотногрудый здоровяк Тома с длинными, червеобразными пальцами музыканта, так сокровенно-дружески пожимавшими два дня назад руку Льва Павловича.
— Je sais, je sais[13], — сосал лепешку француз. — Оба наших министра недавно вернулись из России и делились с вами впечатлениями. Они мне известны… да, да.
«Ну, так и есть… У этих французов нет, кажется, никаких секретов друг от друга!» — тревожился все больше Карабаев.
— Mais je ne sais pas…[14] я не совсем в курсе вашей встречи, — проглотив лепешку, облизал губы французский журналист и посмотрел коротко, полувопросительно на Льва Павловича.
Отклика не последовало, — monsieur Гильо продолжал:
— Наши социалисты — это замечательные люди. Они умеют оберегать и защищать Францию не хуже, чем губернатор Дюбайль — Париж, чем наш военный министр Рокк — всю нашу армию, чем генералы Путэн и Нивель — наш славный Верден!
— Мы преклоняемся перед верденскими героями, — живо отозвался Лев Павлович, почувствовав, что в этом месте разговора необходимо выразить обычное восхищение французской армии и всей стране. К тому же он надеялся изменить таким путем тему беседы: гляди, журналист опять заговорит о встрече с Тома, — и вновь волнуйся: знает он по-настоящему все или нет?..
— О, Верден! — сощурил глаза словоохотливый патриот. — Такие о нем песни напишут наши поэты!.. Немецкие силы иссякают — я был неделю назад на фронте, я видел все, monsieur Карабаев… При помощи ста тяжелых батарей — ста батарей! — немцы штурмовали высоту «304» и смогли завладеть только северной частью ее. Атака швабов на Мортом не имела никакого успеха, мы отбили остатки форта Дуомон, а Кюмьер как был, так и остался в наших руках! Вы знаете, кто, между прочим, несет сейчас воздушную разведку на берегах Мааса… у Вердена? Не знаете? Наша боксерская знаменитость — Жорж Карпантье! Он сдал экзамен на звание военного пилота. Говорят, гамбургский боксер Шульц, узнав об этом, тоже записался в авиационную школу, — зависть врага, monsieur Карабаев!.. Когда разбился наш благородный ястреб, чудеснейший Пегу, поклевавший свыше десятка немецких ворон, сто граждан благороднейших профессий и званий поклялись в военном министерстве стать пилотами!.. Война! — в третий раз многозначительно, но уже не так строго повторил monsieur Гильо. — Да… я забыл вам кое-что показать… прошу прощения. Но, может быть, вы уже видели? Может быть, вам уже показывал генерал Жилинский? Ведь он — представитель царя при нашей главной квартире.
«Ну и балаболка! Пора бы и уходить», — утомленно вздохнул Карабаев.
— Вот! — вытащил monsieur Гильо два тоненьких, в красочной обложке, журнальчика и протянул их Льву Павловичу. — Неужели не видели?
Это был небольшой иллюстрированный журнал — «Друзья русского солдата», издававшийся на русском языке. В заглавной виньетке, украшенной знаком Республики — галльским петухом, — русский и французский солдат пожимали друг другу руки. Журнальчик сообщал, что «по инициативе энергичных французских деятелей, члена палаты депутатов Франклина Бульона и сенатора Дестурнеля де Констана, возникла организация помощи русским солдатам, находившимся во Франции. Известия с родины, сведения о военных действиях союзников, отдельные приказы по армии, статьи и рассказы французских писателей, перепечатки из русских газет, календарь, небольшой подбор наиболее употребительных французских слов — все это будет давать журнал «Друзья русского солдата».
Портреты Николая II и Раймонда Пуанкаре «украшали» номера журналов. Военный обозреватель, полковник д'Арманди разъяснял весь смысл наступления австрийского эрцгерцога Евгения на итальянском фронте. Стихи русского поэта (перепечатка) клеймили «иудовы зверства тевтонов». Восьмилетняя «крестная мать» Жанна Филиппе брала на свое попечение «приемной матери» рядового пехотного полка Василия Катыкина, «защитника Франции» (два фото). Карту Шампани, районы Шалона и Мэйи (карта прилагалась) рекомендовалось изучить особенно тщательно: здесь именно Василии Катыкины из русского экспедиционного корпуса должны были оборонять землю французских союзников, а по существу — интересы французских промышленников и банкиров.
В конце журнальчика печаталась «смесь»: русским друзьям сообщались «всякие интересные вещи» — вроде того, что Ричиотти Гарибальди, продолжатель рода знаменитого Джузеппе, узнав о смерти своего сына на полях Франции, прислал в полк мужественную телеграмму: «Поздравляю моего сына». Или о Вильгельме и об остроумной Вильгельмине, голландской королеве, — анекдот был неплохо сочинен (очевидно, каким-то беллетристом), и Лев Павлович не без удовольствия и улыбки прочитал снабженную каррикатурой заметку. На берлинском параде в честь прибывшей королевы Голландии солдаты тяжело отбивали шаг по всем правилам прусской шагистики. Вильгельм вопросительно воззрился на королеву. Она бесстрастно сказала: «Они недостаточно высокого роста — ваши солдаты». Спустя несколько минут прошел целый полк, в котором не было ни одного солдата ростом меньше, чем шесть футов и два дюйма. «И они недостаточно велики!» — воскликнула королева. «Как! И в них мало роста? — возмутился Вильгельм. — Что вы хотите этим сказать?»— «Я хочу сказать, — пояснила королева, — что когда мы открываем шлюзы, ваше величество, то уровень воды в затопленной местности превышает восемь футов!» («Ну, сунься, Вилли, нарушить нейтралитет!» — комментировали этот анекдот «Друзья русского солдата».)
— Ловко!
Лев Павлович ухмыльнулся и посмотрел на журналиста.
Monsieur Гильо спросил:
— Вы довольны журналом?
— Отношение французского населения к нашим солдатам выше всяких похвал! — научился Лев Павлович не отвечать прямо ша вопрос.
Он рассказал журналисту о посещении всей думской делегацией военного парада, в котором приняли участие русские войска. Они шли вслед за марокканцами и сенегальскими стрелками, вслед за знаменитым ворчестерским — английским полком, вызвавшим шумные приветствия парижан, вслед за голубой французской кавалерией, но, — правду нужно сказать, — никого так восторженно не встречала, как русских! Monsieur Гильо утвердительно покачивал головой:
— Гораздо с большим восторгом, чем свыше ста лет назад, — n'est-ce pas?
— О да!
Русских солдат встретили цветами, бурным ликованием — о, Париж умеет обласкать!.. Они вышли на Большой бульвар и запели — к удивлению парижан:
Раз, два! Грудью подайся, Плечом равняйся! В ногу, ребята, идите, Смирно, не вешать ружье!Это была песня великого песенника Беранже, и, услышав ее на русском языке, Париж ответил грохотом оваций… Да-а, горячее спасибо Парижу за его трогательную заботу: Лев Павлович посетил колонию для детей русских волонтеров, — прекрасный присмотр, замечательный уход за малышами!.. Говорят, в Марселе устроена колония для сирот сербских воинов? Это тоже великое благородство французской нации!
На Сене плавают барки «Галиция», «Царьград», новые прекрасные виллы называют «Москвой», «Россией», «Вилла Козак», — всюду, всюду нация подчеркивает свое внимание ко всему русскому.
Недавнее потопление турками в Черном море госпитального судна «Португалия» вызвало такое искреннее возмущение палаты депутатов!
Ее президент, г-н Поль Дешанель, не только отправил телеграмму соболезнования в Петроград, Государственной думе, но и посетил здесь, в Париже, главу думской делегации А. Д. Протопопова и выразил ему те же чувства французской нации. Прекрасная страна — Франция!..
Лев Павлович прервал свой рассказ: он заметил вдруг плохо скрываемый рассеянный взгляд собеседника. Monsieur Гильо ежеминутно посматривал теперь на часы, щелкая иногда замком портфеля, все чаще и чаще ронял бездушное, безразличное «да, да… конечно… как же, как же…» — словом, обнаруживал неожиданно все знакомые, обычные признаки нетерпения, чего не было еще четверть часа назад.
Лев Павлович почувствовал себя оскорбленным. Он молчаливо встал, — тотчас же вскочил и monsieur Гильо, подхватив на руки взвизгнувшую собачку.
— Прошу прощения, что урвал у вас столько времени. Вы были так любезны. Да, прекрасный город Париж! — повторил он вдруг слова Карабаева. — Сто лет назад Париж воспитал для России декабристов, а теперь он должен воспитать… «январистов», «февралистов», — я не знаю, как они должны называться! Лучше будет — «январистов», чем «февралистов», — чем скорее это у вас случится, тем лучше: через полгода война кончится поражением Германии! Надо менять «шофера», mоnsieur Карабаев!.. Когда французской нации угрожала гибель, она… Mais, се n'est pas mon affaire[15] вам советовать!.. Я иду в сорок третий номер, к monsieur Протопопову… Сейчас — шесть двенадцать, а в шесть пятнадцать он обещал приготовить письменный ответ на вопросы нашей газеты. (Теперь только Лев Павлович понял, что последние полчаса журналисту некуда было деваться и он просто-напросто убивал время в малозначащей для него беседе. «Но какая все-таки бесцеремонность!»)
— До свидания, monsieur Карабаев, ошень благодарю вас.
Он откланялся и направился к выходу. И теперь только Лев Павлович заметил то, что раньше ускользнуло почему-то от его внимания: ноги monsieur Гильо были обуты в дамские остроносые туфли на высоком, полуторавершковом каблуке, — оттого каждый шаг его откладывался на отполированном паркете двойным ритмическим звуком — музыкальным форшлагом, а походка была легкой и вкрадчивой, как у женщины.
— И с собачкой на «вы». Impossible! — передразнил француза Лев Павлович, возвращаясь к столу.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Кандуша в Петрограде
«…чтобы стала вашему превосходительству вполне ясна картина действий этой группы фрондеров как внутри империи, так и за границей.
На пути в Англию депутаты встретились с обоими французскими министрами в Стокгольме, ехавшими в то время к нам. Встреча была кратковременной, и тогда гг. Милюков и Карабаев ни о чем еще как будто не уславливались с Рене Вивиани и А. Тома. Но французские министры имели ряд свиданий в Москве и Петрограде с главарями Союза Земств и Городов и военнопромышленного комитета, о чем уже известно вашему высокопревосходительству, а посему полагаю нужным сообщить сведения дополнительные.
Московские промышленники готовились к тому, чтобы представить иностранным гостям русскую мобилизованную промышленность в блестящем виде. Как уже известно вашему превосходительству, командующий войсками московского военного округа генерал от артиллерии Мрозовский вмешался в это дело и не допустил вручения докладной записки. Теперь доподлинно выяснено, что член Государственного совета П. П. Рябушинский, находящийся в лично дружеских отношениях с английским послом, направил ему весьма конфиденциально копию записки, а ее самое вручил через фабриканта Смирнова французам и, кроме того, еще специальное письмо. В проекте этого письма, выдвинут был ряд обвинений против действий правительства по отношению к военно-промышленным комитетам. Там все это подробно излагалось.
Однако, когда проект обсуждался в московском комитете, то многие члены его не соглашались с такой формой письма, находя недопустимым обращаться с жалобами к, иностранным министрам хотя бы союзного с нами государства. Тогда письмо было переработано.
В общегородском и общеземском союзе тоже подымали этот вопрос. Москвич Бахрушин заявлял, что союзники должны понимать, с каким правительством России, они имеют дело, и предлагал рассказать все в особом документе начистоту. Но официального документа не составили. Московский городской голова М. В. Челноков сдержал многих. «Вынесение сора из избы, — сказал он, — и в такое время — это такая крайность, на которую нужно решиться, очень и очень подумавши, а сейчас говорить преждевременно».
Свидания с французами продолжались в Петрограде. По случаю двадцатилетия русско-французской дружбы на банкете в ресторане «Контан» говорил эзоповым языком В. А. Маклаков, пел марсельезу Шаляпин, а ему аккомпанировали гг. Глазунов и Зилотти. А. Тома сказал, что это «незабываемое собрание (reunion) — символ», а чего символ — все должны были догадываться.
Утром в «Европейской гостинице» у Тома были Керенский и Чхеидзе, а вечером оба французских министра были на квартире у А. И. Коновалова и сидели там до поздней ночи. Что там было — узнать сразу же не удалось, но только через два дня совсем уже размякший кн. Львов, который там не был, но обсуждавший встречу эту в разговоре с другими земцами, сказал, и это слышал наш человек: «И да сбудутся слова священного писания: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла». Теперь, ваше высокопревосходительство, есть возможность ознакомиться с содержанием разговоров г. Коновалова с обоими французскими министрами».
Господи, боже мой! К каким только делам ни стал он, Кандуша, причастен! Это тебе не писарская служба у смирихинского ротмистра. Это — Петербург, столица. И — тайная тайных каких людей! Министры — свои и заграничные, всякие знаменитости, депутаты Думы, миллионеры, промышленники, крупнейшие вожаки революционеров-рабочих, — сажать их, сажать… И, гос-с-споди, бог ты мой, тут тебе касательство к самому «старцу» Распутину… Вот что значит своевременный счастливый визит к Вячеславу Сигизмундовичу, господину Губонину в номер смирихинской гостиницы. Понял он, оценил, в люди вывел…
«Особо секретный, иностранный сотрудник департамента (здесь пропуск размером в строку), пользуясь своей профессией, связался с секретарем г. Тома и доставил таким путем сведения крайне важного политического содержания, долженствующие, как и сочтете, ваше высокопревосходительство, стать предметом высочайшей оценки государя императора.
По возвращении из России Альбер Тома пригласил к себе на квартиру Милюкова и Карабаева, бывших в то время в Париже, и сообщил им, что имеет поручение от Коновалова и что он сам, Тома, всячески готов содействовать планам их политического друга, хотя и члена другой думской фракции. Каково это «поручение» — судите сами, ваше высокопревосходительство!..
План Коновалова, в общем, сводится к следующему: издавать за границей особый информационный орган для осведомления представителей западноевропейских правительств, парламентов, общественных деятелей, ученых, журналистов и т. п. о сущности и ходе развития борьбы в России между правительством и либеральными общественными силами.
С первых же номеров намеченного органа самое серьезное внимание будет уделено той роли, какую в русской политической жизни и придворных кругах играет Распутин. Коновалов надеется, что ему удастся получить от Иллиодора сенсационные материалы. Издание проектируется одновременно на французском и английском языках и будет бесплатно рассылаться всем государственным деятелям, парламентариям, редакциям газет и журналов, ученым, писателям. Средства для указанного информационного органа Коновалов надеется легко собрать путем подписки в либеральных торгово-промышленных кругах.
А. Тома сообщил Милюкову и Карабаеву поручение коноваловцев агитировать на Западе против предоставления России займов! В случае удачи государь, — рассчитывают либералы, — должен будет пойти на попятный: дать ответственное министерство, которое составят гг. Гучковы, Коноваловы и Карабаевы.
Список такого министерства уже составлен, иначе, — говорят они, — будет революция и монарху придется иметь дело с Керенским и Чхеидзе.
Французский министр-социалист открыто поддерживает русских фрондеров.
Милюков высказался в беседе в том смысле, что, покуда идет война, тормозить получение займа сейчас — дело рискованное и болезненное для совести русского патриота, но дать понять русскому правительству, что после окончания войны демократические страны не дадут денег реакционной России, — это сделать следует.
…Сообщая обо всем этом вашему высокопревосходительству, почтительнейше прошу…
Подпись…………».…Машинка умолкла.
— Есть! — сказал Пантелеймон Кандуша. — В двух местах приложите вашу ручку, Вячеслав Сигизмундович.
Ответа не последовало, и Кандуша, оставаясь за столом, оглянулся.
— Тю-тю… — шепеляво свистнул он, высунув кончик языка.
Лежа на тахте, скрестив и чуть свесив ноги, чтобы не запылить башмаками ковровую обивку, Губонин спал. Ниспадала пола серого пиджака, открыв боковой карман с кожаным бумажником; жилет был расстегнут; темный в белых горошках, узкий и длинный галстук вполз, как змееныш, под низко опущенную круглую «голландскую» бороду и всосался, казалось, сейчас в горбатое, петушиное горло спящего Губонина. Голая шишковатая голова его, гладко выбритые щеки и лишенная растительности верхняя тонкая губа, согретые и слегка разрумяненные пучком заползшего в комнату солнца, были влажны от пота.
Кандуша созерцал бесшумно своего начальника.
В жизни обоих два года назад произошла счастливая встреча. Один всю жизнь занимался тем, что искал и отыскивал нужных ему людей, другой, провинциальный ротмистров писарь, все годы мечтал о том, что вот кто-то найдет его, отметит, поймет и, оценив, откроет перед ним путь удачи — путь, неведомый маленькому Смирихинску, бесталанному ротмистру Басанину, — путь не будничного, скучного ремесла, а таинственного, волнующего искусства сыскного дела, к которому неуважительно называемый всеми Пантелейка Кандуша питал трепетную, почти исступленную страсть.
Этой неподдельной страстью и одержимостью удивил он и покорил Губонина, придя к нему поздно вечером в номер смирихинской гостиницы, где остановился тот, не вызвав никакого интереса со стороны жандармского ротмистра.
— Всякого человека, позволю сказать, надо сквозь хребет посмотреть, нервик каждый выузнать, слово на пластинку взять, во, во!..
Через несколько месяцев после этой встречи писарь уездного жандармского управления Пантелеймон Кандуша очутился в Петрограде. Губонин приобрел верного друга и помощника, охранное отделение столицы — ревностного, неутомимого сотрудника.
Неожиданная ли тишина после привычного, убаюкавшего стука машинки, легкий и случайный дневной сон, но Вячеслав Сигизмундович быстро поднял веки, суетливо обвел глазами комнату и тотчас же вскочил с тахты.
— Готово? А я-то, черт, прикорнул маленько!
— Умыться бы… — подсказал Кандуша.
— Угы… Покажи-ка, Пантелеюшка.
И он взял из его рук машинописные листы и черновик своего текста.
— Можно не считывать?
— Как всегда, Вячеслав Сигизмундович, — в аккурате!
— Понял, что и кому?
И он тряхнул листки.
— Гос-споди, боже мой! — по привычке протяжно, с полуглубоким вздохом отозвался, вставая из-за стола, Кандуша. — Ну, как не понять: историческая манускрипта самому Борису Владимировичу, его высокопревосходительству… Сегодня? — спросил он.
— Сегодня, через час. На квартиру свезу. Читал ведь, какие дела там мастерит Карабаев — земляк твой… за границей?
— Читал и запечатлял, можно сказать, своими собственными пальцами, — растопырил короткопалые руки Кандуша, надевая на машинку клеенчатый чехол. — Подумаешь тоже: Лев Павлович — квохчут перед заграничными воротами, а свои дегтем мажут! А клевета, Вячеслав Сигизмундович, что уголь: не обожжет, так замарает.
— Комолая корова хоть шишкою да боднет, — рассеянно, поговоркой на поговорку ответил Губонин, пробегая глазами свое секретное донесение.
— Коровы быками становятся, позволю себе заметить, Вячеслав Сигизмундович!.. Ворота царского государства ломать собираются, — сами же его высокопревосходительству докладываете? Разве шутка? Господи, боже мой! Трепещу весь, трепещу. Глаза мои на события разбегаются! И тут бы… незримо, незримо этак… чик под корень, чик! (Губонин поднял на него глаза.) Чему удивляетесь, Вячеслав Сигизмундович? (Он оглянулся по сторонам, словно кто-либо мог подслушать их разговор.) Всерьез говорю: чик под корень… незримо этак!
— Арестовать, что ли? — усмехнулся Губонин и, потягиваясь, распрямляясь, сладко зевнул.
— Толку мало, — помутнели, чернильными стали кандушины глаза, и он бесшумным, медленным шагом подошел к начальнику. — Способы обсудить можно, как лучше. Сразу ли, поодиночке. Но под корень, говорю, Вячеслав Сигизмундович!.. Чик — и преставился старик! Вот на этот счет сообщеньице имею.
И он вздрогнул вдруг — крупной конвульсивной дрожью: трескучим звонком врезался в беседу телефон.
Губонин снял с рычажка трубку:
— Слушаю… Да. Квартира инженера Межерицкого. Да, я… Я же вам… ну, да — я у телефона… инженер Межерицкий. Фу-ты, господи, не узнал! Честь имею, честь имею, дорогой Иван Федорович. Вам повезло застать меня…
И наступила продолжительная пауза, в течение которой внимательно слушавший своего телефонного собеседника Губонин обменивался с ним краткими утвердительными междометиями, а Пантелеймон Кандуша, хорошо изучивший привычки своего начальника и по виду его учуявший сейчас особенно интересное и важное, затаил дыхание, нетерпеливо выжидая окончания разговора.
— Все будет сделано!
И Губонин, «инженер Межерицкий», аккуратно размотав туго скрутившийся и укороченный оттого телефонный шнур, медленно и так же аккуратно опустил трубку в седлышко рычажка.
Минуту он молчал, занятый своими мыслями. Молчал и Кандуша, знавший, что в таких случаях не следует ни о чем расспрашивать начальника: если нужно, если захочет, — сам все расскажет. И когда тот остановил, гмыкнув и улыбнувшись, на нем свой взгляд, Кандуша сказал только:
— Умыться бы… — и сделал бесстрастное, скучающее лицо.
— Ха-ха-ха! Спасибо, дорогой мой гувернер, — вскочил Губонин и убежал в ванную.
Он вышел оттуда с порозовевшими щеками, с еще влажной головой, которую растирал нежно, осторожно мягким мохнатым полотенцем и, не успев привести себя в порядок, закурил, не пользуясь, как обычно, мундштуком, быстро, истратив торопливо три спички одну за другой; и тотчас же, после двух затяжек, бросил дымящуюся папиросу не в пепельницу, а в какую-то попавшуюся на глаза пустую склянку, стоявшую на этажерке с книгами.
— Так ты говоришь, Пантелеюшка, чик — и преставился старик?! Хо-хо-хо… Может, и план у тебя есть, а?
«Совсем не о том думает. Ерза в теле!» — наблюдал его опытный Кандуша. Он вынул из скляночки папиросу, притушил ее в пепельнице-лодочке, стоявшей на письменном столе, взял из рук начальника полотенце, отнес его в ванную и, только возвратись оттуда, ответил на заданный вопрос:
— Планы есть, да в коробочку надо влезть!
И он трижды похлопал себя по лбу.
— Поговорим на свободе?
Он вопросительно посмотрел на присевшего к столу Губонина.
В конце третьей написанной на машинке страницы он мелким четким почерком, но с размаху, не примащивая руки, поставил свою фамилию, и верхний хвост заглавной буквы, описав овальную дугу, вобрал в нее, как в сачок, всю подпись.
Он сложил бумагу и собирался уже спрятать ее в карман с бумажником, но внимательно и заботливо следивший за ним Кандуша, как всегда, оказался услужлив:
— В двух местах ручку вашу приложить надо, Вячеслав Сигизмундович… А вот рассеянны, стали, позволю заметить. Сказали — сами впишете, где пропуск велели оставить…
— Ах, черт… верно!
— А как же! — зная себе цену, буркнул Кандуша.
Губонин снова присел к столу, развернул бумагу и на одном из листов ее, где Кандуша оставил ранее чистую строку, вписал быстро:
«Журналист Гильо, он же под фамилией Шарль Перрею».
и посмотрел с благодарностью на Пантелеймона Кандушу.
— Я ухожу, Пантелеюшка. Ты посидишь тут, покуда придет старуха.
— Так точно.
— Если хочешь, можешь сегодня ужинать со мной в «Аквариуме». Как ты?
— Рад буду, Иван Семенович!
— А коли придется только на вокзале увидеться…
— …то уж там же шепнуть все вам успею, Савва Сергеевич, — расторопно, без запиночки отвечал на прощанье Кандуша. Губонин был доволен.
Разговор — для постороннего, непосвященного — походил на причудливый экзамен. Да это и было в некотором роде так: имя и отчество Губонина менялось всегда в зависимости от того, где и когда встречал его — условившись или случайно — верный помощник Пантелейка. И ни разу на поверку не сбился в том крепко владевший памятью бывший ротмистров «архивариус» столь сложной департаментской «дуги сведений о домах и лицах наблюдаемых».
Но сколько — гос-споди, боже мой! — имен и отчеств у вездесущего и всевидящего Вячеслава Сигизмундовича, — Пантелеймон Кандуша поистине преклонялся перед своим наставником.
Уже у самого выхода из квартиры Губонин вдруг обернулся и с интонацией, не свойственной ему, подражая голосом кому-то, сказал:
— А знаешь, насчет кого звонил-то Жан Федорович?
— Скажете — знать буду.
— У, бестия, знаешь ведь! Готовьсь, Пантелеймон Никифорович, гостя принимать.
— «Милай-дарагой»? — воскликнул Кандуша, сам копируя голосом кого-то.
Губонин подмигнул и взялся за ручку двери.
ГЛАВА ПЯТАЯ Возвращение
Ньюкэстль. Христиания. Хапаранда на шведской границе. Торнео…
Путь возвращения пройден, поезд мчит финскими хвойными лесами, Россия бежит навстречу знакомыми верстами, станциями, ворохом последних газет, припасенных суворинским киоском на выборгском вокзале, и длинными белыми просеками в них, прорубленными ревностной рукой русской цензуры.
Лев Павлович Карабаев передает газету соседу, выходит из купе в коридор — к открытому окну вагона.
Проносится мимо какое-то железнодорожное здание, будка белая, лошадь, запряженная в дрожки, озеро с лодками, купальщицы.
Вагон покачивает на стрелках, стрелки уготовили путь и стерегут его, — Лев Павлович, усмехнувшись, начинает думать аллегориями.
Журналисты встретили на станции Усикирко. Они ворвались в вагон шумно, крикливо, напирая друг на друга. Они знали каждого из ехавших парламентариев по имени-отчеству, — стоял гул многократных почтительных приветствий, суматошных вопросов, сумбурных реплик и, пожалуй, таких же сумбурных ответов. Впрочем, отвечали так не все: член Государственного совета граф Олсуфьев вынес из купе и передал представителям прессы заготовленный им заранее листок со своими «заграничными впечатлениями» и от особой беседы отказался, избегая тем самым, как выразился, излишних газетных «комеражей». Националист Демченко принял только, сотрудника «Нового времени», объявив остальным, что боль в ухе настолько сильна, что он не может беседовать с ними.
И кто-то в карабаевском купе меланхолически, но зло сказал, рассмешив всех:
— Не скот во скотех коза, не зверь во зверех еж, не птица в птицах нетопырь и не депутат в депутатах Демченко, как ведомо!.. Во Скотинины все крепколобы!
И, рассмеявшись, все оглянулись на злой голос: низкорослый журналист Асикритов стоял в дверях; он не виден был за спинами столпившихся здесь своих товарищей. Гул шел по всему вагону.
— На послезавтра ваш доклад, а двадцатого Думу распускают.
— …и на игральные карты у нас кризис.
— …но об этом разговоре прошу вас пока не сообщать… сами понимаете…
— …французский генерал По у нас в Ессентуках лечится.
— …нам пример надо брать у Англии, как бороться с роскошью!
— …и эти евреи-эмигранты готовы защищать свою мачеху Россию…
— …Александр Дмитриевич Протопопов остался в Лондоне в помощь министру Барку…
— …а газеты — заметили? — семь вместо пяти копеек!
Минутная остановка в Териоках, — гул уменьшается, слова явственней, путешественники вспоминают здешние слоеные пирожки, каких нет и у Филиппова, смотрят на часы, отсчитывают время, оставшееся до Петрограда. Путешественники не прочь уже закончить интервью, но газетчики наседают, каждому хочется спросить всех и в свою очередь самим побольше рассказать, — на листки блокнотов падают размашистыми обрубками-кривулями торопливые записи, которые сегодня ночью уже превратятся в стройные грядки статей, заметок, телеграмм на первой полосе всей русской прессы.
— Вы сами должны понять, — несется из чьего-то купе. — После Бурбонского дворца с его историческими воспоминаниями, с его залами и кулуарами… Вам не приходилось бывать там? О, это замечательно!.. А зал Казимира Перье, где изображено заседание Генеральных штатов двадцать третьего июня тысяча семьсот восемьдесят девятого года?! И после всего этого мы попали…
Шум тронувшегося поезда заглушил остаток плавного разговора и выразительный голос рассказчика.
И снова:
— Нет, я не ездил. Павел Николаевич ездил.
— …английские солдаты родным на память свой голос в фонографе…
— …теперь у нас, господа, мясопустные дни введены.
— …да, я веду дневник… вот еще и здесь, в купе. Вот он…
— …ах, каналия же этот…
— …жаль Китченера!
— …нашим — ни-ни! Французам через посольство тридцать бутылок вина на душу…
— … «супрематисты» — футуристы выставляются…
— … а Ириша как, Фома Матвеевич?
— …извозчичья такса, говорите?
— …не выставка, а москательно-скобяная торговля: металл, дерево, обои, стекло, — тьфу!
— …гуси на Дворцовой набережной, ей-богу. Картинка!..
— …доподлинно знаю: Сибирский, Русский для внешней, Азовско-Донской…
— …Все здоровы, Лев Павлович!
— …Международный, Волжско-Камский банк, — вот вам и газета!..
— …Сухомлинов? Сидит пока сей резвый генерал!
— …на лекции Детра Когана: «одичание и возрождение в литературе и жизни».
— …к Белоострову, господа!
— …У них ванны и души в траншеях — у французов, а вы говорите!..
— …распутинцы под сюркуп взяли все общественные силы.
— …и Софья Даниловна хороша? Ну, слава богу!
— …а зала почем?
И так до самого Финляндского вокзала.
Все домашние здоровы — вот самое важное из того, что сообщил Асикритов, — и Лев Павлович пришел в хорошее настроение. Случилось так, что последние две недели он не имел никаких сведений от семьи. Ни одной телеграммы, а на письма он и не рассчитывал.
Весь обратный путь из Англии Лев Павлович был тосклив и полон всяческих мрачных мыслей и беспокойных предчувствий. Он плохо спал, и сны были несуразны и неожиданны по Своему горькому всегда содержанию: то жена облысела и кондукторшей служит в трамвайном вагоне, то она в гробу лежит и головой мотает, и у гроба стоят знакомые и друзья с голыми коленками, в форме шотландских стрелков; то сын Юрка — раненный финским ножом уличного хулигана; Ириша, бесстыдно обнимающаяся с каким-то пьяным солдатом и жалобно протягивающая руки к отцу; то она лежит на рельсах, и мчащийся поезд вот-вот налетит и раздавит ее, — Лев Павлович стонал во сне, вскрикивал, метался на своем дорожном ложе и, просыпаясь, жаловался спутникам на сердцебиение и дурное настроение.
Встреча с Асикритовым, родичем жены, обрадовала Льва Павловича. Журналист был в курсе домашних карабаевских дел: дней десять назад Льву Павловичу телеграфировали, но, очевидно, телеграмма не допела, — зря так волновался; Юрка благополучно перешел в седьмой класс и пытается говорить басом; на дачу решили ехать, дождавшись только Льва Павловича; любимое блюдо, вареники с вишнями в сметане, ждет его на столе: это трогательный сюрприз Сони, не изменяющей и в столице украинским вкусам; она сохранила ему все газетные вырезки, в которых упоминалось его имя за все это время; да… недавно обклеили всю квартиру новыми обоями; словом, все ждут его с нетерпением, — они, наверно, сейчас уже на вокзале — нервничают, как полагается…
Из вагона Лев Павлович вышел уставший, но успокоенный и даже веселый. Поезд пришел вечером. Ярко освещенный перрон был полон людьми: не только родственники и знакомые, но и многие другие пришли встречать депутатов русского парламента. Кричали «ура», возглашали здравицу прибывшим, а некоторым, и в том числе Карабаеву, отдельно пели какие-то песни и снова кричали «ура».
П-пых! — вспышка магния перед самым лицом невольно вздрогнувшего Льва Павловича; но спустя секунду он уже приветливо смеется, и таким, со сдвинутой, в сутолоке, шляпой на голове, запечатлевает его второй фотографа… бросается к нему с поцелуями:
— Папа… папочка, здравствуй!
— Юрик… родной!
Он крепко прижимает к себе сына, заглядывает в его глаза, нежно похлопывает по плечу.
— А мама где? Ирина?..
— Там, там они… Их затолкали. С нами Федя Калмыков!
— Куда прикажете, барин? — спрашивает носильщик.
— Ах, к выходу же, конечно!
Они пробивались сквозь толпу, и многие, знавшие в лицо депутата Карабаева, приветствовали его, снимая шляпы, котелки, фуражки, а женщины — многократными кивками головы и длительными улыбками, и Лев Павлович тоже улыбался всем и в сладкой растерянности повторял одно и то же слово:
— Рад… рад… рад…
— Какой ты знаменитый, папа! — шептал ему Юрик. — Как Собинов.
— Дурачинка ты, мальчик.
Из вагона он вышел успокоенный и веселый, — сейчас он шел радостными растроганный.
— Да здравствует Россия и ее верные союзники, господа!
— Ур-р-р-а-а!
— Да здравствует Государственная дума, — ур-ра!
Свистки, голос распоряжающегося жандарма:
— Ну, ну… Проходите, проходите, господа. Не задерживаться!
— А вот и мама… Мама, мама — сюда! — кричит Юрка и дергает за рукав отца.
— Левушка! — слышит Карабаев знакомый, вздрагивающий голос жены и делает торопливые шаги навстречу.
У выхода из вокзала и у места, где стояли извозчики, пришлось немного задержаться, а так хотелось скорей попасть домой!.. Ах, боже мой, ну что там приключилось с носильщиком? Где же они?
— А ты запомнил его номер? Все три места у него? — спрашивает взволнованно и смотрит по сторонам Софья Даниловна. — Четвертое у тебя в руках?
— Да, да… Он, наверное, нас ищет, какая у тебя славная шляпка, курсёсточка моя!
— Какой у него номер, Левушка?
— Сто первый, кажется.
— Ах, мамочка, не беспокойся: Федя и Юрка его найдут.
— Твой Калмыков давно здесь? — подмигнул дочери Лев Павлович.
— Мой? — смеется. — Несколько дней… Из Киева.
— Почтительный юноша, — говорит Лев Павлович.
— Не очень… — как-то многозначительно, косо поглядывает Софья Даниловна.
— Вот! Я говорила, папа… идут!
«Сто первый» с двумя карабаевскими чемоданами на ремне через плечо и с желтым саквояжиком в руках пробивал себе путь в толпе. Рядом с ним шли Юрка и студент Федя Калмыков.
— Затерло! — оправдывался носильщик, отирая пот.
Лицо у него побагровевшее, водянистые маленькие глазки избегают встречного взгляда, и черные рогали колечками закрученных усов готовы, казалось, поникнуть, распуститься книзу от охватившего его смущения.
— Ремень менял, так как первый лопнувши…
— Ладно, ладно, — утешал его Лев Павлович.
Прошли к стоянке «Ванек», а молодежь — к трамвайной остановке.
Носильщик ругался с извозчиком:
— Вставай! Зачем ноги на сиденье положил? Тоже… барин.
— А штоп она не села, потому она осень толстая! — показал финн кнутовищем на обоих Карабаевых. — А моя лосатка любит тонкие седоки, штоп не тесело ехать, потому война: овес торог, а у лосатки сило мало.
Пришлось взять другого извозчика: и опять разговор об овсе, о скудной жизни, о тяготах войны.
— Ты знаешь, Соня, как говорят о нас немцы? — рассказывал, покуда ехали, Лев Павлович. — В «Berliner Tageblatt» я читал: «Вы знаете страну, где все есть и в то же время ничего нет?» Это так обидно, Соня!..
На следующий день утром, еще не сбросив голубой своей пижамы, еще не умывшись, он распаковывал вместе с Юркой чемоданы в прихожей.
Насвистывая «типперери», он открыл ключиком дорожный саквояж, заглянул в него, сунул в него руку и тотчас же оборвал свой свист.
— Господи, что же это такое?!
Стремительно вытряхнул на пол содержимое саквояжа: нет, это не иголка, чтоб затеряться средь остальных вещей!.. Так что же произошло… где бювар с дневником?
— Соня! — крикнул он и грузно, беспомощно опустился на пол. — Боже, боже мой…
Случилось еще одно несчастье: еще большее, чем то, о котором, не утерпев, рассказала ему Софья Даниловна ночью.
ГЛАВА ШЕСТАЯ Первая встреча
Встреча была назначена на пять часов, и точно в это время Федя Калмыков переступил порог Иорданского подъезда Зимнего дворца, в части покоев которого размещен был теперь лазарет для офицерских чинов армии.
Просторный, глубокий вестибюль был разделен поперечной, стеклянной наполовину, перегородкой на две части: в одной — приемная, в другой — сортировочная лазарета. Федя свернул налево и подошел к двери «приемной».
— Вам кого? — спросил стоявший тут чернобородый, с наголо выбритой головой санитар.
— Мне необходимо видеть сестру милосердия.
— Какую? У нас их тут шестьдесят, молодой человек!
— Вы не дали мне закончить фразу. Полагается быть вежливым! — озлился вдруг Федя и, отвернувшись от санитара, вошел в приемную.
У стола, за которым сидел какой-то чин со значком Красного Креста на груди, белобрысый, узколицый, с зелеными рачьими глазами, выстроилась очередь посетителей человек в десять. Не зная еще, как поступить, Федя занял в ней место. Посетители были родственники и знакомые лежавших в лазарете офицеров; они приехали из разных мест империи, чтобы повидаться со своими сыновьями, братьями, мужьями, и краснокрестный чин за столом, выслушивая вопросы и просьбы, неизменно отвечал каждому одной и той же фразой:
— Будет доложено, сударь.
— Будет доложено, сударь.
Или:
— Вам разрешено во вторник. Николаевский зал.
— Вам разрешено в четверг. Фельдмаршалский зал.
И только. Он походил на исправный автомат, который, казалось, трудно было испортить — услышать иной ответ, чем тот, который он давал. Когда дошла очередь до Феди, краснокрестный чин, не дожидаясь его вопросов, а только коротко взглянув на него, неожиданно любезно сказал:
— Вас просили подождать.
— Простите, но вы не знаете, о чем я хотел… Мне нужно видеть…
— …госпожу Галаган, — уверенно продолжил чиновник.
— Я предупрежден о вашем приходе. Вы ведь студент Калмыков, не правда ли?
— Но как вы узнали? — удивился Федя.
Чиновник, не отвечая на вопрос, уже обращался к следующему посетителю. Федя отошел в сторону: «Дадно, обождать — так обождем».
А за столом вновь — словно касса, выбивающая чеки:
— В Гербовом зале.
— В Пешем пикете.
— Будет доложено, сударыня.
— С посольского подъезда.
— В галерее двенадцатого года.
— Ванны — в Помпейском садике.
— В Александровский зал пройдите.
Посетители прибывали и прибывали: отставные военные, опирающиеся на палку; старушки в чёрных пелеринках и черных шляпках преимущественно.
Федю тяготило вынужденное безделье, — он подошел к остекленной витрине, висевшей на стене, и стал разглядывать размещенные там фотографии. На них изображены были аванзал, Николаевский зал с его великолепной белой массивной колоннадой и примыкающая к нему галерея, — все они были уставлены теперь длинными рядами лазаретных кроватей с аккуратненькими пуховыми подушками и пикейными одеялами. Дворцовые апартаменты преобразились: картины в простенках затянуты белым полотном; скульптура аванзала заключена в деревянные щиты; на хрустальных канделябрах — чехлы; панно с навешенными на них золотыми и серебряными блюдами сняты со стен (а о том, что они были там, свидетельствовали отдельные фотографии тут же); зеркальный коричневый паркет и мраморные части стен покрыты линолеумом.
— Студент Калмыков… — не то вопросительно, не то утвердительно прозвучал за Фединой спиной чей-то голос, и Федя быстро оглянулся, подавив набежавший в ту минуту зевок томительного ожидания и скуки.
— Я… — поклонился он молодой женщине, с некоторым любопытством смотревшей на него. — «Так вот ты какая…» — подумал о ней.
— Простите, что я заставила вас ждать. Но, знаете, сейчас была такая сложная перевязка у одного штабс-капитана.
Она протянула ему руку в белой перчатке, и Федя осторожно, мягко пожал ее длинные полусогнутые пальцы.
— Ну, почему вы так удивленно смотрите на меня? — улыбались розовато-нежные, казавшиеся прозрачными, как свежие ломтики апельсинов, губы Людмилы Петровны. — Вы так залюбовались этими витринами, что ли, что не услышали, как я спросила о вас нашего делопроизводителя… Ну, пойдемте же сюда.
И она повела его вглубь приемной к широкому, старинному, павловскому дивану под портретом в золоченой раме знакомого венценосного мальчика в матросской рубашке. (Лазарет был назван его именем.)
Как я и говорил вам уже по телефону, я имею поручение — передать вам письмо от Георгия Павловича Карабаева. Вот это письмо, — вынул его Федя из бокового кармана тужурки и протянул Людмиле Петровне.
— Ого! — весело сказала она, взглянув на пакет, и это «ого», как понял безошибочно Федя, относилось к круглому сургучовому медальону, которым запечатано было карабаевское письмо..
Сели.
— С вашего разрешения, я прочту.
Она оторвала тонкую полоску конверта, бросила ее на диван, вынула из конверта письмо и стала читать.
Если бы Федя Калмыков знал раньше Людмилу Петровну, — ну, скажем, два года назад, когда, покинув Смирихинск и помещичью усадьбу в Снетине, умчалась в армию сестрой милосердия, — он признал бы теперь, сколь мало изменилась за это время вдова поручика Галагана.
Большие серые глаза в бахроме длинных темных ресниц смотрели все так же с холодным любопытством и неупрятанной надменностью, взгляд нетороплив и беззастенчив. Все та же, чуть Смугловатая, кожа лица, все та же осанка, те же плавные, чуть замедленные движения, округлые жесты и походка.
Федя, сидя на диване, украдкой, исподлобья, поглядывал на свою новую знакомую, покуда она была занята чтением письма. Но вот в какой-то момент взгляды их на мгновенье встретились, и Федя, покраснев вдруг, отвел свой с напускной рассеянностью и небрежностью в сторону — туда, где вел прием посетителей бесстрастный краснокрестный чин с зелеными рачьими глазами. «Ох, засыпался!» — И ему кажется уже, что Людмила Петровна поняла, прочла все его ощущения и мысли: и то, что он считает ее красивой; что заманчива ямочка на локте полной полуобнаженной руки; что под тонким шелком белого платья просвечиваются на груди затейливым узором кружева и на плече — какие-то голубые тесемочки; и то, что он, хотя и украдкой, но нескромно рассматривает ее туалет, что мысли его, ей-ей, грешны и оттого сдерживает утяжеленное дыхание, а руки теребят, мнут лежавшую на коленях студенческую фуражку; и то, что, конечно же, он безнадежно, безотчетно, в одно мгновенье влюбился в эту женщину, и стоит ей потребовать (а вдруг бы так!) этого признания — и он сделает его искренно, беспамятно — так, как только способен он, Федя Калмыков…
— Ну расскажите же, как поживает Георгий Павлович, — прятала в замшевую сумочку письмо Людмила Петровна.
— О, Георгий Павлович теперь на коне! — оживился Федя.
— Впрочем, вы это мне все по дороге… Вы не откажетесь меня проводить?
— Я буду только рад.
Они направились к выходу. Проходя мимо краснокрестного чина, Людмила Петровна попрощалась с ним, не подходя к столу, но он поспешно покинул свое место и подбежал к ней с торопливостью и живостью, которой Федя меньше всего ждал от этого бесстрастного, неразговорчивого чинуши.
— Людмила Петровна, одну минуту… одну минуту, — остановил он ее.
Федя, наблюдая, отошел в сторонку.
Он не слышал разговора, да и разговор-то был подлинно минутный, но по тому, как неожиданно разрумянились щеки Людмилы Петровны, как беспокойно держал себя ее собеседник, можно было понять, что оба они чем-то взволнованы..
— Хорошо… сделаю, — прервала беседу Людмила Петровна и кивком показала Феде, что они могут продолжать свой путь.
Они прошли мимо чернобородого санитара, почтительно поклонившегося теперь Феде, швейцар в подъезде, которого он раньше не приметил, распахнул перед ним тяжелую дверь, и они очутились на набережной.
Свернули направо — к Троицкому мосту.
Теперь им никто не мешал: Федя мог удовлетворить просьбу своей спутницы и рассказать все, что известно ему было о Георгии Павловиче, а заодно и выяснить у нее свое собственное дело, о котором, — знает он, — писал в письме к ней Карабаев.
Однако их совместная прогулка не удалась. Прошло не больше минут двух-трех, а может быть, и меньше, — они миновали только соседний Эрмитаж, — как все тот же краснокрестный чиновник догнал их бегом, запыхавшись, без фуражки.
— Сейчас звонили от них… Сию минуту только… Просили вернуться. Обе. Анна Александровна… Надежда Ивановна тоже. Говорят, что они сейчас заедут…
— Какая честь для нас, для всей Руси! — весело усмехнулась Федина спутница.
И уже обращаясь к нему:
— Вот видите, не пришлось нам потолковать! Жаль, жаль. Вы уж меня простите. Впрочем, позвоните мне: мы условимся. Письмо к министру я С большой охотой достану вам, — ваше дело будет устроено. Позвоните же мне! Я хочу вас видеть у себя.
Она протянула Феде руку, и ему показалось, что пожатие ее было крепче и продолжительней, чем в первый раз, а взглянув в глаза Людмилы Петровны, он увидел в них ласковую улыбку.
— И я хочу вас видеть! — сказал Федя так горячо, что это походило уже на невольное, признание. Но об этом он подумал только тогда, когда остался один на набережной.
День заканчивал в обществе карабаевской семьи и ее приятелей, а вечер принес приключение, отодвинувшее на некоторое время в памяти все увиденное и услышанное за эти дни в Петрограде.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ Думы и нервы либерала
— …Все покоится на лжи. Чтобы увидеть это, не надо быть очень наблюдательным, Левушка… Лжет начальник отряда, когда доносит, что «с боем» взял такой-то населенный пункт. Местечко-то было очищено неприятелем еще два дня назад, а наши стреляли только для виду, чтобы написать об этом по начальству и не получить подвоха от стоящей позади артиллерии. Вот оно что!.. Лжет генерал, когда сообщает о подвиге рядового Петрова, «свидетелем» которого он был, храбро, беззаветно бросившегося в немецкие окопы и там заколовшего с десяток немцев. Врет его превосходительство, нагло врет! Он не был очевидцем, не был на месте, но вот «тонкое» указание на то, что он сам был на передовых позициях, уже гарантирует ему боевую награду… Лжет захвативший «тысячу пленных», а сдавший в тыл всего лишь триста. Почему, спросишь? Да потому, что остальные не были и взяты, а показываются в сводке как убитые во время сражения… при неизбежной суматохе! Лжет тот, кто трижды в течение суток сообщает о «постепенном» взятии такой-то позиции, желая этим обратить внимание на «трудность» своего положения и на свою решимость и твердость, а ведь позиция-то была взята сразу: просто… противник слабо защищался!.. Лжет тот строевой начальник, который представляет к награде штабного «моментика» за «отличие» при передаче приказания или при выработке плана атаки. А почему? Надо ведь порадеть штабному, чтобы на всякий случай заручиться его помощью по определению своей собственной награды… Не врет только рядовой Петров: на военно-спекулятивном базаре он не торговец, а товар. Не углядим, и побежит с фронта рядовой Петров, уставший от окопного сидения, от грязи, от штабной неразберихи…
Глотнув из стакана чай, гость в погонах штабс-капитана неожиданно пропел:
А штабы, как мухами, Сплошь набиты слухами.— Это, господа, офицерская фронтовая частушка, и она — не в бровь, а в глаз!
— Но Ставка все-таки, Алексеев, например… — все тем же тоном глубоко задумавшегося человека сказал Лев Павлович.
— Я тебе еще раз повторяю, Левушка. Ставка? Я пробыл в ней восемь месяцев. Прошла только неделя, как я перестал быть обер-офицером управления генерал-квартирмейстера, и, поверь мне, я многое видел, многое узнал. Да мне ли тебя учить?! Сам небось в военно-морской комиссии сидишь, — неужели там у вас ничего не известно? Сидишь ведь там, руководишь от имени Думы. Армия, Ставка верховного — это фотография всей нашей страны.
— Фотография, говоришь?.. — исподлобья посмотрел Лев Павлович, но не на собеседника, а мимо него, и на секунду взгляд карабаевский остановился на молчаливо слушавшем, как и все остальные, Феде Калмыкове и словно сказал ему строго и назидательно: «Раз слушаешь тут — сиди и слушай, так и быть, но прошу не болтать потом и ни во что мой дом и семью не замешивать».
Федя выдержал этот взгляд, как проверку, и Лев Павлович, воспользовавшись короткой паузой (гость, утоляя «жажду» глубокими глотками допивал чай, выжимая ложечкой сок из лимона), сказал свое:
— Да, да, Петруша, худо, брат, в таком случае. Худо! Вот посмотри… (Он взял из ящика письменного стола какие-то листки и прочитал их.) Я сделал себе выписки. Например, из приказа по Первой армии. Ты только послушай! «В армию прибыли новые быстроходные аэропланы, по фигуре весьма похожие на немецкие, без всяких отличительных признаков. Принимая во внимание… (ты только послушай, Петруша!), что при таких условиях отличить наш аэроплан от немецкого невозможно, строжайше воспрещаю, под страхом немедленного расстрела, какую бы то ни было стрельбу по аэропланам». Это вместо того чтобы сделать простую вещь: дать нашим аэропланам свои собственные опознавательные знаки! Ведь тупицы, — а?! Дальше. Вот тебе из приказа по Восьмой армии. «Попрежнему войсковые части, и в особенности — парки и обозы, продолжают становиться, строго придерживаясь уставных форм, — квадратиками, без всякого применения к местности. Требую со смыслом располагаться на бивуаке, укрывая повозки, деревья, заборы или строения, а в случае невозможности маскируя отдельные повозки ветвями, охапками сена и тому подобное. Коновязи разбивать по опушкам или внутри рощи, людей располагать по дворам или палаткам. При совершении маршей пехота должна, завидя аэроплан, немедленно сворачивать на обочины, останавливаться и даже ложиться. Надо придерживаться воинского устава, не как слепой — стены». Господи, приходится учить наше командование азбуке, военной азбуке! Воображаешь, сколько было жертв?.. А наш тыл? У нас тут в тылу ни знания, ни плана, ни системы. Куда уж дальше! За время войны переменилось четыре министра земледелия и шесть — внутренних дел. Чехарда, помилуй бог… Каждый не знает, что ему делать и что делал его предшественник. Приезжаем из-за границы — узнаем: объявляют они рекрутский набор, — да на какие сроки?! В самый разгар полевых работ! Подумать только! А убирать хлеб кто будет? А кто работать будет? Отвечают нам в комиссий: «Инородцы». И уже летит во все места телеграмма Штюрмера, и в Туркестане и в киргизских областях, заметь себе, серьезнейшие беспорядки. Вот тебе и результат! В особом совещании по обороне с трудом ведь, представь себе, добились отмены указа. Стыдно — перед союзниками стыдно!.. На каждом шагу твердим о Войне до победного конца, торжественно клянемся в верности союзникам. А кругом — бестолочь, командование — бездарное, двором вертит, как хочет, пьяный, распутный конокрад и жулик. Он подбирает министров. Власть вручена ничтожным, неспособным, даже подозрительным людям, вроде этого проходимца Штюрмера.
А ведь страна воспрянула бы, если к управлению призвать людей, облеченных общественным доверием. Сермяжная Русь — я верю в это! — поднялась бы на ратный подвиг, на победу… Но клика Штюрмеров и Распутиных тянет Россию в пропасть, к катастрофе… — взволнованно закончил Лев Павлович.
…Сидели все в кабинете Льва Павловича. Кроме карабаевской семьи, Феди и штабс-капитана Лютика, здесь был еще жена Лютика — низенькая седеющая женщина с розовым, свежим, словно только что умытым лицом и все время искрящимися черными глазами; шустренький с короткими, быстрыми движениями, непомерно длиннорукий Фома Асикритов; какая-то сухощавая, клювоносая дама в золотых очках (как выяснил потом Федя, — партийная сподвижница Льва Павловича и в некотором роде его секретарь); и тот самый Иришин знакомый, которого представили Феде несколько дней назад, назвав «Сергеем Леонидовичем», а фамилии не сообщив.
Послеобеденный чай следовало откушать, как всегда это делалось, в столовой, где все под рукой: и горка с чашками, и самоварный столик, и вазочки с двумя сортами варенья, и кекс домашнего приготовления в буфете, и шарообразный старинный фарфоровый чайник, накрытый малявинской куклой-бабой, забравшей его под свою пеструю теплую юбку, — словом, все на своем месте. Но вот чаепитие на этот раз пришлось перенести в комнату Льва Павловича.
И сделано это по его настоянию: он так давно не видался с другом, с Петром Михайловичем, Петрушей Лютиком, тот так много любопытного и весьма интересующего Льва Павловича начал рассказывать, уйдя с ним в кабинет, а там — так уютно и спокойно: открытые окна выходят на тихую Монетную улицу, а окна столовой — в шумный мальчишеским гамом и дворничьими окликами наполненный двор; да и «тембр беседы», как сказал Лев Павлович жене, может быть утерян, если уйдут они с Петрушей на другое место, и вообще в маленькой столовой все поневоле должны будут сидеть близко друг к другу, и каждый не сможет вести тот разговор, какого хочет, не стеснив себя и других, — что уж лучше перейти всем, кто желает, в его, карабаевский, просторный кабинет, тем более что никаких секретных разговоров они с Петрушей там и не ведут.
А кто пожелает иначе устроиться — тот и поступит по-иному.
При этом Лев Павлович подмигнул и улыбнулся жене, и Софья Даниловна поняла, о ком идет речь.
Но, оказалось, что никто не пожелал устроиться иначе, чем предложил хозяин. Все расположились в его комнате, облюбовав каждый для себя местечко: на тахте, в креслах, на ковровом пуфе, на широком подоконнике, и не покидали карабаевской комнаты добрых два часа, и только Софья Даниловна да Ириша изредка выходили отсюда, призываемые различными домашними заботами.
Послушать штабс-капитана Лютика действительно было интересно. Отбывая службу в Ставке и налаживая работу в одном из отделов управления генерал-квартирмейстера Пустовойтенко, с которым был в личных хороших отношениях, он был в курсе многого, что происходило за последние месяцы там — в скрытом от взоров всех маленьком Могилеве.
К тому же основная профессия Петра Михайловича Лютика до войны (историк-обозреватель и осведомленный журналист прогрессивных изданий) и его природные качества, — он показался Феде умным, немало наблюдательным и решительным человеком, — а также способности хорошего рассказчика, скорей даже опытного лектора, знающего, чем и как можно овладеть вниманием слушателей, да и желание в данном случае последних уделить ему это внимание, — все это удвоило интерес присутствующих к Петру Михайловичу, а Федя, в частности, доволен был, как никто: подумать только, сколько новостей и разных историй увезет он с собой из столицы!
— Мой шеф устроил мне приглашение к высочайшему обеду.
— Ах, это очень забавно, — воскликнула жена Лютика, и ее искрящиеся черные глаза многообещающе посмотрели на присутствующих — она все уже знала наперед в рассказах мужа.
— Я надел защитный китель, снаряжение — без револьвера, шашку, фуражку и коричневую перчатку на левую руку. Ордена не нужно, если нет с мечами, — пояснял штабс-капитан Лютик. — В семь двадцать вечера — точно! — я был в доме царя. Сначала проходите, значит, парных наружных часовых, потом вестибюль, где справа и слева стоят в струнку по два конвойца-казака. Уверяю вас — истуканы! Но вот один из них молча толкает дверь… автоматически как будто вытянувшейся рукой — и вы в передней. Тут скороход и лакей снимают ваше платье. Скороход спрашивает фамилии приходящих, посматривая в список, лежащий на столике. Контроль собственно очень слаб: вместо меня с таким же успехом мог бы пойти другой человек, лишь бы он назвался моей фамилией.
— Вот как?! — неожиданно отозвался из угла Асикритов, и Федя вздрогнул: журналист выпалил то, о чем он сам только что подумал.
— Да, очень просто, господа… Ну-с, у начинающейся тут же лестницы наверх стоит на маленьком коврике (синий такой квадратный коврик…) солдат сводного пехотного полка. Без оружия, — замерз, да и только!.. Зал — во втором этаже: небольшой, оклеен белыми обоями. Портреты Марии Федоровны и Александры, рояль, небольшая бронзовая люстра, простенькие портьеры. Кого я только в тот день не увидел! Тут были великий князь Михаил, великие князья Сергей и Георгий Михайлович — такой, понимаете, обезьянообразный рамоли, сухой, желто-черный, сгорбленный, с палкой…
Петр Михайлович скрючился, вобрал голову в приподнятые плечи, скривил рот, выпятив, нижнюю губу, руки — колесом, растопырил хищно пальцы, — и всем живо представился уродливый, как шимпанзе, великий князь Георгий.
И все одобрительно засмеялись.
— Были тут еще военные атташе союзников. Все они в форме русской армии, кроме японца. Ну, свитские, конечно: флигель-адъютант Мордвинов, адмирал Нилов, Граббе, лейб-медик Боткин. Алексеева не было в тот день: отпросился у царя в Смоленск — женить сына. Стоим группами, разговариваем. Князья — в особой кучке. Вот из столовой Воейков вышел, а за ним тесть — Фредерикс. Ну, и развалина, скажу вам! Так и кажется, господа: вот сейчас его и хватит изнутри! Хватит — он и рассыплется на отдельные части, искусно собранные портным, сапожником и куафером. Ей-богу!.. Царь за ними. Видел я его в Ставке раз пятьдесят, но так близко — не приходилось. В форме гренадерского Эриванского полка, в суконной рубашке защитного цвета, с кожаным нешироким пояском. Длинные брови очень старят его. Вылинял. Породы в нем никакой! Да и не было никогда. Глаза каменные, усы такие… желто-табачные, крестьянские усы, и борода такая же. Нос набряк, как клубень, и улыбка тихого идиотика: как рябь на болоте, когда, бывает, сильный ветер подует… Я стоял шестым из впервые приглашенных. Дошла очередь до меня — представиться: «Ваше императорское величество! Обер-офицер управления генерал-квартирмейстера, штабс-капитан Лютик!» — «С начала войны?» — «Никак нет, ваше императорское величество. С двадцать пятого сентября прошлого года» — «Угу…» — не знает, что сказать. И вдруг: «С пятнадцатого, значит?» — «Так точно, отвечаю, ваше императорское величество». — «Это исконно-русский хороший год. Ах, мне так обещали…» Подал руку мне, рука такая теплая, и передвинулся бочком к следующему за мной. И на ходу уже, с мутной, рассеянной, но злой улыбкой: «Pour etre beau, il faut souffrir!»[16] Ни черта не понял я! Что это означало?! Что за бессмысленный набор слов? Потом уже Михаил Саввич (генерал Пустовойтенко это) разъяснил мне. Оказывается, в прошлом году, в дни наших самых страшных поражений, распутинско-бадмаевский кружок переправил царю через Вырубову и Александру «ободрительную» записку: ничего, мол, не падай духом. А почему не падать духом? А вот почему. Знаменитый «предсказатель судьбы», иностранец Шарль Перрен, живший в Петрограде и принимавший только очень немногих (но, конечно, закадычный друг Бадмаева и «старца» Григория!), предрекает победу России именно в этом году. Видали, а?.. Пятнадцатые годы фатальны, мол, в этом смысле. Вроде карты, которой банкомет всегда выигрывает. Не угодно ли Николаю вспомнить?.. Тут тебе и древняя, передняя, и новейшая русская история… Тысяча пятнадцатый год — образование великого княжества Киевского. Что, событие? Событие! В тот же год следующего века нанесено поражение половцам и болгарам, в триста пятнадцатом — усиление Московского княжества при Данииле. Факт это? Факт… В четыреста пятнадцатом Василий Первый закрепил за собой Суздаль и Нижний Новгород, а Василий Третий в пятьсот пятнадцатом смирил и присоединил Псков. Победа это или нет? Ясно, победа!.. А дальше: в шестьсот пятнадцатом — удачные бои со шведами, в семьсот пятнадцатом Петр укрепляется на берегах Балтийского моря. И все в пятнадцатом, — каково? Вот свора жуликов как подобрала цифры-то!.. И, наконец, тысяча восемьсот пятнадцатый год — год великого торжества русского оружия: избавление Европы от Наполеона… Николай уверовал, а потом огорчился. Огорчился еще и потому, что рекомендованный ему бадмаевский друг, этот самый иностранец Шарль Перрен… арестован нашей военной контрразведкой и выслан в двадцать четыре часа из России по подозрению в германском шпионаже! Вот тебе и «предсказатель прбеды»!
— Омерзительно! — крикнул Лев Павлович и грузно завозился в своем кресле, усаживаясь поудобней.
Он вытер носовым платком лицо свое — дважды, тщательно, как будто желая снять с него вместе с капельками пота и внезапно проступившие на лице желто-багровые горячие пятна от возмущения и беспокойства.
Но он сам не знал сейчас, чем собственно взволнован: рассказом ли приятеля, или тем, что почему-то вспомнился вот в эту минуту смущенный носильщик на Финляндском вокзале, пропажа дневника, вертевшиеся в вагоне после станции Усикирко какие-то чужие люди, среди которых, — он убежден был теперь, — были и подосланные петроградской охранкой. Все это нежданно и болезненно всплыло от чего-то в памяти, покуда Петруша Лютик, штабной офицер, рассказывал очередной печальный анекдот о жизни в Ставке, в армии, и Лев Павлович, разволновавшись уже, не скоро успокоился.
— Лестницу метут сверху! — хрипло выкрикнул он и «с сердцем» бросил на стол портсигар, который до того держал в руках. — Все, что ты рассказываешь, Петруша, — чудовищно, омерзительно! Что ж это? Если так будет продолжаться, страна кончит крахом, смертью.
— Ай, браво, браво, Лев Павлович! — зашевелился на своем месте пучеглазой Асикритов. — Правильно говорите: лестницу метут сверху! Каждый швейцар и дворник это знает. Каждый! И найдутся такие — сметут, начисто сметут. Увидите… скоро, ой, скоро это будет. Оглянется страна, встанет на свои медвежьи лапы и пойдет крошить, ломать все и вся. Вот тогда… тогда мы узнаем ее, поймем. Все полетит, все будет разрушено. Тут уж не помогут никакие думские стратегические вензеля! Покажет Россия кузькину мать, запляшет с дубиной в руках, — пойдет тут такое всенародное очищение… Чай, не так?
— А вы-то… чему радуетесь? — раздраженно буркнул Лев Павлович.
— Я?
— Ну, да — вы! Радоваться нечему, — озлился Лев Павлович.
И опять не знал — почему собственно. Потому ли только, что Фома перебил его, вмешался непрошенно в разговор, или потому, что в тоне, каким говорил журналист, звучало, по мнению Льва Павловича, неприкрытое злорадство. Вероятно, на сей раз — и по той и по другой причине.
— Чему тут радоваться, — а? — воззарился Карабаев исподлобья на Асикритова. — Ну, все полетит, все будет разрушено, — кому ж на пользу? Кайзерскому милитаризму — одному ему! Все самое дорогое и ценное будет признано вздором, тряпками, чепухой. Все — на поругание, так, что ли? На слом, в бездну неизвестности, в окровавленную пасть отчаяния? Так, что ли? Не дай господь революции под ликующий салют прусских пушек!
— Там посмотрим, под чей салют: прусских или русских? — ухмыльнулся Иришин знакомый.
— Ах, папа, ты же сам сказал…
— Что сказал?!
— Про лестницу. Сверху метут… как же иначе?
— Иначе? Что — иначе?
Он, повернув голову к плечу — до отказа, так, что ей некуда и невозможно уже было двигаться, не вывихнув шеи, удивленно и растерянно смотрел на дочь.
Да, он говорил. Гм… «Лестницу надо сверху, да, да». Он не отрекается, он не ошибся, когда сказал. Нет, нет, пусть никто не думает, что он, Карабаев, может отречься от своих слов! Но почему же их нужно толковать так, как сделал это со злорадством Сонин родственник Фома? У него с журналистом никогда не было ничего общего в политических взглядах, — так что же это за союзник неожиданный?! Не нужны такие союзники. Это люди безответственных суждений и мгновенных коротких поступков.
В народе каждый божится, но всяк по-разному, — так и он с Асикритовым.
Подумав так, Лев Павлович понял, что зря опешил от Иринкиного вопроса. Но тут же другая мысль овладела им: «А что, если меня неверно поймут и стану я недостойным в их глазах?.. Сварлив я стал, а ори это неуверенностью моею сочтут?.. Вот Ириша моя, например… молодежь вся. Да и все друзья мои!.. И как иначе действительно поступать, как не очищать все сверху! Отчего же я так рассердился? Ох, нервы, нервы все!»
И он вдруг, протянув руку к стакану с давно остывшим чаем и быстро хлебнув его — так, что замочил густые усы свои, вздохнул устало:
— Эх, дочка, все правы и все виноваты. На то и страна у нас такая!
Ему показалось, что он нашел слова, которые должны примирить всех в этой частной дружеской беседе у него в доме. В самом деле: не открывать же в этой семейно-интимной обстановке «принципиальных» политических споров?! Кому они нужны тут?
«И вот он словно нашел «формулу перехода», — подумал он шутя, — для всех «фракций», заседающих по-семейному у него в кабинете. Разве он тем самым не пошел навстречу Асикритову, — ну, довольна теперь, Ириша?..»
В рядах своей собственной кадетской партии Лев Павлович в последнее время больше склонен был прислушаться к голосам более «радикальных» ее членов, а недавняя поездка за границу и совсем уже утвердила в нем сознание лидера этого крыла партии.
Но и здесь, в этом крыле, которым, как и птичьим, нельзя было партии взмахнуть отдельно, порознь, самостоятельно (об этом, боже упаси, никто и не думал!), Лев Павлович, поддерживая своих товарищей, а часто и руководя ими, следовал все той же своей обычной тактике — никогда не отказываться от примирения.
Таков он был всегда, таким он, в частности, оказался и на последнем закрытом заседании своей партии.
Лев Павлович призывал тогда к искренности, — ах, никто не умел быть столь лиричным в своих выступлениях, как Карабаев!
«Будем откровенны! Пусть каждый из нас выложит все, что думает, все, что знает, все, что тревожит его. Поговорим по душам!» — призывал он, встав со своего места и обращаясь к многочисленным участникам заседания, собравшимся в громадной гостиной — двухсветной, с венецианскими окнами, с малахитовыми каминами и золочеными канделябрами, — в хоромах гостеприимного, известного в столице либерального князя.
«Будем откровенны, — говорил он тогда, подымая высоко, как для клятвы, свою правую руку и после каждой фразы рассекая ребром ладони воздух. — В нашей среде есть много таких, кого пугает призрак революции, лик мятежной пугачевщины, разбойный черный свист анархии. Это страшно, господа, и я пугаюсь, мне страшно за русскую государственность, за ее будущность, за судьбу отравленной ужасами неудачной войны русской души. Мне страшно потому, что наше молодое поколение Сможет оглянуться на нас; с вами… «с усмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом!» Да, это страшно, господа. Но вот эти-то страхи и должны нам теперь диктовать иную политическую тактику, чем та, на непорочности и незыблемости которой настаивал здесь глубокоуважаемый нами всеми и личный друг и партийный водитель Павел Николаевич! Если мы не хотим, чтобы предстоящий, после войны суд народа над преступным правительством принял формы дезорганизации, хаоса, бессмысленного бунта, мы не можем устраниться от народного движения и не можем не стремиться играть в нем важную, руководящую роль. Не сторониться движения кооперативных деятелей и рабочих союзов, а протянуть им руку и повести за собой! Не придерживаться старой тактики, как слепой — стены! Мы должны быть зрячими, и тогда не будет страха!»
Ему аплодировали, и от шума тоненькими переливами звенела хрустальная бахрома княжеских люстр и канделябров, — это так запомнилось Льву Павловичу!
За резолюцию о необходимости сближения с левыми демократическими партиями высказалось сорок шесть участников заседания, воспротивились ей двадцать семь и уклонились заявить свое мнение четырнадцать. По мнению Карабаева, то была большая победа сторонников его речи, хотя резолюцией признавалось необходимым устраивать лишь «на местах» совещания с представителями «демократических партий», и то «в зависимости от выяснения сил и внутренней ценности последних».
Его поздравляли.
Но когда кто-то из провинциальных соратников, ободренный его речью, назвав ее «прекрасным новым кодексом партийного поведения», предложил выйти из августовского «прогрессивного блока», где, как выразился, «на ногах партии тяжелые гири октябристов и шульгинцев» («О, sancta simplicitas!»[17] — шепнул ему насмешливо искушенный в латыни и политике сосед-москвич…), рука Льва Павловича первой протестующе поднялась на виду у всех, чтобы опуститься немедленно вниз косым и быстрым взмахом шашки, без раздумья, гневно рубящей чью-то глупую башку.
«Разве можно бросать спичку в бочку с порохом?!» — воскликнул он в кулуарах, но не все поняли: партия — «бочка», или весь августовский «блок», или что-то другое!
А когда в ответ на неосмотрительный призыв съезда городов (в котором участвовал Карабаев) требовать «ответственного министерства» голосовали в громадной княжеской гостиной решение партии и порешили согласиться на «министерство, пользующееся доверием страны» («Синицу в руки, чем журавля в небе!» — рассудительно подсказал и напомнил своим друзьям либеральный князь давнюю народную поговорку), — Карабаев и вовсе не поднял своей руки. Он просто не желал огорчить кого бы то ни было из сидевших здесь партийных единомышленников и приятелей, хотя не прочь был бы узнать, что страна получила, наконец, министров, ответственных в полной мере перед ее представителями, то есть в том числе и перед ним самим.
«Что же вы так, Лев Павлович?..» — спрашивали его сторонники разных течений, разных крыльев, укоризненно покачивая головой от плеча к плечу.
И тогда, как и сейчас: отвечая своей дочке Ирише, он сказал вдруг:
— Ах, господа, все правы и все виноваты. На то и страна у нас такая!
И тогда, как и сейчас, он обескуражил и покорил всех усталым и примиряющим вздохом, вылетевшим словно из настежь разверзнутой груди.
Никто не был столь лиричен, как знаменитый думский депутат буржуазии Карабаев. Ах, ни у кого не было таких вдумчивых и тоскливых серых глаз!
…Птица может лететь, расправив оба своих крыла и взмахнув ими одновременно.
…Ну, о чем тут спорить, люди добрые?!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ «Это детская сказка, приноровленная к уровню политическим младенцев»
Спустя несколько месяцев по возвращении Карабаева из-за границы к Льву Павловичу зашел Асикритов.
Как всегда, подмигивая (пучеглазый чертик!), он положил на стол какую-то газету необычного формата и шрифта и, ухмыляясь, сказал:
— Нокаут. Всему думскому словоблудию — нокаут.
— Не понимаю, Фома Матвеевич, — вопросительно посмотрел на него Карабаев, привыкший уже к неожиданным и «странным» суждениям и известиям своего родственничка.
— На обе лопатки. И вас вместе с вашим Павлом Николаевичем Милюковым, и правительство, и всех своих партийных противников, — всех на обе лопатки!.. Знаете, чья тут статья? — ткнул в газету пальцем журналист. — Ленина! Небось слыхал про такого?
Лев Павлович поморщился. А когда чрезмерно экзальтиррованный, по его мнению, Асикритов воскликнул: «Пусть напечатают у нас эту статью — тогда народ узнает настоящую правду! Гарантирую — революция!..» — Лев Павлович с сердцем выкрикнул:
— Идите к черту с вашей революцией! Она нужна только черни. А этого самого Ленина и его сподвижников… его надо…
Он не досказал, что «надо» сделать с Лениным, но схваченная в этот момент со стола вывезенная из Англии американская зажигалка-браунинг была красноречивей слов.
— Нет, нет, вы будете в конце концов министром его величества! Не сомневаюсь теперь, — рассмеялся Фома Матвеевич и взял из его руки «браунинг», чтобы зажечь папиросу.
Статью большевика Ленина Лев Павлович Карабаев — не хотел он никому признаваться — прочитал несколько раз. А журналист перепечатал ее, бог весть для чего, с несколькими машинописными копиями.
«Война, — разъяснял вождь социал-демократов большевиков, — порождена империалистскими отношениями между великими державами, т. е. борьбой за раздел добычи, за то, кому скушать такие-то колонии и мелкие государства, причем на первом месте стоят в этой войне два столкновения. Первое — между Англией и Германией. Второе — между Германией и Россией. Эти три великих державы, эти три великих разбойника на большой дороге являются главными величинами в настоящей войне, остальные — несамостоятельные союзники».
«Англия воюет за то, — писал далее Ленин, — чтобы ограбить колонии Германии и разорить своего главного конкурента, который бил ее беспощадно своей превосходной техникой, организацией, торговой энергией, бил и побил так, что без войны Англия не могла отстоять своего мирового господства. Германия воюет потому, что ее капиталисты считают себя — и вполне справедливо — имеющими «священное» буржуазное право на мировое первенство в грабеже колоний и зависимых стран, в частности, воюет за подчинение себе Балканских стран и Турции. Россия воюет за Галицию, владеть которой ей надо в особенности для удушения украинского народа (кроме Галиции у этого народа нет и быть не может уголка свободы, сравнительной конечно), за Армению и за Константинополь, затем тоже за подчинение Балканских стран».
Наряду с столкновением «интересов» России и Германии существовало также глубокое столкновение между Россией и Англией. Империалистической России мерещилась такая перспектива: вместе с Англией и Францией разбить немцев, чтобы отобрать у Австрии Галицию, а у Турции Армению и во что бы то ни стало — Константинополь. Затем с помощью Японии и только что разбитой Германии… припереть к стенке Англию в Азии, чтобы завладеть всей; Персией и довести до конца начатый ранее раздел Китая.
«Война есть продолжение политики, — утверждал в своей газете Ленин, и, по совести говоря, Лев Павлович не находил причин ему возражать. — И политика тоже «продолжается» во время войны! Германия имеет тайные договоры с Болгарией и Австрией о дележе добычи… Россия имеет тайные договоры с Англией, Францией и т. д.…
«Социалист», который при таком положении дела говорит народам и правительствам речи о добреньком мире, вполне подобен попу, который видит перед собой в церкви на первых местах содержательницу публичного дома и станового пристава, находящихся в стачке друг с другом, и «проповедует» им и народу любовь к ближнему и соблюдение христианских заповедей.
Между Россией и Англией, несомненно, есть тайный договор, между прочим, о Константинополе. Известно, что Россия надеется получить его и что Англия не хочет дать его, а если даст, то либо постарается затем отнять, либо обставит «уступку» условиями, направленными против России. Текст тайного договора неизвестен («К сожалению, и для нас!» — вставлял от себя Лев Павлович), но что борьба между Англией и Россией идет именно вокруг этого вопроса, идет и сейчас («Верно…»— признавался Карабаев), это не только известно, но и не подлежит ни тени сомнения. В то же время известно, что между Россией и Японией, в дополнение к их прежним договорам (напр., к договору 1910-го года, предоставлявшему Японии «скушать» Корею, а России скушать Монголию), заключен уже во время теперешней войны новый тайный договор, направленный не только против Китая, но до известной степени и против Англии. Это несомненно, хотя текст договора неизвестен. Япония при помощи Англии побила в 1904–1905 году Россию и теперь осторожно подготовляет возможность при помощи России побить Англию». («Право, новое, весьма интересное соображение!» — не мог не признать Лев Павлович.)
«Если бывший социалист г. Плеханов изображает дело так, будто реакционеры в России хотят вообще мира с Германией, а «прогрессивная буржуазия» — разрушения «прусского милитаризма» и дружбы с «демократической» Англией, то это детская сказка, приноровленная к уровню политических младенцев. На деле и царизм и все реакционеры в России и вся «прогрессивная» буржуазия (октябристы и кадеты) хотят одного: ограбить Германию, Австрию и Турцию в Европе, — побить Англию в Азии (отнять всю Персию, всю Монголию, весь Тибет и т. д.). Спор идет между этими «милыми дружками» только из-за того, когда и как повернуть от борьбы против Германии к борьбе против Англии. Только из-за того, когда и как!
…Отнять Константинополь и проливы! Добить и раздробить Австрию! Царизм вполне за это. Но хватит ли силы? и позволит ли Англия?
…Если «мы» погонимся за чересчур большой добычей в Европе, то «мы» рискуем обессилить «свои» военные ресурсы окончательно, не получить почти ничего в Европе и потерять возможность получить «свое» в Азии — так рассуждает царизм и рассуждает правильно с точки зрения империалистских интересов. Рассуждает правильнее, чем буржуазные и оппортунистические говоруны Милюковы, Плехановы, Тучковы, Потресовы.
…Англия «нам» сейчас ничего дать не может. Германия нам даст, возможно, и Курляндию и часть Польши назад, и наверное, восточную Галицию… также турецкую Армению. Беря это теперь, мы можем выйти из войны, усилившись, и тогда завтра мы при помощи Японии и Германии сможем получить, при умненькой политике и при дальнейшей помощи Милюковых, Плехановых, Потресовых в деле «спасания» возлюбленного «отечества», хороший кусок Азии при войне против Англии… Поэтому вполне возможно, что мы завтра или послезавтра проснемся и получим манифест трех монархов: «внимая голосу возлюбленных народов, решили мы осчастливить их благами мира, установить перемирие и создать общеевропейский конгресс мира».
…Кончится ли данная война таким образом в очень близком будущем, или Россия «продержится» в стремлении победить Германию и побольше ограбить Австрию несколько дольше, сыграют ли переговоры о сепаратном мире роль маневра ловкого шантажиста (царизм покажет Англии готовый проект договора с Германией и скажет: столько-то миллиардов рубликов и такие-то уступочки или гарантии, а не то я подпишу завтра этот договор) — во всяком случае империалистская война не может кончиться никаким иным, кроме как империалистским, миром, если эта война не превратится в граждайскую войну пролетариата с буржуазией за социализм».
Этой последней возможности Лев Павлович Карабаев никак уж не предполагал. И уж во всяком случае не мог предполагать, что не пройдет и года и начнется та гражданская война, о которой говорил Ленин.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Ананьев Ляпе ей и капитан Мамыкин
Из окна квартиры виден был сквер, сегмент небольшой круглой площади, прилегавшей к нему, коридор продольной улицы, по которой выкатывались на площадь, дребезжа и скрипя, трамвайные вагоны, разбегавшиеся затем в разные стороны.
По дорожкам сквера нарочито кавалеристской, утиной походкой, лениво раскачиваясь, бродили воспитанники кадетского корпуса — как можно больше кривили колесом ноги и похлопывали себя небрежно тоненькими ореховыми стеками. В белых перчатках, в черных гимнастерках, туго подтянутых лакированными кушаками и собранных на спина в мелкую, гармошкой складку, в брюках со штрипками, в надвинутых — «по-гвардейски» — на переносицу фуражках, предварительно смоченных и придавленных утюгом, чтобы не торчали поля, — молодые люди, вероятно, казались самим себе если не настоящими, то, безусловно, уже будущими героями.
Когда вблизи не было военных и не перед кем было тянуться, они курили папиросы и запевали, но все же вполголоса, модную фронтовую песенку:
На врагов, чертям назло, Налетим мы бурей, Это наше ремесло — Целоваться с пулей!Но здесь, в скверике, никто не принимал всерьез этих воинственных обещаний. Особенно молодые женщины и девушки, да еще в вечерний час гулянья.
Продавщицы из магазинов, кельнерши из кафе, кассирши, скучающие дамы, в один и тот же час сидящие на одних и тех же скамейках, и даже подростки-гимназистки в белых передниках поверх коричневых и зеленых платьев, и няни, с соседних улиц привозящие сюда в светлых колясочках препорученных им младенцев, — все хорошо знали истинные стремления кадетов.
Старики дочитывали здесь вечернюю «Биржевку». Мелкие маклеры, отсаживаясь в конец скамейки, подсчитывали, становясь вдруг похожими друг на друга, завтрашний барыш от перепродажи мешка с сахаром и ящика макарон. Утомившаяся прачка, перевязывая на голове ситцевый платок, отдыхала у железной ограды севера, приткнув к ней и поддерживая плечом туго стянутый узел выстиранного белья, который надо доставить за три квартала отсюда.
Филер охранки держал «на мушке» чью-то квартиру в одном из ближайших домов и в напускном раздумье неудачника, философа или влюблённого, не глядя ни на кого, вычерчивал палкой на песке замысловатые геометрические фигуры.
Прыткий, непоседливый пинчер со вздрагивающей кожей на проступающих ребрах и такими же беспокойными острыми ушами и — на привязи у него — послушная и неумелая молодящаяся хозяйка с плохо закрашенными морщинами, соломенной широкополой шляпой с насаженными на ней плюшевыми лилиями и розами; она — с «ах ты, боже мой!» каждый раз — делала то, чего требовал от нее четвероногий.
Городовой здесь еще: по-жандармски выпущены из сапог широкой складкой вниз шаровары, пышные усы с косыми вьющимися подусниками, высокий картуз — на ребро поставленная суконная тарелка, две начищенное медали на бугре полубабьей груди — он утаптывает дорожки сквера своим неторопливым, хозяйским шагом.
Кто торгует лаской, удивительно подешевевшей, кто — гуталином и шнурками, в ларьке — зеленым, пенистым «дедушкиным квасом», завезенным в столицу польскими предприимчивыми беженцами; кто — планом города и значками татьянинского комитета, желтой очищенной махоркой и черными усманьскими семечками. Инвалид в лукошке, с ярко-красным околышем донской фуражки и приколотым к фуфайке английской булавкой «георгием», ползал вдоль скамей, нещадно матерно ругая за отказ помочь ему подаянием. Человека с обезьянкой сменил человек с попугаем, а их обоих — в пестрых лохмотьях, крадучись приближавшаяся, покачивая, как на пружинах, бедрами, — темногубая цыганка с колодой старинных, причудливых карт.
Она подошла к скамье, на которой сидело несколько человек, коротким взглядом оценила настроение и возможность каждого из них, и этого уже было достаточно, чтобы выбрать раньше всего сидевшего последним, на краю:
— Погадаю твоей милости, твоему сиятельству…
Офицер сидел, заложив ногу на ногу, держа на коленях фуражку. Платком он вытирал вспотевшие виски, лоб, всю голову, словно он только что, запыхавшись, добежал сюда.
Он был худощав; тщательно выбрит (на продолговатой мочке сильно прижатого, как у испуганной лошади, уха лежал еще свежий след парикмахерской: пыльная осыпь пудры), с порядочной глянцевитой лысиной, взбежавшей мимо оставленных по бокам примятых реденьких волос к шишковатой, вытянувшейся пологим колпачком макушке, с узкой, низкой талией, в светлом казачьем бешмете.
— Не требуется! — бросил он цыганке.
— Ай, барин, быстроглазая милость твоя, бровки твои заграничные… Доволен будешь. Дай погадаю!
Она опустилась перед ним на корточки, держа в положенных друг на друга ладонях карточную колоду.
— Ожидаешь, твоя милость, сбудется или нет. Тревога на твоем сердце заграничном — птаха летает в груди твоей, барин. А что ожидаешь — все скажу, и что сбудется и чего не делать — скажу. Ну, положи царя на руку.
И она покружила пальцем в воздухе, над колодой, прося не то полтинник, не то рубль.
Кто-то на скамье сдержанно рассмеялся, кто-то сварливым стариковским голосом пригрозил ей городовым за приставание к приличным господам. Она только глазом повела и словно невзначай плюнула в ту сторону.
— А еще скажу, жив будешь али что случится, твоя милость, генерал.
— Плохо в чинах разбираешься, — усмехнулся он.
— Ай, будешь генералом — про то погадаю, верную правду скажу, сердце мое!
— Чего и гадать? Вот уже все и сказала! — откликнулся сосед офицера по скамье, задумчиво вычерчивавший палкой, свесив голову вниз, геометрические фигуры на песке. Вмешался в разговор, а позу сохранил все ту же.
— Цыц! Ай, умный какой да безгрошовый! — сверкнули цыганкины глаза. — Андрон звать? — презрительно сказала она.
— Чего? — смутился тот.
— Того! Примета у нас така: Андрон — «фараон»: глаза завидющи да проданны… Дай погадаю? — обратилась она вновь к офицеру.
— Сказал тебе: не требуется. Проваливай!
— Ой, скажу, все скажу, — жалеть будешь… Положи на ручку, — приставала она. — Сними карту — не больше семой, не меньше третьей, — сидя на корточках, мелким лягушечьим прыжком приблизилась она к нему. В зеркальных голенищах его сапог она увидела расплывшийся силуэт своего лица.
— Уходи к черту! Конокрадка какая… Вот крикну сюда городового…
— Тьфу!.. Сам бисов сын!
И что-то горячее, скороговоркой на своем цыганском, никому не понятном языке.
— Еще ругается, въедливая сука!.. А ну-ка!
Она хотела приподняться, но черный зеркальный сапог ткнул ее в колено, и, потеряв равновесие, взмахнув руками, как не успевшими распуститься крыльями, цыганка мягко шлепнулась на спину, оголив худые смуглые ноги.
— Так и надо — по-военному! — одобрил сосед с палкой в руках. — Ничего, встала быстро… как мышь.
— По-военному?.. Ай, будет: понастреляют вашего плешивого племени Вани — солдатики родные! Слеза наша сиротская черной кровью вытечет из ваших зенек поганых. Прокляты вы, прокляты! Понастреляют вас, хомяков в поле, Вани родные!
— Марш! Шею сверну! — сорвался со скамьи офицер и, погрозив удалявшейся быстро цыганке, сам покинул это место.
— Сурьезный мужчина! — вывел заключение сосед на скамье, пододвигаясь на освободившееся место, и палкой вывел на песке огромную восьмерку.
— Казак — одно слово! — отозвался стариковский голос.
— Знаете, господа, у меня муж тоже был такой вспыльчивый, тоже военный. Но это у них, у военных, от контузии.
— Не видать что-то, мадам. По ихнему лицу судить можно было иначе вовсе.
…Казачий офицер свернул на боковую дорожку, прошел ее до конца и тут остановился, вспугнув, не желая того, двух кадетов, торопливо улепетнувших от него со своими — откровенной профессии — спутницами.
Напрасно ушли: пускай, к черту, занимаются чем угодно, — сейчас потребность в движении, он должен шагать, словно только так сможет стряхнуть, с себя незримую, тяжесть насевшего на него чувства. Вот именно — насевшего: ему все время теперь хотелось разогнуть плечи, как будто и в самом деле кто-то сдавил их, и он уже подбрасывал их, дергал, как будто и впрямь это было следом контузии. И нестерпимо ныл позвонок у шеи, и, казалось, поскрипывали и все остальные, — обычное состояние Мамыкина, когда сильно огорчался или был, как сейчас, озлоблен.
Но отчего все-таки? Можно уколоться иглой там, где меньше всего ждешь этого укола, и от неожиданности боль сильней, чем она есть, — так и случилось сейчас с капитаном Мамыкиным.
Проклятая цыганка почти дословно повторила солдатские угрозы, — это был тот болезненный укол, которого он меньше всего сегодня ждал.
…Долго надо было бы рассказывать обо всем этом. Но вспомнить?.. Капитан Мамыкин вспомнил ту ночь, со всеми подробностями и собственными чувствованиями, мгновенно и точно.
…Узкая щель окопа понемногу подымалась в гору. Глубокая траншея пересекла их путь. Мамыкин и его спутники пошли в обход.
В темноте неожиданно сверкнул свет: вросший в бруствер, знакомый блиндаж оказался в двух шагах. Тут помещалось дежурное отделение. Небольшая, низко ушедшая в землю дверь открыта, в дверях — четверо стрелков: их, наверно, утомил сырой, спертый воздух блиндажа.
Долетал громкий шепот разговоров, — Мамыкин и его спутники укоротили шаг.
— А супротив подложечки, братцы, главное дело — спирт!
— Ето ты верно: тепло, ровно с бабой ляжешь, и опять же живот начисто освободит. Чарку бы!
— Эх, братцы, с бабой!.. Мне охота к своей оч-чень… К Лизавете… Эх ты, жизнь… Така охота…
— …что в костях ломота?
— Чай, Мишка не подстрелен еще все в порядке!
— И пишет она, жена моя разлюбимая…
Офицеры двинулись вперед прежним шагом: солдатская беседа была обычна и, не внушала никаких подозрений.
— Командир! — узнал кто-то из стрелков.
Он хотел юркнуть в двери, но Мамыкин окриком остановил его.
Мамыкин помнит: блиндаж был основательный и крепкий, как и все, что строились на этом участке, наиболее сильно сопротивлявшемся немцам.
Над небольшой, глубоко вросшей в землю дверью — несколько пакетов толстых бревен, между ними проложены мешки с землей, камни и хворост, а над всем этим — площадка железобетонных плит, замаскированных дерном. Внутри низкий потолок поддерживался тремя рядами заплесневелых десятивершковых бревен. Между задними рядами стоек — нары для отдыхающей смены, впереди — длинный стол, скамейка с врытыми в землю ножками, на полу — деревянные решетки, так как другим способом нельзя было избавиться от мокрой грязи.
На нарах беспокойно спали в самых разнообразных позах люди отдыхающей смены; на них — измятые шинели, перетянутые кушаком с подсумками, через плечо перекинут патронташ, под головами — вещевые мешки, тут же рядом — винтовка.
На столе тускло горела и, по обыкновению, коптила небольшая керосиновая лампа. Вокруг стола — группа солдат, наклонившаяся, — сразу заметил Мамыкин, — над какими-то серыми бумажными листками.
При появлении офицеров все вскочили, лица приняли «строевое», застывшее выражение, глиняные стали, как определял Мамыкин, и чья-то рука с судорожной поспешностью схватила со стола серые листки.
Унтер-офицер Коробченко отрапортовал:
— Ваше высокоблагородие, в дежурном отделении никаких происшествий не случилось со стороны неприятеля.
— Надеюсь, и в самом отделении тоже? — перебил Мамыкин.
— Так точно, все тихо и согласно устава — по службе, ваше высокоблагородие.
Никто, кроме господ офицеров, не видал лица унтер-офицера Коробченко, никто, кроме них, не заметил прищуренного, подмигивающего, глубоко вдавленного его желтоватого, глазика, совсем закатившегося вбок, словно, если бы он мог дальше пойти, перекатиться на затылок, то прямо и безошибочно указал бы Мамыкину, кем из стоящих сзади следует господам офицерам поинтересоваться сейчас!
— Смир-рно! Здорово, денщичья сила! — закричал капитан Мамыкин, и по этой команде, злой и насмешливой, лучше всего определявшей всегда настроение командира, все должны были уже понять, что дело не к добру.
…После трехминутного обыска прокламации очутились у него в руках.
— Кто? — громко спросил он.
Молчание.
— Кто? — повторил он, но уже тихо, заглушенно, сквозь зубы.
И опять никто не отвечал, все исподлобья смотрели на капитана Мамыкина и трех младших офицеров, его спутников.
Спросить унтера Коробченко? Но это значит — выдать его, потерять на дальнейшее преданного человека.
— Что ж, бунт? Ослушание? — сползли набок губы капитана. — Бунт на позициях… перед лицом врага, в военное время?!
— Никак нет, — разжался чей-то рот, и капитан Мамыкин повернул голову на этот сорвавшийся возглас.
— Приказываю сказать, кто принес эту немецкую дрянь!
Солдат молчал.
— Какая сволочь дала?! Иначе — к повешенью!
— Не могу знать, ваше благородие.
И как сейчас, в сквере, заныли тогда на спине все позвонки, и как будто что-то тяжелое прыгнуло на плечи Мамыкина, обхватив и запрокинув его голову. Необходимо движение, нужно что-то делать, делать, делать…
— Твоя фамилия?
— Ананьев Ляксей, ваше благородие.
— Два шага вперед… арш! Подставь маску!
У маленького, низкорослого Ананьева картофельное бугристое лицо с растянутым, лягушечьим ртом и чуть покривившимся, съехавшим на сторону тупеньким носом, а глаз его не разобрать Мамыкину при таком хилом освещении. Да, впрочем, они упрятаны сейчас у всех этих «идолов», — возмущен капитан, — и смотрит на него, — чувствует, — звериным взглядом. Эх, тем проще все дело!..
— Подставь маску!
И он вдруг ударяет по незащищенному лицу Ананьева — звонко, коротко, всей затянутою в перчатку ладонью.
— Не сметь!
Гулкое многоголосое бормотание под низкими сводами.
— Что-о-о?.. — схватился за кобуру Мамыкин.
— Я!
Тот, кто крикнул это, выскочил из рядов вперед, закрыв собой покачивающегося Ананьева, и очутился перед Мамыкиным: скрипят зубы, быстрый тик под глазом, дрожит колючая бровь.
— Я принес листовку… слышите вы!
— По форме разговаривать! Молчать! Изменник ты, шпион немецкий!
— Никак нет… Никогда им не был! А бить солдата — это…
— Молчать! Смир-рно!.. Фамилия твоя?
— Николай Токарев. Могу дать объяснения.
— Не требуется. Унтер-офицер Коробченко! Утром же доставить его под конвоем в штаб! Там поразговаривает…
— Слушаюсь, ваше высокоблагородие.
…И помнит капитан Мамыкин: вышел со своим спутником из блиндажа, а вдогонку им понеслось угрожающее, ненавидящее:
— Паразиты!
— Перестрелять паршивых хомяков в поле до единого! Племя все до пятого колена!
— Хомяки! Гады помещичьи!
— Вот хрест на мне, вгоню пулю… и срока не потребую!
— Вдарю под микитки — черной кровью своей зальется за слезу солдатскую!
Возвратиться? Начать стрелять? Навести порядок? Спутники оттащили его назад.
Придя в свой сруб, опущенный в землю, он выпил для успокоения полстакана спирту — и почти без закуски. Расправил клочок отобранной измятой прокламации. Машинописные строчки изрядно стерлись, но он с непонятным для самого себя упрямством старался сейчас разобраться в них мутными, слезившимися глазами.
На уцелевшем клочке было:
«Каждая нация, — сказал Жорес за несколько дней до своей смерти, — неслась с горящим факелом по улицам Европы. Уложив миллионы людей в могилу, повергнув в горесть миллионы людей, превра…» — дальше было оборвано.
А на оборотной стороне бумажки он прочитал:
«Вы, народ, трудящиеся массы! — вы делаетесь жертвами войны, а между тем эта война не ваша! В траншеях, на передовых позициях находитесь…» — и опять не было конца, но и так многое было уже понятно капитану Мамыкину.
— Сакранунем-базрам! — дико заорал он, и никто не уразумел, что означает это нелепое, бессмысленное слово, да и сам он не знал, откуда это появилось. Как-никак, он выпил полстакана спирту!..
Утром внезапно бросили полк в атаку. Была «рубка», в какой давно не приходилось участвовать. «Смешались в кучу кони, люди…» — неотступно лезли в голову заученные с детства лермонтовские стихи. И он дрался, не оглядываясь назад, и славно дрался весь его полк, не досчитавший к вечеру больше половины своего людского состава.
Когда узнал об этом, искренно, хмуро сожалел о потере, понесенной полком, но из всех солдат, оставленных на поле, вспомнил об одном — и без горечи и без раскаяния…
…Днем, во время боя, шагах в полутораста от себя он увидел вчерашнего врага своего — плечистого путавшегося в длинной шинели Токарева. Он бежал слева от него, не видя Мамыкина, с ружьем наперевес, изредка припадая на одно колено, — к немецкой проволоке.
Мамыкин видел, как вырос вдруг перед стрелком маленький немец с гранатой в руке, как он замахнулся ею, но почему-то не бросил гранату, а, отскочив в сторону, быстро поднял обе руки вверх, и пробежавший мимо него Токарев махнул свободной рукой, и маленький немец не упал, а лег на землю, закрыв свою голову.
И тогда… тогда Мамыкин выхватил у кого-то поблизости винтовку, нацелился на зарывшегося в землю, как тушканчик, немца, но внезапно изменил прицел, передвинув его вправо, и выстрелил… Бегущий впереди солдат в длинной шинели задергал плечом, словно поудобней примащивая в походе висящий за плечами вещевой мешок, и, качнувшись, осел наземь.
Мамыкину почудилось тогда, что он слышит скрип его зубов.
«Тьфу! Случится же такая пакость… И какой черт принес эту назойливую цыганку! Пристала бы к кому-нибудь другому, так нет… именно ко мне, собака!»
Он ходил по скверу, стараясь сдержать свои чересчур порывистые шаги, ежеминутно поглядывая на узкий, в сравнении со смежными, четырехэтажный коричневый дом с округлыми башенными выступами. Но нет, — ничего, к сожалению, нового, чего так желал и ждал, он не заметил еще.
Опять попались навстречу кадеты; они тянулись перед ним, щелкая каблуками и распрямляя усиленно грудь, как пыжащиеся борцы.
Так повторялось несколько раз. Тогда вдруг капитан Мамыкин подозвал одного из них и сварливо сказал:
— Отставить! Мы уже знакомы. Или изберите другое место для своего променада! Понятно?
Если бы не дисциплина, кадет бы удивленно пожал плечами: до чего раздражительны стали господа старшие офицеры, — ах ты, боже мой!
Из окна квартиры виден был сквер, часть прилегавшей к нему небольшой круглой площади и коридор продольной улицы, по которой выкатывались на площадь, дребезжа, трамвайные вагоны, разбегавшиеся затем в разные стороны.
Был летний петербургский вечер — трехсветный час: отсвет отплывшего за горизонт, побагровевшего за день солнца, бледно-матовая скоба отвердевающей луны, робко глядевшей уже давно с другого конца неба на исчезающее пышное светило, и городской электрический свет: в магазинах, над подъездами и в квартирах нерасчетливых хозяек.
Людмила Петровна подошла к открытому окну, постояла, у него минуту и, посмотрев на часы, быстрым шагом направилась в противоположный конец комнаты, к двери.
Она нашла рукой на стене, за полой раздвинутой тяжелой портьеры, верхний выключатель, повернула его — и под потолком вспыхнул веер красного света внутри фарфорового многоугольного колпака. И она удивилась, как скоро (прошло не больше минут трех) прожужжал на парадной двери двукратный звонок.
Из кухни торопилась прислуга.
— Однако… — улыбнулась Людмила Петровна и, отослав горничную, сама пошла открывать.
— Я с таким нетерпением ждал условленного сигнала… Вашу ручку разрешите?
— Закройте дверь и задерните портьеру, Мамыкин! — сказала Людмила Петровна, возвращаясь вперед гостя в комнату.
— Никого? — спросил он вполголоса, озираясь.
— Никого. Брат с семьей на даче. Но в вашем распоряжении не больше получаса, Мамыкин, потому что я собираюсь отдыхать перед визитом. Я вас слушаю…
И Людмила Петровна уселась на оттоманку, подобрав под себя ноги.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Вторая встреча
Из дома Льва Павловича Федя вышел вместе с Асикритовым.
— На трамвай? — спросил журналист, когда они дошли до угла.
И, не дожидаясь ответа, тронув Федю за рукав, предложил продолжать путь пешком, благо вечер был на редкость теплый и светлый.
— А в такой вечер, — говорил Асикритов, — петербуржцы испытывают потребность передвигаться медленно, неторопливо, отложив в сторону обычные свои заботы, чтобы отдать себя на час-другой прогулке по городу — по его великолепным проспектам, площадям, набережным, чтобы только созерцать его молчаливо и восхищенно.
В голосе Асикритова звучал неподдельный лиризм, и это приятно удивило Федю: до сего времени юркий пучеглазый Фома Матвеевич с неспокойным, дергавшимся ртом рисовался ему замкнутым, колким человеком — насмешливым и «без всякой романтики», как думал о нем. И вдруг — усталый, смягченный взгляд, тихий, успокоившийся шаг, дружеское прикосновение к руке, подкупающий искренностью мечтательный голос, — совсем иным, оказывается, может быть журналист Фома Асикритов!
— Айда пешком! — охотно согласился Федя. — Вам куда, Фома Матвеевич?
— На Ковенский. А вам?
— Я свободен в выборе: у меня тут четверо дядей и одна тетка — ночлег обеспечен. Во всяком случае, мост перейдем вместе.
Они свернули на Каменноостровский.
Асикритов был прав: прохожие медленно, не спеша отмеривали свой путь в обе стороны проспекта. Им словно жаль было расстаться с этим классически стройным, неоглядным до конца петербургским красавцем, о этим светлым, неожиданно теплым по-южному, подарочным вечером, с нежной своей собственной задумчивостью, с голубым пожарищем на крыше неотъемлемой от проспекта знаменитой мечети, с вознесенной высоко кверху золотой иглой — штыком легендарной крепости двух святитёлей.
— Ах, какой чудесный этот город! — воскликнул Федя, любуясь раскрывшимся перед ним видом. И хотя восклицание показалось самому наивным и собственно никак не отмечающим подлинной красоты увиденного, он не смутился на этот раз: и Фома Матвеевич говорит, что Петербург «чудесен», и все прохожие, по всему видно, это чувствуют, да и как сказать иначе об этом «творении Петра»?
— Ну, что вы скажете относительно нового Иришиного знакомого? — спросил Асикритов. — Как вы находите этого бритого, молчаливого скептика с поседевшими рано височками… Как он вам, — а?
— Симпатичен! — поспешил ответить Федя и посмотрел на своего спутника: тот одобрительно покачивал головой. — Он очень располагает к себе, очень приятен.
Ничего больше о нем не скажешь. У Карабаевых Сергей Леонидович был подчеркнуто малоразговорчив, держался в стороне, с Федей обменялся двумя-тремя фразами — и все. Кто точно и чем занимается новый Иришин знакомый, что собственно их сдружило и каков характер этой дружбы, Федя так и не знал еще. Но Ириша говорила об этом человеке всегда похвально и с большим уважением.
Оказывается, они познакомились полгода назад в одном профессорском доме, где была вечеринка студентов и курсисток.
Вдовый профессор государственного права и его длиннокосая, общепризнанная красавица дочь («Она настоящая Артемида!» — восхищалась ею Ириша) часто устраивали у себя такие вечеринки. Дочь наизусть знала всего Александра Блока, речи Робеспьера и Марата, профессор неплохо сочинял политические басни и эпиграммы, среди присутствующих находились даровитые поклонники Скрябина и Рахманинова, приверженцы Маяковского, сторонники охаянной всеми супрематической живописи, молодые люди с задатками беллетристов, девушки, поделившие свои симпатии между героической Софьей Перовской и балериной Павловой, вожаки факультетских старостатов и просто милая, вдумчивая студенческая молодежь, попарно снимавшая двадцатирублевые комнаты у хозяек на Васильевском, на Песцах, на Выборгской, в Лесном.
По рассказам Ириши Федя живо, без усилий, представил себе и профессора, и его дочь, и друзей их — и старших и младших (в душе он позавидовал, а вслух Ирише посетовал, что живет не здесь, в столице, а в неизмеримо отсталом Киеве) — и как-то не заинтересовался настойчиво, кто же именно такой этот Сергей Леонидович, приятель профессора?.. Ну, хорошо: они встретились там, знакомство продолжается, этот самый Сергей Леонидович раза три бывал в доме Карабаевых — ну, а все-таки… какое место он занимает в числе Иришиных друзей и знакомых? Ведь Федя даже не поговорил еще по душам с Иришей, как бывало раньше, в Ольшанке. Годы, проведенные вдали друг от друга, не прошли бесследно…
И словно только сейчас, бредя по Каменноостровскому, Федя впервые внимательно задался этим вопросом, на который невзначай натолкнул его каверзно ухмылявшийся Фома Матвеевич.
— А я думал, вы ревнивы, — сказал журналист, но так мягко и весело, что Федя не обиделся.
— О нет! К кому же мне ревновать? Вернее, кого же мне ревновать, Фома Матвеевич?
— А я бы «отеллился» на вашем месте! — уже явно поддразнивал Асикритов.
— Ей-богу, мне нечего «отеллиться»! — повторил Федя словечко Асикритова.
Федя хотел уже откровенно растолковать «дяде Фоме», почему ему, Феде, не приходится ревновать, почему должен быть спокоен и уверен в себе, он хотел уже посвятить Фому Матвеевича в свои личные дела, но в этот момент на углу боковой улицы, которую они должны были перейти, остановился — принужденный к тому пробегавшим по проспекту трамваем — открытый серо-зеленый, автомобиль, в котором сидели две дамы.
— Здравствуйте, — сказал Асикритов и снял шляпу, неизвестно кого из них приветствуя.
Федя взглянул, и его студенческая фуражка стремительно сорвалась с головы, застыв в согнутой, приподнятой руке.
— Здравствуйте! — сказал и он вслед за своим спутником.
В автомобиле, откинувшись на кожаную подушку, держа в руке нераспустившуюся темно-красную, как кровь из вены, розу, сидела Людмила Петровна Галаган.
Она кивнула обоим головой, а когда после короткой заминки машина двинулась вперед и совсем уже поровнялась с Асикритовым и Федей, Людмила Петровна, высунувшись из автомобиля, быстро вдруг протянула оторопевшему Феде цветок и скороговоркой бросила ему:
— Помните… я жду вашего звонка, Калмыков!
Серо-зеленый автомобиль с флажком Красного Креста выкатился на проспект и помчался к Троицкому мосту.
Асикритов подмигнул Феде:
— Ишь ты покоритель сердец!.. А я думал, барыньки на Елагин покатят, — усмехнулся Фома Матвеевич, глядя на убегавший автомобиль.
Федя вопросительно посмотрел на него.
— Почему на Елагин?.. А там сегодня грандиозное «корсо»— большущее гулянье, мой друг. Призы за лучшую шляпу и костюм, за разукрашенные экипажи и авто. За наиболее откровенный цинизм и мародерский размах жизни! — уже выкрикивал журналист, обращая на себя внимание прохожих. — Так, почему же таким барынькам не поучаствовать в «корсо»? Почему не попорхать, когда все равно духовная бедность одолевает?! Пир во время чумы, мой друг. Слыхали рассказы Льва Павловича? Чай, и мы не можем бороться, как англичане, с роскошью, расточительностью и легкомыслием?.. Да сбавьте вы, милый, шаг — чего это вы припустили так: догнать автомобиль хотите — не иначе?
«Вот, завел пружинку, заворчал… — покосился на него Федя. — Какого черта он придирается к ней, в самом деле! — бережно держал он в памяти устремленные на него глаза Людмилы Петровны. — Так вот ты какая… горячая! — думал о ней. — Вот встреча! Обязательно позвоню. Завтра же. Непременно. Вот так штука с этой розой! Рассказать кому — не поверят. Ей-богу, не поверят! Ай да Федулка!» — не без самодовольства поощрял он себя.
— Откуда вы ее знаете? — переменил тон Асикритов.
— Мы земляки, — уклонился от точного ответа Федя. — А вы… давно знакомы?
— Я? Всю семью не один год знаю, слава те, господи. Старший брат, инженер-путеец, Михаил Петрович Величко — старинный, можно сказать, друг-приятель, чего, впрочем, не могу сказать про Леонида, младшего, — не люблю оболтуса!.. А ту, вторую барыньку: с львиным лицом, казачку шестипудовую с всенародными грудями… знаете?
— Откуда же мне ее знать, Фома Матвеевич!
— Эта королева плоти — протопоповская возлюбленная, приятельница царскосельской б… Вырубовой. Заведует хозяйством в ее Серафимовском лазарете, старшей сестрой там числится. Звать ее Надежда Ивановна Воскобойникова, вдова донского подъесаула.
— Рад познакомиться! — засмеялся Федя. — Постойте, Надежда Ивановна, говорите?
— Ну да. А что такое?
— Да просто так спросил… влюбился я в вашу казачку! — шутил Федя, пришедший в хорошее настроение с момента неожиданной встречи с серо-зеленым автомобилем: «Помните… я жду вашего звонка, Калмыков!» — повторял он в уме на разные лады эту фразу.
«Надежда Ивановна… так, так…» Он вспомнил теперь сегодняшнее посещение лазарета в Зимнем дворце и узколицего, с зелеными рачьими глазами краснокрестного чиновника: ну да, он, конечно он, называл это имя в суетливо-почтительной, полной непонятных намеков беседе с вдовой поручика Галагана. Ага, вот что!..
— Как зовут Вырубову? — удивил он внезапным вопросом журналиста.
— Вырубову? Анна Александровна, — ответил тот.
— Я так и подумал.
— Чем сия весьма недоступная для вас дама обязана вашей заинтересованности в ней, мой друг?
— О, ничем, Фома Матвеевич!.. Мое дело будет в шляпе, уверяю вас. С осени — я в Петербурге!.. В Петербургском университете.
И он вспомнил вновь краснокрестного чиновника, взволнованно, запыхавшись докладывавшего на набережной: «Обе… Надежда Ивановна и Анна Александровна просили. Обе». Ну, теперь он знал, что, пожелай только, — вдова поручика Галагана без всяких трудностей выполнит просьбу о нем Георгия Карабаева. А тут еще… настойчивое приглашение Людмилы Петровны и эта роза (что-то же да означает она?!), — нет, не должно быть никаких сомнений: «Черт возьми, такие связи у нее!..»
— Фома Матвеевич, — предложил он вдруг, — а не поужинать ли нам вместе где-нибудь?
— А я и сам о том подумал, мой друг. Недалеко и ходить! — И Асикритов, когда прошли мост, повел Федю к Летнему саду: отбрасывая свет на торцы набережной, услужливо поджидал прохожего невский поплавок.
— Тишкинский, — рассказывал Фома Матвеевич, — знаменитых рестораторов Тишкиных поплавок… Пошли.
— Ну, конечно! — ответил Федя.
Он очень любил ресторан и ресторанную музыку.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Распутин
Он был таким же, каким увидела его впервые Людмила Петровна в Серафимовском лазарете вечером, в комнате Воскобойниковой: в голубой шелковой рубашке, вышитая золотыми нитями застежка у ворота — «Н II», буква царя, — в плисовых широких штанах, в мягких, на низком каблуке сапогах с лакированными зеркальными голенищами.
Коренастый, с прямыми, четвертьаршинными плечами, темно-каштановая расчесанная борода с легкой кое-где искрой седины, небрежный, смятый пробор, разделяющий посередине легкие, тонкие и длинные волосы на вытянутой кверху голове, — Григорий Распутин, встав из-за стола, протягивая вперед руки ладонями вверх, словно готовился поднять или уже нес что-то на простертых руках, медленным, неслышным шагом пошел навстречу.
— Ну, пришла, милоя, гордая… Ну, уважила… Не сердись только, не серчай, дусенька, — заговорил он, обхватив за плечи и целуя в висок.
— Я не сержусь… не сержусь, — уходя из его объятий, сказала Людмила Петровна, бегло оглядывая комнату, куда ввел ее и спутницу встретивший у входа хозяин — незнакомый доселе инженер Межерицкий.
Воскобойникова прильнула губами к руке Распутина, он перекрестил ее и поцеловал в лоб.
— Звонила ты утрием… не знал, чем порадовать, а вот Иван скажет тебе: сударь твой через день-другой выезжат домой… сюда выезжат из шведской столицы, — и он через плечо кивнул на стоявшего сзади человека с бритым и напудренным актерским лицом, пухлым и улыбающимся. — Поговори с ней, успокой, Иван Федорович.
— Имею достоверные сведения, — сказал, подходя к Воскобойниковой, Иван Федорович, — дня через два-три можете ждать сюда Александра Дмитриевича Протопопова.
— Лады, лады, — громким, густым контральто отозвалась Воскобойникова и пошла здороваться с сидевшими в комнате. Их было немного, и Людмила Петровна мельком оглядела всех: благообразный еврей-брюнет в темном костюме; какая-то кругленькая молодая женщина в розовом, с шелковой муфтой в руках — муфту все время держала на животе, пряча свою беременность; благочестиво улыбающийся генерал: раструб седой головы, напялил все ордена, обвесился медалями во всю грудь, как министерский курьер; узкий, гнущийся, необыкновенно длинный — в полтора человеческого роста — молодой человек в желтом клетчатом жакете; пожилая смуглокожая, с остро торчащим, как долото, подбородком горбоносая дама, еще другая лет тридцати, рыжая красавица в светло-сером легком платье, в белом берете с наколкой — золотой молнией-иглой; широкогрудый морской офицер в накрахмаленном белом кителе и с черной повязкой на одном глазу и еще какой-то толстый, низенький мужчина в бутылочного цвета костюме, с всклокоченной, вьющейся пепельной бородкой и темными, но разными глазами.
— Садись, милоя, гостьей будешь, — сжимая локоть Людмилы Петровны, вел ее Распутин к столу. — Заждались тебя, лебедь мой. Садись, садись… Все мы гости тут у него… у этого енжинера. Гости мы, — а, енжинер?
— Уж такая честь моему скромному дому, Григорий Ефимович… — И голая, безусая губонинская губа подернулась косой тенью сдержанной улыбки. — И счастлив, Григорий Ефимович, доставить приятное вам и вашим друзьям. Прошу, господа, к столу, прошу.
Людмила Петровна очутилась между Распутиным и старым генералом, круглый стол позволял видеть и всех остальных, — а это так важно было для нее сегодня!
Все время помнила разговор с Мамыкиным: «Может случиться, что кому-нибудь из «наших» тоже удастся попасть туда. Но вы оба друг друга не будете знать; нельзя, нельзя без конспирации в таком деле!.. А дело…» — К капитан Мамыкин быстрым жестом (пальцем перерезал горло, пальцем другой руки рубя затылок) показывал, что за рискованное, дело такое: или — или…
«Удалось попасть или нет? — не без любопытства всматривалась Людмила Петровна в лица присутствующих. — Вот авантюра!» — другое слово и не приходило на ум.
— Ешьте да пейте, — принял Распутин из рук горбоносой пожилой поклонницы бокал кагору. — Смирись, княгиня, да всем налей. Дусеньке моей налей, лебедю моему гордому, — и он положил руку на колено Людмилы Петровны, погладил его, но тотчас же снял руку и перекрестился ею: — Господи, ты сам выбрал и нас выбрал из глубины греховной в чертог твой вечный живота.
Кругленькая беременная женщина в розовом, краснея и только на него одного глядя в упор мигающими, кроткими, как у теленка, глазами, молитвенно повторила:
— …в чертог твой вечный живота. Еще, отец, еще…
Она по-детски жалобно открыла, показывая фарфоровую, кукольную дужку мелких зубов, пухленький чувственный рот.
— Я не слыхала такой молитвы, — сказала Людмила Петровна. («Вот позлю тебя, черт бородатый!») — Это вы выдумали, Григорий Ефимович?
— Сотворю в силе своей, мне господом нашим данной, для каждого, — отозвался тихим сипловатым говорком. — Хошь и для тебя, блудной да гордой, сотворю?
Вокруг стола обежал короткий стесненный смешок. Бесстрастным остались длинный молодой человек в клетчатом жакете да благообразный черный еврей, сидевший напротив, — и опять вспомнилось Людмиле Петровне мамыкинское предупреждение: «Может быть, кто из них?»
— Хошь сотворю?
Такова была манера: повторять дважды одно и то же последнее слово.
Близко-близко от себя Людмила Петровна увидала широкий проковырявленный оспою нос, синеватые, узкие, как графитная черта, губы Распутина, запрятанные под покровом мягких усов, и маленькие выгоревшие глаза со вздрагивающим желтым узелком на одном из них — правом. Темная морщинистая кожа, словно недавно обветренная и спаленная в пути солнцем, складывалась теми длинными и узкими бороздами-лучами, какие видны на всех крестьянских, преждевременно состарившихся лицах.
— Вишь, кака ты супротивна… супротивна, лебедь мой.
И громко уже, чтобы все слышали:
— Ерзают круг тебя ерники-то, — видать мне. Гони ты их к… (Никто, кажется, не смутился.) Ерник и в корне кривулина — знашь? Кака не сведуща ты, лебедь мой: от ерника балда, от балды шишка, от шишки ком, а черт ли в нем, — а?
— Черт здесь! — рассмеялась Людмила Петровна и заметила испуганные, укоризненно смотревшие лица горбоносой княгини и беременной розовой дамы.
За светлой оболочкой выгоревших, притаившихся глубоко глаз, скошенных в ее сторону, Людмила Петровна увидела скользкую, бегающую, как ртуть, мутную искорку распутинского взгляда — такого хитрого и лукавого («Мужик, одурачивающий бар», — подумала), что стало вдруг искренно весело. Она подняла свой бокал и, толкнув плечом «старца», объявила:
— Пью за черта, господа. Знаете ведь: черт Ваньку не обманет — Ванька сам про него молитву знает! И еще какую!.. Разве не так, Григорий Ефимович?
И она быстро, по-мужски, осушила бокал, уже не глядя ни на кого. А лица вытянулись почти у всех по шестую пуговицу!
— Дурачиться в таком обществе — сомнительный поступок! — прокартавил кто-то за столом.
— Ишь ергочут! — сипло прикрикнул Распутин. — Будя, говорю, — слышь?.. Гм, про черта вспомянула… Ей в церковь ходить — вот совет дайте… вот што, в церковь, говорю я!
— Верно, верно, отец, — кротко поддакивала беременная дама, не спуская с него взгляда. — Наставьте нас, отец, на истинный путь совести.
— Тебе вредно волноваться, Катрин, — угрюмо, но заботливо сказал ее сосед в желтом клетчатом жакете, и только сейчас Людмила Петровна поняла, что это — муж.
— Совесть всем без языка говорит про свой недостаток. — Распутин ткнул пальцем Людмилу Петровну в грудь. — Всем надобно поглядеть на нее, тут никакой грех не утаим и в землю не закопаем. А всяк грех — что пушечный выстрел: все узнают… все! О, какой обман, кака беда! — скажут ей, и взглянут, и увидят.
Теперь он говорил тихо и медленно и, полузакрыв глаза, смотрел только на застывшую в одной позе беременную Катрин, откинувшуюся на спинку стула.
— На море всем видна болезнь, а на берегу неведома никому, — нешто не так с каждым? Человек потерят образ сознания и ходит — туман руками разгоняет. Царям говорю про то же… Слушают меня, и бог с ними… Боже, говорю, дай тишину душевную! Ты чиста, чиста ты теперь, Катька — матерь вскоре, но без церкви не проживешь, она до всего доспеват церква-то. А ей (ткнул опять в грудь)… ей раньше приходить надобно ко мне — она сама знает теперь… А Катьке просить бога, бога просить следоват, чтобы дал терпение, а потеря земного — подвиг велик, говорю я… В киевскую лавру поезжай, быват хорошо там. Когда опускают матерь божию и пение возносится «Под твою милость прибегаем» — знашь? — то замирает душа, и от юности вспомнишь свою суету сует… и пойдешь в пещеры и видишь простоту: нет ни злата, ни серебра, одна тишина, дышит, и почиват угодники божии в простоте без серебряных рак — только простые серебряные гробики…
Короткая пауза, все молчат, и только генерал с орденами во всю грудь, подумав, вероятно, что проповедь окончена, крякает: «Н-да-а!..» — и обращается к соседу с всклокоченной вьющейся бородкой:
— Выпьем, друже, под осетринку. Нам, православным да военным, все нипочем: был бы ерофеич с калачом!.. Вон того, друже, ерофеича… с травинкой!
— И помянешь свое излишество, которо гнетет и гнетет и ведет в скуку, — к смущению генерала, продолжал «старец». — Горе мятущимся и несть конца! И всяка блудница скажет: бес в друге, а друг — суета. И всяка блудница, замолив грех, скажет: господи, избави меня от друзей — и бес ничто!.. Царям про то говорю. Папа слушат меня, и мама слушат, и добро смуту покроет, и добро станет.
— Здоровье его императорского величества! — воспользовался случаем неудачливый генерал и, встав, опрокинул в рот своего любимого «ерофеича» и закусил корнишоном, еще заранее приготовленным для этой цели.
— Приехал енерал наниматься… да шапку ломат! — усмехнулся Распутин Людмиле Петровне. — Язык коричнев выкрасился, бо ж… лижет с превеликим усердием, а борода, вишь, не запачкана… серебряна борода!
— А почему, если «наниматься», то — к вам? Вы не военный министр и не командующий.
Он рассмеялся мелким, разливающимся всхлипом и показал пальцем на вышитую золотыми нитями застежку своего ворота с буквой царя.
— Енерал уважат меня! — подмигнул он. — Понимашь?.. Ну, откушай, лебедь, ну, угощайся. Беседа у нас с тобой еще будет, — охота мне с тобой.
И он сам принялся за еду. Нож и вилка оставались нетронутыми: он все брал руками, обеими сразу, и отирая их о скатерть. Скатертью же утирал губы.
«Пропало платье!..» — брезгливо и сокрушенно подумала Людмила Петровна, почувствовав вновь на своем боку и колене его скользящую и ощупывавшую руку, только что возившуюся с плававшей в масле сардиной.
Он клал все на одну тарелку, — рыбное, мясное, овощи, пирог.
И когда отодвинул ее от себя, горбоносая княгиня, привстав, через весь стол протянула к ней тонкие свои, матовые, со склеротичными венозными прожилками мягкие руки, схватила ими тарелку и, поставив ее перед собой, невозмутимо и сосредоточенно стала рыться в остатках распутинской еды, съедая кусочки балыка, подбирая крошки от пирога, прожевывая недоеденный огурчик.
— Всегда так… — улыбнулась одним глазом Воскобойникова, взглянув на Людмилу.
Но когда подали фрукты и сладкое, она обратилась к Распутину:
— Отец родной, из твоих рук бы яблочко!
— На, грудаста! — И он надкусил ранет, оставив на румяной кожице мокрый след своих зубов, и протянул Воскобойниковой.
— Мне и мне! — по-ребячьи стонала, просила беременная женщина.
— Не жаль, — на!
Он надкусил второе яблоко, потом третье таким же образом и протянул яблоко рыжеволосой, в светлом берете, сидевшей рядом со снисходительно все время усмехавшимся Иваном Федоровичем. Она взяла яблоко, хотя и не просила его, и положила на тарелочку.
— Брезгаешь, сука! — заметил Распутин и бросил в нее фруктовым ножиком, но не сердито, беззлобно.
— Григорий Ефимович, время идет… — перестало улыбаться, а на миг даже нахмурилось бритое, актерское лицо Ивана Федоровича: он о чем-то напоминал, очевидно.
Вокруг шеи Людмилы Петровны легла вздрагивающая рука в голубом шелку.
— Она хороша, настояща… знаю, что хороша. Ты ходи ко мне, ходи. Я тебе все докажу — понимашь? Перво — любовь! Наставлю, как и что. Знашь што… покайся — и радость опять твоя…
— В чем же мне каяться?
— Ну… мало ли в чем! — весело прищурились кругленькие глаза Ивана Федоровича. — Знаете, быват так, — копировал он «старца». — Быват так в жизни каждого: либо в стремя ногой, либо в пень головой, как мудро сказано.
«Кто он? Отчего вдруг ввязался в разговор? Что такое… о, кажется, на что-то намекает… неужели же… — И неожиданная мысль, от которой вздрогнула, пришла Людмиле Петровне. — Нет, не может быть… откуда он может знать про Мамыкина?»
— Не встревай! — прикрикнул «старец» на Ивана Федоровича. — Бес в друге, а друг — суета, говорю я… Приходи, лебедь, и царство божие сладкими скорбями наследуешь.
Он обхватил ее, крепко сжал, заглядывая своими ртутными глазами в ее зрачки, и поцеловал в губы, но легко, бесстрастно, не пошевелив их, — и Людмила Петровна удивилась столь внезапной смене ощущений.
— Говори, — он склонил голову немного набок, как священник в час исповеди, — стих церковный знашь?
— Знаю. Православная.
— От юности моея мнози… знашь? От юности моея мнози борют мя страсти, но сам мя заступи и спаси, спасе мой. Понимать?
— Ну, и что же?
— Постой, постой… ах, как торошшва-то!
Он прижался к ней, щекой к щеке, и зашептал:
— Я тебе все докажу… все. Спасу, дусенька.
— А от чего собственно спасать меня?
— Тс-с-с… он могит услышать!
— Кто? — уже невольно шепотом спросила Людмила Петровна.
— Все докажу. Хошь… выдь со мной!
— Куда?
— Туда. — И он показал глазами на полуоткрытую дверь в соседнюю комнату.
— А он пойдет? — спросила Людмила Петровна, никак не догадываясь, кто такой этот «он».
— Не посмет!
«Чего он хочет от меня?..»
Впрочем, она могла предположить его желания (он был откровенен с первой же встречи), но «…неужели же он посмеет, когда тут сидят все! — подумала Людмила Петровна; не зная, что ему ответить. — А все-таки, о ком он говорил?»
— Иди; когда покличу.
— Не сейчас, значит?
— Не, когда покличу, — повторил он и, поцеловав в лоб, отвернулся от нее и вступил в разговор с другими.
— Я давно не видела, чтобы кто-нибудь пришелся ему так по душе, как вы, Людмила, — говорила ей Воскобойникова, отозвав к дивану.
— По душе… — усмехнулась Людмила Петровна. — У них в деревне это иначе называется… ха-ха-ха!.. «По душе»!.. Мнози борют мя страсти… слыхали, как он говорил? Слыхали?
— А вы его не злите, Людмила!
— Еще не того дождется!
— Что ж… вы для того и поехали сюда?
— Нет, конечно… Просто любопытно!.. Надежда Ивановна, скажите мне, кто этот явный иудей, с неумным лицом, с бриллиантовыми кольцами на руках? Он все время молчит и усердно ест.
— Не знаете? Но ведь это Симанович! Бессменный личный секретарь Григория, правая рука по всем делам. Между прочим — большой ювелирный магазин на Владимирском.
— Вот оно что! А тот, что целует… смотрите!.. в ушко рыжеволосую, у которой вид греческой Лаисы?
— Иван Федорович? Ну, неужели и его не знаете?!
— Откуда же!?
— Иван Федорович Манасевич-Мануйлов.
— О-о!.. — воскликнула Людмила Петровна и вспомнила опять мамыкинские разговоры. — Аферист… сторукий и стоязыкий петербургский Рокамболь!
— Что вы, Людмила! — схватила ее за руку Воскобойникова. — Вы много, кажется, выпили… Он очень милый и полезный человек. И к тому же ближайшее доверенное лицо премьер-министра Штюрмера.
— А кудлатый, с грязной бородкой… у которого глаза разные?
— Вот этого не знаю. И лейтенанта не знаю. А не все ли вам равно, Людмила? Каждый пришел сюда по своему собственному, личному делу. Каждый пришел за помощью к Григорию.
— Но, кстати, почему сюда, а не на его квартиру?
— Случайная житейская причина: эти дни у Григория Ефимовича ремонт в квартире на Гороховой. Я ведь вам уже рассказывала, Людмила!.. Вы очень рассеянны, голубка, или… очень много выпили.
Пожалуй, она действительно выпила сегодня больше, чем следовало. Это была неосторожность с ее стороны, от которой предостерегал все тот же Мамыкин.
Она могла оказаться не в меру разговорчивой, болтливой и тем, — случайно, может быть, — навредить своим друзьям и себе самой, — Людмила Петровна озабоченно подумала об этом.
В тот час, когда Людмила Петровна находилась на Ковенском переулке, в квартире «инженера Межерицкого», а Федя Калмыков ужинал с журналистом на тишкинском поплавке, на водах Большой Невки неторопливо плыл, ничем не выделяясь среди других, светлоголубой моторный катер, держа путь от Аптекарской набережной к Гренадерскому мосту.
На катере находилось четверо мужчин (трое в военном, а один в цивильном платье). Они сидели вплотную друг к другу, занятые оживленным разговором.
Вернее, говорил больше всего «штатский», пыхтя от одолевавшей одышки. Это был жирный, тяжелый, трехподбородый человек ниже среднего роста, с загнутой узкой эспаньолкой, с темными подстриженными усами во всю губу; прическа — ежиком, глаза — темные, смеющиеся светлячки.
— И вот, — продолжал свою речь толстяк. — Я думая…
— Позвольте, кому поручено охранять Распутина?
— Погодите, Мамыкин!.. Вы помешали Алексею Николаевичу.
— Нет, отчего же, господа! — возразил рассказчик. — Вам следует это знать. Без этого дела не сделаете. Вы — офицеры, и вам нужно ясно представлять дислокацию, так сказать.
Он стряхнул за борт пепел ароматно дымившейся сигары, громко посапывая, сделал затяжку и продолжал:
— Наблюдение — дело охранного отделения собственно. Но они все проверяют друг друга. Начальник департамента полиции, например, не верил охранному, а дворцовая полиция не верила им обоим… Потом охранные автомобили, которые всегда, Гришку оберегают. Затем, знаете, «секретари», целый штат охранников! Секретари там у него по очереди дежурят. В последнее время к нему двадцать четыре агента было приставлено. Один из секретарей — жид Симанович, другой — Волынский был, затем бывший инспектор народных училищ, Петушков по фамилии: пренеприятный субъект с разноцветными эдакими, блудливыми глазами, с всклокоченной такой бородкой. На него дело было: приводил к себе на квартиру учениц… капли давал, а потом… и того! Эти секретари при нем постоянно. Я задался целью выяснить: кто из них «политикой» занимается, а кто другими делами.
— Мародерством!
— Так точно. Я успел обыскать их всех. У кого двадцать — тридцать дел — самых грязных дел! — было для проведения. В особенности у этого инспектора народных училищ и у Симановича. Запечатанные конверты с письмами Распутина такого содержания: «Милой, дорогой, сделай…» А по какому делу — не сказано. Эти письма могли ходить без его ведома.
— Это очень на руку, я это знал! — сказал Мамыкин и подтолкнул локтем своего соседа-офицера.
— Да-a, письма без адреса, — секретари ими промышляли. Для самого грязного свойства! Например, история помилования ста дантистов, которая дала секретарю около ста тысяч, а Гришка жаловался, что получил только шубу енотовую да шапку. Врет, каналья! Когда я начал обыски, то получил вдруг приказание прекратить их.
— Приказание?.. Вам? Министру внутренних дел?
— Да, мне.
— От кого же?
— Привез мне Губонин такой… восходящая звезда в охранном. Привез от Вырубовой письмо, что, мол, императрица повелевает мне не делать ничего такого, что могло бы понапрасну растревожить «святого старца». А через день заехал ко мне сам Штюрмер с тем же и потребовал это письмо обратно.
— И вы отдали?
— Отдал.
— У вас не сохранилась копия его, Алексей Николаевич? Ах, жаль, что отдали!
— Поверьте это было не так просто! Когда я это письмо получил, то по привычке (если неприятное письмо, то я его всегда рву) — прочел, разорвал и бросил в корзину. А когда с меня стали его требовать, я говорю, что у меня его нет. Но, к счастью, оно в корзине нашлось, так что его пришлось подклеивать… Они думали, что я смогу шантажировать, и требовали вернуть письмо. Страшный труд — подклеивать, господа! Но иначе могли не поверить. Говорит мне Штюрмер: «Вы спрятали его. Покажите! Такой важный документ, боже мой…» Пришлось отдать. Зато у меня другой документик припрятан. Не здесь — в деревне у себя храню на всякий случай. Я об этом вам рассказываю, господа, как дворянин дворянам, не правда ли? Вы должны иметь представление обо всем.
— Да, да, мы должны иметь представление обо всем, — в один голос отозвались трое военных.
— У меня есть копия нотариальных бумаг: сделка, господа, с продажей земли в пограничной полосе немецкому заводу Штрауха. Ай-ай-ай… кто же продал! А продал всего лишь год назад не кто иной, как сам Борис Владимирович Штюрмер — премьер, глава правительства!.. И при помощи своего наперсника Манасевича-Мануйлова! Имелись сведения, что царица знала это и благословила.
— Всех на виселицу, все подкуплены немцами! — глухо сказал один из офицеров и крепко-крепко выругался при общем сочувствии.
— Ох, немцы! — подхватил словоохотливый толстяк. — То ли еще, господа, творится?! Распутин…
— …Он очень удобная педаль для немецкого шпионажа. Хотя я его не улавливал в этом деле, но логически мне казалось всегда, что он шпион… Не сознательный, возможно, но, безусловно, подходящий «инструмент» для немецкой разведки. Через него очень легко узнавать, что делается в Царском… Вот вам факт… извольте, господа. Гришка ездил в Царское, а Рубинштейн Митька дал ему поручение: узнать, будет ли наступление, или нет… Причем Рубинштейн объяснял близким, что это ему нужно для того: покупать ли в Минской губернии леса, или нет… Потому что, если будет наступление, значит, можно покупать: а если не будет — деньги в другую сторону можно повернуть. Понимаете?.. Гришка очень хорошо выполнил шпионское поручение и получил от приятеля неплохой куш. Он же сам рассказывал… «Приезжаю, говорит, в Царское, вхожу: папашка сидит грустный. Я его глажу по головё и говорю: «Чего так?» А он отвечает: «Все мерзавцы кругом! Сапог нет, ружей нет — наступать надо, а наступать нельзя»… И государь привел факт: рассказывали ему, будто бы часть войск — полк — приводили представляться, а полк проходил в новых сапогах. Затем проходил другой полк — тоже в новых сапогах. Оказывается, они за пригорком переобувались! Пара сапог на двоих солдат! Царь просил проверить это. Оказывается, все верно. Вырубова — та все знает и тоже говорит: «Ах, верно…» Ну, так вот, государь говорит: «Наступать нельзя». — «А когда будешь?» — спрашивает Гришка. «Ружья будут только, через два месяца: раньше не могут. Ружья французы обещали, а пока не дадут — не могу».
— Кроме того, что вы нам рассказывали, Алексей Николаевич, вы не вспомните еще каких-либо фактов?
— Еще?.. П-пф-фу… мало ли что можно еще вспомнить, господа! Ведь в моем распоряжении… хм, в моем распоряжении были такие штучки… хм, было!
Он бросил на воду недокуренную сигару и торопливо, словно кто-нибудь мог помешать ему сейчас, продолжал:
— Всей России известно, как я боролся, когда имел власть, с немецким засильем. И я нажил врагов… я, правый человек, русский роялист… эх, господа! Против меня все эти челядинцы: Распутин, Штюрмер и другие… А с чего это началось? Когда я был еще в Думе, то обратил внимание на историю воссоздания русского флота… Мое внимание обратила на себя ревизия сенатора Нейдгардта… После моей речи о синдикатах я имел случай получить от одного лица всеподданнейшую докладную записку Нейдгардта — сводку о данных его ревизии. В этой записке он указывал на существование синдиката судостроительных операций, который образовало «Общество русских судостроительных заводов» вместе с разными немецкими фирмами: например, Виккерс и другие… Смысл этого синдиката, господа, был тот, чтобы отдельные фирмы не могли брать дешевле тех цен, которые, назначит это судостроительное общество, причем в синдикате было сказано совершенно откровенно: прибыль — ровно рубль на рубль! Каково?.. При таких условиях, рубль на рубль, можно построить не сто кораблей, например, а только пятьдесят. Кому это на руку — вы понимаете. Тут дело пахло военным судом, если быть честным и не смотреть на эту компанию покровительственно. Финансиро вал их «Международный банк». Тот самый, который, говорят, обещает сейчас Протопопову деньги на газету… заметьте это, господа! Патенты на оборону, патенты на миноносцы — все банку было известно в лице определенных лиц. А такими лицами оказались немецкий банкир Ландсгаузен (главный пайщик!) и австрийский подданный Заруба — удравший шпион, который частенько бывал у Распутина… Э, не все, не все еще, господа! — воскликнул толстяк, заметив, какое сильное впечатление, производит его рассказ. — П-ф-ф… а что еще было! Меня, например, интересовали электрические предприятия. Я был министром внутренних дел, — ну как же мне не интересоваться было всеми этими махинациями?! И вот мне агентура давала справки: когда заказывали фирме «Сименс и Гальске» и они в срок не исполняли, то неустойка с них не взыскивалась, а перекладывалась на дальнейшее. Когда, же русские фирмы пробовали выполнять такие же заказы и запаздывали, с них взыскивали, строго взыскивали, а заказы отбирали. Я пробовал вмешаться. Тогда один человек из кружка Бадмаева и Распутина пришел ко мне и говорит: «Вы, Алексей Николаевич, не в свое дело вмешиваетесь. Вы вылетите вон, потому что пошли дурным путем». Я только рассмеялся, а недели через три показывают мне одну немецкую газету, а там пишут про меня, что скоро я ухожу в отставку, что при дворе мной недовольны и всякое такое… И, правда, вышло так, как вам уже известно! П-п-ф-ф… я так разволновался, господа… Я до сих пор страдаю от этой несправедливости… Вы знаете… у меня ведь такое больное сердце… Вы сами, вероятно, догадываетесь…
Он замолчал, свесил голову, и тогда жирный, трехскладчатый подбородок его и свисающие, как опара, свиные щеки переползли через накрахмаленный стоячий воротничок, целиком почти закрыв его, и лицо, на котором уже не видно было сейчас опущенных долу всегда посмеивающихся, поблескивающих глаз, смертвилось, потухло.
— Вы не волнуйтесь, — сказал молчавший все время офицер в пенсне с модными квадратными стеклышками, с крылатыми рыжими бровями и нафабренными торчащими усами в «унтер-офицерскую» стрелочку. — Возмездие, Алексей Николаевич, скоро придет. Смыть позор с царского дома, вот что надо!
Он переглянулся со своими друзьями, и капитан Мамыкин вслед за ним повторил:
— О, возмездие придет… Собака получит собачью смерть. Не сегодня, так завтра, но это случится, — поверьте князю, Алексей Николаевич!..
Бывший министр поднял голову.
— Что вы хотите сделать, господа?
— То, что не удалось вам, ваше превосходительство, — вежливо, но чуть-чуть насмешливо ответил офицер в пенсне.
— Это не так мало! — усмехнулся толстяк. — Я все понимаю… Помоги вам бог, господа. Русские люди скажут вам от души «спасибо».
Бывшего министра Хвостова высадили у причала Петровской набережной.
Он сошел на берег в сопровождении одного из офицеров, торопливо, необычайно легко сбегал по трапу, семеня коротышками-ногами, — тяжелый, весь налитой жиром, бочкообразный, с апоплексически раздутой шеей.
— Ванька-встанька! — сказал о нем князь, хозяин катера. — А под Гришку все-таки лег. Тоже, знаете, скажу я вам, типус! Нанималась лиса на птичий двор… беречь от коршуна!.. Ну, вас куда теперь, капитан?
— Наискосок! — указал рукой капитан Мамыкин на ярко освещенный вдали, тихо покачивающийся поплавок.
Катер, перерезав Неву, взял курс к Летнему саду.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ На тишкинском поплавке
Музыка играла почти беспрерывно. Мягко ступая, с подносами в руках, с раскачивающейся походкой канатоходцев, налетая друг на друга, но не сталкиваясь и не задевая никого из гостей, шмыгали между столиками татары-официанты в белых передниках. Теплой, густой струей шел запах кухни. Хлопали ловко выдернутые из бутылочных горлышек пробки, звенело стекло бокалов и рюмок, стучали ножи и вилки, — поплавок жил полной своей ночной жизнью.
— Еще мороженого хотите, Федя?
— Хочу.
Кивок официанту, и через минуту две вазочки — со взбитыми сливками и шоколадным мороженым — были на столе.
— Не будем торопиться, — сказал Асикритов. — Ночевать вы будете у меня.
— Вы думаете, дороги не найду домой? Чепуха! Я совсем не пьян.
— Я и не говорю, что вы очень пьяны.
— А, не очень?
— Не придирайтесь, мой друг! Пойдем ко мне, на Ковенский. Квартира пуста, мои хозяева все на даче, — сможете расположиться, как захочется. От меня позвоните своему дядюшке, чтоб не волновался…
— Уговорили… — И Федя с благодарностью посмотрел на Фому Матвеевича.
Он чувствовал довольно сильное опьянение, но сознаться в том не желал: в конце концов не так уж много выпили они сегодня, чтобы иметь «право на слабость», иронически усмехался журналист, и Федя, перемогая себя, старался не выдать своего состояния.
Как всегда, когда пьянел (а это иногда случалось во время студенческих пирушек), охватывала дрожь и некоторый озноб в коленках; так и тянуло схватить их и сжать цепкими руками; непременно холодными почему-то становились уши, и жесткая сухость ощущалась во рту: она поражала язык, он становился тяжелым, шершавым, трудно было говорить, и все время хотелось пить, пить или глотать что-либо холодное.
Мороженое сейчас совсем кстати, и Федя медленно, расчетливо — маленькими порциями — глотает его, запивая водой.
Ему кажется, что он постепенно трезвеет, да это и в самом деле так. Что ж, можно еще посидеть, понаблюдать публику, не правда ли, Фома Матвеевич? Журналист охотно соглашается; это входит даже в его планы. Он подзывает официанта:
— Один раз лампопо!
Федю смешит это непонятное, впервые услышанное слово, напоминающее почему-то цирковое восклицание эквилибриста или фокусника. А Фома Матвеевич, оказывается, большой поклонник этого напитка из холодного пива и меда с лимоном и ржаными сушками. Он пьет его и сам к себе обращается шутливо:
— Рцы ми, о, лампописте, коея ради вины к душепагубному умопомрачающему напою — алемански же речется лампопо — пристал еси?.. Хорош дьякон… а? — смеется он.
Между прочим, и здесь Фома Матвеевич не теряет зря времени: он давно уже вынул из портфеля и выложил на столик ворох сегодняшних газет и записную книжку, бегло просматривает статьи своих единомышленников, политических противников, делает какие-то заметки и одновременно поддерживает разговор со своим собеседником.
Растрепанная левая бровь спускает вниз, на желтоватое веко, один длинный свой, непокорно, торчащий волосок. Фома Матвеевич то вытягивает его еще больше, то закручивает его пальцами вверх.
— Вы мне завидовали, — говорит Фома Матвеевич, глотает из кружки свой желтый напиток и крякает, причмокивая. — Это верно: я знаю много и многое. Знаю больше вашего, мой друг. Но постойте, постойте… это ведь чепуха, которая и вам, молодому человеку, вполне доступна. По-одумаешь! Я знаю имена египетских фараонов, начиная с Хеопса, я знаю властелинов средней истории и не ошибусь годами «до» и «после», рождества Христова… во время их больших и малых грабежей! Я знаю легенды о жизни Гватамы Будды, имею представление о пророчествах францисканского монаха из Оксфорда — Рожера Бэкона, или, например, знаю хорошо историю наполеоновских войн. Ну, и что же?.. Все это верно… Я, как и вы, умею извлекать квадратные и кубические корни, помню еще интегральное исчисление и — наизусть — державинскую оду «Бог» и «Мцыри» Лермонтова… Я знаю много и многое, Федор Мироныч. («Отчего это он вдруг по имени-отчеству?» — удивился Калмыков.) Но вот тех знаний, которые помогли бы мне в поисках ответа на один, главный, всегда стоявший передо мной вопрос: «Зачем все это и для кого?» — этих знаний мне никто не дал, — вот что! Вы понимаете меня, Федор Мироныч?
Теперь Феде нетрудно, конечно, уразуметь, к чему клонит старик.
Старик? На миг Федя и сам удивился тому, что так подумал об Асикритове. Какой же он, в самом деле, старик?.. Лет ему сорок или чуть-чуть больше, походка быстрая, сам он юркий, очень подвижной, Ириша рассказывала, что «дядя Фом» любит, при случае поволочиться за женщинами, — так можно ли его причислить к старикам?! А вот слушаешь сейчас Фому Матвеевича, глядишь на него — иного не скажешь.
— …Нет у меня, друг мой, знаний, нет уверенности, чтобы ответить на вопрос: «Камо грядеши, почтенный Фома Матвеевич?» Чай, не так? Я не один такой на Руси. Ждешь чего-то, все время ждешь, а чего — и сам точно не знаешь и не понимаешь. Жили-были, да с дороги своротили — так про нашего брата сказать можно. Вы первый, может быть, и скажете.
— А почему я? — спросил Федя.
— Молодость, путь только начался, хватка у вашего брата должна быть иная — вот что!
— Хм… «у нашего брата», — встрепенулся теперь Федя. — А знаете ли вы большинство нашего брата? «Молодость… Путь только начался» — эти простые и знакомые слова, испокон века передаваемые, как истинное ободрение, детям их отцами… напутственные слова эти не всегда предрекают успех, — знает ли о том Фома Матвеевич? Ведь часто отец оказывается моложе сына, — разве не бывает так, Фома Матвеевич?
Возражения свои Федя делал сначала нехотя как будто, спокойно и вяло, ожидая, что вот Фома Матвеевич перебьет его, закусит удила, подстегнутый этими возражениями, но этого не случилось, журналист — словно того только и ждал, — быстро принял вид вежливого и внимательного слушателя.
— Посмотрите, пожалуйста, на афиши: ваших: самых модных петроградских театров! А они переполнены до отказу. В летнем — «Буффе», на Фонтанке — похабнейшая оперетка «Их невинность». В Троицком «Наша содержанка»: фарс из «современной жизни евреев-финансистов», — можно догадаться, какова ценность этих произведений «искусства», — а? В театре «Лин» подвизается шарлатанка; «ясновидящая Люция», предсказательница будущего… Вот духовная пища, которую преподносят и старым и молодым. А что страшно? Ведь многие молодые жрут ее и ни о чем другом уже не мечтают, — вот ведь в чем дело!
Всякие «вечерки», захлебываясь, расписывают, что творят «звери-немцы», и температура вашего «патриотизма» дает скачок вверх: а молодой «возмущенный» земгусар, сидя в тылу, гневно пристукивает сапогом, любуясь своей шпорой. Он думает заплатить свой долг родине фальшивой монетой звонких фраз, — молодой подлец с недавно полученным аттестатом зрелости, трусливое, благодушествующее существо.
А разве история русских культурных людей не есть настоящая роковая борьба за русское счастье, постоянная жертва, вековая боль за народное страдание? Затерянные в бесконечной русской равнине, среди жизни грубой и грязной, вступили русские интеллигенты в борьбу за великую, счастливую Россию. Бессонные ночи в думах и спорах о родине, безрадостные жизни в служении ей даже на каторге, — разве можно, Фома Матвеевич, без глубокого волнения и гордости вспомнить эти славные страницы русского прошлого?.. Какие недосягаемые образцы нравственного совершенства дали нам наши идейные, предки! Что, разве не так?
Помнит ли Фома Матвеевич трогательную историю пушкинского «бедного рыцаря», всю жизнь отдавшего божественной идее? Этот рыцарь невольно вспоминается, когда читаешь историю русской интеллигенции: «Все безмолвный, все печальный, как безумец умер он…»
Да, было безумие в самопожертвовании декабристов, в аскетизме ходоков в народ, в подвижничестве земских врачей и учителей, но это было святое безумие, это безумие было благороднейшей и высшей ценностью русской культуры, которую оставили нам в наследство наши отцы и деды. А мы, молодые земгусары и им подобные, а их немало, Фома Матвеевич, безжалостно, с тупым и грубым вандализмом растрачиваем это наследство до последней идейной копеечки, подменив трагический образ «бедного рыцаря» образиной жирного лавочника, с молодости мечтающего о теплом и доходном месте.
Эх, эх, Фома Матвеевич!.. «Песнь торжествующей любви» сменили, на песнь торжествующей свиньи, — посмотрите на кой-кого из сидящих здесь, на вашем прославленном тишкинском поплавке, и вы убедитесь в том.
А России нужны граждане, нужны подвижники, потому что слишком будет тяжела и велика после окончания войны работа для обыкновенного «профессионала»… Наполовину вспаханное историей поле останется невозделанным, неосуществленной — мечта о великой и свободной России.
О, мы не Гамлеты, Фома Матвеевич! Тени замученных отцов не тревожат нас так, как тревожили они благородного датского принца…
Но у той части молодого поколения, к которой причисляет себя Федя, не иссяк еще благородный идеализм. Да, да, Фома Матвеевич… Если эта война не принесет освобождения стране, если понадобятся жертвы и впредь, если придется для служения народу запереться в глуши, уйти от личного благополучия, то нужно принести и эту жертву. Надо доказать, дорогой Фома Матвеевич, что молодежь не забыла заветов революционной и демократической интеллигенции, не стала Иваном, не помнящим родства, — вот оно что!
Маленькие наследники великого наследства — пусть не о нас будут сказаны эти обидные слова!
— Еще раз лампопо! — крикнул Асикритов официанту.
— Еще? Кому же это? — спросил Федя.
— Мне и вам. Освежиться!.. Вам необходимо освежиться, ей-богу! — насмешливо сощурился маленький чёрный зрачок и отбежал вбок, смерив неторопливым взглядом сидевших за соседним столиком.
Вероятно, не в пример Феде, увлеченному своей речью, журналист уже и раньше обратил внимание на этих соседей.
Ничего особо примечательного в них не было, разговаривали они тихо и мало и больше, как показалось Асикритову, прислушивались к его беседе со студентом.
Их было двое: сухопарый, сероглазой с седыми бровями, наголо выбритый мужчина в сером клетчатом костюме, в таком же сером летнем галстуке, с гладким кольцом на мизинце с длинным розовым ногтем, и средних лет женщина с чуть-чуть раскосыми усталыми глазами, в соломенной, с нависающими полями, шляпе и синем строгом костюме — «тайер».
На столике, покрытом белой, оттопыривавшейся на сгибах и углах, накрахмаленной скатертью, на мельхиоровых блюдах и в судках — салат, соусы, вкусно пахнущий гарнир, от которого шел пар, отбивные свиные и бутылка вина. Седобровый и ого спутница ели не спеша, — и, пожалуй, ошибся Фома Матвеевич, заподозрив их в чем-то…
Правда, откушав, асикритовский сосед глубоко откинулся на выгнутую спинку стула и теперь сидел очень близко, плечо у плеча, к Фоме Матвеевичу, так, что легко, без напряжения, мог слушать их разговор со студентом. Но, — кто знает, — может быть, он и не преследовал этой цели: наблюдать и подслушивать, а просто так удобней было ему сидеть сейчас и смотреть поверх Фединой головы на вход сюда, на веранду? Действительно, сосед Фомы Матвеевича частенько поглядывал на серую полотняную портьеру, висевшую у входа на веранду, словно он поджидал кого-то.
Прихлебывая короткими глотками из бокала, седобровый время от времени обращался к своей даме с односложными фразами, на которые та отвечала так же кратко.
— Просрочка на целый час, Вера Михайловна, — сказал он, посмотрев на часы.
— «Швед» — человек аккуратный, что могло случиться? — Она посмотрела на своего собеседника растерянно, и в ее слегка певучем голосе послышалась досада. — Может быть, подождем еще?
— Но только недолго.
Он попросил официанта приготовить счет.
— Вы хоть немножко, да выпейте, Вера Михайловна! — тише обычного, скороговоркой бросил он ей через столик, и его седые и плотные, как белый гарус, брови укоризненно сдвинулись к переносице.
— Нет привычки! — улыбнулась она, протягивая руку к бокалу с золотистым напитком.
— …Пейте… Ну, допивайте же остаточек, мой бедный рыцарь! — разглагольствовал между тем по соседству маленький, длиннорукий человек. — Вот так, хорошо! Ваше здоровье, господин российский Дон Кихот!.. Чепуха, Федор Мироныч! Чепуха! — вдруг выкрикнул он, и, если бы не общий шум, звяканье посуды и надрывающийся квартет музыкантов, выкрик журналиста Асикритова услышали бы во всех уголках веранды.
Но асикритовское восклицание услышали только Федя да сидевший близко сухощавый человек в сером клетчатом костюме, допивавший в раздумье вино: вот теперь, правда, он стал прислушиваться к тому, что говорилось за соседним столиком.
— А в чем чепуха? — озадаченно спросил Федя.
Хотелось поскорей уйти отсюда: ему было не по себе, мучила отрыжка, неприятно сосало под ложечкой. «Что за дурак вифлеемский: после сладкого — пить эту дрянь!» — упрекал он себя и злился на Фому Матвеевича, которого считал теперь виновником своего недомогания.
— В чем чепуха? — переспросил тот. — А в том, что вы тут накрутили, простите меня, дорогой мой! Ну-ну… только не сердитесь, не обижайтесь на меня. Мы ведь с вами друзья — правда?
Фома Матвеевич налег всей грудью на столик, положив глубоко на него согнутые в локтях руки со сцепленными пальцами, и уставился на Федю.
— Так, говорите, маленькие наследники великого наследства, а? Хи-хи-хи, — скрипуче захныкал, не сумев засмеяться, Асикритов. — Искусство не нравится, а?.. Песнь торжествующей свиньи?.. Происходит, дорогой друг, происходит… Знаменитый солист его величества Эн Эн (он так и произнес) Фигнер заведует, складом имени Алисы, торгует солью из своего имения, купил угольное дело и взял подряд на два миллиона рублей для московской фабрики, которую завел с братом. Околоточные кварташки дома покупают. И где же? В нищенских Миргородах, Нахичеванях, Дмитровах, Феденька, — простите, что я так фамильярно с вами. А заметили? Мальчики уже не бегут на фронт добровольцами, — цы-цы-цы, вот оно что! Вся порция романтики съедена у современных Петек Ростовых. В деревнях солдатки по мужу воют. В феврале, дорогой мой, под снегом, в заносы, шестьдесят тысяч вагонов с топливом, фуражом и продовольствием зарылись, — цы-цы-цы, вот оно что! А пушечки-мамочки такие французские привезли да в Царском поставили, а до фронта и не доехали… Водку запретили, так Россия самодельной ханжой вся повально упивается… ходит пьяный добрый молодец разгульно с шапкой набекрень. И похож сам на бутылку, знаете, с покосившейся, едва заткнутой в горлышко пробкой. Не так?.. Кафе, биржи… ох-ох! На болоте кроншнепы или куледи — спекулянты крупненькие… И поменьше, галантерея, мыло, керосин, дамские туфельки — пичужки-гаршнепы на болоте… А раненых, все больше в пальцы рук, — заметьте! Сами себя солдатики или по дружбе Иван — Петра и Петр — Ивана… Посмотрите на музыкантов, Федя. Они все слепые, — вы заметили? Не-ет?
Как же, как же… Немецкие газы на фронте им выжгли глаза, а находчивый Тишкин купил их, безглазых!..
Свесив голову к столу, он не говорил, а словно что-то изрекал, не заботясь о том, все ли понятно его слушателю.
Казалось; он думал вслух сам для себя, и потому мысли его не нуждались ни в логической связи, ни в особом пояснении. Как будто произвольно вспоминал он и выкладывал наизусть где-то записанное им раньше без всякой последовательности.
— …Лестницу метут сверху, а?.. Слыхали, как наш почтенный старший «рыцарь бедный»… как Лев Павлович-то вдруг разразился? Вспылил, называется!.. Ох, Лев Павлович, несть вам числа во старости и во младости! Мести, сметать даже собирается, а все же…
«Дарданеллы, Sancta Rosa!» — Восклицал он, дик и рьян, И, как гром, его угроза Поражала мусульман.Так ведь, а?.. Почти по Пушкину!
Полон чистою любовью, Верен сладостной мечте — Лишь К. Д. своею кровью Начертал он на щите!Что? И вы туда же; не дай бог? Ну, ну, не сердитесь: я не хотел вас обидеть, — с неподдельной, подкупающей искренностью сказал Фома Матвеевич. — На слом все, милый человек, на слом!. Когда-то должно же взойти сотни раз воспетое поэтами солнце всечеловеческого счастья?! Ведь должно, а? Но теперь — через кровь… в крови оно родится, и оттого страшно, «страшно поневоле» людям с тихими душами. А знаете, Федя, я и сам не бог весть с какими крепкими, железными нервами, но… вот говорю вам: без большой реки крови не обойдется. Помните, поэт сказал?.. дайте припомнить… вот, вот: «Неужели, — сказал поэт, — надо восстать против прекрасного солнечного света только потому, что летучие мыши его не выносят?» Мудро сказано, а? «Пусть лучше тысячи из них ослепнут, чем ради них дать померкнуть солнцу». Оно еще не взошло, но… взойдет же, черт побери! Обязательно взойдет, и вы увидите, как шарахнутся в сторону в смертельном страхе все эти летучие мыши! Подумайте об этом, Федя, подумайте… Эй, официант, счет сюда… быстро!
Слепые тишкинские музыканты играли «ойру».
Одноглазый полузрячий пианист с вытянутой лошадиной челюстью и уродливым, крючком придавленным книзу, багровым носом высоко подбрасывал костлявые руки, иссиня-черные от густо проросших на них волос, быстро-быстро шевелил: летающими пальцами в воздухе, прежде чем бросить их вновь на пожелтевшие клавиши.
Он ежесекундно оборачивался, лихо тряс своими длинными смолянистыми кудрями, подмигивал уцелевшим шустреньким глазом, выкрикивал «ойра-ойра», и, словно подгоняемые им, люди за столиками подхватывали несложный икотный припев, не менее лихо поводя при этом плечами, пританцовывая и подмигивая друг другу.
Какой-то грузный широколицый мужчина в вельветовой толстовке, похожий с виду на откормленного, флегматичного кота из мучного лабаза, держа салфетку за кончик в одной руке и куриную ножку — в другой, бурно, но с угрюмым, все более и более свирепеющим лицом отплясывал у своего столика под «ойру» замысловатый, ни на что не похожий танец, выкидывал такое антраша, что все невольно гоготали.
Под этот шум Федя и журналист покинули поплавок.
Почти тогда же ушел и их сосед со своей дамой. Расплатившись с официантом, он вынул из бокового кармана маленькую записную книжку в мягком кожаном переплете, минуту подумав, что-то написал в ней и, вырвав этот листок, протянул его своей спутнице:
— Меня удивляет и беспокоит отсутствие Ваулина. Завтра обязательно дайте объявление в вечерних газетах, Вера Михайловна.
Она мельком взглянула на записку:
Купец 1-й гильдии Савва Абрамович Петрушин и его супруга Евдокия Николаевна разыскивают сына Сереженьку, ушедшего из-за домашней ссоры от родителей.
Просьба к православным помочь за большое вознаграждение в розысках.
Телеф. 1-77-87 или до востребования почтамт С. А. П. № 4712.
Официант низко пригнулся, провожая почтительным взглядом седобрового барина.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ В квартире на Мовенском
Дежуря в хозяйском кабинете, верный, губонинский Лепорелло — Пантелеймон Кандуша — внимательно прислушивался и приглядывался к тому, что происходило в соседней комнате. Дверь туда была приоткрыта, кабинет слабо освещен одной лишь настольной лампой под, зеленым колпаком, стоявшей в глубине комнаты, и Кандуша, никому, не бросаясь в глаза, никем не стесняемый, выполнял свою наблюдательскую и охранную службу.
Ею был занят не он один: в прихожей и на кухне расположились два агента охраны, да еще во дворе и на улице, — уж доподлинно это знает Кандуша, — торчат в различном одеянии скороходы-филеры. Может, это Ивана Федоровича люди, может — департаментские, то есть одного с ним, Кандушей, ведомства, а возможно даже — дворцового: царскосельские молодцы из тайной императорской охраны оберегали от неприятностей Григория Распутина так же, как членов августейшей семьи.
За последний год, выполняя поручения Губонина и неся тем самым свою департаментскую службу, Пантелеймон Кандуша неоднократно сопутствовал знаменитому «старцу»: «Вилла Родэ», где в закрытом кабинете, окруженный цыганским хором, отплясывал зело пьяный Григорий Ефимович; секретная департаментская квартира на Итальянской, второй дом от Фонтанки, где устраивались свидания с министром внутренних дел; в Александро-Невской лавре, в покоях митрополита Питирима или в квартире самого «старца» Григория на Гороховой, — всюду, где только доводилось, Пантелеймон Кандуша — верный губонинский глаз — зорко, неустанно следил за Распутиным.
Чего только не узнал он в долгие часы своих дежурств!
Поглощенный своими новыми служебными обязанностями, ведя «столичный» образ жизни, Пантелеймон Кандуша почти совсем порвал связи с семьей, с далеким уездным Смирихинском, с примостившейся за окраиной города маленькой Ольшанкой. За все время он написал туда раза два, не больше, заключив свою переписку с отцом, Никифором, обидными для того, насмешливыми словами: «Жизнь наша сурьезная здесь, мяздрой, папаша, не воняет, а вполне государственная и, можно сказать, санкт-петроградская. О том знайте вы с мамашей, но языком не болтайте. Вам проселком ходить, а сыну вашему асфальтовой панелью. Значит: наша Марина вашей Катерине двоюродная Гарпина, — не больше!»
«Запасным тузом», о котором никогда не забывал, был Иван Теплухин.
Ну, погодите же, гордый Иван Митрофанович: презрительно называемый вами Пантелейка еще наложит на вас свою руку… Он держит в ней невидимые другим концы человеческих жизней и страстей, чтобы — придет же время! — сомкнуть их и узреть их порочную, ослепительную вспышку. Горе тогда вам, самонадеянный Иван Митрофанович!
А помните ли вы, голуба Иван Митрофанович, утерянное вами письмо от некоей, хорошо знакомой вам особы? А где то письмо, пипль-попль?!
И нужно было взглянуть на вспыхнувшее лицо Кандуши, когда увидел сегодня здесь появившуюся Людмилу Петровну, когда услышал ее голос!
Гос-с-споди, боже мой, за кем же смотреть теперь? — глаза разбегаются!.. Ну, пусть простит на сей раз любезный друг, Вячеслав Сигизмундович: каждому зерну — своя борозда, всякий Демид — себе норовит, — решил про себя Пантелеймон Кандуша и старался теперь не пропустить ничего, что касалось бы Людмилы Петровны.
Он видел, как много вначале пила сегодня, как неуверенной, сбивающейся походкой проходила по комнате, задевая угол стола бедром, отодвигая с шумом стоящий на пути стул, протягивая руки вперед, словно желала за что-то ухватиться. Ай-ай, она быстро, очень уж быстро опьянела, а тут еще этот толстенький, разноглазый господин Петушков подливает да подливает ей и грудастой Воскобойниковой, карась пузатый! Хэ-хэ-хэ, куда же это годится, миленькая Людмила Петровна? Вы, того-этого, как простая солдатская бабенка на погулянках хлещете, — разве можно так? — огорчается за нее Кандуша.
Ну, вот — правильно: сядьте, посидите, содовой водички выпейте… лимончика, лимончика бы еще, — должно помочь в таких случаях… Ивана Федоровича артисточка, госпожа Лерма рыжая, знать, больше привычна к питью: дернула тоже не меньше вашего, а, обратите внимание, в полной форме барынька, только шляпку с головы долой, напевает тихохонько — и ничего чтоб лишнего!
Эх, хороша конкубина у Ивана Федоровича! Если бы не такую силу человек в министерстве взял, надо полагать, сам бы друг, Вячеслав Сигизмундович, начал бы обхаживать рыжую. Но против Ивана Федоровича и выгоды нет и не без опасности, пипль-попль… Сунулся тайком, снюхавшись, к артисточке берейтор один, Петц, — показал ему Иван Федорович… хэ-хэ-хэ… что бывает за такое обучение верховой езде: скинул господина берейтора со своего собственного «седла» и в порядке «охраны» упек «наездника» на арестантскую квартиру — по обвинению… в шпионаже! Шутка ли, — Иван Федорович! Сам Григорий Ефимович, — на что уж до прекрасного пола падок, — остерегается трогать артисточку.
Вот восклицает Григорий Ефимович оракулом:
— …И вокруг престола, говорю я ему, четыре животных, исполненных очей огненных спереди и сзади, и папашка крестится и просит: просвети меня, говорит, Григорий, и вразуми.
Смеется — сипленьким и мелким, как рассыпавшийся горошек, смехом; и, прищурив запавшие глаза, обводит всех ими, и мало что понятно из путаных, апокалипсических речей Григория Ефимовича.
«Великий комедиант» — так однажды, в минуту откровенности, отозвался о тобольском, мужике умница-наставник Губонин: человек Григорий Ефимович — упрямый, неискренний, скрытный человек, который не забывает обид и мстит жестоко и к тому же большой силы магнетизер, но об этом, Кандуша, тс-с-с!.. Уж будьте спокойны, Вячеслав Сигизмундович: любую такую эпитимию Кандуша-наперсник, конфидент ваш верный, выдержит до конца. А кто есть на самом деле «святой черт», Григорий Ефимович, и что вышел он, можно сказать, из конопель по солнышку, — про то будем с вами вместе знать, дорогой Вячеслав Сигизмундович… Только не требуйте вы сегодня от Кандуши ревностного служения, не требуйте, чтобы глаза проглядел, уши вытянул: что кому и как сказано было Григорием Ефимовичем… Вы уже сами сегодня, любезный друг Вячеслав Сигизмундович, а Кандуша своим, особым делом займется: знаете, Вячеслав Сигизмундович, — всякая сосна своему бору шумит!
…Обхаживает, обхаживает разноглазый Петушков госпожу Воскобойникову: то один ей бокал, то другой, рядом садится, коленкой прижимается.
На столике перед диваном — фрукты, пастила, цукаты, напитки, рюмочки и бокалы. Вот украдкой берет Петушков один из них — пустой, с позолоченным ободком, отходит в сторону и, — успел только Кандуша отскочить за дверь и завернуться в портьеру, — вбегает в губонинский кабинет. Зачем ему сюда?..
Кандуша, не шевелясь, подглядывает: Петушков вынимает из жилетного кармашка маленький плоский флакончик, поспешно открывает его и несется к письменному столу, где больше света. В одной руке — бокал, другая — осторожно, с коротким счетом отливает на дно его бесцветные капли из флакончика. Это что еще, пипль-попль?!
Черёз минуту Петушков опять рядом со своей дамой; в бокал с позолоченным ободком крутой, шипящей струей падает холодная сельтерская из принесенного сифона: пейте, пожалуйста, дорогая Надежда Ивановна, и, если позволите, я провожу вас до дому… («Ах, прохвост, что делает, что делает!» — тихонько посмеивается Пантелеймон Кандуша.)
Симанович что-то говорит Людмиле Петровне, вынимает большой бумажник и оттуда — тщательно завернутую в папиросную бумагу чью-то фотографическую карточку. Это фотография Распутина, надписанная им.
— Лутшаму ис явреев… — смеясь, читает Людмила Петровна.
— Вот видите, — говорит Симанович, пряча карточку, — значит, со мной можно иметь дело. И всегда с пользой, я вам говорю.
— Какое же у нас с вами может быть дело? — спрашивает Людмила Петровна берет со столика свой бокал с сельтерской и отпивает глоток. То же самое делает теперь и Симанович, утирая губы крошечным розовым платочком.
— Какое дело? — переспрашивает он, глядя то на нее, то на ее соседей по дивану. По всему видно, у него есть действительно какое-то, дело, но он не решается сейчас сказать о нем.
«Ну?.. — вопросительно смотрит на него Людмила Петровна. — Говорите, все говорите: может быть, тогда я пойму, для какой точно цели меня пригласили сюда». Она порядком устала, вся эта компания достаточно неприятна ей, а о мамыкинском поручении она почти уже и забыла.
— Адольф Симанович, вероятно, хочет сыграть с вами в макао. Это его любимая игра… — вмешивается в разговор, трунит над распутинским приятелем Петушков.
Симанович незлобив.
— Я уже наигрался, слава богу, в макаву, — покачивает он головой.
Он понял насмешку Петушкова, но, ей-ей, он, Адольф Симанович, незлобив… Верно, он когда-то усиленно играл в «макаву», все его преуспевание в жизни пошло от умелого обращения с игральной картой: никто не умел так незаметно, так виртуозно сделать «накладку», будучи банкометом.
Но это было давно — во время русско-японской войны, на полях Маньчжурии, куда Адольф Симанович привез для утехи и развлечений русских офицеров пятерых бесшабашных, веселых маркитанток из Киева и Одессы и потертый чемоданчик новеньких атласных карт.
С тек пор прошел не один год, и кто посмеет всерьез упрекнуть Адольфа Симановича в том, что он не оставил своего прежнего занятия?
Мало его векселей у Адольфа Симановича?! Кажется, при одном «деле» состоят, — так что это за некорректное поведение, которого так не любит сам Григорий Ефимович! Ведь он, Симанович, никому ни гугу про петушковские «капельки», — у-у, свинья какая!
— Я мог бы посоветовать вам, Людмила Петровна, одно дело, — говорит он. — Но… но мы потом с вами поговорим. Когда мне скажут, так я к вам заеду, и — честное слово Адольфа Симановича! — вы не будете на меня в претензии. Наоборот!
— То есть как это «наоборот»?
Она недоуменно смотрит на его синие, словно отмороженные руки, на лоснящееся, не дочиста выбритое лицо, в его черные бараньи глаза, неопрятно приютившие в уголках, у переносицы, беленькие пузырьки закиси, какая бывает у людей после тяжелого, недолгого сна, — и, ничего не спросив, отворачивается от него, уже не скрывая своей брезгливости.
Украдкой переглядываясь с Губониным-Межерицким, громко, на знакомый мотив «Две гитары за стеной», поет теперь под свой собственный аккомпанемент на откуда-то появившейся гитаре песнь терских казаков рыжеволосая, разрумянившаяся Лерма:
Из-за кочек, из-под пней Лезет враг оравой. Гей, казаки, на коней — И айда за славой! Мать! не хмурь седую бровь, Провожая сына. Ты не плачь, моя любовь Зоренька-девчина.— Ай, ладно! — притоптывает ногами вставший из-за стола Григорий Ефимович и медленным, мягким шагом приближается, к сидящим на диване.
Песнь продолжается.
— Ну! Ну!.. — трясет бородой, взмахивает сжатыми в кулак руками развеселившийся Распутин, и все, уже хором, присоединяются к запевающей артистке.
— Тюли-мули-растудули! — хриплым, срывающимся тенорком выкрикивает Петушков и похлопывает себя по животу.
Горбоносая старая княгиня сидит глубоко в кресле, закрыв глаза. Ее острый подвижной подбородок конвульсивно вздрагивает, она молчит.
Песнь продолжается:
Отшвырнем с родной земли Немцев в их берлогу, Хоть бы даже к ним пришли Черти на подмогу. Пусть, придут! Среди гостей Будет больше крику, Потому что и чертей Мы возьмем на пику!— Еще! Еще!.. — кричит, приказывает Григорий Ефимович послушным гостям и — заглушаемый шумом песни — коротко говорит Людмиле Петровне, тянет ее за руку: — Ну, пойдем, милоя! Заждалась, — а?
На ходу он берет со столика наполненный бокал с позолоченным ободком: небось пить там захочется («Дурак Петушков: чего обомлел так?..»), кусок пастилы и, пропустив вперед себя Людмилу Петровну, входит с ней в губонинский кабинет.
(Ух, пипль-попль, — едва успел выскочить оттуда в ванную, по соседству, Пантелеймон Кандуша! Ну, ничего: и отсюда все будет слышно.)
— Садись, лебедь, — сказал тихо Распутин и сам опустился рядом на оттоманку.
Однако тотчас же встал, подошел к двери в столовую, плотно закрыл ее и вернулся обратно.
— Садись, лебедь, — повторил он, хотя Людмила Петровна уже сидела и не делала никаких попыток встать.
Бокал с сельтерской он поставил на пол, у оттоманки, а пастилу, нисколько не заботясь о соблюдении чистоты, положил на одну из ее подушек.
— Ну, вот… Ну, вот, дусенька, — оглядывался он по сторонам, словно искал что-то, и, найдя вблизи электрический выключатель, повернул его — к полной неожиданности Людмилы Петровны, насторожившейся и готовившейся к другому.
В комнате стало светло — светлей, чем было в столовой. Неужели так и останется: полный свет? — вот удача-то загнанному в ванную, притаившему дыхание Пантелеймону Кандуше.
Где-то, за тонкой стеной, в соседней квартире били приглушенно, как тряпичной булавой по медному тазу, часы: двенадцать ночных ударов.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Немного о Феде Калмыкове
Как уже было сказано, этот вечер принес Феде неожиданное приключение, отодвинувшее на некоторое время в памяти все увиденное и услышанное до сих пор в Петрограде.
Точней, — не вечер, а ночь, потому что было уже начало первого часа, когда покинул он вместе с журналистом Асикритовым тишкинский поплавок, направляясь к Ковенскому переулку. И если бы он знал, что ждет его впереди, часом позже, — смело можно сказать, что досаду и дурное настроение, в котором сейчас пребывал, он легко и быстро сменил бы трепетным и радостным возбуждением…
Ах, все было бы хорошо, если бы не этот последний разговор с Фомой Матвеевичем! Если бы не его собственная, Федина, «речь», которую, по справедливости, назвал журналист «чепухой»… Такие речи может произносить смирихинский, провинциальный помощник присяжного поверенного, либеральная балалайка бесструнная, как, например, Захар Ефимович Левитан, а не он, Федя, — революционер, каким считает себя искренно…
Ах, как стыдно, стыдно за всю ту словесную дребедень, которую нес с таким жаром сегодня… Как прав, надо сознаться, Асикритов! «Только подумать, о чем я говорил! — сокрушается Федя. — Трагический образ «бедного рыцаря» так же пристал мне, как корове седло. Гамлет и «тени замученных отцов» — ведь это же все для красного словца, книжность все это — и не больше. Святое безумие, жертвенность и жизнь в глушит… страдания». Сколько глупостей наговорил он сегодня.
О какой такой интеллигенции, безупречной в своих свободолюбивых помыслах и, главное, поступках, он трубил? Разве она едина, черт побери! Разве одного и того же не жаждет, к одному и тому же не стремится? Маленьким наследником-растратчиком какого точно «великого наследства» он так поспешно, безраздумно признал себя! Какой «традицией» он собственно дорожит? Традицией неустанной революционной борьбы (вспомнился тотчас же десяток бесстрашных имен революционных деятелей) или той, к примеру, которой следует хотя бы тот же Лев Павлович Карабаев — всегдашний кандидат в члены «ответственного министерства» Николая Второго?! Почему же он, социалист, Федя Калмыков, ничего об этом не сказал? Ничего — о войне, о своем отношении к ней, ничего — о громадном рабочем движении, бурлящем в эти годы в десятках российских городов, ничего о себе самом, — ведь с Фомой Матвеевичем можно быть вполне откровенным…
«Мы с вами в клетке исторических, но мерзких очертаний, — вспоминает он асикритовские слова. — Патриотизм, долг, семья, политические верования, народное благо, личное счастье — все требует уже новой формулы. На слом все… на слом!»
Почему сказал все это Фома Матвеевич, а не он сам, досадует Федя, молчаливо шествуя с журналистом по безлюдной набережной к Литейному мосту. «Глупо вышло: думал одно, а говорил другое».
Но он тут же, защищаясь, спрашивал сам себя: «А все ли, что говорил я, такая уж ахинея? Все ли было уж так непростительно наивно и неверно?» — И, успокаивая себя, решал, что не все уже было так глупо и фальшиво в его словах, как показалось вначале. Он старался вспомнить каждую свою фразу, каждую изреченную свою мысль, — однако все вспомянутое, чем мог бы быть доволен, что мог бы вновь повторить, ища снисхождения, Фоме Матвеевичу, не разрушало, увы, его общего досадного чувства, испытуемого сейчас.
Ночь была теплая, мягкая, а он шел и часто вздрагивал, как от холода, и кожа на теле, — чувствовал, — стала гусиной, в мелких лихорадочных пупырышках. «Вот ведь до чего расстроился! — упрекал он себя. — В Гамлеты полез, осел вифлиемский! Тоже… рыцарь бедный нашелся! Лживо и театрально: разве я такой? Что у меня общего с той молодежью, о которой я так говорил? Почему я: не привел в пример Колю Токарева?»
…Встретился Федя с ним в день, глубоко запавший в память.
Смирихинск отправлял на войну первые эшелоны призванных из запаса.
Воинские части, построившись у здешней казармы, за Петровским парком, охраняемым теперь часовыми, под музыку оркестра отправлялись на вокзал.
Может быть, свежеиспеченным прапорщикам с новенькими, хрустящими желтыми ремнями крест-накрест и хотелось покрасоваться перед высыпавшими из всех домов местными жителями и потому пройти центром города, но начальство распорядилось по-другому: пришлось «топать» кратчайшим путем — по боковым, немощеным улицам, по пыльным пуховикам, заклубившимся, как смерч, под ногами солдат и бежавшей рядом оравы мальчишек.
Когда оркестр умолкал и музыканты, отплевываясь, прочищали на ходу свои альты, корнеты и тромбоны, вытряхивая набившуюся туда пыль, — где-то в рядах, встрепенувшись, заводил песнь осторожным, стеклянным тенорком ротный «запевала», и ряды подхватывали ее, унося далеко вперед:
Оружьем на солнце сверкая, Под звуки лихих трубачей, По улице пыль поднимая, Проходил полк гусар-усачей.Жгло тяжелое полуденное солнце. Оно проливало на ссохшуюся, истомленную от засухи землю горячий свой, беззвучный ливень. На лицах солдат — запыленных, распаренных — текли грязно-серые ручейки пота. Гимнастерка на лопатках была влажна. Сжатая ковшиком ладонь, поддерживавшая приклад винтовки, взмокла и стала до неприятного клейкой.
В тень бы, черт побери… В речку броситься и не вылезать до вечера!..
На улицах, на Ярмарочной площади, через которую проходили теперь солдаты, все гудело от музыки, от гула толпы, от ржанья пугливо вздрагивавших, бросающихся в сторону лошадей, от бабьего воя и причитаний.
В светлых праздничных узких кофтах с вытянутыми вверх на плечах рукавами-крылышками, в ярких, разноцветных «спидницах» — жены, матери и сестры беспорядочной толпой бежали вслед воинской части, они часто прорывали солдатский строй, втираясь в его ряды, чтобы в последний раз, на прощанье, слезно сказать ласковое напутственное слово, всунуть в карман солдата кусок мясного пирога или зеленую трехрублевку.
Еще с рассвета, а то и с вечера, забиты были все постоялые дворы и большущий двор калмыковской почтово-земской станции. Парными деревянными свечками торчали вскинутые кверху оглобли крестьянских возов и телег, тарантасов и одноколок-«бедушек», на которых понаехали в город крестьяне окрестных сел. Ратники ополчения пересекли Ярмарочную площадь, срезав ее у забора махорочной фабрики Георгия Карабаева, и продолжали путь к вокзалу. Спрыгнули к себе, на фабричный двор, покинувшие на минуту свою работу, висевшие гроздьями на заборе любопытные работницы. Вернулись в столетние, мшавые амбары, деревянными срубами выстроившиеся в одном углу площади, купцы и приказчики, продавцы и мужики-покупатели: сына — на войну, а в деревне — если бы махорки, скобяного товару…
Двери амбаров открыты, и, тянет оттуда свежим душистым сеном, травинку которого тай и хочется взять на зуб, тянет крупой и горошком в мешках, золотистым овсом, мучной пылью.
Потревоженные, взлетевшие на купол соседней кладбищенской церкви бездомные голуби-сизяки и воробьи, усеявшие многорядную телеграфную проволоку, как музыкальные значки нотную бумагу, — вновь слетались теперь к амбарам: ворковать, щебетать, подбирать, брошенное тут зерно.
Гремят и скрежещут ржавые цепи амбарных весов, громыхает глухо сброшенная на деревянный пол, бессильная — от тяжести — покатиться, пузатая двупудовая гиря.
И, как сброшенная с весов тяжелая гиря, громыхает здесь уроненная дважды, трижды, четырежды многовековая каменная мужичья ругань.
Кому точно послана — неведомо еще, но — от всего растревоженного сердца: эх, мать да мать, — сей день Михайлу взяли, а завтра — велят — веди в присутствие еще Михайлиного коня!
Федя провожал солдат до самого вокзала.
Там, когда эшелон уже тронулся, — под приветственные, воинственно-патриотические крики одних и заунывно-истерический, истошный вопль других: все тех же крестьянских баб, — кто-то стоявший позади притронулся к Фединому локтю и осторожно пожал его, Федя оглянулся — Токарев.
— A-а… Николай! Здравствуйте! Кого-нибудь из Ольшанских провожали?
— Провожа-ал, — хмуро, досадливо отозвался Токарев., — Не люблю, понимаете, похорон! Вы удивляетесь? Какие же это похороны, а по-моему, так самые настоящие. Только без обыкновенных гробов, а все остальное — чин чином: и в церкви молились, и священники тут, и, глядите, рев какой, и смерть будет всамомделишная. Я вот стоял здесь и думал: сколько гробов на колесах — вагоны-то эти! Довезут их до Киева, скажем, или куда там, выгрузят будущих калек и покойников, пригонят обратно вагоны и погрузят в них, как всегда это, скот. И повезут куда-то: на убой, обыкновенным манером. Так само и солдат! И никакой разницы: и то мясо, и другое тоже. И скот с поля согнали, и этих тоже со степи да с других мест, — верно я говорю? А для чего, в общем? Кто про это верно скажет? Кто смельчаком будет?
По дороге в город, ведя разговор все на ту же тему о войне, он сказал еще:
— Вот думаю я так, Федор Мироныч: драться люди могут тогда только, когда интерес у них один… общий. Тогда друг друга искать будут, чтоб идти вместе. Сами в том случае сбегутся… безо всякого понуждения, без урядников, по своей собственной охоте. Это тогда, когда не драться, значит, нельзя уже. Тогда каждый отвечает за себя, и реветь тут нечего. Может, и неверно говорю, — как думаете?
— В общем, так, конечно, — растерявшись, согласился Федя. — Но все-таки, дружище Николай…
Однако почему он так быстро согласился с ним? И, с другой стороны, с чем собственно он не согласился, против чего собирался возражать? Ах, разве знал все это тогда Федя! Ничего не знал он точно, ни в чем до конца не был уверен, должен сознаться… Но где же правда? — тщетно искал ее Федя. И, право, это было мучительно!
Высказывания Токарева, — в общем, такие простые, бесхитростные, как колумбово яйцо, и, казалось бы, даже знакомые, но прозвучавшие неожиданно, — поразили его, ввели в смущение.
Конечно же, война — это убой ни в чем не повинных людей, цель несчастий, народное страдание, но как можно не воевать, когда на тебя так грубо напали, когда хотят захватить твои земли, разграбить твою родину? Другое дело, что родина. — полицейская, с приставами, урядниками, жандармами, — это, конечно… то и говорить. Но — родина!
Все газеты писали горячими перьями о том же и еще о том, что войне быть не больше трех месяцев, — велика была Федина вера, и короток еще шаг его годов… Ах, где теперь Токарев, в каких сидит окопах, жив ли? Как много мог бы сказать и рассказать ему Федя сейчас, через два года после той памятной встречи!
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ Людмила Галаган
Он, Распутин, все, все знает, и ничего от него не утаить!
Завистники-дворяне да министры-неудачники спят и видят, как бы убрать его с божьего света. Шутка ли дело, простой мужик, а царю помощник!
Войну кончать надо, — он худого «папашке» не посоветует, а его убивать задумали: все ему, все известно…
«Хвост» (недавний министр внутренних дел Хвостов, — сообразила Людмила Петровна) отравить его хотел, пищу опоганил, но бог милостив: все кошки в квартире издохли, а он, Распутин, богом посланный царский хранитель, уцелел, жив остался, — сама видит, дусенька…
«Хвост» тот самый не унимался: слугу своего, газетного писаку Бориса Ржевского, жулика, с большими казенными деньгами отправил за границу, в Норвегию: откупить у царицынского монаха-расстриги Илиодора «записки про святого черта» (про него, Распутина), чтобы «папашке» их показать потом, опорочить ложью бесовской заступника царского трона.
— А откуда узнали?
Но он только посмеивается — тихим, сипловатым смешком, застревающим, кажется, у гортани, и снисходительно говорит:
— Ай, Хвост-Хвост… чего не поделил, — а?
Но все эти дела не в счет, — смотрит он на нее своими выгоревшими глазами, и за светлой оболочкой их глядит кто-то еще: лукавый, хитрый, скользкий, — все это он рассказывает для того, чтобы уразумела она, почему ей именно знать это надо.
Людмила Петровна не без волнения, скрыть которое всячески старается, догадывается, к чему клонит он речь. Господи, да он au courant[18], он знает значительно больше, чем она сама!
В ставке «северо-западного», рассказывает он, подобралась группа дворянчиков-офицеров, руководимая кой-кем из князей, поклявшаяся лишить его жизни. За ним охотятся, его хотят заманить в разные места и там расправиться. Подосланной бабой хотят заманить.
Но его оберегают, его берегут, как зеницу ока, — так велели «папашка» и «мамашка», и горе тому, кто осмелится причинить ему вред. Так пусть и знают все его враги: сознательные и невольные!.. Каяться надо, каяться!
По временам, казалось, он разговаривает не с ней, Людмилой Петровной, а с кем-то другим — невидимым своим слушателем и собеседником. «Старец» отворачивал голову, жестикулировал в сторону, хмурился и усмехался, не взглянув на нее, протягивал кому-то руки и сжимал их в кулаки. Но потом, вспомнив, очевидно, о своей гостье, придвигался на тахте, обнимал за плечи, заглядывал в лицо и настойчиво искал своими узкими, как графит синеватыми губами упругие дольки ее отворачивавшихся, сопротивлявшихся губ. И стоило только Людмиле Петровне громко запротестовать и пригрозить, что сейчас же уйдет или кликнет из соседней комнаты Воскобойникову или какую-либо другую из женщин, — он отпускал ее, отодвигался и возвращался к прерванному на минуту разговору.
«Ну, скажи уже, черт бородатый, скажи уже, что ты знаешь, зачем я пришла сюда, что подослана я, для какой цели и кем, что ты выдашь меня своим охранникам, если я не соглашусь и не уступлю твоим домоганиям, — и мне уже станет легче, я буду знать, что делать. Зачем же ты хитришь?»
Однако Людмила Петровна отнюдь не знала, что стала бы делать, как точно поступила бы, если бы он сейчас разоблачил цель ее прихода.
Вот, вот… он скажет все, обвинит в лицо, чего-то потребует, станет угрожать… Может быть, позовет сюда своего союзника, Ивана Федоровича (кажется, это он за столом намекал ей на что-то: «Либо в стремя ногой, либо в пень головой» — препротивная морда!..), и они вместе начнут изобличать ее, назовут имя Мамыкина, потребуют показаний и еще бог знает чего…
И, чтобы увести себя от вплотную приблизившихся глаз Распутина, она свесилась с тахты, подняла с пола бокал с сельтерской и медленно отпила несколько глотков.
Ему хотелось, очевидно, пить, и он тоже потянулся к бокалу, но Людмила Петровна отстранила его руку:
— Не дам. Сама хочу. Потерпите, потерпите… Бога просить следоват, чтоб дал терпение, — умело подражая его придыхающему сибирскому говорку, сказала она.
Он засмеялся:
— Ишь ты, кака строга игуменья!
— Сами учили!
— А мне доспеть с тобой, доспеть…
— А я не покушаюсь на ваши… доспехи! — в тон ему, нарочито двусмысленно и грубо сказала она, заметив его непристойный жест.
— Чего? — спросил, не поняв, Распутин.
— Того, дедушка!.. — дразнила она его.
Он развеселился, громко и зычно, как ни разу еще не слышала Людмила Петровна, хохотал, схватив себя за бороду.
«Распоясался… похабник!» — настороженно следила она за его движениями, но была рада сейчас, что разговор благодаря этому соскользнул с опасной для нее темы.
Она с силой оттолкнула от себя Распутина, когда тот попытался позволить себе больше дозволенного, но когда он, недовольно бурча, смирился и отодвинулся на минуту, — Людмила Петровна поймала себя на том, что ей, пожалуй, приятна была эта борьба.
«Горе мятущимся… мне это. Что же это со мной? — спрашивала она себя. — Он на меня действует… магнетизер? Грязный мужик, животное! Нет, нет, не он… не может это быть!» — решила Людмила Петровна. Теперь ей надо побороть, преодолеть самое себя, справиться со своим состоянием (она осушает до конца бокал с сельтерской), не поддаться, не дать спутаться мыслям…
Год назад, когда началась война, она бросила свой усадебный Снетин и помчалась госпитальной сестрой на фронт: она, как и все вокруг, ощутила толчок, который должен был помочь ей преодолеть инерцию тяготившей своей серостью, как считала сама, докучливой жизни. Весь мир, казалось, стал жить пожарищем горячих, лавиной ринувшихся на землю страстей, и в громадном огне их она рассчитывала легко и быстро «сжечь, — писала в одном письме, — свое душевное недомогание». Кажется, к Ивану Теплухину в письме говорила она незадолго до войны, что «утратила компас в жизни после неожиданного самоубийства мужа, Сергея»?.. Ну, так, может быть, теперь она вновь обретет этот компас, а с ним вместе и самое себя?
Собственно она не знала, что именно может найти впереди, — в тот момент она и не раздумывала об этом: она помчалась в армию, на фронт, чтобы утратить самое себя, какой была она тогда. Чтобы только утратить!.. Ее поступок родные, друзья, знакомые, соседи приписывали патриотизму, самоотверженности, гуманности, может быть — увлечению (ведь ничто не обязывало ее к тому!), но никто не подумал бы об истинной причине такого стремительного решения. И вот прошло два года, — она могла бы пожелать для себя лучшего!
Необычное, не воображаемое раньше в отцовском генеральском доме и в петербургской квартире брата, владевшее еще вначале, в первые месяцы военной жизни, Людмилой Петровной, — стало теперь до изнурения привычным, знакомым и докучливым. В общем, она, конечно же, любила жизнь (другое дело, что могла иронически и зло отзываться о собственном и чужом бытии…), и почему в сущности и для кого следовало растрачивать себя? — не редко задавалась она вопросом.
Пробыв год на фронте, она, пользуясь связями и знакомствами, оставленными в наследство отцом, генералом Петром Филадельфовичем Величко, легко перекочевала в Петроград: и отдохнуть потребность была и поразнообразить хотелось жизнь. Случайное знакомство с капитаном Мамыкином и его друзьями предоставляло теперь эту возможность: она была остра и прельщала Людмилу Петровну большой волнующей игрой, прямой участницей которой она становилась.
«Вот авантюра!» — не раз говорила она себе, но не порицая, а радуясь тому, что так случилось. Ее мало заинтересовала политика офицерского кружка заговорщиков. Не многим больше занимал ее мысли и тот, за кем они «охотились», по его собственному выражению, хотя она, как и все в обществе, презирала «темного старца» и возмущалась его ролью при дворе. Она довольна была уже тем, что от нее потребовалось какое-то действие, в зависимости от которого находились удача или поражение других людей.
Поединок на Ковенском сейчас, в незнакомой комнате незнакомой квартиры, куда зазвал ее этот всесильный плут, этот «черт бородатый», как все время называла его, должен был в какой-то степени решить этот вопрос. Но вот быть осторожной, рассудительной и уверенной в себе мешают сейчас непонятно почему пришедшие желания («А может, действительно блудница?..» — думает она о себе) и возникший в памяти совсем уж неожиданно, бог знает в какой связи, образ студента-земляка — Феди Калмыкова.
Монгольский разрез синих глаз, прическа, мягкие черные усики, нажим в лице скул, — господи, он чем-то так напоминает близкий, запечатлевшийся навсегда образ Сергея, мужа!..
Почему она раньше этого не заметила?! Почему поняла это только сейчас? Или память и воображение… лгут? Нет, что она, в самом деле. Конечно, тут нет никакой ошибки: похож, похож, — разве не бросилось ей в глаза это сходство сегодня днем? Она только не вдумывалась в это как следует, мысль мелькнула и — спряталась, чтобы вновь заявить о себе.
«А цветок? Почему я дала ему цветок?.. Господи, какие странные вещи бывают на свете! — думает Людмила Петровна. — Кажется, я ему назначила на завтра встречу? Обязательно, обязательно надо мне повидать его… Я устрою его, может быть спокоен: я переведу его сюда в университет», — вспоминает она о письме Георгия Карабаева.
И вслед за тем:
«А что если под этим предлогом…» — и уже рядом со студентом Калмыковым встает в памяти узколицый, с неестественно прижатыми ушами Мамыкин.
— Григорий Ефимович, — говорит она, наклонившись к к нему, — у меня к вам просьба.
— А у меня до тебя одно дело есть, дусенька. Кака просьба?
— Окажите протекцию одному моему знакомому студенту, Григорий Ефимович. Ему нужно перевестись из Киева в здешний университет. Я имею сама кое-какие связи, но ваша записка, даже без указания адреса… — И она впервые за все время ласково улыбнулась ему.
— Может, другой раз? Пошто торопишь?
— Ну, пожалуйста… Вы мне откажете? Я не верю!
Она вскочила с тахты, схватила его за руки, таща за собой к письменному столу. Распутин слабо упирается.
— Лады, лады… — усаживался он в губонинское кресло. — Ну, я коротко. Пратецию напишу, а ты сама, кому знашь, отдай.
Оторвав листок настольного календаря и взяв перо, он стал писать. По особо присущей неуверенным в своей грамотности людям он шептал вслух, каждое выводимое медленно слово и водил дрожащим пером так, словно не держал его в своей руке, а было привязано оно к чужой и мало послушной.
Писал он криво, крупными, разбросанными буквами, как будто старался налепить их на бумагу. Поставив букву, он некоторое время приглядывался к ней, точно не доверял: не пропадет, не отклеится ли она, — и пальцами зажимал переносицу, как если бы придерживал кто сползающее пенсне.
— Не люблю писать. Ох, не люблю. Слово живо — с ним дух от тебя, а слово мертво, слово писано — што сажа. Чисто сажа! Во, гляди, только и написал, — и он протянул ей листок.
«Милой дорогой ни аткажи пропусти устрой ево лучше во всех корнях отростелях.
Григорий», —пробежала она глазами.
«Мамыкин может быть доволен! — подумала Людмила Петровна, пряча записку. — Такая записка ему пригодится!»
— Спасибо, отец, — впервые назвала она так Распутина. — «Ну какое у него теперь ко мне дело?»
На сей раз он говорил просто, без всяких иносказаний, уверток, забыв как будто о своей всегдашней манере пересыпать речь церковными словечками и неожиданными метафорами. Таким Людмила Петровна его еще ни разу не видела. Перед ней сидел осторожный, себе на уме, мужик-купец, степенно, как старые гостинодворцы, разглаживавший свою темную длинную бороду. Он широко улыбался, и тогда видны были его белые хлебные зубы и мягко, приветливо светились выгоревшие глаза, упрятавшие подстерегающий доселе и крадущийся взгляд.
Речь, к ее удивлению, повел о сахарном заводе. «Вот так штука!»
Говорят, она и младший брат хотят продать сахарный завод, оставленный в наследство батюшкой, генералом Величко? Лады, лады, правильно делают: куда там уследить за таким хозяйством, да еще таким молодым, неопытным хозяевам!
Денег много можно взять теперь за сахарный завод, много больше, чем стоил он покойному генералку. Не обманул, не обидел бы только кто из покупателей — вот забота должна быть. Верно он говорит, — а? Умница, умница, дусенька, — сама понимает. Он, Распутин, любя ее, даст хорошего, справедливого покупателя: ему и продать, только ему.
А с деньгами что? С деньгами по-хозяйски надо. Он и тут поможет, научит: богатство хранить надо — вот что!
У него банкир есть знакомый, услужливый такой банкир. Отдать ему деньги, а он «перепишет» их на иностранные, лучше всего на «вашингтонки»: ух растут, подымаются те «вашингтонки» каждый день, словно дрожжи в них положены…
— Симанович-друг заедет к тебе, лебедь, обговорит все, велю я ему, — понимашь?
Он встал с кресла, подошел к Людмиле Петровне, положил руку на ее плечо:
— Выдь в столову и скажи ему, когда заехать к тебе. Согласна?
«Что ответить?»
Людмила Петровна понимала, что никакого дела вести она не будет с Симановичем, что никогда, она и не вела бы его с ним — темным распутинским дельцом, что вообще продавать завод решилась бы, посоветовавшись только с Михаилом Петровичем, братом, что, наконец, сейчас и разговор о том быть не может, так как еще раньше решили они всей семьей продать завод Георгию Карабаеву, и письмо, которое получила от него сегодня днем, почти целиком посвящено этому вопросу и подводило итог всем имевшим место переговорам настолько, что Георгий Павлович просил назначить время, когда мог бы приехать в Петроград для оформления всего дела.
Надо было сказать о том Распутину, но почему-то не решалась сделать это сейчас.
— Приходи ко мне грех замаливать, — уже прежним тоном, сиплым, придыхающим говорком сказал он, прижимаясь к ней.
— А зачем?
— Доспеть надо… очистить надо, слышь? А офицеров-ерников гони от себя: пропасть с ними можешь. Все, все знаю… Ну, бог вразумит. Ну, говорю: не путайся, а то отступлюсь от тебя, и беда тебе будет, — угрожал он. — Ну, выдь, лебедь, к другу Симановичу, — понимашь?
И он быстрыми шагами прошел в столовую, к своей компании, закрыв за собою дверь.
Людмила Петровна осталась одна. Но только на несколько секунд: она не успела заметить, откуда появился в комнате незнакомый, ни разу не виденный ею человек, нерешительной, спотыкающейся походкой приближавшийся к ней.
— Не уходите… одну минуточку, Людмила Петровна! — просил он, протягивая одну руку вперед, а вторую прикладывая к губам — показывая, что ей, Людмиле Петровне, не следует громко подавать свой голос сейчас.
«Это кто еще?! Откуда меня знает, — удивилась Людмила Петровна, всматриваясь в незнакомца, — неужели… кто-нибудь из мамыкинских?!» — И она, оглядываясь на только что закрывшуюся дверь, пошла ему навстречу.
Кандуша бесшумно подскочил к выключателю и повернул его, гася яркий свет верхней лампочки. «Это правильно», — одобрила Людмила Петровна, хотя теперь трудней и неудобней было наблюдать за его лицом.
— Вот натурально планида свела! — выдохнул из себя Кандуша. — Не пожалеете, Людмила Петровна, благодарны будете, другом называть станете. Гос-споди, боже мой, каким еще другом, позволю себе сказать!
— Вы это о чем? — недоумевала Людмила Петровна, удивляясь его словоохотливости не ко времени и не к месту.
— Касательно того, что и не подозреваете, Людмила Петровна.
Он приложил руку к сердцу и потупил глаза.
— Касательно того (поднял их вновь), позволю себе сказать, что тиранит вашу душу.
— Ну-с, что же тиранит мою душу, милый человек? — не скрывая насмешки, спросила Людмила Петровна и стала приводить в порядок свои растрепавшиеся волосы, вынимая из прически гребень, шпильки: стесняться присутствия «такого» человека, пожалуй, не приходится… (То, что он не «мамыкинец», — уже поняла.) — Так, говорите, тиранит? И сильно тиранит? — повторила она, держа шпильку в зубах, так как руки были заняты закладыванием кос, и взглядом искала, не висит ли где-либо в комнате зеркало, в которое можно посмотреться, но его, к сожалению, не нашлось.
«Заиграешь ты у меня, дорогая сударынька, сейчас! — подумал Пантелеймон Кандуша, разглядывая ее исподлобья. — Кудах-кудах, курочка!»
— Касательно преждевременно погибшего вашего мужа! Касательно его хотел бы дружески сказать — вот что! — ошарашил он ее. — Сообщеньице имею, Людмила Петровна.
Рука ее быстро вынула шпильку изо рта, и рот по-детски широко, испуганно раскрылся, и это позабавило сейчас Кандушу.
— Вы его знали? — шагнула к нему Людмила Петровна. — Как ваша фамилия?
— Не в том суть, — усмехнулся Кандуша.
— А в чем же тогда? — теряла терпение она.
— Обидчика знаю. Истинного обидчика, пипль-попль! По всем статьям готов изложить все дело. А обидчик — лют человек! Казнит и не поморщится. Только мы гордыню его… ушатом холодненьким, ледяным ушатом! Зашипит, зашипит горячее железо, как в кузнице, — примерно говорю, — и остынет, мертво станет: тогда его и бери голыми руками, вот что-с!.. Гос-споди, боже мой! Да разве можно простить обидчику, дорогая, — извиняюсь за непозволенное слово, — Людмила Петровна! Он, смею удостоверить, живет-наслаждается, на двух конях, можно сказать, и выезжает в жизни своей скрытной: авось да небось — те лошадки его в жизни. А про то не знает, хи-хи, что авоська-то веревку вьет и небоська петлю накидывает. Мы его, Людмила Петровна, дорогая, — извиняюсь! — мы его, обидчика…
И Кандуша, увлекшись, затопал ногами, показывая, как плохо придется кому-то, если испытает тот его гнев.
— Как ваша фамилия? О чем вы говорите? — переспросила вновь Людмила Петровна. — Говорите ясней и поскорей, пожалуйста, а то могут войти сюда!
— Вот то-то и оно, — остыл и опомнился уже не в меру разгорячившийся Кандуша.
— Кого вы называете обидчиком?
— Рассказ долгий и конфиденциальный, — уклонился он от прямого ответа. — Конфиденциальный, можно сказать, а место здесь вполне рискованное. Мне бы только ваше согласие иметь, — приду и все сообщеньице сделаю. Адрес ваш, осмелюсь?
Людмила Петровна назвала.
«А может быть, не следовало?» — подумала после того, но тотчас же отогнала эту мысль. Да и рассуждать не приходилось: заскрипела в ту минуту нерешительно открываемая дверь из столовой, — и Кандуша шмыгнул туда, откуда появился: в темную ванную комнату.
— Глядите! — предостерегающим шепотом бросил он.
«Бегите!» — почудилось Людмиле Петровне, и, не отдавая себе отчета в том, что делает, она на цыпочках побежала за ним. В темноте она натолкнулась на его грудь, наступила ему на ноги, но так и осталась стоять — не зная, где находится, боясь неосторожного шума.
— Людми-ила Петро-овна! — протяжно окликал ее (узнала по голосу) Адольф Симанович.
Из столовой прорвался теперь хохот рыжеволосой Лермы и шум беспорядочных, взбудораженных голосов.
— Куда же она пропала?.. — приближался голос недоумевающего Симановича. Он шел вглубь комнаты.
«Если двинется сюда, скажу — нельзя, туалетом занята… не смейте входить!» — притаив дыхание, как и застывший Кандуша, соображала Людмила Петровна.
Но Симанович, пробурчав что-то, повернул обратно.
— Вячеслав Сигизмундович сейчас придет, он сразу раскумекает… Ой, что наделали, пипль-попль! — тоненьким, едва слышным шепотом, процеженным до свиста сквозь зубы, сказал Кандуша. — Ну, теперь один вам выход: отсюда в прихожую, а там… как уж изволите!.. Не купаться же вам тут!
«Так мы, значит, в ванной? — без любопытства подумала Людмила Петровна. — Ванная внутри квартиры… У нас тоже дома так… Уйти разве совсем отсюда? Сейчас, ни с кем не прощаясь, не дожидаясь Надежды? — бежали ее мысли. — Да, да, скорей домой, на свежий воздух, а то, черт знает, до чего дойдешь здесь! Со мной что-то странное сегодня, ей-богу… Нет, нет, — домой, спать, а завтра все соображу: насчет Симановича и всего…»
— Где прихожая? — спросила она.
— Сюда… Тихохонько только.
Кандуша взял ее за руку, они сделали несколько шагов и, обогнув какой-то выступ, очутились у низкой двери, прорезанной в стене.
— Не стукнитесь. Нагните голову.
Кандуша толкнул дверь, они вошли в маленькую, узкую комнату, до половины освещенную отброшенной в нее бледной, скупой полосой света из окна квартиры напротив.
— А теперь уж сами, Людмила Петровна: как выйдет!.. — И Кандуша бегом вернулся обратно.
Долго раздумывать не приходилось: подошла к плотно прикрытой двери, — она отворилась, бесшумно, и Людмила Петровна шагнула в приходую.
У столика, над которым висело зеркало без оправы и — на гвоздях — две платяных щетки с ввинченными в них кольцами, сидел, облокотившись на стол, заложив ногу на ногу, свесив коротко остриженную сивую голову, какой-то щупленький бритый человек в зеленоватой тужурке с тусклыми оловянными пуговицами.
«Это что еще за фигура?» — насторожилась Людмила Петровна.
«Фигура» явно спала, склоненная к тому усталостью, вероятно, после цёлого дня «работы», а также вследствие неумеренного, очевидно, и несвоевременного потребления вина, запах которого давал себя чувствовать во всей прихожей.
«Тем лучше! — обрадовалась Людмила Петровна. — Ах, ты… охранный елистратишка!» — уже склонна была она я пошутить, поняв, на кого наткнулась.
Она нашла свою шляпу, жакет, перекинула его на руку, не надела, решив не задерживаться здесь (Опять вдруг хлынул из столовой шум голосов. «Ищут меня!» — подумала), и, переступив порог тамбура, повернув винт французского замка, осторожно толкнула дверь и выскользнула на площадку.
— Людмила Петровна, куда же вы?.. — услышала далеко позади себя чей-то голос и — короткую, глухую брань.
«Охранника это он… Инженер, кажется!» — пронеслось в уме.
Стоявшие у только что открытой парадной двери Федя и Асикритов услышали, как с площадки этажом выше сбегал кто-то поспешно, быстро-быстро, мелким, легким шажком, стуча, как дробью, каблучками. И еще: гудели наверху чьи-то голоса.
— Как будто погоня за кем-то, — а?
Фома Матвеевич задрал кверху голову:
— А ну-ка…
Тук-тук-тук-тук…
Уже с середины лестничного марша Людмила Петровна увидела их, а они ее.
— Что так?! — вскрикнул пораженный Асикритов.
На бегу она ткнула себя в грудь и той же рукой показала на дверь его квартиры.
Поровнявшись с ней, вбежала в асикритовскую прихожую, и журналист, втолкнув туда же ничего не понимающего Федю и сам входя за ним, захлопнул мягко за собой парадную дверь.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ Сельди Андрея Громова
На Клинском рынке, что у Забалканского проспекта, в поздний послеобеденный час торговля почти замирает, и редкая хозяйка или прислуга с кошелкой, а еще того реже — с корзиной в руках, обходит ряды выстроившихся здесь ларьков, лавочек, рундуков. Торговцы, сидя у прилавка, пьют чай, — теперь кирпичный чаще всего, подогревая в очередь медные тяжелые чайники на жаровне соседа. Это — зеленщики, мясники, рыбники, бакалейщики. Еще час торговали и — шабаш: на рыночной площади останутся тогда бездомные, бродячие собаки, босяки-грузчики, ломовые извозчики, торговки крендельками и баранками, под которыми на дне корзины лежат бутылки и бутылочки с «ханжой», и еще прикорнувший в тени навеса, ждущий смены городовой.
В этот поздний послеобеденный час из-за угла Серпуховской вышел к рынку низенький, полный человек в длинном не по росту вельветовом пиджаке и в полотняной кепке, сдвинутой на затылок так глубоко, что открывался упрямо взбитый кирпично-рыжий хохол на голове. И, как этот петушиный тупей, огнем горели под широким мятым носом неровно подстриженные во всю губу усы — густые и колкие. Он шел, держа в одной руке желтый деревянный баульчик, — широко размахивая им: так, что стучала плохо державшаяся на одной петле фанерная крышка. Другую руку он держал в кармане застегнутого пиджака.
По быстрому шагу, по вспотевшему лицу, по неаккуратно упавшей набок тулейке его сдвинутой на затылок мягкой кепки, по всему его внешнему виду можно было безошибочно сказать, что человек этот очень торопится. Но торопливость эта не покидала его лишь до того момента, как завернул в один из торговых рядов, где от прилавков шел сильный запах рыбьей сырости и овощной плесени, куда заходящее солнце уже не проникало, где густо отдавало холодком открытого погреба даже в самый жаркий час.
В этой торговой уличке, где было теперь не больше десяти — пятнадцати покупателей, не спеша переходивших от ларька к ларьку, ощупывая каждую репу, пересчитывая количество редисок в каждом пучке прежде, чем их купить, — человек со взбитым хохолком и кирпично-рыжими усами, сделав несколько быстрых шагов, изменил вдруг свою походку и, уподобившись другим, стал медленно, вяло слоняться. Так, еще ничего не, купив, он дошел до самой крайней лавчонки торговца зеленью и сельдями Андрея Громова.
На минуту он задержался здесь, окинул безразличным взглядом хозяина и его жену, прикурил от папиросы одного из двоих собеседников Громова — соседа по торговле — и удалился куда-то за угол.
— А тут и думать не надобно: ясность полная, Иван Осипович, — вел разговор Громов.
— Я вам даже прочитаю, судари мои. Собственноручно писано, с самих позиций доставлено.
— Ну-ну, читайте прокламацию, — усмехнулся Громов, перетаскивая одну из корзин с овощами с прилавка в лавчонку.
— Какая така прокламация, Андрей Петрович? Оскорбляете ей-богу! Чай, не уплетюшить хочу, а истинный документ показываю…
Это было продолжение разговора, начало которого не слышал только что удалившийся человек с желтым баульчиком.
— А ну-ну, позвольте взглянуть, Иван Осипович, — заинтересовался второй громовский сосед и протянул руку к письму, которое тот вынул из огромного кошелька, туго набитого деньгами и какими-то бумажками.
— Мы сами, — отстранил его Иван Осипович и, щелкнув затвором кошелька, водворил его обратно в брюки, а письмо расправил и стал читать:
— Вот, пожалуйста, судари мои… «Письмо от известного вашего квартиранта, Петра Ивановича. Многоуважаемый Иван Осипович и вы, Клавдия Алексеевна, и вы, Егор Иванович. («Намедни забрали того Егора Ивановича в кутузку», — сокрушенно сообщил он…) Уведомляю вас, что я пока жив, слава богу, затем кланяюсь, значит, вам всем вообще, вам, Клавдия Алексеевна, и вам, Иван Осипович, и вам, Егор Иванович, и Паше и Мише, и желаю вам от господа бога нашего доброго здравия и всего хорошего в вашей жизни. И передайте Дуне моей, ежели не забыла своего русского солдатика, что, ежели я, бог даст, буду в добром здравии, и приду домой, то я дома жить не буду, а уйду на должность. А еще очень рад, что прописала Дуня, что скоро возьмут полицию и которые остались по болезни».
— Насчет полиции не слыхать что-то! — подал реплику Громов.
— «А мы ждем миру, — продолжал Иван Осипович. — Верно, ждать замирения нечего, его и не будет. Каждый день много наступаем, а еще очень много отступаем. Он («Немец, значит», — пояснил Иван Осипович) наш полк разбил в пух-прах. Только одна пехота мается, а батареи все молчат, нечем стрелять, а он более бьет нас из пушек. Пропишу насчет пятнадцатого года молодых солдат. То их пригнали на позицию, прямо в бой. Когда по немцам стали стрелять из орудий, то зелёные парни, которые пятнадцатого года, то они все стрекача дали и стали сами себя стрелять больше в правую руку. Так ежели старых солдат не будет, то немцы всю Россию пройдут. Затём, Егор Иванович, я пропишу вам…»
Короткая пауза, — Иван Осипович поглядел по сторонам, заметил у своего рундука какую — то покупательницу в синем жакете, с новенькой корзинкой, крикнул жене: «Клава! Отпусти барыне, что есть свежего, — слышь!» — увидел, что Клава и сама не даст промаха, и продолжал чтение:
— «…Затем, Егор Иванович, я пропишу вам про бунты в России, на дорогой родине. Так чтоб все сделали в полной исправности насчет этого самого, чтобы, делали бунт, чтобы делали скорее замирение, Мы только ждем, как начнутся бунты, так мы и забастуем, более не будем воевать. Все дела стоят за Россией. Ежели не будет бунтов, то не останется в России хорошего народу. Пропишу вам про то, Егор Иванович, что понятливый вы, Егор Иванович, заводский человек и сами знаете, конечно, кто войну сделал, чтобы убивать хороший народ. Пропишу я вам еще про одного нашего прапорщика, хучь офицера, а солдату сочувствие дает. Дело говорит тот прапорщик, по имени Николай Ильич, мир можно самим сделать всем войскам, ружья к ноге, довольно, пошти два года полных побили нашего брата безо всякой пользы. Половина России калек и сирот».
Иван Осипович опять посмотрел по сторонам и снизил голос:
— «Надо писать прокламации во все части войск, чтобы все войска порешили больше не стрелять, тогда, может, скорый мир будет. Пишите на все фронты нашим знакомым, чтобы они про то передавали друг другу, и тогда будет согласие. Засим прощайте, Иван Осипович с семейством вашими друзьями, и прошу вас, как отцов и мать родную, помолитесь господу про дарование жизни известному вашему квартиранту, значит мне, Петру Ивановичу, рядовому Салфеткину, Дуниному жениху, ежели не забыла своего любимого солдатика, какие слова прописала мне сюда на передовую позицию».
— Вот и вышло по-моему, — сказал Громов, подмигивая чтецу.
— Чего так? — не понял Иван Осипович.
— А насчет прокламаций! — поспешил выказать свою сообразительность второй громовский сосед. — Благодарствую, Надежда Ивановна, — отвлекся он в сторону, принимая из рук громовской жены вскипевший на жаровне чайник и тщательно обматывая тряпкой горячую ручку его, чтобы не обжечься. — Пошли, соседушка, что ли? Первый прокламатор и есть, Иван Осипович, — так и вышло… Ну, и пошутить уже нельзя, в сам деле! — переменил он тон, заметив, как испуганно помрачнело одутловатое, с нездоровой желтизной лицо Ивана Осиповича. — Ну, чего буркулами хлопать-то? Пошли, пошли, соседушка!
Узенький, сухожилый, с загнутыми кверху усами льняного цвета, в кончиках которых торчали порознь, как у кота, иглы-волоски, и с такими же кошачьими, жмурящимися глазами, не позволяющими взглянуть в себя, — он фамильярно подталкивал растерянно смотревшего Ивана Осиповича, терся запанибрата о его грузную, широкую фигуру, приговаривая:
— Ну, и фатюк же вы, Иван Осипович, ай, какой фатюк, в сам деле! Капиталы даже имеете, а такой…
Не досказав, он чихнул неожиданно — крепко, дважды подряд — и сам себя поприветствовал:
— Будьте здоровы, Илья Лукич!.. Апчхи! Салфет вашей милости… красота вашей чести!
— Я не про политику, — отозвался теперь Иван Осипович и строго посмотрел на него. — Мне политика ни к чему, мое занятие — рыба, и человек я приставу известный.
— Сальных свечей не ест Иван Осипович, чернил не пьет и стеклом не утирается, — что и говорить напраслину! — подсказал пословицу Громов и ухмыльнулся.
— То-то и оно, — оживился Иван Осипович. — Не такой я человек, чтобы!.. Квартирантово письмо, судари мои, читал для обыкновенного интересу. А обыкновенный интерес, думаю, воспретить никто не может.
— Пристав-то и может! — бесстрастно бросил реплику Громов и тем же спокойным, деловым тоном спросил: — С той недели торговать сельдь как будем, купцы святые?
— Уже промеж себя андреевцы и лейхтенбергцы, известно мне, совет держали: делать накидку или нет? — еще больше оживился теперь Иван Осипович, задержавшись у порога.
— Рынок рынку не приказ, — засуетился и узенький, с кошачьими повадками Илья Лукич. — Обговорить надо завтра по всему ряду: как и что, Андрей Петрович. Я так думаю, — кругляк-медяшку справа поставить к довоенной цифирке: для ровного счету.
— То есть? — спросил Громов.
— Двадцать семь сей день отпускали, — так? А два года назад, известно, — три копейки цена. К цифирке круглячок, нолик поставим: он и даст удобный, ровный счет. Нолик — это, скажу вам, самая главная цифра-командир бывает: смотря, какое место ей дашь. Не гляди, что дырка это, не выразительна цифра… Благодарствую, Надежда Ивановна! — откланялся он и за себя и за своего соседа.
И, когда отошли оба, Громов вполголоса сказал жене:
— Надя! Видала «чиновника»?
— Нет, где это? — удивилась она.
— Эх, в твоей работе глаза собрать надо, не то что!.. — Громов не договорил и укоризненно посмотрел на нее: — Становись, душа, к прилавку, — придет обязательно. Передачу перетащи поближе. Приготовь.
Ну, раз сказал «душа» — значит, не сердится. Надежда Ивановна поспешила выполнить распоряжение мужа.
Тот, кого он ждал, появился у лавчонки минут через пять. Все так же размахивая порожним баульчиком, он быстро шагал вдоль ларьков и, только приблизившись к громовскому торговому месту, замедлил шаги и поднял голову, мельком оглядывая редких прохожих.
— Почтеньице, хозяин! — громко сказал он, остановившись у прилавка. — Моркови мне, селедочки и прочего…
— Здоров, браток, — тихо, дружески отозвался Андрей Петрович, принимая из рук пришедшего желтый баульчик и передавая его жене. — Посылочку принес или тебе брюквы, салатца?..
— Выгружаю сейчас, Андрюша…
— Дело, Бендер!.. Так вам, господин, шотландку или астраханскую позволите? — сует Громов в кадку длинные деревянные щипцы и вытаскивает оттуда несколько штук сельдей и кладет их на оторванный полулист газетной бумаги. — Еще чего изволите? Морковочки, брюквы, салатца?
— Не морочь голову, Андрюша! — исподлобья усмехается одними глазами тот, которого назвали Бендером. — Чего изволите, чего позволите! — передразнивает он Громова.
— Сыпь скорей да у меня забирай, а то, гляди, карман прорвет.
— А ума не хватает парусиновый или холстовый сшить?
— А пиджак-то мой? Ты узнай раньше! Или в чужой карман пришивать, — скажешь тоже!
— Эх, ты… «чиновник»! — насмешливо, но без всякой злобы поддразнил приятеля Андрей Петрович. — Ну, чисто чиновник! Хохол бы свой, коллежского регистратора, срезал да сбрил, а то посмотри, каким петухом ходишь. Сколько раз сказано тебе? Пристало разве такое украшение нашему брату?
— Ты меня в солдаты бы сдал, лишь бы причесать по-своему! Мало что! А мне, может быть, твое горбатое, петушиное горло не нравится… кадык твой пономарьский! А не высказываю я, молчу ведь.
Начав свою встречу неожиданной и необидной пикировкой, они между тем делали каждый то, чего требовала от них эта встреча.
На дно баульчика легла пачка каких-то листков, заботливо уложенных рукой Надежды Ивановны; поверх пачки, накрытой куском рогожки, Громов положил сельди, завернутые в газету, потом пяток картошек, пучок луку, щавель; а кирпично-рыжий Бендер вынул из кармана какой-то продолговатый, правильной четырехугольной формы столбец, аккуратно обернутый плотной серой бумагой и крест-накрест стянутый в два ряда шпагатом, и, перешагнув порог лавчонки, вручил его — с предостерегающим словом «осторожно» — Надежде Ивановне, сразу же удалившейся в темный угол, где стояли ящики и кадки.
— Какой шрифт? — спросил Громов.
— Латинский мелкий, кегль десять, Андрюша. Что на прошлой неделе.
— Голова одним, а хвост другим, — фу-ты!
— Не взыщите, — что под руку попалось. И за то спасибо скажете.
— Да я ничего. Не в красоте суть, а в смысле.
— То-то и оно. Приходить, что ли? Или сами управитесь?
— Сами.
— Швед что? — спросил Бендер.
— У меня он. Полагаю, ищут…
— Наверно, Андрюша. Еще узнать хотел: двух девчонок видал на прошлой неделе у тебя тут, — проверены?
— А что?
— Не навели бы по дурости или по другой причине, — а? Что за девчонки? Лицом приятны, а, между прочим, не в лице суть, а в голове.
— Швед прислал: ему видней!
— Ну, Швед так Швед! — пожал плечами Бендер, беря в руки наполненный баульчик. — Кланяюсь всем, прощайте.
— Да ты хоть, браток, вид подай! — остановил его Громов. — Осторожности больше! Набрал — и айда?
— А-а… — вспомнил забывчивый «покупатель» и, порывшись в кармане, сделал вид, что платит деньги.
— Душа человек! — сказал о нем Андрей Петрович, оставшись вдвоем с женой.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Что делает Сергей Ваулин
Рука быстро перенесла необходимую цитату на мелко исписанный листок тетради в клеточку.
«Что же является существенным двигателем человечества? — заносил в нее Сергей Леонидович Ваулин. — Научное познание действительности устраняет несбыточные утопии, содействуя построению достижимых идеалов. В то же время оно придает мужество и силы в великой жизненной борьбе».
«Проанализируем»… — написал от себя Ваулин, но вместо того чтобы продолжать свое занятие, которым был поглощен вот уже три часа подряд, да, пожалуй, и еще два отдал бы ему, так как увлечен был работой, — он отложил вдруг ручку в сторону, приподнялся со стула и, взглянув мельком в окно, уже не переставал теперь глядеть в него — в широкую щель раздвинутой занавески.
Напротив, на подоконнике наполовину раскрытого двустворчатого окна, держась ручонками за раму, стояла белокурая девочка лет четырех-пяти. Подайся вперед рама или один неосторожный шаг, закружись голова, — и ребенок, слетев с пятого этажа на камни двора, разобьется насмерть! Да сколько таких случаев бывало!..
Казалось, кроме него, Ваулина, только еще одно живое существо было свидетелем происходившего, но это живое существо… дымчатая кошка, дремавшая, вытянувшись во всю длину, в углу того же подоконника! Девочка, присаживаясь на корточки, гладила неподвижно лежавшее животное, девочка и сама ложилась на подоконник, свесив голову вниз, и вновь подымалась, со смешной деловитостью, тщательно оправляя свое коротенькое розовое платьице, из-под которого торчали, как у больших кукол, кружевные топорщащиеся панталончики.
На ней был широкий кожаный пояс темного цвета — совершенно излишний, как решил вдруг в ту минуту Ваулин: он подумал, по ассоциации, о своей собственной дочурке, ему припомнилось, в чем она ходит, как одевает ее бабушка… Но все это — на одну секунду, на одну терцию, потому что мысль целиком, напряженно отдана была маленькому белокурому существу, стоявшему сейчас, как убежден был, на краю гибели.
И никто не видит этого, кроме него, Ваулина! Никто не может предотвратить неизбежное несчастье, которое должно вот-вот произойти… Вероятно, в квартире никого нет сейчас, ребенка на время оставили одного, а когда возвратятся, будет уже поздно.
— Ай… ну, что она, в самом деле! — выкрикнул он и, забыв обычную свою осторожность, отдернул занавеску, распахнул окно и высунулся в него. — Назад, девочка! — крикнул он, но, понял сам, не так громко, чтобы ребенок мог его услышать.
Половинка закрытого до сих пор окна оттолкнута ручонками девочки, а сама она лежит животом вниз на подоконнике, болтая поднятыми босыми ногами: потерять равновесие было делом одного мгновения.
— Слезай, Лялька! (так звали его дочку) — не сдержался Ваулин и замахал руками, и голос его гулко разнесся по всему двору.
Девочка подняла голову, ища глазами кричавшего. Она увидела Ваулина.
— Ах, ты… Разве можно так? Убьешься! — грозил он пальцем и быстрыми жестами показывал, что она должна сделать.
Девочка отодвинулась немного, но не изменила своей позы. Задрав голову и надув недоуменно и капризно губы, она поглядывала на незнакомого человека, вмешавшегося не в свое дело. Что это еще за дяденька такой?
«Кончится тем, что она убьется», — нервничал Ваулин, не зная, как дальше следует ему поступить.
На один момент мелькнула мысль, что надо сбежать вниз, подняться в квартиру, где живет девочка, позвонить, предупредить о грозящей ей опасности, любого, кто откроет дверь, и тем спасти ребенка. Но он тотчас же отклонил эту мысль: стоя здесь и наблюдая за девочкой, он по крайней мере сдерживает ее поступки, он, видимо, влияет на нее своим присутствием, а что может случиться за то время, покуда добежит до ее квартиры?!
Девочка быстро вскочила, повернув голову назад.
— Ох, ты!.. — вздрогнув, уронил Ваулин.
Девочка откликнулась, по всему видно было, на чей-то зов. В глубине комнаты Ваулин увидел теперь голову, плечи и руки рыжей женщины, державшей сковородку. «Ну, слава богу…» Он был убежден, что мать (в этом он не ошибся) немедленно бросится к ребенку и снимет его с подоконника, и на том, наконец, кончатся его, Ваулина, собственные волнения. Однако женщина ничего подобного, к его возмущению, не делала. Она возилась со сковородкой, разжигала керосинку, выходила несколько раз из комнаты и вновь появлялась, что-то говорила v девочке, а та, не отвечая, не покидала своего опасного места.
С громким мяуканьем спрыгнула с подоконника встрепенувшаяся дымчатая кошка, — на теплый зов приготовлявшейся еды.
«Избить мало такую мать!» — расстраивался Ваулин.
— Сударыня! — закричал он, когда та приблизилась к окну. — Девочку заберите… разобьется!
Рыжая женщина улыбнулась ему, кивнула головой, что-то сказала дочке. Девочка посмотрела на Ваулина, сделала вдруг реверанс и, приложив ручку к губам, послала ему воздушный поцелуй. Мать взяла ее на руки и, все так же улыбаясь — снисходительно и со сдержанным лукавством, сняла с подоконника. И тогда только Ваулин закрыл свое окно, задернул занавеску и сел к столу.
Вся эта сцена продолжалась минут пять или того меньше, перерыв в работе был незначителен, но продолжать ее, — почувствовал Ваулин, — он уже не мог. Ваулин понял теперь, только теперь, как сильно устал, как глухо шумит в ушах и тяжелы руки от локтя до пальцев. Он зевнул — несколько раз в течение минуты: это лишний раз говорило о его усталости и в то же время о том, что она уже проходит, — его организм был крепок, и какие-нибудь полчаса отдыха возвращали ему силы.
Тетрадь с листом в клеточку, казавшаяся до того теплой, живой, наполненной сосредоточенной энергией его мыслей, вобравшая в себя весь «сок» ее, лежала остывшей, позабытой словно. Порыв ветерка (когда распахнул окно) перевернул без счету, напроказничав, ее страницы, и на открытых чистых листах тонким слоем серела налетевшая, набившаяся пыль, еще больше омертвившая страницы.
Он смахнул пыль, отбросил вправо поваленные ветром страницы и нашел ту, последнюю, на которой так случайно оборвалась его мысль.
Но все — напрасно… Работу не сдвинуть было с места, — не клевало.
Так часто случалось с Ваулиным, и, зная эту особенность своего характера откладывать работу, когда она не спорилась, ибо выходила она в противном случае не такой, какой хотелось, — он захлопнул книги и тетрадь и улегся на кушетке. Через минуту ему стало неудобно на ней: клеенчатая, с твердым подголовником кушетка была коротка, и, чтобы не свисали ноги и не надавливало в затылок, он приставил к ней стул, а из соседней комнаты принес подушку, — словом, расположился так, как делал это всегда, укладываясь здесь на ночь.
Наконец, тело его обрело покой.
Он лежал и думал — беспорядочно, не останавливаясь долго на одном и том же.
Мысли его шли примерно так:
«Ничего, ничего, вот только отдохну немного и допишу статью… Ах, какое глупое дитя: ну, еще один шаг — и такое несчастье! А я ей, кажется, «лялька» крикнул? Да, да — «лялька»… Солнышко ты мое, Лялька моя родная, девочка родненькая… Какой ужас был бы… Где это комар звенит?.. Надо матери сказать, чтобы внимательно следила за ней. Тоже ведь высоко живут. Ну, счастлив, что они обе здоровы… А рыжая (это про женщину в окне) — дура!.. И если бы я только мог… Кажется, никто, кроме нее, не видел, но все-таки надо быть осторожным… Лялечка, солнышко мое родное, девонька моя ясная. Ничего, ничего… «Вырастешь, Саша, узнаешь»… Бедная, бедная Надя…»
Здесь, подумав о жене, он вспомнил (какой раз за эти годы!) день, которому суждено было, вероятно, всегда стоять в памяти неповторимым, острым до мелочи знаком.
…Роды наступили раньше, чем оба они ожидали. Это случилось четыре года назад, летом, в Царском селе, в дачном домике Надиного отца, полковника в отставке. Ваулин лежал в гамаке в саду, читая газеты. «Молодой человек, делом займитесь!» — услышал он взволнованный голос тестя. Ваулин вскочил и побежал в дом, — жена сидела на диване, глубоко откинув голову на его массивную овальную спинку красного дерева, упершись руками в сиденье. На первый взгляд — то ли она хотела осторожно сползти, то ли, напротив, упиралась, влекомая книзу тяжестью круглого, выпячивающегося живота. Она стонала, в лице ни кровинки, и коричневатые, растекающиеся пятна на скулах, как это бывает у многих беременных женщин, еще больше темнили сейчас ее широко раскрытые плачущие глаза.
Через четверть часа, когда прекратились первые схватки, Ваулин доставил ее в местную больницу: возвращаться домой, в Петербург, — и думать не приходилось. В вестибюле больницы схватки возобновились с еще большей силой, жена приседала, хватаясь за живот, и не стонала уже, а кричала громко, пронзительно, — и Ваулину было почему-то стыдно за ее крики; он испытывал неудобство и в то же время огромную жалость к ней, сострадание, которое — в суете — не знал, как выразить.
Ее положили на носилки и быстро понесли по паркетному коридору, — он не успел попрощаться с женой. Она протяжно, на разные голоса продолжала кричать, руки ее вцепились в ребра носилок, а голова приподнималась с подушечки, не забирая с собой («Как странно!» — подумал Ваулин) лежавших без движения плеч.
Ваулин остался один. Держа в руках поднятый с пола женин голубенький шарф, он вышел на улицу. Он слышал крик жены, крик этот преследовал его все время, много часов подряд: на улице, в поле, в лесу, куда забрался, чтобы никого не видеть, в дачном домике угрюмого, молчаливого тестя. Крик неумолчно стоял в его ушах, как жалоба и укор.
…Ваулин повернулся на бок и усилием воли заставил себя думать сейчас о другом.
Бедные люди, а Надежда Ивановна какая чистоплотная, аккуратная (это — об остекленном светлом шкафчике перед глазами, на полках которого в чинном порядке стояли чашки, тарелочки, чайник, вазочки)…
Скоро будут дома. Что, интересно, принесут?.. На углу газетчик… ну, что может быть нового в газетах?
Он лежал на разбросанных на кушетке газетах, — первую попавшуюся из них он вытащил из-под себя и стал читать. Верней — просматривать. «А-а…» — улыбнулся он тотчас же, взглянув на ее название. Скомкать и бросить под стол? Нет, врага надо знать, надо следить за ним.
Это была газета «Русский рабочий», издававшаяся фактически, — что являлось секретом полишинеля — департаментом полиции. Редактировала ее «писательница» Елизавета Бор-Шабельская — мясистая, полнощекая женщина в боярском костюме и кокошнике: такой она изображалась на всех помещавшихся неоднократно в газете фотографиях.
Тут же, из номера в номер, рекомендовались читателю «увлекательные» романы ее: «Сатанисты», «Красные и черные», «За стенами германского посольства». На первой полосе Ваулин прочитал стишки, написанные «путиловским рабочим» Шуваловым:
Если вся уничтожится рать, То пойдет хлебопашец и плотник, Ткач и слесарь пойдут умирать И последний домашний работник!«Так, так…» — усмехнулся Ваулин.
Кажется, это были последние строки, которые прочитал: он заснул. Спал он крепко и глухо: он не слышал, как открыли парадную дверь, как вошли в квартиру хозяева, заглянули в его комнату, как возились они по соседству, разговаривая полным голосом… Он проснулся от прикосновения к плечу чьей-то подталкивающей руки. Ого, он проспал немало: в комнату вползал розовато-серый свет сумерек.
— Вставайте… вставайте, — будил его хозяин квартиры, Андрей Громов. — Обед давно готов, чаевать будем. И еще кое-что…
— Чудесно! — вскочил Ваулин, потягиваясь, протирая глаза. — Вы принесли конец набора? Я не ошибся. Андрей Петрович?
— Совершенно верно. В ночь отпечатаем.
Обедали в этой же комнате: их всего было две в громовской квартире — столовая и спальня.
Надежда Ивановна разливала суп, и Ваулин заметил, как старалась она положить в его тарелку побольше картофельной гущи, и единственный, кажется, кусок мяса, плававший в кастрюле, был поделен между мужчинами так, что Ваулину досталась большая его часть.
Он запротестовал, и Громов, погрозив пальцем, шутливо сказал:
— Партийный наказ такой… слушаться надо. Надежда знает, что делает.
За обедом он рассказал о Бендере, наборщике типографии «Просвещения», о последних новостях вечерней «Биржевки»: думский Протопопов из Стокгольма вернулся, и что-то много о нем писать стали, да еще о том, что в той же газетке меньшевики-оборонцы напечатали опять свое заявление.
— А что там? — заинтересовался Ваулин и глазами стал искать газету.
— Сейчас! — И Надежда Ивановна мигом принесла ее из спальни.
— На второй полосе, — ткнул пальцем Андрей Петрович.
Ваулин прочитал вслух:
— «…Раздающееся в известных кругах обвинение нас в подстрекательстве к забастовке — нелепо, ибо мы считаем, что они обессиливают рабочий класс и дезорганизуют страну, а мы стоим за организованность. Обвинение нас в «скрытом пораженчестве» мы считаем гнусной клеветой, ибо, если бы мы не стояли на точке зрения обороны страны, то не вошли бы в военно-промышленный комитет».
— Каково, а? — взглянул он на Громова, дожевывавшего мясо.
Андрей Петрович утер рот серым носовым платком и сказал:
— Об чем речь! Давно известно: господа оборонцы, с Гвоздевым и компанией во главе, блином, масляным блином в коноваловский рот лезут, прихвостни.
Он говорил спокойно, может быть, чуть-чуть угрюмо, все время одним и тем же тоном — ровным и сдержанным, хотя, как знал это Ваулин, терпеть не мог оборонцев-меньшевиков, был непримирим к ним, своим политическим противникам.
Та же сдержанность покоилась на его маленьком и круглом, как яблоко, серокожем лице с розовыми и тонкими просвечивающимися ушами; и только в светло-голубых глазах его, опущенных книзу, держалась всегдашняя хитринка.
По отзывам товарищей из организации, да и сам Ваулин в том убедился, Андрей Петрович был незаменимым беседчиком-агитатором (может быть, и лучшим среди питерских рабочих-большевиков), и Петербургский Комитет партии им очень дорожил. Он входил в ПК вместе со старыми подпольщиками рабочими, сторонниками Ленина в социал-демократическом рабочем движении.
Громов был одинаково осторожен и выдержан на любой конспиративной работе, а вести ее приходилось в разных местах. В трактире «Лондон», на углу Лиговки и Курской, прозванном «Капернаум», где за бутылкой портера всегда можно было встретить свою, рабочую публику всяческих профессий; в литовском народном доме, часть помещения которого заняли под сборный мобилизационный пункт, что привело сюда немалое количество ругающихся и плачущих жен с детьми, быстро поддававшихся антивоенной агитации; на собрании участников больничной кассы завода «Парвиайнен» на Чугунной, где не работал, но куда надо было обязательно попасть, чтобы умудриться всучить «колеблющимся» листовки большевиков; в лесу, на сходке в районе Благовещенской и проспекта Петра Великого, куда в проверенную, в общем, компанию партийных единомышленников могли затесаться, уже наверно, агенты царской охранки, — всюду и всегда спокойствие и осторожность не покидали Андрея Громова.
За эту черту его характера да еще за уменье путем толковой беседы внушить к себе доверие слушателей и влиять на них кто-то в шутку назвал его «Лекарь», и это стало его партийной кличкой; так же как Ваулина, по внешнему облику его, многие товарищи называли «Швед».
Андрея Громова Ваулин не только уважал и питал к нему приязнь, но и считался с его суждениями, прислушивался к ним, проверяя тем правильность своих собственных.
Ваулин был одним из тех немногих партийных литераторов-интеллигентов, уцелевших от ареста, кто составлял главную литературную силу разгромленной в войну петербургской организации. Надо было писать листовки, прокламации, статьи в изредка выходившие номера подпольной газеты, составлять конспекты речей рабочих-большевиков, которые те должны были произносить на безобидных, на первый взгляд, собраниях, писать сводки-корреспонденции в заграничный орган ЦК — «Социал-демократ», — за последние полгода на Ваулине лежало немало обязанностей. И Андрей Громов бережно, любовно, — замечал Ваулин, — хранил до поры до времени листки его рукописного имущества (и, чтобы не оставалось никакого следа, уничтожал их после печати; однако он часто вносил в них свои поправки. Он вчитывался в написанное Ваулиным, хвалил, но тут же прибавлял:
— А не разменять какой рупь на медяки?
И безобидная, ласковая хитринка светилась в его глазах.
Вначале Ваулин не понимал иносказаний Андрея Петровича:
— То есть… какие-такие медяки? — но вскоре усвоил эту манеру речи своего приятеля.
— Разменять рубль на пятаки? А это вот что: написать надо просто. Громкие рублевые слова разменять на простые, на понятные всему нашему брату. Для кого пишем? Для рабочих пишем, — значит…
И он делал выразительный жест рукой, быстро раскрыв до отказа кулак, натянув ладонь и отогнув далеко в сторону большой палец: сами, мол, понимаете…
Чувствуя всю справедливость указаний Андрея Петровича, Ваулин соглашался с ним, старался писать листовки проще, выбирал слова точные, знакомые читателю подпольных прокламаций, и только удивлялся каждый раз, насколько метки и правильны были всегда замечания этого типографского рабочего, умудренного опытом повседневной партийной работы. Прокламацию, посвященную аресту думских депутатов, писал Сергей Леонидович совместно с Громовым.
— Как дочка? Может, надо передать что ей и матушке? — спросил в конце обеда Андрей Петрович. — Если интересуетесь, Надежда завтра сходит, все сделает.
— Да, да… — подтвердила Надежда Ивановна. — Мне что? Я мигом… Я ребеночка вашего повидаю и все расскажу вам потом. Записку отнесу, как прошлый раз.
Она смотрела на Ваулина уютным, услужливым взглядом темных, слегка навыкате глаз. Обычно молчаливая — она вдруг оживилась теперь, краска залила ее узкое, смуглое, как у сербианки, лицо с тонкими, сухими губами.
— Дочка у вас какая хорошая! Ножки стройные, голосок динь-динь-динь!
— Ничего, мать, поздоровеешь — своего заведем. Не сокрушайся, мать, не сомневайся, — встал из-за стола, подошел к ней и похлопал по плечу Андрей Петрович, и видно было, что хотел замять неудачно всплывший разговор.
Ваулин начал было рассказывать о девочке, едва не упавшей с четвертого этажа, и о своих волнениях по этому поводу. Но вдруг показалось ему, что делает сейчас глупость. («Ах, надо было отвести разговоры о детях, раз она так болезненно реагирует!..») И оборвал свой рассказ, виновато взглянув на смотревшего исподлобья Андрея Петровича.
Однако на этот раз он ошибся, — Надежда Ивановна, усмехнувшись, сказала:
— Эта Маргаритка хоть свалится, но никогда, ни в жисть, не разобьется. Мы с Андрюшей раньше тоже очень беспокоились, а теперь не обращаем внимания.
И она в два голоса с мужем сообщила Ваулину: Маргаритка — дочь цирковых артистов, работающих на трапециях. Хлеб зарабатывают всей семьей. Надежда Ивановна сама видала в цирке эту самую Маргаритку висящую над сеткой на опущенных книзу руках своего отца. Она привычна к «высоте», и дома на подоконнике она стоит частенько, но упасть и разбиться не может, так как на ней надет пояс, а от пояса идет длинная, не замеченная, очевидно, Ваулиным, тонкая, но прочная веревка, прикрепленная предусмотрительно к ножке кровати или к дверной ручке. В том-то и весь секрет, и нечего было волноваться.
— А высовываться вам в окно — тоже ни к чему! — добавил Андрей Петрович. — Увидят! Что за жилец такой новый? — подумают. Кому это нужно? Попадись вы на глаза старшему дворнику, да хоть и вообще дворнику, — сразу неприятность. Сами привяжутся да еще хозяину доложат. А, между прочим, знаете, кто домовладелец наш? Хулиганье, черносотенец я-тте дам, гиена в мундире.
Но в каком мундире ходит громовский домовладелец, Ваулин уже не расслышал, верней — не обратил на то внимания. Оно целиком было отдано сейчас третьей полосе вечерней «Биржевки», которую, пробегая глазами, держал в руках.
На этой третьей полосе, в правом верхнем углу ее, среди обычного текста городской хроники и фельетонов, Ваулину попалось на глаза — на таком неожиданном в газете месте! — набранное крупным шрифтом объявление, оторвавшееся от всех остальных, взлетевшее наверх, в узорчатой квадратной рамке.
Он не спускал с него глаз: о, никакого не могло уже быть сомнения!.. Как же поступить? Ах, черт возьми, — ну, конечно же, так, как там сказано! На почтамт? Нет, теперь уже, пожалуй, письмо может запоздать. Он опять взглянул в текст объявления: «3–3» нонпарелью — это означало, что заказ издательством выполнен и объявление печатается сегодня в последний раз.
Да, да, письмо может опоздать, не дойти, — ведь он, черт возьми, прозевал минимум два дня, безвыходно сидя здесь, у Громовых, занятый работой над статьей для «легального» журнала. А это время…
(Конечно же, Вера Михайловна вызывала его, как всегда, через корректоршу этого журнала, а та, вероятно, захворала и потому не могла выполнить данного ей поручения.)
Ваулин, едва сдерживая свое волнение и радость, встал из-за стола, сложил газету вчетверо и спрятал ее в карман.
«Один семь-семь восемь-семь», — повторял он в уме, словно боялся забыть эти цифры и порядок, в каком они следовали.
— Ну, успеха! — прощался он через час с Громовым. — И мне пожелайте.
— Ночевать придете? — вышел из чуланчика Андрей Петрович.
Пальцы его растопырены, запачканы черной, пахнущей керосином краской, кистью руки он отбрасывал наверх сползшую на лоб прядь растерявшихся волос.
— Другого места нет. Хотя, знаете…
Ваулин что-то соображал.
— Вам видней, — не торопил его с ответом Андрей Петрович.
— Н-не знаю, — все еще не решил Ваулин. — А записочку матери моей пусть, пожалуйста, Надежда Ивановна отнесет завтра. Я там оставил… в конверте, — вспомнил он совсем о другом.
Громов кивнул головой.
— Только к Шурканову не ходите, — неожиданно сказал он, и Ваулин вздрогнул даже от удивления: вот сейчас, сию минуту он как раз подумал о том, что, может быть, придется отшагать сегодня на Выборгскую сторону, к старому большевику Шурканову, бывшему в прошлой Думе депутатом, избранным в Питере по рабочей курии.
Квартирой Шурканова, прекратившего одно время активную партийную деятельность, часто пользовались работники Петербургского Комитета для свиданий, ночевок, а некоторые — и для продолжительного пребывания в ней, для жилья. Шурканов — преданный делу человек, — так почему же Андрей Петрович советует не ходить к старику?..
Громов насупился, замотал своей маленькой головой:
— Шурканова квартира — фонарь для охранки. Это я верно говорю.
— От такого подозрения с ума можно сойти! — вскрикнул Ваулин. — Ведь надо же доказать это, Андрей Петрович! Доказать, а? Вы понимаете?
— Ладно, понимаю, — все тем же ровным тоном ответил, прощаясь, Громов. — Доказательства сами придут. А я — чувствую… Ключ взяли? — вернулся он к прежнему разговору.
— Взял, — проверил себя, нащупал Ваулин в кармане брюк раздвоенную бородку ключа. — Успеха! — дружелюбно бросил он вновь, глядя на запачканные черной краской руки Андрея Петровича.
И вышел из квартиры.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ Семья на даче
Этой ночью приснился отчего-то Трафальгарский сквер, огромная ионическая колонна, наверху которой в туманных облаках, гордо подняв голову, стоял адмирал Нельсон. А он, Лев Павлович, держа за руку Юрку, стоит у памятника и объясняет что-то сыну.
Что именно — так и не вспомнилось наутро, но почему мог присниться английский сквер, да и не только он один, казалось понятным: весь вчерашний день он, Карабаев, и клювоносая, в золотом пенсне, Ольга Дмитриевна, помощница в делах, перечитывали заграничный дневник Льва Павловича. О да, — таинственно пропавший дневник очутился вновь в его руках…
Это случилось так. Вчера утром неизвестный молодой человек принес в редакцию газеты, где работает Ольга Дмитриевна, большой пакет и вручил его швейцару внизу. Пакет оказался дневником Льва Павловича. К нему была приложена кратенькая, двустрочная записка, сообщавшая, что бумаги найдены в купе вагона во время уборки его. Прекрасная, исполнительная Ольга Дмитриевна немедленно примчалась на дачу. Какое счастье, господи: ни один листок не пропал, все лежало в полном порядке, — Лев Павлович был искренно обрадован, и даже мысль о том, что его записи побывали в руках охранки (а что это так — он был убежден), не омрачила сильно на сей раз его радости.
Ну, так вот: то ли еще могло присниться после прочтения дневника, после оживления в памяти всех заграничных, впечатлений? Мысль во время сна — как ветвь, опущенная в соляное озеро: вытащишь ее, а на ней каждый раз в новых, причудливых сочетаниях кристаллики соли разной формы, — так и подумал о своих сновидениях Лев Павлович.
Подумал еще и потому, что, кроме Юрки, очутившегося у памятника английского адмирала, приснилась (что за черт!) всякая чепуха: бурая корова со сломанными рогами, бредущая по перрону Финляндского вокзала, а у колокола — лестница с наваленными на нее дамскими цветными шалями, и еще игра в футбол на здешней дачной площадке, разгоряченные, вспотевшие лица бегающих футболистов, среди которых то и дело мелькало смугло-матовое, усатое лицо, с узкой ямочкой на подбородке Александра Дмитриевича Протопопова.
Впрочем, последнее-то было объяснимо, как и Трафальгарский сквер: на столике, у кровати Льва Павловича, лежала кипа вчерашних газет, а они почти полны были разных сообщений, о возвращении на родину из Стокгольма товарища председателя Государственной думы А. Д. Протопопова, «удостоенного», как сообщала пресса, монаршего приглашения сделать доклад о поездке.
«Харя!» — подумал Лев Павлович о своем думском коллеге, хотя лицо того — благообразное, с правильными чертами — не заслуживало такого сурового отзыва, а сам Лев Павлович обычно избегал грубых слов по чьему-либо адресу. Но Протопопова он не любил, невзлюбил его давно.
«Харя… хвастун! — уперлась мысль Льва Павловича в одну и ту же точку. — И приснится же… как крыса: к какой-нибудь неприятности!»
Еще лежа в постели, он протянул руку к стакану с молоком и ватрушке, заботливо приготовленным для него Софьей Даниловной, быстро съел это и сразу же закурил, чего он не позволял себе делать натощак.
Он был один в комнате, — жена давно уже возилась по хозяйству, и он слышал ее голос, доносившийся со двора в открытое окно, занавешенное полотняной шторой.
Кудахтали куры хозяйки, изредка долетал в комнату ее финский говор, жужжал, биясь в стекло, гулкий шмель, голосил где-то на улице пройдоха-офеня, тарахтела на выбоинах крестьянская повозка, — но все это не разрушало еще накопленной за ночь тишины раннего солнечного утра за городом, в деревне, а Льву Павловичу, привыкшему к городскому шуму, тишина эта казалась и вовсе нерушимой, застывшей.
Дважды прокричавший в соседнем дворе петух отвлек на минуту мысль Льва Павловича, — он подумал о петухе и — тотчас же — о купающихся в речке ребятишках, о приземистых, с колокольчиками на шее, здешних коровах в реденьком лесу, о старушках финках, молчаливо собирающих там же грибы, — ну, словом, о мирном идиллическом укладе тихой деревенской жизни, издавна близкой его сердцу, волей судьбы отданному, однако, другому.
И как в сущности ему приятны и любы эти молчаливые старушки крестьянки! Этот трудолюбивый, весь день в мерных и мирных заботах, плотник, хозяин дачи, Вилли Котро — такой же дельный работяга, как и все обитатели сельской России; как милы все эти белобрысые, резвые ребятишки, сражающиеся в «городки», удящие рыбу с умением опытных рыбаков, с детства привыкшие обращаться с топором, рубанком, сапожной иглой; все эти хлопотливые, выносливые, берегущие семейный очаг жены бесчисленных Вилли Котро, сидящих — от Балтики до Черного моря и от утраченных теперь польских деревень до Великого океана — на раздольной, широкой русской земле… Хороша, ах, как хороша могла быть жизнь на ней!
Могла быть, но… так угасла минута идиллической умиротворенности и мечтательности Льва Павловича: надо встать, одеться, приняться за работу, которую не счел возможным бросать даже на отдыхе.
Он протянул руку все к тому же столику, на котором стоял опорожненный стакан из-под молока, взял оттуда верхний, из тонкой стопки бумаги, наполовину заполненный листок и хотел пробежать его глазами: увидеть, вспомнить последнее, что написал еще позавчера, вспомнить и подумать о том, о чем следует еще вот сегодня писать («в газету… передать с Ольгой Дмитриевной… попросить, кстати, аванс под эти заграничные очерки»…), до, начав читать листок, не закончил чтения.
Забыл стряхнуть пепел от папиросы, — он упал на белое пикейное одеяло, и, заметив это, Лев Павлович всполошился, откинул одеяло, вскочив с кровати, стал вытряхивать его, как будто оно и в самом деле могло загореться от пепла.
«Нервы! — осадил себя Лев Павлович. — Проснулся, батенька, сразу же и одевайся».
И, как был в пижаме, всунув ноги в комнатные туфли, он вышел из дачи на крыльцо.
Умывался он тут же, во дворе, за выступом дачного домика. Софья Даниловна, стоя сбоку, слегка наклонившись, поливала из большого эмалированного кувшина, держа его обеими руками, широко расставив ноги — не хотелось облить водой свои кожаные желтые туфли.
— Приятно тебе, Левушка, — правда? Еще хочешь? Сделай одолженье, друг мой, — любовно говорила она.
— Бр-р-р… давай, давай, Соня. Хорошая, холодная, чудная вода!
Тоже расставив широко ноги, нагнувшись, голый по пояс, Лев Павлович подставлял под кувшин чашкой приставленные одна к другой ладони с загнутыми кверху пальцами и воду не подносил к лицу, а, словно озорничал, бросал ее в лицо — в глаза свои, в бороду, в густые усы. Несколько раз он намыливал шею и тщательно, засовывая мизинцы, в уши, промывал их и натирал докрасна. Мокрыми руками он хлопал себя по волосатой, трясущейся жирной груди, тер бока и плечи, просил жену «много, много воды» лить ему прямо на голову.
— Ну, хватит уже! — умеряла его пыл Софья Даниловна, опуская наземь кувшин. — Не простудиться бы, Левушка…
И она нежно похлопывала его по натянувшейся, гладкой спине и, как много лет назад, в первые годы их совместной жизни, щурясь и оглядываясь по сторонам, закусив губу, ласково, украдкой пощипывала его плечи.
— Скорей одевайся, а то соблазнишь всех местных красавиц! Стыдись… отец семейства!
И, отойдя уже, из-за угла дома окликнула его:
— Левушка, Лев Павлович! Мы все ждем к завтраку. Поскорей, милый!
Через несколько минут он закончил свой туалет, чувствуя себя бодрым, здоровым и в хорошем настроении.
На камне в сторонке, лежало широкое, червонного золота, обручальное кольцо, снятое, по обыкновению, перед умыванием с пальца. Руке словно чего-то не хватало. Не только руке, но и всему Льву Павловичу, — он обрадованно нашел глазами кольцо и надел его: как будто пригнал для абсолютного порядка последний недостававший винтик.
Завтракали на остекленной веранде втроем: Ириша, он и жена. Юрку, как ни будили, не могли поднять с кровати после ночной рыбной ловли.
На столе — творог, сметана, редиска, крутые яйца, масло, кофе и миска свежей земляники — любимая пища всей карабаевской семьи, и Лев Павлович — бодрый, освеженный — с немалым аппетитом поглощал все это, а ягод и сметаны с сахаром откушал по две порции, — к великому удовольствию Софьи Даниловны.
За столом Лев Павлович рассказал о сегодняшних своих сновидениях, и Софья Даниловна заметила участливо, что не хорошо, когда снится так много снов: мозг не отдыхает, а ты, Левушка, к тому же такой впечатлительный, — нет, нет, хорошего тут мало, — надо не думать, совсем не думать на даче ни о какой политике. К чему это все? Успеется еще.
Ириша молча слушала материнские нотации отцу; она с охотой вмешалась бы в разговор, но ведь у нее свое мнение о политике, а это может вызвать только неудовольствие и раздражение родителей, — так уж лучше помолчать.
А Лев Павлович, дойдя в своем рассказе до «футболиста» Протопопова, вспомнил вдруг (очевидно, в прямой связи с вчерашними газетными сообщениями) об одном эпизоде в парижском отеле «Grillon», где останавливалась думская делегация.
И, вспомнив, почувствовал, что необходимо рассказать о нем, огласить хранимое в памяти теперь же, сейчас, хотя не думал, что это может быть интересно жене и дочери. Пусть так, — он все же расскажет, повторит для самого себя, потому что такова уже потребность «разделаться» с неприятным ему человеком, как Александр Дмитриевич Протопопов. Может быть, этим самым он выбросит его из памяти на целый день, чтобы ничто уже неприятное не раздражало и не отвлекало во время отдыха и работы над очерками для газеты.
И Лев Павлович сказал:
— Ты знаешь, Соня, как я отношусь к этому человеку. В нем много… ну, много хлестаковщины, что ли, и этим все сказано. Но, надо признать, в течение всей поездки, особенно — пока мы ехали туда, ничего особенного, я бы сказал — странного, я в нем не замечал. Человек как человек, говорил довольно связно, довольно банально, мало интересно, но вполне прилично. Говорил по-английски, по-французски там, где надо, и нам этого было совершенно достаточно. (Пододвинь мне, пожалуйста Сонюшка, редиску… Спасибо!) Ко всем членам миссии он проявлял чрезвычайно дружелюбное отношение. Не к чему было придраться…
— Так, может быть, ты, Левушка, неправ? — подала голос Софья Даниловна, протягивая дочери намазанный маслом кусок хлеба. (Так уж повелось в карабаевском доме, что всем в семье намазывала хлеб маслом сама Софья Даниловна.)
— В чем это неправ, Соня?
— Ну, в оценке этого человека. Ты сам рисуешь его джентльменом.
— А ты вот послушай! — обрадовался Лев Павлович тому, что жена с самого начала заинтересовалась его рассказом. — Я не хочу его умышленно чернить (я вообще не занимаюсь этим делом, как тебе известно!), хотя, повторяю, мне он глубоко чуждый и неприятный человек. Но вот тебе сценка…
Он принял из рук жены большую фарфоровую чашку кофе, забеленного жирными сливками, хлебнул из нее и продолжал:
— Да, вот тебе такая сценка… Как-то поздно ночью (надо тебе знать, что мы были заняты с девяти утра до глубокой ночи), возвратившись после какой-то официальной встречи, я пришел к себе в номер и старался набросать страничку своего дневника. В это время стук в дверь. Входит Протопопов: «Можно к вам?»— «Можно». — «К вам у меня очень большая просьба». — «Что скажете?» — спрашиваю. Он начал рассказывать, что затевает очень большую газету, европейского масштаба, которую субсидируют крупнейшие банки, что эта газета должна быть либеральной и беспартийной.
— Об этом во вчерашних газетах писали, Левушка…
— Да, да… Он надеется, понимаешь ли, с помощью этой, газеты бороться на выборах с попытками их фальсифицировать, как это было сделано с четвертой Думой. В газету привлечены все лучшие люди, как он выразился, и что он просит также и моего сотрудничества.
— И ты дал согласие? — выпалила, покраснев, Ириша, да так горячо, что Софья Даниловна немедленно обменялась с мужем многозначительным, красноречивым взглядом: «Вот видишь… Обрати внимание!»
— Нет, курсёсточка моя, — спокойно ответил Лев Павлович, перехватив взгляд жены. — Я сказал, дорогие мои, что сотрудничаю главным образом в «Речи» и что не могу себе представить свое участие в двух газетах, из которых одна «сомнительно-беспартийная». Тогда он говорит: «Там будут Короленко, Максим Горький, Амфитеатров, будет даже Меньшиков, и я думаю, что нужно, чтобы все, кто имеет талант, взялись за это дело». Ты понимаешь, Соня, эту «платформу»?! (Дай, голубушка, еще кусочек сахарку!) Я говорю ему: «Вы меня простите, Александр Дмитриевич, но это чепуха!» Он стал уверять все же, что это возможно: что газета пойдет, что все будет великолепно. Мне стало скучно говорить на эту тему, и я ему сказал: «Знаете, Александр Дмитриевич, вы меня оставьте с таким предложением. Я не могу в это дело войти, сотрудничество в такой беспринципной газете для меня невозможно».
— Папа, я тебя уважаю! — захлопала в ладоши Ириша.
— А я уже начал сомневаться в том, доченька! — не без намека на что-то ответил Лев Павлович и ласково посмотрел на нее: «Какая красивая, и лицо какое открытое, бесхитростное…» — Ну, так вот… Тогда он говорит: «Какойвы злой, Лев Павлович, нехороший!» — знаешь, капризно так, сюсюкал: взрослый человек, — фу, довольно противно это у него получилось!
Лев Павлович сделал брезгливую гримасу: ноздри сжались, усы опустились вниз.
— Да-a, «какой вы злой, нехороший, — говорит он, — пойду я к Павлу Николаевичу: он меня лучше поймет, он, наверно, согласится». Я на него посмотрел с изумлением и думаю: «Что такое?!. Можно ли это говорить, когда я отказываюсь, а он пойдет… к кому?! К Милюкову? К Милюкову, который ведет «Речь», — пойдет просить сотрудничества в своей газете?!. Сумасшедший! И шарлатан…» Я пожал плечами, — Лев Павлович и сейчас сделал то же, — и говорю: «Что ж, идите». Мне показалось удивительным, ей-богу, странным, как этот человек ничего не понимает. Как можно свести Короленко и Горького с нововременцем Меньшиковым и туда же пригласить Павла Николаевича! Это же чепуха, а он говорит, что это будет легко, доступно и возможно. Мне это показалось ужасной дичью… Затем — тоже в Париже: уже на обратном пути из Италии. Куда-то надо было нам ехать, — постой, я даже припоминаю куда: мы должны были ехать к Ротшильду: Павел Николаевич, он и я. Он присылает своего лакея, с которым, кстати, как барин, никогда не расставался, — присылает с сообщением, что болен и не поедет. Я решил его навестить. Прихожу. Он лежит в постели раздетый. Действительно: видимо, скверно себя чувствует — пульс высокий. Я стал, как врач, его осматривать. Между прочим: у этого барина всегда дурной запах изо рта… Стал осматривать его: не то инфлуэнца, не то малярия — неизвестно что. Однако думаю: «Нет, это не инфлуэнца, что-то другое». Говорю ему: «Может быть, вы просто нервничаете, Александр Дмитриевич?» — «Да, я переутомился, со мной нехорошо. Вы, однако, не имеете права мне сочувствовать: вы злой и подозрительный». Видала, Соня? Я злой и подозрительный!.. «Вы теперь меня не треплите, — не говорит, а жеманится. — Такая трепка не по мне, я за себя боюсь. Со мной это иногда бывает, я иногда соскакиваю». В этом словечке, кажется, весь ключ… весь ключ к этому человеку. «Соскакиваю»!.. Патологический субъект, развинченный, неврастеник, враль!
Лев Павлович замолчал и стал доедать землянику.
— А почему враль? — поспешно спросила его Софья Даниловна, догадываясь, что что-то еще не досказано в повествовании мужа.
— Почему враль? — переспросил он, подбирая ложечкой с блюдца последние ягодки, подталкивая их мизинцем: никак не взять было одной лишь ложечкой. — Вообще враль, а еще, в частности, потому, что в тот же вечер, как мы узнали, уехал куда-то за город в обществе весьма сомнительных женщин. Это больной-то! — с неподдельным, горячим осуждением сказал Лев Павлович.
Прислуга принесла забытую им в комнате коробку папирос, спички, ракушку-пепельницу. Лев Павлович обратил внимание на то, что вот уже второй день в пепельнице лежит недокуренная на три четверти папироса, которую, конечно же, давно пора бы выбросить, но остальные окурки Клавдия, прислуга, выбрасывает, а этот оставляет, кладя куревом вниз.
Подумал о ней иронически, но с любопытством: «До чего хозяйственна крестьянка!» — окурок на ее глазах выбросил в окно, закурил новую папиросу.
К концу завтрака пришел Юрий: темные волосы прилизаны, ниткой — тонкий пробор на боку, темноглазый, немного продолговатое лицо с прыщиками на подбородке, нос заметен, остер, — весь очень похож на Георгия Павловича, на дядю, — отмечала всегда Софья Даниловна.
— Карасей восемь штук и мелкой рыбы фунта два! — объявил он, садясь к столу, шумно пододвигая стул. — Дезертир помогал.
— Какой дезертир? — в один голос спросили оба родителя.
— Ну, известно, какой — обыкновенный! — фальшивым юношеским баском ответил сын. — Тот, что воевать не желает и от властей прячется. Изменник отечества, короче говоря. Субъект наказуемый.
Родители переглянулись: не понять было сразу, каким тоном говорит их сын — насмешливо или серьезно. И оба предпочли не повторять своего вопроса.
Но Ириша полюбопытствовала:
— Каким же это образом он тебе помогал, Юрик?
— Не образом, а руками, мадемуазель. Сидели мы оба и удили. Вот и все. Удили и разговаривали, — тут я и понял из разговоров, с кем имею дело. Чистопробный дезертир: денег попросил на дорогу. На билет. Сам он из Тихих вод.
— Это что за местность — Тихие воды, какой губернии? — задала вопрос Софья Даниловна сыну, очищая для него яйцо от скорлупы.
Он рассмеялся и снисходительно, как показалось Льву Павловичу, посмотрел на мать.
— Местность эта не имеет губернии, но встречается теперь часто, мама!
— Что за манера… Ты усвоил, кажется, очень плохую манеру, Юрик, отвечать загадками и каким-то странным тоном, друг мой! — рассердился на него вдруг Лев Павлович. — Потрудись отвечать по существу.
— Я ничего особенного не позволяю себе, — смутился, к удовольствию Льва Павловича, Юрий. — Извольте, я вам все объясню. «Тихие воды» — так называют в шутку солдаты поднадзорную воинскую команду, из которой они убегают.
— Ну, не все убегают! — отрезал Лев Павлович.
— Не всем удается, но все хотят, — сказала как бы невзначай Ириша, встав из-за стола. — Спасибо, мамочка… Я пойду к гамаку, в рощу.
Проходя мимо отца, она вдруг приблизилась к нему и, не глядя в лицо, поцеловала его в щеку. Он ощутил ее теплые, мягкие губы, они отдавали слегка запахом свежего молока, сладкого творога, пеклеванного хлебца. «Ах ты мой теленочек родной!» — подумал о ней нежно, хотя еще секунду до того готов был, как и на Юрку, рассердиться.
Через минуту Ириша вышла со двора, пересекла песчаную рыхлую дорогу, взбежала на зеленый бугорок и, обхватив сзади сцепленными руками голову, медленно и плавно, немного раскачиваясь, что напоминало походку матери, Софьи Даниловны, направилась в лесок.
Лев Павлович долго провожал ее взглядом, сидя в плетеном кресле на веранде.
Вот она свернула направо, пошла какой-то тропинкой, и, чтобы видеть ее, надо повернуть в ту же сторону, направо, голову, и Лев Павлович, отвернувшись от стола, глядит теперь вдаль, сквозь стекло широкой верандной рамы.
Но стекло озорничает, как кривое зеркало в Луна-Парке, — волнистое, «пьяное» стекло, приобретенное экономным, малоимущим плотником Вилли Котро, смещает, ломает перед взглядом безукоризненно прямые сосны, превращает в смешной зигзаг тропинку, раздваивает, обезображивает плавно идущую фигуру Ириши. Лев Павлович ищет ровное, «трезвое» место в стекле Вилли Котро, для этого встает даже, не спуская взора с удаляющейся дочери.
«А ведь нам следовало с ней поговорить, пооткровенничать. Чую, что надо… — решает он вдруг, как бы отвечая каким-то другим своим мыслям, пришедшим уже не только сейчас, а еще раньше, в первый день возвращения из-за границы. Верней — в первую ночь разговора с женой, Софьей Даниловной. — Да, да, объясниться надо. Только, бы найти подходящий случай».
Он и не предполагал в ту минуту, сколь скоро представится этот «подходящий случай».
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ Большевики: старший и младший
Когда познакомились и прошли первые пять минут беседы, Ваулин искренно признался:
— А я и не подумал бы раньше, что вы такой!
Сухопарый собеседник стянул серый гарус своих бровей, улыбнулся и сказал:
— Такой, Сергей Леонидович, каким полагается быть в данный момент. Ленин, хваля, очевидно, за способность преображаться, называет меня Парацельсом. Знаете, в шестнадцатом веке существовал такой известный реформатор алхимии. Все сохранившиеся тридцать пять портретов его очень мало походят один на другой. А настоящее имя его не Парацельс, а вот такое: Филипп-Авреол-Бомбаст фон Гогенгейм. Вот, извольте запомнить, — так и со мной иногда!.. Ну, да ладно, поговорим о деле, товарищ.
— Во всяком случае, — отвечая улыбкой на улыбку, сказал Ваулин, — на нашего российского купца первой гильдии Савву Абрамовича Петрушина вы действительно не очень смахиваете. Надо думать, что и «купчиха» Евдокия Николаевна…
— …ничего общего с замоскворецкими купчихами не имеет, — закончил ваулинский собеседник.
— Да, Савва Абрамович. (Так и просил называть себя.)
— Позвольте, вы откуда звонили мне? — скачками шли его вопросы.
— Из аптеки.
— Никто не слушал вас?
— По-моему, никто.
— Это хорошо. Вы сами понимаете, что за вами, конечно…
— …слежка, — кивнул головой Ваулин. — Я осторожен, как могу: шел сюда буквально волчьими шагами. Я хорошо знаю Петербург и, узнав адрес, вспомнил, что можно пройти сюда двумя сквозными дворами с Мойки. Но я не ожидал, что попаду…
Недоговоренное заменил жест (развел руками) и удивленный огляд комнаты во все стороны: мол, довольно шикарно тут у вас.
Савва Абрамович назвал фамилию хозяина квартиры: крупного фабриканта, главы акционерного общества, широко известного в Европе.
«А-а, квартира шефа…» — тотчас же вспомнил Ваулин рассказы товарищей о Савве Абрамовиче.
— Мы одни в квартире, если не считать прислуг. Семья хозяина в Крыму, а сам он, хотя и в городе, но приедет сегодня очень поздно.
Они сидели в разных концах крытого розовым шелком узкого диванчика с инкрустациями на изогнутой спинке, с выгнутыми, позолоченными ножками, выточенными из карельской березы. Вся мебель в комнате — стулья, столики, второй диван — была точно такой же. «А все-таки безвкусица!» — не одобрил Ваулин, оглядывая комнату. Понравились только атласные, без всяких украшений и узоров, обои, словно дававшие мягкий дополнительный свет к электрическому, горевшему высоко под потолком.
Прислуга в белой наколке принесла на подносе кофе, сливки, печенье. Когда закрылась за ней дверь, Савва Абрамович сказал:
— Теперь нам никто уж не будет мешать. Рассказывайте, дорогой Сергей Леонидович, как обстоят дела. Так вот вы какой, вот какой, — повторил он дважды, прежде чем начать слушать, и посмотрел дружелюбно на Ваулина. — О вас писал нам несколько раз за границу очень похвальные вещи Бадаев. Ну-с, хорошо. Рассказывайте, рассказывайте, что знаете.
Но вышло так, что через несколько минут он больше сам стал рассказывать, чем слушать, что было только приятно Ваулину.
Последнее время Савва Абрамович, инженер-директор одного из предприятий русско-бельгийского акционерного общества («и старый большевик социал-демократ!» — все время не забывал этого Ваулин), большую часть года проводил на Западе, занятый там — официально! — делами фирмы. Он отлично умел организовать транспорт нелегальной литературы из-за границы и «технику» подпольной работы в крупнейших рабочих центрах России. Все это Ваулин, в числе немногих членов питерской организации, знал со слов все того же товарища Бадаева.
— …Пожелаем всем нам такую энергию, какую он проявляет! Его стремление быть в курсе всего, что происходит в России, не знает пределов.
Так ответил Савва Абрамович на вопрос Ваулина о Владимире Ильиче Ленине.
Савва Абрамович дважды за эти полгода ездил к нему в Швейцарию и несколько раз получал от Ленина письма в Лондон, — ого-го, какой человек Владимир Ильич! Неукротимый, страстной воли и энергии человек! А работоспособность… работоспособность дьявольская.
Ваулину было странно видеть Савву Абрамовича таким взбудораженным: насколько он успел приглядеться к нему, тот был до сего времени спокоен и сдержан, с жестами размеренными и неторопливыми, а тут вдруг — словно прорвало человека! Значит, есть кем восхищаться: Сергей Леонидович никогда не встречался с Лениным и ни разу его не видел.
— Что он делает сейчас? — задал простой вопрос.
— Все, что можно только, что удается делать в интересах партии! — несколько торжественно, как показалось Ваулину, ответил Савва Абрамович. — В частности, заканчивает для книгоиздательства «Парус» большую брошюру. Она называется «Империализм как высшая стадия капитализма». Этому вопросу Ленин, имейте в виду, придает громадное значение. Он считает, что настоящей, глубокой оценки происходящей войны нельзя дать, не выяснив до конца сущности империализма как с его экономической, так и с политической стороны. Вы знаете, — холодно уже улыбался вишневый тонкий рот Саввы Абрамовича, и гладко выбритый подбородок его слегка дрогнул, — что Пифагор, передают историки, открыв свою знаменитую теорему, будто бы принес Юпитеру в жертву сто быков. И вот с тех пор все скоты дрожат, гласит пословица, когда открывается новая истина. Ochsen zittern[19], говорят немцы в таких случаях. Напш и европейские меньшевики могут поистине, как Ochsen, дрожать: работа Владимира Ильича сокрушительный удар по их прогнившим теорийкам.
Последний раз не так давно удалось съездить в Цюрих и повидать Владимира Ильича. Живет он в узком переулочке, в старом, покосившемся доме с грязным, вонючим двором, в семье бедного сапожника Каммерера.
Ваулин удивился:
— Неужели нельзя было лучше его устроить?
Лучше?
Конечно, имелась возможность лучше устроиться. Все товарищи советовали ему переехать к фрау Прелог, например, где он столовался, но уж таков он: пришлось по душе — и все тут!..
Семья Каммерера была революционно настроена и всячески осуждала войну. Да и вся квартира там, как на подбор, интернациональна: в двух комнатах — семья сапожника, в одной — жена немецкого солдата-булочника с детьми, к которым Владимир Ильич вообще неравнодушен, в другой — какой-то полуголодный итальянец, в третьей — австрийские актеры с замечательно красивой рыжей кошкой, играть с которой Владимир Ильич также находит время. Однажды, — рассказывала Савве Абрамовичу Крупская, — у общей газовой плиты собрались женщины, жившие в квартире, и фрау Каммерер возмущенно воскликнула: «Солдатам нужно обратить оружие против своих собственных правительств!» После этого Ленин и слышать не хотел о том, чтобы менять комнату.
В маленьком кафе «Zum Adler» собирается цюрихская группа и ее местные друзья из «циммервальдской левой». Но и в этом узком кругу друзей Владимир Ильич не всегда в большинстве: принципиальная резкость его суждений о войне его непримиримость пугают некоторых даже самых близких, ему европейских социал-демократов.
(Савва Абрамович вставлял в это слово мягкий знак, говорил «социаль-демократ», и тогда каждый раз казалось вдруг Ваулину, что не только это слово, но и всю фразу произносит он с каким-то иноземным акцентом: не то эстонским, не то немецким.)
— Кстати, я вас должен предупредить, — инструктирует Савва Абрамович. — На днях в Россию должны приехать эстонский социал-демократ Кескула и голландец Трульстра. Никакого доверия к этим господам! Они оба немецкой ориентации, и, кто знает, только ли Шейдеман их посылает (а и этого уже достаточно!), или секретные люди из окружения самого генерала, Людендорфа. Нам, за границей, известно, что они будут предлагать деньги русскому бюро ЦК на революционную работу и вообще всякие услуги. Эти люди только запачкают нашу работу.
Вообще надо помнить Ваулину и всем русским товарищам: некоторые «иностранцы», получив отпор от Ленина за границей, будут стараться теперь раскалывать большевиков в России. Будут это делать и антантовские молодцы и германские.
Не поддаваться на удочку «дружелюбия»!
Максимум осторожности, товарищи!
— Надо все время помнить, — подчеркивал Савва Абрамович, — что отношение большевиков к конгрессам и конференциям, которые устраиваются сейчас на Западе, не было (и не может быть!) одинаковым. Заметьте себе, газета «Социал-демократ» много внимания уделяет этому вопросу; Кстати, я хотел у вас спросить, как доходит до вас эта газета? Владимир Ильич столько усилий прилагает к тому, чтобы каждый номер был переправлен в Россию! Знакомы ли вы со статьей о прошлогодней Лондонской конференции, напечатанной в «Социал-демократе»? Большевики отказались от участия в этой конференции: товарищ Максимович-Литвинов огласил декларацию, осуждающую ее социал-шовинистическое направление, и тотчас покинул зал заседания… Иное отношение у рас к такого рода конференциям, какой являлась, например, интернациональная женская конференция в Берне… Собравшиеся там были воодушевлены лучшими пожеланиями, но и они не наметили боевой линии интернационализма. Как метко определил Ленин, такие конференции — не что иное, как «шаг на месте».
Развивать стачечное движение под лозунгами: демократическая республика, конфискация помещичьей земли, восьмичасовой рабочий день — попрежнему остается важнейшей задачей революционной социал-демократии. В агитации необходимо отводить должное место требованию немедленного прекращения войн.
Он помолчал минуту, а потом, улыбнувшись, продолжал:
— Мы как-то спросили Владимира Ильича: «Что бы сделали мы, партия пролетариата, если бы революция поставила нас у власти в теперешнюю войну? А?» — «Мы предложили бы мир всем воюющим, — ответил он. — Мир всем воюющим на условии освобождения колоний и всех зависимых, угнетенных и неполноправных народов».
Затем Владимир Ильич прочел нам целую «лекцию» об империализме; я уже говорил вам, что этот вопрос стоит сейчас в центре его внимания. С знакомой нам несокрушимой, железной логикой он подвел нас к непререкаемому выводу: империализм — есть канун социальной революции.
Савва Абрамович не без торжественности произнес эту фразу.
«Да-а, вот они уже о чем там!» — подумал Сергей Леонидович уважительно и мечтательно.
— Больше того, — продолжал Савва Абрамович, — Владимир Ильич развил перед нами новую мысль, развил ее со смелостью, присущей, я бы сказал, гению, прозревающему дальнейший ход истории. Владимир Ильич утверждает, — чеканил каждое слово Савва Абрамович, — что новые закономерности, характеризующие эпоху империализма, вызывают необходимость пересмотра одного из традиционных марксистских представлений. Привыкли думать, что социальная революция произойдет во всех крупных капиталистических странах одновременно. Но усиление и обострение неравномерности экономического и политического развития создают возможность победы социализма первоначально в немногих и даже в одной отдельно взятой капиталистической стране. Разумеется, победившему в этой стране пролетариату пришлось бы вступить, в столкновение с капиталистическим миром. Но взявший власть рабочий класс стал бы могучим притягательным центром для угнетенных всего мира.
Ваулин впился глазами в собеседника, стараясь не проронить ни одного слова, запомнить в точности все, что он сейчас услышал.
Несколько раз звонил телефон, и прислуга просила дважды Савву Абрамовича пройти в хозяйский кабинет, — он уходил и, возвращаясь, каждый раз говорил:
— Пусть вас не смущает: это все деловые звонки.
Он вынул золотые часы и посмотрел на них:
— В нашем распоряжении еще добрых два часа, дорогой друг. Я попрошу вас только, поскольку вы уполномочены на то, сделать мне исчерпывающий по возможности докладец.
Он так и сказал: «докладец».
Слово это почему-то не понравилось Сергею Леонидовичу. Он взглянул на «Петрушина» и живо представил себе: вот в таком же строгом, как сейчас, черном костюме (может быть, в несколько другой позе: за письменным столом, положив на него руку и немного отставив мизинец с непомерно длинным розовым ногтем) сидит он в своем деловом кабинете акционерного общества и выслушивает почтительный «докладец» какого-нибудь юрисконсульта или младшего инженера.
Но если чем-то на минуту смутил его Савва Абрамович, то сам он, Ваулин, разве не подмечал в свое время некоторой настороженности и любопытства, сквозивших во взглядах и выспрашивающих беседах с ним рабочих, рядовых членов партии? Подмечал. И не раз. Кто знает, — может быть, кто-нибудь из них сначала и питал недоверие к нему? Наверно даже.
Одежда (всегда выутюженные брюки, галстук в цвет костюму), плавная, «литераторская» речь, по форме своей мало отличавшаяся, возможно, от манеры говорить какого-нибудь другого интеллигента из либерального или меньшевистского лагеря; иногда неосведомленность его, Ваулина, о характере той или иной рабочей профессии (спутал как-то фрезеровщиков с револьверщиками, участвуя в заседании забастовочного комитета, вырабатывавшего экономические требования к администрации завода); неуменье, частенько бывало, выслушать до конца скучное по изложению повествование своего рабочего собеседника (на полдороге беседы уж догадывался правильно, о чем хотел тот рассказать) и некоторые другие грехи, которые чувствовал за собой, — все это, пожалуй, до настоящего, проверенного общей работой, знакомства с товарищами по организации — литейщиками, булочниками, грузчиками, трамвайщиками, слесарями, прядильщиками — могло, как думал тогда, повлиять на них: «А ну-ка, мы еще поглядим на тебя, посмотрим, какой ты!»
Но он помнит также, как то, что считал одним из своих «грешков», послужило на пользу однажды его товарищам и друзьям.
Это было на одном из рабочих собраний год назад. Большая, просторная комната панинского народного дома, занятая устроителями собрания под очередную «культурно-просветительную лекцию» на бог весть какую, нарочно безобидную тему, которая не должна была обеспокоить полицейских агентов, превратилась час спустя в место горячих и шумных споров, не предусмотренных темой лекции.
Отойдя от нее, лектор, исподволь сначала, а потом и откровенно, повел речь о военно-промышленных комитетах, о наступлении германского империализма, о долге «сознательных» рабочих, которые должны, — убеждал этот меньшевик, — принять участие в обороне страны, выбирая своих представителей в рабочую группу военно-промышленных комитетов. С кого брать пример? Со старого, всем известного питерца-рабочего, с Кузьмы Гвоздева брать! Вот он не выдаст!..
«Лисица да оборотень твой Кузьма Гвоздев!» — неожиданно прервал его скрипучий, слегка заикающийся голос из задних рядов, неподалеку от сидевшего там Ваулина, и он, приподнявшись со скамьи, посмотрел вбок на говорившего. Это был рябой, с голым вытянутым черепом и бледными, словно отцедили у них всю кровь, губами седоусый рабочий с невеселым лицом: человек лет пятидесяти.
«А ну, ну!..» — глядел на него Ваулин.
«Т-таких на т-тачке вывозят, вот что!» — не унимался седоусый и, когда открылись прения, первым вышел к желтой дубовой кафедре.
Он не взошел на ее помост, — там все еще стоял меньшевистский лектор.
Седоусый старик, стоя у кафедры и обращаясь то к докладчику, то к аудитории, держал свою речь. Она несколько разочаровала Сергея Леонидовича.
«Не по тому месту, совсем не по тому месту бьешь сейчас, старик! — досадовал он. — Тут тебе никто ничего не возразит».
А старик только и рассказывал о письме своего сына, присланном с оказией из окопов. Сын возмущался несправедливостью и непорядками в армии.
Ввели в войсках телесные наказания. Высшее начальство ни во что не ставит миллионную массу рядовых солдат. В тылу много штаб-офицеров — от капитана до генерала, а на позиции чуть не полком командует прапорщик, а какой-нибудь полковник, пролети за полверсты снаряд, уже «контужен» — едет в Россию лечиться. А солдата — не успеют еще раны зажить — гонят уже в окопы. Все отпускаемое для солдат до них не доходит. Все разбирается по интендантским карманам. Иной войны не видит, а наживается так, что просит, чтобы война еще лет пять продолжалась, — «Гучковы, да Коноваловы, да хозяева нашего завода!» — как будто вернулся старик к теме спора.
Нет правды! Вот, например (Ваулин насторожился)… все рапорты на нижних чинов о представлении к наградам корпусный командир возвратил. («Эх, поехал, поехал опять… ревизор военный!» — махнул досадливо рукой Ваулин.)
— А начальник дивизии, — тщательно пересказывал старик письмо сына, — за тридцать верст от позиции — вон оно что, и командиры полков получили георгиевские кресты, произвели их в генералы и высшие должности дали. Что же это такое в самом-то деле, — а?
«Действительно, безобразие», — соглашался легко докладчик и сопел в густые усы.
«Про Гвоздева сказать надо! Насчет царского присобачника!» — неслось из аудитории, к удовольствию Ваулина.
Никто не пытался здесь защищать гвоздевскую компанию, и из пятерых, выступавших после «сбившегося», заикающегося старика, трое громили меньшевистскую затею, гучковский военно-промышленный комитет, всех и вся.
Но говорили все они несвязно, не умея найти наилучших доказательств в споре с докладчиком. Они не обладали для того нужными сведениями, как общими, так и партийными, о положении дел, — сожалел Сергей Леонидович. А один из них, открыто отрекомендовавшийся сторонником большевиков, хотя и был больше всех других в курсе борьбы партии, но говорил по форме хуже остальных, часто делал паузы, и навязчивое слово «значит», этот бич для многих плохих ораторов, рассекало на мелкие кусочки каждую его фразу, раздражая и приводя в ироническое настроение всю аудиторию.
Ой, как использовал все это лектор в своем ответе!.. Он легко, воодушевляясь, расправлялся со своими противниками на этом словесном поле брани.
Кажется, здесь кто-то пытался говорить от имени большевиков, от «раскольников», «сектантов» — большевиков, ссылаясь на их программу? О, тем лучше!.. И следовал каскад цитат — откуда только угодно: они должны были без промаха сокрушить всех врагов меньшевизма, всех инакомыслящих и просто «мало вдумчивых» и «отсталых» людей.
И, как припев в песне, он бросал по адресу своих противников, после трех-четырех связанных между собой одной мыслью фраз, — одну и ту же, освященную упоминанием Маркса: «Помните, товарищи, невежество еще никому и никогда не приносило пользы!»
Он быстро разделался со своими оппонентами, и большинство аудитории, не соглашаясь в душе с ним, досадуя, должно было признать, что победа в этом споре оказалась за меньшевиком.
Не утерпеть было! Поднялся со скамьи Ваулин, взошел на кафедру, и двадцать минут оружие меньшевистского противника: речь, оснащенная знаниями, остроумием и страстностью, — было обращено на негр же самого. Сергей Леонидович хорошо помнит, как откликнулась тогда аудитория: она громко, издевательски смеялась над посрамленным меньшевистским лектором, она была гневна тогда, шикала, не давала ему отвечать, и обескураженный «гвоздевец», растерянно мотая головой, громко сопя в усы, вынужден был покинуть поле брани. Рабочие обступили Ваулина, каждый хотел с ним поговорить, и все они смотрели на него с уважением и открытым любопытством: «Ишь какой: ему бы по виду с лектором в одно петь, а, гляди, как загнул тому салазки!»
Весь этот эпизод мгновенно вспомнился Ваулину в минуту схожих коротких раздумий его о Савве Абрамовиче.
И доклад был сделан.
Савва Абрамович, очевидно, помнит, что не далее как в сентябре прошлого года «Социал-демократ» писал, что в Питере три социал-демократические организации: Петербургский Комитет большевиков, объединенцы и «окисты», включая группу «Нашей зари». Тогда «окисты» объединяли человек триста, примиренцы — человек восемьдесят всего, а ПК — свыше тысячи двухсот. За восемь месяцев численность большевистской организации выросла вдвое, — в настоящее время Петербургский Комитет объединяет более двух с половиной тысяч человек.
Организация Петербургского Комитета такова: по одному представителю от восьми районов, по одному от латышей и эстонцев и один от торговых служащих. ПК ведет сношения с целым рядом городов, снабжает их литературой, посылает докладчиков. На прошлогодней конференции в Ораниенбауме были представители четырех южных городов. Партийная интеллигенция? Она группируется вокруг журнала «Вопросы страхования». Совсем недавно удалось отбить у «ликвидаторов» и другой журнал: «Печатное дело». Но у меньшевиков есть, как известно, легальная газета «Утро», а у нас в основном прокламации.
— Вы прикреплены к какому-нибудь районному комитету? — спросил Савва Абрамович.
К Выборгскому…
И Ваулин, выполняя желание своего собеседника, тщательно, до мелочей расспрашивавшего его обо всем, стал перечислять состав Выборгского Комитета.
Членами районного комитета состоят преимущественно секретари заводских ячеек, выбираемые из среды партийных уполномоченных в цехах. Секретарь района входит в ПК. Туда же передают через него членские взносы. Там на листке ставят печать, листок этот показывают на заводской встрече коллектива, а потом уничтожают, чтобы не попал случайно в руки полиции.
— Наша районная печать — обычная, круглая, в середине рукопожатие.
— Ну, это больше похоже на кооператив, — засмеялся Савва Абрамович. — Ну, а как: «лавчонки» имеете? — осведомлялся он о «технике», в дело которой в свое время вложил столько изобретательности, инициативы и энергии.
— Торгуем, Савва Абрамович, торгуем…
И Ваулин рассказал о двух ларьках, на Клинском и Лейхтенбергском рынках, где происходят прием и передача шрифта, валиков, красок и листовок. Рассказал о том, как на квартирах происходит печатанье прокламаций и воззваний ПК.
Савва Абрамович выслушал все очень внимательно, а под конец сказал вдруг:
— Да. Товарищей бы сюда из ссылки. Там, у нас, — он мотнул головой в сторону занавешенного окна, словно за ним сразу же начиналось это «там», заграница, — у нас все единодушно так думают. К сожалению, невозможно…
Он уже минуту сидел, низко пригнувшись к сиденью дивана, заботливо вдавливая пальцем в дерево вылезший оттуда крохотный гвоздик обивки. Он не разогнул спины, покуда не привел все в порядок. Ваулин с любопытством наблюдал за ним.
— Кстати, как работает бюро помощи политическим ссыльным?
Сергей Леонидович и об этом рассказал все, что знал.
Они сидели еще с полчаса, потому что Савва Абрамович задержал расспросами, делал последние указания, давал советы, а под конец разговор вручил Ваулину брошюру Александры Коллонтай «Кому нужна война», которую всячески советовал перепечатать и распространить среди рабочих, и письма из Швейцарии.
— Может быть, мы еще увидимся, — прощался он.
— Здесь?
— Нет, теперь уже не сюда звонить надо. Не сюда.
Он назвал номер телефона.
— А кого спросить? — поинтересовался Ваулин.
— Вы спросите сначала Веру Михайловну и предупредите, когда она возьмет трубку, что хотите поговорить об электрическом кабеле для Баку, и вам скажут, можно ли его получить, — смеялся он, провожая до парадной двери.
Ваулин пожал его руку: она была сухая, горячая и крепкая.
Через Марсово поле, по Троицкому мосту, по Каменноостровскому и вбок от него, по одной из прилегающих улиц, мимо скверика, переходя с одного тротуара на другой, меняя походку, — Ваулин шагал на Выборгскую сторону.
Несколько раз он останавливался в пути, осторожно, как бы невзначай оглядывался: нет ли примелькавшегося «попутчика», но все, казалось, обстояло благополучно. Пристал только повстречавшийся сильно пьяный, хоть выжми его, слюнявый босяк в белой в горошках рубахе, вылезшей из продранных брюк, лохматый, без картуза: положив руку на плечо Ваулина, требовал дать прикурить, и, чтобы поскорей он отстал, пришлось отдать ему свою дымившуюся папиросу.
Не доходя до узкого четырехэтажного дома с округлыми башенными выступами, Ваулин вдруг замедлил шаг, не зная, как поступить сейчас — повернуть обратно или быстрей прежнего, стремительно двинуться вперед: из подъезда дома вышли двое, из которых один был ему знаком и мог, того гляди еще, некстати его окликнуть. Это был студент Калмыков, знакомый по карабаевскому дому. Он и его спутник неуверенным шагом шли навстречу, — Ваулин круто повернул обратно, пересек дорогу к скверику. Через три минуты, благополучно избежав этой встречи, Сергей Леонидович шагал по скверу, а затем, свернув в переулок, уже не думал о студенте, занятый своими прежними мыслями.
Кто был калмыковский спутник — и вовсе не заинтересовался, не обратил на него внимания, потому что никогда и не знал о существовании Пантелеймона Кандуши, департаментского сотрудника.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ Поезд идет на север
Поезд на север шел с явным опозданием: теперь стоять бы уже в Гомеле, а до него еще — добрых два часа!
Часто умывавшийся в дороге, голубоглазый, с черными, щеточкой подстриженными усиками, с мягкими, дрябло спустившимися щеками француз, хорошо говоривший по-русски, время от времени раскрывал карту путеводителя, находил в ней первую ближайшую станцию, на которой предстояло сделать остановку, и оповещал своих спутников:
— Здесь готовы кормить.
Или:
— Здесь не рассчитывают на наш аппетит.
— Тем хуже! — откликался каждый раз одной и той же фразой верхний сосед его, полковник с кожаной скрипучей протезой вместо левой руки. — Приятно наблюдать, сударь, такой аппетит. На что уж мы, русские, но и то…
— О да! Я люблю покушать, люблю хорошо покушать, — сознался француз. — Бывают у каждого свои peches mignons… привычные слабости, грешки.
Он вез с собой чемоданчик с провизией (в нем было немало всяких вкусных вещей), но на больших остановках выскакивал из вагона, бежал к буфету, и, глядя в окно, Теплухин видел, как энергично он расталкивал на перроне устремившихся туда же остальных пассажиров. Все три соотечественника: Теплухин, Георгий Карабаев и калека-полковник — так и окрестили его: «месье Обжор».
Поезд шел лесистыми и болотистыми местами, в открытое окно купе текла приятная прохлада, исчезавшая тотчас же, как только поезд прибывал к станции. Тогда вагон наполнялся запахом жженого угля, всяческих отбросов, валявшихся на путях, мокрой, гниющей соломы, положенной на подстилку скоту в товарных вагонах.
Встречались на остановках воинские эшелоны, военносанитарные бани-поезда, платформы с артиллерийскими орудиями: на их зеленых дулах важно, но поглядывая трусливо по сторонам, ходили вперевалку слетавшиеся бог весть откуда сплетничающие галки.
На верхних полках санитарных летучек видны были пергаментно-желтые, бородатые лица больных и раненых солдат. Некоторые из них, свесив головы, заглядывали, окно в окно, в синий, первого класса, вагон, ставший рядом, — и Теплухин видел их горящие, разливавшиеся во весь помутневший глаз, лихорадочно зажигающиеся зрачки. Любопытство, зависть, недоверие, злобу, скуку, — кто знает, что должно было прочесть в них…
Как медленно подымающаяся ртуть в градуснике, отмечал поезд свой путь вверх по маршрутной карте француза. Он стоял у открытого окна и, вздыхая, обращаясь словно к самому себе, говорил:
— Россия — страна ползущая… Есть страны шагающие, есть страны бредущие, есть бегающие, прыгающие, а Россия — страна ползущая. Громадный это мировой глетчер. Утомительная страна.
Георгий Павлович поднял голову, насторожился. Француз продолжал:
— Никакое общество не доступно чувству скуки в такой мере, как общество русское. О, я никого не хочу обидеть! Мое сердце отдано России… Но ни одно общество не платит такой тяжелой дани этому нравственному бичу. Я наблюдаю это изо дня в день. Леность и вялость, оцепенение и растерянность, утомленные движения, зевота, внезапные пробуждения и судорожные порывы, быстрое утомление от всего и в то же время жажда перемен, потребность развлечься и забыться, — разве это не свойственно России?.. Безумная расточительность, любовь к странностям, к шумному, неистовому разгулу, отвращение к одиночеству, непрерывный обмен беспричинными визитами и бесчисленными телефонными разговорами, расточительное излишество в милостыне, пристрастие к болезненным мечтаниям и к мрачным предчувствиям, фатализм. И все эти черты характера и поведения представляют лишь многообразные проявления одного чувства — скуки!
— А у вас как? — гмыкнул полковник и обвел, как заговорщик, глазами обоих своих соотечественников. — А у вас всюду так-таки весело всегда, месье… (Он чуть-чуть не выпалил: «Обжор!»)
— У нас? — повернул голову француз. — Конечно же, не всюду и не всегда… — Вы во всем ползете глыбой, страшной, невероятной тяжести и высоты глыбой, и не многие в Европе могут взлететь умом ввысь догадок и знаний, чтобы попытаться разглядеть оттуда, что остается позади этой глыбы.
— Позади — это не важно, — бросил Георгий Павлович. — Вот… что впереди — это действительно… — горько усмехнулся он своим собственным словам и мыслям.
Он сидел у самого выхода из купе, заглядывая, в коридор, где, высунувшись в окно, стояла молоденькая соседка по вагону, еще во время посадки, в Киеве, привлекшая к себе внимание неравнодушного к хорошеньким женщинам Карабаева. Он охотно слушал француза, мог бы его во многом поддержать, а кое о чем и поспорить, но лень было, не хотелось ввязываться сейчас в политические разговоры, и гораздо предпочтительней было наблюдать хорошенькую соседку, с которой не прочь был свести знакомство: у каждого человека, говорил француз, есть свои грешки!..
— Вы правы, естественно, — откликнулся француз. — Но для того чтобы предполагать, что впереди, надо очень хорошо стране знать свой сегодняшний и вчерашний день. Вы хотите мне возразить?
— Нет! — быстро сказал Иван Митрофанович, да так решительно, что полковник, желавший было возражать французу, приумолк на минуту: не то озадаченный, не то из солидарности с Теплухиным.
— Ищь ты! — вскрикнул он вдруг, схватив что-то на подушке француза. — И жирная, смотрите, как корова!.. Так и есть: хлеб с глазами, как говорится, вино с игрой, сыр со слезами, а постель с блохой…
Он упорно и долго растирал, сжав пальцы, пойманное так удачно насекомое и, когда раздавил его, нимало не смущаясь и ничуть не брезгуя, показал свой большой палец с пятном от блошиной крови.
— Фи, гадость! — поморщился француз, и его брезгливо растянувшийся рот пополз книзу.
— А если человека так, — ничего?! — неизвестно почему вдруг серьезно и хмуро спросил полковник, отогнув для еще большей выразительности все тот же палец.
Вопрос был прост и неизвестно почему задан, и все потому промолчали. Француз, захватив несессер, побежал мыться: а ведь полчаса назад бегал!.. Возвратился он, однако, быстрей обычного: мыл только руки, как будто не полковник, а он сам запачкал их только что.
В Гомеле накупили последних петербургских и московских газет и журналов, и минут на двадцать наступила в купе тишина. Все четверо углубились в чтение, прерываемое частенько восклицаниями и короткими комментариями то одного, то другого из спутников: в газетах были новости, по-своему интересовавшие каждого из них.
Рескриптом царя был уволен министр иностранных дел Сергей Сазонов, на его место назначался Б. В. Штюрмер.
«Так, так… «ушли» единственного, пожалуй, «европейского» министра, который был приятен стране и союзникам за границей», — Георгий Павлович недовольно покачивал головой.
— «В лице Сазонова, — читал он вслух выдержки из «Русских ведомостей», и все слушали, — мы имели опытного руководителя нашей иностранной политики, пользовавшегося полным доверием как русского общества, так и наших союзников, и недаром его положение в министерстве считалось исключительно прочным… Не меньшее значение имеет, пожалуй, факт замены С. Д. Сазонова именно Б. В. Штюрмером, человеком, бывшим до сих пор совершенно чуждым ведомству иностранных дел. Очевидно, что на Б. В. Штюрмера, сохраняющего к тому же должность председателя совета министров, возлагается не простая миссия заведования текущими делами министерства, а руководства иностранной политикой России в определенном направлении», — многозначительно, следуя курсиву передовой статьи, которая совпала (он улыбнулся) с его собственным мнением, закончил Георгий Павлович.
Француз выжидательно молчал: сжал губы, вжегся голубыми глазами в Карабаева. Полковник здоровой рукой поправил свою скрипучую протезу, повернул на винте кисть, ударил себя с отчаянным видом по багровой щеке, закачался всем туловищем и «с сердцем» сказал:
— Вы простите, господа, грубость военного человека, но… вы представляете себе пьяный публичный дом в темную ночь… горит он, пожар, а кругом еще наводнение?!.
И никто не порицал его, все ответили:
— Да, да, это верно, господин полковник.
А француз добавил теперь, медленно, задумчиво пощипывая черную щеточку своих усов:
— История знает такие случаи. Они известны… Своевольный Калигула назначил ведь своего любимого коня римским сенатором! Вот и вы теперь подражаете чужой «античности».
— Вы, вы! — огрызнулся полковник. — При чем здесь мы? Где это вы видите в самом-то деле? Кто из здесь сидящих повинен в эдаком б…ке? Вы все, сударь, только-с насмехаетесь… Вы, наш союзник!
— Нет, нет, я не насмехаюсь, — придвинулись к нему голубые, чуть-чуть выпуклые глаза. — Я очень все сердечно, поймите вы меня. Я француз, а не немец, которого назначают имперским министром, у меня жена русская, и у нас трое детей…
— Ну, вот, сами же должны чувствовать…
— Я не насмешник, — усмехнулся он. — Но они действительно существуют: я их видел в вашей стране там, где вы не предполагаете. Знайте: насмешники часто делаются пророками. И — в своей собственной стране, вопреки старому изречению!
В газетах было еще:
На фронте без особых перемен (уже недели две писали так).
Сообщалось, что в Петрограде, на улице Гоголя, в помещении общества Гартман, состоялось оживленное совещание представителей нескольких крупных банков по вопросу об издании новой большой газеты «Русская воля».
Петроградская судебная палата постановила уничтожить «Железную пяту» Джека Лондона, так как комитет по делам печати усмотрел в ней призыв к бунту, предусмотренный 129 статьей уголовного уложения.
Во всех газетах — фотографии А. Д. Протопопова в связи с его поездкой в Ставку царя.
Предсказание о холодной, суровой зиме в Петрограде и заметки о стараниях Городской думы обеспечить столицу дровами и продовольствием. Покупка той же думой большого каравана верблюдов (лошадей не хватает) для перевозки грузов.
Очерк о сербском короле, престарелом Петре Карагеоргиевиче, удалившемся на остров Эвбею.
Рецензии на «Современную Аспазию» Гамильтона Файфа в театре Яворской и на «Дипломата» в Палас-театре. («Надо посмотреть», — запомнил это Георгий Павлович.)
Карикатура: поезд — парламентский «прогрессивный блок», на перевозе два фонаря, отбрасывающие свет: общественные организации и прогрессивная печать. Бородатый мужик в поддевке отскакивает от железнодорожного полотна, и — подпись: «Несмотря на все попытки злоумышленников, пользующихся тьмой, поезд избежит крушения на Романовской железной дороге».
— Хорошо сделано! — весело перемигивались в купе. — Гм, «темные силы», — понятно?
— Сходства в лице не дали, но поддевка, поддевка-то и борода! Как это не конфисковали еще?!
— Язвительно сделано и… не зря!
— А хотите, что-то покажу? — по-мальчишески высунул полковник кончик языка из приплюснутой щели рта и — колени в колени в узком проходе — придвинулся к сидевшему напротив Ивану Митрофановичу.
И, не дожидаясь ответа, полез в свой чемодан и вытащил оттуда, со дна, несколько журналов. Один из них оказался немецким «Lustige Blatter».
— Вот! — причмокнул полковник и, развернув его, показал своим спутникам.
На цветной карикатуре Вильгельм измерял метром высоту германского орудийного снаряда. Рядом, стоя на коленях, русский царь вымеривал аршином… громадного мужика в поддевке — Григория Распутина!
— Комментарии, как говорят, не требуются.
В том же номере журнала, на «распашке», помещен был красочный рисунок, изображающий Тиргартен. Небо густо усеяно звездами. Вдали видна колонна Победы, а на первом плане — колоссальный, уродливый, ощетинившийся гвоздями деревянный идол — фигура фельдмаршала Гинденбурга (перед рейхстагом). В этого идола, как известно было всем, каждый берлинец, посетитель Siegesallee, мог, приветствуемый музыкой инвалидов, вбить за особую плату гвоздь: за одну марку — железный, за десять — посеребренный, за сто — позолоченный. У одного из ботфортов истукана стоит Христос-младенец с молоточком в одной руке и с гвоздем в другой. Шляпкой гвоздя служит сверкающая звезда. Под рисунком стихи, — Георгий Павлович перевел их вслух:
— «В тихую святочную ночь младенец Христос извлек из небесного свода звезду-гвоздь, которую принес на землю. Воздавая по заслугам истинному героизму, готовому пожертвовать кровью, Христос-младенец вколачивает гвоздь в почетную броню фельдмаршала, прославившего германское оружие».
— Вот тебе и дружба с господом богом!
— Погибели предшествует гордость и падению — надменность: царь Соломон имел в виду немцев, когда говорил это! — скорчил гримасу француз. — А это что у вас, господин полковник?
В русском иллюстрированном журнале какой-то анонимный бездельник предсказывал окончание войны в следующем, семнадцатом году. Почему? Да потому, что сумма порядковых цифр имен прусских королей, всех Фридрихов и Фридрихов Вильгельмов вплоть до Вильгельма Второго, — равна была 171. И то же число получалось, если сложить «державные цифры» всех воюющих сейчас европейских государей: Николаев — русского и черногорского, Петра сербского, Альберта бельгийского, Виктора Эммануила итальянского, Франца Иосифа, Фердинанда болгарского, Георга Пятого и Вильгельма Второго. Вот как тут не верить такому совпадению?!
Полковник написал на бумажке:
Жо | Фр
_______
Фр | енч
Пут | Ник
________
Ник | олай
и засмеялся:
— До этой символики у нас в дивизии один офицер додумался. До царя дошло: повелел благодарить за смышленость… Ничего, интересно выходит, — а? Воевода сербский Путник и Николай, Жоффр и Френч: все союзники, — каково?
Теплухин сидел, откинувшись в угол, касаясь головой металлической рамы вещевой узенькой сетки, скрывал от солнца и спутников свое лицо.
На стыках вагон подбрасывало, и Теплухина ударяло слегка по затылку: сидеть было не очень удобно, но он не менял своей позы. Он был зол (у него свои причины к тому!..), презирал глупого, разболтавшегося багрового полковника с лиловой паутиной жилок под глазами, с неопрятными, неровно подстриженными, с плешинкой под носом, серыми усами, со скрипучей, при каждом движении, ручной протезой; раздражал, неизвестно отчего, и француз.
Сердился (уже и по другой причине) на Георгия Павловича: ну, не надоело разве слушать этого пехотного либерала?! Морда такая, что кирпича просит, а голос жидок, как у скопца!
А полковник, обрадовавшись, внимательному слушателю (хорошенькая соседка по вагону ушла к себе), говорил, словно насыщался:
— Вот вы о кавалерии изволили спросить. Хм, кавалерия!.. Позовите честного офицера, понюхавшего пороху как следует, и он вам расскажет, что делается. Была-с лишь система нагуливания тел к смотрам и парадам. Не больше! Генералы-чистоплюи ограничивали свои смотры тем, что вытирали круп лошадей носовым платком и тыкали платок в нос подчиненным, если он после этого не оставался белоснежным. Вот что-с!.. Показная сторона.
Через минуту критикнул какого-то генерала:
— Хм, командовал корпусом, помню, в мирное время. О чем же, главное, заботился, — а? Подумайте, только: обращал особое внимание на знание каждым солдатом дня своих именин, престольного праздника их деревенского храма и жития святых, изображения которых висели, знаете ли, в казарме и над кроватями. А больше — ничего его не трогало, ничего не доходило до сердца. «А что, масло есть?.. А что, Гродно взято?» — о том и другом, о мелочи и о важнейшем — флегматично, одним и тем же тоном. А приедет начальство, — он благочестиво улыбается!
«А ведь он, кажется, нё так уж глуп, — невольно прислушиваясь к разговору, снисходительно подумал о полковнике Иван Митрофанович. — Но уж если полковники так открыто критикуют, куда ж тут дальше?!»
Он мельком взглянул на Карабаева, потом еще раз и еще — и уже не отводил от него из угла свой резкий, рысий взгляд.
Георгий Павлович, заложив ногу на ногу, облокотившись на валик диванчика, слушал словоохотливого, тонкоголосого полковника. Слушал так, как привык делать это, когда собеседник или внушал ему особое уважение, или рассказывал такое, что до сего времени не было известно, но было интересно Георгию Павловичу, или, напротив, не возбуждало никакого интереса, но не мешало думать в этот момент о чем-либо другом. Слушал он, застыв в одной позе, хорошо и удобно выбранной, сосредоточенно, молчаливо, следя неразгаданным, проверяющим взглядом за своим собеседником. Если тот почему-либо терял нить в разговоре и на минуту умолкал, не досказав еще всего, Георгий Павлович умелым подсказом или вопросом помогал ему продолжать рассказ; или, если не был уже заинтересован в том, заключал беседу какой-нибудь безразличной фразой, в которую можно было вложить любое содержание, — фразой, подготовленной в уме задолго до конца беседы: «А вы говорите — купаться!» Или: «Вот так, дорогой друг (следовало имя-отчество или фамилия, если человек этот был попроще)… вот так оно и происходит в жизни!»
Под этим великолепным по своей бесформенности «оно» можно было подразумевать все, что ни заблагорассудилось бы! Ох, как хорошо узнал за эти два года своего шефа Иван Митрофанович!..
Ехали они сейчас в Петроград по телеграфному срочному вызову вдовы Галаган: согласие на продажу сахарного завода дано, — надо немедленно оформлять эту сделку. Получив телеграмму, Георгий Павлович сказал Теплухину: «Вы едете со мной. Сегодня же».
Гора сытого благоденствия и удач уже не казалась, как в молодости, такой крутой и трудно одолимой: Георгий Павлович шел «в гору», как говорили о нем в Киеве, да и не только в Киеве — в широких промышленных кругах, — шел на гору легким, неустающим шагом «счастливчика», и перед ним услужливо расстилались не видимые снизу, но давно проторенные другими тропы и тропинки известности, богатства и успеха. Он был теперь владельцем нескольких промышленных предприятий, разбросанных на юге и на западе России.
Карабаев приобретал все, что считал по тем или иным причинам выгодным купить. Так, он по дешевке приобрел фанерную фабрику и лесные участки в восточных губерниях Белоруссии, хотя это было рискованно, так как место было не так уж далеко от линии фронта, но зато трусость продавца он оплатил до удивления малой денежной суммой!
Еще три-четыре года назад он мечтал: эх, ему бы не здесь, не в маломощном Смирихинске, быть, — ему бы распоряжаться рудниками и шахтами, сталелитейным гигантом или богатейшей мануфактурой где-нибудь под Москвой или в самом Петербурге… Разве не хватит умения, разве не станет распорядительности, энергии и воли?.. Он не переоценил своих сил — и он доказал это: в донецком бассейне он приобрел, в компании с одним промышленником, два рудника, в Смирихинск вывез и оборудовал фабрику грубых сукон, перекупленную у беженца-еврея из Волыни, в самом Киеве, выдав половину деньгами и половину векселями, купил на Пушкинской пятиэтажный дом в тридцать квартир и таким же образом ртал владельцем завода гвоздей на Демиевке. Но… то ли еще обещало быть впереди!
Еще недавно, говоря о своей смирихинской махорочной фабрике, приносившей, кстати, большие доходы, он тем не менее снисходительно-иронически отзывался о ней: «Большая коробка нюхательного табаку!» Серая крестьянская махорка, раскуриваемая простонародьем — мужиками, извозчиками, рабочими, — недостойна была того, чтобы на ее «копеечной» упаковке помечалась фамилия ее высокомерного фабриканта!
Но теперь… махорка в новенькой зеленой упаковке, аккуратно сложенная пачками в фанерные белорусские ящики, заколоченные демиевскими гвоздями, раз в три дня грузилась в вагоны военного ведомства и, испытав бог весть какие легкомысленные приключения по пути, попав в липкие руки всяческих интендантов, прибывала в армию, а еще раньше того — в лавки и лавчонки разных городов, сел и местечек. Она заметно, как и все на рынке, вздорожала: оттого ли, что была в новой упаковке, оттого ли, что Георгий Павлович разрешил поставить на ней свою громкую фамилию фабриканта, или, может быть, по другой причине, о которой единодушно молчали безвестные интенданты, и мог, пожелай он, догадаться Иван Митрофанович Теплухин, ставший во многих делах правой рукой своего шефа.
Вместе с махоркой Георгий Павлович Карабаев поставлял военному ведомству кожу, сукно и гвозди, а донецкие рудники выбрасывали железным дорогам свой уголь.
Когда в доме пошли разговоры о покупке еще сахарного завода наследников генерала Величко, Татьяна Аристарховна шутливо сказала мужу:
«Жоржа, у тебя получается какой-то громадный магазин колониальных товаров! И то, и другое, и третье…»
«У нас с тобой!» — поправил он ее, так же шутливо отвесив поклон признательности и услужливости, и горделиво провел рукой по своему смолянисто-черному цыганскому усу.
«Хм, большой магазин колониальных товаров…» — вспоминал он теперь ее шутливое замечание, занятый своими делами: он слушал словоохотливого полковника, но совсем не вдумывался, — как и мог предположить Теплухин, — во всю эту болтовню.
«Ну, что ж, Танин, — разносторонняя деятельность! Это не так уж плохо, право. Надо понимать, что такое сахар, дорогая моя! — мысленно обращался он к ней. — Да еще сахарный завод на левобережье Днепра, а не на правобережье, где каждый день угрожают тебе военные неприятности. Ну, да что говорить! Получу запродажную, и тогда действительно можешь меня поздравить… Хм, сахарный завод! — ухмыльнулся он, и ноздри его дрогнули, и беззвучно шевельнулись губы, едва не уронив горячее восклицание. — Шутка ли дело? Если он им такой доход дает (подумал о Людмиле Петровне и ее брате) — это при полном-то неумении хозяйничать, при страшном обворовывании на месте, — то что говорить, когда в моих руках будет! Надо понимать, Танин! — был он настойчив, словно она ему когда-либо могла перечить. — Это давно другие поняли, и какие люди поняли!..»
Вчера он говорил о том же Теплухину:
— В нашем крае сахарная промышленность будет фаворитом после войны. Мы еще поборемся с австро-венгерскими конкурентами — сахарными Круппами! Грешно сказать, — у нас есть образцовые хозяйства, Иван Митрофанович… Вы, вероятно, не очень-то в курсе, кому они принадлежат? Бродский и Бабушкин — это еще не все. Множество имений, свекловичные плантации, интенсивные хозяйства и заводы — знаете, в чьих руках? Ого, сэр… У владельцев герб — первый во всей стране! У императрицы Марии Федоровны и других членов царской семьи прекрасно поставленные заводы в Подольской губернии. Не хуже, смею вас уверить, оборудован сахаро-рафинадный в курском имении великого князя Михаила Александровича. Из биржевых и банковских кругов идут сведения, что ряд самых влиятельных дворцовых лиц ищет для своих капиталов все тот же сахар — прекрасное белое золото! Вы понимаете, — я не буду скупиться! — сделал он логический вывод. — Собирайтесь в путь!
Но вот именно этого: ехать сейчас в Петроград — и не хотелось Ивану Митрофановичу. У него были на то свои причины.
За день до телеграммы Людмилы Петровны он получил письмо от «инженера Межерицкого». Он предлагал настойчиво выехать, под каким угодно предлогом прервав служение Карабаеву, на несколько дней в столицу «для важных, очень важных переговоров».
«Не вздумал бы он только отказываться!» — писал Вячеслав Сигизмундович, ибо «потеряет больше, чем может приобрести уже на всю свою спокойную (было подчеркнуто в письме), мирную жизнь» — загадочно сообщалось в нем.
«Подлец!.. Еще интригует… — выругался Теплухин, пряча письмо (а может, оно пригодится?..). — Обычный, уже испробованный прием. Торопиться некуда, тем паче что недавно виделись. Не поеду!» — твердо решил он.
И вдруг — телеграмма и карабаевское распоряжение, от выполнения которого никак не отказаться было, — всю дорогу Иван Митрофанович был хмур и недоволен.
«Какого черта в самом деле?!»
Протест был наивен и бессилен, — Иван Митрофанович и сам сознавал свою беспомощность перед обоими: и перед Георгием Павловичем Карабаевым и перед «охранником» Губониным.
…Спутники, выйдя в коридор, курили. Полковник залез на свою верхнюю полку и, лежа на животе, обдумывал, писал что-то на длинном синем телеграфном бланке.
Поезд набирал скорость, вагон мчался так сильно, что, казалось, его вот-вот сбросит с насыпи, и он ударит, загнувшись на миг, хвостом по стенке своего переднего, убегающего по рельсам соседа. В коридоре шла обычная беседа. Женщина, пугаясь такого сильного покачивания, признавалась, под снисходительный смех мужчин, что боится и не хочет умереть сейчас: ее ждет в Петрограде муж и заново отделанная квартира. И философствовал в ответ француз, до удивления хорошо владевший русским языком и, — как заметил Иван Митрофанович еще раньше, — дока по части иностранных изречений и поговорок:
— О мадам, это не одна из тех настоящих смертей, о которых говорит старая турецкая пословица!
— А какая? Если старая, говорите, — так у них не было тогда, у турок, противных железных дорог… Ай, как бросает! И чего это сумасшедший машинист!..
— Тем не менее, мадам, только четыре случая дают настоящую смерть: ждать — и не видеть, что уже идут к вам. Просить — и не получить. Трудиться — и безуспешно. Ложиться — и не уснуть… Такова восточная мудрость.
— Новоявленный горьковский Лука какой! — сказал громко Иван Митрофанович. Он все еще был раздражен.
— Лука? — поднял голову лежавший наверху полковник и перестал писать. — Лука? — переспросил он, не поняв, очевидно, теплухинской реплики. — Нет, не Лука, сударь мой, а… — вдруг убежденно сказал он, но запнулся и тотчас же замолчал. А через секунду продолжал уже по-иному: — Образованный он господин. Очень образованный. Такие, я думаю, у них, во Франции, поэты бывают. Такие, — а?
«Круглый идиот!» — обругал окончательно Иван Митрофанович багрового полковника и вышел из купе в коридор.
На станции Орша стояли долго: меняли паровоз, да и общий железнодорожный беспорядок не позволил двигаться по расписанию.
Медленно к закату уходило солнце, готовясь погрузиться в громадный рыхлый мешок вздутых дождевых облаков. Воздух парной. Духота садится на плечи, и тащишь на себе ее незримую липкую тяжесть даже в тени.
В вокзале и окрест, у деревянных, грязно-серых базарных лавчонок, торгующих кислым студнем, кружочками чесночной колбасы, напитками, махоркой, папиросной бумагой, баранками, огурцами и крутыми яйцами, — длинные беспорядочные очереди.
Кружится рой мух над прилавком — хватай их полную горсть… Собаки с опущенными хвостами и высунутыми мокрыми языками бродят около лавчонок, неподвижно лежат в тенистых углах, откинув в сторону как будто отрезанные, сонные морды, путаются под ногами суетливых пассажиров в буфете вокзала, оглашая гулкий, забитый людьми зал проницательным, долгим жалобным воем, если кто-нибудь случайно наступит на лапу.
В тарелках с отбитыми кусками вокзальная еда. Высоко подняв руки, все время выкрикивая почему-то извозчичье «берегись, берегись!», пробирались сквозь потоки снующей толпы вспотевшие, быстроглазые официанты, разнося по длинным дубовым столам щи и супы, биточки и рыбу. Кричит — уши затыкай! — младенец в одеяльце на чьих-то уставших покачивающих руках.
В коридоре вокзала перед билетной кассой — перебранка и ругань из-за места в очереди. Наскакивая на разбросанные вещи пассажиров, томящихся в ожидании поезда, и ударяя их самих, катят носильщики багажные тележки. Хуже мух — надоедливые, слезливые нищие: старухи с растрепавшимися грязными волосами, в полосатых красных чулках, с неутертыми сизыми носами; босые, тонконогие дети и подростки в заплатанной одежде из мешков; инвалиды — ползающие и на костылях; со стыдливо протянутыми руками: евреи, поляки, белорусы — с мученическим клеймом «беженцев».
Били на перроне в колокол, звонил колокольчиком в зале первого класса престарелый швейцар, извещая о том, куда и когда уходит поезд. Настораживал, пугал только что выскочивших из вагона недоверчивых пассажиров случайный паровозный гудок, и они бросались обратно, хотя им сказано было кондуктором, что стоять тут придется порядочно и: что могут, не торопясь, прогуляться на привокзальный базар.
Была обычная теперь сутолора русских станций, нагруженных к тому же беспокойством и хаотичностью прифронтовой полосы.
Иван Митрофанович потолкался в буфетном зале, выпил с жадностью целую бутылку ситро и от нечего делать вышел из вокзала на прилегавшую к нему пыльную «толкучку». Поглядел, побродил минуты три. Ничего интересного здесь не было («Зачем зря болтаться?..») — и он повернул обратно со скучающим видом.
На крыльце, у входа его обогнал солдат с рукой на перевязи, оглянулся, заворчал на какого-то долговязого парня, неловко налетевшего на него впопыхах, и… остановился вдруг, воззрясь на Теплухина.
— Иван Митрофанович, кажется?.. — нерешительно сделал шаг навстречу солдат.
И Теплухин взглянул на него: «Какое знакомое, но, очевидно, изменившееся лицо. Кто бы это мог быть?»
— Ай в самом деле — Иван Митрофанович! Вот встреча!
И где только?! Не узнаете? Нет?.. Ну, Токарева, Николая Токарева — помните? Колю — иначе? Ну, вот видите… В Смирихинске, в Ольшанке, на заводе?.. — старался напомнить солдат..
— Фу-ты! Тебя я не узнать сразу, — обрадовался, сам не зная почему, оживился сразу Иван Митрофанович и, секунду подумав, пожал здоровую руку солдата.
— Ну, как же, — в Ольшанке, на заводе!.. Еще помните, про каторгу нам, молодым, рассказывали? Помните? — тише обычного, но все так же быстро, забрасывая словами, продолжал Токарев, как будто ему мало было того, что узнан, а хотелось непременно напомнить уже все, что его связывало с Иваном Митрофановичем, — подосадовал теперь последний.
— Отойдем в сторонку, — прервал он его. — Только, на всякий случай, поближе к перрону. — И они двинулись туда.
— А хочешь, пройдем к поезду? — решил Теплухин. — Мой на втором пути, петроградский. А твой где? Или ты, может быть, вообще здесь обретаешься? — расспрашивал он его на ходу. — Хотя нет… зачем же тебе тащить эту колбасу?..
— Нет, что вы! Чего мне здесь быть?.. Мой состав на четвертом, Иван Митрофанович, через путь от вашего. Постойте, зачем обходить? Лезьте прямо через площадку… Вот сюда, через площадку чужого вагона. Не бойтесь: поезд еще когда тронется!.. Ну, лезьте сюда…
Они укоротили свой путь и очутились у поезда, в котором ехал Иван Митрофанович.
В узком проходе между двумя составами они ходили минут десять взад и вперед вдоль поезда, но от своего синего вагона, находившегося в хвосте, Иван Митрофанович держался подальше и поворачивал каждый раз, как только они к нему приближались. Он хотел, — еще по неясной самому причине, — скрыть от Токарева, что едет не один.
— Угораздило? — показал он глазами на подвязанную руку.
— Так точно! В плечо, навылет. Лежал сколько… А теперь ничего: трехмесячный на излеченье дали. Домой еду. Не приходилось вам, Иван Митрофанович, видеть меня таким. Оттого и не узнали сразу. Глядите…
Он посмотрел по сторонам: не идет ли случайно где-нибудь поблизости какой-либо офицер, перед которым надо бы встать во фронт по форме.
— Глядите, каков стал: красоту свою потерял, — засмеялся он, обнажив на минуту голову. — Куда волосы мои расчудесные делись! Окорнали всего, «серую порцию» — молодого солдата! Еще хорошо, что селедка, — шашка, по-нашему, — сбоку не болтается, а все остальное чин чином, Иван Митрофанович. Глядите: фуражка с царским плевком («Кокарда…» — сообразил Теплухин), за голенищем, известное дело, — книжка рядового служаки запасного батальона, в сердце, как полагается, — клятвенное обещание на верность службы истинному и природному всемилостивейшему, — тьфу! — великому государю императору… ну его к такой-то, извините, матери! — зло вдруг и запальчиво сказал он, и Теплу хину почудилось, что он слышит скрип его зубов. — Ну, да не в том дело!.. Как же здоровьице ваше, Иван Митрофанович? Кажись, ничего? — с любопытством посматривал он, приостанавливаясь, на Теплухина: раздобревшего заметно, прямей будто ставшего фигурой, в славном, хоть и не щупай его, синем костюме. Глаза те же: с коротким, протыкающим взглядом, и рот тот же: губы полные, одна от другой как бы отстегнута, с густой тяжелой кровью, — кажется так Николаю Токареву.
— Что думаешь делать, Коля? — спрашивал Иван Митрофанович, идя рядом и, задрав голову, поглядывая в открытые окна вагонов, словно высматривал, не услышит ли кто их разговор.
— Лечиться, Иван Митрофанович.
— Обязательно надо, Коля.
— Плечо лечить и, где можно, людей вылечивать, Иван Митрофанович… — покосились со смешинкой в его сторону глубоко уползшие глаза, и колючие, словно подстриженные, рыжеватые брови Токарева поднялись вверх да так и продержались на лбу несколько мгновений: «Спросит или не спросит он?..»
И Теплухин спросил:
— То есть как? Кого лечить собираешься ты?
И остановился у подножки вагона, где никого не было, как будто предчувствуя, что Токарев скажет сейчас что-то неожиданное, что-то такое, чего не следует никому слышать.
И Токарев сказал:
— Да разве может такое долго быть?!
Глухо выругался по-мужицки, по-солдатски.
— Полегче, Коля… женщины могут…
— Уж извините меня, Иван Митрофанович, но как тут иначе зто дело чувствовать?
— Ты все-таки не будь таким «чувствительным»! — засмеялся Теплухин.
Токарев продолжал:
— Растерялись, суматошатся люди в тылу, надеются еще черт знает на что… разве это дело?! Лечить надо от растерянности, от непонимания. Где можно, все надо объяснять народу. К чертовой матери Николашку и всю его помещичью и буржуйскую свору! У них, у всех, сын в отца, отец во пса, а все вместе — в бешеную собаку!..
— Да ты потише! — сдерживал его Теплухин.
Но не остановить было:
— Порядки какие!.. Алтынного вора вешают, а полтинного чествуют… Кровь народная льется, океан целый горюшка… за что! Ну, за что, я вас спрашиваю? Кончать это надо… баста! Рабочие как начнут — солдаты сразу «ура» крикнут! На позициях того только и ждут: бунтов ждут. На немца винтовок не хватает, а на своих подлецов — найдутся. А то и голыми руками кадыки будут вырывать, бельмы выцарапывать, — верное слово!
— Ты страшен… Отчаянным стал… — заполз своим рысьим, испытующим взглядом Иван Митрофанович в его светлые до прозрачности глаза. Токарев не отвел их, смотрел прямо.
— Ты страшен, брат мой, — задумчиво повторил Иван Митрофанович и притронулся к его локтю: «пошли дальше, что ли?»
Хрустел песок под ногами. Он был грязен, валялись на пути жестяные коробки от консервов, кости, осколки стекла, черные, брошенные смазчиками тряпки, густо пропитанные мазутом и керосином, и прочая дрянь, — Иван Митрофанович ступал медленно, с выбором места, стараясь не попасть во все это ногой.
Токарев рассказывал между тем:
— Во многих войсковых частях ведется революционерами, большевиками социал-демократами подпольная пропаганда под лозунгом «война войне», солдаты с жадностью читают прокламации, и вот он сам, Токарев, распространяя их, едва избежал военного суда, если бы не ранили в тот день и не распотрошили весь его полк. Но ничего!.. Теперь всюду есть свои люди: одному не удастся — другой сделает…
Вот он лежал в госпитале: там настоящая «явка», — вот здорово! Там несколько человек из младшего персонала орудуют: наши хорошо поставили и это дело. Всем пример надо брать!..
— В каком ты лежал госпитале? — заинтересовался вдруг Иван Митрофанович, и какая-то мысль (как возникшая — не отдавал себе отчета) мелькнула и сразу же исчезла, но пронзительный гудок подкатывавшегося задним ходом паровоза поторопил и его и Токарева.
— В лужском «союзе городов», Иван Митрофанович… А что?.. Постойте, это, кажется, ваш подают! Ваш, конечно; ведь вам в ту сторону… — вглядывались они оба, на какой путь свернет паровоз после рельсового разветвления у сигнальной будки. — Ваш это, ваш… Пойдете? Ну, и я тоже. Ой, как рад, что встретились, Иван Митрофанович, — протягивал он руку, перекладывая завернутую в газету колбасу подмышку поврежденной руки. — Ну, прощайте. Увидимся еще, наверно… Стойте, руку вытру, а то она у меня, кажись, потная… не совсем того, простите!
Он засунул руку в карман штанов, вынул оттуда носовой платок и… растерянно посмотрел на Теплухина.
— Чего ты?! — спросил Иван Митрофанович. — Зачем карман выворачиваешь, — а?
— Вот сукины дети!.. Пятерка была, синенькая, — сперли, выкрали… Ну, что ты скажешь?! Вот народ! А?.. Затолкали на базаре и — сперли… Беда!
Он помял платок в кулаке и положил его обратно в штаны.
— На! — быстро вынул бумажник Иван Митрофанович и протянул ему «радужную» — двадцать пять рублей. — На возьми, Коля. Не стесняйся: у меня есть…
— Много это, Иван Митрофанович. Да и вообще…
— Что вообще? Глупости! — искренно и серьезно выкрикнул Теплухин. — Ну, живо — бери! Отдашь когда-нибудь…
— А я возьму… знаете! — просто и весело сказал теперь Токарев. — Ведь знаю, от кого беру… не подачку, не милостыню, а от товарища? Правда?
— Ну, конечно… — опустил глаза Иван Митрофанович. — Прощай, Николай!
И, не оборачиваясь, забыв, что ли, пожать руку ему, он заторопился к своему вагону, хотя знал, что поезд не сразу еще трогается.
— Прощайте! — крикнул ему вслед Токарев и пошел к своему составу, что-то напевая.
Он шагал, грузно втаптывая свои тяжелые солдатские сапоги в рыхлый грязный песок, отшвыривая по-мальчишески носком вбок лежавшие на пути всякие отбросы.
В вагоне четвертого класса, с маленькими, узкими, с крестообразной рамой окошечками, он нашел свое место среди таких же солдат, как и он, — уволенных из армии на время или без срока: искалеченных, с отравленными легкими, безруких, безногих, хромых.
Когда поезд тронулся, кто-то затянул, и все поддержали:
Ты прости-и-ка, прощай, Сыр-дремучий лес С летней во-о-лею, С зимней сту-у-ужею…Песнь распевалась в землянках, на фронте, вдали от родного дома, увидеть который жаждал каждый, но никто не надеялся: любую минуту была перед глазами смерть.
«Ну, а теперь зачем же петь? Домой ведь едут?..» — не раз думал Токарев, но тут же сам подпевал: «…Эх, да с летней во-о-олею!»
— Возьми волю! — убеждал он солдат.
— А где взять-то ее? — спрашивали иные.
— А там, где сдуру отдали, земляк! — отвечал он, присматриваясь к «земляку»: внемлет ли тому, что будет дальше сказано, или языком только зубы чешет, — бывали и такие…
— Читаешь, браток? — свесив голову, спросил курносый, бородатый казак, лежавший над ним, на третьей полке.
— Интересуешься или так просто?
— Интересуюсь, что бают в газетине!
— Бают, что тебя, казак, есаулом награждают! — отозвался по соседству чей-то голос с явно выраженным еврейским акцентом.
— А тебя, жид, ермолкой!
— Жидов нет, все явреи, — поправили в соседнем отделении.
— Газета фальшивая, черная, — сказал Токарев. — Да, не газета, а оборвыш от ней. Не читаю, а так себе… Газету эту вчера на пункте в Витебске даром раздавали: взял на завертку и на простые надобности. «Русское знамя» называется… Читать ли нашему брату такую всерьез?
— Кадетов газета или как?
— Бери похуже, черной сотни, браток!
— А-а… — исчезла голова. — Вона какое холуйское дело.
Смеркалось. Вот-вот упадет крупный, тяжелый дождь.
Первый гонец его — торопливый, разгоняющий духоту ветер врывался в бегущий вагон. Сквозняк… Слетает с полок чья-то бумага, с шумом раскрывается плохо затворяющаяся, залатанная фанерой дверь в тамбур. Во всем вагоне говорят: быть грозе. Кто-то признается: пуще смерти боится грозы, и это всю жизнь так, а на позициях никогда не было такого страха, — кто б объяснил, отчего это?.. Над ним смеются, зато сочувствуют другому: тот пуще штыковой атаки страшится зубоврачебного кресла, — приходилось садиться в него в лазарете, так ни за что рта не откроешь, увидя клещи в руках зубодрала…
На нижней полке полуистлевшими картами дуются в «фильку».
Сиплый, простуженный голос по складам читает последнее письмо от «жинки», ведут речь об урожае, — охают, насвистывают. Вспоминают всякие военные случаи: быль и небылицу, ругают начальство, толкуют про политику, про несчастных мошенников и плутов:
— Известное дело… Важный чин на ём, на плуте, что звонок: звук от его и громок и далек, ребятки!
Токарев, не вдумываясь в прочитанное, пробегал глазами обрывок газеты:
«Кто желает без затраты капитала заняться какой-нибудь промышленностью, должен выписать книгу «Я сам — хозяин!» Цена с пересылкой 2 р. 75 к.».
«Вышла книга А. Котомкина-Савинского «Князь Вячко и меченосцы», посвященная августейшему поэту К. Р. Историческая поэма из эпохи войн XIII столетия: завоевание немцами Прибалтийского края».
«Для гг. регентов!!! К современным событиям! следование молебного пения ко господу богу, певаемого во время брани против супостатов, находящих на ны. Сочинение П. Чеснокова».
Еще сообщалось в объявлениях (Токарев улыбнулся) о «волшебной книге». Она ведь могла научить: заморозить воду в жаркое летнее время, заставить снег гореть в блюдце. Вырастить бобы в полчаса. Разрезать ниткой стекло. Превратить железный прут в свечу. Зажечь сухие дрова водой, — и прочим «чудесам».
«Чем занимаются… паразиты! — подумал Токарев. — Фокусы им на уме да молебные песни против супостатов. Вот будет вам «находящих на ны»!.. Дайте срок!»
На маленькой станции за Оршей, где никто почти не выходил из вагонов, хотя поезд и здесь стоял больше полагающегося, к окошечку телеграфиста подскочил человек в офицерской форме и торопливо протянул бланк вместе с деньгами.
— Сейчас отправить, — слышите? Деньги сосчитаны, можете не трудиться. Ну, живо! Я кому говорю?! Квитанцию, жевжик, быстро! Чтоб немедленно отправил, — понятно?.. У-у, сукины дети, вас бы за смертью посылать — до того медлительны!..
И — заторопился обратно к поезду.
«Жевжик» — молодой телеграфист с конвульсивно подергивающейся, как после контузии, головой и бурым пятном волчанки вокруг глаза, — стараясь не напутать, передавал по линии депешу:
«Петроград департамент полиции превосходительству генералу глобусову немедленного представления проверил взял киева известного эсдека точка встречает петрограде кавычки жена кавычки потому считаю нельзя взять одного точка прикидывается французом корреспондентом точка фигуряет странностями отпустил английские усики костюм серый панама голубой лентой чемоданчик желтый точка вагон конце поезда точка осмелюсь ждать наградных запятая салопятников точка»
— …Запятая Салопятников точка, — повторил вслух телеграфист и снял закоптелое стекло с лампы, чтобы зажечь ее: густо вползали сумерки.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ Снова на тишкинском поплавке
Федя собирался позвонить, но парадная дверь была полуоткрыта, на площадку падал свет из прихожей, слышны были голоса, — и Федя решил повременить минуту и остановился у порога.
— Вы не студент Калмыков? — услышал он вдруг свою фамилию, произнесенную чьим-то незнакомым голосом, и вздрогнул даже от удивления и неожиданности. — Людмила Петровна просила передать…
— Нет, я не студент, позволю себе сказать… Ее высокоблагородие Людмила Петровна знает, по какому я делу.
— Как ваша фамилия? — спросил все тот же голос.
— Моя-с?.. — на секунду, замялся посетитель. — К-кан-душа, позволю себе назваться… Ну, и что же из того, что фамилия?.. — досадливо и растерянно, как показалось Феде, продолжал он. — Осмелился прийти так поздно по очень важному делу.
— Действительно поздно! — согласился хозяйский голос, приближаясь к двери. — Людмилы Петровны нет. Она уехала надолго из Петрограда. Честь имею!
— Куда — осмелюсь?..
Эти слова были произнесены уже за порогом, на площадке, потому что хозяин, инженер Величко, весьма решительно закончил разговор и захлопнул дверь перед самым носом попятившегося назад Кандуши.
Оглянувшись, он увидел топтавшегося на месте студента: а-а, конечно же, это был тот самый, о котором сию минуту шла речь, — и Кандуша, мельком оглядев его, сказал с сочувственной улыбочкой:
— Господин Калмыков, вы к Людмиле Петровне? Так ее нет дома! Она уехала надолго из Петрограда.
«Это мне теперь и без тебя известно! — разгорячился Федя. — Но она просила что-то передать мне, — как бы узнать это?» — не знал он, что нужно делать, и не отходил от двери.
— Не верите, может быть?
— Нет, помилуйте, верю! — стало неловко почему-то Феде, и он опустился на одну ступеньку вниз.
— Так, так, — покачал головой Пантелеймон Кандуша, продолжая улыбаться. — Значит, будем знакомы! Пойдемте… что же тут делать? — предложил он, обернувшись на захлопнувшуюся дверь.
— Погодите минуточку здесь — хорошо? — остановился Федя на лестнице. — Если, конечно, хотите? Раз я уже пришел… вы понимаете?.. — Прыжком взлетел он на площадку и, отрезав путь для сомнений, позвонил и услышал шмелиное жужжание звонка. — Я сейчас же вернусь, господин Кандуша.
Его впустили в квартиру, дверь захлопнулась.
«Ну, и что же из того, что фамилию?.. Сболтнул! Само как-то выскочило… Э-э, инженер и слыхать не слыхал про меня, а Калмыкову, если что, так вотру, что разлюли малина!»— успокоил себя Пантелеймон Кандуша, оставшись один.
Гораздо досадней было, что не застал дома Людмилу Петровну. Готовился к встрече, все обдумал, на всякий случай утерянное Теплухиным письмо ее захватил с собой (мало ли, как разговор пошел бы!), — а тут вдруг такая история! «Не повезло! Да куда же уехать могла так внезапно? — вот вопрос, пипль-попль!»
«Надолго уехала, сказал Михаил Петрович… А может, врет? А зачем ему врать? Хотя!.. Проверим завтра, голубица, проверим завтра в госпитале. Разве я тебе, красавица; зла желаю? А вот они-с (подумал о Теплухине) сувенир получат, — это д-да…» — поджидая студента, размышлял между тем Кандуша. «Землячок!.. «Сицилист», наверно? А дедушка его капиталы растил, ямщиков, возможно, по мордасам лупил, хутор имел, с помещиками дружбу водил».
«И куда это он запропастился?» — поглядывал Кандуша на дверь, за которой скрылся студент.
Но прошло не больше трех минут с того момента, и дверь опять открылась перед вышедшим на площадку Федей Калмыковым.
— Сейчас… — бросил он стоявшему на лестнице Кандуше и, развернув письмо, быстро пробежал его глазами, потом вновь принялся за него, замедленным шагом спускаясь со ступеньки на ступеньку.
«Интересно, наверно, позволю себе думать? — поджидал его у лестничного окна во двор Пантелеймон Кандуша и нацелился глазом на бледно-голубой почтовый лист, стараясь зацепить хоть несколько слов из чужого письма. — Людмилкин почерк, ей-богу! — успел он только заметить: студент уже прятал письмо в карман тужурки. — Удивить? Предъявить ему той же прелестной ручкой написанное, — а?.. Вот игра-игрушка получится!» — шалил сам с собой Кандуша.
Они вышли из подъезда, учтиво провожаемые седобородым толстеньким швейцаром, и, словно сговорившись, оба повернули налево, держа путь к Каменноостровскому проспекту, гремевшему издали колесами, тормозами и звонками пробегавших трамваев. Теплая лунная ночь удерживала людей на улицах, сулила мечтательную прогулку и возможность приятных встреч.
— Как вас зовут, простите?.. — спросил Федя своего спутника.
— Петя, — не моргнув глазом, соврал на всякий случай Кандуша. — А вас как, осмелюсь узнать?
— Федя. А отчество — Миронович. А ваше?
— Отца звать Никифор. А мы ведь с вами и Людмилой Петровной из одних мест, кажется!
И пошли воспоминания: о родном городе; о живущих в нем, о «гимназических пристанях» на речке Суле, где устраивались так часто пикники, — ой, и самовар взяли с собой, и пропасть всяких закусок, и кондер там варили на костре, и, случалось, винцо попивали, и шуры-муры разводили… А по той же речке к старинному монастырю Афанасия Сидящего — дорога какая чудная! А в самом монастыре? Чего только не стряпают тебе буквально за грош!.. Или пойти, например, гулять «за линию», вдоль железнодорожного полотна, до самой станции Солоницы, — природа какая, одно удовольствие, — а?.. А в Солоницах, — давно говорят, — клад зарыт поляками, когда еще князь Иеремия Вишневецкий на смирихинской горе замок себе выстроил, — гос-с-поди боже мой, кто только не пытался откопать тот клад, но никто еще не набрел на тайное место…
Заходит разговор о Людмиле Петровне.
— Красивый бабец очень! — говорит о ней Кандуша и, коротко крякнув, бросает в воду (они уже на набережной Невы) положенные кем-то на выступ парапета свеженькие корки от апельсина.
Федя чувствует, как краснеет, — отворачивает лицо, останавливается у парапета, глядит в воду.
«Что его смутило? — следит за ним украдкой Кандуша. — А ну-ка, еще раз попробую!» — И он продолжает:
— За такую женщину, если иметь деньги, ничего не жаль. Полюбить можно такую женщину сильно. Да разве нашему брату (я про себя говорю) иметь когда любовь с такою? Ни в жизнь!..
Федя молчал.
— Ни в жизнь! — повторил Кандуша, вздохнув. Подскочил, сел на гранитную ограду. — Такая женщина, полагаю, меньше чем знатного офицера или важного чиновника из министерства и не приметит. Или банкир какой соблазнит деньгой да увеселением. А нам с вами не соваться!
— Возможно… — старался быть как можно равнодушнее Федя.
… — Эй, официант, еще парочку!
Второй раз Федя ночью на тишкинском поплавке. Все так же много народу, все те же татары-официанты с раскачивающейся походкой канатоходцев, все так же хлопают, как из пугача, бутылочные пробки. Играет оркестр слепых, одноглазый, с вытянутой лошадиной челюстью пианист (Феде кажется, что с того раза он очень похудел) трясет по-прежнему длинными смолянистыми кудрями и поводит плечами.
— Вам что, Федор Мироныч!.. Обыкновенная, так понимаю я, записочка… Ну, не может исполнить просьбу. Ну, преждевременно уехала, так, а? Вторую страничку не показали, — воля ваша! Частное дело, пипль-попль… Вполне частное. Ну, что там может быть?
— Ничего особенного, — уверяет его Федя.
— То-то и оно. «Готовая к услугам и прочее», как пишется… Верно я говорю?
— Да, — нетерпеливо говорит Федя и не спускает глаз с конверта, лежащего тыльной стороной вверх на кандушиной ладони.
— Удивить?
Кандуша осторожно вынимает письмо из конверта, развертывает его и сует Феде под нос кончик последней странички:
— Узнаете подпись, — а?..
— Вот оно что! — восклицает Федя.
Угловатым, неровным почерком: «Людмила Галаган».
— Вам? — поражен Федя.
— Мне… — закрыв мечтательно глаза, покачивает головой Кандуша. — Вот именно — мне. Прочитаю.
Игравший за спиной оркестр мешал Феде ясно слышать содержание письма, — иногда приходилось переспрашивать, просить, чтобы повторил слово, а то и целую фразу. К тому же Кандуша читал невнятно, запинаясь, и Феде показалось, что он многое пропускает.
— «Любезный мой… Никифорович, — читал Кандуша. — Петр Никифорович! — через секунду громче обычного повторил он. — Чтобы внести раз навсегда ясность в наши взаимоотношения, я решила написать вам. Запомните, что этим я никак не могу себя скомпрометировать…»
— Чувствуете, Федор Мироныч? Не может скомпрометировать, — а?
— Дальше, дальше! — придвинулся вместе со стулом Федя.
— Ну, дальше… «К тому же я уверена, что вы сами захотите уничтожить это письмо, и это целиком совпадает с моими желаниями… Наши встречи приведут к чему-либо большему, чем то, на что могли надеяться остальные мои знакомые мужчины… — выбирал Кандуша из письма то, что ему нужно было. — Вы, я видела, отнеслись уже к этому недоверчиво, заподозрив с моей стороны обычную женскую игру».
— Ну, тут дальше… стыдливое, позволю себе заметить, — перевернул страничку Кандуша. — А вот отсюда… «…Вы для меня, естественно, должны были показаться человеком экзотическим. Вас все здесь чуждались, а для меня это было совершенно достаточно, чтобы поступить всем им наперекор…» — Видали-с? «…Ну, будем искренни, Иван Митрофанович!» — предательски произнес вдруг кандушин язык, повинуясь его устремленным на письмо глазам, и они… посветлели даже, как показалось в ту секунду Феде, беспомощно остановившись на нем, — широкие, круглые, теперь растерянные…
Ох, многое может случиться, — изрек философ древности, — между краем губы и бокала! На один только момент опоздал Кандуша поднять глаза, на своего собеседника: на тот самый момент, когда он подносил бокал к своим губам! А теперь студент Калмыков спокойно, невозмутимо допивал пиво, глядя на Кандушу если и с любопытством, то никак уже не внушающим подозрения.
«Ври, ври! Заливай, скотина! — едва скрывал теперь свою радость Федя. — Хлестаков несчастный… А насчет Ивана Митрофановича — интересно! Оч-чень даже. Вот тебе и каторжанин! Но когда же это было только?» — соображал он.
— Помню я, Федор Мироныч, забежали мы оба в темную ванную комнату…
О, до каких только пределов горячего вымысла не доходила в эту ночь не укрощаемая ничем кандушина фантазия!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ Отец и дочь. Домашняя охранка в семье Карабаева
Дым от горящей недокуренной папиросы, брошенной в пепельницу, теплым едким облачком лез в слезившиеся глаза; одна и та же, замеченная, надоедливая муха садилась на оголенную до локтя руку, нахально забиралась под засученный рукав рубахи; за окном орали мальчишки, игравшие в городки; кричал на дороге мороженщик, — все это должно было мешать работе Льва Павловича. Но он был так увлечен ею, что не пытался уже отогнать как следует приставшую муху, потушить тлеющую папиросу, крикнуть мальчишкам, чтоб убрались подальше, закрыть окно, покуда не закончит статьи. Она получалась, на его взгляд, очень интересной и удачной.
Он заглядывал в свой заграничный дневник и вписывал в статью:
«В Англии при населении в 46 миллионов народное богатство составляет 165 миллиардов рублей, а народный доход — 24 миллиарда в год. Народное богатство Германии (население — 68 миллионов) — 150 миллиардов и народный доход — 22. Посудите сами, читатель, — писал Лев Павлович, — в Англии на одну душу населения приходится 3470 рублей народного богатства и дохода — 470 рублей, и в Германии — 2200 и 320 рублей. Сделайте сами вывод, любознательный читатель», — приглашал он.
Впрочем, кто его знает, какой вывод мог сделать не разбирающийся в цифрах читатель, — и Лев Павлович, подумав минуту, считая, как всегда, что следует, где только можно, все подсказывать русскому читателю, — закончил статью так:
«Вот и получается, что средняя семья из пяти душ обеспечена у англичан и немцев так, как у нас в России — мелкопоместные помещики или чиновники, занимающие приличные должности. Разве это не показательно?» — заключил всю статью жирный красноречивый вопросительный знак.
Лев Павлович собрал вместе все листки и вложил их в большой конверт, чтобы передать завтра же в газету.
Завтра с утра он поедет в город, он сам отвезет, — все равно имеет смысл побывать там: брат, Жоржа, известил телеграммой о своем приезде (остановился в Европейской гостинице), да и вообще всякие дела набежали за это время.
— Чудесно! — произнес вслух Лев Павлович, подытожив свои мысли.
Теперь только он отбился от нападавшей на него мухи, несколько раз ударив по ней носовым платком, выбросил за окно дымящийся окурок, погрозил пальцем сконфуженным мальчишкам и вышел во двор — мыть руки и освежить вспотевшее, лоснящееся лицо.
В даче никого из домашних не было: Софья Даниловна, захватив с собой Клавдию, уехала сразу же после обеда в город — закупать продукты, каких не было здесь, Юрка бог весть где пропадал, а Ириша — знал это Лев Павлович, — купается сейчас в озере, в версте от дома.
Было часов восемь вечера, солнце, покачнувшись вниз, все еще было ярко, но стало мягче, и Лев Павлович, прятавшийся обычно от дневной жары, подумал, что сейчас-то и лучше всего погулять. Оставить дачу можно было без всякого риска: «там, где финны, нет воровства» — убежден был он сам и Софья Даниловна.
Он вышел за калитку и, постояв некоторое время на одном месте, медленным шагом направился в реке.
В белых брюках и в белой, с отложным воротником, рубахе без галстука, с широким полотняным поясом, на котором нашит маленький кожаный кармашек для часов, в сандалиях, без шляпы, — Лев Павлович чувствовал себя сейчас настоящим дачником: «Ничем не хуже всех остальных», — подумал он о себе, присматриваясь к схожему одеянию встречавшихся на пути мужчин и женщин, ходивших вдали от города в «вольных» костюмах.
Дачники оборачивались на него, и он чувствовал за своей спиной их любопытные, а может быть, и благодарные, дружеские взгляды, и долетало до слуха почтительное короткое восклицание, вызванное случайной встречей «в обычной обстановке» со знаменитым народным представителем…
Он не гордился, но ему было приятно, и, не зная этих людей, он испытывал к ним доверие и благожелательность.
А когда какая-то пожилая, с седыми буклями дама, завидев его, приостановилась и, давая дорогу, встречая прищуренными глазами, улыбнулась ему, — он тоже, проходя мимо, улыбнулся добро и сдержанно поклонился ей: не в знак знакомства, которого не было между ними, а из чувства взаимной, надо было полагать, приязни и взаимного понимания, не требовавшего ни слов, ни личного знакомства.
Разве не говорил он уже и с этой уважаемой, приветливой дамой, когда обращал свои речи ко всему народу, стоя на трибуне русского парламента?.. Нет, нет, он не гордился, но ему было очень приятно наблюдать такое внимание к себе!
Если бы он задержался минут на пять, то у самой калитки встретился бы с одним знакомым ему человеком, и, — кто знает, — как сложился бы тогда сегодняшний вечер. Может быть, и прогулка была бы сорвана или во всяком случае она не была бы такой спокойной, бездумной и приятной для Льва Павловича.
Человек этот, опоздавший на несколько минут, чтобы встретиться с Львом Павловичем, вероятно, не очень сожалел о том, потому что, войдя во двор, спросил хозяев не о Карабаеве, а о его дочери Ирине.
— Никого нет на даче, — ответила ему жена Вилли Котро. — Барышня на озере. Подождите ее, — добавила она, оглядев незнакомца, очевидно внушившего ей доверие. — Заморились, наверно, в поезде!
— А вы не знаете, скоро она придет? — поинтересовался он.
— Барышню я встретил полчаса назад, — вступил в разговор Вилли Котро. — Я возвращался с работы, шел мимо озера, а она только шла туда. Она любит вечером купаться, — правда, Густа? — обратился он к жене за подтверждением.
«Что же теперь делать? — соображал Ваулин. (Это был он.) — Пока будет купаться, пока вернется — верных полтора часа пройдет».
— Присядьте, подождите, — вновь предложила Густа, указывая ему на свободный табурет, стоявший у порога летнего обиталища всей ее семьи: чистенького, остекленного сарайчика, крытого вперемежку красной и серой черепицей. — А если хотите — зайдите к ним на веранду: дача не запирается.
И она начала по-фински разговаривать о чем-то с мужем, предоставив возможность незнакомцу самому решить, как лучше ему устроиться.
Семья Вилли Котро собиралась ужинать. На столе с косыми крестообразными ножками — кастрюля с только что вскипевшим кофе, сухари, салат и козий сыр. Ваулин не прочь был бы и сам подкрепиться…
Ребятишки — их было трое — вслед за отцом мыли руки и рассаживались по своим местам. Вместе с первой чашкой кофе Густа подала мужу две финских газеты. («Культура…» — подумал Ваулин, невольно наблюдая всю семью финна.) Пройдет несколько минут, — Вилли Котро пробежит глазами сначала одну газету — финских социал-демократов, потом другую — гельсингфорского клуба ремесленников и не менее получаса будет читать вслух семье все важнейшие новости.
«Черт возьми… как же быть? — огорчался между тем Ваулин. — В моем положении бездействовать и убивать время на созерцание этой семейной идиллии — не очень умно! Неужели не удастся увидеть Иришу? Обидно! И кто знает, когда еще?..»
— Простите… — прервал он финскую речь: «Кстати, спрошу, как пройти туда». — Простите, — деревня Малая Метцекюле далеко отсюда?
— Малая Метцекюле? — поднял белобрысую, сжатую с боков голову Вилли Котро. — Ходить сорок минут по часам. Я хожу туда каждый день. Мы строим там новую церковь: старая сгорела. Вам, наверно, нужна там дача?
— Да, хотелось, бы, — невинно солгал Ваулиц.
— Там освободилась сегодня одна, — как-то странно заулыбался блуждающей улыбкой Вилли Котро.
Он что-то быстро сказал по-фински жене. Та удивленно спросила его:
— Хальме, Вилли? Ой-я-а!..
И, услышав знакомую фамилию «Хальме», Сергей Леонидович, имея все основания заинтересоваться, сказал:
— Меня просили для семьи одного господина посмотреть при случае дачу: в Малой Метцекюле… Мне даже адрес одного хозяина дали, — хитрил он, вынимая из пиджака блокнот и делая вид, что ищет в нем записанный адрес. — Вот… дом Зигфрида Хальме, напротив второго колодца.
— Вам не очень повезло, — нахмурился Вилли Котро. — Я как раз говорил жене про этого самого Зигфрида Хальме. Если тот, что против второго колодца, — так вам не очень повезло, — повторил он.
— Почему? — уже насторожился Ваулин.
— Как раз сегодня приехал в Метцекюле жандарм и забрал Зигфрида Хальме.
«Фю-фю!» — чуть не свистнул Ваулин, а вслух сказал:
— А что же за человек этот Хальме?
— Обыкновенный. Хромой только немножко. Тоже, как всю жизнь плотником работает. В Петербурге работал, в Выборге работал, в деревне тоже… Хотя, может быть, вы с его матерью сговоритесь, — жены у него нет.
«Я это и без тебя, милый, знаю…»
— Да, да, надо будет сговориться. Я так и передам своему знакомому, — с деланым равнодушием и спокойствием ответил Сергей Леонидович, а сам: «Ого, как глубоко копнули! Пустячки — провал на сей раз?! Ну, медлить нечего. Хальме взяли: куда же мне теперь идти? Обложили со всех сторон, как волка на охоте. Самым поздним, ночным — в город придется. А оттуда?.. А оттуда — любым, куда только можно, из Петербурга!..» — решил он.
— Я напишу записочку, а вы, пожалуйста, передайте ее барышне Карабаевой, — условился он с плотником и его женой.
Он вошел в карабаевскую дачу, быстро набросал письмо Ирише, запечатал его в конверт, любезно предложенный Густой Котро, и оставил письмо на веранде, положив его кончик под графин с водой, стоявший на столе.
— Значит, не будете ждать? — спросила жена плотника.
— Нет. Пойду… может быть, выкупаюсь… Я приду через часок, — сбивался он в своем торопливом ответе.
Он вышел на дорогу, пересек ее, взбежал на холмик и направился в лес.
Путь к речке, где купались мужчины, лежал совсем не в ту сторону, — хотел крикнуть об этом приезжему приветливый и обязательный Вилли Котро, но Ваулин уже был далеко.
«Ирине», — прочитал Лев Павлович надпись на конверте, сделанную карандашом.
«От кого бы это?» — подумал он.
Утолив жажду, графин с водой поставил на место, а письмо оставил в руке. Вышел во двор, расспросил финнов, кто приходил; по описанию их сразу же догадался — что новый знакомый Ириши, Сергей Леонидович, а фамилии так и не знал.
«Ах, вот оно что: Мефистофель Иришин!..» — вспомнил Лев Павлович сейчас прозвище, данное женой Иришиному знакомому, и — поморщился, сам не зная почему.
Сергей Леонидович ничем не походил на Мефистофеля: ни внешним видом, ни поведением своим, насколько мог заметить это Лев Павлович во время первой и пока единственной, правда, их встречи. Напротив, — он показался Льву Павловичу приятным и умным человеком.
Но он был старше Ириши лет на десять, и эта разница в возрасте питала родительское сердце всяческими догадками и подозрениями по поводу истинных отношений между дочерью и этим человеком. К тому же факт, о котором в свое время рассказала Льву Павловичу Софья Даниловна, должен был взволновать их обоих и усилить имевшиеся подозрения.
«О Левушка, он настоящий искуситель! Опытный, себе на уме!..» — была настойчива в своем мнении Софья Даниловна.
Месяц назад в комнате дочери она нашла случайно два экземпляра гектографированного текста. Подумала, что записанные лекции какого-нибудь профессора, — хотела положить на место, но бросился в глаза странный заголовок:
К РЕВОЛЮЦИОННОМУ СТУДЕНЧЕСТВУ РОССИИ
Стала читать:
Слава победы лишь славным дается, Срама не знает погибший в борьбе… Юность! Тебе наша песня поется. Вечная слава тебе!..«Выходите на работу, товарищи! Идите в нелегальные социал-демократические рабочие организации! Создайте свои студенческие организации для борьбы с войной и ее виновна нами. Берите на себя инициативу выступлений! Разбирайте всеми возможными средствами обломки иллюзий освобождения народов штыками всероссийского деспота! За работу! За работу, товарищи!
…ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Это слова первого Циммервальдского манифеста. Вы слышите ли? Два года мировой войны. Два года опустошения.
Два года кровавых жертв и бешенства реакции. Кто несет за это ответственность? Кто скрывается за теми, которые бросили пылающий факел в бочку с порохом? Кто давно уже хотел войны и подготовил ее? Это — господствующие классы!
Во время мира капиталистическая система отнимает у рабочего всякую радость в жизни, во время войны она отнимает у него все, даже жизнь!.. К ответу царскую монархию! Долой войну! Да здравствует революция! Вперед! За временное революционное правительство! За российскую демократическую республику! За социализм! Да здравствует Третий Интернационал революционного пролетариата!»
«Левушка, что мне было делать? — жаловалась Софья Даниловна. — Я чувствовала буквально, что у меня почва уходит из-под ног. Я спрятала прокламации и ничего не сказала Ирише… Иринка, наша Иринка и… попала в какую-то подпольщину?! Да ведь так недалеко до тюрьмы! Ты понимаешь, что я пережила? Я думала: кто ей дал эти прокламации? Один момент я готова была обвинить Фому: он какой-то странный стал за последнее время — ругает всех, каркает, как старый ворон. Однако нет, думаю, не станет он мне пакость делать: все-таки кузен… Потом я решила: Федька Калмыков! Привез, может быть, из Киева, как подпольный коммивояжер… Эт-т-то, знаешь, с политическим уклоном мальчишка! Но проверила, как могла, и отказалась от этой мысли. К тому же на этих бумажках значится подпись какого-то Петербургского Комитета… А теперь начинаю, кажется, понимать, откуда ветер дует! Видишь ли, Ириша не так давно познакомилась с одним человеком…»
Лев Павлович хорошо хранил в памяти волнующий рассказ жены в первую же ночь по возвращении из-за границы. Он прочитал прокламацию и уничтожил ее. Было решено ни слова не говорить дочери, но посматривать за ней и, когда нужно будет, — вмешаться.
«А может быть, она только одна из многих курсисток, которым агитаторы всучили свои бумажки, а сама-то она ни при чем?» — высказывал догадку Лев Павлович и надеялся, что дело обстояло именно так.
Но Софья Даниловна, ссылаясь, как всегда, на свою «материнскую интуицию», ждала больших неприятностей — и для дочери и тем самым для всей семьи.
«Я тебе говорю, Левушка: он, именно он — искуситель, Мефистофель какой-то! Он в организации революционной, — я чувствую! А знаешь, когда женщина чувствует…»
«Не в полицию же сообщать о нем?!» — по-своему противоречил ей неожиданно Лев Павлович, и тогда она обижалась.
…Торопливо заклеенный конверт легко и без порчи открывался: его язычок пузырился и отставал, и стоило только осторожно всунуть под негр тонкое лезвие перочинного ножика или дамскую шпильку — и… А потом так же легко можно заклеить: еще крепче прежнего!
Лев Павлович прогнал эту мысль. «Перлюстрация чужих писем?» — сказал он себе, и этого было достаточно, чтобы легко и просто устоять против соблазна.
«Ну, ладно… Письмо, конечно, он не вскроет: он отнесет его в комнату дочери, положит его там. А вообще-то говоря, может он, отец, который всегда так близок был со своими детьми, — может он поинтересоваться поглубже знакомыми дочери, ее отношениями с ними, ее раздумиями, вообще — ее жизнью?.. Может или нет? Должен даже! — говорил себе Лев Павлович. — Ведь она еще дитя… прекрасный мой, чудный теленочек! Разве она отвечает за все свои поступки? Надо объяснить ей это — в честном, прямом разговоре растолковать. Соня, конечно, не сумеет этого сделать, она чересчур вспыльчива бывает, — рассуждал Лев. Павлович. — А я сумею: ведь Иришка так меня любит! Ну, пусть пооткровенничает со мной курсёсточка моя!.. — просил он ее мысленно. — Мы вместе и обсудим, если что есть… Какие у нее, например, дела с Федей этим самым. Неужели продолжается детский роман? Или нет?.. Мне этот студент нравится, напрасно Соня как-то неприязненна с ним. Эх, молодежь, молодежь: надо ведь ее понимать!» — словно спорил он с кем-то в эту минуту, и, как если бы спор увенчался его успехом, Лев Павлович пришел опять в хорошее настроение.
Он уже знал даже, как начнет разговор с дочерью. Он не сразу, не в лоб, — нет, нет, он схитрит, он начнет (приходит тут в голову Льву Павловичу) с «биологического» примера: как естественник подойдет он к этому деликатному делу.
«Однажды, — расскажет он Ирише, — лесник ехал ночью верхом на лошади по лесу и в темноте наехал на лосиху, которая, испугавшись, отбежала в сторону. Лесник продолжал свой путь. К великому его изумлению, в деревню за ним пришел и лосенок. В чем же дело?.. А в том, что лесник отрезал случайно лосенка от матери, за которой он всегда бегал, и теперь он побежал так же за лошадью, как раньше за лосихой. Здесь мы имеем дело, — пояснит он Ирише, — с наследственной реакцией, биологически весьма важной, так как благодаря этим реакциям детеныш спасается, пока не окрепнет и сам не образует своих условных связей по отношению к внешнему миру. Это и есть пример примитивной подражательной реакции».
«Поняла сию научную притчу?» — спросит он свою дочь, своего милого, прекрасного «лосенка», в темноте и запутанности современной жизни могущего, подражая бог весть кому, отбиться от семьи своей и неразумно побежать куда-то прочь. Вот как начнет он с ней разговор! Весело (главное — весело!), шутливо, но в то же время достаточно серьезно.
И зачем дело откладывать в долгий ящик? Разговор он начнет с ней сегодня же: благо никто не помешает им, так как Софья Даниловна задержалась в городе (он посмотрел на часы) и приедет оттуда, наверно, только завтра утром.
Лев Павлович направился в комнату дочери, чтобы отнести туда ваулинское письмо. Войдя в комнату, он положил его на подушку: вернется Ириша — сразу бросится ей в глаза, — рассудил он.
Он оглядел обитель дочери: «Хм, какой, однако, беспорядок у Ириши, — подумал Лев Павлович. — Вот уж не похожа в этом на мать! Нехорошо…»
На подоконнике разбросаны шпильки, одна из них каким-то образом попала на желтую липкую бумагу «смерть мухам». Зеркало на комоде в пыли. Тут же тарелочка с недоеденными ягодами, и на них — осы и мухи. Упала с вешалки полотняная простыня, закрывавшая висевшую одежду. В разных углах валялись пояски от платьев, косынка, голубой сарафан, а на столе — тючок свежеотглаженного белья, только сегодня принесенного деревенской прачкой.
«Нехорошо. Неаккуратно… Как будто раньше не замечалось за ней это? — удивился Лев Павлович. — Надо ее немножко пристыдить: сделаю, а потом скажу!»
Никогда не занимаясь этим сам в своей комнате, он решил сейчас навести порядок, хотя бы относительный, в комнате дочери. Он собрал валявшуюся одежду, повесил ее, как мог, на вешалку, накрыл ее поднятой с пола простыней, а свежее белье решил положить в комод, — все вместе: и ночные рубахи, и лифчики, и чулки, и платье, и носовые платки, — все вместе! «Пусть уж там сама разберется!»
В комоде было три больших ящика и два маленьких — верхних. Льву Павловичу не хотелось садиться на корточки и очень низко нагибаться, но, — соображал он, — вряд ли белье хранится в маленьких ящиках, — и решил выдвинуть первый из больших, что и сделал.
Ему повезло: именно в этом ящике, — увидел он, — лежало остальное белье (правда — только белье!) Ириши. Узенький — он был почти полон, и Лев Павлович с трудом укладывал в него Иришины вещи, для чего потребовалось вынуть на время из него уже лежавшие там.
Занятый этой неблагодарной для мужчины работой, он нащупал случайно между лежавшим бельем какой-то твердый, плоский предмет и сразу же определил, что это — тетрадь. «Почему она здесь?..»
Не зная еще, для чего, он вытащил ее: действительно — толстая клеенчатая общая тетрадь. Он неловко перелистал ее — и оттуда выпали какие-то бумажки и тонкий засушенный ореховый лист. Лев Павлович быстро нагнулся, поднял все это, — он не знал, как точно следует его положить.
Уже осторожно он вновь стал перелистывать тетрадь со многими исписанными страницами и, когда увидел между двумя из них точно такого же формата листки, как и выпавшие, — обрадовался и присоединил к ним слетевшие на пол.
Проделывая это, бегло сличая листки, он натолкнулся взглядом на кем-то, незнакомым почерком, написанную свою собственную, карабаевскую, фамилию, употребленную во множественном числе. Ну, как тут не заинтересоваться?.. Да еще если фамилия к тому же почему-то… зачеркнута?!
И он остановил свой взгляд на одной этой строчке:
«…либеральной буржуазией и ее глашатаями — Гучковыми, Милюковыми, Карабаевыми…»
«Что такое? В чем дело?..»
Не думая уже ни о чем, что могло бы его удержать от этого поступка, Лев Павлович набросился на чтение листков, не обращая внимания на порядок, в каком они следовали.
«Товарищи! — писал кто-то круглым красивым почерком. — В годы реакции, в годы трудной будничной работы совершившееся в нашем студенчестве расслоение не могло обнаружиться с достаточной определенностью за отсутствием вопросов, требующих для своего разрешения определенных действий. И в смрадном маразме ублюдочной конституции…»
«Господи, слова-то какие, слова-то!..» — скривил рот Лев Павлович.
«…выросли и окрепли те буржуазно-мещанские настроения студенчества, которые только теперь проявились со всей силой, свидетельствуя о полном идейном банкротстве студенчества, как целого, его идейном банкротстве и бесшабашном оппортунизме. Казавшееся когда-то единым по своему революционно-демократическому настроению, оно теперь, с обострением классовых противоречий в обществе, раскалывается, как орех (зачеркнуто «как орех»), на две противоположные друг другу группы: буржуазно-оппортунистическую, идейно связанную с сильно окрепшей за последние годы либеральной буржуазией и ее глашатаями — Гучковыми, Милюковыми, Карабаевыми (…как ни возмущен и сердит был сейчас Лев Павлович, подумал, усмехнувшись, о чтении письма в «Ревизоре»), и — революционно-социалистическую с интернационально-классовой идеологией мирового пролетариата. Совсем не желая обращаться с призывом к первой части, обращаемся к товарищам, разделяющим наши убеждения, но почему-либо стоящим в стороне от социалистической работы пролетарских организаций.
Товарищи! вы должны знать…»
На другом листке:
Вечная память погибшим за дело святое!
Вечная память замученным в тюрьмах гнилых!
Вечная память сказавшим нам слово живое!..
…Совершенно очевидно было — черновик какой-то прокламации! «Эге, дело серьезное, — встревожился Лев Павлович. — Боже мой, боже мой, как Соня была права! Спасать, спасать надо… Ведь это же не шуточка, ведь бог знает что может случиться с Иришей! — с тревогой подумал он о дочери. — Кто его знает, что здесь еще в тетради?»
Она в его руках, минуту он заглядывает в нее, убеждается, что это дневник Ириши, о существовании которого он никогда раньше не знал, — господи, он, отец, ничего не знал!..
Но читать ли весь дневник сейчас?
Прежде чем начать смотреть его, Лев Павлович решает сделать другое: он подбегает к кровати и берет положенное им на подушку письмо.
Через минуту он убеждается, что поступил правильно.
Шпилькой он легко вскрывает конверт и вытаскивает оттуда записку Ваулина: тот же самый, знакомый уже почерк — круглый, красивый.
«Ирина! Обстоятельства вынуждают меня покинуть Петроград. Надеюсь — только на время! Не унывайте, дорогой друг, все будет ладно. Советую сейчас отдыхать, держаться в тени. Ждите от меня вестей. Просьба большая: зайдите к Шуре, вместе с ней — к моей матери, успокойте, крепенько поцелуйте Лялечку. Не оставляйте моих, я буду думать о них и о Вас всегда. Если ларек не закрылся (пусть Шура посмотрит), все равно не покупайте там без меня. Помните: Вы мне очень, очень близкий человек, — вот Вам еще раз мое признание! А признание — сестра покаянию: простите меня за все неприятное, может быть, что причинил Вам. Лялечку и мать обнимите за меня. Отсюда выберусь самым ночным.
Ваш Сл»Заклеенный конверт водворен на место. Но все равно до последней запятой запечатлелось это письмо в памяти Льва Павловича! Кажется, всю жизнь будет помнить…
— А я хотел ей о лосенке рассказывать… Вот тебе и «лосенок», ай-ай-ай-ай-ай!.. — горестно вздыхал он. И, словно не хватало сейчас воздуху для дыхания, подошел к окну и высунул на минуту голову в него.
Увидев побагровевшее, насупившееся лицо Карабаева, притихшие мальчишки, расположившиеся под кустом палисадника, хотели уже разбежаться, но Лев Павлович вдруг ласково сказал:
— Играйте, ребятки, играйте: я вам не запрещаю. В лосиху и лосенка умеете? А?.. Ну, я вас завтра научу, — и отошел от окна.
«Господи, что я такое говорю?..» — испугался он сам за себя: подкрадывались к горлу спазмы, стреляло, как всегда, когда волновался, в правом, с детства простуженном ухе.
Кое-что в письме ему было непонятно, особенно — фраза о ларьке, и это только усиливало его волнение, разжигало его подозрения и догадки, в одно мгновение сменявшие друг друга десятками. Боже ты мой, до чего только он ни додумывался!.. Но одно было ясно: ни он, ни Софья Даниловна не уследили… Нет, нет, — не уследили! Дело зашло слишком далеко, и как теперь его исправить, — а? Ириша, его дочь, связана безусловно с какой-то подпольной организацией («И прокламация и эта записка — одним почерком!»), и, того гляди, в любой день жандармский офицер или какой-нибудь агент охранки придет за ней и уведет под конвоем в грязный участок.
«Как проворовавшуюся проститутку, вместе со всяким сбродом, с цыганами!» — пришло именно это в голову Льву Павловичу. Он сознательно уже пугал себя, чтобы резче и как можно только болезненней почувствовать весь ужас предстоящего, всю силу оскорбления, которое тем самым будет ему, Карабаеву, нанесено.
А какая-то другая мысль пыталась успокоить: «Нет, что ты? Не дай бог! Зачем же цыгане, зачем проститутки?.. Бог с тобой! Могут, конечно, забрать — это правда, но ведь связи в министерствах, Родзянко, положение в Думе, в обществе?! Вмешаются, не допустят скандала, вернут немедленно Иришу, — что ты, Левушка?!» — словно уже говорили ему ласково, по-родственному, услужливо и Родзянко, и министры, и вся Дума, и все люди вокруг.
«Заслужил я или не заслужил того?» — спрашивал он их мысленно и слышал уже, как это часто бывало во время его думских и иных речей, громкое, дружеское и преданное одобрение.
«Правые только, негодяи, могут использовать этот семейный скандал. Начнут улюлюкать, обругают и меня революционером, скажут, что я в сговоре с безответственными крайними элементами. Ах, Ириша, Ириша! Что ты наделала? — негодовал и скорбел Лев Павлович. — Как это все случилось?..»
И вдруг одна мысль пришла, как страшный, позорный ответ на растерянный вопрос Льва Павловича.
«Боже мой, боже мой… Ни я, ни Соня этого не переживем!»— обреченно сказал он себе.
Он раскрыл тетрадь и, как можно только, быстро стал ее просматривать: эти страницы должны были подтвердить то, о чем он подумал.
Среди нескольких десятков записей он выбирал для своих умозаключений те, в которых разбросан был и таился, по его мнению, ответ на его последнюю мысль. Он переставал читать все, что не касалось существа ее: о профессорах, о театре, о книгах, о влюбленных Иришиных подругах, о прогулке на Стрелку, рассуждения на разные темы и прочее. Собственно и это было ему интересно, и в другое время он не пропустил бы ничего, что так или иначе касалось Ириши, но сейчас… сейчас он искал главное.
«Как следователь охранки!..» — подумал он и тотчас же отбросил эту мысль.
«…Я так благодарна Артемиде за это знакомство! Какой он умный и, кажется, хорошей души, человек! Мы много говорили с ним, мне так хотелось пойти вместе домой, но он почему-то ушел раньше всех. Шура живет в одной квартире с ним, его матерью и ребенком. Он вдов, потому что жена его умерла во время родов, ребенка он боготворит, но почему-то не живет с ним вместе. Вот этого уже не могу никак понять.
…Сегодня Шура рассказывала мне все, что знает о его жизни. Ей откуда-то все известно. Шура уверяет, что он видный здесь «политический» человек, но почему-то нигде открыто не выступает. Он с Шурой очень хорош, она хочет быть его «личным секретарем», как сказала. Он расспрашивал ее обо мне. Неужели? Шура говорит, что я ему очень нравлюсь…»
«Шура да Шура! Какая это такая Шура?» — злился Лев Павлович, стараясь вспомнить всех бывавших у него в доме Иришиных подруг. И отыскал-таки в памяти: «A-а… вот та самая — кубышка с черненькими глазками, с растрепанными темно-золотистыми волосами!.. Ходит она всегда в поношенной, обшитой барашком кофточке, в кругленькой шапочке. Кажется, большая сладкоежка и часто жалуется на зубную боль… Нет, ничего, симпатичная», — вынужден признать Лев Павлович, хотя не прочь был бы сейчас придраться к любой из Иришиных приятельниц.
«…Прошло полгода, ровно полгода с того дня. А могла ли я думать тогда? Родной мой, Хороший, ты доставил мне столько радости!.. Чувствовать тебя, дышать с тобой одним воздухом, думать вместе с тобой… все, все скрывая от чужих людей!..»
— Какая гадость! — горячим шепотом сказал Лев Павлович. — «Несчастная… развратница!.. — закончил он уже в уме, не в силах, чувствуя, произнести это слово вслух. — Ирочка, Иришка, что сделала с собой и со всеми нами?» — опустился он на стул, не замечая уже того, что неудобно сел на кончик его.
Теперь все казалось понятным, теперь не в чем уже было сомневаться.
Пришла странная мысль — подтверждение того, что узнал из дневника: состояние Ириши сказалось и на ее обращении с вещами! Неряшливость, никогда раньше не замечавшаяся за ней, беспорядок в комнате, разбросанное, валяющееся где попало белье. «Нет, нет, это не девичье отношение к предметам: это распущенность женщины, утаивающей, что она стала ею! — утвердился он в своем наблюдении. — Это проявление бессознательного, вероятно, бесстыдства, которого раньше не было у Ириши».
И чулки ее, лифчики, смятый сарафан — вещи, которые он подбирал здесь, трогал руками, — показались ему теперь не просто запылившимися, не свежими, а грязными, в каждой складке своей хранящими следы чужого и греховного к ним прикосновения.
Этого он никогда не замечал, но сейчас ему казалось, что подол нижней Иришиной юбки неприлично ниже верхней, и кружева его всегда грязны и, распустившись в петлях, волочатся ниткой по полу…
«Как цыганка, как проститутка с грязным подолом… пойдет со всяким сбродом», — опять приходит в голову больная, оскорбительная мысль, и он неожиданно ощущает потребность вытереть руки носовым платком, словно он и впрямь только что ими держал замаранный подол чьего-то белья.
«Теперь, — нашел он на одной странице, — Шура созналась мне, что давно помогает их революционной организации. Они борются с царем и против войны, и разве вся моя душа не с ними? Шура спросила меня, хочу ли я тоже помогать общему делу. «Будешь подручной, — сказала она. — Ведь ты курсистка, а лучшие из студенчества всегда шли с рабочим классом». Я сказала ей, что мой отец — бывший земский врач, а капиталов у нас нет. «Дело не в твоем отце, если быть откровенной, — сказала Шура, — а в тебе самой, Ириночка. И с отцом тебе нечего советоваться: у нас с ним разное политическое вероисповедание, хотя он и не царский человек».
…Федя пишет, что приезжает сюда. Пускай приезжает, буду очень рада Федулке. Теперь мы с ним друзья, только хорошие, настоящие друзья. Жизнь корректирует все отношения — всегда говорит мой папа: так и у нас с Федулкой. Интересно, понравится ли ему мой С. Л.?
…Все мы дома с нетерпением ждем возвращения из-за границы папочки. Сначала газеты очень, много писали о них, о их поездке, а теперь стали меньше. Папа — настоящая знаменитость! В университете стали относиться ко мне с особенным уважением, меня некоторые так и называют: дочь будущего министра; С. Л. шутя говорил мне: «Ну, зачем вам, Ирина, Константинополь и проливы?» А Шура серьезно говорила: «Лев Павлович не плохой, вероятно, человек, но зачем он служит буржуазии, а не рабочему классу?» Еще года два тому назад я обиделась бы, а теперь кое-что начинаю понимать.
…По просьбе студенческой группы С. Л. составил проект воззвания. Там упоминалась фамилия папы. Писал у меня в комнате. Я посмотрела на листок и, как дура, покраснела. Он нежно обнял меня за талию и сказал: «Из песни слова не выкинешь». Черновик остался у меня на сохранение. Я знаю, что это глупость, но, когда он ушел, я зачеркнула папино имя».
«Доченька ты моя…» — умилился Лев Павлович, забыв на секунду о своем негодовании, и громко, от волнения, засопел в усы.
«…Сегодня первый раз была в ларьке у «зеленщика» с Шурой, — читал он дальше. — Как все замечательно они устроили…»
Опять о каком-то таинственном ларьке? Он ничего не понимал: какой-такой «зеленщик»?!
«…сначала было страшно, а потом — ничего. Жена зеленщика очень проворно и уверенно все делала, а я вся дрожала».
И хотя больше ничего о ларьке не было сказано в тетради, Льву Павловичу показались эти строчки самыми страшными во всем дневнике. Между этой и последующей записью шел пропуск в десять дней, и он только усилил отчаяние и подозрение Льва Павловича.
«Была больна она… Настолько плохо себя чувствовала после аборта, что не до дневника было! Господи, за что ты караешь нас?» — кажется, всерьез вспомнил он о боге, к которому давно-давно не обращался.
И вдруг через две страницы:
«Вчера ночевала у меня Шура. Говорила о многих вещах и о любви. Ей очень понравился Федулка. Дурачились, расспрашивала меня о моем бывшем романе с ним. Я ей все откровенно рассказала. Потом заговорили о С. Л. Шура не верит, что мы с ним ни разу не поцеловались. Вот глупая! Ведь я-то знаю, что это, к сожалению, правда. Ни разу!.. Но если придется когда-нибудь, — я пообещала ей открыться в этом.
…Ура! Сегодня получена телеграмма, что через день возвращается с делегацией папа! Какая радость!..»
«Какая радость! — повторил про себя Лев Павлович, хотя хотелось теперь крикнуть об этом громко, во всеуслышание. — Лосенок мой, родной мой, прости меня за всякие недостойные, пакостные мысли! Как я мог думать даже?! Ах, нервы… нервы… Мы все так издергались за это время, так подозрительны, недоверчивы стали. Дитя мое! Самое важное, самое главное ведь, — а?..»
Радость была сильна и остра. Его дочь осталась «чиста», как и была раньше.
Но, чтобы утвердиться в своем чувстве, он бегло перелистал тетрадь: «А вдруг в самые последние дни что-нибудь да произошло?» И, когда не нашел ничего предосудительного, — уже окончательно повеселел.
Ириша была при нем, при отце, — он это чувствовал теперь, ну как чувствовал при себе носовой платок и кошелек в кармане, как биение часов в кармашке широкого пояса, обтягивающего его тело. И как можно в любую минуту вынуть все эти вещи и посмотреть на них, зная, что ты один только их обладатель, так мог он уже уверенно ощутить по-отцовски и свою дочь.
Он поспешно сунул клеенчатую тетрадь на место, задвинул ящик комода и вышел их комнаты дочери.
Еще минут десять — и она застала бы его на месте преступления.
Впрочем, он не считал это преступлением.
«Я — отец, и ничего дурного не могу желать своей дочери, на мне лежит ответственность за ее жизнь и поступки, я обязан ей советовать делать лучшее и помогать в том, милостивые государи! — отвечал он словно кому-то приставшему к нему с укором и возмущением. — Всякие девчонки Шуры и подпольщики всякие (это им говорил Лев Павлович сейчас) не пощадят Иришу в своих нелепых целях, а я и мать только и можем ее защитить — понятно это?.. Ну, прочитал тайком дневник… Да, прочитал, ну так что же? Подумаешь, какое преступление сделал?! — уже убеждал он себя в своей собственной правоте. — Разве я кому-нибудь стану рассказывать об этом, разве я выдам кому-нибудь Иришу? Я даже Соне ничего не скажу», — решил Лев Павлович.
Он зажег свет и ходил по всей даче, напевая — для бодрости — вспомнившееся вдруг «Типперери». Он напевал, вставляя в песенку свои собственные слова, получалась нелепица, но зато с «особым смыслом»:
Далеко вам до Типперери, Далеко вам, господа, Не видать вам нашей Мери, Не ходите вы сюда!На минуту его увлекло даже это занятие — стихотворный экспромт. И он вновь запел. И не без самодовольства:
А нам близко до Типперери, Потому что мы отцы, Не видать вам нашей Мери, Подлецы вы и глупцы!..— Вот так песенка! — услышал он сзади смех Ириши.
— А-а… — шагнул к ней Лев Павлович. — Ты пришла? Вот хорошо! — И он почувствовал вдруг, что смутился.
Она стояла на ступеньках крыльца, согнув и выдвинув одну ногу вперед, готовясь сделать последний шаг к веранде, но замедлив с ним.
Волосы, собранные в длинную, густо скрученную косу, лежали на груди, касаясь концом своим согнутого колена. Опершись на него локтем, она держала в руке завернутые в газету купальные принадлежности, другая рука, голая до плеча, легла на спускающиеся вниз короткие деревянные перила.
— Ну?.. — сказал Лев Павлович. Ирина мигом очутилась на веранде.
— Какая вода сегодня, папа! Ходить только далеченько. Вот бы это самое озеро да возле дома! Я бы все время тогда сидела в воде… Наши до сих пор не приехали из города?
— Как видишь.
— Ну, значит, заночуют. Придется мне покухарничать. Одну минуту, и я все сделаю: будешь сыт и доволен. Разве я у тебя плохая дочка?
— Я этого не говорю пока.
— Одну минуточку: я только отдохну капельку… Юрка не с возвращался? Обрати внимание на Юрку, папа, — все так же оживленно, но уже серьезно добавила она.
— А что такое произошло?
— Да ничего особенного, конечно…
— Говори ясней, Иришенька.
— Все-таки водить ему компанию с офицерами расквартированной здесь части не к чему!
— Вот как? Почему же водить компанию с офицерами нашей армии так уже неприлично? — слегка вызывающе усмехнулся Лев Павлович. — Среди них много отличных людей, рискующих жизнью, всем своим дорогим…
— Ах! — прервала она его. — При чем здесь это? Ты уже сразу… как член Государственной думы! Ой-ой, как «по-граждански» все это! А я тебе простую вещь хочу сказать: озеро женское, там только мы купаемся, а офицеры ходят туда и подсматривают. А наш Юрка тоже хорош!
— Я ему такое задам! — строго сказал Лев Павлович.
«Сейчас ей сказать о письме или потом?» — думал он, поглядывая на нее украдкой, боясь, что в прямом его взгляде она прочтет плохо скрываемую, вероятно, тревогу и взволнованность. «Не видать вам нашей Мери, подлецы вы и глупцы!..» — неотвязчиво, но уже без всякого песенного мотива лезло почему-то в голову и раздражало теперь Льва Павловича.
— Ты ему, как старший друг, сделай внушение, пожалуйста, — удовлетворилась его обещанием Ириша.
— Да, да, как старший друг, — вот именно! — многозначительно подхватил Лев Павлович, приближаясь к дочери.
Сидя на стуле, она высоко заложила ногу на ногу, снимая синие, под цвет сарафана, балетки и вытряхивая набившийся в них песок. Она тут же сняла чулки и погладила от колена вниз, — как будто песок и здесь мог прилипнуть, — голую, еще не тронутую загаром ногу. И вдруг она вскочила со стула, подбежала к отцу и, так как была ниже его ростом, вытянула в нему, закинув назад, голову, заложила за нее голые полные руки и поднялась на цыпочки. Он увидел близко ее большие светло-карие глаза настежь: в них не дрожала ни одна точка («Вся на ладонке!» — подумал он), но где-то глубоко-глубоко горел, словно опрокинутый внутрь, рыжеватый короткий луч смеха.
— Вот какая у тебя дочь… Папа, папа, я вижу кусочек себя в твоих глазах! Как интересно! Стой, стой, не шевелись!
— Бесстыдница, сама себя хвалишь, — тихонько шлепнул он ее кончиками пальцев по лбу и повернулся боком. — Ей-богу, ведешь себя будто тебе не девятнадцать, а девять лет! — не мог уже не улыбнуться, завоеванный ее живостью и непосредственностью: «Ну, как тут говорить с ней о серьезных вещах?» — А еще студентка, а еще… (чуть-чуть не сорвалось насмешливое «социал-демократка»)… а еще невеста! — так же необдуманно уронил он.
Она засмеялась:
— Возможно! Возможно, Лев Павлович… А что, — разве никто не возьмет? Ой, как еще!
— Не говори глупостей, Ириша! — вдруг помрачнел Лев Павлович и стал быстро закуривать. — Всякие Шурки тебя бог знает чему научат. Как будто я не знаю?..
— Что?.. Чего это ты вдруг?
— Того!
— Что ты знаешь?
Она заглядывала в его лицо строго и неласково:
— Ты, дорогой мой, совсем не знаешь Шуру, чтобы ее ругать. Ну, что ты знаешь? Говори же!
— Ничего… — сожалел уже о своей вспыльчивости Лев Павлович. Он сломал надвое спичку, затем другую, бросил их с каким-то нечленораздельным восклицанием за окно, зашагал по веранде.
— Чего ты это вдруг? — тихо повторила Ириша, наклонясь над своими балетками и поднимая их с пола.
«Ах, легче было бы, если бы не спрашивала!..»
— Чего? — сказал Лев Павлович и остановился посреди веранды. — Так, деточка. Просто так.
И вдруг заговорил не своими словами:
— Знаешь, горе, которое молчит, нашептывает отягченному сердцу до тех пор, пока оно не разорвется! Вот… и мне нашептывает… — совсем уже готов был разоткровенничаться Лев Павлович и долгим, неуверенным глотком вобрал в себя воздух.
Ириша не знала наизусть цитат из Шекспира, — она спросила:
— Что нашептывает, папа?
— Ничего, ничего, родненькая, — махнул он рукой и постарался заулыбаться. — Давай поужинаем, — а?
— Сейчас. Прости меня… — собирала она свои вещи, разворачивая газету, вынимая купальный костюм. — Сию минуточку. Прости меня, пожалуйста.
«Кажется, я была нечутка, — бранила она себя. — Пришла… тараторила о всяких пустяках и не заметила, что он, вероятно, был чем-то очень озабочен. Ой, как нехорошо получилось! Что-то очень легкомысленная я сегодня. Ну, ничего: за ужином замолю свои грехи… Вот, Клавдия в городе, а ты тут возись со всеми этими мисками, керосинками, тарелками!» — быстро сменилась одна мысль другою. И, не заходя к себе в комнату, с купальными вещами в руках, Ириша побежала босиком в кухню — посмотреть, что можно подать на ужин.
Принеся посуду на веранду, она застала отца склоненным над измятым, но расправленным теперь листом газеты, лежавшей на столе.
— Как она к тебе попала, Ириша? Мы не выписываем этой дряни! — задержал ее на минутку Лев Павлович.
Ириша взглянула на газету.
— Ей-богу, не знаю. A-а, вот что, папка… На пляже разные ведь соседки бывают: вероятно, какая-нибудь из них принесла. По ошибке я завернула вещи не в свою газету, а мою взяла соседка… А что такое, папа?
— Нет, ничего, лосенок мой, — нежно и, как самому показалось, жалобно сказал Лев Павлович и несколько раз поцеловал ее в голову, уткнувшись носом в Иришины волосы.
— Лосенок? Этого я еще никогда не слыхала, — удивлялась она и радовалась перемене в настроении отца. — «Теленочек, курсёсточка», еще всякие слова… А вот лосенок — первый раз! Почему лосенок?
— Потому — вот и все!.. Ну, давай, давай отцу пищу. Быстро, лосеночек! Одна нога здесь, другая там! — гнал он ее в кухню.
Газетная заметка, на которую случайно наткнулся глазами минутой позже, по-особенному взволновала его и породила мысли, сильней всех прежних:
ДЕТИ ПРОТИВ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ
Вчера в дачной местности покончила самоубийством на почве крупных семейных раздоров дочь депутата Государственной думы К-ва. Понятно, что такой противоестественный поступок молодого несчастного существа…
Дальше следовали нравоучительные соображения черносотенной газеты, недвусмысленно старавшейся бросить тень на «атеиста»-депутата, не сумевшего якобы воспитать свою дочь в духе требования православной церкви и истинно русской семьи.
Лев Павлович обругал газету и в то же время, как ни странно, был благодарен ей теперь: «Дочь… В дачной местности… А что, не дай бог, у меня бы так случилось?! Ведь с ума можно сойти! Слава богу, слава богу, что я не начал этого объяснения сегодня… Когда-нибудь, в другой раз, но не сегодня… нет, нет!» — обуяло его нечто вроде суеверия.
«Маленькие случайности предостерегают от больших неприятностей…» Кто это сказал, — а? Фу, черт, кто же это сказал?» — никак не мог вспомнить Лев Павлович, а вспомнить обязательно хотелось: потратил минуты две, но так и не удалось сейчас это.
«Да, да, это так! — маленькие случайности предостерегают от больших неприятностей! — И вдруг понял теперь, что нечего вспоминать, кто высказал эту мысль, что вообще никто ее никогда не высказывал, а что это он сам, Лев Павлович, случайно изрек мысленно такой афоризм. — Вот так штука!»
Он был доволен. Он решил запомнить удачное свое изречение, чтобы использовать его, когда потребуется, в думской речи или в газетной статье.
В конце ужина он сказал:
— Да, я забыл, Ириша, прости меня. Кто-то принес тебе письмо, отдал нашей хозяйке, — я положил его у тебя в комнате.
И опустил глаза к блюдцу с киселем.
— А, это, наверно, дачница-портниха, с которой я вчера условилась, — равнодушно сказала Ириша. — Она обещала мне и маме написать, сколько нужно точно купить материалу на некоторые вещицы… Положить тебе еще киселя?
— Угу-угу, — пробурчал Лев Павлович.
«Хороша портниха!» — думал он, но ничего не возразил дочери, ничего больше не говорил о письме, боясь вызвать ее подозрения, когда она уже прочитает его.
Сидя за столом друг против друга, следили оба со сосредоточенным любопытством за большой мерцающей желтой звездой, удивительно быстро перемещавшейся на белесом вечернем небосводе. Вот над верхушкой одной сосны, через минуту — уже над третьей…
— Убегает от чего-то… — задумчиво сказал о звезде Лев Павлович.
— Или бежит к чему-то, — подумала вслух Ириша.
— А это не одно и то же? — улыбнулся он.
— Нет, конечно. Это не одно и то же. Смотри… А ведь мы по-разному…
— …видим предметы, мир — хочешь сказать ты? — насторожился Лев Павлович.
— Звезду! — Просто сказала она, не поняв, очевидно, его намека.
Он остался доволен ее ответом. И вдруг подумал: «А ведь я мог уничтожить письмо, и все было бы хорошо! Предупредил бы финнов, чтобы не говорили: соврал бы им что-нибудь на всякий случай… Как я не догадался?»
Но сейчас — понимал — уже поздно было это делать: Ириша встала из-за стола и направилась к себе в комнату.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ Доклад генерал-майора Глобусова
Своего шурина, начальника отдела по охранению общественной безопасности и порядка в столице, генерал-майора Глобусова Губонин застал, как всегда, за работой.
Генерал-майору было немногим больше сорока. Прилизанный, приглаженный, с фигурой и лицом женской складки, с вкрадчивыми манерами, с тихим, как бы журчащим голосом, особенно когда говорил по телефону, всегда мягко и вежливо улыбающийся в сознании своего превосходства (может быть, скрытого еще для собеседника, но — превосходства!), Александра Филиппович Глобусов был неутомимым руководителем порученного ему дела.
Работал он много и аккуратно, никогда не повышал голоса на своих подчиненных, даже на самых мелких, был с ними очень вежлив и любому писарю говорил «мерси», картавя на парижский лад.
Военный человек действительной службы, он ходил в брюках навыпуск, со штрипками, всегда в одних и тех же, тончайшей кожи, отлично сохранившихся за долгие годы сапогах почти без каблуков, и только горничная знала и удивлялась, как зверски барин стаптывает их в пальцах — почти до дыр, размером каждая в пятак. Однако никто как будто не замечал, чтоб генерал-майор Глобусов ходил на цыпочках.
Жил он на казенной квартире, соединявшейся узеньким, коротким коридором с его служебным кабинетом. Этим ходом я прошел к нему Губонин, предупредив о себе по внутреннему телефону.
— А, Вячек, здравствуйте, садитесь, — пригласил его Александр Филиппович.
И, уже предвидя естественный вопрос гостя, увидевшего, что Глобусов сейчас не один в кабинете, тотчас же добавил:
— Пожалуйста, пожалуйста, вы мне не помешаете… Правда? — обратился он к человеку в штатской одежде, стоявшему навытяжку у стола.
— Так точно, ваше превосходительство! — сорвавшимся дискантом почтительно сказал тот, но по тому, как побагровело и без того достаточно багровое лицо его и мало дружелюбен был коротко брошенный в его сторону взгляд, — Губонин понял, что его приход совсем некстати для этого человека с кожаной протезой — заметил — вместо одной руки.
— Я ненадолго, совсем ненадолго, — сказал Губонин, отсаживаясь в сторону и улыбаясь: он отлично знал, что, на сколько бы ни пришел, человеку с протезой все равно придется закончить разговор в его присутствии, раз пожелал того Александр Филиппович.
Между тем Глобусов продолжал прерванный на минуту разговор:
— «Мертвые души» читали, — а?
«В чем дело?» — прислушивался Губонин.
— В юности, ваше превосходительство! — стараясь говорить тише, ответил человек с багровым лицом и опять скосил глаза на Губонина. — Это про Чичикова произведение, ваше превосходительство.
— Зам-м-мечательно, ишь ты! — одобрительно смотрели на него темные, блестящие, с густой поволокой глаза Александра Филипповича. — Ну, прямо зам-мечательно, скажу вам… Вы, оказывается, хорошо знаете к тому же русских классиков?
— Чему учили — то уж до гробовой доски в памяти, ваше превосходительство! — не замечая насмешки генерал-майора, старался уже его собеседник.
— Так, так, мой дорогой. А повесть о капитане Копейкине тоже читали?
— Не буду вводить в заблуждение ваше превосходительство: что не читал — того не читал. Завтра же озабочусь отысканием этой книжицы, ваше превосходительство.
— О капитане Копейкине не слыхали, значит? А «Мертвые души» читали все-таки? И целиком прочли?
— Так точно.
— Вот реприманд неожиданный! — не меняя улыбки, осевшей на пухленькой бритой губе, покачал головой Александр Филиппович, стрельнув глазами в Губонина, и тыльной стороной пальцев похлопал по ладони другой руки. — А помните…
— Что именно, осмелюсь спросить ваше превосходительство?
— А помните, Салопятников, — глядел Александр Филиппович не на него, а мимо: на раскинувшегося в одном из кресел Губонина. — А помните вы такое место… Они (это о приятелях Павла Ивановича Чичикова идет речь, Салопятников!)… они тоже, со своей стороны, не ударили лицом в грязь: из числа многих предположений было, наконец, одно: что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон!.. А по-вашему?
«Издевается Шурик!» — внимательно наблюдал со стороны Губонин.
— Вот запамятовал, ваше превосходительство, как это было!
— Запамятовали? Не есть ли Чичиков переодетый Наполеон… — повторил Александр Филиппович. — Так и вы, Салопятников… догадливы! Я вас не задерживаю, — медленным наклоном прилизанной головы, по середине которой засветилась теперь маленькая розоватая лысинка, похожая на аккуратненький аптечный пластырь, отпускал он Салопятникова. — Я вас вызвал для того, чтобы сказать вам, что глупость — не всегда добродетель, дорогой мой, и что в прямой связи с этим печальным обстоятельством награды выдать вам не могу. Понятно?
— Так точно, ваше превосходительство… — заскрипела повернутая на винте кожаная протеза.
— Вы, кажется, Александр, читаете своим сотрудникам курс лекций по художественной литературе? — рассмеялся Губонин, когда за Салопятниковым закрылась дверь. — Я всегда знал ваше пристрастие к изящной словесности, но…
— Он не очень умен, этот человек, а любит играть в полковники! — встал из-за письменного стола Глобусов и сделал несколько шагов по ковру. — Принял овцу за лису.
— То есть?
— Вез из Киева одного крупного социал-демократа пораженца, а на поверку на вокзале оказалось, что…
— …бакалейщика какого-нибудь доставил? — высказал догадку Губонин.
— Хуже, дорогой Вячек, — своего! Одного из лучших моих людей, работающего среди сотрудников иностранных миссий и среди журналистов! Вы понимаете наш общий конфуз? Своя своих не познаша… Как Аннет, дорогой Вячек? — перешел он на другую тему.
— Она уже две недели в Кисловодске на водах, к вашему сведению.
— Ах, вот что? Я думал, что сестра еще здесь. А детишки?
— С ней. Вот что, Александр, я к вам по делу, — беря папиросу из его портсигара, сказал Губонин. — Мне надо выяснить одно обстоятельство.
— У меня? Что ж, готов, дорогой мой. А я-то думал, что вы почище нашего стараетесь, — заиграла благосклонная улыбка на всем моложавом, розоватом лице Александра Филипповича, и он дружески похлопал свойственника по груди. — Мне передавали, что сам Борис Владимирович Штюрмер только вас и признает теперь, Вячек. А?.. Искренно рад. Хвалю.
— Рад, что меня хвалит муж, другими хвалимый! — любезностью на любезность ответил Губонин. — Если нас — Борис Владимирович Штюрмер, то вас — бери повыше еще, любезный Александр!
— То есть? — прикинулся непонимающим Глобусов и сложил по-бабьи руки на низко опущенном своем животе, словно желая согреть его, — Что вы имеете в виду, хотел бы я знать?
— Я имею в виду избавление от опасности Григория Распутина! Мне известно, что вы получили благодарность государя.
— Ах, вы уж знаете! — с напускным равнодушием сказал Александр Филиппович. — Как знать, — могло бы кончиться кровью!
— И не окончилось на сей раз… — как будто непроизвольно сделал ударение на последних словах Губонин.
— Да, да, вся эта компания сегодня будет выслана из столицы, а кое-кто и очень далеко. Будут перемены в штабе северо-западного: за попустительство!.. Князь и его офицеры отведают сухой туркестанский климат.
— А женщина? — спросил Губонин.
— Говорите прямо — Галаган?
— Вы не ошиблись.
— Она еще вчера отбыла.
— Куда?
— Я вижу, Вячек, вас очень интересует именно она — сознайтесь!
— У меня есть особые основания к тому. Я не скрою, что мой приход в значительной степени связан и с ее делом. Но об этом мы еще отдельно поговорим, — предупреждал Губонин.
— Она отправлена на родину, в деревню. Пусть посидит там до окончания войны! Было бы хуже с ней, если бы не неожиданное заступничество.
— Вот как?.. Простите, Александр, а это установлено, что именно она раздобыла для капитана Мамыкина записку Григория, послужившую фрондерам пропуском?
— Вам известно, дорогой Вячек, я имею дело только с проверенными фактами! — тише обычного сказал генерал-майор. — Но погодите вы все о делах… Не мешает нам с вами, Вячек, облегчить нашу боль, — правда ведь?
Это была всегдашняя его игра слов: «боль» — любимый напиток Александра Филипповича, который приготовлял сам, радушно угощая им своих друзей.
— Как раз адмиральский час: пора закусить. Прошу вас, дорогой Вячек… — пропустил он вперед Губонина, и оба узеньким коридором прошли в квартиру Александра Филипповича.
— Мои тоже в отъезде, — говорил он о своей семье. — Один, один совсем, — вздыхал он, открывая дверь квартиры. — Глафира! — уже через минуту распоряжался он. — Вы нам приготовьте сейчас… Ну, что бы сегодня такого? — сосредоточенно раздумывал он, как будто это было очень, очень важное дело, требовавшее одного только и самого верного решения. — Ах, вот что, милая Глафира. Вы нам, пожалуйста, икры салфеточной четверть фунта, масла туда прованского, уксусу, горчицы, лучку накрошить надо, сардинки, пожалуйста, огурчиков нежинских, несколько вареных картофелин…
— Ерундопель, значит, Александр Филиппович? — серьезно, с неподвижным лицом смотрела на него массивная, по виду — геркулесовой силы желтоглазая Глафира. И так и казалось: вот-вот козырнет в ответ на распоряжение своего барина.
— Совершенно верно: ерундопель, — подтвердил он. — Знаток она у меня, Глафира!
— Вы «Мертвые души» читали? — хохотал Губонин. — Помещика Петра Петровича Петуха помните? Ух, обжора же он был, дорогой Александр!
— Вот уж не то, вот уж не то!.. — делал обиженное лицо Александр Филиппович.
В столовой, засучив рукава своего белого кителя (открылись сухие, безобразно волосатые руки, на которых не разглядеть уже было кожи), генерал-майор Глобусов занялся приготовлением «боля».
Смесь старинного рейнвейна, клубники, апельсина и сахарного песку была сразу же, после первого глотка, одобрена по достоинству Вячеславом Сигизмундовичем.
Завтрак продолжался недолго (генерал-майор Глобусов все делал по часам), но прошел приятно для обоих: каждый с удовлетворением занес кое-что в свою записную книжку, а самое важное — никуда не записывая, крепко поместил в своей памяти.
ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Определения по охранению общественной безопасности и порядка в столице.
ДОКЛАД
«По поступившим агентурным сведениям некоторые из членов обследуемой наблюдением в г. Петрограде преступной группы социал-демократических работников, известных под наименованием «ленинцев», заметили за собой наблюдение филеров и сообщили об этом сочленам, вследствие чего ими было вынесено решение имеющуюся у группы «технику» немедленно перевести за пределы столицы, а именно — в деревню Малая Метцекюле, близ Териок, и там продолжать печатанье прокламаций и доставлять их для распространения в г. Петроград.
Изложенные агентурные сведения, нашедшие себе подтверждение в результатах наружного наблюдения, понудили меня поспешить с ликвидацией этой группы, дабы воспрепятствовать разъезду активных революционных работников по иногородним местностям Империи и предупредить возможность скрытия созданной ими техники для печатания прокламаций.
Ликвидация была начата в ночь на 17-е и продолжалась до 19-го с. м., так как партийные работники начали расползаться и не держались на своих квартирах, и многих из них пришлось устанавливать наблюдением и задерживать на улице по указанию филеров. Так, в частности, был опознан и арестован сегодня деятельный работник подпольного Петроградского Комитета партии большевиков Сергей Леонидов Ваулин по кличке «Швед».
Ликвидация дала следующие результаты:
Около 12 часов в ночь на 17-е на Финляндский вокзал прибыл известный подведомственному мне Отделению мещанин г. Старой Руссы Яков Васильев Бендер. С ним шел неизвестный человек, потом оказавшийся содержателем рыночного ларька Андреем Петровым Громовым, и нес тяжелую корзину, поставив которую на вокзале, скрылся. Затем Бендер, купив проездной билет, обратился с просьбой к находившемуся неподалеку от него какому-то парню, прося помочь перенести корзину в вагон, и когда они ее понесли, то Бендер и его помощник были тут же задержаны и доставлены в дежурную жандармскую комнату, а оттуда — во вверенное мне Отделение.
При осмотре в Отделении корзины и пакета с предметами, отобранного при личном обыске у Якова Бендера, оказалось:
В плетеной корзине размерами 14x7x5 вершков:
1. Вполне оборудованная ручная типография.
2. Рукопись на 8-ми четвертушках под заглавием: «Обзор деятельности Петербургского Комитета», полную копию коей прилагаю при сем вашему высокопревосходительству.
3. Рукопись на 3-х четвертушках под заглавием: «О германских шпионах». «За последнее время, — говорится в рукописи, — в буржуазной печати попадаются статьи, разоблачающие немецких и австрийских шпионов. Особенно старается в этом смысле «Современное слово». По мнению этой — «что прикажете» — газеты, революционная работа в нашей армии ведется на немецкие деньги… Правительство в тревоге, и вот г.г. либералы приходят на помощь царизму, пишут гнусные статейки, заведомо лгут, пытаясь вместе с самодержавием задавить растущую революцию в армии и в тылу».
4. Рукопись на 7-ми четвертушках под заглавием: «Наша задача». «За войну или против войны — этот вопрос стоит сейчас ребром, — говорится в этой рукописи. — Пролетариат уже дал свой ответ на этот вопрос.
Война войне — вот он! Но есть среди марксистов кучка отщепенцев, кучка беспочвенных интеллигентов — неунывающие г.г. Потресовы, Маевские, Масловы и компания; они ратуют за победу Антанты и отечественной буржуазии… Союзников для свержения самодержавия пролетариат найдет в лице крестьянства и особенно — армии».
5. Рукопись под заглавием: «Война и германские, социал-демократы». «Русская буржуазная пресса, — говорится в рукописи, — до сих пор приводила сведения лишь о тех выступлениях германских с.-д., которые говорили о их «воинственности». Приводимые нами мнения о войне некоторых вождей с. — демократии говорят о совершенно противоположных настроениях германских товарищей».
Далее наклеены вырезки из газет, в которых приведены мнения Розы Люксембург, Либкнехта и Меринга.
Обнаружено у Якова Бендера в числе прочих вещей:
1. Полулист бумаги, исписанный одним почерком.
На первой странице дословно написано: «Гвардейский запасный батальон (Петергоф). Были у нас рабочие листки. Начальство озлилось, пугает больно: повесим первого попавшегося. А мы, солдаты, знаем свое дело и потихоньку почитываем листки, где рабочие пишут про правду-матку о войне и о наших муках. Скорей бы, товарищи, нам бы подняться на борьбу с царем Николаем. На днях пошлем вам еще письмо в номер вашей подпольной газеты…»
На 2-й и 3-й странице: «От редакции. Выход № 1 нашей газеты задержался, но мы надеемся, что следующие №№ нам удастся выпускать регулярно». Затем несколько заводских корреспонденций.
На 4-й странице: «Из армии. Кексгольмский пехотный полк. Не так давно в нашем полку появились листки военной группы при П. К. партии. Начальство не на шутку встревожилось. Забегали отцы-офицеры по казармам, начали искать шпионов. Ан нет их как нет! Настроение солдат хорошее, в бой не рвутся, ждут мира, охотно читают листки. Наша группа поручила мне послать вам, рабочим — борцам за свободу, свой горячий привет. Будем бороться вместе. Ваш солдат Кузя».
2. Письмо, подписанное «Швед», крестьянину деревни Малая Метцекюле Зигфриду Хальме, в коем содержится просьба «устроить дачу мужу, жене и их племяннику».
На допросе в Отделении Яков Васильев Бендер признал, что «племянник» это он и есть, а кто такие «муж» и «жена», отвечать отказался».
Александр Филиппович Глобусов перевернул последнюю страницу, дочитывая свой доклад:
«По совершенно достоверным сведениям, полученным мной лично сегодня от чиновника государственной службы господина Губонина, преступная, разрушительная деятельность П. К. большевиков с.-д. успешно протекает также в госпитале Союза городов, расположенном в г. Луге, вследствие чего мною отдается распоряжение о повальном обыске среди лиц среднего и низшего персонала, обслуживающего названное учреждение.
…Оценивая полезную деятельность, возвращаясь к вопросу о ходатайстве, лично мне изложенном бывш. членом Г. думы от рабочих В. Шуркановым, о чем я имел честь сообщить вашему высокопревосходительству в особой докладной записке № 87 от 12-го с. м., настоящим вновь прошу удовлетворить ходатайство названного Шурканова о выдаче ему нового паспорта на другое имя, дабы он, заподозренный теперь своими товарищами, мог покинуть на время столицу, переселившись в Казань».
— В Ка-зань! — произнес полным голосом Александр Филиппович, вставая из-за письменного стола.
В два часа ночи — усталый, но испытывавший немалое удовлетворение от работы — генерал-майор Глобусов закончил свой служебный день.
Конец второй части
Часть третья Накануне
ГЛАВА ПЕРВАЯ Министр внутренних дел Протопопов и иже с ним
Министр был словоохотлив. Об этом знали все: правительство и депутаты Думы, чиновники, приходившие с докладами, и сотрудники газет, почти ежедневно теперь посещавшие приемный зал нового государственного деятеля.
Многоречивость его шокировала сдержанных, скупых на слово других министров. Они с настороженным любопытством и удивлением следили за действиями своего нового коллеги. Еще большую тревогу возбуждала она у многочисленных думских соратников: как-никак, он был товарищем председателя Государственной думы, членом партии октябристов, входившей в оппозиционный правительству «прогрессивный» блок; а он, достоуважаемый Александр Дмитриевич, говорит теперь такое, что затыкай только в негодовании уши…
Впервые его словоохотливость сослужила ему плохую службу несколько месяцев назад, летом, — когда при возвращении из Англии неожиданно для всех сделал остановку в Стокгольме.
Его спрашивали: как это могло случиться, что он, глава парламентской делегации, только что ездившей на Запад к «союзникам», вступил вдруг в переговоры с немцем, врагом России? Разве не знал он, что доктор Варбург, его стокгольмский собеседник, — не только известный гамбургский банкир, но и советник германского посла в Швеции, Люциуса? Что он, конечно же, подослан, и весь этот разговор в специально нанятом номере в гостинице может принести только вред России?
Однако он сумел на некоторое время рассеять недоумение думских патриотов. Встреча с Варбургом была случайная, говорил он, совершенно случайная. Вот ее запись, если угодно (он показывал всем свою маленькую путевую книжку), — все могут убедиться, сколь непреклонно и настойчиво подчеркнул он своему собеседнику невозможность для России мира до полного поражения Германии.
Он обо всем этом рассказал, и его заверили, что Дума удовлетворилась его объяснениями.
Он вышел из подъезда Таврического дворца довольный и ухмыляющийся — необычной для него, слегка подпрыгивающей походкой, молодившей пятидесятилетнего человека.
Бритый и румяный, со вздернутым носом, лакей нес за ним до автомобиля палку с позолоченным набалдашником «земной шар» и перекинутое на руку легкое серое пальто, которое можно было бы и не брать с собой в жаркий июльский день.
— Павел Савельев! — сказал он лакею, много чего знавшему из его жизни. — Павел Савельев (он всегда так обращался к нему: по имени и фамилии)… ты не находишь, что в этом почтенном, старом здании пахнет сыростью?
— Не обращал внимания на это, Александр Дмитриевич, — отвечал тот, шествуя на шаг позади.
— О, грибки, грибки завелись… брожение!
Как ни был смышлен Павел Савельев, он не мог понять сразу, о чем идет речь. Он промолчал.
Очевидно, так и надо было поступить, потому что Александр Дмитриевич вслед за тем пробормотал не имевшее как будто никакого отношения к сказанному минуту назад:
— Зависти… эх, Павел Савельев, зависти много у этих людей! Ну, да хорошо. Прежде они a bras ouverts[20] всегда встречали, а теперь…
Он сел в открытый автомобиль. Держался на мягком сидении строго, выпрямив подчеркнуто грудь, заложив, что часто делал, левую руку за спину, правой поправил черный цилиндр на голове и приказал ехать на Острова. Павел Савельев вспомнил, что сегодня вторник, — значит, на Островах встретятся с царскосельской лазаретной сестрой Воскобойниковой.
Через несколько дней поезд домчал их обоих в маленький незнакомый город: это был Могилев, где помещалась царская Ставка. Но здесь Павлу Савельеву пришлось часа на три расстаться со своим барином: флигель-адъютант усадил Александра Дмитриевича в машину и отвез его в дом императора.
Это была вторая встреча с государем. В первую — девять лет назад, в день рождения третьей, столыпинской, Думы — Александр Дмитриевич прочитал царю адрес от имени своей партии «октябристов». Он был не только депутатом, но и симбирским предводителем дворянства.
Его не заметили тогда, однако.
Когда год назад Родзянко рекомендовал его в министры торговли, царь небрежно сказал:
— Протопопов?.. Что-то не помню такого, он мне неизвестен.
Другое дело — сейчас: был принят государем «сидя», что считалось высшим знаком благоволения.
Бросая в его сторону короткие, косые взгляды, царь с видимым любопытством разглядывал теперь сидевшего перед ним человека с широко, молитвенно раскрытыми глазами, с дородным, раздавленным ямочкой подбородком, со вздрагивающими, трепещущими ноздрями: «Ну, что-то скажет он, этот новый приверженец из думских «беспокойников», — а? Алис рекомендовала его выслушать».
— Начался разговор с того, ваше величество, что он вспомнил мое интервью в Париже, данное журналисту Гильо, о том, что у нас скоро прибавится новый союзник в Германии — голод. Он говорил, что это ошибка.
— Кто это говорил? — не понял сразу Николай.
— Варбург, ваше величество.
— A-а… Продолжайте, пожалуйста.
— Он говорил, что у них прекрасная организация, что голода теперь нет и что они теперь предупреждают события, а не только пресекают. Затем говорил, что в этой войне виновата одна Англия: если бы она откровенно сказала, что будет на стороне России, тогда войны не было бы. Во всяком случае, он сказал, что Германия всегда больше даст, чем Англия. Англия всегда обманет Россию, как обманула в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году, ваше величество!
— Вы того же мнения относительно англичан?
Царь посмотрел вопросительно и оглянулся по сторонам, как будто не был уверен, что они сидят здесь только вдвоем.
— Мнение моего императора есть также и мое мнение! — не склонил, а запрокинул в меру напомаженную голову его собеседник. Он словно хотел показать необычным в таких случаях жестом: «Я горжусь своей преданностью тебе и открываю свою голову для удара, если бы он был направлен кем-нибудь в тебя».
Царь, видимо, оценил скрытое значение жеста, — он улыбнулся в шевельнувшийся соломенный ус и кивнул головой, приглашая продолжать свобщение.
— Он очень интересно говорил, ваше величество, что Германия не преследует никаких завоевательных целей, а желает только исправления курляндской границы. Относительно Франции заявил, что Эльзаса нельзя трогать, а относительно Лотарингии — можно говорить о том, чтобы пересмотреть границы и кое-что возвратить. Затем относительно Польши. Польша есть в России, в Австрии, но нет в Германии, и Польша может быть образована только из этих земель. Я спросил: этнографическая граница или географическая? Он ответил: географическая. Потом о Бельгии: заявляют, что готовы ее восстановить.
Под конец беседы царь спросил:
— Вы делились с кем-нибудь вашими впечатлениями и содержанием встречи?
И Протопопов, ответил:
— Слугам можно дать попробовать соус; мясо — это пища для одного лишь господина, ваше величество! Так гласит древняя поговорка.
Никакой такой поговорки не существовало, он тут же ее счастливо для себя придумал, — и царь, доверившись ему, удовлетворенно заметил, что древность действительно хранит в себе много мудрости.
На этот раз его оценили. Штюрмеру царь сказал о нем: «Какой он октябрист? Кажется, он настоящий правый. Какой он вежливый… очень вежливый! Я рад узнать это».
Его позвали к высочайшему обеду, а ровно через два месяца — снова к царю, вручившему ему самое важное в России министерство.
Тогда он отправился благодарить своего старого знакомого и, улучив минуту, когда никого другого не было в комнате, приложился губами к длиннопалой руке «старца». Распутин шутливо ткнул ее под вспотевший нос Протопопову и сказал вдруг, словно пожелал почему-то обидеть:
— Ну, ну, Дмитрич… Честь твоя тянется, что дамская подвязка.
Толстый, грубый Родзянко кричал в телефон, чтоб отказался входить в штюрмеровский кабинет. Милюковцы при встречах строили презрительные гримасы. Люди из его собственной фракции вопросительно и недоуменно поглядывали на него. И всем вместе казалось, что он рехнулся, что политическая биография его уничтожена в тот момент, когда получил ключи от казенной квартиры в министерстве внутренних дел.
Он отвечал всем.
— Я полюбил государя и его семью. Я хочу спасти Россию.
Интервьюеры из газет не без живого любопытства разносчиков скандала спрашивали его, как он собирается это сделать.
Министр словоохотлив и подкупающе любезен, — журналистов он принимал запросто, и на газетные полосы русской прессы легли, тесня друг друга, статьи и заметки о его обширных планах.
Он сказал:
— Лозунг «Все для войны» превратился в лозунг «Ничего для тыла». Это нехорошо, господа.
И многие подхватили эти крылатые слова нового министра.
В газетах стали рассуждать о застарелых привычках русской интеллигенции, которая почему-то не имеет призвания к власти, не любит ее и брезгливо морщится, когда прогрессивных людей призывают к ней. «Любопытно, — писалось, — что А. Д. Протопопов не похож в этом отношении на других русских интеллигентов: у него, оказывается, всегда был прирожденный вкус к власти, — и это не так уж плохо, если на то пошло».
Все закономерно, — рассуждали другие. Новый министр по духу и по жизни своей — промышленник и помещик. Он владелец семи тысяч десятин, крупнейшей в стране Румянцево-Селиверстовской суконной фабрики и нескольких других предприятий. Правильный инстинкт вел его к тому стыку, где сходились политические интересы промышленников, землевладельцев и властвующей бюрократии. Назначение такого человека открыло окошечко, конечно, не к русской общественности, господа, а к русской промышленности, и притом — с самого правого уголка ее. Может быть, это начало только? Дай-то бог!..
Открытое окошечко нарисовали даже в одном из журналов. Но так, что выглядывало из окошечка, позади министра, знакомое всем бородатое лицо «старца» Распутина. Министр был очень недоволен, но на людях беспечно улыбался и декламировал даже по этому поводу латинские стихи:
Как сойдутся Анциллы, Сибиллы, Камиллы порой — Застрекочут об этом, об этой, о той…Правда, — мало ли какие гадости будут распускать политические кумушки? Однако оградить себя от их непомерного любопытства следует.
И потому Шарлю Перрену, жившему в Париже под фамилией журналиста Гильо и приславшему поздравительную телеграмму из Стокгольма (ах, все тот же Стокгольм!), он отправил из министерства в адрес миссии обнадеживающую телеграмму, обещавшую новое свидание на русской территории.
— Он выслан из России по подозрению в шпионаже, — бесстрастно дал справку директор департамента полиции. — А вы пишете «éсоuter vos conseils»[21].
— У нас в последнее время чрезвычайно легко говорят: «шпион, шпион»! — обиженно повысил голос министр. — Это поразительный человек, он читает чужие мысли, отгадывает, предсказывает по руке. Он сказал мне еще два года назад, что моя планета — Юпитер, она проходит под Сатурном, что значит — я буду министром. (Он был суеверен и почти не скрывал этого.) Я был с женой, дочерью и beau frer'oм. Отправьте депешу, дорогой мой!.. И вот еще что: вы не находите нужным представить мне особо заметных сотрудников вашего департамента? Находите? Правда?
Он был еще неопытен в первые дни и не умел отдавать приказаний, как того требовала официальная форма. Но он был весьма любопытен, и увидеть в лицо людей, чья жизнь и служба неизбежно покрыта была известной таинственностью, составляла секрет для всех остальных, — его привлекало.
Так и состоялась, в числе прочих, его встреча с Вячеславом Сигизмундовичем Губониным — нашим старым знакомым.
Через недели три после этой официальной встречи, когда Вячеслав Сигизмундович появился октябрьским вечером в гостиной княгини Тархановой, родственницы Протопопова, раз в месяц собиравшей у себя кружок добрых знакомых, на него смотрели уже как на человека, быстро и уверенно делавшего карьеру, потому что всем стало известно, что новый министр очарован его достоинствами и трудоспособностью отличного службиста. Поговаривали, что Александр Дмитриевич не прочь — был бы, приглядевшись, отдать ему самый важный департамент. О нынешнем директоре департамента, Васильеве, говорили, что он вял, неповоротлив и без искры таланта, которого требует от всех своих подчиненных новый министр.
Он некоторых уже уволил по этой причине.
— J'en ai assez![22] — горячо говорил он. — Если все здесь такие, они даром мне не нужны. Монархия требует не слуг, а рыцарей ума и дела.
Иным он казался смешон, другие напротив, искали в нем черт всесильного некогда Петра Столыпина.
Но первые скоро восторжествовали.
Вести, собранные Губониным в докладе, не предвещали ничего хорошего.
Перечислив секретные рапорты начальников жандармских управлений, разбросанных по всей России, и особо отметив донесения охранного отделения обеих столиц, Вячеслав Сигизмундович откровенно писал новому министру:
«Продовольственный вопрос в его полном объеме принял такой острый характер, что захватил собою все слои населения и вызывает не только много толков, но и раздражение как против капиталистов-спекулянтов, так и против городских самоуправлений, местных административных властей и даже центральной власти. Теперь уже следует иметь в виду явное недовольство правительством за неумелое разрешение продовольственного вопроса в России. Как на прямое последствие этого, можно указать на целый ряд сахарных, мучных, масляных и т. п. беспорядков, имевших место в различных городах империи, а также на целый ряд периодически повторяющихся экономических забастовок на заводах и фабриках и прочих коммерческих предприятиях.
…Борьба с дороговизной выливается в создание многочисленных кооперативов, объединяющих в организованные массы огромную часть населения.
…Умы встревожены, недостает лишь толчка, дабы возмущенное дороговизной население перешло к открытому возмущению. Следует ждать рабочих беспорядков, причем на подавление их войсками гарнизонов не всегда можно рассчитывать. Войска состоят из новобранцев, ополченцев и запасных, для которых интересы гражданского населения являются более близкими и понятными, нежели выполнение воинского долга.
…Имеются агентурные указания на то, что даже стражники в некоторых местностях являются не вполне надежными и что в острый момент они могут покинуть службу.
Обращаю внимание вашего высокопревосходительства, — продолжал Вячеслав Сигизмундович, — на антивоенное настроение, которым объяты, к сожалению, многочисленные слои населения, уставшие за два года. Так, например, начальник владимирского губернского жандармского управления доносит, что в уездном городе Судогде из 1660 человек, подлежащих призыву, явились к воинскому начальнику только 545. Вследствие призыва белобилетчиков в толпе повсюду говорят, что эта война — истребление народа и что конца ей не предвидится. Примерно такое же настроение наблюдается и в других местностях.
…В деревне говорят: «Пора отказаться от новых призывов молодых парнишек и старых мужиков, все равно правительство всех не перевешает, а немцы сумеют всех перебить или перекалечить».
…Заметно участились случаи оскорбления его императорского величества.
…По данным наблюдения из казарм доходят сообщения о протестах и волнениях, подогреваемых участниками нелегальной организации большевиков-ленинцев — «пораженцев». После разгрома этой организации в столице в июле с. г. деятельность «пораженцев» снова заметно усилилась.
…Солдат стали содержать опять плохо. Нет обуви, нет одежды для зимней кампании, плохая пища. Обращение грубое, и за пустяковые поступки нередко наказывают поркой. По донесению из Петергофа, — подвергли, например, телесному наказанию 170 солдат 1-го запасного батальона. Порка по сто ударов широко практикуется и в 3-м батальоне. Наблюдается переход от зуботычин к хлыстам, так как некоторые офицеры жалеют свои руки и потому бьют нижних чинов нагайкой. О том же сообщают и с позиций.
…Предлагают солдатам выбирать наказание: расстрел или порку. Иногда такое тяжелое наказание практикуется за пустяки: за неотданную честь, отлучку, незнание «словесности». Отмечается падение дисциплины: вместо роты в атаку бросается половина. В связи с повторением таких случаев на Северном фронте издан приказ, чтобы офицеры не бросались первыми в атаку, а сначала слали перед собой нижних чинов. Но опять-таки это удается делать при помощи шашек и палок. К шашкам прибегают кадровые офицеры, а к палкам и плеткам — прапорщики.
…Туркестанский полк ушел с передовых позиций в полном боевом вооружении и ушел беспрепятственно вглубь около 75 верст. Этим воспользовались турки и прорвали фронт.
…Борьба с дезертирством встречает сильное затруднение ввиду известного благожелательного отношения к дезертирам не только сельского населения, но и сельских властей, а также вследствие того, что задержанные с большим трудом дезертиры по доставлении их к воинским начальникам вновь убегают.
…10 текущего октября месяца, — продолжал читать министр губонинское донесение, — 3-я рота 181-го запасного полка, расквартированного на Выборгской стороне, не ответила утром на приветствие прапорщика Леонида Величко, ввиду чего последний с револьвером в руках, угрожая смертью, стал обходить людей поодиночке и здороваться с ними. Тогда они стали отвечать на приветствие. Как на причину неудовольствия этим офицером, нижние чины указали на дурное обращение с ними. Фельдфебелям ротные командиры предоставили настолько неограниченную власть, что, следует признать, за всякий пустяк ратники ставятся под ружье на 10 часов. Под влиянием всего этого в полку создалось настолько тяжелое состояние, тяжелый уклад жизни, что возможно ожидать возникновения беспорядков.
Опасения должны быть тем сильней, что в поднадзорную команду указанного полка, предназначенного к скорой отправке на передовые позиции, попало в последние дни несколько арестованных ранее за подпольную политическую деятельность человек, коим тюремное заключение заменено в административном порядке отсылкой на фронт.
Попутно в связи с этим считаю своей обязанностью обратить внимание вашего высокопревосходительства, — писал Вячеслав Сигизмундович, — на сии рискованные определения особого присутствия при г. Начальнике отделения по охранению общественной безопасности и порядка в столице, генерал-майоре А. Ф. Глобусове, невольно способствующие проникновению в армию антигосударственных и вредных элементов…»
Материалы доклада Губонина Александр Дмитриевич приобщил к своему собственному, который собирался на днях делать в совете министров.
Так, так, — все идет на руку, все льет воду в избытке на мельницу его новых «сильных» проектов. Можно будет утереть нос не одному из его коллег по правительству. Однако какой молодец и умница этот Губонин!
— Не правда ли? — осведомлялся министр о нем у некоторых, знавших Вячеслава Сигизмундовича, — в том числе у генерал-майора Глобусова, — и очень похвально отзывался о губонинском докладе.
— Вы его должны оценить, ваше высокопревосходительство, — сказал Александр Филиппович доброе слово о своем родственнике.
— Да, да! — согласился министр и, словно вспомнив о чем-то, потребовал: — А вы согласитесь, дорогой мой (через каждые два слова в третье он говорил «дорогой мой» и лез в обнимку)… согласитесь с Губониным, что нельзя в виде наказания отправлять в воинские части арестованных политических. Вы как думаете, а?
— Он вам и об этом докладывал, ваше высокопревосходительство? — снял Глобусов с низко опущенного своего живота сложенные на нем по-бабьи руки (такова была привычка) и расправил плечи.
— И хорошо сделал, дорогой мой! — услышал он в ответ.
Генерал-майор Глобусов был, однако, другого мнения.
В первую же встречу с Вячеславом Сигизмундовичем он сказал ему об этом.
Генерал-майор Глобусов был готов признать, что поднадзорных «подпольщиков» не следовало допускать в воинские части (впрочем, и то не всякого…). И если не следовало, то лишь потому, что какой-то — короткий — срок эти воинские части, пребывая в тылу, находились вне опасности. Но они, по условиям войны очутившись на фронте, уже были обречены (увы! увы!) на смерть. Обречены были (к счастью! к счастью!) и те эсдеки-большевики, к которым столь пристрастен генерал-майор Глобусов.
— Да, весьма пристрастен, дорогой мой Вячек. Казалось бы, двор и правительство ревниво и подозрительно следят (и нам с вами повелевают следить) за думским окружением Родзянко, за кадетами и прогрессистами, мечтающими для России об английской конституции, а наиглавнейшая опасность таится не на поверхности, — убежден в том Глобусов. — Опасность эта в недрах фабричного, промышленного рабочего класса. О, это, Вячек, такое огромное войско, вооруженное великой ненавистью ко всем нам… И настоящие командиры в этом войске — только эсдеки-большевики. Только они!.. Но не всякого из них расстреляешь по суду. Другое дело — немецкая пуля. Немцы не обязаны руководствоваться для этого статьями нашего Уложения о наказаниях.
Ну, ладно. Не следовало, предположим, рисковать, допуская именно большевиков в воинские части. Но дорогому родственнику Вячеку также не следовало вмешиваться в это дело, прислуживаясь новому министру, забыв о старых покровителях. Не правда ли?
Помилуй бог, узнает о таком сверхусердии старик Штюрмер! Ведь может узнать: стоит только кому-нибудь (конечно, не Глобусову же!) сболтнуть об этом, — и ревнивый, мстительный (очень мстительный) старик премьер заподозрит личную измену со стороны Вячеслава Сигизмундовича. Приятно ли будет дорогому родственнику Вячеку?..
Ах, премьер!.. Он и так уж весьма подозрителен стал за последнее время. Говорят, что своим интимным друзьям он сказал недавно об Александре Протопопове: «Celui-la veut s'asseoir sur ma chaise»[23]. Правда ли это — генерал-майор не вполне уверен.
— Правда, но только наполовину, — внес корректив Вячеслав Сигизмундович: действительно, слова эти были сказаны, но они относились не к Александру Дмитриевичу, а к путейскому министру Трепову, который и впрямь не прочь занять место старика. И тут отдали оба минуту разговора злому и напыщенному шталмейстеру Трепову. Низенький, рыжий, с плешивой головой, губы плоские, усы неряшливо торчат, — ох, как неприятен был обоим шталмейстр Трепов не только своим внешним обликом!
Ласковым, журчащим голосом рассказывал Александр Филиппович о министре. Но это — так, между прочим, почти анекдот: отвратительный почерк министра. Буквы громадные, но это — одни палки какие-то и все одинаковые. Курьез: в резолюции вдруг слово «Мария». Что такое? «Ах, я хотел написать «армия»!..» Большая, большая потеря времени при разборе его писем…
— Вот как? — Вячеслав Сигизмундович не знал и не предполагал даже. — Разве, — усмехался он, — еще кто-нибудь, кроме древнего старичка Мардарьева, времен Александра Второго, занимается перлюстрацией переписки сановников, доставляя ее министру внутренних дел? Кто же это еще занят разбором писем высших чинов в государстве?.. — Вячеслав Сигизмундович удивлен и обрадован тем, что собеседник его так проболтался.
Но генерал-майор Глобусов, словно не замечая вопроса, не видя тени улыбки, откровенно мелькнувшей на голой губе родственника, поглаживающего свою широкую голландскую бороду, повторяет — заботливо, соболезнующе — свою прежнюю фразу, добавляя к ней одно лишь слово:
— Большая, большая потеря времени при разборе его писем подчиненными!
(Зря преждевременно торжествовали, дорогой Вячек!)
А вот, кстати: иных подчиненных можно и пожалеть, а за иными следует и последить, чтобы беда не вышла. Особенно если начальник вместо всего этого потворствует?..
(Голос генерал-майора нежен и вкрадчив, пальцы рук, лежащих на животе, размеренно вращаются вокруг невидимой оси, словно вяжут по-старушечьи чулок, глаза открыто и ласково смеются, — и Губонин уже готовится к новой неприятности. «Однако, что еще такое?..»)
Вот приключился такой случай, — Александр Филиппович смеет предполагать, что дорогому Вячеку интересно будет послушать? Да, неприятное дело. Один из секретных сотрудников, приставленный, в частности, и к Распутину, разговорился с ним в один из хмельных часов и наплел, голубчик, страшной ерунды. Ох, боже мой, в России так много людей, одержимых манией ее спасения, что даже какой-нибудь департаментский сотрудник Кандуша (Вячеслав Сигизмундович уже ощутил удар!)… какой-нибудь охранник — и тот метит в спасители страны и трона.
«Собрать, — говорит такой Кандуша, — главных врагов режима (как будто он знает, кто главный-то враг!), собрать их невзначай в одном месте и — «чик под корень»: несчастный, мол, случай… Так и выражается ретивый малый: «чик под корень», — каково, а? («Ах, скотина, ах, скотина!» — возмущался своим Лепорелло Вячеслав Сигизмундович…) Целый проект изложил «старцу» в письменном виде, потом передал, просил по секрету государю доложить. А если бы этот «доклад» кому-нибудь из думцев в руки попал, — хватает воображения, что случилось бы?.. Если бы «старец» в пьяном виде кому-нибудь сей «прожект» сунул?»
— Он так и сделал, — решил пойти навстречу своему собеседнику Губонин.
Генерал-майор Глобусов мягко кивнул головой:
— Вы правы, Вячек. Ваш Кандуша мог сослужить плохую службу, а вы этого и не знали… Ай-ай-ай-ай! — сострадательно щурил он глаза.
Глобусов мог бы и не продолжать рассказывать — Вячеслав Сигизмундович знал уже теперь дальнейшее: «старец» действительно сунул кому-то кандушин «проект», а этот «кто-то» оказался глобусовским человеком («слава богу, что так случилось!»), и кандушин «проект» сейчас, конечно, под замком у Александра Филипповича.
И генерал-майор Глобусов подтвердил:
— Так подвести, так подвести своего начальника, — ай-ай-ай-ай-ай!.. Еще рассказывал Григорию, что вас посвящал в это дело.
— Врет Григорий, — зло ответил Вячеслав Сигизмундович, убежденный безошибочно в кандушиной скрытности и преданности. — Ложь! — метил он словом и взглядом в Александра Филипповича. — Грубое вранье… кому только понадобившееся?..
— Не знаю, не знаю, Вячек, — развел руками напомаженный, учтивый до предела начальник отдела по охранению общественной безопасности и порядка в столице.
На сегодня — довольно! Этот разговор был достаточным предостережением для мужа Аннет: если бы не мысль о сестре и ее двоих детишках, Александр Филиппович сумел бы по-иному наказать своего родственника. Дорого пришлось бы заплатить Вячеславу за неосторожные фразы своего доклада новому министру!
Вероятно, Вячеслав Сигизмундович и сам раскаивался в своей неосторожности, — прощаясь с Глобусовым, он усердно жал ему руку и заглядывал в его глаза, ища в них ответа: все ли забыто и все ли понято дорогим Александром? Ведь правда же, они по-старому — друзья? И еще большие, чем были раньше?
«Конечно, конечно… Мы двое, умных людей и видим друг друга сквозь тройную оболочку. Я не стану мешать тебе, и ты до сих пор не пакостил мне. Напротив!.. Мы двое умных, и грешно было бы не выиграть оттого в жизни, которая становится с каждой неделей все загадочней и загадочней в России. События не пронесутся мимо нас, как кони. В табуне надо найти глазом своего коня и оседлать его…»
С такими мыслями уходил Вячеслав Сигизмундович от генерал-майора Глобусова. Уходил довольный их взаимной откровенностью, довольный тем, что ловля друг друга кончилась и они благополучно договорились.
В Ковенском, на конспиративной департаментской квартире, он рассчитывал сегодня же увидеть Кандушу и хорошенько пробрать его за неосторожные действия.
Кандуша не явился.
Не пришел он и на следующий день, и Вячеславу Сигизмундовичу довелось увидеть его уже в обстановке, мало приятной для обоих.
ГЛАВА ВТОРАЯ Ирина Карабаева и ее новые друзья
День 16 октября прошел так же, как и все предыдущие. В ранний час, в пять утра, в помещении третьей роты раздался протяжный, нараспев, зычный крик унтер-офицера Ларика:
— Вста-а-авай! А ну, вста-а-авай! Пулей вылета-а-ай!
Солдаты подметили, что унтер-офицер Ларик копировал интонацию, с которой торговки булками и коржиками за деревянным забором зазывали к себе покупателей. Это настраивало сонных солдат на благодушный лад, вскакивали они со своих мест быстро и без особого огорчения.
Два рожка в обоих концах помещения защищали слабо, мутно-желтым светом, двухэтажные ряды нар от обступившей их ночной, еще не расступившейся темноты, плотно прижавшейся к высоким, звенящим от ветра окнам.
Стучал в стекла унылый октябрьский дождь. Открыли широкие квадратные форточки, и влажный стремительный сквозняк вбежал в казарму, — только тогда люди почувствовали тяжелый, смрадный запах духоты, накопленный за ночь казармой.
Свесившись со второго яруса нар, Ваулин минуту вдыхал врывавшийся в окно холодный, щекочущий ноздри утренний воздух.
Нары пустели: рота торопилась одеться, покинуть помещение.
Приведя себя в порядок, солдаты выстраивались в два ряда во дворе, против бараков. Перекличка, назначения на дежурства, утренняя молитва — все протекало так, как и раньше. Затем — команда:
— Накро-ойсь!
И рота возвращалась в казарму пить чай.
Наскоро проглотив одну-две кружки чая (кто сколько успевал), запрягались в походное обмундирование и с неизменным:
Три деревни, два села, Восемь девок, один я! —шагали на строевые учения.
В полдень возвращались «на обед», а через два часа вновь маршировали, делали пробежки, кололи чучела, стреляли в цель, сдавали фельдфебелю экзамен по солдатской «словесности», — и так до вечера, до воблы с кашей перед сном. Нет, ничего нового, ничего особенного не ждал сегодня Сергей Леонидович…
Он попал в этот 181-й запасный полк три недели назад.
Сидя в тюрьме на Шпалерной, он готовился к иному. Минусинск или Туруханск, а то и «колесуха» на Амуре — вот что могло быть впереди. Связанность по рукам и ногам, бездеятельность, отсутствие там, в Сибири, сведений о близких людях, о партийных событиях — все это угнётало Сергея Леонидовича гораздо, больше, чем предстоящие лишения, физические страдания, которым он должен был подвергнуться. Так — в мыслях о предстоящем пути и об оставляемых здесь людях — проводил он тюремные дни. Их набежало немногим больше двух месяцев. И вдруг — неожиданное решение административных властей о переводе в войска, в полк, предназначенный в скором времени к отправке на фронт…
Уже в полку он узнал, что так поступили не с ним одним. В казарме он встретился с типографским рабочим Яшей Бендером. Тот указал ему еще на нескольких «политических», разбросанных по разным ротам. Приговор для всех был ясен: под пулю врага, на смерть в окопах.
Однако оба — и Сергей Леонидович и Бендер — были рады неожиданной форме расправы. Во-первых, — рассуждал Бендер, — пока мы еще в Питере и можем восстановить связь с организацией. Во-вторых, — дополнял его Сергей Леонидович, — мы уже не в тюрьме, мы не так скованы в своих поступках. В-третьих, — решали они, — будем вести партийную работу и в этой, новой обстановке, по-разному приноравливаясь к ней. А что касается уготовленной для них немецкой пули — то она может и промахнуться, не правда ли?..
Иногда им становилось даже весело, а с того дня, как получена была — так неожиданно — первая весть от товарищей, оба повеселели еще больше.
Случилось это так.
В полдень Яша Бендер подошел к забору, по ту сторону которого размещались уличные торговки, чьи выкликанья так хорошо имитировал унтер-офицер Ларик. В нескольких местах казарменной изгороди не хватало досок, и в образовавшиеся отверстия высовывались солдаты, подзывая к себе баб с корзинками.
Крендели, маковики, пряники и конфеты, сваренные из патоки, — на все это лакомка Бендер тратил скудные остатки своих денежных средств. Но теперь привлекало его не сладкое, а возможность таким путем завязать связь с волей.
— Подходи! — крикнул он, просунув голову в дыру забора, и тотчас же несколько корзинщиц бросились на его зов.
Чтобы выиграть время, он начинал каждый раз торговаться, тем паче что цены на сладости меняли здесь часто и, казалось ему, очень произвольно. Он вел торг одновременно со всеми торговками и в разноголосице их обычных возражений и сетований на теперешнюю жизнь услышал вдруг знакомый, в первую минуту непонятно-знакомый, женский голос:
— Эх, чиновник, чиновник!.. Бери у меня: я уступлю.
«Чиновник»? Ведь так шутя называл его Андрей Громов за упрямо взбитый рыжий хохол на голове. Окорнали теперь голову…
Он повернул ее на ласковый голос и — широко, радостно раскрыл глаза: одетая, как все торговки, с корзиной в руках… перед ним стояла громовская жена, Надежда Ивановна. Обрадованный, он чуть было ни выкрикнул сгоряча ее имя, но ее короткий, упавший в сторону соседок предостерегающий взгляд сдержал Яшу Бендера. Разыгрывая обычного покупателя, он стал рыться в ее корзине.
— Тебя-то не ожидала… Про тебя неизвестно было… а Швед тут? Наши узнали, что тут. Правда? — торопливо расспрашивала Надежда Ивановна, когда на минуту-другую они остались одни.
— Здесь, здесь… вместе мы. Нового что? Андрей Петрович как?
— На, бери записку Шведу: четыре дня ношу, выглядывая его. Андрей на конспирации, дома не живет… Завтра опять приду, каждый день ходить буду. Беги ответ писать.
— Ух, ты!.. — растрогался Бендер, быстро пожимая ее руку. — До скорого!
Он побежал разыскивать Ваулина.
В записке, посланной Андреем Громовым по поручению членов Петербургского Комитета, кратко, иногда условным языком, полунамеками сообщались главные новости: на заводах идет большая подготовка к политической, антивоенной стачке; удалось в двух местах вновь поставить «технику»; Петербургский Комитет пополнился новыми работниками, и он сам, Лекарь, вошел в исполнительную комиссию.
В конце записки Сергей Леонидович запрашивался, не считает ли нужным дезертировать из полка. Если возможно это сделать в ближайшее время, явочные пункты будут сообщены ему.
Увидеть в тот же день громовскую жену не пришлось: торчать у забора солдатам не разрешалось, особенно тем, кто числился в поднадзорной команде, а найти сразу Надежду Ивановну среди торговок, рассыпавшихся по сторонам при приближении придирчивых фараонов, не удалось. Приходилось сдерживать свое нетерпение и отложить свидание с ней на целые сутки.
Громовскую записку Ваулин разорвал, но содержание ее передал Бендеру, как только остались вдвоем: встретились, условившись, вечером у фельдшерского барака.
— Бежать отсюда вместе, — объявил Сергей Леонидович. — Если, конечно, бежать…
— Вы думаете? — не сразу отозвался Бендер. — Вам давать стрекача отсюда обязательно!
— А вам, Яша?
Наборщик пропустил сквозь зубы длинный звонкий плевок.
— Отчего вы молчите? — наступал Ваулин. — Конечно, вместе! Дело у нас общее! Цель-то одна?
— Меня не ждут, — смотрел в сторону Бендер.
— А ну, какая глупость приходит вам в голову! — строго, но избегая резких интонаций, сказал Сергей Леонидович. — Неужели вы обиделись? Но на кого, Яша? Вы только подумайте: на Андрея? На организацию? Стыдно вам!.. Или на меня, может быть? Но за что?
— Да бог с вами! — простодушно ответил Бендер, да так чисто, искренно, что Сергей Леонидович упрекнул себя за стремительный разнос, учиненный товарищу.
— Ну, то-то же, Яша, — как можно мягко, задушевно сказал он. — Вы не меньше нужны нашей организации, чем я, — чем любой из нас. И какие тут могут быть разговоры? Уйдем отсюда, — ободрял он товарища, — и тогда не одно еще «шрифтовое дело» состряпаем.
— Ого, это верно… состряпаем! — подхватил уже весело Яков Бендер. — Только черкните Лекарю, чтобы явку мне прислал, если уходить отсюда придется.
— Не беспокойтесь, Яша: я уж об этом подумал.
До получения громовской записки вопрос о побеге оставался неразрешенным: чего требуют интересы организации — чтобы он, Ваулин, бежал из полка для нелегальной партийной работы или, в меру возможностей, в условиях казармы, а затем на фронте, вел эту работу, находясь среди солдат?
Потребность для себя и пользу для всей партии он находил и в том и в другом, но он помнил, что в любой момент «поднадзорный политический Ваулин» может быть убран из полка и брошен снова в тюрьму — без надежды оттуда выбраться. Что тогда?
В разное время по-разному принимал он решения.
Мысленно уже выскочив за ворота казармы и смешавшись с проходившим по улице народом, он нерешительно топтался на одном месте, не зная, куда направить свои стопы, где сбросить солдатскую одежду и заменить ее другой. Куда заявиться? Ведь он утратил все связи с товарищами, не знает, кто остался на свободе, а кто попал за это время в руки полиции.
Оставался на самый крайний случай один путь: пробраться вечерней мглой на Малую Дворянскую — к матери, к Ляльке, увидеть там самоотверженную Шуру («А может, и ее арестовали?» — приходило в голову) и при ее посредстве дать знать о себе организации. Кстати, у матери хранится давно один из его костюмов и, кажется, пальто (правда — летнее).
Но мать и так уже не раз тревожили безрезультатными обысками и расспросами: выслеживали сына. А в случае его побега из полка охранка сразу, вероятно, нагрянет к ней и, застукав его там, причинит потом немало неприятностей его семье, а возможно, и соседке по комнате — курсистке Шуре.
Нет, туда опасно заявляться, как бы горячо ни хотелось ему пробыть там хотя бы считанные минуты… А вдруг не считанные минуты, а два, три часа? Два-три часа, в течение которых добрая, заботливая Шура позвонит по телефону Ирише Карабаевой или приведет ее даже, и тогда он увидит ее — человека, которому он с такой большой нежностью, — нет, больше, чем только с нежностью! — отдавал теперь добрую половину своих дум.
Вдруг бы так?!.
Дойдя в своих мечтах и желаниях до этого момента, Сергей Леонидович останавливал себя — он как бы трезвел. «Ну, вот, — упрекал он себя, — оторвался совсем от земли солдат Ваулин!..»
Громовская записка принесла ему новые надежды и — главное — мнение ПК о его побеге. Теперь уже нечего было сомневаться — нужно быть готовым в любой подходящий момент бежать отсюда.
Он запросил «явки» и ждал ответа.
Но не только на эту просьбу. В первую же мимолетную встречу у забора с Надеждой Ивановной он шепнул ей несколько слов, и громовская жена ответила на них быстрым, обещающим кивком головы и улыбкой понятливых глаз.
Второго свидания с ней он ждал еще с большим нетерпением, чем первого.
Обе девушки и старуха минуту помолчали. Это было молчание, копившее как чувствовала Ириша, слова необходимых, но еще не принятых решений.
В комнату, как учтивые гости к дремлющему больному, входили серые, вкрадчивые сумерки.
Они прильнули к оконным стеклам, робко окрасив их бледным, угасающим румянцем опустившегося за горизонт усталого октябрьского солнца.
Боязливый розово-серый свет бережно обволакивал комнату, и предметы в ней теряли привычную простоту своих очертаний: они словно растворялись в этой воздушной смеси двух исчезающих цветов.
Вещи светились причудливыми пятнами, густым пунктиром своих разобщенных линий, они выпирали своими углами и ребрами, как будто отдельно, самостоятельно поставленными, — все это походило в глазах Ириши на части футуристического рисунка, недавно виденного на одной из выставок.
Вероятно, думала она, этот причудливый свет изломал, преобразил по-своему и ее собственное, Иришино, лицо, как это сделал он сейчас со старухой, Екатериной Львовной. Старуха; сидела неподвижно в кресле. Свет разделил ее лицо на две цветные части. Не стертая сумерками смотрела на Иришу зачесанной наверх волнистой прядью седых волос, бледно-розовеющим, в роговой тонкой оправе, стеклышком пенсне, часть которого, казалось теперь, отпала (и оттого серой и тусклой, как латунь, смотрела вторая половина лица Екатерины Львовны), и мясистым бугорком энергичного подбородка, на котором, одрябляя кожу, расплылись уже старческие, песочного цвета, пежины крупных веснушек.
— Зажечь? — протянула Ириша руку к выключателю. Она не узнавала предметов, ее впечатления сбивались: медленная слепота сумерек была ей неприятна.
Она повернула выключатель, Шура спустила сторы на окнах, — комната зажила своей обычной уютной жизнью. Казалось, легче стало думать.
— Как же быть? — возобновила разговор Екатерина Львовна.
Она попеременно переводила глаза на обеих девушек, сидевших рядом на диванчике, дольше останавливаясь на Шуре, как будто добивалась ответа прежде всего от нее.
— Ждать… — неопределенно сказала Шура. — Она человек обязательный. Значит — что-нибудь случилось.
— Но прошло, Шурочка, два с половиной часа, а ее все нет!
Старуха встала и прошлась по комнате из угла в угол — медленно, притрагиваясь на ходу рукой к стоявшим на пути предметам, как будто слаба была или плохо видела и потому ощущала потребность на них опереться.
— Я не могу пожаловаться: все разы она была очень аккуратна. Очень, очень.
— Шура… — шептала на ухо подруге Ириша и заглядывала в ее лицо. — Неужели я не получу сегодня от него ответа? Сегодня! Ведь их могут в любую минуту отправить.
Та, кого так ждали — Надежда Ивановна, не появлялась.
На каждый звонок старуха торопливо, забыв свои годы, выскакивала в переднюю, но — тщетно: то кто-нибудь из владельцев квартиры возвращался домой; то гувернантка нижних соседей приглашала Лялечку в гости к своей питомице, и Екатерина Львовна, не в пример другим дням, охотно согласилась отпустить внучку; то звонили два подростка и предлагали купить у них билеты на какой-то благотворительный польский вечер-концерт.
Забегал еще к Шуре студент-однокурсник — брать записки по уголовному праву, хотел остаться, покалякать, но она под благовидным предлогом тотчас же его сплавила.
Громову ждали, отсчитывая каждую минуту. На кухне должна была появиться новая «молочница», недавно сговорившаяся с Екатериной Львовной, — так было условлено, дабы не вызывать подозрений ни в ком из живущих в квартире.
Несколько дней назад «молочница» принесла первый устный привет матери от сына. Лялечка отошла от раскиданных на полу игрушек и с удивлением смотрела на бабушку, обнимающую и целующую какую-то незнакомую тетеньку, одетую как дворничиха или прислуга соседей, Маня. Потом с этой же незнакомой тетенькой, сидя в сторонке, шепталась о чем-то прибежавшая из своей комнаты «Шула», а бабушка стояла у «насовсем» закрытой двери, придерживая ее ручку. В тот же вечер бабушка, укладывая спать, рассказывала очень интересную сказку про одного доброго человека, который никого не хочет убивать, и обещала Лялечке, что послушная девочка сегодня увидит во сне папу. Ах, все это было очень интересно, но и непонятно Лялечке…
Во второй свой приход «молочница» застала в комнате Екатерины Львовны девушку, в которой, порывшись быстро в памяти, признала спутницу Шуры — ту самую, приходившую летом с ней к ларьку на Клинском… за листовками, отпечатанными Андреем.
«Вон оно что! — подумала Надежда Ивановна по какой-то ассоциации с сегодняшними расспросами прибегавшего к забору Ваулина. — И не поверишь сразу». (Это относилось к тому, может ли такая — хорошо одетая и красивая — девушка с любопытными по-детски глазами быть всерьез связана с рискованным и суровым делом Андрея и его товарищей.)
Но, почувствовав симпатию к ней, Надежда Ивановна уже по-женски любовалась ее волосами, заложенными толстыми косами на слегка откинутой голове, тонкой кожей лица, шелковой английской блузкой.
При прощании Ириша вручила ей «секретку» для передачи Сергею Леонидовичу и долго держала ее руку в своей, крепко ее пожимая.
— Что делать? — в сотый раз спрашивала Екатерина Львовна, поглядывая на часы. — Меня это начинает сильно, очень сильно беспокоить, девочки… Вы скажете, Шурочка, «ждать». Хорошо, я согласна ждать… даже до завтра, как это ни тяжело должно быть матери, мне. Но… но, — помните? — она, намекала прошлый раз, что сегодняшнее сообщение должно быть очень важным для всей судьбы Сергея. Оттого я и волнуюсь.
Признаться, Шура, если и не знавшая точно, что замышляют сделать Ваулин и его товарищи, но догадавшаяся о том по некоторым фразам Громовой, беспокоилась не меньше Екатерины Львовны, но выдать истинную причину своего волнения она не смела. Если бы не требования партийной конспирации, она знала бы, как поступить. Но… но ей нельзя появляться на громовской квартире: место, как говорили, «зашито». Надежда Ивановна подтвердила ей это. Разве скажешь обо всем старухе? А она уже дважды сегодня, правда, вежливо, намекала Шуре на то, что хорошо было бы «кому-нибудь» съездить к «молочнице», если та почему-либо не может прийти.
Вот и сейчас она заговорила о том же — опять вежливо, но настойчиво; девушки переглянулись между собой, и черные глаза Шуры еще больше сузились, а широкие золотистые брови ее угрюмо сбежались к переносице.
— Я поеду, — поднялась вдруг с места Ириша. — Я все сделаю. Адрес, Шура?
Может быть, еще час назад надо было так поступить? Зачем было время терять? Это сумеречное ожидание только расслабляло мысль и нагоняло «женские страхи». К тому же, раз важно узнать о делах Сергея Леонидовича и, возможно, надо помочь ему, — то почему радость этого поступка она должна уступать кому-либо другому? Разве она не любит Сергея?!.
Обо всем этом подумала, уже выйдя на улицу.
К Надежде Ивановне надо было ехать в район Технологического. Дойдя до остановки у Троицкого моста, Ириша взошла на площадку трамвая. У Невского, на остановке у ярко освещенных окон суворинской «вечерки», где многие выходили и многие садились, толкая друг друга, чтобы захватить поскорее место на скамьях, ей можно было уже раньше других пройти внутрь вагона, но Ириша осталась, отступив вглубь площадки, на своем месте и — со своими мыслями, словно боялась растерять их в трамвайной толкотне и разноголосом шуме. Здесь же было куда свободней: холодный ветер загонял всех в вагон, и площадка почти пустовала.
Впоследствии, много лет спустя, Ириша не один раз вспоминала этот вечер. Но из всех происшествий того дня, — а одно из них стало в ее жизни, пожалуй, событием, — она помнила с наибольшей теплотой это двадцатиминутное путешествие в облупленном, с туго открывающейся, возмущающей пассажиров, входной дверью, трамвайчике, где не было ни одной знакомой души и где чувствовала в тот раз полное, мечтательно-радостное биение своей собственной.
Она, Ириша, принимает участие в судьбе любимого человека. Одна сейчас, без посторонней помощи, не руководимая никем… Нет, не только это! Она помогает не знающим ее людям в большом, рискованном деле борьбы за справедливость, за революцию, за освобождение от несчастной войны. Боже мой, боже мой, как не может понять этого папа? Что ж делать, — но папа ни в чем ее не разубедит! Нет, нет, дорогой и любимый отец!.. (Мать, Софья Даниловна, почему-то и не возникала перед глазами.)
Шурка… Какие интересные вещи рассказывает она!
Шура много знает, она уже «настоящая», «своя» в организации и, конечно, о многом умалчивает. Даже ей, Ирише, не все скажет. Вот, может быть, когда Ириша вступит по-серьезному в организацию, а не только раз-другой припрячет у себя листовки, — может быть, тогда ее посвятят в партийное дела… Ах, если бы встретиться с Сергеем, долго-долго толковать с ним, спросить его: такая, как она, может идти в организацию? — и сделать так, как он скажет. Ему она верит больше, чем самой себе. Но, вероятно, нужно испытать как следует человека. Что ж, — она готова!
Да разве она не проходила уже этого испытания? Как сказать!
Разбором «Капитала» не занималась? Занималась вместе с Шурой. Брошюру Коллонтай штудировала? Наконец, прокламации разносила? Разносила, еще как!
А кто знает, что она, Ирина Карабаева, — ах, вероятно, это очень плохо получилось! — что она… партийный «литератор»?.. Она сама видела свое «произведение» напечатанным на гектографе в газете-листовке. Газета посвящена была памяти погибшего в Сибири грузина-революционера, о котором все та же Шура говорила, что он замечательный человек.
Она помнит слово в слово свое произведение.
«Был чудесный цветок, — так начиналось оно. — Среди тьмы горел он мятежным огнем. Яркой алой звездой освещал он дорогу вперед к Свободе и Правде…
Был радостен, светел, и народ называл его своим.
Всполошились черные силы: нетопыри, совы и всякая нечисть ночная, налетели и стали тушить. Не могли ни поймать, ни ослабить чудесного света. Вырвали с корнем тогда и далеко среди снега и льда, на угрюмом, безрадостном севере бросили.
Замерзли нежные корни, — был это южный цветок, — и увял потихоньку далеко от края родного.
Но дело твое не погибнет, товарищ! Ты умер, но свет твой повсюду горит и кровавой зарей разгорается. Спи спокойно. Мы со знаменем красным скоро к тебе на могилу придем и весть о победе тебе принесем».
…Петербургский Комитет партии заседал в одном из домов на Большом проспекте. Молодежи была поручена охрана заседания. Человек восемь рабочих и работниц, курсисток и студентов превратились в «любовные парочки». Несколько часов кряду они прогуливались по проспекту, нежно прижавшись друг к другу и в то же время внимательно следя за всеми прохожими, вертевшимися у дома, где заседал ПК.
У Ириши хорошее зрение, она еще издали видит подозрительного субъекта в коломянковом кителе, — он дважды попадался на глаза в течение каких-нибудь двадцати минут, а теперь вот нагло расположился на скамейке наискосок охраняемого дома. Иришино наблюдение передается «по цепи», и одна из «парочек» усаживается рядом с подозрительным субъектом. И когда спустя несколько минут к скамье подходит шатающейся походкой подвыпивший человек и, прося прикурить, быстро, голосом абсолютно трезвым что-то говорит встрепенувшемуся обладателю коломянкового кителя, — сомнений уже нет: шпики «учуяли» место заседания!
К тому же, — сообщает другая «парочка», — напротив дома упорно стоит извозчик (вот уже более получаса), хотя полиция никогда не дозволяла Стоять посреди квартала. «Занят!» — лаконически отвечает этот «извозчик» на все обращения к нему, — и это еще больше подтверждает догадку настороженной молодежи.
Ириша волнуется: надо поскорей предупредить ПК об опасности!..
Самая франтоватая из курсисток выполняет это поручение. И вот — пришлось прервать заседание и скрыться. Это было весьма своевременно: оставшаяся для наблюдения «парочка» потом сообщила, что во двор дома прошел вскоре наряд фараонов.
Или — другой случай.
Те же парочки прогуливаются по Кронверкскому. И опять среди них — Ириша. Лето, жаркий день, послеобеденное время. На одном из балконов четвертого этажа, обтянутом с обеих сторон парусиной, под широким, вынесенным вперед навесом от солнца сидит за столом компания, распивающая чай с вареньем. Двое играют в карты: «тысяча» или «шестьдесят шесть». Граммофонная пластинка услаждает слух песнями Вяльцевой, шаляпинской «Блохой» и еще чем-то вроде «Умер бедняга в больнице военной». Сидят без пиджаков, с расстегнутыми воротами, по-дачному.
Это собрался на час-другой большевистский ПК. Кто мог бы подумать!
Охранке была известна только улица, на которой происходило заседание (об этом, как выяснилось потом, донес ей до заседания проникший в ПК провокатор), и по дворам и панелям Кронверкского в тот час шныряли, как гончие, отыскивая «след», агенты генерал-майора Глобусова. И никому из них невдомек было поднять голову вверх и взглянуть пристально на, казалось, беспечно расположившуюся под навесом балкона, хорошо изученную по фотографическим карточкам компанию!..
На ближайшем к пекистскому дому углу «связист» ПК, молодой черномазый рабочий с завода «Феникс», изображал с увлечением чистильщика сапог, и смешно было Ирише наблюдать, как умышленно долго и старательно начищал, по всем правилам искусства, запыленные, с черными резиновыми клинышками по бокам башмаки одного из примелькавшихся шпиков, остановившегося возле него.
…Конечно, ни на Большом Петроградской стороны, ни на Кронверкском Ириша в те разы не бывала. Обо всем этом она слышала только рассказы Шуры (ах, какие увлекательные рассказы!). Она вспоминала о них сейчас, и ей казалось, что она сама принимала участие во всех этих происшествиях. Она так живо видела их, переживала их вместе с Шурой, вместе со всеми остальными их участниками, так готова была стать в их ряды, что подмена мысленно Шуры или другой девушки самой собой, Иришей, казалась ей не только вполне допустимой и возможной, но как бы уже и случившейся.
Она любила помечтать. И, стоя сейчас на площадке трамвая, вспоминая чужое прошлое, она тем самым словно думала о своем собственном будущем.
«Вот если бы только увидеть Сергея — живым, свободным, — какая это будет радость большая!.. Что, если бы так: никакой войны, Сергей на воле, и я вместе с ним?! Как хорошо!»
Она всегда думала: вот если бы у нее была сила управлять людскими судьбами и человеческими радостями — уметь исправлять злое и несправедливое, существующее в мире! Эта мечта родилась еще в детстве и выросла с отроческими годами. Перечитывая книги, умышленно пропускала страницы, с описанием смерти Андрея Болконского и сохраняла ему жизнь в своем воображении. Так было и с Ленским, которого заставляла в последний момент примириться с Евгением.
Лейтенант Шмидт избегал казни, старик Кропоткин жил среди своего народа. Она мысленно обращалась к тем, кто мог бы все это сделать, и спрашивала: почему же это не случилось? Разве личное счастье людей нарушило бы равновесие изгнавшего их мира?
Еще несколько лет назад она хотела видеть в мире только личное людское счастье, которое, считала, должно быть неприкосновенным у всех. Какие детские мечты! Теперь… она многое, многое поняла теперь!
Как произошло это? На такой вопрос она не могла бы, вероятно, ответить точно, но она безошибочно знала, что научил ее видеть мир или хотя бы присматриваться к нему по-новому Сергей Ваулин.
Очевидно, каждый приходит к одному и тому же убеждению, к одной и той же общей для многих людей мысли — разными дорогами. Она, Ириша Карабаева, пришла к новому пониманию жизни и ее целей прямой, притягательной дорогой любви к человеку, которому не только доверилась, но и поверила. Его идеалы были ясны, благородны и заразительны: счастье для многих и многих миллионов людей — угнетенных, обездоленных людьми, управляющими Россией на потребу монархии, династии.
И вместе с Ваулиным, с его товарищами и друзьями Ирина Карабаева требовала уже от жизни уничтожения романовской монархии и династии, освобождения России от власти ее угнетателей и от обмана ее фальшивых думских защитников. Революция!
А после нее… Но об этом Ирише не приходилось еще думать.
Выйдя из трамвая у Технологического института, Ириша пересекла Загородный проспект и по одной из прилегающих к нему улиц, в конце которой жила Громова, направилась к ее дому. Минут через десять она была уже у цели. Следуя Шуриным указаниям, не спрашивая никого, где находится квартира № 28, Ириша прошла во двор и уверенно поднялась на самый верхний этаж по крутой, слабо освещенной лестнице.
Звонка не было, — она коротко постучала в дверь, и ей сразу открыли, как будто ждали ее прихода или случайно в этот момент хозяйка квартиры находилась в прихожей. Там было темно, и неподготовленная к этому Ириша не сразу разобралась, кто стоит перед ней.
— Я к Надежде Громовой, — сказала она. — Здесь, кажется?..
— Войдите, прошу, — неизвестный человек пропустил ее в прихожую и закрыл тотчас же входную дверь. — Сию минуту дам свет, барышня.
Где-то повернули выключатель, — она увидела перед собой двоих мужчин. Один из них был в полицейской шинели.
— По какой надобности пришли! — с вежливой улыбкой оглядывая ее, спросил человек без шапки, но в сером демисезонном пальто, накинутом на плечи.
Другой — пожилой, рослый полицейский с табачно-серыми, тяжелыми усами, кругло загнувшимися книзу, — по-птичьи склонил голову набок, прислушиваясь к ее ответу.
«Обыск! — догадалась сразу Ириша. — Что делать?»
— Мне нужна была Громова, — повторила она, выигрывая время для ответа. И — стараясь держаться как можно спокойней: — Я могу ее видеть?
— Безусловно, барышня! — оставался учтивым человек без шапки. — Как прикажете доложить ей? — Он перемигнулся с тяжелоусым городовым, усмехнувшимся кислыми, слезящимися глазами.
— Если почему-либо нельзя, — в свою очередь постаралась улыбнуться Ириша, прикрывая свое волнение, — если это… не полагается сейчас, — вероятно, это так и есть, правда? — тогда я в другой раз, господа.
— Нет, почему же, барышня…
— Я уеду, меня ждет здесь мой выезд… — отчаянно врала она.
«Господи, что я только говорю? А если они сейчас проверят?.. Ведь еще больше подозрения… меня уличат во лжи», — подумала она и отступила к двери.
— Выезд? — Полицейский неопределенно гмыкнул и вопросительно перевел взгляд на своего начальника в штатской одежде.
«А может быть, она в самом деле случайно?» — как будто говорил этот взгляд.
— Нет, вы уж входите, барышня, — настойчив был начальник.
Он приблизился к Ирише и притронулся к ее руке.
— Куда? — отдернула она свою руку.
Поймав взгляд-приказание своего начальника, полицейский толкнул из прихожей дверь в комнату, и все трое вошли в нее.
Короткая клеенчатая кушетка с глубокой впадиной посередине, остекленный светлый шкафик, на полках его — в чинном порядке чашки, вазочки, разная посуда, ореховый столик у окна — это была та комната, где проживал, — не знала того Ириша, — несколько месяцев назад Ваулин.
«А где же Надежда Ивановна?» — искала ее глазами Ириша. И она вслух, громко повторила свой вопрос.
— Здесь! — услышала она, обрадовавшись, знакомый голос Громовой. — Это не насчет найма ли прислуги приехали? — приблизился он, и в раскрывшихся дверях соседней комнаты показалась Надежда Ивановна.
— Потрудитесь обратно! — сурово сказал человек в штатском. — Сапожников! — крикнул он кому-то. — Почему разрешил путешествовать ей тут?
— Она сама, так что! — появился за спиной Надежды Ивановны второй полицейский — безбровый почти, со впалыми, глубоко провалившимися щеками и по-рыбьи выпученными глазами больного базедовой болезнью. — Заходи назад! — схватил он за плечо Надежду Ивановну.
— Потише… ты! — огрызнулась она и шагнула навстречу Ирише. — Уж вы извиняйте, барышня, — прожигая ее глазами, скороговоркой говорила она. — Я не виновата, ни в чем не виновата, не воровка я какая, вы не подумайте… и вашей матушке скажите. А ничего у меня краденого не найдут, — с особым ударением произнесла она. — Не глядите, что тут их, сыщиков, пригнало. Скажите барыне-матушке: как волю получу, приду к ней, служить буду, как условились.
— Довольно молоть, Громова! — прервал ее сотрудник охранки.
— Пускай ждет, значит, ваша матушка, — не слушала она его. — Обязательно — как сказала, так и будет. Несмотря, что засаду тут сыщики устроили…
— Заткните свой фонтан! Поняли, Громова? — обозлился охранник.
— Я у себя дома, господин хороший! — выкрикнула, подмигнув Ирише, Надежда Ивановна. — А вам говорю, барышня: поезжайте домой, требуйте от сыщиков, чтоб выпустили. Какое-такое может быть полное право у него? — с нарочитой, не своей обычной интонацией говорила она, разыгрывая базарную крикунью. — Знай сверчок свой шесток, — да-а! Коли вы, барышня, своему папаше, его превосходительству, пожалуетесь, — ого, что им будет! Дадут по загривку!
Тяжелоусый, с кислыми глазами городовой снова коротко, многозначительно откашлялся: он словно пытался что-то напомнить, подсказать своему начальнику, и тот на одну минуту как будто внял его сигнализации.
— Простите, мадемуазель: как ваша фамилия? — жестом пригласил он Иришу сесть на кушетку.
— Что? — повернула она голову в его сторону. (Все мысли были заняты тем, что говорила ей и как вела себя Надежда Ивановна: ведь она подсказала ей, Ирише, как надо держать себя!..) — Фамилия? — переспросила она охранника и перевела взгляд на Громову.
— Так точно: фамилия, — охранник не спускал с нее глаз. Его круглая, с рыжими волосами голова, посаженная на мясистую шею, упрямо придвинулась к Ирише.
— Вот и услышите сейчас, господин сыщик! — управляла Иришей Громова, отмахиваясь от неловко тащившего ее назад пучеглазого полицейского. — Вот и скажите ему, господину сыщику…
— Я — дочь члена Государственной думы Карабаева, — с достоинством сказала Ириша.
— Так это не есть «превосходительство»! — с облегчением кликнул все время сомневавшийся городовой и быстро-быстро закивал одобрительно молодому своему начальнику. — Какое же это превосходительство?.. — насмешливо и разочарованно закинул он опять набок голову и, сняв вольным движением свою полицейскую фуражку, поиграл ею в руке.
Начальник хохотнул.
— Мой отец — председатель думской комиссии по обороне… он связан с военным и морским министрами! — растерянно и оттого вдруг повысив голос (сама не узнала его: до того он стал резок); выкрикнула Ириша. — Я — дочь Карабаева! — хотела она внушить уважение к себе и унизить тем своих врагов. — Я — Ирина Карабаева, дочь…
— Я так и думал, — сказал вдруг спокойно сотрудник охранки.
Ирина и Надежда Ивановна, недоумевая, переглянулись.
Их притеснитель сел теперь на кушетку, заложил ногу за ногу, откинувшись к стене, вынул папиросу и облегченно закурил: никакой неприятности не могло быть впереди, — «подумаешь, Карабаева!..»
Его знобило, он потуже стянул на себе пальто.
— Сапожников! — крикнул он городового. — Что-то холодновато тут… Принеси-ка из кухни дровишек, подкинь в печку. Экономите топливо, Громова! Или мало денег отпускает вам организация? А я инфлуэнцу на ногах переношу, — понимаете? Ну-с, будем пить чай, — с обеда ничего во рту не имел.
— Ох, бедненький! — насмешливо скривила свои тонкие губы Надежда Ивановна.
— Да, да, Громова, — бедненький. Накройте, хозяйка, на стол, можете позвать своих гостей, — улыбался он, играя, как ребенок, своими пунцовыми пухлыми губами, освобожденными на минуту от папиросы. — Или подождать, а? Может быть, вы еще кого-нибудь ждете? Так вы скажите, Громова. Нет? Мужа не ждете сегодня? Ну, хорошо… Сапожников, ставь самовар. Угощенье хозяйки: булочки, медовики, пряники… Позовите, Громова, гостей.
Попавших в засаду до прихода Ириши оказалось еще двое. И обе — женщины: старушка из соседнего дома, сторожившая по дружбе громовскую квартиру, покуда Надежда Ивановна отлучалась с утра по делам, и молодая русоволосая, с озорными синими глазами работница завода «Треугольник», об истинной цели прихода которой ни Надежда Ивановна, ни сама эта работница не склонны были сообщать сотруднику охранки.
— Значит, я могу уехать? — делая строгое лицо, осведомлялась Ириша, зная уже сама, сколь наивен был ее вопрос.
— Конечно, нет, мадемуазель, — развел руками сотрудник генерал-майора Глобусова. — Мы ведь еще с вами совсем не потолковали, — помилуйте… У нас еще будет общая беседа с нашей хозяйкой, — не правда ли, Громова?
— Но мне необходимо ехать домой! — бессильно возражала Ириша. — Я требую от вас, господин… господин, — ну, вы какого чина? Ротмистр? Но вы без формы…
— Это неважно, — не менял он позы, развалившись на кушетке. — Я не могу вас отпустить. Простите, — ваше отчество?
— Ирина Львовна.
— Очень приятно. К сожалению, Ирина Львовна, вам придется здесь побыть.
— Они засаду сделали, — угрюмо отозвалась из угла Надежда Ивановна. — Хлеб свой оправдывают.
— Совершенно верно: засаду. Правильно изволили заметить.
— Но когда же вы ее снимете?
— Когда? — посмотрел он на Ирину серьезно. — Это в значительной степени будет зависеть от нашей хозяйки.
— Но я-то при чем? — пыталась вновь наступить Ириша.
— Вот то-то и оно, Ирина Львовна. Это и подлежит выяснению. И если не удастся здесь, то, вы уж простите, — придется в другом месте.
— Где?
— Вы сами можете предположить. Костюк! — обратился он ко второму полицейскому. — Сходи быстренько за колбасой и зеленым сыром: очень люблю зеленый сыр, господа! Костюк, на углу тут продают… Да, простите: вас еще что-нибудь интересует, Ирина Львовна?
— Пускай ваш полицейский позвонит откуда-нибудь ка мне домой, и скажет, что я случайно задержана. Мои родные будут волноваться, — вы понимаете?
— Очень хорошо понимаю. Но — нельзя!
— Почему?
— Во-первых, потому, что мой Костюк уже ушел…
— А во-вторых?
— Вообще — нельзя!
— Так что же: вы меня арестовали?
— Пока — нет.
— Но на каком основании? Что это означает?.. Мой отец поедет к вашему министру, Протопопову, — угрожала Ириша, сама не веря в эти угрозы. — Отвечайте мне правду!
Он хотел что-то сказать ей, но стук с площадки мгновенно поднял его с места. Он бросился в прихожую, закрыв за собой дверь. Из кухни побежал туда же раздувавший самовар безбровый, пучеглазый Сапожников.
Этой минутой воспользовалась Надежда Ивановна.
— Любка! — подбежала она к русоволосой работнице. — Вытаскивай! Скорей вытаскивай… ну!
Обе ваулинские записки, хранившиеся последний час в укромном месте девушкиной одежды, мигом очутились под английской блузкой Ириши.
— Если меня не выпустят, — шептала ей Надежда Ивановна, — передайте все, что знаете, кому надо. Вот в это место, — запомнили?
И она назвала одно из явочных мест.
— Только… язык за зубами, — слышите?!
Неожиданно лицо ее стало злым и недоверчивым.
— Я оправдаю ваше доверие, товарищ Надя, — покраснев, сказала Ириша. — Откуда он может знать меня? — метнула она глаза в сторону прихожей.
— Врет. Подловить хочет. А вы держитесь, говорю вам!
Из прихожей доносился шум, ругань и шарканье тяжелых сапог по полу.
— В чем дело? — распахнула дверь из комнаты Надежда Ивановна. — Чай, я тут хозяйка, господа хорошие.
За ней выбежала и русоволосая девушка.
— Кого бог несет?
Взглянули обе, — и не хватило от неожиданности сил сдержать себя:
— Ох-х! — уронили в два голоса.
Отпихивая от себя налезавшего на него полицейского, и шумел и ругался в прихожей Яков Бендер.
Охранник выхватил из кармана револьвер.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Рабочие и солдаты
«Семнадцатого октября, в девятом часу утра, на минном заводе Русского Общества для изготовления снарядов и военных припасов («Парвиайнен») собралась сходка, после которой рабочие в количестве пяти с половиной тысяч человек прекратили работу и покинули завод.
Позднее к этой забастовке присоединились рабочие других заводов, и к вечеру 17 октября общее число бастовавших достигло примерно двадцати тысяч человек.
Забастовки эти возникли по неизвестным причинам, так как рабочие предприятий прекращали работы без объяснений причин и без предъявления к администрации каких-либо требований. Лишь путем окольных сведений, полученных через мастеров предприятий и через отдельных рабочих, до администрации доходили сообщения, что забастовки производились в целях протеста против продовольственной неурядицы в столице, порождаемой затянувшейся войной.
Разбросанные по заводам прокламации и произносившиеся на сходках речи позволяют заключить, что коренной причиной забастовки являлась политическая агитация, а за сигнал к стачке был принят листок Петербургского Комитета с.-д. большевиков, начинающийся так: «К пролетариату Петербурга. Товарищи рабочие! С каждым днем жизнь становится все труднее». (Текст при сем.)
Листок не содержал прямого призыва к забастовке, а развивал мысль о невозможности справиться с продовольственными и другими бедствиями иным путем, как уничтожением основной их причины — «происходящей империалистической», как сказано в листке, войны, и призывал к борьбе с ней».
…Так начинался доклад царю министра торговли и промышленности, князя Всеволода Шаховского, о первом дне октябрьской стачки.
Доклад был составлен очень подробно, но в нем умалчивалось почему-то о том, что больше всего должно было заинтересовать Николая. Или, может быть, корректный князь полагал, что для таких дел существует другое ведомство?..
Во всяком случае, приемля долг довести до сведения его величества, своего государя, подробное описание событий на Чугунной улице, Выборгском шоссе, Головинском переулке, Сампсониевском проспекте, где стояли пустыми в тот день фабричные корпуса, — он ни словом не обмолвился о длинном, зеленовато-сером казарменном здании, обнесенном не везде целым деревянным забором — с часовыми на вышке, у ворот и по углам двора. Князь умолчал об этом здании, десятилетиями смотревшем — почти прямо перед собой — на красную кирпичную трубу умолкшего в тот день завода. В противном случае министру пришлось бы уже рассказать, к чему неожиданно привело столь близкое соседство на одном проспекте двух этих зданий.
Во втором из них, не упомянутом в докладе, размещен был тот самый 181-й запасный пехотный, полк, из которого ждал случая бежать рядовой третьей роты Сергей Ваулин.
Вечером, накануне знаменательного дня, столь неполноценно отмеченного в министерском докладе, Сергей Леонидович тщетно пытался разыскать в казарме своего друга: после переклички дежурный по десятой роте рапортовал своему начальству о таинственном исчезновении рядового Якова Бендера.
Но Ваулин об этом ничего не знал.
После утреннего учения прапорщик Величко возвращался со своей третьей ротой в казарму по Чугунной улице.
Как изменилась она за несколько часов! Рано утром, когда он, Величко, вел по ней солдат, здесь было тихо и пустынно, а теперь вот: у ворот каждого дома и домика крикливый табор какой-то, на улице тесно от растянувшейся по ней людской цепи, а у «Парвиайнена» — густая, запрудившая дорогу, шумящая толпа, сквозь которую роте прапорщика Величко и не пробиться. Что делать?..
До толпы оставалось всего шагов пятьдесят. Прапорщик Величко оборачивается и продолжая минуту шагать спиной вперед, бегло оглядывает марширующие следом за ним солдатские ряды. Только три передних несут на плече учебные винтовки с примкнутыми штыками, — тыловые войска русской империи бедны: обучение производится не на ружьях, а на палках, затвором служит большой палец правой руки, а вместо выстрела — хлопанье в ладоши.
«Эх, черт побери! — сожалеет сейчас о чем-то прапорщик Величко и трет по обыкновению свою надменную горбинку на носу. — Деревенских собак гонять, — вооружение… тоже!»
В противном случае что точно сделал бы — не додумал до конца.
На глаза попадается ему шагающий в середине первого ряда черный, лопата-борода в цыганских кудряшках, широкоплечий солдат Исаев, и он ловит его озабоченно-удивленный взгляд, устремленный в сторону гудящей толпы.
«Радуется, сукин сын! — отводит от него глаза прапорщик Величко. — Погоди ты, конокрад!»
И он вспоминает в эту минуту:
«Ваше благородие, — написано было в записке, — обратите ваше внимание на ваших подчиненных, как они больно страшно терпят нужду. Хлеба получаем мало — один хлеб на четыре человека. Сахару мало, по фунту на месяц, пища плохая — в сортир по надобности не с чем в животе ходить. А если что другое домашние люди пришлют, бывает, — то фельдфебель, шкура, сам поест. А если не исправите, то как придем на позиции — застрелим, и очень даже просто. И фельдфебеля, гадюку, тоже».
Записка была анонимная, ротный командир так и не узнал, кто именно из его солдат ее прислал, но сейчас ему отчего-то кажется — этот самый, насмешливо и радостно усмехающийся Исаев…
«Да и рядом с ним хороши! — недоверчиво шарит глазами по шеренге прапорщик Величко. — Что же делать? Через шагов двадцать упремся в толпу, — вероятно, забастовщики? Пропустят ли?»
И он громко командует:
— Р-рота, стой!
Отделенные повторили команду, и солдаты приставили ногу к ноге. Прапорщик подозвал к себе одного из городовых, кучкой стоявших на панели.
— В чем тут дело? — спросил он подбежавшего старичка с расчесанной надвое седой бородкой, с прозрачно-карими живыми глазками, доверительно подмигивавшими сейчас офицеру. — Что происходит?
— Забастовки, конечно, ваше благородие. Митинг идет, ораторов слушают. Они, рабочие, значит, очень митинги признают.
— Отчего это? — досадливо нахмурил брови Величко.
— Все от того же! — опять многозначительно прищурил старичок городовой свои не по летам бойкие глаза. — Пришли с других заводов — снимать с работы.
— Сволочи! — буркнул прапорщик Величко. — На фронт бы их отправить!
— Сомневаюсь, чтоб хотели, ваше благородие. Не такой народ. Вот же… насупротив этого самого бумажки раскидывают! Гляньте, ваше благородие… если служба позволяет.
Словоохотливый — по всему видать — низенький городовой вынул из-за обшлага рукава своей черной длинной шинели сложенный вчетверо листок и протянул его офицеру.
К ПРОЛЕТАРИАТУ ПЕТЕРБУРГА
было набрано жирно.
— С каждым днем жизнь становится труднее. Война несет с собою не только смерть миллионам и море горя, она вызывает и продовольственный кризис. Страшный призрак — царь-голод вновь угрожающе надвигается на Европу, и ледяное дыхание его веет ужасом и смертью… война ведется на истощение… довольно терпеть и молчать! — быстро пробегал листовку прапорщик Величко.
Чтобы устранить дороговизну и спастись от надвигающегося голода, вы должны бороться:
ПРОТИВ ВОЙНЫ
ПРОТИВ ВСЕЙ СИСТЕМЫ НАСИЛИЯ И ХИЩНИЧЕСТВА
Он отдал обратно прокламацию.
— Если подчиняться всякой дряни, так уж подчиняться! Тут не сказано, чтобы бастовать, — отчего же они?.. — глухо, придирчиво сказал бывший студент-юрист Леонид Величко и посмотрел со страхом, — в первый раз вдруг — со страхом! — на колыхавшуюся впереди него толпу народа. — Почему же это они, в самом деле? — растерянно повторил он.
— Не могу, в общем, знать, ваше благородие.
— Ну… а пропустят они, или придется как-нибудь по-иному? — расспрашивал, а в душе ждал совета опытного полицейского служаки прапорщик Величко.
— Могут и так, могут и не так, — как захотят, ваше благородие.
— А вам-то, полиции, разгонять-то приказано? — стараясь казаться суровым, допрашивал Величко.
— Нет. Мы — пешие.
— Ну, так что из этого? — вскрикнул прапорщик. — Где ваш пристав? Пускай примет меры. Этого требует государственный порядок… закон этого требует, — понятно? Или как ваш пристав считает? — взбадривал себя «цуканьем» полицейского прапорщик Величко.
Низенький полицейский унтер хитро осклабил маленький, опрятно обросший сединами рот и, прицелившись глазами в тонкие вздрагивающие ноздри растерянно топтавшегося на одном месте офицера, сказал вдруг:
— Да-а, закон… Закон в этом деле — что паутина, ваше благородие: шмель, знаете, проскочит, а муха — увязнет!
И он прибавил — все так же хитро и двусмысленно, как показалось уже прапорщику Величко:
— Принимать меры войска должны. А есть войска?
Прозрачно-карие, озорные глазки старичка городового, ехидно посмеиваясь, оглядели роту.
«Провокатор… пес старый! Не полиция, а мелкие барышники стали… Семишники, — это верно!» — отругал его в душе Величко.
— Эй, ты, полицейский крючок, о чем сговариваешься? Эй, семишник! — неслось в этот момент из толпы по адресу седенького полицейского унтера.
«Семишники» — таково было одно из последних прозвищ столичных городовых. Они приобрели его за то, что рьяно снимали с площадок трамвая солдат и, доставляя их в участок, получали за каждого по семи копеек штрафной премии.
— В беспокойство приходят. Думают — на усмирение пришли: шмелем вас признали! — весело ухмыляясь, отошел торопливо к своему патрулю словоохотливый собеседник прапорщика Величко.
От толпы отделилось несколько человек, к ним пристал еще десяток-другой стоявших у ворот разных домов, и вся эта группа двинулась теперь навстречу остановившейся воинской части. Прапорщик Величко молчаливо поджидал этих людей.
Он не оглядывался, но чувствовал за своей спиной напряженный и уже расползающийся по сторонам гулкий шепот солдат, их возбужденность и злорадство. Он не верил своей роте.
А какой другой можно теперь верить?
— Вообще их полк — «господи спаси», как говорят старшие офицеры… Тут тебе бывшие дезертиры, тут из разных городов рабочие закрытых властями предприятий, подозрительные интеллигенты вроде солдата его роты — Ваулина, о надзоре за которым есть секретное указание, есть «окопные волки», дважды и трижды за войну побывавшие в госпиталях, бородатые неуклюжие мужики, ратники запаса второго разряда, — словом, дрянь навозная, всякий сброд, а не солдаты!.. Полк через неделю предназначен к отправке на позиции, понюхают пороху, тогда сразу дурь из головы выскочит! А что же с ним там будет, с прапорщиком Величко… С Леней Величко?.
Мгновенно приходит на память недавнее происшествие в роте.
Она не ответила вдруг на его, Величко, утреннее приветствие. Он повторил его, — и вновь молчание. Тогда, взбешенный, он выхватил из кобуры револьвер и, направляя его в грудь каждого мятежника, пошел вдоль строя, не крича, а уже, как сам чувствовал, каркая: «Здорово, солдат!» И слышал в ответ слова одной и той же — глухой — интонации: «Здравия желаем, Ваш-родие!»
«Тупоумные попугаи! — хотелось ему закричать. — Почему и теперь, «желаем», а не «желаю»?! Значит — не желаешь вовсе здравия?!»
Никто не смотрел ему в лицо, но глаза каждого, — видел он, — готовы были стать двумя мстительными пулями, чтобы пронзить ими его грудь. Впрочем, нет: один встретился с ним взглядом светлых, серо-голубых глаз и ответил за самого себя: «здравия желаю, ваше благородие», но чуть медленней остальных, с нарочитой как будто растяжкой, не глотая слов, с особенной какой-то интонацией, словно намекал на что-то ротному командиру и говорил ему: «Так, так, господин прапорщик, — хороши же вы?!»
Этим солдатом, спокойно смерившим его взглядом, был не так давно присланный в полк Сергей Ваулин.
Память подкидывает этот случай — как лишние смолистые сучья в ненужный уже, затихающий костер; прапорщик Величко старается овладеть сейчас собой, но неотступная мысль об исаевской угрозе, о серо-голубых, холодных глазах рядового Ваулина, о перешептывающихся бог весть о чем солдатах нагоняет на него страх. «Что они будут делать?» — смотрит он на приближающуюся группу рабочих.
И ему вдруг кажется, что эти люди знают уже о суровом его поступке на прошлой неделе, о нелюбви к нему его солдат, о задуманной ими мести. Что эти люди и есть мстители, и вспоминается отчего-то в эту минуту давно прочитанная книга: они потащат его, как уэльсовские кровожадные «морлоки», куда-то вниз, откуда уже не будет возврата.
Он хочет обернуться к своим солдатам и спросить их: «Так?»— словно они знали сейчас его мысли, и тогда вытащить из кобуры оружие. Но он страшится этого поворота головы и стоит на одном месте. Рука заложена за ремень портупеи, голова втянута в неестественно приподнятые плечи, как если бы глубоко вздохнул и надолго задержал в груди выдох.
Он чувствует себя одиноким, окруженным со всех сторон врагами.
— Чего надо тут?
— Почему, господин прапорщик, остановились? — в два голоса спросили его подошедшие вплотную люди. (Часть из них прошла мимо него, к солдатским рядам.)
— Я веду свою роту, — сдержанно ответил он, разглядывая рабочих.
— Куда?
— На усмирение пролетариев, полагаю так — а?.. Эх, господин прапорщик, пипль-попль! Как бы вашим солдатикам не наклали тут!.. Позволю себе высказаться, — дело тут очень сурьезное.
— Стойте, товарищ, не мешайте, — прервал говорившего выступивший вперед рабочий.
Он был одет, как многие, в черный до колен ватничек, на голове — финская с кожаным верхом шапка, сползшая на затылок, и вокруг шеи дважды обмотанное гарусовое кашне. Оно было такого же цвета — серо-пепельного, как и усы и вьющаяся мелкими, кольцами от висков бородка рабочего.
— Куда ведете роту, господин офицер? — повторил Власов (это был он) свой вопрос и внимательно посмотрел на прапорщика.
— Туда, куда ей полагается идти в этот час. Уж во всяком случае не на усмирение… — сказал прапорщик Величко.
Он отогнул полу своей шинели, вынул из кармана брюк носовой платок, расправил его и не спеша утер им пересохшие от волнения губы. Кроме того, — подумал он, — этот «житейский жест» должен был свидетельствовать рабочим о его, прапорщика Величко, мирных намерениях.
— Это мы видим, что не на усмирение, — коротко усмехнулся рабочий и вяло махнул в сторону солдат.
— Вы не скажите, товарищ! Ружей-то у них почти нет. — это верно. Но обыскать, позволю заметить, глянь, и бомбочки-игрушечки незримо под шинелями! — раздался позади все тот же часто придыхающий, почти захлебывающийся голос, уже обративший на себя внимание прапорщика Величко.
— Кто этот дурак? — вспылил он, отыскивая его глазами за спинами стоявших впереди.
— Без ругани, господин офицер! Не дурак, а трудящийся! — спокойно, но угрюмо отозвался кто-то. — Вот он кто…
— Обижать нечего нашего брата, господин офицер!
Впрочем, никто бы точно не мог сказать, кто этот Фома неверующий, все время приглашавший с опаской относиться к прапорщику и его роте. Если спросить рабочих «Парвиайнена» о нем, они сказали бы, что он, вероятно, пришел сюда с группой рабочих других заводов, а если бы спросить о том же последних, они, конечно бы, причислили его к «парвиайненцам». Разве узнать каждого среди всего этого народа, от множества которого так и распирает эту короткую узенькую улицу?
— Где ваши казармы? — все так же деловито допрашивал рабочий в широком кашне.
— Недалеко, на Сампсониевском, — набирался спокойствия прапорщик Величко у своего сдержанного собеседника, вызвавшего в нем неясную симпатию. — Два поворота отсюда.
— Ага… — что-то соображал рабочий. — Вы, значит, с обучения идете? Постойте тут… мы вам сейчас скажем, — направился он обратно: к раскрытым воротам завода.
— А чего вы собственно бунтуете, господа? — вырвалось вдруг у прапорщика Величко.
Как ни странным казалось самому, но он хотел бы продолжить разговор с этим рабочим, обросшим нежной вьющейся бородкой, а в ответ — опять голос «дурака»:
— Гос-споди, боже мой… да разве это бунт?! Дождетесь еще. Или как понимаете?
Теперь прапорщик Величко успел заметить лицо наглеца: темные, мутные глаза, реденькие, неживые усики, скверный, землистый цвет лица с синеватыми отеками прыщиков.
Минут через пять «парламентеры» вернулись обратно.
— Проходите! — махнул рукой один из них.
Только теперь прапорщик Величко рискнул повернуться лицом к роте: солдаты тихо, но оживленно беседовали с обступившими их рабочими.
— Рота, смирно! — скомандовал он неровным голосом. — Ряды вздвой! — И — оглянувшись, успела ли расступиться у завода толпа: — Шагом арш!
Они проходили по узенькой просеке, образованной в обе стороны расступившейся толпой. Она молчаливо провожала их тысячей глаз, в которых были теперь и обыкновенное любопытство, и опасливая забота, и немой знак дружбы, и неясный тревожный вопрос.
Вниз да по речке, Вниз да по Казанке Сизый се-селезень плывет… —молодцевато и раскатисто затянул вдруг один из ротных запевал.
Ай да люли, ай да люли! Сизый се-селезень плывет! —подхватили припев несколько человек, но не каждый довел его до конца, — уста солдат были сомкнуты угрюмым, выразительным безмолвием.
— Отставить! — повернул голову назад прапорщик Величко.
На углу стоял патруль городовых. Полицейские всматривались в лица проходящих солдат с наигранным безразличием привычных стражей улицы.
На Сампсониевском полиция стояла уже целыми отрядами. Она стягивалась к воротам «Нового Лесснера»: оттуда хлынула на проспект новая толпа забастовщиков.
Прапорщик Величко мысленно перекрестился, введя свою роту во двор казармы.
Через полчаса начались события, конца которых он не мог уже видеть.
Только ли булки и коржики, пряники из патоки и маковики привлекли сегодня к деревянному забору солдат, столпившихся у каждой дыры в нем?.. Каждому хочется просунуть голову в дыру и своими собственными глазами увидеть, что происходит сейчас вблизи, в какой-нибудь сотне шагов отсюда напротив — у ворот забастовавшего завода.
— Земляк… а, земляк! Пусти хучь на минутку.
— Довольно, понагляделся! Дай другим…
— Ребята, не при!
— Легче, легче… забор повалишь, тюля!
— Тетенька, хлебца!
— Сюда, сюда, тетка…
— Да не напирай ты, слышь!
— Фараонов-то, братцы, — на все российски огороды пугалом ставить!
— Конны али пеши?
— Тетка! А шо той говорун балакав?
Каждый хочет зачерпнуть глазом кусок скрытой от него мечущейся улицы, как истомленный, мучащийся от жажды путник — набрать ковшом первую утоляющую воду.
Торговки сейчас — не только разносчицы булок и пряников, но (а это разбирается мгновенно и с благодарностью) и самых последних, неостывших уличных новостей.
Торговки вертятся в толпе забастовщиков, ловят разговоры, подхватывают долетающие до слуха выкрики быстро сменяющихся ораторов. И, наспех уложив все это в свою первую, свежую память, еще встревоженную суетой, домыслами и воображением, — набросав все это в нее впопыхах, как всякую всячину разных вещей в незакрывающийся коробок, женщины бегут обратно, к забору казармы.
— Воевать не хотят, — вон што!
— А им чего? Им не воевать… они не то, что мы!
— Балда! Темная деревня!
— Вин в политике мало що кумекае! Рабочий класс взагали против войны, — хиба ему ось це понятно?
— Опять же, конешно, с продовольствией, солдатики, не того…
— Племяша моего, Анюты-сестры Ваську, на прошлой неделе пришли ночью и взяли. Слесарем он у «Феникса»!..
— А за что, мамаша?
— За политику, видать!
— Гляди, ораторов тоже возьмут!
— А жаль, если!..
— Братцы, а почему сегодня насупротив войны кричат?
— А может, к замирению с немцем… а нам еще не сказано про то, а?
— Верно! А господа офицеры не желают про то объявление сделать, — по-вашему, как, земляки?
— За шкирку тогда ихнего брата и на цугундер прямо!
— Эх, братцы… горнизонту у вас политического нету! Кабы замиренье случилось, на что бы фараонов столько пригнали!
— И то дело!
— Горожаночка! А много фараонов?
— Да пусти ты, Быков… морда бычья!
— Солдатушки! Чтой делается, чтой делается, господи!
— Ну, ну!
— Конная полиция! А еще жандармы вышли!.. — пришло последнее известие из уст запыхавшейся старушки торговки. Бледный, с вытянутыми губами, многозубый рот ее тяжело и бессильно разжимался, как у щуки, выброшенной на берег. — Долой, кричат, войну… Не хотим, говорят, чтобы, значит, кровь у народа, как вода, шла… во что!
— Правильно, ребята!
— Кабы каждый полк постановил, и — амба!
— На Чугунной бастуют, на проспекте — два завода…
— А больше нигде, мамаша?
— Что ты, голубок! Барановского завод, говорят, тоже двинулся. «Айваз» загудел, на манифестацию.
— На демонстрацию, бабка! — поправил ее кто-то.
— Я и говорю… Такое… такое, сынок, начинается.
— Давай, бабушка, булку куплю! — словно в награду за приятное сообщение сказал один из солдат.
— На, милый, выбирай, какую хошь.
— И мне, бабуся!
— Р-расходись! — раздалось вдруг с улицы, и длинный картавый полицейский свисток побежал, приближаясь, вдоль забора.
— Фараоны! — бросились врассыпную торговки, подбиг рая с земли свои корзинки… — Фараоны… душегубы!
За первым свистком — второй, потом — третий…
— Ишь ты, разгоняют, — сказала старушка со щучьим ртом, торопливо принимая деньги от солдата. — Волки столичные… ироды царские. Тьфу!
В первый момент непонятно было, почему вдруг быстро мотнула она головой, и вслед за презрительным «тьфу» неестественно далеко сдвинулся набок ее вытянутый рот, почему вдруг выступила в углу его кровь, и старушка, качнувшись всем телом к забору, упала на землю.
— Бабаня, чего ты?.. — крикнул ее покупатель-солдат.
Он подался всем телом в пролом забора — нагибаясь, протягивая руку вниз, чтобы захватить и поднять ею упавшую женщину.
Кто-то больно ударил его по руке, — он отдернул ее и поднял голову: у самого забора, почти на том же месте, где была только что торговка, стоял, замахиваясь вынутой из ножен шашкой, рослый, румяный, с коротко подстриженными бакенбардами офицер фараон. Это он расправился кулачищем со старухой.
— Гадюка царская! Солдата бить?! Ты что, сволочь, народ невинный по мордасам лупишь?.. Ребята, братцы! — истерическим голосом закричал солдат. — Наших бьют, братцы… Фараоны бьют.
Выскочивший на крик, вместе со многими из казармы, Сергей Леонидович еще издали увидел: часть забора снесена (открылась взору улица), четверо городовых направляли револьверы в безоружных солдат, звавших товарищей на помощь.
— Наших бьют! — разнеслось по двору казармы.
— Оружье, оружье бери!
Ваулин не мог бы сказать, как точно произошло все это.
В минуту двор наполнился солдатами, в следующую — вся эта масса ринулась к забору, и, вероятно, потребовалась еще только одна минута, чтобы уже весь забор был повален, превращен в щепы!
— Долой полицию!
— Бей фараонов!
— Души его… иуду!
Один из городовых выстрелил без промаха в солдатскую толпу. И тогда в ответ грянул почти в один и тот же миг десяток солдатских винтовок.
— Бей их, фараонов, без остатка!
— Давай свободу!
— Да здравствуют солдаты и рабочие! — крикнул полной грудью Ваулин: так, что его услышали в хлынувшей навстречу солдатам лесснеровской толпе.
— Долой войну! Да здравствуют свободные солдаты!
— Да здравствуют наши братья! — неслось из рядов рабочих.
Вырытые из мостовой камни полетели в полицейских. «Иуды» «фараоны» бежали, согнувшись, отстреливаясь из маузеров, в подъезды домов, в ворота дворов, вскакивали на подножку проходившей конки, ища убежища у ее перепуганных пассажиров.
Смешавшиеся в одну толпу рабочие и солдаты овладели проспектом.
Весть о солдатском бунте в минуту дошла до бастующих заводов: с Головинского с Чугунной и с Выборгского шоссе двинулись сюда новые толпы, сметая по пути полицейские заслоны.
Два опрокинутых вагона конки превращены были тотчас в трибуны для ораторов:
— Братья-товарищи, чего мы хотим? Рабочий класс призывает к борьбе. Мы пойдем на борьбу с царским режимом, за освобождение от него, за мир! Наш враг — внутри России… Это — монархия, товарищи! Это — помещики и фабриканты! Они руками обездоленного народа ведут кровавую войну во имя своих собственных интересов.
— Правильно! Сами зад на печке греют, а ты страдай!
— Товарищи!.. С каждым днем лоскут за лоскутом спадает обманный покров, под которым враги рабочих и солдат скрывали всю правду о войне. За что кровь проливать в этой бойне?.. За что отдавать свой труд, свое здоровье, свою жизнь… а? За прибыли фабрикантов?! За земли помещиков?! За благоденствие царя и его своры?!
— Верно!
— Помаялись, хватит!
— Долой войну, товарищи! Подымай всю рабочую и крестьянскую Россию против войны! Это не наша война… Наша война впереди… с нашим классовым врагом! Долой романовскую монархию! Долой войну! Да здравствуют наши братья-солдаты! Да здравствует рабочий класс!..
И кто-то вместо речи читал молодым девическим голосом стихи:
Одетый дымом, словно тайной, Завод — грядущего залог, Преддверье в век необычайный И битв решительных пролог. В дыму, облитый потом, кровью, Кует мечи он для борьбы, Чтобы железом и любовью Разбить оковы злой судьбы!И, как и раньше, — в ответ:
— Да здравствуют рабочие Петрограда! Долой самодержавие!
Вихри враждебные веют над нами…— Товарищи! Надо поехать во все воинские части!
— Вот это дело!
— На заводы надо — работу бросали чтоб!..
— Только не расходиться, товарищи!
— Никому не расходиться!
— Цепь… цепь держать надо!
— Товарищи, я прочту вам, что пишет всем рабочим наша партия…
— Кака така партия?
— Наша…
— …давай!
— …российская социал-демократическая рабочая партия…
— Какая? Какая? Та, что в Думе?..
— Та, что в тюрьмах, товарищи! Рабочая партия большевиков!
— Дело! Валяй!
— Тише-е-е, товарищи!
— Давай, брат!
— Вот… наша партия… товарищи!.. Перед готовностью страдать за светлое царство социализма никогда не остановится русский пролетариат… Не остановится и перед ужасами настоящей войны… не остановится до тех пор, пока не проведет в жизнь свои заветные лозунги: долой войну! — согласны?
— Долой, долой войну! — неслось в ответ.
— Да здравствует вторая российская революция! Да здравствует демократическая республика!.. Согласны, товарищи?
— Ур-р-а!
— Да здравствует конфискация всех помещичьих земель! Согласны?
— Долой помещиков?
— Согласны, согласны! Давай дальше!..
— Да здравствует восьмичасовой рабочий день. Да здравствует международная солидарность и социализм, товарищи! Согласны?..
— Ур-р-р-а-а-а!
Митинг продолжался.
Пытавшихся проехать по проспекту, выкатывавших на пролетках и автомобилях с боковых улиц сразу же останавливали. Сидевших в автомобилях высаживали. Машинами завладевали солдаты.
Они мчались к казармам разбросанных по городу полков — за поддержкой, за оружием, с призывом восстать и выйти на улицу.
Их никто там не ждал. Ими никто не руководил — этими посланцами скрытого, еще отдаленного будущего…
Они стучались в ворота, в которых были еще крепки засовы сковавшей их власти, — полки не решались сломать их и протянуть, как лучшую помощь, железную руку, оснащенную винтовкой.
На Сампсониевском митинг продолжался.
— Ваше высокоблагородие, прикажите вывести учебную команду! — ждал распоряжений дежурный по штабу полка, офицер Гугушкин.
С коротким туловищем, низкой шеей и длинными, но очень кривыми ногами, он походил на громадных размеров щипцы для раскалывания сахара. Над ним подшучивали и называли между собой «поручик О». Виной — все те же кривые, дугообразные ноги, между которых можно было вставить круглую букву высотой в пол-аршина.
— О-о!.. — говорит командир полка, взглянув на него, не ко времени вспомнив шутку своих офицеров. — Н-да, не до шуток сейчас, черт побери, — и полковник Малиновский, обдумывая предложение, переспрашивает: — Учебную, говорите?
— Так точно.
— А что это даст?
«Как будто он не знает… О чем он сейчас думает, эдакий кабанище!» — пожимает плечами поручик Гугушкин.
— Шестьсот человек при оружии! Надежные люди…
— Дай бог, господин поручик… Ну — выводите! — А мне лошадь! На это быдло всегда действует, когда на лошади… заметьте, господа! Да, да. Господа офицеры, — несколько человек за мной!
И через пять минут он мелкой рысцой выехал из ворот казармы. Следом за ним торопились пешие ротные командиры. Прапорщик Величко был в их числе.
Солдаты увидели своего полкового командира: он приближался на знакомой всему полку золотисто-пегой, с белым пятном на морде, донской «касатке». Она легко несла его грузное, большое тело, крепко приросшее к седлу.
— Смирно! Солдаты, по баракам — марш! — скомандовал он хриплым, простуженным голосом.
Рот его так и оставался открытым после команды, и желтые, вперемежку с золотыми, плоские зубы свирепо оскалились под растянувшейся губой со вздернутыми до скул нафабренными усами.
— К чертовой матери — марш! — в тон полковнику крикнул кто-то в толпе, и передние ряды ее колыхнулись серо-черной волной ему навстречу.
Полковник Малиновский оглянулся на своих офицеров, те — на ворота казармы: слава богу, поручик Гугушкин ведет по двору первый отряд стрелков… Сквозь колесо его изогнутых ног видны порыжевшие сапоги шагающего ему в затылок солдата.
— Построиться! — захрипел Малиновский. — Смирно! А не то свинцом поглажу! Зачинщиков выдать!.. Я вас, сукиных сынов!.. — И он привстал на стременах, погрозив в толпу кулаком.
— По господину полковнику — пли! — командовали в ее первых рядах.
— Спокойствие, товарищи! — останавливал оттуда же предостерегающий голос.
— Отставить!
Но этот выкрик опоздал: несколько булыжников полетело в грузную, высокую мишень. Один из них раздробил полковнику подбородок, другой сбил фуражку, обнажив его плешивую голову, третий попал в грудь «Касатки», и она заметалась, став на дыбы, сбрасывая с себя оглушенного ударом седока.
Она успокоилась тотчас же, как только кто-то крепко схватил ее за уздцы и отвел в сторону, похлопывая по шее.
И ей не оглянуться было на своего хозяина… Десятки рук с остервенением стащили его с седла, и через минуту тяжелое, избитое тело командира полка упало, подброшенное вверх, в наполненную водой канаву, тянувшуюся вдоль всего проспекта.
— За мной! — закричал офицерам прапорщик Величко, размахивая револьвером.
— За мной! — орал бежавший впереди стрелков Гугушкин.
Увидя их, головные из толпы бегом повернули назад — на соединение с ней. Да и вся толпа отхлынула, прижимаясь к стенкам Домов, заполнив пустыри кое-где между ними, и потекла густой, спотыкающейся массой по проспекту.
— Не бойсь… остановись!
— Цепь… цепь давай!
— Спокойствие, товарищи!
— Братцы, стрелять будем, если что!..
— Станови-и-и-ись! — боролись с минутной паникой несколько голосов.
Солдат с оружием выталкивали, пропускали вперед. Они выстраивались отдельными цепочками, брали ружья наперевес, продвигались вперед, оглядываясь все время на толпу. Они не знали, однако, что точно надо делать, кому в толпе подчиняться. Им не хватало руководителей, начальников.
У опрокинутых вагонов конки шла рабочая «летучка». Решено было не расходиться, ждать возвращения солдат, посланных в полки. Восстание первой казармы сулило надежды на еще большее: на выступление хотя бы части столичного гарнизона в защиту взбунтовавшегося полка. Что за этим должно было следовать — о том никто в тот момент не думал.
— К бою готовьсь! — командовал поручик Гугушкин.
Стрелки остановились на месте снесенного забора, вполоборота направо — лицом к попятившейся толпе.
— Ребята, не стреляй! — понеслось оттуда.
— Братцы, в кого?! В своих, братцы?!
— Да здравствуют солдаты!
— Долой фараонов!
— По шеям полицию, братцы!..
— Козло-о-ов! Пе-е-етя!.. Я тута… земляк твой — Ягор… Брось, Пе-е-етя! — орал кто-то из мятежников-солдат одному из приятелей-стрелков в первом ряду.
— Да здравствует союз рабочих и крестьян-солдат! — полон был крику проспект.
— Слу-ушать кома-анду! — понесся в толпу протяжный голос поручика Гугушкина. — По отделе-е-ениям! Сми-и-и-ирно!
Откуда-то из-за угла появился отряд конных городовых и, вихрем проскакав навстречу поручику, погнал перед собой, отрезав ее от основной массы, толпу человек в двести: солдат, рабочих, женщин, случайных прохожих, застрявших на проспекте, затесавшихся тут же ребятишек.
— Иуды!
— Псы!
Прапорщик Величко, стоявший теперь рядом с Гугушкиным, видел, как падали наземь сбитые с ног, как все бежавшие, толкая друг друга, закрывали руками свои головы, опасаясь удара полицейской шашки.
Совсем недалеко от себя, на крылечке зеленого двухэтажного домика с отвалившейся наполовину ржавой водосточной трубой, он заметил вдруг в кучке людей землистое, угреватое лицо с реденькими, неживыми усиками. Это был тот самый примелькавшийся час назад человек, «бунтовавший» у ворот «Парвиайнена».
«Дрянь зеленая! Подстрекатель, хам!.. Мутит всюду… — уже стерег его жестким взглядом прапорщик Величко. — Погоди, дрянь, я тебя первого!..»
— Козло-о-о-ов!.. Пе-е-е-етя! Не смей, слышь!.. — надрывался все тот же голос, вырываясь из общего шума.
— Р-р-расходи-и-и-ись! — дал знать о себе полицейский пристав. Он приставил рупором ко рту короткие руки в белых нитяных перчатках. — Очищай улицу!
— Сми-и-ирно! — старался перекрыть его поручик Гугушкин. — Солда-а-ты сто восемьдесят перво-ого полка-а-а, ко мне-е ша-агом ма-арш!..
Из толпы, отрезанной полицией, неуверенно, друг друга отыскивая глазами по одинаковым серым шинелям или светло-зеленым гимнастеркам, вышли на мостовую человек двадцать пять — тридцать и, потоптавшись на одном месте, выстроились в две шеренги.
— Принять! — кивнул Гугушкин одному из младших офицеров.
— Я! — козырнул прапорщик Величко.
Он пересек мостовую, быстро шагая к выстроившимся шеренгам. Идя, он смотрел не на солдат, а на стоявшего позади них, застывшего на крылечке мертвоусого человека. Приближаясь, Величко встретился вдруг с его темными бегающими глазами: они устремлены были сейчас на офицера, и ни на кого больше, — они фамильярно подмигивали ему, голова поддакивающе кивала, а губы, быстро, беззвучно, словно что-то подсказывали.
— А, сволочь, перепугался? — вслух подумал прапорщик Величко. — Все вы такие — рабы! Погоди ты у меня!..
— Р-р-расходи-и-ись! — не унимался пристав и, махнув шашкой, повел свой отряд к центру толпы.
— Спасайсь! — дрогнули ее ряды.
— Ни с места, товарищи! — кричали в ответ. — Долой опричников!
— Вон полицию!
— Долой убийц народа!
— Стреляйте, гады… а ну, стреляйте в народ! — взвились женские голоса.
Поручик Гугушкин хотел остановить полицейских конников: они срывали, думал, его собственные распоряжения. Какое дело до забастовщиков?! Важно было отделить от них солдат и загнать их в казарму.
— Господин пристав, отставить! — И он громко выругался площадной бранью. — Назад!
Но было уже поздно: ретивый пристав отделился от своего отряда и врезался, не сдержав коня, в толпу. И тогда второй раз она ответила залпом солдатских винтовок и рабочих «бульдогов».
Никто даже не запомнил лица убитого пристава.
От неожиданности конный отряд врассыпную повернул назад. Испуганные лошади шарахнулись на панели, давя и увеча народ.
— Батальон, пли! — скомандовал поручик Гугушкин и сверху вниз бросил приказом свою длинную руку.
На мгновенье он зажмурил глаза, ожидая услышать сейчас грохот карающих выстрелов. И… по упавшему скупому звуку понял: выполнили команду человек пять всего!
— О-ох! — застонал проспект.
— Солдаты! В кого стреляете… братья!
— Пе-е-етя, черт прокля-яты-ый!
— Пли!
Ни звука справа. «Ах, даже те пять человек тоже?!»
— Пли! — выбросил вперед руку поручик Гугушкин.
Но опять: молчат винтовки, и ревет ликующая толпа.
— Ур-ра! Ур-р-р-ра-а-а!
— Да здравствуют наши братья солдаты!
— Не отдадим свободу!
— Долой войну! Да здравствует мир!
Поручик Гугушкин, подбежав к стрелкам, снатужив свои впалые глаза, прыгая, спотыкаясь перед солдатским рядом, заглядывая в низко опущенные лица «своих» людей.
— Что ж ты, — а?.. Что же вы… бунт?! Как же так, — а?.. Да я тебя, козел вонючий!
— Ну, ну! — угрюмо, сквозь зубы, отозвался стрелок, и поручик Гугушкин уже ничего не ответил на эту прямую угрозу.
Полицейские попытались было возобновить наступление на толпу, но, увидя, что шестьсот стрелков поручика Гугушкина отказались стрелять и теперь повернули винтовки в противоположную сторону, — отступили к переулкам, дожидаясь подкрепления.
Оно скоро прибыло.
— Казаки! Казаки! — пронеслось по толпе, надвинувшейся было до самых казарм.
Казаки сменили галоп на дробь мелко отбиваемой рыси, а доехав до ворот восставшего полка, — и совсем остановились, закупорив проспект. Командир сотни спешился и пошел навстречу Гугушкину.
Четверо полицейских, сбиваясь в шаге от тяжести, проносили на носилках тело убитого полковника Малиновского. Казачий офицер поморщился:
— Такой атлет… а? — И уже другим тоном: — Давайте отбой, господин поручик. Пока ваши истуканы стоят тут с ружьями, я ни одного казака не пущу в дело.
— Как понимать вас?
— А очень просто. Не хватало еще, чтобы войска его величества вступили в бой друг с другом. Не хватало еще!
— А если?.. — сумрачно размышлял вслух Гугушкин.
— Что — если? Если не захотят идти в казармы, — да?
Гугушкин кивнул головой.
— Ах, вот что? — широко усмехнулся казачий офицер, и на его круглом, свежевыбритом розовом лице просверлились одновременно три смешливых ямочки на щеках и на подбородке. — Это верно: нельзя идти против течения. Такова должна быть мудрость всякого правителя. Но знаете, как несущийся табун останавливают? Вот у нас, в задонских степях:… Когда табун несется, — горе тому, кто задумает переть ему напротив! Это обезумевшее в буквальном смысле стадо! Нужно впереди скакать и затем вести за собой.
— То есть?
— То есть вам надо, господин поручик, стать во главе ваших стрелков, покуда они не понеслись еще табуном мятежников, и отвести их в казармы. Если я сейчас начну действовать, — через пять минут они будут у меня в тылу и одним залпом повалят всех моих людей… вот что, господин поручик! Я вижу, с кем имею дело. Давайте, давайте отбой… Да вы не упорствуйте! В противном случае я поверну коней обратно, и ответственность потом будете нести вы. Подальше от греха!
Поручик Гугушкин поспешно отвел своих стрелков. И — правда (он был рад потом в душе): «подальше от греха».
Рабочих атаковали оттуда, откуда они не ждали нападения: с тыла, со стороны моста и складов Финляндской железной дороги выскочила вторая казачья сотня. Народ бросился в переулки, и от хвоста до передних рядов толпы по заполненному людьми Сампсониевскому прошла длинная, быстрая судорога смятения и паники.
Сдавленные с обеих сторон солдаты, бросая винтовки, выбирались из толпы, устремлялись к казарме, ища теперь в ней приюта и защиты.
Сопротивление толпы было сломлено. К тому же люди чересчур долго топтались на узком пространстве проспекта, утратив первоначальную цель свою и не в силах найти — хотя и получили неожиданное подкрепление со стороны восставших солдат — пути для достижения новой цели, к которой, однако, еще не были подготовлены.
Посланцы на автомобилях возвращались с пустыми руками. Толпа забастовщиков таяла с каждой минутой.
Казачий офицер, сопровождавший Гугушкина, был доволен: все обошлось без единого выстрела с его стороны! А что в том, в другом конце Сампсониевского хорунжий Попов нещадно полосует сейчас людей нагайками, — так это его «личное глупое дело». «Казаков по нынешним временам не следует тоже сильно гнуть против народа», — думал осторожный офицер. И еще неизвестно, кто больше выиграет в глазах казаков: он или хорунжий Попов. «Кто прост — тому коровий хвост, а кто хитер — тому весь бобер!» — улыбался он про себя.
Но тут произошло то, что омрачило несколько благодушное настроение казачьего офицера.
— Куда?! — закричал он, услышав быстрый цокот подков. — Кто приказал?..
Приказал пристав.
Конный отряд городовых, стоявший в переулке, позади казачьей сотни, лихо выскочил теперь на Сампсониевский и понесся на остатки толпы. Пристав в круглой и светлой барашковой шапке, с монгольскими, падающими на короткую квадратную бородку прямоугольными черными усами мчался впереди. Лицо его было свирепо. Может быть, это было еще и потому, что он был страшно кос — как легендарный Соловей-разбойник: одним глазом на Киев, другим глядел на Чернигов!
— Вы у меня, подлецы-архаровцы! — орал он. — Порядок нарушать?! Прокламации немецкие, — а? А вот это хочешь, а вот это хочешь?! — гудела в его руках нагайка. — Марш по домам!
— Во… шакалы! А где раньше были? — презрительно бормотал казачий офицер, оставаясь на месте.
…Опасаясь быть раздавленным налетевшей полицией, прапорщик Величко вместе с кучкой застрявших на мостовой солдат подался к панели, к деревьям, заслонявшим двухэтажный домик с отвалившейся водосточной трубой. В руках он держал револьвер, и люди, с криком и стоном спасавшиеся от полицейских лошадей, с не меньшим страхом отводили свои головы от наставленного на них дула офицерского нагана.
— Осторожно! Ну, чего вы… осторожно!
— Убьет, креста на вас нет! — слышал он вокруг себя.
Он хотел уже спрятать оружие в кобуру, но знакомый выкрик изменил мгновенно его намерение:
— Рабочий класс обижают… Бей фараонов!
— Не слушай провокацию… спасайсь! — кричали тут же в ответ.
Прапорщик Величко бросился на столкнувшиеся в крике голоса и опять увидел пренеприятного человека с Чугунной улицы.
«Подстрекает, а сам стрекача!.. Наверно, он подстрекает! — мелькнуло в голове Величко, и он погнался за улепетывавшим во двор примелькавшимся сегодня человеком. — Уж этого обязательно арестовать надо!»
Беглец, не видя погони за собой, остановился и — тогда увидел вдруг бежавшего на него офицера с наганом в руке.
— Стой! Ни с места! Стрелять буду!
В этот момент кто-то в давке толкнул прапорщика Величко в бок, другой — подставил ему ногу, и он упал наземь.
Он вскочил и, видя перед собой спину убегающего «подстрекателя», уже не владея собой, мстя за удар, выстрелил.
Инстинктивно он хотел обернуться: может быть, распознать в толпе обидчиков, но что-то тяжелое, как железный лом, хлопнуло его по затылку, и с неожиданным коротким криком «ма-ма!» прапорщик Величко повалился на мокрую глинистую землю двора.
Через десять минут, когда дворник и городовой втаскивали его мертвое тело в сторожку, во дворе не осталось уже ни одного свидетеля этого происшествия. А тот, кто был ранен в плечо выстрелом прапорщика Величко и сидел теперь бледный, стонущий от боли тут же, в сторожке, дожидаясь отправки в больницу, — тот действительно ничего не мог показать точно, так как не знал, не мог видеть, кто именно из толпы убил господина офицера.
Полиция и казаки очищали Сампсониевский проспект от «бунтовщиков». В казармах 181-го запасного пехотного полка шла, вне обычных дневных сроков, перекличка солдат.
Ни того, ни другого свидетелем Ваулин не был. Он давно уже кружил далеко от этих мест, стоял на площадке прицепного трамвайного вагона, все еще не решаясь пойти прямым путем туда, куда должен был явиться.
Здесь, в трамвае только, он заметил вдруг, что из кармана высовывается предательски большая солдатская ложка. И, чтобы выбросить ее незаметно, он вышел на первой же остановке.
Не знал Ваулин и о том, что через два дня в казарме полка взяли для какой-то цели на особый учет тех, кто был, до службы в армии, шофером. Таких набралось сорок семь человек.
Через день их всех расстреляли: это они ведь правили захваченными машинами, отправленными «бунтовщиками» в другие полки…
О дальнейшем ходе событий в столице князь Всеволод Шаховской докладывал царю так:
«В течение следующего дня забастовочное движение расширилось, и к вечеру этого дня число прекративших работу доходило до 36–37 тысяч.
19 октября наблюдалось дальнейшее расширение забастовки, которая захватила крупнейшие металлообрабатывающие заводы, расположенные на Выборгской стороне, В этот день общее количество забастовщиков составляло около 65 тысяч человек.
20 октября наступило резкое понижение стачечного движения, и, наконец, 21-го все предприятия возобновили работу».
Причины «резкого снижения стачечного движения» князь не знал, как не знал он обращения Петроградского Комитета к рабочим:
«Каждый день приближает грозу на головы правительства и правящих классов, — писали члены ПК. — Недостаток необходимейших продуктов продовольствия, хищничество заправил, ворох бумажных денег, расстройство путей сообщения — все шире охватывает Россию.
Так пусть же грядущий час народного суда застанет наши ряды сомкнутыми и готовыми к длительной и стойкой борьбе…
Возвращайтесь теперь к станкам, с тем чтобы всеобщей стачкой в союзе с армией повести повседневный штурм за свержение самодержавия, за установление демократической республики, восьмичасового рабочего дня, за конфискацию помещичьих земель. Да здравствует социализм!»
Встреча была мало приятной для обоих. Заехав в больницу проведать своего Лепорелло, Губонин застал Кандушу растерянным, всхлипывающим от боли, хотя пуля из плеча была уже вынута.
Губонин пожалел его.
А ведь так нужно было хорошенько пробрать его за неосторожные действия! (Вячеслав Сигизмундович все еще думал о разговоре своем с генерал-майором Глобусовым…)
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ «Мы все здесь монархисты…»
На следующий день после описанных событий позвонил по телефону Родзянко: спросил Льва Павловича.
Карабаева не было дома. Узнав, что с ним говорит жена депутата, Софья Даниловна, председатель Думы, выдержав недолгую паузу раздумья, пробасил в трубку свою просьбу: завтра к девяти вечера он ждет у себя на квартире Льва Павловича. Будут еще — он назвал несколько широко известных депутатских фамилий. А кроме того (и это, конечно, подлежит секрету — сама уже поняла Софья Даниловна) — министр внутренних дел Протопопов.
Никто из чужих не мог бы подумать и предположить, почему это последнее известие взволновало так радостно Софью Даниловну.
Сидя в кресле мужа за его письменным столом, положив уже слуховую трубку на аппарат, она минуту не отрывала взора от телефона, как будто ждала вот-вот продолжения разговора, нового звонка.
Да, да, это прекрасный счастливый случай для мужа, для Левушки, сделать то, что признавал не совсем удобным делать в обычном порядке.
Но так ли это невозможно в конце концов?
Разве просьба к министру так уж обяжет ко многому Левушку? Что ж из того, что они теперь политические враги — господи, да Иришу-то надо спасать?!. (Софья Даниловна «с сердцем» передвинула на мужнем столе пепельницу и закусила до боли нижнюю губу.)
Как спасать дочь — этому были посвящены все разговоры вчерашнего дня: с того момента, как позвонил по телефону какой-то неизвестный полицейский чиновник и сообщил о задержании Ириши. А ночь до того была бессонной, полной догадок и тревоги.
Усталый и довольный своей работой за письменным столом, Лев Павлович вошел тихо в спальню, стараясь не разбудить жену. Но она не спала. На ночном столике горела лампочка внутри глубоко охватившего ее сделанного фонариком синего абажура. Было уютно, как всегда.
— Который час? — спросила Софья Даниловна, приподнявшись на кровати.
— Десять второго. А что?
— Я думала, мои спешат. Ириши нет дома… так поздно!
— А где она? — заинтересовался Лов Павлович и, словно проверяя, не ошибся ли, вновь посмотрел на свои часы, кладя их на столик рядом с жениными.
— Я не знаю, Левушка. Меня это беспокоит.
Он разделся, — накинул на себя пижаму и пошел мыться в ванную. Но он возвратился раньше обычного — с полотенцем в руках, утирая им по дороге мокрое лицо.
— Может быть, она задержалась, Соня, после театра? Или, может быть, она собиралась куда-нибудь в гости?
— Нет, нет!.. Она говорила мне, что весь вечер будет дома. Но, возможно, она действительно ушла в театр… я уже думала, Левушка.
Но через полчаса эта догадка уже и не всплывала: ясно было — двери театров давно уже закрыты.
Может быть, Ириша у кого-нибудь на вечеринке? Но тогда она предупредила бы о том по телефону. А если эта вечеринка происходит на какой-нибудь студенческой квартире, где нет телефона? — высказал предположение Лев Павлович. — Хорошо, но разве можно волновать так отца и мать? О нет, с Ириной серьезно надо будет потолковать! Очень серьезно.
Но и единственная утешительная догадка — о вечеринке — была опровергнута неумолимым вращением часовой стрелки: набежало уже три часа, а Ириша все еще не возвращалась. Было от чего волноваться: с ней это никогда не случалось.
— Ложись, Левушка, я дождусь ее, — сказала Софья Даниловна, но он, конечно же, отверг этот женин совет.
Они оба боялись сообщить друг другу еще одну догадку, хотя каждый из них думал о ней про себя: говорят, идут аресты среди студенческой молодежи!.. (Лев Павлович вспомнил теперь, как рылся на даче в Иришиных тетрадях и что нашел в них.)
«А если несчастье: попала под трамвай, автомобиль? Или извозчик какой-нибудь наехал?»
Содрогаясь от этой мысли, он ясно видел уже, как налетел вдруг где-то на углу, пьяный извозчик на его Иришу, как концом оглобли ударило ее в висок (почему-то именно так назойливо все рисовалось!), и она упала без сознания, а потом ее увезли в приемный покой какой-либо больницы… Ох, жива ли его родная девочка? Только бы она была жива и невредима, все остальное менее тяжко для его любящего отцовского сердца!
О том, что могло приключиться какое-либо несчастье, он не рисковал говорить Софье Даниловне, а предположить вслух, что его дочь могли арестовать, — он почему-то не решался.
Если это случилось, — мелькало в голове — значит, есть какая-то вина в том и его и Сони, а огорчать сейчас жену ему не хотелось. Скажет: «Вот видишь, я не доглядела!» А объяснить ей, что на нем, отце, лежит в этом случае наибольшая вина, то есть рассказать ей уже обо всей истории на даче, считал и раньше ненужным, а сейчас — и подавно.
Он не знал, однако, что многие вещи ей также стали известны, с той только разницей, что Софья Даниловна ознакомилась тайком с частью Иришиного дневника уже здесь, на городской квартире, но боялась сознаться в своем поступке мужу, ожидая его осуждения… К тому же, как удалось ей проверить в другой раз, новых записей в Иришиной тетради почти уже не было, а те, что и появлялись, не усугубляли материнской тревоги.
За долгие годы совместной жизни у каждого из них родилась маленькая тайна друг от друга, и как легко стало бы тогда, в длинные часы ожидания, если бы они узнали, что она одна и та же!
Они перешли в кабинет — угловую комнату квартиры, где можно было, никого не тревожа, громко разговаривать и где находился телефон: а вдруг позвонят… позвонят, несмотря на такой поздний ночной час?
Им обоим не хотелось, чтобы, проснувшись, Юрка или прислуга Клавдия заметили, что они, хозяева дома, не спят, что случилось в семье что-то необычайное; чтобы никто не знал, что их дочь не ночует сегодня на своей кровати. Не надо этого!
И каждый из них — и Карабаев и Софья Даниловна — решали в отдельности: если выяснится, что Ириша арестована, то и тогда не следует никому знать об этом. Можно будет придумать причину ее отсутствия, а если дело затянется и через день-другой Ириша не вернется домой, тогда… Но как потечет тогда жизнь всей семьи, — боже, боже, даже не хочется, не в силах каждый из них об этом страшном думать сейчас!
Тут же, в кабинете, Софья Даниловна сварила на спиртовке кофе, и они оба пили его, сидя друг против друга в глубоких кожаных креслах, и, как всегда, она аккуратно намазывала себе и ему хлеб маслом и, — в особой заботе о муже, — наклонившись к нему, снимала салфеткой с его усов и бороды застрявшие в них крошки.
Он был печален и молчалив. Она накинула на его плечи свой плед, заставила вытянуть ноги и положить их на свое пододвинутое к нему кресло:
— Тебе будет так удобней, Ловушка. Боже мой, что она с тобой делает!..
Откинувшись всем корпусом на спинку кресла, он дремал, не в силах бороться, с усталостью и сном. Он знал, что впереди, завтра — его день забот, действий, решений, и этим он отблагодарит жену.
К рассвету они перебрались в спальню. Короткий утренний сон у обоих был беспокоен и неровен.
— Я спал только верхней частью сознания, — сказал Лев Павлович, вставая. — Понимаешь, как будто спит только тоненький слой покрова в мозгу, а весь он продолжает работать, думать. Сновидения толпятся в нем, но это уже и не сновидения вовсе, а реальные мысли о реальных обстоятельствах. Конечно же, все об Ирише!.. Ах, боже мой, боже мой…
И Софья Даниловна очень хорошо поняла его.
…Утром, после того как звонил полицейский чиновник, сообщивший о задержании Ириши, Лев Павлович, обрадованный и в то же время огорченный первым известием о дочери, отправился немедля к тому, кто мог объяснить ему все, кто волен был освободить ее из-под ареста. Визит к генерал-майору Глобусову был мало приятен Льву Павловичу, но — что поделать? — это был кратчайший путь к желанной цели.
В приемной молодой человек с русыми завитыми волосами, откинутыми в обе стороны широким пробором посередине, осведомился, как доложить. Лев Павлович назвал свою фамилию — добавил, что заехал сюда по срочному делу.
— У нас все дела срочные. Такая уж у нас служба, — улыбнулся заячий рот чиновника.
Он пошел докладывать и пропал минут на пятнадцать, показавшихся Карабаеву целым часом. Прошло еще минут десять после его возвращения в приемную, и Льва Павловича попросили к генералу.
Глобусов встретил его, привстав с кресла, и жестом предложил сесть у стола.
— Чем могу служить? Впрочем, я, конечно, догадываюсь, — вкрадчиво и предупредительно смотрели на Льва Павловича темные с густой поволокой глаза генерал-майора.
— Я хочу знать все о моей дочери, господин генерал.
— Я позволил себе задержать вас в приемной с той же целью. Я потребовал все сведения и ознакомился с ними.
— Ну, и что же вы мне скажете?
— Расследование будет вестись очень, очень быстро.
— И это все? — не мог скрыть своего раздражения Лев Павлович.
«Будет вестись очень быстро… Значит — сегодня, сейчас Иришу еще не выпустят? Что же она сделала такого? И сколько может продлиться арест?» — хмуро смотрел он на учтивого начальника охранки.
Он был взволнован и зол, ему хотелось наговорить генерал-майору грубостей, оскорбить его, но он, по вполне понятным причинам, сдержал себя. Он обнаруживал свое негодование лишь тем, что угрюмо стянул свои густые брови и барабанил мелкой, нервной дробью пальцами по генерал-майорскому столу. Ему хотелось, чтобы эта бестактность на официальном приеме была воспринята как угроза! Но генерал-майор смотрел на его барабанящие пальцы и улыбался: всякий родитель имеет право нервничать.
И, кратко рассказав, при каких обстоятельствах была задержана «курсистка Карабаева», генерал-майор тихо, сочувственно вздохнул:
— Не вспоив, не вскормив — не сделаешь себе врага. Так-то всегда в жизни, Лев Павлович! (Может быть, ему вспомнился сейчас Губонин?)
— Что вы хотите этим сказать? — насторожился Карабаев. — Моя дочь не может быть мне врагом. Так же, как и я ей, генерал!
Лев Павлович не знал глобусовской любви к литературным цитатам, и потому строка из Гете в устах начальника царской охранки немало удивила его:
— О, какое заблуждение! Du glaubst zu schieben, und wirst geschoben. Ты думаешь, что двигаешь, между тем — тебя двигают самого… Вас двигают самого к этой вражде — время, желания, обстоятельства, среда, — вот какие дела, Лев Павлович!
— Вы берете на себя слишком много, утверждая это в отношении моей семьи! — обиделся Карабаев.
— К сожалению, я имею на это данные. Я поставил вас в известность минуту назад.
— И в ваших «данных», генерал, я не вижу никакого преступления моей дочери. Все построено на какой-то нелепой случайности… на каком-то совпадении фактов, — дрогнувшим голосом сказал Лев Павлович и снял руку со стола, чтобы уже больше не барабанить по нему пальцами. — Я полагаю, что вы должны со мной согласиться… Моя дочь (он сделал ударение на слове «моя», и Глобусов изобразил полное внимание на своем лице)… моя дочь ничего общего не может иметь с теми темными людьми, о которых вы мне говорили.
— Не должна — это было бы весьма желательно. Но боюсь, что имеет!..
— Сердце отца имеет доводы, которых не может знать разум чужих людей. Разум и ваша подозрительность, генерал! — стараясь быть мягким, ответил Лев Павлович. — Моя Ириша совершенно непричастна…
Это была с его стороны та «святая ложь», в которую он и сам хотел бы поверить.
— Учтите, генерал: с вами говорит сейчас отец, только отец, а не член законодательной русской палаты, который мог бы, понимаете… мог бы, конечно…
Он вдруг почувствовал свою ошибку, предательскую ошибку тона, каким заговорил теперь с врагом своим, и, кляня в душе самого себя: «Разнежничался, упрашиваю, как рядовой обыватель, еще подумает, подлец, что пресмыкаюсь!» — Лев Павлович искусственно — ворчливо и глухо — кашлянул несколько раз горлом и встал с кресла.
Тотчас же поднялся и Глобусов, и Льву Павловичу стало почему-то приятно сейчас увидеть, что генерал-майор заметно ниже его ростом и как-то тревожно, совсем как простые бабы, чем-то перепуганные, держит руки на тяжелом животе.
— Поверьте, я приложу все меры к тому, чтобы моя дочь была как можно скорей на свободе! — снова сошлись у переносицы густые карабаевские брови.
— Одну минуточку, Лев Павлович! — задержал его жестом генерал-майор Глобусов. — Скажите, пожалуйста, вы лишились прислуги, и ваша жена ищет другую? — неожиданно спросил он.
Карабаевские брови изобразили искреннее удивление:
— Я вас не понимаю, генерал. О чем вы говорите?
— Кажется, — ясно?
— Никого мы не лишались, кроме дочери, — проворчал Лев Павлович. — И то, убежден, на день-другой только… И никого не собираемся лишаться. Я, право, не понимаю вас! Или, может быть, наша прислуга тоже числится у вас в «революционерах» и «подпольщиках»?
— Благодарю вас за справку, — чуть насмешливо улыбнулся Глобусов. — Она прямо противоположна тому, что изволила показать на допросе ваша дочь.
— То есть? — взволнованно шагнул к нему Лев Павлович.
— Всегда к вашим услугам! — поклоном напомаженной головы простился с ним генерал-майор.
* * *
Весь этот месяц шли совещания бюро «прогрессивного блока»; первого ноября возобновлялась сессия Думы, и «оппозиционные» партии готовились к встрече с правительством Штюрмера.
Нечего и говорить, что Лев Павлович был всегдашним, непременным участником этих совещаний, а два из них состоялись у него на квартире. Последнее — не так давно: всего лишь пять дней назад.
…Молодой — под сорок — помещик и граф, земец Полтавской губернии Капнист разводил руками и вопросительно переводил глаза то на знаменитого кадетского профессора-лидера, то на длинноусого, светлоглазого, с холодным взглядом монархиста Шульгина, отдавая тем равную дань заискивающей почтительности обоим признанным руководителям думского «блока».
— Что действительно ставить в первом заседании? — суетливо говорил он. — Ну, хорошо, — выборы президиума. А потом? Выступление блока? А затем — фракций? Или, может быть, волостное земство? Продовольственный вопрос? Немецкое засилье?
Сидя в кресле, он ежеминутно подтягивал на коленях свои черные брюки, боясь смять на них безукоризненно отглаженную складку, и руку с папиросой держал далеко от себя, сбоку, опасаясь уронить случайно пепел на свой костюм.
В дневник свой Лев Павлович занес:
«Ефремов: Нельзя перейти к мирной законодательной работе. Такой же точки зрения держится и Александр Иванович (Коновалов). Надо поднять вопрос в виде законопроекта о создании парламентской контрольной комиссии над внешней политикой. Не разменялись бы мы на мелочи, господа! К большой программе сейчас до изменения состава правительства — не подходить!
В. А. Маклаков (Ефремову): Как вы совмещаете веру в ответственное министерство, если не хотите давать советов в сфере исполнительной? Нам больше по плечу министерство доверия.
Милюков: Правильно! Иначе будущий историк скажет, что законодательство остановилось… Разнобой в Думе, боюсь скомпрометировать парламентаризм. Если хотим идти до конца, надо говорить больше, чем об ответственном министерстве. Но об этом мы говорить не будем.
Я: Всюду своекорыстные интересы. Нам не дают денег, и соглашение с Англией об этом не подписано.
Савенко: Ознакомьте нас с документами, Лев Павлович.
Я: Извольте, я это сделаю потом… Потери страны огромны. Над нашей новой союзницей Румынией — призрак Сербии. После объявления Румынией войны — все те же две одноколейные ветки. Два года побуждали Румынию выступить, но наше положение там хуже теперь, чем тогда, когда Румыния была нейтральна. Запас хлеба в армии истощается, дороги разрушены, произвол и растерянность власти. Протопопов — человек с гнилым сердцем — холопствует, как никакой бюрократ.
Шульгин: Царь берет его за руку, и он принимает запах царя. Вокруг трона никудышники и подстеночные люди!»
«Все оживленно реагируют на слова Василия Витальевича»— такова была ремарка в этом месте карабаевского дневника.
Карабаевский кот, Кифа Мокиевич, бесшумно прыгнул на колени сидевшего на диване знаменитого думского депутата и рыцаря русской монархии. От неожиданности Шульгин вздрогнул, но тотчас же привлек к себе мурлыкающего кота и, уже глядя только на него, засматривая пристально в его сузившиеся, неуловимые зрачки, говорил, обращаясь как будто только к этому маленькому зверьку и ни к кому больше:
— Подумать, подумать надо… — почти театральным шепотом звучал его голос. — Разве это не оскорбление всех нас? Разве не величайшее пренебрежение ко всей нации и, в особенности, к нам, монархистам, это «приятие» Распутина?.. Невольно в самые преданные, самые верноподданные сердца, у которых почитание престола — шестое чувство, невольно и неизбежно… проникает отрава.
— Царь и родина стали в противоречие друг с другом, — продолжал Шульгин. — Наше положение трагично. Мы избрали путь парламентской борьбы вместо баррикад. Весь вопрос в том: что мы — сдерживаем или разжигаем. Мне всегда казалось, что сдерживаем. Мы такая цепь, знаете, когда солдаты берутся за руки. Конечно, нас толкают в спину, и если бы мы, не сдерживали, толпа давно прорвалась бы. Будем надеяться, что додержимся и спасем царя и родину.
И так же неожиданно, как привлек к себе мягкого теплого кота, он обеими руками сбросил его на ковер.
Никто не знал, как терпеть он не мог кошек, как всю жизнь избегал прикасаться к этим животным!
И, может быть, потому, что сам чем-то — своим характером — был похож на них?
Ему было известно, что кой-кто из «левых» сравнивает его, Шульгина, с виконтом Фаллу, вдохновителем июньских дней 48 года во Франции, — и в душе он не отрицал сходства своего со знаменитым католиком и роялистом.
Это был анжуйский (в данном случае — волынский) дворянин тонкого ума, выдержанной воли и с кошачьим характером, идущий бесшумными шагами к цели, которую он себе тайно наметил. Красноречие Фаллу — совершенно медовое на поверхности, хотя бы внутри оно было полно желчи. Гладким и спокойным тоном светского человека он нападает на своих противников с корректной жестокостью. Он опутывает их выражениями мягкими, вежливыми, почти ласкающими, из которых выступают, когда этого меньше всего ожидаешь, отточенные когти. Он остается всегда спокойным, улыбающимся, неуязвимым.
…Лев Павлович записывал:
«Маклаков: Сейчас необходимо, чтобы у руля государственной власти встали разумные люди… Предложим текст австрийской конституции. Это — из источников вполне консервативных.
Крупенский: Не выйдет, боюсь, господа. Коротки ноги у миноги под небо лезть! Или действительно хотите революции?
Годнев: Надо не революцию, упаси бог, а резолюцию о нашем отношении.
Милюков: Надо попытаться найти общую правду, смотреть на будущую нашу декларацию в Думе как на увертюру общих действий, общей воли.
Я: Основной порок нашего управления вскрывается наглядно. Порок режима открылся под ударами войны. Страна накануне порывов к самосуду. Надо в Думе публично сказать: «Берегитесь измены!» Надо правду сказать.
Крупенский: Договорились! Правду каждый понимает по-своему. Правда Льва Павловича или, например, грузина Чхеидзе — для меня не правда. Чистая правда может быть только групповая. Мы сошлись в «блоке» только на уступках. Может быть, кто-нибудь хочет теперь революции?
Шульгин: Так как мы не собираемся на баррикады, то нечего подзуживать и других. Дума должна быть клапаном, выпускающим пары, а не создающим их. В этом смысл всех наших дальнейших действий.
Стемпковский: Боюсь излишним нашим спокойствием дать стране опередить нас. Надо устроить закрытое заседание Думы и обратиться к короне.
Капнист: Думу распустят, начнутся мрачные репрессалии. А вдруг — революция? Всяко может.
Я: Что касается революции — я большой скептик. Не верю, что сепаратный мир Штюрмера — Протопопова вызовет ее. Масса усталых людей скажет: «Дайте выспаться, вымыться, поесть».
Шидловский (председатель совещания): Снизу говорят: «кричи!» — а иногда нужно помолчать. Общественные организации окажут большую услугу, если не будут требовать применения форм, которые издали кажутся наиболее действенными. Правительство думает, что мы делаем революцию, а мы ее предупреждаем. Штурмом ничего не достигнем. Иначе мы будем не решающей силой, а одним из факторов; другим будет улица. Мы не пойдем на вызов масс».
Никто не возражал тогда откровенному Шидловскому, и Карабаев был с ним согласен.
Узнав от Софьи Даниловны, что Родзянко приглашает к себе руководителей «прогрессивного блока» для встречи с Протопоповым, Лев Павлович позвонил Милюкову:
— Зачем он позвал к себе министра?
— Думаю, попытка в последний раз договориться.
— Что ж, идти?
— А почему бы и нет?
— Та-ак… Я ненавижу этого человека с гнилым сердцем!
— Разделяю ваши чувства. Но для краткости, как заметил ещё Талейран, нельзя жертвовать точностью выражения.
— То есть? — осведомился Лев Павлович.
— Человек с гнилым сердцем — мало и слишком поэтично. Это — сумасшедший политический негодяй, всеми своими действиями провоцирующий уличную революцию…
— На что же надеется Родзянко? О чем думает он?
В ответ Лев Павлович услышал короткий, веселый смешок своего друга:
— Вам известны стишки, а?
— Какие?
— Не известны? — веселился у телефона профессор. — Послушайте…
Об умном говорят: «Вот голова!» Но голова другое значит часто. И в Думе говорят: «Вот Голова», Но в смысле уж другом иль — для контраста!..— Я запишу эти стишки, они хороши, — улыбнулся Карабаев впервые за эти двое суток Иришиного ареста.
— Но — не для распространения, прошу вас. Je laisse cela pour moi et pour vous![24] — предостерегал его Милюков.
Надевая шубу, чтобы идти к Родзянко, Лев Павлович, целуя в лоб жену и принимая из ее рук бобровую шапку, угрожающе откашлялся:
— Мы ему сегодня скажем… ох, уж разделаем под орех!
— Левушка! — помогала ему застегивать шубу Софья Даниловна. — Я прошу тебя, Левушка, помнить о нашем лосенке… Ведь ты же сам говорил о ней: «Бедный, несчастный лосенок… отрезанный в темноте от матери». Ты обещал мне, Левушка!
Если не шагнуть сейчас за порог, жена увидит навернувшуюся на глаза теплую отцовскую слезу, — Лев Павлович кивнул головой и торопливо вышел из квартиры.
Час назад лифтерша, пожилая сухонькая женщина с ввалившимися щеками, подняла в третий этаж его превосходительство, Михаила Владимировича.
Подымаясь в вестибюль по мраморным ступенькам, Родзянко каждый раз кричал ей:
— Баба, подъемку!
Открыв дверцу лифта, она молча ждала, покуда он войдет в него — грузный, широкогрудый и широко расставляющий ноги в глубоких галошах.
Ей всегда казалось, что подымается в клетке с огромным, выпрямившимся во весь рост медведем, — наподобие тех, что стоят, вытянув лапы, в полукруглом вестибюле. И всегда страшилась, всегда чудилось, что, не сдержав тяжести «его превосходительства», клетка оборвется и рухнет вниз.
И подымать сейчас двоих других, хотя и крупны были оба, было куда спокойней и приятней…
Эти люди сошлись у входа в дом.
— Вот где мы с вами встретились! — протянул руку вылезший из автомобиля Протопопов.
И когда Лев Павлович пожал ее (с кратким, несколько растерянным «н-да-а»), министр со вздохом, но посмеиваясь сказал вдруг:
— А вы знаете, я уже замечаю: у меня правая рука, как у Столыпина, начинает сохнуть!
И он опустил, как тряпку, кисть и показал ее Карабаеву.
«Фигляр! — подумал о нем Лев Павлович. — Какой вздор городит!»
И тотчас же — о другом:
«Когда сказать об Ирише? Сейчас?.. Надо выбрать подходящий момент…»
Об этом он думал еще по дороге сюда.
То ему казалось, что лучше всего обратиться с просьбой до начала совещания. Он предвидел, что оно может стать бурным, страсти разгорятся, никакого примирения и взаимопонимания не произойдет, и тогда всякая попытка частного обращения к Протопопову станет безусловно неуместной. То, напротив, думалось, что Протопопов будет после этого подчеркнуто внимателен и любезен со своим политическим противником, коль скоро речь зайдет о личном одолжении, и этим захочет еще больше оттенить свое. «превосходство» над просителем.
«Пусть так… Черт с ним! — размышлял Лев Павлович. — Пусть унижусь перед ним, лишь бы Ириша очутилась скорей дома».
С этими мыслями, спорившими друг с другом, он перешагнул поррг родзянковской квартиры, пропустив вперед себя своего власть имущего спутника.
В кабинете хозяина, где собрались уже все приглашенные, министр, быстро, одним волнистым взглядом окинув присутствующих (все оказались хорошо знакомыми), пошел жать каждому из них руки, одаряя на ходу приветствиями:
— Рад, очень рад…
— Как хорошо, хорошо здесь…
— Мысль… совесть… надежда — весь цвет, господа, российского населения!
— Я очень рад, очень доволен…
— И этот камин, который затопили… Я бесконечно доволен…
— Камин, это — дружба, откровенность…
— Как хорошо, как хорошо!..
Он был в сверкающем мундире шефа жандармов, и высокий синий воротник принуждал еще глубже откидывать назад, что часто делал, подергивающуюся, беспокойную голову.
— Дружба, дружба… Я так рад, господа, поверьте мне. Вот и собрались, наконец. И я читаю в ваших сердцах те же чувства…
— Читайте, читайте, батюшка Александр Дмитриевич, — легонько подталкивал его к центральному креслу богатырь Родзянко. — Чтение в сердцах — сие есть давнишняя склонность лиц, надевающих в цивильном обществе эдакие мундиры, дорогой сударь мой! Да-с… Прошу садиться, батюшка… Вот тут, со мной.
Ах, этот «мясник» Родзянко! Он груб и несносен даже у себя дома!
И министр, глядя на черные сюртуки своих думских коллег, полукругом оцепившие его сверкающий мундир, бормочет по-французски:
— Je n ai pas pense mal!.. (У меня не было ничего дурного на уме!)
Он обводит глазами разместившийся перед ним полукруг так хорошо знакомых людей и задерживается на узком, с выпрыгивающими желваками почти под самыми ушами, зеленовато-сером лице депутата Крупенского:
«Вместе с Nicolas еще в кавалерийском училище! Сколько лет!.. Ой, как состарился!.. Он быстрый человек, всегда больше всех знает. Звонил на днях — ах, надо было принять!»
И Крупенский, к радости старого друга, кивает головой:
— Да, да… Идя сюда, зачем вам приносить дурное!
— А все-таки — мундир не того!.. Ну, ладно, ладно. Поговорим о деле, батюшка Александр Дмитриевич! — гудит Родзянко. — Все остальное выеденного яйца не стоит.
— Это верно, — подхватывает министр, найдя опять свою прежнюю улыбку. — Я хотел бы побеседовать запросто, обменяться мнениями, господа. У нас события, господа, в стране. Надо проводить общий курс, — я ознакомлю вас с ним. Я знаю, господа, чего я хочу. Но, господа, — под условием: чтобы ничто не вышло из этой комнаты!
— Пора секретов прошла, Александр Дмитриевич! Я лично не могу дать требуемого обещания. Я должен буду обо всем, что здесь будет происходить, доложить своей фракции.
Милюков стоит позади кресла, облокотившись обеими руками на его высокую спинку, упрямо выставив среброволосую голову. Кажется, он смотрит сейчас поверх своего маленького пенсне, а глаза оттого мутны, скрывают мысль.
Протопопов:
— Ах, вот что! В таком случае я ничего не могу говорить. Я прошу прощения, что потревожил председателя Государственной думы и вас, господа. Что же произошло, что вы не хотите побеседовать по-товарищески?.. Вы меня звали, Михаил Владимирович, вы мне обещали…
— Обещал всех позвать и — выполнил.
— Но в таком случае…
Министр развел руками и переменил позу в кресле, перегнувшись через ручку его к своему соседу Родзянко. Он все еще улыбался, хотя причин к тому не было.
— Вы хотите знать, что произошло? — сорвался с места кадетский лидер и, ко всеобщему удивлению, заговорил быстро, повышенным тоном, чего ждали от него меньше всего. — Я вам скажу, Александр Дмитриевич!.. Вы служите вместе со Штюрмером… Вы освободили Сухомлинова, которого вся страна считает предателем… Вы преследуете печать и общественные организации… А участие проходимца Распутина в вашем назначении, — это что?!
И — разгоряченный — Милюков, сделав несколько путаных шагов перед полукругом сидевших молчаливо коллег и словно потеряв свое собственное кресло, опустился на кончик карабаевского, который Лев Павлович предупредительно очистил ему, мгновенно передвинувшись на широком сиденье.
Но Милюков тотчас же поднялся и занял свое место.
— Я хотел бы добавить… — тихо сказал Лев Павлович вслед за своим лидером. — То, что произошло позавчера на Сампсониевском проспекте, не может не волновать всех нас. Вы должны понять смысл событий!
— Это очень правильно! — подхватил сидевший рядом Шульгин. — Поймите вы! Мы начинаем говорить для того, чтобы молчали они… рабочие, чернь, улица! Солдаты уже не стреляют. До чего дошло!.. Во время рассеивания рабочих завода «Новый Лесснер» проезжал военный автомобиль, и шофер умышленно направил мотор на взвод жандармов и свалил одного из них вместе с лошадью…
— Я все это знаю, — оживился министр. — Да, военный мотор — зеленый круглый знак № 5802… Я помню даже его номер! Мне обо всем доносят, я за всем слежу, я дал слово государю быть обо всем в курсе. Но чего вы хотите, господа! Я пришел сюда побеседовать с вами, а теперь выходит, что я присутствую здесь в качестве подсудимого. Притом вы можете говорить все, что вам угодно, тогда как мне Павел Николаевич зажал рот: все, что я скажу, завтра появится в газетах! Но я отвечу по пунктам. Что касается Сухомлинова, он не освобожден, а изменена лишь мера пресечения. Ведь правда, Михаил Владимирович?
— Не совсем точная, — постарался унять свой регентский бас нахмурившийся Родзянко. — Он сидит, мил человек, у себя дома под домашним арестом и просит о снятии его. И говорят, сударь мой, что снимут ему. По вашим хлопотам.
— Что же делать, если оказалось много белых мышей и ни одной белой лошади! — вдруг застонал по-шаманьи Протопопов.
— Как… Что это значит, Александр Дмитриевич? — вскрикнуло несколько голосов.
Присутствующие, переглядываясь друг с другом, тревожно посматривали теперь на министра. Он закинул голову глубоко назад, закатил вверх глаза, руки его судорожно сжали подлокотники кресла, он бормотал в полуэкстазе несколько раз подряд одну и ту же фразу, столь удивившую всех:
— Что делать, что же делать… Так много белых мышей и ни одной белой, ни одной белой лошади!
— Воды! — заворочался обеспокоенно в своем кресле рыхлый, подагричный старик Стемпковский — депутат и доктор из воронежских земских кругов. — Соскакивает малость, — а?.. Воды!
И субтильный, стриженный ежиком, с выпуклыми кукольными глазами секретарь Думы Дмитрюков, хорошо знакомый, очевидно, с расположением родзянковской квартиры, мигом принес откуда-то графин и бокал и поставил их на письменный стол.
Лев Павлович заметил в этот момент, как, скосив глаз, министр внимательно следит за движениями думского секретаря. И когда тот налил воды в бокал, чтобы протянуть его Протопопову, — министр вдруг выпрямился в кресле и, глядя строго на одного только Дмитрюкова, голосом свежим и выразительным сказал:
— Много белых мышей и ни одного белого слона… в сухомлиновском деле, господа! Много доказательств мошенничества, но ни одного — измены!.. Вы что думаете? Я, министр внутренних дел, не знаю, что делаю? Ошибаетесь, господа!
Он гневно выкрикнул эти слова, и тогда случилось нечто, до смешного напомнившее Льву Павловичу сценку из дурных водевилей: дмитрюковская рука с бокалом вздрогнула, и думский секретарь быстро стал пить из него предназначенную для министра воду.
— Может быть, и не знаете, что делаете! — отвечал, вставая и подходя к Протопопову, российский виконт Фаллу, — и все насторожились. — Прежде всего мы должны решить вопрос о наших отношениях. Или вы, Александр Дмитриевич, честолюбец, если вы просто увлеклись блестящим положением, не скрывая от себя, что вы сделать ничего не можете. В самом деле, в какое положение вы себя поставили? Были люди (Шульгин широким жестом указал на всех присутствующих)… были люди, которые вас любили, и были многие, которые вас уважали. Теперь ваш кредит очень низко пал. Вы отрезали себя от людей, которые могли вас поддержать там. Этот разговор, который мы ведем теперь, надо было вести тогда, до того как вы приняли власть. При этих условиях понятно, почему Павел Николаевич не считает возможным сделать секрет из нашей беседы. Завтра же, когда общество узнает, что мы с вами беседовали, оно может предположить, что мы вошли с вами в «заговор», и мы не вас поддержим, а себя погубим. Я допускаю еще возможность секрета, если мы сегодня ни к чему не придем. Только так и можно сказать: «Говорили, но ни до чего не договорились». Но если мы на чем-нибудь согласимся, — тогда обязаны будем сообщить обществу, почему мы нашли возможным согласиться.
Он говорил сегодня тихо, не спеша, но строго и, — как почувствовалось всеми, — с той особой искренностью, на которую можно ответить только такой же откровенностью, или, признав себя изобличенным и побежденным, ничего вовсе не отвечать.
Таково было первое впечатление от его речи.
Но наиболее умные думские политики, не раз слушавшие Шульгина, не забывали, однако: всегда нужно особо прислушиваться к тому, что говорит он в конце своего выступления — здесь ляжет мысль его. И манера речи, ее артистические интонации пусть не вводят в заблуждение в таком случае доверчивых слушателей!
И потому некоторым из присутствующих было понятно: Шульгин, наговоривший министру много «горьких истин», не закрывает, однако, дверей для взаимных уступок. О нет! Сегодня должен уступить первым он, Протопопов, а там — видно будет… Таково только условие победы над ним.
И тогда кадетский лидер, Милюков, быстро перемигнувшись со своими партийными единомышленниками, порывисто шагнул по мягкому ковру на середину комнаты и отвлек на себя внимание собравшихся.
Он ничего не сказал, но одного этого движения его было достаточно, чтобы все почувствовали предостерегающие, хотя и не произнесенные, слова его — признанного руководителя думской оппозиции.
«Стоп! — словно говорил он всем. — Не обольщаться! Обложили зверя, — нельзя дать ему уйти».
— Если здесь говорят, что меня больше не уважают, то на это ответ может быть дан не в обществе, а лицом к лицу, с пистолетом в руках! Я исполняю желание моего государя, я всегда признавал себя монархистом, — за это, может быть, меня не уважают?! — криво улыбался угрожавший Протопопов.
— Ну, знаете, батенька мой! Стыдно вам говорить про то!.. — густо, сердито крякнул камергер императорского двора Родзянко. — Мы все здесь монархисты — пора бы вам это знать!
— Вы пообещали надеть намордник на Думу! Вы говорили, что в Японии одиннадцать раз распускали парламент! Почему бы и у нас этого не сделать?! Намерение распустить Думу — это ваш «coup d'etat»!..[25] Разве это не правда? — продолжал наступление Милюков.
— Откуда вы это знаете, Павел Николаевич? Ничего этого я не говорил. Вот так, господа, и получается, — продекламировал он:
Нельзя тебе жить, и чтоб языки про тебя не мололи, Как роз нельзя собирать, и шипы чтоб тебя не кололи!..— Тут не о розах, Александр Дмитриевич, разговор… — прервал его хозяин. — Вы лучше расскажите нам о Гришке Распутине, о ваших дворцовых приятелях с немецкими фамилиями. Сами расскажите — тогда перестанут всякое молоть. А то, может, не зря и языки про вас чешут: с собакой, знаете, ляжешь — с блохами, говорят, встанешь!
— Ах, господа! — вновь запрокинул голову Протопопов, и беспокойный взгляд его устремился к потолку. — Распутин, Распутин!., со всех сторон о нем. Но почему? J'en ai les oreilles rebattues! (Мне этим уши прожужжали.) Этот человек дает полезные советы, господа. Вот — бороться с очередями у лавок… И он предложил: сквозные проходы в лавках — в одну дверь впускать, в другую выпускать и заранее развешивать продукты для отпуска покупателям… Теперь о немецких фамилиях, — я проверил, господа. Все эти Мейендорфы и Бенкендорфы при дворе — они производят вполне казачье впечатление: ходят в папахах. В политику не лезут. Так и говорят: «Я только двери открываю» или: «Я только в шахматы играю». А старик Фредерикс… — Министр стал вдруг весел, подмигнул собеседникам и, разводя руками, закончил: —… немного выжил из ума. Например, в Ставке он раз чуть в окно не вышел вместо двери!
Все знали: Александр Дмитриевич любит сильно приврать.
Родзянковские слуги внесли кофе и ликер и тем самым прервали на время политическую беседу. Казалось, все были рады этому, — привстали с мест, задвигались по комнате, отводя друг друга в сторону, чтобы потихоньку обменяться впечатлениями. Министр, оставшийся членом думской фракции октябристов, оказался в обществе Родзянко и подошедших к ним депутатов-единомышленников.
— Ну, что вы скажете? — спросил Карабаева очутившийся рядом кадетский лидер.
Он был заметно возбужден и сегодня — азартен. «Облава» на министра сулила немалые политические выгоды его кадетской партии. Он предвкушал их. Маленькие розовые уши Милюкова красно горели, а лицо, обычно подернутое нежным стариковским румянцем на гладко выбритых щеках, было бледно теперь и влажно от проступившего пота.
Милюков понимал: военные неудачи, хозяйственная разруха, министерская «чехарда», распутинское пятно на царском дворце — под династией заколебалась почва. Сейчас, именно сейчас царь должен пойти на уступки: предоставить «прогрессивному блоку», иными словами кадетам, составить кабинет. Быть может, удастся оттянуть время до весны, а там подготовить наступление на немцев, поднять патриотический дух. При этих условиях можно избежать самого страшного, того, что пугает всех думцев: взрыва народного гнева.
А камарилья из Царского в качестве мостика между двором и Думой назначает на пост министра внутренних дел легкомысленного карьериста, ренегата, понимающего язык общественности, но готового воспользоваться этим языком во вред ей.
Милюков видел, что никакое соглашение с новым фаворитом, двора не выйдет и, чтобы сразить его, придется направить удар в грудь первого министра, в грудь самого Штюрмера.
Время для этого удара, кажется, уже не за горами: до открытия Думы оставалось меньше двух недель.
В уме уже накапливались слова будущей обвинительной речи. Их надо было выстроить в колонны фраз, вооруженных уликами против антипатриотической деятельности руководителя внешней политики и его высоких покровителей.
Джордж Бьюкенен, личный друг, доверительно сообщал ему о своем недавнем разговоре с царем:
«Ваше величество, — обращался к русскому государю великобританский посол, — позвольте мне заявить вам, что у вас есть лишь один безопасный путь в настоящих условиях войны. Вы должны сломить ту преграду, которая отделяет вас от вашего народа, и вновь приобрести его доверие».
И на это император ответил резким вопросом, заключившим аудиенцию:
«Вы хотите сказать, господин посол, что я должен вновь завоевать доверие моего народа, или же мой народ должен вновь завоевать мое доверие?!»
Поистине, гибели предшествует гордость и падению — надменность!
Русский посол в Англии Бенкендорф столь же доверительно рассказывал о другом. Он привык пользоваться доверием иностранцев, ему всегда предупредительно сообщали всякие секретные сведения, а теперь при Штюрмере — министре иностранных дел — русскому послу не доверяют.
«Мы не уверены теперь, что самые большие секреты не проникают к нашим врагам. Больше того: мы знаем, что они им стали доступны».
В Швейцарии ему указали на германофильский салон Нарышкиной в Montreux, где сидит специальный штюрмеровский посланец, встречающийся с архитектором Августом Реем, а этот архитектор, как сообщил Бриан, давно значится на фишке как личный агент германского императора.
А в немецкой газете «Neue Freie Presse» с удовлетворением писалось, что молодая русская царица и Штюрмер делают все для заключения сепаратного мира.
Раз так, — позволительно будет спросить русскому человеку: «Что же это: глупость или измена?!»
Через двенадцать дней Милюков с трибуны парламента несколько раз бросит эти слова, и страна должна будет понять их. Но как она должна будет ответить на них? Об этом не хотелось теперь думать, а если и задумывался о том, — верил, что Россия поручит ему же ответить за нее самое: он очень любил английскую конституцию и мечтал о ней в царском Петербурге!..
— Почему вы молчите сегодня? — спросил, притронувшись к локтю Карабаева, Шульгин. — Это на вас так непохоже.
Мог ли сказать ему правду Лев Павлович? Ту самую правду, которую ощущал, в душе как самооскорбление?
Он давно уже сказал самому себе:
«Я молчу потому, что боюсь. Я боюсь злой мести человека, который может росчерком пера решить судьбу моей дочери. Я его ненавижу, глубоко презираю, ко всему тому, что здесь говорилось ему, я могу и должен прибавить еще очень многое, и это еще больше унизило бы его в глазах всех, но я неволен это сделать… Вот я сказал что-то вначале, и он исподлобья так посмотрел на меня, как будто он уже знает, почему мне следует молчать… Но ведь так покупают молчание? — горько думал он. — Значит — я куплен? Значит — я поступился чем-то очень важным?»
Эта мысль тяготила его весь вечер.
Но он все время видел перед собой заплаканные тревожные глаза Софьи Даниловны, презрительную улыбку Глобусова, явно издевавшегося над его угрозами «народного представителя», его отцовское воображение проникало в глухое здание тюрьмы и мигом разыскивало там лежавшую на холодном, разрушенном полу, в кромешной темноте Иришу (так и представлялось, в кромешной темноте, потому что не хотел помнить, что и в тюрьме ночь сменяется дневным светом), — и тогда он сам себе прощал свое трусливое молчание.
Сев в сторонку, он наблюдал своих думских соратников. Заняв свои места, они слушали теперь министра: он вытащил из портфеля проект по продовольственному вопросу.
Вот — наверху диктатор: им-то и будет сам он, Александр Дмитриевич Протопопов. Под ним — диктаторы губернские: губернаторы. А затем — купцы, купцы, купцы, банки и биржа. Они-то и должны открыть шлюзы хлебного оборота. И да будут распущены все эти продовольственные комитеты, в которых оппозиционная военщина объединилась с «общественностью».
И да не вмешиваются более в дела государства все эти городские и земские союзы!
— Государь сказал мне, что хочет лично меня видеть во главе продовольственного дела. Я ответил его императорскому величеству (закатывая глаза): я употреблю все мои усилия, чтобы вывести страну из тяжелого положения. Если вы меня, господа, не поддержите, я все равно пойду один, — закончил свое слово министр и, прищурив глаза, выразительно посмотрел на металлическую башенку с часами, стоявшую на выступе камина. — Мне некогда, господа! — вдруг выкрикнул ой. — Меня ждут дела государства!
И тогда с шумом поднялись все со своих мест: теперь уже не оставалось никаких надежд на соглашение. Такой проект мог составить только «сумасшедший человек»!
Шульгин:
— Александр Дмитриевич, откажитесь от своего поста!
Милюков:
— Вы ведете на гибель Россию! Не мешайте нам!
— Не пугайте меня, профессор… Я сам земец, и земства пойдут за мной.
— Как осужденный на казнь — за палачом!.. — выкрикнул кто-то.
— Александр Дмитриевич, вы больны, сударь. Идите спать! — раздался знакомый всем грубый бас председателя Думы.
Единственный человек, поспешивший в прихожую вслед за министром, был Карабаев. Наступила минута, которой он больше всего ждал сегодня.
— Александр Дмитриевич… Несколько слов по моему личному делу!
— Вы хотите меня благодарить? — выставив желтые-желтые зубы, улыбался Протопопов.
«Если бы осел мог улыбаться, у него была бы точь-в-точь такая улыбка!» — пришло в голову сейчас Карабаеву.
— Вы хотите меня благодарить? Не трудитесь: я всегда был к вам благорасположен, Лев Павлович. Помните: еще за границей?
— Позвольте… Но я еще ничего не сказал вам! — удивился Лев Павлович.
— И не надо. Ваше сегодняшнее молчание достаточно красноречиво!
— Но я хотел сказать вам…
— А я уже сделал, мой дорогой! — закатил молитвенно глаза кверху министр, влезая в шубу, поданную ему поджидавшим тут же, в прихожей, неизменным лакеем Павлом Савельевым.
— Что именно? — спросил Карабаев.
— То, чего не хотел сделать генерал Глобусов. Он доложил мне, и я приказал освободить вашу дочь. Она уже сегодня должна быть дома. А? Каково? — наслаждался он карабаевской растерянностью. — Ведь я мог быть другом, а?.. Я хотел сделать приятное — вот я таков! Но ваш Павел Николаевич… ах, в нем совсем не говорит сердце?.. Не благодарите! — сыпал он словами. — У меня есть сердце… мягкое сердце. Милюков на моем месте… отправил бы вашу дочь в Сибирь!
Он протянул, прощаясь, руку, которую Лев Павлович, не зная, что сказать, задержал дольше обычного.
Тут же, из квартиры Родзянко, он позвонил по телефону домой. В трубку он услышал голос дочери.
И радость теперь была заглушена никем не услышанным шепотом стыда.
Дочь целовала его и, помогая снять влажную от снега шубу, говорила:
— Золотой мой, хороший… Мне генерал Глобусов все рассказал. Спасибо тебе!
Лев Павлович, целуя, погладил ее по голове и, ухмыльнувшись, сказал, сам того не ожидая от себя:
— И тебе спасибо.
Прошли в кабинет.
— За что — мне? — спросила Ириша, переглянувшись с матерью.
«Боже мой, что она с тобой делает!» — вспомнилась горечь недавних слов жены, и Карабаев сдержанно, но с явной укоризной повторил:
— Спасибо, спасибо тебе, Ирина.
И, не в силах скрыть своего раздражения, обратился внешне равнодушно к жене:
— А где Юрий? (Это и было замаскированное проявление острого раздражения!)
— Он у соседей. Филателия… альбомы, — кратко ответила Софья Даниловна.
Семейный барометр предвещал сильную непогоду, и она, Софья Даниловна, не знала еще, чем и как можно было сейчас предотвратить ее.
— Я понимаю… Прости, пожалуйста, дорогой, что причинила тебе такое беспокойство, — погладила Ириша руку отца.
— Беспокойство, значит? — исподлобья посмотрел он и, отдернув руку, зажал ею свою, недавно подстриженную бороду.
— Дело не в беспокойстве, детка. Мы изведали с папой такое, такое горе! Но, слава богу, все позади. Надо радоваться сейчас, а не волноваться… не раздражаться.
— Горьковский ты Лука.
— Пожалуйста — иронизируй. Называй, как хочешь, Левушка, — не отступала Софья Даниловна. — Боже мой, она с нами, дома! Это главное.
— Знаешь, Соня, кто распорядился ее выпустить?
— Иришенька рассказывала: генерал Глобусов.
— «Рассказывала»… Ничего вы обе не знаете. Протопопов — вот кто! Господи, зависеть от такого негодяя… сумасшедшего. Да и ты хороша! — неожиданно, уже открыто напал он на дочь. — Лосенок… вот тебе и лосенок.
— Левушка!
— Ничего не Левушка. Говорю правду, Соня. То, что думаю. Не привык иначе.
«А час назад? У Родзянко?» — сам себя подколол Лев Павлович.
— Слушаю тебя, папа. Ну?
Лицо Ириши густо покраснело.
«А носик беленький, как и был, почему-то!» — отметил Лев Павлович, и потому, что этот милый отцовскому сердцу, чуть вздернутый носик остался испуганно-беленьким, словно застигнут он врасплох на изменившемся лице, у Карабаева возникает нежная жалость к дочери: к «эдакому ребенку еще», — заговорили всегдашние в Льве Павловиче родительские чувства.
Но голос Ириши сух и требователен; глаза подернуты слезой нескрываемой обиды («Ах, вот что: она еще возражает?»); стоит она перед креслом отца, сцепив руки на пояснице («Такой позы я у нее еще не замечал… вызывающая поза!»), — и снисходительная улыбка, готовая было блеснуть в лице Карабаева, превращается в нескладную, черствую гримасу.
— Левушка… — заметив ее, тихо, предостерегающе произносит Софья Даниловна.
И это дает свои результаты.
— Ну, расскажи, Ирина Львовна, как тебе сиделось? — делает последнюю попытку сдержать свое раздражение Карабаев. — Тебя в чем собственно обвинили?
— Не успели еще обвинить. Заподозрили покуда… Но ты, папа, хотел мне что-то сказать?
— Папа тебе и говорит! Что уж ты, Ириша?! — перенесла на нее свой умоляющий взгляд: «Только не ссорьтесь, дорогие!» — Софья Даниловна.
— При чем тут, мама, «вот тебе и лосенок»?
— Вот видишь, Соня, видишь? — словно снимая с себя ответственность за то, что может сейчас произойти, обращался Карабаев к жене. — Твоя дочь придирчива к каждому моему слову.
— Левушка, она достаточно изнервничалась.
— А я? А мы с тобой?
Тут уж Лев Павлович не утерпел, — он вскочил и зашагал по комнате. Шагая, он бесцельно хватал и вновь клал на обычное место различные предметы: коробку с гильзами, присланную ему братом, стеклянные настольные часы, привезенные из-за границы, бинокль в кожаном футляре, книги, отобранные для чтения на сон грядущий.
— Тыр! Бур! Тыр! — подражала его мятущейся, походке Софья Даниловна. Она попыталась шуткой прервать начавшуюся семейную бурю.
Но теперь уже ничто не могло остановить Льва Павловича.
— Извольте слушать меня! — прикрикнул он на членов своей семьи. — Садись, Ириша, и внимательно меня слушай.
И он почти насильно усадил ее в одно из кресел.
— Мама уже рассказывала тебе, что мы пережили. Да, это не так просто, милая моя, когда твою дочь бросают в тюрьму. Не так я люблю тебя, чтобы хоть на минуту забыло тебя мое сердце, дочь!
— Ты хотя бы сейчас не беспокой свое сердце, — слышишь? — участливо сказала Ириша.
— Да, да, Левушка. Да, да!
— Я почему-то думаю, — продолжал Карабаев, — что твои рассказы о тюрьме окажутся менее ужасными, чем наши с мамой представления об этом проклятом месте.
— Оно все же не курортное, папа, — улыбнулась Ириша. — Но мало ли что!
— Ах, «мало ли что»! Откуда такое подвижничество? Во имя чего оно у тебя, Ирина? Что ты хочешь сказать этой фразой? Ты! Моя дочь!.. Ведь ты же ссылалась на меня при задержании, — мне рассказал Глобусов. Ты, стало быть, искала защиты в моем имени, — так? В чем же, Ирина, состоит принципиальность твоей политической позиции в данном случае? А? Я хотел бы знать.
— Боже мой, какой-такой политической позиции?! — жалобно простонала Софья Даниловна и опасливо перекрестила дочь.
— Да, с одной стороны, ссылаться на родство с «буржуазным», видите ли, депутатом Государственной думы Карабаевым — «милюковцем», «империалистом». А с другой — связаться… связаться с самыми анархически настроенными социал-демократами) пораженцами… с какими-то сомнительными личностями, для которых тюрьма — это привычное… и не столь уж презираемое и страшное место в жизни. Ужас, ужас, Соня!.. Ну, что же? — подошел он вплотную к дочери, так, что ощутил ногой дрожь Иришиного колена. — Или я, или эти темные личности…
И тотчас же Ирина выкрикнула:
— Папа! Ты не имеешь права так о них говорить!
— Я знаю, что говорю! С этими людьми… вот с этими пораженцами… у меня и у любимых мною людей не может быть ничего общего. Слышишь? Они — мои враги, и я им — враг. Да, да, враг — знай ты это. Стоя посредине между нами, ты не можешь примирить меня с ними. Ни за что и никогда!
— Я и не собиралась… Знай ты тоже.
Дочь произнесла эти слова тихо и с какой-то неповторимой и непередаваемой интонацией: гордости и покорности, задумчивости, твердости и уныния — одновременно.
И эта неожиданная интонация вдруг сбила и обезоружила Карабаева. Она словно приоткрыла для него внутренний сейчас мир Ириши, и этот мир был настолько чист и ясен, что какое-либо насилие над ним показалось бы Льву Павловичу морально недопустимым.
Чего собственно он, Карабаев, хочет сейчас от дочери? — спросил он себя в эту минуту. Чтобы тотчас же отреклась она от Сергея Ваулина? (Этот человек все время торчал занозой в ревнивой памяти Карабаева.) Ваулина он хоть видел, немного знает, — ну, а остальные?
«Какая-то Шура-студентка, безвестная простолюдинка Громова с Серпуховской улицы, на чьей квартире арестовали Иришу, — остальные-то что за люди, зачем они нужны ей в жизни?» — недоумевал и беспокоился Лев Павлович.
«Смешно даже говорить о них, разве главный вопрос — вот эти люди? Но следует ли сейчас говорить с Иришей о главном?» — заколебался Лев Павлович, Боже мой, он даже не спросил по-настоящему, что она переживала в тюрьме, как здоровье ее, как обращались с нею службисты господина Протопопова?
Вспомнив о нем, Лев Павлович сказал жене (и этим перевел удачно для себя разговор на другую тему):
— Не успел я даже рассказать тебе, Соня, о сегодняшней встрече… Ну, война объявлена! Окончательно! Нам с ним не по пути.
— С Протопоповым, — пояснила Софья Даниловна дочери. — Сегодня Милюков, папа… вообще прогрессивный блок… хотели добиться соглашения с Александром Дмитриевичем Протопоповым.
— Поставив ему предварительно ряд жестких политических условий! — испуганно теперь глядя на дочь, поспешил добавить Карабаев.
Странное состояние!.. Он считал для себя уже обязательным это добавление, как будто сидела перед ним не собственная дочка — домашнее существо, с которым до сих пор вообще можно было не говорить на такие темы, — а побывавшая в тюрьме по революционному делу девушка — уже самостоятельная, уже независимая в своих политических суждениях, и потому он, Карабаев, тоже должен быть точен, высказывая свои политические взгляды.
Ириша впервые в жизни также почувствовала, что отец, любимый отец, — это и есть теперь ее политический противник, что действительно примирение в этом вопросе невозможно «ни за что и никогда», как объявил он сам, что вот с этого вечера многое, вероятно, изменится в их общей карабаевской семье.
И как же отец несправедлив!
Разве Сергей и его мать, Шура и Надежда Ивановна — это «темные личности»? Да как он смеет, в самом деле!..
Подумав о названных людях, она вспомнила и синеглазую русую Любку с «Треугольника», прятавшую у себя за пазухой ваулинские записки и убежавшего от полицейских неизвестного человека в солдатской шинели (вероятно, это и был тот самый. Яша, о котором сообщалось в записке Сергея Леонидовича), — и к ним обоим — к Любке и солдату — она тоже испытывала теперь приязнь — чувство, какое она никогда не могла бы отдать думским друзьям Льва Павловича.
Вспомнив Любку с «Треугольника», она подумала тут же и о том, что переданные этой девушкой ваулинские записки, к счастью, сохранены ею, Иришей, что она сумела их утаить в тюремной камере, и теперь они лежат здесь, дома, и при первой же возможности она отнесет их по указанному Надеждой Ивановной партийному адресу.
Эта «духовная» осязаемость ее ближайших обязанностей, от своевременного выполнения которых, — понимала Ириша, — зависит и личная судьба дорогого для нее человека и дорогое для него революционное, партийное дело, заслоняла собою и чувство обиды от такой встречи с отцом, и желание самой быть резкой и неуступчивой и — одновременно — усталость, душевную неподготовленность Ириши к спорам и ссорам. Прежде всего, решила она, надо быть настоящим, верным товарищем тех людей, которые доверили тебе дело своей жизни.
Милый, глупый мой папа, разве мог бы ты уважать свою дочь, если бы она поступила иначе? Мать, — из очень уж эгоистических «семейных» чувств, — могла бы, вероятно. Но ты-то, ты?
Они оба — отец и дочь — вели между собой не только открытый, звучащий разговор, но — и разговор неслышный: без прямых реплик друг другу, но — с вопросами; без ответов на них, но тут же — с возражениями на эти ответы, как если бы они и впрямь услышаны.
И хотя каждый в этом непроизносимом разговоре думал свое и о своем, Ириша и Карабаев общались в эти минуты друг с другом с неменьшей ощутимостью, чем в разговоре открытом: у сердца, говорят, уши есть.
Лев Павлович стал рассказывать о сегодняшней встрече с Протопоповым, но думал в эти минуты об Ирише: «Хватит на сегодня, нельзя перегибать палки».
Ириша, слушая рассказ о Протопопове, вспоминала отцовские слова, обращенные к Сергею и его товарищам: «Мы — враги, и тебе не примирить нас».
Да. Пусть так…
Разные люди — разный мир в душе у каждого.
Она, Ириша Карабаева, скажет отцу — и от имени своих друзей — словами из той вот книги, которая отобрана им сегодня для чтения на сон грядущий. Ириша хорошо помнит эту фразу Стендаля: «Вы хотите, чтобы мы в полдень смотрели на часы, показывающие два часа ночи!»
Сергей Ваулин всегда учил ее верить в то, что полдень новой, лучшей жизни обязательно наступит.
Через несколько дней неизменно следившая теперь за дочерью Софья Даниловна показала Льву Павловичу свежую дневниковую запись Ириши. Наряду с «тюремными впечатлениями» («Боже мой, боже мой!» — все еще не могла успокоиться мать) в дневнике была запись о студентке Шуре.
«Ах, опять все та же Шура. Вот кто, оказывается, продолжает «просвещать» мою дочь», — иронически усмехался Карабаев, взглянув на Иришины листки. В них не названа была его фамилия, но оба суждения большевика Ленина, сообщенные студенткой Шурой, относились, конечно, и к нему, Льву Павловичу. Он не без интереса прочитал «свою» характеристику, данную Лениным после революции 1905 года:
«Не связанная с каким-либо одним определенным классом буржуазного общества, но вполне буржуазная по своему составу, по своему характеру, по своим идеалам, эта партия колеблется между демократической мелкой буржуазией и контрреволюционными элементами крупной буржуазии. Социальной опорой этой партии является, с одной стороны, массовый городской обыватель… а с другой стороны, либеральный помещик…»
Дальше в Иришином дневнике следовали краткие, полусловами, как студенческие заметки о прослушанной лекции, сведения о его, карабаевской, партии. «Ах ты, боже мой, какая эта Шура осведомленная барышня. Насвистанная мадемуазель!» — с раздражением и враждебностью подумал Карабаев о «совратительнице» своей дочери.
«Кадетов — записывала Ириша, — гораздо правильней было бы называть конституционно-монархической партией, нежели к. — демократической, или, как величали себя, — партией «народной свободы». Они выступали против конфискации — помещичьих владений, высказывались лишь за «отчуждение по справедливой оценке». («Ну, почему Ириша должна этим интересоваться?» — недоуменно пожимал плечами Карабаев.)
Кадеты хотели разделить власть с царем и помещиками, не давать власти народу. Массового народного движения, а тем более — рабочего, они боятся, как черт ладана. В конце концов кадеты превратились в партию империалистической буржуазии, и, например, от думских октябристов их отличают только «оппозиционные» фразы».
Дальше следовала вторая ссылка на Ленина, мелким почерком переписанная откуда-то Иришей:
«Октябрист, это — кадет, который применяет в деловой жизни свои буржуазные теории. Кадет, это — октябрист, мечтающий в свободные от грабежа рабочих и крестьян часы об идеальном буржуазном обществе. Октябрист немножко еще научится парламентарному обхождению и политическому лицемерию с игрой в демократизм. Кадет немножко еще научится деловому буржуазному гешефтмахерству, — и они сольются, неизбежно и неминуемо сольются…»
Лев Павлович кисло ухмыльнулся: он вспомнил недавнюю встречу на Сергиевской, в особняке Родзянко.
ГЛАВА ПЯТАЯ Опять в Смирихинске
Брат сообщал в письме о предстоящем вскоре отъезде Ириши в Киев: пусть погостит она недельку-другую в кругу родственников. «Так надо, — писал Лев Павлович, не объясняя причин, — да и она сама изъявила к тому охоту». Он надеется, конечно, что в семье брата ей будет весело и приятно.
Георгий Павлович, прочтя письмо, отправил его с горничной на женину половину. Татьяна Аристарховна поспешила обрадовать обеих дочерей.
Почти одновременно с письмом принесли срочную телеграмму. Поданная сегодня Теплухиным в Смирихинске, она сообщала, что все, наконец, благополучно устроилось: Людмила Галаган подписала запродажную, все иные формальности выполнены, и, стало быть, сахарный завод, принадлежавший некогда старому генералу Величко, стал отныне собственностью Георгия Карабаева.
— Шампанского! — вернул он с порота все ту же горничную, и она поняла, что радость барина сегодня необычна.
Еще не случалось ей видеть, чтобы пили шампанское до обеда! Да еще созвав всю семью в кабинет, куда не было привычки звать кого-либо из домашних…
Подпись Людмилы Петровны на запродажной следовало заверить в городе, в смирихинской нотариальной конторе. Путь туда из Снетина, где вот уже несколько месяцев жила высланная из столицы вдова Галаган, предстояло проделать на лошадях. Теплухин договорился об этом на почтово-земском пункте и вместе со своей спутницей ждал теперь, покуда запрягут лошадей.
Но не все делается так скоро, как хотелось бы того. Заведующий пунктом, коновал из кантонистов — низенький и коренастый, круглобородый седой Абрамка, всеми называемый так — «Абрамка», хотя ему было уже под восемьдесят, — не торопился отпускать ямщика. Ему нужна была помощь: он ставил больному коню «заволоки» и пускал кровь.
Помощник ворчал: ему хотелось до полудня привезти в город пассажиров, получить поскорей на «ханжу», успеть хлебнуть ее перед обедом на общей кухне городского калмыковского двора.
— Не трендыкай! — бесстрастно подымал на него голову Абрамка, что означало: «не разговаривай». — Держи его лучше за холку.
Рослый, с бурым, изъеденным оспой лицом ямщик Юхим, рассердившись почему-то на вспотевшую (пар шел от нее) лошадь, хватал ее за холку и, сам дрожа, кричал:
— Трусысь!
Потом этот пузатый, кругленький, — мяч с бородой! — Абрамка заставил его чистить больного коня. Да еще по всем правилам: скребницей, щеткой и суконкой, смоченной керосином.
— Тьфу, холера! — ругался ямщик, да так крепко, что Теплухин поспешил отвести Людмилу Петровну в сторону.
— Ну, скоро там? — кричал он издали.
Ругань в конюшне прекратилась. Старый Абрамка вознаграждал своего помощника: он одаривал его в дорогу копченой селедкой. Это копчение производилось так: сельдь заматывалась в портянку и засовывалась на сутки в навоз.
Последняя задержка произошла уже не по вине здешнего калмыковского наместника. Он вышел из конюшни, щурясь на утреннее зимнее солнце, но теперь застрял в ней торопившийся раньше Юхим. Он вспомнил о том, что, очевидно, давно уже доставляло ему неприятности: одолевали насекомые. Воспользовавшись случаем, он сбросил с себя одежду и накрыл ею потную лошадь. По уверению ямщиков, вши выползают тогда из одежды.
Так он и объяснил прибежавшему за ним негодовавшему Теплухину.
Людмила Петровна поджидала их обоих в станционной избе. Вошел старый Абрамка. Сняв позеленевший от времени кожух, он принялся — в такой ранний, непонятный для Людмилы Петровны час! — молиться. Стоя перед столиком, он раскачивался, наклоняясь вперед, и плавно, размеренно произносил слова молитвы. Людмила Петровна заметила, как он несколько раз искоса поглядывал в ее сторону.
— О чем вы молитесь, дедушка? — полюбопытствовала она.
— А я не молюсь. Это у меня просто такой разговор с богом. Вечный радуется творениям своим. Вечный всегда справедлив и милостив во всех делах… Я говорю так богу: твоя доброта и твое прощение выше неба. Возрадуй душу слуги твоего, потому что к тебе стремится она… Ты справедлив, — говорю ему, — и решения твои справедливы. Господь дает жизнь и смерть. Он хоронит людей и воскрешает их. Господь Саваоф, счастлив тот человек, который верит в тебя.
Она забыла, что он еврей, и думала, что он перекрестится сейчас, — и сама вдруг сделала то же, вынув руку из муфты.
Делала она это очень редко. Но недавно пришло жестокое письмо из Петербурга об убийстве брата.
Она плакала, но так, чтобы никто не видел того в старом отцовском доме.
Приезд Теплухина мало развлек ее. О деле, ради которого приехал вчера Иван Митрофанович, говорили меньше всего: Людмила Петровна быстро подписала все необходимые бумаги, а чек на задаточную — очень крупную — сумму небрежно бросила в шкатулку с клубками ниток, иглами и тесемками.
Час-другой Иван Митрофанович рассказывал всяческие новости, вместе рассматривали они вытащенную из комода груду фотографических карточек, на которых запечатлены были различные предки покойного генерала Петра Филадельфовича, сам он и вся его семья. Потом она, Людмила Петровна, криво усмехаясь, поведала своему собеседнику историю высылки из Петербурга и про встречу — такую «дикую» встречу на Ковенском! — с неизвестным человеком, пообещавшим раскрыть тайну смерти ее мужа.
— Ну, и что же?.. — почувствовав озноб, спросил тогда Иван Митрофанович, сразу догадавшись, о ком идет речь.
И стал оживленно, неестественно громко разговаривать, узнав, что кандушина месть сорвалась. «Но кто скажет, что она не состоится?»
Под вечер он ушел к родным — к отцу своему, фельдшеру Теплухину, безвыездно жившему тут же, в Снетине, и Людмила Петровна, оставшись одна, вынула из ящика секретера тетрадь в красном переплете, спустила тяжелые сторы на обоих окнах, как будто опасалась чьего-то подглядывания сквозь обледенелые, занесенные наполовину снегом окна, и, придвинув на доске секретера массивную, тяжелую лампу с жарко горящим фитилем, стала писать:
«…А вот Сан-Ремо, отель Belle-vue. Мне восемь лет. Я и Леня вместе с мамой покупаем различные украшения на елку. 25-го утром нас одевают по-праздничному. Я в волнении повторяю свои стихи и рассматриваю работу, которую приготовила в подарок маме. Наконец, мы входим в свою гостиную (у нас всегда была своя «stuite» — комната). Там сидит и ждет нас мама. Я стараюсь не смотреть на елку, подхожу к маме, говорю стихи, дарю свою работу и целую мамину руку. После этого мы с Ленечкой с восторгом разыскиваем все новые вещицы и безделушки, висящие на елке, и получаем подарки.
И опять отель — через два года. Перед обедом меня ведут к парикмахеру, и он завивает, мне волосы в «червячки», в локоны. Я себе страшно нравлюсь в зеркале и хочу всегда так быть причесана, но почему-то говорят, что нельзя. Потом меня одевают в кружевное, специально сшитое платье, в белые чулки и туфли. Мама говорит: «Красотка!» Слышен третий удар гонга, и мы спускаемся в столовую. Там стоит громадная елка. Через весь зал протянуты гирлянды зелени и флажков, на всех столиках цветы, и у каждого в салфетке «сюрприз». Чтобы не быть невоспитанной, скрываю свой бурный восторг.
Наступает вдруг темнота, все лампы гаснут, и зажигается мгновенно елка. Лакеи подают бесконечный обед из двадцати блюд со сладким. Все блюда украшены разноцветными лампочками. Необыкновенных размеров «Somon» с горящей пастью, потом разные звери, замки, крепости, мосты. Разносят на тарелочках хлопушки, и начинается трескотня. Ленечка особенно усердствует. Потом приносят шампанское. После обеда все выходят в «holl» и начинается бал. Некоторое время мы присутствуем здесь, а затем нас уводят с Леней. (Меня кружит какой-то прижимающийся ко мне старичок с лентой на груди. «Паршивец!» — теперь я могу это сказать…)
…И помню еще петербургское рождество. Страшная чистка и суетня. В кухне дым коромыслом, и туда лучше не ходить. Слоняюсь из угла в угол. Одеваюсь. Леонид тоже. Едем все в церковь Государственного совета. Когда возвращаемся, стол красиво накрыт, садимся ужинать. Зажигается елка, раздаются подарки. Потом зовется вся прислуга. Им всем приготовлено по тарелке сладостей, которые я раздаю (мамы уже нет в живых). Тетя дарит деньги… Все слуги радостны и смущены, смотрят на елку. Я делаю рожу моей любимой горничной Стефе (так, чтобы никто, кроме нее, не видел), она старается не смеяться и потому краснеет. Когда я ей дарю тарелку, шепчу всякую ерунду на ухо: будто Леня сказал, что у нее красивые грудки. (Ах, Леня, Леня!.. Какая нелепая смерть…) Затем все они уходят, и от кучера остается в комнате запах мужика».
Детство вспоминалось легко и просто, еще не ушла молодость, но жизнь представлялась большим неуютным домом (вот как этот теперь — снетинский), большой разбросанной квартирой, и только в детство входила память Людмилы Петровны, как в солнечную, всегда теплую светелку, затерявшуюся среди всех остальных комнат.
Это был придуманный — от тоски, от одиночества — разговор с самой собой.
Надолго ли хватит его, чтобы не помнить своего одиночества? Людмила Петровна боялась этого вопроса.
Шустрый приказчик Кузьменко жил теперь тут же — в генеральском помещичьем доме, где и Людмила Петровна. Он вел, конечно, все хозяйство, собирал аренду с крестьян, вел дела с наезжавшими время от времени какими-то агентами правительственных учреждений.
Землевладение, как и всюду по России, разваливалось, теряло цену; пощипывая бороденку, тоненьким свистящим голосом Кузьменко докладывал, что пришлось уменьшить крестьянам арендную плату вдвое: всех почти мужиков забрали в армию, некому работать на земле, сдавать некому величкину землю.
Людмила Петровна не разбиралась в том: вдвое или только на одну треть снизил Кузьменко арендную плату. Но и не приглядываясь особенно к своему приказчику, она замечала, что он и его семья (двоих сыновей обучал теперь в смирихинской гимназии и, слух шел, купил домик в городе) не могут посетовать на жизнь.
Иногда он приходил и жаловался на правительственных чиновников: они забирали у окрестного населения молочный скот, в то время как жирный, яловый шел на спекуляцию.
«А не все ли мне равно?» — рассеянно слушала его Людмила Петровна, ничего не понимавшая в этих вопросах.
Случалось, от скуки, — заходила, чтоб тотчас же уйти, на кузьменковскую половину дома и — вечером — заставала там одну и ту же компанию: фельдшера Теплухина, сутулого, чахоточного о. Никодима, безбровую с лицом, как тыква, попадью и мельнику Стеценко — остролицего, с крысиными усами и такими же Мелкими глазками отменного пьянчужки, обладателя самого лучшего, как удостоверяли все, самодельного аппарата для гонки крепкой «ханжи».
Кажется кроме войны, была всегда у них одна и та же тема в разговоре за пирогом и наливкой: ругали и в чем-то преступном подозревали местного учителя, сторонившегося их и по прочтении каждого нового номера газеты «Киевская мысль» зловеще и загадочно говорившего соседям: «Куда живот, туда голова сунется. Быть чему-то — амба!»
Что означали эти слова — никто толком не понимал, и, вероятно, поэтому приезжал недавно из города жандармский унтер-офицер Чепур, посетил учителя и учинил в его доме безрезультатный обыск.
Раза три наведывался Назар Назарович и в дом покойного генерала Величко. Цель его приезда была ясна Людмиле Петровне: рыжеусый, выпуклоглазый унтер осуществлял за ней надзор, предписанный приказом из столицы.
Смешно подумать, — что мог он писать о ней в своих малограмотных рапортичках!..
Впрочем, если бы она сама составляла их, сама на себя доносила, читать бы их было одинаково скучно: ее жизнь лишена была теперь поступков.
…К городу подъезжали в полдень.
Теплухин предложил остановиться в смирихинском доме Георгия Павловича, но Людмила Петровна решила заехать прямо на земскую станцию и оттуда сразу же отправиться по делам к нотариусу.
Через четверть часа сани качнулись на горбатеньком мостике, переброшенном над впадиной уличной канавы, и, расставшись со снежной утоптанной дорогой, лошади побежали в узкий, полный выбоин тупичок заезда в калмыковскую усадьбу.
Широкая спина ямщика Юхима закрывала от его пассажиров, сидевших глубоко под верхом в санях, коротенький путь до крыльца, самое крыльцо и подымавшихся по его ступенькам двоих людей: в шапке и студенческой фуражке.
Обладателем последней был Федя Калмыков.
Федя приехал из Киева за несколько часов до смерти отца.
Он вбежал в дом и сразу все понял: бросившаяся на шею мать — плачущая, с растрепанными волосами, прильнувшая к нему Райка — она вцепилась в его руки и долго не отпускала их; оба Калмыковых — Семен и Гриша, молча кивнувшие ему головой; доктор Русов, держащий в руках кислородную подушку; какой-то плешивый, с узкой бородкой человек в белом халате, оказавшийся фельдшером.
Стояла вытащенная из родительской спальни кровать с беспорядочно наваленными на ней подушками, одеялами и верхней одеждой пришедших людей.
И — запах валерианки из незаткнутой бутылочки на рояле.
— Идем… идем к нему, сын мой, — траурно-торжественным, истерическим шепотом говорила ему Серафима Ильинична, указывая рукой на дверь в соседнюю комнату, — наступил горький, горький час, сын мой.
— Я один… Никто не ходите со мной, — нахмурил брови Федя, целуя мать.
Он подошел к доктору Русову:
— Николай Николаевич, что же это случилось?
— Кровоизлияние в мозг. Кроме того — пневмония.
— Ну, и как?
Доктор Русов положил ему руку на плечо и тихонько сжал его.
— А в Киеве-то морозы? — сказал он после минутной паузы, и, как обычно в таких случаях, нарочитость и бессодержательность заданного вопроса заменили тягостный, печальный ответ сочувствия. И глаза Русова смотрели в сторону.
Федя на цыпочках вошел в комнату отца.
Мирон Рувимович лежал на кровати. Голова его была глубоко закинута на подушке, глаза полузакрыты, так же как и обнесенный усами и бородкой влажный рот, пропускавший сквозь себя грудной клокочущий хрип. Высокая розово-белая грудь его, на которой раскинуты были крыльями мелко вьющиеся темнорыжие волосы, медленно, коротко вздымалась, бессильная сделать полный выдох.
Мирон Рувимович был в забытьи.
— Папа… — тихо сказал Федя. — Папочка. Мой родной папочка… — шептал он, прислушиваясь к булькающему, клокочущему хрипу отца. — Мой дорогой, любимый, родной. Скажи… скажи нам…
Он беззвучно зарыдал, стараясь сдержать свой плач, чтобы его не услышали в соседней комнате. Он ощущал большую, нахлынувшую горячей волной жалость к умирающему отцу. Это чувство толкало его опуститься на колени, взять руку отца в свою и прижаться к ней вздрагивающими, непослушными губами.
Он шагнул к кровати, нагнулся и, осторожно притронувшись к лежавшей поверх одеяла отцовской руке, нежным касанием губ поцеловал ее. Он боялся почему-то, что она — холодная, безжизненная, но рука была тепла, мягка, надушена знакомым по запаху одеколоном, который всегда употребляли у них в доме.
Потом он поцеловал и вторую руку, чуть приподняв ее и прижимаясь губами к широкой ладони, — испытывая блаженную ребяческую радость от того, что ощутил вдруг, к счастью своему, как зашевелились в тот момент пальцы отца, словно он и впрямь, пожелал погладить Федино лицо. Феде показалось даже, что Мирон Рувимович раскрыл свои слепые глаза и скосил их в его сторону.
Федя заглянул в его лицо, — оно ничуть не оживилось. Всегда теплые карие глаза неуверенно, как у всех слепых, перемещавшиеся в узком продолговатом разрезе слегка собранных складками век, теперь глядели из-под них застывшим, помутневшим стеклом, с которого силилась скатиться на ресницы давно набежавшая, уже нечувствительная слеза. Сдвинутый на сторону и потому приоткрытый, параличный рот уродовал знакомые черты любимого, родного лица, — хотелось пальцами стянуть, наложить ровненько одну на другую жалобно искривленные, синеющие губы.
Федя снова прижимался лицом к отцовской ладони, и снова пальцы отцовской руки легким касанием ощущали его щеку.
— Отец мой… отец, — повторял он это слово, отдав себя целиком ему.
Кажется, впервые в жизни оно, это столь привычное слово, раскрывало его чувствам, освобожденным теперь от всего обычного, заурядного, всю глубину своего значения, смысла, все неумирающие чувственные связи с ним самим — Федей.
Он вдумывался в это слово, как если бы опускался в глубокий, бездонный колодезь — чистый и неожиданно светлеющий, чем больше в него погружаешься.
Это было открытие им новой радости, сделанное в несчастье…
Вошла Серафима Ильинична, — он оставался в такой же позе, как и был.
Только взглянул на мать: не расчувствуется ли, не станет ли еще больше плакать, увидя эту сцену прощания.
Но мать владела собой.
В какой-то момент Федя уловил на себе ее взгляд, и это, как показалось ему, был обычный — заботливый и вопрошающий — взгляд Серафимы Ильиничны, занятой своим сыном:
«Осунулся ты, мой мальчик… Может быть, плохо питаешься?.. Ты ничего не сказал мне об университетских зачетах, — почему?.. Как я рада, что ты приехал… Смотри: у тебя отлетела одна пуговица на тужурке, — я тебе пришью… Ты не простудился в дороге?.. Прости, что мы тебя огорчаем… Дай я тебя — обниму и поцелую, мой дорогой сын», — и еще что-нибудь, в этом роде.
На минуту ему стало обидно (обидно за отца), что она может думать сейчас о нем, Феде…
Она подошла к кровати и носовым платочком, лежавшим тут же, под подушкой, сняла пот с лица мужа, вытерла его влажный рот, нежно провела рукой по его волнистым, очень мягким, как шелковые пряди, волосам и присела рядом, в кресло, стоявшее у кровати.
— Когда ты получил мою телеграмму? — спросила она Федю.
Он вздрогнул, удивившись, что она ничуть не понизила свой обычный голос: «Ах, какая! Ведь он может…»
Ему казалось, что громкий голос разбудит, испугает уснувшего отца, и это доставит ему излишние страдания.
Он примирился уже с этим мучительным клокотанием и тяжелым свистом, но он боялся услышать стенания и тот мычащий крик, который должен будет, вероятно, издать, как это свойственно паралитикам, его родной, лишенный речи отец.
Но, очевидно, никакой уже голос не мог вывести его из забытья. Мать это знала. Что-то новое появилось в их доме, к чему Федя еще не привык.
Вопрос матери был из тех, которые минуту назад посылала ему взглядом, — и Федя ничего не ответил ей. Когда появился в комнате плешивенький фельдшер с кислородной подушкой, — он вышел в столовую, и дядя, Семен Калмыков, встав, отдал ему свой стул.
Некоторое время все молчали.
Низенький — рядом с братом, унаследовавшим саженный рост старика Калмыкова, — плечистый Гриша, сцепив руки на пояснице, ходил из угла в угол медленными, что несвойственно было ему, и мелкими шажками. Он часто шмыгал длинным носом (плохая привычка с детства) так сильно, что острый кончик его загибался, как флюгер, набок. Гриша мысленно, вероятно, с кем-то разговаривал или спорил, потому что в таких случаях, как и сейчас, он не мало раз высовывал кончик языка и быстро облизывал им свои губы.
Семен, стоя у окна, сосредоточенно срезал большими ножницами ногти на руке, — он связал себя этим занятием на верный десяток минут.
Райка ушла в кухню поесть чего-нибудь.
Доктор Русов сидел за обеденным столом, навалившись на него всей грудью, подпирая рукой голову, и выжидающе, как заметил Федя, посматривал на него своими светлозелеными, как у воробья, глазами.
Николай Николаевич был связан с калмыковской семьей долголетним знакомством, и его встречали здесь не только как врача, но и как друга. Федя понял, чего ждет от него сейчас Русов: хотя бы несколько слов о сыновьях — здоровы ли, что поделывают? Он всегда скучал по ним.
И, отвечая на этот молчаливый родительский вопрос, Федя заговорил первым:
— Вчера как раз я видел Вадима и Алешу. Очень бодры, много успевают. Они ведь замечательные у вас! — искренно думал он так о братьях Русовых.
— A-а… Спасибо, голубчик! — растеклась улыбка по широкому, лунообразному лицу доктора.
Он был очень некрасив — белокожий эфиоп с толстыми губами, с раздавленным в обе щеки приплюснутым носом, на котором, как подтрунивали над ним его собственные дети, не было даже «седлышка» для очков, — захоти он их носить. Но когда улыбался (всегда долгой ребячьей улыбкой, хвалящей и поощряющей того, о ком шла речь) — улыбка эта лучами доброты согревала внешне угрюмое лицо Николая Николаевича и мигом сгоняла его уродство.
— Спасибо, спасибо…
Он ни о чем больше не спросил, удовлетворившись краткой весточкой о детях, считая, очевидно, бестактным подробно расспрашивать сейчас о них.
Из чувства благодарности к добрейшему и чуткому Николаю Николаевичу Федя принес еще одну дань его отцовскому любопытству:
— Мы вместе были на сходке. Речи при открытии Думы обсуждались. В газетах — белые полосы, а у нас читались вслух: Милюкова, Шульгина и даже Пуришкевича… Алеша ваш выступал. Да еще как!.. И Вадим тоже.
Доктор Русов встал, Гриша Калмыков остановился посреди комнаты, и только Семен не обнаружил как будто и тени любопытства, занятый своими ногтями.
— Да, событий — прямо скажем!
Пришлось бы теперь рассказывать все по порядку, но разве время сейчас для этого? — И Федя замолчал.
О чем-то шепотом теперь, словно не желая вторгаться в его сыновьи раздумья, говорили друг с другом в углу комнаты Гриша и Русов. Вероятно — не об умирающем, а о том, что так скупо поневоле рассказал им Федя.
И он остался опять один на один со своими мыслями.
Когда пришла из кухни Райка — с виноватым, сконфуженным лицом: «Может быть, нехорошо, правда, кушать, когда папа умирает?» — он привлек ее к себе, ласково похлопал по плечу и, стараясь улыбнуться, сказал (и получилась та же пустая интонация, что и у доктора, когда спрашивал: «А в Киеве-то морозы»):
— Ну, как дела, четырехклассница?
Она судорожно вздохнула и засопела носом.
Он заглянул в ее лицо, однако тотчас же отвел взгляд, боясь, как бы она не разревелась, встретясь с ним глазами. Но сестра отыскала его глаза и, целуя их жирными — после еды — губами и потом вновь глядя в них, тихо, чтобы никто не слышал, спросила:
— А он еще думает, или это уже просто так? Ему, наверно, не страшно умирать. Слепым, наверно, не страшно: ведь темно же им и тут и там! — неожиданно закончила она. — В темноте и не заметит…
— Ребенок ты еще! — сказал Федя, спуская ее с колен и дергая, как любил часто делать, за косички.
Она была очень похожа на отца, и потому Федя испытывал теперь к ней особую нежность.
Скуластенькая, с вдавленными височками, небольшие черненькие глаза, стянутые узким разрезом век, не хрупкая, со смуглой — это уже от матери — тонкой кожей на лице, — Райка напоминала всем этим маленькую японку. Ее так и дразнили в гимназии.
«В темноте и не заметит… — повторял Федя в уме ее наивные слова. — Вот какое дитя!»
Вошел разыскивающий хозяина хромоногий, с тающими морозными сосульками на табачной бороде старший приказчик — остроносый, как птица, Евлампий. Он принес с собою сухую свежесть холода, неустранимый запах конюшни и ямщицкой овчины. И — ворчливый, громкий, борющийся с одышкой голос всегда обремененного чужими заботами, но недостаточно ценимого человека.
— Тише! — оживился теперь Семен Калмыков, а сам со стуком бросил ножницы на стол. — Я иду, сейчас иду. Не трендыкай тут!
Он увел Евлампия в кухню, но теперь только и расшумелся во всю свою всегдашнюю сварливость понукающий хозяином старый приказчик.
— Хиба я могу послать забильного Ваську? — раздавался на всю квартиру его голос. — Це тильки дурак так скаже!
«Боже мой, о чем они горланят?! — посмотрел вокруг (чувствуя сам, что жалобно), озлился Федя. — Нашли время и место!..»
Он бросился на кухню и прикрикнул на них:
— Замолчите, пожалуйста! Совести нет! Если не щадили человека при жизни — умейте уважать хоть его смерть.
Окрик подействовал, но и приказчик и дядя, оба смотрели на Федю равно непонимающими глазами.
Через минуту он приписал это тому, что оба одинаково почти некультурны, и вспомнил всегдашнюю печаль Серафимы Ильиничны: как тяготила ее жизнь на этом грубом калмыковском дворе!
Но в следующую минуту он винил уже самого себя: может быть, чересчур велик был пафос в его словах, а мысль перед тем была куда ясней и проще!
Ему показалось вдруг, что не его обидели, а он сам обидел этих людей, и ему стало неприятно. Раздосадованный — он возвратился в столовую, ведя с собой за руку жалостно ухмыляющегося дядю Семена.
— Прости меня. Но ведь ты понимаешь… — говорил ему, тяжело вздыхая, Федя.
На сей раз, конечно, дядя все понимал.
Мирон Рувимович умер еще при дневном свете. Грудь перестала дышать и на середине хриплого вздоха издала коротенький осекшийся свист, — как будто вдруг с хрустом сломалась игла, которой проводили по тонкой шелковой ткани.
Через полчаса в доме стали появляться люди, которых меньше всего Федя мог ждать. Он понимал, что их приход связан с предстоящими похоронами, но это и казалось странным, потому что при жизни Мирон Рувимович ни с кем из них не встречался и не знал их голосов.
Всем теперь в доме распоряжался Семен Калмыков. Верней — им руководили какие-то посторонние, чужие Феде люди, которые почему-то решили, а дядя Семен согласился с ними, что хоронить надо сегодня же.
— Отчего им некогда? Чего они торопятся, бессердечные люди?! — взмолилась Серафима Ильинична. — Ведь это выйдет к ночи — так вора не хоронят!
Она искала взглядом Фединой поддержки, она, конечно же, была уверена в ней: вот он прикрикнет по праву на всех, и никто не решится ему возражать.
Но он, никак не предполагая, что похороны возможны так скоро, никак мысленно не подготовленный к тому, растерялся в первую минуту, не знал, что сказать.
Мать огорченно удивлялась его молчанию, дядя Семен, отведя в сторонку, говорил: «Ну, что изменится за ночь? Только больше страдать будет мама. Случилось, — горя не исправить!» И Федя решил, наконец: «Это правда, будем хоронить сегодня».
Он подошел к матери, обнял ее и, зная, как дорожит она каждой его лаской, несколько раз при всех, поцеловал в голову.
За несколько минут до начала траурной процессии появился в квартире извозчик — «кормилец» — Карпо Антонович. Как всегда, принес на сохранение снятую с лошади упряжь и, как всегда, был во власти большого хмеля, чего и не скрывал.
С волочащимися по полу вожжами в одной руке, с кнутом в другой, он бесцеремонно растолкал собравшихся и пробрался к покойнику. Сняв шапку, стал перед ним на колени и присосался пьяными губами к его лбу.
— Уходи, уходи! — отталкивали его с разных сторон.
Тогда он поднялся, уронил на пол вожжи и освободившейся рукой стал выворачивать карман штанов, где находилась обычно дневная выручка. Зажав всю ее в дрожащем кулаке, он распустил вдруг кулак, и деньги — медяки, серебро, бумажки — посыпались на мертвое тело Мирона Рувимовича, а несколько монет упали с него и со звоном покатились по полу.
— Прощай, душа-барин! — бормотал пьяный Карпо Антонович, тряся длиннющей своей бородой. — Посильно, конешно, буду стараться для сирот твоих…
Давно уже зажглись огни в домах, когда траурная процессия двинулась к кладбищу.
Улицы были пустынны, и только попадались на пути стайки мальчишек, катавшихся на коньках. И каждая из таких встречавшихся стаек некоторое время бежала за процессией, по бокам и впереди нее, — для мальчишек это было случайное развлечение на улице, — затем поворачивала обратно, как только теряла из виду свое постоянное место для катанья.
Был сухой и крепкий, как спирт, морозный вечер. На пустынном безоблачном небе проступали белые, словно крупинки соли, неподвижные звезды.
Памятники на кладбище были занесены снегом. Они стояли вкопанными сторожами, запахнувшимися в широкие иссиня-белые шубы.
— Вот дедушка, — указал Гриша Калмыков Феде, как только они вступили на главную дорожку, начинавшуюся сразу же от ворот.
Широкий кирпичный домик хранил под цементным полом своим прах родоначальника — Рувима Лазаревича.
Федя не любил кладбища и никогда почти не принимал участия в похоронных проводах, но сейчас без отвращения, бесстрастно следовал за Гришей по кладбищенским дорожкам, зная, что тот, очевидно, ведет его к месту, где через каких-нибудь четверть часа ляжет, чтобы уже никто не тронул его никогда, Мирон Рувимович.
Кладбищенские землекопы возились у свежевырытой могилы. Они работали при дымящем свете факела. Он тщетно облизывал своим вытягивавшимся, как у коровы, бурым на морозе языком спускавшиеся над могилой вишневые ветви. Обледенелые в густой бахроме снега, поблескивавшего, как ватные елочные игрушки, слюдяным порошком, — они только коротко потрескивали, но не зажигались.
Федя был доволен, что летом тут расцветет вишня и наклонит свои длинные сытые ветви над этим памятным для него местом…
Хрустел снег по дорожке, слышны были торопливые шаги и чьи-то голоса: шли осведомляться, готова ли могила принять тело Мирона Рувимовича.
— Паныч, надо бы на ханжу прибавить, — сказал один из упарившихся могильщиков и, утирая рукавом вспотевший лоб, посмотрел поочередно на обоих Калмыковых. — Могила — первый класс, хучь и ночью делана!
Федя вынул и протянул ему деньги. Гриша Калмыков недовольно буркнул:
— Ты расточитель. Это — наследственность…
Неизвестно, кого еще хотел он упрекнуть, кроме Феди.
Через несколько минут все было кончено.
Поздним вечером он ввел мать и сестру в дом. Чья-то заботливая рука приготовила на столе рядом с едой склянку с нашатырным спиртом. Серафима Ильинична не притронулась к ней, но туго завязала голову мокрым полотенцем: начиналась мучительная мигрень.
Серафима Ильинична не плакала, не стонала — ни ночью, ни на следующий день, — Федя восторгался в душе выдержкой матери, ее поведением и был благодарен ей за это.
Она говорила только приходившим ее навестить:
— Теперь нас трое, и мой сын заменит своей сестре отца. Бедный мальчик! Вся тяжесть семьи пала теперь на его голову!.. — как будто и впрямь эта тяжесть лежала когда-нибудь на слепом, беспомощном муже, а не на ней самой, Серафиме Ильиничне.
Федя решил пробыть дома несколько дней, а затем вернуться в Киев — продолжать университетские занятия. За это время он побывал у ряда хороших знакомых и приятелей и в первую очередь у Русовых, куда был специально зван.
Он явился туда вечером и застал там постоянных гостей широко радушной Надежды Борисовны и Николая Николаевича: несколько врачей, среди которых был один из уезда; адвоката Левитана с женой; служащего городской управы, бухгалтера Ставицкого, очень схожего лицом с Карлом Марксом, но в пенсне; заведующего земской статистикой — скрюченного, полупараличного украинца, Ловсевича. Получасом позже пришел сюда же Гриша Калмыков и еще кто-то.
На улице вьюжило в этот час, крыльцо докторского домика занесло сыпучим сугробом так, что трудно было открывать парадную дверь и приходилось бочком входить в нее, а в квартире встречала приходящего — еще в коридоре — румяная, если бы можно было ее увидеть, ласкающая теплота хорошо истопленных печек, вблизи которых потрескивали на стене жарко обогретые обои.
Низенькие потолки делали всех выше, чем они были, и гости, не желая «маячить» друг перед другом в небольшой, с одним окном только, столовой, располагались до приготовлявшегося ужина в остальных комнатах квартиры.
Никто не был в претензии на хозяев за то, что некоторое время они сидели только с Федей. Во-первых, все знали о постигшем его горе, и, конечно же, Русовы, как всегда, должны быть первыми утешителями. И, во-вторых, студент Калмыков передает, вероятно, подробности о жизни Вадима и Алеши, — с этим тоже надо считаться всем добрым знакомым чадолюбивых Русовых.
Так оно и было в действительности.
Федя все рассказал, что знал, о своих друзьях и прибавил, что милюковскую-то речь в Думе, не пропущенную цензурой, оглашал на сходке не кто иной, как Вадим, умело и выразительно ее прочитавший.
— Ах, вот как? — заблестели живые, черного, мягкого огня глаза Надежды Борисовны. — Ведь мы живем здесь в дыре и ничего толком не знаем. А кому, если не нам, надо знать все эти речи?
— Может нагореть еще, — с легкой тревогой сказал доктор Русов, думая в этот момент о своем старшем сыне.
— Твой сын студент, а ты все еще думаешь, что он приготовишка! — укоряла его вспыльчивая Надежда Борисовна.
— Если нагорит, то всей сходке, — успокоил Федя доктора. — Между прочим, некоторые речи я привез с собой, они у меня в кармане, — сказал он. — Я могу вам дать их почитать.
— Что же вы молчите, Феденька? — воскликнула Надежда Борисовна, схватив его за руку. — Это надо всем, всем! Я и ужин задержу, никому не дам, — что вы, что вы! — побежала она оповещать гостей о приятном сюрпризе.
Федя и сам в душе считал, что следует ознакомить всех с запретными думскими речами, и потому сразу же согласился с предложением Надежды Борисовны. Он вынул из кармана и развернул вчетверо сложенные листки желтой папиросной бумаги, на которых густо, без абзацев, лежали машинописные строчки. Ничего, что они немного стерлись на сгибах, а последний листок изрядно истрепался, — все равно Федя помнит почти каждое слово. Еще бы!
Он вошел в столовую.
Все обступили его, и каждый старался сесть к нему поближе, заглянуть в листки, а врач из уезда — лысый, желтоусый Горохов со старческими, свисающими у рта мешочками — даже пощупал листки, как щупают на базаре предстоящую свою покупку крестьяне, с которыми он проводил всю свою жизнь в селе.
Русовская прислуга Христя нарушила, однако, порядок времяпрепровождения, который пожелала минуту назад установить ее хозяйка. Христя внесла одно за другим два огромных блюда с традиционной, любимой пищей докторской семьи: на одном, погруженные в гусиный жир, навалены, были белые, величиной каждый в большое ухо, вареники с капустой, на другом — облитые горячим маслом узкие остроконечные гречневые вареники с творогом.
Как можно было устоять против такого соблазна? И Надежда Борисовна конфузливо развела руками, не в силах рассердиться на в старательную, победоносно оглядывавшую всех Христю.
— Кушайте на здоровье, — сказала она с певучим украинским акцентом. — Зараз самовар ще подам.
— Нет, уж с самоваром вы, Христя, погодите! — ответил за всех Ставицкий, отбивший себе место рядом с Федей.
Отдали первую дань великолепным Христиным вареникам, Ставицкий — опередив всех остальных гостей.
— Читайте, Иван Игнатьевич, — предложил ему кто-то.
— Позвольте… Может быть, Федя сам хочет? — посмотрел на него поверх очков сидевший напротив Левитан!
— Нет, почему же… Пожалуйста, читайте. Или вы хотите, Захар Ефимович? — догадался Федя о его желании.
Но Ставицкий уже положил перед собой желтые папиросные листки, разгладил их рукой и, глазами призвав всех к тишине, начал:
— «Господа члены Государственной думы!»
— Позвольте, — чья речь? — осведомился один из врачей — хирург Коростелев, задержав на полпути между тарелкой и ртом проткнутый вилкой вареник.
— Милюкова.
— A-а… Ну, ну!
— «Господа члены Государственной думы, — повторил Ставицкий. — С тяжелым чувством я вхожу сегодня на трибуну. Вы помните те обстоятельства, при которых Дума собиралась больше года тому назад, тринадцатого июня тысяча девятьсот пятнадцатого года. Дума была под впечатлением наших военных неудач. Вы помните, что страна в тот момент требовала объединения народных сил и создания министерства из лиц, к которым страна могла бы относиться с доверием. Вы помните, что власть пошла тогда на уступки. Ненавистные обществу министры были тогда удалены: был удален Сухомлинов, которого страна считала изменником. (Голос слева: «Он и есть!») И, господа, общественный подъем не прошел тогда даром. Какая) господа, разница теперь, на двадцать седьмом месяце войны!..»
Ставицкий запнулся, откашлялся и продолжал:
— «И если прежде мы говорили, что у нашей власти нет ни знаний, ни талантов, то теперь эта власть опустилась ниже того уровня, на каком она стояла в нормальное время нашей жизни. И пропасть между нами и ею расширилась и стала непроходимой. (Голос слева: «Верно!») Тогда ненавистные министры были удалены, теперь число их увеличилось новым членом. (Голоса слева: «Протопопов». Голос справа: «Ваш, ваш Протопопов!»).
— Голос справа? Идиоты! — прервал чтеца Гриша Калмыков и быстро облизал губы.
— Не совсем… — усмехнулся украинец Ловсевич.
На его лице полупаралитика всякая улыбка казалась ядовитой, кривой.
— Господин министр и после своего назначения не разорвал со своей октябристской партией, а она входит в «прогрессивный блок»!
— Но разве можно отождествлять?.. — разгорячился Гриша Калмыков.
Но спор тотчас же был прекращен:
— Постойте, господа!
— Дайте послушать до конца!
— Продолжайте, Иван Игнатьевич!
И Ставицкий, успевший за эту минуту пробежать глазами вперед по листку и читавший до того медленно и не всегда уверенно, боясь стертых букв, продолжал теперь громче обычного и горячо:
— «Не обращаясь к уму и знаниям власти, мы обращались тогда к ее патриотизму и добросовестности. Можем ли мы сделать это теперь? (Голоса слева: «Конечно, нет!») Господа! У меня в руках номер «Берлинер Тагеблат» от шестнадцатого числа прошлого месяца, и в нем статья под заглавием: «Мануйлов, Распутин, Штюрмер…» Несколько лет тому назад чиновник русской тайной полиции Манасевич-Мануйлов попробовал было исполнить поручение германского посла Пурталеса, назначившего крупную сумму, говорят — восемьсот тысяч рублей! — на подкуп «Нового времени». Вот, господа, на какого рода поручения употребляли не так давно личного секретаря министра иностранных дел Штюрмера! (Продолжительный шум слева, голоса: «Позор!») Почему этот господин был арестован одно время? Он был арестован за то, что взял очень крупную взятку. А почему он был отпущен — это тоже не секрет: он заявил следователю, что поделился взяткой с председателем совета министров. (Шум. Родичев с места: «Это все знают». Шум. Голоса: «Тише, дайте слушать»)… Благодаря политике ослабления Думы Штюрмер стал человеком, который удовлетворяет тайным желаниям правых, вовсе не желающих союза с Англией. Вот, господа, что писали в немецких газетах…»
— Браво, Павел Николаевич! — зааплодировал Гриша Калмыков, и опять на вывороченных угодливых губах Ловсевича, как дозорный, вызванный шумом противника, появилась насмешливая, колючая улыбка.
Чтение продолжалось:
— «Я миную стокгольмскую историю, как известно, предшествовавшую назначению теперешнего министра внутренних дел и произведшую тяжелое впечатление на наших союзников. Я хотел бы думать, что тут было проявление того качества, которое хорошо известно старым знакомым А. Д. Протопопова: его неуменье считаться с последствиями своих собственных поступков! (Смех, голоса слева: «Хороший ценз для министра!» Голос справа: «Ваш лидер!»)…В его назначении сыграла роль та прихожая, через которую вместе с другими прошел и А. Д. Протопопов министерскому креслу. Я вам называл этих людей: Мануйлов, Распутин, митрополит Питирим, Штюрмер. Это та придворная партия, победой которой, по словам «Нейе Фрейе Прессе», было назначение Штюрмера».
На этом месте Иван Игнатьевич снова запнулся и беспомощно посмотрел на Федю: дальше следовал немецкий текст:
— Пожалуйста… я могу продолжить, — протянул руку к листкам адвокат Левитан при общем одобрении: Иван Игнатьевич читал чересчур монотонно, да и, по всему видно было, немножко устал.
— Сейчас, — распоряжался листами Федя.
И прежде, чем передать их адвокату, огласил немецкую цитату: «Das ist der Sieg der Hofpartei, die sich um die junge Zarin gruppiert».
— Это победа придворной партии, — в несколько голосов стали переводить присутствующие, стремясь обогнать друг друга, — …партии, которая группируется вокруг молодой царицы.
— Так и сказано?! — воскликнул уездный врач.
— А вы как думали?! — торжествующе сказал Захар Ефимович, словно это он сам произносил с думской трибуны милюковскую речь.
Он заполучил, листки и звенящим, скандирующим каждую фразу тенорком продолжал чтение. Словно перепрягли лошадей и свежей, веселой рысью двинулись в путь по расцвеченной красками дороге после утомительно-медленной езды по ровной унылой местности.
Да и сам Ставицкий слушал не без удовольствия выразительный голос опытного, привыкшего обращаться со словом адвоката. К тому же представилась теперь возможность закурить трубку, чего давно уже жаждал.
— «…Говорят, один член совета министров, услыхав, что на этот раз Государственная дума собирается говорить об измене, взволнованно воскликнул: «Я, может быть, дурак, но я не изменник!» (Громкий смех Думы.) Господа, предшественник этого министра был, несомненно, умным человеком, так же, как предшественник теперешнего министра иностранных дел был честным человеком!»
— Что делается, что делается?! — потирал руки от удовольствия уездный врач, подмигивая своим соседям направо и налево.
— «…Когда в решительную минуту, назначенную заблаговременно, у вас не оказывается на месте ни войск, ни снаряжения, чтобы нанести решительный удар противнику, что это: глупость или измена?!» — звенел уже на всю квартиру страстный адвокатский голос, — да так, что выбежала из кухни встревоженная Христя и просунула голову в дверь столовой.
Да, шумно было сегодня в докторской квартире…
После милюковской речи снова принялись за вареники, а шульгинскую уже читали во время еды, обсуждая заодно и ту и другую.
«Я не принадлежу к тем рядам, — говорил Шульгин, — для которых борьба с властью есть дело, если не сказать — привычное, то во всяком случае давнишнее. Наоборот, в нашем мировоззрении та мысль, что даже дурная власть лучше безвластья, эта мысль занимает почетное место. И тем не менее при создавшихся обстоятельствах у нас есть только одно средство: бороться с этой властью до тех пор, пока она не уйдет. Бороться с властью можно и надо, потому что борьба наша, господа, предотвращает революционную борьбу в стране. Мне кажется, что рабочие будут спокойнее и усерднее стоять у своих станков, зная, что Государственная дума исполняет свой долг. И даже тогда, когда в их мастерские будут врываться банды и говорить им: «Забастуйте для борьбы с правительством», — я уверен, рабочие скажут: «Прочь уходите. Вы — или шпионы, или провокаторы, потому что борется с правительством Государственная дума, и она борется с правительством за Россию». Так, господа!..»
Да, шумно было сегодня в докторском домике.
И тут Федя невольно вспомнил Алешу Русова.
Как-то возвращались со сходки домой, и Алеша говорил ему и брату:
«Вы меня ругаете за мое «мальчишеское», резкое выступление… А я вам повторяю: погодите, придет революция, и этот самый хваленый Милюков будет расстреливать демократию из пулеметов!»
Рассказать сейчас об этом? Или без ссылок на Алешу — повторить его фразу? Вот поднялся бы шум!..
И Федя прикинул в уме, кто мог бы к нему присоединиться. Выходило — никто. Разве только этот украинец Ловсевич и то не было в этом уверенности.
А уж Гриша, считавший себя с недавних пор «плехановцем», озлобился бы больше всех и, наверно, презрительно обозвал бы Федю «мальчишкой».
Спора собственно и не было. Думским речам обрадовались, хвалили их почем зря, высказывали всяческие догадки:
«Разгонят, теперь Думу?»
«Привлекут к ответственности Милюкова?»
«Уйдут Штюрмер и Протопопов?»
«Будут ли в Петрограде рабочие волнения?»
И все опасались одного: для борьбы с Протопоповым будут пущены все средства, какие только можно себе вообразить! Какое ему в сущности дело до будущего России!
А Захар Ефимович потерял бы отличную возможность блеснуть сегодня своим даром слова (когда же, как не сегодня!!), если бы не выступил с речью.
И он ее произнес. Отнюдь не повышая голоса, оставаясь сидеть на стуле, обняв за плечи соседа, но, как всегда, жадно смакуя слова, отделяя их друг от друга, — так, что на коротеньких желтоватых зубах в первую же минуту появилась, пенистая слюна.
— Россия стоит сейчас, как древний Геракл в хитоне, пропитанном ядом крови кентавра, — ударился в мифологию Захар Ефимович. — Он жжет ее! Она мечется в муках своего бессилия. Она взывает о том, чтобы правда русская дошла туда, где она должна быть понята, оценена и услышана. Рассвета еще нет, господа, но он не за горами, и настанет день, — я чую, — как солнце правды взойдет над обновленной родиной в час победы. Но этого рассвета еще нет. Он потребует, может быть, новых жертв — лучших сынов народа. Подождем, дадим эти жертвы в твердой уверенности, что в конце концов воссияет эта правда. И тот, кто должен услышать и почуять, — почует ее. Дума, господа, в эти тяжелые дни испытаний стоит на страже России, как верный Кочубей. Эх, что и говорить! — скромным, домашним восклицанием закончил свою речь Захар Ефимович.
Его наградили одобрительными возгласами и рукоплесканиями.
— Вот в Думу бы вам! — кивал желтоусый лысый врач из уезда.
Это была самая лестная похвала для смирихинского помощника присяжного поверенного.
«А может быть, придется еще?..» — словно говорили сейчас его выпуклые улыбающиеся глаза, устремленные мечтательно в одну точку.
Он так плавно и хорошо говорил по любому поводу, что невольно иногда хотелось хоть раз услышать его плохую речь!
«Бесструнная балалайка! «Я чую»… «правда русская»… «дадим, господа, жертвы», — передразнивал его про себя Федя. — Болтун! Ничего не стоит ему язык высунуть и положить на плечо!»
Федя рассердился и захотел как-нибудь насолить смирихинскому Златоусту.
И уже не проверяя себя, не успев подумать как следует, он мрачно буркнул вдруг чужие слова:
— Придет революция, и ваш Милюков будет расстреливать ее из пулеметов. Он, по-вашему, — «правда русская»?..
Уверенности не было в собственном голосе, — Федя с досадой почувствовал это и, не дожидаясь ответа Левитана (к счастью, тот не сразу сообразил, что именно к нему обращался студент Калмыков), вышел в следующую комнату, где уже был расставлен ломберный стол для преферанса, за который торопились усесться партнеры.
Минут десять он понаблюдал игру.
— Что же это: глупость или измена? — шутливо спрашивали теперь игроки своих визави, когда те делали неудачный, на их взгляд, выход картой.
Возвращались из гостей втроем: Федя — впереди, Гриша Калмыков и хирург Коростелев.
Только сейчас доктор вспомнил, что мог бы кое-что и он рассказать интересного Русовым и их гостям. Как же он мог забыть?..
Вчера явился к нему на прием в больницу молодой человек и попросил освидетельствовать место ранения. Рана зажила, но плечевая перевязка под одеждой не была еще снята, и молодой человек спрашивал, долго ли придется ее носить.
Он был очень разговорчив — этот пациент, и доктор Коростелев узнал, что он несколько часов назад только приехал из столицы на некоторое время к родным — «подкормиться», что он — конторщик на одном из петроградских заводов и что ранил его какой-то офицер во время разгона рабочей демонстрации.
Доктор удивился:
«Как? Была такая сильная демонстрация? Вот, живешь как в дупле, и ничего не знаешь…»
Конторщик рассказал кое-какие подробности и все ухмылялся: «Незримо, винтом-с дело! Нету ни одного человека, который бы, знаете ли…» — и доверительно подмигивал доктору.
Коростелев назначил ему прийти послезавтра: может быть, и разрешит снять повязку. Пациент обещал принести по секрету какую-то рабочую листовку, выпущенную в Питере против правительства и войны. Интересно!.. Господи, что только делается, а ты живешь тут в дупле!
— Вы уж, доктор, повнимательней будьте к нему, но листовку верните. Знаете, теперь какое время?! — отозвался на этот рассказ Гриша Калмыков.
— Э, голубчик, это я сам знаю! — поспешил согласиться Коростелев. — Был уже у меня однажды такой случай. Тоже — в плечо ранен, солдат с фронта, здешний парень. Вы учителя гимназии Токарева, наверно, знаете? Ну вот — его брат… Было это несколько месяцев назад. Пользовал я его тут, покуда срок ему дан был на излечение. Хороший парень, но против войны, понимаете, уж как настроен был! Все меня агитировал браковать в воинском присутствии побольше народу, — меня, знаете, зовут часто в эти воинские комиссии. Ну, так вот… Заезжает вдруг ко мне в больницу жандармский ротмистр и — сразу же: «Токарева, солдата, — знаете?» — «А что?» — «Разговоров, доктор, с вами никаких не вел? Только правду!» — «Конечно, вел, — отвечаю ему. — О своем ранении. А что такое?» Слово за слово, — выясняется: арестовав этого самого беднягу Токарева по приказу из столицы как политического и отправили для допроса в Петроград… Нет, что вы, голубчик, я и сам знаю! — принимая Гришин совет, пожимал на ходу Коростелев локоть своего спутника. — Осторожность — мать благополучия. Давно так сказано, голубчик!
Федя не слышал этого разговора.
Шли гуськом по узким, занесенным снегом тротуарам, и Федя шагал впереди, занятый своими мыслями. Когда распрощались с доктором, пошли оба Калмыковых рядом. Намело порядочно, — Гриша проверял палкой глубину снежной насыпи, чтобы не попасть в нее ногами.
— Сюда, сюда, — указывал он путь своей палкой.
Она досталась ему после смерти старика Калмыкова, — палка с роговым набалдашником, длинным и горбоносым, как орлиный клюв. Но ее пришлось подпилить, так как Гриша не вышел ростом в отца.
— Зайдем к Семену: у него, наверно, в железку дуются, — предложил он, останавливаясь у крыльца.
Федя не пожелал.
Дома его ждала телеграмма: из Киева — значилось на бланке. Федя распечатал ее и быстро пробежал глазами.
«Очень прошу срочно, телеграфируй квартирной хозяйке разрешила заехать твою комнату твоему другу Николаю Михайловичу Сергееву приехала живу дяди жду тебя ответа
Ирина Карабаева»Он еще раз, останавливаясь на каждом слове, перечитал сообщение.
«Что за Сергеев?.. Понятия не имею! — недоумевал он. Да и сергеевское имя и отчество ничего не говорило его памяти. Если бы не подпись Ириши, он склонен был бы думать, что на телеграфе перепутали адрес. И почему Ириша вдруг в Киеве?» — нарастало его удивление.
Укладываясь ко сну, Федя долго еще обдумывал эту телеграмму. Решил: завтра же ответит Ирише и протелеграфирует своей квартирной хозяйке. «Что за Сергеев? И почему она просит за него?» — уже засыпая, не мог он расстаться с этой мыслью.
Утром произошла встреча, которая напомнила ему очень многое.
Федя вышел из дому и направился к центру города, где находилась почта. По пути он решил зайти также в киоск купить газет.
Вчера из-за снежных заносов второй киевский поезд пришел поздно вечером (он прибывал обычно к концу дня), и смирихинцы устремились с утра к единственному в городе газетному киоску старика Селедовского. Из-за отсутствия прессы вчерашний день прошел у всех как-то нескладно, томила неизвестность, а с момента открытия Думы в Петрограде, когда пошли в газетах белые столбцы вместо отчетов, каждый день ждали жадные до новостей смирихинцы чего-то важного, особенного, решающего, быть может, и их собственную судьбу.
Киоск Селедовского стал теперь самым притягательным местом в городе.
Федя несколько раз пытался протиснуться в магазинчик, но каждый раз его оттирали вбок от дверей выбиравшиеся оттуда «счастливчики» и те, кто, как и он, ждали на улице возможности попасть в киоск. Наконец, в числе других, подталкиваемый сзади, он очутился одной ногой по ту сторону его порога.
В давке его кто-то сильно толкнул под ребро, — рассердившись, Федя оглянулся, чтобы выругать грубияна, но глаза его в эту секунду остановились на человеке, стоявшем далеко позади, у края панели.
Шапка-«финка», каких не носят здесь… Неживые, натыканные в верхнюю губу реденькие волосы. Мутные, разлившиеся во весь глаз, неспокойные зрачки…
Видал ли он сейчас Федю?
«Кандуша!» — хотел крикнуть ему Федя.
И может быть, выскочил бы обратно, на улицу, но под напором людей подался вперед, к прилавку, а вырваться из этой толчеи удалось не скоро.
Когда выбрался на улицу, Кандуши уже не было.
Федя добежал до ближайшего угла, поглядел в обе стороны, прямо перед собой, — нет, не приметить было кандушиной фигуры.
Он повернул обратно, перешел на противоположную сторону улицы, заглянул, приоткрывая двери, в булочную, писчебумажный магазин, к часовщику, в парикмахерскую, но Кандуши нигде не было.
«А зачем он собственно, мне нужен?» — опомнился тогда Федя.
«Но что он здесь делает? Почему он попал сюда?» — не оставляла в покое другая мысль.
Он решил продолжить свой путь.
До почты было совсем недалеко, и, быстро шагая, позабыв о приобретенных газетах, он через несколько минут подымался уже по лестнице в помещение почтово-телеграфной конторы.
Федя толкнул дверь, обитую клеенкой и туго открывающуюся (жалобно скрипел тяжелый дверной блок), и вошел в комнату. Запахло нагретым сургучом, клеем и штемпельной краской. Обдало лицо теплым сквознячком, хлынувшим сквозь открытые окошки служебной перегородки.
Не глядя ни на кого из толпившихся здесь горожан, он присел за столик, на котором лежали бланки для телеграмм, и, вооружившись пером, стал составлять две депеши в Киев.
«Что за Сергеев?» — подумал он снова, дожидаясь, покуда высохнут чернила.
Понес оба бланка к окошечку телеграфистки, для чего пришлось обогнуть перегородку, поставленную квадратом в помещении конторы.
Еще не дойдя до окошка, он увидел знакомую шапку и спину Кандуши, стоявшего вторым в очереди.
Словно боясь, что «Петр Никифорович» снова может исчезнуть, и не доверяя тому, что это действительно он, Федя подошел и тихо стал сзади него, выжидая поворота кандушиной головы.
Кандуша в протянутой руке держал заполненный телеграфный бланк. Федя прищурил глаза, вытянул, насколько мог шею и, увлекаемый обычным в таких случаях житейским любопытством, заглянул в белый листок.
Он заметил только несколько слов:
«Ковенский переулок дом… Межерицкому… ходатайствую… успеха дела… востребования…»
Номер дома был тот же, что и у журналиста Асикритова, «дяди Фома»! Что такое?
Он положил руку на кандушино плечо и сказал:
— Здравствуйте, Петр Никифорович.
Федина рука почувствовала, как вздрогнул Кандуша.
Пантелейка оглянулся, наткнулся глазами на студента и, выразив в одно немое мгновение испуг, растерянность, настороженность, наигранную обрадованность, — черт его знает, не разобрать было кандушиных «египетских» глаз! — приветливо воскликнул:
— A-а… Здравствуйте, Федор Мироныч! Какими судьбами, позволю сказать?
— Я вас хотел спросить о том же, — ответил Федя.
— Долог разговор, — понизил голос Кандуша и загадочно-обещающе улыбнулся. — А вы посредь года в провинции, почему?
— У меня отец умер, — не стал скрывать Федя и нахмурил брови.
— Ай-ай-ай… вот как! Что же это так? Простуда вышла или крови перегорели? Примите, барышня! — просунул Кандуша в окошечко свой бланк.
Он и сам втянулся головой туда, следя за действиями телеграфистки, хотя прямой нужды в том, конечно, не было. Просто — выигрывал время, обдумывая, как вести себя с Калмыковым.
Федя в свою очередь не знал, во что может вылиться их встреча. Ну, виделись случайно и разошлись каждый в свою сторону…
Может быть, после пятиминутного разговора Федя так и решил бы поступить, но подсмотренная строчка кандушиной телеграммы обострила его любопытство, вызвала разные догадки и толкала его на более длительную беседу с его петербургским знакомым.
Вспомнился тишкинский поплавок, письмо Людмилы Петровны в руках этого странного человека, его горячечная, исступленная ложь, так счастливо разгаданная, и многое, многое другое пришло на память Феди.
«Кто у тебя в Ковенском да еще в том доме?!» — рвался спросить он Кандушу: тот дом, — он так и стоит перед глазами!
Кандуша получил квитанцию и сдачу — веерок новеньких синих пятикопеечных бумажек, аккуратно собрал их, как колоду маленьких карт, и уступил Феде место у окошка.
— Подождите, я сейчас! — думая, что он может уйти тотчас же, обратился Федя к Пантелейке.
— Ах ты, гос-с-споди, боже мой, конечно, Федор Мироныч!
Он остался стоять тут же, рядом со студентом. Отогнул полу своего пальто и осторожно понес рукой деньги и квитанцию в карман брюк.
— Чего это вы так, как будто вывихнули руку? — заинтересовался Федя его медленными движениями.
— Был ранен недавно-с!.. Долог разговор, — прежним многозначительным тоном сказал Кандуша.
— Да что вы? Где же это так?
Глазами, бровями, ртом Пантелейка молчаливо изобразил: «Да уж, знаете, потом расскажу».
Нет, теперь Федя не отпустит его от себя!
— Господин студент, — спрашивала в окошко непонятливая телеграфистка. — В Киев «Караваевой» или «Карабаевой»? У вас не разберешь.
— Чернила, наверно, расплылись, барышня, я не виноват, Карабаевой. Через «б».
Теперь пришел черед насторожиться Кандуше.
— Вот и во второй телеграмме… — ворчала телеграфистка. Киев, Тарасовская тридцать восемь или восемьдесят восемь?
— Я, кажется, ясно написал: тридцать восемь! — рассердился Федя. — Такого и номера там нет — восемьдесят восьмого!
— А я почем знаю! — резонно ответила барышня.
— Сразу две депеши. И обе срочные, позволю заметить, — сказал Кандуша, когда они выходили на улицу. — Наверное, важные у вас дела, Федор Мироныч. Невесте, может, курсисточке какой?
— Квартирной хозяйке, — небрежно, делано скучно отвел его вопросы Федя.
— А я подумал, позволю признаться, хозяйской дочке какой, — приставал тот.
— Какой хозяйской дочке, Петр Никифорович?
— Георгия Павловича дочке, думал… Папаша мой так и величает его — большой хозяин стал, говорит папаша.
— Ах, вот что?
— Ну, да. Я и сообразил так, пипль-попль: не посватал ли Федор Мироныч из богатого племени?
— Чепуха! — отмахнулся с усмешкой Федя.
Он решил выяснить то, что его интересовало:
— А в Петроград возвращаетесь? Или нет?
— Думаю, конечно.
— А скоро, Петр Никифорович?
— Думаю, конечно, — повторил неопределенно Кандуша.
— На завод опять?
— Известное дело: табельщиком. По специальности, Федор Мироныч.
Они подходили к перекрестку двух улиц. Кандуша остановился на минуту и поворотом головы указал на свое поврежденное плечо:
— На заводах во как — кости ломают, Федор Мироныч.
Протянул руку в сторону городового, стоявшего у извозчичьей биржи, и сердито добавил:
— Вот эти самые. Фараоны.
— Сволочи! — выругался Федя от души.
Пантелейка воодушевился:
— Известное дело: куда иголка, туда и нитка, а куда царь — туда и псарь!
И он рассказал вдруг — ничего не утаивая, подробно — все, что мог, конечно, рассказать о бурном дне на Сампсониевском проспекте.
Но прихвастнул; выходило так, что каким-то образом он и был тот человек, который убил остервеневшего безрассудного прапорщика.
«Оттого и удрал сюда», — подумал Федя.
— Вот вы меня под сачком и держите, — сказал Кандуша, выпалив невольно, по привычке, одно из обиходных выражений охранки.
— Что значит: я вас «под сачком»? — недоумевая смотрел на него Федя.
Кандуша спохватился:
— Как бабочку, пипль-попль! А все от моего чистого доверия к вам, Фоварищ Федя. От дружбы… от совместного сицилизма, полагаю так!
— Что ж вы думаете: я вас могу выдать, что ли? — В Федином голосе была обида и брезгливость. — И потом… Говорите, пожалуйста, правильно: «социализм», а не «сицилизм»… «Сицилизм» — так говорят люди в насмешку, да еще фараоны. Охранка так издевается над революционерами!
И он вдруг пожалел не совсем грамотного питерского «табельщика»: до того растерянно и жалостливо смотрели сейчас кандушины глаза.
Так разговаривая, они дошли до заезда в калмыковскую усадьбу.
Желая навести разговор на кандушину телеграмму, но не зная еще, как это сделать, Федя готов был продолжать путь хоть до самой Ольшанки, где жил его спутник. Но тот сам стремительно повернул с улицы в тупичок, взяв под руку студента и быстро бормоча:
— Дело у меня есть к дяде вашему… почтарю, значит. Хотел просить вас, Федор Мироныч: посодействуйте… Собирался сам зайти завтра, когда к доктору пойду на осмотр… Да вот, раз уж тут находимся, — прошу вас, товарищ Федя. Мне съездить кой-куда в деревню надо.
Он и впрямь предполагал на днях отправиться со специальной целью в Снетин, к высланной туда вдове Галаган, но отнюдь не потому торопился сейчас на земскую станцию, в калмыковский тупичок.
На противоположной стороне улицы он увидел своим зорким глазом выходившего из аптеки старого знакомого: с унтером Чепуром у него не было никакой охоты встречаться в ту минуту, а Чепур сразу узнал бы его и окликнул.
— Посодействуйте… — просил он настойчиво Федю и невзначай оборачивался: не свернул ли сюда случайно и жандармский унтер?
Но, к счастью, унтер Чепур не появлялся.
Они взошли с Федей на калмыковское крыльцо.
В тупичок въезжали сани с Теплухиным и Людмилой Петровной.
ГЛАВА ШЕСТАЯ О ком и о чем думал Сергей Ваулин
Ваулинскую записку следовало доставить по адресу, указанному во время засады Надеждой Ивановной, и на следующий день после освобождения Ириша отправилась на одну из партийных «явок».
В записке Сергей Леонидович сообщал, что готовится к побегу вместе с типографским рабочим «Чиновником», которому просил также назначить место явки. Зная, какое важное поручение выполняет она, Ириша испытывала немалое волнение.
О событиях 17 октября ей ничего не было известно. А внезапное появление на громовской квартире и удачное бегство в ту же минуту какого-то солдата — также ничего не сказало ей, хотя догадывалась, что этот человек, должно быть, связан с партийной организацией. Никаких разговоров с Громовой после того охранник не допустил, а в тюрьме уже Ириша с ней не встречалась.
…На улице она старалась идти походкой праздного человека, часто останавливалась у витрин магазинов, переходила с панели на панель, — она опасалась, не выслеживает ли ее кто-нибудь из шпиков.
Может быть, с этой целью и освободили ее: чтобы напасть еще на какие-либо следы? — охвачена была подозрительностью Ириша.
Она избегала часто оборачиваться, но, переходя улицу, смотрела вбок: не приметит ли вновь лицо «спутника», уже попадавшегося сегодня на глаза. К счастью, ничего как будто не внушало ей тревоги.
Ириша вышла к Пескам, на Суворовский проспект, подошла к разыскиваемому дому, по номеру квартиры — № 6 — сообразила, что, вероятно, квартира эта в третьем этаже, и, оглянувшись в последний раз из предосторожности и не заметив ничего подозрительного, стала подыматься по широкой, свежевымытой лестнице.
На дверях квартиры № 6, над ящиком для писем и газет, прибита была жестяная синяя пластинка:
Н. М. СЕРГЕЕВ
представительство электро-технич. конторы «Прогресс»
Дверь на звонок открыл средних лет мужчина — бритый, в пенсне на шнурке, с припухшей в уголку, словно ее ужалила оса, нижней губой, с внимательным, спокойным взглядом.
Он скользнул им через Иришино плечо на площадку, как будто для того, чтобы убедиться, одна ли пришла эта молодая незнакомка, или вместе с кем-нибудь, и, прихлопнув за ней парадную дверь, попросил Иришу зайти в освещенную прихожую.
— Вам к кому? — спросил он.
— Мне нужно видеть Веру Михайловну, — сказала тихо Ириша.
— Веру Михайловну? Пожалуйста! — громко, может даже нарочито громко, как показалось Ирише, ответил он. — Как передать ей?
— Я к ней по делу. По очень важному делу.
— Хорошо. Подождите, пожалуйста. Пройдите вот сюда.
Он толкнул дверь в ближайшую комнату, ввел в нее Иришу и тотчас же удалился.
Комната — чей-то рабочий кабинет, может быть — этого самого человека, встретившего у порога. На письменном столе — кальки чертежей, инструменты, готовальня, какие-то модели, баночка с тушью. Два плоских длинных шкафа с книгами.
На стене — окантованные грамоты и удостоверения каких-то учреждений и технических обществ, выданные на имя «Николая Михайловича Сергеева»: он, оказывается, что-то устанавливал, оборудовал, изобретал. Что именно — Ириша не успела толком прочитать: в комнату вошла невысокая женщина в гладком синем платье.
Если бы Ириша побывала летом, вместе с «дядей Фомом» и Калмыковым, на тишкинском поплавке, она узнала бы в этой женщине с усталыми глазами и застенчивой улыбкой молчаливую спутницу их соседа по столику, привлекшего тогда к себе внимание журналиста Асикритова.
— Вы ко мне? — спросила Вера Михайловна. — Но почему вы, мадемуазель, не обратились прямо в мастерскую?
— В какую мастерскую? — смутилась Ириша. — Меня направили к вам…
— Понимаю. Направили ко мне как к закройщице? Но я не беру теперь работы на дом. Вы хотите сшить платье, вероятно. Обратитесь прямо в мастерскую нашей мадам Софи.
— Да нет же! — перебила ее Ириша. — Совсем не то!..
Она услышала, как заскрипела половица в прихожей — кто-то приблизился к двери и остановился, — Ириша понизила голос:
— Ведь вы — Вера Михайловна, правда?
— Да… Но в чем дело?
— Я к вам от Надежды Ивановны… понимаете?
— Не совсем, — поправляя прическу свою, улыбалась Вера Михайловна. — Кто эта дама — Надежда Ивановна?
«Вот так штука!» — подумала Ириша.
— Это не дама, — улыбнулась и она. — Я к вам от Надежды Ивановны Громовой.
Руки женщины, закинутые к голове, перестали как будто, на одно мгновение, возиться со шпильками, перекладываемыми в темных волосах.
— От Надежды Ивановны Громовой? — удивленно и громко, так, что ее могли слышать в прихожей, переспросила хозяйка квартиры. — Не припоминаю что-то, мадемуазель…
— Вы не знаете Громовой? — оторопела Ириша.
— Нет, не знаю, — отрицала Вера Михайловна.
— Она живет на Подольской улице!
— Не понимаю, о ком вы говорите, мадемуазель. Это какая-то ошибка.
— Простите… — пробормотала Ириша и растерянно опустилась на стул. — А я была уверена…
Ей действительно показалось, что, может быть, произошла тяжелая ошибка: эта женщина так твердо и спокойно отрицала свое знакомство с Громовой.
Но как же это могло случиться, что ей, Ирише, дали этот адрес и здесь проживает все же Вера Михайловна?.. Распахнуть шубку, вынуть из-за корсажа ваулинскую записку и сказать: «Вот вам»? Но разве можно так рисковать! На стене, в числе прочих, висит в рамке какая-то грамота, выданная ведомством императрицы Марии Федоровны, — что это за квартира и кто эти люди в ней? Нет, надо быть очень осторожной! А может быть, не показывая записки, сказать так: «Громова арестована. Она просила меня сообщить вам». А зачем и это говорить? Если имя Громовой ничего, кроме недоумения, не вызвало в ответ, — зачем же продолжать эту неловкую беседу?
Ириша была сконфужена.
— Простите, — сказала она, поднимаясь со стула, — меня направили к вам… как это могло произойти? А где я вас могу найти в мастерской? — уцепившись за какую-то новую мысль, спросила она.
— Мастерская мадам Софи известно где: на Троицкой, — вежливо раскланивалась с ней Вера Михайловна, пропуская к двери.
В прихожей заскрипели половицы, и послышались удаляющиеся, торопливые шаги: кто-то явно подслушивал. Очутившись в прихожей, Ириша оглянулась в ту сторону, откуда шло встревожившее поскрипывание, заметила только приоткрытую дверь в одну из комнат, но никого из ее обитателей.
Она переступила порог квартиры — удрученная, со слезами на глазах.
Тремя днями раньше в ту же квартиру № 6 по Суворовскому проспекту позвонил и вошел Сергей Ваулин.
— Я к Вере Михайловне, — сказал он встретившей его женщине.
— Это я, — отозвалась она.
— Мне поручено трубы чистить, — продолжал Ваулин, глядя ей в глаза.
— У нас все чисто пока, — не удивилась странному заявлению солдата Вера Михайловна.
— Хорошо. Меня послал Анатолий к Федору.
— Очень хорошо, — радостно заулыбалась женщина, — Федора нет дома, он будет в четверг.
— А до четверга я буду, — закончил условный пароль Сергей Леонидович и кинулся жать ее руку.
— Ваулин… вы?! Швед?.. Здравствуйте, голубчик! — вела его в комнаты Вера Михайловна. — Представьте, я вас по голосу узнала!
— Неужто? Каким образом?
— Ведь всего один раз по телефону звонили: когда Савва Абрамович еще был!
— Да, да, — вспомнил и Ваулин. — Неужели по голову?
— По голосу… Да вы сбрасывайте шинель, гимнастерку…
— То есть как?
— Все, все сбрасывайте сейчас же.
Он не знал, как поступить.
— Я выйду, а вы переоденьтесь, — распоряжалась Вера Михайловна. — Вот здесь, в шкафу, на нижней полке все уже приготовлено. Все — заранее! Мы вас ждали, но не знали только, когда… Ну, скорей!
— Никого нет в квартире?
— Никого.
— Я мигом! — крикнул ей вслед Сергей Леонидович и принялся переодеваться.
Через минут десять он позвал ее, и Вера Михайловна увидела перед собой преображенного человека — в черных брюках и штиблетах, в синем пиджаке и жилетке, в новенькой рубахе с отложным воротником и темным галстуком.
— Повернитесь-ка, — деловито осматривала его Вера Михайловна. — Все ведь подбиралось приблизительно, не предъявляйте к нам особых требований. Нет, ничего, — осталась она довольна. — Как будто все сносно. Вот только рукава немного коротки.
— Ладно, ладно, — доволен был и Ваулин всем. — Накормите чем-нибудь, если есть, и, ради аллаха, расскажите все, что и как!
Она принесла ему колбасы, хлеба, шпрот, несколько печеных холодных картофелин и начатую коробку хороших папирос «Осман». Они доставили особое удовольствие Сергею Леонидовичу: он закурил, прежде чем начать есть.
— Сейчас никто не придет? Нет? Рассказывайте… Все, что знаете, рассказывайте! — торопил он Веру Михайловну, возясь с едой. — Ведь я четыре месяца ни гугушеньки не знаю!
Он был оживлен и весел, радостен и бодр, несмотря на одолевавшую его усталость после столь бурного, рискованного дня.
— Четыре месяцу почти полной неизвестности!.. Для вас они, понимаете, позади, вам нужно оглядываться на них… А для меня — они передо мной, впереди они. В одну ночь, в один час я должен узнать их, чтобы встать с вами рядом, плечо к плечу.
— А вы думаете, что я все знаю, — скромно сказала Вера Михайловна. — Вот придет Федор, и вы наговоритесь вдосталь.
— Федор? Сюда?.. В самом деле… он? Николай Михайлович?
— А вы ничего и не заметили? На дверях-то чья карточка? Он здесь живет.
— Вот как?
Никогда раньше Сергей Леонидович не знал квартиры Федора. Впрочем, этого, кажется, никто почти не знал, даже в тесной группе передовых работников организации. А тот, кому и был известен домашний адрес Федора, не считал нужным сообщать о нем другим: Федор был на особой конспирации и на собраниях Петроградского Комитета не появлялся. Он был связан только с русским бюро Центрального Комитета, где работал до ареста и Ваулин.
Вера Михайловна была права: с Федором они наговорились вдосталь.
Он пришел поздно вечером, и Сергей Леонидович с удивлением услышал, как еще в прихожей он деловито спросил жену:
— Швед здесь? — И, получив утвердительный ответ, добавил: — Глупо было бы не воспользоваться таким замечательным случаем.
Он знал уже, очевидно, все, что произошло сегодня на Сампсониевском.
— Николай Михайлович! — выскочил ему навстречу Ваулин.
Они обнялись.
— Поздравляю. Имею полномочия приветствовать. И сообщить кое о чем. Вера, — обратился Федор к жене. — Чайку бы нам на спиртовочке, — а? Как ты на это смотришь? Подогреть только? — тем лучше!
За столом он внимательно выслушал рассказ о побеге, о случае с торговкой-старушкой, зарубленной полицейским, о подробностях солдатского бунта.
— Старушка — старушкой, конечно, — усмехнулся он. — О ней сегодня весь город говорит, все сердобольные буржуа. Да только кое-кто «помоложе» здесь руку свою приложил, — к вашему сведению это, Сергей Леонидович!
Он снял на минуту пенсне (лицо сразу стало помятым, заспанным словно), медленно помассировал у глаз и скулы, сгоняя усталость с лица, и, вновь оседлав свой нос стеклышками, добавил:
— Стихия, как сами понимаете, тоже имеет свои законы. Революционная — тем паче не входит в число исключений. К вашему сведению, Сергей Леонидович, мы там распространили три сотни наших листовок!
— Среди лесснеровцев?.
— Это само собой. А еще, повторяю, — среди солдат вашего полка. Для вас это новость — я вижу. Но факт остается фактом.
— Понятия не имел! — сконфузился Ваулин. — Ни разу ничего в казарме не замечал!
— Это и хорошо, с другой стороны! — подхватил Федор. — Значит, солдаты научились не болтать зря, прятать то, что полагается.
— Ах, досадно! — поморщился Сергей Леонидович и растерянным взглядом обвел обоих товарищей.
Вера Михайловна добродушно улыбалась, Федор — снисходительно, как показалось.
— Что ж тут досадовать? Напротив, мне думается, — серьезно сказал он, — надо радоваться за организацию.
— Я и радуюсь за нее! — живо перебил его Ваулин. — Разве я об этом, товарищи?! Мне жаль, что я-то в этом деле был ни при чем. Почему не через меня налаживали, — а?
— Здравствуйте, пожалуйста! — заворчал Федор. — Этого еще не хватало. Человек и так на подозрении, а тут ему еще новое дело поручай! Для чего? И его подвести, и все дело поставить под угрозу. Рассудили же вы, Сергей Леонидович!
«Прав, черт возьми! — думал Ваулин. — Разве я бы на их месте не так же поступил?»
Но все же досадовал, что, находясь в полку, ведя осторожную агитацию среди солдат, ничего в то же время не знал, не подозревал, что тут же, рядом, ведет кто-то другой работу — более важную, более нужную.
Теперь уже, на свободе, ему показалось, что чересчур осторожничал в полку, что можно было гораздо больше сделать, чем он делал там. И, может быть, так мало делая, следовало еще раньше дезертировать оттуда, вернуться какими угодно путями в подполье, в среду связанных между собой товарищей, которым мог бы принести значительно большую помощь. Он был недоволен собой и омраченно сказал о том Федору.
— А зачем же папиросную коробку ломать? — неопределенно ответил тот. — Я вас, дорогой мой друг, привык видеть в более спокойном состоянии. А еще солдат, воинский чин! — громко смеялся он, подмигивая жене. — Коробочку-то жаль, пригодилась бы, а вы ее вон как!
Действительно, не замечая, что делает, Ваулин намусорил на столе, изорвав картон на мелкие кусочки. Хозяин аккуратно смел их со скатерти на подставленную к ребру стола ладонь и бросил в пузатый глиняный горшочек, служивший пепельницей.
— Спать! — уже другим тоном сказал он. — Надо вам хорошенько выспаться, любезный член Петербургского Комитета! Из трех наших комнат одна сегодня ваша. Вот эта самая, вот этот диван.
— А при чем же тут член ПК? — встрепенулся Сергей Леонидович. — Что вы хотите этим сказать?
— То, что и сказал уже. Имею поручение сообщить — при первой же встрече с вами: товарищ Швед кооптируется в состав ПК и его исполнительную комиссию. Довольны?
— Серьезно? — покраснел от радости Ваулин. — Так кто же меня введет в курс дела в таком случае? Когда?
— Утром. Завтра, — немногосложен был ответ.
Как ни утомлен был, заснуть сразу не удалось. Теперь только, когда остался один, события дня обступили его, требуя, чтобы о них вспомнили, отдали им память.
Вспомнилась рабочая толпа на Чугунной улице и замешательство молоденького ротного командира, поваленный забор у казармы и бегущие с криком солдаты, гул лесснеровских забастовщиков. Вспомнилось вчерашнее минутное свидание с «торговкой» Громовой, унтер-офицер Ларик — с голосом зычным, нараспев; трамвай, кружение по городу, очереди у лавок, бегущие газетчики.
Да, надвигается, уже надвинулся долгожданный исторический вихрь — и это первые его дуновения. Ставшая совершенно нестерпимой, невыносимой удушливая тяжесть разнузданного владычества Распутиных и Протопоповых — это предгрозовая духота, предвестник, канун бури.
Но историческая буря не приходит сама. Ее нужно… организовать («организовать бурю» — так нельзя сказать, — мысленно поправил себя Ваулин). Но другое слово не находилось.
Да, «организовать»… И на плечи «члена Петербургского Комитета» большевиков легла немалая ответственность. Ваулин ощутил прилив бодрящей, освежающей силы…
В комнате было темно и во всей квартире тихо, и только последние ночные трамваи, пробегавшие быстрей обычного, от времени до времени вбрасывали в комнату звон и лязг и короткие синеватые отблески электрических вспышек, высекаемых на влажных уличных проводах.
Раза два вскакивал на потолок широкий шарящий луч автомобильных фар. Это останавливалась у перекрестка, против окон квартиры, машина, а Ваулин тревожно поднимал голову с подушки, прислушивался, ожидая невесть чего.
Снилась в эту ночь дочка Лялечка, сидящая на солдатских нарах; Савва Абрамович Петрушин — будто едут они с ним в трамвае, и оба в солдатской новенькой форме; Нева, затянутая льдом, и на ней много-много людей с факелаки, и во сне беспокоился Сергей Леонидович, как бы не треснул лед и не провалились бы люди в реку.
— Двадцать лет назад, дорогой друг мой, — говорил Федор Ваулину, — супруги-физики Кюри открыли новый элемент — радий. Найдена была возможность превращения одних химических элементов в другие. Замечательное свойство это — радиоактивность! Вы ведь знаете, наверно?.. Из мельчайшего количества радия непрерывно выделяются какие-то невидимые лучи. Они действуют на фотографическую пластинку даже через черную бумагу, надежно предохраняющую ее от обыкновенных световых лучей. Ничтожнейшее количество радия выбрасывает из себя в секунду несколько миллиардов электронов и атомов гелия со скоростью в пятнадцать тысяч верст в секунду! Вы понимаете, — а?.. Представьте себе громадный арсенал, наполненный взрывчатыми веществами, которые взрываются не все сразу, а непрерывно одно за другим, бомбардируя окружающее пространство… Сила, силища! Вот с чем могу я только сравнить энергию Владимира Ильича!
Это было сказано в конце беседы о Владимире Ильиче Ленине.
Неделю назад возвратился из Христиании пробравшийся туда для связи с эмигрантами-большевиками член русского бюро ЦК и привез оттуда копии нескольких ленинских писем. Большинство из них было адресовано товарищам, обосновавшимся в Скандинавии, но одно, написанное месяц назад, касалось прямо петербургской организации.
Было утро, спущена стора на окне, но свет нарочно не зажигался: как будто никого не было в квартире. Федор раскладывал перед Ваулиным узенькие, подклеенные ленточки мелко исписанной бумаги, сворачивавшейся трубочкой, словно ее только что сняли с катушки.
Где хранилась вся эта скопированная переписка — Ваулину неудобно было спрашивать, но он уже догадывался, кто был ее постоянным хранителем.
Все в образцовом порядке, и только нужно напрягать зрение, чтобы разобрать бисерный, как бусенец, почерк Федора — техника и чертежника.
«События в России, — писал Ленин в одном из прошлогодних писем, неизвестных ранее Ваулину, — вполне подтвердили нашу позицию, которую дурачки-социал-патриоты (от Алексинского до Чхеидзе) окрестили пораженчеством. Факты показали нашу правоту!! Военные неудачи помогают расшатывать царизм и облегчают союз революционных рабочих России и других стран. Говорят: что «вы» сделаете, если «вы», революционеры, победите царизм? Отвечаю: (1) наша победа разожжет во 100 раз движение «левых» в Германии; (2) если бы «мы» победили царизм вполне, мы предложили бы мир всем воюющим на демократических условиях, а при отказе повели бы революционную войну».
В другом письме было:
«…Наше отношение к революционерам-шовинистам (вроде Керенского и части эсдеков-ликвидаторов или патриотов), по-моему, не может быть выражено формулой: «поддержка». Между революционерами-шовинистами (революция для победы над Германией) и революционерами — пролетарскими интернационалистами (революция для пробуждения пролетариата других стран, для объединения его в общей пролетарской революции) — пропасть слишком велика, чтобы тут могла идти речь о поддержке».
— Имеющие уши да слышат! — неизвестно на кого сердился Федор.
Сентябрьское письмо, отправленное всего лишь месяц назад, Сергей Леонидович прочитал дважды:
«Главным партийным вопросом в России был и остается вопрос о «единстве», — указывал товарищам Владимир Ильич. — …Примиренчество и объединенчество есть вреднейшая вещь для рабочей партии в России, не только идиотизм, но и гибель партии, — предупреждал он петербуржцев. — Ибо на деле «объединение» (или примирение и т. п.) с Чхеидзе и Скобелевым (в них гвоздь, ибо они выдают себя за «интернационалистов») — есть «единство» с ОК, а через него с Потресовым и Ко, т. е. на деле лакейство перед социал-шовинистами.
…Самое больное место теперь: слабость связи между нами и руководящими рабочими в России!! Никакой переписки!!.. Так нельзя. Ни издания листовок ни транспорта ни спевки насчет прокламаций ни посылки их проектов и пр. и пр. нельзя поставить без правильной конспиративной переписки. В этом гвоздь!
…Две-три связи, минимум, в каждом городе с руководящими рабочими, т. е. чтобы они писали сами, сами овладели конспиративной перепиской (не боги горшки обжигают), сами приготовили для себя каждый по 1–2 «наследнику» на случай провала. Не доверять этого интеллигенции, одной. Не доверять. Это могут и должны делать руководящие рабочие. Без этого нельзя установить преемственность и цельность работы, а это главное.
Кажись, все?
…О себе лично скажу, что заработок нужен. Иначе прямо поколевать, ей-ей!! Дороговизна дьявольская, а жить нечем. Надо вытащить силком деньги (о деньгах Беленин поговорит с Катиным и с самим Горьким, конечно, если не будет неудобно) от издателя «Летописи», коему посланы две мои брошюры (пусть платит; тотчас и побольше!). Тоже — с Бончем. Тоже — насчет переводов. Если не наладить этого, то я, ей-ей, не продержусь, это вполне серьезно, вполне? вполне.
Жму крепко руку, тысячи лучших пожеланий…
Ваш Ленин».
— Уже со всеми говорили, приняты меры, — сказал Федор в ответ на тревожный вопросительный взгляд Ваулина. — В такой нужде — Владимир Ильич, а, говорят, даже партийной библиотечкой там пользуется за плату! И никто не может убедить его поступать иначе…
Со слов скандинавских товарищей, поддерживавших все время связь с Берном, Цюрихом и Женевой и передавших теперь вести о Ленине в Петербург, Федор рассказывал Сергею Леонидовичу все, что удалось только узнать.
…У ЦК не было, как у петербуржцев, своей типографии. Точнее говоря, не было своей наборной с русскими шрифтами. До первой революции у партии была своя большая наборная в помещении, арендованном на долгий срок, но с оригинальным условием: арендный договор прекращался в случае революции в России, Когда этот пункт договора, к великому изумлению домовладельца, получил законную силу, редакция немедленно уехала в Россию, и наборная была ликвидирована. К счастью, в Женеве сохранилась маленькая частная наборная с русским шрифтом, принадлежавшая старому украинскому эмигранту под кличкой «Кузьма». Не будь его, пришлось бы, вероятно, пользоваться мимеографом.
Кузьме суждено было играть крупную роль в распространении большевистских идей, и о нем рассказывали эмигранты подчас подробней, чем о ком-либо другом.
Квартирка из двух крохотных, невообразимо грязных комнатушек, сплошь заставленных ящиками со старым, изношенным шрифтом, связками неразобранного набора, полками, книгами, тисками. Тут же, на газовке, пуская пар к потолку, кипит неизменный украинский борщ, валяются объедки хлеба, торчат бутылки из-под спиртного. И среди всего этого хлама — крупная фигура маститого старца с длинной белой бородой. Кузьма держался изолированно, не примыкал ни к какой партии. Насмешничал над эмигрантами, собиравшимися вокруг своих вождей. Однажды выпустил открытку со своим изображением, перед которым нарисованы были свиньи. Подпись: «И у меня свое стадо. Кузьма».
Он набирал решительно что угодно и для кого угодно. Работал Кузьма один или с каким-нибудь помощником. В последнее время у него появился и стал обучаться набору маленький, плюгавый бывший писарь из русского консульства, выгнанный оттуда за пьянство и неприличную физиономию.
Неожиданно приехала, говорят, к Кузьме откуда-то жена, прозванная Лениным «Кузьмиха», — старая ворчливая баба. Она навела порядок в конуре и стала пилить чудака мужа за то, что он связался с «аховыми сочинителями», вместо того чтобы жить, как все «порядочные люди».
Особенно она возненавидела большевиков, и выход очередного номера ЦО прямо зависел от благорасположения «Кузьмихи».
Недаром Ленин требовал особых извещений: каков «бюллетень настроения Кузьмихи и шансы на успех».
«Что же это с номером?.. — волновался он. — Или Кузьмиха повернула решительно против нас? Торопился я с № 44 ужасно, не успел выправить статей, не видел корректуры — и вдруг застопорилр».
Нажимал, рассказывали, Ленин из Берна или Цюриха вовсю.
Каждое новое событие, каждая новая подлость социал-патриотов подхлестывала и без того кипучую его энергию.
— Помните Жореса? — сказал в ответ Сергей Леонидович. — Четыре года назад он торжественно, провозглашал в Базеле:
Fulgura frango, Mortuos tango, Vivos voco!He помните? Когда началась балканская война… «Низвергаю громы, бужу мертвых, зову живых!..» Один лишь Ленин делает это, а не краснобаи!..
Передавали также товарищи об одном случае, происшедшем в Швейцарии. Можно было, — казалось иным, — избавиться от безденежного положения, в котором пребывал ЦК.
После одного из рефератов Ленина к председателю собрания подошла какая-то дама и выразила свое горячее сочувствие докладчику, особенно — его лозунгу о поражении царизма в войне. Она заявила о своем желании материально содействовать успеху такой агитации. Из разговора выяснилось, что она говорит не только от своего имени, но и от имени одного богатого лица, живущего в Польше. Предлагалась регулярная поддержка — очень крупная сумма, вполне достаточная для того, чтобы организовать большое издательство и разом ликвидировать все финансовые затруднения. Ничего необычного не было в предложении денежной помощи на борьбу с царизмом да еще со стороны людей, принадлежащих к угнетаемой в России национальности. Но Ленин с иронической улыбкой отказался самым категорическим образом от этой помощи.
Тысячу раз был прав Владимир Ильич! Надо было, как он, понимать всю ту атмосферу шпионажа и подкупа, которая царила в международных отношениях и специально — вокруг революционных организаций. Ленин оградил партию от малейшей тени каких-либо подозрений.
В ответ на информацию Федора Сергей Леонидович рассказал все то об эмигрантском житье-бытье, что узнал от Саввы Абрамовича Петрушина. И прежде всего о Ленине.
Среди большевиков-эмигрантов находились люди разного материального достатка. В женевской, например, группе состоял даже один товарищ, обладавший (по жене) очень крупными средствами, предоставленными им (в значительной доле) в пользование партийной организации. Некоторые товарищи (правда, немногие) были владельцами мелких заведений — кефирных, химической чистки, иные содержали «общедоступные столовые». Конечно, доходы от этих промыслов были невелики, но все же владельцы их жили гораздо лучше, чем вся остальная масса эмигрантов.
Многие из них бедствовали в полном смысле слова, ютились на чердаках, хронически недоедали, хворали, существовали только потому, что им помогали эмигрантские кассы взаимопомощи. Большинство таких бедняков составляли интеллигенты. Квалифицированные рабочие получали более или менее постоянную работу в швейцарских промышленных и коммерческих предприятиях, а остальные перебивались случайными заработками прислуги, няни, официанта, батрака у швейцарских крестьян, чистильщиков улиц, переписчиков, репетиторов в буржуазных семьях, статистов в театрах, натурщиков…
Владимир Ильич и Надежда Константиновна принадлежали к так называемой «средней» материальной категории. Но все же сугубое безденежье — явление в их жизни не редкое.
Ленин читал в таких случаях платные рефераты, а Надежда Константиновна искала уроков или хотя бы даже переписки — надписывать конверты в какой-либо рекламной конторе. Владимир Ильич ни за что не хотел допустить, чтобы партия, которая сейчас действительно бедствует, хотя как-нибудь тратилась на него. Приходилось во многом себя ограничивать: например, из материальных соображений Ленин затруднялся возобновить членство в женевском «Societe de lecture», хотя он весьма ценил библиотеку этого общества и состоял в нем давно, с 1904 года.
Он был одним из самых аккуратных абонентов организованной эмигрантской партийной библиотеки. Он вполне одобрял и ценил заведенные в ней строгие порядки, обеспечивавшие правильный кругооборот книг и сохранность редкостных экземпляров и архивных источников. С книгами он обращался чрезвычайно бережно, и если надо было для работы сделать на чужой книге пометки, то делал их слегка карандашом, чтобы потом без труда можно было стереть резинкой.
— Многие думают, — передавал Сергей Леонидович слова Петрушина, — что великий человек и в личных своих делах, в домашнем быту должен быть тоже каким-то особенным, не похожим на других людей: Это не верно. По крайней мере Ильич был в этом отношении самым обыкновенным «знакомым» человеком. У него бывали разные настроения, бывало, что и «нервы» иной раз сдавали, и волновался он не раз перед чтением своих рефератов. Иногда он писал самые обыкновенные, «житейские» письма, с непременным «поклоном» от Надежды Константиновны («Надя очень кланяется»), справлялся о здоровье, вспоминал заинтересовавших его людей. Он не забывал даже прислать к сроку открытку с новогодним поздравлением.
Особенным в Ленине было, пожалуй, именно то, что в нем внешне не было ничего особенного. Но его необычайная чуткость к людям, отзывчивость, простота и великая скромность в отношениях не только с товарищами (с членами ЦК и рядовыми большевиками — равная), но и вообще с людьми, будь то какая-либо знаменитость или самый простой человек, — были исключительно велики и наглядны для всех. Поистине, это была простота необычайного человека.
…Крупнейшие силы партии отброшены были в эмиграцию, ссылку, тюрьмы. Состав ЦК за последний год изменялся несколько раз. Подпольная «техника» захватывалась охранкой, следовавшей по пятам всех большевистских дел. Но число участников организации, рабочих, росло с каждым месяцем.
— Было ясно, — рассказывал Федор Ваулину, — что революционное движение приобретает массовый, народный характер, но что организации, кстати сказать, следует сейчас зорко приглядываться к провокации, густо насаждаемой департаментом полиции: чем объяснить столь частые провалы, аресты наиболее деятельных рабочих, замеченную слежку за теми даже, кто находится на особой конспирации?..
Но было и радостное для ЦК сообщение: в мае бежал в Питер из Верхоленского уезда, из Сибири, Вячеслав Скрябин — товарищ «Молотов». Он здесь теперь и по указанию Ленина руководит заново налаженной работой русского бюро ЦК.
Сергей Леонидович вспомнил тотчас же Скрябина — он с ним не раз встречался в «Правде».
В свое время Вячеслав Скрябин был студентом петербургского Политехнического института, вел партийную работу на Выборгской стороне и среди рабочих Николаевской железной дороги, четыре года назад состоял секретарем «Правды», писал в ней под псевдонимом «Турбин».
Когда надо было восстановить партийную работу в Москве и Московской губернии, туда послан был Скрябин. Ваулин сопровождал его и в Москву, впервые увидел тогда сестру Ленина — Марью Ильиничну.
…Новостей — куча. В голове — как вещи в новой квартире, — думал о себе Сергей Леонидович. Но уже следовало их расставить в порядке, начать ими пользоваться. И прежде всего — выяснить у Федора: где же на первое время будет он, Ваулин, жить, где будет его настоящая квартира (он понимал, что здесь ему долго не оставаться) и с каким паспортом в кармане он будет ходить по улицам?..
А затем еще: где и когда он увидится с членами ПК?
На все эти вопросы у Федора был готов ответ.
На новое местожительство Ваулин переедет сегодня же вечером. Это квартира в Лесном у типографского рабочего Михайлова — «Вани-печатника», которого он хотя и не знает, но у него сейчас самое удобное место.
В Лесной к Ваулину явится кто-либо из членов исполнительной комиссии и свяжет его с ПК. Это, произойдет, вероятно, завтра, так как вследствие происходящих сейчас забастовок рабочих ПК должен будет собираться почаще.
А что касается паспорта, то он уже изготовлен, и Ваулин может убедиться — изготовлен не плохо. Уходя из дому, Федор протянул Сергею Леонидовичу замусоленный, потрепанный паспорт с необходимыми на нем отметками полицейского участка, выданный на имя освобожденного от воинской повинности уроженца города Вильно Леонтия Иосифовича Кудрина, тридцати лет.
— Запомнить бы только! — рассмеялся Ваулин. — «Леонтий Кудрик» — а?..
Но… чертовское совпадение: он действительно был уроженцем города Вильно! Это вызвало неожиданные, быстро промелькнувшие в голове воспоминания о детстве.
Мать, Екатерина Львовна, рассказывала ему:
«А ты родился в каюте корабля, на котором отец твой был капитаном».
«Какой это был корабль? — расспрашивал он, мальчик. — Большой? Красивый?»
«Это был плот, — отвечала она. — Много-много бревен, связанных веревками, и на этом плоту — шалаш. В нем твоя мать плавала с отцом. Отец стоял у большого руля — эдакого длинного бревна, затесанного на конце веслом. Называл он его опочиной и направлял этим рулем плот по стремнинам реки Вильи».
И дальше, не то по рассказам матери, не то по сохранившейся детской памяти, рисуется большой лесопильный завод на реке Вилье, в городе Вильно. Отец там ворочает бревна, а он, пятилетний мальчуган Сережка, бродит среди пил, цепей, вагонеток, вертится около какого-то полуголого дяденьки, который огромной лопатой забрасывает в пылающее жерло котлов опилки…
Однажды пришли на квартиру полицейские, и отец куда-то исчез. А он, Сережка, и мать остались жить на окраине города. Мать с утра до вечера уходила шить в какую-то мастерскую, а вечером приносила пестрые лоскутки, обрезки ленточек, деревянные катушечки и остатки вкусного обеда с хозяйского стола.
В летний день, когда ему, Сереже, исполнилось уже восемь годков, играя с детьми в палисадничке у дома в «извозчика» и «барина», он увидел вдруг знакомую фигуру шагавшего по улице человека — в длинном сером пыльнике, рыжего, сутуловатого, с голубыми, как у Сережи, глазами. Ваулин приехал из далеких краев, из Уральской области, от киргизов и казаков: «Там жить лучше, хлеба больше. Приволье большое, много земли, можно корову держать».
И вот уже — железнодорожная будка: где-то далеко-далеко от привычных мест. Кругом — неоглядная степь, на десяток верст — ни души. Здесь поселяется с семьей Ваулин — старший ремонтный рабочий дороги. Летом — горячий колкий ветер, жара, пыль. Зимой — беспредельные тысячепудовые снега и страшные, пугающие детское воображение бураны.
Здесь умирает вскоре отец, и Екатерина Львовна становится через год женой народного учителя.
Воспоминания расслабляют человека, — Сергей Леонидович гонит их прочь. Он прячет паспорт в, карман и думает о том, что предстоит теперь делать «Леонтию Кудрику». Много, — ох, как много дела впереди…
Он один в квартире, он никому не откроет на звонок — так велено ему. И, проходя по прихожей, он досадует, что скрипят здесь половицы и что скрип этот может услышать кто-нибудь на площадке.
В рабочей комнате Сергеева он увидел висящий на стене телефон и подумал в ту же минуту об Ирише. Стоило только снять трубку, назвать хорошо запомнившийся карабаевский номер, — и, может быть, сразу же, вот сейчас, он услышит знакомый голос девушки.
Желание было очень сильно, он схватил уже слуховую трубку, но тотчас же одумался: кто его знает, может быть, разговоры по карабаевскому номеру подслушивают? Охранка многими ведь по разным причинам интересуется, и вдруг он так неосторожно свяжет эти два телефонных номера!.. Навлечь подозрение на квартиру Федора — поступок недопустимый! И Сергей Леонидович устоял против соблазна.
Новости, принесенные вечером друзьями, опечалили. Стало известно об аресте «связистки» Громовой, о засаде на Подольской улице. В ту же ночь было арестовано еще несколько партийных товарищей, в том числе один, у которого хранилась касса выборгского районного комитета.
Переезжать сегодня в Лесной, к печатнику Михайлову, оказалось невозможным, так как не удалось с утра связаться с ним, предупредить, и Ваулину придется поневоле задержаться здесь на день-другой.
— Сие не входило в наши планы, — откровенно сказал Федор, и Сергей Леонидович понял, что не трусость же, конечно, говорит в нем, а разумная осторожность.
Это же чувство руководило женой Федора, когда через день (было воскресенье) неожиданно появилась в квартире девушка в нарядной шубке, нерешительно отрекомендовавшаяся как посланница Надежды Громовой.
О нет, — так не приходят незнакомые люди по делам организации! Если действительно посылала, то почему девушка не знает пароля? И как она могла прийти от Надежды Ивановны, когда та вот уж три дня как арестована?.. Что-то тут неладно, пахнет провокацией или, в лучшем случае, — печальная, недопустимая путаница.
Вера Михайловна была убеждена в верности первой догадки, но симпатия, которую вызывала к себе незнакомая девушка с широко открытыми светло-карими глазами, заставляла почему-то предполагать и другое. Впрочем, разве в охранке все агенты обязательно должны быть внешне отталкивающими, с подозрительными, неприятными лицами?.. И Вера Михайловна не поддалась возникшему на минуту чувству приязни: Ириша была взята на подозрение, потому что Громова впопыхах забыла дать ей пароль.
В тот момент, когда она выходила, Сергей Леонидович в щель полураскрытой двери увидел Ирину. Еще мгновение — и он выскочил бы в прихожую, окликнул бы по имени, подбежал бы к девушке, но, заметивший движение Ваулина, ничего не понимавший Федор схватил его за руку и удержал на месте.
— Что с вами? — спросил он, как только захлопнулась за Ириной дверь.
— Это она… моя невеста, — просто и для самого себя неожиданно произнес это слово Сергей Леонидович. — Вы можете верить ей.
— Вот оно что? Чертовщина какая!.. Вера, слышишь: это его невеста!
Вера Михайловна разволновалась:
— Что же делать? Позвать ее, вернуть?
— Я догоню… поговорю на улице… пять минут… — думал вслух Ваулин.
— Глупости! Вам сегодня вечером переезжать отсюда, а днем вы никуда не покажетесь, — рисковать хотите? Уж лучше вернуть ее сюда, — склонен был поддержать жену Федор.
«Сюда? Отсюда позвонить даже не решался, дабы не подвергать опасности сергеевскую квартиру!..» — Сергей Леонидович покачал отрицательно головой:
— Нет, не надо.
— Вы опасаетесь? Кто она? — спросила Вера Михайловна.
— Дочь Карабаева.
— Карабаева?.. Какого?.. Думского?
— Того самого. Но это ничего не значит, — поспешил Ваулин рассеять удивление своих друзей. — Она — наша. Она в студенческой организации. Ирина выполняет партийные поручения. Ее знает Лекарь, например…
— Достаточно, если ее знает член ПК Ваулин! — улыбнулся Федор.
— Я догоню ее, верну!
— Не ты, Вера! Пожалуй, я сделаю.
— Ну, так скорей! У нее какое-то поручение от Громовой, а мы тут еще рассуждаем! — убеждала Вера Михайловна.
Этот довод должен был разрешить все сомнения, но Сергей Леонидович настоял на своем: звать сюда не надо, он требует так поступить и просит только обсудить, кто добудет громовскую записку и кто поможет ему встретиться с Ириной.
Вера Михайловна вызвалась наладить оба эти дела.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ Петербургский Комитет большевиков постановил…
Первым, кого встретил в Лесном, был Андрей Петрович Громов.
Сразу и не узнать было его. Отпустил усы и рыжеватую бородку клинышком, волосы на голове подстрижены кружочком, как у подрядчиков или трактирных официантов. А лицо — все такое же, еще более похудевшее: маленькое, серокожее, с розовыми, просвечивающимися ушами — тончайшими, как у младенца.
На двукратный стук в дверь Сергея Леонидовича он распахнул ее перед долгожданным «гостем» и ввел его в комнату.
— Вот это дело! Давно не виделись… — жал он руку Ваулину. — Заходите, садитесь да говорите скорей, как величать вас теперь?
— А хозяёва где? — оглянулся по сторонам Сергей Леонидович.
— Хозяйка у соседей, а хозяин должен скоро прийти. Паспорт ваш?
— Леонтий Иосифович Кудрик, — прищурив весело глаз, отрекомендовался с поклоном Ваулин.
— Ну, а у меня тоже есть фальшивка. Только не для Ваньки, а для полиции. Ваньку почти что с детства знаю. Так что можете смело меня по имени, по-настоящему… Здесь первое время жить будете, — продолжал Громов. — Деньги — вот, пятьдесят целковых, — протянул он их Ваулину. — Затем еще насчет явок, да… Квартира — «почтовый ящик», чтобы сообщить в ПК, — Гусев переулок, четыре, зубной врач Сокальский. Завтра — комитет. В Новой Деревне, на Коломягском, у булочника Кузьмина. Вы его должны хорошо знать: прошлый год три раза у него собирались.
Он напомнил Ваулину точный адрес.
Громов вообще был точен и деловит. И покуда ни сообщил всего, о чем должен был известить нового, члена ПК, — ни о чем не спрашивал того, ничего о себе самом не говорил. Возможно, он торопился — говорить о самом главном, покуда они находились в квартире только вдвоем.
«Знает он о жене или нет?» — думал, слушая его, Сергей Леонидович, а сам оглядывал комнатенку, соображая, где же предстоит ему тут разместиться, на чем придется спать: ни кровати, ни диванчика в этой комнате не было.
Андрей Петрович словно читал его мысли:
— Полотнянку складную Ванька поставит тут. А сам с супружницей — в той (он махнул рукой на дверь), в спальне… Про Надю мою не знаете, — а? — наконец, заговорил он о личных делах, но ничем внешне не, показал своего волнения.
— Знаю, — сказал Сергей Леонидович соболезнующе. — Охранка взяла.
— Взяла-а… — угрюмо-ленивым тоном повторил Громов, глядя исподлобья. — Нас не перешибешь, — сверкнули вдруг его глаза, — да и охранка, знаете, не репу сеет… Волков грудью кормит!
Иногда, как и на этот раз, он говорил загадками и поговорками, — Сергей Леонидович выжидал конца его речи.
— Крупного зверя вскормила, матерого… Нас всех продавал! Хотя… не вырастала еще та яблонька, чтобы ее черви не точили. Что, нет? Море не выпьешь — так и пролетариев всех не продашь… Мирона Черномазова признали бы сволочью? — неожиданно выкрикнул Громов, наклонившись через стол.
— Да что вы?! — готов был подскочить на стуле Сергей Леонидович.
— Он и есть. Почти с поличным.
— Да не может это быть!
— Не может, не может!.. — передразнил сердито Громов, и его горбатое адамово яблоко на узеньком горле заходило — вверх-вниз — как маленький поршень.
Низенький, уродливый человек с кривым, рассеченным носом, с умными черными глазами, вжигавшимися в собеседника, встал теперь в памяти Ваулина.
Черномазов?.. Страстное острое «перо ПК», как называли его многие, партийный организатор в страховых кассах… Мирон Черномазов и охранка — чудовищно!
Если бы не такой человек, как Громов, сказал это, — Сергей Леонидович отказался бы поверить.
— Как же это? — требовал он подробностей, но стук в дверь помешал их сегодня выяснить.
В комнату вошел молодой человек в темном ватнике чуть пониже колен и суконной круглой шапке, отороченной облезлым дешевым мехом. На плечах и на шапке лежали быстро тающие хлопья снега. Он выпал за то время, покуда Ваулин и Андрей Петрович сидели в доме.
Хозяин квартиры дружелюбно кивнул своему старому знакомому и с нескрываемым любопытством, но без удивления посмотрел на Сергея Леонидовича.
— Будьте, как говорится, знакомы, — сказал Громов. — Это и есть Ваня, а это…
— Кудрик! — поспешил назваться Сергей Леонидович.
— Кудрик, Леонтий Иосифович! — выдержал «экзамен» Громов. — Твой это, Ваня, постоялец. Прошу любить и жаловать.
— Любить — за этим дело не станет, а вот жаловать как, Андрей Петрович? — жестом обвел хозяин и протянул руку гостю.
Она была холодная, клейкая от пота, и, словно понимая, что это может быть неприятно другим, Михайлов не сжимал ее при рукопожатии, а, протянув вялую руку, тотчас же стыдливо ее отдернул. Сергей Леонидович незаметно для него брезгливо вытер свою ладонь о штаны.
— Чайку бы попить… — сняв верхнюю одежду, суетился молодой хозяин, ища глазами чайник на привычном месте.
— Взяла твоя Ольга, — разъяснил Громов. — Кипятку пошла брать к соседям. Ну, как дела? — расспрашивал он. — Отнес, или не вышло?
— Отнес. Оттого и опоздал домой маленько, Андрей Петрович. Все в акурат сделано, — быстро скосил он глаз в сторону нового гостя: «Потом, может?» — молчаливо спрашивал он.
— Говори все, — распоряжался Громов. — От Леонтия Иосифовича у нас с тобой секретов быть не может, — понятно?
— Очень даже! — весело ответил Ваня. — Жениху, значит, отнесено, — продолжал он. — Но какой случай был, Андрей Петрович! Ой, случай!..
— Кто это жених? — спросил Сергей Леонидович, перебив разговор.
«Женихом» оказался, — как объяснил Громов, — некий студент Салазкин, член организации. Живет он теперь на Николаевской, в новом, еще не достроенном доме, заселяемом небогатыми жильцами. А до этого Салазкин жил где-то в конуре вместе со своим товарищем-студентом. И вот в один прекрасный день Салазкин — человек тихий, стыдливый, углубленный в науку — объявляет изумленному другу, что женится и уезжает из квартиры — в разгар зачетов, изменяя науке! «Повенчали» Салазкина с довольно пожилой партийной работницей и… оборудовали у них на Николаевской типографский станок. Туда-то и приходят товарищи — Ваня и другие — печатать прокламации. Шум «вечеринок» и моторов находящегося при доме большого гаража отлично помогают работе печатников.
Коротко рассказав об этом Сергею Леонидовичу, Громов напомнил хозяину квартиры:
— Что за случай был, — а?
Он ничего не пропускал мимо ушей, он был пытлив, по-своему придирчив к каждой мелочи. Эту черту его характера Ваулин давно уже приметил и старался, как мог, перенять ее у опытного конспиратора Андрея Громова.
— Набрал я, значит, Андрей Петрович, вчерась и сегодня кранку и — в акурат ее веревочкой, петелькой! Чин чином все. Идти, значит, уже с работы, — я эту штуковину возьми и запрячь за пазухой. И незаметно, конечно, придерживаю: руку вроде к сердцу прикладываю. Ну, так и иду в меланхолии вроде. А рядом со мной еще человек пять по коридорчику. Бац — остановочка! Василий Иваныч, метранпаж наш, стоп, говорит, дело есть. «Какое такое дело?» — думаю. «Заработать, говорит, друзья, желаете?» А сам руку мне на плечо кладет и не снимает. Ну, думаю, пропал я! Истинное дело, пропал!.. Старый-то черт, Василь Иваныч, подсмотрел, наверно, и нарочно разговор повел… Доставит к хозяину, — иначе как нее? Руку я от сердца, конечно, вниз, чтоб подозрений не было, — верно, Андрей Петрович?
— Тебе видней! — повел бровью Громов.
— И вдруг телом чувствую: шрифт, батеньки мои, за пазухой-то рассыпался, — а? Василь Иваныч поверх очков глядит на нас, все больше на меня, что-то говорит насчет ночной смены, а в ушах у меня шум, уши — ровно ветром забило. А свинец-то до ремня на брюхе упал, оттянул рубаху, во что!.. Переступил я с ноги на ногу, а шрифт, батеньки мои, помаленьку кап-кап на пол. Буквочка за буквочкой! «Что делать? — думаю. — Так, думаю, вся гранка, господи, прости!» Схватился я руками за живот, а Василий Иваныч мне: «Чего, говорит, с тобой, Ваня?» А я корчусь, корчусь… Простите, говорю, такие, говорю, дела требуют, а сам в отхожее спасаюсь. Вон какое дело было, Андрей Петрович… Жениху-то только шрифт достался. Заново, выходит, по такой случайности, надо набирать им. Они сами там сделали наборную кассу и научились набирать: студент самый и другие, — пояснял Ваня Кудрику.
Сергей Леонидович внимательно наблюдал Ваню-печатника. Русый, широколицый и курносенький, с васильковыми, весело постреливающими глазами, с захлебывающимся по-детски звонким голосом, когда много, как сейчас, говорил, — он понравился, был симпатичен Сергею Лёонидовичу, и мокрая безжизненная ладонь его не вспоминалась.
Жена Вани Михайлова оказалась ему в пару. Такая же невысоконькая, светлорыжеватенькая, тоже курносенькая, с шустренькими, лихорадочными глазками, хохотунья, — она похожа была на мужа, как сестра.
«Петушок и курочка — цесарки!» — дружелюбно окрестил в уме Сергей Леонидович эту пару.
Они оба по-одинаковому даже пили чай — наливали его в блюдце и на ладони подносили его ко рту; оба, сидя на табуретках, болтали ногами, как дети. И, как дети, оба с любопытством поглядывали на малоразговорчивого своего «постояльца» и с почтительностью, с некоторым испугом даже прислушивались к тому, что говорил им Громов.
А он строго-настрого наказывал востроглазой Ольке: ни одна душа не должна знать, что ночует тут Леонтий Иосифович Кудрик, — ни одна, понятно? А если случайно зайдет кто в дом и увидит, — сказать, что «дядя» приехал по делам в столицу, что торгует «дядя» всякой продуктовой мелочью.
— А чей они будут дядя: мой или Вани? — спрашивала хохотунья.
— Ну, пускай — твой, Олька! — впервые за вечер улыбнулся Андрей Петрович, подмигивая ей.
Он вскоре ушел, не забыв удостовериться по-хозяйски в прочности и пригодности внесенной в комнату складной кровати для Ваулина, и Сергей Леонидович остался в обществе незнакомых людей. Вскоре и молодая пара покинула его. Закрыв дверь за собой, «цесарки» долго шептались в своей комнате.
История с Ваниным шрифтом напомнила Сергею Леонидовичу случай, происшедший с ним самим. Это было несколько лет назад, когда жива еще была Надя, покойная жена. В то время они жили на разных квартирах, оба — на Васильевском острове.
В комнате Ваудина хранился недавно привезенный ящик со шрифтом, предназначенным к отправке гельсингфорской партийной организации. Шрифт почему-то долго не забирали, а его необходимо было переправить в другое место: в те дни Ваулин ждал очередного обыска. Тащить на себе ящик, к тому же плохо сколоченный, было явно неудобно. Звать извозчика — навлечь на себя подозрения. Надо было нагружаться самому. Задача была не из легких: разместить на себе все содержимое ящика, да так, чтобы не перетягивало ни на одну сторону и чтобы можно было влезть в пальто. Пришлось употребить в дело старые брюки, завязав крепко концы их так, чтобы получился двойной мешок. В каждую половину его вошло фунтов по тридцать. Концы брюк были перекинуты через шею и повисли по бокам туловища. Карманы пиджака и пальто были также наполнены шрифтом, — пальто едва застегивалось на одну пуговицу.
Он шел к Наде. Осенняя слепая ночь матерински любовно покровительствовала еле двигавшемуся конспиратору. Дорога в конце Острова была покрыта подмерзшими кочками грязи, о которые спотыкались ежеминутно ноги: он шел петлистой походкой пьяного человека. Через каждые 40–50 шагов Ваулин опускался на землю, вызывая смешок случайных прохожих.
Ему и самому становилось смешно.
Но тогда… это было по-своему романтично и привлекательно! Надя так и оценила его крестовый путь до ее квартиры и, не страшась возможных последствий, спрятала, у себя под кровать его изумительную ношу.
Через три дня после первой встречи с членами Петербургского Комитета в Новой Деревне Ваулин написал листовку ПК: воззвание ко всем рабочим Петрограда.
«26 октября состоится суд над теми из наших товарищей матросов, кто захотел включить свои силы в революционное движение рабочего класса. Им осмеливаются угрожать смертью за то, что они и в душных казармах сохранили ясность революционного сознания. Несмотря ни на какие угрозы военного положения, товарищи матросы не захотели, не смогли быть бессловесным орудием в руках шайки грабителей, упивающихся никогда не виданной прибылью, барышами от устроенной ими всемирной бойни…
Товарищи матросы и солдаты, — заканчивалось ваулинское воззвание, — мы заявляем свой голос возмущения против смертельной расправы с вами. В знак союза революционного народа с революционной армией мы останавливаем заводы и фабрики. Над вами занесена рука палача, но она должна дрогнуть под мощным протестом восстающего из рабства народа. Долой суд насильников! Долой смертную казнь! Да здравствует стачка протеста! Да здравствует единение революционного пролетариата с революционной армией!»
Остановить фабрики и заводы, — о нет, это не было пустой угрозой… В точно назначенное число, спустя всего лишь пять дней после закончившейся стачки на Выборгской стороне, началась новая рабочая забастовка, охватившая около ста тысяч человек. Теперь бастовали уже во всех районах города: большие знаменитые фабрики и маленькие мастерские, как, например, шорно-столярные или граверные.
На огромном теле Петербурга омертвевали один за другим, день за днем, его отдельные участки, угрожая жизни всего организма столицы. Она с испугом, надеждой и враждой (всякий — по-разному) смотрела на свои окраины: не понесут ли оттуда снова, как в памятный, далекий январский день, алые полотнища восстания?
Слово «революция» теперь произносилось вслух, и министр Протопопов приказал спешно обучить полицейских пулеметной стрельбе. Другие министры оценили события морским английским термином: «dirty-weather», — говорили они редакторам газет, что означало: «грязная погода», батенька!.. Да, грязная политическая погода накануне открытия Думы. Депутаты съезжались со всех концов России, кто познатней — бежал за новостями к своему председателю, а тот, протягивая руку к окну, к улице, озадачивал русских парламентариев: «Боюсь, господа, что нас по первому абцугу отправят гулять!»
Тогда и министры и депутаты устремили взоры на бесстрастного доселе начальника военного округа, — и генерал-лейтенант Хабалов приказал закрыть несколько заводов, а в ворота остальных ввел войска. Рабочих, что помоложе, арестовывали на квартирах и препровождали под конвоем в воинские присутствия.
Другой генерал — генерал-майор Глобусов — не уступал в рвении первому, но все же слово «революция» не сходило с уст петербуржцев.
…В эти дни собрались члены Петербургского Комитета. Пришли не все, кто должен был. Двоих, оказалось, арестовали, иных не успели предупредить о месте собрания, которое пришлось менять несколько раз из-за усиленной слежки. Но присутствовало несколько человек из районов — люди, большинство которых Сергей Леонидович не знал до сих пор.
С чувством какой-то особой внутренней собранности шел на это заседание ПК Ваулин, и все же ему хотелось, — сознавался сам себе, — чтобы и заседание не затянулось: через два часа, в семь вечера, он должен, наконец, увидеть Иришу!..
Добрейшая Вера Михайловна все устроила, как обещала, и сегодня вот в Ковенском переулке Ириша ждет его. Сергей Леонидович мысленно повторял многократно номер, дома и квартиры, где живет Иришин родственник, журналист Асикритов. Позвонить и сказать: «Из «Вечерней биржевой» к Фоме Матвеевичу». Ладно!
…В сенях его встретила пожилая — высокая и плечистая — женщина с заголенными по локоть толстыми руками. С них стекала вода и мыльная пена. Из кухни шел сыростный теплый запах стирки.
— Кого надо? — угрюмо спросила женщина.
Ваулин назвал пароль.
— Посторонись, медведица! — появился за ее спиной Андрей Петрович, вышедший навстречу приятелю.
— Кто такая? — заинтересовался Ваулин, проходя по кухне и сбрасывая здесь хлюпающие, протекающие галоши.
— С трикотажной Керстена… Будет когда у нас, большевиков, гвардия, — ухмылялся Громов, — Марфу взводным поставим! Большевистский дух в больших телесах… Про победы наши кумекаем: шутка, сто тысяч, как одного, подняли?! — оживлен был сегодня Андрей Петрович.
С этими словами он вошел, ведя за собой Ваулина, в просторную чистую комнату с белыми, как в провинции, стенами. Она одна и составляла всю квартиру трикотажницы Марфы и ее мужа.
Оба окна были завешены одеялами, дневной серый свет, просачивавшийся в щели с боков, был недостаточен, и на столе, посреди комнаты, горела большая керосиновая лампа. Каждые пять минут фитиль ее вытягивался кверху, коптил, и севший за стол Громов каждый раз по-хозяйски прикручивал его.
Сергей Леонидович уселся на свободное место, рядом с одним из членов ПК — на кованом сундучке, который тот вытащил из-под двуспальной Марфиной кровати. Сидевший в центре стола Скороходов дружелюбно подмигнул ему. Незнакомый человек с курчавой белокурой головой сказал улыбаясь:
— Товарищ Швед? Приятно видеть!
И — в ответ на удивленный взгляд Сергея Леонидовича:
— Я вас знаю: и вообще и в лицо. Прошлый год у Паниной, на лекционках, когда меньшевиков тузили, — а? Забыли, значит… Ну, да не в том дело. Яша — Чиновник — про вас рассказывал.
— Яша?.. Где рассказывал? — насторожился Ваулин.
— Передал поклон, — у меня он сейчас проживает. Приятели мы с ним.
— Ах, вот, как! Бежал, значит? — обрадовался за товарища Сергей Леонидович.
Белокурый — докладчик из района — начал свою речь. После него выступил другой, потом третий — знакомый Ваулину еще по прошлогодним сходкам.
Было одно общее в речах и репликах всех: времена таковы теперь, что легко поднять тысячи рабочих против правительства и войны: вот и в эти дни подняли, за десять дней — второй раз, — ну, а дальше что и как?
Ораторы ни в чем не оспаривали решений партийного комитета, поднявшего на ноги стотысячную армию, — они ждали теперь указаний: что дальше ей делать?
— В Питере не сто тысяч пролетариев, а больше! — подал голос ваулинский сосед по сундучку.
— Выходит — продолжать? — крикнули ему из угла.
— Выходит! — круто насупил он мохнатые растрепанные брови, просившиеся под гребешок. — Ежели ты наковальня — терпи, брат, а ежели молот — то ударяй, и все тут!
— Это верно, конечно, про молот! — отозвались с мест.
— У нас так на «Лесснере» думают, — продолжал ваулинский сосед.
— Ты или все, Григорий? — поддел его Андрей Петрович под легкий смешок присутствующих.
Ваулинский сосед сердито усмехнулся узким, чуть вдавленным ртом и сорвавшимся, хриплым тенорком выкрикнул:
— А когда же это Григорий против своего рабочего класса шел? Бывало такое?
— Бывало, брат! — отрезал Громов. — Чего греха таить?
— Факты на стол! Докажи!
— А очень просто!.. Никак не дальше как на прошлой неделе было. ПК решает! «Кончай стачку — к станкам. Дали знать о себе, пошатали режим, а дальше пока — не зарывайсь». Не зарывайсь — понятно? А ты, словно конь, закусил удила и-и-и… понесся! Мы говорим: «кончать», а ты своим лесснеровцам кричишь: «На улицу!» Куда, к черту, на улицу?! В одиночку ваш завод так бы и скосили, — понятно тебе?
— А через пять ден опять же народ подняли…
— Прости за слова, Григорий: дурак ты, что ли? — не вытерпел Андрей Петрович. — Другой раз не скажешь так про тебя, не скажешь! Как будто башка на плечах, — а?.. Или, может, она у тебя шкатулка только для твоего языка и ничего больше? Язык ей хозяин, а не голова — языку? Не так?
Все засмеялись, и вместе со всеми и сам желтоглазый, сивый Григорий.
— Горяч, горяч на язык… — продолжал Андрей Петрович. — «Через пять ден опять народ подняли»… Сказал тоже! И правильно, что через пять! А почему? Чтоб доказать! Доказать буржуазии, царю, охранке, что, когда нужно, мы, питерские рабочие, опять схватим их за печенку. Но, брат, когда нам нужно, — понятно? Нам, а не им.
— Верно! — одобрили сразу несколько голосов.
— На то есть тактика!
— В ножки кланяюсь, а я-то не знал про это! — иронически развел руками Григорий.
— Я же говорил: кончать надо сейчас стачку. А меня не слушают… почему не слушают? — запротестовал вдруг скороговоркой один из молчавших до сих пор членов ПК. — Осторожно надо теперь, не так часто, товарищи!
Сергей Леонидович вскинул на него глаза.
— …силы нужно собирать, не дергать рабочих! Особенно женщин теперь много повсюду, в каждом цехе женщины — нервный народ, — выпалил пекист и утер лоб аккуратно сложенным носовым платком.
Он переходил с места на место, обращаясь то к одному, то к другому из товарищей, заглядывал в их лица, ища сочувствия.
Латыш — он говорил с заметным акцентом, коверкая некоторые слова. Плотный, приземистый, с рыжими, по-змеиному выгнутыми усами, в очках с золотой оправой и синими стеклами — Черномор (такова была партийная кличка Яна Озоля-Осиса, василеостровского кооператора) сразу бросался в глаза: узнав, кто он, шпики легко могли бы идти за ним по пятам, не боясь потерять из виду.
Черномор недавно только стал принимать участие в работе Петербургского Комитета, и потому Сергей Леонидович был мало с ним знаком: любопытно было присматриваться к нему.
— …Говорили? А по-моему, Ян Янович, вы раньше не на том настаивали, — вяло усмехнулся Скороходов.
— Вы плохо меня слышали. Выньте ватку, Александр Касторович. У вас болят уши, но я же не виноват?
У Скороходова действительно болело ухо. Он дважды за это время, — заметил Ваулин, — вынимал из него пожелтевшую ватку и, смачивая какой-то жидкостью, флакончик которой хранил в пиджаке, водворял ватку обратно. Боль была, вероятно, очень сильна: он сидел молчаливо, подставив ладонь под ухо, с опущенными глазами.
— Дайте мне слово — сказал Сергей Леонидович, обращаясь к председателю, и, встав с низенького сундучка, подошел к столу.
Все замолчали и с любопытством посмотрели на него.
В дверях кухни он увидел в этот момент прислонившуюся к косяку старую работницу Марфу: она тоже хотела его послушать.
Это было кстати. «Буду говорить для нее, чтоб поняла, — подумал Сергей Леонидрвич. — Проще…»
— В чем суть вопроса? — начал он. — Что нам нужно решить? Да решить так, чтобы рабочий класс принял это решение как свое собственное?.. Мы говорим с вами «рабочий класс», хотя далеко не весь он, всем известно, состоит в нашей партии большевиков, и не мало настоящих пролетариев плетется еще за меньшевиками и их высокими покровителями. Но мы — комитет, партийный комитет той единственной в России организации, которая и может только вести рабочих по правильному пути борьбы за свои интересы. За интересы своего класса — в этом «гвоздь»! — с охотой повторял он сейчас любимое словцо Ленина. — Да, в этом, товарищ Григорий… В этом, товарищ Черномор! — нашел он взглядом их обоих, и все, как он и хотел, поняли, с кем пойдет сейчас спор. — Повторяю, товарищи: надо делать так, чтобы наши решения стали решениями рабочей массы… Что произошло в последние дни? Давайте посмотрим…
Марфа переступила порог, на цыпочках пробралась к освободившемуся месту на сундучке и, подтолкнув Григория, присела. Андрей Петрович укоризненно, от плеча к плечу, покачал головой: «Шла бы на кухню: ненароком постучится кто?» — но она сварливо махнула на него рукой.
— Давайте посмотрим, — говорил Сергей Леонидович. — Семнадцатого забастовали тысячи выборжцев…
— Не только выборжцы! — обиделся за свой район белокурый курчавый парень. — У нас, на Песочной, машиностроительный Семенова весь в стачке!
— Всяк кулик свое болото хвалит. Тише, дай послушать!
— Не бастовать не могли — вы это знаете, товарищи. И нас поддержали. Поддержка пришла, откуда пока и не ждали. Взбунтовались наши солдаты. Я ведь был свидетелем, товарищи. Я-то ведь сам…
— Ну, ну, дальше! — отрезая конец его фразы, хмурым особым тоном оборвал его вдруг Громов, и Сергей Леонидович понял, что говорить ему о бегстве из полка почему-то не следует. Почему? «Осторожен до мелочей!» — подумал он о Громове.
— Взбунтовались солдаты. Первая ласточка, — правда? А раз первая — значит, не последняя. Но вы знаете, чем все это дело кончилось. Что сказал наш ПК тогда? Возвращайтесь, сказали мы, к станкам. Придет время, и всеобщей стачкой, вместе с революционными солдатами, пойдем, когда надо будет, в последний штурм. Каждый прожитый день работает на нас. Почему, товарищ Григорий, нельзя было тогда больше тянуть стачку?
— А ну-ну? — словно подзадоривал тот.
— Потому что она сделала свое дело. Большее, чем можно было ожидать (на солдат-то никто не надеялся?), а тянуть ее каждый лишний день — значило потерять силы и потерять, главное, цель, ради которой все и делали. ПК правильно подумал: надо стихийное волнение превратить в короткий удар!.. Теперь, товарищи, — о сегодняшних делах…
Пересохло в горле, — Сергей Леонидович хлебнул холодного чаю из чьего-то стакана на краю стола и, поглядев в сторону Марфы: слушает ли она все так же внимательно, — продолжал:
— …Подняли сто тысяч народу. Верно. Надо было поднять? Надо! Разве кто-нибудь из нас, большевиков, не понимает, как тем самым ударили мы опять? Вовремя остановили первую стачку и — ударили потом второй! И еще больше народу собрали. Правильная у нас тактика? Правильная! За короткий срок такое землетрясение режиму устраиваем!.. Вот и идем, товарищи, толчками, а когда хлынет лава — надо быть готовым. Сто тысяч бастуют! Никто не отступает? Нет? Пока не устали — надо еще шире взять. Тут товарищ Григорий, может быть, и прав. А Ян Янович, — так, кажется? (Ваулин натолкнулся взглядом на синие в золотой оправе очки) — не все, по-моему, уразумел. Оба они в разных случаях не той дорогой пошли. А ведь идем-то на гору, — а?
И если на гору подыматься — то не только ногами, но и головой: думать надо, как лучше!.. Теперь еще об одном — самом главном, пожалуй. Мы все ждем революцию и — скажем без хвастовства! — делаем ее с вами. Наши лучшие товарищи учат нас: когда она придет, она вырастет в социалистическую. Факт, на меньшем не примиримся! — шутил он, чувствуя, что его хорошо и доброжелательно слушают. — Но революцию делать надо, жареные голуби в рот не влетают. И потом вот что… Кто думает, что может быть «чистая» социальная революция, руками одних только рабочих, — тот фантазер и не больше. Одиннадцать лет назад у нас была уже революция — буржуазно-демократическая. Это был ряд сражений всех недовольных классов и групп населения. Всех недовольных, а не только рабочих, но руководил движением пролетариат.
— Что верно — то верно! — поддержал Григорий. — Во памятка…
Он отогнул на шее косоворотку и выставил напоказ глубокий шрам от сабельного пореза.
— …Теперь о том, что будет, товарищи, — старался не потерять нити своих мыслей Ваулин. — Вот несколько деньков назад посчастливилось мне прочитать кусочек одной статьи. Напечатана она в газете нашего Центрального Комитета, в Швейцарии. Номер пришел сюда, да не целиком, жаль, а разрезанной полоской. Взял я ее (вспомнил о Федоре и сделал паузу, чтобы случайно не проболтаться)… и вот читаю. Примерно так в ней сказано…
— А кто писал?
— Секрет, что ли?
Товарищи переводили глаза с ваулинского лица на его руки, словно ждали, что вот вытащит он сейчас из какого-нибудь кармана эту самую газету и покажет ее.
— Терпение, товарищи, — улыбнулся Сергей Леонидович. — Газету, как вы понимаете, при себе не ношу. Но помню хорошо, что там есть. А там примерно вот что говорится — как раз по нашему вопросу… Думать, сказано в той статье, что мыслима социальная революция… без революционных взрывов части мелкой буржуазии со всеми ее предрассудками, без движения несознательных пролетарских и полупролетарских масс против существующего гнета, — значит, говорит наш Ленин, отрекаться от социальной революции…
— Ленин?
Было от чего всем оживиться!
— Да, Ленин это пишет. Не кто иной, как он. Ленин над такими фантазерами смеется, издевается.
— А чего на меня все смотрите, товарищ Швед? — воспротивился его взгляду Марфин сосед на сундучке. — Можно подумать… — И он досадливо пожал плечами.
— Знает кошка, чье сало слопала! — вызвав смешок, отпустил Громов по адресу заерзавшего Григория.
— Да, Ленин издевается над такими людьми, — продолжал Сергей Леонидович. — В той же самой газете. Вот, говорит он, выстроится в одном месте одно войско и скажет: «Мы за социализм», а в другом — другое и скажет: «Мы за империализм» — и это будет социальная революция!» И верно — чепуха! Сущая чепуха, товарищи. И если в девятьсот пятом году мы имели союзников — вольных или невольных, на час или на сутки, — то теперь у нас их еще больше. И с каждым днем больше будет. Вот, по-моему, это надо понять. И надо показывать им пример… пример поведения, вести за собой. Верно это, товарищ Черномор? — задевал он того. — Что надо сейчас в первую очередь делать? — шел Сергей Леонидович к концу своей речи. — Расширять движение и бороться за солдатскую массу. За крестьянских людей — иначе говоря… Вы знаете: вчера на Путиловском мы устроили митинг. Вызваны были конные жандармы для разгона. На призов рабочих проходившие мимо ополченцы бросились со штыками на жандармов и прогнали их к черту!.. Вот вам, товарищи, второй случай за неделю, когда солдаты на нашей стороне. Дождемся: и весь гарнизон выступит против режима… Карл Маркс, когда встречался с новым, интересным ему человеком, всегда сначала хорошенько присматривался к нему, «щупал зуб», как говорил. Так и мы: «щупать зуб» должны каждому факту — кого куснет он?
Ваулин допил глотками чужой чай и отошел в угол — довольный и немного возбужденный своей речью.
— Налить? — подошла к нему со стаканом в руке Марфа.
Он улыбнулся и качнул отрицательно головой.
— Что предлагаете? — спросил Скороходов: в голосе была поддержка и дружба.
— Как быть с забастовкой — я уже сказал, Александр Касторович. Ноу меня есть предложение и по другому вопросу. Пришло время выпустить газету — это мое глубочайшее убеждение. Надо подготовить всю технику этого дела, но по-настоящему обсудим ее в следующий раз…
И Ваулин только вкратце пояснил свою мысль.
Решение о судьбе стачки было принято: продолжать.
Пора было уже всем расходиться, и Сергей Леонидович заторопился: отсюда, с Крестовского острова, до Ковенского — порядочное расстояние.
Он вышел на улицу вместе с Черномором и Андреем Петровичем.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ Приключения Ваулина. Ирина Карабаева
Наконец-то Ириша увидела его…
Он вошел в комнату в сопровождении «дяди Фома» — нетерпеливый, с ищущим взглядом, с блуждающей улыбкой вокруг рта.
Он протянул руку ладонью вверх, и когда ее коснулись похолодевшие от волнения Иришины пальцы, он второй своей ладонью накрыл их и так минуту держал ее руку в своих руках.
Кто первый из них обоих произнес одно и то же слово приветствия?..
— Здравствуйте…
Кажется, они одновременно отвели друг от друга глаза и обернулись к молчаливому свидетелю их встречи. Асикритов ответил веселой ужимкой.
«Вы думаете, я ничего не понимаю?» — говорила она, и все трое рассмеялись.
Маленький, пучеглазый, юркий — Фома Матвеевич метался по комнате подпрыгивающим игрушечным чертиком: он собирал в свой портфель какие-то листки, газетные вырезки, рукописи, в великом беспорядке валявшиеся в разных местах его обители.
— Вы меня простите. Пожалуйста, простите, — тараторил он, — но я должен уходить. Сейчас, сейчас уйду… Дела, понимаете… У каждого свои дела, Иришенька. Ты не возражаешь, — а? — ехидно подмигивал он ей. — Я на часок… Сейчас, сейчас иду…
И, повозившись в комнате, он ушел, не попрощавшись.
— Ирина… — шагнул к ней Сергей Леонидович.
— Что? — тихо сказала она. Лицо ее было бледно и глаза опущены.
— Ирина… — мягко повторил он, приблизившись.
Она откинула голову и, вытянув быстро руки, крепко положила кисти ему на плечи. Крепко — словно сдерживала его угаданное движение.
— Нельзя?.. — так понял он и послушно выпрямил плечи.
Тогда, по-детски приподнявшись на цыпочки, она потянулась к его лицу и заглянула в него. Глубоко-глубоко в настежь открытых глазах ее светился, как будто упав внутрь, рыжеватый короткий луч смеха.
— Кому… нельзя? — обдала она его лицо теплом своего дыхания.
Ваулин не успел произнести в третий раз ее имени, — кто раньше из них почувствовал губы другого?!.
— Вот и все! — сказала она просто и обняла его за шею.
— Мы не виделись с лета, — говорил тише обычного Ваулин, не отпуская ее.
Он привлек ее снова к себе и стал целовать глаза, лоб, виски. Длинные косы, заложенные венцом, упали теперь с ее головы, и одну из них он обмотал вокруг своей шеи.
— Ну… это что делается? — краснела Ириша.
И, стараясь быть строгой, сказала:
— Отдай, Сергей, мою косу.
Ваулин в ответ поцеловал ее волосы.
— Хотя… что уж тут! Снявши голову, по волосам не плачут, — шутила она.
…Как он жил все это время? Думал ли о ней? Что дальше будет с ним? — Он коротко рассказывал о себе, Ириша слушала, но потом вдруг перебила его:
— Я порядочная свинья! Ведь я ничего вам еще не сказала о вашей дочке!
— «Вы»… «вашей»? — укоризненно смотрел Сергей Леонидович.
«Ты» не сразу далось им в этот вечер, и каждый раз они поправляли друг друга.
Она рассказала Ваулину все, что знала о его родных. Она заходила к ним несколько часов назад, — Екатерина Львовна просила поцеловать его в лоб.
Он выслушал ее, успокоился, — что мать и Лялька здоровы (вот с деньгами плохо только…), и тут же, из вежливости, осведомился об Иришиной семье.
Ба, вот штука: она забыла ему рассказать о самом главном-то происшествии! Ведь она-то сама была арестована, — известно ему это?.. Боевое крещение!
И, вскочив с места, Ириша стала в лицах передавать всю историю засады и освобождения из тюрьмы.
Ваулин выслушал и сказал:
— Теперь надо быть очень осторожной. Второй раз твой отец уже не поможет.
— И не надо! — зарделась она.
— Как это «не надо»?
— Разве я буду лишена твоей помощи и дружбы твоих товарищей?.. Вот и все! — сказала Ириша так же просто и убежденно, как после первого поцелуя.
Это был ответ для Ваулина сразу на несколько невысказанных вопросов. Он еще только собирался их осторожно ставить, он думал о них не без волнения: «Понимает ли, что может ее ждать?» — но вот ключ найден — двери не ломаются: все разрешено как будто с предельной, радующей ясностью, — подумал Сергей Леонидович с благодарностью.
— Мы будем вместе? — спросил он. — Всюду?
Она прижалась к нему и ответила:
— А теперь… помолчим. Минутку.
И провели минуту в тишине, чувствуя дыхание свое, но не видя друг друга.
Это была последняя ночь, проведенная Ваулиным в Лесном, на складной кровати у «цесарок».
На следующий день, как условлено было вчера, он пробрался на Васильевский — к служившему на Большом проспекте Озолю: тот должен был вручить Сергею Леонидовичу для нужд ПК несколько случайно приобретенных «железок». Это было настоящее богатство!..
(Существовало в подполье три категории паспортов: «железка», «копия» и «фальшивка». «Железка» — вид на жительство некогда здравствовавшего обладателя, после смерти которого мещанские старосты, а в деревнях — волостные писари, славившиеся взяточничеством, продавали эти паспорта. Такой вид на жительство ценился очень дорого. По нему можно было жить весьма долго и спокойно. В столице установлен был порядок, в силу которого при прописке снималось три копии: одна для старшего дворника, другая шла в адресный стол, а третья — в то место, откуда был выдан «вид», — с секретным запросом полиции: существует ли такое лицо? Конечно, ответ от взяточников получался положительный.)
Получив от Черномора широкий конверт с «железками», Сергей Леонидович, сопровождаемый до двора товарищами, вышел по черному ходу из кооператива.
Было пасмурно, силился упасть вялый, недолговечный снежок. В выбоинах двора было полно грязи. Она и так уже набилась в рваные, хлюпающие галоши Ваулина и сулила простуду.
Он подумал об этом сейчас и, сделав несколько шагов, остановился: на прилавке кооператива он видел галоши, пусть Черномор устроит ему эту покупку. И Сергей Леонидоьич повернул обратно.
Он хотел уже потянуть на себя обитую железом дверь черного хода, как она в этот момент открылась, заслонив его со двора, потому что, боясь быть ушибленным, Ваулин отскочил в сторонку.
Побежал и скрылся за поворотом к арке шустрый человек в серой бекеше.
Минуту назад, разговаривая с Озолем, Ваулин заметил этого человека в магазине: у «бекеши» сильно косили навстречу друг другу глаза — так, что они всю жизнь, казалось, без напряжения видели всю нижнюю половину разъединявшего их длинного носа.
«Что-то украл, наверно…» — почему-то подумал об убегавшем Сергей Леонидович и вошел в кооператив.
Черномор был удивлен.
— Ничего не произошло, — успокоил его Ваулин. — Устройте мне, Ян Янович, пару галош подходящего размера.
Через три минуты они поблескивали на его ногах, шагавших по проспекту.
Путь домой лежал через Петербургскую сторону. Сергей Леонидович свернул на малолюдную Девятнадцатую линию, решив пройти ее до конца, до Малого, и оттуда переправиться по Тучкову мосту.
Проходя мимо госпиталя Финляндского полка, он невзначай обернулся и почти сразу же увидел человека в серой, с лисьим воротником, бекеше.
«Дважды встречаешь — не верь, трижды — спасайся», — такова была поговорка в подполье, и Сергей Леонидович насторожился. Конечно, все могло на сей раз оказаться случайностью, но…
Пересекая Средний, он снова оглянулся: «бекеша» следовала по пятам.
Предстояло выяснить ее намерения, — Сергей Леонидович изменил маршрут и перешел на левую сторону проспекта. «Бекеша» свернула туда же, только на правую панель. Но косоглазый шел теперь не один: рядом с ним шагал, разговаривая, какой-то человек в коротком темном пальто, в высоких русских сапогах, с палкой в руке.
«Откуда он взялся? Вероятно, шел Девятнадцатой линией, и я не обратил на него внимания», — подумал Сергей Леонидович.
Он все еще не выбрал, куда держать путь. Одно для него стало ясно: если это шпики, то они «брали» его в кооперативе. До того — он как будто не замечал за собой слежки. Но шпики ли все-таки?
На углу Восьмой он сел в вагон трамвая, шедшего к Дворцовому мосту, в центр. И тотчас же человек с палкой на ходу вскочил в прицепной — на первую площадку, а «бекеша», замешкавшись, — на вторую. Теперь уже не было никаких сомнений: Ваулина преследовали!
На второй же остановке сквозь стекло двери он увидел косоглазого, очутившегося на площадке вагоновожатого.
«Ого!» — встревожился Ваулин. Он понял: за ним не только следят, но хотят сразу же «взять» при первом удобном случае.
Медлить уже нельзя было, — Сергей Леонидович, в нарушение всех правил трамвайной езды, протискался на заднюю площадку, отбросил незаметно для стоявших тут железную застежку, скреплявшую обе половинки заградительной решетки, и выжидал минуты, когда открыть, ее и выскочить.
Он слышал звонки и шум встречного трамвая. И, когда тот приблизился, Сергей Леонидович распахнул решетку и, быстро спустившись на одну ступеньку, прыгнул на землю. Он едва не угодил под колеса встречного вагона. Еще одна секунда — и Ваулин вскочил на подножку его. И только удивился в тот момент, почему она так высоко от земли…
Это мчалась, непрерывно звоня, служебная трамвайная платформа. На задней площадке, где очутился Ваулин, никого не было. Он оглянулся: маршрутный желтый трамвай уносил его преследователей к набережной Невы. Сразу ли заметят они его бегство?
Без остановок домчался он к Малому, соскочил с платформы и, сохраняя степенный шаг обычного пешехода, направился к Тучковой набережной.
Было часов пять, и оставалось ходу еще минут на пятнадцать до квартиры Вани-печатника — в одном из домиков на Малой Спасской, тянувшейся вдоль лесного незаселенного участка. И вдруг на углу Муринского проспекта и Антоновского переулка, у последнего перекрестка перед своим жильем, Сергей Леонидович увидел одного из своих преследователей.
Шпик стоял, опершись на палку, и смотрел сейчас в сторону переулка. Рядом, у ворот маленького дворика, — извозчик, подвязывающий торбу с овсом высокой гнедой лошади. Никогда здесь извозчики не имели стоянки, — все стало яснее ясного!
Ваулин круто взял вбок, шмыгнул на Парголовскую, убегая к Лесному институту.
«Квартиру открыли… Кто? Как? Куда двинуться?» — одни и те же мысли сменяли друг друга, как в чехарде. Хотя бы на несколько минут укрыться куда-нибудь, и там уже подумать, что делать!
Он побежал в рощу, прилегавшую к Политехническому институту и раскинувшуюся позади Спасской улицы. Отсюда вела узенькая утоптанная просека, — которой можно было выйти к домику Вани-печатника. «Э, нет!» — сам себе ответил Сергей Леонидович, отмахнувшись от коварного соблазна.
Какой-то верховой ехал навстречу, — Ваулин бросился вглубь рощи и, увидев вдруг скат в канаву, бегом спустился в нее. Он чуть-чуть не наткнулся грудью на человека в бекеше с лисьим воротником!
— Легче, дьявол!
— Стой! Руки вверх! — зашипел чей-то голос.
Ошарашенный, ничего не понимающий, Сергей Леонидович исполнил чужое приказание.
Наверху проскакал верховой. Внизу — тягуче-медленно протекала минута молчаливого выжидания.
— Стой!.. Кто будешь? — шипел все тот же голос, а обладатель его, рослый мужчина, держал перед животом Ваулина «бульдог».
— Нищий… — сказал Сергей Леонидович. — У меня нечего грабить.
— Митрич, брось! — схватил за руку товарища человек в бекеше, — Свой это!
— А ты откуда знаешь? — не доверял Митрич.
— Знаю: третьей роты это! Дезертир тоже… нашего полка.
«Вот-те, на!» — удивился Сергей Леонидович.
— Товарищ Ваулин, — не правда ли? — положил ему руку на плечо человек в бекеше. — Еще по виду — сомневался, а как услышал голос — сразу признал. Опускайте руку… нате вам мои пять! — пожал он с размаху ваулинскую руку. — Удивляетесь? Я вижу!
Сергей Леонидович вгляделся в сумерках в его лицо — заросшее рыжей щетиной, с длинными мглистыми бровями. Задумываться теперь над тем, где он видел этого человека, уже не приходилось: казармы полка, но… при каких обстоятельствах?
Неужели он знал фамилию этого солдата, назвавшего его «товарищ», а теперь забыл? И почему на нем та самая бекеша? Она немного коротка на нем и узка в плечах. Или он, Ваулин, ошибся: та самая ли бекеша?.. И что за странное вообще происшествие в канаве?
— Айда! — сказал Митрич. — Чтой-то вас я не помню, солдат! — пробурчал он Ваулину. — Беглый тоже? Жить есть где? А нам — нет! Может, часы купишь? — неожиданно добавил он и показал серебряные закрытые часы с брелочками и ключиком на кожаной цепочке. — Дешево отдам: хотя на билет в Кострому…
— Нет, — покачал головой Сергей Леонидович. — Не требуется.
— Ну, нет — так нет! — надвинул на голову серую шляпу дезертир и подтолкнул своего товарища: — Тепло теперь небось стало в шубейке? Айда, Миколай!
Они выбрались из канавы в темнеющую чащу кустарников, оставив Ваулина одного.
Он сделал несколько шагов по вязкому дну канавы и на изгибе ее натолкнулся — сразу же — на распластанное тело мертвого человека: висок его был проломлен и залит кровью. Мертвец лежал в одном нижнем белье: его ограбили…
Оглядываясь по сторонам, Ваулин нагнулся над трупом: это был шустрый, косоглазый шпик!
В следующую минуту Сергей Леонидович бежал уже по проезжей дороге к Политехническому. И ему с трудом потом удалось вернуть себе свой обычный шаг, чтобы не обратить на себя внимание встречных прохожих.
…Итак, косоглазый подкарауливал его на лесной дорожке, а второй шпик — дожидался на перекрестке? Вот оно что!.. Третьего пути не было к Ваниному домику: возвращаясь домой, он обязательно попал бы в руки охранки.
Сергей Леонидович понимал, как счастливо избежал опасности. И только ли одной этой? А разве не мог он подвергнуться участи убитого и ограбленного шпика, если бы не этот случайно повстречавшийся дезертир с рыжей щетиной и колючими бровями? Кто из них стал убийцей: этот ли парень, спасший, быть может, ему жизнь, или его спутник по скитаниям — сиплоголосый солдат «Митрич»? А может быть, один другого стоит?
Как ни был занят мыслями о самом себе, долго еще не мог отделаться от мрачных впечатлении: все время перед глазами маячило окровавленное лицо убитого охранника.
…В десятом часу вечера он постучался в подвал на Лиговке. У входа — кривыми буквами вывеска: «Сапожник».
— Кучеров дома? — спросил он, когда открыли дверь.
— Не приходил еще с работы Кучеров.
Хозяин — черный, лохматый инвалид на деревяшке — окинул Сергея Леонидовича маловыразительным, полусонным взглядом.
— Я подожду его, — сказал Ваулин, спускаясь по ступенькам в комнату.
— Ждите, — односложно разрешил хозяин.
— Вася, кто там? — раздался из глубины комнаты вялый женский голос.
— Человек, — все так же кратко ответил он. — Спи.
Сапожник проковылял к своей низенькой табуретке, обитой на сиденье куском просиженной, ввалившейся кожи.
На полу, у его ног, валялись колодки, башмаки, оторванные каблуки с торчащими в них гвоздями. Рядом, на стуле, — ворох кожаных кусочков, заплаток, сапожные инструменты. Небрежным взмахом руки он все это сбросил со стула и молчаливо придвинул его к незнакомому гостю, а сам занялся набивкой подошвы на чей-то порыжевший, потрескавшийся сапог.
Керосиновая лампочка на столике бросала вокруг мелкий, зыбкий свет. В конец комнаты он почти не доходил. Там, придвинутые вплотную друг к другу, стояли две кровати: поперек их разместились ко сну жена сапожника и двое ребят.
В тишину сонной, душной комнаты входил только (очевидно — привычным, нисколько не тревожащим ее стуком) короткий, мягкий и глухой удар сапожного молотка, да верещали на стене «ходики» с фунтовой гирькой на веревочке. Сам хозяин был безгласен, словно камень.
Когда Сергей Леонидович, вынув папиросы, закурил, сапожник, перегнувшись в его сторону, все так же молчаливо протянул руку к коробке, взял папироску и прикурил от лампы.
— А поздно приходит Кучеров? — решился в этот момент заговорить с ним Сергей Леонидович.
— Бывает разно, — последовал ответ, и — опять молчание.
— А дождусь я его сегодня? — возобновил Ваулин неудавшуюся беседу.
Сапожник, держа гвоздик во рту, развел только руками. Сергей Леонидович решил больше ни о чем не спрашивать — ждать.
Так, в молчаливом ожидании, прошел добрый час.
Ваулин ничего с утра не ел, — томил голод, по всему телу растеклась усталость. Когда же придет, наконец, «Кучеров» — Андрей Петрович?!
Он работал теперь не то слесарем, не то механиком в какой-то маленькой ремонтной мастерской, а где она, какие сегодня часы он занят в ней, да и сразу ли должен возвратиться домой, — ничего этого Ваулин не знал.
А если не удастся его сегодня повидать, — как будет тогда с ночевкой? И конверт с паспортами, надо ему на всякий случай передать, — не носить ведь «железки» в кармане!
«Ходики» показывают начало одиннадцатого, — того и гляди, сапожник скоро выпроводит его и уляжется спать.
Думая обо всем этом, Сергей Леонидович незаметно для самого себя задремал, Откинувшись на спинку стула.
Он не слышал короткого стука в дверь и того, как поднялся, чтобы открыть ее, ковылявший на деревяшке хозяин.
— Тс-с-с!.. — приложил тот палец к губам.
«Кто?» — одними бровями спросил Андрей Петрович, не переступая порога.
Бровям ответили приподнятые плечи сапожника, но — ничего определешюго: кто его знает…
«Буди!» — так понял сапожник громовский жест, а сам Андрей Петрович решил постоять в тамбуре.
Сергей Леонидович проснулся, ощутив легкий хлопок по коленке:
— Извиняюсь, не ночлежка это и не вокзал!
— Простите меня, — вскочил Сергей Леонидович. — Не пришел ещё Кучеров?
— Пришел! — сбежал вниз по ступенькам Громов, узнав голос своего приятеля. — Что случилось? Чего так поздно, Леонтий Иосифович?
Ваулин покосился в сторону хозяина. Лохматый черный человек, глубоко зевая, ухмылялся теперь.
— Ну и загадку дали! — заговорил он совсем другим тоном. — А я думал: может, шпичок приплелся да овечкой прикинулся.
— Спасибо на добром слове, — усмехнулся Сергей Леонидович. — Неужто сходство нашли? Шпичок? Оттого и молчали?
— Оттого и молчал.
— Горе для него — молчать, — кивнул на сапожника Громов.
— Незаметно что-то! — сказал Ваулин.
— Э, кто бы знал! Заговорить может человека — такой это любитель до разговора. Но, когда надо, — подавится своими словами, а молчать будет! Артист Вася!
— Как наказывали вы мне: партийное послушание — понимаю это дело!
— В организации? — тихо спросил о сапожнике Ваулин.
— Шестой год знаю, — ответил Громов. — Велел я ему: никуда, калека, не рыпайся, угол сдавай — кому я скажу. Слушается меня! Вашего Ваньки Ольга — сестра приходится ей, — показал он рукой на свернувшуюся калачиком на кровати спящую хозяйку. — Всю семью, знаю… Ну, да разве о том разговор? — прервал Андрей Петрович самого себя. — Что стряслось?
Они отошли в уголок, и Сергей Леонидович, как мог кратко, рассказал о сегодняшних злоключениях.
— Та-а-к… — протянул в раздумье Громов. — Стараются, сукины дети, гончих выпустили. Но кто только нюх дал? — вот что!.. Ишь ты, на вас облаву замыслили. Почуяли, твари!
Он стал вдруг хвалить, что бывало с ним редко, Ваулина за вчерашнюю речь, за ясность и правильность позиции и, прищурив глаз, посмотрел на Сергея Леонидовича:
— Факт, — вожак… Все районы так и говорят: «вожак», беречь надо.
— Верно? — искренно удивился, но и обрадовался, взволновавшись, Ваулин.
— Угу. А сказать правду? — прищурил в очередь другой глаз Андрей Петрович.
— Какую? — заинтересовался Ваулин.
— Вот я вас как будто давно знаю, — сказал Громов, — да и видел я на своем веку в партии людей-людишек — хороших людишек, ничего не скажу. Из интеллигентов что… Уважаю, конечно. Очень. И вас всегда уважал, конечно. Но до сего времени думал: живет в партии, большую пользу ей делает, — а от сердца все это или от головы? От сердца — наш брат, рабочий, беднота. Ну, другого и быть не может! Про вас думал: головой он только, сам по себе живет, — такой, значит, умственный еж!
Сергей Леонидович улыбнулся такому неожиданному сравнению.
— А еще летом, сей год, пригляделся я к вам: нет, думаю…
— Не еж? — тихонько засмеялся Ваулин.
— Нет, думаю, что-то не так, брат Громов! А за последнюю неделю — гляжу: откупорился вроде человек, прет из него и других хватает. Бывает же такое!
— Бывает, — сказал уже серьезно Сергей Леонидович. — Бывает… это я не о себе говорю, не подумайте!.. Спасибо вам, Андрей Петрович, за науку.
— За что? — нахмурился Громов: он редко хвалил других и не любил, когда его хвалили за что-нибудь.
— Многому я у вас учился, — вспомните!
…Сапожник уже спал рядом с женой. Погасив свет, Ваулин и Лекарь, не раздеваясь, разместились ко сну в громовской каморке.
Она была узка, без окошка. Чтобы поместиться в ней на ночлег, пришлось оставить открытой настежь дверцу и положить через порог тюфячок, на котором и лег, выставив ноги в комнату сапожника, Андрей Петрович. Гостю он отдал свою складную кровать, занимавшую почти всю площадь каморки.
Лежа на животе, лицом к Ваулину, Андрей Петрович шепотом говорил ему:
— Ну, сегодня переспите… бездомный вы мой! Но сидеть тут вам нельзя.
— Нет, нельзя, — соглашался Сергей Леонидович.
— Я и говорю про это. Добывать новую квартиру надо. А где сразу найдешь? Главное: чтобы без риску, понадежней, да на плотный срок… У Ваньки прописались?
— Временная прописка.
— Все равно, Сергей Леонидович: ежели нащупали они вашу квартиру, не бывать вам больше «Кудриком». Я думаю, вам и самим понятно.
— Возьму «железку»! — решил Ваулин.
— И то дело! Утречком выберем: с иногородней пропиской, — а?.. Ну, а поселиться где? Сразу не найдешь, — повторил Громов и на минуту умолк, ища про себя решение вопроса.
— Где ваша мастерская? — спросил Сергей Леонидович.
— На всяк случай это? Понимаю… На Седьмой Роте, хозяина Петра Спиридоныча Волкова. Спросите, не доходя дома «Помещик».
Следующая ночь прошла в скитаниях по городу: с ночевкой дело не устроилось.
Сергей Леонидович бродил по улицам до самого утра. Он пересек столицу вдоль и поперек, из осторожности ни разу не проходя по одной и той же улице. Если бы не вынужденность такого скитания, его стоило, пожалуй, предпринять, чтобы увидеть сейчас ночной Петербург.
В разных частях города Ваулин наблюдал одно и то же: очереди у продовольственных лавок, которые откроют только утром; мелких торговок съестным и «ханжой»; огни больших и малых кабаков; рыщущих повсюду проституток; полицейский патруль; нищих всех возрастов; дворников в армяках у ворот с бляхой на груди.
Петербургская ночь была все такой же, как раньше, — знакомой: и морозный, туманный ветер с моря, и вперемежку дождь со снежком, и пустынные во всю ширь торцы проспектов, как будто еще брльше раздвинувшие стоящие в струнку дома, и слышимый в ночной тишине всплеск воды в каналах и реках.
«Но вот такого не было еще несколько месяцев назад», — подумал Ваулин.
Он подходил от очереди к очереди (их почти сплошь заполняли женщины), прислушивался к беседам, — и всюду разговор был один и тот же: «Когда же, господи, все это, наконец, кончится?!»
Мысль о долгой, неудачной войне засасывала в свою воронку человека. Теперь он сразу находил соседа, думавшего равно.
И потому городовые Петербурга в тревожном ожидании стояли теперь на посту по двое: рядом, спиной друг к другу, чтобы видеть все.
Днем Громов указал Сергею Леонидовичу его новую, хотя и временную квартиру.
— Позвольте… — воспротивился Ваулин. — А не подведу ли я своей персоной товарищей?
— Ни вы, ни они вас. Паспорт у вас новый, «железный», — раз? А пока вы там будете, приходить туда никто больше не станет, печатать прекратят, — два! — загибал Лекарь пальцы на руке. — И вообще предлагаю слушаться нашу исполнительную комиссию, — три!.. А еще: Ирину свою позвать туда можете, — вот и четыре! — неожиданно закончил он. — Ее, кажись, Ириной звать?
— Ирина… Оброс я порядочно! — смешливо пожаловался Сергей Леонидович при упоминании ее имени.
— Ничего. Борода — что трава: скосить можно! — деловито сказал Громов и повел его к знакомому парикмахеру.
Забота о нем Андрея Петровича искренно трогала Ваулина.
У студента Салазкина и у его мнимой жены, Марии Эдуардовны, на Николаевской он прржил несколько дней.
Начался ноябрь: открылась Дума, и газеты стали выходить с длинными, белыми в ряд, колонками. Над этими белыми типографскими пустынями красноречиво висели не убранные цензурой заголовки: речь депутата такого-то…
Но речи печатались на машинках и с удивительной быстротой распространялись думскими друзьями по всей России. Взяв у отца, Ириша доставила их на Николаевскую, — Сергей Леонидович засел писать «ответ». Ему никто из Петербургского Комитета еще не поручал этого дела, но он не сомневался, что написать сейчас листовку необходимо, что бросить ее в рабочие кварталы и солдатские части — единственно правильный путь большевистского участия в «думских прениях».
Ириша и Женя Салазкин, наклонившись над его черновиками, спешно, но аккуратно, стараясь покрупней выводить буквы, переписывали составленный им текст.
Ваулин ходил из угла в угол, дожидаясь окончания этой работы, — он еще раз, начисто проверит текст. Относясь всегда с большой ответственностью к написанию листовок, он привык все тщательно обдумывать и считал, что обсудить коллективно необходимо.
«Но с кем тут советоваться? — мысленно улыбался он, глядя на молодых своих помощников. — Зелены еще!..»
Он решил немедля отослать листовку на Гусев, на «квартиру-почту»: пусть переправят Федору или Скороходову, — и Мария Эдуардовна приготовилась уже отправиться «на прием» к зубному врачу Сокальскому.
— «За годы преступной империалистической бойни…» — диктовала себе и студенту Ириша.
— Есть. Дальше! — повторял фразу Салазкин.
— «Государственная дума… не раз громогласно и торжественно выражала свои верноподданнические чувства»… Написали, Женя? «…царскому престолу». Дальше! «Депутаты Государственной думы…»
— Стоп! — вмешивался вдруг Ваулин. — Добавьте тут же: «и поныне остаются верными холопами монархии»… и продолжайте!
— «…Но теперь они, чувствуя, как горит почва под ногами господствующего режима, стремясь ввести в обман народные массы, пытаются делать вид, что они ведут ожесточенную борьбу с царскими министрами». Написали, Женя?
— Пожалуйста, за меня не беспокойтесь!..
— «Они требуют министерства «общественного доверия». Но что выиграет пострадавшая страна, если в кресло Штюрмеров сядут Милюковы, с еще большей охотой готовые гнать, народ на смерть во имя прибылей помещиков и капиталистов»… Я вчера отцу то же самое говорила… — смущенным взглядом посмотрела Ириша на Ваулина.
— Ну, и что же он? — усмехнулся Сергей Леонидович и, перестав ходить, остановился подле ее стула.
— Рассердился и сказал, что я «просто испорченная девчонка стала»!
— Тоже… довод!
Салазкин тонкой и узкой, почти девичьей, рукой ударил себя по лбу.
— Кто ваш отец, Ириша?
— А вы не знали? Член Думы Карабаев.
— Что-о?..
Низенький, худенький Салазкин, с торчащими острыми ключицами, со вздрагивающими плечами, с короткими отрывистыми жестами, беспокойно задвигался на стуле.
— Вот оно что, Ирина… Вы в такой семье… и социал-демократка! Гм…
Ириша ощутила его удивление как упрек. Ей показалось, что студент перестал ей в чем-то с этой минуты доверять. Покраснев, она перевела взгляд на Ваулина, и широко открытые глаза ее как будто говорили ему в испуге: «Люби меня. Ведь ты не уйдешь от меня оттого, правда?»
Сергей Леонидович понял это тревожное «оттого» и горячо ответил:
— Женя, а при чем здесь семья? С каких это пор революционеры так судят?
Она поблагодарила его глазами.
Салазкин дружелюбно притронулся к Иришиной руке.
— Я ведь не то хотел сказать, ей-богу!.. Ну, давайте, товарищ Ирина, дальше.
И она продолжала диктовать…
Вчера студент Салазкин погасил электрическую лампочку, зажег свечу и при мерцающем свете ее читал Сергею Леонидовичу свою «фантастическую поэму».
Юношеская мечта была неожиданна и своеобразна: уничтожение сна, мешающего долголетию человека. Политичёская мораль поэмы — так и рабочий класс должен пробудиться для сокрушающего царизм восстания.
Стихи Салазкина были во многом наивны и несовершенны, но чем-то они понравились Сергею Леонидовичу.
Он любил лирических поэтов, восхищался горьковским «Буревестником», любил долгими часами помечтать. О последнем… не сознался бы, пожалуй, никому: чаще всего ему казалось — «не время для революционера»! С годами он понял свою ошибку. «Умственный еж!» — припомнились в эти дни громовские слова, и сам над собой посмеивался.
— Так и буду называть теперь: еж, ежище! — грозилась улыбающаяся Ириша.
Он был старше летуна десять, а то и больше, он был «совсем взрослый», а в себе самой Ириша не раз обнаруживала — в поведении, привычках, в манере держаться на людях и даже в позах, за что ругала всегда мать, Софья Даниловна, — в себе самой обнаруживала, искренно каждый раз сокрушаясь, что-то от подростка, от девочки в коричневом гимназическом платье, хотя была уже два года курсисткой.
Не доверяя в душе своей взрослости, она старалась держаться при Ваулине как можно строже, с излишней, напускной серьезностью и молчаливостью. Это часто озадачивало его, потому что до взаимного объяснения на Ковенском он не уверен был в ее любви к нему и эту внешнюю сдержанность Ириши он склонен был иной раз объяснить отсутствием с ее стороны желанного чувства.
Иногда же, напротив, он радостно удивлялся ее шуткам и бившему через край веселью, но с деланым видом бесстрастного человека, не шелохнувшись, стоял на одном месте и, чтобы не выдать себя, опускал глаза, когда она неожиданно близко подходила к нему, беседуя — брала его за руку и не отпускала ее, и он чувствовал тогда волнующее прикосновение ее груди и плеч, запах ее кожи, мог видеть линии ее тела под просвечивающейся блузкой, ощущал теплоту ее рта. И все это смущало Сергея Леонидовича.
«Он у меня красивый и умный, — награждала она Ваулина наилучшими качествами. — Я его очень люблю, и он меня любит, — в сотый раз мысленно повторяла она, желая доставить себе самое приятное, что могла только. — Мы будем вместе, непременно вместе, и с нами его Лялька…»
Она была благодарна Ваулину за то, что так просто, доступно говорил он о сложных, как показалось бы ей раньше, вещах, и она сама теперь так же просто и легко осознавала их.
«Не всякий профессор так понятен, как мой Сережа», — думала Ириша.
Ей стыдно, очень стыдно было бы сознаться, но из всего того немногого, что она читала, например, о Карле Марксе и самого Маркса, — легче всего запомнилось, что у этого великого человека был плохой почерк, из-за которого его не приняли в Лондоне на службу в дирекцию какой-то железной дороги! Помнила еще, что он тогда, за двадцать пять лет до своей смерти, сильно нуждался и писал о том своему другу Энгельсу:
«Жена моя изнервничалась от всех этих дрязг, и доктор… заявлял неоднократно, что не ручается, что не будет воспаления мозга… — вздыхала Ириша, читая эти строки, — … но и купанья ей нисколько не помогут, так как ее преследуют ежедневные заботы и призрак неизбежной конечной катастрофы… а летняя одежда детей ниже пролетарского уровня».
И она живо, со всеми подробностями рисовала себе все семейные бедствия великого человека, обещая самой себе так же внимательно и усердно ознакомиться когда-нибудь с его историко-философскими доктринами.
И, думая так, она вспоминала, что ей предстоит вскоре зачет по истории экономических учений — предмет для нее скучный, профессор, лысый, с желтой ассирийской бородой, читает не менее скучно, что хорошо было бы жить сейчас в одной квартире с Сергеем, призвать его на помощь, и тогда все эти проклятые меркантилисты, физиократы и представители классической школы, все эти непонятные Кольбер и Серра, Франсуа Кэнэ и Тюрго, Давид Юм и Адам Смит с их сложными трудами быстро улеглись бы в ее памяти…
— Ирина! А вам нравится моя поэма? — спросил ее Салазкин. — Только правду!
— Нравится поэма… честное слово! — чистосердечно сказала Ириша. — Стихи нравятся, а содержание…
— Что содержание? — нахмурился Салазкин, и, увидя неожиданную союзницу, закивала дружелюбно Мария Эдуардовна.
— Я не хотела бы быть на месте вашего героя, Женя… Я не хочу лишаться сна! — простодушно запротестовала Ириша. — Отнимите у человека надежду на сон, и он сделается самым несчастным существом на земле. Да ведь это самое питательное блюдо на пиру природы, — вспомните эти слова, Женя!
Ей с трудом давался «Капитал», но процитировать сейчас хорошо знакомого Шекспира или других классиков она могла легко.
— Баю-баюшки-баю… — ласково поглаживал ее голову и шутил Ваулин.
«Я не очень глупая? Нет?» — смущенно засматривала она в его глаза, и они отвечали ей на многое, многое…
А часы показывали неумолимо приближение ночи, — надо было кончать разговоры, прощаться.
— Если сможешь, — завтра?.. — спрашивал он в прихожей.
— Ну, конечно! — обещала Ириша прийти.
—. И к Ляльке, может быть, успеешь? Спасибо тебе.
— Все будет сделано, товарищ Емелин! — по-солдатски приставила она руку к шапочке и засмеялась.
«Емелин» — под этой новой фамилией, значившейся в «железке», он прописался на Николаевской.
Но завтра ей не удалось прийти к нему, а на следующий день их свидание уже стало невозможно.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Приходится покинуть Петроград
Сергей Леонидович уцелел случайно: будь он в этот час дома, на Николаевской, и не задержись до поздней ночи за городом, где происходила вчера встреча членов ПК, — быть бы и ему арестованным.
В полночь пришла полиция, забрала студента Салазкина и его «жену», шрифт и все приспособления подпольной типографии.
Обо всем этом «товарищ Емелин» просил немедленно сообщить, и, как видит Ирина Львовна, все выполнено. Хочет ли она в свою очередь передать что-либо «товарищу Емелину»? Как только представится возможность, он, доктор, это сделает…
Сидя в зубоврачебном кресле в приемном кабинете доктора Сокальского, Ириша с дрожью слушала его негромкий, монотонный голос.
— Теперь вы понимаете, почему я позвонил вам и попросил приехать? Вы не удивились сразу?.. Вы можете застонать? Пожалуйста, раз-другой, как будто бы вам больно. На всякий случай: у меня в гостиной еще три пациента — настоящих! — так пусть слышат, — деловито говорил доктор.
— А-а-а-а!.. — протяжно вздохнула Ириша, получив счастливую возможность выразить испытываемую ею боль от полученного известия. Но при всем том она не могла скрыть как счастлива, что арестован не Сергей. — А-а-а… — весело звучал ее голос.
— Вот так, хорошо… Через минуту еще раз прорепетируйте, пожалуйста, — подсказывал он, и ей невольно стало уже смешно. — Подумайте, что вы хотите передать вашему другу, Ирина Львовну Рот можете пока закрыть: никто сюда не смотрит, — все тем же вялым тоном, без тени улыбки сказал Сокальский.
Войдя в роль пациентки, Ириша, откинувшись на подголовник кресла, минуту сидела с покорно открытым ртом, — сейчас она прикусила губу, чтобы вдруг не прыснуть от хохота.
«Боже мой, какая дура… Чего мне смешно стало? Плакать надо», — через секунду укоряла она себя, и ей казалось уже, что доктор, который мог бы улыбнуться, видя ее глупо открытый рот, не улыбался только потому, что она была неприятна ему своим легкомысленным поведением, что этот серьезный пожилой человек в старомодном пенсне, явно связанный с революционной организацией и столько делающий для нее, недоверчив к ней, Ирише, и, вероятно, даже презирает ее и потому смотрит сейчас вбок, в окно.
— Простите меня, — прошептала она.
— За что? — повернул к ней остриженную ежиком, седеющую голову доктор Сокальский, и она увидела в его круглых голубиных глазах неподдельное удивление.
— Я ошиблась… я не то хотела сказать, доктор, — пробормотала она. — Передайте Емелину, — уже твердо сказала Ириша, — пусть побережет себя. Может быть, ему следует на время куда-нибудь уехать… Я так боюсь за него. Ведь его затравят здесь, доктор! Пусть друзья его подумают об этом.
Она и не предполагала в тот момент, насколько совпал от сердца шедший совет с трезво принятым решением ПК о Ваулине.
Было постановлено, чтобы он скрылся из столицы недели на две, ибо ясно было, что охранка какими-то путями все время идет по его следам и провал на Николаевской, больно ударивший организацию, тесно связан с этим. Товарищу Шведу надо было выйти из полосы слежки, ему нужно было устроить в Петербурге «прочную», хорошо законспирированную квартиру, а последнее не так легко было сделать в короткий срок. Уехать следовало подальше, пожить среди людей, которые не вызывали бы пристального внимания полиции, да и сами не обнаруживали бы особого любопытства к появлению незнакомого доселе человека.
Об ожидающемся отъезде Ваулина Ириша узнала во второе свое посещение зубоврачебного кабинета на Гусевом: об этом просил сообщить ей Сергей Леонидович. Он еще не знал точно, куда отправится: в Тулу, Курск или Киев, где у него есть знакомые («Явки!» — сообразила Ириша), но как только выяснится, он даст ей знать об этом.
О, теперь она знает, что передать ему, что сделает она сама!
Если «Емелину» удобен Киев, пусть отправляется именно туда: она поедет с ним, она облегчит ему пребывание там, она поможет всем, что будет в ее силах… Доктор! Она умоляет непременно, непременно сказать о том «Емелину»!
Дома она стала готовить почву для своего отъезда «на недельку» в гости к дяде Жоржу. Она ждала возражений, подробных расспросов, почему вдруг сейчас захотелось ей ехать в Киев, но Софья Даниловна, переглянувшись с мужем, ласково одобрила намерение дочери.
— Надо встряхнуться, надо встряхнуться, курсисточка моя! — обнимал ее за плечи Лев Павлович и, думая, что Ириша ничего не замечает, подмигивал — больше, чем следует, — жене.
Он был очень занят эти дни. Жизнь протекала в Таврическом дворце, в думских кулуарах, до поздней ночи — в заседаниях на квартирах политических единомышленников. Не хватало времени вести даже свой политический дневник, а уж о семейных делах — подумать некогда…
Кто-то из друзей предрекал, что вот вызвали теперь духов из бутылки, с которыми, может быть, и не справиться:
— Глядите, страна уже скоро будет слушать тех, кто левей, а не нас!
Но Лев Павлович этого почти еще не замечал и, главное, — не особенно верил в это.
Вчера явились в Думу военный и морской министры, Шуваев и Григорович. Они произнесли короткие, «воинские» речи, смысл которых, в общем, сводился к тому, что русского солдата мало убить — надо еще повалить, как говорил еще до них давненько прусский король, — они благодарили «народных представителей» за поддержку армии и флота. Это было неожиданно, потому что ложа правительства была демонстративно пуста.
Когда министры спустились в зал, их окружили депутаты и провожали до дверей аплодисментами. Шуваев оказался среди карабаевской фракции и, пожимая руку Милюкову, говорил:
— Благодарю вас, господин депутат!
Марков второй грозился донести на министра царю, — он кричал, вскочив на кресло, и в этот момент, больше чем когда-либо, похож был (а сходство необычайное было!) на Петра Первого в гневе. Над ним подшучивали потому.
У Родзянко после милюковской речи были крупные неприятности. Наседал Штюрмер, требовавший решительных мер против депутата, «позволившего себе упомянуть в недопустимом сопоставлении имя ее императорского величества, государыни императрицы Александры Федоровны», за что «эта речь может стать предметом судебного разбирательства». Писал о том же вислоухий рамоли Фредерикс, напомнивший председателю Думы, что он носит звание камергера двора, но упершийся Родзянко, мстивший за то, что ему не разрешили недавно приехать в Ставку, отверг домогательства министров.
Он был теперь не один среди отмеченных дворян России — «сам» Пуришкевич, знаменосец самодержавия, истерически кричал с трибуны на министров:
— Поезжайте немедленно в Ставку, упадите к ногам государя императора и, если вы честные русские люди, умоляйте его поверить всему ужасу распутинского влияния и тогда измените курс своей политики!
В Думу теперь стекались приветственные телеграммы и резолюции одобрения от земского союза, от всероссийского союза городов, от собравшихся явочным порядком кооператоров в Москве, от военно-промышленных комитетов, врачебных обществ, совета присяжных поверенных, дамских благотворительных кружков.
На Бассейной в милюковской квартире, с аккуратно спущенными тяжелыми зелеными сторами, в интимном кружке думских соратников и кадетских цекистов составлялся устно список нового правительства во главе с Родзянко. Конечно… если только… — И все пугались этого «если» и трезвели.
Но как в лихорадке ходил теперь самый «трезвый» доселе из всех — дворянский крестоносец Шульгин:
— Раскачались, раскачались мы, Лев Павлович… Чтобы удержаться, придется взять разгон. Знаете, на яхте… когда идешь, скажем, левым галсом — перед поворотом на правый галс надо взять еще левей, чтобы забрать ход… Теперь уже так просто нам не удержаться… Всего можно ожидать, отступать поздно… Если власть на нас свалится (так и сказал «свалится»), придется искать поддержки расширением прогрессивного блока налево.
— Куда же… налево? — от неожиданности заикнулся Карабаев.
— Я бы позвал — не удивляйтесь! — во всяком случае, попробовал — Керенского… В качестве министра юстиции, допустим… Надо вырвать у революции ее главарей. Иногда это бывает не так трудно — нас учит история!
Это «полевение», было тем более удивительно, что подлинный, давнишний соратник и глава всей партии Льва Павловича — Милюков — поучал в то же свидание своих думских союзников другому:
— Суть правильной политики, приспособленной к действительному уровню массы, должна, господа, заключаться, как говорил еще Гладстон, «в доверии к народу, ограниченном благоразумием»… Благоразумием, господа! Только нечестивые думают, что «коран — это собрание новой лжи и старых басен», — будем истинными «магометанами» программы нашего прогрессивного блока!
И все думские «магометане» были ему послушны.
— Боже мой, все смешалось в доме Облонских! — шутил, разводил руками Лев Павлович, рассказывая ночью о думских делах всегда ждавшей его ко сну Софье Даниловне, а она с тревогой смотрела на синеватые мешки под его глазами: «Господи, как бы почки у него не разыгрались…»
Через агентуру оппозиционных великих князей (и кой-кого из послов), от князей через Пуришкевича и Родзянко, под великим секретом, в числе очень немногих, знал Карабаев и то, что происходило в эти дни в стане врагов. Стилем крепким, «ядреным», а иной раз схожим с воровским жаргоном, писал свои телеграммы царю Григорий Распутин:
«Вот бес-то силу берет, окаянный. А Дума ему служит. Там много люцинеров и жидов. Запросы. Папа, Дума твоя, что хошь, то и делай. Какеи там запросы о Григории. Пуришкевич ругался дерзко. Ваша победа и ваш корабль, и никто не имеет власти на него сести. Решайте вместе, совет благих — разум святых. Бог укрепит вас, несмотря на злые языцы».
«…Все страхи ничто время крепости. Воля человека должна быть камнем, только крепость своих подержите. Сердечно беседуем с Дмитричем, приедет многова расскажет».
«…Древность события нашего правда. Простяков бог прославит, а вы знаете на Гороховой нет тренья. Вы знаете репа хороша когда зубы есть, ужасно мне больно, что я без зубов. Папа, ты сказал моих никто не тронет не обидит, а для чево это все. В темноте никто друг друга не видит и бог глаза закрыл. Что скажет Александра Дмитрич то будет, а вы его еще раз кашей покормите. Ваше солнце, а моя радость. Григорий Новый».
— Березовой бы ему каши, да чтоб дух из него вон! — рычал и ругался, как конюх, камергер двора Родзянко и грозил вдаль пудовым бурым кулаком.
Кто-то сплетничал, что он в курсе великокняжеских и генеральских тайных замыслов о дворцовом перевороте, который должен, мол, возвести на престол Николая Николаевича «Длинного», и что сам он, Родзянко, будет при нем премьером. Потом стали говорить, что сплетня эта пущена протопоповским другом-избранником — генералом Курловым, замешанным в убийстве Петра Столыпина. Но кто мог знать, сплетня ли это, выдуманная протопоповским окружением?..
Над великим же князем Николаем Николаевичем в свою очередь иронизировали: это он-то первый, оказывается, открыл некогда на свою погибель Гришку Распутина!
У князя заболела легавая собака в Першове, — он приказал ветеринару, чтобы собака выздоровела. По щучьему велению дела не выполнишь, — ветеринар телеграфно выписал из Сибири знакомого «заговорщика» Распутина: он-то и «заговорил», спас княжескую собаку. А после собаки — захворавшую невесту князя, герцогиню Лейхтенбергскую. И — пошло с тех пор! Великий князь и герцогиня знали пристрастие Алис к гипнотизму (подвизался раньше при дворе Филипп, потом Папиус и другие), — так попал тобольский мужик в покои государыни, а теперь «Длинный» губы кусает от роковой ошибки.
Поговаривали о многом. В том числе и о том, что Думу разгонят, а некоторых депутатов предадут суду и что Протопопов станет министром-диктатором.
Слухи переплетались с действительностью и мало чем отличались от нее.
В Думе все считали и чувствовали, что сейчас делается история, — но какая только?..
Так думал и чувствовал и Лев Павлович Карабаев.
Он целиком был поглощен событиями Таврического дворца, и потому, когда дочь однажды попросила его достать через канцелярию Думы два билета в Киев (билеты на поезда дальнего следования трудно стало добывать), — он не заинтересовался даже, почему нужны Ирише два билета, а не один, и кто еще едет, кроме нее. Пожалуй, в первый раз он изменил себе как любящий отец и внимательный семьянин.
Билеты лежали уже в Иришиной сумочке, все было сговорено, при помощи друзей, с Ваулиным, сегодня вторник, а в четверг поезд вывезет их из Петербурга.
Ириша отсчитывала часы с еще большим нетерпением, чем было это в тюремном доме на Шпалерной.
Наконец, наступила последняя ночь, отделявшая ее встречу с Ваулиным.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Сегодня ночевать негде было…
Эту ночь Сергею Леонидовичу суждено было провести там, где он и не предполагал быть, но куда попасть давно стремился.
С вечера он бродил по городу, — сегодня ночевать негде было: ни у сапожника на Лиговке, ни у булочника Кузьмина в Новой Деревне, как в прошлый раз, он больше не решался, чтобы не подводить товарищей.
Завтра днем на паровозе товарного поезда, опекаемый незнакомым ему железнодорожником, членом большевистской организации (все устроили друзья), он проберется в Вырицу и сядет там в вагон № 5 пассажирского поезда, идущего в Киев. В поезде его встретит друг и любимый человек…
Перед этим предстояло только одно дело: как только откроется утром «салон мадам Софи» на Троицкой, он должен прийти туда и получить от Веры Михайловны новый заготовленный паспорт и толику денег, отпущенных ему партийной кассой. Да, кроме того, та же Вера Михайловна должна передать ему одну из киевских «явок». Впрочем, это не наверно, потому что неизвестно было, в Петербурге ли в данный момент тот товарищ из представительства ЦК, который один только знает «явки» в других городах России. Если не удастся связаться с этим товарищем, то условной почтой «явка» через несколько дней будет сообщена Сергею Леонидовичу в Киев.
Все устраивалось очень хорошо, — считал он, — но вот единственно, что казалось ему мало удачным в разработанном друзьями плане, это необходимость попасть при дневном свете на Троицкую, в центральную часть города, где можно натолкнуться черт знает на кого… Однако ничего не поделаешь: вероятно, не было у товарищей другой возможности организовать это дело, — рассудил Ваулин.
Была еще одна забота, но, правда, о ней успеется подумать и не сейчас: где остановиться в Киеве, если не повезет с собой «явки»?
«Да что гадать? — говорил самому себе Сергей Леонидович. — Изыщем место».
И тут вспомнилась Ириша, ее уговоры ехать именно в Киев, ее обещание помочь, — и Сергей Леонидович уже был почему-то уверен, что все обойдется.
В думах обо всем этом он исколесил всю Петербургскую сторону, стараясь идти боковыми улицами, и по кособокому Конному переулку вышел в конец Кронверкского проспекта и по проспекту — к площади. Он шел, держась низенькой ограды парка, глубоко надвинув шляпу, опустив голову вниз, потому что место было освещено и потому для него — опасно.
Навстречу, напевая песенку, мчался какой-то клетчатый фуфлыга в пенсне и с тоненьким стеком в руке, который он на ходу подбрасывал и виртуозно ловил за набалдашник. Сзади фуфлыги брел на костылях, поджав по-собачьи подбитую ногу в байковой обмотке, пожилой офицер с узенькой бородкой-метелочкой; надвигалась высокая, увеличенная в размерах дама в старомодной, толстившей ее зеленой ротонде с невыветрившимся запахом нафталина, а за ней показалась худощавая женщина в матерчатой поношенной шляпе. Она вела по бокам двух маленьких девочек.
Девочки болтали о чем-то, забегали вперед, стараясь взглянуть друг другу в лицо, оттягивали руки бонне, повисая на них, мешали ей идти, наступая на ноги, и Сергей Леонидович еще издали слышал, как она сердито призывала их к порядку:
— Ванда, н-ну!.. Лэля, штой ты?! — мучительно шипела она с каким-то нерусским акцентом.
«Лёля… почти Ляля, — тоскливо подумал Ваулин о своей дочке. — Лялька ты моя…»
Он только сейчас, казалось ему, сообразил, как близок отсюда ее дом, хотя, странствуя в этих краях, держа путь к Троицкому мосту, он не раз подумывал, что дом этот так недалеко, что пройти хотя бы мимо него, увидеть издали знакомое окно — и то была бы некоторая радость. Но путь лежал в другую сторону.
Чтобы не столкнуться на узкой панели с плавно шествовавшей зеленой ротондой, он сошел; на мостовую и минуту задержался на одном месте.
— Н-ну, Ванда-а!.. — шипел нерусский голос. — Ох, Лэля, штой такое?.. Какая прыгунья… бабушка скажу! Не, не, дети, не пойду с вами больше в гости…
— А я хочу-у! — услышал в пяти шагах от себя знакомый голосок Сергей Леонидович и — замер на месте: да ведь это она, его Лялька! «А эта старая карга называет ее Лэля…» — как ни был потрясен внезапной встречей, не сдержался и обругал в душе «старую каргу», бонну.
«Лялька!»
Он увидел теперь ее личико с лисьим, как был у Надежды, подбородком, все тот же, прошлогодний, вязаный синий капор и все ту же, сшитую бабушкой, шубку, из которой заметно выросла, и черные гамаши.
«Лялюська!» — хотелось ему броситься к дочери, окликнуть ее, схватить на руки, но он мгновенно подавил в себе это желание и — не шелохнулся.
Подпрыгивая на одной ножке, как все дети на улице, которым надоедает, что их ведут за руку и не отпускают от себя, шаля вместе со своей подругой, ни на кого другого не обращая внимания, она прошла мимо сошедшего с панели Ваулина, оставив в его ушах щебетанье своего голоса.
Все это продолжалось одну минуту. В следующую — Ваулин стоял уже у ограды Александровского парка: он готов был тотчас же последовать за детьми, они шли медленно, и он мог несколькими шагами догнать их, — и что тогда оставалось делать?
Сергей Леонидович выждал, покуда они отдалились на некоторое расстояние, и пошел следом к Большой Дворянской.
«Лялька… Лялюсенька!» — только и повторял он непрерывно ее имя в уме.
Взгляд его был прикован к маленькой спинке, к поворотам головы, к путаным шажкам идущего впереди ребенка. И он твердил себе одно и то же: «Моя дочь… вот это моя дочь. Вот какая… моя… моя Лялюшка».
Он, как завороженный, потеряв осторожность, необходимую теперь больше, чем когда-либо, дошел медленной, откровенной походкой выслеживающего человека до угла Малой Дворянской, свернул на нее и вдруг остановился только тогда, когда шедшие впереди него дети в сопровождении бонны скрылись во двор стоящего в глубине пятиэтажного дома.
Взглянув на него, Сергей Леонидович пришел в себя. Он круто повернул назад и удалился.
Но часа через три он снова появился здесь. И уже твердыми шагами, минуя ночного дворника, направился в ворота дома, где жила с внучкой Екатерина Львовна. Он поднялся по черному ходу на третий этаж и, отказавшись звонить, дабы не услышали квартирные хозяев, постучал в дверь кухни, ожидая встретить только прислугу.
И все благоприятствовало больше, чем он мог ожидать.
— Кто там? — услышал он знакомый голос.
— Шура, откройте мне. Свои… — торопил он.
Она приоткрыла дверь, увидела его, ахнула, не издав звука, схватила за рукав и не знала, что делать.
— Голубчик… Сергей Леонид…
Он не дал ей договорить.
— Я на минутку… можно? — засматривал он через порог.
Шура, оглянувшись, потянула его за собой:
— Скорей! Прислуга в столовой… Хорошо, что я тут была!
Вот и коридорчик, заставленный сундучками и всякой рухлядью, и дверь в комнату матери. Шура втолкнула его туда и вошла сама.
Было темно. «Спит…» — подумал Сергей Леонидович.
— Кто это? — раздался голос приподнявшейся на постели Екатерины Львовны.
— Не беспокойтесь… Я, Шура.
— А что случилось?
— Не беспокойтесь… хорошее, хорошее, Екатерина Львовна.
Девушка, не зажигая света, на цыпочках шагнула к ее кровати и нагнулась к старухе:
— Все хорошо… хорошо, я вам говорю! Только не волнуйтесь, дорогая… только не волнуйтесь, Екатерина Львовна.
— Да вы так говорите, Шурочка, да и сами волнуетесь, что мне хоть с кровати вскакивай! В чем дело?
— Хорошие известия от вашего сына!
— Еще новые? Через Иринку? Разве после этого дня видели Иринку… когда ж это?
— Я самого его видела! — шла Шура к цели «на рессорах», чтобы сразу не огорошить старуху. — И вы можете.
— Да зажги ты свет, ради бога! — перешла на «ты» вдруг Екатерина Львовна от охватившего ее волнения и радости. — Где же он… где Сережа? Ну, как же это так — а?.. Сереженька, боже ты мой! — шепотом сказала она горячо.
Вспыхнул свет, и она увидела сына.
Она протянула к нему руки, и Сергей Леонидович схватил их и дважды поцеловал мать в губы, в щеку.
— Я на минутку только, на одну минутку к вам… — шептал он, легко присаживаясь на кровать. — Соскучился уж больно! — сознался Ваулин. — Потянуло… и все тут!
— Ой, как хорошо, как хорошо! — присела перед ним на корточки Шура.
— Дочку погляди-ка! — как будто обиделась за внучку Екатерина. Львовна. — Нет дня, чтоб о тебе не спрашивала. Папа да папа, да где он, — пустила она слезу, но тотчас же улыбнулась — виновато и весело.
— Я уже видел ее! — кратко рассказал Ваулин о сегодняшней встрече и на цыпочках, чтобы не разбудить Ляльку, подошел к ее кроватке.
Шура вышла, прошептав, что скоро вернется. Старуха встала, набросила на себя, поверх сорочки, пальто и вооружилась пенсне и пластинкой вставных зубов, опущенных на ночь в стакан с водой. Поправила абажур на лампе и заткнула замочную скважину кусочком бумаги: чтобы не виден был свет из коридорчика.
— Спит и ничего не знает, маленькая… — шлепая туфлями, очутилась она рядом с Ваулиным. — Утомилась, крошка, ходила, понимаешь, на именины с соседней девочкой. Я и то беспокоилась, что поздно вернулась… Любопытная какая — вся в тебя, Сереженька.
— Да ну? — с удовлетворением ждал он подробностей.
— Ей-ей! Бабушка, говорит, я сны видала: кто это мне их показывает!
Отец и бабка беззвучно рассмеялись.
— Петровская часть тут рядом, — пожарная команда: привыкла Лялька видеть лошадей в упряжке… или извозчика на улице. И вот увидела на днях незапряженного коня, без телеги — и как закричит мне: баба, баба, иди сюда, смотри — разломанная лошадь!
— Разломанная… разломанная, — не сдержался и уронил хохоток Сергей Леонидович и сразу же испугался.
— Ничего, она крепко спит, — успокоила Екатерина Львовна. — Ну, что скажешь, вот она у тебя какая!
Сергей Леонидович улыбался рассказам матери. Все было ему приятно здесь. И то, что увидел, наконец, родных людей. Что мать не раскисла при встрече с ним и так хорошо себя держит. И что у Ляльки румяное, здоровое лицо и каштановые густые волосы ее подстрижены челкой. Что в комнате хотя и бедно, но очень чисто и дочкины игрушки лежат в углу в образцовом порядке. Что мать, говоря об Ирише, называет ее «Иринка» — с ласковой и дружеской фамильярностью старшего человека, и что живет тут же верная, преданная им всем Шура, которой он не знает, как быть благодарным… Что вот теперь, повидав их всех, вобрав в свою память всю успокоительную нежность этой встречи, радость свидания, по которому тосковал не один месяц, — он может продолжать свой путь, как странник, с новой силой, утолив томившую его жажду.
— С Иринкой любовь? — спрашивала мать.
— Любовь, — отвечал Сергей Леонидович.
— Поженитесь?
— Поженимся.
— Вот оно что…
— Вот оно что! — повторил вслед за ней шепотом Сергей Леонидович.
В другое время он никогда бы так не разговаривал с матерью: не своими собственными, а ее словами и интонациями… Но подобно тому как русский, говоря с иностранцем, плохо знающим его язык, невольно и сам начинает коверкать слова, думая, быть может, что так лучше его поймут, так и Ваулин сейчас, экономя время и желая, чтобы матери все было понятно и ничто бы не вызывало сомнений и потому не огорчало старуху, — упрощал донельзя разговор с ней.
— А как жить думаете? — допрашивала она, не стесняясь присутствия Шуры.
— Хорошо, думаем, — улыбнулся Сергей Леонидович.
— Я не про то. Разве жизнь это у тебя? Волк травленый и тому легче!
— Эй, пей, пей-гуляй, наша жизнь — копейка! — пробовал отшутиться он. В самом деле, не говорить же сейчас о том, что и сам всерьез не мог еще разрешить, что не раз порождало немалые, тревожные раздумья?
— Не балагурь, Сереженька, — неожиданно строго, как показалось ему, сказала Екатерина Львовна. — Не мальчик… вон, височки сединой подкрашены!
— Это же не от старости! — заступилась Шура.
— А я сказала: от старости? Возраст его лучше других знаю. То-то и оно, дорогие мои. От страдательной жизни, от мучений, от непосилья биться за других. Разве я такая дура уже, не понимаю? Покойный Иван Никанорыч (она говорила о втором муже), когда переехали в город, всегда говорил мне о Сереже: растет, Катерина, самый что ни на есть революционер. Посмотришь, Катерина… Так оно и вышло, — рассказывала она девушке.
— Вы должны гордиться этим! — вспыльчиво ответила та.
— И горжусь! — сказала старуха. — Сама понимаю. Мученик ты у меня, Сергей.
И в том, что назвала его сейчас полным именем, Ваулин увидел не только обычное обращение к себе, — нет, признание его, Ваулина, матерью. Впрочем, он и раньше в этом не сомневался: она никогда не порицала его за революционные убеждения.
Но ему показалось, что мать начинает вдруг его славословить, ставить на ходули, как склонны делать это все матери в отношении своих детей, что это нехорошо, а сейчас, в присутствии такой же, как и он, революционерки, курсистки Шуры — вдвойне нехорошо, — по-обывательски звучит все, — и он досадливо сказал:
— Перестань, мать., перестань. Мы не святые и в мученики не напрашиваемся. Правда, Шура?
— Да ты не один: я обо всех вас говорю! — сообразила, как ответить, Екатерина Львовна. — Когда же теперь увидимся, Сереженька? — переменила она тему разговора, видя, что он взялся за шляпу.
Ему было трудно ответить на этот вопрос, и он, вздохнув, пожал только плечами.
Часы показывали без четверти двенадцать, — пора было уходить.
— Постой! — вдруг вспомнила о чем-то мать. — Возьми ты одежду свою!
Она открыла сундучок и вытащила оттуда его костюм и пальто. Сергей Леонидович обрадовался в душе своим вещам.
— Берегла. Хотела с Иринкой передать, да запамятовала в последнюю минуту. Ты уж прости, Сереженька.
«Я даже не спросил как следует, на какие средства они живут, — упрекнул себя Ваулин. — С лета ничего не давал им! Продала бы лучше все эти вещи!»
Он высказал свою мысль вслух. Мать и Шура переглянулись.
— Не беспокойтесь, — сказала девушка. — Кое-что Екатерина Львовна продала… деньги были, а кроме того… — Она замялась, покраснела, но потом, быстро овладев собой, добавила: — Наша студенческая группа знает, что она делает, Сергей Леонидович!
Он понял, пожал ей руку.
— Говорят, среди наших провалы? — шепнула она. — Ириша с вами едет… счастливая Иришка.
— Будьте и вы осторожны, слышите? — назидательно сказал Ваулин. — Впереди еще будут большие дела, уверяю вас. Приеду — увидимся, Шура.
— Не забудьте про меня, — просила она, заглядывая в его лицо влажными миндалевидными глазами. — Я хочу настоящей работы.
— Будет! — пообещал он.
— Ну, переодевайтесь скорей, я выйду пока, — шмыгнула Шура к себе в комнату.
Сергей Леонидович мигом облачился в свое платье, указал рукой Екатерине Львовне на сброшенное.
— Продай, мать… Дорожить им нечего.
Он ждал Шуру, чтобы вместе с ней пройти по черному ходу на улицу. Надо было выждать, покуда погаснет на кухне свет и прислуга уляжется спать. Парадный ход был уже закрыт, и ключ хранился у хозяина.
Шура пришла, но с плохими новостями: хозяйская прислуга Маня, черт бы ее побрал, поит чаем на кухне своего частого гостя…
— Не пущу! — взволновалась Екатерина Львовна. — Герасим это, младший дворник… нюх у него полицейский!
— Да, да, — кивала головой Шура. — Подозрительный человек.
— Еще бы, Шурочка! Летом еще Ляльку нашу выспрашивал: а что, говорит, папа к тебе ходит? Может, вечером ходит? Шельма! — выругалась старуха.
— Через десять минут ворота закроют… — размышлял Ваулин, как поступить.
«Не рисковать же? Черт его знает, что за тип этот дворник Герасим! Знаем мы этих дворников, все хороши… — думал он. — Вот так штука — попал в мышеловку! А если со мной даже ничего не случится, если улизну, а он донесет, что видел… гадости могут им такие устроить. Как можно было так рисковать? — рассердился он на самого себя, но сразу же подчинился другой мысли: — А еще ничего не случилось ведь — чего же я, в самом деле?! Пока никто не знает, что я здесь, — чего же бояться?.. Но, значит, мне придется быть здесь до утра, покуда не откроют ворота: часов в шесть, вероятно? — соображал он. — Ничего другого не остается как будто?»
Прошло еще полчаса тщетного ожидания, не уйдет ли дворник, и все было решено: сундучок и три составленных стула превратились в ложе для Сергея Леонидовича (узенький коротышка-диванчик показался менее удобным). Не раздеваясь, он улегся и, неожиданно для себя, быстро уснул — в пригревшей, тепло натопленной комнате.
Он не слышал, как в темноте тихонько подошла мать и накрыла его поверх пальто своим ватным одеялом.
…В комнате горел теперь огонь, плакала разбуженная Лялька, держа в руках маленькую подушечку; зловеще разметались седые космы лихорадочно дрожащей матери, трое рослых полицейских наполнили, словно растоптав ее, ночную комнату, четвертый чужой человек в штатском, в серой бекеше без погон, наклонясь над ним, Ваулиным, — так, что вот-вот уколет своими рыжими иглистыми бровями лицо, — говорил ему с ехидной улыбкой: «Вас-то нам и надо, Сергей Леонидович!»
Он встал и увидел, что где-то мчится поезд, к стеклу, вагона прильнула Ирина… «Папка… па-а-па! — тянулась к нему из кровати плачущая Лялька. — Иди ко мне, папка!» — требовала она, и говорил «прощайтесь!» кто-то из полицейских. Бросилась мать на шею, рядом с ребенком он увидел вдруг неизвестно откуда появившуюся Веру Михайловну… «Простите меня! — крикнул он ей. — Потянуло сюда — и все тут!» — растолкал он полицейских и, тяжело дыша, хватаясь руками за что-то твердое, открыл глаза, проснулся…
В комнате было темно и тихо.
— Сон!.. — с облегчением вздохнул Сергей Леонидович. — Фу, ты…
Несколько минут он лежал с открытыми глазами, всматриваясь в темноту комнаты, ища очертания знакомых предметов, — словно хотел еще проверить себя.
Он коротко кашлянул, чтобы услышать свой голос, и тогда вдруг донесся шепот встрепенувшейся матери:
— Что ты, Сереженька?
Он понял: мать всю ночь не будет спать, чтобы вовремя разбудить его и выпустить на улицу. Он с благодарностью и нежностью подумал о ней и, не желая тревожить, прикинулся спящим.
Засыпая вновь, Сергей Леонидович поймал себя на странном желаний: снится неприятный сон, он прерывается, человек дремлет опять и хочет вот, чтобы сновидение возобновилось. Это потому, что человек знает уже, что это только сон, что он нестрашен уже и в действительности все — совсем иное…
Так думал теперь обрадованно и Ваулин.
Вечером, когда поезд на Киев остановился на станции Вырица, в вагон № 5 второго класса вошел новый пассажир и занял свое место в крайнем купе, где разместились курносый старик священник с рябой женой и барышня с толстыми косами, заложенными венцом на голове.
Священнослужитель и его страдающая одышкой супруга удивились, как быстро разговорились этот новый пассажир, очень напоминавший иностранца, шведа больше, и эта красивая, симпатичная на вид девушка из хорошей семьи, — они видели, что провожали ее на вокзале почтенная, заботливая мать и брат-гимназист в новенькой шинели.
Когда «швед» и барышня вышли вскоре в коридор, священник, перекрестясь, помянул дьявола и зло посетовал на разложение добрых нравов среди русских людей.
— Как тебя называть? — спрашивала Ириша под стук колес. — Если бы ты знал, как я волновалась!..
— Николай Михайлович… запомни. Николай Михайлович Сергеев, — отвечал Ваулин на ее вопрос.
Она не удивилась, как не удивлялась «Емелину» несколько дней назад.
Но он сам сегодня утром поражен был изрядно: ему вручили «копию» с паспорта «Федора»! Почему так? Оказалось, что ничего другого приготовить в короткий срок не удалось, все «железки» уже были розданы другим. «Но как же можно было так скоро получить эту безупречную «копию»?» — недоумевал он.
И тогда вдруг блеснула догадка, и он уже ни о чем не спрашивал, — Сергей Леонидович понял тогда, кто ведал в их организации «паспортным бюро».
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Встретились четверо
Ему было неприятно и докучно, он испытывал такое же чувство неудобства и беспокойства, как только что постригшийся человек — от мороза улицы и колючих мелких волос холодило затылок. А в смирихинском доме Георгия Карабаева, в обычно пустовавшем кабинете его, было натоплено сегодня сверх меры, — здесь старались угодить Ивану Митрофановичу.
Доверенное лицо Карабаева, его правая рука во всех делах — он выслушивал теперь хозяйственные новости, которые рассказывал ему управляющий махорочной фабрикой. Новостей собственно не было никаких: все шло, как и прежде, вполне благополучно, вот только в сушилке следует переоборудовать кой-где завалившиеся дымоходы, но это, в общем, чепуха и на работе фабрики никак не отразится.
Заложив руки в карманы, медленно, вразвалку, Теплухин ходил из угла в угол большой комнаты. Со стороны могло показаться, что он что-то напевает, и от его беззаботной — внешне — угрюмости веяло безразличием к любому серьезному делу. Да это и верно было в данном случае.
Управляющий, Соломон Евсеевич Пинчук, так и расценил эту теплухинскую малоразговорчивость, — он встал, чтобы попрощаться.
— Когда уезжаете, Иван Митрофанович? — спросил он.
— Сегодня.
— Счастливый путь вам, удачи.
На плоском, без фаса, бритом лице Пинчука лежала растерянность отвергнутого собеседника: он устал от замкнутости и безразличия Теплухина.
Соломон Евсеевич снял пенсне и по привычке хотел опустить его в нагрудный кармашек, но все еще, очевидно, не мог свыкнуться с тем, что пиджак перелицован, что кармашек теперь справа, — и рука с пенсне обшарила смешливо всю левую сторону.
«Зачем ему пенсне? — подумал, усмехнувшись, Иван Митрофанович. — Разговаривал со мной — как будто бухгалтерские ведомости читал, а теперь прячет пенсне, и без футляра — запылятся!»
До Пинчука приходил с докладом управляющий суконной фабрики, волынский поляк Борджик — молодящийся высокий человек под пятьдесят. Он просидел целый час: и дел было много (рядом с грубошерстной надумал предложить Георгию Павловичу строить еще войлочную фабрику), и любил, кроме того, побалагурить Борджик.
У него были мутные, словно плавающие в какой-то жидкости, умненькие глазки, золотистые крупные усы и желтая — посредине черноволосой головы — лысина величиной с медаль. Он рассказывал анекдоты.
Должен был еще приехать из Ольшанки старичок Бриних, — но, может быть, и не приедет, а прибудет только на вокзал, к поезду, так как сильно занят на заводе: сегодня сдают кожи интендантству.
Но не чеха Бриниха ждал сейчас Иван Митрофанович и не его телефонного звонка. Позвонить должен был другой человек.
«Но позвонит ли он!» — сомнение все время брало Ивана Митрофановича.
Беспокоило еще то, что, как назло, телефон был не совсем в исправности: от времени до времени желтая коробка на стене давала короткий, робкий прозвон, словно не хватало силы для соединения. — Иван Митрофанович злобно посматривал на телефон.
— Ну, чихни уже, черт… чихни!
Он заваливался с ногами на диван, много курил, брался за чтение книги, потом бросал ее, бродил по комнатам, останавливался у каждого зеркала и зеркальца, чтобы увидеть себя. В одном он был приятен себе, и это его успокаивало, другое — желтило и делало маловыразительным его лицо, он был хуже, чем представлялся себе, — и это раздражало Теплухина.
От папирос, от нетерпеливого томительного ожидания кружилась голова. Он чувствовал тяжесть, напоминавшую ощущения человека перед тем, как, сидя в неудобной позе, он засыпает в душном вагоне.
И когда раздался, наконец, долгожданный длинный звонок, Иван Митрофанович, сбросив с себя эту тяжесть, прыжком очутился у телефона.
— Ждете? — спрашивал кандушин голос.
— Как условились вчера, Пантелеймон! — удивившись спокойствию своему, ответил Иван Митрофанович.
— Буду, — кратко сказал Кандуша.
— Когда?
— Как условились вчерась, Иван Митрофанович. Как условились: акурат в час дня. Ждите.
Только теперь, повесив трубку, Теплухин понял, что зря все утро волновался: Пантелейка должен был прийти, и почему надо было думать, что он прибежит раньше назначенного времени?
Иван Митрофанович повеселел.
Он вышел на кухню, где жила сторожиха с семьей, велел сварить купленный вчера кофе, приготовить завтрак посытней, прищелкнув пальцами, сунул рубль на конфеты огненно-рыжей сторожихиной девчонке и возвратился в кабинет. Он проветрил комнату — выгнал в форточку осевший, как облако, папиросный дым и с удовольствием вдохнул в себя сухой морозный воздух.
Иван Митрофанович пришел теперь в состояние того особенного возбуждения, при котором, предчувствуя успех или хотя бы надеясь на него, человек начинает думать стремительней и ярче, когда он преображается даже внешне и в каждом жесте своем, движении ощущает силу предвкушаемой удачи. Вот, кажется, рукавом тряхнуть — так легко все можно будет сделать!
«Согласишься, согласишься ты! — иногда вслух выкладывал свои мысли Иван Митрофанович. — Мой будешь, Пантелейка! Мой! Люди больше верят глазам, чем ушам. Мало ли, что ты скажешь, а доказать силен ты? А я скажу — мне поверят. Пойми ты, ехидина, мне ведь больше доверия будет».
«А вдруг он пойдет, чтоб открыться? Вот возьмет и решит это? — соскальзывала боязливо теплухинская мысль в невеселую сторону, и тогда опять он чувствовал шершавый холодок на затылке и на минуту испытывал то докучное, мучительное состояние, в котором пребывал с утра. — А ведь позвонил, придет… Значит — страхи напрасны и глупы, чего же я?» — тотчас же успокаивал он себя.
И впрямь все страхи рассеивались, и к Теплухину возвращалась уверенность в предстоящем успехе.
Он вспомнил в этот час Георгия Павловича.
«Что бы ни делали, — поучал Карабаев, — старайтесь, как говорят немцы, попасть в «головку гвоздя». Короткий удар в головку — и забьете скорей!»
«Ему лучше знать: у него гвоздильный завод на Демиевке!» — обшучивал, улыбаясь, Иван Митрофанович карабаевские советы. Но сейчас, пожалуй, они были совсем кстати. Сделать предложение Пантелейке следовало прямо и точно, — решил он и с тем поджидал уже своего старого знакомого.
И подобно тому как, готовясь принять придирчивого гостя, наводишь порядок в доме, следя за тем, чтобы каждая мелочь в нем была чиста и на своем месте, — так и Теплухин торопливо изгонял теперь все мрачное из своих мыслей, готовясь к разговору с врагом своим, Кандушей.
Весь день после столь неожиданной встречи, всю ночь Кандуша не знал уже покоя: перед глазами, в памяти — земская станция, раскрывшаяся дверь из остекленного коридорчика и… на пороге Теплухин и Людмила Галаган.
Теплухин сразу увидел его: воткнул в него свои рысьи глаза, но ничем виду не подал, что знакомы.
Вдова Галаган не сразу узнала: он отвернулся от нее к стене.
Желтые бумажки промысловых свидетельств, висевшие над столом; в черных рамочках — вышитые пестрым гарусом изображения двух львов с неестественно загнутыми хвостами; тройка ретивых вороных в залихватской нарядной упряжке, бородатый богатырь-ямщик с той же тусклой репродукции, — все это побежало, закружилось тогда перед кандушиными глазами. Он силился сообразить, что может произойти вот сейчас: от встречи его и этих троих людей.
Один из них — студент Калмыков — в тот момент, на счастье, отсутствовал, но мог появиться в любую секунду: студент ушел в комнаты — вызвать своего дядю-почтосодержателя. Надо было воспользоваться его отсутствием и прошмыгнуть как-нибудь во двор, а потом уж найдется объяснение, почему так поступил.
И Кандуша вялой походкой безучастного ко всему человека, бочком, пользуясь тем, что Людмила Петровна в сопровождении своего спутника направлялась ко внутренней двери калмыковской квартиры, шагнул по направлению к кухне.
Но тут-то Людмила Петровна оглянулась, его лицо бросилось ей в глаза, она удивленно вскрикнула:
— Он! Господи, он!.. Каким чудом вы здесь? — отшатнулась сначала, а потом подбежала к нему и схватила за руку.
«Так? Все как будто бы так было?» — вспоминает он.
В самом деле, — рассуждал он после встречи, — что страшного они могут ему сделать? («Они» — это был и Теплухин, и студент Калмыков, и Людмила Петровна.) Что может стрястись непоправимого? Да ничего, пипль-попль!
Вдова Галаган расскажет, что видела его в квартире какого-то «инженера Межерицкого», где собрались распутинцы, а значит — и люди из охранного!.. Но кому же она станет рассказывать и с какой целью?
Теплухину? Не страшно это: тот и так, слава богу, все про него, Кандушу, знает да молчит, и его не удивишь.
Студенту? А зачем станет она не бог весть как знакомому студенту исповедоваться о том, что путалась с распутинской компанией, — срамить только себя?
И раз она ему ничего не откроет, то почему он станет ей рассказывать про встречу с Кандушей на тишкинском поплавке, про разговор на Невской набережной?.. Нет, студента он провел за нос: развесив уши, слушал, голуба, историю о том, как пострадал «Петр Никифорович» недавно в Питере от полиции…
Так и выходило на первую поверку раздумий: встреча, хоть и досадна и неприятна, конечно, но ничего нет в ней страшного, о чем следовало бы по-настоящему волноваться.
Однако… ночью не спалось, и не клопы отняли сон, а беспокойные мысли.
— …Каким чудом вы здесь?
Кандуша взглянул на нее и, кажется, не нашелся сразу, что ответить. Ему показалось тогда, что в голосе Людмилы была как будто даже радость, — а может, почудилось в тот момент?..
— А вы откуда? — вопросом на вопрос успел он только ответить, как показался в дверях студент Калмыков со словами: «Дяди нет, скоро придет…»
Студент увидел Теплухина и удивился. И совсем уж обомлел, глаза вытаращил, когда обернулась на его голос Людмила Петровна.)
— Боже, какая встреча! — воскликнула она.
И каждому из этих четверых людей подумалось, вероятно, что вот именно этот, такой-то, не может знать всего, что связывало троих остальных. Конечно, именно это обстоятельство, — считал Кандуша (а так лудили, вероятно, и остальные повстречавшиеся), — сдерживало всех от столкновения, которое бог весть чем могло закончиться.
Все старались скрыть свою растерянность, но никто из них не хотел уже терять друг друга из виду.
— Заказывайте лошадей обратно, Людмила Петровна, — сказал Теплухин.
— Мы еще увидимся, — поспешно выдавил из себя Кандуша, не обращаясь ни к кому в отдельности, и бочком, наткнувшись на массивное черное кресло, вышел на крыльцо.
Но когда спускался — догнал его Иван Митрофанович.
— Пантелеймон! — окликнул он его. — На одну минуту… Быстро! Нам надо встретиться. Очень серьезное дело, — слышишь? Коли я говорю, значит — не сомневайся. Тебе же польза будет.
— А вам? — спросил Кандуша.
— Нам обоим, слышишь?
И они условились о встрече, и Теплухин не возвратился сразу в комнаты, а, к удивлению Кандуши, походкой праздного человека стал прогуливаться по двору.
«…Так? Все как будто так было?» — вспоминает Кандуша и снова перебирает в памяти каждую минуту и каждый чужой: жест и взгляд и в разный час по-разному толкует их для себя.
Они стояли друг против друга — оба довольные, что их оставили наедине.
— Боже, какая встреча… какая встреча! — несколько раз повторяла Людмила Петровна, и Феде казалось, что каждый раз — с новой интонацией, как с новой музыкальной ноты, по звуку которой он должен был разгадать скрытый мотив, скрытое значение ее слов.
— Я приходил к вам в Петербурге, но вас уже не было, — сказал он. — Я хотел вас видеть.
— Да, да, — криво усмехнулась она. — Мне пришлось уехать.
— И я не знал, где вас искать! — вырвалось у Феди.
— А вы хотели меня искать? Для чего?
Нервно и капризно вздрогнули ее тонкие, серьгою вырезанные ноздри, уголки рта проколола ироническая улыбка, вспугнувшая немного Федю.
«Надо забыть все, что произошло там, в Петербурге, между нами, — казалось ему, говорила эта улыбка. — Мне неприятно. Держите себя скромней, господин студент!»
Но он только и думал сейчас о том, что случилось с ними обоими в петербургской асикритовской комнате, он был сейчас в плену этой сладостной, волновавшей мысли и… растерянно, борясь с учащенным дыханием своим, переспросил:
— Для чего?
Он хотел отвести свой взгляд, но сделал не то, что хотел: заглянул в ее разрумянившееся на морозе лицо. В больших серых глазах, мгновенно принявших прежнее выражение холодного любопытства, не ждавших этого Фединого взгляда, он уловил вдруг ту же мысль, то же воспоминание, что и его волновало. Он был счастлив!
— Мне нужно заказать лошадей на обратный путь, — сказала Людмила Петровна. — Где почтосодержатель?
— Он должен через несколько минут здесь быть. Куда же вы поедете?
Федя окинул взглядом комнату для проезжающих.
— Нет, я без вещей, — поняла его Людмила Петровна. — Я обратно в Снетин.
— Завтра? — с надеждой в голосе спросил Федя.
— Сегодня.
— А я думал…
— Вы много думаете. Не устаете от этого? — засмеялась она.
— Нет! Я все время думал… все время, Людмила Петровна! — особой интонацией голоса напомнил ей Федя, о чем именно он думал. — Неужели сегодня уже обратно?
— Да, так решила.
— И нельзя перерешить?
— Не собираюсь. Мне к нотариусу — и больше нечего делать.
— А если лошадей сегодня не будет?
— Вы мне поможете их достать!
— Вы уверены в этом?
— Вам придется доказать, что я не ошибаюсь в вас!
— Я не смею ослушаться вас, но… если все-таки все лошади в разгоне?
— Вы говорите со мной как почтосодержатель… казенно!
— Я внук и племянник почтосодержателя! — шутил Федя.
— Вот поэтому я вас и прошу, только поэтому! — смеялась и щурила она глаза.
— Я думал о себе лучше.
— Напрасно!.. А вы-то надолго сюда? Вы ведь в Киеве учитесь, почему вы здесь? — заинтересовалась Людмила Петровна.
Он должен был объяснить ей истинную, печальную причину своего неурочного приезда сюда, но решил скрыть ее.
Ему казалось, что, узнав о постигшем его несчастье, Людмила Петровна, естественно, изменит весь тон, в каком шел у них разговор: тон короткой шутки, интригующих намеков, необнаруженных, скрытых воспоминаний о том, что стало теперь в их жизни интимным и грешным; и что поведай он, Федя, сейчас о другом событии в своей жизни — очень грустном и тоже интимном, — и Людмила Петровна, как всякий бы человек на ее месте, начнет выражать соболезнование, смутится, пожалеет о своей непринужденности, веселости, а возвращаться к этому тону их разговора будет уже неловко.
И Федя, подавив в себе вздох при мысли о свежей могиле отца, отвечал:
— Очевидно, — судьба, что я здесь!
— Так же, как и то, что я приехала, — сказала Людмила Петровна.
— Правда?! — воскликнул Федя обрадованно: он увидел небо отверстым!
— Я совсем не ждала этой встречи… — задумчиво сказала Людмила Петровна, пододвигая себе кресло и садясь в него. — Как странно!
— Да, странно. Я тоже не мог предполагать еще десять минут назад, что так случится, — подошел Федя к ней.
— Кто этот человек в финской шапке, который только что вышел отсюда? — неожиданно спросила она. — Вы его знаете?
— А что?
Федя не знал еще, как ответить.
— Вот уж не думала, что я его здесь увижу…
— Так вы о нем сию минуту говорили? — раздосадовался Федя. — А я думал…
— Опять думали? Ох вы, милый… упрямец! — пожурила его Людмила Петровна.
— Значит… вы о нем!
— Да, о нем. Подите догоните его! — вдруг попросила она.
— Его? Зачем?
«Неужели он не врал? — ревниво подумал Федя о выскользнувшем из комнаты Кандуше. — И лошадей хотел нанять куда-то в уезд. Что же это? В Снетин, к ней?.. Но ведь врал, врал! — вспомнил он, как поймал на лжи Кандушу, читавшего чужое письмо на поплавке. — А что же есть тогда между ними?.. И Теплухин вышел — зачем?»
— Скажите, Федор… Федор… — она забыла его отчество.
— Миронович! — подсказал он.
— Скажите, Федор Мироныч, что я хочу его видеть. Обязательно.
— Вот как?!
— Ну, пожалуйста, быстрей!
— Вы настаиваете?
— Да, да… Мы еще с вами поговорим.
— Сегодня?
— А может быть, и сегодня и завтра, — сказала она многозначительно, и это неожиданное, обещающее «завтра» после того, как решила раньше по-иному, сдвинуло Федю с места.
— Иду! Значит… еще увидимся, правда?
— Да, я этого хочу, — тише обычного произнесла Людмила Петровна.
Он выскочил в коридорчик, оттуда на обнесенную снегом веранду — чуть не упал, поскользнувшись у порога.
Отсюда он увидел сутулую спину удалявшегося по переулочку Кандуши. Догнать его — было делом одной минуты: Федя побежал было за ним, но тотчас же остановился, — окликнул Иван Митрофанович:
— Куда это вы, Федя, бегом? Погодите.
— Я сейчас, Иван Митрофанович… Мне нужно догнать!
— Кого?
— Видели в комнате господина в финской шапке?.. Насчет лошадей…
— Постойте! — удержал его за руку Теплухин. — Ничего не понимаю. Зачем вам бегать?
— Ваша спутница попросила.
— Она?
— Да, она! — заметил Федя, как нахмурились теплухинские брови.
— Оставьте это дело, — сказал Иван Митрофанович. — Чепуха все это, блажь!
— Чья блажь?
— Моей спутницы. Нам надо с ней торопиться, надо по серьезному делу, а тут еще задерживайся! Пойдемте обратно.
— Ну, а этот человек?.. Я ведь обещал!
— А кто он такой? Кстати, вы-то его знаете? — заполз в Федины глаза нарочито безразличный взгляд Ивана Митрофановича.
— Нет! — быстро соврал Федя, сам не зная в ту минуту почему.
— Ну, вот видите, — улыбнулся с облегчением Теплухин. — А бегаете, как мальчик! Пойдемте обратно.
— А вы?
— Что я?
— А вы тоже не знаете? — спросил Федя.
— Кого?
— Да вот этого человека?
— Понятия не имею, дорогой Федя, — развел руками Иван Митрофанович. — Пойдемте, отыщите вашего дядю — пусть даст лошадей, — торопил его Теплухин. — Я уж во дворе искал его, да не найти.
«Так ты не знаешь Кандушу? Напрасно! — думал Федя. — А у него письмо к тебе Людмилы, — откуда оно? Знал бы ты только, и если бы она знала?! Увидимся и сегодня и завтра… — повторил он в уме ее обещание. — Черт, да я же по-настоящему влюблен! Я ее люблю, я о ней думаю! Федька, балда ты, осел вифлеемский, разве ты этого не чувствуешь?» — обращался он к себе во втором лице и отвечал: «Чувствую!»
— Идите в дом, — сказал он Ивану Митрофановичу. — А я отыщу дядю.
Семена Калмыкова нашел в ямщицкой избе.
Тут шла перебранка между старостой Евлампием и ямщиками, ссорившимися друг с другом: кому в какую очередь и куда ехать. Семен, человек слабохарактерный, принимал то сторону одного, то другого. Матерщинили после каждого слова ямщики, — он тоже от них не отставал и старался кричать больше всех.
Кухарки Матрены давно уже никто здесь не стеснялся. Рябая, будто на ней горох молотили, вечно беременная, с уродливо опущенными грудями, прозванными в насмешку «церковными колоколами», — она толкалась у давно не беленной русской печи, орудуя деревянными лопатами и почерневшими ухватами.
Мал-мала меньше кухаркины дети — косопузенькие, рахитичные и подозрительно разномастные — ползали на ямщицких нарах, докинув свой, отгороженный закуток.
В избе густо пахло кислыми щами, обильно выкуренной махоркой, дегтем, овчиной, сбруей, — Феде было трудно дышать здесь.
У него было такое ощущение, что вонь избы плотно оседает на его шинели, на всем его платье, на руках, лице (того и гляди, принесешь ее в дом, где ждет его Людмила Петровна, — осторожничал он), и Федя почти насильно вытащил Семена Калмыкова в сени.
— Дядя, там пришли просить лошадей.
— Никаких лошадей сегодня! — махнул рукой Семен. — Ты, кажется, слышал, что тут за ярмарка?
— А завтра?
— Сейчас я ничего не могу сказать; Завтра — посмотрим. А тебе чего хлопотать? Кому это надо ехать? — удивленно посмотрел на него Калмыков.
Но Федя уже был во дворе.
«Кому… — усмехнулся он. — Скажи тебе — и ты мне все испортишь!»
Действительно, стоило только сказать, что лошади нужны дочери генерала Величко, и Семен бы уже расстарался: память о покойном Петре Филадельфовиче, всегдашнем покровителе калмыковских дел, тепло жила в этой семье.
«Сегодня лошадей нет», — скажет Федя, возвратись в дом. Важно — не быть пойманным во лжи, чтобы не переменила к нему отношения Людмила Петровна, захоти она справиться у Семена.
«Человека того не догнал», — соврет он во второй раз. Но, приготовившись к этому, Федя вдруг подумал, что Теплухин может его выдать — просто так, чтобы посмеяться над ним, унизить в глазах своей спутницы, — и он решил было простоять на морозе несколько лишних минут, в течение которых якобы выполнял поручение Людмилы Петровны, но тут же пожалел этого времени, проведенного без нее, и побежал в дом.
«А если Теплухин проболтается, скажу, что он сам меня удерживал почему-то!» — прикинул в уме Федя.
«А почему, в самом деле, удерживал? — подумал он теперь, открывая дверь в калмыковскую квартиру. — Сказать ему про Кандушу и письмо или нет?»
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Чек на предьявителя
В прихожей Кандуша разделся, заглянул в зеркало, поправил гребенкой прическу и учтиво спросил Ивана Митрофановича:
— Куда прикажете?
— Прошу сюда, — указал Теплухин на дверь кабинета.
— Ага… — поклоном головы ответил Кандуша и шагнул не вбок, а прямо перед собой — в бывшую карабаевскую гостиную.
— Нет, сюда, сюда! — думая, что он ошибся дверью, вторично указал на нее Иван Митрофанович.
— А я — посмотреть, минуточку посмотреть! Пустует квартира — сирота покинутая… Правда, Иван Митрофанович? Как скажете? Посмотреть разрешается, — а? — сыпал слова горошком Кандуша, обходя уже все комнаты и нигде долго не задерживаясь.
— О, пожалуйста! — догадавшись теперь об истинной причине кандушиного любопытства, сказал Теплухин. — Это летняя резиденция господина Карабаева. Кто-нибудь захочет приехать — дом наготове. Лучшей дачи не надо. Посмотри, какой тут сад спускается к реке.
Они подошли к ошпаклеванной на зиму стеклянной двери, выводившей на огромную террасу, аккуратно очищенную от снега.
— Во, какой сад! Не сад, а садище!.. — поражал сегодня Теплухин своей разговорчивостью, да еще по таким, казалось бы, пустякам. — Вот там, налево, за поворотом, — разные усадебные постройки, конюшня, ледник, оранжерея, и все наготове, а квартира пустует. Собственно хозяин в ней тот, кто живет здесь: владельцев круглый год нет.
— А кто живет? Есть тут кто-нибудь? — выпытывал Кандуша.
— Есть. Сторожиха, дочка ее, кот да собака, — успокоил его Иван Митрофанович. — Нам никто, Пантелеймон, не помешает и не услышит. Понятно?
— Очень даже!
Они возвратились в кабинет.
— Я сейчас… — сказал Иван Митрофанович, покидая гостя.
Через три минуты рослая румяная сторожиха внесла на большом подносе кофейник и приготовленный завтрак и сразу же ушла, так и не увидев гостя, потому что он стоял спиной к ней и сосредоточенно рассматривал в ту минуту висевшую над диваном картину.
— Прошу садиться, — хозяйничал Иван Митрофанович, наливая в чашки из кофейника. — Один, знаешь, государственный деятель — Талейран — говорил так про этот напиток: кофе, говорил он, должен быть горяч, как ад, черен — как дьявол, чист — как ангел, и сладок — как любовь! Каково, — а? — старался он быть как можно веселей. — Хорошо сказано!.. А вот молочник. Или ты, Пантелеймон, как тот государственный деятель, — больше черный уважаешь, — а?
— Мне — с молочком: излишнее, позволю сознаться вам, сердцебиение избегаю, — вот что! Черный кофе, Иван Митрофанович, теперь много потребляют — чтоб по причине сердца не брали в солдаты. Еще бельма себе ставят, махру пьют, шерстяные нитки пропускают под кожей для заражения… — тоже разговорчивостью в ответ платил Кандуша, дожидаясь, покуда хозяин первый пригубит и глотнет горячий кофе: а ведь черт его знает, что может накапать в кофе такой человек, как Иван Митрофаныч, — казнит и не поморщится!..
— А ты все знаешь! — поддерживал разговор Иван Митрофанович. — Все проделки дезертиров… а?
— Все, позволю себе заметить! Хе-хе… Все…
Теплухин вспомнил в эту минуту амурскую «колесуху» и отчаявшихся каторжан, прибегавших к тем же средствам, — он быстро отогнал это неприятное воспоминание и сказал:
— Кушай…
— Благодарю, Иван Митрофаныч.
— …да начнем наш разговор… Или как ты? Может, еда помешает тебе серьезно думать? Знаешь, есть такие люди…
«Много церемоний с ним. Чего, в самом деле? Оглушить его, а там посмотрим!» — утвердился в своей мысли Иван Митрофанович и приготовил уже в уме первые слова, которые скажет вот сейчас Пантелейке.
— Гос-споди боже мой, да разве мне трапеза обязательна? Аминь! — отодвинул Кандуша чашку и положил обратно на тарелку взятый на вилку кусок ветчины.
— Аминем твоим квашни не замесишь! — недовольно улыбнулся Теплухин его жесту. — А замесить дело надо… дело, — понимаешь? Так вот… Деньги получить хочешь? Я дам денег, — неожиданно для собеседника громко и твердо сказал Иван Митрофанович.
По растерянному выражению кандушиного лица он понял, что тот никак не подготовлен был к такому прямому вопросу. Пантелейка потянулся на стуле, потом плечи его опустились, руки, лежавшие на чайном столике, теребя салфетку, медленно, заторможенно сползли вниз, веки замигали. Он молчал.
— Вздохни и вымолви! — мягко посмеивался Теплухин. — Много воздуху набрал в себя — разорвать может!
— Смеетесь, — угрюмо потупил глаза Кандуша.
Лицо его посерело, как жесть.
— Да нет, я серьезно. Очень серьезно, Пантелеймон Никифорович, — впервые назвал его полным именем Теплухин. — Даю деньги. И не малые.
— За что?
— Деньги, Пантелеймон, слепы: за что отдаешь — не видят.
— Ну, а человек?
— Человек видит, что ты прав. Даю деньги, чтобы;, забыли мы с тобой все, — понятно? И чтобы ты всегда помнил, что ты их взял! — открыл свои намерения Иван Митрофанович. — Карты розданы, Пантелеймон Никифорович. Играем в открытую, в колоде больше нет.
— А что козырь? — стиснув зубы, заиграл желвачками на лице Кандуша.
— Козырь? Ум, понятливость — вот что козырь! Соображаешь?
— По мере скудных сил, Иван, Митрофанович!
— Скудных… шутник ты, вижу, Пантелеймон! У всех умных людей много общего, брат. Скажи: меня дураком считаешь, нет?
— Гос-споди боже мой, что только скажете!
— Ну вот. И я твою башку ценю. Ты знай: ценю!
— Боитесь… — криво усмехнулся Кандуша своим собственным мыслям. — Остерегаетесь чего-то.
— Конечно, остерегаюсь! — весело сознался Иван Митрофанович. — Скажи я иное — все равно не поверишь. Не так? Я остерегаюсь, да и ты святого не корчь! Ну-ну, не изображай невинность! — все с той же обезоруживающей веселостью, но с угрозой в голосе сказал Теплухин в ответ на удивленное поджатие кандушиных губ. — Ведь карты на стол выложены, все масти видны. В свой страх не веришь… а хочешь, мы эту карту разыграем? Начистоту! Хочешь?
Нет, Кандуша еще не собрал себя всего, не подготовлен был к такому прямому разговору, хотя мог ждать его, идя сюда. Он никак не предвидел, однако, теплухинского предложения о деньгах, оно свалилось, как снег на голову, ввело в смущение и расстроило обдуманный раньше план кандушиного поведения.
Надо было выиграть время: спрашивать, а не отвечать. Кандуша задвигал кончиком носа, как принюхивающийся зверек, и осторожно сказал:
— Чего хотите, Иван Митрофанович?
— Спокойствия. Для нас обоих — спокойствия?
— Гос-споди боже мой, а разве не имеете его?
— Имею.
— Ну, так что же еще?
— Имею, а вот хочу еще большего.
— Вот и выходит, позволю себе заметить, жадность какая! — воскликнул насмешливо Кандуша. — Сытых глаз, пипль-попль, на свете нет!
И сам думал в этот момент:
«Боишься. Вижу — ох, как боишься! А мы тебя еще пощупаем… Деньги, деньги — вот вопрос! Сколько! За что? Раскрой ротик, куколка, «а-а-а», язычок высунь, все выложи, губастый волк!» — смотрел он исподлобья на Теплухина.
Иван Митрофанович, прервав завтрак, закурил, поковырял спичкой меж зубов — долго, сосредоточенно, как будто забыл обо всем остальном и был поглощен только этим занятием.
Такое неожиданное равнодушие собеседника немного смутило Кандушу. Верный своему решению не говорить ничего лишнего, он тоже замолчал и медленными глоточками принялся допивать остывший кофе.
— Ну, так как все же? — прервал молчание Иван Митрофанович. — Сообразил ты? Подумал, — а? — нарочито вялым, безразличным тоном спросил он, расставшись, наконец, с зубочисткой.
— О чем, Иван Митрофанович?
— О деньгах… О деньгах, друг мой. Сытых глаз, говоришь, на свете нет? Это-то ве-ерно, — нараспев произнес Теплухин. — Оттого всюду взятки берут. Куда ни глянь — всюду берут. И ничего, в порядке вещей, — а? — насмехался он над кем-то третьим, отсутствующим. — Недаром, брат, теперь в разных ведомствах так и говорят: помилуйте, батенька, перо… обыкновенное перо — и то в себя чернила берет, а как же нам насухо делать?! Вот видишь?
— Преступление это, Иван Митрофанович. Карать надо. Взятка!
— Выгодное и удачное преступление называется добродетелью, Пантелеймон. Неудачное, глупое — вот это взятка!
— Хороша добродетель, пипль-попль!
— Тебе предлагаю истинную добродетель.
— Я на преступление не пойду… — бормотнул Кандуша.
— Тьг бы перекрестился еще! — высмеивающим взглядом посмотрел на него Иван Митрофанович. — Святоша какой… Евангелиста Матвея какого-нибудь вспомнил бы еще, а?.. Бодрствуйте и молитесь, мол, чтобы не впасть во искушение. Дух, мол, бодр, а плоть немощна!
— Не пойду. Никак не пойду, — твердил Кандуша.
— А я тебе и не предлагаю никакого преступления.
— Как так? Предлагаете!
— Какое же!
— Не осведомлен, покуда еще не осведомлен, но предлагаете, Иван Митрофанович! Вы такой человек, что и бога слопаете!
— Невесомой пищи избегаю употреблять, — усмехнулся Теплухин. — А тебе вот то скажу: хитришь и упрямствуешь! Знаешь, про таких, как ты, говорят: на слепого очков не приберешь. И верно: кто не хочет понять, тому не объяснить… Напрасно, напрасно, Пантелеймон! Играем, я тебе уже говорил, открытыми картами.
— Не вижу я ваших, — уклончиво сказал Кандуша.
— Изволь!
Иван Митрофанович привстал, поднял быстро стоящий между ними столик с кофейником, чашками и закусками, отставил его в сторону, а свой стул придвинул вплотную к кандушиному. Теперь они сидели колено в колено.
— Изволь, — повторил Иван Митрофанович. — Рассуди все, Пантелеймон. Ты вроде — государственный чиновник, служащий департамента полиции. Ты нетерпим к взятке — такой ты, брат, чистый да с честными принципами. Ладно. Забыв все, приветствую, Пантелеймон, такого безупречного служаку русской полиции… Ты не усмехайся: я ведь не в шутку это говорю… За что я предлагаю деньги такому человеку?
— А верно: за что? — не скрывал своего любопытства Кандуша.
— Вот именно: за что?.. За то, чтобы он перестал быть верным служакой и передался бы врагам полиции? За это? Нет, деньги-то я предлагаю за другое: оно и отношения никакого не имеет к твоему исполнению служебных обязанностей. Дело тут — наше, частное. Дело взаимное. Но… вот что. Я хочу помочь государственному чиновнику Кандуше. Хочу удержать его от преступления и не выдать, брат, того преступления, которое он уже совершил!
— Да что вы, господи боже мой, говорите? — вскрикнул Кандуша и поднялся со стула, но Иван Митрофанович, схватив за руку, почти силой усадил его на место.
— Говорю то, что ты слышишь!
— Какое же я преступление по службе делал?
Он увидел близко-близко устремленные на него теплухинские рысьи глаза. Зрачки их по-кошачьи то суживались, то расширялись, — им могло быть больно от такого напряженного состояния, от того, что взор сведен был к одной близко поставленной точке, но Иван Митрофанович не отводил глаз, и Кандуша вынужден был принять этот поединок столкнувшихся взглядов.
Но ненадолго — на десяток секунд: что-то знакомое, неожиданно-знакомое увидел он в гипнотизирующих теплухинских глазах и, устрашившись, скосил свои в сторону. По сходству взгляда ему вспомнились сейчас хорошо изученные покоряющие глаза петербургского «старца», и он готов был даже признать, что один теплухинский глаз, как и у того, — со вздрагивающим желтым узелком, которого раньше почему-то не замечал.
— На Ковенском! — ударил в «головку гвоздя» Иван Митрофанович. — Ты хотел раскрыть фамилию человека, о котором ты не имеешь служебного права никому ничего говорить!
— Вы это знаете, гос-споди боже мой?..
— И не только это.
— Плохо знаете! — спохватился Кандуша. — На испуг берете, Иван Митрофанович… Пожалеете!
— Ой ли? Что обещал рассказать госпоже Галаган? Откуда ты мог взять сведения о человеке…
— О вас! — уязвил его Кандуша.
— Да, обо мне! — положил ему руку на плечо Иван Митрофанович. — Обо мне… Откуда взял, как не из тайного, но официального источника? Кто позволил? Начальник разве тебе позволил?
«Да я подслушал вовсе!» — хотел отпарировать удар Кандуша, но уже не посмел.
— Но это еще не все… — продолжал его более сильный противник. — Ты, Пантелеймон, помог бежать из тайной квартиры департамента полиции женщине, которую, — сам понимаешь, — не зря туда привезли для разговора и не зря потом наказали высылкой за участие в офицерском заговоре!.. Ты, может быть, тем самым помог тогда прятать концы в воду. Ты, Пантелеймон Никифорович Кандуша, тайный сотрудник департамента полиции, особо доверенное лицо известного в департаменте чиновника Губонина… ты — соучастник, пособник антиправительственного дела, скрывший свое преступление от начальника! — медленно, раздельно, с холодной торжественностью в голосе произносил Иван Митрофанович. — Если все это станет известным — Пантелеймон Кандуша отправится туда, куда Макар телят не загонял, — понятно тебе? Послушайся меня, Пантелейка! — впервые сегодня назвал он его этим неуважительным именем, видя, что враг уже сломлен, что удар по нему оказался сокрушительней, чем мог предполагать. — Говорил я тебе, что играем с открытыми картами? Козырная масть — вот она! — ткнул он себя в грудь. — Сколько у тебя на руках моего, — а? Мало, совсем мало! Короткая у тебя игра… Самое большее что? Ведь большего не придумаешь, чем есть, а? Но что получится — рассуди? Я останусь, а ты себя сгноишь.
Да и так сразу тебе поверят? Шалишь! Если бы я не знал, что ты донесешь на меня вдове Галаган, верно, другое дело было бы: ты в стороне, а мне — выпутывайся, как можно! Но теперь я все знаю и… не прощу! — был он больше, чем откровенен.
— Вы уж до конца… до конца, Иван Митрофанович! — просил теперь Кандуша. — Чего же вы остановились? А ну… ну!
Теплухин верно понял его состояние: Кандуша обессиливал с каждой минутой. Как он мог защищаться? Удар пришелся по самому больному и незащищенному месту.
«А ну еще, посмей-ка еще!» — так ведет себя во время драки человек послабее, которого тузят, а он только угрожает, что вот-вот размахнется и тоже ударит, но все знают, что он пуще всего боится именно этого, рискуя уже потом быть сбитым наземь кулаком рассвирепевшего, беспощадного противника.
Кандуша был похож сейчас на такого храбрящегося, поддразнивающего человека, бессильного что-нибудь сделать.
«Никуда ты не уйдешь от меня, — едва скрывая свою радость, думал о нем Иван Митрофанович. — Тебе некуда от меня уйти. И зачем я только так волновался раньше? Никуда, никуда не уйти ему!»
Он вспомнил в эту минуту свой давнишний разговор с Губониным на скамейке здешнего, смирихинского летнего сада над обрывом, вспомнил, что сам был в таком же положении, как сейчас Пантёлейка, что тягостно было думать, собирать для защиты свои разбежавшиеся мысли в присутствии умышленно замолчавшего врага-победителя, что таким же неожиданным молчанием измучивал его тогда опытный охранник Губонин, — и Теплухин не торопился теперь с ответом.
— Двуязычный вы, Иван Митрофанович: из одного рта у вас и тепло и холодно! — не выдержал казни молчанием Кандуша. — Не разберешь вас, позволю себе заметить!
На крупных, отстегнутых губах Теплухина появилась улыбка.
— А чего не разобрать-то?
— Помыслов ваших.
— Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы, как у Экклезиаста сказано! — смеялся Иван Митрофанович. — У тебя ведь тоже были свои помыслы? Отказываешься от них? — быстро перешел он на сухой, строгий тон.
Кандуша молчал.
Теперь он понимал, больше чем когда бы то ни было, что действительно этот человек казнит — и не поморщится! Схватил он его, Кандушу, и не выпустит, пипль-попль!
Вырваться? Пожалуй, можно было бы еще вырваться, но уже меченым, с неустранимыми следами от его цепких рук: может, ошибка кандушина на ноготок, а перескажет Теплухин с локоток.
Ошибка… Ох, какая черная ошибка вышла с этой вдовой Галаган! Ведь суждено же было поскользнуться на такой корочке, пипль-попль!..
— Отказываешься? — переспросил Иван Митрофанович. — Говори!
Он вынул из жилетного кармана часы, открыл крышку и посмотрел на них, потом перевел взгляд на Пантелейку, притронулся к нему рукой.
Кандуша следил за его движениями.
— Как доктор вы… Пульс, может, вам? — усмехнулся он с горечью.
— Нет, — язык, Пантелеймон! Язык!.. Это, знаешь, та часть тела, брат, по которой медики распознают болезни телесные, а мы с тобой — душевные!.. В последний раз спрашиваю: отказываешься?
Кандуша беспомощно развел руками.
— Вам быть военным прокурором, позволю заметить, Иван Митрофанович…
— Благодарю, не собираюсь пока. Тебе две или три?
— Чего это? — искренно не понимал Кандуша.
— Денег, с твоего разрешения! Деньжат. Впридачу к твоему спокойствию! — беззлобно насмехался уже Иван Митрофанович. — Я вот не решил еще: две тысячи или три? Как ты считаешь, — а? Две или три? Ведь сытых глаз на свете нет, говоришь? Я ведь не обманывал, когда говорил про деньги. Ну, мне некогда, друг мой. Руку, Пантелеймон, руку! Ну?
Он встал и протянул, вплотную сдвинув пальцы, натянутую ладонь свою — желтоватую, с резко очерченными линиями.
— Мир и согласие? Ну?
И крепко — так, что охнул Кандуша, — сжал его безнадежно опустившуюся навстречу, горячую руку. Руку укрощенного врага.
Теплухин вынул чековую книжку, присел к столу заполнить ее.
— На предъявителя. Можешь получить в киевском банке, на Крещатике.
Он вышел из-за стола, держа в руке синий чек.
— Садись, пиши, — сказал он. — Чего так смотришь, как баран на новые ворота? Расписку… расписку пиши! Такого-то числа, я, такой-то, получил от такого-то, действующего по доверенности, выданной в городе Киеве Георгием Павловичем Карабаевым и зарегистрированной у нотариуса такого-то, — все это я тебе скажу точно, — получил три тысячи рублей за оказанные услуги.
Кандуша послушно выполнил все, что продиктовал ему Иван Митрофанович.
«Письмо!..» — был убежден Кандуша, что и письмо потребует безжалостный победитель, но этого не случилось; значит — студент Калмыков ничего не разболтал!..
— А мне, позволю заметить, какая же расписка насчет ваших действий? — опасливо спросил Кандуша.
— А вот она! — весело ответил Иван Митрофанович, протягивая ему чек. — Можешь ее хранить, если ты дорожишь моей подписью. Однако рекомендую вместо одной этой бумажки получить из банка много других — казначейских…
— Но значит… по правде будем жить, Иван Митрофанович? Без обмана, извиняюсь за слово?
Теплухин в ответ прижал руку к сердцу и кивнул головой.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ Любовь продолженная
Случайная связь с Калмыковым всегда стояла в памяти Людмилы Петровны. Все было полно такой неожиданности, что походило на какое-то наваждение… Впрочем, — сознавала Людмила Петровна, — оно началось еще до того, как очутилась в комнате журналиста Асикритова: оно началось там, наверху, где пировал тобольский «старец», рыжая актриса Лерма и этот низенький толстячок с всклокоченной, вьющейся бородкой и бегающими разноцветными глазами — противный человек, фамилии которого она так и не узнала.
Ей стыдно бывает теперь вспоминать волновавшие ее ощущения, всю грубую простоту и настойчивость которых она испытывала тогда впервые в жизни с такой болезненной силой. Она не могла устоять против них и — бежала…
Зачем она пила в тот вечер? Куда сатана не может сам пойти, туда посылает он гонцом вино, — разве неправильно это сказано?.. Но, боже мой, никогда раньше вино на нее так не действовало!
Она помнит: сначала в комнате их было трое, потом Фома Матвеевич куда-то вышел и больше уже не возвращался, и она осталась вдвоем со студентом. Он напоминал ей чем-то застрелившегося Сергея, покойного мужа. Тоже скуластенький, с темно-синими глазами, с мягкими черными усиками. От него тоже пахло вином, — но, может быть, это ей тогда показалось?
На столе возилась кошка и два рыжих с темными пятнами котенка: они лакали молоко из асикритовской тарелки, залезая в нее лапками. Комната была ярко освещена, виден был весь царствовавший в ней беспорядок жильца-холостяка.
Помнит, — она попросила студента выгнать кошек: они мешали ей, нервировали, ей хотелось, чтобы ни одно живое существо, даже эти безобидные маленькие животные, не было здесь сейчас, словно они были в состоянии что-либо подглядеть и вызвать у нее стыдливость.
Она поступала так, как будто знала уже, что должно будет случиться.
— Потушите свет, — приказывала она. — Белая ночь великолепна.. — Ну, сядьте рядом, расскажите что-нибудь… За мной погоня была… я вам уже говорила, кажется! Ну, вот… я опьянена немножко. Можно мне облокотиться на вас? Можно?.. Вы меня не ругайте, ради бога… Не будете ругать?
Они оба молчали, и не было сказано ни слова и тогда, когда она провела вдруг трепетной рукой по его мягким волосам раз, другой, третий, а он обнял ее неуверенно за плечо.
Потом, глубокой ночью, когда она уходила, студент нежно поцеловал ее руку.
— Знайте, я вас люблю, — сказал он как будто в оправдание.
Она должна была бы снисходительно улыбнуться в ответ на эти ни к чему не обязывающие теперь слова случайного любовника, но она помнит, что поступила почему-то иначе. Она поцеловала его в глаза и ушла, нисколько не сердясь на себя.
Людмила Петровна и впоследствии ни разу не укоряла себя за случившееся. Длинными зимними вечерами в снетинской усадьбе, перебирая в памяти свою жизнь, она не так уж редко вспоминала синеглазого студента. Она не умела объяснить себе, почему это так происходит, но иногда ей казалось, что то, что сложилось у нее с Калмыковым и было так неожиданно, могло, однако, случиться без того, чтобы показаться им обоим неожиданным.
Почему это? — спрашивала она себя. — Ведь они так мало, совсем мало знают друг друга, считанное количество раз виделись, вели разговор самый незначительный?.. Нет, она не могла понять, почему так думала о себе и об этом студенте, но все же думала именно так и сама тому приятно удивлялась.
Въезжая на санях во двор почтово-земской станции, она по какой-то ассоциации подумала на одну секунду о студенте: «Вот здесь живучего родители», но тотчас же отдала свои мысли другим вещам, и образ Калмыкова не утвердился в памяти. Она привыкла вспоминать о нем тогда, когда находилась наедине с самой собой, и очень дорожила этой интимностью своих мыслей. Увидев его, она почувствовала давно незнакомую ей радость, которую смущалась как-либо проявить, и поняла вслед за тем, что эта пятиминутная встреча — только начало более длительной.
Ее жизнь в последнее время лишена была цели, теперь почувствовалось, — она была накануне того, чтобы вновь обрести ее. Но какова должна быть эта цель, — Людмила Петровна в тот момент еще не знала.
К тому же ей пришлось столкнуться с двойной неожиданностью: в одной и той же комнате она увидела вдруг и Калмыкова и того таинственного, странного человека из Петербурга, который посулил открыть тайну смерти ее мужа.
…Было от чего растеряться! Но, кажется, никто это не заметил? Людмиле Петровне было бы неприятно, если бы дело обстояло иначе.
По ее просьбе Федя пошел снимать номер в гостинице, так как сегодня не уехать было, а Людмила Петровна вместе с Теплу хиным отправилась по делам к нотариусу.
По секрету от Ивана Митрофановича условились, что через три часа встретятся в гостинице.
Смешно сказать, но Федя никогда не был там за всю свою жизнь в Смирихинске. В какой-то степени это было свидетельством его целомудрия, потому что ни для кого в городе не было секретом, что хозяйка «России», хромоногая, молодящаяся и всегда подкрашенная госпожа Флантикова, сдавала номера не только приезжающим в Смирихинск, но и местным жителям, преимущественно из молодежи, и не на сутки, а только на часы интимных вечерних встреч.
Это знал и Федя Калмыков и потому с некоторым смущением подымался во второй этаж гостиницы, где, как указал ему коридорный, жила хозяйка.
— Вам надолго номер? — спросила она, пряча от взглядов молодого человека очки, к помощи которых прибегала только что, занятая чтением истрепанных выпусков бульварного романа «Дочь почтальона».
Стараясь изобразить на лице деловитую озабоченность и даже серьезность, чтобы, упаси бог, госпожа Флантийова не заподозрила его в легкомысленных намерениях, и в то же самое время готовый подкупить ее почтительностью и светскостью тона, что, как угадывал, должно было особенно польстить стареющей вдове известного когда-то подпольного адвоката, — Федя объяснил, что номер нужен не ему, ибо он здешний, смирихинский житель («Еще бы, я знаю!» — удостоверила с жеманной улыбкой Флантикова), а остановится в Гостинице на сутки-другие приехавшая из уезда дама.
Прежде чем сказать, имеется ли свободный номер, хозяйка гостиницы осведомилась, на чью фамилию придется записать комнату, и Федя назвал Людмилу Петровну Галаган.
— Ах, очень приятно! — сказала Флантикова. — Как же, как же, я знаю. Это дочь покойного генерала Величко. Красавица, — скажу я вам, господин Калмыков! Влюбиться можно!.. Четвертый номер я вам дам, очень хороший номер. Сейчас же велю протопить, вам хорошо там будет, — подчеркнуто произносила она слово «вам».
— Не мне это нужно! — настойчиво сопротивлялся Федя. — Госпожа Галаган приедет часа через два.
— Ах, я буду рада ее увидеть! Но вы тоже, надеюсь, еще зайдете к нам? Если нужно будет посидеть, поговорить — можно подать в номер самовар, достать закуски! — очень живо обнаруживала свое гостеприимство хозяйка гостиницы. — Заходите, пожалуйста, к нам.
«К нам, к нам! — передразнил ее в уме Федя. — Старая сводница!».
Изобразив на лице участие и соболезнование, она спросила вдруг, долго ли страдал перед смертью его отец, как чувствует себя сейчас Федина мать, — и ему пришлось что-то буркнуть в ответ, и было уже неудобно сразу же уйти, а Федю тяготил этот вынужденный разговор.
Но еще более неприятны были ему ее двусмысленные, как показалось, расспрашивания о Людмиле Петровне: по какому делу приехала она в Смирихинск, да не знает ли случайно, правда или нет, что у нее была, говорят, какая-то история в Петербурге или где-то на фронте, куда, помнится, ездила сестрой, не выходила ли замуж Людмила Петровна — ведь такая интересная женщина; да где ее брат-студент, брат частенько, — тут же разбалтывала она чужие секреты, — частенько заглядывал кое с кем в «Россию», когда приезжал из отцовского дома в город.
«Ф-фу»! — отдувался Федя.
— Вы возьмете ключ? — вынула она его из ящика стола.
— Нет… да, впрочем, н-нет, — сбивчиво ответил Федя, не зная еще, как поступить.
— Берите вы! — казалось, уже потешалась над его смущенным видом госпожа Флантикова, и он платил ей в душе ненавистью.
Он собирался откланяться, но в этот момент без стука в дверь вошел в комнату широкоплечий, выше среднего роста рыжеусый военный в чине полковника с двумя «георгиями» на груди.
Еще не доходя до стола, за которым сидела Флантикова, он бросил на него небрежным взмахом ключ от своего номера и хриповатым баском сказал:
— Ухожу обедать. Если придут ко мне люди — передайте им, сударыня.
Он мельком взглянул на Федю и, повернувшись, вышел, застегивая на ходу свою офицерскую, с меховым воротником, зеленую бекешу, подбитую лисой.
— Боевой и в чинах… фронтовой офицер! — отрекомендовала его госпожа Флантикова. — А раньше, представьте себе…
— До свидания, — не дослушав, распрощался с ней Федя и вышел вслед за офицером.
Ключа так и не взял с собой, а Флантикова совала его в руки.
«Где-то я его видел раньше», — подумал он о полковнике с двумя «георгиями», но где — вспомнить сразу не мог, да и не старался к тому же, занятый своими мыслями.
В условленный час он вновь подымался по деревянной лестнице во второй этаж гостиницы, в самом начале которого находился № 4.
По Фединым расчетам, Людмила Петровна должна была уже быть дома. Он распределил за нее время: ну, сколько уйдет на посещение нотариуса? Потом — обедать, конечно, будет в чиновничьем, у Семена Ермолаича, — и все ведь? Какие еще дела у нее могут быть здесь?
Сердце его радостно екнуло, когда он увидел, что дверь четвертого номера слегка приоткрыта.
«Пришла, пришла!» — заволновался он.
Федя подошел к двери и коротко постучался, — никто не отвечал. На повторный стук тоже никто не откликнулся.
Федя вошел в комнату: в ней никого не было. Топилась печь у самого входа — шипели мокрые поленья, на полу лежал ворох соломы, стояла бутыль с керосином, которым, очевидно, разжигали дрянные дрова, валялась кочерга.
Умывальник, зеркало над ним, ореховый столик с двумя желтыми плюшевыми креслами по бокам, у одной стены — такой же диванчик, у другой — высокая, с металлическими шарами, кровать с незастеленным матрацем, обитым двумя кусками неодноцветной материи, — такова была комната. Все показалось очень неуютным, — Федя состроил досадливую гримасу.
С огорчением заметил, что дрова сырые и плохо горят в печке, и заботливо подумал, что Людмила Петровна продрогла, должно быть, в пути и захочет тепла. Присев на корточки у печки, он подбросил в нее соломы, стал раздувать в ней огонь, орудовать кочергой, поднятой с пола. Нет, не годился он в истопники: солома мгновенно сгорела, а дрова даже перестали шипеть, — печь замирала!
Для удобства Федя сбросил с себя студенческую шинель и возобновил свои неудачные попытки уже при помощи керосина:
«Любовь… Любовь, голубчик!» — посмеивался он над самим собой в роли незадачливого истопника.
За этим сомнительным по результатам занятием застала его вошедшая в комнату молодая смазливая женщина в длинном и плоском украинском чепце, спущенном до затылка, и с лунообразными дешевыми серьгами в открытых ушах.
— Виткиль такый помощник взявся? — сказала она с певучим полтавским акцентом.
Глаза ее, темные и влажные, как спелые, свежевымытые вишни, смеялись и с удивлением смотрели на Федю.
— Шо, не горыть? — спросила она. — А ну, давайте, паныч, я попробую.
Женщина присела с ним на корточки, отобрала у него бутыль, плеснула смело керосину в печь, закрыла сразу же ее Дверцы, и в печке через несколько секунд загудело.
— Потухнет, все равно потухнет, — выразил сомнение Федя.
— Ось побачим! — весело сказала она.
— Хозяйка казала, шо якась барыня тут будэ. Так хиба вы барыня? — лукаво поблескивали глаза коридорной.
Своим вопросом она напомнила о Людмиле Петровне, на минуту забытой им, — и Федя поднялся, выпрямился и отошел быстро в сторону, словно боясь, что кто-нибудь увидит его сейчас рядом с этой служанкой гостиницы.
— Здесь будет жить одна дама, — глухо произнес Федя, откашливаясь горлом, ища свой естественный голос. — К ее приходу надо, понимаете, все оборудовать здесь как следует.
— Зараз усе будэ зроблено, — пообещала коридорная и, наладив печку, пошла за постельным бельем и скатертной на стол.
«Но где же Людмила! — посматривал он каждые три минуты на часы. — Пора было бы прийти, кажется…» — укорял ее Федя.
Заслышав шаги в коридоре, он быстро накинул на себя шинель, застегнул ее на все пуговицы, — принял вид человека, который сам только что зашел сюда и не успел освоиться.
Но шаги обманули: это прошли мимо дверей какие-то постояльцы гостиницы, и кое-кто из них кричал «Фросю»: так звали, вероятно, — сообразил Федя, — украинку с курносым смазливым личиком.
Через пять минут раздались новые шаги, и Федя опять насторожился, и не зря: они остановились у его двери, потом чья-то рука потянула ее на себя, и в комнату вошла хромающая, переваливающаяся набок, как ямщицкий калмыковский староста Евлампий, госпожа Флантикова, а за ней — знакомая уже Феде коридорная служанка с подушками, простынями и одеялом.
— Вот как? — сказала госпожа Флантикова. — Вы настоящий паж, господин студент. Вашей дамы еще нет, а вы уже на часах!
«Да, она сейчас должна быть», — успокаивал себя Федя и делал безразличное лицо.
— Через минуту все будет готово. Фрося, постели аккуратненько, застегни пуговочки на наволочке. Нет, дай лучше я сама сделаю, — распоряжалась хозяйка гостиницы. — Пепельницу сюда принеси: видишь, господин студент курит!
— Хиба он тоже тут будут жить? — стрельнула глазами украинка.
— Это вас не касается, Фрося! — голосом назидательной ханжи, не менее лукавой, чем ее служанка, остановила ее госпожа Флантикова.
Чувствуя, что излишняя угрюмость и серьезность может показаться уже глупой, Федя улыбнулся в ответ:
— Ах, любопытная какая вы, Фрося!
Она стелила постель, взбивала подушки, и он подумал о ее руках: мыла ли она их после бутыли, не будет ли пахнуть постель керосином, не загрязнит ли Фрося белоснежную полотняную простынь, которую, как и все постельные принадлежности, госпожа Флантикова, по ее уверению, предоставила (из особого уважения к вдове Галаган) из своего собственного шкафа.
Феде стало почёму-то неловко наблюдать, как женщины для другой женщины, с которой он был уже близок, и это для всех тайна, готовят в его присутствии постель: как будто, открыв ее его взору, они показывали не только будущее ложе Людмилы Петровны, а обнаженную ее самое. Он и в этом поступке «сводницы»-хозяйки усмотрел покоробившую его двусмысленность и, попросив разрешения позвонить по телефону, что на самом деле ему не нужно было, вышел из номера и — сразу же — из самой гостиницы.
Выйдя на улицу, он поглядел в обе стороны: не идет ли, наконец, Людмила Петровна? Прождав ее некоторое время возле гостиницы, он решил отправиться к тому дому, где помещался чиновничий клуб, и там встретить ее.
Мороз крепчал, прохожих становилось все меньше и меньше на улицах, они торопливо шагали, почти бежали, растирая себе уши, дыша в приставленную к носу ладонь, наставив воротники пальто, а Федя, не в пример остальным, шел замедленной походкой бог весть отчего замешкавшегося человека, которого и свирепый холод, видимо, не может освободить из плена одолевших его раздумий.
Когда пересекал пустынную Базарную площадь, с которой исчез даже стоявший всегда здесь на посту городовой, — сзади услышал вдруг мягкое шлепанье копыт бегущей лошади и через полминуты — знакомый окликнувший голос:
— Сидайте, паныч: пидвезу домой!
Карпо Антоныч приглашал в рыжие санки-«козырки».
Остановившаяся — его, Федина, — лошадь (как странно: он только сейчас впервые осознал, что это его, собственная лошадь — гнедая, белогубая, с седой звездочкой на морде) нетерпеливо вскидывала голову и попеременно подымала передние ноги, словно и она торопила своего хозяина принять приглашение.
— Нет, поезжайте! — улыбнулся обмерзшим ртом Федя и почувствовал тогда, как успели уже обледенеть на морозе его мягкие усики.
— Воля ваша, — не настаивал извозчик. — А я — до дому! Собака — и то в конуру просится.
И проехал мимо Феди.
Добрых полчаса прождал он на морозе у здания чиновничьего клуба.
«А может быть, ее нет здесь, и я напрасно трачу время? — негодовал он. — Мерзну, как идиот, а она сидит где-нибудь в другом месте… или уже в номере?»
Он решил еще раз пройти мимо клубного подъезда — до угла улицы, а потом… потом, — он так и не знал собственно, что следует сделать потом.
«Нельзя так насмехаться надо мной! — раздражался Федя. — В самом деле… Думает, что я паж какой-то!» — приписывал он Людмиле Петровне слова жеманной Флантиковой.
Дойдя до угла и обернувшись, он увидел вдруг вышедшую из клуба Людмилу Петровну. Она была не одна: с ней прощался Теплухин.
«Наконец-то!» — обрадовался Федя.
Но возликовал преждевременно.
Теплухин побежал к извозчичьей стоянке — «вот был бы для Карпа Антоныча пассажир на целковый, нечего было уезжать с биржи!» — и Федя приготовился уже догонять Людмилу Петровну, однако неожиданное обстоятельство пресекло его решение: из клуба быстрым шагом вышел человек в папахе и военной бекеше и, взяв под руку Людмилу Петровну, пошел с ней в сторону гостиницы «Россия».
«Вот те на! Кто же это! И почему они вместе? — рассердился еще больше Федя. — Боже, как она к нему прижимается… Ах, при чем тут холод, мороз?! — озлобленно глушил он свою собственную мысль, пытавшуюся было оправдать Людмилу Петровну. — Знаем мы эти штуки, сами не маленькие! Они там любезничали, а ты тут замерзай на посмешище!.. Мальчишка я, что ли?»
Федя шел теперь позади них шагах в тридцати. В такой мороз никто не оглядывается, можно спокойно следовать за ними, — правильно рассудил он, и, приблизившись еще на некоторое расстояние, он узнал по спине и широким плечам того самого офицера, которого несколько часов назад встретил в комнате Флантиковой.
Он вспомнил его закрученные кверху, растрепанные в концах рыжеватые усы, высокомерный тон, жирный, бульдожий басок, красовавшиеся на груди георгиевские кресты, почтительность, с какой говорила о нем хозяйка гостиницы; он приписал ему мгновенно, как это часто бывает в, таких случаях, еще несколько внешних черт — может быть, и выгодных для этого офицера, но потому и вызывавших в нем, Феде, чувство еще большей неприязни, так как в нем самом этих черт не было, — и по склонности своего вспыльчивого характера и присущей ему иногда мнительности Федя приревновал вдруг Людмилу Петровну к незнакомому полковнику.
К тому же долгое ожидание на морозе породило ту обидчивость и раздражительность, которая сейчас легко и безотчетно усиливала Федину ревность.
Любовь — кузнец подозрений. Любящий всегда верит тому, чего боится. Он всегда преувеличивает опасности для своего чувства, требующего нерушимой взаимности. Так было и с Федей Калмыковым.
Он приревновал сейчас к незнакомому офицеру. Но почему? И только ли к нему одному?
Он строил тысячи предположений, чтобы утвердить свои подозрения, и в каждое из них верил, как если бы в них уже и в самом деле убедился. Он верил в каждое из них, не дав себе труда поставить их в мыслях рядом одно с другим, — может быть, они опровергали бы тогда друг друга?
Он мало знал любимую женщину и, казалось бы, не имел оснований подозревать ее в чем-либо предосудительном. Он не знал, наконец, ее чувств к нему, он только хотел, чтобы они возникли, — и все же именно потому, что мало знал о ней достоверного, что сам неуверенно держался с ней, — он допускал все, что угодно; он подозревал ее в чем-то нехорошем, оскорбительном для него, и ревниво измышлял для того факты, которые должны были уже доказать ее виновность.
Он говорил себе: да, она очень порочна и любовь его несчастна потому…
Она — легкомысленная женщина, на это, кажется, намекала эта «всезнающая сводница», хозяйка гостиницы? Ох, Людмила Петровна, Людмила Петровна!
Она имела какую-то романтическую историю с Теплухиным, — писала же она ему письмо, которое, выдав за свое, читал ему, Феде, этот мозгляк Кандуша! И что-то темное есть в ее отношениях с этим странным человеком: помнится, как на петербургском поплавке он исступленно говорил о своей страсти к ней, намекал черт знает на что, а сегодня, увидав его, она явно смутилась и потребовала потом, чтобы Федя позвал его к ней…
Да, она порочная, скрытная женщина… с извращенными, вероятно, наклонностями! А теперь… теперь еще этот широкоплечий «жеребец»-полковник, — ведь «подцепил» ее в клубе… подцепил? И он тоже живет в гостинице. И, может быть, номера их рядом!
Воспаленное воображение Феди рисовало картины, одна другой страшней и необузданней.
«Да, да, она очень, очень порочна! — говорил он себе, вспоминая, как главное доказательство ее греховности, белую ночь в асикритовской комнате. — Разве честная женщина позволила бы себе такое?!. Какая тут, к черту, «романтика», — просто разврат!» — клеймил он самыми грубыми словами Людмилу Петровну. Клеймил за то, что — до этой минуты отчаяния, и раздражения — считал чуть ли не высшей радостью в своей жизни.
«Нет, нет, — гнал он прочь робкую мысль в защиту Людмилы Петровны. — Если она могла со мной, и так быстро, то почему она не может с любым?..»
Он без удержу взвинтил себя до того, что готов был подбежать и тут же, на улице, сказать ей что-нибудь резкое, оскорбительное, после чего их встреча стала бы немыслима, конечно. Но мешало присутствие третьего человека, наглого рыжеусого «болвана» (ему казалось, что только это мешает сейчас), и Федя решил, что если не здесь, на улице, то уж в гостинице он сумеет защитить свое достоинство любящего человека.
По дороге, вблизи гостиницы, встретился вышедший из квартиры какого-то пациента доктор Русов.
— В такой-то морозище?.. Что вы шлендраете на улице, да еще с постным лицом философа? — не то всерьез сердился, не то делал вид, что сердится, доктор Русов. Он был обвязан, как школьники, башлыком, на ногах валенки.
— В киоск хочу, к Селедовскому за газетами, — соврал Федя, а сам посматривал в сторону гостиницы: вот они уже вошли в подъезд!
— Куда там газеты?! — махнул рукой доктор. — В такой мороз — поезда с опозданием… Приходите лучше вечерком в помещение чиновников: там сегодня концерт и прочее… «Общество разумных развлечений» — знаете? Надежда Борисовна хлопочет, хлопочет!..
— А если я не один приду? — загадочно сказал вдруг Федя, и сам в тот момент не поверил, что может прийти сегодня в концерт вместе с Людмилой Петровной, — а ведь именно ее имел в виду.
— Тем лучше. Надо, надо поразвлечься вам, — серьезно сказал доктор Русов и, заложив руки в кожаных варежках за спину, побрел домой.
Федя не спеша поднимался по лестнице: за сегодняшний день он изучил уже здесь каждую ступеньку.
— Вас, паныч, ожидают, — сказала повстречавшаяся в коридоре украинка.
— А что такое? — сухо спросил он.
— Балакала про вас: був тут студент, чи не був?
«Только и всего? — подумал Федя. — Так можно и про лакея своего спросить!» — не покидала его придирчивость, хотя где-то в глубине души шевельнулось неясное чувство надежды и радости.
Он постучал в дверь номера и вошел в него.
— О, боже, какой вы дед-мороз… молодой дед-мороз! — смеясь, говорила Людмила Петровна, идя ему навстречу. — Румяный… щеки накрасило вам, усы такие седые, а уши… уши-то ваши! кончики совсем побелели! Послушайте, вы, кажется, отморозили свои уши, сударь?
— Спасибо, что еще… молодой дед-мороз. На уши наплевать! — криво усмехнулся Федя и не притронулся к своим ушам, хотя ощущал холодный зуд на хрящиках и хотелось, подув на ладони, зажать руками и согреть ледяные уши.
— Ну, вот еще — наплевать… Уши, знаете…
Людмила Петровна приложила к ним свои теплые ладони, чуть-чуть сдавила его голову — но так, что минуту Федя перестал даже слышать, и стала растирать его уши.
— Никто любить не будет, никто любить не будет, ага! — шутила она, дергая его за холодные мочки ушей.
Он знал эту бабью примету и, не желая того, улыбнулся.
— А что нужно сделать, чтобы меня любили?
— Я сейчас научу! — весело сказала она. — У нас в снетинской округе есть такое старое поверье: парень должен прогулять в лесу три ночи без сна — полюбит его тогда облюбованная девушка.
— А если просто… на морозе? — съязвил Федя.
— Не годится! — поняла его намек Людмила Петровна. — Но только помните, — приложила она палец к губам. — До лесу дойдешь ночью — не крестись. В чащу зайдешь — не молись. Сорви лист с дерева — к сердцу приложи. Грудью на землю ляг и думай. Вот что надо думать, Федор Мироныч… Коханна моя, коханна. Сушу лист я под самым сердцем — сушу думу по твоей любви! Чур! Сушу раз, сушу два, сушу три дня — присушу, чур? Войди, коханна, в плоть мою, в тело, в кровь, как вошла уже в душу, в сердце, — чур!.. Главное, Федор Мироныч, «чур» не забывайте сказать, а иначе все пропало, — смеялась она.
— Я готов тысячу раз сказать его… если бы только в этом заключалось все дело! Увы…
Он снял шинель и фуражку, но не знал, куда положить их: в номере — ни вешалки, ни гвоздя.
— Сюда, сюда, — указывала ему Людмила Петровна на плюшевый диванчик, где лежали и ее вещи: шубка, котиковая шляпа и пуховые гамаши. — Я вас еще не поблагодарила, Федор Мироныч, за это милое пристанище.
— Не стоит благодарности, — вежливо, но угрюмо ответил он, снова вспомнив о рыжеусом полковнике, который где-то живет рядом и посетит, конечно же, это «милое пристанище».
Она уловила недовольство в его голосе и вопросительно посмотрела на Федю:
— Что с вами, сударь?
— Ничего, — прикидываясь спокойным и безразличным, упрямо сказал он и отвел глаза, чтобы она не увидала в них наигранного презрения.
— Ой ли?
— Я замерз, по правде сказать.
— Шел по улице малютка, а малютке… двадцать лет! — пропела она две строчки из распространенной песенки популярного куплетиста Сарматова. — Тащите кресла к печке. Не беспокойтесь — я сама возьму себе. Я привыкла все сама брать! — с особой интонацией сказала Людмила Петровна и слегка прищурила один глаз.
На ней был шерстяной, английского покроя, синий костюм с узкой модной юбкой. Она стесняла, укорачивала шаги Людмилы Петровны, и, когда она проходила по комнате, Федя слышал, как иногда терлись одна о другую икры ее ног в шелковых чулках.
Сидя в придвинутых креслах перед утихающей печкой, открыв дверцу ее, они грели вблизи огня свои руки и ноги, хотя в комнате уже было тепло, а сидеть долго так: согнувшись, наклонившись к огню — было не совсем удобно уставшему телу.
Но, казалось, измени Людмила Петровна эту позу, перестань она ворошить кочергой золотые, с синим дымком, уголья в печке, — и перестанет тогда говорить, замолкнет, опомнится и оборвется тогда на полуслове ее неожиданный для Феди рассказ. Невольно, вероятно, для самой Людмилы Петровны он походил на исповедь…
«Родная, любимая, хорошая… прости ты меня, негодяя; осла вифлеемского!» — самыми нежными сейчас словами называл Федя в уме Людмилу Петровну и самыми уничтожающими ругал он себя.
Теперь он знал почти все, что могло его интересовать.
Поручик Галаган, жизненное смятение Людмилы, ее уход на фронт и возвращение оттуда, офицерская компания в Петербурге, встреча с Кандушей среди распутинцев и его таинственные обещания, — вот и стало ясно теперь, кто такой Кандуша, и Федя с ужасом подумал о нем, с испугом и отвращением.
В ее рассказе ни разу не упоминался он сам, Федя, но он уже не ждал этого и не огорчался: коль скоро все рассказано ему — значит, он и есть тот человек, которому она хочет довериться!
И, чтобы убедиться в том лишний раз, он спросил осторожно, всей интонацией своего голоса показывая, что не придает никакого значения заданному вопросу, — кто такой этот офицер, v с которым возвращалась из клуба?
— А вы откуда знаете? — удивилась Людмила Петровна.
Он сказал, что видел издали ее с ним на улице.
— Этот человек не прочь был в свое время на мне жениться, — усмехнулась она, и с таким безразличным видом, что Федя почувствовал радостно, сколь неопасен оказался ему молодцеватый полковник. — Этот человек — знаете кто? Неужели вы не встречали его здесь года три-четыре назад? Ведь это бывший жандармский ротмистр Басанин! В самом начале войны он перешел из своего ведомства в действующую армию, а вот теперь — герой-вояка.
— Ах, черт возьми, а я-то никак не мог вспомнить, кто это?
Действительно, как можно было забыть жандармского ротмистра Басанина?
В маленьком городке он был в числе тех, кого обязательно знали в лицо все жители Смирихинска. Как знали они исправника, например, председателя окружного суда, покойного старика Калмыкова, городского голову, знаменитую долговязую проститутку Ельку, настоятеля местного собора или городского сумасшедшего — слюноточивого Гоплю, для насмешек которого все остальные смирихинские знаменитости были уравнены с прочими, ничем не замечательными гражданами…
Басанина Людмила Петровна встретила во время обеда в клубе: оттого и задержалась. Судьба забросила его вновь в Смирихинск: он принимает участие в формировании запасных воинских частей, расположенных в губернии, и уезжает сегодня же куда-то дальше.
Полковник Басанин уже не интересовал теперь Федю.
Он думал о другом — умиротворенный, успокоившийся, обнадеженный.
Любовь… Да, он хотел быть любимым сидящей рядом с ним женщиной, от которой он получил все прежде, чем узнал ее.
И он вдруг сказал ей о своем чувстве — тихо, серьезно опустив голову, и — сам испугался того, что так быстро все это произошло.
— Как это может быть? — тоже серьезно и тоже тихо спросила Людмила Петровна.
Он не знал, как давно ищет она ответа на этот вопрос.
…Час назад она сидела за обедом в обществе двоих мужчин, из которых каждый в свое время пытался говорить ей о своих чувствах, а полковник и сегодня смотрел на нее тоскующими, печальными, но блудливыми глазами собаки, которой посчастливится авось схватить кусок мяса.
Людмила Петровна была оживлена, много и весело говорила за обедом, ее настроение передалось и сотрапезникам. Между прочим, она напомнила полковнику, что когда-то в этом самом клубе она просила его за Ивана Митрофановича, и он — тогда еще жандармский ротмистр — был, кажется, любезен и не чинил препятствий к устройству Теплухина на службу. (Мужчины медленно кивнули друг другу головой, свидетельствуя как будто: один — готовность, мол, и впредь быть полезным, другой — признательность за такое внимание, — и оба выпили по бокалу вина за здоровье Людмилы Петровны.)
Она без скуки проводила с ними время, но ее мысли были отданы в тот час Калмыкову.
В разговоре она несколько раз — и по каким-то случайным, незначительным, казалось бы, поводам — произносила его фамилию. Собеседники не придали этому значения, а ей было приятно называть вслух, называть для самой себя его имя и знать, что в этом есть уже какая-то ее собственная маленькая тайна, о которой никто сейчас не может догадаться.
И оттого, что никто не мог предположить этой тайны, с каждой минутой ей казалось уже, что эта тайна значительней, чем могла думать раньше, что с Калмыковым действительно связывает ее уже что-то сокровенное и большое, о чем он сам, пожалуй, не подозревает.
Она еще не знала, как назвать свое влечение к нему, но, однажды так случайно возникнув, оно все время существовало, а теперь и росло.
Ей приятно было сознавать, что сейчас он ждет ее (вероятно, в гостинице), что он обрадуется встрече с ней. Она сама ждала с любопытством и волнением этого момента, но она не торопилась уходить из клуба, оттягивала момент этой встречи, зная, что все равно она состоится, а в то же время состояние нарочитого выжидания было сладостно Людмиле Петровне.
И вот сейчас, когда Калмыков признался ей в любви, она спросила не столько о его чувстве к ней, сколько захотела услышать ответ на свои собственные чувствования, в которых не могла раньше разобраться.
— Как это может быть? — спрашивала она его и тем самым проверяла самое себя.
— Не знаю, — сказал он. — Не знаю. Но я вас люблю по-настоящему! Вот… что хотите!
— Увидели и полюбили — так, что ли?
— Если хотите — так!
Он бросил в печь папиросу, которую только что закурил, и, передвинув кресло, сел так, чтобы видеть прямо перед собой Людмилу Петровну.
В комнату вошли темные сумерки, но в ней не нужен был теперь свет.
— Любовь всегда имеет цель, Федор Мироныч.
— Да, одну цель.
— Какую? — наклонилась она к нему.
— Любовь!.. Любовь имеет целью любовь! — сказал Федя горячо. — Другой цели нет. Я хочу, чтобы меня любили.
— Я тоже, тоже…
— Вы тоже? — не мог совладать он с волнением. — Это — самое важное в жизни. Так было, так будет всегда, Людмила Петровна.
— Но вы очень стремительны, — попыталась она насмешливо улыбнуться, но это у нее не вышло: голос звучал нежно и взволнованно.
— Я не виноват: такова сила моих чувств. Зачем я буду прикидываться черепахой?
— …когда я быстроногий Ахилл? Так? — рассмеялась Людмила. Петровна, и Федя вслед за ней.
— Вот именно! — придвинулся он к ней. — Выспрашивали: как это может быть? Любящий всегда, угадывает человека, которого полюбил. Знаете… в людском хаосе кружатся, вероятно, половинки одного целого: стоит им набрести друг на друга, прикоснуться в жизни одна к другой — и тогда… когда они находят друг друга… когда они сливаются…
— Это было уже у нас с вами, хотите вы сказать? — вдруг посмотрела она долгим, открытым взглядом в его глаза.
— Что… было? — не смел Федя подумать, что она будет так откровенна.
— Все. Все конечное между мужчиной, и женщиной, — просто сказала она. — В людском хаосе, как вы говорите, мы набрели друг на друга. Я тоже это чувствую. Половинки… пусть так: Вы ничего не сказали о белой петербургской ночи… почему? Мне не стыдно ее — знайте это. Помните? Но вот… мне нужен обратный путь чувств: утро, день, ночь…
— Я прошел уже этот путь в душе…
— А я не хочу, чтобы вы шли по нему один.
— Мне спутники не нужны, Людмила Петровна!
— А спутница? Я?.. Ты много куришь! — сказала она вдруг и выдернула из его рук портсигар, который он собирался открыть. — Глупый!..
Он был счастлив.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Девять точек
У дяди Жоржа, кроме автомобиля, была еще «кукушка» — коляска с кучером позади. В нее впрягали статного, серого в яблоках жеребца, ставшего известным всему Киеву. Георгий Павлович предпочитал автомашину, и на коляске старинного типа (и потому бросавшейся в глаза) ездила преимущественно тетя Таня, Татьяна Аристарховна, два раза катавшая Иришу по городу.
Два громадных, пятнисто-серых дога с больно ударяющими хвостами, задень они случайно человека, сопровождали Татьяну Аристарховну, когда она совершала променад по улицам.
Десятилетнего кузена Костеньку одевали в костюмы такого же цвета и покроя, какие носил и отец, и Костенька совсем уж теперь походил на точный слепок с Георгия Павловича; детальному сходству мешало только отсутствие цыганских карабаевских усов. Георгию Карабаеву доставляло особое удовольствие лицезреть себя в уменьшенном виде.
Огромная, в десять комнат, квартира, занимавшая весь второй этаж, с двумя парадными ходами, потому что соединили две самостоятельные раньше квартиры, — была меблирована по эскизам известного русского художника, и, как было это еще в провинциальном, смирихинском доме, двери всех комнат были открыты, каждая комната спокойно смотрела на другую и стерегла ее, каждая дружелюбно созерцала своих соседок, и все вместе — уверенно и услужливо — своего создателя и хозяина.
— Та дверь крепче всего заперта, которую можно оставить открытою! — афористически поучал своих домочадцев Георгий Павлович.
У карабаевской семьи были теперь, помимо обычной прислуги, среди которой повар Михей был особо отмечаем хозяевами, свои врачи (для взрослых и второй — для Костеньки), парикмахер — мужской и дамский, свои портные и сапожники, свой фармацевт из польской аптеки, который мог доставать любые лекарства, и ряд людей других профессий, услуги которых почему-либо могли понадобиться карабаевской семье.
О том, как живет она, водительствуемая дядей Жоржем, обо всем этом Ириша сообщила в письме к своим родителям. Но она ничего определенного, кроме того, что он «служит у дяди Жоржа и часто бывает здесь в доме», не могла написать им о старом знакомом Карабаевых — об Иване Митрофановиче. Между тем Теплухин был именно тем человеком, которым Георгий Павлович дорожил больше всего, считая его наилучшим приобретением за последние годы своих больших удач.
Георгий Карабаев умел ценить своих людей. Выслушав возвратившегося из Смирихинска Ивана Митрофановича и получив от него заверенные нотариусом документы, он сказал:
— Мне кажется, что теперь я имею возможность сделать вам приятное. Я давно решил это сделать, но теперь представляется удобный случай.
— То есть? — спросил Теплухин.
— Освободился семнадцатый номер, — я велел управляющему домом никому не сдавать этой квартиры. Я вам предлагаю эту отличную квартирку: там три комнаты. Оставьте вашу Прорезную улицу и переезжайте сюда. Не все еще, не все, Иван Митрофанович!.. — готовил Карабаев новый сюрприз. — Вам придемся еще одобрить гарнитур мебели, который я лично рискнул выбрать для вас по своему вкусу. И я хотел бы, чтобы вы заплатили за него из тех денег, сумма которых обозначена на этой бумажке… Я хочу таким маленьким подарком поддержать свою большую дружбу, которую питаю к вам.
И Георгий Цавлович, подойдя к Теплухину, обнял его за плечи и, приветливо улыбаясь, вложил в боковой карман его пиджака какой-то конверт.
Выйдя из карабаевского кабинета, Иван Митрофанович не без любопытства посмотрел на вытащенный из конверта чек: на нем значилась сумма в пять тысяч.
«Да три из твоих денег Пантелейке отдал, итого — все восемь!..» — холодно усмехнулся он про себя.
Некогда, отбывая каторгу, он пристрастился, уподобляясь многим другим каторжанам, к наркозу фантазии: причудливая игра воображения скрашивала действительность. Грани между реальным и вымышленным пересекались, и Теплухин жил тогда двойной, приподнятой жизнью.
Как все на «колесухе», как все замурованные в казематах Шлиссельбурга и Петропавловки, как все тюремные узники, Иван Митрофанович мечтал о свободе. Но о свободе — как о мести тем, кто ее отобрал у него.
Но в жизнь его пришел, как Мефистофель, безусый человек с голым шишковатым черепом и круглой голландской бородкой, — и выбор между мечтой и действительностью был сделан.
Иван Митрофанович не любил утешать себя, но все же, вспоминая свои отношения с Губониным, начиная с первой встречи в иркутском замке и кончая последним свиданием в Петербурге, он невольно старался уменьшить свою вину перед неизвестными ему людьми. «Да, неизвестными, потому что, — говорил он себе, — я не предал никого, кто был со мной связан, кто доверился бы мне, а я обманул бы его, использовав его доверие».
И тех, что пострадали, он никогда не видел даже в лицо!..
Так было, когда купил себе досрочное освобождение ценою выдачи неизвестной ему киевской организации, так случилось и этим летом, когда неожиданно для Губонина сообщил ему, со слов солдата Токарева, о подпольной деятельности большевиков в лужском военном госпитале.
Все эти люди были ему чужды и неведомы. Он мог печалиться о них ровно столько, сколько, например, мог жалеть безыменных солдат, о смерти и ранении которых читал, уже привыкнув к тому, в военных сводках фронта. Да еще с той только разницей, что в последнем случае человеческие жертвы ничем ему лично не были полезны, и потому он мог желать от сердца, чтобы их было поменьше, в то время как в первом — он ограждал свою собственную жизнь и потому был особенно безразличен к судьбе других людей. Свою собственную ему удалось уберечь за эти годы, — и ничего другого он не желал для себя.
«Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий». Он часто повторял эти слова и в них находил всегда оправдание своим поступкам.
Но за последнее время он больше, чем кто бы то ни было из круга карабаевских людей, предчувствовал политическую грозу и потому не мог избежать волнения. Он не представлял себе степени ее силы, времени ее прихода, но что такая гроза грядет — Иван Митрофанович уже был в том уверен. И потому, что не представлял себе всего этого, — не было страха перед чем-то неизбежным, роковым. Может быть, было только смущение…
И в такие моменты заглядывания в будущее Иван Митрофанович снова фантазировал, но уже по-иному, чем некогда.
Вот, — мечтал он, — что-то изменится в стране, придут, может быть, к управлению ею такие люди, как Родзянки и Карабаевы, и тогда уйдут, конечно же, Губонины и Глобусовы, а к тому, кто встанет на их место, явится тишком он, Иван Митрофанович, и попросит отдать ему, как милость сердца, листок бумаги, заполненный в иркутском замке в час отчаяния и душевной слабости. (Ведь это единственный документ его политического проступка!)
Его поймут и простят, — мечталось так, — а может быть, и посочувствуют, как жертве былых политических условий, и он докажет всей последующей жизнью, что действительно был жертвой.
В таком состоянии предчувствия и внутреннего смущения Иван Митрофанович пребывал теперь все дни, и мысль занята была одним: когда это что-то начнется, — как бы только не опоздать тогда и кинуться немедля в Петербург на спасение своей биографии бывшего революционера-каторжанина.
Иногда обдуманный им план спасения изменялся, и тогда Иван Митрофанович надеялся уже на самого Губонина, который должен, пожалуй, помочь.
«Утаит он на всякий случай «своего человека» — мало ли, как повернутся дела потом?» — старался не терять спокойствия Иван Митрофанович.
Естественно, что ни одна встреча теперь не могла обойтись без политики. И хотя Георгий Павлович звал гостей, желая лишь ознаменовать приобретение сахарного завода обедом, — приглашенные, встретившись друг с другом в розовой карабаевской гостиной, сразу же заговорили о злободневных событиях.
Самой последней новостью, взбудоражившей умы карабаевских гостей, была только что полученная из Петербурга телеграмма в газеты об отставке премьер-министра Штюрмера и о назначении на его место Трепова.
Вся кулинарная изобретательность повара Михея рисковала быть, незамеченной сегодня: до того увлечены были все петербургской телеграммой.
Знаменитый киевский адвокат с двойной фамилией, он же председатель местного комитета партии кадетов, и не менее известный на юге России молодой миллионер-сахарозаводчик, меценат и либеральный вольнодум Терещенко, впервые посетивший сегодня дом Георгия Павловича, — выслушивались остальными с особым вниманием.
Знаменитый киевский адвокат был осторожен в выводах и называл уход гофмейстера-немца моральной победой своей партии и, в частности, победой Милюкова. Принесет ли назначение нового премьера коренное изменение политики — уверенности в том не было, но «что-то» может, однако, произойти, и вся суть дела, по его мнению, заключается в том, как отнесется к приходу Трепова думский «прогрессивный блок». Его, личное, мнение таково, пожалуй, что следует «замаскировать спокойствием» нового премьера, нужна, пожалуй, передышка в борьбе с правительством — хотя бы на некоторое время.
— Знаете, по пословице, — говорил он, — вечер покажет, каков был день… Меня интересует, как поведет себя Родзянко.
— Как его поведут… В этом большом и жирном дворянском теле ни щепотки соли! — с брезгливой улыбкой ответил Терещенко. — Признаться, я не верю в такие перемены: что в лоб, что по лбу. Что начало криво расти, то не выпрямится, — снисходительно-иронически сказал Терещенко.
Помощник присяжного поверенного, воспользовавшись паузой, длинно и скороговоркой поспешил изложить свое мнение о текущих событиях.
При всех обстоятельствах и со всякими собеседниками он говорил одним и тем же — докторальным — тоном, с гомерическим количеством цитат, имен, цифр и терминов. Казалось, собеседник был ему безразличен, даже не нужен: сам он никого не слушал, увлекаясь только своей собственной речью.
— Какое бы ни образовалось правительство, ему следует напомнить, господа, изречение Сперанского: не то хорошо, что ново, но то полезно, что согласно с нравами и потребностями народа. Высшая добродетель правителя — знать своих. Но, к сожалению, есть истины, как отметил еще Вольтер, не для всех людей и не для всех времен, господа!.. — лил молодой адвокат обильный дождь цитат. — Я не доверяю Трепову. Нет, не доверяю, господа… Нет, кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь, как сказал Гоголь о Собакевиче. Трепов — это danaum fatale munus[26]. Дары врагов — не дары и никогда выгоды не приносят. Да, да… Дума должна добиваться сейчас отмены законов, проведенных в порядке восемьдесят седьмой статьи: в порядке царского указа. Шутка ли, господа! Таких законов за восемь лет, с девятьсот шестого по тысяча девятьсот четырнадцатый, издано всего шестнадцать, а за время этой войны — триста восемьдесят четыре!.. А? Что? Пойдет на это Трепов? Но вот наши признанные политики хотят, очевидно, с ним считаться, маневрировать. Тактика, тактика… Я понимаю, может быть, их. О Фердинанде Кобургском говорили: он блоха, усевшаяся на том месте Европы, которое ей чесать неудобно. Я представляю себе сейчас, господа, что приблизительно так же думают о Трепове наши признанные политики. Но я… я против, я против!
Терещенко, конечно, тоже был против Трепова, но то, что таких же воззрений держался вызывавший неприязнь молодой, но изрядно лысый, пучеглазый адвокат с дегенеративно-впалым лбом и сложенными, как будто для свиста, мокрыми губами, — было ему почему-то неприятно.
— Мне кажется, что ваша партия сейчас на распутье, Николай Дмитриевич, — обратился он к адвокату с двойной, известной фамилией.
— Да, я слушаю вас, — отозвался тот с таким подчеркнуто-внимательным видом, как будто все то, что до сих пор говорилось, не относилось к нему и потому он не обязан был собственно не только отвечать на это, но и, пожалуй, внимательно слушать.
Стоя посреди гостиной и склонив набок напомаженную темноволосую голову с безукоризненным английским пробором, Терещенко, чуть грассируя, говорил спокойным мерным голосом, в котором было сейчас столько же душевной скуки, сколько я гражданской печали, насмешливого задора — сколько и уважительного отношения к слушателям.
Все обратили внимание на его манеру поглаживать свою руку во время речи: от кончиков пальцев до кисти и каждый палец отдельно, словно он надевал на них тугие кольца или натягивал на руку узкую перчатку.
— Уступит правительство, произойдет действительное обновление кабинета? Что ж, это будет торжество тактики Милюкова, то есть парламентской борьбы. А если нет, позволю себе спросить? Не умеет голодная толпа бояться и ждать. Она страшна, толпа, — говорил Терещенко, глядя исподлобья темными глазами на дам, любовавшихся его легкой и крепкой фигурой спортсмена. — Массы народа заставят политических главарей сделать то, о чем те сегодня, вероятно, и не помышляют. С главами партий, имейте в виду, бывает как и с головами, змей: хвост их двигает вперед!
Все тем же голосом, но еще более понизив его и немного нараспев, он стал читать на память недавно написанные блоковские стихи:
Чертя за кругом плавный круг, Над сонным лугом коршун кружит И смотрит на пустынный луг. В избушке мать над сыном тужит: «На хлеба, на, на грудь, соси, Расти, покорствуй, крест неси». Идут века, шумит война, Встает мятеж, горят деревни, А ты все та ж, моя страна, В красе заплатанной и древней.— Доколе матери тужить? Доколе коршуну кружить?— «Шумит война, встает мятеж…» И вовсе «не все образуется» так мирно и безболезненно, как мерещится то в Петербурге почтенному профессору Павлу Николаевичу! — язвительно сказал он, совершенно явно стараясь поддеть спокойно выслушивавшего его адвоката с двойной фамилией.
— Неужели, Михал Иваныч, вы ждете настоящей революции?
— А почему бы и нет? — усмехнулся Терещенко. Ему вдруг захотелось эпатировать собравшееся здесь общество, а главное — молодого адвоката с дегенеративным черепом.
— Очень странно, Николай Дмитриевич! — шепнул адвокат со «свистящими» губами своему старшему коллеге.
Тот повернул к нему лопатку своей бороды и посмотрел серыми усталыми глазами:
— Пресыщенность. Любовь к сильным ощущениям, Денис Петрович. Он думает, что революция — это американские горы в Луна-парке: три минуты щемящего страха, а потом благополучный спуск, гарантированный администрацией парка. Как бы не так!
Николай Дмитриевич разгладил пожелтевшие у корней от табачного дыма седые усы и сосредоточенно гмыкнул: надо было обдумать ответ этому кокетничающему с революцией миллионеру-снобу. Впрочем, особенно раздражать его не к чему, — рассудил знаменитый киевский адвокат, вспомнив, что только вчера звонили к нему по поручению Терещенко и спрашивали, не может ли взять на себя ведение искового крупного дела.
Но ответить все же на «баловство» Терещенко необходимо было. «Я-то ведь — не только председатель совета присяжных поверенных города Киева, но и руководитель кадетской партии здесь, а собравшееся сейчас общество не так уж безразлично для нее». И Николай Дмитриевич, осторожно отбирая слова, заложив палец за борт наглухо застегнутого сюртука, как делал это на выступлениях в судебной палате, встал с кресла и произнес речь.
— Бесспорно, — заявил он своим баском, зная, что его должны хорошо слушать, — бесспорно, нас ожидает после войны грозное народное движение. Но именно потому, что оно будет грозно-стихийным, мы должны прилагать все усилия, чтобы вложить в него разум, план, организующее начало. В борьбе с движением правительство очутится в безвоздушном пространстве, ему не на кого и не на что будет опереться, и вся надежда и все спасение будет в сплочении существующих политических партий и общественных организаций. Нравственный кредит правительства равен нулю. В последний момент, охваченное ужасом, оно, конечно, ухватится за нас. И тогда нашей задачей будет не добивать правительство, что значило бы поддерживать анархию, а влить в него совершенно новое содержание, то есть прочно обосновать правовой конституционный строй. Вот почему в борьбе с правительством, несмотря на все, необходимо чувство меры. Народная мысль и без того имеет опасный уклон в сторону анархизма, отрицания всякой власти. Война же потребовала во имя государственной идеи от массы страшных, невероятных, жертв, которые неизбежно в темных, неуравновешенных умах подорвали самую государственную идею. Это явление необходимо предусмотреть и заранее определить свое отношение к нему, чтобы не смешивать с явлениями действительной политической революции, которая, вероятней всего, придет, наступит… А в общем —
И мглою бед неотразимых Грядущий день заволокло, —вспомнился мне, господа, как и Михаил Иванычу, другой поэт — Владимир Соловьев. Будем помнить об этом и будем надеяться, однако, на лучшие времена.
Разговор на эту тему продолжался еще долго. И в розовой с «людовиками», и в зеленой гостиной, украшенной шелковыми панно со сценами на них из мифологии, и в соседней комнате — карабаевском кабинете, куда забрел, прельстившись обществом молодежи, Терещенко, и откуда вышел малоразговорчивый, искавший, как всегда, уединения компаньон Карабаева по донецкой шахте и лесным угодьям — Арий Савельевич Броня.
— Кажется, большой день получился: так много интересных речей… — подошла к нему Татьяна Аристарховна. — Скоро будем обедать, не глядите букой.
Она была в черном глухом платье из панбархата с длинным шлейфом. Оно худило ее и делало выше ростом. Да и прическу с сегодняшнего дня Татьяна Аристарховна переменила, последовала, наконец, за общей модой, на что раньше не решалась: круглую, на валиках прическу заменил гладкой, с пробором посередине, как у сестер милосердия, а концы волос завила крупными кольцами, скрепленными на затылке большим черепаховым гребнем, утыканным бриллиантиками чистейшего сверкания. Прическа была ей к лицу и очень молодила.
— Вы сумасшедше-красивы! — пробормотал, давясь словами, Бронн. — У него такое счастье в руках… — не называл он Георгия Павловича по имени. — Вы такая строгая сегодня и красивая… Боже мой, что мне делать?!
— Правда? Любуйтесь, Арий Савельевич, если это доставляет вам удовольствие, — мягко сказала она и хотела уже отойти, но он, прикоснувшись к ее руке, умолял остаться на месте.
— Я уеду. Я это твёрдо решил. Когда коммерсант теряет сердце — этого даже самый лучший поэт не в силах выразить в стихах. Иначе я заплатил бы тысячи, чтобы он написал поэму о моей любви. Вам кажется все интересным сегодня, а я слушаю все разговоры тут, но ничего не слышу: я не перестаю о вас думать — вы это хорошо знаете.
Она знала, что уже давно Бронн влюблен в нее. Конечно — безнадежно, иначе и не могло быть.
Но как-то случилось так, что, сразу не сказав о том мужу, она и впоследствии ничего ему не говорила, и между ней и Бронном возникла тайна, которая не всегда была ей неприятна. Сегодня — в особенности, потому что Татьяне Аристарховне хотелось, чтобы заметили ее новое платье и прическу, чтобы отметили ее красоту, а это первым сделал Бронн, если не считать девочек. Но Катя, Ирина, Лиза — это все свои, а вот он… он всегда внимателен, предан, — брал бы пример с него Жоржа! Или Жоржа так увлекся сегодня политикой с Терещенко, что ничего не замечает?
Она с благодарностью посмотрела на Бронна.
— Старый вы холостяк… жениться бы вам, сколько раз я говорила!
У него были совсем коротко острижены усы, они, как черноседой грим, растянулись во всю губу. По углам ее зажимали криво прорезанные годами крупные собачьи морщины, спускавшиеся на выбритый, но всегда отливавший синевой квадратный подбородок.
Черные, с поволокой глаза — жестокие и печальные — прятались в мешочках припухших век. Ослепительно белая, с напухшими венами, женственная рука никогда почти не расставалась с заморской сигарой, которую посасывал, превращая до конца в нераспадающийся пепел.
— Пойдемте со мной, Арий Савельевич.
Он поплелся за ней из одной гостиной в другую и снова попал в карабаевский кабинет.
То, что там происходило, несколько вывело его из состояния обычной апатии, а через несколько минут и совсем заинтересовало.
Очевидно, он, пришел к середине какого-то странного спора. Но по какому поводу?
На стене был приколот кнопками большой развернутый лист бумаги, перед которым стояла вооруженная карандашами группа карабаевских гостей, в том числе и Терещенко, и знакомая Бронну домашняя молодежь.
— Попробуйте, попробуйте! — командовала всем тут племянница Георгия Павловича. — Даю вам сколько угодно времени. — Он придвинулся и с недоумением посмотрел на приколотый лист бумаги, привлекший общее внимание. На листе были нанесены тушью девять жирных точек в таком порядке:
— В чем же дело? — невольно улыбаясь, спросил он.
— A-а, пожалуйста, пожалуйста! — потянула его за рукав, как старого знакомого, Лиза Карабаева. — Ириша такую загадку задала, что никто не может разрешить. Ни вот тот… — с шаловливой гримасой указала она пальцем в спину Терещенко, — ни Иван Митрофанович. Никто, никто! Арий Савельевич, вы умница… попробуйте!
— В чем же дело? — повторил он свой вопрос и оглянулся на хозяйку дома, но Татьяна Аристарховна с удивлением пожала плечами.
— Лиза, объясни.
— Это такая загадка, мамочка… Ириша тут поспорила вот с этим (она все с той же ужимкой показала на спину Терещенко)… сначала она с ним состязалась в стихах Блока: кто больше знает, потом они, мамочка, поспорили… что-то не помню, насчет не знаю какой революции будто бы… потом; Ириша возьми и загадай ему загадку…
— Вы что-нибудь поняли, Арий Савельевич? Я — ничего? Но в чем же дело все-таки? — требовала объяснений от дочери Татьяна Аристарховна. — В чем именно эта загадка?
— А вот, мамочка… Ириша ее вспомнила, Федя. Калмыков ей во время экзаменов в Смирихинске загадывал… Понимаешь, мамочка, — видишь эти точки? Да? Ну, вот надо, понимаешь, соединить их четырьмя прямыми линиями, не отнимая карандаша от бумаги. Не отнимая, Арий Савельевич! Вы так пальцем по воздуху не проводите! Уж так, как вы, пробовали, вот тот самый (опять в сторону Терещенко), да ничего не выходит, ей-богу!
— А о чем они спорили?
— Кто, мамочка?
— Ириша и Михал Иванович.
— A-а… О политике, мамочка.
— А точней ты не можешь сказать?
— Нет, это неинтересно, мамочка, а вот загадка…
— Ну и девочка!
Татьяна Аристарховна подошла к гостю-миллионеру.
— Вы, погляжу я, так увлеклись Иришиной шарадой, что совсем покинули гостиную.
— Да, представьте себе! — поклонился он хозяйке дома. — Принимая во внимание наш спор с Ириной Львовной, в которой я обнаружил незаурядного агитатора, особенно хочется разрешить самому эту любопытную загадку. Ирина Львовна вложила в нее какой-то аллегорический, сказал бы я, смысл. Философский даже. Ведь правда, Ирина Львовна?
— Если вам угодно, — раскраснелось Иришино лицо. — Я кстати вспомнила это. Я ведь не такой образованный оратор, как вы, и совсем неискушенный агитатор, а вот эта задача приходит мне на помощь, чтобы доказать всем вам…
— Что доказать, Иришенька? — не переставала улыбаться тетка.
— Что без революции невозможно уже теперь разрешить ни один вопрос. Какой бы перед людьми ни стоял, тетя Таня! — с неожиданной запальчивостью сказала Ириша.
— Вот как? — удивленно, но беззлобно пожала затянутыми в бархат круглыми плечами Татьяна Аристарховна. — В самом деле? А разве папа твой тоже так считает? (Этот довод казался ей неопровержимым.) Имея такого папу, следует, Ириша, к нему прислушиваться и целиком полагаться на его мнение. Не правда ли, Михал Иванович?
— Никто не может быть великим человеком для окружающих его домочадцев, и Лев Павлович также… — дипломатично сощурил он по привычке глаза. — Или — как говорят французы: il n'y a pas de heros pour son valet de chambre…[27] Ho Ирина Львовна имеет свое мнение, и я ему не так уж враждебен в конце концов. Каждое понятие может иметь свое различное толкование.
— Ага, вы отступаете! — воскликнула Ириша.
— В разрешении вашей каверзной задачи — да. Как я ни соединяю эти точки — всегда остается одна незатронутой. А иногда даже две! Я отступаю, Ирина Львовна, и жажду узнать, наконец, это дело.
— Я тоже! — в один голос сказали Арий Савельевич и Теплухин, не на шутку увлеченные неподатливыми девятью точками.
— Ну, приготовьтесь… Вы увидите, как все это просто! — с таинственным видом подошла Ириша к стене, на которой был приколот белый лист бумаги.
Все расступились. Она взяла со стола длинный красный карандаш и стала объяснять.
— Дело в том, что вы все допускаете одну и ту же ошибку. Психологическую, сказала бы я… Проведите, как вы уже делали, карандашом со всех четырех сторон по крайним точкам, — что получается?
— А в середине одна не будет задета!
— Конечно. Но вот посмотрите на образовавшийся рисунок.
Она начертила его:
— Получается прямоугольник, замкнутая геометрическая фигура, — правда ведь? Вы даже пытались вести первую из четырех линий по диагонали, — и все равно какая-нибудь из боковых точек не будет задета. Значит — решение не найдено.
— Так в чем же суть? — нетерпеливо спросила Татьяна Аристарховна. — Господа, мы скоро пойдем к столу…
— Одну минутку, тетя Таня!.. Вы и не найдете никогда решения в пределах этой замкнутой фигуры. А вы все ищете его именно здесь — и потому ошибаетесь! Вы прикованы к этим очертаниям, вы… психологические рабы их!.. Рабы!
— Ирина! — остановила ее Татьяна Аристарховна, как будто оскорбленная этим неуместным словом «рабы».
— Нет, отчего же? — поняв ее замечание, добродушно улыбнулся Терещенко. — Это довольно правильно в данном случае.
— А вот смотрите! — быстро провела карандашом Ириша. — Вот что нужно сделать, — видали? Ведите с первой точки вверх!
— Фу, ты, как просто, господа!
— Действительно… верно.
— Своего рода колумбово яйцо!
— Надо выйти за пределы замкнутой фигуры, рвануться выше ее обычных очертаний, и все то, что казалось невозможным, будет разрешено, Михаил Иванович. Теперь вы понимаете, к чему я клонила в нашем разговоре? — разгорячившись, спрашивала Ириша.
— Да, да, Ирина Львовна.
— В пределах этого прямоугольника, замкнутой фигуры жизни, лежат все те вопросы, о которых мы с вами говорили. Этот прямоугольник — как тюремная решетка: пока ее не разломаешь — не будет свободного разрешения всего того, что волнует людей в нашей стране. Вот что я хотела сказать… Тут тебе и политика, кто ею занимается против нашего режима бесправия! Тут вам и вопросы долга, сострадания к людям, гибнущим из-за войны, — разве я не права? В пределах наших условий не найти настоящего, справедливого решения!.. Вы рассказывали мне много интересного про вашего друга, Александра Блока. «Роза и крест» написана под вашим влиянием, вы говорите? Я очень люблю стихи Блока… Он говорил о своем поколении, а мы, современная молодежь, можем как-то и к себе самой отнести эти строки:
Рожденные в года глухие Пути не помнят своего. Мы — дети страшных лет России — Забыть не в силах ничего…Мы помним, Михаил Иванович!
Испепеляющие годы! Безумья ль в вас, надежды ль весть? От дней войны, от дней свободы — Кровавый отсвет в лицах есть.— Хорошо читаете, Ирина Львовна, — похвалил холодно меценат.
— Вопросы долга, патриотизма, дружбы, семьи, совести, любви… Да, семьи и любви, — вспомнив о себе и Ваулине, с особым подчеркиванием произнесла Ириша эти слова, — всего этого теперь не разрешить счастливо, без ненужных для человека страданий. Ведь каждый из нас столкнулся в жизни с каким-нибудь из этих вопросов! Надо вырваться за пределы привычных очертаний жизни, они давят всех, эту решетку надо разломать, и тогда придет для всех великолепная свобода… Вот вам моя задача! — вдруг закончила она, смутившись отчего-то, и крупным размашистым почерком написала быстро-быстро слово
ЗА-ДА-ЧА
на исчерканном, приколотом к стене листе бумаги.
— Я всегда вам говорил, — идя рядом с хозяйкой к обеду, бормотал ей грустный Арий Савельевич. — Жизнь наша — точка и еще менее. Надо спросить, — усмехнулся он, — у Дениса Петровича, кто первый это изрек: Арий Бронн или Сенека?
После обеда горничная подала Ирише только что полученное письмо.
Она сразу же признала Федин почерк, но штемпель на конверте — «Снетин», да и сам конверт — розовый, дамский, с выдавленной на нем монограммой «ЛГ» с переплетенными буквами — несколько ее удивил.
Еще больше удивил ее текст Фединого письма. Оно было довольно сумбурно:
«Задержан в пути жизни счастьем. (Это слово было написано все прописными буквами.) Поэтому, вернусь к киевским будням не раньше, чем через неделю. Это будет разлука с тем, чем дышу теперь. Говорят, разлука уменьшает малые страсти и усиливает большие, как ветер задувает свечи и раздувает пламя. Никаких свечей, ибо я объят целым пожарищем!
Напиши все-таки, кто такой Н. Ш. Сергеев, — интересно. Увидишь Ивана Митрофановича — скажи ему, что тот человек, по фамилии Кандуша, которого он видел у дяди на станции, — подлец, шпик, и он хранит письмо одно, адресованное Ивану Митрофановичу. Это целая история, когда-нибудь расскажу.
Обнимаю (конечно — только дружески!). Зачем ты в Киеве, — а? Тут снег до самых окон, но он стережет счастье!
Ф. Калмыков».В этом письме было много непонятно Ирише, но больше всего ее озадачило упоминание Кандуши и притом в таком странном и неприятном сочетании.
«Какой Кандуша?.. Неужели тот самый заводский табельщик, который иногда заходит к ним в дом, ведет себя очень скромно, ходит с Юркой на рыбную ловлю? Почему он подлец и шпик? — Глупости! — прервала она свои мысли. — Почему? Это неважно, а вот если он действительно из охранки… ужас какой! А мама с ним так любезна: землячок, землячок… Вот тебе и землячок!»
Не задумываясь пока над всем остальным, что было в письме, она пошла разыскивать Теплухина, надеясь у него получить дополнительные сведения о Пантелеймоне Кандуше.
В зеленой, «мифологической» гостиной за двумя ломберными столами царствовали карты. В центре одного стола сидел дядя Жоржа, в центре другого — посасывающий только что обрезанную пахучую сигару Арий Савельевич. (Терещенко уже уехал.)
Обычно малоразговорчивый, апатичный, Бронн, раздавая небрежно скользкие атласные карты, цедил теперь сквозь зубы больше слов, чем Ириша слышала из его уст за весь этот день.
— Это то сражение, которое я, к сожалению, всегда выигрываю. И всегда банк, всегда банк..
«Где он?» — искала глазами Ириша Теплухина.
— Девять… вот видите? Не точек, а очков! — слабо усмехнулся Бронн, заметив Иришу и покосившись в ее сторону. — Когда я был в Германии, один немец — такой, знаете ли, король среди крупье — рассказывал мне. Кант, знаете, и Гегель, несмотря, что философы, — а? — любили, оказывается, играть в карты… Но виноват, мадам: девять опять!.. Да, так что я говорил? Ага. Моцарт был страстный охотник до биллиардной игры, — все-таки игра, господа! Лессинг любил лото и фараон, а знаменитый Шиллер — так тот прямо говорил, что, по его мнению, человек только тогда вполне человек, когда играет. Это мне все рассказывал мюнхенский крупье. Господа, я не шулер, но у меня опять девятка!..
За столом Карабаева помощник присяжного поверенного с вытянутыми, как для свиста, губами говорил соседу, известному в городе доктору-общественнику:
— Вот пошла — замечаете? — молодежь… Максималисты, а не молодежь! Взять хотя бы сегодняшний случай. (Ириша поняла, что идет речь, очевидно, о ней, и потому прислушалась.) Судят о том, о чем не имеют права. Я помню, мы в свое время занимались театром и литературными процессами, — это так развивало наш ум! Нет, нет, Георгий Павлович, я пропущу на сей раз: предчувствие — не повезет! Да… судили, говорю, по всем правилам устава уголовного судопроизводства. Алеко — из «Цыган», Карла и Франца Моора — из «Разбойников», графа Старшенского, помню, из гауптмановской «Эльги», Хлестакова, Раскольникова, конечно… А теперь?
Ириша вышла из гостиной и обошла всю квартиру, но Теплухина нигде не было. Не искать же его в кухне?
Но оказалось, как сообщила повстречавшаяся горничная, что именно там; верней — в людской, рядом расположенной, он и находится сейчас.
Минут пять назад пришел по черному ходу какой-то скромно одетый человек, по виду — схожий с мастеровым, и спросил Ивана Митрофановича. Он был так настойчив в своей просьбе, что пришлось вызвать Ивана Митрофановича, и вот они сейчас беседуют о чем-то в людской. А сама она, горничная, идет к вешалке за теплухинской шубой и шапкой, потому что послал Теплухин, намеревающийся, невидимому, уходить.
Можно было, конечно, отложить разговор с Теплухиным, но Ирина рассудила иначе.
Иван Митрофанович мог ждать кого угодно, но не Кандушу.
Пантелейка стоял, чуть согнувшись, у неостывшей плиты и попеременно грел руки, прикладывая их к теплому белому кафелю. Повар Михей и его дородная помощница, сидя за столом у окна, заканчивали в безмолвии свой поздний обед. Шипела в судках на плите вода для мытья посуды.
Кандуша сразу и не заметил перешагнувшего порог Ивана Митрофановича.
— Ох, ты… а я и не слышал, гос-споди боже мой!
— Гм, не слышал? У прогневанных богов шерсть на ногах! — враждебно усмехнулся Иван Митрофанович. (Час назад, за обедом, он слышал это изречение в устах впалолобого адвоката и теперь повторил его — как будто кстати.)
Но Кандуша его не уразумел. Ему даже показалось, что Теплухин «под мухой» и потому говорит так непонятно.
— Здравствуйте, Иван Митрофанович.
— Ну, здравствуй. Откуда ты?
— Из провинции, как вам известно. Сегодня только, Проездом, конечно.
— А зачем пожаловал?
— По делу-с!!
— Мне сейчас некогда.
— И мне тоже, осмелюсь заметить! — с обеспокоившей дерзостью сказал Пантелейка.
— По какому это опять делу?
Кандуша, скосил глаза в сторону невольно прислушивавшихся повара и его помощницы. Увидев Теплухина, она, оробев почему-то, встала и так — стоя — продолжала еду.
Иван Митрофанович оглянулся и жестом пригласил Пантел ейку в людскую.
— Говори.
— Сюртук хорош больно… — с, искренним любопытством рассматривал его Кандуша. — Опять же галстук — шелк! Богаты стали, вижу… Денежки — что голуби, пипль-попль! Где обживутся, там и ведутся, позволю заметить.
— А ты к делу переходи, — уже мягче прежнего сказал Иван Митрофанович. — Ты-то сам… деньги в банке уже получил? Или как распорядился?
— Об этом и речь, Иван Митрофанович.
— А что такое?
— Сегодня, по прибытии, сразу в банк зашел.
— Ну, и что же?
— Обидели вы меня! — выпалил вдруг Кандуша, метнув исподлобья колючий взгляд.
— Чем? — удивился Теплухин.
— Сами знаете, Иван Митрофанович… Не можете не знать. Совесть надо — вот что! Вот гляжу я на вас — крупная, позволю сказать, птица стали. Со средствами, видно. А разве большие птицы зернышками пробавляются? На махонькое зернышко клюв открывают, — как скажете?
— Ну, ты… птичник нашелся! Чем я тебя обидел?
— А как же? В банк захожу, там поглядели-поглядели чек ваш и — пожалуйста! Все, говорят, будет правильно, и деньги вы, господин хороший, получить сможете, только тот, кто выдал вам чек, формальность одну не выполнил. Сам же, говорят, ее назначил нам, а не выполнил. Какую такую формальность? — спрашиваю. А это, говорят, мы сказать не вправе: а может, вы, прощения просим, жулик и все такое подделать можете?
— Ха-ха-ха! — расхохотался Иван Митрофанович.
— Чего вы? — оторопел Кандуша.
— Понимаю, все понимаю! Ты прости меня: я, наверно, забыл особый гриф… секретная такая отметка моя… забыл я её поставить. А ты думал, что я тебя надул? Расписку взял — и надул? Ай-ай-ай, сударь мой!
Он кликнул из кухни горничную и велел ей принести шубу.
— Спустимся во двор, я зайду в свою квартиру и мигом все тебе сделаю.
Он был рад, что все оказалось такими пустяками, а он было уже начал волноваться из-за неожиданного появления Пантелейки. Кандуша, — видел он, — тоже не скрывал своей радости.
— А теперь второе дело, — ухмыльнулся тот. — Думал: не расскажу, пипль-попль, если взаправду обидеть хотели. Но вот, благодарить позволю себе, по-иному вышло… Людмила Петровна-то на другой день после вашего отъезда заявилась-то ко мне в Ольшанку! — неожиданно сказал он.
— Да что ты?! — проткнул его своим рысьим взглядом Теплухин. — Наболтал, гляди?
— Гос-споди боже мой, за кого принимаете? Не увидала-с она меня. Как услыхал ее голос — скрылся у батькиного соседа.
— Пойдем, расскажешь все по дороге. Выходи, выходи, я — сейчас.
Он пропустил вперед себя Кандушу, направившегося к черной двери, а сам сделал несколько шагов навстречу поджидаемой горничной, посланной к вешалке. И — столкнулся на пороге кухни лицом к лицу с Иришей.
— Кандуша!.. — невольно воскликнула она, увидев на мгновение его лицо в тот момент, когда он закрывал за собой дверь на площадку.
Но он не слышал ее возгласа и спокойно исчез.
— Почему этот человек здесь? — схватила она за руку Теплухина. — Зачем он к вам приходил?
— Это сын нашего рабочего-кожевника из Ольшанки. Почему он вас так интересует? Вы что, — знаете его, Ирина Львовна?
— Знаю. Зачем он сюда приходил? — упрямо повторила свой вопрос Ириша.
Иван Митрофанович внутренне насторожился:
— Он просил за своего отца: обычное житейское дело.
— Вы с ним сейчас уходите?
— Да, на одну минуту. Оформить кое-что. А в чем дело, Ирина Львовна? — старался говорить он как можно веселей и непринужденней, влезая в шубу, принесенную подоспевшей горничной.
— Можно вас на одну минуту сюда? — увела его Ириша в коридор, где никто не мог их слышать. — Вы знаете этого человека, Иван Митрофанович?.. Давно? С таких пор?
— Да как сказать собственно?.. Знаю и не знаю. Ну, так же, как сотню других, которых видел в своей жизни случайно раз-другой, — уклончиво ответил Иван Митрофанович.
— Он шпик из охранки! — горячо, так, что выступила непрошенная слеза в глазу, сказала Ириша. — Остерегайтесь его.
— Вот так штука!
Она увидела побагровевшее во всю ширь теплухинское лицо, на котором, как нашлепка, смешно выделялся теперь уцелевший от краски смущения шафранный коротенький нос.
Иван Митрофанович втянул на секунду к зубам свои мясистые губы и тотчас же разжал их наигранной улыбкой искренно недоумевающего человека.
— Боже мой, а вы откуда знаете?
— Знаю, Иван Митрофанович!
— Удивительно, право! Во-первых, этот парень мне никак не страшен: я даже не помню, когда я его до сегодняшнего дня видел…
— Не помните?.. — теперь удивилась уже Ириша: она держала в памяти Федино сообщение, из которого могла вынести совсем другое заключение.
— Конечно, не помню, Ирина Львовна… А во-вторых, каким образом вы можете знать, что он шпик!
— Странно… не помните… — размышляла она вслух.
— Откуда все-таки? — допрашивал Теплухин.
Она, закрыв рукой первые строки, показала ему конец Фединого письма.
— Вот, Иван Митрофанович…
— Действительно странно… — стараясь не выдать своего волнения, хмуро и медленно произнес он. — Надо будет подробно расспросить Калмыкова.
— Обязательно, Иван Митрофанович! Как только приедет.
«Но почему он пишет, что вы Кандушу видели неделю назад, а вы Кандушу не помните?» — чуть было не спросила еще она, но, сама не зная почему, не задала этого вопроса сейчас.
Вероятно потому, что Иван Митрофанович в этот момент торопливо пожал ей руку и, надевая шапку, сказал:
— Спасибо, однако, за сообщение. Мы еще поговорим об этом… Любопытно, любопытно, Ирина Львовна!
И — удалился.
Случилось то, что не могло не случиться.
Ни она, ни Сергей долго не решались включить свет и нарушить столь же долгое молчание хотя бы одним словом, как будто после всего, что произошло, уже не могли существовать старые слова: должны были заново родиться какие-то другие, ни разу еще не сказанные.
Сквозь обледенелое оконное стекло падал искривленный лучик прильнувшего к нему света из дома на противоположной стороне. Он не рассеивал комнатной темноты и только серебрил носок Иришиного сапожка, всегда казавшийся ей отлакированным: до того чисто были натерты носки обуви суконной подкладкой галош.
Она смотрела на этот серебрящийся сапожок, одиноко стоящий у металлической ножки Фединой кровати, и, чувствуя свою стыдливую и счастливую в то же время улыбку на губах, думала, что первый раз в ее жизни башмаки у кровати стоят порознь.
Она хотела, чтобы Сергей увидел сейчас ее улыбку, — тогда, может бить, легко и просто придут к ним обоим новые и замечательные слова…
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ Убит Распутин
В прошлом — ноябре — месяце Государственный совет, палата русских сановных старцев — эта тугая, непроницаемая пробка для мало-мальски прогрессивных поползновений Думы — принял резолюцию 105 голосами против 23 о «темных силах», вредящих государству, и значительно меньшим большинством, но большинством немалым — о смене правительства.
В старом Великом Новгороде собрались дворяне и приняли обращение к царю: «Здесь, в Новгороде, где зародилась Великая Российская Держава, в тяжелую годину еще небывалых в истории Русской земли испытаний, должен раздаться твердый, нелицемерный голос первого сословия, предостерегающий Государя от того опасного пути, на который влекут его лукавые советники».
В Петербурге говорили, что это обращение написал небезызвестный литератор из «Нового времени» на квартире Родзянко.
«По всей Земле Русской, — свидетельствовали новгородцы, — от подножья Престола (намек на великих князей) до хижины бедняка, не смолкает трепет тревоги народной. Из уст в уста передают зловещее слово: «измена». И остается у народу одна надежда: правдивый голос его избранников, обращенный к мудрости и силе духа своего Государя. Но если, к величайшей скорби народной, Государственная дума и Государственный совет не будут услышаны и являющиеся врагами общественного блага правители, которым страна не верит, будут подкапываться под устои народного представительства, если светоч, озаряющий тернистые, кровавые пути к величию и счастью родины, будет затуманен, — настанет мрак разнузданных страстей и неудержимой злобы. И тогда — Престол, Россия и ее упования будут ввергнуты в пропасть, в глубине коей погибнут лучшие силы и надежды России, ее честь, ее целость, ее достоинство, ее мощь и слава».
В других словах, но с той же целью: спасти трон от народного возмездия — составлялись резолюции союза городов, земских собраний, военнопромышленных комитетов, и даже всероссийский съезд объединенного дворянства требовал от монарха создать новое правительство, «способное к совместной с законодательными учреждениями работе».
Депутация первого сословия не была принята императором, а собрания всех остальных организаций были прерваны появлением полицейских властей, посланных царским надежей — Протопоповым.
Начальник штаба Ставки генерал Алексеев о чем-то усиленно переписывался с ненавистным царской семье «бреттером» Гучковым.
Пуришкевич вышел со скандалом из думской фракции «правых» и разоблачал в великокняжеских салонах затаенные помыслы своих вчерашних соратников о сепаратном мире. (По этому поводу, одобряя поступок Пуришкевича, кое-кто не без ехидства отмечал, что как раз два месяца назад этот знаменитый депутат-крикун и помещик лишился своих бессарабских имений, захваченных немцами.)
В Ставке в разгар военных операций царь скучал: играл в домино, раскладывал пасьянс — любимую «корзиночку» — и каждый вечер на сон грядущий читал по главе из английского романа, присланного Александрой, этой злополучной Марией Антуанеттой русского двора!
Письма от нее шли каждый день.
Они неизменно, как правило, начинались с описания царскосельской погоды или какого-нибудь пейзажа, затем следовало изложение весьма частых бесед «тоскующей женки» с особо приближенными министрами и «нашим другом» (Распутиным) — настойчивая просьба сделать все так, как они советуют, и не раз повторялся теперь вопрос, долго ли задержится на своем месте обезьяна Трепов, который на подозрении у «святого отца».
Еще большая ненависть была к «Длинному» — великому князю Николаю Николаевичу, отосланному на турецкий фронт.
«Надеюсь, что неправда, будто Николаша приедет сюда вскоре. Наш фронт здесь не имеет ничего общего с Кавказом. Не пускай его, злого гения. Он еще станет вмешиваться в дела. Будь, мое счастье, Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом, сокруши их всех. Будь тверд, покажи властную руку, вот что надо русским. Дай им почувствовать порой свой кулак. Они сами просят этого. Сколь многие недавно говорили мне: «Нам нужен кнут. Это странно, но такова русская натура».
«Я сильна, — писала Алис, — не скрывай от меня ничего, но слушайся меня, то есть нашего Друга, и верь нам во всем.
Я страдаю за тебя, как за нежного мягкосердечного ребенка, которому нужно руководство, а он слушает дурных советчиков, в то время как Божий человек говорит ему, что надо делать. Вся моя вера лежит в нашем Друге, под его руководством мы пройдем через это тяжелое время. Это будет трудный путь, но Божий человек близок к тебе, чтобы охранять тебя и безопасно провести твою ладью мимо рифов. Если бы у нас не было его, все бы уже давно было кончено, я в этом совершенно убеждена».
Из Ставки в Петербург, в думские круги, пошли слухи о скором премьерстве Протопопова, — государь еще не называл его имени, но писал в Царское о калифе на час, Трепове, так:
«Противно иметь дело с человеком, которого не любишь и которому не доверяешь. Но раньше всего надо найти ему преемника, а потом вытолкать его после того, как он сделает грязную работу, я подразумеваю — дать ему отставку, когда он закроет Думу. Пусть вся ответственность, все затруднения падут на его плечи, а не на плечи того, кто займет его место».
Быстрыми шагами шел к власти и другой человек — «Ванька-каин» прозванный: Щегловитов — жестокий, высокий, холодный старик с розовыми щеками, всегда державший на ночном столике превозносимый им роман «Бесы».
Столичные журналисты за суетливой чашкой в кафе на Невском устраивали каждодневно политический тотализатор: «ставили» и на него и на Протопопова в премьеры.
Как сенсацию передавали, что во время приема царицей на днях великого князя Александра Михайловича, просившего от имени всей августейшей родни не вмешиваться в государственные дела, в соседней комнате дежурил рослый адъютант на тот подозреваемый случай, если бы понадобилось кинуться на помощь государыне.
Слух о возможности дворцового переворота вышел на широкую российскую улицу и безбоязненно бродил по ее истомленным пространствам.
Чего-то ждали все, но чего точно и когда оно должно произойти, — никто не мог сказать.
И вдруг в Петербурге раздался выстрел, эхо которого услышала вся Россия.
Восемнадцатого декабря рано утром генерал-майора Глобусова разбудил звонок телефона, который на ночь всегда переносим был Александром Филипповичем к изголовью кровати.
Он знал, что позвонят, и потому без какого-либо неудовольствия потревоженного в неурочный час человека снял трубку и выслушал донесение одного из своих помощников.
— Так, так… Один бежал… жаль, жаль. Ну, ничего… И на квартирах застукали? Так, так… Нет, нет, упаси бог! Ни на минуту. Держать отдельно. Поздравляю вас. Мерси… — закончил генерал-майор разговор и снова натянул до самого горла шелковое одеяло на гагачьем пуху.
Все обстояло так благополучно, ночная операция прошла с таким успехом, что сон, прерванный на минуту, мог легко продолжаться: генерал-майор вернулся во владения Морфея.
Но мифологическому божеству не удалось, однако, сохранить в своих объятиях начальника столичной охранки. Вскоре раздался второй звонок, в ответ на который Александр Филиппович чертыхнулся:
— Ну, что там еще?
«Фу-ты, по какому поведу в такую рань?»
Голос фон Нандельштедта, прокурора Петроградского окружного суда, обычно скупой и медлительный, забрасывал теперь телефонную трубку ворохом торопливых и отнюдь не степенных слов. О сне уже и не приходилось помышлять…
Прокурор суда удивлялся, как это генерал-майору еще ничего не известно — в то время как его шеф, Протопопов, оборвал уже все звонки. Фон Нандельштедт сообщил, что в эту ночь убит, по всей видимости, Распутин и что убийство, кажется, произошло во дворце князя Юсупова на Мойке, у Поцелуева моста.
— Господи, в том же районе! — неизвестно о чем подумал сейчас вслух Александр Филиппович.
— Что? — спросил прокурор и, не получив ответа, продолжал свой взволнованный рассказ: — На рассвете домашние Распутина звонком по телефону сообщили хорошо знакомому им министру внутренних дел, еще только вчера посетившему на квартире Григория Ефимовича, что последний исчез, и они тревожатся.
По показаниям дворника и городового, около часу ночи военный автомобиль остановился у дома номер шестьдесят два по Гороховой. В автомобиле было двое господ и шофер. Один из господ вошел в дом и вскоре возвратился в сопровождении Распутина. Они сели в автомобиль и уехали по направлению к Адмиралтейству. Горничная Распутина рассказывает, что он сам, как будто ожидая кого, открыл приехавшему дверь и сказал: «А, маленький, входи, здравствуй».
— Маленький? Таково прозвище молодого князя Юсупова у распутинцев. Это он был! — уверенно сказал в трубку Глобусов.
— Но вот, — продолжал информировать его прокурор, — вестником гибели Распутина стал только что допрошенный городовой Власюк. Он стоял ночью на посту в одном из переулков, недалеко от того места набережной, где находится юсуповский дворец, как вдруг с Мойки послышались два выстрела, один за другим. Власюк пошел в ту сторону, откуда они раздались, и вышел к реке, против реформатской церкви. Стоявший у церкви, на другом берегу, постовой сказал Власюку, что стреляли у дома Юсупова.
— Дальше, дальше… я слушаю.
Александр Филиппович живо, до детали, представил себе местность, о которой шла речь сейчас:
«Дворец князя расположен на самой набережной, а рядом с ним двор соседа с решеткой… да, да. С решеткой вместо обычного забора. На этот двор выходит, насколько помню, особая дверь из княжеского кабинета. Ее сделали, вероятно, с более мирными и интимными целями, чем те, — подумал он, — для которых она была, как он говорит (это о прокуроре), использована сегодня ночью…»
— Итак, Власюк, приблизившись к дворцу, увидал за решеткой свет фонаря и тени людей. Войдя во двор, он узнал в двух бывших там человеческих фигурах молодого князя Юсупова, породнившегося недавно, кстати сказать, с царствующим домом, и старого княжеского дворецкого. Князь встретил исполнительного блюстителя благочиния и безопасности неприветливо и заявил, что полицейскому здесь делать нечего: просто великий князь Дмитрий Павлович, уезжая к себе домой, убил собаку.
Петербург — хорошая школа для городовых: они отлично знают, как и с кем нужно себя держать. Власюк сделал под козырек и немедленно отправился обратно на свой пост. Тем бы дело на эту ночь и кончилось, но несколько минут спустя к Власюку подошел дворецкий и позвал его к князю.
Власюка впустили в кабинет через боковую дверь со двора. За столом стоял князь Юсупов, а сбоку стола сидел неизвестный городовому господин в пенсне, бывший, как сейчас же распознал опытный глаз столичного полицейского, в форме гражданского чиновника военного ведомства — с погонами действительного статского советника. Заметил Власюк, что этот человек был в состоянии значительного опьянения.
Юсупов молчал, а говорил незнакомец. Разговор был недолог, но выразителен.
Власюк передавал его приблизительно так:
«— Знаешь меня?
— Никак нет, ваше превосходительство.
— Я член Государственной думы Пуришкевич. Слышал о таком?
— Так точно, ваше превосходительство!»
Затем последовали короткие вопросы: знает ли городовой, кто такой Распутин, любит ли городовой родину и чтит ли царя? Власюк дал на них утвердительные ответы. Тогда назвавшийся Пуришкевич встал и сказал:
«Так знай же, православный Иван, что этой ночью Распутина не стало. Теперь ступай на свое место и забудь, что я тебе сказал. Понятно? Если любишь царя и родину, то должен об этом молчать».
Власюк опять отправился на свой пост. Ретивый служака, он был смущен приказанием Пуришкевича: как же молчать, если случилось такое исключительное происшествие?..
— Ну, что вы скажете, Федор Федорович, — спросил своего друга под конец беседы генерал-майор Глобусов.
— Что я скажу? Теперь, когда я все вам изложил, я уже не сомневаюсь, что он убит и кто убийцы.
— Нет, я не об этом! — зная, что его не видят, высунул язык Александр Филиппович. — Вообще что вы скажете?
В трубке наступило минутное молчание, потом с чересчур глубоким вздохом, внушавшим подозрения, голос прокурора протянул:
— Ах, из него можно понять, сколь бедное творение есть человек!..
— Да, да… А как, по-вашему, дальше будет, Федор Федорович?
— Я думаю, мой друг, о милости. Она, как учил философ, не причиной руководствуется, но смотрит на бедствие. Жду для них милости.
«Ох, дипломат!» — подумал о своем приятеле генерал-майор и на встречный вопрос: «А что он сам думает?» — ответил еще более туманно:
— А я вот вспомнил евангелистов, Федор Федорович… Иже бо аще хощет душу свою спасти, погубит ю. А иже погубит душу свою мене ради, сей спасет ю.
Нужно было перехитрить приятеля (в эту минуту даже самому большому другу доверять нечего: вспоминался всегда коварный Вячек) — и генерал-майор успешно перехитрил: фон Нандельштедт что-то гмыкнул в трубку, так и не поняв, очевидно, Александра Филипповича.
Генерал-майор Глобусов протянул руку к ночному столику и, взяв оттуда приготовленный еще с вечера стакан душистого боля, широкими глотками опорожнил его «для контенанса» — любил так выражаться. И подлинно: надо было запастись твердостью духа, идя навстречу наступающему дню.
Он сулил явные неприятности: разыскать Распутина было поручено министром другому генералу, а не Александру Филипповичу.
Жандармский генерал Попов распорядился осмотреть садик у юсуповского дворца. Нашли кровь на снегу у малого подъезда и убитую выстрелом в пасть собаку, которая смутила очень многих: «А может быть, собаку только и убили и Пуришкевич зря бахвалился?»
Кровь отправили на исследование в лабораторию господина Цвет на Бассейную, — стараясь возвратить себе милость Протопопова, генерал-майор первый подсказал это мероприятие. И кровь по исследовании оказалась человеческой!
Дождавшись результатов анализа на Бассейной, Александр Филиппович поспешил уведомить о том по телефону Протопопова; но не застал, его, и тогда позвонил министру юстиции Макарову. Низенький, лысый и желчный старичок с седыми лакейскими баками не вызывал приязни у Глобусова: свирепый и ограниченный бюрократ начинал иногда капризничать в совете министров и требовать у глобусовского шефа «ревизии» некоторых мероприятий охранки… Глупый старикашка!
Вот он и сейчас выразил свое недоумением.
— Сомневаюсь, генерал, сомневаюсь. Как же можно узнать, что кровь именно человеческая, а не вообще какого-нибудь молокопитающегося? — (Он, как и Штюрмер, имел обыкновение говорить «заливы» вместо «проливы», когда заходила речь о Дарданеллах.)
Макаров, как известно было Александру Филипповичу, не был, проходя чиновничью дорогу, ни следователем, ни товарищем прокурора, но прокурором суда состоял последовательно в, Ревеле, Нижнем и Москве и потому мог бы, казалось, знать о способе Уленгута, усовершенствованном Туфановым в Киеве. А вот, поди ж ты, какой невежда министр юстиции!..
Пришлось вкратце рассказать про этот способ исследования крови, и тогда вдруг генерал-майор услышал в телефон вырвавшееся из глубины души восклицание министра:
— Вот неприятно, что такой способ открыт!
«Может быть, он это применительно к данному случаю: потому что не любил Гришку? — подумал Глобусов. — Тогда изволит быть больше, чем откровенным… Ну, а если он это просто от обскурантизма, эдакий Скалозуб!»
Труп «старца» был обнаружен подо льдом Невы, у берегов Петровского острова. Протопопов исполнил последний долг перед своим всесильным покровителем. Всеми был получен его приказ:
— Обшарить все дно Невы и залива хотя бы до самого Кронштадта!
Такое приказание объяснялось тем, что убийцы не умели молчать, и по городу расползлись слухи, будто Распутина спустили ночью в какую-то прорубь.
— Кто нашел тело? — спросил Протопопов жандармского генерала Попова.
— Тайный сотрудник департамента полиции Пантелеймон Кандуша, ваше превосходительство, — поглядев в записную книжечку, ответил жандармский генерал.
— Позвать его ко мне… Представляю к особой награде! — распорядился министр.
«Губонинский человек, — вспомнил Кандушу присутствовавший в протопоповском кабинете Александр Филиппович. — Везет же Вячеку!».
На мосту между Петровским и Крестовским островами Кандуша увидел следы крови, а под мостом, у края значительной по размерам полыньи, лежала высокая галоша. Кандуша отправился берегом Петровского острова вниз по течению и в шагах ста от полыньи заметил подо льдом, с поверхности которого снег был сдунут ветром, какое-то большое черное пятно. Этим пятном оказался Распутин — в шубе и об одной галоше.
На извлеченном из воды «святом старце» была надета голубая шелковая рубашка с вышитыми золотыми колосьями. На шее у него висел нательный, большого размера крест, с надписью сзади: «Спаси и сохрани», а на руке оказался браслет из золота и платины с застежкой, на одной стороне которой изображен был двуглавый орел, а на другой — буква «Н» с римской цифрой «два».
В тот день почтамт доставил генерал-майору Глобусову копию вчерашней телеграммы, отправленной в Москву Пуришкевичем сдружившемуся с ним за последнее время кадетскому члену Думы Маклакову.
«Все кончено» — лаконична, но выразительна была телеграмма.
Верные люди генерал-майора не замедлили ему сообщить, что этот самый кадетский депутат знал о готовящемся убийстве, достал у знакомого аптекаря цианистый калий и передал его знаменитому бессарабскому депутату. Но яд оказался испорченным, — Распутин, как выяснилось, съел на пирушке в юсуповском дворце отравленный эклер, пожаловался на резь в животе, но не умер.
Все эти сведения Глобусов не замедлил передать своему шефу — министру. Но тот все еще был мало приветлив, закидывал голову назад, закатывал глаза к потолку и выкрикивал, все время выкрикивал, озадачивая Александра Филипповича:
— И у курицы сердце есть… да, да! Ах, как мне жаль китайцев, китайцев дорогих не знаете, генерал!.. Недостаточно, генерал, чтобы страх перед небом служил вам компасом… а?.. а?.. если совесть не управляет рулем. Что вы скажете? Не уберегли, не уберегли! У меня рука… рука, как у Столыпина, начинает сохнуть, иначе бы я сам, я сам…
Нет, в такие минуты не доложить ему о том важном деле, о котором пытался было заговорить со своим шефом генерал-майор! Пришлось отложить на время свое донесение.
«А ведь в том же районе, в том же районе… шесть домов пройти вбок!» — все еще удивлялся он причудливому совпадению некоторых обстоятельств, о которых также хотел сообщить министру.
Через два дня заехал на квартиру фон Нандельштедт.
— Я должен объясниться, — сказал он, не притрагиваясь к предложенной еде. — Я понял то, что вы мне сказали. Я нашел это у евангелиста Луки сказано: «Иже бо ище хощет душу свою спасти, погубит ю. А иже погубит душу свою мене ради, сей спасет ю». Обычно эти стихи синоптиков толкуют так, что произвольно слово «душа» заменяется словом «жизнь». Это нерравильно.
«В чем дело?» — Александр Филиппович с нескрываемым удивлением смотрел на своего старого приятеля.
Сухопарый, рыжеватый, с тонкими и прямолинейными, сходящимися без просвета над переносицей бровями, белогубый с угловатыми плечами — фон Нандельштедт сидел на стуле аршин проглотив и говорил голосом незнакомо-проникновенным:
— Я понял, что вы мне сказали. Вы оправдываете в душе убийц. Я — тоже! Не будем бояться доверить друг другу свои мысли. Я нашел еще много этих евангельских «ю». Помните?.. Любяй душу свою погубить ю и ненавидяй души своея в мире сем в живот вечный сохранить ю.
«Смеется, издевается…» — мелькнуло в голове генерал-майора.
Но прокурор был серьезен, очень серьезен:
— Я стал толковать эти слова Христа, ничего в них не изменяя, а тогда они могут значить следующее. Если для выполнения твоих обязанностей, признаваемых тобой высокими, тебе нет другого исхода, как взять на душу грех, — не дорожи своей душевной чистотой, как бы совершенна она ни была и какими бы усилиями ты ни достиг ее. Губи свою душу с полным сознанием всей тяжести принимаемого на себя греха, и тебя нравственные муки твои и то Добро, которое принесло твое самопожертвование, оправдают перед высшим судом!
— Прекрасно, прекрасно! — склонил напомаженную голову набок внимательный хозяин.
— Должен тут же дать необходимые объяснения, Александр Филиппович… Вопреки Льву Толстому я исповедую, что насилие невозбранно даже евангельским учением.
— Иначе вы не были бы прокурором, Федор Федорович.
— Совершенно верно. Мало того, — я смею утверждать, что евангелие обещает прощение за самое преступное насилие, если оно совершено во имя великой любви. То есть ради такой цели, которая вполне чужда личных выгод решившегося на преступление и окружена для него сиянием святости. Отправляясь от такого понимания евангельских предписаний, я бы, конечно, не мог удивиться, ощутив, что оправдываю убийц Распутина, если бы налицо были два совершенно необходимых, по мне, условия. Если бы я мог думать, что смерть Распутина неизбежна для спасения России, и если бы я удостоверился, что убийцы не дышат самоуверенностью и самодовольством, а в сознании своего греха идут навстречу ответственности. Но в том-то и дело, любезный мой друг, что ни одного из этих условий нет! Во-первых, разве только Распутин является виновником русских зол? Было бы болото, а черти найдутся! Во-вторых, убийцы до сих пор не явились с повинной, как бы, по мне, следовало сделать людям, принявшим на себя, хотя бы и ради великой цели, тяжкий грех. Они до сих пор таятся подобно заурядным преступникам… Все это как будто должно мешать мне оправдать убийство, а тем не менее я в душе не только на осуждаю преступников, но, да простит меня бог, положительно доволен тем, что негодяя убили! — закончил свою неожиданную исповедь прокурор.
И опять, вместо того чтобы ответить своими собственными словами, на что, естественно, надеялся его собеседник, Александр Филиппович вынул из кармана какие-то машинописные листки и улыбнулся:
— Хотите, я вам покажу по-приятельски анонимное творчество, которое сегодня, как мне донесли, пошло гулять по городу?.. Хотите?
Голосом нарочитым, гнусавя, как дьячок, генерал-майор стал считать:
— «Акафист Григорию Распутину… О, Григорие, новый угодниче сатаны, веры Христовой хулителю, русской земли разорителю, жен и дев осквернителю, — како воспоем и восхвалим тя! Радуйся, рассудка царева помрачение, радуйся Протопопова возвеличение, радуйся, Григорие, великий сквернотворче… Радуйся, таинственного жития взалкание, блудных страстей взыграние, радуйся, жен совратителю, радуйся, хлыстов насадителю… Радуйся, Григорие, России позорище!..»
— Слава богу, у нас нет разногласий! — повеселев, сказал задумчивый сухопарый прокурор, когда вместо опротивевшего голоса дьячка услышал, наконец, естественный голос генерал-майора.
«Если бы он только знал, кто это написал!..» — подумал после ухода прокурора Александр Филиппович и, — который раз сегодня! — присев на корточки, заглянул в камин: не сохранился ли там, упаси бог, случайно и предательски отлетев в сторону, клочок никому не известной генерал-майорской рукописи?..
Но нет, — огонь давно пожрал ее всю.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ Как набирали газету
Поздним вечером с 17 на 18 декабря из трактирчика на Фонарном вышли попарно несколько человек и неуверенной походкой подвыпивших людей, — однако держа себя вполне пристойно, не подавая о себе голоса, — направились к Мойке.
Уже отойдя на приличное расстояние от трактирчика, они, как по уговору, утратили свою покачивающуюся походку и ускорили шаги, которые должны были разогреть их хоть немного, так как мороз был лют, а верхнее платье наших пешеходов служило малой защитой от него.
И также, не соединяясь друг с другом, все восемь человек вошли в разное время в ворота одного из домов на набережной, прошли под аркой во второй двор и там, поднявшись несколько ступенек вверх, остановились у единственной на площадке двери с облупленной вывеской, извещавшей, что здесь типографское заведение господина Альтшуллера.
Невысоконький, с лихорадочно постреливающими глазками, с мигающими часто ресницами, поседевшими теперь от мороза, успел раньше другого протянуть руку к звонку и потянуть вниз его деревянную рукоятку.
— Зачем так сильно, Ваня? Испугаешь еще… — ворчливым шепотом сказал один из компании.
Он вытащил из кармана револьвер. То же самое сделал и другой спутник.
— Кто там? Какой леший? — раздался за дверью глухой стариковский голос.
— Открой, пожалуйста, Егор Силыч.
— Кто это?
— Это я, Вася Курдюмов, из наборной…
— Чего тебе? — хрипел голос сторожа, и застрекотал ключ в замке.
— Покупочку, понимаешь, забыл нынче. Женка заругает, питания ожидает.
Сторож, покряхтывая, открыл дверь, — на него наставлены были дула револьверов.
Он даже не сообразил сразу, что произошло, и без испуга, но с видом осоловелым продолжал держаться рукой за косяк двери. Его связали, отобрали ключи и оставили в прихожей какого-то неизвестного ему человека, который все приговаривал, успокаивая:
— Тихо, дед, тихо. Ничего тебе не будет. Тихо, дед.
В наборной работало пятеро. Они собирались уйти через полчаса, закончив срочный заказ, врученный им после обеда хозяином.
— Руки вверх, товарищи! — приказали в два голоса какой-то высокий, бритый, с седеющими височками, и другой — с рыжеватой бородкой клинышком.
Но все пятеро не столько удивились этим двум вооруженным незнакомцам, назвавшим их «товарищами» в столь необычной обстановке, сколько тому, что рядом с ними они увидели Ваську Курдюмова!
— Васька!.. С чего бы это? — не сдержался пожилой наборщик — угристый, с набрякшим носом, с алкогольной слезой в глазу. — Что тут, Васька, грабить?
— Шпации! — хмуро сострил тот, скручивая за спину и связывая руки товарищу по работе.
— Показывайте, где что, Яша! Быстро! — подошел к нему и шепнул на ухо Сергей Ваулин. — В нашем распоряжении не больше пяти часов.
И он вынул из всех карманов листки заготовленных рукописей.
Решение о вооруженном захвате какой-либо типографии для выпуска номера газеты ПК было принято не сразу. А когда и было принято — то отнюдь не единодушно.
К предложению Сергея Леонидовича одни отнеслись недоверчиво, мало надеясь на реальность такого чрезвычайного мероприятия. Другие, иной раз и прежде колебавшиеся при разрешении вопросов подпольной большевистской тактики, высказывались принципиально отрицательно о таком проекте. Третьи, не возражая против него, настаивали, однако, на том, чтобы отложить осуществление рискованного дела, покуда оно окончательно не будет подготовлено во всех мелочах.
Но все сходились в одном — события назревали так быстро, что выпустить газету было необходимо.
Усталый и несколько изнервничавшийся после неоднократных выступлений в защиту проекта Сергей Леонидович тем не менее не оставлял своей идеи. И когда на последнем заседании исполнительной комиссии вновь стали обсуждать этот вопрос, он торжествующе мог уже сообщить, что люди для печатания газеты отобраны, что один из товарищей — наборщик Яша Бендер — работает, под другой фамилией, в небольшой типографии Альтшуллера, богатой сейчас бумагой, и что эту типографию можно захватить на одну ночь для целей ПК.
Каждый, даже тот, кто противится этим планам, пусть представит себе, какое впечатление должна будет произвести их газета — настоящая четырехстраничная газета! — какое это будет доказательство силы ПК, которого охранка считает уже почти несуществующим. Как обнадежит неожиданный выход газеты людей на заводах, в мастерских, — пусть товарищи поймут громадное политическое значение этого дела, — настаивал на своем Сергей Леонидович, — и пусть утвердят его как дело всей большевистской организации.
— Выгорит. Выйдет дело, — обнадеживал его в сторонке Лекарь.
— Вы думаете, Андрей Петрович?
— Сегодня — видите? — уже другое настроение. Аппетит пришел!
Плечико к плечику ложились свинцовые литеры. Пальцы подпольщиков, как коршуны, клевали гнезда наборной кассы, молниеносно вытаскивая оттуда на верстатку букву за буквой.
Заполнялись реалы. Опытные, умелые руки стягивали шпагатом свинцовые столбики, ставили их на доску.
Ваулин и Лекарь спускали набор на тискальный станок, — получились первые, жирные, расплывающиеся оттиски.
Потом Сергей Леонидович правил корректуру, Ваня-печатник вместе с Громовым готовил, налаживал в соседнем зале машину, перетаскивали оба сюда из кладовой бумагу.
Связанные альтшуллеровские рабочие, сидя на табуретках и разместившись на полу, бездействовали и с любопытством поглядывали на ночных «визитеров». Васька Курдюмов, которого вот тот, с седеющими височками, — главный, по всему видать, — называет почему-то «Яшей», продолжал больше всего занимать их:
— Ай да парень — жох!..
Вдруг он срывается с места, бежит к «главному», кричит:
— Товарищи, вон там берите шапку! Я ее еще позавчерась приготовил… Э, да я сам принесу!
Он убегает на минуту куда-то, приносит газетную «шапку». Мигом она на тискальном станке, и все, побросав работу, рассматривают газетный заголовок:
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
РОССИЙСКАЯ СОЦ.-ДЕМОКРАТ. РАБОЧАЯ ПАРТИЯ
ПРОЛЕТАРСКИЙ ГОЛОС
№______ Петроград, ______ декабрь 1916 г.
— Номер четвертый ставьте, число — восемнадцатое! — распоряжался Ваулин. — Айда по местам, товарищи.
Яша Бендер бежит с оттиском и набором «шапки» к своему месту.
— Васька, покажь! — просит один из связанных.
— Тебе покажи, дурню, — все равно не поумнеешь! — бросает на ходу Бендер. — Афишу такую — на все тумбы: царь тебя, чахоточного, министром жалует!..
— Ты, уважаемый, не бреши, — сами с усами!
— А ты, Костя, не слушай, если не веришь. Отмену войны печатаем… сюрпризом!
— Вот рыжий!.. Так завирается, что и дома не ночует!
— Что верно — то верно: не ночую! — ухмыльнулся Бендер, продолжая работу.
Задетый его локтем, оттиск «шапки» слетел на пол лицевой стороной вверх. Один из альтшуллеровских рабочих низко нагнулся над ним и вслух, чтобы слышали все остальные, прочитал заголовок.
— Ну, ты! — кинулся к нему Яша. — Завтра, гляди, к приставу побежишь!
В ответ все услышали вдруг громкую, сорвавшуюся с чьих-то горячих уст матерщинную брань.
— В чем дело? — прибежал из другого конца наборной Сергей Леонидович.
— Я ему, паршивцу, за пристава морду набью! — кивнул на Бендера альтшуллеровский рабочий. — Когда это Костя Прохоров легавым по участкам бегал?
— Кто это Прохоров? — непонимающими глазами смотрел Ваулин.
— Я — Прохоров, — сказал горделиво большеголовый и большеротый, скуластый «пленник».
— Ну, и что, товарищ?
— А вот то!.. Вы говорите «товарищ», а он шпиком обзывает. Дело это, — как, по-вашему?
Через минуту-другую с помощью Ваулина наступило примирение. Но тот, кто звался Прохоровым, уже не отпускал от себя Сергея Леонидовича.
— Послушайте, уважаемый… не знаю, конечно, как звать вас. Понимаем теперь, конечно, для чего в таком виде заявились.
— Да мы и не скрываем в общем… — усмехнулся Ваулин. — Зачем нам перед рабочими скрывать? Мы вам тут несколько газет оставим, — пообещал он.
— Спасибочко! — отозвался кто-то из рабочих.
— Чего тут спасибочко? — огрызнулся в его сторону Прохоров. — Мамка кашей накормила!.. Уважаемый, если на то пошло, чего сидеть нам без дела? Развязывай — поможем! — сердито сказал он Ваулину.
— Тю-тю-тю… Еще Курдюмову морду будешь бить, — а? Опять вязать придется? — шутил Сергей Леонидович, а сам пытливо наблюдал за лицом «пленника».
— Да ну его, рыжую говядину! — сплюнул сквозь зубы тот. — Разве о том разговор, уважаемый?.. Поможем. Верно? — повернул он голову к своим. — Ведь дело какое, братцы!
— Дело собственное, — сказал тихо, задумчиво тощий рабочий и тут же скрипуче закашлялся.
— Развязывай, развязывай, уважаемый!
— Мы не хуже вашего Васьки, товарищ.
— Ходил он еще, работал — тихоня-тихоней, никакой тебе сознательной, значит, агитации промеж нас. А в компании вашей — ишь, забияка нашелся!
— Дома щи без круп, а в людях — шапка в рупь!
Угристый, с алкогольной слезой в выцветшем глазу пренебрежительно посмотрел на Бендера. Тот смущенно молчал.
— Вы его не ругайте, товарищи, — строго сказал Ваулин. — Кабы все были таковы… настоящий революционер.
— Все может быть, конечно… — примирительно ответил вдруг угристый и так же неожиданно подмигнул добродушно охаянному секунду назад товарищу.
«Развязать? — думал между тем Сергей Леонидович. — Лишних пять человек, удвоится скорость работы. Можем без них не поспеть, а с ними вылезем к утру. Не вылезем к утру — все дело пропало, бесцельный труд… скандал в ПК! На крайний случай можно, конечно, только двухполосную сделать. Но это же не то, не то!.. Развязать? — мучился он этим вопросом. — А вдруг это только хитрость с их стороны? Подымут шум, захотят бежать — стрелять тогда, что ли? Все равно погибло тогда все, да и в кого стрелять?! Нет, они, кажется, не продадут!» — решил он наконец.
Он сам развязал руки Прохорову и отвел его в сторону:
— Товарищи вас не выдадут завтра?
— Всех знаю, уважаемый. Всех! Чтобы кто? Да боже сохрани! Опять же, все будем работать — круговая порука! Когда уходить будете, — давал он советы, — завяжите опять нас. Тряпки для блезиру в рот, в кладовой заприте… вроде насилия — и все тут! — положил Прохоров руку на ваулинское плечо.
Пришедшие в наборную Громов и Ваня-печатник немало были поражены, увидев у касс двойное против прежнего количество рабочих.
— Ай, дело… ай, дело, Андрей Петрович! — захлебывающимся голоском подпевал Ваня.
Вот сверстана первая полоса, вот, через час, — вторая.
Сергей Леонидович берет корректурные оттиски и радостно нюхает полосы — типографскую краску. Она никогда еще не имела такой бодрящий запах.
Часы показывают четверть третьего ночи.
Спит в этот час Ириша, Лялька, мать… И скоро выйдет из соседней комнаты во двор, на улицу — в «очередь» с кошелкой в руках — милая Шура. Он обещал ей и выполнил…
Эта мысль забежала на секунду в его напряженно работаю-, щий мозг, — но тотчас же Сергей Леонидович стал думать о другом.
На доске лежат набранные заголовки для статей:
«МЕСТНАЯ С.-Д. ОРГАНИЗАЦИЯ В ПЕТРОГРАДСКОМ РАБОЧЕМ ДВИЖЕНИИ»
«В ЛИБЕРАЛЬНЫХ КРУГАХ»
«ПОТЕРЯ ЛЮДЬМИ ЗА ДВА ГОДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БОЙНИ НАРОДОВ»
«К ВОПРОСУ О СОВМЕСТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ»
«ЗА ГРАНИЦЕЙ»
«ПРОВИНЦИЯ»
— Быстрей, быстрей, товарищи!
— Четыре будет, уважаемый?
— Да, да.
— Четвертую полосу не успеть, пожалуй!
— Взяли бы нас сразу!
— А кто вас знал, непартийных!
— Пускай хоть три будет, и то дело!..
Газета, черт возьми, плохо верстается к тому же… Не подходит формат бумаги, остаются большие поля, — ничего, ничего, рабочий читатель не будет в претензии…
— Завтра, ребятушки, на всех станках лежать будет, родимая!
— Ух, пу-у-уля!
Наконец-то — приправка форм в машине. Здесь все в руках Вани-печатника.
Сергей Леонидович с нетерпеливым восхищением следит за тем, как он ловко орудует молоточком, как послушны ему винты и винтики, с которыми ему, Ваулину, никогда не справиться…
— Все, Ванечка?
— Одну минуту, Леонтий Иосифович!
Громов подмигивает: «Гм, Леонтий Иосифович…»
— Ошибка, ошибка в заголовке! — наклонившись над формой, выкрикивает кто-то.
— В чем дело?
— «Местная» надо через ять, а тут буква «е».
— Черт с ним, с твоим собачьим ять! И без него понятно.
— Все, Ванечка? — опять спрашивает Ваулин.
— Все как будто на сей раз.
— Ура! Пускай!
— Мотор?
— Куда, к черту, мотор! — предостерегает Громов. — Шум будет.
И вот — первый ручной поворот колеса машины. Его вертят по очереди все.
Вот первые оттиски газеты: четвертая полоса пустая, на третьей — один столбец поставлен вверх ногами. Но ничего не поделаешь: не переделывать же сейчас, в четвертом часу ночи?..
— Стоп!
Готова первая горка газет.
— Сообщите патрулям, чтоб нанимали извозчиков!
— Становись, дышло, на упаковку! Чего зря стоишь?
— Готово!
— Андрей Петрович, займите всех освободившихся людей.
— Уже занял.
— Двести!
— Перевязывайте в пачку…
— Все в порядочке!..
— Вали, родная!
— Извозчики готовы?
— Нет еще.
— Надо быстрей… быстрей, товарищи!
— А как же мы?
— А что?
— Вяжи, вяжи пачки!
— Да не пачки, Андрей Петрович, а людей! — напоминает Ваулин. — Удалось, удалось! — весело и громко выкрикивает он, обнимая за плечи Лекаря, потом скуластого, пожелтевшего за ночь Прохорова.
Он подбегает к конторке, отрывает кусок белой бумаги, минуту думает о чем-то, подзывает Прохорова:
— Смотри!
Он пишет «печатными» буквами и все время усмехается:
«Г. Альтшуллер! В вашей типографии печатали сегодня орган соц. — демократов большевиков. Приносим, конечно, извинение, но вынуждены были захватить, потому что охранка арестовала нашу хорошую технику. Посему счет за причиненные убытки предъявите генералу Глобусову. Будет революция — тогда еще увидимся. А пока охотно удостоверяем наше пребывание здесь, оставляя вам на память номер нашей газеты. Рабочие ваши ни в чем не виновны. А тот, кто был нашим, шлет вам прощальный привет».
— Больше ничего не надо?
— Все в порядочке, уважаемый! — смеется Прохоров.
На улице патрульный подбежал к стоявшему за углом извозчику.
— Занят! — равнодушно ответил тот.
«Занят? В такой час?» — удивился патрульный и бросился к другим санкам, ехавшим навстречу.
— Тысяча двести!
— Нажимай, нажимай!
— Ребята, связывай друг друга… кто здешний!
— Успеется!
«Явки» (их четыре по всему городу) знают только Сергей Леонидович и Громов. Оттуда поджидающие там «восьмерки» из молодежи разнесут газеты по фабрикам, мастерским, на железную дорогу.
— Пора отвозить, — говорит Ваулин. — Одну возьмет Ваня на себя — в Лесной пусть: ему по дороге. Две вам придется, Андрей Петрович, четвертую — мы с Бендером обслужим. Ладно?
— Так точно, товарищ главнокомандующий! — шутливо козыряет Громов. — Ну, и высплюсь же я завтра!.. — потягивается он всем телом.
Свет погашен в типографии. Медленно плывет в окна серый рассвет.
— Вот армия родилась ночью… — смотрит Сергей Леонидович на связанные пачки газет. — А ведь вышло, Андрей Петрович?.. А?
Во дворе Ваню-печатника, нагруженного двумя большими пачками, встретил патрульный. Он помог ему донести до извозчика газеты.
И когда Ваня отъехал уже, патрульный заметил, как через минуту выехал вдруг из-за угла тот самый извозчик, который заявлял, что «занят», — с двумя седоками в полицейской форме. Они помчались вслед за Ваней.
Патрульный бросился бегом в типографию, чтобы предупредить товарищей об опасности, но под аркой во второй двор его схватили с обеих сторон чьи-то крепкие руки, и, подталкивая, полицейские повели его обратно на улицу — в подъезд соседнего дома.
— Много вас там? — интересовался коренастый пожилой полицейский. — Тоже… задали, сукины сыны, службу! — недовольным голосом говорил он.
Патрульный многого сейчас не понимал. Не понимал и того, почему так ворчит этот «фараон» с седыми подусниками.
А «фараона», как и двадцать пять других городовых, собрали еще с вечера, не объявив для чего, и старик не успел выпить дома целительного бальзама против изжоги и попрощаться на ночь со своей старухой.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Перед крушением
В России стало голодно, и рубль стал дешев. Генерал-майор Глобусов доносил своему министру: «Число бедняков в городах удесятерилось. Голодает большинство жителей города, и остальные влачат жалкое существование».
Московская охранка сочла своим долгом сообщить Александру Дмитриевичу Протопопову: «Невзгоды широких масс так велики, что во многих случаях приходится говорить не только о недоедании, но и о форменном голоде. От эксцессов мы находимся очень близко. Острое раздражение, крайняя озлобленность, возмущение и т. д. являются довольно слабым отражением действительности. Никакое патриотическое чувство не выдержит, и Москва легко может явить картину чисто стихийных беспорядков».
Начальник Владимирского губернского жандармского управления делился своими наблюдениями: «Я вполне допускаю, что нервно настроенная толпа по какому-нибудь пустому случаю, как, например, закрытие лавки на обеденное время, какая-либо дерзость приказчика и т. п., потеряет терпение и, начав с битья стекол, кончит насилием, грабежом и поджогом».
Вести из Киева: «Затяжка продовольственного кризиса может вызвать, ваше превосходительство, беспорядки внутри империи, которыми, несомненно, воспользуются революционные элементы для приведения тылового района в хаотическое состояние».
Волынь доносила Протопопову: «Городское население поставлено в совершенно безвыходное положение, и не только низший, беднейший класс, но и мелкое чиновничество живет уже продолжительное время впроголодь. Громадные, на 200 и 300 процентов повышенные цены, а также с наступлением холодов отсутствие дров вызывают открытое озлобление».
Волыни вторила Казань: «Население требует от губернатора принять против местных торговцев самые суровые меры, так как они спекулируют предметами первой и насущной необходимости и прячут их. Если это будет продолжаться и далее, то обыватели выйдут на улицу с дубинами, потому что терпеть это далее будут не в силах».
И голосом Казани кричали Нижний Новгород и Харьков, Калуга и Пермь, Саратов и Вологда, Курск и Одесса, Екатеринбург и Орехово-Зуево.
«Полуголодный обыватель, — писал в своих донесениях генерал-майор Глобусов, — с восторгом, надо признать, приветствует всякое проявление оппозиции, — будет ли она направлена на городское самоуправление или на кондукторшу трамвая, на министров, мародеров, на правительство или на немцев, — все равно. Люди ненавидят войну, не раздается других голосов, кроме «мира, скорее мира, мира во чтобы то ни стало». Матери семей, изнуренные бесконечным стоянием в хвостах у лавок, исстрадавшиеся при виде своих полуголодных и больных детей, пожалуй, сейчас гораздо ближе к революции, чем гг. Милюков и К°, и, конечно, они гораздо опаснее, так как представляют собой тот склад горючего материала, для которого достаточно одной искры, чтобы вспыхнул пожар.
С каждым днем все большее количество голосов требует в столице: «Или обеспечьте нас продуктами, или кончайте войну».
И эти массы — самый благодарный материал для всякой открытой или подпольной пропаганды: им терять нечего от невыгодного мира. Когда это будет и как это все произойдет в действительности, судить сейчас трудно, но во всяком случае события чрезвычайной важности и чреватые исключительными последствиями для русской общественности не за горами».
Было время (еще год-полтора назад), когда генерал-майор Глобусов думал, что нечего страшиться революции: без помощи деревни ей не прожить и недели; ее можно будет расстрелять на трех-четырех петербургских или московских площадях, на пяти-шести рабочих окраинах.
Однако теперь положение изменилось: стало не по себе в «дворянских гнездах» князьям царствующей династии, титулованным помещикам Бобринским и Олсуфьевым, Капнистам и Ламздорфам, министрам и губернаторам Маклаковым и Хвостовым, Щегловитовым и Крупенским, Штюрмерам и Струковым, крепостникам Пуришкевичам и Марковым, Замысловским и Дубровиным, предводителям дворянства, земским начальникам и стародавним владельцам больших земель и поместий.
Ветры войны пригнали на сельские поля дым давнишней крестьянской надежды: земли бы мне, земли под соху и борону! Правительство и правая печать не прочь были муссировать ложные слухи о том, что после войны крестьян наделят новой землей, которая будет отобрана у немцев: внутри страны и за пределами прежних границ России. Семьям русских крестьян, сложивших головы на фронте, сулили в награду галицийские земли. Но мужик пошел в своих мечтаниях гораздо дальше: а почему — только галицийские, такие далекие? А не получить ли поближе да хорошо знакомые: землю господ Бобринских и Хвостовых, Капнистов и Пуришкевичей, Крупенских и Штюрмеров? Крепко засела эта дума, в крестьянской голове.
Настолько крепко хотелось мужику земли, что после военных поражений 1915 года, после отступления войск из Галиции, херсонские власти, например, доносили в Петроград: «Очищение Галиции рассматривается крестьянами нашей губернии почти как потеря собственности и потеря надежды на прирезку земли».
В ряде губерний крестьяне стали отказываться от уплаты помещикам арендных денег за землю. Деревня нищала, правительство реквизировало лошадей, мясной скот, упряжь, правительственные агенты отбирали у крестьян молочный скот, а жирный яловый шел на спекуляцию. На войну уже забрали почти половину взрослого мужского населения деревни. Войну здесь считают уже не только «наказанием божьим», но и кровавым преступлением: земным, выгодным помещикам и богатым людям — купцам, фабрикантам, крупным чиновникам.
Земский начальник из Смоленской губернии строчит губернатору:
«На днях на базаре в селе Панино целая толпа народа во главе со стариком рассуждала следующим образом: «Всю нашу молодежь и зрелого мужика они уже забрали, остается лишь одно: всем нам, старикам, вооружаться и уничтожать господ и правительство, ведущих нас к гибели и разорению».
В конце октября 1916 года екатеринославское жандармское управление предостерегает министра Протопопова: «Сознание, что защита отечества прежде всего ведется на плечах крестьянства, сознание, что «серые герои» — это опять-таки крестьянство, и, наконец, сознание, что сброд без деревни с ее хлебом и продуктами никак не может обойтись — произвели заметный перелом в миросозерцании широких крестьянских масс, с чем уже теперь приходится считаться и придется считаться в будущем».
Другая сводка сообщала министру: «Теперь в деревне уже не верят в успех войны. По словам страховых агентов, учителей, торговцев и прочих представителей деревенской «интеллигенции», все ждут не дождутся, когда же, наконец, окончится эта проклятая война. Крестьяне охотно беседуют на политические темы, чего до начала войны, после 1906 года, не было».
Эту сводку представил своему шефу Александр Филиппович Глобусов. Но что там — крестьяне, когда в самом Петрограде дела подходят опять к «самому горлу»!.. И Александр Филиппович, как исправный репортер, сообщает министру: «В день 9 января 1917 года размеры забастовок превзошли все ожидания. На многих заводах и фабриках рабочие, придя в обычный час на работу, организовали митинги, на которых выступали ораторы с оценкой положения дел в стране и призывали рабочих к активной борьбе с царским режимом — виновником войны. А на некоторых заводах рабочие после митингов 1 устраивали уличные демонстрации с красными знаменами, но были разгоняемы конной и пешей полицией. Одновременно с Петроградом произошли большие волнения в Москве, Баку, Нижнем Новгороде и других местах. Единственный вывод из настроения столичного пролетариата — это возможность в любую минуту забастовок и всевозможных эксцессов. Слухи об этом встретили огромное сочувствие низов населения, и в дни 9—12 января Петроград вновь сделался ареной слухов, подобных октябрьским: о начале всеобщей забастовки протеста, об остановке движения поездов и проч. Слухи эти распространялись с быстротой молнии. Остановка 8 января электрического тока, продолжавшаяся не больше часа, вызвала на огромной территории столицы упорные слухи о начале забастовки. Публика безумно ломилась в вагоны трамвая на Садовой улице, где всякого рода проходимцы говорили, что «этот-де трамвай еще пойдет, а вот те, которые выйдут после 7 часов, про те сказать трудно». Не лучше было и 12 января, когда толпы публики в несколько минут собирались у всякого вывешенного листка на стене и когда на улице и в трамваях незнакомые лица передавали друг другу о забастовке трамваев Васильевского парка и проч. И вывод, делаемый из подобного настроения рабочими партиями, правилен. Идея всеобщей забастовки со дня на день приобретает новых сторонников и становится популярной, какой она была и в 1905 году. Ожидание важных событий стало обычным содержанием обывательского дня: все слухи касаются так или иначе вопроса о будущем предстоящих на днях событий».
Охранка опасалась, что революционность населения такова, что требует «кровавых гекатомб из трупов министров, генералов и всех тех, кого общество и пресса считают главными виновниками неудач на фронте и неурядицы в тылу».
Министру внутренних дел Протопопову пришел на помощь бывший министр того же ведомства — Николай Маклаков. Он написал царю: «Министра внутренних дел нельзя оставить одного в единоборстве со всей той Россией, которая сбита с толку. Власть, больше чем когда-либо, должна быть сосредоточена, убеждена, скована единой целью — восстановить государственный порядок, чего бы то ни стоило, и быть уверенной в победе над внутренним врагом, который давно становится и опаснее, и ожесточеннее, и наглее врага внешнего».
И вот — эхо этого письма. Спустя пять лет министр иностранных дел бывшей Австро-Венгрии, граф Чернин, ничего не ведавший о письме Маклакова, писал так о своем служебном дне 13 февраля 1917 года: «Ко мне явился один господин, представивший мне доказательство, свидетельствующее, что он является полноправным представителем одной нейтральной державы. Он сообщил мне, что ему поручено дать мне знать, что воюющие с нами державы или во всяком случае одна из них готовы заключить с нами мир и что условия этого мира будут для нас благоприятны… Я ни минуты не сомневался в том, что дело идет о России, и мой собеседник подкрепил мое предположение».
В ту же примерно пору, характеризуя существующее положение, Владимир Ильич Ленин писал так:
«…чем больше вырисовывается для царизма фактическая, военная невозможность вернуть Польшу, завоевать Константинополь, сломать железный германский фронт, который Германия великолепно выравнивает, сокращает и укрепляет своими последними победами в Румынии, тем более вынуждается царизм к заключению сепаратного мира с Германией, то есть к переходу от империалистского союза с Англией против Германии к империалистскому союзу с Германией против Англии. Почему бы нет? Была же Россия на волосок от войны с Англией из-за империалистского соревнования обеих держав насчет дележа добычи в средней Азии! Велись же между Англией и Германией переговоры о союзе против России в 1898 году, причем Англия и Германия тайно условились тогда разделить между собой колонии Португалии «на случай», что она не исполнит своих финансовых обязательств!
Усиленное стремление руководящих империалистских кругов Германии к союзу с Россией против Англии определилось уже несколько месяцев тому назад. Основой союза явится, очевидно, дележ Галиции (царизму очень важно удушить центр украинской агитации и украинской свободы), Армении и, может быть, Румынии! Проскользнул же в одной немецкой газете «намек» на то, что Румынию можно бы разделить между Австрией, Болгарией и Россией! Германия могла бы согласиться и еще на какие-либо «уступочки» царизму лишь бы реализовать союз с Россией, а может быть еще и с Японией против Англии.
Сепаратный мир мог быть заключен между Николаем II и Вильгельмом II тайно. История дипломатии знает примеры тайных договоров, о которых не знал никто, даже министры, за исключением 2–3 человек.
…Не было бы ровно ничего удивительного в том, если бы царизм отверг формальный сепаратный мир правительств между прочим по соображению о том, что при теперешнем состоянии России ее правительством могли бы тогда оказаться Милюков с Гучковым или Милюков с Керенским, и в то же время заключил тайный, не формальный, но не менее «прочный» договор с Германией о том, что обе «высокие договаривающиеся стороны» ведут совместно такую-то линию на будущем конгрессе мира!
Верно это предположение или нет, решить нельзя. Но во всяком случае оно в тысячу раз больше содержит в себе правды, характеристики того, что есть, чем бесконечные добренькие фразы о мире между теперешними и вообще между буржуазными правительствами на основе отрицания аннексий и т. п. Эти фразы — либо невинные пожелания, либо лицемерие и ложь, служащие для сокрытия истину. Истина данного времени, данной войны, данного момента попыток заключить мир состоит в дележе империалистской добычи».
Императорский двор заговорщицки шел к сепаратному миру.
Но против заговора самодержавия у русской буржуазии вкупе с военными фронтовыми кругами был свой заговор. План был таков: захватить по дороге между Ставкой и Царским Селом императорский поезд, вынудить отречение Николая. При посредстве воинских частей, находившихся в Петрограде под командой, заговорщиков, арестовать правительство и затем уже объявить как о перевороте, так и о лицах из думских кругов, которые станут во главе нового правительства. Царицу — отправить в монастырь, малолетнего Алексея провозгласить государем, а великого князя Михаила — регентом.
Английский посол мистер Бьюкенен был прямым участником заговора. В Лондон он написал так: «Дворцовый переворот обсуждался открыто, и за обедом в посольстве один из моих русских друзей сообщил мне, что вопрос заключается лишь в том, будут ли убиты император и императрица или только последняя».
О да, заключи Россия сепаратный мир — и возможна ли тогда победа над Германией?! Немцы все время вынуждены были держать свои главные силы на восточном фронте.
Осуществить дворцовый переворот должен был генерал Крымов. Известный уже читателям Терещенко вспоминал о нем:
«Генерал и мы, его друзья, сознавали, что, если не взять на себя руководство государственным переворотом, его сделают народные массы, и прекрасно понимали, какими последствиями и какой гибельной анархией это может грозить. Но более осторожные лица убеждали, что час еще не настал. Прошел январь, половина февраля. Наконец, мудрые слова искушенных политиков перестали нас убеждать, и тем условным языком, которым мы между собой сносились, генерал Крымов в первых числах марта был вызван в Петроград из Румынии, но оказалось уже поздно».
Поздно. Крушение!
Империя рухнула…
Конец третьей части
Часть четвертая Февраль
ГЛАВА ПЕРВАЯ Революция
В мартовские дни 1917 года где-то в прифронтовой деревушке никому не известный доселе гусарский ротмистр держал краткую речь перед выстроившимся эскадроном:
— Его императорское величество изволил устать от трудных государственных дел и командования вами и решил немного отдохнуть. Поэтому он отдал на время свою власть народным представителям, а сам уехал и будет присматривать издали. Это и есть революция, и если кто будет говорить иначе — приведите ко мне, я ему набью морду. За здоровье государя императора! Ура!
Гусары жили весьма скудными и путаными сведениями и слухами о случившемся в Петрограде, гусары не знали, что уже неделя, как в столице революция, новая власть, и по всем заборам расклеены манифесты об отречении двух императоров, — они вслед за ротмистром прокричали «ура», но как-то глухо, тише обычного, каждый — косясь в сторону соседа, и ротмистр угрюмо, едва скрывая досаду, буркнул:
— Ну, то-то же…
Через несколько часов, когда гусары повстречались в пути с сибиряками в мохнатых шапках, украшенных красными ленточками, они мигом стащили с коня своего обманщика-командира и труп ротмистра бросили тут же на дороге.
В Петрограде хроника революции была такова:
23 февраля, в «Женский день», бастовало около пятидесяти заводских предприятий, на улицы вышли девяносто тысяч рабочих и работниц. Женщины шли к городской думе с требованием хлеба. Но только ли хлеба? На красных знаменах — «долой самодержавие», «долой войну»! В 4 часа дня демонстранты остановили трамваи на Инженерной, Садовой и Невском. На этих улицах пешая и конная полиция, врезавшись в толпу, стегала ее нагайками. Казаки гарцевали с пиками наперевес.
Не помогло, — 24 февраля бастовало уже двести тысяч рабочих. Они заполнили улицы всех районов столицы. Вместо газет рабочие читали листовки Петроградского Комитета большевиков:
«Ждать и молчать больше нельзя. Рабочий класс и крестьяне, одетые в серые шинели и синие блузы, подав друг другу руки, должны повести борьбу со всей царской кликой, чтобы навсегда покончить с давящим Россию позором… Настало время открытой борьбы».
«Всех зовите к борьбе, — говорили в своих воззваниях питерские ленинцы. — Лучше погибнуть славной смертью, борясь за рабочее дело, чем сложить голову за барыши капитала на фронте или зачахнуть от голода и непосильной работы. Да здравствует демократическая республика!.. Вся помещичья земля народу!.. Долой войну!.. Да здравствует социалистический Интернационал!»
В ночь с 25 на 26 февраля охранное отделение переполнило все петроградские тюрьмы сколько-нибудь «подозрительными» элементами. Были арестованы пять членов Петроградского Комитета большевиков, и руководство массовыми выступлениями перешло к районному комитету партии Выборгской стороны.
Тогда же командующий округом генерал Хабалов телеграфировал Наштаверху в Ставку: «Доношу, что в течение второй половины 25 февраля толпы рабочих, собиравшиеся на Знаменской площади и у Казанского собора, были неоднократно разгоняемы полицией и воинскими чинами. Около 17 часов у Гостиного двора демонстранты запели революционные песни и выкинули красные флаги с надписями «долой войну». Взвод драгун спешился и открыл огонь, по толпе, причем убито трое и ранено десять человек. Около 18 часов в наряд конных жандармов была брошена граната. Вечер прошел относительно спокойно. 25 февраля бастовало 240 тысяч рабочих».
Однако в этом донесении Хабалова был упущен следующий момент. В четыре часа дня генералу доложили, что четвертая рота запасного батальона Павловского полка, расквартированная в зданиях конюшенного ведомства, выбежала с криками на площадь. У храма Воскресения рота, при которой находилось только два офицера, стреляла по взводу конно-полицейской стражи, оттеснившей с Невского по Екатерининскому каналу часть рабочей толпы.
Протопопов телеграфировал дворцовому коменданту Воейкову, находившемуся в Могилеве вместе с царем: «Толпа вела себя вызывающе, бросая в войска каменьями, кусками сколотого на улицах льда. Поэтому, когда стрельба вверх не оказала воздействия на толпу, — вызвав лишь насмешки над войсками, последние вынуждены были для прекращения буйства прибегнуть к стрельбе боевыми патронами по толпе, в результате чего оказались убитые, раненые, большую часть коих толпа, рассеиваясь, уносила с собой. В начале пятого часа Невский был очищен, но отдельные участники беспорядков, укрываясь за угловыми домами, продолжали обстреливать воинские разъезды. Охранным отделением арестованы 136 человек партийных деятелей, а также революционный руководящий коллектив из пяти лиц».
Вечером Родзянко нашел у себя на квартире следующий царев указ: «На основании статьи 99 Основных Государственных Законов повелеваем: занятия Государственной думы прервать с 26 февраля сего года и назначить срок их возобновления не позднее апреля 1917 года, в зависимости от чрезвычайных обстоятельств. Правительствующий Сенат не оставит к исполнению сего учинить надлежащее распоряжение». Таким же указом были прерваны и занятия Государственного совета.
Этот указ был подписан Николаем II еще в ноябре 1916 года. Царь сказал при этом своему премьер-министру, князю Голицыну: «Держите у себя, а когда нужно будет — используйте». Правительство решило, что этот час теперь настал.
Перед заправилами «прогрессивного блока», перед Родзянко, как председателем Думы, встал вопрос: как быть? Не подчиниться указу, заседать — значит оказать неповиновение монарху, вступить на революционный путь — на это царская дума была не способна. Разойтись — но за окном слышны стрельбами гул подходившей толпы. Кто знает, что могут они сделать с законопослушными депутатами.
И было принято решение: «Императорскому указу о роспуске подчиниться — считать Государственную думу не функционирующей, но членам Думы не разъезжаться и немедленно собраться на «частное совещание».
Петроград был объявлен на осадном положении. Листки об этом напечатали в военной типографии, но расклеить их по городу не удалось: у градоначальника Балка не оказалось ни клею, ни кистей. И только двое околоточных развесили несколько листков на решетке Александровского сада. Утром эти листки валялись перед градоначальством на Адмиралтейской площади.
О событиях 25 февраля царица Александра написала своему венценосному мужу: «Это хулиганское движение. Мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба, — просто для того, чтобы создать возбуждение, — и рабочие, которые мешают другим работать. Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели бы по домам».
Однако спустя сутки она же телеграфировала: «Революция вчера приняла ужасающие размеры. Известия хуже, чем когда бы то ни было».
В городе появился манифест, написанный Молотовым от имени Центрального Комитета Российской Социал-Демократической Рабочей Партии (большевиков). Он был обращен уже ко всем гражданам России и датирован 26 февраля.
«Граждане! Твердыни русского царизма пали, — оповещал об этом манифест. — Благоденствие царской шайки, построенное на костях народа, рухнуло. Столица в руках восставшего народа. Части революционных войск стали на сторону восставших. Революционный пролетариат и революционная армия должны спасти страну от окончательной гибели и краха, который приготовило царское правительство.
Громадными усилиями, кровью и жизнями русский народ стряхнул с себя вековое рабство.
Задача рабочего класса и революционной армии создать Временное Революционное Правительство, которое должно встать во главе нового нарождающегося республиканского строя.
Временное революционное правительство должно взять — на себя создание временных законов, защищающих все права и вольности народа, конфискацию монастырских, помещичьих, кабинетских и удельных земель и передать их народу, введение 8-ми часового дня и созыв учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного избирательного права с тайной подачей голосов.
Временное революционное правительство должно взять на себя задачу немедленного обеспечения продовольствия населения и армии, а для этого должны быть конфискованы все полные запасы, заготовленные прежним правительством и городским самоуправлением.
Гидра реакции может еще поднять свою голову. Задача народа и его революционного правительства подавить всякие противонародные контрреволюционные замыслы.
Немедленная и неотложная задача временного революционного правительства войти в сношения с пролетариатом воюющих стран для революционной борьбы народов всех стран против своих угнетателей и поработителей, против царских правительств и капиталистических клик и для немедленного прекращения кровавой человеческой бойни, которая навязана порабощенным народам.
Рабочие фабрик и заводов, а также восставшие войска должны немедленно выбрать своих представителей во временное революционное правительство, которое должно быть созвано под охраной восставшего революционного народа и армии.
Граждане, солдаты, жены и матери! Все на борьбу! На открытую борьбу с царской властью и ее приспешниками!
По всей России поднимается красное знамя восстания! По всей России берите в свои руки дело свободы, свергайте царских холопов, зовите солдат на борьбу.
По всей России по городам и селам создавайте правительство революционного народа.
Граждане! Братскими, дружными усилиями восставших мы закрепили нарождающийся новый строй свободы на развалинах самодержавия!
Вперед! Возврата нет! Беспощадная борьба!
Под красное знамя революции!
Да здравствует демократическая республика!
Да здравствует революционный рабочий класс!
Да здравствует революционный народ и восставшая армия!»
К восставшему народу стали присоединяться войска. Сначала Волынский, Литовский, Павловский и Преображенский полки, а затем и остальные. Легко, без особых воинских усилий был взят арсенал и Петропавловская крепость. Горели полицейские участки, сброшенный наземь валялся под ногами толпы двуглавый орел русского самодержавия.
Революция победила. 27 февраля она оповестила об этом всю Россию.
В эти дни у Таврического дворца и в самом дворце с трудом можно было протискаться сквозь толпу — взбудораженную, шумную, неугомонную толпу солдат, матросов, рабочих и разных других питерских горожан. Люди приходили сюда со всех концов огромного города, — вот уж сколько дней он отверг для себя сон и тишину. Люди делились на охрипших и на тех, кто еще сохранил свой голос. Но этим последним предстояло его потерять, потому что каждый только и ждал минуты, чтобы принести его в жертву непрерывному митингу, бурлящему во всех залах думского дворца и перед его зданием на улице.
Победа была уже позади. Она оказалась легкой и мгновенной, и оттого люди испытывали будто некоторую досаду: вон силища-то какая у народа против старого режима, а самого — режима-то уже и нет!..
Красные знамена всяческих размеров мирно отставлены были к дворцовой решетке. Их было так много, что они почти наглухо заслонили собой толпу людей, сгрудившуюся перед — дворцом. А толпа рвалась, тянулась внутрь, в здание Таврического, — к трибунам, чтобы оставить там горячее, расплавленное восторгом и страстью свое слово во славу победившей революции (в эти дни Петроград стал городом неудержимых ораторов), в коридоры, залы и комнаты дворца, — чтобы увидеть рожденных революцией новых правителей страны, депутатов Думы и рабочего Совета, услышать из их уст вести о всей — стране, о России, о фронте: не грозит ли опасность?.. кого надо еще арестовать?.. что будет теперь с войной?.. не убежит ли царь Николашка?.. почему не объявляют сразу республику?
В белом зале дворца заседает Совет. Гуськом, в, затылок Друг другу, стоит нетерпеливо у трибуны очередь ораторов.
— Ходоков вперед пускать!.. Ходоков!
Их шлют русские деревни и русские окопы.
Бородатый солдат втащил на трибуну грязный мешок и положил его перед собой на кафедре.
— Вот, мы решили, значит, принесть вам самое, выходит, дорогое наше. В этом мешке, ребята, все наши кровью добытые награды. Себе не оставил никто. Тут георгиевские кресты и медали! Берите их… Присяга это наша солдатская, христианская присяга за революцию, значит, за свободу. Служить будем Совету до единого верой и правдой. А также правительству, конешно, новому будем стараться.
Бородатого, пожилого, с голосом негромким, сменил другой окопный ходок. Разбитной, говорливый ярославец — краснолицый шустрый паренек, солдат, успевший уже в столичной парикмахерской остричь волосы в кружок, с высоко оголенным затылком. Улыбка хитрая, жесты широкие, с прищелкиванием пальцев.
— Ну вот… Получили мы ведомость: царя, мол, нету, и, стало быть, революция. Ишь ты!.. Мы, конечно, обрадовались. Стали кричать ура, запели… как его?.. «Вставай, подымайся». Ну, немцы от нас все равно что вон до энтого или поболе. Немец услыхал и кричит: э-эй, что у вас тако-ое? А мы ему кричим: а у нас тако-ое, у нас револю-уция-я, царя более не-ету, пустота да дырка-а заместо царя-я… Ну, он, конечно, немец тоже, надо сказать, обрадовался. Ишь ты! Стал тоже петь, ура кричать! А по-ихнему: о-ох! По-нашему — ура, а по-немецкому — ох!.. Ну, тогда мы кричим: э-эй-эй, что же вы, сукины племяннички, а? Теперь вы сбрасывайте этого… как его? А они кричат: и-ишь вы чего захотели!
Разбитного говоруна-ярославца наградили веселым смехом и рукоплесканиями. Он прищелкивал пальцами и до тех пор не сходил с трибуны, — ухмыляясь, переживая свой успех, — пока стоявший позади него какой-то другой солдат не стащил его сварливо вниз:
— Ты, браток, все байки поешь, а тут настоящее дело есть… Товарищи! Господа депутаты! — показал он им свое мертвенно-бледное, шишколобое, худое лицо, с желтым лихорадочным блеском озлобленных глаз. — Ежели кто только не знает нашу жизнь, как наша матушка пехота страдает, то пусть приедет и посмотрит, как мы живем, и спросит нас, какие наши дела. Мы ведь только считаемся за солдат, но мы уже без ног и без спины. Мне, к примеру ежели сказать, двадцать седьмой год, но я не стою шестидесятилетнего деда… Тыловые господа депутаты хотят вести войну, но им вести войну можно и надежно, как они не видели горя, какое мы на позиции отхлебали… Ну хорошо, мы пойдем еще кровь проливать, опять миллионы положим нового войска, еще поделаем тысячи сирот, — ну, какую пользу от того мы можем достать России?.. У нас земли и так много, богатства хватит. За богатством в Германию не пойдем, я думаю… Помещиков кончать надо, полицию на фронт — вот что требуют единогласно солдаты у нас!.. Мы очень рады все свободе, но шибко ужасно умирать при таких открытых дверях в России, как теперь есть. Вы сами понимаете, как каждому мало-мальскому солдатику охота посмотреть на светлую теперешнюю жизнь. Какого же черта сгнить навозом в окопах?!
Может быть, этого самого шишколобого русского солдата, мучительно ненавидевшего смерть и помещиков, довелось, стоя у дверей, услышать депутату Думы Шульгину… Он выскочил в коридор и, с ожесточением расталкивая толпу, пробрался к своим думским соратникам, забившимся в угловые комнаты дворца. У всех лица были тревожные, квелые. Но, слава богу, здесь, кажется, все свои!..
— Боже, как это гадко!.. — горячо шептал он, задыхаясь. — Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водопровода бросает сюда, к нам, все новых и новых людей. Но у всех одно лицо: гнусно-животно-тупое. Или гнусно-дьявольски-злобное… Боже, как это гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствую в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное, бешенство. Вы не удивляйтесь тому, что я скажу… Пулеметов! Да, да, пулеметов — вот чего мне хочется! Я чувствую, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя… Увы, этот зверь — его величество русский народ!.. То, чего мы так боялись, чего во что бы то ни стало хотели избежать, — теперь факт!.. Боже, боже, как все это гадко! И я сам, сам… своими собственными руками… еще только три дня назад…
И все понимали, о чем он говорил.
«Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано».
Так начиналась неожиданная телеграмма Родзянко 26 числа в Ставку.
Запугивает? Дерзит в ответ на роспуск Думы?..
«Транспорт продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. Растет общее недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Войска стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю бога, — заканчивал Родзянко, — чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца».
Царь не знал еще, как поступить с Родзянко: повелеть сослать или пригрозить только ссылкой, — когда прямой провод из Царского передал тревожные, огорчительные слова Алис: «Совсем нехорошо в городе».
И в ответ на обе депеши он послал в Петербург, в генеральный штаб:
«Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны. Николай».
И думалось, что этим все сказано. Но прошли сутки, и они снова принесли телеграфный плач и злобу венценосной жены, всеподданнейшее ходатайство князя Голицына об отставке всего совета министров и новое предостережение все того же Родзянко:
«Положение ухудшается. Надо принять немедленные меры, ибо завтра уже будет поздно. Настал последний час, когда решается судьба родины и династии».
Придворный «летописец» Дубенский записал в свой дневник 27 февраля:
«Слухи стали столь тревожны, что решено завтра 28-го отбыть в Петроград. Помощник начальника штаба Трегубов передал мне, что на его вопрос, что делается в Петрограде, Алексеев ответил: «Петроград в восстании»… Первое, что надо сделать, — это убить Протопопова, он ничего не делает, шарлатан. После обеда государь позвал к себе генерала Иванова в кабинет, и около 9 часов стало известно, что Иванов экстренным поездом едет в Петроград… Войск, верных государю, осталось меньше, чем против него. Гвардейский Литовский полк убил командира. Преображенцы убили батальонного командира Богдановича. Председатель Государственной думы прислал в Ставку государю телеграмму, в которой просил его прибыть немедленно в Царское Село, спасать Россию».
Тогда рукой генерала Алексеева в Ставке был составлен указ о даровании ответственного министерства во главе с Родзянко, и царь подписал указ, велев вызвать из Петербурга нового премьера.
И думалось: уж теперь этим — все сказано России!..
Но, прежде чем указ дошел до столицы, оттуда пришли: грозные вести: вслед за рабочими бунтуют и солдаты, и на улицах — красные знамена.
И тогда два поезда — свитский впереди и государев за ним — поспешили из Могилева в Царское, куда звала царица.
Было два часа ночи. Оба поезда остановились на станции Вишера: набирали воду. Перестало укачивать, и царь, настороженно дремавший, проснулся. Он вышел в вагон-столовую и потребовал к себе свитских.
— Ну, что творится в Петрограде?
Пьяный, как всегда, адмирал Нилов, наливая содовой воды одновременно в два бокала, которые имел обыкновение осушать один за другим, спокойно ответил:
— Большие беспорядки, ваше величество. Но не такие, чтобы их нельзя было подавить в один-два дня.
— Вы думаете? Дай бог… — И государь удовлетворенно зевнул, потом надпил один из ниловских бокалов.
В это время вошел Воейков, а следом за ним — начальник свитского поезда: прихрамывающий, с насупленными седыми бровями и строгим лицом генерал Цабель.
Юркие, как у мелкого барышника, ласковые, с крохотными зрачками глаза дворцового коменданта обещали какую-то приятную новость.
— Ваше величество, — весело говорил Воейков, небрежно стягивая с руки перчатку, — сейчас на станции Вишера получена телеграмма. Из Могилева на станцию Дно идет поезд генерала Иванова. С ним семьдесят георгиевских кавалеров. Государь, этих доблестных героев совершенно достаточно, чтобы ваше величество, окруженные этой славной свитой, могли бы явиться в Царское Село. Там вы станете во главе верных вашему величеству войск царскосельского гарнизона и двинетесь в Петроград. В столице войска вспомнят царскую присягу и сумеют справиться с кучкой смутьянов.
— Вы думаете? Дай бог.
И, подергивая по привычке два раза плечом, словно зачесалась лопатка, и проведя пальцем по смятому во время сна соломенному усу, царь наклонил свое шафранное, заспанное лицо к близко сидевшему Нилову:
— А может быть, я зря поторопился, призывая Родзянко?
Бросились в глаза насупленные, словно в камень сведенные судорогой, седые брови зловеще молчавшего Цабеля.
— Садитесь, генерал. А вы что мне скажете?
— Правду, ваше величество. Все это не так, государь, — вытянувшись перед ним, продолжал стоять на одном месте Цабель. — Вас обманывают… Георгиевские кавалеры генерала Иванова положения не спасут. Вот — другая телеграмма. Смотрите, она помечена: «Петроград, комендант Николаевского вокзала поручик Греков». Вы видите, тут предписывается задержать на станции Вишера поезд вашего величества, направив его не в Царское, а в Петроград.
Николай вскочил.
— Мне предписывают?! Монарху предписывают?! Что это — самый настоящий бунт?! — воскликнул он, и, тряхнув от неожиданности тяжелой головой, быстро поднялся со стула охмелевший собутыльник-адмирал. — Бунт?.. Поручик Греков командует в Петрограде? Так, что ли? Кто такой поручик Греков… откуда он взялся? В самом деле, что за «дрянь» такая этот поручик Греков?
— Не могу знать, ваше величество. Но в Петрограде шестьдесят тысяч солдат во главе с офицерами уже перешли на сторону бунтовщиков. Ваше величество объявлены низложенным.
Сообщено по всей России о вступлении в силу нового порядка. Ехать вперед нельзя, потому что на всех дорогах распоряжается депутат Бубликов. Сейчас тронуться в путь куда бы то ни было тоже нельзя.
— А это почему?
— Государь, смазчики испортили паровоз свитского поезда!
Это потребовало еще получаса вынужденной остановки.
Конвойцы очистили станцию от посторонних людей, бог весть отчего столпившихся здесь в ночную пору, и следили теперь, чтобы никто не испортил царского паровоза.
Повернув обратно на Бологое, оба поезда, перейдя на Виндавскую дорогу, спешили к станции Дно, куда направлялся из Могилева генерал Иванов со своим эшелоном. Надо было под его охраной прорваться к Царскому.
А может быть, не в Царское, а в Москву? Ведь Мрозовский говорил, что Москва всегда отстоит?..
Но на станции Дно пришла новая депеша, в которой сообщалось, что генерал Мрозовский арестован, что московский гарнизон целиком на стороне нового правительства, что в первопрестольной нет других войск, кроме народных.
— Ехать в армию, ваше величество! — не советовал, а уже командовал прибывший в поезд генерал Иванов.
— Вы думаете? Дай-то бог… дай-то бог, Николай Иудович. А вы — в Царское… защитите государыню, моих детей.
Огромная, раздвоенная, черно-седая борода генерала со спускавшимися на нее тяжелыми усами оттопырилась кверху, — генерал закинул назад голову и взял по-солдатски под козырек.
Кто-то сказал (царь не сразу узнал голос своего дворцового коменданта):
— Теперь остается одно: открыть минский фронт немцам. Пусть германцы придут для усмирения этой сволочи… Ваше величество, вспомните Васильчикову. Ей не зря Вильгельм говорил, что воюет не с вами, а с Россией, питающей противодинастические стремления.
— Вряд ли это удобно… вы как думаете?
— Они заберут Россию и потом ее не возвратят! — хрипло дышал адмирал Нилов. — На такое дело я не советчик, ваше величество.
— Да, да… Открыть немцам. Много раз говорил мне об этом Григорий Ефимович, почему я не послушался?.. Это можно было сделать еще тогда, когда германские войска стояли под Варшавой.
И вдруг — со спокойной безнадежностью откинув занавеску вагонного окна, протирая рукой запотевшее стекло его, Николай, вглядываясь в серый рассвет неуютного северного утра, медленно произнес:
— Поеду в Ливадию… в сады. Я так люблю цветы!.. А народ? Мне всегда был страшен мой народ… это ведь русские!
Он вышел на перрон — землисто-бледный, в солдатской шинели с защитными полковничьими погонами. Папаха была сдвинута на затылок. Он несколько раз провел рукой по лбу, рассеянным взглядом обвел станционные постройки. К нему приблизились свитские, — он досадливо замахал на них рукой.
Один только Нилов, запойный пьяница Нилов, тяжело покачиваясь, широко, враскорячку, расставив ноги, стоял недалеко от него и что-то напевал.
Из-за угла вокзала показалась какая-то девочка в платочке, в буром заплатанном армячке и с любопытством смотрела на синие, чистой краски, вагоны с золочеными гербами.
«В Ливадию… в сады», — а машинист повел литерный поезд в серенький Псков.
Туда, тайком от Совета рабочих депутатов, убежал монархист Шульгин и глава военно-промышленных комитетов Гучков, чтобы привезти отречение последнего русского императора.
Входя в царский вагон, Шульгин, прикоснувшись к локтю своего спутника, сказал:
— Ах, разве думали мы с вами, Александр Иванович?.. Мы, монархисты!..
Но ему казалось, что он не ощущает вовсе волнения. Боже мой, он дошел до того переутомления и нервного напряжения, когда уже ничто, пожалуй, не может удивить, ни показаться невозможным!.. Но вот было все-таки немного неловко сейчас, что является к государю в пиджачке — в кургузом пиджачке, грязный и немытый, четыре дня небритый, с лицом каторжника, только что выпущенного из сожженной тюрьмы.
— Теперь думать уже нет времени! — скороговоркой отвечал спутник. — Надо убрать монарха, чтобы сохранить монархию.
Они вошли в ярко освещенный салон-вагон. Стены его были обиты светло-зеленым шелком, и на фоне этой обивки лица всех присутствующих казались бледней, бескрасочней обычного.
Древний худой старик с генеральскими аксельбантами Фредерикс, не подымаясь с места, кивнул облезлой головой. Другой генерал — черноволосый, с белыми погонами, Данилов — откуда-то из глубины вагона сказал:
— Государь император сейчас выйдет, господа.
И через несколько минут он вошел: плоскогрудый, рыжеусый, с желтым, мятым лицом русачок-полковник — эдакий уездный воинский начальник — в серой, аккуратно затянутой черкеске. Подав торопливо руку прибывшим, он жестом пригласил их занять место. Сам сел у четырехугольного шахматного столика, придвинутого к стене. Вынул портсигар с коротенькими английскими сигаретками, и, генерал Данилов услужливо перенес фарфоровую пепельницу с соседнего стола.
Посланцы Государственной думы переглянулись, — и царь с любопытством посмотрел на обоих: кто же из них начнет?
Начал Гучков.
Он слегка прикрыл лоб рукой, — словно для того, чтобы сосредоточиться, — опустил глаза и сказал:
— Вам уже известно, государь, что стряслось… Движение вырвалось из самой почвы, сразу получило анархический отпечаток. Власти стушевались. Еще три дня назад я сам отправился к замещавшему Хабалова генералу Зенкевичу и спросил его: есть ли у него какая-нибудь надежная часть или хотя бы отдельные нижние чины, на которых можно было бы рассчитывать? Он мне откровенно ответил, что таких нет, все части гарнизона переходят на сторону восставших… Положение ухудшалось с каждой минутой… Рядом со мной в автомобиле убили князя Вяземского только потому, что он офицер. То же самое происходит, конечно, и в других местах. Надо было, государь, нам в Думе на что-то решиться… На что-то большое, что могло бы произвести впечатление… что дало бы исход. В этом хаосе надо прежде всего думать о том, чтобы спасти монархию. Но, видимо, вам, государь, царствовать больше нельзя. Единственный выход… помолясь богу…
— Алексей? — спросил царь. Речь Гучкова показалась ему чересчур длинной.
Выцветшие голубые глаза Николая были неподвижны. Коричневая кожа вокруг глаз сжалась в упрямую гармошку, — он объявил низким, сдержанным голосом, чуть-чуть растягивая «по-гвардейски» слова:
— Я вчера и сегодня целый день обдумывал и принял решение отречься от престола. До трех часов дня я готов был пойти на отречение в пользу моего сына. Затем я понял, что расстаться с ним я не способен.
— Но… юридически? Как юридически?.. — пытался возразить Гучков. — Дума предполагала великого князя Михаила регентом…
Думские посланцы снова переглянулись, ища друг у друга ответа.
В это время вошел генерал Рузский. Он принес известия, каких еще не знал никто: по шоссе из столицы движутся сюда вооруженные грузовики. А вторая новость — прибывший в Царское генерал Иванов… бежал оттуда в Вырицу!
— Неужели?!
Это — вырвалось у Николая: очевидно, генерал Иванов был последней его, скрываемой надеждой.
— Грузовики с солдатами… ваши? Из Государственной думы? — глядя поверх запотевших очков, спросил депутатов Рузский.
— Это оскорбительно, Николай Владимирович! — вспылил молчавший до того Шульгин. — Как это вам могло прийти в голову?
Генерал понял свою ошибку:
— Ну, слава богу. Я приказал их задержать.
Только теперь он снял и протер носовым платком продолговатые маленькие стекла своих очков в простой металлической оправе, снова надел их и, повернув голову в сторону откинувшегося к стене Николая, начал рассказывать о злоключениях генерала Иванова.
Вчера в Царском Селе с быстротой молнии разнеслась весть, что к вокзалу подошел поезд генерала Иванова с двумя эшелонами войск, которые направляются на усмирение Петрограда. Дворцовый комендант князь Путятин известил о том царицу, и она поручила ему немедленно снестись с генералом Ивановым. Генерал объявил царскосельскому гарнизону о своем назначении главнокомандующим петроградского военного округа и призвал идти вместе с ним против восставшей столицы. Гарнизон, уже всецело примкнувший к революции, отправил к генералу депутатов для переговоров. Они явились к нему в вагон и тут же были немедленно арестованы. Но через минуту генерал Иванов вынужден был отменить свой приказ. Депутаты заявили ему, что если они не вернутся в полной неприкосновенности к определенному часу в городскую ратушу, то тяжелая артиллерия, поставленная вблизи Александровского дворца, откроет огонь и сметет дворец со всеми его августейшими обитателями.
Это было вчера. А сегодня все люди генерала Иванова разбежались.
Маленькие, очень глубоко посаженные глаза Рузского выражали только сильную усталость и ничего больше.
— Ваше величество! Считаю своим долгом солдата сказать: теперь надо думать…
— Это ужасно, ужасно… — перебил его царь.
На минуту он закрыл рукою глаза и опустил голову.
— А ваша Дума… неужели ваша Дума?..
Не понять было, о чем он хотел спросить.
Надо было как-то ответить, в чем-то оправдаться всем им, патриотам русского трона, — и Шульгин, сидевший напротив царя, перегнулся к нему и заговорил своим актерски-наигранным, «задушевным», тихим голосом:
— Ваше величество, простите меня, если я осмелюсь сказать по-простому, что мы здесь… все люди свои… Происходит какой-то кошмар. В Петрограде, в Думе — кошмар! Все смешалось в доме Облонских, как писал Толстой… Все перемешалось в каком-то водовороте… Депутации каких-то полков…
— Неужели и преображенцы? — вспомнил о них царь.
— Увы, и преображенцы, и павловцы, и волынцы… Беспрерывный звон телефонов… бесконечные вопросы, бесконечное недоумение: «Что делать?» Мы посылали членов Думы в разные места — успокоить, остановить грозную, свирепую стихию… В один из полков, например, послали нашего, националиста. Он вернулся. — Ну, что? — Да ничего, хорошо. Я им сказал — кричат «ура». Сказал, что без офицеров ничего не будет, что родина в опасности. Обещали, что все будет хорошо, они верят Государственной думе. — Ну, слава богу… И вдруг зазвонил телефон. — Как?! Да ведь только что у вас были… Опять волнуются? Кого? Кого-нибудь полевее. Хорошо. Сейчас пришлем. — Посылаем Милюкова. Он вернулся через час. Очень довольный: — Мне кажется, что с ними говорили не на тех струнах… Я говорил в казарме с какого-то эшафота. Был весь полк. И из других частей. Ну, настроение очень хорошее. Меня вынесли на руках. Но через некоторое время телефон снова зазвонил и отчаянно. — Как, опять? Такой-то полк? А Милюков?.. Да ведь они его на руках вынесли?.. Еще левей? Ну, хорошо. Мы пошлем трудовика… И вдруг под боком — этот совет собачьих депутатов… горбоносые обезьяны! Непрерывно повышающаяся температура враждебности революционной мешанины, залепившей Думу… Родзянко хотел ехать к вам, государь, но они, горбоносые, пригрозили ему насилием. Кошмар, кошмар, которого еще не видела русская жизнь… Жалобные лица арестованных — министров, чиновников, генералов… Хвосты городовых, ищущих приюта и милости в Таврическом дворце. Паника среди офицерства. Все это переплелось в нечто, чему нельзя дать названия. В конце концов, что мы могли сделать?.. Представьте себе, что человека опускают в густую-густую, липкую, противную мешанину. Она обессиливает каждое его движение… Все наши усилия были бесполезны. Это были движения человека, погибающего в трясине…
— Кто такой поручик Греков? — неожиданным, непонятным вопросом прервал его Николай Второй: очевидно, злополучный неизвестный офицер, преградивший путь в столицу, запомнился больше всего и вызывал нескрываемую ненависть.
И так же неожиданно, как спросил, не получив ответа, о поручике Грекове, — так же неожиданно поднялся со своего места:
— Я пойду к себе… Значит, господа, — Михаил…
Таково было решение. И оставшиеся в вагоне, не смея уже возражать, обменивались только впечатлениями.
— Михаил может присягнуть, а малолетний Алексей — нет…
— Отречение в пользу Михаила Александровича не соответствует закону о престолонаследии…
— Но нельзя не видеть, что этот выход имеет при данных обстоятельствах серьезные удобства…
Царь забыл на столике свои сигаретки.
— Курите, — предложил остальным черноволосый генерал Данилов, и несколько английских сигареток быстро пошли по рукам, но Шульгин тотчас же положил свою обратно.
— Это ужасно… — тихо, но так, чтоб казаться гневным, сказал он. — Господа, мы держим себя как слуги в доме покойника.
Генерал Данилов холодно, снисходительно усмехнулся и спокойно вынул свой янтарный мундштук.
— Я военный и морской министр Временного правительства, — в глубине вагона сообщил Рузскому Гучков.
Командующий фронтом одобрительно кивал сивой маленькой головой, придерживая рукой свои простенькие, «учительские» очки.
— Приношу пожелания вашему превосходительству, рад буду вступить в служебные отношения. Самое ужасное — это кутерьма, — глухо сказал командующий, махнув в сторону двери рукой.
Граф Фредерикс сильно огорчился, узнав, что его дом в Петрограде подожжен толпой. Он медленно ходил теперь, опираясь на палку, по вагону, молчаливо останавливаясь то в одном, то в другом месте. Вялым, бессмысленным взглядом он следил за присутствующими.
Гучкова он спросил:
— Скажите мне: кто из вас Гучков, а кто господин Шульгин?
Генерал Данилов за его спиной корчил презрительную веселую гримасу.
Было без двадцати минут двенадцать ночи, когда снова вошел царь. В руках он держал листки небольшого формата.
Он протянул Гучкову бумагу:
— Посмотрите. Вот текст…
Он был написан на пишущей машинке. Три четвертушки очень плотного синего телеграфного бланка.
«В дни великой борьбы с внешним врагом… господу богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны… В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести…»
Гучков вполголоса — раздельно каждое слово — читал текст отречения.
Второй бланк лежал «вверх ногами», и покуда он его клал правильно, наступила пауза в несколько секунд, — и тогда вдруг раздался старчески-болезненный голос министра двора:
— Не слышу… не понял. Чем ваше величество жалуете господина Гучкова? И за что, ваше величество?..
Была без двенадцати минут полночь 2 марта, когда царский карандаш подписал акт об отречении.
И тут же два русских генерала и двое думских депутатов молитвенно осенили себя крестным знамением.
Курил молчаливо полковник русской службы Николай Романов.
Мешком неподвижных костей лежал в кресле, вытянув длинные худые ноги, сановник трех императоров России, престарелый граф Фредерикс.
— Еще не все, — взяв телеграфные бланки, загадочно сказал тогда депутат Шульгин.
Его презрительно оттопыренная обычно верхняя губа, чуть оголенная посерединке под длинными и прямыми холеными усами, была нервно схвачена теперь белыми, мелкими, кошачьими зубами.
— Ваше величество? — сверкая зубами, разжал он рот. — Вы изволили сказать, что пришли к мысли об отречении в пользу великого князя сегодня в три часа дня… Было бы желательно поэтому, чтобы именно это время было обозначено здесь… до нашего приезда сюда.
И все поняли его: он не хотел, чтобы кто-нибудь когда-нибудь мог сказать, что русский монарх, отрекаясь, поступил недобровольно. Что он подчинился бунтующей «черни» и что в насилии над ним хоть как-нибудь мог принять участие «русский человек» и монархист Шульгин!
— Спасибо! — пожал ему руку Романов и поступил по его совету.
— Государь, сегодня, слава богу, второе, а не первое марта! — воскликнул Шульгин и торжественно протянул вперед дрожащие руки.
Ему самому казалось потом, что это восклицание — только и было то единственно «историческое», что блеснуло в серый, чересчур простой вечер смерти русского трона.
Но, видно было, Николай не сразу понял: в тот момент он забыл, что первого марта революционеры казнили его деда!
Но, сообразив, снова сказал:
— Спасибо… да.
И, попрощавшись, торопливо ушел к себе.
— Как эскадрон сдал!.. — спустя минуту вздохнул генерал Данилов. И по тону его не понять было: одобряет он или порицает поведение императора.
По дороге в Могилев, со станции Сиротино свергнутый монарх телеграфировал в Петроград: «Его императорскому величеству Михаилу. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Останусь навсегда верным и преданным братом. Ник».
ГЛАВА ВТОРАЯ Министры новые и старые
В эти мартовские дни Лев Павлович Карабаев, трое суток не ночевавший в своей квартире, заехал на десять минут домой.
— Соня… чистую манишку… воду для бритья… еду на историческое дело. Я министр, Соня! — еще в прихожей, задыхаясь от усталости, возбуждения, торопливости и радости, выкрикнул он.
— Боже мой… Левушка! — бросилась Софья Даниловна к нему на грудь и, обнимая, несколько раз перекрестила его голову. — Боже мой… дай-ка я на тебя погляжу… снимай, снимай шубу!
Но он, не дожидаясь, как обычно, ее помощи, швырнул шубу куда-то в сторону — на руки подоспевшей из кухни прислуги.
— Клавдия, — похлопал он ее по плечу, — революция, Клавдия… знаешь?
— Знаю, барин, — смущенно и встревоженно ответила Клавдия — и вдруг заплакала, пряча голову в бобровый воротник карабаевской шубы.
— Чего это она? — удивился Лев Павлович ее слезам.
— Ах, Левушка! У нее брат — рабочий, он стрелял в городовых где-то там, и его самого тяжело ранили в живот.
— Вот оно что?.. А зачем лез в это дело?! — вдруг страстно сказал Лев Павлович. — Ну, ничего… Милиция теперь расследует дело, и виновный получит свое! — успокаивал он, как умел в тот момент. — Правда, господа? — обернулся он. — Да что же вы стоите на пороге? Пожалуйста, пожалуйста ко мне… Соня, это мои спутники, мои друзья, помощники — верные рыцари свободы. Прошу вас, прошу вас…
И только теперь Софья Даниловна заметила спутников мужа. Они стояли в открытых на площадку дверях: какой-то офицер, подпоручик с красной розеткой на груди, и сильно небритый, светлорыжеватого волоса, студент с бархатными наплечниками Политехнического института и красной повязкой на рукаве шинели.
— Мы счастливы быть в распоряжении Льва Павловича, и я молю вас не беспокоиться за вашего мужа, — приложив руку к козырьку, выпрямился подпоручик перед Софьей Даниловной. — Капнист Владислав Андреевич… офицер армии русской Государственной думы! — торжественно отрекомендовался он.
— А это, представь, Соня, — наш земляк: Григорий Рувимович Калмыков, — сказал Карабаев, указывая на студента, — Его фамилия должна тебе кое-что напомнить.
Гриша Калмыков, быстро облизнув пересохшие губы, поцеловал протянутую ему руку и не менее торжественно, чем только что офицер, произнес:
— Я счастлив быть земляком такого прекрасного гражданина и министра новой, свободной России, как любимый всеми Лев Павлович.
Спутники ждали в его кабинете, Клавдия наскоро поила их чаем, а сам Лев Павлович, обслуживаемый женой, переодевался и брился в спальне.
Боже мой, разве возможно сейчас связно рассказать обо всем, что происходило в эти дни у них в Думе?! Там, у него в кармане шубы, лежат первые выпуски газеты комитета журналистов, — пусть она, Соня, возьмет их, читает…
Боже, что было, если бы только она знала! Народ, народ пошел на штурм самодержавия, — тут уж ничего, голубушка, не поделаешь! Страшно в конце концов иметь дело с народом, но как этого избежать сейчас?!
На Знаменской площади казаки, вместо того чтобы стрелять в толпу рабочих, зарубили офицера… еще одного офицера, потом пристава… Это — казаки! А что же говорить о солдатах, о простых солдатах?
Рота павловцев в полном боевом порядке защищала на Екатерининском канале отряды рабочих, прорвавшихся к центру города. Арсенал сдался рабочим после пятиминутных, буквально, переговоров. Гвардейский флотский экипаж во главе с самим великим князем Кириллом Владимировичем пришел в Думу — в распоряжение Родзянко.
— Сонюшка, Сонюшка… прошел односуточный, буквально односуточный ливень и затопил все… смел всю грязь самодержавия. Ах, если бы ты видела всю эту картину!
Он намыливал щеку и торопливо рассказывал:
— Двадцать седьмого мы все застряли там… Поздняя ночь, мороз… Мы все устали, у всех нервы взвинчены, но никто не расходится… Самые странные, неожиданные картины, Соня! В зале, где недавно чинно расхаживали почетные люди, наш брат-депутат, — спят на скамьях, вповалку на полу утомившиеся солдаты, люди с улицы, студенты, какие-то женщины… В Полуциркульном свалены груды патронов, трещит машинка, заряжают пулеметные ленты… Мы все почувствовали себя как в осажденной крепости! А за стенами дворца идет борьба. Стреляют из-за угла, стреляют с крыш… запоздалые мирные пешеходы робко жмутся к домам… Боже мой, мы совершенно не знали, что делать! Ведь надо же было спасать монархию!.. А назавтра мы поняли, что народ победил… Начали приводить и привозить к нам арестованных министров, — что это за сцены были, боже мой!..
— Осторожно… не порежь себя! — волновалась Софья Даниловна, заметив, как вздрагивает его рука, держащая бритву. — Я подожду… я подожду, Левушка.
Он сам решил быть осторожным и на минуту замолчал, придвинувшись к зеркалу. Кажется, впервые за эти дни он увидел свое измученное, посеревшее лицо с низко опустившимися под глазами синеватыми мешочками.
События последних дней всплывали сейчас одно за другим, словно отражаясь в зеркале, перед которым брился Карабаев.
…Одним из первых арестовали генерала Сухомлинова. Его нашли в квартире на Офицерской 55, где он жил, — в спальне, под периной, с подушкой на голове.
Генерала привезли в Таврический, и толпа солдат бросилась к нему… Минута — и его бы разорвали. Конвой ощетинился. И генерал бочком, бочком, мелкими, семенящими шажками пробежал вдоль стены к двери, открытой вглубь коридора. Он был похож на седоусую крысу, которая тщетно искала спасения.
В кабинете председателя Думы он поспешил сам произвести над собой приговор: белыми, неживыми руками, словно вырезанными из веленевой бумаги, он отстегивал свои генерал-адъютантские погоны на куртке. Кто-то из окружающих подал ему перламутровый перочинный ножик, и он срезал им погоны на своей шинели.
— Крест! — лаконически подсказали ему.
Ожидавший всего, он готов был снять тут же и георгиевский крест, но чей-то хриплый, отрывистый голос остановил его руку.
— Пусть останется… Снимут по суду.
Разжалованный генерал боязливо взглянул на говорившего: это был Керенский.
В кабинет ворвалась депутация военных: солдаты хотят видеть изменника! Люди в кабинете заволновались, запротестовали: надо уважать власть Государственной думы и подчиняться ей… И вдруг:
— Скажите, что они его увидят!
Это — опять Керенский.
— Бывший военный министр, следуйте за мной!
Он берет его погоны, кладет их на ладони своих вытянутых рук и так, идя впереди своего пленника, выходит вместе с ним в громадный Екатерининский зал.
Тяжело и страстно дышит выстроившийся шпалерами Преображенский полк.
— Солдаты! Вот погоны бывшего военного министра. Я бросаю их к ногам народа… (он бросает погоны на пол и наступает на них ногой)… но я призываю вас, солдаты, к спокойствию. Бывший военный министр находится под охраной комитета Государственной думы. Народный суд над изменником совершится, и он получит достойное наказание. Бывший военный министр! Пройдите перед солдатами революционного народа. Солдаты, смирно!
Сухомлинов, опустив низко голову, проходил сквозь строй преображенцев, протыкавших его сотнями ненавидящих глаз.
Позади него, вытянув руки, словно фокусник и гипнотизер, стоял его избавитель от народного гнева. И когда церемониал позора был совершен, Керенский сорвался с места, почти бегом промчался по залу вслед за разжалованным генералом, положил ему руку на плечо, другой — подозвал преображенцев:
— Арестовать!.. Отвести в министерский павильон!
И сам пошел впереди караула.
В родзянковском кабинете он бухнулся в кресло и закрыл глаза. Ему дали валерианки и ландышевых капель. (Весь подоконник был уставлен аптекарскими бутылочками.)
Он пил и бормотал:
— Через мой труп… через мой труп только…
В этой комнате никто бы сейчас на это не согласился: Керенский был уверен не только в сочувствии, но и в благодарности.
Министерский павильон превращен был во временную тюрьму для министров, сановников и дельцов империи. Их приводили сюда ежечасно.
На грузовике доставили Горемыкина. Он шел, согнувшись от дряхлости. Он полз, как престарелый, сморщенный краб, выброшенный на сушу неожиданной и грозной бурей. Орден Андрея Первозванного на борту старого серого пиджака был приколот необычно — при помощи большой английской булавки.
Войдя, старик тотчас же спросил:
— А вино здесь дают?
Министр юстиции, егермейстер Добровольский, не рассчитывая на собственную безопасность, засел в бест в итальянском посольстве. Но гостеприимство маркиза Карлотти продолжалось только сутки, после чего через швейцара было передано гостю, что его пребывание здесь излишне.
По красной дорожке, проложенной вдоль узкого длинного коридора, в министерский павильон провели под конвоем насупленного и злого, с пунцовыми ушами Щегловитова, рыхлого, тяжело ступавшего, белого как мел Штюрмера, бывшего министра торговли князя Шаховского, генералов охранки, командующего округом Хабалова, градоначальника Балка, бывшего министра внутренних дел Маклакова. Один ус его был закручен кверху, как всегда, другой теперь опущен вниз: рот казался кривым, судорожно сдвинутым вбок.
В приемной комнате бывший министр, опустившись на стул, стал шарить глазами по сторонам.
— Чего вы ищете? — полюбопытствовал один из конвоиров, солдат.
— О, если бы мне дали револьвер… я застрелился бы!
— На! — протянул ему свой «бульдог» стоявший тут же старик рабочий.
— Нет, нет… не убивайте, господь с вами! — испуганно отмахнулся под громкий хохот «самоубийца».
Стоявшие в карауле солдаты с любопытством рассматривали своих узников, размещенных в трех комнатах: ослепительные генеральские погоны, кресты и медали на груди, розовые и белые лысины, еще сохранившие запах вчерашних духов…
Мертвая маска штюрмеровского лица откинута в сторону соседа — Горемыкина. Длинная — узким прямоугольником — штюрмеровская борода кажется неживой, нацепленной. Больная, подагрическая нога требует, как всегда, подставки, — сидя в кресле, он вытянул и положил ногу на стул, часть которого услужливо уступил второй сосед — тощий, инфантильный старичок, генерал Марков-Финляндский.
Этот генерал, могло показаться, мало интересуется приходом новых людей: он только на минуту устремляет взор на входящих и сейчас же, как бы дорожа каждой минутой, продолжает исписывать карандашом лежащие перед ним на столе листки бумаги. Впрочем, этим заняты неизвестно с какой целью и другие арестованные.
На большом канцелярском столе, накрытом белой накрахмаленной скатертью, лежат груды книг, тут же пустые стаканы и остатки еды. В комнате строгая тишина: обитателям ее запрещено переговариваться. Но стоит появиться здесь караульному начальнику или коменданту — и узники нарушают обет вынужденного молчания. Просят о разном, но все — об одном: разрешения поразговаривать.
Отказ принимают печально и покорно.
— Вот и хорошо… я очень люблю тишину, — соглашается шамкающий голос.
Узники с плохо скрываемым презрением смотрят на выжившего из ума старца Горемыкина. Он потонул в широком кожаном кресле, он недвижим, и только дымящаяся толстая сигара во рту говорит о неисчезнувшем дыхании этого разрушенного годами, безжизненного тела.
— Товарищ комендант! Товарищ, одну минутку… по секрету.
Это слово так необычно здесь — «товарищ»…
— Одну минутку…
Это — хорошо известный всем Манасевич-Мануйлов. Толстенький, подвижной, он наседает на саженного преображенца, не спуская с него своих пытливых близоруких глаз. Один из них, как всегда, по привычке, прищурен, но преображенцу кажется (впрочем — безошибочно), что проситель хочет предложить ему что-то жульническое.
Распутинский друг таинственным шепотом пытается тут же говорить о своей невиновности и безосновательности своего ареста. Он сует преображенцу какую-то записку с просьбой передать ее по назначению и просит, просит, просит…
Потеряв надежду дождаться своей очереди, грузный, оплывший жиром адмирал Карцев отталкивает его:
— Посторонитесь маленько…
У него — другая просьба: нельзя ли обменяться ему местами на ночь с князем Жеваховым — отдать узенький диван и получить широкое, вместительное кресло?
Жандармский полковник Плетнев вызывает улыбку всех сменяющихся караулов: он в штатском костюме своего младшего сына! От жилета до брюк белым кушаком вырисовывается нижняя рубаха. Узкие, короткие брюки обнаруживают солидные мускулистые икры жандармского полковника. Короткие рукава чужого пиджачка лишают полковника возможности свести руки.
В несколько лучшем виде был доставлен сюда анекдотический министр здравоохранения Рейн: на нем тоже было чужое платье — очень широкое, принадлежавшее какому-то толстяку. На плечах у Рейна клетчатый плед, на шее — высокий стоячий гуттаперчевый воротничок без галстука, с одной торчащей запонкой.
Толпы журналистов осаждают министерский павильон, стремясь проникнуть в его комнаты, но караульные неумолимы:
— Отходите, отходите. Тут вам не кикиматограф!
И несколько дней этим словом — «кикиматограф» — называли весело журналисты временное узилище для бывших министров.
Была ночь, когда к одному из студентов-милиционеров во дворе Таврического дворца подошел неизвестный человек в шубе с широким котиковым воротником и мягкой, надвинутой на лоб шляпой. Он отозвал его в сторону и сказал:
— Скажите, вы студент?
— Да, путеец, — последовал ответ.
— Прошу вас, проведите меня к членам комитета Государственной думы. Словом, к кому следует…
— А может быть, в Совет рабочих депутатов? — спросил студент.
— Нет, нет! — запрыгали губы неизвестного. — Я хочу видеть своих старых товарищей по совместной работе. Вы сейчас все поймете… Я — Протопопов… Молчите, не разглашайте пока!
Лев Павлович Карабаев сидел в родзянковском кабинете, набитом людьми, когда вихрем влетели в него несколько человек с громким, восторженным криком:
— Протопопов арестован!.. Протопопов, ур-ра!
Все выскочили в коридор — навстречу арестованному министру, затерявшемуся в гудящей, возбужденной толпе.
— Керенского! Позовите Керенского! — в несколько голосов требовали встревоженные думские депутаты, опасаясь за участь арестованного, особенно ненавистного народу.
Лев Павлович в числе других бросился разыскивать «специалиста» по спасению бывших министров. И через минуту Керенский был на месте.
— Только не волнуйтесь… только не волнуйтесь, Александр Федорович! — любовно подбадривал его Карабаев.
Керенский шел, опираясь на увесистую дубинку. Он был еще не совсем здоров: недавно только ему оперировали почку, а тут еще… непрерывные речи, толпа качает его каждый час — «того и гляди, погубят этого человека», — опасался, уже как врач, Лев Павлович.
— Держите! — сунул ему дубинку в руки Керенский и сам помчался вперед.
— Прибыла пожарная команда… сам брандмайор! — сострил кто-то из толпившихся в коридорчике, и Льву Павловичу показалось, что это знакомый голос журналиста Асикритова: он неоднократно сегодня наталкивался во дворце на этого вездесущего желчного человечка!
Керенский был желт, глаза широко открыты, рука поднята ребром вперед. Он как бы разрезал ею толпу, поглотившую арестованного.
— Не сметь прикасаться к этому человеку!
Толпа отхлынула, расступилась, рассыпалась, как треснувшая скорлупа ореха, открыв взору высохшее горклое зернышко — боязливо сжавшееся, перекошенное протопоповское лицо с почерневшей, отвисшей губой.
Она дрожала, как у эпилептика.
— В-ваше прев-восходительство, отдаю себ-бя в ваше распоряжение…
И тогда другое лицо — нездоровое, с больной кожей, со следами тяжелых бессонных ночей и опухшими, красными, как у кролика, глазами — придвинулось к нему вплотную, и хриплый, лающий голос прокричал в толпу:
— Бывший министр внутренних дел Протопопов! От имени Исполнительного комитета объявляю вас арестованным!
— Спасибо, ваше превосходительство! — смешливо оживился вдруг Протопопов и, наклонясь к своему избавителю, стал что-то шептать ему на ухо.
— Громче, громче! Чтобы все слышали! — закричали со всех сторон.
— Господин караульный офицер! — ударил Керенский негодующую толпу хриплым бичом своего наигранно-повелительного голоса. — Бывший министр внутренних дел желает сделать мне секретное государственное сообщение. Потрудитесь провести его в отдельную комнату!
Через полчаса стало известно, что министр сообщил Керенскому список домов, на крышах и чердаках которых расставлены были полицейские пулеметы, — он был труслив и услужлив, Александр Дмитриевич Протопопов!
Но, едва отдышавшись, он поспешил пустить в ход свое обычное лукавство, ставшее уже глупостью: он предложил себя в посредники между… царем и революцией.
Ему отвели диван в «тюрьме министров» и приставили особого часового.
Ну, сколько можно рассказать за четверть часа, что пробыл дома?..
За это время три раза звонил телефон в кабинете, и каждый раз, прибегая, стучался в дверь студент Гриша Калмыков.
— Лев Павлович, по срочному делу!
Из всех звонков один действительно был весьма срочен, а другой, пожалуй, представлял несомненный интерес. Первый принадлежал новому министру иностранных дел: Милюков просил поторопиться с приездом на Миллионную 12, где находился особняк князя Путятина, — уже почти все собрались.
Вторым звонком вызвал к телефону незнакомый человек — инженер Михаил Павлович Величко. Он говорил о каких-то странных и непонятных сразу вещах:
— Я прошу меня принять… Где угодно вам, но только сегодня. Я не могу говорить по телефону… Не сомневайтесь в моей абсолютной преданности вам и новой власти. Случай вручил в мои руки важнейший документ… не могу сказать. Я привезу его вам на квартиру и готов ждать до поздней ночи, Поверьте мне: важнейший! Боюсь по телефону…
На третий звонок подошла Софья Даниловна и, возвратясь в спальню, доложила:
— Он звонит сегодня уже второй раз. Иван Митрофанович Теплухин.
— Здесь? Приехал? Что-нибудь от Жоржа? — торопливо переодевался Лев Павлович.
— Я сказала ему, что, может быть, ты будешь к ночи дома. Но лучше, сказала я, завтра утром. У него очень взволнованный голос… Так ты действительно министр, Левушка? — заглядывала она в его глаза: с улыбкой, нежностью и неожиданной застенчивостью, которую он уловил и расценил по-своему.
— А что ж здесь удивительного, Соня? — досадуя на ее удивление, явно обиженный им, сказал Карабаев, — Меня, кажется, знает вся Россия! Неужели же вся страна знает… подготовлена к этому, а собственная жена… меньше других ценит меня!..
— Левушка, голубчик, что только ты говоришь?! — схватила его руку для поцелуя Софья Даниловна. — Боже, как ты изнервничался… разве можно так? Как мог ты так думать?
Она припала губами к его руке, и ему стало приятно и одновременно — стыдно.
— Прости меня, — привлек он к себе всхлипывающую жену. — Меня события так растрясли, так растрясли, ей-богу! Пожалуйста, прости меня, Соня. Я дурак, Сонюшка…
Уже сидя в автомобиле вместе со своими «адъютантами», он еще раз обругал себя мысленно.
Он сорвал свое раздражение на жене, — он сознает это. То самое раздражение, ту самую досаду, которая нет-нет — и дает себя чувствовать со вчерашнего дня. Он скрывал ее истинную причину, но если бы кто-нибудь из политических друзей догадался о ней, Лев Павлович перестал бы таиться.
Он министр, но отнюдь не того ведомства, которого мог ждать для себя по праву. Всю жизнь выступать в Думе главным оппонентом по бюджету, заслужить у самого Ллойд-Джорджа прозвище «антиминистра русских финансов», быть всегдашним думским дуэлянтом графа Коковцева, а затем Барка и… пойти вдруг теперь главой другого ведомства! Его даже не спросили как следует, хочет ли он того.
В разгар событий, когда на улицах Петербурга революционные толпы солдат и рабочих решили уже судьбу трона и голицынского правительства, в какой-то отдаленной комнатке Таврического дворца, скрываясь ото всех, его, карабаевский, друг и вождь их партии, Милюков, составлял список членов Временного правительства. Это было вчера. Надо было торопиться, надо было объявить стране состав новой власти — объявить, от имени Государственной думы, потому что бог знает чего завтра может потребовать мгновенно возникший Совет рабочих и солдатских депутатов: увы, ведь он только и распоряжается вооруженной силой революции… Надо было спешить, чтобы утихомирить и ввести в русло порядка стихию народных чувств.
— Керенского… Обязательно Керенского не забудьте, Павел Николаевич, — напоминали Милюкову разные люди о человеке, которого беспрерывно качали теперь на всех митингах. — Очень подходящий громоотвод.
Но седовласому упрямцу хотелось видеть рядом с собой в правительстве партийного единомышленника, московского адвоката Василия Маклакова, и только гул столичных улиц и настойчивость пугливых думских друзей изменили намерения признанного думского вожака.
Маленькие красные уши его пылали, голова низко склонилась над столиком, на котором лежал потрепанный блокнот с вписанными в него и перечеркнутыми фамилиями.
— Ладно… юстиции. Предположим. Теперь финансов… вот видите, это трудно. Все остальные как-то выходят, а вот министр финансов…
— А Карабаев? — удивились милюковской забывчивости.
— Да нет, Карабаев попадает в другое министерство! Вот видите, у меня уже записано.
— А есть лучший? Кто же?
— Просто теряюсь, господа!
Может быть, невольно насплетничали Льву Павловичу об этом разговоре, может быть — не так все это происходило, но… похоже было на истину. И — уже по одному тому, что нежданно-негаданно в списке министров на его, карабаевском, месте очутился доселе неизвестный широким политическим кругам, совсем молодой богач-киевлянин Терещенко.
Лев Павлович ни разу даже не видел его в лицо! Брат Георгий, приезжавший на рождество, рассказывал, правда, об этом киевском миллионере (да и дочка Ириша упоминала как-то о нем) — очень мил, получил европейское образование, радикал и меломан, великолепно «лидирует» автомобиль. Но вот как он будет «лидировать» финансы огромной, потрясенной в войне России? Возьмет ли за него ответственность капризный упрямец Милюков, так несправедливо распорядившийся министерским местом своего старого доверчивого друга?
Лев Павлович считал, себя в душе обиженным, и это чувство время от времени напоминало о себе, как только всплывал в памяти знаменитый лидер партии.
Но чувство это было преходяще: другой Милюков — Милюков, провозившийся весь позавчерашний вечер с делегацией Совета рабочих депутатов, пожелавший проконтролировать первую декларацию нового правительства, — встал перед его глазами.
…Пришли трое.
Думцы полагали и надеялись, что представителями Совета придут знакомые всем парламентские «левые» во главе со стариком кавказцем Чхеидзе, может быть — все тот же приучивший к своей стремительности Керенский, с которым им было уже легко, — а появились вот совсем другие люди.
Из них троих Лев Павлович знал, и то больше понаслышке, присяжного поверенного Соколова, о котором говорили, что он и большевик и меньшевик, но в том и в другом случае человек малой ответственности. Двое других были совсем неизвестны Карабаеву.
Один из них был здоровенный, плечистый длиннорукий «дядя» с большой, окладистой черной бородой и румяными щеками коренного сибиряка-крестьянина, хотя достоверна сообщалось в кулуарах, что он журналист.
Другой — очень худой, впалогрудый, бритый, как актер, со злыми, узкими губами и желтовато-серыми глазами под костлявыми надбровными дугами.
— У дьявола мог бы служить такой секретарь! — шепотом сказал о нем Шульгин Льву Павловичу, и Карабаев не спорил.
За этих-то людей и взялся Милюков.
Он потребовал, чтобы Совет особым воззванием к солдатам воспретил насилия над офицерами. Трое — настаивали на выборном офицерстве, трое требовали отказа в правительственной декларации от монархии и назначения выборов в Учредительное собрание, а упрямый, вцепившийся в них думский вожак настаивал на сохранении конституционной монархии — с малолетним царем Алексеем и регентом Михаилом.
Это продолжалось долго, очень долго: несколько часов. Все остальные уже давно выбыли из строя. Они в изнеможении, с головной болью лежали, растерзанные, в креслах, в полутьме, потому что кто-то еще днем вывинтил несколько лампочек в родзянковском кабинете, и свет был неполный.
Трое и один… Они сидели за столиком у окна, писали поочередно и каждую строчку текста брали с боем — трое у одного и один у троих — как неприятельский окоп.
— Неужели вы надеетесь, Павел Николаевич, — спрашивал насмешливо узкогубый, бритый, — что Учредительное собрание оставит в России монархию? Ведь ваши старания все равно пойдут прахом!
— Учредительное собрание может решить, что ему угодно. Если оно выскажется против монархии, тогда я могу уйти. Сейчас же я не могу уйти. Сейчас, если меня не будет, то и правительства вообще не будет.
Правительство покорно, бессловесно лежало тут же в креслах.
Старик Чхеидзе, свесив голову в сторону своего соседа — франтоватого, угрюмого графа Капниста, безнадежно вздыхал и всхлипывал:
— Все пропало… совсем все пропало. Вот когда всякая партийность должна отойти в сторону. Если мы не сговоримся здесь, толпа сделает свое дело. Я вам говорю: все пропало!.. Вы не знаете, граф, как трудно ладить с рабочей толпой.
— Скажите же своим! — рассердило, прикрикнул Капнист на размякшего лидера меньшевиков.
Чхеидзе вдруг, в припадке неожиданной откровенности слезливо прошептал:
— А вы думаете, они сами не боятся толпы… народа?! Оттого ведь, оттого ведь… Скажите Милюкову, чтобы что-нибудь уступил!
Но вскоре обе споривших стороны уже не пришлось упрашивать. Надо было кончать дело «миром»: через час революция могла потребовать большего, чем ей готовили в испуганной и ненавидящей думской комнате «народные представители» — меньшевики, эсеры, кадеты и октябристы.
И, заключая мир между собой и договор против революции, обе стороны торопливо и услужливо поменялись ролями: представители меньшевистского Совета написали текст, провозглашавший власть Временного правительства, а Милюков без труда для себя составил декларацию меньшевистского Совета, с которой уступчиво согласились его лидеры.
— А если правительства не будет, — напоследок холодно угрожал Милюков, — то… вы сами понимаете…
— Он прав, — шепнул Лев Павлович соседу. — Разве можно без него?
…Эта же мысль мелькнула у Карабаева и в тот момент, когда автомобиль остановился у подъезда на Миллионной 12.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Отречение Михаила
Лев Павлович поднялся наверх. На площадке, у входа в квартиру князя Путятина, стоял караул Преображенского полка, составленный из младших офицеров. Один из них осведомился у Льва Павловича, как следует доложить о нем, и через минуту молодой, высокий и плотный блондин в форме земгусара, оказавшийся личным секретарем великого князя Михаила, ввел Карабаева в гостиную.
Здесь уже собрались и разместились почти все новые министры и члены думского комитета во главе с Родзянко. В центре большого полукруга сидел в старинном кресле красного дерева великий князь.
Лев Павлович никогда его раньше не видел, но по портретам сразу же признал в нем царева брата. Михаил был моложав, длиннолиц, редковолосая голова коротко острижена, на губе — узенькая полоска темно-русых усиков, ровненько подбритых снизу на английский манер.
Он с любопытством взглянул на нового человека — Льва Павловича, представленного ему сидевшим рядом Родзянко, жестом пригласил Карабаева занять место, и Лев Павлович занял его вблизи Керенского и какого-то незнакомого молодого человека — с розовыми бритыми щеками, безукоризненно одетого, с большими и красивыми, как у насторожившейся лошади, влажными карими глазами, весьма приветливо посмотревшими на вновь прибывшего.
«Неужели Терещенко? — подумал о нем Лев Павлович. — Действительно симпатичен как будто». Но, не желая обнаружить истинного впечатления от первой встречи со своим счастливым «конкурентом», с напускным безразличием и, пожалуй, со строгостью во взгляде сел с ним рядом, не обращая уже внимания на своего соседа.
Другой сосед, Керенский, порывисто наклонился к Льву Павловичу и шепотом, скороговоркой спросил его:
— Вы за или против?
— То есть? — озабоченно посмотрел на него Карабаев.
— Брать ему престол или нет? Об этом идет тут речь… За окнами этого дома нас ждет история!
За окнами струился морозный солнечный полдень, в природе была сладостная тишина делительного покоя, сдержанность и безмятежность — вот что было за окном, а этот порывистый, с желтыми, конвульсивно вздрагивающими щеками Керенский беспокойно ворочается в кресле и шипит в ухо Льву Павловичу о всяких страхах и ужасах, которые могут случиться вот сейчас, здесь, если революционная толпа, что где-то бродит за окнами, ворвется сюда и узнает, что в тиши путятинской гостиной всходит на престол новый Романов.
Керенский шепотом повторял Льву Павловичу свою речь, которую, оказывается, только что, до прихода Карабаева, произносил вслух.
— Вы, кажется, Михаил Владимирович, хотели сказать? — великий князь дружелюбно повернул голову к Родзянко.
— Господа… — не вставая со своего места, еле умещаясь в кресле, загудел Родзянко. — Сегодня я прорезал в автомобиле весь Петроград, я видел столицу. Она испакощена! Стотысячный гарнизон — на площадях. Солдаты с винтовками, но без офицеров шляются по улицам беспорядочными толпами. Это, господа, штыковая стихия — распоясавшаяся, безудержная… вот что натворил Совет рабочих! О том, что могут сделать сейчас опьяневшие от революции солдатские толпы, говорил здесь член Государственной думы Александр Федорович Керенский, — он же министр юстиции теперь… Ему, впрочем, и карты в руки… Если, ваше высочество, взойдете сейчас на пошатнувшийся престол ваших предков, — кто вам гарантирует прочность его? Вы процарствуете несколько часов… у нас нет — вооруженных сил вас защищать! Надо выждать некоторое время, господа… Выждать, я рекомендую. А там всяко может случиться. Может быть, из провинции придут верные Государственной думе войска… им нужен будет вождь, и они вспомнят, конечно, о вас, ваше высочество, мы приложим силы… Я рекомендую так. К тому же ваш отрекшийся брат меняет свои решения, как загнанных в мыло лошадей! Вот видите, как выходит…
Он сделал паузу, и все насторожились.
Родзянко продолжал:
— Сегодня на рассвете меня вызвал к прямому проводу из Пскова Рузский. Он сообщил мне, что ваш отрекшийся брат выехал ночью в Ставку и оставил новый текст отречения, повелев задержать тот, что вчера прибыл от Рузского по телеграфу. Дела твои, господи!.. Он, оказывается, решил отречься в пользу Алексея, но генерал Рузский спрятал это повеление в карман. И хорошо сделал, господа!
Родзянковская новость ошеломила всех: значит — Николай, еще на что-то надеется сейчас, и не только отцовские чувства заставили его вчера отрекаться в пользу Михаила?.. Это одна опасность. А другая заключалась в том, о чем уже говорили все: опьяненный революцией Петроград, его рабочие и солдаты могли теперь растерзать всех, пытавшихся найти конституционное разрешение вопроса о русском троне.
На несколько минут совещание потеряло свою чинную, строгую форму, и в путятинской гостиной стало шумно от беспорядочно столкнувшихся голосов.
— С ума можно сойти, господа!
— Скажите… есть ли какие-нибудь части, на которые можно доложиться?
— Да что вы!
— Гвардейский экипаж, кексгольмцы, преображенцы?..
— Важно противопоставить сброду организованные войска!
— Сегодня должен вернуться Гучков, — он сумеет…
— Да его, между нами говоря, терпеть не могут в армии.
— Да что вы говорите? Зачем же его военным министром?..
— С ума можно сойти, господа! Надо, чтобы Павел Николаевич…
Но Павел Николаевич Милюков уже встал с дивана, на котором все время, сжавшись, как дремлющий путник в вагоне, сидел молча и, бесцеремонно расталкивая растерянных министров, приблизился к застывшему в кресле Михаилу.
— Вы, кажется, хотели сказать? — все той же фразой пригласил его высказаться великий князь, и все сразу затихли.
Милюков попал в струившуюся сквозь оконное стекло золотисто-пыльную полосу солнца, — она чуть-чуть подрумянила его поблекшее за эти дни, сизое, похудевшее лицо, на котором даже знаменитые, всегда безупречно холеные усы потеряли свою образцовую форму.
Он заговорил, и все с удивлением услышали чужой — осевший, прерывистый, сиплый — голос каркающего человека:
— Если вы откажетесь, ваше высочество, будет гибель… Потому что Россия… Россия теряет… свою ось!.. Монарх — это ось… единственная ось страны… Русская масса… вокруг чего… вокруг чего она соберется?.. Я провозгласил вас… вчера провозгласил в Екатерининском зале… русским конституционным государем. То есть не вас… цесаревича, а вас — регентом… Но теперь… теперь вы монарх… Если вы откажетесь… хаос… кровавое месиво… да! Монарх — единственное, что все знают… единственное общее в народе… единственное понятие о власти… Без этого… не будет государства российского… России не будет… ничего не будет…
Он говорил долго, он угрожал уходом из правительства, если его не послушают.
В дверях, не желая прерывать его речь, стояли только что прибывшие из Пскова Шульгин и Гучков. Их заметили все, их так ждали здесь, но никто не смел отвлечься хоть на минуту от того, кто держал всех их в повиновении все эти дни. Не смели чем-либо обидеть: боялись остаться без него.
Милюков откаркал свою речь, и все были довольны, что не случилось никакой продолжительной паузы, что не потребовалось встретиться с ним взглядом, в котором он прочел бы ответ себе: ответ сомнения, — потому что отделился от дверей бледный, со вздрагивающими ноздрями Шульгин и, низко, «по-боярски», поклонившись великому князю, привставшему к нему навстречу, стремительно и горячо заговорил:
— Я все слышал, ваше высочество… я скажу теперь!.. Мы с Александром Ивановичем — свидетели последнего трагического поступка государя. Мы монархисты, которым было поручено спасать монархию. Мы привезли ее вам, ваше высочество, и вы можете ею распорядиться. Но, верьте, я расскажу вам все потом… верьте мне, ваше высочество: да хранит вас бог согласиться на престол! Знайте, принять сейчас престол — это значит: на коня! на площадь! Всем должно быть понятно, о чем я говорю. Почти сто лет назад был Николай и его брат Михаил… как сейчас. Бунт декабристов… Что сделал Николай? Николай сказал: я или мертв, или император! Он вскочил на коня, бросился на площадь и раздавил бунтовщиков… Что сделал Михаил? Он последовал за старшим братом. Увы, теперь вы тоже должны последовать за старшим братом! У нас нет картечи, у нас нет войск, и у нас не декабристы теперь, а февралисты… миллионы черни, которая разнесет в щепы какой угодно трон!
Он умолк на секунды, ища глазами стакан с водой: губы его пересохли от волнения и быстрой речи.
— Где акт об отречении его величества? — спросил его брат царя.
Всем не терпелось поскорей увидеть подлинник документа, начинавшего новую историю государства!
— Молю бога, чтобы он нашелся… — переглянувшись со своим мрачно смотревшим псковским спутником, тихо сказал Шульгин. — У нас его нет. Но был все время.
И когда все взволнованно вскочили со своих мест вслед за великим князем, Шульгин торопливо выкрикнул:
— Успокойтесь, ваше высочество! Два часа назад я сам оглашал манифест толпе. Здесь, в Петрограде.
Да, это было так.
Они утром сегодня приехали в Петроград, и на Варшавском вокзале их ждала несметная толпа людей, бог весть откуда узнавшая о их возвращении из Пскова. Им что-то говорили, кричали, пытались тут же качать, куда-то тащили.
От Гучкова потребовали речи и увели в депо, где собрались тысячи две рабочих-железнодорожников. Он взошел на помост, как на эшафот.
После его речи об отречении, о новом государе и новом правительстве к толпе обратился председатель митинга, потом — другой рабочий, за ним — еще один.
О чем они говорили? Вот, к примеру:
«Они образовали правительство. Кто же такие в этом правительстве? Вы думаете, товарищи, от народа кто-нибудь? Так сказать, от того народа, который свободу себе добывал? Как бы не так! Князь Львов… князь! Опять князья пошли в ход!»
«Дальше, например. Кто у нас будет министром финансов? Может, думаете, кто-нибудь из тех, кто на своей шкуре испытал, как бедному народу живется? Теперь министром финансов будет у нас господин Терещенко. Слыхали про него? Думаете, наш человек? Как бы не так! Сахарных заводов штук десять, землисто тысяч десятин да деньжонками — миллионов тридцать!»
«…Вот они поехали, — говорил другой. — Кто их знает, что они привезли от Николая Кровавого? Наверно, ничего подходящего для революционной демократии… Посоветовать бы так, товарищи: двери закрыть, господина Гучкова не выпускать отсюда, документик бы… того, на проверочку!»
Но с «документиком» в это время произошла следующая история.
На площади перед вокзалом Шульгин прочитал манифест требовательной толпе, не уместившейся в депо. Одни кричали «ура», другие старались перекричать их и голосили злобно и угрожающе: «Долой Романовых, да здравствует республика!» Все настойчивей и настойчивей раздавались требования задержать здесь обоих думских посланцев к царю и отправить их в Совет рабочих депутатов…
Было очевидно, что царскому манифесту угрожает опасность.
Вокруг — ни одного знакомого лица, от которого можно было бы ждать участия и помощи. А толпа наседала и становилась все более требовательной. Надо было решиться на что-нибудь, — и Шульгин решился.
Вблизи себя он увидел какого-то внимательно смотревшего на него человека в шубе и фуражке путейского инженера. Его взгляд показался дружелюбным и честным. Будь что будет!.. Шульгин вынул из кармана конверт с актом отречения и, приблизившись к неизвестному инженеру, быстро и незаметно для других сунул ему в руки документ, успев шепнуть: «Доставьте немедленно кому-нибудь из новых министров!..»
И вот: где манифест — он не знает.
— Я знаю! — воскликнул, к удивлению всех, Лев Павлович. — Мне кажется, что я знаю… мне кажется, — испугавшись возможной ошибки, захотел он быть осторожней.
— Фантасмагория! — подскочил к нему Керенский. — Откуда? Почему?
— Господин министр, вы нас посвятите в эту тайну? — подошел к нему бледный, с понурым лицом великий князь, и от непривычки Карабаев не сразу сообразил, что «господин министр» — это относилось к нему.
— Это не тайна, ваше высочество, а случайное совпадение обстоятельств.
И он рассказал о своем сегодняшнем разговоре по телефону с каким-то инженером, настойчиво и взволнованно требовавшим встречи.
— Дай-то бог, чтобы это был он! — с надеждой вздохнули со всех сторон.
— Дай-то бог! — повторил великий князь. — Вы, кажется, хотели сказать? — обратился он с традиционной сегодня фразой к Гучкову.
— Если вам нужен мой совет, ваше высочество, то он уже вам дан здесь Павлом Николаевичем, — кратко ответил военный министр.
Когда, спустя полчаса, великий князь объявил, что он от престола в данный момент отказывается, все вдруг смутились, воцарилась минута неловкости.
— Ваше императорское высочество! — вдруг рванулся к одночасному монарху Керенский, молитвенно сцепив дрожавшие руки. — Я принадлежу к партии, которая запрещает мне соприкосновение с лицами императорской крови. Но я хочу вам сказать, как русский человек — русскому. Я хочу вам сказать… всем сказать, что я глубоко уважаю великого князя Михаила Александровича!.. Верьте, ваше императорское высочество, что мы донесем драгоценный сосуд высшей власти до Учредительного собрания, не расплескав из него ни одной капли! Позвольте пожать вашу руку… позвольте мне! Ваше высочество, вы благородный человек!
Он схватил великого князя за руку, пожал ее и, прикладывая платок к глазам, выбежал куда-то в прихожую. Великий князь повернулся к Родзянко, обнял и поцеловал его.
Во время завтрака, предложенного хозяйкой дома, княгиней Путятиной, появились двое новых людей, вызванных сюда Милюковым: это были известные кадеты-юристы Набоков и Нольде. Им поручили составить и отредактировать зекст отречения Михаила.
Это состоялось почему-то в детской комнате. Валялись игрушки — гуттаперчевые негры и индейцы, паровозики и пушистые зверьки, в углу, под широкой иконой, был выстроен эскадрон оловянных солдатиков-улан, карта Европы висела на стене, стояли две новенькие дубовые парты. За них-то и сели оба знаменитых государствоведа, согнувшись в неудобной позе престарелых школьников.
Уговорились, что их никто не будет отвлекать, но время от времени дверь в детскую приоткрывалась и кто-нибудь в ней появлялся, с нетерпением, сочувствием и любопытством поглядывая на обоих государствоведов.
Так пробрался сюда в какой-то момент и Лев Павлович. Он увидел хмурых, заметно нервничавших авторов еще не родившегося манифеста и поминутно забегавшего сюда Керенского. Он сидел лицом к партам на большом игрушечном коне и настойчиво напоминал государствоведам:
— Не забудьте вставить про Учредительное собрание. Не забудьте же, господа! Ну, миленькие, ну, серебряные мои, ну, голубчики… не сердитесь на меня, ей-богу! Ведь я вам говорю: нужно же посчитаться, господа, с революционной демократией!
Согнутые ноги его упирались в пол, но он подскакивал на седле из папье-маше, и казалось, что он и впрямь куда-то движется на чужой детской лошадке.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Сергей Ваулин, Андрей Громов и их товарищи
В воскресное утро 26 февраля снизу, по трубе, служившей тюремным телеграфом, постучал арестованный по общему делу наборщик Яша Бендер:
— Мой сосед ходил вчера в суд, а вернулся только сейчас.
— Почему? — изумившись, ответил стуком Ваулин.
— В городе забастовка. Улицы полны народа, конвойные боялись вести его вечером. Струсили чего-то.
— Такая забастовка… вот что! — уж воскликнул Сергей Леонидович. — Слыхали, Токарев?
Сосед по камере подскочил к трубе.
— Ну… Ну… — шептал он, словно ожидая от нее еще каких-либо сообщений.
Но труба молчала, труба соблюдала осторожность в этот утренний час обхода коридорных надзирателей, и он, уже невольно следуя тому же чувству опасливости, на цыпочках дошел до двери, прислушался и так же тихо вернулся к Ваулину:
— А больше ничего, Сергей Леонидович?
— Пока — ничего.
— Жаль! Постучите ему, — а?
Ваулин спустя некоторое время постучал, но ничего нового ему не сказали снизу. Впрочем, необычным было то, что бендеровского соседа сегодня не повели почему-то в суд, хотя процесс, в котором он участвовал, шел к концу: сегодня ожидалась прокурорская речь.
— Почему это? Почему? — добивался пояснений заметно оживившийся за этот час Токарев, но так и не мог получить ответа от Сергея Леонидовича.
Ваулин был арестован в памятную декабрьскую ночь, верней — на рассвете в альтшуллеровской типографии; судьба свела его в одной и той же камере «предварилки» с Токаревым.
Несколько дней назад Токарева в неурочный час вызвали на допрос, — он возвратился в камеру бледней обычного, с вогнутыми плечами, вобравшими в себя опущенную голову. Свисающая кисть его дрожавшей руки болталась, как у играющего балалаечника.
— Что с вами, товарищ Токарев? — спросил тогда не без тревоги Сергей Леонидович.
— Впутали! — прислонился тот к стене. — Солдата Митрича вспоминаете, нет? Взяли его по убийству вот того самого косоглазого шпика, что вас сторожил. Ну, Митрич и показал. На себя и на меня. Теперь судить будут военным, факт… Через повешение, конечно. По совокупности… большевика и «убийцу»… — криво усмехнулся юн упрямым ртом. — Через повешение… И, думаю, без замедления… чтобы не тратить казенные харчи. Митрич… черт дубовый, впутал!
Они оба знали уже друг о друге все. Обитатели одной камеры, они по жесту, по взгляду, по самому краткому движению или невзначай сказанному слову догадывались о мыслях и желаниях друг друга. И Ваулин понял тогда: большевику-солдату не избежать смертной казни. Надо помочь товарищу…
Они оба долго и подробно обсуждали, как держать себя Токареву на следующем допросе. Сергей Леонидович сочинил для него стройную систему «прилаженных» друг к другу ответов следователю и на будущей очной ставке с Митричем. Но токарёвский следователь не подавал о себе вестей, на очную ставку не звали, и Токарев решил, что участь его и так уже предрешена, без всяких лишних допросов, и каждым утром ждал прихода тюремных солдат — военного суда.
Десять дней назад Сергея Леонидовича вывели из камеры и в черной карете, повезли на Фонтанку, к генерал-майору Глобусову. Долгоухий и узколицый человек в штатском, оглядывая Ваулина в канцелярии, двигал носом, как принюхивающееся животное.
— Ваулин. Сергей Леонидович. По сто второй. По сто двадцать девятой, — говорил он короткими фразами, неизвестно для чего перечисляя в данный момент статьи уложения о наказаниях. У него был глухой голос человека, у которого в носу полипы. — Прошу, — указал он на высокую дубовую дверь и открыл ее, пропуская вперед Сергея Леонидовича, а сам не входя в кабинет начальника охранки.
— Прошу садиться. — Глобусов протянул руку к одному из двух кожаных кресел, стоявших у письменного стола. — Заочно я вас давно знаю, Сергей Леонидович Ваулин, — сказал он после откровенного минутного разглядывания его. — Фотографии ваши видел, о вашем семейном и партийном положении я в курсе, о ваших противоправительственных делах наслышан.
Он усмехнулся, произнося это последнее слово. Безмолвно усмехнулся и Сергей Леонидович.
Генерал продолжал:
— Однако всего этого, оказывается, мало, господин Ваулин. Вот сам увидишь человека в натуре — и только тогда поймешь его. Не правда ли, Ваулин? Молчите?.. Ну, да вы еще не ориентировались. Не знаете еще, что за птица ваш собеседник, то есть — я.
— Нет, почему же? Я в пернатых разбираюсь, — прищурившись, посмотрел на генерала Ваулин.
— Сам не курю. Поэтому лишен возможности предложить вам папиросу, — развел руками Александр Филиппович. Реплику о «пернатых» он пропустил мимо. — Папироса — это служанка обычно следователей, но я ведь не следователь. Я не буду, Сергей Леонидович, ничего ни выяснять, ни сопоставлять, ни добывать лишних улик. Это не мое дело. Да оно меня и не интересует! Больше того: я даже не убежден в том, будете ли вы преданы суду. По сто второй там или по сто двадцать девятой статье уложения о наказаниях. Не мне вам говорить, что они сулят в наше военное время.
— Вот уж и пугаете. Занятие зряшнее, генерал! — как можно спокойней отозвался Сергей Леонидович.
— Нисколько не пугаю. Нисколько, — сложил руки на животе и медленно зашевелил пальцами Глобусов. — Зрите во мне, прощу вас, не столько начальника всем вам ненавистной охранки, как принято величать наше ведомство, сколько — политического собеседника. Который, конечно, находится в гораздо, гораздо лучшем положении, чем вы. Не отрицаю этого!.. Ведь я почему упомянул о суде? Да для того, чтобы исключить из перспективы возможность самого дикого в вашей участи. Увы, по нынешним военным временам окружной суд или судебная палата только и знают: «через повешение!» Нет, нет, с такими прямолинейными слугами государства действительно опасно иметь дело. Чему вы усмехаетесь?.. Мы с вами существуем в мире взаимосвязанно, Ваулин. В мире существуют два полюса, один невозможен. Так и мы. Это вполне диалектично… как пишется в вашем социалистическом евангелии. Скажу вам вполне откровенно: мы вот, сидящие здесь, отнюдь не заинтересованы в этой страшной, жестокой формуле: «через повешение!» Но оставим этот ненужный разговор. Тьфу, тьфу, сухо дерево, завтра пятница, как говорится в народе. Я ведь хочу совсем о другом, Сергей Леонидович. Послушайте меня.
— Как видите — я слушаю, — изучал своего противника Ваулин.
— В вашей среде, — сказал неожиданно Глобусов, — есть предатели. Вам это, конечно, известно.
— Да, известно. Но, к сожалению, меньше, чем вам.
— Вы хотите знать их имена?
— Странный вопрос с вашей стороны.
— Я ведь, Сергей Леонидович, не зря спрашиваю.
Начальник охранки встал из-за стола и занял место в кресле напротив Ваулина:
— Не зря, поверьте мне. Ну, выступай открыто против, с открытым, так сказать, забралом — как вы вот, например. Что ж, ничего не возразишь: ведь идейные к тому побуждения. А вот другой тип людей. Из вашей же среды. Скажу я вам вполне откровенно: растленные души, приходящие сюда за царским сребреником, мне противны, я дворянин… Нет, я не хочу покупать помощь за деньги. Отношения должны быть построены на совершенно других принципах, господин Ваулин. — В Англии, в Соединенных Штатах, например, лидеры тред-юнионов, лидеры рабочих ассоциаций находятся, я знаю, в милейших отношениях… ну, совершенно милейших со своими соотечественниками правительственных учреждений. Почему России не перенять эту манеру западного мира? Говорим, говорим о прогрессивном капитализме, а он у нас все еще провинциален в России. А? И революционеры у нас тоже теперь поизмельчали. Словометатели, да и только, — все эти думские народники и меньшевики из компании господ кавказских депутатов Чхеидзе и Скобелева… России нужен практический союз сильных личностей! — хлопнул вдруг по плечу, Ваулина генерал-майор Глобусов. — Вне классов, вне узких интересов тех или иных сословий. Вы как считаете, Сергей Леонидович?
— Вы много петлите, генерал, — отозвался насмешливо Ваулин. — И совсем это напрасно. Ох, как я понимаю, к чему клоните! Но по-пустому все это. Вы говорить, я вижу, мастер. Ну, а я слушать — тоже не глухой! Знайте: не заагентурите. Никакими способами не заагентурите! Ни русскими, ни английскими, ни американскими. Напрасный труд, ваше превосходительство!
И, сам, не понимая, почему поступил именно так, Сергей Леонидович поднес к лицу напомаженного генерала фигу.
Никак не реагируя на нее, «собеседник» тише обычного сказал:
— У вас ребенок, Ваулин. Мать, невеста…
— Ну, а это к чему приплели? Предполагаете, что я хоть на минуту забыл о них?
— Вы их никогда, никогда уже не увидите, Ваулин.
И прежде чем тот захотел бы что-либо ответить, генерал-майор Глобусов, стараясь быть максимально искренним, взволнованно выкрикнул:
— Поймите же вы… интеллигентный человек! Ведь все-таки не могу же я вас уравнять с каким-нибудь… прохвостом Андреем Громовым, в которого вы все так верите, а в то же время…
Но, словно наговорил лишнего, он вдруг осекся, замолчал, недовольно нахмурив брови.
— Ну?.. — невольно вздрогнул Сергей Леонидович.
Глобусов сделал жест, означавший: «А, уж все равно!»
— А почему собственно? Кто он такой, этот «товарищ» Громов, чтобы вам так уверовать в него? Уж думаете, если потомственный пролетарий, так уж и все?
— Он что: арестован или не арестован? — думая о своем, задал вопрос Сергей Леонидович.
— A-а, это вы, Ваулин, правильно сообразили: уж конечно, если бы я арестовал своего агента, то не стал бы раскрывать его вам.
— А может быть, господин генерал, просто… очернить хотите вредного для вас человека? — холодно улыбнулся Ваулин. — Умышленно набросить тень?
Глобусов посмеивался.
— Может быть. Все может быть, — неожиданно согласился он, немного удивив тем Сергея Леонидовича.
— Это ведь тоже тактика, генерал! Замутить, посеять недоверие.
— Тактика, господин Ваулин, что и говорить.
— Ну, и оставайтесь при ней! — вспылил вдруг Сергей Леонидович.
— А вы — при убеждении, что так просто разгадали эту тактику. Ах, какой, мол, простофиля этот Глобусов. Так вам спокойней будет. Умирать… — добавил генерал-майор, заглядывая в светлые, напряженно глядевшие глаза Ваулина. — Недельки через три это и приключится с вами, Сергей Леонидович. По приговору военнополевого, да-с.
Сергея Леонидовича так и подмывало дать ему оплеуху, но он укротил себя и спокойно сказал:
— Вот опять ведь пугаете, господин генерал-охранник? Ай-ай-ай, плохо, значит, ваше дело. Кто пугает — тот сам боится. Только… разве можно испугать русский рабочий класс — нас, большевиков?.. А ведь лжете вы, лжете нагло насчет Громова! — вырвалось вдруг. — Он на свободе… теперь я знаю!..
Он встал с кресла.
— Зовите конвоиров, мне уж пора домой… в предварилку. Выслушайте, что вам я скажу. Россия уже держит в руках красное знамя революции! Понятно вам? Не флажок уж теперь, а большое, отовсюду видное знамя! А впрочем, о чем же мне с вами разговаривать? Ей-ей, не о чем! — махнул рукой Ваулин и отошел к окну, покуда генерал-майор Глобусов вызывал звонком своего долгоухого секретаря.
Этот разговор происходил всего лишь десять дней назад, и, сказать по совести, Сергей Леонидович мог ждать тогда плохого конца и для самого себя и для своих товарищей по организации. Но жизнь за стенами тюрьмы шла стремительней, чем здесь о ней думалось.
Известие о забастовке в городе, о том, что конвоиры вчера почему-то струсили, хмурый и рассеянный вид надзирателей, редко подходивших сегодня к «глазку», — все это служило новой, волнующей темой разговора до самого вечера, а ночью обоих заключенных одолела бессонница, от которой трудно уже было избавиться.
Раннее темное утро 27-го числа встретили с воспаленными, красными глазами. Жесткие, колючие брови Токарева, казалось, еще больше выросли: так осунулось и похудело за эту ночь его небритое лицо.
— Бастуют… это хорошо. Когда началось это только и как пойдет? — возобновил Ваулин вчерашний разговор. — Я всю ночь думал о том… понимаете?
— Солдат бы втянуть в это дело… я тоже всю ночь соображал про то, — отвечал Токарев, делая по камере привычных десять шагов. — Планы строил: как и что.
— Я тоже, — сознался Сергей Леонидович. — В уме листовок двадцать написал! — улыбнулся он. — Размечтался, понимаете.
— Постучать бы в первый, — а? — сказал Токарев. — Попробовать?
Но по трубе из первого этажа сообщили мало утешительного: только что бендеровского соседа увели в суд, — надежды на беспорядки в городе, надежды, которыми жили весь вчерашний день, не оправдались.
Потекли медлительно тюремные часы. Щелканье открываемых дверных форточек по всему коридору, — принесли, наконец, обед. Хлеба нищенски мало.
Прошел еще час. И вдруг…
Вдруг с улицы, как будто прободав толстые тюремные стены вдавливаясь в окна, донесся неясный гул и крики.
— Что это? Откуда?
Оба — Ваулин и Токарев — бросились к окну.
— А ну, давайте!
Пригнувшись, солдат подставил свою спину и плечи, Ваулин вскочил на них, дотянулся рукой до высоко вырезанной в окне форточки, открыл ее, и в камеру ворвался хаос шумных, беспорядочных звуков: гул людских голосов, короткое, одинокое потрескивание револьверных и винтовочных выстрелов, ржание лошади, топот бегущей толпы.
И, вырываясь из всего этого хаоса, взлетая, как ракета, несся в камеру горячий, не остывавший в пути крик:
— Уррра!.. Да здравствует свобода!.. Уррра!..
— Что это?.. Неужто… неужто… неужто в самом деле, наконец?! А может, провокация, обман? Слезайте… давайте я!
Теперь встал подпоркой Сергей Леонидович, а Токарев вскочил ему на плечи и ухватился за решетку.
Скороговоркой, но только на несколько секунд, застрекотал где-то на улице в отдалении пулемет. Но шум ревущей толпы был все ближе и ближе.
— Сволочи!.. Демонстрацию расстреливают…
— Ведь в городе забастовка, Токарев! Слезайте, слезайте… теперь я, Токарев!
Они несколько раз поочередно вскакивали друг другу на плечи, подставляя разгоряченные головы холодному, свежему ветру, хлынувшему в камеру.
Шум, крики «ура», перебиваемые беспорядочными одинокими выстрелами, все плотней и плотней наседали на тюрьму.
— Слышите, Токарев?
— Как не слышать?!
— Рабочие пришли в исступление… штурмуют нас… бьют тюрьму!
— А пулемет?
— Он замолчал.
— А вот опять!.. Эх!.. Провокация… подпустили нарочно к тюрьме… сейчас начнется расстрел… У-у, сволочи!
И вдруг в этот момент началось выстукивание, — оба подбежали к углу камеры, где, протыкая пол и переходя в нижние этажи, спускалась узкая серая труба.
— Товарищи… — быстро, лихорадочно стучали снизу. — Ломай двери… ломай немедленно! Идут освобождать! Ломай!..
И, заглушая тюремный «телеграф», с улицы ворвался винтовочный залп, и оба заключенных невольно, инстинктивно пригнули головы.
— Ага, я что говорил?! Расстрел… девятое января, подлецы! — выкрикнул Токарев.
И, стиснув зубы, содрогаясь от того словно, что видит уже, как убивают толпу беззащитного народа, он на минуту перестал осознавать свои поступки. Он схватил жестяную кружку и стал с остервенением бить ею в дверь. Он бил дверь кружкой, кулаками, ногами: он хотел заглушить выстрелы, ударявшие с улицы.
— Спокойствие!.. Я что говорю?! Спокойствие! — прикрикнул на него Ваулин, оттаскивая от двери.
Но ему самому казалось теперь, что все вокруг шатается.
Схлынул куда-то вбок рев улицы, осеклись выстрелы, и, словно все это привиделось в тяжелом недолгом сне, наступила неожиданная тишина. Как будто кто-то поднял с земли тюремное здание, перевернул его и опустил крышей вниз, в глубокую пропасть.
Что это? Оба растерянно застыли на одном месте, вперив друг в друга глаза.
Но вот где-то в конце коридора слабо раздался звук отпираемых дверей. Еще минута — и он повторился несколько раз.
— Ага, начинается…
— Спокойствие! Что начинается, товарищ Токарев?
— Волокут в карцер тех, кто бил двери. Не пойду. Пусть берут силой, пусть тут же бьют. Лишь бы на вас не подумали, — озабоченно-просто сказал Николай Токарев и пожал ваулинский локоть.
Он подошел к койке, сорвал простыню, обмотал ею грудь, сверху натянул фуфайку, — он спокойно и деловито делал все это, чтобы предохранить, по возможности, себя от опасности перелома ребер, когда, схватив и подняв вверх его руки, тюремные надзиратели будут бить его «под микитки». Он приготовился, он ждет и даже как-то застенчиво улыбается, поднося огонек спички к недокуренной раньше махорочной цыгарке.
И оба ждут. Неторопливой каплей падают минуты.
Но… что за странность? В коридоре не слышно ни криков избиваемых, ни так хорошо знакомых звуков и движений сопротивления, и только щелкает спокойно замок за замком. Вот — рядом, по соседству. Вот повернули ключ в их собственной двери, и тот, кто отпер ее, молчаливо пошел дальше.
Они переглянулись и на цыпочках подошли к двери, толкнули ее и переступили порог, ожидая уже чего угодно, веря во все и ни во что в то же время.
Первое, что бросилось в глаза, — взволнованные, недоуменные лица соседей-заключенных, высунувших головы из полуоткрытых дверей своих камер. Никто ничего не понимал.
Толпой все они завернули за угол и на переломе коридора столкнулись с бежавшим навстречу младшим надзирателем, причудливо размахивавшим руками.
— В чем дело? — остановил его, схватив за грудь, Ваулин.
— Не знаю, господа арестованные… Я же ничего, ей-богу, не знаю. Революция! Отобрали оружие…
Испуганное безволосое курносое лицо с мясистыми, трясущимися щеками — и болтающийся красный конец оборванного револьверного шнура!
— Урра! — рванулась вниз по лестнице толпа четвертого этажа, сбив с ног жалобно охнувшего надзирателя.
В третьем этаже увидели солдат и вооруженных винтовками рабочих, — теперь все было понятно!
— Урра, товарищи! Да здравствует свобода!
Чем ниже этаж, тем больше в коридорах рабочих и женщин с винтовками. Солдаты терялись среди них.
В тюремной конторе — погром: пол устлан толстым слоем разорванных бумаг, в углу горит костер из папок с «делами».
Цейхгауз разбит, — арестанты разбирают какую попало одежду, обувь, шапки. Ваулин и Токарев последовали примеру остальных.
Веселые, шумные выкрики, смех, «ура», радостные опознавания друг друга.
И почти все — в один голос:
— Оружие… оружие давайте нам!
Сергей Леонидович увидел, как Токарев, одетый в чей-то полушубок, в серых коротких брюках и в синей шляпе с широкими полями, отбирал у какой-то молоденькой работницы винтовку и, чтобы задобрить девушку, весело, «по-пасхальному», трижды целовал ее, приговаривая:
— Вот это — твое дело, а стрелять я буду!
Он исчез куда-то, но через две минуты прибежал, в цейхгауз и протянул Сергею Леонидовичу, заканчивавшему переодевание, наган с длинным шнуром и большой открытый перочинный нож со сломанным кончиком.
— Берите… пригодится! И айда — пошли!
Наган Сергей Леонидович засунул в боковой карман пальто, а перочинный нож швырнул, хохоча, на пол.
…Тюремный двор — с широко открытыми воротами на улицу. Она запружена народом, и в толпе никуда не пробиться.
Освобожденных узнают по землистой коже щек, по обросшим лицам, по ищущим чего-то глазам, по тому, как эти люди торопятся и бегут отсюда.
— Да здравствует революция!
— Да здравствуют товарищи политические!
Толпа подхватывала и качала выходивших из тюрьмы, и, прежде чем добраться до Литейного, Сергею Леонидовичу пришлось раза три взлетать вверх на руках неистовых освободителей.
Токарева, высоко державшего над головой винтовку со штыком, благоразумно не трогали, но он, надрываясь каждый раз, кричал до хрипа:
— Да здравствуют социал-демократы! Да здравствуют революционеры-большевики!
Ему жаль было расстаться со «своей» синей широкополой шляпой, — она мала была для его головы и неоднократно слетала наземь, и он каждый раз в пути останавливался, к огорчению Ваулина, ища ее под ногами толпы.
Наконец, они выбрались к Литейному проспекту.
И здесь на углу произошла первая встреча со знакомым человеком «с воли»: выбежавший из-за угла коротенький, с всегдашним портфелем подмышкой Фома Асикритов налетел прямо на Ваулина.
Секунда — глаза их встретились, и юркий, подвижной журналист, не подавая руки, обхватил Сергея Леонидовича за талию и с криком: «Ура, братцы!» — закружил его на одном месте.
— Ко мне, ко мне! — кричал он, не отпуская жертву своей радости, и Сергею Леонидовичу казалось, что орет на весь проспект: до того привык он к глухой тюремной тишине…
— Спокойней, голубчик… — останавливал он Фому Матвеевича.
— Да чего там спокойней?! Долой спокойствие, да здравствует шум революции! — не унимался тот. — Ко мне, ко мне! Возьмите ключ от моей комнаты… идите, вымойтесь, отдохните. А я не могу, мне не до того. Я очевидец… я всего очевидец должен быть!.. Что же на вас напялено? Господи, один сапог желтый, земгусарский, а другой черный! Хо-хо-хо! Вот что значит революция!.. Иришу видели? А?.. Ах, молодцы рабочие… ах, молодцы! — перескакивал он с одного на другое. — Теперь, батенька, пошло… ух, как пошло! Военные на нашей стороне… военные, солдаты. Может, и не все сейчас, но, ей-богу, будут все!.. Нате, нате ключ, идите ко мне…
Он что-то сунул в руку Ваулину и вприпрыжку побежал за угол, на Шпалерную.
Сергей Леонидович посмотрел на ключ: он был маленький, легкий, с двойной бородкой… от письменного стола, очевидно! Дверной ключ Асикритов по рассеянности унес с собой.
— Малахольный какой-то! — пожимал плечами Токарев.
На минуту они задержались: прямо на них по Самборскому переулку шел отряд солдат с двумя молодыми офицерами впереди.
У солдат на штыках красные флажки, офицеры и их лошади тоже украшены красным.
— Вот она… революция! — заблестели токаревские глаза, ставшие вдруг влажными. — Вооруженные рабочие… солдаты с красными флагами… вот когда жить хочется!
На Литейном мосту повстречался новый большой отряд: много пулеметов, и опять багровые розетки на шинелях солдат и офицеров.
— Можно пройти в Лесной?
— У Финляндского не пройдете: там войска правительства, — предупреждали солдаты. — Идите в обход, по набережной.
— Айда обратно! Выбить правительственных! — горячился Токарев и махал шляпой и винтовкой.
— Сами выбьются! — улыбался голубоглазый румяный поручик с длинными, как у мула, ушами.
— А вы куда?
— Мы — присягать. В Государственную думу.
— Нашли место! — буркнул досадливо Токарев и, догнав ушедшего вперед Сергея Леонидовича, свернул вместе с ним на набережную.
Здесь — опять встреча: с чемоданчиками в руках меньшевики из Военно-промышленного комитета — Бройде и Гвоздев.
— Куда?
— В Государственную думу.
— Ну, а мы в рабочие кварталы! — бросил весело на ходу Ваулин и жестом показал на токаревскую винтовку.
Еще в прошлом месяце, удовлетворенный своими действиями, представленный к особой царской награде, генерал-майор Глобусов докладывал своему незадачливому шефу, министру Протопопову, так:
«После ряда весьма чувствительных ударов, нанесенных социал-демократам большевикам ликвидациями 9, 10, 18 и 19 декабря, во время которых было отобрано у них 3 нелегальных типографии, 2 нелегальных паспортных бюро, шрифт, отпечатанный № 4 газеты «Пролетарский голос» и был арестован целый ряд крупных и активных партийных работников, — руководящий коллектив с.-д. большевиков все же остался цел и продолжал свою подпольную работу, имея твердое намерение показать правительственным властям свою живучесть и что меры розыскного органа для них мало чувствительны.
Кроме того, перед руководящим коллективом встала новая задача: выяснить, кто виновник всех провалов, и подготовить выступление пролетариата города Петербурга к 9 января.
Мною были получены агентурные сведения, что на Петроградской стороне, по Большому проспекту № 21, кв. 51, должно состояться собрание Петербургского Комитета, на котором и предполагалось обсудить все намеченные вопросы.
Установленным наружным наблюдением собрание было отмечено и часть его участников разведена по квартирам, но на этом собрании были сделаны только доклады с мест, и после этого участники собрания разбежались, заметив, что за квартирой наблюдают.
Так как мне необходимо было знать, каковы намерения Петербургского Комитета на ближайшее будущее, то допущено было еще одно собрание коллектива, происшедшее в одном из пригородов столицы.
На этом последнем собрании коллектив, заслушав доклады с мест и, избрав следственную комиссию для расследования источников провала, постановил: выпустить листовку с призывом к однодневной стачке на 9 января, устроить демонстрации на улицах, доводя их в отдельных случаях даже до столкновений с чинами полиции, и вообще своими действиями доказать, что минувшие ликвидации не сломили их сил.
Наконец, было объявлено, что последние указания к 9 января будут переданы от 7 до 9 часов вечера на новой явке, по Суворовскому, 31, кв. 6, где следовало спросить «Федора» (пароль).
Ввиду того, что окончательные решения должны были от Петербургского Комитета последовать именно тогда, мною было признано необходимым произвести ликвидацию Петербургского Комитета, для каковой цели за час до явки на Суворовский был отправлен полицейский наряд и чины вверенного мне отделения, кои, накинув поверх форменного платья статские пальто, незаметно дошли до указанной квартиры и, войдя в таковую и арестовав всех находившихся в ней, устроили там засаду в ожидании прихода всех членов Петербургского Комитета и представителей его исполнительной комиссии.
Намеченный мною план и все предположения оказались абсолютно точными, и скоро в квартиру начали приходить члены Петербургского Комитета, которые, ничего не подозревая и не зная хозяев квартиры, встречаемы были в дверях филером, спрашивавшим: «Кого надо?» Приходившие все отвечали, что они явились к «Федору», затем их впускали в квартиру, и тут они неожиданно попадали в руки чинов полиции, незамедлительно их обыскивавших и требовавших от пришедших объяснений, кто такой «Федор», на что ни один удовлетворительного ответа не дал.
Таким образом, Петербургский Комитет не только не успел сделать своих последних распоряжений по поводу 9 января, но и сам почти в полном составе оказался арестованным».
…Прошло после того полтора с лишним месяца, — и в строгоё, бесшумное здание охранного отделения ворвалась безудержная революционная улица, разбивая стекла, ломая двери и шкафы и бросая в огонь пудами «дела» столичной охранки.
В толпе были и те, кто, испугавшись этой победы, спешили уничтожить следы своего общения с ведомством генерал-майора Глобусова. Во всяком случае, когда толпа вторглась к нему в кабинет, откуда уже нельзя было бежать, среди арестовавших его он увидел притаившиеся в толпе два знакомых лица: и тот и другой человек еще совсем недавно приходили в этот кабинет! Один — известный в рабочей группе Военно-промышленного комитета меньшевик Абросимов, другой… Но вот — выскочила в тот момент из памяти настоящая зашифрованная кличка, хотя без каких-либо усилий памяти хорошо запомнились Александру Филипповичу и широкое курносенькое лицо его и звонкий, захлебывающийся от торопливости голос, каким говорил он во время последней встречи.
Генерал-майору Глобусову показалось почему-то знакомым лицо и третьего человека, выступившего теперь вперед и распорядившегося его судьбой:
— Сдать оружие, генерал! Вы арестованы.
Нет, никогда в жизни Александр Филиппович не встречался с этим человеком, не слышал его сварливого, но спокойного, — даже в эту минуту спокойного! — голоса, которому подчиняется сейчас крикливая толпа. Но почему же все-таки знакомы черты его лица и что именно мешает точно вспомнить и назвать его фамилию?
Опытным глазом всмотрелся на минуту генерал-майор в этого распоряжавшегося всеми человека, снял мысленно шапку с его головы, содрал усы и клинообразную вялую бородку с лица, — и тогда вдруг, улыбнувшись своей собственной догадливости, сказал:
— Вот вам мое оружие: ничего, кроме маленького браунинга… А я вас все-таки знаю, господин социал-демократ Громов!
— Скажите пожалуйста, какая знаменитость я!.. Откуда же это? — не скрыл удивления тот.
— По фотографиям, господин социал-демократ. Только в нашем альбоме вы без всякой растительности.
— Товарищи! — распоряжался Андрей Петрович, отбирая глобусовский браунинг. — Обыскать тут все, караульных — во все комнаты! Что сожгли — то пропало, а больше не сметь!.. Ваня, возьми на себя это дело. Ты, братишка, — схватил он за рукав какого-то рослого солдата с бородой в цыганских кудряшках, — давай охрану человек двадцать да ведите генерала в зоологический.
— Куда, изволили сказать? — встревожился Глобусов. — Почему же… в зоологический?
— Очень просто: в Думу, в гости к Родзянко пока, а там — посмотрим! Свозят туда зверье всякое. Нравится?
— Что ж, мерси, — вздохнул облегченно генерал-майор, разглаживая дрожащей рукой пробор на своей напомаженной голове. — Мерси… Вы не поедете со мной, господин Громов?
— И без меня найдутся провожатые. Счастливый путь, господин генерал!
25 февраля, темным рассветом, Андрей Громов, уцелевший по счастливой случайности от ареста в альтшуллеровской типографии, покинул свое последнее убежище на Гусевом переулке, и направился в Лесной.
Ранним утром постучался он в квартиру рабочего завода «Парвиайнен» — Василия Власова. Хозяин уже был одет и поджидал его.
Если бы остался в живых студент-прапорщик Леонид Величко и увидел громовского товарища, он признал бы в этом хозяине квартиры того самого рассудительного рабочего, который в свое время руководил забастовщиками на Чугунной улице и предотвратил их ненужное столкновение с третьей ротой прапорщика Величко.
Как и тогда, Власов был в черном, до колен, ватничке, на голове — финская, с кожаным верхом, шапка, вокруг шеи — дважды обмотанное гарусное кашне. Серо-пепельные мягкие усики и вьющаяся мелкими колечками от висков нежная бородка на малокровном лице Власова были хорошо знакомы рабочим «Парвиайнена» и многим в Выборгском районе.
— Маршрут? — кратко спросил Громов, когда, хлебнув пустого чаю, вышли на морозную улицу.
— Завод, демонстрация. Потом. — на явку: там наш, выборгский, и кое-кто, наверно, из ваших пекистов.
— Распоряжаетесь… Ну, ну, распоряжайтесь, распоряжайтесь, Василь Афанасьич, приказывайте, кренделя выборгские! — в шутку бранился Громов.
— А вы бы своих, Андрей Петрович, берегли получше, — мы бы, выборжцы, и не распоряжались. А теперь, товарищи-судари, извольте слушаться! — в том же тоне отвечал Власов. — У нас это дело, ей-ей, крепче, выходит.
— Ну, ну, помогай чертов бог, мы ему потом спасибо скажем, Василь Афанасьич. А почему «крепче выходит»?
— Беспорядку нет. Туман не бывает.
— Что хочешь сказать?
— А то и, скажу! — оглянувшись на ходу, неожиданно горячо повысил голос Власов. — Ты вот послушай да покумекай, член ПК… Позвали меня на заседание к вам. Три недели назад, когда еще в сохранности был ПК. «Хорошо, говорю, обязательно: есть у нас большой разговор насчет сбора оружия. Явка, спрашиваю, где?» — «Про явку, отвечают, не беспокойтесь: явку узнаешь на Васильевском, в кооперативе, у Черномора — Озоль он, говорят, тебя знает, давно тебя не видал, говорил он нам, рад будет встретиться, вот ты к нему и приходи». Ладно! Прихожу к нему, обрадовались друг другу, — верно, годика два не видались. Повел меня. Петли в городе сделали. «Куда идем?» — спрашиваю. «На Кронверкскую». Дом не называет. Ну, что долго рассказывать?.. Он меня раза четыре водил! От дворца Кшесинской по Большой Дворянской, потом по Каменноостровскому взад и вперед — до этой самой Кронверкской улицы, — туда и обратно, туда и обратно! Ну, равно так шпикам новичка показывают, ей-богу! Я бы так и по думал, Андрей Петрович, кабы не слыхал раньше про Черномора. А он утешает меня: «Фу, черт, говорит, номера дома и мне не сказали, только указали мне его, да теперь боюсь ошибиться». Куда это годится, Андрей Петрович, такая организация дела? Никуда, товарищи, не годится, — факт!.. Пошел он один распознавать тот дом, оставил меня на улице. Да и пропал куда-то! Видал, какое дело? Наконец, я освирепел, понимаешь, и, чтобы не мозолить никому глаза, пошел восвояси. Так и не попал тогда на ПК.
— А Озоль был, — врастяжку, задумчиво сказал Андрей Петрович, выслушав рассказ товарища.
— Про меня ничего не говорил? — полюбопытствовал Власов.
— Мы спросили, как же!.. Затерялся, — он про тебя говорит, — на улице. Видишь: затерялся!
— Дурак он собачий! — тихо выругался выборжец. — Вот я ему сегодня, коли будет, напомню.
— А ну-ну, — каким-то особым тоном сказал Андрей Петрович.
В пути они проходили мимо нескольких фабрик и заводов, и всюду в этот час у раскрытых ворот толпились рабочие, молчали фабричные корпуса, нигде не видно было заводской охраны. И, торопливо шагая мимо, Власов каждый раз оживленно говорил товарищу:
— Наши… Наши тут. Стачку держат какой день — а! Сегодня на демонстрацию ведут. А ты, брат, говоришь: «выборгские кренделя», — а!
На «Парвиайнен» пришли с небольшим опозданием. Митинг уже начался. В самой большой мастерской собралось около полуторы тысячи рабочих. Устроились где кто мог: на станках, на полуготовых изделиях, на стропилах — чуть ли не под самой крышей.
Выступать ни Власову, ни Андрею Петровичу не пришлось, да и не потребовалось: все говорившие звали к тому, о чем оба они думали, к чему вел призыв их большевистской организации.
Все слушавшие до единого поднялись с мест.
— Стачку не прекращать!
— На демонстрацию!
— Долой войну и правительство!
— Да здравствует революция, да здравствует свобода рабочих и крестьян!
— На восстание, товарищи!
— Долой капиталистов, дворян и помещиков!
Один из ораторов закончил свою речь стихом:
Прочь с дороги, мир отживший, Сверху донизу прогнивший, — Молодая Русь идет!— Да здравствуют революционеры!.. Это есть, товарищи, российская социал-демократическая рабочая наша партия большевиков! — громко, раздельно крикнул кто-то со стропил, и снизу и с боков понеслось в ответ, прогрохотав по мастерской, долгое «ура».
— Видал? Слыхал? — крепко, до боли сжимал громовскую руку Василий Власов, и обоим казалось, что сердце рванется куда-то от небывалой радости и станет жить само по себе…
— Лозунг теперь стреляет, как пушка… как пушка, — взволнованно повторял Громов. — Эх, вот оно начинается!
«Оно» — это означало: долгожданная революция.
— Василий!.. Василь Афанасьевич!.. Василий!.. Староста! — заметили его только во дворе, и десятки голосов звали к себе Власова.
Вместе с Андреем Петровичем встал он в первый ряд густой, тысячной колонны, хлынувшей к выходу из завода.
Откуда-то появились красные знамена, какой-то парнишка-рабочий затрубил в принесенный из дому позеленевший, нечищеный корнет, — на парнишку прикрикнули — и затянули «Варшавянку» и с песней двинулись по Бабурину к видавшему виды, всегдашнему проспекту демонстрантов — Сампсониевскому. Здесь соединились с рабочими и работницами других заводов и фабрик, и вся многотысячная толпа направилась к Литейному мосту.
В пути встретили заставу какого-то кавалерийского полка.
— Не отступать! — прокатилось по всей толпе, и она, упрямо и мерно шагая, высоко подняв знамена и потушив на минуту голос песни, приближалась к отряду кавалеристов.
И таким же мерным и тихим конским шагом кавалеристы надвинулись на передние ряды толпы.
Демонстранты остановились, но не отступили.
Командир полка, пожилой офицер с коротенькими бачками и бурым следом волчанки на щеке, повернул голову к своим солдатам:
— Вперед!
И вдруг теперь — кони ни с места, кавалеристы в седлах застыли.
— Вперед!.. Вперед… — выкрикнул, а потом растерянно буркнул командир полка.
Но и он сам осадил своего коня и как-то неожиданно смешливо пожал плечами и покачал головой, откидывая ее назад.
— Ну что же… вперед! — совсем не по-командирски сказал он еще раз, и в рядах демонстрантов взлетел смешок первой завоеванной радости.
И тут выступили вперед женщины.
Они побежали из толпы к остановившимся кавалеристам, они перемешались с ними в конных рядах, хватались руками за стремена, протягивали руки к молчавшим солдатам и — кричали.
О чем?
О чем они должны были взывать и взывали?
Этот крик был один и об одном:
«Солдаты! Ваши жены, дети, матери и отцы находятся в таком же положении, как и мы. Они оторваны от вас, они холодные и голодные, брошенные на произвол судьбы. Они ждут вас и вашей помощи, они доведены до нищеты, терзаемы муками голода и тоски. Они вышли бороться за мир, хлеб и свободу. Солдаты! Неужели же у вас поднимется рука на своего брата-рабочего?.. Идите с нами, и вы сбережете кровь народа, которому вы принадлежите!»
Вот что могли кричать и кричали февральским морозным днем женщины — старые, молодые, подростки… Они словно бросали свои горячие, гневные и молящие сердца наземь, — и ничья нога не посмела теперь растоптать их.
И тогда всадники отвели своих коней в стороны, и тысячи людей, предводимые женами, матерями и дочерьми, пошли вперед, неся на знаменах клич революции.
На углу Боткинской повстречался отряд городовых. Однако те быстро бежали при виде моря голов.
Но у Литейного моста — последней преграды к центру столицы — в толпу демонстрантов врезался сам полицеймейстер Шалфеев: бравый седоусый горлопан с красными, как будто всегда с мороза, плотными щеками. В одной руке — нагайка со свинцовым наконечником, в другой — наган.
Стена черных полицейских шинелей быстро спускалась с моста. Толпа пришла в минутное замешательство.
— Ох, Шалфеев!.. Вчера он тоже так останавливал и разгонял демонстрацию, — удалось наглецу! Но его вчера все-таки спешили и надавали тумаков, — вспоминает по соседству с Громовым рослый красивый рабочий и показывает кулаки, которых отведал вчера Шалфеев. — Напрасно мы пожалели седины и не кончили эту сволочь. Ох, Шалфеев!
Демонстранты расступились, и седоусый полицейский храбрец, ринувшийся вперед, очутился в окружении толпы.
— А ну… попался волк серый!
— Держиморда проклятый!
Пригибаясь, бросается к нему десяток рабочих, ёго хватают за ноги и опрокидывают на землю, навалившись телами.
Городовые спешат на выручку. Они стреляют, но не долго: ответный огонь из толпы, штурмующей мост, обращает их в бегство.
А позади уже с Шалфеева срывают погоны, саблю, отбирают наган и нагайку.
— Пулю на тебя жаль, ирод ты!
— Эй, дядя, подавай сюда!
Кто-то подбегает к застрявшему на дороге возу с дровами, выдергивает, полено из аккуратно сложенной шестерки и, возвратившись, начинает утюжить им полицеймейстера.
— Хватит! — кричат сжалившиеся женщины.
Защищая рукой лицо, по которому струится змейка крови, Шалфеев подымается с земли и, свирепо ругаясь, наотмашь бьет кулаком одну из этих женщин.
В этот момент Андрей Петрович увидел Власова. Тот подскочил к Шалфееву, отбросил руку его, защищавшую лицо, и с криком: «Посмотри мне в глаза!» — выстрелил в полицеймейстера из своего револьвера.
Андрей Петрович шел потом и думал: увидел ли в миг своей смерти Шалфеев власовские глаза?
Зеленые, небывало холодные, с резко обозначившимися кружочками зрачков, они были страшней сейчас, чем выстрел, чем сама смерть.
— Успокойтесь, Василь Афанасьевич, — невольно сказал Громов, беря под руку товарища.
Тот молча прошагал минуту, потом остановился, чтобы закурить, сделал первую затяжку и болезненно улыбнулся:
— Ладно… все в порядке. На то ты и Лекарь, чтобы так говорить. Эх, Лекарь! — напомнил он Громову его партийную кличку.
Видно было: он не знал, что сказать.
На углу Невского и Литейного наткнулись на большой казачий разъезд. Казаки, не обнажив оружия, мелкой рысцой проехали мимо, к Николаевскому вокзалу.
— Спасибо казакам…
— Урра казакам! — вздохнула облегченно толпа.
Навстречу, по Владимирскому, шли демонстранты-рабочие, добравшиеся сюда из-за Московской заставы и других мест.
Двумя потоками хлынул народ к площади Казанского собора, оставляя посредине просторного проспекта узкую торцовую просеку, по которой тихим ходом из конца в конец разъезжали сдавливаемые толпой молчаливые казачьи патрули.
Пели марсельезу, пели «Смело, товарищи, в ногу», «Варшавянку», уже не пугаясь царских войск.
Услышав в толпе, что на Знаменской площади происходит митинг, Андрей Петрович и Власов поспешили туда, но прошел добрый час толкотни по проспекту, покуда они попали к вокзалу: пришлось пробиваться против течения. Пробраться же к памятнику Александру III, вокруг которого шел митинг, так и не удалось, и оба приятеля застряли на Лиговской панели. С расположенной прямо против них Гончарной улицы выскочил к вокзальному подъезду отряд городовых и, ругаясь по адресу толпы и молчаливо стоявших у памятника казаков, дал несколько залпов. Сраженные пулями, упали на землю десятки людей.
— Палачи! Фараоны!.. — заметалась и взвыла толпа.
— Братья-казаки, что ж это такое?! — закричали в переднем ее кольце.
— Зачем убивают мирный народ?
— Помогите, братья-казаки!
В первый момент Андрей Петрович сразу и не понял, что происходит. Но он увидел, как снялись с места несколько казаков, за ними — другие, как повернули они лошадей в сторону вокзала и, высоко подняв пики, бросились на городовых.
— Уррра!! — задрожала площадь от неистовых криков толпы.
— Урра, казаки разгоняют фараонов!..
— Спасибо братьям-казакам!
— Да здравствует свободный народ! Да здравствуют казаки! — неслось со всех сторон.
Полицейский пристав с поднятым каракулевым воротником франтоватой шинели, втянув в него голову, спрятался за решетку вокзальных ворот, но строгий бородатый казак на пегой лошади подлетел к решетке и метким, верным выстрелом нашел голову пристава.
И площадь снова и снова сотряслась от оваций благодарности.
Толпа подбирала убитых и раненых.
Сразу в нескольких местах затянули «Вы жертвою пали», и площадь этой песней гнева и почета встретила новые отряды прибывших войск.
И вот — войска выстраиваются в каре, замкнув со всех сторон площадь.
В толпе смятение, толпа ждет кровавой расправы. Десятки людей бегут к памятнику, к тому месту, где стоят казаки, требуя от них защиты.
И тогда отделяется от отряда молодой хорунжий, скачет к одному, к другому пехотному офицеру, что-то быстро, настойчиво говорит им, показывая на толпу, на свой отряд, — и через несколько минут солдаты по команде своих начальников покидают площадь.
— Ур-ра казакам — защитникам народа!
— Да здравствуют революционные казаки! — радостно ревет толпа.
Но хорунжий — мертвенно-бледный, с насупленными бровями — приподымается на стременах и кричит в толпу:
— Господа… а теперь прошу вас расходиться! Обязательно разойтись!.. Господа… перестаньте меня мучить, — неожиданно выкрикивает молодой хорунжий и нервически проводит рукой по своему белому лицу.
И тогда вдруг толпа смолкла.
И никто не усмехнулся.
Уже под вечер Андрей Петрович и Власов добрались до маленького переулка, затерявшегося среди пустырей Выборгской стороны.
Вошли во двор, обогнули сарай, на дверях которого висела ржавая вывеска «каретной мастерской», и уткнулись в низенький домишко, вход в который и не разглядеть было сразу.
— Вот это дда… — одобрительно сказал Андрей Петрович, окинув взглядом темный домик. — Кто здесь?
— «Выборгские кренделя»… Конспиративное «имение», — шутил Власов, стуча мелкой дробью в дверь. — Что? Может, не нравится вашей милости?.. От дяди Петра к тете Моте! — спокойно ответил он на краткий вопрос «кто?» из-за двери.
Они вошли в низенькую квартирку со скрипучим покатым полом. Здесь давно уже собрались, накурили пуд дыму, говорили осевшими, хриплыми, разгоряченными голосами. Большинство — «выборжцы», и только Скороходов, Ганшин, Озоль и Чугурин, не захваченные в прошлом месяце охранкой, представительствовали исполнительную комиссию Петербургского Комитета.
— Ну, хоть еще один наш! — обрадованно пошел навстречу, прихрамывая, Скороходов, увидя Андрея Петровича.
— А что? Одолевают? — весело здоровался с каждым за руку Громов, находя глазами знакомые лица.
— С улицы?
— А нет? Из оранжереи его величества! — смеялся Андрей Петрович.
Длинноусый, рыжеволосый Черномор в синих очках, подвижной, вспыльчивый Чугурин, непрестанно перебивавший рассказчика вопросами, выборгский токарь старик «Андреич» с седой шевелюрой и астмической одышкой и все другие выслушали с повышенным вниманием и любопытством рассказы Андрея Петровича и Власова о происшествиях на Знаменской площади, о сегодняшней демонстрации.
И опять пошел спор, начало которого Громов не застал. Суть спора показалась ему теперь несуразной и обидной для революционера.
«Прекратить стачку? Теперь прекращать… после всего того, что уже произошло в городе? Идиот!..»
Он зло и презрительно смотрел на Черномора, распинавшегося в защиту этого предложения.
Уже не борясь, что обычно делал, со своим латышским акцентом, горячась и каждую минуту перебивая своих противников, что тоже раньше за ним не наблюдалось, Ян Янович Озоль-Черномор стучал кулаком по столу и говорил:
— Льется рабочая кровь… Это вам не сироп… не сироп, да! Царизм, вы замечайте, вводит в дело войска, казаков, жандармов. Царизм радуется… да, радуется, что представился такой удобный случай безнаказанно расстреливать наш рабочий класс. Генерал Хабалов знал, зачем объявил осадное положение. О, он знал-таки!.. Наши заводы были крепостями, которых царизм боялся, а теперь некоторые товарищи хотят… и генерал Хабалов хочет… чтобы мы, так сказать, вышли в открытое поле… и тут нас быстро перестреляют!.. Наша организация должна призвать рабочих к прекращению демонстрации!
— Меньшевикам пойди посоветуй! — кричали Черномору со всех сторон. — Там тебя качать будут…
— Очки сними — свет божий увидишь!
— И мы тогда ваши глаза, Ян, откроем, а то за стеклами не видно!
— Кто сказал? Кто сказал?.. Что это значит?.. Это очень плохо пахнут такие слова!
Плотный, приземистый, с выгнутыми по-змеиному, широкими, жесткими усами, Черномор бросался из стороны в сторону, упрямо пригнув голову, словно готовый прободать этими тяжелыми усами, как рогами, своего неузнанного обидчика.
— Товарищи! По-деловому, по-деловому надо, а вы тут подняли смотри что! И так времени нет… — старался успокоить всех Скороходов.
— Вот именно! Я и согласен, Александр Касторович, а получается что?.. — И Черномор уже примирительно повел плечами, ища защиты у Скороходова.
Но никто василеостровского кооператора не защитил. Решено было рабочие демонстрации продолжать, идти на открытый уличный штурм самодержавия, добывать оружие, брататься € войсками, — идти на восстание.
Чугурину и Василию Афанасьевичу поручили связаться с руководителями Русского бюро ЦК, с Молотовым и другими: как лучше формировать вооруженные рабочие дружины? Этот вопрос не был еще ясен. Черномора с двумя выборжцами отправили наладить мобилизацию кооперативных фондов, а несколько оставшихся товарищей — Скороходов, Ганшин, Громов и другие — засели составлять листовку с призывом к революционному восстанию.
Решено было перед тем как всем разойтись, собраться завтра, 26 февраля, рано утром на Сампсониевском и формировать там штаб выступления.
И назавтра, переночевав по рекомендации Скороходова в комнатушке какого-то маляра у Гавани, Андрей Петрович, сильно запаздывая, потому что приходилось пересекать весь город, пришел к назначенному месту на Сампсониевский. Однако, наученный опытом долголетней конспирации, желая убедиться, нет ли слежки за домом и прибывающими в него, Андрей Петрович прошел мимо дома, быстро ловя глазами людей, которые могли показаться почему-либо подозрительными. Но никто и ничто как будто не внушали опасений.
Дойдя до церкви, он повернул обратно.
Его обогнали два закрытых военных автомобиля.
Непроизвольно следя за ними, Громов увидел издали, как обе машины, словно по команде, уменьшили в какой-то момент свод ход и, описав дугу поворота на мостовой, остановились у подъезда того самого дома, куда он направлялся.
«Это еще что?»
Он перешел на другой тротуар, пробежал там некоторое расстояние, заскочил в ворота какого-то двора и в открытую калитку стал наблюдать за машинами.
Прошло не больше двух минут, как из подъезда дома выскочил высокий, шинель нараспашку, жандармский офицер, за ним — жандармы с револьверами в руках и — окруженные ими — человек восемь в штатской одежде. Громов узнал своих товарищей…
Он окаменел. Он неподвижно стоял на своем месте. Теперь уже он искал глазами в кучке арестованных одного человека. Ему хотелось бы, чтобы и «он» был там, — стало бы спокойней, несмотря на все испытываемое огорчение!
Но того человека, как и подумал минуту назад, не было.
— У-у, змея! — не сдержавшись, прошептал о ком-то Андрей Петрович.
К дому подкатила еще одна машина, и все три, наполненные арестованными членами ПК, товарищами из Выборгского комитета и сопровождавшими их жандармами, быстро умчались по проспекту.
ГЛАВА ПЯТАЯ Последний удар часов
Киев отставал. Часовая стрелка революции на киевском циферблате подвигалась медленно, готовая и совсем остановиться.
1 марта газеты не поместили ни одной телеграммы из столицы, но напечатали приказ главного начальника военного округа генерал-лейтенанта Ходоровича:
«В день кончины в бозе почивающего императора Александра Второго приказываю музыкантам, горнистам и трубачам — не играть и барабанщикам — не бить».
Было много снегу, — и полицеймейстер Горностаев особыми распоряжениями обязывал домовладельцев очищать трамвайные линии, тротуары и мостовые:
«Желающие для этой цели получить рабочих-военнопленных должны подать заявление в полицейский участок и уплатить вперед деньги по расчету 2 р. 50 коп. за девятичасовой рабочий день».
Было очень холодно, — и комендант города генерал-лейтенант Медер обязал население к сбору одеял для замерзавших на вокзале увечных русских воинов, тысячами пересылаемых с линии фронта.
И в этот мартовский вьюжный день, когда воспрещено было играть трубачам и горнистам и в барабаны бить барабанщикам, в свистящий вой южной метели, закружившейся над городом, вползли, как приглушенный трубный глас, как едва слышный, неясный барабанный бой, — вползли слухи о неожиданных событиях в северной столице…
И тем, кто не верил этим слухам, предлагалось высунуть нос из квартиры и поглядеть на улицы — на опустевшие, засыпанные снегом киевские улицы: маршировали по ним части гарнизона, объезжали город казачьи патрули, и грелись у костров на углах усиленные наряды городовых в желтых башлыках.
Можно было подумать, что власти нашли лучший из всех способов бороться с метелью: винтовки, пики и шашки.
Еще только вчера Георгий Павлович Карабаев жил той жизнью, которой привык жить. Еще только вчера утром посетил он собрание Всероссийского общества сахарозаводчиков, членом которого недавно стал.
— Мы теперь — все равно что фальшивомонетчики! — шутя говорил он, вернувшись домой. — Благодаря стараниям крикливой прессы население так и смотрит на нас: фальшивомонетчики и мародеры…
Он повторял то, что утром слышал от председательствующего — старика миллионщика графа Бобринского. Черносотенный граф брал под свою защиту сахарозаводчиков-евреев Доброго, Бабушкина и Гепнера, арестованных недавно военными властями за крупную биржевую спекуляцию.
Жену и Теплухина Георгий Павлович считал нужным держать в курсе промышленных дел.
— Площадь посева свекловицы с семисот семидесяти одной тысячи десятин сократилась до пятисот семнадцати. Бобринский, — о, он большой знаток этого дела, — Бобринский утверждает, что при среднем урожае свеклы мы получим всего шестьдесят семь — семьдесят миллионов пудов сахару, а стране и армии нужно свыше ста миллионов пудов… Разрешен ввоз из-за границы двадцати миллионов. Это чепуха! Откуда и как вы их изволите ввезти? Предполагается также снять запрещение с сахарина.
— Боже, кто такой пакостью будет пользоваться? — поморщилась Татьяна Аристарховна.
— Будут, — спокойно сказал Карабаев. — А ты его когда-нибудь пробовала? — добродушно-насмешливо спросил он жену.
— Нет… что ты, Жоржа! Но я слышала…
— Слух — это не вкусовое ощущение, как известно, — продолжал он насмехаться. — Я бы посоветовал кое-кому заняться этим делом, сахарином… Не правда ли? — загадочно посмотрел он на Ивана Митрофановича. — Надо учесть, а то учтут другие. Вы можете проявить самостоятельность, друг мой, и не пожалеете, — давал он деловой совет своему смышленому помощнику. — Но главное, господа, надо расширить площадь посева. А для этого владельцы заводов должны быть уверены, что получат и необходимое топливо — минеральное топливо, и необходимые рабочие руки, хотя бы желтый китайский труд, и это непременнейшее условие! — справедливые государственные цены на сахар, которые оправдают наши расходы. А покуда у нас — бессмысленные преследования промышленников!
— Смешно, Жоржа! — сказала вдруг Татьяна Аристарховна. — У тебя теперь свой собственный сахарный завод, а мы покупаем сахар в магазине… и это совсем не дешево, Жоржа!
— Логика!.. — вспомнил иронически-добродушно Георгий Павлович о жене, когда она вышла из комнаты. — Хорошо еще, что в своем кругу… Ох, женщины, — а, Иван Митрофанович? Когда женщина имеет дар молчать, она обладает качеством выше обыкновенного!
Это было днем, все шло своим порядком, но вечером в карабаевский дом принесли первое известие о петроградских событиях — и обычное течение жизни, обычный распорядок был нарушен: даже детям было разрешено присутствовать во время разговора в кабинете. Детям, которые раза три только, пожалуй, и видели эту комнату при электрическом свете.
…Сегодня, оказывается, в три часа дня один из высших чиновников управления Юго-Западных железных дорог начал разговаривать с Петроградом по особому проводу, но не успел он сказать и нескольких слов, как ему предложили прервать разговор.
— Срочно передается важная телеграмма на имя железнодорожников, — пояснили ему и попросили вызвать начальника дороги.
И тотчас началась передача телеграммы за подписью члена Государственной думы Бубликова. Небывалый случай! Еще не была принята вся телеграмма, но первые фразы ее: «Старая власть, создавшая разруху всех отраслей государственного управления, оказалась бессильной. Государственная дума взяла в свои руки создание новой власти…» — уже облетели все канцелярии и кулуары управления дорог.
Сначала это известие вызвало растерянность и недоверие не только среди высшего чиновничества, но и среди всех служащих. Не подготовленные к происшедшим событиям, все выражали сомнение в правдивости телеграммы:
— Не мистификация ли это?
Но вскоре краткие известия стали дополняться более подробными, и к пяти часам стал известен весь текст обращения Государственной думы к железнодорожникам.
Начальник дороги Шуберский, снесясь с военным округом и полицией, приказал задержать до позднего вечера всех служащих в управлении: ему предложено было «пресечь возможное распространение всяческих антиправительственных слухов».
— Пошли телеграмму Льву, попроси ответить! Он-то ведь должен все знать! — советовала Татьяна Аристарховна. — Правда ведь, господа?
Карабаев молча вытягивал рукой свой смолянистый цыганский ус, задумчиво поглядывая на сбежавшихся домочадцев. И так же, не произнося ни слова, протянул жене только что полученный номер «Вечерней газеты», ткнув пальцем на ее первую полосу с жирным набором:
«ОТ РЕДАКЦИИ
До 1 часу дня в редакцию телеграмм от собственных корреспондентов из Петрограда и Москвы не поступало».
Это служило красноречивым ответом на предложение жены.
Список членов думского комитета во главе с Родзянко повторяли бесчисленное количество раз, обсуждая каждую фамилию, строя догадки о Чхеидзе и Керенском: эти две фамилии сбивали суждения Георгия Павловича о политической окраске того нового правительства, которое, вероятно, не сегодня-завтра утвердит, по его мнению, идущий, очевидно, на уступки государь.
— При чем здесь социалисты только?! — открыто недоумевал растерянный и возмущенный Георгий Павлович.
Недоумевал совершенно открыто — вопреки своей всегдашней привычке говорить в присутствии жены и детей обо всем с той убежденностью и категоричностью суждений, которые должны были приниматься ими как самые верные, — более верные, точные и справедливые, чем их, жены и детей, собственные суждения.
И, словно это открытое недоумение служило теперь разрешением с его стороны высказать им всем свое собственное мнение, Татьяна Аристарховна, а вслед за ней и старшая дочь, Катя, быстро предположили:
— А может быть, прости нас, там случилась вдруг революция?
— Глупо! — сказал горячо Георгий Павлович, и — странное дело! — ни жена, ни дочь не обиделись, не отнесли теперь к себе это горячее карабаевское порицание.
И не ошиблись. В этом они убедились через минуту.
«Глупостью» называл Георгий Павлович революцию. Да, да, революцию, при которой возможен был приход к власти таких людей, по его мнению, как Чхеидзе и Керенский… Не потому, что они страшны были сами по себе, — досадовало то, что без них, очевидно, уже нельзя было обойтись, коли им дали место рядом с Милюковым, Коноваловым и Родзянко…
Значит — случилось что-то такое «чересчурное», как выразился Георгий Павлович, чего эти последние и не ожидали!
Неужели в Петрограде так сильно распоряжается «улица», и так мало сил оказалось у думского «прогрессивного блока»?
Странно как-то… И неожиданно как-то! Чхеидзе есть, а, скажем, того же Левушки, брата, — нет! Казалось бы, кому, как не Левушке, быть сейчас в первом списке общественной власти? Не так ли?
О старшем брате Герргий Павлович имел свое собственное мнение, но он ни с кем и никогда бы им не поделился. Это мнение, впрочем, не мешало ему от души любить и уважать Льва Павловича — и как человека и как политического деятеля. Но… но правду о брате, политическую, что ли, правду, — ему казалось, он знает только один.
А правда эта, по его мнению, заключалась в том, что брат Левушка всю свою жизнь был и остается столь широко распространенным типом русского провинциального интеллигента, представителем «третьего элемента», к которому себя-то Георгий Карабаев не относил. Брат был способным (это верно), очень трудолюбивым человеком, с нежным сердцем семьянина, человеком, искренно верящим в свое общественное призвание; однако был он в конце концов человеком, «рассчитанным» не на всероссийский государственный, а на губернский масштаб призвания.
«Собственно говоря, ведь случайно Левушка из врачей попал в «финансисты», — думал о нем не раз Георгий Павлович. Только благодаря своей общей одаренности, позволявшей ему в молодости быть и неплохим ботаником (помнится, составил богатейший гербарий) и хорошим химиком, и благодаря трудолюбию — брат в области бюджетных вопросов настолько освоился, что мог удачно выступать на думской трибуне с оппозиционными царскому правительству суждениями. Но, — убежден был почему-то младший Карабаев, — настоящим знатокам финансов, теоретикам-ученым и практикам брат Левушка вряд ли мог импонировать. Им, вероятно, был очевиден его дилетантизм.
Однако благодаря личным своим качествам он в Думе был одним из самых популярных депутатов. Пресса всегда его хвалила, и правительство как-никак всегда с ним считалось. В партии его популярность была очень велика, и в скольких случаях в своей жизни сам Георгий Павлович ощущал над собой этот яркий навес братниной известности благодаря их родству и одной и той же фамилии!
В провинции его доклады и лекции собирают множество народа. «Средние круги… — думалось Георгию Павловичу, — чувствуют больше свою духовную связь с Левушкой, чем с Милюковым — признанным политическим вождем. Левушка кажется этим кругам «своим», из того же самого «теста», что и они сами».
Как оратор, он говорит легко и свободно, ход его мыслей всегда очень ясен и доступен, нередко его полемика находчива и остроумна, манера речи и голос подкупают аудиторию. Если его можно без большого сожаления перестать слушать, то никогда, — признавал это Георгий Павлович, — не приходилось чувствовать, что его и не стоило слушать.
Сам Георгий Карабаев в своих выступлениях был краток и весьма деловит: краткость, — считал он, — душа умной речи. Он любил Льва Павловича, ценил его и, когда по первому известию о событиях в столице узнал, что тот почему-то не упоминается нигде, досадовал и недоумевал искренно и даже болезненно.
«Как это случилось? — терялся он. — Ведь Государственная дума, а затем эта знаменитая заграничная прошлогодняя поездка к союзным правительствам так выдвинула Левушку в первые ряды и подготовила, безусловно, всех к тому, что Лев Карабаев явится одним из несомненных кандидатов на министерский портфель, как только старая бюрократия уступит место ответственному министерству… А теперь что же это? — сокрушался он. — В конце концов многие другие ничуть не лучше Левушки! Подумаешь, Караулов или какой-то там Ржевский?!»
Хорошо было бы сейчас иметь брата-министра! Хорошо — по разным соображениям.
Но о них, конечно, Георгий Павлович также никому не поведал.
Поистине, этот день богат был сюрпризами!
Часов в десять вечера старший дворник принес заклеенный конверт и через горничную вручил его Георгию Павловичу.
Теплухинское письмецо было написано торопливой рукой и чрезвычайно неясно по смыслу.
В самом деле, что за неожиданный отъезд, о котором еще два часа назад ничего не было известно? И куда? Поездом, и далеко ли?
Да, было от чего недоумевать…
Тот, к кому мчался в этот момент Иван Митрофанович, стоя, за взятку старшему кондуктору, в переполненном вагоне отбывшего на север поезда, — провел этот день не менее беспокойно и тревожно.
Он жил в Петербурге, а столица походила теперь на огромную бутыль, которую взбалтывали и опрокидывали так, что любая капля в ней могла соприкоснуться с другой — вчера еще далекой от нее. И потому протопоповский человек — Вячеслав Сигизмундович Губонин, сопровождаемый своим верным Лепорелло-Кандушей, вместе с рядом других людей, не имевших никакого отношения, к военным кругам, — очутился, загнанный событиями, в последней цитадели военного министерства — в адмиралтействе.
События шли так.
В то время как в Могилеве происходили сборы и литерные поезда царя и свиты двинулись по направлению к столице, генералы Хабалов и Зенкевич вместе с военным министром Беляевым, с кучкой верных им офицеров и солдат перешли из Зимнего дворца в здание адмиралтейства. Здесь они заняли фасады, обращенные к Невскому, артиллерию поставили во дворе, во втором этаже разместили пехоту, а на углах, подходящих для обстрела, расставили пулеметы.
Снарядов было мало, патронов почти совсем не было, есть было нечего. У казачьей сотни лошади были не поены и не кормлены.
Казаки были расквартированы в казармах Конного полк, — пришлось отпустить их туда, но мало кто из них возвратился оттуда. А те, кто и пришел обратно, в разговорах были угрюмы и насмешливы.
Кандуша вертелся среди них, ловя по привычке каждое слово.
Огромный казак в лихо закинутой назад папахе, из-под которой выбивался жесткий чуб кудрявых волос, с белым сабельным шрамом поперек лба, рассказывал, как расстреливали при нем на улице стрелявшего с чердака в толпу городового:
— …А он перед наганом пузо втягивает, вьется, сука!.. Как берёсту на огне, его, голубчика, поводит. Эх, дела пошли, прости, господи!..
Кандуша мгновенно представил себе, как это «поводило» полицейского, как втягивал он от страха свой живот, — и дрожь и тошнота охватили его самого.
— Сыщик? — исподлобья глядя, спросил его другой казак и подмигнул остальным.
— Чиновник, казаки, чиновник! — поспешно ответил: Пантелеймон Никифорович. — Вот, мы-с вместе с тем господином начальником… — показал он рукой на стоявшего в отдалении Губонина, беседовавшего с каким-то офицером.
— Сыщик, — упрямо и убежденно, скучным голосом, откашливаясь, сказал плотный, коротконогий казак.
— Почему так? — не отказал себе в любопытстве Кандуша.
— Видать: сыщик. Вашего брата, ежели что, керосином обливать будут и спичкой задницу запалят, — верное слово!
— Шуточки! — позеленел Кандуша. — Но я, между прочим заметьте, никакой не сыщик вовсе…
— Сыщик… — все тем же вялым, скучающим голосом дразнил его казак. — Ну, может, шпик. Шпик или сыщик — все есть равно. А знаешь, как говорят? В земле, сказывают, черви, в воде черти, в лесу, сказывают, сучки, в суде крючки, а везде шпики, — куда, значит, уйти?
Полный, коротконогий, широкозадый, как Санчо Панса, казак вдруг зло и холодно процедил:
— Ох, казачки, не люблю, смерть как не люблю сыщиков!
В его глазах было столько безмерной ненависти, что испуганный Кандуша поспешно ретировался.
Из главного штаба пробрался сюда дежурный адъютант. Он доставил Хабалову запрос по прямому проводу спешившего на выручку генерала Иванова.
Новый командующий Петроградским округом, наделенный царем диктаторскими полномочиями, требовал ответа на десять пунктов.
Хабалов ответил телеграммой:
«В моем распоряжении здание главного адмиралтейства, четыре гвардейских роты, пять эскадронов и сотен и две батареи. Прочие войска перешли на сторону революционеров или остаются, по соглашению с ними, нейтральными. Отдельные солдаты и шайки бродят по городу, стреляя в прохожих, обезоруживая офицеров.
Все вокзалы во власти революционеров, строго ими охраняются.
Весь город во власти революционеров, телефон не действует, связи с частями города нет.
Министры арестованы революционерами.
Продовольствия в моем распоряжении нет, в городе к 25 февраля было 5 миллионов пудов запаса муки.
Все артиллерийские заведения во власти революционеров.
В моем распоряжении лично начальник штаба округа. С прочими окружными управлениями связи не имеют».
Революция победила, — осталось ждать помощи с фронта.
Губонин, узнав от знакомого офицера текст хабаловского ответа, быстро оценил положение. Надо было прежде всего уйти из адмиралтейства и скрыться на некоторое время; ближайший день-другой покажет, что надо будет потом делать.
Прибытие в адмиралтейство адъютанта морского министра еще больше укрепило принятое Губонином решение: адмирал-министр, лежавший в жестокой инфлуэнце и уже подвергнутый домашнему аресту, требовал от Хабалова очистить все здания морского ведомства и «перейти куда угодно». Адмирал сообщал, что, по его сведениям, крепость Петра и Павла готова начать обстрел адмиралтейства, а вооруженная толпа с улицы пойдет на штурм.
Совещание длилось недолго, — через час адмиралтейство пало. Для этого не потребовалось ни единого выстрела.
Артиллерия была отправлена обратно в Стрельну, откуда была вызвана раньше; были оставлены замки от орудий. Пулеметы и ружья спрятали в здании, и пехотинцы вышли на — улицу без оружия.
Затесавшись в ряды солдат, Губонин и Кандуша под вечер очутились на Невском, а через час — в губонинской квартире на Сергиевской.
Их встретила в прихожей жена Вячеслава Сигизмундовича, круглолицая, с лихорадочным румянцем на щеках, с влажными глазами и пухлыми, словно только что нацелованными, красными губами.
— Вячек… — полушепотом говорила она. — За вами днем приходили уличные… боже, как я перепугалась!
Он поцеловал ее руку, она — лоб его.
— И что же вы сказали, Аннет?
— Я сказала, что вы уже неделю в отсутствии, в министерской командировке на Кавказ.
— Они поверили?
— Да, да, поверили! Но, правда, не все, Вячек… «Смотрите вы, — угрожал мне один из них. — Мы придем сегодня же и проверим. Если вы нас обманули — будете тоже арестованы». Они вас искали, Вячек, по всей квартире, даже кладовку открывали. Они рассказывали, что Щегловитова нашли в кухне его соседей по дому. Представьте, он сидел там переодетый в простую солдатскую шинель и любезничал, как кум-пожарный, с молоденькой прислугой! Боже, что со всеми вами сделалось, господа!.. Я сказала, что у девочек скарлатина, — и они не зашли в детскую, а только заглянули туда. Воображаю, если бы они знали, что это только корь, — уж излазали бы под кроватями!.. Вячек, что же дальше? Как это кончится?
Они заговорили по-французски, и больше говорил теперь Вячеслав Сигизмундович, а жена внимательно слушала, изредка подавая реплики и роняя восклицания.
Потом они оба ушли вглубь квартиры, и Кандуша остался один в столовой, дожидаясь распоряжений своего начальника.
Через четверть часа тот вновь появился, но его сразу и не, узнать было; годами носимая широкая голландская бородка пала жертвой безжалостной бритвы! Лицо преобразилось, — бритое, «актерское» лицо с тупым квадратным подбородком!.. От непривычки ощущать его голым, незащищенным Вячеслав Сигизмундович поминутно прикладывал к нему руку, инстинктивным жестом поглаживая место несуществующей уже бороды.
— Господи боже мой, до чего довели! — смешливо и жалостливо воскликнул Кандуша, всматриваясь в новое лицо своего начальника. — За эту, осмелюсь сказать, парикмахерскую хирургию слезы кровью у них капать будут! Ох, будут, когда его императорское величество с войсками сюда прибудут! — погрозил он кулаком.
Губонин усмехнулся голым, тонким ртом.
— Прибудет, говоришь?
— А как же иначе? — не мыслил другого Кандуша.
— Нда… Я слышу весть, но с верой я в разлуке, друг мой! И с семьей в разлуке… понимаешь?
Губонин оглянулся: не слышит ли его из соседней комнаты жена.
— Мы с тобой сейчас прах и тень. Боюсь, что все кончено, Кандуша, боюсь… А надо видеть последний час бесстрашными глазами. Последний час, — ты понимаешь? Где-то за границей я видел как-то башенные часы. На них была старинная надпись на циферблате: «Все удары часов приближают к смерти, последний удар несет смерть». Все — ранят, последний — убивает…
Отдав все приказания по дому, он попрощался с женой, предупредив, что ближайший день-другой пробудет в конспиративной квартире на Ковенском и оттуда постарается сноситься с домом; он взглянул на Кандушу, и жена поняла, кто будет осуществлять эту связь.
Уходя, Вячеслав Сигизмундович переоделся: на нем была теперь шинель путейского инженера и такая же фуражка. Маленький узенький красный бантик, наскоро смастеренный женой, как бабочка припал на булавке к его груди.
— Понимаем! — сказал Кандуша и попросил красной ленточки и для себя.
Они вышли на улицу, держа путь к конспиративной департаментской квартире, ключ от которой был у обоих.
Но не так-то легко и просто было попасть теперь туда: от угла Сергиевской весь Воскресенский был закрыт для пешеходов. На нем выстраивались какие-то войсковые части, почему-то забаррикадировавшие себя со всех сторон. Пришлось повернуть обратно, дабы окружным путем, через Кирочную, выйти к Знаменской артерии.
Сергиевская и прилегающие улицы были полны народа. По ним беспрерывно тянулась толпа в одном направлении — к Государственной думе, в Таврический дворец.
С музыкой и факелами, понапрасну зажженными, потому что было еще достаточно светло, проходили войска, отбивая по-прежнему молодцеватый походный шаг, но уже не безмолвные, а возбужденно, весело оглашающие улицу криками приветствий народу.
Громыхала артиллерия по мостовой, сотрясая стекла в домах. С винтовками за плечами, в черных бушлатах, с обтянутыми красным околышками матросок, с развевающимися позади ленточками, торопливым полубегом (казалось — на цыпочках) заворачивали к Таврической прибывшие в столицу кронштадтские моряки.
Хрипели остуженно сирены сдавленных в толпе грузовиков, пробивавших себе дорогу. Какой только ни был на них груз!
Огромные рулоны бумаги и ящики папирос. Горы винтовок и револьверов и воинские полушубки. Какие-то арестованные люди под конвоем солдат и студентов, и тут же, на том же грузовике, — бочки с керосином. Обледеневшие туши мяса и груда жестяных кружек. Пудами колбаса, консервы и хлеб — на грузовиках и в легковых машинах с красными флажками.
Все это, стиснутое в пути неумолимой каменной стражей домов, туго напирало друг на друга, загораживая надолго путь отдельным пешеходам, как Губонин и Кандуша, стремившимся выбраться из общего потока, чтобы идти своей дорогой и к своей собственной цели.
— Ну, видал? — тихо спросил Вячеслав Сигизмундович своего досадливо фырчавшего спутника.
— Примечаю, пипль-попль! В оба глаза примечаю… Причесать бы их сейчас из конца в конец пулеметами. Господи боже мой, неужто не причешут под самую холодную машинку завтра или когда там?! — громче нужного, теряя осторожность, сказал «с сердцем» Кандуша. — Глядите, пищи сколько награбили!
Он весь день ничего почти не ел и болезненно чувствовал сейчас свой лающий, бурчащий от голода желудок.
— Позволю сознаться, — уже совсем громко проворчал он, — кушатки как хочется…
Он был услышан. Какой-то по-детски маленький, пучеглазый человечек с каракулевым пирожком на голове, сползшим на затылок, с расстегнутым портфелем подмышкой, схватил его за рукав:
— Товарищ! О чем же вы думаете, как индюк? Я иду туда — пошли со мной! Так только и питаюсь эти два дня: на иждивении у революции. Рабочий? Я вижу — рабочий. Ну, так в чем же дело? Крушить к чертовой маме царский режим можно, а скушать бесплатно два революционных бутерброда нельзя? Хо-хо, пошли!
Вокруг на панели весело посмеивались. Незнакомый человек сыпал словами, как пулемет пулями.
— Простите, где же это революция бесплатно кормит рабочих? — вежливо улыбаясь, спросил вместо оторопевшего Кандуши Вячеслав Сигизмундович.
Незнакомец, задрав голову (шапка чуть-чуть совсем не свалилась с нее), посмотрел на рослого «инженера» с красным бантиком на груди:
— Не только рабочих, но и всех, кто за революцию, — народ! Народ включает в себя и его, и вас, товарищ инженер, и меня — журналиста.
— Вы журналист? Вот интересно. Вы, наверно, много чего знаете в таком случае? — полюбопытствовал уже Губонин.
— А вы как думаете? — весело подмигнул человечек. — Куда, знаете, сатана не может сам пойти, туда посылает он гонцом газетчика!
Расталкивая людей на панели, он стал пробираться вперед, а за ним Вячеслав Сигизмундович и Кандуша. Один — увлекаемый желанием узнать как можно больше новостей о враждебном лагере, другой — по той же причине да еще томимый голодом.
Предводительствуемые шустрым и разговорчивым журналистом, они через четверть часа очутились в помещении какого-то кредитного общества, расположенного в бельэтаже большого дома, у ворот которого стояла теперь почему-то пушка, охраняемая по всем воинским правилам артиллерийской прислугой.
В длинной, просторной конторе кредитного общества кишмя кишел народ: здесь открыт был питательный пункт.
Четыре огромных самовара, поставленных на табуреты, собрали вокруг себя очередь за кипятком, за чаем. Его наливали в кружки, в стаканы и даже в бутылки (не хватало нужной посуды) сменявшие друг друга женщины. Затем люди переходили в другую очередь — к «вексельному» окошку потерявшего свой чинный облик кредитного общества, и там то одна, то другая деревянная солдатская ложка ловко высыпала в подставленные кружки и стаканы сахарный песок. Он был желт, — таким его выделывали в последнее время, — и в нем было немало мелкого мусора, но сладость горячего чая Кандуша ощутил сейчас, как никогда раньше.
На расставленных вдоль стен столах лежали колбасы и хлеб. Вооруженные ножами всяческих размеров, стоявшие за столами, как за ярмарочной стойкой, люди нарезали колбасу и хлеб для бутербродов. Эти люди большей частью также сменялись, — таково было неписаное правило, установившееся здесь: подкрепился едой — становись на работу. Заменят тебя — можешь продолжать свой путь. Куда? Об этом можно было и не спрашивать: все, как правоверные в Мекку, стремились теперь попасть в неумолчный, бессонный круглые сутки Таврический дворец.
Невольно подчиняясь общему порядку, которого меньше всего, на первый взгляд, можно было ждать от этой бурно гудящей, толкающейся во все стороны толпы, Кандуша, отстав вначале на минуту от своих спутников, уже далеко стоял от них в очереди и за кипятком и за сахаром и только глазами стерег инженерскую шинель Вячеслава Сигизмундовича. Издали он видел, как тот все время не отпускал от себя оживленного, разговорчивого собеседника, как шустрый журналист вынул какие-то листки из своего пузатого портфеля и читал что-то мигом собравшейся вокруг него кучке народа.
«Заметим тебя, пучеглазый муравейчик… Приметим мы тебя, муравеишко, пипль-попль! — раздраженно думал Кандуша о крамольном журналисте, — думал по старой привычке «ловца человеков». — Занесем-с куда следует!..
Теперь надо будет занести — обязательно занести! — на «Дугу» и этого «муравеишку»-газетчика, и вот того золотогривого великана-студента, что командует тут всеми, и того «оболтуса»-гимназиста, что метлой снял с крюка и под гиканье остальных «печенегов» растоптал ногами цветной портрет его императорского величества, и смазливую дамочку в каракулях, запевающую марсельезу, и многих, многих других надо запомнить, отметить теперь… Господи боже мой, да разве когда раньше возможен был такой «улов»?»
Не хватало глаз и времени примечать этих людей. Их было множество: как рыбы, выброшенной наводнением на берег, — бери, подбирай каждую и клади в кошелку!.. Вот придет завтра его императорское величество с верными ему войсками, — и тогда…
То ли от этой жаркой мечты, то ли от горячего чаю и жадно проглоченных бутербродов Пантелеймону Кандуше стало весело, по-озорному весело, и он игриво и неосторожно ущипнул в толкотне и давке плечико проходившей впереди него, не замеченной сразу женской фигуры. Та оглянулась, ища обиженным быстрым взглядом нескромного шутника:
— Что это еще такое?
Но, не найдя, конечно, виновного в этой быстротекущей по залу толпе, она готова была уже пройти вперед, как в эту секунду сбоку ей бросилось в глаза лицо Пантелеймона Никифоровича.
— Кандуша! — вскрикнула его знакомая. — Ах, вы тоже здесь?..
Никто, кроме него, не обратил внимания на этот удивленный, растерянный и гневный выкрик: он естественно затерялся в общем шуме.
— Барышня! Ирина Львовна!.. — подался ей навстречу Кандуша. — Что делается, господи боже мой! Такие дела-делишки…
Он намеревался еще поближе протиснуться к Ирише, но ее нахмуренные брови и незнакомо-насмешливый взгляд остановили его.
— Да, дел а-делишки… Хорошие дела и подлые делишки, Кандуша! — переговаривались они, отделенные друг от друга кружащимся потоком людской толпы. Толпа все это слышала, но, конечно, не слушала.
— Товарищи! — крикнула Ириша Карабаева. И так звонко, что обратила теперь внимание всех присутствующих. — Я хочу сказать вам, товарищи… Здесь, среди свободных граждан России, вертится шпик из охранки! Надо задержать его, арестовать. Вот он!
Но в общей сутолоке не понять было, на кого указывает рука девушки в желтой замшевой перчатке. Хватали друг друга за рукав и за воротники пальто, хватали неповинных людей, вспыхнула перебранка.
Пользуясь общей сутолокой, Кандуша исчез.
Через несколько минут Ириша увидела Асикритова. Он стоял за столом и, орудуя длинным пекарским ножом, резал колбасу и перебрасывал ее на соседнюю стойку.
Поглощенный, казалось, таким же занятием, стоял рядом с ним какой-то инженер в путейской шинели с красным бантиком на груди.
— Дядя Фом, урра! — подскочила она к журналисту. — Да здравствует…
— Да здравствует, Ириша! — закричал он, не дождавшись конца ее фразы. — Бегу, девонька, в Таврический. А ты куда?
— Мы на грузовике хлеб сюда привезли, а теперь и я туда. Я там целый день почти. Вот это жизнь, дядя Фом!
— Ромео своего видала? А я имел честь лицезреть вчера!
— Нет… — покраснела она, догадавшись, о ком шла речь. — Где он? Что с Ваулиным… ради бога!
— Ха-ха-ха-а! — залился вдруг смехом Фома Матвеевич. — Один, понимаешь, сапог черный, а другой — земгусарский, желтый! «Как это вы так?» — спрашиваю его. Ох, ты бы на него посмотрела только!
— Да где же он? Где?..
Он пожал плечами:
— Чего не знаю — о том врать не буду, Ириша.
Она выволокла журналиста из-за стола и накинулась на него с расспросами.
Губонин незаметно очутился рядом с ними и стал прислушиваться. Через десять минут он покинул гудевшее ульем помещение столовки.
ГЛАВА ШЕСТАЯ Таврический дворец
Было некогда здесь подворье митрополита, оружейный двор, слобода Конной гвардии, — кончалась тут заселенная часть этой стороны Петрова града. В центре означенных мест приказала Екатерина II воздвигнуть дворец своему фавориту Потемкину, покорителю Тавриды.
Пять лет архитектор Старов строил Таврический дворец, и в 1788 году открылся он великим придворным балом. Труд и жизни многих тысяч подневольных людей вместе с дворцом отданы были в дар «светлейшему» барину. Но взошел на престол мстительный Павел, и потемкинский дворец был отдан под казармы и конюшни.
Убили Павла — и снова переделали казармы в Таврический дворец. На сей раз занимался этим иностранец Луиджи Русска. Но и его великолепное искусство не оградило биографию дворца от новой постыдной участи: служить складом императорской мебели!
И когда через сто лет понадобилось русскому самодержавию «отвести помещение» для вынужденно созданной им Государственной думы, вспомнили снова о Таврическом дворце и опять перестроили его: зимний сад превратили в зал заседаний, театр — в думскую библиотеку; упразднили отличные росписи художников и показали пример нового, полицейского искусства: потолок думского зала был столь слабо укреплен (не без ехидства и затаенной мысли), что, обвалившись однажды, угрожал смертью «народным избранникам».
«Смуты и волнения в столицах и во многих местностях Империи Нашей великою и тяжкою скорбью преисполняют сердце Наше… От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству Державы Нашей».
Так начинался царский манифест 17 октября 1905 года. Испуганный революцией монарх «даровал» России лицемерную конституцию — куцую и лживую клятву на верность «народному представительству». Но из кого оно состояло и как складывалось?
Помещикам и заводчикам дано было право иметь 4269 выборщиков в Думу, а всему остальному населению — всего лишь 2962. Крестьяне выбирали по четырехстепенной системе, рабочие — по трехстепенной, помещики и буржуазия — по двухстепенной; таково было жесткое избирательное Сито, просеивавшее состав первого русского парламента.
Полноправным членом крестьянской курии считался только тот крестьянин, который имел право участвовать в выборах на волостных сходах, то есть владелец земли, собственник — крестьянин зажиточный. В Сибири, например, он должен был владеть землей не менее чем в 300 десятин, в Польше — не менее 100 десятин.
По рабочей курии к выборам допускались лишь рабочие-мужчины крупных фабрично-заводских предприятий: один уполномоченный на тысячу человек. Таким образом, весь сельскохозяйственный пролетариат, все поденщики и чернорабочие, рабочие на мелких предприятиях и, наконец, все женщины исключались из состава выборщиков.
Такой пришла первая Дума в Таврический дворец. В стране гулял красный петух крестьянского движения, и центральная партия российской буржуазии — кадетская партия князей Долгорукова и Шаховского, Винавера и Родичева, Набокова и Кокошкина, пуская пыль в глаза о «думе народного гнева», но больше всего боясь этого гнева, боясь революции, угодливо искала соглашения с правительством. Шел 1906 год. Оправившись от растерянности, монархия покрыла всю Россию карательными экспедициями бравых казачьих генералов, не сумевших стяжать себе славы в недавней русско-японской войне. И монархия, пугая трусливых либеральных профессоров и юристов массовым революционным движением, уже не шла на уступки.
«Государственная дума? — Пора низвести ее до уровня одной из правительственных канцелярий!»
Царь отказался принять думскую депутацию с ответом на еге тронную речь, а правительство крепостника Горемыкина в ответ на робкое думское требование уйти в отставку — внесло, словно в насмешку, один лишь вопрос на «утверждение» Думы: это был чепуховый, издевательский законопроект об… ассигновании кредитов на прачечную и оранжерею при Юрьевском университете!
Царское правительство заявило, что «не потерпит никаких посягательств на священные устои земельной собственности», и — разогнало первую Думу. А через год — 3 июня 1907 года — и второй состав Думы. На каторжные работы и в ссылку ушли 28 социал-демократических депутатов.
«Новая Дума должна быть русской по духу», — гласил государев манифест, и пять лет холопское сборище попов; черносотенцев-домовладельцев, зубров-помещиков и буржуазно-дворянских рамоли собиралось время от времени под куполом Таврического дворца, чтобы свидетельствовать свои верноподданнические чувства самодержцу-императору, чтобы усердно помогать ему завязывать на шее народа огромный, окровавленный столыпинский галстук знаменитого царского висельщика.
Черная ночь реакции окутала страну. Кавказ и Сибирь, Средняя Азия и Польша были признаны «незрелыми» для полноправного участия не только в Думе, но и в органах городского самоуправления. Рабочих старались зажать в полицейский кулак насилий и эксплуатации: узаконенный двенадцатичасовой рабочий день, преследование профессиональных союзов, лишение права выбирать своих представителей в совет по делам страхования («представители» назначались теперь губернатором!). «Только такой закон, — как отметили большевики-ленинцы на своей конференции в Праге, — грубейшим образом издевающийся над насущнейшими интересами рабочих, мог родиться в момент бешеной реакции».
Под давлением общественного мнения кое-кто из думских левых пытается протестовать и против карательных налетов казачьих генералов, и против каннибальской мести военно-полевых судов, против погромов и против ущемления прав «народных представителей» — и тогда на трибуну Таврического дворца подымается премьер-министр Коковцев. Бесстрастным, спокойным голосом первого сановника империи он нравоучительно поясняет России:
— У нас, слава, богу, еще нет парламента.
— Так было, так будет, — сказал в устрашение России, с той же дворцовой кафедры, другой русский министр.
И в ту же пору взошел на думскую трибуну прославившийся бард русского национализма и помещичьего царства — длинноусый барин с холодными глазами — Шульгин и, актерски разыгрывая бескорыстного рыцаря самодержавия, оскорбительно бросил всей стране:
— Я вам скажу, господа, что революция в России труслива, и потому я ее презираю. И если налицо будет революционная опасность, то российская империя может увидеть в рядах полиции лучших своих сынов.
— Вас! Шульгина! — крикнули ему слева, думая крепко оскорбить депутата-дворянина.
Но он оставался спокоен. Как всегда, колкая язвительная усмешка проползла по его пренебрежительно оттопыренным губам, и он беззастенчиво сказал:
— Да, и меня также.
На большую откровенность нельзя было и рассчитывать.
Да, — говорила шульгинскими устами единая дворянская семья Николая Романова, курского громилы Маркова второго и виленского погромщика Замысловского, — да, нас сто двадцать тысяч русских помещиков, и мы будем и впредь управлять стодвадцатимиллионным народом России. В защиту нас от этого народа офицерство прикажет в любой момент взвести курки подневольного войска, церковь именем божьим призовет на них благословенье, полиция и жандармы немедля уготовят бунтарям виселицу, тюрьму и кандалы, буржуазия ссудит нас деньгами за охрану от революции банков, лабазов, фабрик.
Но вопреки клевете столыпинского подручного — Шульгина русская революция рабочего класса, революция русского солдата-крестьянина не была трусливой. Вот она ворвалась во все дворцы самодержавия и в этот — Таврический!
Над строгим дорическим портиком взвился поднятый рабочими руками красный флаг, а в громадный блестящий Екатерининский зал с его великолепными тридцатью шестью ионическими колоннами, во все закоулки безгласного русского парламента, вбежал народ с высоко поднятыми знаменами веселой свободы…
О том, что видела и слышала за пятеро суток, проведенных в Таврическом дворце, Ириша могла бы, казалось ей, рассказывать месяц — и все же не хватило бы ни памяти, ни времени запомнить и передать все.
Она чувствовала только одно: мир, ее собственный прежний мир привычных впечатлений, безвозвратно утерян. Создавался новый, иной мир для нее. Он обещал и новую судьбу — для всех вокруг и для нее самой. Какая это судьба и что за мир такой — об этом некогда было по-настоящему подумать.
Все ее мысли были теперь во власти фактов, сумбура ежечасных и ежеминутных событий, встреч и происшествий, как воронка втягивавших в себя ее время и внимание.
Последнее время она жила в огромной, многотысячной толпе. Это никак не походило на ее обычное существование! Она видела вокруг себя людей, множество людей, которые жили теперь так же необычно, как и она сама. Вчера еще неизвестные и незнакомые — они были теперь неразлучны друг с другом, и каждый из них словно познавал себя в соседе: в этом и состояло теперь их новое знакомство, хотя они и оставались друг другу неизвестны, как и прежде.
У входа в зал заседаний Совета Ириша увидела маленький стол, за которым сидела высокая худая женщина в пенсне (как сказали Ирише, — только что выпущенная из тюрьмы большевичка Елена Стасова). Над столом висел кусок картона с старательно выведенной карандашом надписью: «Секретариат ЦК РСДРП».
— И все? — удивилась Ириша. Но именно к этому столу вереницей тянулись рабочие и солдаты.
Что делала Ириша в Таврическом дворце? Все, что приходилось.
Она была «вестовым» думского комитета и «телефонисткой» Совета рабочих депутатов. Ездила на грузовике за хлебом к воротам каких-то интендантских складов и разносила пищу по многочисленным комнатам дворца. Дежурила в различных Комиссиях, выросших нежданно во всех углах Таврического, и вела список членов только что образовавшейся солдатской секции Совета. Раздавала катушки трамвайных билетов солдатам, хотя в тот день трамваи бездействовали, и ведала аптечкой в одном из крыльев дворца. Она искала работы, какой угодно работы, — и ее находилось много, очень много.
Она делала то, что делали теперь тысячи других людей, — Таврический дворец стал для всех них новым домом, новым жильем большой, невиданно-большой семьи.
Все эти люди, которых она знала теперь в лицо и по голосу: Родзянко и Керенский, Милюков и Чхеидзе, думские знаменитости и вожаки Совета рабочих депутатов, — брали из ее рук тарелки с едой, бутылочки с валерианкой и порошки от головной боли, папиросы, пакеты и телефонограммы, резолюции полков и донесения об арестах, — и она видела, что никто теперь ничему здесь не удивляется: не удивляется, например, тому, что все это почему-то делается ею — незнакомой им Иришей — и еще сотнями таких же неизвестных им людей, как она.
Она металась из конца в конец по дворцу, выполняя различные поручения.
— Товарищ! — хватали ее за рукав. — Необходимо организовать стол питания для членов Исполнительного комитета! Передайте там кому следует… живо!
Боже мой, почему именно она должна была это делать и кому собственно следовало о том «передать»?
Ее веселил этот хаос, ей в голову не приходило роптать на кого-либо, спорить, — она бросалась выполнять эту просьбу, как если бы она и впрямь была ее обязанностью.
И она знала: прикажи она сама кому-либо что-нибудь сделать — тот, к кому обратится она, Ириша, немедля поступит так же, как поступила и она сама.
Через десять минут «стол питания» вносился в комнату заседания, и люди мигом обступали его со всех сторон.
Наливали чай из более чем сомнительных чайников в жестяные, заржавленные кружки. Залезали грязными перочинными ножами в банки с консервами, суя в них пальцы. Чай размешивали ручками и чернильными карандашами и вытирали газетами измазанные руки. И сама Ириша так питалась, — увидала бы мать, Софья Даниловна!..
Горбоносый, сивобородый старик Чхеидзе, прикованный к председательскому месту, выкатывал гневно глаза и, размахивая волосатым кулаком, на который наползла не первой свежести манжета без запонки, неистово орал:
— Призываю к порядку и протестую! Что такое?! Здесь заседает орган революционной демократии, а вы тут удовлетворяете какие-то свои естественные потребности! Или шпроту, или заседание — одно из двух! Я закрою заседание!..
Но все эти заседания не закрывались, а продолжались до поздней ночи и возобновлялись, как только просыпался первый десяток членов Совета.
Она несколько раз видела близко-близко от себя Керенского. Он вызывал теперь всеобщее взимание, он приучил всех к неожиданности своих поступков.
Однажды Ириша вместе с двумя другими курсистками внесла на подносе чай в помещение думского комитета. (Его оттеснили теперь в две крохотные комнаты в конце бокового коридора, напротив библиотеки.) За столом, покрытым зеленым бархатом, сидел в окружении сеньорен-конвента сумрачный, тяжелый Родзянко. Веки набрякли, лицо лоснилось — словно неумытое.
В числе других она увидела и своего отца: Лев Павлович улыбнулся ей усталыми, нежно смотревшими глазами.
Не успела она расставить на канцелярском столике стаканы, как дверь с шумом распахнулась, и влетел Керенский. За ним — двое солдат с винтовками, а между ними — сухонький благообразный старичок в зеленом чиновничьем сюртуке. В руках он держал кипу каких-то пакетов, на них были огромные сургучные печати.
— Положите на стол! Можете идти! — при общем недоуменном молчании распоряжался Керенский.
Солдаты повернулись — по-военному — через левое плечо, не согнув корпуса, а старик чиновник, прежде чем выйти, вынул из кармана какую-то расписку, на которой Керенский быстро поставил свою подпись.
— Наши секретные договоры с державами! — драматически возгласил он. — Вот, спрячьте, господа… сами понимаете…
И так же неожиданно исчез, как и появился здесь.
— Господи, что же мы с ними будем делать? — оторопелым тенорком нарушил кто-то минутное молчание. — Ведь даже шкафа у нас нет!
— Что за безобразие! — загудел своим запорожским басом Родзянко. — Откуда он их таскает?
Видно было: он хотел разразиться бранью, что было в его натуре, но, очевидно, присутствие барышень его сдержало.
На лицах присутствующих была одна и та же мысль: куда же, в самом деле, деть эти секретные договоры? Это ведь самые важные государственные документы, какие только есть.
Что за чепуха! Так же нельзя… Ну, спасли эти договоры, но все остальные могут растащить? Мало ли по всем министерствам важных государственных документов? Не тащить же их все сюда? Да и куда собственно? Здесь нет не только шкафа с ключом, но даже ящика нет в столе!..
— Знаете, что? — сказал вдруг неизвестный Ирише человек с хитроватыми глазами, с голым мячеобразным черепом и широкой бородой. (Это был октябрист Владимир Львов, — назавтра он стал обер-прокурором Синода.) — Знаете, что?.. Бросим их под стол! Ну да, под этот стол. Под скатертью их совершенно не видно будет. Никому в голову не придет искать их там. Смотрите, господа…
И пакеты отправились под стол. Зеленая бархатная скатерть опустилась до самого пола.
— Как раз подходящее место для хранения важнейших актов державы российской! — иронически-печально покачал головой Карабаев, принимая чай из рук дочери, и, пользуясь этим случаем, незаметно погладил Иришину руку.
— Полноте! А есть ли еще эта держава? — зло скрипел зубами запомнившийся Ирише лицом усатый Шульгин. — Государство ли это, или сплошной, огромный, колоссальный сумасшедший дом?!
Ириша покраснела, ей хотелось крикнуть что-то дерзкое, гневное в ответ этому презрительно усмехавшемуся человеку, но она поняла, что сейчас не время.
Через минуты две — снова Керенский: быстрыми шагами, опять с солдатами. Они тащили, как тушу, огромный кожаный черный мешок.
И снова — повелительно:
— Можете идти!
Боже, что это еще такое?
— Господа, тут два миллиона рублей. Из какого-то министерства притащили, — спрячьте!.. Я стал носильщиком, господа… Так нельзя больше… Предлагаю обсудить!
Он исчез — похохатывая, обнажая широко свои желтые десны.
И черный кожаный мешок с двумя миллионами депутаты Думы, встав со своих мест, брезгливо и опасливо оглядываясь на дверь, затолкали ногами, как труп какого-то большого животного, под стол, накрытый зеленым бархатом.
— Павел Николаевич! — схватив Милюкова за руку, сказал ненавистный Ирише длинноусый Шульгин. — Довольно этого кабака! Мы не можем управлять Россией из-под стола!..
В этот момент Ириша вышла из комнаты: оставаться дольше было бестактно, да и отец подмигивал — «уходи».
В тот же день здесь же, в Таврическом, она встретила человека, имени которого уже давно поклонялась в душе. Это был Максим Горький.
Три месяца назад она впервые в жизни увидела знаменитого революционного писателя. Он должен был выступать в вечернем рабочем Лутугинском университете, помещавшемся в ремесленной школе Механического завода: там большевики устраивали лекции и литературно-художественные вечера в пользу партийной кассы. Выступление Горького в тот день не состоялось, но через неделю «караулившая» его Ириша вместе с группой студентов счастливо попала в маленький зал Сампсониевского общества трезвости, где писатель читал тогда свое новое произведение «Фомичи и Лукичи» — антивоенную, пораженческую вещь. Не обошлось без вмешательства полиции, вызванной кем-то из провокаторов, но Горького успели усадить в извозчичьи сани и умчать до прихода фараонов.
Теперь она видела его совсем близко.
Высокий, сутулый, в каракулевой шапке, чуть-чуть наползшей на лоб, как покосившийся церковный купол. Шуба расстегнута, полы — в стороны, открывая синие брюки, но широкий воротник плотно облегал шею, сцепленный крючечком застежки.
Он шел в сопровождении члена Петроградского совета Соколова и еще какого-то бритого, с львиным профилем, мужчины, лицо которого было мелко изрыто оспенными ямочками. Очевидно, Соколов вел их обоих по направлению к 13-й комнате, где помещался Исполком, — идя сбоку, Ириша заключила о том из их разговора.
Говорил больше Соколов — сильно жестикулируя, поминутно задерживая свой шаг, словно ходьба мешала ему разговаривать; молчалив был второй спутник Горького, а сам он отвечал односложно и хмуро. Могло показаться, что он чем-то недоволен: частое, короткое покашливание его было сварливо.
На пути, в зале, где Горький, залюбовавшись ионическими колоннами, восхищенно расхваливал их, попался им человек, с которым они задержались на десять минут, отойдя в сторонку и присев к столику с разбросанной на нем кипой каких-то разноцветных афишей.
Ириша уже знала этого человека по заседаниям Совета. Это был известный бундовец Либер: низенький, запоминающегося вида человек с черной ассирийской бородой, с внимательным взглядом исподлобья, с постоянной саркастической усмешкой на устах и женственными, кошачьими, движениями.
На трибуне он был горяч и груб со своими противниками; его сухощавая фигура подскакивала тогда, как будто под каблуками были подбрасывавшие его пружины, а поднятые вверх, как свечечки, указательные пальцы по бокам лица дополняли впечатление о Либере как о каком-то восточном божке на молитве. Голос его надрывался на высоких нотах, и это вызывало иногда в зале невольный смех.
Желая подольше понаблюдать знаменитого писателя, Ириша притаилась за одной из мраморных колонн, откуда видно и неплохо слышно было всех его собеседников.
— Не понимаю вас, — с чем-то не соглашался Горький. — Совсем не понимаю, — густо окал он, покашливая после каждой затяжки папиросой. — На матросов жаловаться? Нехорошо, я думаю, нехорошо это… Почему жаловаться? Слишком далеко зашли, говорите? Вышли из границ, отмеренных скептиками, которые простуживаются от ветра революции. Я уж повторяю, что раз писал: лучше бы человеку без штанов жить, чем со скептицизмом в душе. Я так думаю, я так думаю, — повторил он, склонив набок голову и обводя глазами сгруппировавшихся вокруг него людей.
И вдруг улыбнулся — застенчиво и мягко, и тогда глаза под нависшими бровями стали синими и нежными, как у великорусских деревенских ребятишек, смущенных неожиданным подарком городского человека.
— Без штанов… да, без штанов, хо-хо-хо! — раскатисто смеялся коренастый Соколов, отбрасывая, как взнузданная лошадь, назад голову и разглаживая в обе стороны свою мягкую черную бороду, почему-то странно рыжевшую, попадая на свет. — Так без штанов, говорите, Алексей Максимович? Хо-хо-хо!..
И чем больше хохотал Соколов и шире усмехался меньшевистский лидер, нетерпеливо оглядываясь по сторонам, тем быстрей тускнела улыбка и мрачнели глаза Горького.
— Угу, угу… Гм, да… — отвечал он суровым покашливанием.
Он медленно, ритмично застучал пальцами по столу. Руки, вытянув, держал на нем крест-накрест и как-то предостерегающе, могло показаться, постукивал теперь пальцами.
— Александр Николаевич, помните, я рассказывал вам как-то про одного чудака такого? — повернул он голову к молчаливому своему спутнику. — Был, знаете, господа, один преподаватель такой в провинции, — я его хорошо помню. Он ежедневно после своих уроков, какова бы ни была погода, представьте, брал зонтик, надевал галоши и одинаковым шагом уходил за город. Свалка там нечистот была. Усаживался он на старый бочонок с пробитым дном, вынимал часы — старомодная луковица такая с ключиком — и, следя по часам, просиживал на бочке ровно шестьдесят, минут — и в той же, господа, позе. Потом вставал и так же, отмеренным шагом, отправлялся домой. И все это называл почему-то «принципом». Хорош, — а?
— Да, чудачество, — уже не усмехался Либер, поняв, конечно, к чему клонится речь; теперь насмешливая улыбка залегла уже в изгибах рыжеватых горьковских усов.
— Матросы, — ах, черти драповые! — озорным синим светом засверкали его глаза. — Хороши парни… ей-богу, хороши! А маниаки, знаете, берут в солнечный день старый свой «программный» зонтик, галоши догматические, — а? — и думают, что перед ними прежнее свалочное место… яма выгребная прежнего режима… Я так думаю… я так думаю, товарищи. Солнце — оно, конечно, режет глаза: с непривычки это, полагаю? Вы как скажете? Ах, черти драповые! — повторил он несколько раз свое любимое выражение.
— Да, чудачество… — многозначительно и раздраженно сказал меньшевистский лидер, переглядываясь с Соколовым. — Оно бывает не только у провинциальных педагогов… Простите, Алексей Максимович, нам нужно по одному важному делу революции! — мстил он, отводя Соколова далеко в сторону.
— Революция… гм, хорошо бы так, — поднялся с места Горький, пряча узенький костяной мундштук в жестяной футлярчик. — Ишь громко он как: «по делу революции»?! Видали, Александр Николаевич? Копчик — птичка невелика, да коготок у ней востер! Либер-то, — а?
Оставленный обоими «исполкомщиками», которым сегодня явно пришелся не по душе, а через минуту и спутником своим, Александром Николаевичем, повстречавшимся тут же с какой-то знакомой дамой, писатель неторопливым шагом побрел по залу, вышел в коридор, в котором помещался Исполком. Ириша шла по его следам.
И здесь, в коридоре, произошло то, чего они оба не ожидали. Горький толкнулся было в дверь 13-й комнаты, но стоявший у, порога часовой — вольноопределяющийся с пухлым, розовощеким личиком недавнего гимназиста из «хорошей семьи» — решительно пресек его попытку, — и знаменитый писатель молча ретировался.
— Товарищ, что вы сделали?! Вы знаете этого человека? — подбежала Ириша к часовому.
— Никак нет. А что?
— Так это же Максим Горький! — воскликнула она гневно.
— Вот как? Ну… ничего. Простительно не знать… ведь не Лев Толстой, а тот уже помер, — глупо оправдывался, картавя, смущенный вольноопределяющийся, любуясь Иришей.
— Эх ты… мозги всмятку в дырявой лоханке! — прикрикнул на него выскочивший из соседних дверей низенький, с монгольским лицом кронштадтец. — Максим Горький — это же наш… наш!
Этого же матроса она увидела спустя два дня на том самом собрании Совета, где оглашался список членов Временного правительства и выступал «министр революционной демократии» Керенский. Матрос стоял рядом с ней и бог весть где раздобытой иглой и нитками пришивал на бушлате вырванную «с мясом» медную пуговицу. Он был удивительно сосредоточен и, казалось, мало внимателен к оратору.
Зал был до отказа набит народом. Вел собрание Чхеидзе. Он уже не сидел за своим председательским столом, а стоял на нем — накинув на плечи шубу, но без шапки.
На трибуне — официальный докладчик Исполкома: высоченный, с окладистой черной бородой и румяными щеками человек, журналистский псевдоним которого казался Ирише «хрупким», как стекло, никак не соответствующим общему облику этого плечистого атлета.
Он говорил бесконечно долго, — так бесстрастно держа голос на одной и той же утомительной интонации, что Ирише стал понятен матрос, пришивающий пуговицу. Наконец, исполкомовский докладчик закончил свою речь. Под общие рукоплескания он сообщил, что вчера, обсуждая вопрос о власти, Исполнительный комитет большинством тринадцати голосов против восьми постановил не вступать в правительство и не посылать в цензовый кабинет официальных представителей демократии. Ныне этот вопрос, передается на утверждение Совета.
— Очень просто: самим брать власть! — откусывая нитку зубами, оживился теперь Иришин сосед.
Что-то говорил, размахивая руками и оттого поминутно теряя падавшую с плеч шубу, обросший конусообразной бородой Чхеидзе, водворяя порядок среди затихавших аплодисментов.
— Товарищи, мы будем обсуждать или не будем обсуждать?
— Будем! Будем! — раздавалось со всех сторон.
— Позвольте мне слово… Николай Семенович, я прошу слово! — услышали все резкий, горячий голос.
— Пожал-ста, Александр Федорович, — прищурившись, посмотрел вдаль Чхеидзе.
Из противоположного конца огромного зала поспешно пробирался побелевший как полотно Керенский. Он решительно расталкивал закупорившую проход людскую массу, но толпа не поддавалась его усилиям, и, сделав всего несколько шагов, Керенский в изнеможении остановился.
— Товарищ Керенский, сюда… сюда! — указывали ему поблизости освободившееся место.
Небольшой черный стол, на котором сидели раньше два каких-то человека, был теперь к его услугам. Он взобрался на него и встал во весь рост.
Так, в далеких друг от друга, противоположных концах зала стояли на столах, как на пьедесталах недавно пришедшей славы, в секундном ожидании тишины они оба — Чхеидзе и Керенский. Один — успокоившийся и будничный: довольный тем, что некоторое время ему не надо уже иметь дело с этой тысячной шумной толпой (его мучила мигрень), другой — пришедший овладеть этой толпой: напряженный, со вздрагивающими ресницами и губами, с высоко занесенной над головой, растопыренной пятерней руки, как будто он ловил ею брошенный в его сторону мяч.
— Товарищи… дорогие товарищи… — пошел в тишину заяа мистический полушепот упавшего голоса. — Я должен сделать вам сообщение чрезвычайной важности.
И вдруг тут же, после десятисекундной паузы, вслед за проникновенным полушепотом, невольно взволновавшим толпу, — первый короткий удар в нее громким, атакующим голосом:
— Товарищи, доверяете вы мне?
— Доверяем! Доверяем!.. — ответил, вздрогнув, ошеломленный зал.
— Я говорю, товарищи, от всей души… из глубины сердца. И если нужно доказать это… если вы мне не доверяете, — я тут же, на ваших глазах, готов умереть!
— Доверяем!.. Доверяем… — грохотал уже теперь гром аплодировавшей толпы.
Она, казалось, была потрясена необычным, «жертвенным» обращением к ней готового на Голгофу человека, — хотя никакой необходимости в том решительно не было.
А сам оратор — бледный как снег, взволнованный до полного потрясения вызванной им так быстро в зале бурей невольной преданности — вырывал из себя, как куски кровоточащего мяса, короткие, хриплые фразы и бросал их, чередуя исступленными паузами, в толпу, «обреченную на покорение».
Когда-то, студентом, он неплохо изучил Цицерона. Он знал: человеческая речь, которую поэт справедливо назвал «очаровательницей сердец и королевою всего мира», имеет несравненное могущество. Она не только увлекает за собой того, кто колеблется, сваливает того, кто стойко упирается, но может напасть, как хороший полководец, на сопротивляющегося врага и заставить его сдаться.
— В настоящее время образовалось Временное правительство, и я занял в нем пост министра юстиции! Товарищи, я должен был дать ответ в течение пяти минут и потому не имел возможности получить ваш мандат до решения моего о вступлении в состав Временного правительства.
— А решение Исполнительного комитета?! — пришел кто-то в себя и подал недоуменный голос.
И прежде чем он разросся в зале, Керенский метнул заранее припасенную «бомбу»:
— Товарищи! В моём распоряжений находятся представители старой власти, и я не решился выпустить их из своих рук! Правильно я поступил?.. Немедленно по вступлении на пост министра я приказал освободить всех политических заключенных и с особым почетом препроводить из Сибири сюда, к нам, наших товарищей-депутатов, членов социал-демократической фракции Четвертой думы и депутатов Второй думы! Освобождаются все политические заключенные!
Он выполнил как оратор то, к чему стремился, — он был верен лукавым и умным заповедям римского классика ораторского искусства. Надо было прежде всего завоевать расположение слушателей и так их тронуть, чтобы увлечь за собой, скорее возбуждая в них страсть и смятение духа, чем обращаясь к разуму.
— Ввиду того, товарищи, что я принял на себя обязанности министра до получения от вас полномочий, я снимаю с себя звание товарища председателя Совета рабочих депутатов…
— Что правильно — то правильно! — удовлетворенно буркнул матрос, стоявший рядом с Иришей, и хотел было захлопать, но страстный выкрик Керенского остановил его:
— Я вновь готов принять на себя это звание, если вы признаете это нужным!
— Просим! Просим! — раздалось с разных сторон.
— В своей деятельности я должен опираться на волю народа. Я должен иметь в нем могучую поддержку…
И, словно цицероновский полководец, чувствуя, что уже покорил этот народ и его волю, Керенский прокричал в зал:
— Товарищи! Могу ли я верить вам, как самому себе?! — И он, пригнув стриженную ежиком голову, переждал трехминутный шквал рукоплесканий.
Тогда он и сам решил произнести свою обманную клятву эсеровского Цезаря.
Его дрожащие руки отыскали у краев тупенького подбородка загнутые концы высокого крахмального воротничка, — он взялся за эти длинные загнутые языки франтоватого воротничка и в исступлении быстро отодрал их, и вид получился нарочито демократический.
— Я не могу жить без народа… не могу… — повторял он мистический, страстный полушепот начала своей речи. — И в тот момент, когда вы усомнитесь во мне, — убейте меня! — снова истерически выкрикнул он и развел руками в стороны, вынося вперед узкую грудь, как бы для чьего-то удара в нее.
Он был верен себе — оратор из сословия адвокатов: речь должна увлекать — знал он. «Ut flectat!» — учили классики этого искусства. Не надейтесь вызвать раздражение против вашего противника, говорили они, если вы сами не раздражены. Вы не вызовете к нему ненависти, если сами ее не питаете; сочувствия — если ваши слова, ваша наружность, ваши слезы не проявляют печали; восхищения и преданности — если ваша речь и жесты того не ищут. Нет вещи, хотя бы и легко возгораемой, которая зажигалась бы, однако, без огня, и нет человеческой души настолько впечатлительной, чтобы она могла воспламениться, если ее не поджечь извне страстью.
Он оставался верен этим заповедям. И никто в толпе не силен был в тот час воспротивиться этому ловкому оружию совращения.
— Товарищи, время не ждет, — уже торопился он. — Позвольте мне вернуться к Временному правительству и объявить ему, что я вхожу в его состав с вашего согласия, как ваш представитель!
Прапорщики запаса и студенты вынесли его из зала, как триумфатора.
Движимая любопытством, как и многие, Ириша, стоявшая близко к дверям, выбежала в коридор поглядеть на Керенского. В вестибюле она увидела его в окружении почитателей. Весь этот живой куст людей двигался к помещению думского комитета.
По бокам Керенского шли трое английских офицеров с одинаково строгими, но улыбающимися теперь бритыми лицами и в одинаковых зеленых фуражках с далеко вынесенными вперед отлакированными козырьками.
Они со сдержанной улыбкой, одобрительно смотрели на нового министра.
Керенский держал руку у горла, словно оно было простужено, или — стыдясь теперь разорванного, как будто в драке, воротничка без накрахмаленных отогнутых углов.
Часа через два стало известно, что Совет большинством всех против пятнадцати подтвердил постановление Исполнительного комитета: в цензовый кабинет своих представителей не посылать.
— А как же Керенский? — на разные голоса недоуменно спрашивали теперь в Таврическом: одни придирчиво, другие с опаской и тревогой.
«Министр юстиции, член Государственной думы, гражданин Керенский» — появилась назавтра в ответ и тем и другим его широкая подпись на первом приказе, напечатанном в газетах, — и все успокоились, и редко кто вспоминал в те дни о резолюции Совета.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ Дело № 11111
В тот же день снова попался на глаза знакомый низенький матрос с монгольским лицом. Гладкая, смугло-коричневая кожа его лоснилась, как выезженное седло.
— Товарищ студентка! — схватил он ее за рукав. — Что изволите делать?
— Иду аптечки распаковывать, — ответила Ириша. — А что?
— Идите сюда заниматься, — ткнул он пальцем в дверь, у которой они встретились. — Шибко грамотные да аккуратные вам нужны.
— Ну, а что такое? — повторила она свой вопрос.
— Да тут целая комната забита бумагами. Разложить надо… и чтоб грамотные, по-настоящему, люди. Караул мы поставили, да не в том дело. Караул — разве он что в таком важном деле?
Он объяснил: навезли сюда да свалили в кучи всякие бумаги и «дела» охранки и департамента полиции. Надо все приводить в порядок, чтоб не растаскали, того гляди. Есть тут люди, разные люди — уже работают, а все же — еще надо.
— Согласна! — оживленно сказала Ириша и через пять минут приступила к делу.
В первый же день она занята была им до глубокой ночи. Архив охранки разбросан был в двух смежных комнатах, в них толклись теперь разные люди. Ирише казалось, что они меньше всего были озабочены приведением в порядок наваленных в кучи бумаг, — во всяком случае, работа подвигалась туго, хотя людей здесь было довольно много.
Да и как тут спокойно и деловито работать, когда глазам их каждую секунду могло открыться самое неожиданное, самое таинственное, что только вчера еще хранила в себе наводившая страх, сегодня — низвергнутая полицейская монархия?
Люди по натуре падки на новости, любопытство — сей вожак человеческих чувств — вело их теперь в «тайная тайных» растоптанной на улицах Петербурга империи… Как будто рухнули стены недоступного ранее взору огромного дома, населенного таинственными обитателями, и они не успели заблаговременно выскочить из него: стоят, закрыв лицо руками, но теперь каждый со стороны волен подойти к ним, отбросить руки с лига и заглянуть в него, дабы увидеть облик скрывавшегося Иуды.
Из огромного вороха «дел» люди вытаскивали, какие попадались под руку, разноцветные папки и прежде, чем сложить их в порядке нумерации то ли в отведенном углу комнаты, то ли на одном из столов, — жадно набрасывались на чтение тех самых секретных бумаг, по которым могла писаться не предназначенная к печати история русской жизни за многие десятилетия.
Вместе с каким-то длинноногим, длинноносым и остроголовым человеком, назвавшимся актером, фамилии которого Ириша никогда не слыхала, пришлось ей распаковывать трехпудовый тюк.
— А что это за посылочка на масленицу от старого режима? — пошучивал актер, усердно срывая перерезанные веревки с тюка. — Не про эту ли полицейскую посылочку дедушка Крылов стихами говорил:
И бережет мешок он так, Что на него никак Ни ветер не пахнет, ни муха сесть не смеет?..— Про нее, про нее! — смеялась шутке Ириша. — Ох, смотрите, да здесь как будто все по порядку? — вытаскивала одну папку за другой. — Держите: № 0072041… № 0072042… 0072043… — диктовала Ириша, передавая департаментские «дела» актеру. — Кладите на пол, — потом их перевяжем.
Но, как и остальные в этой комнате, и она и актер, движимые любопытством, заглядывали в «дела», и почти каждое из них представлялось им самым увлекательным романом. Казалось: запереться бы здесь на целый месяц и читать, читать, читать!.. Но разве это возможно сейчас?
— Товарищ, живей, живей! — подгоняла Ириша актера, и он с видимым сожалением откладывал в сторону папку и тут же принимался за другую.
Вскоре номера «дел» пошли вразброд, да и обложки их оказались разных цветов и неодинаковых форматов: «дела», очевидно, были взяты не из одного места.
— Вот вам и порядок! — сетовал актер, но каждая новая папка возбуждала в нем все тот же жадный интерес, и заставить этого человека работать побыстрей было уже очень трудно.
Он выделялся здесь среди всех: узкий, долговязый человек во фрачном костюме, в накрахмаленной, по посеревшей от грязи манишке, в белом галстуке и с низким стоячим воротничком — на два размера большим, чем требовала того худая и жилистая длинная шея, наполовину неприкрытая и заросшая седеющими волосами. Актер, уйдя четыре дня назад вечером со спектакля, не возвращался, по его словам, с тех пор домой, отдав себя революции. Сейчас он напоминал своим видом общипанного петуха.
И этот «петух», роясь в бумагах охранки, нашел вдруг «жемчужное зерно»: это была лежавшая в отдельном конверте новейшая «Инструкция по организации и ведению внутренней охраны». На первом листке ее стоял гриф министра внутренних дел Протопопова.
Это была находка, которой нельзя уже было не поделиться со всеми.
— Читайте, читайте! — бросили свои дела все присутствующие в обеих комнатах и окружили плотным кольцом актера.
Он улыбался, он был доволен: ни один спектакль в его жизни не приносил ему столько трепетного внимания! И, пожалуй, ни разу в жизни он так выразительно не декламировал и так долго не владел этим вниманием. И ни одному автору, драматургу он не был столь обязан своим успехом, как этому неизвестному «литератору» из русского охранного отделения!
— Тишина! Занавес! Свет на сцену! Убрать свет в зале! — актерствовал он. — Я прочту вам монолог его превосходительства господина начальника охранки. «Что есть мои верные агенты и откуда они берутся?» Внимание, непосвященные! Начинаем! «Лица, состоящие членами преступных сообществ и входящие в местный состав агентуры, называются агентами внутреннего наблюдения или «секретными сотрудниками». Лица, доставляющие сведения хотя бы и постоянно, но за плату за каждое отдельное свое указание на то или иное революционное предприятие, называются «штучниками»…» Слыхали, товарищи: «штучники»! Эдакие кустари шпионы… «В правильно поставленном деле «штучники» — явление ненормальное, и вообще они нежелательны, так как, не обладая положительными качествами «сотрудников», они быстро становятся дорогим и излишним бременем для секретных органов…» Пошли дальше, друзья мои… «Необходимо помнить, что сотрудники, дававшие сведения и не тронутые «ликвидацией», рискуют провалиться и, таким образом, стать совершенно бесполезными. В случае провала они находятся под постоянным страхом мести. Во избежание провала многие из них согласны, чтобы их включать в «ликвидацию» и тем дать им возможность нести наравне с товарищами судебную ответственность, но при условии сохранения за ними права на получение жалования за все время судебного процесса и отбывания наказания. Таким путем не только можно предупредить их провал, но и возможно еще более усилить к ним доверие со стороны партийных деятелей, благодаря чему в дальнейшем они будут в состоянии оказать делу розыска крупные услуги.
Сотрудники, стоящие в низах организации, постепенно могут быть выдвигаемы путем последовательного ареста более сильных окружающих их работников.
…Свидания с секретным сотрудником, уже достаточно заслуживающим доверия, должны происходить в конспиративной квартире. Последняя должна быть расположена в частях города, наименее населенных революционными деятелями. Квартира должна состоять из нескольких комнат, так расположенных, чтобы было возможно разделять в них случайно сошедшихся нескольких сотрудников без встречи их между собой. У хозяина конспиративной квартиры не должны бывать гости и вообще частные посетители». Аминь! — протрубил чтец.
— Наука!.. — первым отозвался моложавый низенький человек, когда актер закончил чтение документа. — Чистая наука… — задумчиво сказал он. — Ну скажи, пожалуйста, как все это расписано, что и как, значит, делать!
— А вы думали? — победоносно смотрел на него актер, словно к нему относилась эта похвала. — Легко, думаете? — вытирал он клетчатым платочком свои потрескавшиеся синеватые губы.
— Академия целая! — шутили по сторонам, возвращаясь к своим углам, столам, стульям — продолжать работу.
— Про эти подлости можно было и раньше догадываться настоящему революционеру! — желчно напустилась почему-то на моложавого низенького человека какая-то стриженая толстуха в пенсне. — А еще рабочий как будто!
— Да я ничего… Что вы в самом деле? Одно слово сказал, а вы… ровно вас дышлом бахнули! — не то оправдывался, не то сердился тот.
На его курносом широком лице с васильковыми, постреливающими в разные стороны глазами растерянно блуждала косая улыбка.
Через некоторое время она сменилась веселым, захлебывающимся смешком: здесь каждый теперь старался объявить о своей замечательной какой-нибудь находке, — вот и он торжествующе показывал свою!
Это было «строго секретное» описание способов перлюстрации корреспонденции, которая особо интересовала «черный кабинет» охранки. А делалось, оказывается, это так.
Специальными костяными или стеклянными стилетами вскрывались углы конвертов, вынимались письма, снимались копии, осторожно вкладывались обратно и так заклеивались, чтобы очертания почтовых печатей и марки были нерушимы. Более сложным было вскрытие писем и пакетов с сургучными печатями. Для этой цели специалистами из охранки рекомендовались тоненькие деревянные палочки немецкой фирмы «Мюллер». Палочки имели на конце тончайшую расщелину. Палочка просовывалась в углах конверта так, чтобы письмо попало в расщелину, затем оно осторожно наворачивалось и вынималось вместе с палочкой. Требовалось большое искусство для обратного заделывания прочитанного письма, которое снова наворачивалось на палочку, просовывалось в конверт и там раскручивалось, очевидно, столь ловко, что не должно было оставаться никаких следов перлюстрации.
— Наука! — умиленно повторял обладатель находки и совал ее под нос толстухе в пенсне.
— Все можно было предположить! — упорствовала та.
Следом за актером и молодым курносеньким человеком с захлебывающимся голосом стали и другие демонстрировать свои находки. Кто-то под общий смех огласил содержание разграфленного листка, забранного в числе прочих бумаг на дому у начальника охранки генерал-майора Глобусова. «Сочинение» генерал-майора было нечто вроде афиши-отчета о скачках, но вместо лошадей фигурировали деятели империи.
Вот как забавлялся всем известный страж ее в тиши своей квартиры:
«Толстяк» (б. мин. вн. дел Хвостов). Густой караковый жеребец Орловского завода, от «Губернатора» и «Думы». Камзол и рукава черные.
«Подхалим» (его тов. мин. Белецкий). Без аттестата, от «Хама» и «Подливы».
Скачку вел все время «Толстяк», но «Подхалим» на середине круга рискованным броском хотел выдвинуться и неудачно прижал «Толстяка», который завалился и должен был съехать с дорожки.
ГАНДИКАП ДЛЯ ЛОШАДЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ!
Представляет большой интерес по записи лошадей!
Некоторые из них никогда не скакали!
Кроме приза — еще шефские бесконтрольные суммы!
«Думский любимец» (Кривошеин). Серый жеребец завода Столыпина, от «Чиновника» и «Конституции». Камзол зеленый, рукава красные, через плечо лента с надписью: «Закон 3-го июня».
«Каин» (Щегловитов). Густой вороной жеребец завода Победоносцева, от «Правого» и «Монархии». Камзол черный.
«Дурак Второй» (Маклаков). Пегий жеребец с проплешинами, завода Нарышкиной, от «Дурака Первого» и «Интриги». Камзол цветов Союза Русского Народа.
«Горилла» (Трепов). Гнедой жеребец завода Столыпина, от «Неудачника» и «Пролазы». Камзол в клетку, рукава белые.
«Первач» (Штюрмер). Рыжий жеребец завода Распутина, от «Немца» и «Царицы». Камзол черный, рукава в золоте.
«Маньяк» (Протопопов). Соловый жеребец завода Родзянко, от «Купца» и «Болтовни». Камзол неопределенного цвета.
Погода слякотная, круг тяжелый, испорченный предшествовавшей скачкой. Игра оживленная. Фавориты — «Думский любимец» и «Первач». От старта пошли кучно. Впереди «Каин», на хвосте у него в сильном посыле «Горилла». Неожиданно выдвигается «Дурак Второй», но скоро выдыхается. На повороте «Каин» и «Первач» сдают. В большом посыле под хлыстом «Горилла», но перед выходом на прямую настигнут «Маньяком», который и кончает впереди, показав отличную резвость».
Это была злая история русских министерств за последние два года, составленная одним из самых страшных слуг империи.
В той же папке личных бумаг генерал-майора Глобусова нашли сочиненный им «Акафист Григорию Распутину», аккуратно переписанный на пишущей машинке.
Покуда его оглашали для самоувеселения (все тот же долговязый актер читал его речитативом), Ириша, не слушая, была занята своим делом. Ее внимание привлекла очередная синяя папка под легко запоминающимся номером — № 11111. Папка была тощей и заведена была на «вспомогательного сотрудника» петроградского охранного отделения, фигурировавшего под кличкой «Петушок».
Из первых же листков «дела» Ириша узнала, что сей «Петушок», вовлеченный в агентуру последней осенью из среды «штучников», освещал подпольную деятельность знакомых ему социал-демократов большевиков, получая двадцать рублей ежемесячно. Следующий лист «дела» свидетельствовал, что означенным «Петушком» сообщены охранке «ценные сведения» о приведенном к нему на квартиру «нелегальном под фамилией и именем «Кудрик, Леонтий Иосифович», поддерживавшем связь с разыскиваемым ленинцем Андреем Громовым.
Достаточно было Ирише натолкнуться на эту фамилию, чтобы уже не выпускать из рук синюю папку!
Страница за страницей — и глаза ее прочли дорогое, близкое имя любимого человека… Это было так неожиданно, что она вскрикнула, но в общем шуме никто не обратил на нее внимания.
Она вчитывалась в каждую строчку неизвестного ей провокатора, предавшего Сергея и его товарищей в памятную декабрьскую ночь, разлучившую ее с любимым, и быстрые, несдерживаемые слезы побежали из глаз коротким ручейком по ее лицу. Слезы пережитого страха, жалости, огорчения и в то же время — душившей ее радости: боже, как хорошо, что Сергей уже на воле и сейчас ничто ему не может угрожать!
Она знала теперь больше, чем Сергей, чем все, — она была теперь обладательницей тайны провала альтшуллеровской типографии. В своем донесении человек под кличкой «Петушок» писал:
«…Повстречавшись со мной в трактирчике «Гигиена» тот самый Громов стал жаловаться, что был, конечно, среди товарищей кто-то такой осведомитель властей, по какой причине произошло все с партийной газетой. Как помнил я ваш совет, ваше высокоблагородие, что если так будут говорить мне товарищи или даже подозрение имеют на меня, то я сказал ему, что, может, никакого осведомителя и нет, а вышло так несчастливо, потому именно в ту самую ночь, когда печатали газету, приключилось почти что рядом убийство Гриши Распутина и что, значит, полиция тогда кругом имела наблюдение. Вроде обложила медведя, сказал я, а поймали волка. На такие мои слова Громов сказал: все возможно, конечно, есть между товарищей, которые это признают, что несчастный случай такой в совпадении, и выругал матерным словом того Гришу Распутина, но только, говорит, должен не без причины также быть в том деле осведомитель властей. Как он доверие ко мне Громов много имеет, семью мою знает, то еще сказал, что подозрение имеют они, партийные, на одного «жирного» по причине слежки раньше за ликвидированным Кудриком-Ваулиным, но кто «жирный» есть, не сказал»…
Читая, Ириша старалась запомнить каждое слово: казалось страшным, непростительным что-либо забыть.
— А вы почему про Распутина не слушали? — спросил ее подошедший актер. — Из скромности?
— Да нет… устала как-то, — деланно-вялым голосом ответила она, пряча за спину синюю папку.
— Я тоже чертовски!.. Есть хочу. А вы?
— Пожалуй…
— Где-то здесь рядом буфет. Пошли?
— Идите. Я сейчас приду.
— Я займу вам место.
— Да, да… спасибо.
— Вы чем-то расстроены?
— Говорю вам: устала!.. Надо подкрепиться на самом деле. Займите мне место.
— Ну конечно. Заметили эту толстую фельдшерицу?
— Она фельдшерица?
— Да. Вот та — в пенсне.
— Она, кажется, все предвидит? — улыбнулась Ириша.
— Вот именно!
— И скачки и акафист начальника охранки?
— Это еще что! Ей дурно стало.
— Почему?
— Наткнулась на одно «дельце». Ее деверь — провокатор. А это вы предвидели? — спросили мы ее. — Ну так, значит, придете? Жду!
Актер пошел к двери.
Прежде чем последовать за ним, Ириша решила спрятать драгоценную папку. Но каждое место казалось ей недостаточно сохранным, и она блуждала по обеим комнатам, приглядываясь к углам и уголочкам. Люди у столов, согнувшись над стульями, присев на корточках на полу, возились с тысячами бумаг. Она останавливалась возле них, наблюдая присутствующих, занятых своим делом.
Она не доверяла себе самой: спрячешь, — а, может, неудачно?
В раздумье стояла она, не зная, как поступить. Синяя мягкая папка, сложенная вдвое, лежала в ее муфте, в которую Ириша продела обе руки.
— Да неужто холодно вам, товарищ? — заметив эту позу, участливо обратился к Ирише занятый бумагами на подоконнике молодой курносенький рабочий с постреливающими по сторонам васильковыми глазами.
— Нет, так… — смутилась она, не зная, что сказать.
— Лицо у вас в горячке, вижу. Не захватить бы болезнь какую?
— О, что вы?! — тронуло ее это участие.
Васильковые глаза вдруг стали озабоченными, грустными.
— Жена у меня, простите, в беременности какой месяц… так тоже сильно жалуется на хворость.
— Я не жалуюсь, я здорова, товарищ. Спасибо вам…
— А я думал: помощь, может? Если что — порошки достану?
Он говорил с ней и в то же время не прекращал своей работы, как будто и впрямь был на службе, за которую ему платил хозяин: быстро пробегал глазами название «дела», не просматривая папки, откладывал ее в сторону — каждую под цвет. Он рассортировывал «дела» охранки, безучастно откладывая для других «архивариусов» бумаги жандармского управления, валявшиеся тут же.
У него было симпатичное, вызывающее доверие лицо доброго русского парня, — Ириша неодобрительно вспомнила в ту минуту мясистую фельдшерицу в пенсне, беспричинно час назад взъевшуюся на этого молодого человека.
— Послушайте, товарищ… У меня к вам просьба, — решилась она вдруг.
— В аккурат сделаю… пожалуйста! — внимательно и предупредительно посмотрел он на нее.
— Вы ведь не собираетесь сейчас уходить?
— Нет.
— А мне нужно на четверть часа. Вот там в углу мы с тем длинным артистом разбираем…
— Чтобы никто другой не трогал?
— Да, да, посмотрите, пожалуйста.
— Будет в аккурате!
— Спасибо. И вот вам моя муфта, — положила Ириша ее на подоконник, за кипой бумаг. — Поберегите ее, а то в буфете мне неудобно… могу забыть там по рассеянности. Посмотрите за ней?
— О чем беспокоитесь? В целости будет.
— Принести вам бутерброды? — предложила она в благодарность.
— Не откажусь, если что…
— Принесу!
В дверях она обернулась: страж ее муфты все так же сосредоточенно и быстро продолжал работу.
Через полчаса она возвратилась вместе с актером, неся из буфета «подкрепление» своему участливому товарищу.
— Вот и мы! И даже с печеньем!
Тот, к кому она обращалась, отсутствовал.
— Э, давайте печенье! — отозвался кто-то другой и протянул за ним руку.
Ириша оттолкнула незваного просителя, ища глазами курносенького молодого рабочего. Его не было у подоконника. Она подбежала туда и первым делом просунула руку за плотную стопку папок, где должна была лежать ее муфта.
«Фу, слава богу!» — муфта была на месте!
Она схватила ее и сразу же, по весу ее, прежде чем продеть в нее руку, поняла, что из нее вытащена драгоценная синяя папка вместе с ее, Иришиным, носовым платочком… Так оно и было…
— Что с вами? — недоумевал актер, увидев, как она болезненно побледнела.
— Сейчас… сейчас, — бормотала она, бросаясь в смежную комнату.
Но и там не было того, кого она искала.
Она возвратилась, выскочила за дверь — к часовому.
— Товарищ, никто не выходил отсюда?
— Вышедши. Вы сами, барышня, выходили.
— Но я пришла обратно!
— Понимаю.
— После меня выходив кто-нибудь? Низенький такой… круглолицый товарищ?
— Он.
— Ушел, значит? Давно?
— Минут, думаю, все двадцать будет.
Рыжебородый часовой, сидя на кожаном стуле, откуда-то притащенном, чистил, выстругивал вытащенную из кармана шинели грязную солдатскую ложку.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ Первый выстрел Феди Калмыкова
Напротив университета св. Владимира уже целый год стоял высокий деревянный забор, огородивший место для какой-то постройки. Но ничего здесь почему-то не строилось, и прохожие привыкли к этой длинной, обезобразившей улицу изгороди и, пожалуй, забыли уже, что за место загородила она от взоров пешеходов.
Ранним утром 2 марта главный начальник военного округа генерал-лейтенант Ходорович разместил на огороженном забором пустыре казачью сотню, а поодаль от нее, в музее цесаревича Алексея, — роту солдат одного из киевских полков. Такие же войсковые заслоны были выставлены на Печерске, Подоле, Демиевке, Соломенке, — в разных концах города.
В штабе Ходоровича Киев уподобился шахматной доске, на которой каждая клетка могла быть в любую минуту под боем. Но бой не состоялся, шахматная партия не смогла начаться: вдруг оказалось, что у верноподданного генерал-лейтенанта не хватало одной фигуры — короля. Он стоял еще на доске, но уже за чертой ее квадрата: специальный телеграфный провод доставил в штаб копии депеш, в которых командующие фронтами советовали царю отречение.
Это было равносильно проигрышу, и генерал-лейтенант Ходорович, уже никуда не двигая, оставил на поле в бездействии ферзя — самого себя. Он вызвал к себе лидеров земства и Городской думы, купцов, адвокатов, профессоров учебных заведений, промышленников и чиновников и разрешил им образовать Общественный комитет. И — растерянный — забыл тогда распорядиться многочисленными воинскими заслонами и пикетами.
Тогда же, 2 марта, Федя Калмыков, входя в университетский подъезд и случайно обернувшись, увидел казачий патруль. Казаки выехали из-за забора и с места во весь опор помчались вниз по Владимирской. Через час-другой и вся сотня покинула огороженный пустырь, но этого Федя Калмыков уже не видел.
Он стоял в дверях двенадцатой аудитории — самой большой в университете, до отказа наполненной теперь студентами и курсистками, — и слушал речи товарищей.
Вблизи себя он заметил рослого, саженного «педеля» — лысого, с окладистой черной бородой. Этот университетский охранник был известен тем, что мог держать в своей памяти лица всех участников любой многолюдной сходки и, если не знал каждого по фамилии, мог безошибочно выдать полиции любого участника, ткнув в него пальцем: «Этот, ваше благородие, резолюцию писал, а этот голоса считал».
— Ай-ай, что же это они делают, господин Калмыков? — неожиданно обратился он к Феде тихим, предостерегающим голосом. — Да за такое дело! На самих же себя пенять придется, особливо — инородцам. Ай-ай, кабы слыхал такие речи господин ректор!
— Достаточно и вас одного! — огрызнулся Федя. — Бегите зовите полицию!
— Сама придет. Мне что? Разве можно так, господин Калмыков, в императорском университете?
— Гнать вас отсюда! — ненавидящим взглядом смерил его Федя.
На кафедре грузин-красавец Ковадзе, медик третьего курса, метал гром и молнии против петербургского царя, русской монархии и жестокого правительства. Фуражкой, лежавшей тут же, на кафедре, он размахивал так, что казалось — вот-вот он запустит ею в кого-нибудь из слушателей.
— … И довольно, я говорю, товарищи, митинга! Довольно митинга и довольно молчания. Довольно бездействия — вот что я говорю! Не надо прятать своих убеждений, своих сил, своей революционной энергии. Наш замечательный грузинский поэт Руставели говорил: что ты спрятал, говорил он, то пропало, что ты отдал — то твое. Не будем прятать своих сил, отдадим их революции, товарищи. Отдай — и она будет твоей! Твоей, русский! Твоей, грузин! — восклицал студент под гром рукоплесканий. — Твоей, поляк, будет революция!.. Мы, грузины социал-демократы, и наши товарищи русские, поляки, евреи предлагаем: не занятия теперь, а — в народ! К рабочим, к солдатам — все вместе под красное знамя! Митинг — на улицы, на заводы, в казармы!.. Студенчество должно иметь свою организацию, свой центр. Мы, социал-демократы, предлагаем организовать коалиционный совет, студентов всех учебных заведений. Из кого совет? Из собраний всех старостатов всех факультетов.
— Верно! — загудела сходка.
— Предлагаю всем старостатам собраться сейчас в девятой аудитории, — распоряжался все тот же Ковадзе.
Вихри враждебные веют над нами, —начал песню чей-то звонкий, приятный голос, и сотни горячих голосов подхватили ее, разнося подлинному университетскому коридору.
— Пожалуйте в девятую, господин Калмыков. Вы же в старостате — ближе, значит, к тюрьме!
Чернобородый «педель»-великан, зло усмехаясь, неторопливо отошел от двери.
Федя догнал его.
— Ключи!
— А вы, господа бунтовщики, двери ломайте. Почему не ломать?
— Шпик проклятый! Ключи!..
— Выкуси!
Нужно было подпрыгнуть, чтобы ударить по лицу саженного «педеля», — и Федя в ярости, уже не распоряжаясь своими поступками, ударил его по щеке. Ударил — ожидая такого же ответа.
— Товарищи, хватай педеля! — бежали со всех сторон на помощь Калмыкову.
Но «педель» стоял на одном месте без движения, и только широкие плечи его вытягивались вверх и грузно опускались: он тяжело дышал.
— А за это вам четыре года каторжных работ будет, — вдруг сказал он своим обычным тихим голосом.
Он вынул из кармана связку пронумерованных ключей от аудиторий и бросил ее на пол.
— Увидимся, господин Калмыков! — зажал он в кулаке свою степенную бороду и отошел прочь, не оглядываясь.
— Ладно… — Федя поправил на голове съехавшую фуражку.
Кто-то прикоснулся к его локтю:
— Эсеровский поступок, Калмыков…
— A-а, это вы?
— Я не ожидал от вас. Право, не ожидал, коллега. Террор какой-то… да и против кого?
— Ударить по морде негодяя — это не террор…
— Это никуда не годится.
— Не извольте за меня беспокоиться, коллега Стронский.
— Я не беспокоюсь. Я сожалею, Калмыков.
— И сожалений не требуется… кадетских! — вспылил Федя.
— Вот оно что? Главное — кадетских?
— Главное!
— Не совсем умно, коллега Калмыков.
— Но и не так уж глупо и неверно, Стронский!.. Я ударил охранника, шпика… Он Оскорбил меня и провоцировал на скандал.
— Можно было потребовать через проректора…
— Скажите пожалуйста, какая законность! Таковы ли времена, Стронский?
— А почему бы и нет? А по-вашему, чего требует от всех нас Государственная дума сейчас?
— Это мало меня занимало!
— Ну, зачем вы глупите, Калмыков? Ведь все это из упрямства.
— Извольте: прежде всего надо убрать к чертовой матери царя и весь его режим кандальный.
— Допустим.
— Да чего там — «допустим»? Убрать, значит — убрать! Метлой в помойную яму.
— Простите, коллега: базарная фразеология…
— По легче, по легче, Стронский!
— Ну, уличная…
— А по-вашему, Стронский, чего народ хочет?
— Не всякое желание разумно. Не так живи, как хочется, а так живи, как можется.
— …и как ваш Милюков велит, — так, что ли?
— Павел Николаевич Милюков — лучший мозг русской интеллигенции. Как вам не стыдно, Калмыков!
— Ни малейшего стыда!
— Тем хуже. Ему доверяет вся Россия.
— А вы ее спрашивали?
— Слушайте, Калмыков, вы… вы неприятный демагог!
— Я не демагог, а демократ. Социалист — вот что.
— Социал-демократ или эсер? — заинтересовался Стронский.
— А вам какое дело? — едва подавил свое смущение Федя.
— Ну, знаете, тоже ответ! Грубо!
— Я социалист. А ваш Милюков… — приостановился Федя у двери в девятую аудиторию.
— Ну, что Милюков? Только без хамства, пожалуйста…
— Полегче, Стронский! Ваш Милюков, дайте ему только волю, из пулеметов станет расстреливать русских рабочих, — зло и теперь убежденно повторил Федя когда-то услышанную фразу Алеши Русова.
Ему неприятен был Стронский, — еще и поэтому он так озлобленно говорил о Милюкове.
— Вы просто, оказывается, оголтелый максималист, господин Калмыков!.. Да Милюков будет главное лицо в правительстве, — вот увидите.
— Не сомневаюсь. Хоть трижды главное. Что же из этого?
— Как «что»?
— Буржуазный идеолог!
— Простите, коллега, но боюсь… что все вы… действительно какие-то…
— Ну-с?
— Какие-то якобинцы! Не русское явление.
— Что вы хотите этим сказать?
— Вы не так глупы, чтобы не понять меня! — прошел вперед по коридору Стронский, прекращая разговор.
— Послушайте! — крикнул ему вслед Федя. — Я вас презираю. Сбрейте свои лакейские бачки и перестаньте напомаживать свою дегенеративную дворянскую голову… вас и так принимают за белоподкладочника!
Он хотел еще что-то обидное крикнуть затянутому в мундир студенту, но сдержался и только в душе выругал того «скотиной».
В тот же день вместе с другими студентами, вместе с какими-то неизвестными прапорщиками, солдатами, рабочими он ездил в какие-то казармы, в мастерские, на Демиевский гвоздильный завод (там он узнал, что это завод Георгия Карабаева), в полицейский участок на окраине города.
Он слушал речи других и сам произносил их, выступая от имени Коалиционного студенческого совета. Ему кричали в ответ:
— Да здравствует свобода! Да здравствуют студенты! — И он тогда, в знак союза и дружбы, целовался с революционерами-прапорщиками, солдатами, рабочими и работницами и, опьяненный новой, впервые в жизни познанной радостью, кричал всюду: «Да здравствует республика!» — и, конечно же, он был искренен, как никогда.
— Товарищ студент, вы наш? Эсер? — целуясь, спрашивал его какой-нибудь очередной прапорщик из агрономов или народных учителей, — и Федя не возражал, когда его называли эсером.
В другом месте, во время выступления на митинге в большой типографии, он услышал, как хвалил его за «правильные, марксистские слова» седенький рабочий в очках и, стоя рядом на импровизированной трибуне, настойчиво подсказывал-напоминал ему:
— Ура социал-демократам, слышь? Ура социал-демократам, не промажь! — И Федя, не чувствуя никакой душевной неловкости и разлада, закончил свою речь здравицей в честь РСДРП.
Он жил сердцем — ликующим, порывистым, любовно отданным долгожданной революции. «Rara temporum felicitas»… — стучащими колесиками бежала часто и долго в мозгу припомнившаяся почему-то теперь латинская фраза о счастье: она осталась в памяти еще с гимназической скамьи.
И когда трясло его с митинга на митинг, на жесткой солдатской повозке, перевозившей из одной казармы в другую, он, как заклинание, повторял вполголоса эти непонятные его спутникам слова. Вознице, очевидно, казалось, что студент чем-то захворал вдруг и потому заговаривается.
— Горишь? — участливо спрашивал он. — В околоток, может?
— Горю! — весело вскакивал на повозке Федя. — Гори и ты, товарищ!.. Какое редкое, счастливое время, брат, когда позволено чувствовать, что хочешь, и говорить, что чувствуешь! — переводил он латынь на русский язык.
— А воевать теперича будем? Или как? — оборачивался солдат-возница к своим седокам.
Признаться, в те часы Федя об этом не думал. И он не знал, как отвечать на такой вопрос. Старался не отвечать, отделывался бодрой фразой. Еще и потому, что хотелось ведь думать только о радостном и ясном, безоблачном, — ничем не омрачать себя.
…В участках шло разоружение городовых. Но так случалось каждый раз, что, прибегая туда с товарищами, Федя опаздывал, поспевал, как говорится, к шапочному разбору: все уже было сделано другими.
Городовые, сбившись в кучку, стояли окруженные толпой, распоряжавшейся полицейским имуществом. Они исподлобья косили взгляды на «бунтовщиков»; одни — с затаенной злобой, другие — с явным страхом, третьи — с любопытством и растерянностью.
И никто точно не знал в первые часы, как следует поступать с этими пленниками-фараонами. Никто из них не оказывал сопротивления. Их стерегли тут же, в участке, стерегли много часов подряд в надежде, что «кто-то» же в конце концов вспомнит о них и распорядится их судьбой. Этим «кто-то» мог быть Общественный комитет, собравшийся в Городской думе, или Совет рабочих депутатов. Но есть ли Совет и где он — никто пока не знал.
И тогда вдруг оказалось, что заботу о городе взял на себя Коалиционный студенческий совет. Две тысячи медиков, филологов, математиков, политехников, вооруженных винтовками и револьверами, оснащенных полицейскими башлыками и свистками, рассыпались по всему Киеву, заняв посты городовых. Эту «милицию с высшим образованием», как шутили здесь, назавтра принял в свое ведение известный в городе адвокат Колачевский, сменивший арестованного полицеймейстера Горностаева.
Федя присутствовал при этом аресте и даже принимал в нем участие.
Полицеймейстер подъехал на санках к Думе, где помещался Общественный комитет. Он торопливо отвернул медвежью полость и, придерживая рукой длинную шашку в серебристых ножнах, втянув голову в плечи, засеменил, не глядя ни на кого, в думский вестибюль.
Толпившиеся у Думы его тотчас же узнали: «Горностаев?! Ишь ты!» — и побежали вслед за ним.
Низенький, коротконогий, толстенький, с розовым лицом хомяка, покрытым теперь багровыми пятнами, Горностаев стремительно подымался по лестнице. Он шагал через две ступеньки, но делал это только с правой ноги, приставляя к ней левую: он двигался смешливыми резкими бросками автоматической куклы.
Его настигли прежде, чем он дошел до площадки второго этажа, где стоял в это время Федя. Толкнули свою жертву, но все еще нерешительно загораживая ей путь.
— Ну-с, чего, братцы? — ласково сказал Горностаев, занося ногу на следующую ступень. — По делам хотите?.. Занят, занят сейчас, братцы! Все уладим, родимые, к общему благополучию.
Кто-то озорным взмахом руки сбил с его головы меховую темную кубанку.
— Шапки долой! — подражая обычному полицейскому окрику, выкрикнул чей-то голос.
Горностаев прикрыл руками свою голую, гладко выбритую голову:
— Да что вы, братцы?!
Он побоялся нагнуться за шапкой, ожидая удара.
— Руки вверх! — приказали ему и схватили за ворот серо-голубой шинели.
Он шел, окруженный толпой возбужденных людей, среди которых Федя увидел старшего Русова.
Вадим в высоко поднятой руке нес полицеймейстерскую кубанку. Он пробивался вперед, с каждым шагом стараясь на ходу нахлобучить шапку на голову ее обескураженного владельца, но его альтруистическим чувствам не дано было увенчаться успехом: руке никак не дотянуться было до горностаевской головы.
— Вадим! Вадим! — окликнул его Калмыков. — Вали сюда!
Они оба очутились спустя минуту в одной из комнат управы, куда привели арестованного киевского полицеймейстера.
И к ним обоим, выбрав глазом из всей толпы, жалобно обращался теперь Горностаев:
— Господа студенты… господа студенты! Что же это такое? Это же недоразумение, коллеги! А?.. Господа студенты, вы же не можете сказать, что я плохо относился к учащейся молодежи? А?.. Я всегда… всегда шел навстречу, господа студенты!
— Ишь запел лазаря, кабан царский! — еще крепче того выругался какой-то мастеровой с гневными косыми глазами и глубоким шрамом во весь подбородок. — «Коллеги… господа студенты…» — удивительно удачно имитируя резкий тенорок Горностаева, передразнивал он его. — А «господ рабочих» — нагайками да горячими? Шкуру с тебя, кабан царский!
— Да что ему верите! Не верьте, товарищи! — вскипел Вадим Русов. — Немало он нашего брата, студентов… Именем революции и народа — вы арестованы, господин Горностаев!
— Мне уже объявлено, господин студент… Пусть так, пусть так, коллеги… Но за что, коллеги?
— Довольно скулить!.. Оружие!
— Слушаюсь. Но позвольте руки опустить?
— Не сметь!
— Но как же, господа?
— А вот так!
Федя кинулся к полицеймейстеру и стал обыскивать его карманы.
Изо рта Горностаева шел горячий дурной запах ежеминутной отрыжки, Короткая и широкая, налитая жиром шея в мясистых складках покрылась крупными каплями пота. Он стекал ручейками. Было до того противно, что хотелось не платком, а горностаевской же кубанкой вытереть эту жирную влажную шею, закрыть шапкой зловонный рот…
Обезоруженного полицеймейстера повели в зал Общественного комитета, представители которого уже бежали навстречу предотвратить «самосуд» толпы. Пленник увидел знакомых людей и заплакал слезами благодарности.
— Пойдем, Вадим. Делать тут нечего.
Федя спрятал в карман отобранный у Горностаева маленький браунинг в замшевом чехле и протянул своему другу «бульдог», полученный час назад в полицейском участке.
— Не требуется, Федя. Уже имею.
Федя отыскал мастерового с косыми глазами и отдал ему револьвер.
— Мне бы из пушки по сволочи стрелять! — принимая «бульдог», зло и радостно сказал мастеровой.
— Не придется уже из пушки, товарищ!
— Воробьи, считаете? Ой-ли, — коршуны!
Заночевать в тот день пришлось не у себя, на Тарасовской, а в помещении врага. Во главе маленького отряда вооруженных студентов глубоким вечером Федя Калмыков подошел к домику на пустынной Сенной площади. На улице было темно, ни одного фонаря.
Звонка не было, — пришлось стучать в парадную дверь. Сначала — кулаком, а потом и прикладом винтовки. Это подействовало.
— Господи, кто это там? — донесся из-за двери женский испуганный голос.
— Давай, давай. Откройте! — выкрикивали студенты.
— Господи, святый боже, сколько вас там? Что надо?
Проскрежетал туго отодвигаемый дверной засов, два раза повернули в замочной скважине ключ, — и Федя нетерпеливо толкнул послушную теперь дверь.
— Именем революции объявляю вам…
Он замялся, не зная, что сказать.
Перед студентами стояла пожилая, лет за сорок, серолицая невзрачная женщина в валенках и суконном мужском пальто с облезлым бараньим воротником. В руке она держала свечку, — стеарин каплями сбегал на огрубевшие короткие пальцы.
— Вы кто такая? — спросил Федя.
— Сторожиха, паныч. Живу тут. В услужении.
— Кто-нибудь есть тут сейчас?
— А разве в такой час находятся? — ответила она вопросом на вопрос.
— Товарищи! Занять помещение, обыскать все! — распоряжался Федя. — Зажгите свет, сторожиха!
Через несколько минут товарищи привели к нему под конвоем полуодетого мужа сторожихи. Он снял с жены свое пальто и надел его на себя. Раздутая флюсом щека была повязана черным засаленным платком.
— Ваше занятие?
— Рабочий я тут.
— Какой рабочий?
— Известно какой — в типографии служу.
— Фамилия?
— Обыкновенная, господа, фамилия, — малый интерес вам… А вы кто будете?
— Фамилия?! — прикрикнули на него.
— Ну, Иванов… пожалуйста, пожалуйста, — стало угрюмо и без того постное, сумрачное лицо его.
— Почему здесь живете? — вел Федя допрос.
— А где-то жить человеку надо, господин студент? Или как, по-вашему?
— Так не отвечают честные пролетарии!
— Да уж как умею…
— Шельма! — выругался один из студентов, маленький быстроглазый медик Лурс, и погрозил кулаком. — Монархист, погромщик, наверно?
В этом одноэтажном домике помещалась редакция и типография черносотенной газетки «Двуглавый орел», основанной известным в Киеве студентом Голубевым. Его портрет — остролицего, голубоглазого и румяного молодого человека с приглаженными набок русыми волосами — висел напротив царского портрета. Оба они были сброшены на пол и вмиг изорваны Федей и его товарищами.
Нашли приправленные к печати две полосы газетки, очевидно вчера только составленные. Как всегда в этом листке, газета «Киевская мысль» именовалась «Киевская мыква», как всегда, в разрубе и в поражениях русских армий повинны были «жиды-лапсердачники», и, как всегда, верноподданные черносотенцы с Сенного рынка и Бессарабки призывались к учинению резни революционеров и «жидомасонов».
Все это было не новостью, все это было очень скучно, и Федя пожалел, что приходится тратить время на такое никудышное занятие, каким представлялся ему обыск в грязной маленькой редакции навеки скончавшегося погромного листка.
Все, что можно было выяснить, — было выяснено. Зеленоглазый с флюсом Иванов оказался метранпажем типографии, членом «Союза русского народа» и, конечно же, должен был служить в киевской охранке. Утром его надо будет препроводить в Общественный комитет, пусть там разберутся. А покуда его объявили арестованным и у дверей его комнаты поставили часовым медика Лурса.
Ночь не предвещала ничего исключительного и важного, бездействие облегчило победу усталости, — и Федя прикорнул в конторской комнате на столе.
Был четвертый час ночи, когда он проснулся от неожиданной встряски:
— Калмыков, Калмыков, вставайте… Ну, вставайте же? я вам говорю! Это я, Лурс.
Федя вскочил. В темноте он с трудом различал лицо товарища.
— В чем дело, Лурс?
— По черному ходу стучат!
— Стучат?.. Где наши?
— Надо будить. Я к вам прибежал…
— Будите!
— А дверь будем открывать?
— Конечно! Только не производите шума!
— Где тут выключатель? Ух, черт!..
— Не надо, Лурс, окно конторы во двор…
— Ну, так что?
— Прошу меня слушаться! — зашипел на него Федя. — Будите… и ступайте немедленно на свой пост!..
— Какой командир нашелся… видали? — буркнул одобрительно студент и, спотыкаясь в темноте, побрел будить товарищей.
Все вместе пробрались в кухню, прислушались. Стук в дверь настойчиво повторился.
— Открывать? — шепотом советовались студенты.
— Позовите хозяина! — распоряжался Федя.
Привели метранпажа; он был в пальто, шапке, сапогах.
— Спросите, кто. Потом откройте.
Федя положил ему руку на плечо и вместе с ним вышел в сени.
— Кто тут? — чересчур громко, как показалось Феде, спросил метранпаж.
— Не достучаться к тебе, Петр Лукич, — ответил шепелявый голос. — Скорей! Это я…
Метранпаж сбросил дверной крюк, распахнул дверь:
— У нас тут собачьи…
Он не досказал, — и Федя вдруг ощутил крепкий удар кулаком в грудь. Он покачнулся.
Прежде чем успел крикнуть о помощи, метранпаж очутился во дворе, захлопнув за собой дверь. Слышен был топот убегающих людей.
— Держите, товарищи! — заорал Федя. — Стреляйте в подлеца!
Выскочили во двор, потом на улицу. По снежной, мертво лежавшей в ночи площади бежали две темных фигуры. Студенты помчались вдогонку.
— Стой! Стой!.. — кричали они.
— Вот это дело… настоящее революционное дело! — на бегу кричал восторженно, но тяжело дышал маленький Луре, держа наперевес непосильную для него винтовку.
«Черт! Ведь никто стрелять, наверно, не умеет?.. — глядя на него, подумал Федя. — И я никогда в жизни не стрелял…»
Он остановился на секунду и вынул из кармана горностаевский браунинг. Замшевый чехол отбросил в сторону и снова побежал вперед. Он обогнал своих товарищей.
— Стой! Ни с места, стрелять буду! — кричал он убегавшим, сам не веря в свои слова. — Именем революции…
Где-то, в другом конце площади, раздались тревожные свистки. «Наши стоят, молодцы!» — обрадовался Федя.
Он был уже совсем близко от убегавших, когда один из них, отъединившись от своего спутника, обернулся, задержался на несколько мгновений на месте… и площадь огласил первый выстрел. Федя даже не сообразил сразу, что это стреляли в него.
— Ай, в ногу! — услышал он позади себя.
Обернулся: Лурс, отшвырнув винтовку, опустился на снег. Двое товарищей задержались подле него.
— Лурсик… Лурсик… ничего, дорогой.
— Стой, сволочи! — забыв уже в тот момент обо всем на свете, усилил погоню Федя.
Впереди него, близко-близко, — спина спешившего за угол врага.
— Остановись, или я…
Федя остановился, вытянул руку с наставленным браунингом и, не чувствуя уже, что именно делает, выстрелил несколько раз подряд.
Ему показалось, что враг успел все-таки скрыться за угол и лто взамен него он смутно видит впереди себя едва перебирающую ногами черную собаку. Но это, как понял спустя минуту, была не собака, а пытавшийся ползти на четвереньках и свалившийся набок человек. Он стонал и всхлипывал.
Федя отшатнулся.
Двое остались с Лурсом, двое других очутились на месте происшествия.
— Что случилось? Кто стрелял? Тебя ранили, Калмыков?
— Нет, я стрелял… и попал вот! Не думал… а попал.
— Фу, слава богу!
— Я не думал, не хотел…
— Заплачь еще… какие сентименты!
Они наклонились над свалившимся, стонущим человеком и тотчас же узнали в нем своего недавнего пленника из типографии.
— Умираю, братцы… Ой, помираю, православные! — корчился тот от боли.
— А кто Лурса ранил, — ты? Охранник проклятый, так тебе и надо!
— Птицын, голубчик, давайте перенесем его в больницу… Ну, давайте же, Птицын! Женя Касаткин, помоги нам! Разве я хотел убивать? — сокрушался Федя, наклонившись над метранпажем. — Здесь близко, на Львовской, есть больница; мы сейчас вас туда доставим.
— Расчувствовался! — презрительно буркнул студент Птицын.
— Жив будет, чего там! — уверенно сказал Женя Касаткин.
Федя смолчал: в самом деле, что он мог ответить?
Обоих раненых — Лурса и метранпажа — доставили при помощи постовой милиции в ближайшую больницу. У студента оказался раздробленным большой палец ноги, калмыковская пуля засела под лопаткой метранпажа.
Тут же, в больнице, составили протокол о ночном происшествии, записали адрес Феди и его товарищей.
— А если бы убили, коллега? — подавляя зевоту, отчего выступили ленивые слезы на заспанных бесцветных глазах, спросила его женщина-врач.
Она вскинула желтые густые ресницы и сострадательно скривила мясистые губы:
— А почему это все произошло собственно?
Он не мог в ту минуту толком все объяснить. Только возвратившись в типографию, Федя познал причину столь огорчившего его ночного происшествия.
В комнате метранпажа и его жены, где из непонятной скромности и вежливости студенты раньше не решались произвести по-настоящему обыск, они нашли теперь две связки свеженьких черносотенных прокламаций. «Союз русского народа» требовал в них от полиции и «верноподданных войск его императорского величества» расстрела «антиправительственных сходок и демонстраций, устраиваемых жидами и прочими крамольными инородцами».
За этими листовками и явился в ночную пору соратник метранпажа. Кто он был — так и не удалось тогда Феде узнать.
Утром он сбегал в больницу. Лурс радостно расцеловался с ним, посетовав только, что «в такие чудные дни» приходится валяться на больничной койке.
Федя повеселел. Он, улыбаясь и не без некоторого хвастовства, продемонстрировал товарищу горностаевский браунинг, в котором не хватало теперь несколько пуль.
Как зарядить снова револьвер — он не знал. А в душе надеялся, что никогда больше и не будет в том надобности.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ «Надо с самим собою поговорить»
Разгромили Лукьяновку, подожгли Косой Капонир, — по улицам Киева несли на руках освобожденных из тюрем вчерашних арестантов. Вчера еще их ждала ссылка в Сибирь, каторга, кандалы, а многих — и смерть от веревки и пули.
Сегодня их приводили с песнями в Городскую думу и там чествовали речами — «свободных граждан свободной России».
Город поспешно стал жить новой жизнью. Приказчики, водопроводчики, посыльные, печатники, булочники, заводские рабочие, портные, часовщики учреждали свои профессиональные союзы и расклеивали о том извещения на всех тумбах и столбах.
Церковные певчие объявили себя сторонниками Временного правительства. Просили привести их к новой присяге оставшиеся на свободе городовые и околоточные надзиратели. Акцизные чиновники и тюремные служители слали телеграммы преданности «его высокопревосходительству господину Родзянко».
Упали морозы, резвей стало солнце, и на улицах города до позднего вечера полно было народу.
Вокруг памятников, у бараков недостроенного вокзала, в заводских цехах, в крытом рынке «Бессарабки», на Думской площади шли долгими часами митинги. И всюду на митингах и собраниях появились уже ораторы, открыто говорившие о своей партийной принадлежности.
Надо было удивляться, как неожиданно много, оказывается, было в стране эсеров!.. И земгусар, вчерашний завсегдатай кафе «Семадени», — эсер, и писарь мещанской управы, и великовозрастный усатый гимназист, и бородатый унтер из крепких сибирских мужичков, и пройдоха администратор из театра миниатюр, и поручик запасного батальона, и студенты, и приказчик магазина охотничьих принадлежностей, — все, оказывается, добывали народу «землю и волю»….
В «Татьянке», в студенческой столовой-бараке на Безаковской, близ вокзала, у трех столов шла запись желающих вступить в члены политических партий. И здесь, как и всюду почти, студенты больше всего толпились у эсеровского стола.
Русый, длинноволосый, с круглой бородкой филолог Сатаров с непомерно большой красной розеткой на груди время от времени подымал над своим столом фанерный щит. На нем был наклеен газетный портрет Керенского, — и Сатаров выкрикивал на весь барак:
— Кто за революцию, товарищи, кто за Керенского — тот должен быть социалистом-революционером!
Сатарову помогала вести запись очень тепло одетая, худенькая, с острым лицом мышонка восторженная курсистка. Она ни на минуту не расставалась с давно изданной, но конфискованной в свое время, затрепанной книжечкой Петра Лаврова.
— Вы за землю и волю, Калмыков? Вы за Керенского? — спрашивал Федю сосед.
— Гм, — отвечал он односложно, разделываясь с аппетитной гречневой кашей, показавшейся сегодня на редкость вкусной.
— Я — за, — сообщал студент с мягкими розовыми подушечками на ладонях. — Пообедайте, Калмыков, и вступайте к нам в партию. Чего там? Мы вас знаем, вы в старостате… Я уже записался, Калмыков.
«Знаменитый подпольщик… Степан Халтурин! — иронически подумал Федя о соседе. — Кто бы знал, — а?»
Сосед показывал ему аккуратно сложенную квитанцию Союза земств и городов, на которой теперь значилась фамилия студента и красовался оттиск деревянной печати киевской организации социалистов-революционеров.
Кадетский столик пользовался успехом. К нему привлекала, однако, не программа «партии народной свободы», а черноглазая красавица курсистка, дочь симферопольского купца-караима. С ней усиленно любезничали, но от того список новых членов партии Милюкова не увеличивался.
Почти у самого входа в столовку стоял стол социал-демократов меньшевиков. Здесь была публика, давно знакомая Феде по факультетским сходкам, по участию в собраниях старостата, по частным встречам, когда распивалось вино, купленное в излюбленном магазине на углу Крещатика и Фундуклеевской, и обсуждались рефераты об учении Каутского или устраивался политический суд над героями Достоевского.
Пойти к ним — старым друзьям и товарищам? Объявить себя социал-демократом? А почему бы и нет? Он их знает, а они — его.
Завидев Федю, долговязый, туберкулезный, в желтых веснушках Гашкевич приветливо окликнул его издали:
— Приходите непременно. Надо посовещаться о нашем собрании.
И это слово «наше» было понято теперь Федей по-иному, чем раньше. Конечно же, его звали на собрание партийной социал-демократической фракции студенческого совета. Может быть, даже не спрашивая его, — потому что так сильна была уверенность в нем и «лидера» Гашкевича и всех остальных товарищей, — его уже включили в список членов РСДРП.
Если бы так случилось — он в конце концов не возразил бы. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — разве это не то идейное знамя, под которым он, Федя, должен идти вместе со всеми рабочими, вместе с революцией?
— Ладно! — крикнул он в ответ Гашкевичу, не решив еще, однако, что точно должно означать это слово.
В далеком углу барака сидело несколько человек, среди которых он увидел Алешу Русова. Встав из-за стола, Федя порывисто направился к своему другу и земляку. Он ни разу не встречал его в эти дни.
— Познакомься, братец-народничек, — весело ухмыляясь, сказал Алеша, указывая на своих товарищей.
— Что за ерунда! При чем здесь «народничек»? — немного смутился Федя, пожимая руки новым знакомым.
— А разве обидно? — рассмеялся один из них, по виду — рабочий, средних лет, с высоким смуглым лбом и запорожскими темными усами, и лукаво подмигнул остальным.
— Не столько обидно, товарищ, сколько неверно…
— Но ведь ты же, Федулка, не марксист!
— Не всем же рождаться марксистами, Алеша. Правда? — спокойно усмехнулся, беря под защиту Федю, молодой круглолицый человек в очках, с наголо выбритой головой.
— Верно, товарищ Эдельштейн, — поддержал его «запорожец».
— Вы и есть Эдельштейн? — вскрикнул Федя, пожимая вновь ему руку. — Тот самый… без пяти минут смертник?
— Я и есть Эдельштейн, — спокойно смотрели на него светлокарие глаза из-за выпуклых стекол очков.
— Я так много слышал о вас. Ведь вы наш, университетский?
— Университетский.
Он, улыбаясь, показал пальцем на синие петлички своей тужурки. Вместо золоченых пуговиц с двуглавыми орлами на ней были какие-то плоские, обтянутые черной материей костяшки.
— Как я жалею, что мне не пришлось поджигать этот проклятый Косой Капонир! — восторженно смотрел Федя на недавнего «смертника». — Понимаешь, Алеша, ведь я в это время…
— Зря, между прочим, поджигали, — закуривая, сказал Эдельштейн. — Должен еще пригодиться. По крайней мере — в свое время.
— То есть? — посмотрел вопросительно Федя.
— Когда начнется настоящая рабочая революция, куда, товарищ Калмыков, прикажете размещать ее врагов?
— Это, я думаю, будет. Обязательно будет!
Федя перевел взгляд на эдельштейновского соседа, подавшего столь убежденно эту реплику.
— Что вы хотите этим сказать, товарищ Довнар? — обратился он к нему.
— Если вас это интересует, Калмыков, приходите вечером в арсенал. Послушайте революционных рабочих.
Было что-то львиное и повелительное во всем облике Довнар-Запольского. Коренастый и широкоплечий, с грудью борца, с тяжелой гривой темно-русых волос, с большими серыми глазами, как будто вбиравшими в себя собеседника, — он всегда был заметен в университетских коридорах. Он прихрамывал и чуть-чуть волочил ногу, — и казалось, что не обычная это хромота с детских лет, а где-то ранен в бою этот порывистый и неукротимый «львенок». Сын известного профессора, человека неясных и путаных политических убеждений, — Довнар, как известно было, давно уже не жил на отцовской квартире, но где точно обретался — знали об этом, вероятно, очень немногие.
— А вы будете выступать? — спросил его Федя.
— Да уж кто-нибудь из нас, большевиков, будет. И не один, вероятно.
«Вот оно что… — подумал Федя. — Они все — большевики. И Алешка с ними, — теперь все понятно. Однако к себе не зовут».
Впрочем, чего хотят сейчас большевики, он собственно не знал, но очень уж отпугивал их «несвоевременный максимализм», о котором был наслышан в кругу Гашкевича и его друзей.
Но вызывали симпатию и «смертник» Эдельштейн, и Довнар с умными серыми глазами, и, конечно же, давний друг детства Алеша Русов, которого любил, и Феде от чистого сердца хотелось сейчас увидеть этих приятных и привлекательных людей за одним столом с таким же приятным и самоотверженным, как думалось, Гашкевичем.
«И те и другие с рабочими… и я за рабочих, за революцию. Неужели Гашкевич будет против? В таком случае ничего общего у меня с ним! Черт побери, чего не поделили? Неужели нельзя по-хорошему сговориться? — искренно досадовал Федя, думая обо всем этом. — Вот если бы вместе…»
Он выскользнул из столовки, стараясь не попасться на глаза Гашкевичу и его друзьям.
«Боже мой, разве это так просто — войти в партию? И в какую? Ведь надо с самим собой поговорить раньше!»
На мостике он обогнал молодую красивую женщину в котиковой шапочке — и почему-то впервые за эти дни длительно подумал о Людмиле Петровне. Боже мой, как мог он забыть ее?
«Вот осел вифлеемский!» — укорял себя Федя.
В этот вечер он не пошел в арсенал, куда звали его. И этот вечер принес ему неожиданность, о которой меньше всего мог бы думать.
Проходя по Пушкинской мимо дома Георгия Павловича, Федя решил побывать у Карабаевых, у которых давненько не был. Вот уж теперь есть о чем потолковать: столько событий, столько новостей!
И очень любопытно, как держится теперь Георгий Павлович что он говорит? Как там у них, в Общественном комитете: небось поторопились присягать Михаилу?.. Да и затем интересно: брат министра все-таки! Может быть, сейчас и кадетское общество застанет у него? Ну, знаете, господа хорошие, он сам, Федя, может вам рассказать такое, чего никакая газета не сообщит в подробностях. Хотя бы об аресте Горностаева (вот, пожалуйста, его браунинг!) или о ночном происшествии в «Двуглавом орле»…
Он не хочет бахвалиться, но… в него-то стреляли, могли убить, и он сам стрелял, делал революцию, — а чем Карабаев и его застольные друзья в это время занимались?
Конечно, он не станет говорить об этом так грубо, но почему бы и не съязвить маленько? — усмехнулся он, проходя по двору к парадному подъезду карабаевской квартиры. — А почему бы и не припугнуть богатеев? Можно и про Косой Капонир напомнить: вот, мол, сможет еще пригодиться, когда начнется настоящая рабочая революция. И все прочее, о чем говорил сегодня большевик Эдельштейн.
Но всем этим Фединым замыслам не суждено было сбыться. Встретившая на пороге горничная сообщила, что барин и барыня поехали на машине в Думу и еще не возвращались, барышень тоже нет, а дома — только Костенька с гувернанткой.
Из прихожей, сверкая зелеными глазами, торчком наставив срезанные уши, выжидающе-грозно смотрели на Федю два пятнисто-серых дога.
Он шутливо поздравил горничную со свободой, посоветовал ей записаться поскорей в профессиональный союз и спустился во двор.
Здесь он вспомнил о Теплухине. Он поднял голову вверх и посмотрел на окна третьего этажа, где находилась квартира Ивана Митрофановича: два окна были затемнены, в третьем был свет.
Федя спустя минуту стоял уже на площадке теплухинской квартиры. На звонок открыла дверь знакомая старушка — экономка Ивана Митрофановича.
— Дома? — спросил Федя.
— Уехали-с. Уже сколько дней уехали-с Иван Митрофанович.
— Вот так штука… — разочарованно протянул Федя. — И вы одна тут? — не придавая значения своему рассеянному вопросу, спросил он.
— Все дни одна, Федор Миронович. А вот час назад гости пожаловали, — улыбнулось розовое лицо старушки, и она почему-то перешла на шепот. — По записочке Ивана Митрофановича и впустила, да-с… Хоть не так скучно будет сторожить квартиру: времена, знаете, какие?
«Гости?» — Любопытство овладело Федей.
— Водички не дадите напиться, Анна Николавна? — вошел он в прихожую.
— С превеликой охотой. Может, винца добавить? Или морса желаете? Морс какой день в графине стоит… Вы ко мне в комнатку пожалуйте. Сейчас я вам, сейчас я вам… с превеликой охотой.
«А гости где?» — едва сдержался Федя, чтобы не спросить.
Он пошел вслед за экономкой, но задержался в коридорчике, у дверей в теплухинский кабинет. Он слегка потянул дверь к себе: в комнате было темно и тихо. Не понимая еще, зачем собственно он это делает, Федя нащупал у входа за порогом выключатель и повернул его. Комната мгновенно осветилась, и он сразу же увидел двоих мужчин, вскочивших с дивана.
— Кандуша! — вскрикнул Федя, узнав его.
Другой был незнаком.
— Кандуша!.. Вы здесь?
Кандуша шел к нему навстречу с протянутой рукой.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ По следам старого режима
Поезд сильно запоздал и, вместо прибытия по расписанию утром, дотащился к Царскосельскому вокзалу часов в шесть вечера. Иван Митрофанович выпрыгнул из вагона одним из первых и помчался на улицу.
Ни трамваев, ни извозчиков, — путь предстояло проделать пешком, а дорога была каждая минута… Но, может быть, понапрасну торопится? Может быть, уже поздно, уже все пропало?
Теплухин быстро зашагал по Загородному, обгоняя толпы народа, шествия демонстраций, зло и грубо пробивая себе путь в местах наибольшего скопления публики. С того момента, как вышел из вокзала, все показалось чужим, незнакомым, а главное — подавляюще огромным: приезжему действительно легко было растеряться, попав в бурный уличный поток жизни революционной столицы. Казалось, дом, целые кварталы сдвинулись со своих мест и перемешались друг с другом. Каждый человек — как муравей, произвольно брошенный в непривычное для него место, — так где уж тут надеяться на встречу с ним в обычный час и в обычном месте?..
В поезде, в дороге все по-иному представлялось Ивану Митрофановичу.
Наконец-то он попал на Ковенский, куда стремился, вбежал во двор знакомого большого дома и, когда стал подыматься по тихой лестнице его, вдруг остановился. Где-то на верхней площадке открыли и тотчас же захлопнули дверь, и кто-то стал спускаться вниз.
Вспугнутые этими шагами, с пролета на пролет сбежали сверху, стараясь не потерять друг друга, жадно и хищно глядевшие кошки. Задняя фырчала теперь и бесновалась, настигая свою мартовскую подругу. Наткнувшись на притаившегося Теплухина, они мигом повернули обратно, но приближавшиеся сверху люди заставили их вновь заметаться по лестнице.
Одного из этих людей, с черным чемоданчиком в руке, Иван Митрофанович увидел через минуту и бросился к нему навстречу к площадке.
— Боже, какая удача! — Он готов был обнять Кандушу.
— Господи боже мой, как это?! — ахнул тот и обернулся на спускавшегося позади него человека в путейской фуражке.
Теплухин схватил за руку и не отпускал уже Пантелейку.
— Куда ты? Мне нужен… нужен, как жизнь, Губонин! Понимаешь. Ради бога! Понимаешь? Где он?
Иван Митрофанович сразу не узнал безбородого Губонина.
— Теплухин? — удивился тот, очутившись на площадке.
— Вы?.. Вячеслав Сигизмундович?!
— Да тише вы, пипль-попль! — толкнул в плечо Кандуша. — Пропустите!
— Одно из двух: вверх или вниз! — командовал Губонин. — Быстрей, пожалуйста!
— К вам, к вам! — не веря своему счастью, взмолился Иван Митрофанович.
— Назад? — спрашивал Кандуша своего начальника. — Приметы, осмелюсь заметить, худые…
— Какие там приметы? Что ты, друг мой? — тащил его за рукав Иван Митрофанович, поспешно подымаясь наверх.
— Кошки перебежали — вот какие приметы! Опять же, когда возвращаешься, выходя из квартиры…
Ничего не поделаешь — пришлось возвращаться. Не раздеваясь, стояли они теперь в неосвещенной комнате, вглядываясь друг в друга.
— Планида… — многозначительно вздохнул Кандуша, тихонько похлопывая Теплухина по плечу.
— Я только сейчас с поезда… — тяжело дышал Иван Митрофанович и вытирал платком пересохшие губы. — Вот только сейчас. Какое счастье, прямо счастье, что я вас застал!
— Лишних пять минут — и вас постигла бы неудача. Пять минут, — торопитесь, Теплухин! — сказал Вячеслав Сигизмундович.
— Да, да, какое счастье, господа…
— Чего вы хотите? Быстрей! Вы понимаете, как время дорого!
— Вы уходите? — заволновался Иван Митрофанович.
— Кажется, видели? — иронически усмехнулся Губонин. — Я, мягко выражаясь, покидаю столицу.
— Вы должны помочь мне!
— Готов. Понимаю вас. Догадываюсь, Иван Митрофанович. Но только быстрей, быстрей, ради бога! — торопил его Губонин.
— Вот, вот… В департаменте было дело на меня? Когда-то вы уверяли меня, что нет?
— Вы умный человек, Теплухин.
— Так, так… Значит — было. Так. Понимаю. Не могу сейчас сердиться. Ну вот — где оно?
— Говорят, все дела свезли в Таврический. Я вас понимаю: хотите раздобыть? Хорошо, конечно, сделаете.
— Спасибо, спасибо за поддержку. А номер… номер дела?
— Ну, знаете, точно не упомнил. Как будто семьдесят две тысячи с чем-то. Во всяком случае — в этой тысяче.
— В первой половине или во второй?
— Да уж если удастся вам, извольте всю семьдесят вторую тысячу обыскать! Дело, по-моему, заслуживает того, — как скажете?
— Конечно, конечно. Я не поленюсь, поверьте… — старался улыбнуться Иван Митрофанович, но сам чувствовал, что это плохо удается сейчас. — И только у вас оно было? Нигде ничего больше? — допытывался он.
— Ничего, ничего.
— Я вам верю, Вячеслав Сигизмундович!
— Благодарю. Рекомендую верить.
— Документ-то один только? Правда? Иркутский замок, да?
— Как будто так.
— А какой же еще? — забеспокоился Теплухин.
— Да больше на самом деле нет, — успокоил его Губонин. — Ну, желаю успеха. Кажется, я вам больше не нужен? Когда кончится эта сумасшедшая вьюга — надеюсь, встретимся. А пока поищем более теплый климат.
— Как мне благодарить вас?
— А как хотите! Ну, мы — на вокзал. Прощайте, Иван Митрофанович.
— Погодите! Если когда-нибудь будете в Киеве… если я смогу…
— Во, пипль-попль! — вскрикнул Кандуша и посмотрел вопросительно на своего начальника. — А ежели пересадочка случится, позволю заметить?
Губонин все понял.
— Вы один в Киеве живете? — вдруг оживился он.
— Старуха экономка есть.
— Впустит?
— Вас?
— Допустим, нас.
— Ради бога! — искренно пошел навстречу Иван Митрофанович. — Я ей записку — и все в порядке!
— Пишите.
Вручая записку, Иван Митрофанович еще раз переспросил:
— Дело… в семьдесят второй тысяче, значит?
— По-моему, даже в первой сотне этой тысячи, — пожимая ему руку, сказал Губонин. — Прощайте.
Все это произошло лихорадочно-быстро и плохо осознано было Иваном Митрофановичем.
И как и когда он снова очутился на улице, — слабо помнил.
Весь день Фома Матвеевич кружил по городу. Исписан был весь блокнот. Казалось, что увиденного хватило бы на целую книгу, а не только на «подвал». Фома Асикритов возвращался к себе на Ковенский: добрести бы скорей до своей кровати, часок соснуть, а там и вновь можно пуститься в путь «очевидца»-газетчика…
Но не таков сейчас Петроград, чтобы легко и быстро одолеть его пространства. Можно ли уйти от соблазна и не втереться во все толпы, встречающиеся на пути, не задержаться на уличном митинге или у грузовика, с которого разбрасывают на осклизлую мостовую пестрым цветным дождем все новые и новые листовки?
Вот у Конногвардейского бульвара перебегают дорогу зеленому автомобилю две стаи разбитных мальчишек.
— Стой! Стой! — готовы они лечь под колеса.
Автомобиль сдерживает ход, — и Асикритов видит вдруг на грузовике Юрку Карабаева: в гимназической шинели, с красной милицейской повязкой на рукаве и винтовкой в руках.
— Чего орете? — сам он начальственно орет на мальчишек. — Марш по домам!
— Ишь какой!.. На Галерной фараона поймали, надо его забрать. А ты… марш по домам, ишь!
— Молодцы, мальчики! — бросает покровительственно гимназист, и грузовик делает крутой поворот к Галерной. — Показывайте, где!
Двоих подхватывают в машину, остальные бегут за ней вслед.
Асикритов видит Юрку и не удивляется: а почему бы и ему не чувствовать себя революционером и победителем? Эту революцию сделали все: она легка, как весна.
Победитель счастлив, ему еще нет нужды оглядываться по сторонам. Нечаянная радость нежданно пришедшей свободы опьянила его своим ликующим дыханием. Он с утра до ночи бродил теперь по улицам — этот торжествующий победитель. Он надрывал голос в неистовом «ура», бил в ладоши до боли, венчая славой ораторов. Это он сковырнул двуглавых орлов с вывесок императорских поставщиков и министерских зданий, это он расцветил столицу красными флагами, бантами, ленточками — бантами и ленточками, наскоро отобранными у служанки и своих сестер.
Не один человек, встречая теперь его на улице с винтовкой наперевес, в ужасе шарахался в сторону: «Вот-то она, смерть моя, идет!» Винтовка, как правило, была совершенно независима от намерений ее случайного обладателя и могла выстрелить в любую секунду, не осведомившись о его воле. Однако оказалось, что он все может, на все пригоден: стоять в цепи, и спрашивать пропуск со строгостью наполеоновского маршала, и арестовывать подозрительных субъектов, и реквизировать запасы продовольствия у тыловых мародеров, и разбрасывать прокламации революции, и увлекать за собой батальоны солдат. Счастливая, безотчетная пора — юность!..
Мы замкнутую дверь Отомкнули теперь, — Мы свободны, свободны, как птицы…«Кто это сказал?» — никак не мог вспомнить Фома Матвеевич, шествуя в раздумье по городу.
На Морской, у дома Фредерикса, — толпа солдат и обывателей. Всем в столице был известен красный особняк со строгими линиями фасада, тонкой лепкой, зеркальными стеклами окон. Здесь всегда дежурил рослый «чин» — с медалями во всю ширь богатырской груди. Придворные моторы и кареты знали его так же хорошо, как и он — их. Сейчас, подожженный революционной толпой, красный особняк удручал своим мертвым видом. Огонь выел его внутренности, и в темных, испепеленных глазницах его чернели груды мусора, обгорелые балки, поверженные в прах колонны. Над воротами повисла огромными сталактитами замерзшая вода пожарных брандспойтов, защитивших соседние здания.
Огонь сожрал также службы и конюшню во дворе Фредерикса. В мусоре, как куры в навозе, копались теперь нищенки. Все было ценно для них: и помятая шумовка, которой графский повар снимал, бывало, пузырчатую накипь с французского супа, и пружинистая металлическая сбивалка для сладких сливок, и розетка от мягкого вальяжного кресла, и ручка от телефона, и циферблат часов, и связка никелированных ключей.
«Киш!» — хотел прикрикнуть на них Асикритов, но побоялся обидеть.
В подвале, куда он зашел, увлекаемый толпой, сидел на корточках у печи какой-то парень в смушковой шапке. Он деловито отвинчивал кран от медного куба. В ногах лежал мешок, наполненный почти доверху.
— Отрезали немецкому графу усы! — заметил кругленький бородатый ратник запаса и осклабился. Винтовка у него была за плечами на веревочке, вместо ремня.
— Сколько добра здесь погибло, боже ты мой! — сокрушался, подмигивая Асикритову, какой-то субъект с жеваным серогубым лицом, в котиковой облезлой шапочке.
— А тебе жалко? — сурово поглядел на него ратник. — Печальник графский!
— Да как же… Зачем жечь?
— А ты кто? — насели уже несколько человек. — Не фараон, часом? Эй, братцы! Вот тута нашелся один субчик, добра графского жалеет. А ну, на проверку!
— Да вот спросите их, вполне интеллигентного гражданина, — растерянно искал «субчик» защиты у Асикритова. — Разве, я такой?
— Вы его знаете? — оглядели с разных сторон Асикритова.
Он, усмехаясь, пожал плечами:
— Еще, товарищи, в древности сказано: зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство — спасен будет.
И повели этого с жеваным лицом и котиковой шапочкой на милицейский пункт: пусть там разберутся!
Враг не только на чердаках домов, — он здесь, в толпе, на улице, что еще более страшно, и действует он более опасным, испытанным оружием — лживым языком провокатора.
Внимание Фомы Матвеевича привлек прилично одетый — «по-джентльменски» — господин в шубе с обезьяньим мехом. На Невском, у закрытого книжного магазина, стоя на верхней каменной ступеньке крыльца, джентльмен — один из тысячи уличных ораторов — держал речь перед собравшейся публикой. Медоточивым голоском, умиленно глядя добродушными глазами сквозь стекла рогового пенсне, джентльмен воспевал прелести нового режима. Но вдруг, уловив, как и все, шум с соседней улицы, заговорил, насторожась, по-иному:
— Не кажется ли вам, господа, что там (жест в отдаление)… что там началась канонада? Не идут ли правительственные войска? Ведь вырежут всех! Сегодня я слышал о десяти эшелонах, которых ждут на Балтийском вокзале. Что-то будет!
Публика тоже настораживается, люди нерешительно переглядываются друг с другом, и тревога набегает на их лица.
— А в самом деле, будто стрельба пошла, — повторяет хорошо одетый господин в роговом пенсне и задумчиво качает головой, словно задушевно беспокоясь за судьбу нового порядка.
В увлечении своей игрой («Подлец!» — в том нет сомнений у Фомы Матвеевича) искусный оратор не замечает, как давно и подозрительно на него поглядывают в упор воспаленные глаза густобрового, меднолицего матроса. Тот вынул трубку изо рта и наблюдает: «Сладкий барин! Кто он?» Если он не спохватится вовремя и не оставит своей провокаторской игры — близок здесь канал с черной невской водой. А еще ближе: на поясе балтийца — тяжелый не щадящий маузер.
Но джентльмен вовремя поймал пристальный взгляд матроса — и хлещет, хлещет теперь новым потоком медоточивых слов, усыпляющих подозрения:
— А впрочем, никакой канонады нет, товарищи. Откуда ей быть? Чепуха! Нервы! Нам только послышалось. Революция победила раз и навсегда. Да здравствуют рабочие, солдаты и матросы!
— То-то же… — отходя, бурчит матрос. — Ежели бы не ошибка моя, глотку бы тебе разодрал!
На углу Надеждинской и Жуковской Асикритову закупорила путь шумная людская пробка: задрав головы, толпа уставилась в окна третьего этажа, наблюдая за тем, что там происходит.
У дома на панели возвышалась громадная куча битой посуды, разломанной мебели, кухонной утвари, белья.
— Кого это так? — заинтересовался Фома Матвеевич.
— Известно, кого: жандармского генерала Попова!
— Ах, вот оно что! А сам-то он где?
— Кто говорит — кокнули, а кто — спрятался, дяденька! — охотно и услужливо влез в разговор белобрысый мальчуган лет девяти. — Смотрите, смотрите, дяденька!
Из среднего окна медленно лезло наружу ножками вперед массивное, красного сафьяна кресло. Высунувшись на две трети, оно качнулось и рухнуло тяжело вниз.
— Так его! — одобрительно пробасил рядом с Асикритовым чей-то сиплый, мрачный голос.
В выбитом окне появилась голова солдата в фуражке с желтым околышем. Солдат — рябой, круглолицый, помахивавший приветливо рукой, — тепло и широко улыбался толпе, как забавляющемуся ребенку.
Он словно радовался, что смог доставить ей удовольствие.
Весьма щедрый — он послал вслед за креслом овальное зеркало в раме из черного дерева.
Тем временем в соседнем окне появился другой солдат. (В квартире Попова их было теперь достаточно.) Он развернул какой-то белый предмет, похожий на папирус, и на улицу со свистом, размотавшись на лету, полетела широкая и длинная, до земли, лента. За ней — другая, третья. На лентах были какие-то непонятные значки.
— Гляди, гляди! Тайные донесения, вишь!
— А не ноты ли для фонолы? Конечно, ноты! — наклонившись над одной из лент, разъяснил толпе Асикритов сакраментальные знаки.
Он не ошибся.
— Но-оты… — разочарованно сказало несколько голосов. — С чего бы это у жандармского генерала ноты?
Из окна, сияя отлакированным черным кузовом, лезла уже и сама фонола.
«Приятно эдак после сытного ужина подсесть к инструменту, нажать ногами на педали, наложить персты на рычажки и музицировать без малейшего участия души вальс Шопена или романсы Глинки». Фома Матвеевич живо представил себе протопоповского генерала за этим занятием в домашнем кругу, в присутствии гостей.
Ниспровергатели генеральского уюта, видимо, устали: теперь они лениво и машинально выбрасывали на улицу разные вещи. Вслед за тяжело шлепнувшейся на землю фонолой полетел чайный розовый сервиз, вышитые подушечки с тахты, альбомы, клетки для птиц, дамские платья и ворох ученических тетрадей.
Один из солдат вынул шашку и стал рубить остатки рамы в окне, расчищая дорогу для огромных дубовых тумб от письменного стола.
Рядом с солдатом появился в окне какой-то субъект в каракулевой круглой шапке. В высоко поднятых руках он держал икону. Он словно нарочито показывал ее толпе. Потом взмахнул руками, и богородица плюхнулась с высоты на землю.
— Бог ты мой, да рази можно так? Нехристи! — завыла в толпе простоволосая женщина с младенцем на руках, и в толпе пошел невнятный гул.
У осквернителя религии была богом и полицией меченная физиономия: щеки бритые, низкий кирпичный лоб, злые глазки, жесткие, как ламповая щетка, грязно-рыжие усы.
«Ведь провокатор, сущий охранник! — возмущенно подумал о нем Фома Матвеевич. — Такого бы за шкирку да под арест».
Он готов был заняться этим делом, но сообразил, что разгром генеральской квартиры еще продолжится, что надо выжидать, покуда фараон спустится вниз, — а времени у Фомы Матвеевича оставалось мало, и он поневоле покинул место происшествия.
Недалеко от ворот своего дома он увидел неожиданно Теплухина. Тот шел навстречу вялой, сбивающейся походкой глубоко, задумавшегося, рассеянного человека. Голова опущена, руки засунул в карманы шубы.
У Асикритова была очень хорошая память старого газетчика: он вспомнил в тот момент, что года два назад с лишним он однажды встретил здесь же, в доме на Ковенском, Теплухина. Тот спускался тогда по лестнице, а он, Асикритов, подымался наверх. А теперь — опять тут?
«Почему он в Петрограде? Приехал по делам и застрял, вероятно, из-за революции?»
Иван Митрофанович заметил журналиста тогда, когда столкнулся с ним лицом к лицу.
— Каким образом в наших палестинах? — спросил Асикритов после рукопожатия.
— Я хотел как раз просить вашего содействия, — ни секунды не раздумывая, твердо сказал Иван Митрофанович.
Какого содействия — в тот момент он еще не измыслил, но чувствовал, что врать сейчас нужно решительно, без запинок, ничем не выдавая своего смущения от неожиданной встречи.
— Как? Вы меня именно искали? Вы были у меня? — забрасывал вопросами журналист. — Ведь вы в Киеве? Вы для этого приехали? Когда? Вы едете обратно, не правда ли?.. Ну, что вы скажете? Время, — а? Замечательное время! Очистительное время!.. Никого из Карабаевых не видели, — а? Лев Павлович-то — министр, — вот тебе и фунт изюму!
Асикритовская словоохотливость многим помогла Ивану Митрофановичу. Он мгновенно сообразил: можно было уцепиться за любой из поспешных вопросов журналиста и, уже не опасаясь вызвать подозрения, выбрать тему для разговора!
— Я очень рад, что вас встретил, — возвращаясь к асикритовскому дому, говорил Иван Митрофанович. — Вот о Льве Павловиче напомнили… Вообще о некоторых делах… Но, скажите по совести, я не помешаю вам?
— Нет, нет. Вы меня простите, я только с вашего разрешения полежу малость на диване. Понимаете, чертовски устал! Но вообще — пожалуйста, пожалуйста!
— Я готов ждать сколько угодно… да помилуй бог!
Добродушная застенчивая улыбка плохо шла холодным, рысьим глазам Теплухина, и, чтобы отеплить свой обычный короткий и резкий взгляд, он старался теперь как можно дольше и шире улыбаться и даже фамильярно и ласково похлопал по плечу рядом шагавшего, усталого Фому Матвеевича.
— Ладно, ладно. Найдем время поговорить.
Но так случилось, что этого времени не оказалось.
Позади, со стороны Знаменской, пыхтя и беспокоя тихий переулок перебоями мотора, мчался зеленый автомобиль с широким кузовом. Машина спустя минуту круто остановилась у ворот асикритовского дома — как раз в тот момент, когда журналист и его спутник намеревались войти во двор.
— Эй! — крикнули из машины. — Где тут квартира номер…
Словно пуля ударила в грудь Теплухина: назвали номер квартиры «инженера Межерицкого»!..
— А это по моей лестнице, — охотно отозвался Фома Матвеевич. — Идите за нами. Во двор, прямо, широкий подъезд… — объяснял он.
Из автомобиля, выскочили трое мужчин: солдат с винтовкой наперевес, долговязый, длинноногий штатский в помятой серой шляпе и молоденький прапорщик в пенсне, в предлинной, закрывающей каблук сапога, новенькой, необношенной шинели. Прапорщик, как юбку, приподымал ее полы, соскакивая с подножки автомобиля.
Привлеченные шумом машины, сбежались к воротам несколько человек, обитатели переулка. И среди них — неизменные, ретивые свидетели любых уличных происшествий — дети и подростки. Они бежали впереди всех, и, когда остальные вошли только в подъезд дома, с верхней площадки его уже летели навстречу звонкие, крикливые голоса:
— Здесь, дяденька, квартира! Вот она, сюда!
Вместе со всеми подымался наверх и Теплухин. Он больше, чем кто бы то ни было, понимал, зачем и за кем примчались сюда люди на автомобиле. Не опоздай они на четверть часа — и ему самому угрожала бы опасность быть арестованным на департаментской конспиративной «явке».
Проходя мимо своей квартиры этажом ниже, Асикритов вынул ключ, чтобы открыть дверь.
— Я сейчас, товарищи. Только разгружусь от портфеля.
Но дверь уже была наполовину открыта: шум и голоса на лестнице толкнули к порогу любопытную асикритовскую хозяйку. Она увидела своего квартиранта и набросилась на него с расспросами.
— Да погодите вы! Сам ни черта не знаю!
Он сунул ей в руки тяжелый портфель:
— Некогда, некогда, Елена Гавриловна!
Увидев через плечо Ивана Митрофановича, журналист скороговоркой представил его квартирохозяйке:
— Пожалуйста — Теплухин… Теперь будете знать. Позвонит — впускайте…
— Да господин этот никогда вас не спрашивал… никогда не видела его! — как бы оправдываясь, сказала она.
Иван Митрофанович проклял в душе эту востроглазую, обсыпанную веснушками рыженькую женщину и быстро перебил опасный разговор:
— Очень приятно! Я тут без вас, сударыня… Ах, какие интересные, наверно, дела тут… — забормотал он что-то еще.
И, оттянув за рукав Асикритова, увлек его наверх: другого выхода теперь для Ивана Митрофановича не было.
Фу, все обошлось как будто благополучно: журналист в суматохе явно не обратил внимания на этот мимолетный разговор… Что будет дальше — успеется подумать!
Они поднялись наверх.
Долговязый штатский в серой шляпе нажал кнопку электрического звонка.
«Пустая трата времени», — подумал Иван Митрофанович.
Эту же мысль высказал вслух и молодой прапорщик: «Старорежимник, наверно, в другом месте скрывается», но штатский верил почему-то в удачу. Он позвонил второй раз, но за дверью оставалась все та же тишина.
Журналист назвал себя и спросил, за кем собственно приехали?
— Птица крупная… — загадочно улыбался долговязый. — Вот вы тут живете, а ничего не знаете. А его бы, сукина сына, не мешало бы сразу зацапать! А вышло так, что только полчаса назад мы этот адресок в Таврическом раскопали.
«В Таврическом?» — Иван Митрофанович насторожился.
— Что, дело его нашли? — с напускным равнодушием спросил он.
— Не дело, а дела! Я лично нашел! Тысячи дел через его руки прошли. Мне самому только сегодня пришлось видеть. Да так, знаете, милорды, такие вещи, — бог ты мой!
Штатский вновь позвонил.
— Не откроет он добровольно. Боится, конечно. Ломать надо! — нетерпеливо сказал коренастый с козлиной бородой солдат и поднял для наглядности свою винтовку. — Ваше благородие, прикажете стукнуть?
Молодой прапорщик, не зная, как обнаружить свою распорядительность начальника, сердито взмахнул рукой:
— Несовершеннолетних прошу покинуть площадку! Мальчуганам здесь нечего делать… Живо, живо, господа!
Асикритов несдержанно рассмеялся: давно ли сам прапорщик был «несовершеннолетним»? Он решил вмешаться в дело.
— Кого решили арестовать? — обратился он к приехавшим.
— Крупную птицу, — по-прежнему загадочно ответил штатский, переглядываясь с прапорщиком.
— Ну, живо, живо, господа хорошие. Живо, я вам говорю! — гнал тот ребятишек. Они, конечно, были непослушны.
— Ну, хорошо — птицу… А что за чин у птицы и фамилия? Может быть, не там ищете? — настойчиво допрашивал Фома Матвеевич. — У птицы вашей, может быть, крылья такие, что не догнать ее?
Прапорщик, занятый разгоном ребят, спустился на несколько ступенек вниз. Этим моментом воспользовался солдат: неожиданно для всех он сильно ударил прикладом — раз, другой — в дверь, и выбитая филенка открыла для взоров большую неровную дыру. Солдат просунул в нее руку и легко открыл изнутри французский замок.
— Хлеб-соль вам… — усмехнулся он, освобождая дорогу столпившимся на площадке.
Вместе со всеми Теплухин вошел в квартиру, только недавно поспешно покинутую им.
— А где тут свет? — командовал теперь прапорщик, и, теряя осторожность, машинально Иван Митрофанович сделал два шага в сторону боковой двери из прихожей и за портьерой нашел рукой выключатель.
Повернул его — и в то же мгновение понял, какую ошибку он совершил… Он поймал на себе короткий удивленный взгляд пучеглазого Асикритова. Тогда Иван Митрофанович, как ни в чем не бывало, стал шарить рукой по стенам прихожей, делая вид, что ищет еще выключатели, как будто их могло быть здесь несколько и необходим был сейчас полный, усиленной яркости свет.
— Достаточно, достаточно, — буркнул журналист. — Не уголочку, чай, пришли искать?
В минуту обошли всю квартиру и никого, конечно, не нашли в ней.
— Кто здесь жил? — настойчиво добивался ответа Асикритов у долговязого в серой шляпе.
— Жил он в другом месте, а это — тайная явка для его сподручных. Шеф провокаторов, уловитель слабых и подлых душ — господин Губонин! — патетически, по-актерски произнес узколицый, с тощей длинной шеей штатский. — Понятно, свободный гражданенок? — тихонько щелкнул он по носу подвернувшегося под руку косенького, ушастого мальчика — одного из тех, которых так безуспешно старался спровадить прапорщик.
— Составим протокол? — спрашивал молодой офицер.
Он присел к столу и отодвинул на краю его пепельницу-лодочку с папиросными окурками. От толчка два из них вылетели из пепельницы на стол.
— Зачем? Ненужная формальность, товарищ офицер, — вмешался живо Асикритов.
По привычке что-нибудь держать и вертеть в руке во время волновавшего его разговора, Фома Матвеевич схватил сейчас первый попавшийся на глаза предмет — выпавшую из пепельницы недокуренную папиросу. Сильно жестикулируя, он оторвал и бросил на пол курево, а остаток длинной гильзы намотал двойным колечком вокруг пальца.
— Если уж не хотите возвращаться с пустыми руками — поезжайте сейчас же… я вам скажу, куда… возьмете там настоящего фараона! Пускай и поменьше калибром…
Ему вспомнился сейчас подозрительный субъект со злыми глазками и жесткими, как ламповая щетка, грязно-рыжими усами, орудовавший в толпе солдат на Надеждинской.
— А кто нам его укажет?
— Я к вашим услугам! — охотно согласился журналист.
В сторонке штатский и Теплухин вели о чем-то разговор.
И курили: угощал Теплухин. Коробку феодосийских «Стамболи» он держал в руке, и, когда подошли прапорщик и Фома Матвеевич, он предложил им папиросы. Прапорщик взял и, на ходу прикуривая, пошел прочь из квартиры, сопровождаемый солдатом и Асикритовым.
— Вы подождите, я заеду за вами скоро! — предупредил прапорщик штатского.
— Я тоже! — обратился к своему гостю Фома Матвеевич.
Уже сидя в автомобиле, он сделал ничтожное, но почему-то взволновавшее его открытие: бумажный мундштук, намотанный на его палец, был той же фирмы «Стамболи», что и папироса, которую докуривал сидевший рядом прапорщик.
Асикритов несколько раз наклонялся к нему, проверяя свое неожиданное наблюдение. Потом он снял с пальца помятый бумажный кружок, расправил его как можно аккуратней на ладони и спрятал в карман шубы.
— Кто ваш спутник, которого мы оставили здесь? — спросил он молодого офицера.
— Очень энергичный товарищ! — одобрительно сказал тот. — А представьте — актер!.. Он из комиссии по разбору документов царского режима.
— Вот как? — еще больше оживился Фома Матвеевич.
Он уже совсем не чувствовал усталости.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Ленинцы
Глубокой ночью 27 февраля временный исполнительный комитет рабочих депутатов постановил организовать районные комитеты и сборные пункты для вооруженных рабочих и солдат. В одном из этих районных пунктов — в здании Биржи труда на Кронверкском проспекте — той же глубокой ночью Сергей Леонидович Ваулин переписывал набело первый манифест социал-демократов большевиков «Ко всем гражданам России».
Электрический свет двух тусклых угольных лампочек поминутно мигал, болезненно раздражая и без того усталые, воспаленные глаза.
Водянистые чернила расплывались на шершавых, грубых бланках Биржи труда, на которых писался манифест.
Край стола с неровными ножками на осевшем, продавленном полу назойливо скрипел и «пританцовывал» при каждом движении ваулинской руки.
Болела голова, и часто терзал раздиравший глотку и грудь кашель, неожиданно приключившийся часа два назад.
…Несколько часов подряд за этим длинным деревянным столом, почти упиравшимся концами в стены комнаты, заседало первое собрание Петербургского Комитета партии. Еще шла на улицах столицы пулеметная стрельба, еще войска генерала Хабалова направлялись на усмирение восставшего народа, еще Государственная дума готова была защитить царя, дай он только кресло премьера Родзянко…
И в этот час революция нашла свой центр, свой полевой штаб не в торжественных высоких залах былого потемкинского дворца, а в неказистом, давно не крашенном доме на Петроградской стороне.
Сюда нужно было войти с переулка в облупленную дверь какого-то магазинчика канцелярских принадлежностей, затем по черной узкой лестнице, не везде имевшей перила, подняться в чердачное помещение Биржи. Здесь было несколько канцелярских комнат с простыми, тесно прижавшимися друг к другу столами и плохо обструганными скамьями вдоль стен. Низко нависший потолок садился на голову рослому человеку.
Сюда пришли только что освобожденные из тюрем пекисты Скороходов, Ваулин и другие, появилось несколько человек, уцелевших от последних арестов охранки, забегали большевики из районов — с информацией, за помощью, за советом.
В Таврическом заседал самозванный Исполком, — в то время когда самого Совета рабочих депутатов еще не было. Да и заседать в Таврическом начали потому, что еще днем на многих фабриках и заводах появились первые листовки с призывом организовать Совет рабочих депутатов. Это воззвание исходило от большевиков. Однако далеко не всюду они могли руководить выборами: руки еще были заняты дымившимся от огня оружием, расстреливавшим русскую монархию на проспектах и площадях хабаловской столицы. Этим и воспользовались «оборонцы» — эсеры и меньшевики: сойдясь в Таврическом дворце, они поспешили объявить себя центром будущего Совета.
…Далеко за полночь в низенькую чердачную комнату на Кронверкском принесли два длинных листка бумаги. Это был манифест ЦК большевиков, написанный группой выборжцев и тщательно отредактированный Молотовым.
Его карандаш выбрасывал одни фразы, укорачивал и расставлял по местам другие, между написанных строк вносил новые. Слова должны были рождать действия.
Вечером следующего дня Сергей Леонидович прослушал текст манифеста, перепиской которого он был занят накануне. Манифест был помещен в «Прибавлении» к № 1 «Известий Петроградского Совета».
Газету принесла с улицы и читала вслух Шура.
Она уступила свою комнату и жила теперь у Екатерины Львовны.
Больной, поваленный на кровать ознобом и сильным жаром, лежал, тяжело дыша, Сергей Леонидович.
Входила на цыпочках мать и тревожно переглядывалась с девушкой: «Ну как? Не хуже ему?»
Ваулин ловил этот взгляд и подбадривал обеих:
— Чепуха… Завтра встану. Обязательно завтра встану.
— Ну, может, послезавтра, — заботливо протестовала курсистка.
— В крайнем случае — послезавтра! — нехотя соглашался он. — Читайте все до конца, Шура… Братскими, дружными усилиями восставших мы закрепим нарождающийся новый строй свободы на развалинах самодержавия… Есть это в газете, Шура? А потом лозунги…
Он помнил наизусть каждую строчку переписанного им ночью манифеста.
В другое время Шура бурно и звонко огласила бы лозунги, плясала бы по комнате, — сейчас она тихо и серьезно, боясь повысить голос в присутствии больного, продолжала чтение газеты.
Ждали врача. Он жил в соседнем доме и обещал скоро прийти.
Прорвав кордон неусыпного бабушкина «нельзя», вбежала в комнату худенькая, большеглазая Лялька. Приблизившись к кровати, она минуту разглядывала Ваулина и недоверчиво спросила его вдруг:
— А ты взаправду папа?
Он улыбнулся ей, хотел сказать что-то особенно ласковое, но сильно закашлялся, и она, испугавшись, заплакала.
Уличная борьба с полицейскими засадами на крышах и чердаках заканчивалась. Протопоповские гнезда уничтожались. Полк за полком переходил на сторону революции. Столица была во власти восставшего народа.
В один из этих первых дней победы в покойницкую Обуховской больницы доставили труп невысокого человека с пепельной нежной бородкой, вившейся от висков. На убитом был черный до колен ватничек, какие носили многие рабочие столицы, и вокруг шеи — широкое гарусное кашне.
Двое солдат, доставившие покойника, поцеловали его в лоб и, хмуро глядя, вышли из морга.
Несколько часов назад человек с вьющейся серо-пепельной бородкой подошел в сопровождении нескольких товарищей, таких же рабочих, как и он сам, к казармам одного из полков, медлившего примкнуть к восстанию.
Вход в казармы охраняли офицеры: они угрожали револьверами и никого не пропускали. Но смелость их была невелика: они дрогнули, увидев, как быстро и безрассудно выхватил незнакомый человек из кармана ручную гранату.
— Дорогу! — крикнул он.
— Дорогу! — закричали, вскинув «бульдоги», его товарищи, и офицеры врассыпную побежали от ворот.
Революционеры пробрались в казарму.
— Товарищи солдаты! — подняв над головой шапку с кожаным верхом, вскричал человек с вьющейся колечками бородкой. — Долой войну, братья! Рабочие Петрограда зовут вас на улицу. Да здравствует революция, братья солдаты! Вас заперли тут царские офицеры, вас хотят обмануть.
Он взобрался на еще не остывший медный бак с водой, стоявший в углу казармы, и оттуда обратился к солдатам с речью. Она была кратка и очень понятна им.
Спутав свои роты, не дожидаясь своих начальников, солдаты колоннами двинулись к воротам. И здесь, у самого выхода на улицу, из окна караульного помещения раздался короткий револьверный выстрел. Пуля срезала краешек гарусного кашне, обмотанного вокруг шеи недавнего оратора, и влетела в затылок его. Человек упал. Он был мертв.
Двое солдат, доставившие его тело в больничный морг, смахивали слезу, говоря о погибшем. Они даже не знали толком, кто он. Один из них только и мог сказать: «Большак!»
Что означало это слово — он еще не представлял себе, этот прослезившийся от товарищеского горя, сильно прогневавшийся солдат.
Фамилию убитого назвали его друзья — такие же, как и он, рабочие. Это был Василий Власов. С такой судьбой, как его, набралось в эти дни немало большевиков.
Андрей Громов еще не знал о смерти своего друга. Его закружил водоворот уличных революционных событий. В тот день Андрею Петровичу пришлось облачиться в солдатскую шинель: вместе с двумя другими членами организации, рабочими завода Дюфлон, он посетил место, о котором еще чао назад никогда бы и не подумал. Это была унылая баня на Петрозаводской улице. Сюда должны были привести солдат пулеметной команды, размещенной на Карповке и в закрытом ресторане «Мунд» на Крестовском острове. В баню, — как будто ничего не происходило в городе!
Громов и его товарищи втерлись в задние ряды солдат и проникли в парилку. И здесь, голый среди голых, Андрей Петрович открыл неожиданный для всех митинг.
Спустя два часа пулеметный полк выходил из казарм на помощь, восставшим рабочим. Некому было командовать: поручики и капитаны, запершись в офицерском собрании, отстреливались, часть из них бежала, и солдаты, оставленные без командиров, топтались на одном месте.
На глаза Андрею Петровичу попался худенький подпрапорщик; он застенчиво улыбался большим, растянутым да ушей ртом.
— Постройте полк! — кинулся к нему Громов.
— И во сне не снилось такое… Засмеют меня! — Испуг и растерянность желтой краской бросились в лицо широкоротого.
— Мы все равно что на позициях, понятно? — заорал на него Андрей Петрович и потряс за плечи.
И тогда подпрапорщик отдал команду, и голос у него оказался зычный и тяжелый, которому нельзя было не подчиниться. Полк в боевом порядке выступил на защиту революции.
Теперь с каждым часом солдаты — пулеметчики, саперы, кавалеристы — все больше и больше убеждались, что их восстание будет успешно только в союзе с рабочей массой и под его знаменами. Не случайно первые восставшие полки — литовцы и волынцы — прежде чем продефилировать перед Таврическим дворцом, направились на Выборгскую сторону — в центральный рабочий лагерь революции.
Андрей Петрович был тем первым человеком, кто рассказал больному Ваулину о событиях партийной жизни. Установить связь со Шведом удалось в день, когда стало известно об отречении царя.
В одной из комнат чердачного помещения на Кронверкском проспекте к Андрею Петровичу подошел солдат с широкими иглистыми бровями. На нем была новенькая ворсистая шинель и такая же новенькая фуражка. Это был Николай Токарев.
— Вы товарищ Громов? Мне на вас указали, — сказал он.
— Где ваша часть стоит? Когда надо? — быстро вопросом на вопрос ответил Андрей Петрович. — Кого-нибудь обязательно пошлем. Что, эсеры заели? Или милюковцы ведут к присяге новому идолу, — что?
— Да совсем не то, товарищ! — заулыбался Токарев. — Вы уж это по привычке, я вижу… Я сам большевик, и, ежели что, сам, пожалуй, мог бы речугу солдатам… Вы Громов или не Громов?
— Всю жизнь Громов!
— Ну, значит, к вам я попал. Записка вам от товарища Сергея Леонидовича.
— Да ну! Куда пропал он, — а? — обрадовался Андрей Петрович и выхватил из рук солдата записку. — Вот оно что… — сокрушенно протянул он, мигом пробежав ее глазами. — В такое-то время… ох, черт! Обязательно прибегу, обязательно! А ваша часть-то где? — неожиданно заинтересовался он.
— Была на Шпалерной, — весело усмехнулся Токарев. — Ожидала веревки или пятнадцать браслетов на ноги в Сибирь. А теперь, сами видите, — гуляем!
Ласковая хитринка светилась в светло-голубых глазах его нового знакомого.
«Вот ты каков… — приветливо говорили глаза. — Балагур, значит?»
Большой день был сегодня в ПК: собрались послушать первый доклад о «текущем моменте» — пришли слушать Молотова.
В черном пиджаке поверх светлой косоворотки, застегнутой у шеи на две крупные пуговицы с широкими дырочками, заложив руки за спину, он, что-то обдумывая, ходил в конце комнаты, дожидаясь открытия заседания.
Но начать собрание было не так-то легко: ежеминутно открывалась дверь, и членов комитета теребили, обступая со всех сторон, вновь прибывшие люди. Вопросов к ПК и предложений было бесчисленное множество.
Пришел балтиец-подпольщик. Высокая флотская фуражка сдвинута была набекрень, волосы растрепанными колечками опустились на выпуклый запотевший лоб, широкая бровь нервно вздрагивала, искрившиеся глаза искали кого-то. Они быстро пробегали по лицам и фигурам наполнивших комнату людей.
Вот они нашли того, кого надо было:
— Лев Михайлович!.. Лев Михайлович, можно вас на минутку?
Балтиец, протиснувшись в дальний угол комнаты и сняв фуражку, крепко и долго пожимал протянутую ему Львом Михайловичем руку.
— Привет дорогим балтийцам… Браво морякам!
Это был Михайлов-Политикус — хозяин помещения. Он ведал статистикой Биржи, и не раз в его чердачной комнате собирались нелегально питерские большевики. И теперь, в первые дни легального существования ПК, он председательствовал в его заседаниях.
— Что скажете, дорогой друг? Чем вы нас порадуете?
Он положил руку на плечо моряка, другой удерживал за талию Громова, с которым еще не закончил разговора.
Моряк, обращаясь к ним обоим, стал выкладывать свои предложения Петербургскому Комитету.
Дело вот в чем.
В борьбе с небольшими шайками протопоповских городовых партизанский метод борьбы увенчался успехом. Но должно быть совершенно ясно, что дои столкновении с настоящими воинскими частями, не вовлеченными еще в революцию, петроградский гарнизон боя не выдержит. А между тем носятся слухи, что с фронта идут большие силы для подавления революции. Этой возможной угрозе надо противопоставить революционную организацию армии. Но буржуазному думскому комитету это не под силу. Восставшие солдаты не могут ему доверять. Да и не следует: любая политическая подачка со стороны монархии может превратить Таврический дворец в несомненного изменника народному движению. Поэтому нужно немедленно иметь свою большевистскую военную организацию.
— Дело! — сочувственно похлопал Михайлов по плечу. — Дело. Создать свою, собственную, говорите, — а?
Моряк закивал головой:
— Обязательно, Лев Михайлович!
— Обязательно, друг мой, — повторил Михайлов. — И для распространения наших идей среди солдат и для организации войск. Защищать революцию еще придется. Громов, вы как думаете: придется ведь, — а? Зачем в долгий ящик откладывать? Оставайтесь: после доклада Молотова и обсудим. Идет? Ну вот и договорились. А договорились — значит, сделаем.
Он часто улыбался: очень спокойной, светлой улыбкой жизнелюба — этот человек с веселыми глазами, черными, по-киргизски опущенными вниз усами и рано поседевшими, серебряными волосами. Они слегка вились от темени до затылка. Плотные розовые щеки его были всегда выбриты, лицо — всегда гладкое и чистое.
В этой комнате было еще двое седоволосых, хорошо известных организации людей: от латышского района — сутуловатый, аккуратно одетый, с седыми усами над яркой губой, с белой лёгкой шевелюрой, выступавшей мысом на лбу, и большеголовый, лысеющий, с густой бородой — старый большевистский литератор Ольминский.
Он приехал из Москвы сюда для контакта. И — наткнулся в первый же момент на Бориса Авилова. Наткнулся — и был огорошен: Авилов развивал в разговоре типично меньшевистские идеи.
— Мы переживаем буржуазную революцию, — говорил он, — и потому задача и обязанность рабочего класса в том, чтобы полностью, не за страх, а за совесть, поддерживать Временное правительство.
— Так-таки не за страх, а за совесть? — холодно усмехнулся старик Ольминский и сердито засопел в бороду, зажав ее в кулаке.
Авилов произносил пространные доктринерские филиппики в защиту своей позиции, немилосердно цитировал свои старые статьи, несправедливо, мол, забытые последователями Ленина, вооружал свою речь тяжеловесными научными ссылками, предлагал всем устроить его, Авилова, доклады по теоретическим, программным вопросам.
Узколицый, стриженный бобриком, с бледным сухим лицом и суетливо загорающимися глазами, он переходил от одной группы пекистов к другой, выискивал своих сторонников, но их не оказывалось.
После первых же слов Молотова он поспешно вынул из пиджака распухшую от вложенных в нее бумажек клеенчатую записную книжку и стал в ней что-то записывать: он, конечно же, должен будет оппонировать!..
— Революция не кончилась. Она еще только начинается, товарищи, — сказал Молотов.
Голос его звучал тихо, но внятно. В меру длинные фразы выслушивались легко, без напряжения. Они были построены несложно, логически дополняя одна другую. Оратор довольно часто делал паузы, иногда и продолжительные: в десятка полтора секунд — но ни у кого в тот момент не было ощущения, что Молотов сбился в своей речи. Напротив, за паузой следовало начало новой мысли, еще до того не высказанной.
В речи не было громоздкого авиловского академизма, вызвавшего неприязненное отношение Андрея Петровича, но в ней была та уместная в серьезном и важном докладе обстоятельность, которая равно убедительна и для испытанного в партийной теории слушателя и для обучающегося тут же, на собрании, менее сведущего партийного работника.
Но самое главное и самое нужное: Молотов знал, чего хочет для революции, какой хочет ее видеть.
— …Революция только начинается, товарищи. Сейчас, в эти дни и ночи, когда нам с вами нет еще времени умыться как следует, еще, товарищи, дымится порох на баррикадах, и мы на них неотступно стоим с оружием в руках, — вот в эти часы в Таврическом дворце уже образовалось правительство. Из кого оно состоит? Это все не случайные люди. Это правительство помещиков и капиталистов. Оно стоит не за революцию, а против революции. Оно стремится утихомирить революцию. Да и как могло быть иначе, если во главе этого правительства стоит монархист князь Львов. Вместе с ним в правительстве кадет Милюков, который еще вчера умолял брата царя — Михаила Романова принять престол и спасти Россию. На гребень политической волны выкинуты такие люди, как ярый империалист Гучков — председатель военно-промышленного комитета, миллионер-сахарозаводчик — Терещенко и крупнейший фабрикант Коновалов. С этим правительством нам не по пути. Но в эти же часы образовалось новое, пусть слабое еще, но наше, рабочее правительство! Умейте увидеть его, товарищи. Оно выражает надежды и чаяния рабочего класса и беднейших слоев населения городов и сел. Что же это за правительство? Это, конечно, Совет рабочих и солдатских депутатов!
— Вот те как?!
В этом месте молотовской речи Авилов навалился грудью на стол и, откинув голову набок, иронически и вызывающе смерил взглядом докладчика.
— Серьезный вопрос… Будет вам ворошиться, — мягко проглатывая не дававшееся местами «эр», остановил своего суетливого соседа Калинин.
Он все время поглаживал, загибая вниз, узенькую метелочку своей седеющей бородки и очень молодыми — не по возрасту — глазами следил внимательно за лицами сидевших напротив него за столом. Михайлову-Политикусу он бросил смятую в шарик записочку и, хитро посмеиваясь одними глазами, выжидал, покуда тот прочтет ее. И когда Михайлов, прищурив глаз, утвердительно кивнул головой, — он глубоко откинулся на стуле и, продолжая как бы безмолвный разговор с единомышленником-товарищем, подняв руку над авиловской головой, сделал жест рукой, вызвавший одобрение у всех тех, кто его заметил. Жест означал: «Хлопнуть бы его как следует по башке!» — а пальцы одновременно показывали, что следовало бы авиловскую голову повернуть, как на винте, и выправить. И лицо Калинина стало суровым и сердитым.
Молотов также заметил этот жест, но не усмехнулся.
— Да… Вот те т-так! — чуть запнувшись, сказал он и очень серьезно посмотрел на своего нетерпеливого критика. — Тем, кто этого не понимает, нужно вправить мозги…
Калинин быстро-быстро закивал, подмигивая, и повторил свой жест над авиловской головой, и тогда уже Вячеслав Михайлович, отвернувшись в сторону, широко и несдержанно улыбнулся всем своим смуглым лицом и поправил пенсне, словно опасаясь, что оно может сейчас, от улыбки, соскользнуть на пол.
Это продолжалось несколько секунд. Потом он снова принял свою обычную позу: уперся обеими руками на стол, подался к нему плечами, чуть откинул назад темноволосую голову с неровным пробором сбоку, — и снова заговорил.
— Товарищи! Когда на пленуме Совета обсуждался вопрос о сдаче власти Временному буржуазному правительству, мы, большевики, внесли наши предложения. Находя, что Временное правительство является классовым представительством крупной буржуазии и крупного землевладения и стремится свести настоящую демократическую революцию к замене одной правящей клики другой кликой, а потому неспособно осуществить основные революционные требования народа, мы считаем, что главнейшей задачей сегодняшнего дня является борьба за создание Временного Революционного Правительства, которое только и сможет осуществить требования революционной демократии. Совет рабочих депутатов должен оставить за собой, полную свободу в выборе средств осуществления требований революционного народа.
Андрей Петрович сосредоточенно слушал Молотова.
Он впервые за эти последние годы слышал такую ясную, не оставляющую сомнений партийную речь. Она, как самые точные весы, взвешивала исторические факты и ни одного из них не сбрасывала пристрастно со счетов времени.
Читая впоследствии «Правду», Андрей Петрович часто вспоминал вечер на Кронверкском, тихий, но очень внятный голос Молотова, его опущенные к столу глаза — когда нужна была им помощь узенького, продолговатого, как докторский рецепт, листочка, на котором карандаш отметил для памяти десяток выписанных в ряд слов.
— …Совет в настоящем его составе, где нас, большевиков, — меньшинство, отверг наши предложения. Меньшевики всех мастей только тем и занимаются, что со всех сторон стараются подпереть буржуазное правительство. Формула «постольку — поскольку», предлагаемая некоторыми из нас, чтобы оказать все-таки какую-то поддержку Временному правительству, — это не наша большевистская политика. Мы не должны отказываться от лозунга Временного Революционного Правительства и путей его осуществления через Совет рабочих депутатов. Наша партия обязана возглавить эту борьбу. Революция не кончилась, она только начинается.
Три часа продолжались прения по его докладу. Когда кто-то вслед за Авиловым ударился в теоретические отвлеченности, стараясь обосновать необходимость формулы «постольку — поскольку», Громов вдруг тяжело засопел и негодующе перебил оратора:
— Нечего терять времени на праздные споры!
И он подскочил к Молотову.
Вячеслав Михайлович, сцепив руки на пояснице, стоял в кругу товарищей, Следы усталости осели капельками пота над его неровно подстриженными усами, закрывавшими вдавленные уголки рта, вокруг глаз легла тонкая синева, и вздулась короткой змейкой вена на одном виске.
— Вячеслав Михайлович… Я вот целиком на вашей стороне, — запустив пятерню в свои ниспадавшие кольцами волосы, искал с ним разговора моряк.
Он тихонько оттер локтем стоявших впереди него товарищей.
— Я тоже против всякой половинчатости. Но вот мы сейчас с Михал Степановичем говорили… — Он показал рукой на Ольминского, оставшегося сидеть за столом в беседе с Калининым.
— Да? — вопросительно посмотрел в ту сторону Молотов.
— Мы вот так говорили… Раз революции угрожает еще черная опасность, то, признавая, конечно, необходимость борьбы с Временным правительством, надо, поскольку оно сражается…
— Сражается! Ишь!.. Сражается, да в ногах валяется, — не сдержал себя Андрей Петрович и ощутил вдруг на своем плече легкое прикосновение молотовской руки.
— …сражается с остатками царизма, нам, пожалуй, необходимо его в этой борьбе поддержать. Но только в этой борьбе! — поспешил уточнить свою мысль моряк. — Только до тех пор, пока не минует непосредственная контрреволюционная угроза. Знаете, нецелесообразно убивать корову, предварительно не выдоив из нее молока!
— Корова-то — коровой, молочко — молочком, да в чьи оно подойники потечет?! — ободренный молотовским прикосновением, выкрикнул Андрей Петрович под общий смех стоявшей здесь группы. — Да и потом… быка доить собираетесь! — махнул он рукой, и снова все рассмеялись.
Молотовская рука спустилась вниз от плеча Громова и теперь крепко пожала его локоть.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ «Будем говорить откровенно!»
Он развернул газету, бегло ища заметку о себе. Он знал, что заметка обязательно должна быть в этом номере, и он быстро нашел ее на третьей полосе. И сразу же бросились в глаза неоднократно упоминавшиеся в печатной колонке его инициалы и фамилия.
Заметка гласила:
«4 марта министр Временного правительства Л. П. Карабаев вступил в управление ведомством.
Когда стало известно, что предстоит посещение министерства Л. П. Карабаевым, солдаты, несущие караул по министерству, попросили своего начальника дать им возможность встретить Л. П. Карабаева особенно почетным образом. По их желанию, весь караул был выстроен к моменту прихода министра перед зданием министерства.
При появлении Л. П. Карабаева вся команда взяла на караул. В ответ на приветствие Л. П. Карабаева солдаты громко отчеканили:
— Здравия желаем, господин министр.
— Благодарю вас, — ответил Л. П. Карабаев.
— Рады стараться, господин министр.
В министерстве, приняв всех собравшихся чинов, Л. П. Карабаев произнес речь, призывая к совместной деятельности на благо родины. Указав, что теперь дорога каждая минута и поэтому ныне не время для слов, Л. П. Карабаев обрисовал всю огромную важность настоящего момента.
Речь министра была покрыта бурными и продолжительными аплодисментами. Л. П. Карабаеву преподнесли старинную художественную иконку и цветы».
Письмо министра
Нам сообщают, что министр Л. П. Карабаев обратился со следующим письмом к президенту Вольного экономического общества:
«Считая, что с учреждением нового строя деятельность Вольного экономического общества, прерванная старой властью, уже восстановлена, я очень просил бы вас обратиться ко всем деятелям Вольного экономического общества, моим товарищам по общественной работе, с призывом немедленно прийти на помощь Временному правительству в разрешении хозяйственных и прочих экономических вопросов текущей жизни».
— Здравия желаем да рады стараться… Как о солдафоне написано! — недовольно забурчал Лев Павлович. — А о том, как говорил, что говорил — об этом ни слова!
В газете было не мало интересного:
Завтра ожидается в столице генерал-лейтенант Корнилов, назначенный командующим войсками Петроградского военного округа.
Зимний дворец объявлен национальной собственностью.
Японский военный атташе заявил, что хотя японское правительство и посольство официальных уведомлений о происшедших в России событиях не получили, тем не менее он приветствует доблестную армию Временного правительства, ставящего целью борьбу с Германией до победного конца.
Арестованные городовые, содержащиеся в помещении редакции газеты «Земщина», приспособленном под временную тюрьму, собрали между собой по подписке 215 рублей на… нужды революции! «Граждане! — писали эти городовые. — Нижние чины полиции, начиная с надзирателей, городовых и служителей, постоянно находились всей душой вместе с народом, радовались его радостями и делились его горем. Если с кем и имелись трения, то только с более неблагонадежными элементами, охраняя имущество и жизнь мирных обывателей. Если когда кому и не угодили, то во всяком случае исполняли волю, высшего начальства».
Лондон. Англия ничего не имеет против переезда Николая Романова в Великобританию, если Временное правительство решит избавить страну от дальнейшего его пребывания в России.
Москва. Покончил с собой выстрелом из револьвера один из ревностнейших сподвижников старого режима, виднейший охранник и провокатор, создатель целой системы политического сыска — С. И. Зубатов. Он жил в квартире своего сына, чиновника государственного банка. Последние дни страшно тосковал.
По всей, России — аресты представителей старой власти, назначение новых администраторов.
Лондон. Вся печать сочувственно относится к русской революции. Консервативная «Таймс» помещает передовую статью под заглавием «Германизм в России и конец столетних интриг».
Новым митрополитом петроградским и ладожским на место уволенного на покой Питирима назначен епископ уфимский Андрей (кн. Ухтомский).
Из одного из особняков на Дворцовой набережной доставили в градоначальство два чемодана вещей, принадлежащих Штюрмеру. Золота, увы, не оказалось. Зато нашли кожаный портфель с секретными делами бывшего премьера, обер-камергерский ключ в футляре, золотые запонки, драгоценностей на 100 тысяч и серебряной мелкой монеты на 400 рублей. Серебряные деньги конфискованы в пользу казны, так как сокрытие мелких денежных знаков преследовалось и при старом режиме.
Опубликовано постановление Совета рабочих депутатов о возобновлении трамвайного движения. Население столицы приглашается аккуратно вносить проездную плату и немедленно возвратить дежурным агентам службы движения ручки для управления вагонами, захваченные жителями в дни восстания против царского режима.
Образован совет офицерских депутатов.
…Все шло хорошо, но вот две заметки испортили настроение Льву Павловичу.
Одна из них говорила об освобождении из-под стражи бывшего царского министра финансов Барка. Новый министр финансов, недавний конкурент Льва Павловича, Терещенко изъявил желание иметь собеседование со своим предшественником и получить у него деловые сведения. Терещенко заявил при этом, что считает недостойным воспользоваться этими сведениями, данными лицом, поставленным в положение «пленника». Он пожелал вести разговор как «равный с равным».
Старая обида уколола сердце Льва Павловича: «Советуется молодой человек… Эх, мог бы и со мной посоветоваться!..»
И вторая мысль подкралась тут же: как это он сам не догадался потребовать освобождения Барка? Надо было, конечно, поспешить выказать великодушие незлопамятного победителя, каким он считал себя в данном случае.
К тому же, если разобраться по существу, то Петр Львович Барк — человек вполне корректный, к дворцовой камарилье непричастен и к нынешнему думскому правительству отнесся бы вполне лояльно.
Во всем этом Лев Павлович был вполне убежден. Будь он сейчас министром русских финансов, — не возражал бы иметь своим товарищем, такого сведущего в этой области человека, как Петр Львович Барк. Только бы тот согласился и не вызвал возражений со стороны членов нового правительства.
«Да и вообще, — думал Лев Карабаев, — не так уж разумно будет ломать весь старый административный аппарат, как того требуют уже некоторые безответственные «крикуны» из Совета рабочих депутатов… Аппарат государственной власти надо сохранить, но поставить только во главе его новых людей. Слава богу, революция как будто уже кончилась, и пора подумать о порядке…»
А Барка… ах, Барка он так глупо «пропустил»! Неужели он тоже мытарствовал все эти дни в отвратительном Трубецком бастионе?
Лев Павлович болезненно поморщился при воспоминании о Петропавловке.
День назад, сопровождая в числе других министра юстиции, генерал-прокурора Керенского, Лев Карабаев впервые в жизни увидел знаменитые казематы, вынесенные глухой стеной на Неву.
Автомобиль медленно въехал в крепостные ворота. Часовой остановил его и потребовал пропуск, — голос и рука Керенского устраняли легко все строгие препятствия. У вторых ворот — та же процедура. Вот направо — Петропавловский собор, усыпальница дома Романовых. Автомобиль сворачивает в противоположную сторону и останавливается у наглухо запертых тяжелых ворот. В них — калитка, охраняемая двумя стрелками. Калитка отворяется, и на пороге — офицер, теряющий свою служебную строгость, как только видит министров.
— Ведите! — хрипит, голос генерал-прокурора, и комендант послушно превращается в тюремного гида.
С правой стороны — высокая стена заднего фасада Монетного двора, слева тянется двухэтажная постройка бастиона, окрашенная когда-то желтой краской, теперь облупившейся, полинявшей от сырости. Посреди здания — входная дверь, а перед ней, в виде палисадника, — маленький дворик, огороженный высокой железной решеткой.
Вместе с другими Лев Павлович вошел в кордегардию, наполненную солдатами, потом по стертой каменной лестнице поднялся на второй этаж и вступил в тюрьму.
Комендант сообщил, что здесь восемьдесят камер, и ввел в одну из них, еще пустовавшую. Камера — три сажени длиной, пять аршин шириной — освещалась одним полукруглым, с железной решеткой, окном, проделанным почти у самого потолка. Заглянуть в окно не представлялось возможным, так как вся мебель, состоявшая из железной кровати и деревянного столика, крепко приделана была к стене.
Могильную тишину приятно нарушало от времени до времени сипловатое урчание воды в проржавевшем водопроводном кране. В камерах нижнего этажа узник слышал еще плеск Невы, лижущей крепостные стены. Бой часов Петропавловского собора особенно гулко и резко отдавался под сводами бастиона.
Перед правительственной комиссией открывали одну камеру за другой. Низкие массивные дубовые двери с широкими железными засовами и тяжелыми висячими замками требовали большого усилия оттягивавшей их человеческой руки.
Перед каждой дверью комендант — плечистый и широкогрудый штабс-капитан с крылатыми густыми бровями, волоокий, с бугристой кожей лица — лаконически докладывал:
— Жена бывшего военного министра Екатерина Сухомлинова.
— Бывший министр внутренних дел Александр Протопопов.
— Бывший председатель совета министров Борис Штюрмер.
— Бывшая фрейлина императорского двора Анна Вырубова.
Он обязательно называл всех заключенных по имени, и это немного смешило Льва Павловича.
Керенский забегал почти в каждую камеру, вел отрывистый двухминутный разговор с оторопевшим узником и выскакивал обратно, то криво усмехаясь нервно-подвижным ртом, то хмуря свои жидкие соломенные брови. На узника смотрел он проницательно, прямо в глаза, фразы бросал короткие, повелительные, а сам слушал невнимательно, будто заранее не веря в то, что ему говорят.
По выходе из Петропавловки он удовлетворенно осклабился и сказал Льву Павловичу, доверительно прикасаясь к его локтю:
— Теперь я смогу еще раз заверить революционную демократию, что правительство, мы с вами, крепко держим в своих руках подлейших сановников романовского режима. Не так?
С караулом у ворот он распрощался, подав каждому солдату руку в перчатке.
В автомобиле он словно невзначай обронил фразу, что следует, пожалуй, «изменить меру пресечения» одному из бывших государственных деятелей — человеку «вполне корректному», за которого, по секрету сказать, просили его из английского посольства. Он почему-то не назвал фамилии этого человека, но сейчас Льву Павловичу показалось (такова была мелькнувшая догадка), что им оказался тот же самый Барк.
И Карабаев снова подосадовал, что в освобождении своего бывшего противника он ни при чем…
Однако вторая газетная заметка принесла еще большее огорчение. Это потому, что она напомнила об Ирише и еще об одном человеке.
В газете было:
«КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОВОКАТОРА
Пишущему эти строки стала известна любопытная история одной провокации.
В декабре прошлого года, в ночь, когда был убит Григорий Распутин, группа социал-демократов захватила поблизости Юсуповского особняка небольшое типографское заведение для отпечатания в нем нелегального номера своей газеты. На рассвете почти все революционеры, а также приготовленные люди для разноски газет по фабрикам и заводам, были захвачены полицией.
Только сейчас удалось выяснить, что они были выданы охранке одним же из участников революционной группы, принимавшим непосредственное участие в печатании газеты, — некиим рабочим Михайловым, 23 лет. Уже теперь, пользуясь хаотическим положением дел в первые дни революции, сей сотрудник охранки проник в комнаты Таврического дворца, где свалены были бумаги охранного отделения, и удачно похитил оттуда свое собственное «секретное дело», а затем и уничтожил его.
Но провокатору не повезло. Вместе с «каиновыми бумагами» он выкрал для своей жены шелковый платочек деятельной сотрудницы комиссии по разбору бумаг старого режима, оказавшейся дочерью знаменитого члена Государственной думы, нынешнего министра Временного правительства, Л. П. Карабаева. Как теперь выяснилось, И. Л. Карабаева была ранее связана с подпольной с.-д. организацией, была в курсе произведенных в декабре арестов, и «дело» Михайлова, найденное ею, по роковой случайности, вручила, ничего не подозревая, в… руки самого Михайлова!
Ничего не зная обо всем этом, освобожденный из тюрьмы член комитета с.-д. организации С. Ваулин, пришедший к мысли о возможном предательстве Михайлова, у которого однажды скрывался, обратился, не встретившись еще с И. Л. Карабаевой, к своим партийным товарищам с просьбой тотчас же разобрать дело о декабрьской провокации.
Уничтоживший все следы своего преступления предатель Михайлов мог бы избежать наказания, но тут-то «подвел» шелковый платочек. Карабаевой. Она, уже по просьбе г. Ваулина, подоспела к разбирательству дела. На очной ставке с ней Михайлов отрицал, что именно он выкрал дело «Петушка» (такова была его кличка в охранке), что он, как и Карабаева, вынужден был выйти на время из помещения комиссии, и, следовательно, вором мог оказаться любой человек из числа присутствовавших тогда в комнате. В квартире Михайлова был произведен товарищами обыск, во время которого на видном месте была обнаружена прямая улика — носовой платочек. Михайлов передан органам революционной юстиции.
К сожалению, не удалось этого сделать в отношении крупнейшего провокатора г. Озоль-Озиса — казначея столичной организации с.-д. большевиков, уничтожившего ряд партийных документов и скрывшегося из Петрограда.
Как нам сообщили, этот достойный представитель азефовщины, столь усердно насаждавшейся охранкой, организовал большинство провалов с. — демократов за последний год — вплоть до ареста Петербургского Комитета накануне революции.
Ф. А-тов».— Скандал… Чистейший скандал… — поморщился Лев Павлович. — Стыдно будет в глаза смотреть.
Он встал из-за письменного стола, прошелся несколько раз из угла в угол по кабинету, потом остановился вдруг посреди комнаты, прислушиваясь к тому, что делается в квартире.
Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь из домочадцев услышал его шаги. Они означали бы, что Лев Павлович прервал на время свои занятия, и потому можно отвлечь его на какие-либо семейные дела. В ту минуту он не подготовлен был к встрече ни с женой, ни с дочерью. И потому именно, что уже решил устроить эту встречу сегодня же, не откладывая в долгий ящик, воспользовавшись воскресным днем, избавлявшим его от необходимости ехать с утра в министерство.
В квартире было тихо, в кабинет долетали только отдельные короткие звуки обыденной квартирной жизни. Кто-то прошел в ванную и, включая в ней свет, задел и сбросил на кафельный пол металлическую крышечку неисправного выключателя. Из кухни прорвался надтреснутый бас дворника, принесшего дрова, а из столовой — размеренный и прерывающийся звук ложечки о стекло стакана: это, конечно же, заботливая Софья Даниловна взбивала желтки с сахаром для избалованного материнским вниманием Юрки. Все как будто входило в свою колею: революция кончилась, — и сегодня первый день, когда карабаевская семья была в полном сборе и все могли бы увидеть друг друга в нормальной семейной обстановке.
Лев Павлович подумал об этом в связи с принятым решением.
«Без вспыльчивости, только без вспыльчивости… — уговаривал он себя. — По-хорошему, по-спокойному, — вот так надо».
Придя к этой мысли, он тихонько открыл дверь из своего кабинета и позвал жену.
— Проснулся? — спросил он о сыне.
— Сейчас, наверно, проснется. Это ведь мы с тобой, Левушка, ранние пташки. Что в газетах?
— Прочтешь потом…
— Попробуй: вкусно?
Софья Даниловна набрала на кончик ложечки желтой тягучей массы, лизнула языком гоголь-моголь и дала попробовать его мужу.
— Кондитер от Балле лучше не сделает, — одобрительно причмокнул он. — Отнеси, а сама приходи сюда. До завтрака еще есть время, — посмотрел он на часы. — А у меня дело…
— Что ты хочешь этим сказать? — остановилась Софья Даниловна в дверях.
— Мне нужно поговорить с Иришей в твоем присутствии.
Он старался улыбаться и казаться вполне беспечным, но Софью Даниловну не так-то легко было обмануть.
— Левушка, скажи мне, что ты хочешь делать? Что произошло? — внимательно посмотрела она.
— Ириша оделась? — не отвечал он на вопрос, — Ну, отнеси, отнеси… потом потолкуем. Попроси ко мне Иришу, а потом и сама приходи.
Через несколько минут вошла дочь: в пестром (синее с желтым) муслиновом халатике, в комнатных туфлях без каблуков, с неуложенными волосами, заплетенными наскоро в толстую длинную косу.
Карабаев взглянул на дочь: «Красивая она у меня… Но как будто похудела, осунулась…»
— Доброе утро, — легонько зевнув, сказала Ириша, подходя к отцу.
— Выспалась? Или нет? — потрепал он ее по плечу. — А хорошо ведь, правда, выспаться у себя дома, в своей чистой постели? Знать, что о тебе позаботятся, — а?
— Пожалуй! — зажмурившись на секунду, улыбнулась Ириша. — Признаться, я немного устала. Но это хорошая усталость, ей-богу!
— Я думаю: устанешь! Сколько ночей ты не ночевала дома… — всячески стараясь скрыть свое раздражение, сказал Лев Павлович. — Так и надорваться, родненькая, можно.
Он жестом пригласил дочь сесть рядом с ним на диване.
— Ох, ты мое блудное малое дитятко… — старался он шутить. — Совсем, знаешь, как в евангельском сказании. Помнишь, как там? Сын жил распутно, но возвратился к отцу и сказал: отче, я согрешил против неба и перед тобою. А что ответил отец, — а? Отец сказал: приведите откормленного теленка и заколите его: станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв — и ожил, пропадал — и нашелся… Так ведь, курсёсточка моя, — а? Отец всегда хочет простить своего ребенка, Ириша.
— То есть? Ты хочешь сказать, что я в чем-либо перед тобой виновата? — стали серьезны и выжидательны ее прозрачные карие глаза. — Ты хочешь поговорить сейчас со мной о чем-то важном?
— Если хочешь — да!
— О чем?
— Но прежде — я хотел бы спросить…
Софья Даниловна вошла в комнату, неся на блюдце стакан горячего молока и бутерброд с маслом и сыром. Она протянула блюдце, дочери: «Покуда там завтрак будет…» — и присела рядом с Иришей.
Тогда поднялся с дивана Карабаев и стал перед женой и дочерью. Он показался самому себе сейчас торжественным: он стоял, широко откинув в стороны руки, и широким взглядом блестящих глаз обводил членов своей семьи.
— Дорогие мои, будем говорить откровенно. Не правда ли? — столь же проникновенно-торжественно звучал его приятный голос.
— Пожалуйста, папа.
— Откровенно и спокойно, Левушка, — предостерегающе сказала Софья Даниловна. — Так, как следует любящим друг друга людям.
— Вот именно — любящим!.. Очень любящим и близким друг другу людям, дорогие мои. Об этом я и хотел спросить нашу. Иришу.
— А надо ли спрашивать? — покраснела она.
— Тем лучше… Я хочу говорить с тобой, Ириненок, как с дочерью, как с курсисткой, как с молодой гражданкой новой России, — тихо, но почти с пафосом трибуна, приготовившегося к публичной речи, сказал Лев Павлович. — Доченька, ты знаешь, как я тебя люблю! В самые горячие моменты своей политической жизни я ни на минуту — уверяю тебя — не забываю о вас всех, дорогие мои. Да как же иначе может быть, господа?.
На минуту глаза его стали влажны, и он отвернулся, поспешно закуривая папиросу.
— Не волнуйся, Левушка! — со строгой мольбой обратилась к нему Софья Даниловна и с явной укоризной посмотрела на дочь, призывая ее взглядом оценить душевное состояние отца.
После первой же затяжки Лев Павлович положил дымящуюся папиросу на краешек пепельницы и, медленно расхаживая по комнате; продолжал свою речь:
— События грандиозные… В несколько дней произошло прямо-таки чудо в России. Сбылись наши самые фантастические мечты. Скажу с гордостью, и вы, дорогие мои, это сами знаете: здесь, вот в этой самой комнате, сколько раз, господа, собирались те самые люди, которые стали сейчас во главе России!.. Мне кажется, Ириненок, что ты тоже должна гордиться этим. А?
Дочь молчала.
Но, может быть, это не была форма возражения — это молчание? Может быть, Ириша почтительно только слушала, просто не желая прерывать отца? Лев Павлович искоса посмотрел на нее.
Он заметил, что недопитый стакан молока больше уже не нужен ей, — он взял его из рук дочери и поставил вместе с блюдцем на стол.
— Вы понимаете, дорогие мои… Нужно рассуждать, как говорится, масштабно… Да, да!.. Ты, Ириша, — курсистка, ты учишься в университете. Что это означает? Ты когда-нибудь думала об этом?
Дочь подняла на него глаза, и он прочел в них любопытство, доверие и внимание уважительно прислушивающегося человека.
— Университет — это означает: развивать в себе, дочка, дух исследования. Вот что это означает! Могучий дух исследования, которым интеллигенция должна обогатить всю страну. Ты должна быть предана университету — и больше ничему!. Особенно в наших новых условиях. Как ты считаешь, Ириненок? Университет, как хранилище всех отраслей человеческих знаний, дает более общее, разностороннее и общечеловеческое развитие и содействует выработке более законченного миросозерцания в молодежи, чем любая модная партийная программа… Вот, я сам — политик, член определенной партии, но для молодежи… для молодежи я желаю только университета! — лукавил Лев Павлович, нарочно растерянной улыбкой и подмигиванием жене показывая свое якобы отступничество в интимной семейной среде от некоторых своих партийных принципов. — Затем, посмотри, Ирина, — все по-разному называл он сегодня дочь, стараясь все время быть с ней поласковей, дабы не вспугнуть. — Ты сейчас поймешь, о чем я хочу сказать… Никогда еще внешняя жизнь человека не была так богата и украшена удобствами и изобретениями, как в наш век. Самый бедный человек пользуется в наше время такими удобствами и приспособлениями в жизни, о каких не мог и подумать, например, величайший богач два века… век назад!
— Ну-ну! — впервые за время его речи прервала его Ириша ироническим восклицанием, и Лев Павлович насторожился.
— А вот, голубушка, — сказал он, — внешняя жизнь делает гигантские шаги вперед, обогащает человечество.
— Взаимоистребление, например, на войне! — резко пошевелилась на своем месте Ириша, и полы ее пестрого халатика отвернулись, выставив голую, повыше колена, ногу.
Мать заботливо, назидательным жестом тотчас же привела в порядок ее одежду:
— Почему без чулка?
— Ну, знаешь, Ириша, это особый разговор! — сухо сказал Карабаев и вновь принялся за папиросу. — К тому же, — угрожал он, — я знаю, откуда он исходит!.. Ты выслушай меня. Внешняя жизнь — вперед, а вот внутренняя жизнь, жизнь человеческой души… не делает еще в обширной масса народа заметных успехов. Напротив! Есть целые группы людей… они, в лучшем случае, обладают полуобразованием, уличной эрудицией. Да, да, — уличной, не больше!.. Они, — как бы это сказать?.. Они как бы отшлифованы трением в сильном общественном движении нашей русской интеллигенции. Но душевная сторона этих людей не затронута истинной культурой, и потому они сами неизбежно аморальны! Это надо помнить, Ирка!.. У них непросвещенная душа. Душа этих людей знает один лишь эгоизм — иногда замаскированный, иногда же без всякой личины. В жизненной давке, в конкуренции — люди эти, без всяких околичностей, сбивают, устраняют с дороги без пощады других людей. Устраняют жестоко, немилосердно. На общество они смотрят не как на мирное содружество, а как на беспощадную борьбу. И почему-то они величают ее громко: «классовая»!.. Непросвещенная у них душа, Иринка… Непросвещенная, поверь мне! Свирепая, ничем неодолимая: жажда наслаждений, ненависть к более возвышенным душевно людям, масса мелких, дрянненьких чувств — вот что составляет содержание таких душ…
В голосе Льва Павловича уже звучали злоба и раздражение. Они стали столь заметны, что жена и дочь обеспокоились и насторожились, и Софья Даниловна, предвидя бурю, стала успокоительно поглаживать Иришину руку.
Карабаев оборвал вдруг свою издалека шедшую к истинной цели, «предварительную» многословную речь и, словно сам сейчас забыл о ней, сдавленным, глухим голосом спросил дочь:
— Я тебя прошу… прошу тебя, дочка моя, совершенно правдиво сказать нам с мамой: кто такой господин Ваулин и в каких ты с ним отношениях?
Он увидел, как густая краска залила теперь Иришино лицо, и оно стало еще красивей, чем было: настолько красивей, что оно показалось ему менее знакомым, чужим, не Иришиным. Он увидел горячий свет в ее настежь открытых глазах и ее сжавшийся упрямо рот — и понял, что те худшие подозрения, которые вот уж год как он питал, оправдались сейчас и не требуют никаких более подтверждений.
Все было ясно… чудовищно ясно! И вот сегодняшняя газетная заметка…
Ему хотелось выкрикнуть что-то гневное, больное, но он придвинул к дивану стул и опустился на него, наклонившись корпусом к дочери.
— Ты уже знаешь о Ваулине? — тихо спросила она, и Льва Павловича досадливо поразил спокойный тон ее голоса. — Откуда?
— Мало ли откуда могут знать родители!.. — сказала Софья Даниловна.
Переменив живо позу, она уселась поудобней на диване: так, чтобы получше видеть все Иришино лицо.
Теперь-то она, мать, вмешается в разговор и не откажется сама повести его. Пусть Левушка предоставит все ей…
— А ты хотела скрыть от нас? — спросила она у дочери.
— До поры до времени.
— Но кто же он такой в конце концов?
— Ты его видела, мама, у нас.
— Помню… С седыми височками, — этот?
— Ты сама говорила: умница…
— Вот этого не помню! Но все-таки — кто он?
— Кто? Вот кто! — выкрикнул Лев Павлович.
Он соскочил со стула, схватил лежавшую на письменном столе газету и, ткнув пальцем в столбец, дал ее жене.
— Твой родственничек, Соня, очевидно, с ним лучше тебя знаком! Твой родственничек, дорогая моя!.. Полюбуйся на подпись!
Только сейчас ему пришло в голову об истинном авторе заметки — Фоме Асикритове, и это еще больше подлило масла в огонь.
А может, и сама Ириша рассказала ему обо всем, и этот «писака», не пощадив ее же самое, ради сенсации тиснул ее рассказ в газете?.. Подлец!
Ириша и Софья Даниловна быстро пробегали глазами газетную заметку, — Карабаев пристально наблюдал в этот момент за лицом дочери. Ему казалось, что прошла не минута, а много больше, покуда она подняла голову.
— Скандал… Чистейшей воды скандал! — вполголоса, гневно и печально комментировал он молчаливое чтение газеты. — В прошлом году я догадывался… я мог кое о чем догадываться, но такое… такое, господа? Надо же понимать, кто твой отец!
— Да, мне это надо понимать… А в чем собственно скандал? — наконец, подняла голову Ириша. — Вы хотите правды? Я вам ее всю расскажу, — посмотрела она на мать. — Я и так собиралась… Да, будем говорить откровенно!
…Общий завтрак сегодня не состоялся. Напрасно Клавдия, прислуга, несколько раз на цыпочках подходила к дверям карабаевского кабинета с тем, чтобы звать всех к столу.
Она прислушивалась: ах, все одно и то же!
Отчего бы это плакать такой счастливой хозяйке, как Софья Даниловна, и с чего бы до хрипоты и кашля сердиться барину? Был он такой ласковый, а как стал министром — так чего-то и не узнать даже!
Шли бы уж к столу: а то котлетки все высохнут на сковороде, — кто виноват будет?
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ Дело № 0072061
Перед Петром Лютиком, историком-следователем особой комиссии Временного правительства, лежала груда писем, вытащенных из шкафов военно-цензурного комитета. Это были письма пленных русских солдат и переписка с ними их родных.
Он быстро пробегал глазами каждое письмо, наиболее интересное тут же передавал сидевшему напротив Асикритову.
«Дорогой Митя, вы пишете из плена, чтобы я снялась на карточке в платье с розочками, но как узнала про то ваша мамаша, то сильно обиделась. Я, говорит, заботюсь о нем и шлю ему всего, а он еще что там выдумывает: чтоб ему портреты!»
«…Ты, тятька, не признавайся, что сдался в плен, а говори, что от армии отстал».
«…Брата твоего Лейзера привезли без обеих ног и одной руки. Положили в кровать и никому не показываем».
«…Может быть, есть уже которые ранены и возвратились домой, то, вероятно, рассказывают фактически все походы солдатского житья во время военных действий и про офицер-подлецов. Пущай только война кончится, так мы всех разделаем под орех».
«…Я узнал, что вы продали мою гармонию за 8 рублей, а она стоила 22 рубля. Если вы не отберете гармошку, вы мне не родители будете, а собаки. Посылайте сухарей. Жив, здоров, чего и вам от господа желаю. Как покидаем плен, обязательно делать бунт будем, хозяев и помещиков до конца выстругаем».
«…Дорогое дитя наше, Ильюша! Сегодня мы послали тебе маленькую посылку, состоящую из восьми с половиной фунтов ржаных сухарей и одной сатиновой черной рубахи. Дитя наше, с получением сухарей даем тебе наставление, чтобы ты не жадничал, то есть не ешь сразу помногу, а так приблизительно по 3 или 4 сухарика в день, а в первый раз съешь только 2 сухарика и то с горячей водой. А если ты сразу съешь много сухарей, то ты заболеешь и умрешь».
«…Посылаю тебе пару портков и рубах. Смотри же, Сеня, ходи в баню почаще».
«…Соберите, Евгений Амосович, мои фотографии и письма с моими лучшими чувствами вашей бывшей невесты и устройте маленький костер. Я с вашими сделала то же самое. Вам, может быть, это будет обидно, но ничего не поделаешь. Будьте счастливы с другой!»
«…Те приятели, которых ты знаешь по заводу, Вася, так они то по тюрьмам, то погнаны на позиции, а кто и задушен веревочным галстуком. Придет время — расчет сделаем. Так что ты, Вася, держись и знай, что там в бараке делать. Россия будет наша, как есть самое главное рабочие и народ».
«…У нас царь пьянствует, а молодая царица б…ует. Дела твои, господи! А по им да буржуям из пушек стрелять — да и то мало!»
Человеческие документы говорили сами за себя.
Если Фома Матвеевич хочет писать статью, ему мало что останется добавить, чтобы нарисовав уголок жизни вчерашнего исторического дня. Да и сам он, Петр Михайлович Лютик, не отказывается, признаться, от этого намерения. И не только статью там для газеты, — он мечтает, если на то пошло, написать целую книгу. Даже заглавие для нее наметил: «Канун свободы».
Кому же, как не ему, Петру Лютику, историку-обозревателю, да к тому же хорошо знающему армию и ее людей, — кому же легче всего написать такую книгу сейчас? Вот нагрузили только работой в этой самой «особой» правительственной комиссии — передохнуть некогда!
Сам Керенский вызвал и приказал заняться всеми политическими архивами. А их-то сколько, — шутка сказать! А часть работы нужно делать быстро: обнародовать списки провокаторов, на чем очень настаивает Совет рабочих депутатов.
Вот сиди и сверяй все сам. Целая подкомиссия работает, а ты вот один и сверяй все сам: ничтожная, скажем, ошибка в инициалах — и можно опозорить невинного человека и упустить виновного. Ответственность-то какова?
А потом ведь — надо разобраться и по существу деятельности того или иного сотрудника департамента полиции: иной действительно подлец и много дел натворил, а другой — только в списках значится в силу тяжелой, например, случайности. Такие случаи надо проверить и зря не губить людей: они могут еще принести пользу. Без году неделя прошла, а вот уже есть добровольные заявления от лиц, умоляющих разобраться в их связях с органами павшего режима.
…Штабс-капитан Лютик — человек, по собственному уверению, занятой, обремененный важными государственными обязанностями, — не спешил, говорил обо всем медленно и обстоятельно, по-лекарски, и только иногда казалось его собеседнику, что рассказчик медлителен, потому что сам охотно прислушивается к своим собственным словам — приятным ему и запоминающимся.
Рука его не расставалась, играя всеми пальцами, с квадратной русой бородой, спускавшейся с наполовину выбритых щек — полных, мячеобразных. Глаза, веселые и внимательные, были светлы, как голубые капли из прозрачного, искрящегося на солнце озера.
«Толстяк… оптимист по природе», — нехотя доброжелательно следил за его лицом Фома Матвеевич.
И в то же время он чувствовал, что этот спокойный, мягкий человек может стать вдруг — почему-то — чужим и враждебным, — стоит только им разговориться на другую тему. Встречаясь с ним у Карабаевых, Фома Матвеевич не раз испытывал это же самое чувство неясного внутреннего предубеждения, но причины, чтоб укрепиться в этом чувстве, настоящей причины, не находилось.
— Я к вам по важному делу, — сказал Асикритов.
Историк штабс-капитан ласково и предупредительно кивнул головой, но не счел нужным осведомляться, какое именно дело привело к нему журналиста.
— Я советую своим сотрудникам: будьте внимательны ко всем тем, кто добровольно пришел покаяться, — говорил он. — Проверьте сие показание и потом доложите мне: подлеца покараем, а запутавшегося человечка… — И вместо слов Петр Михайлович пренебрежительно махнул рукой, на секунду отняв ее от бороды. — Медленным, трудным путем, господин Асикритов, восходит человечество к своему совершенствованию, и не один крест суждено ему нести на этом пути. Его удручают и тяжесть недугов телесных и материальных, и мучения совести, терзающейся за ошибки против морали, религии или против дружбы, в том числе и политической, и — страх, всегдашний страх перед законной карой! Полагаю, господин Асикритов, что у каждого в жизни были минуты, когда, усталый, надломленный, теряющий надежду, склоняется он под тяжестью своего креста, а вокруг такого человека теснится… готовая растоптать и смять все встречное… человеческая молва. Не правда ли? Свались только с ног, а за тычками дело не станет. И вот, чтобы поднять, поддержать, оградить такого падшего, существуют своего рода санитары на поле жизненной борьбы. Врачи — для недугов телесных, духовник — для облегчения угнетаемой совести, адвокаты — для защиты от грозного меча закона.
— Ну, а следователи для чего? — посмотрел на него в упор Фома Матвеевич.
— Следователи в наших условиях раскрепощенного государства должны совмещать в себе обязанности и того, и другого, и третьего, плюс еще — прокурора, конечно, — заулыбался, спокойно отражая вопрос журналиста, Петр Михайлович и, словно только сейчас услышав его просьбу, все так же предупредительно спросил: — Чем могу служить вам, кроме вот этой экзотической корреспонденции?
И он положил свою короткопалую, пухлую, с глубокими ямочками, белую руку на пачку отобранных писем.
— Мне нужно проверить, при вашем авторитетном содействии, одного человека! — шел прямо к своей цели Асикритов.
— Для чего? — стал внимателен и серьезен Лютик и почему-то посмотрел на часы и приложил их для проверки к уху.
— Для того, — быстро нашелся Фома Матвеевич, — чтобы поступить так, как вы столь разумно советуете: зря не шельмовать человека!
— Я очень рад, что мы сошлись во взглядах.
— Я — тоже! — стараясь всячески скрыть свою иронию, сказал Фома Матвеевич: причина давнего, но неясного раньше предубеждения была найдена.
— Что за человек это? — заинтересовался следователь особой правительственной комиссии, назначенный «самим» Керенским, и взял в руки тоненький карандаш, готовясь записать фамилию, неизвестного.
Но фамилию журналист сразу не назвал. Он предпочел вкратце рассказать о своих подозрениях, сопоставить неожиданные всегда встречи свои с этим «неизвестным» и всегда в одном и том же доме на Ковенском, отметить весьма странное поведение этого человека в день обыска на секретной квартире департаментского «кита» Губонина и, рассказав об окурках в губонинской пепельнице, вытащил из жилетного кармашка завернутую в бумажку папиросную гильзу с маркой «Стамболи» и показал ее Лютику.
— И все? — спросил тот, выслушав рассказ.
— Если не считать того, что этот человек, эсер, несколько лет назад отбывал каторгу на «колесухе», а теперь — правая рука одного фабриканта! — выпалил Фома Матвеевич и, словно ужаленный своими же словами, соскочил со стула и пробежал вдоль длинного письменного стола штабс-капитана Лютика.
— Странно… — задумчиво сказал Петр Михайлович и снова посмотрел на часы. — Никакая медленность не велика, когда речь идет о человеческой жизни, — все так же задумчиво, как будто что-то перебирая в памяти, произнес Петр Михайлович, пряча свой взгляд от возбужденного собеседника.
Нет нужды спрашивать у журналиста, кто таков этот «неизвестный» человек: штабс-капитан Лютик обо всем догадался.
…Два дня назад неожиданно заехал Лев Павлович Карабаев.
Друзья обнялись, расцеловались, поздравили друг друга с «нарождением новой России» (впервые после революции увиделись), и после десятиминутного Разговора на злободневные политические темы министр Временного правительства неожиданно сказал:
— А я ведь к тебе, Петруша, с просьбой.
И старый друг, Петруша Лютик, конечно же, ответил, что нет такой просьбы, которую он не выполнил бы для Левушки.
— Керенский сказал мне, что к вам в комиссию поступили, в числе прочих, архивы департамента полиции?
Лютик, широко раздвинув руки, показал жестом, как велики все эти архивы.
Лев Павлович вытащил свою записную книжку, нашел в ней нужный листок и, держа его перед глазами, сказал:
— Пожалуйста, голубчик, заметь себе: среди дел от номера 72000 и до конца этой тысячи. И даже верней всего — в первой сотне этой тысячи. Дело Ивана Митрофановича Теплухина. Ну… в общем, человек близкий брату Георгию. Был настоящим революционером. Да и когда?.. В самые суровые годы, брат! И никогда не кичился этим… не в пример теперешним! — раздраженно прохрипел Карабаев.
И лицо вдруг стало тоскующим и сострадательным. Ах, ни у кого не было таких вдумчивых и тоскливых серых глаз, не было такого вздоха усталости и искренности, словно из настежь развернутой груди, как у всем известного думского депутата Льва Карабаева…
— Ай-ай… Его очень преследовала полиция? — сочувственно спросил давний либерал, штабс-капитан Лютик.
— Очень! Она топтала сапогами его душу. Но вот… пришла свобода, а человек опять должен мучиться.
— Почему? — недоумевал уже друг Петруша.
— Потому что у революционеров существует глупый… какой-то глупый арифметический закон для оценки человеческих поступков. Причина поступка не принимается во внимание этими дервишами духа! Понятно тебе?
Лютик выжидающе молчал, не смея утвердиться еще в своей догадке.
Он закурил и пустил очень густое дымное кольцо. Оно поплыло, волнообразно раскачиваясь в воздухе, высоко вверх и потом распалось на несколько маленьких растаявших колечек.
— Мастак! — залюбовался его уменьем Лев Павлович. — Понимаешь, Петруша, вот так и это дело, о котором я тебе говорю. Не дело — а дымное колечко, которое, ей-ей, должна превратиться в ничто! Он был у меня, рассказал всю правду.
— Кто?
— Да сам Теплухин! Стал бы человек приходить ко мне, министру, человеку новой власти, если бы чувствовал, что его совесть действительно не чиста?
«Стал бы!» — захотелось ответить Лютику, но он промолчал.
— Ты вникни в это дело, Петруша. Очень прошу, тебя, вникни! — продолжал Карабаев. — Ты ведь сам знаешь… У каждого в жизни бывают минуты, когда, усталый, надломленный, теряющий надежду, склоняется он под тяжестью своего жизненного креста, а свирепая всегда молва человеческая…
И тут он своим грудным, проникновенным голосом, снискавшим ему немало поклонников на думских хорах, произнес краткую речь о санитарах на поле жизненной борьбы — ту самую речь, которую Петр Михайлович впоследствии повторил от своего имени нетерпеливому журналисту.
Но сдержанный штабс-капитан, несколько чуждый патетики своего старого друга, пропустил в его речи несколько фраз:
— …Этой потребности в сочувствии, — убеждал его Лев Павлович, — соответствует обязанность свято хранить услышанные признания. Горе духовнику, Петруша, выдающему тайну, которая ему доверчиво сообщена. Ему, как говорил в древности Номоканон, надлежит «ископать язык»!.. И потом, знаешь, Петруша, — ох, все правы и все виноваты. На то и страна у нас такая — Россия!.. А к тому же, — Лев Павлович оглянулся по сторонам, проверяя, одни ли они сидят в кабинете, не переступил ли в эту минуту порог кто-либо третий. — К тому же, Петруша, имеет смысл иметь с нами каждого лишнего человека, которого «советчики» спасти и не подумают, а погубить — захотят. И он будет знать, кто его спас.
Лютик невольно улыбнулся в свои нависшие пшеничные усы.
— Я так занят, так занят, родной Петрусь, а приходится вот чем заниматься, — менял искусно Карабаев тему разговора. — В мое министерство поступают отвратительные сведения.
— Да что ты?
— Анархия!.. Началась бесшабашная мужицкая конфискация помещичьих земель. Никакого политического рассудка, никакой политической программы — сплошное беззаконие… Черт знает что! Это гибель для продовольственного дела. Помещик был, и помещик, как хороший хозяин, должен остаться. Яровые посевы неизбежно резко сократятся, — вот увидишь. Они и без того уже сокращаются. Особенно — на юге, особенно — специальные культуры. И в частности — свекла. (Он произносил это слово — «свекла»).
— Брат писал? — осторожно спросил Лютик и пустил последнее колечко дыма.
— Да, брат, — немного смутившись, сознался Лев Павлович. — Но и официальные донесения вполне совпадают! — желчно откашливаясь, изменил он в третий раз тему беседы. — Они все — анархисты. Ты знаешь, они все нас терпеть не могут, — я в этом убежден, Петруша… Все эти мастеровые, матросы, солдатня ненавидят нас и… вызывают в нас взаимное чувство. Мы в правительстве постановили вызвать сюда генерала Корнилова: популярен в армии и может прибрать к рукам! Скажу по секрету: Павел Николаевич предлагает вывести как можно скорей гарнизон на передовыё позиции. Я — целиком за! Целиком! А не то… Ох, боюсь: вызвали мы из волшебной бутылки духов, которые, того и гляди, погубят все наше дело. Боже, если бы чудо! Хороший монарх и хороший парламент, — честное слово, если ты хочешь знать! И потом… появились эти самые… ну, как их… большевики-ленинцы — люди с завязанными глазами, они ничего не хотят видеть, кроме своей фантастической партийной программы. С меньшевиками сговориться в любой час можно, а вот эти!.. Они разрушители, соблазнители… Да, соблазнители!
— Так… сделаешь? — прощаясь, сказал Лев Павлович и сделал жест рукой, как бы желавший смять и уничтожить ненужную бумажку. — Надо, Петруша, спасти человека. Люди в нашей стране не валяются… Революция, революция!.. Как будто какой-нибудь Теплухин, сын моего земского фельдшера какой-то, мог вредить этой самой революции?!. — презрительно спорил он с кем-то чужим ему, невидимым. — Я успокою Теплухина, — правда? Ну, спасибо, Петрусь, спасибо. Конечно, он и догадываться не будет, что я был у тебя… Если хочешь, я, напротив, скажу ему, кто его подлинный благодетель?
— Нет! — твердо и поспешно ответил штабс-капитан Лютик. — Ни в коем случае.
— Как прикажешь. Я тебе позвоню, Петруша. Ладно?
— Звони, дорогой.
Он проводил Карабаева до самого вестибюля, и обоим было приятно видеть, как многочисленные сотрудники и посетители сената, встречавшиеся на пути, с почтительным любопытством провожали глазами всем известного нового министра и, очевидно, — его закадычного друга, потому что тот вел Карабаева под руку.
…Это было два дня назад. А сейчас «Дело № 0072061» на имя Ивана Митрофановича Теплухина, «штучника» под секретной кличкой «Неприветливый», лежало прочитанное Лютиком в его портфеле на служебном столе, вдоль которого, заложив руки в карманы, нервно шагал низкорослый, пучеглазый журналист.
— Фамилия этого человека? — вспомнив о том, что нужно все же спросить о ней, наклонил выжидательно голову Лютик.
— Иван Митрофанович Теплухин.
— Хорошо, прикажу проверить, — пообещал следователь особой правительственной комиссии представителю прессы и распрощался с ним приветливой улыбкой голубых веселых глаз и пожатием далеко вынесенной вперед теплой руки.
Часы показывали ровно пять, когда на письменном служебном столе раздался телефонный звонок и в снятую с рычажка слуховую трубку — знакомый и жданный голос Льва Павловича:
— Петр Михайлович?
— Да, Левушка. Ты очень аккуратен.
— Ах, ты, Петруша? Здравствуй, милый. Звоню из Мариинского, пользуюсь перерывом в заседании… Опять о том деле, помнишь?
— Ну, как же!
— Человек этот сам на себя не стал похож. Он может ехать спокойно? Как?
— Я полагаю.
— То есть?
— Никакого дела у нас нет, — сказал Лютик, а сам зажмурил глаза, как будто кто-нибудь в этот момент мог увидеть, что они лгут.
— Как понимать тебя?
— Буквально, Левушка. Нет — значит нет.
— А где же оно?
— Оно сгорело.
— Ах, так… Спасибо, Петруша. Большое спасибо…
— Чего там «спасибо»? — немного покоробила эта чересчур откровенная благодарность осторожного Петра Михайловича. — Оно сгорело при поджоге здания революционной толпой.
— Вот оно что?! Ну, ведь это в конце концов все равно, — не правда ли?
— Конечно, Левушка.
— Значит, ты выяснил?
— Что значит: выяснил? Оно не одно, надо думать, горело. Сотни! В том числе и это…
— Очень любопытно, какие это другие сгорели? Правда? Ну, спасибо тебе, голубчик.
— Не за что, Левушка. Я лично не поджигал, не уничтожал.
— Что ты, Петрусь? Кому и в голову придет такое? В воскресенье жду тебя к нам.
— Буду очень рад, Левушка.
«Кому и в голову придет… А как полагал, — спросить бы его? Уничтожить дело кто должен был бы? Ведь я, именно я, никто другой! Или как? Пришло это ему в голову или нет? — досадливо размышлял Петр Михайлович, положив на место телефонную трубку. — Нет, на всякий пожарный случай мы не так поступим. Дружба — святое дело, но…»
Папка № 0072061 лежала в портфеле и вместе с ним доставлена была на квартиру Лютика.
Из портфеля она перекочевала в один из накрепко запирающихся ящиков массивного бюро павловских времен, где историк и военный обозреватель, Петр Михайлович Лютик, хранил немало ценных и еще не обнародованных документов.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Восторженное сердце
Предварительное дознание по этому делу велось так.
Следователь. Вы знали и раньше Пантелеймона Кандушу?
Федя Калмыков. Знал, но не так давно. Совершенно случайное знакомство, товарищ следователь.
Следователь. И вы тогда же знали, с кем имеете дело?
Калмыков. Конечно, нет! Об этом я узнал только в конце прошлого года, но с тех пор я его ни разу не видел.
Следователь. От кого узнали?
Калмыков. Мне об этом сказала… моя хорошая знакомая.
Следователь. Кто именно?
Калмыков. Высланная из Петербурга под надзор полиции Людмила Петровна Галаган. (Не мог упрятать счастливую улыбку при упоминании ее имени.)
Следователь. А департаментского чиновника Губонина вы не знали?
Калмыков. Откуда же? Естественно, нет!
Следователь. Теплухин знаком был с Кандушей?
Калмыков. Мне казалось раньше, что нет.
Следователь. Раньше? А теперь?
Калмыков. Теперь мне кажется многое странным. Да и не только уже странным, товарищ следователь.
Следователь. А что именно?
Калмыков. Одно то, что арестовали мы этих людей в его квартире… Почему они оказались там, да еще приехали с запиской от него? Затем я вспоминаю об одном письме…
Следователь. Каком?
Калмыков. В Петербурге как-то Кандуша в пьяном виде бахвалился, показывал мне письмо… То есть не показывал, а читал письмо, якобы адресованное ему, а на самом деле оно было адресовано Ивану Митрофановичу Теплухину. Почему это письмо оказалось у него?
Следователь. Можете вы подозревать Теплухина в причастности к охранке?
Калмыков. Это было бы чудовищно! Он был революционером прежде, на каторжных работах…
Следователь. Расскажите, как произошел арест.
Калмыков. Чей?
Следователь. Губонина и Кандуши.
Калмыков: Вкратце вы уже знаете из протокола, обставленного в пикете на Фундуклеевской улице, в редакции «Киевской мысли». А было это так… Когда я увидел Кандушу, каюсь — я попятился назад от неожиданности. Я ничего не понимал, но в то же время скорей почувствовал, чем понял, что нельзя дать ему улизнуть. Я, представьте, вынул вот этот браунинг и что-то крикнул… и довольно громко, вероятно. Кандуша остановился на одном месте, а на мой крик прибежала из соседней комнаты теплухинская экономка.
Следователь. Губонин не вынимал оружия?
Калмыков. Нет.
Следователь. Как он держал себя?
Калмыков. Насколько мне помнится, он все время оставался сидеть на диване, не двигался с места.
Следователь. Игра на спокойствии… та-ак. Продолжайте.
Калмыков. Я потребовал от экономки, чтобы она сдала мне немедленно все ключи от парадной двери и сама вышла на площадку.
Следователь. И что же? А ключи от черного хода?
Калмыков. Нет.
Следователь. Не догадались в тот момент?
Калмыков. Как видите, обо всем догадался… Я знал, что в квартире нет черного хода.
Следователь. Ага… Ну, дальше.
Калмыков. Она тряслась вся, но выполнила мои указания. И довольно проворно.
Следователь. Чем вы объяснили ей всю сцену?
Калмыков. Напугал, что это громилы!.. С браунингом в руках я отступил в прихожую, потом в открытую уже дверь выскочил с ключом на площадку, захлопнул и закрыл на ключи парадную дверь.
Следователь. Никто из них не пытался вам помешать?
Калмыков. Кажется, Кандуша метнулся куда-то в сторону, но это мне не помешало выскочить за дверь.
Следователь. Ну, и как же дальше?
Калмыков. Я кликнул народ со двора, люди привели солдат с улицы. Дальнейшее вы знаете.
Следователь. Еще один вопрос. Вы знаете адрес госпожи Галаган? Где она теперь?
Федя смущенно заулыбался:
— А что собственно?
— Имеется возможность, вероятно, поставить ее в известность об одном немаловажном для нее обстоятельстве, — глядя вбок бесцветными, водянистыми глазами, осторожно сказал следователь.
Федя (горячо). Вот оно что!.. Вы допрашивали уже обоих. И Губонина?..
Следователь. Неужели думаете, коллега, за четыре дня не успел?
Федя. И что же?
Следователь (не отвечая на вопрос). Где она живет?
Федя. Сейчас — здесь, в Киеве.
Следователь. Где именно, будьте любезны?
Федя. Тарасовская, тридцать восемь…
Следователь (взглянув на лежащий перед ним листок). Та-ак. В том же доме, где и бы? А номер квартиры?
Федя (подчеркнуто спокойно). Номер?.. Номер — один.
Следователь. Значит, в той же квартире, где и вы?
Федя (с той же интонацией). Да, значит!
Следователь. Давно?
Федя. Второй день. Она приехала из провинции, из деревни… Ну, а что такое, товарищ следователь?
Но тот уже не счел нужным продолжать допрос, — протянул длинную костлявую руку на прощанье: она оказалась твердой и жесткой в рукопожатии.
— Мы, вероятно, через день-другой уезжаем из Киева, — сказал Федя, стараясь вызвать следователя на разговор.
— Добрый путь вам, коллега. А кто это «мы»?
— Людмила Петровна и я.
— Учту, — кратко ответил следователь и погрузился в какие-то бумаги, лежавшие у него на столе.
— До свидания… — криво усмехнулся Федя.
Следователь был из новых — назначенных Общественным комитетом из адвокатского сословия, пополнившего теперь прежнюю магистратуру.
Федя знал это и, выйдя за дверь, почему-то обиделся на него:
«Скотина, юридический крючок!.. Что за тайны? Мог бы сказать мне, зачем ему нужна Людмила? Кажется, революцией поставлен на место, а не Щегловитовым! Так какие же тайны теперь могут быть от другого революционера — от меня? Хорош гусь, нечего сказать! Был бы на его месте какой-нибудь рабочий — ей-богу, убежден, совсем другой разговор был бы!..
Я ему: «товарищ следователь», а он морщится, нос воротит, неприятно ему… Формалист! Кадет!
Впрочем, он не мог бы утверждать, что тот действительно морщился при слове «товарищ» или вел себя как-нибудь плохо. Но раздражало, вызывало насмешливое к себе отношение впалолобое, удлиненное лицо этого человека, и неприятны были выдвинутые вперед и собранные, как для свиста, его губы.
«Карикатура!» — мысленно издевался над ним Федя, вспоминая только что оставленного следователя.
Вчера утром, едва он успел одеться, нежданно-негаданно приехала Людмила Петровна.
Он услышал ее вопрошающий знакомый голос в прихожей и чье-то глуховатое короткое покашливание. Федя стремглав выскочил в прихожую с криком:
— Я здесь… Дома! Ура!.. Как я рад!
Позади Людмилы Петровны он увидел, к удивлению своему, смирихинца Геннадия Селедовского. В ногах его стоял на полу желтый кожаный чемодан.
— Людмила Петровна!.. — назвал ее Федя по имени-отчеству и приник к руке, целуя ее сквозь лайковую перчатку.
— Зачем же так? — ласково смеялась гостья и, быстро стянув перчатку, вновь протянула Феде руку, и он почувствовал, как, задержавшись откровенно в его руке, она интимно и нежно зашевелила пальцами по его ладони. — Ну, ведите… Это ваша комната?
— Эта, эта… — пропускал он ее вперед, позабыв о Селедовском.
— Вы чего-то ошалели… Почему вы с Геннадием Францевичем не здороваетесь?
— Ах, простите… — жал ему руку торопливо Федя. — Да вы в пальто, в пальто проходите, — чего там? Давайте чемодан!
— Нет, уж я до конца выполню свою обязанность сопровождающего, — чуть-чуть гнусавя, похохатывал длинный Селедовский, внося в Федину комнату чемодан. — Людмила Петровна, насколько я понимаю, теперь я свободен? — все с тем же смешком обратился он к ней.
— От меня — да. Но ведь вы хотели о чем-то с Федором Мироновичем? Дела какие-то?
Она быстро оглядела комнату, сняла пальто и шляпу и повесила их на вешалку, рядом с Фединой тужуркой.
Оказалось, они в Смирихинске сели в один вагон с Селедовским, разговорились, познакомились, и вот — Геннадий Францевич любезно довез ее на извозчике до Тарасовской и помог втащить сюда чемодан.
— Вы не беспокойтесь, Федор Миронович, я ведь на часок только: как землячка, покуда достану номер в гостинице. Я перееду в отель, — чуть прищурила она серые большие глаза свои, глядя на суетившегося хозяина комнаты.
«Так-то я тебя и отпущу!» — ответил Федя быстрым горячим взглядом и своевольно нахмуренной бровью.
О, как мешало ему и сковывало его присутствие этого ни к селу ни к городу приехавшего Селедовского!
«И надолго ли он? Неужели думает здесь остановиться? Вот ужас! Нет, это невозможно!»
Сели пить чай, заботливо предложенный и посланный из столовой квартирной хозяйкой. Она же через минуту прислала еще коржики, усыпанные маком. Федя выложил на стол охотничьи сосиски, франзоль и, вспомнив о шоколадной халве на этажерке, подал халву.
Она лежала, как на блюдце, на… затылочной кости (остатки давно приобретенного для науки чьего-то черепа из анатомки). Федя, устыдившись своего «хозяйства», швырнул кость к печке, но Людмила Петровна заметила этот воровской жест, подбежала к печке, подняла желтый, в извилинах, черепок и, громко хохоча, показывала часть Федина «чайного сервиза» Селедовскому, трепала Федю за уши.
— Видали, видали? И после этого он думает, что станем есть?
— Завернуто же было… в бумажке! — оправдывался Федя, хватая для поцелуев ее руки, не в силах скрыть и свое смущение и чувства более острые, владевшие им. — Людмила… Людмила Петровна, поймите же!
Она много хохотала, рассказывая о снетинских жителях, испуганно принявших весть о революции, была очень весела, незаметно для Селедовского лукаво и нежно поглядывала на Федю, подталкивая его колено своим, — и он, чувствуя, как кружится от этой ласки голова, страстно и угрюмо ненавидел уже Селедовского. А тот очень медленно допивал свой чай, уплетая сосиски и свежую франзоль, и столь же медленно и подробно повествовал о смирихинских политических новостях.
В другое время все заинтересовало бы Федю. И то, что исправник Шелудченко 2 марта арестовал и посадил в «холодную» мельника Когана за «распространение слухов» о петроградских событиях, а уже 3-го числа, освободив своего пленника, побежал укрыться у него на квартире и, — здоровенный, тучный: без помощи городового не мог снимать сапог, — упрямо и приниженно не покидал крошечной и пыльной когановской кладовки, хотя хозяин, из непонятного гостеприимства, звал его посидеть за общим столом…
И то, что скрюченный, полупараличный Ловсевич, объявивший себя украинским социал-демократом, избран председателем смирихинского Совета рабочих депутатов, а бухгалтер городской управы Ставицкий, эсер, назначен временно городским головой, так как прёжний неожиданно умер от разрыва сердца, второй член управы болен, а третий оказался агентом жандармского ротмистра. О, для Смирихинска это была настоящая революция!
И то, что комиссаром средних учебных заведений назначен Общественным комитетом не кто иной, как златоусый адвокат Левитан («Бесструнная балалайка!» — иронически подумалось Феде), а помощницей Левитана — прекрасный человек, Надежда Борисовна.
Однако новостью, искренно рассмешившей Федю, было то, что дядя, Семен Калмыков, единодушно почему-то избран в начальники смирихинской милиции.
— Да не может быть?! — воскликнул Федя. — За что же это? Не иначе, как за высокий рост, тяжелый кулак и уменье отлично, по-ямщицки ругаться!
Но это было то единственное известие, которое на минуту отвлекло его мысль в сторону. Он продолжал думать только о любимой женщине и сильно досадовал на то, что они еще не наедине.
Он излишне-сухо, несдержанно спросил Геннадия Францевича:
— С какой целью и надолго ли вы приехали в Киев?
Оказалось, что у Селедовского — ряд дел. Он приехал договориться с экспедициями газет о значительном увеличении количества экземпляров, отпускаемых для отцовского киоска, выписать новые газеты — как столичные, так и киевские. У него были еще кое-какие поручения, не говоря уже о том, что просто захотелось «подышать воздухом» такого крупного города, как Киев.
Но самое главное — не это. Селедовский приехал на совещание старых социаль-демократов (он произносил это слово мягко) посоветоваться с ними, получить подробную партийную информацию. В Смирихинске он уже организовал группу эсдеков-«мартовцев». Работы, конечно, — по горло. Но необходимо наше влияние в Совете, надо устраивать лекции и доклады, организовать профессиональные союзы, которых никогда в городе не было, надо подумать о создании рабочей кооперации, и много всяких других дел.
— Пришло время проводить в жизнь нашу программу-минимум, — сказал он убежденно, но скучно. — Мы там говорили между собой: конечно, Федор Калмыков будет с нами? — И уголья-зрачки его на влажном всегда, сверкающем белизной глазном яблоке пролили на Федю рвет доброжелательной улыбки.
— Польщен, Геннадий Францевич, — ответил скупой, выжатой улыбкой Федя.
— Чего там скромничать? Я вас так давно знаю, что иначе и не мыслю теперь. Вы ведь знаете гравера Даню Гукермана? Хороший парень, он всегда у меня книжки брал. Он наш, конечно. Кланялся вам. Он уже печать для нашей организации сделал. Беженцы, братья Побережские, типографы — тоже вошли к нам, — рассказывал о партийных делах Селедовский. — На махорочной фабрике Карабаева также нашелся подходящий народ. Среди мельничных ребят: еще с девятьсот пятого года. Несколько приказчиков, потом — служащие кредитного общества, один военный врач из госпиталя вчера у нас выступал на митинге. Выяснилось, что давно знаком с работами Каутского…
— Поговорим, поговорим еще… — отмахивался от этой темы Федя, досадуя, что Селедовский заговорил о ней в присутствии Людмилы Петровны, для которой такие разговоры должны были, вероятно, показаться скучными и чуждыми.
Но, с удивлением заметил, она ничуть не скучала. Напротив, вмешивалась в беседу, задавала Геннадию Францевичу вопросы, спрашивала, чего собственно добивается сейчас партия, и, не возражая как будто ни против чего, высказалась вдруг против современной войны.
— То есть как? — похохатывал, потому что это говорила дочь генерала, Геннадий Францевич. — Мы, социаль-демократы, тоже, естественно, против войны. Но германский империализм… как с ним быть?
— Я-то не знаю, как с ним быть, — простодушно и оживленно сказала Людмила Петровна. — Но воевать стольким миллионам народа с той и с другой стороны — нечего! Это прямо преступно! Тех, кому нужна война, народ должен свергнуть и посадить в кутузку. И в Германии и у нас. Честное слово! И в Англии. Во всех странах!
— У вас это, Людмила Петровна, получается очень мило, — медленно шага я по комнате, снисходительно усмехался Селедовский. — Очень мило… Вы даже не подозреваете, какое это стихийничество — то, что вы сейчас говорите! Вы нас призываете к забвению марксизма (он, как союзник, посмотрел на Федю)… к междоусобице. Вы знаете, есть такая группа большевиков? Не слыхали еще? У меня самого брат — большевик: в Швейцарии сектантствует, — продолжал он усмехаться. — Они бы вам много комплиментов сделали. Правда, Федя?
— А может, я сам большевик? — неожиданно буркнул угрюмо Федя.
— Бросьте чепуху городить! — серьезно сказал Селедовский.
Федя, слабо, рассеянно улыбаясь, замолчал.
«А почему ерунду? Да ну тебя ко всем чертям! — сердился он на Селедовского. — Нашел место и время диспут устраивать!»
— Я не знаю еще никаких большевиков, как вы их называете, — возражала Людмила Петровна. — Политических книг не читала, сама я не из рабочего класса, о котором вы все время говорите, видала я в своей жизни совсем другую среду, если хотите знать… Я готова кричать на всех перекрестках: «Долой войну!» Для чего губить жизнь стольких людей? Для чего, я спрашиваю? Простой и обыкновенный вопрос.
— Ну, хорошо, — подтрунивал над ней Селедовский. — Хочет войны особенно буржуазия. И наша и заграничная. Вы говорите: в кутузку их? Чудно! А как это сделать? Добровольно ведь не пойдут в кутузку? Будут сопротивляться, — так ведь? Значит — надо применить опять-таки силу? Значит — опять-таки война, междоусобная война в каждом государстве. Куда ни кинь. — всюду клин. А вы ведь, Людмила Петровна, вообще ведь против войны…
— Да уж если так, как вы говорите, то, пожалуй, не избежать ее, — несколько разочарованно сказала Людмила Петровна. — Если только так, как говорите? — проверяла она его.
— Поверьте, — так!
— Но война-то тогда будет, наверное, совсем иной, я думаю! Короткой. Арифметика совсем другая будет.
И опять Геннадий Францевич, конечно, возражал.
Он ходил по комнате и мял, по обыкновению, хлебный шарик большим и указательным пальцами и часто вскидывал голову и заботливо приглаживал шапку черно-серебристых своих волос, плохо расчесанных после сна в вагоне. Утолщенный, примятый на конце нос обильно лоснился, и когда, наконец, догадался Селедовский вынуть из кармана платочек, — чтобы прибегнуть к его помощи, оказался он скомканным и грязным, и оба они, Людмила Петровна и Федя, заметили это и, едва скрыв свою брезгливость, отвернулись от собеседника.
Он проторчал здесь добрый час еще, потом стал прощаться, обещая завтра («Завтра!» — возликовал Федя) заглянуть на часок-другой, так как тогда же вечером собирался обратно в Смирихинск.
Пришлось Феде, сдерживая свою радость, провожать его до выходных дверей, там задержаться даже на минуту-другую в последней, ничего не значащей беседе, и когда он наконец-то ушел, Федя вбежал в комнату и увидел Людмилу Петровну, стоявшую в ласковом ожидании: она протягивала к нему руки, готовая отдать себя самому неистовому объятию.
После ухода Феди впалолобый следователь, со смешливо вытянутыми, как будто для свиста, губами, призадумался. Пожалуй, было о чем.
Да стоит ли ему фигурировать в этом деле? Конечно, если бы не одно обстоятельство, — и вопроса не было бы. Но это обстоятельство, к сожалению, наличествовало: добрый знакомый по карабаевскому дому, соратник за карточным столом Георгия Павловича, Теплухин — откровенно изобличен показаниями неожиданно словоохотливого крупнейшего департаментского чиновника и его подручного агента.
Денис Петрович никогда почти не свистел («денег в доме не будет»), несмотря на природой данные к тому губы, но сейчас несколько раз выразительно свистнул и снова повторил, сам с удивлением прислушиваясь к издаваемому звуку.
«Ах, какой реприманд неожиданный!»
Это относилось опять-таки к Ивану Митрофановичу Теплухину. Поистине, сей человек влез, как ложка дегтя в бочку с медом, во все это заведенное уже под номером удачное «дело», лежавшее у Дениса Петровича на столе.
Если бы не Теплухин, он с большим служебным удовлетворением поспешил бы доложить и комиссару Временного правительства, и Общественному комитету, и даже Совету рабочих депутатов (черт с ними!), какую птицу — Губонина — держит он в своих рукаху… И не потому это было невозможно, что питал к Теплу хину какие-либо особенные чувства, которым противостоял теперь служебный долг. Нет, все дело заключалось в Георгии Павловиче Карабаеве!
«Узнает, что именно я дал приказ об аресте, что я все обстоятельства знал… Что же, спросит, не могли меня, Денис Петрович, предупредить, поставить в известность? А может быть, я, Карабаев, попросил бы всего этого не допустить или во всяком случае не торопиться с выводами, покуда я не встречусь сам с Теплухиным и не выясню у него, как и что? Может быть такая претензия?» — рассуждал Денис Петрович, только недавно приобщенный к ведению юридических дел карабаевского гвоздильного завода, и отвечал себе: «Может!»
Но как же поступить, чтобы и волки были сыты и овцы целы? Не рвать же с Карабаевым из-за временного служебного успеха да еще на временном служебном посту?
Так раздумывая, Денис Петрович пришел к первому решению: арест Губонина и Кандуши довести теперь же до сведения нового прокурора судебной палаты, — пусть сами распорядятся, как с ними поступить. Губонина, вероятно, отправят под конвоем в столицу.
Второе решение, принятое хитрецом поневоле, касалось самого «дела»: от него надо было избавиться, кому-нибудь подкинуть, умыть руки.
Он вызвал младшего следователя, передал ему показания арестованных и студента Калмыкова и велел вести дело.
— Задержать… — как показалось Денису Петровичу, не то вопросительно, не то утвердительно сказал тот о Теплухине. — По всему видать — порядочный подлец. Надо сообщить печати.
— Зачем? — недоумевая, спросил Денис Петрович. — Есть особая комиссия при комиссаре Временного правительства, — туда, пожалуй?
— Имена провокаторов, как вам хорошо известно, доводятся до всеобщего сведения, — услышал он спокойный, но упрямый ответ.
— Разве мы обязаны? В инструкции господина комиссара Временного правительства на этот счет ничего не указано.
— Ах ты щенок! Тоже… корчит Марата с Бибиковского бульвара! — презрительно сказал старший следователь, когда младший ушел за дверь.
Так и попало «дело» Теплухина в чужие руки, и Денису Петровичу не пришлось (оснований теперь не было) вызывать к себе Людмилу Петровну Галаган, о которой упоминалось в «деле» в связи с самоубийством ее мужа.
А эти молодые «чужие руки» сделали то, что уклонялись выполнить друзья обоих Карабаевых — здесь и в Петербурге: Иван Митрофанович Теплухин был арестован в первый же день своего возвращения в Киев.
Федя возвращался по Крещатику от следователя домой, как вдруг кто-то окликнул его сзади, совсем близко, и спустя три секунды чья-то крепкая рука легла на его плечо.
— Товарищ Калмыков! Вот хорошо, что заметил!.. Здравия желаю, товарищ Калмыков. Узнали?
— Коля! Откуда взялись? Фу-ты, как возмужали!
— Верно? Вырос, значит, или старым стал? — гремел на весь тротуар веселый токаревский голос. — А я все равно к вам собирался.
— Пожалуйста, пожалуйста, — искренно обрадовался Федя.
— Поручение получил от вашей приятельницы. Да теперь, браток, она и моя приятельница. Влюбиться можно! — решительно взмахнул он рукой и весело, широко улыбнулся.
— Поручение? От кого? Кто такая? — любопытствовал Федя.
— Отойдемте в сторонку, а то мы народу мешаем, — увлек его Токарев к подъезду дома, у которого они встретились.
— Откуда вы здесь, Коля? Или все время в Киеве были? Шинель новенькая, а картуз не солдатский! Отчего это? Солдат вы или не солдат? — разглядывал его Федя.
— Как хотите, считайте, — подмигивал Токарев. — Солдаты теперь разные бывают: партийные и — которые вроде как еще калитки не нашли для своего сознания.
— Ну, я так и думал, Коля, что кто-кто, а вы партийный будете, — одобрительно и с теплотой в голосе сказал Калмыков. И от сознания того, что заговорил сейчас о важном, стал серьезен. — Эсер? Много солдат стало эсерами.
— Я-то? — на минуту Токарев закрыл один глаз, а другой скосил с» ухмылкой. — Держи карман левей да побольше, — с подчеркнутой протяжностью произнес он последнее слово. — А вы что: эсер? — спросил он в свою очередь и открыл второй глаз, внимательно взглянувший на Федино лицо.
— Нет! — быстро ответил Федя.
— Приветствую бурными хлопками, как строчат теперь в газетах! — снова весело загремел Токарев, — А что не кадет — в этом я уверен… Приятельница наша тоже так считала. Вспоминали мы вас, Федор Миронович. Как же, как же…
— Да скажите, Коля, какая такая приятельница?
— Я сегодня только из Петрограда, — понимаете, ну? И вот просила меня передать вам, коли увижу.
Он отогнул полу шинели и, вынув из кармана смятый конверт, отдал его Феде. По бисерному, ровному почерку сразу можно было узнать — от Ириши.
Федя быстро ознакомился с письмом.
— Вот как?.. — о чем-то задумался он. — А я ничего и не знал. Давно это?
— О чем это вы? — набивал трубку Токарев, старательно уминая в ней табак большим пальцем.
— О Карабаевой. Получается так, что замуж выходит?
— По-моему, так уже вышла! — засмеялся Токарев.
— Но она пишет, что еще дома живет.
— Не делает платье монахом, — так? Ну, то-то и оно; здоровьем он поправится — и найдется своя квартирка. Пошли, что ли? Мне тут в одно место… партийное.
Он закурил трубку, и они пошли по Крещатику, в сторону от того района, где жил Федя.
Токарев рассказал о себе, о первых революционных днях в Петрограде, об Ирише и Ваулине: с горячностью и сердечной похвалой он назвал Сергея Леонидовича своим «лучшим другом».
Ваулин, оказывается, схватил жестокий плеврит, уложивший его в постель, но он ни на час не перестает интересоваться делами партийной организации. Он диктует Ирише статьи и заметки, и она относит их в «Правду», она приводит к нему товарищей, живущих с ним одной и той же жизнью революционеров, и он сам, Токарев, не выходил, поскольку позволяло время, все эти дни из ваулинской комнаты. Пребывание здесь превратилось для него, как выразился, в «краткосрочные партийные курсы».
Но партии нужны работники всюду, — и Николай Токарев возвращается теперь на родину, в маленький Смирихинск, где, без лишней скромности говоря, может оказаться более нужным и полезным, чем в столице.
В чем эта польза? А в том, что в Смирихинске сейчас довольно значительный этапный солдатский пункт, а также окружное управление по распределению военнопленных. Немало «воинских чинов», которых надо «переплавить» в большевиков.
— Этим и заниматься будете? — рассеянно улыбнулся Федя.
— Так точно, — по-солдатски ответил Токарев. — Революция, Федор Миронович, ведь только началась, а не кончилась.
«Вот оно что…» — подумал Федя.
Он вспомнил в этот момент бритоголового, очкастого Эдельштейна в студенческой столовке и вслед за ним — туберкулезного, длинношеего Гашкевича: двоих разных людей, между которыми поделил свои симпатии. Он посмотрел сбоку на шагавшего с ним рядом земляка-солдата, которого когда-то снабжал литературой, и почувствовал, что то же большое чувство приязни и душевного доверия возбуждает в нем и Николай Токарев.
И тут же поймал себя на мысли о том, что, вероятно, неверно судит сейчас о важных и достаточно серьезных обстоятельствах и делах:
«Правда ведь, люди могут быть привлекательные и хорошие сами по себе, но то, что они хотят сделать, не всегда и во всем может мне нравиться, — думал он, ругая себя в душе «карасем-идеалистом» и «вифлеемским ослом». — Наконец, они могут заблуждаться, быть неправы, — рассуждал Федя. — Почему я не должен с ними спорить в таком случае? И при чем тут хорошие отношения?»
И он вновь подумал о Гашкевиче и о Токареве: с кем из них он больше всего склонен сейчас спорить и во имя какой собственно истины? Но вот почему-то чувствует, что спорить придется с Ташкевичем.
В стране была революция, и он готов был отдать ей свое восторженное сердце, наполненное до краев преданностью, В его личной жизни впереди всего остального была теперь любовь: одна Людмила, казалось, могла бы заменить ему весь мир…
И все же приходила мысль: заменит ли, надолго ли?
Федя не думал сейчас ни о чем глубоко и мучительно, но обо всем легко и радостно. С любопытством, которое, конечно же, будет удовлетворено, С неуспокоенностью, которая, конечно же, даст сладость покоя. Все было достижимо, — так сильна была вера в свое счастье.
— …Революция ведь только началась, а не кончилась, Федор Мироныч.
— Да, да, — легко, отгоняя минутное раздумье, сказал Федя. — Все будет хорошо. Все будет очень хорошо… Ох, как жить теперь хочется, — страсть как!..
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 3(16) апреля 1917 года
Экстренные выпуски цюрихских газет вышли в тот час, когда Ленин, пообедав, собирался, как всегда, уходить в «Staats Bibliothek».
Две голубые плитки шоколада с калеными орехами, по 15 сантимов каждая, были положены в один карман, тетрадь для записей — в другой, сильно оттопырившийся.
Надежда Константиновна убирала посуду со стола, — Ленин жестом попрощался с нею. Вспомнив о раскисшей от дождя весенней погоде, о хлипкой уличной грязи, — подвернул высоко над башмаками темные дешевенькие брюки, надел пальто, взялся за котелок.
Ничто не предвещало сегодня каких-либо перемен. Последние месяцы жилось особенно невесело: рвалась связь с Россией, не было писем, не приезжали оттуда люди.
И Швейцария, и Цюрих, и узенькая Шпигельгассе, и на этой цюрихской улице угрюмый, средневековой постройки дом, — все вместе это было узилище, охраняемое самой невозмутимой и суровой стражей: утомительно-медленно тянувшимся временем.
Но историк, которую Ленин предугадывал для всего человечества, отметила вскоре и этот невзрачный весенний день, и город Цюрих, и мрачный дом с колбасным заведением во дворе (нестерпимо пахло гнилью оттуда), и скромного цюрихского сапожника Каммерера, за 28 франков в месяц сдававшего комнату великому русскому эмигранту и смастерившего зимой своему квартиранту тяжелые деревенские башмаки с большими гвоздями на каблуках.
Каммерер считал своего квартиранта ученым человеком, и грубые башмаки, оставлявшие на земле глубокий след больших гвоздей, вызывали досадливое недоумение сапожного мастера:
— Того и гляди, камрад Ульянов, вас примут за крестьянского старосту?
— Ну и что же, друг мой?
Ленин отвечал добрым хохотком, прищуривал темно-карие глаза.
Когда он уехал и спустя семь месяцев стал первым человеком мира, сапожник Каммерер в кругу семьи и соседей часто рассматривал оставленную ему на память фотографию и ею дополнял свои воспоминания об этом человеке. Подумать только, друзья! А? Судьба подарила ему возможность, ему — ничем не примечательному сапожнику с маленькой Шпигельгассе — жить так долго под одной кровлей с этим русским вождем, видеть его каждый день, пожимать ему запросто руку!
И вспоминалась Каммереру коренастая, ниже среднего роста фигура, сильные руки с широкими ладонями, рыжеватая бородка, раздвинутые в стороны упрямые скулы, острый блеск слегка косящих мудрых глаз, широкая шея и большая голова с выпуклым лбом.
Каммерер точно помнил, что камрад Ульянов и его жена покинули Цюрих 8 апреля, но еще в середине марта вопрос о том уже был решен.
…Итак, Ленин взялся уже за котелок, дабы отправиться в Публичную библиотеку, но в этот момент шумливый, захлебывающийся голос одного из товарищей по эмиграции ворвался из прихожей:
— Владимир Ильич, дорогой! Надежда Константиновна! Да где же вы? Еще ничего не знаете? Вы ничего не знаете?!. В России-то ведь революция!..
Через полчаса на берегу серебристо-серого озера, тронутого рябью мелкого холодного дождя, под навесом, где всегда вывешивались только что отпечатанные газеты, Владимир Ильич, жадно перечитывая скупые строчки первых телеграмм о далекой родине, воскликнул:
— Я должен немедленно поехать в Россию!
Когда он жил в Италии, дети рыбаков прозвали его «господин колокольчик» — за его легкий веселый смех, которым он оглашал взморье во время купанья. Он вообще любил смешное, шутки и шалости детей, возню с котятами и умел смеяться продолжительно, иногда до слез, смеяться всем телом, откидываясь по многу раз назад, заражая весельем всех окружающих.
Но теперь, в эти дни, он стал молчалив. В течение долгих часов ходил он по комнате из угла в угол и о чем-то сосредоточенно думал. Никто не решался прервать вопросом поток его мыслей.
Всех друзей его заботила одна и та же дума: «Сделать так, чтобы Ильич мог немедленно пробраться в Россию… Но как?»
— Ох, какая это пытка для всех нас, русских, сидеть здесь в такое время! — часто повторял Ленин.
И все боялись, что выехать из проклятой Швейцарии не скоро удастся. Так оно и случилось.
В мечтах своих о России Владимир Ильич строил планы, один другого заманчивее. Однако все они оказывались несбыточными, фантастическими, — столь велика была сила желаний, сила мечты.
Вот, — он достает где-то деньги для… швейцарского пилота, и тот летит с ним на аэроплане, летит через высокие горы, через весь фронт войны, летит тысячи верст без посадки, чего еще в ту пору ни одному авиатору не удавалось, летит, может быть, на машине, прочность которой еще никто не испробовал.
«Нет, фантастика, конечно!» — посмеивался он над самим собой.
«А может быть, надеть парик и с документами какого-нибудь партийного товарища явиться за паспортом для проезда через Францию и Англию?»
На несколько дней эта мысль прижилась в уме, но потом и она с обидным сожалением была изгнана: увы, швейцарская полиция слишком хорошо знала всех русских большевиков, она не замедлит сообщить французской охранке инкогнито «путешественника», и тот, конечно же, будет арестован.
— Англия никогда не пропустит, она меня интернирует, — убежден был Владимир Ильич. — К тому же и Милюков постарается.
В письмах к товарищам он писал о том же:
«…Ясно, что приказчик англо-французского империалистского капитала и русский империалист Милюков (и Ко) способны пойти на все, на обман, на предательство, на все, на все, чтобы помешать интернационалистам вернуться в Россию. Малейшая доверчивость в этом отношении и к Милюкову и к Керенскому (пустому болтуну, агенту русской империалистской буржуазии по его объективной роли) была бы прямо губительна для рабочего движения и для нашей партии, граничила бы с изменой интернационализму… Вы можете себе представить, какая это пытка для всех нас сидеть здесь в такое время…»
Ленин метался, — все дороги заказаны, все пути закрыты, сиди тут за семью замками войны.
Но он был неистощим в своих планах. Пришли на ум… контрабандисты, и уж никто из друзей не осмелился спорить с Ильичем. Больше того: стали искать людей этой профессии, дабы они перебросили его через фронт. И нашли одного. Но выяснилось, что контрабандист этот может довезти только до Берлина. А кроме того, оказалось, что он связан какими-то нитями с Парвусом, с социал-шовинистом Парвусом, нажившимся на войне, и этого было достаточно, чтобы Ленин брезгливо категорически отверг помощь контрабандиста.
Возник еще один план: проехать через Германию в Скандинавию с паспортом гражданина нейтрального государства. Надо было превратиться в шведа, но… в глухонемого, потому что шведского языка Владимир Ильич не знал.
И он написал товарищам в Стокгольм, чтобы обязательно нашли шведа, похожего на него, Владимира Ленина, и послал на всякий случай с этой целью свою фотографическую карточку.
В бессонные ночи он не раз говорил об этом неизвестном «спасителе» — шведе, и тогда смеялась и шутила жена:
— Не выйдет, можно во сне проговориться. Приснятся тебе ночью кадеты — и будешь сквозь сон ругаться. Вот и узнают все, что ты за швед.
Шли дни безрезультатных поисков пути в Петроград, «Таймс», «Тан», «Нейе цюрихен цейтунг» с известиями из России прочитывались и запоминались до запятой. И в ответ на эти известия Ленин с лихорадочной быстротой писал, писал, писал. Он ходил, как обычно, из угла в угол и шепотком говорил то, что собирался сейчас, тут же повторить на бумаге своим густым бисерным почерком.
— Ни за что… — шептал и писал он, подчеркивая некоторые слова, как будто хотел поглубже всадить их в чье-то сознание. — Ни за что с Каутским! Непременно более революционная программа и тактика… Республиканская пропаганда, агитация и борьба с целью международной пролетарской революции и завоевания власти Советами рабочих депутатов, а не кадетскими жуликами…
Так писал он через Стокгольм товарищам в Петроград. Он предупреждал их, учил:
«…Последние известия заграничных газет все яснее указывают на то, что правительство, при прямой помощи Керенского и благодаря непростительным (выражаясь мягко) колебаниям Чхеидзе, надувает и небезуспешно надувает рабочих, выдавая империалистскую войну за «оборонительную». По телеграмме СПБ. тел. агентства от 30.III.1917, Чхеидзе вполне дал себя обмануть этому лозунгу, принятому — если верить этому источнику, конечно, вообще ненадежному — и Советом рабочих депутатов. Во всяком случае, если даже это известие не верно, все же опасность подобного обмана, несомненно, громадна. Все усилия партии должны быть направлены на борьбу с ним. Наша партия опозорила себя бы навсегда, политически убила бы себя, если бы пошла на такой обман…»
Сидя в Цюрихе на узкой, маленькой Шпигельгассе, за столиком с бумагами, он не только писал в тишине, но во весь голос говорил словно на огромных петербургских площадях, заполненных русскими рабочими и солдатами.
День за днем писал он петербургским большевикам свои страстные «Письма из далека». Первое, второе, третье…
Пятое — в самый последний, счастливый день отъезда в Россию. Оно так и осталось недописанным, оборванным на полуфразе.
На объединенном совещании различных политических групп эмигрантов-интернационалистов, проживавших в Швейцарии, был выдвинут новый проект возвращения в Россию: добиться пропуска через Германию легально, в обмен на интернированных в России германских и австрийских пленных.
Совещание приняло это предложение и поручило швейцарскому пацифисту Роберту Гримму, редактору социалистической газеты «Berner Tagwacht», снестись по этому поводу с швейцарским правительством, а через него — и с Берлином.
Но швейцарское правительство отказало в содействии, опасаясь, что могущественная Антанта сочтет это нарушением нейтралитета. К тому же и Петроградский Совет ничего не ответил на телеграфную просьбу политэмигрантов добиться у Временного правительства согласия на их приезд.
Оставалось обратиться непосредственно к германским властям. И тогда почти все, кроме ленинцев, забили отбой: помилуйте, это могло произвести плохое впечатление на «общественное мнение» России и ее «союзников».
(Как выяснилось впоследствии, посланные в Петроград телеграммы не были доставлены Совету рабочих депутатов: они были задержаны Временным правительством. И, еще сидя в Швейцарии, русские эмигранты узнали из парижской газеты «Пти паризьен» о решении Милюкова отдать под суд всех российских граждан, которые намерены проехать в Россию через враждебную Германию. И тогда все вспомнили, что эта угроза никак не коснулась буржуазного профессора, милюковского приятеля, Максима Ковалевского, проделавшего во время войны тот же путь с Запада.
«Хороши» были также и русские меньшевики: когда поезд с русскими эмигрантами находился уже в пути, они телеграфировали в испуге из Петрограда: «Пока не ехать!»)
К германскому посланнику Рембергу отправились теперь тот же Роберт Гримм и один из левых тогда швейцарских интернационалистов. Германский посланник запросил согласие своего правительства на пропуск в Россию «противников войны» и получил из Берлина утвердительный ответ, о котором через два года германский генерал Людендорф вспоминал как о непростительной, идиотской государственной ошибке вильгельмовского правительства.
В низенькой комнатке сапожника Каммерера уверенной рукой Владимир Ленин составил условия переезда:
Едут все эмигранты без различия взглядов на войну. Вагон, в котором следуют русские, пользуется правом экстерриториальности. Никто не имеет права входить в этот вагон без разрешения сопровождающего русских швейцарца-интернационалиста. Никакого контроля: ни паспортов, ни багажа. Едущие обязуются агитировать в России за обмен пропущенных эмигрантов на соответствующее число интернированных австро-германцев.
Условия эти были переданы Рембергу.
— Странно, — сказал тот усмехаясь. — Насколько я понимаю, не я и мое правительство просим разрешения на проезд через Россию, а господин Ульянов и другие просят позволения проехать по Германии. Так кто же из нас имеет право ставить условия?
Передавший об этом разговоре Роберт Гримм обронил фразу о желательности впредь быть «гораздо дипломатичней».
И, когда он ушел, минуту Ленин оставался в той же позе, в какой слушал Гримма: сидя верхом на стуле, зажмуря один глаз, а вторым сверля то место, где только что сидел редактор «Berner Tagwacht», — а потом вскочил и очень серьезно, с непрокашлянной хрипотцой в голосе, сказал:
— Надо, товарищи, обязательно убрать Гримма, не поручать ему теперь никаких переговоров. Это архиважно. Он способен из-за личного честолюбия «роль» сыграть, начать какие-нибудь дурацкие разговоры о мире с Германией и впутать нас в грязное дело. Убрать — это будет совсем невредно.
Легкая, приятная картавость, когда произносил это «невредно», делала его речь теплой и задушевной, несмотря на то, что при упоминании имени Гримма по лицу Владимира Ильича прошла какая-то тень и глаза смотрели колко и повелительно.
Разрешение немецкого правительства было получено, и 27 марта по старому стилю русские эмигранты притащили свои чемоданы в Бернский народный дом, где собирались все отъезжавшие в Россию.
Швейцарец-сопровождающий, в широкополой шляпе и черной крылатке с лапками-застежками, суетливо, с озабоченным видом в какой уж раз пересчитывал, водя пальцем по воздуху, свой шумный «эмигрантский курятник»: 32 взрослых, все на месте.
Когда поезд «Берн — Цюрих — Шафгаузен» тронулся с места, швейцарец роздал всем для подписи листок проездных обязательств, которые брал на себя каждый эмигрант.
— Я подтверждаю еще одно обстоятельство, — взволнованно, но весело сказал один из большевиков. (Это был Савелий Селедовский, возвращавшийся на родину, в Смирихинск.)
— А что? — озабоченно посмотрел на него круглыми глазами швейцарец.
— Я думаю, мы везем русской революции самую сильную армию, уместившуюся, правда, всего лишь в одном купе, — улыбнулся Селедовский, качнув головой в сторону крайнего купе, откуда раздавался голос Ленина. — Вспомните, товарищ, историю Парижской Коммуны. Коммунары добивались обмена Бланки на огромную свору попов и аристократов, застрявших в Париже, и тогда предусмотрительные версальцы ответили: «Отдать Бланки санкюлотам — значит послать им целую армию» Помните?
— Вы, товарищ, историк? — спросил швейцарец.
— О нет. Убежав от царской полиции, я работал здесь токарем на заводе Шо-де-Фон.
— Не вы ли товарищ Селедовский?
— Я.
— Ах, вы тот самый, которого Ленин еще пять дней назад просил обязательно включить в список… — совсем уж добрыми и дружелюбными стали глаза швейцарца, и в знак уважения он короткопалой рукой отдавил плечо своего собеседника.
— А вот этого я не знал, что Ленин обо мне заботился, — смущенно переглянулся Селедовский с товарищами.
Поезд прибыл в Шафгаузен (на границе с Германией), где предстояла пересадка в немецкий вагон.
Наступил очень тревожный момент: выполнят ли немцы условия? Не попытаются ли отобрать паспорта? Не пойдут ли на какую-либо провокацию?
Можно было ждать всего, и, выходя из вагона на перрон, Савелий Селедовский, как и все, старался найти ответ на все тревожные вопросы в том, как держит себя сейчас Владимир Ильич. Ленин глядел на немцев спокойно, но настороженно, «Он один, — подумал о Ленине каждый из его спутников и в том числе Селедовский, — берет на свои плечи всю ответственность за могущее произойти, и нужно только всем верить, что, как и всегда, он и теперь не сделал ошибки».
Так-то так, но… холодны и презрительно-неприветливы лица встретивших поезд германских офицеров, — они не обещают ничего хорошего. Один из них, рыжебровый веснушчатый лейтенант с заячьей губой, переходя с места на место по перрону, сделал несколько фотографических снимков и особый; наставив безошибочно объектив аппарата, — с Ленина.
— Герр Ульянов… — предупредил он о своем намерении.
Полнейшая немецкая осведомленность обо всем уже не вызывала никаких сомнений.
Предводительствуемые длинным, костлявым офицером в очках и широко шагавшим швейцарцем, перебрасывавшим из руки в руку свой клетчатый саквояж, все двинулись в зал таможни. У дверей ее — двое хмурых солдат с немигающими глазами.
— Женщины отдельно, мужчины отдельно! — войдя в зал, скомандовал костлявый офицер и показал жестом, как это сделать: разделиться на две группы по обе стороны длинного массивного стола, у которого поджидали прибывших таможенные чиновники в серых тужурках с зелеными наплечниками.
Ленин стоял, прислонившись плечом к стене, чуть-чуть надвинув котелок на лоб, со спокойным любопытством наблюдая за происходящим. Он не мог скрыть свой жизнерадостный, озорной хохоток, сильно ободривший товарищей, когда четырехлетний сын одной из спутниц, поставленный матерью на стол, ткнул вдруг ручонкой в лицо приблизившегося таможенного чиновника, воскликнув:
— Мамочка, мамочка, смотри: шарик висит!
Внимание мальчугана привлекла безобразная синеватая бульба на щеке немца.
Паспортов действительно не спрашивали, что сразу успокоило, но таможенные чиновники с исключительной придирчивостью отбирали у всех швейцарский шоколад. Одним из последних возвращаясь из таможни на перрон, Селедовский видел, как чиновники поделили между собой шоколадные плитки. Костлявый офицер также получил свою долю.
Путешествие по Германии было томительно-длинным: мешало большое и частое движение воинских поездов, часто задерживали на мелких станциях, а иногда и в поле.
«Экстерриториальность» соблюдали точно: ехавшие в соседнем вагоне офицеры-«наблюдатели» ни разу не пытались нарушить ее.
С внешним миром сносился только швейцарец. Во время остановок он бегал по платформам в своей бурно развевавшейся крылатке, стараясь приобрести для своих подопечных что-либо съедобное, но, увы, это редко когда удавалось. В то же время белый батон, вывезенный кем-то из Швейцарии и лежавший на столике перед окном одного из купе, приковывал к себе жадное внимание удивленных немцев, фланировавших на железнодорожных платформах. Этот белый батон так и остался нетронутым почти до самого конца путешествия по германской земле, выполняя своеобразную агитационную задачу — полной независимости русских от кого бы то ни было.
Это не ушло, очевидно, от внимания офицеров-«наблюдателей», и на одной из крупных станций швейцарца вызвал представитель немецкого Красного Креста и стал усиленно предлагать кормежку: немцы демонстративно хотели показать, что в воюющей Германии дело с продовольствием обстоит, мол, не так уж плохо.
Швейцарец передал предложение Красного Креста на разрешение своих русских товарищей, и первым кратко и выразительно высказался Ленин.
— Гоните их к чертовой бабушке! — улыбаясь, сказал он, высунувшись из своего купе, столик и лавка которого были завалены книгами и тетрадями: всю дорогу Владимир Ильич работал и никого к себе не пускал.
Это же «к чертовой бабушке» постигло на вокзале в Карлсруэ и представителя германских профсоюзов Янсона, пожелавшего встретиться с русскими социалистами и специально прибывшего с этой целью из Берлина. Пришлось сконфуженному неудачнику сесть в соседний вагон — к своим соотечественникам. Однако он не переставал проявлять любезность, время от времени покупал на станциях свежие немецкие газеты и делал обиженное лицо, когда аккуратный и проинструктированный Лениным швейцарец неизменно возвращал ему стоимость газет.
Во Франкфурте остановка была продолжительна, и поезд, поставленный в конце платформы, за водонапорной башней, оцепили жандармской стражей. Неожиданно цепь была прервана, и в вагон ввалилась группа германских пехотинцев. Возгласы приветствий перемежались торопливыми вопросами:
— Вы русские, правда?
— Настоящие социал-демократы, — да?
— Вы за мир, — да?
— Когда будет мир?
— Что вы скажете о Либкнехте?
— Что надо делать, чтобы скорей наступил мир?
Солдаты из стоявшего на путях эшелона узнали невесть откуда, кто едет в этом вагоне, — они с острейшим любопытством заглядывали в первые от входа купе, хватали русских за руки и дружелюбно трясли их. На глазах одного, заметил Селедовский, стояли слезы.
Отвечать почти ничего не пришлось: из осторожности и опасения, как бы жандармская стража ни спровоцировала, пользуясь этим случаем, «нарушение нейтралитета» со стороны русских эмигрантов и ни вздумала бы прервать поездку.
К тому же вбежавший вслед за пехотинцами озлобленный, с перекошенным лицом жандармский офицер уже кричал на весь вагон:
— Цурюк! Цурюк! — и ухватил за шиворот ближайшего к себе солдата.
Вопросы и поведение пехотинцев говорили о настроении германского народа гораздо больше, чем то желательно и полезно было для берлинского правительства. Франкфуртское происшествие послужило темой долгих разговоров и отвлекло Ленина на некоторое время от работы.
Он ходил по коридору — от своего, крайнего купе до середины вагона, сильно пошатывавшегося на частых изгибах пути, потирал руки и смотрел на товарищей со своей молчаливой, хитровато-доброй усмешкой. Занятый своими мыслями, он даже не заметил, как жена Селедовского, Магда, неплохая художница, бегло зарисовала его лицо.
Надо было запечатлеть этот замечательный контур куполообразного ленинского лба, запечатлеть, — стремилась Магда, — какое-то особенное, почти физическое излучение света мысли от его поверхности.
Широкая растрепанная бровь, пронизывающий блеск золотистых умных глаз… Они так выразительны, так одухотворены сейчас, что невольно любуешься их непреднамеренной игрой.
Не один человек в Швейцарии говорил Магде, что вождь русских революционеров имеет значительное сходство с Сократом.
«Да, да… с Сократом, — соглашается она сейчас, «передавая» это наблюдение своей «ловящей» образ Ленина руке, вооруженной карандашом. — Да… Вот, поймать бы как следует эту самую замечательную выпуклость лба… Борода у него растет несколько запущенно… — продолжала она наблюдать Ленина… — А сила какая в лице!»
Магда показала набросок мужу, ему рисунок очень понравился.
— Храни, — сказал Савелий. — Приедем в Смирихинск — покажешь моим родным. Документ — исторический.
Всю дорогу тихонько, вполголоса, чтобы не мешать Ильичу, пели песни, вспоминали швейцарское житье, гадали о том, как встретят в России. Кто-то передавал слова, услышанные от Ленина: «Все может быть: господа Милюковы и Керенские не постесняются и в тюрьму посадить. Ну, а меньшевики… эти повсюду смердящий труп!»
И когда в Берлине прибыла на вокзал целая делегация ЦК германских эсдеков, пожелавшая встретиться с Лениным, он резко замотал головой и отказался вступить с ними в какие бы то ни было разговоры.
— Нет, — сказал он швейцарцу. — Отвечайте им одним только словом: нет!
Швейцарец выполнил поручение, но возвратился несколько смущенный: делегация… гм, гм… не понимает, в чем дело, и очень настаивает, чтобы ее допустили в вагон. Подумать только, когда еще представится такой случай: дружески потолковать на самые важные темы войны и рабочего движения?
— Скажите им, — сжав кулаки, ответил Ленин, и на широких висках его вздулись вены, — …скажите им, что, если они здесь появятся, мы их выбросим вон!
Неизвестно, что именно передал швейцарец шейдемановским лазутчикам-послам, но возвратился он без них.
Когда тот же швейцарец, подстрекаемый любопытством, глубже обычного высунул голову в открытое окно, стараясь разглядеть лица ретировавшихся немецких социал-шовинистов, он вдруг почувствовал, как чья-то крепкая рука легла ему на плечо и оттянула вниз. Он обернулся: насупив брови, молчаливо Владимир Ильич приказывал ему не высовываться в окно.
Наконец, доехали до Сосниц. Здесь пересели на пароход, отправлявшийся в шведский порт Троллеборг.
На пароходе потребовали выполнения обычных, формальностей: заполнить «анкеты пассажиров». Осторожный и недоверчивый в пути — Ленин заподозрил было в этом требовании политическое коварство иностранной (предполагалось — английской или американской) разведки, орудовавшей, как и немцы, по всей Скандинавии, и потому предложил всем своим спутникам подписываться различными псевдонимами.
А в Троллеборге, оказывается, уже ждали свои: товарищи, единомышленники. Они запрашивали «радиотелеграммами каждый пароход, державший курс в этот порт, не находится ли на нем «господин Ульянов», и капитан, выбывший несколько часов назад из Сосниц, ответил, проверив анкеты своих пассажиров, что Ульянов на его судне не значится.
Однако во время обеда капитан появился в салоне и на всякий случай снова спросил, нет ли все-таки среди русских господина по фамилии Ульянов, о котором настойчиво запрашивают с берега.
— Кто именно запрашивает? — задал вопрос Селедовский с молчаливого одобрения всех остальных товарищей и Ленина.
— Представитель шведского Красного Креста, — монотонно и бесстрастно ответил густобровый белокурый капитан.
Ленин, посоветовавшись с товарищами, признался, что он и есть Ульянов. И через несколько минут радиотелеграф передал краткую депешу в порт:
Сегодня 6 часов Троллеборг
Ульянов.В шесть часов пароход прибыл в Швецию, и руки встречавших друзей приняли в свои объятия Владимира Ильича и его спутников. А утром следующего дня их встречал Стокгольм: партийный соратник — образцово-предупредительный, скромно улыбающийся, с шелковистой бородой Боровский и другие русские эмигранты-большевики, шведские «циммервальдцы», журналисты, фотографы, а некоторых — и случайно оказавшиеся здесь родственники.
Ленин настойчиво расспрашивал о событиях в России. Ему наперебой отвечали.
Все тот же пожизненный мэр города, социалист Линдгаген, — седой, голубоглазый, с вечным румянцем на щеках, чествовавший в прошлом году депутатов Государственной думы во главе с бесславным Протопоповым и Милюковым, — председательствовал теперь на завтраке в честь возвращающихся на родину русских революционеров. Он умиленно жал каждому из них руку, желал каждому личного счастья, а доктор Карлсон (верзила в цилиндре) произносил приветственную речь в «интернациональном духе».
Скандинавцы охотно и с полным спокойствием поставили свои подписи на декларации о переезде русских эмигрантов на родину — на протоколе, подписанном ранее швейцарскими, немецкими и французскими интернационалистами, жившими в Цюрихе и Берне.
Во время встречи со скандинавцами стало известно, что добивается разговора с Лениным специально примчавшийся сюда, в Стокгольм, представитель ЦК германских социал-демократов Парвус. Владимир Ильич не только отказал ему в свидании, но тут же попросил запротоколировать и обращение к нему Парвуса и свой отказ. Непримиримость и принципиальность Ленина поразили благодушных шведов, — недалекий Карлсон что-то гудел себе под нос.
Весь день прошел в суете и беготне. Эмигранты ходили по магазинам и, высчитывая каждый сантим, приобретали необходимые вещи: головные уборы, дешевую скандинавскую обувь, рубашки и всякую всячину. В вестибюле отеля «Регина» их всегда ждала порядочная толпа шведских рабочих, услужливо сопровождавших их по городу.
Было решено «приодеть» и Владимира Ильича. Но он норовил отбиться от сопровождающих, подолгу останавливался у ларей букинистов, заскакивал в книжные магазины и выходил оттуда с целыми связками книжных новинок. Под конец он объявил, что денег у него уже нет, и потому нужно оставить глупую затею: покупать, видите ли, какие-то там новые ботинки! Зря, что ли, добросовестный Каммерер для него старался?
Товарищи шутя ему отвечали, что бургомистр Линдгаген вынужден будет запретить ему хождение в эдаких варварских башмаках со страшными гвоздями, разрушающими стокгольмские панели. Втолкнули в двери большого универсального магазина, где и пришлось расстаться с хорошо послужившими башмаками Каммерера.
После этого начали прельщать другими частями гардероба. Ильич отчаянно защищался, угрожая публичным скандалом, старался улизнуть из магазина, обещал прервать навсегда товарищеские отношения. Тем временем ловкий продавец завернул в бумагу новые брюки и кепку. Пришлось покориться, — к явному удовольствию Надежды Константиновны.
Перед отъездом Ленин собрал у себя в номере русских большевиков-стокгольмцев и организовал из них заграничное Бюро партии во главе с Воровским. Он оставил им продуманные до мелочей инструкции, условился о формах связи с Россией. И, наконец, с некоторой торжественностью, ему не присущей, вручил товарищам весь капитал эмигрантской группы ЦК: несколько сотен шведских крон и какие-то малоценные шведские бумаги государственного займа.
И вот — снова вокзал. Сутолока, шум, гам, прощальные слова, большая толпа провожающих.
Свои не произносят никаких речей, они только с надеждой и долгой ласковой улыбкой смотрят на Ильича, стоящего на ступеньках вагона и время от времени размахивающего новенькой серой кепкой.
Не обошлось и без инцидента. Из толпы вдруг пробрался к подножке вагона какой-то бритый, худощавый русский офицер с сильно прижатыми к черепу, как у испуганной лошади, длинными ушами, с узкой талией, облегаемой белым казачьим бешметом.
— Дорогой вождь рабочих! — крикнул он Ленину. — Я недавно прибыл сюда по долгу службы из Петрограда и вижу, как вас тут чествуют. Мы все боремся за нашу Россию-матушку. Помогайте в Петрограде новому правительству. И не наделайте там, у нас в Петрограде, никаких пролетарских бунтов и сюрпризов. Это говорю вам я: капитан Мамыкин… Ибо сам преследовался старым режимом, — искал он сочувствия у толпы на перроне, но им уже никто не интересовался.
Ленин наградил неожиданного оратора короткой стрелой своих лукаво-прищуренных глаз и в последний раз помахал кепкой друзьям.
Поезд мягко, бесшумно тронулся с места.
В Россию!
Опасались (и совершенно справедливо), что через русскую границу швейцарца-интернационалиста не пропустят. И тогда в поезде, мчавшемся к пограничной станции Хапаранда, кто-то, соболезнующе поглядывая на опечаленное лицо швейцарца, составил заявление, что, мол, нижеподписавшиеся эмигранты, из чувства товарищеской солидарности, демонстративно отказываются от въезда на родину, если не пропустят туда и их провожатого. В порыве этих чувств многие, не рассуждая, подписали заявление-. Оно дошло до Ленина. Один взгляд на бумагу — и спокойный, уничтожающий вопрос:
— Какой умник это писал, — а?
Правда, — хватились за голову, — ведь буржуазному Временному правительству только того и надо! Это понял и сам швейцарец.
Хапаранда. А вот там, — глазу видно, — Торнео и колышущийся красный флаг на вокзальном здании. Красный!..
Оставалось лишь проехать на лошадях Ботнический залив, еще скованный льдом, приглаженный снегом. Финны-ямщики подали полтора десятка розвальней. Белесые возницы бесстрастно и деловито оглядывали своих седоков и укладывали их утлый багаж.
Все примолкли. Повисло минутное раздумье: каждый о своем, но все об одном — вот она, Россия-родина.
— Ну? — прервал кто-то это молчаливое ожидание будущего, и все вздрогнули.
Сидя на розвальнях, Магда привязала к Савельевой палке свой красный платочек с вышитой на уголке французской надписью: «Свобода». Она крепко сжимала в руках это самодельное знамя. Обгоняя розвальни Селедовского, Ильич заметил это знамя и, улыбаясь, протянул к нему руку.
Под звон ямщицких бубенцов, с шелковым красным платочком на высоко поднятой палке, в трепетном молчании вглядываясь в берег родной страны, — въехали они в Россию.
Их окружили озябшие в ожидании чиновники Временного правительства.
Серый апрельский вечер. Легкий морозец высушил дневную грязь, — идти было свободно во всю ширь петербургских улиц. И толпы народа со всех концов города торопливо, почти бегом устремились к Финляндскому вокзалу.
День был пасхальный, предприятия не работали, газеты не выходили, и потому оповестить всех питерских рабочих о приезде Ленина не представлялось возможным. К тому же известие о возвращении на родину вождя большевиков и рабочего класса пришло в столицу всего лишь за И часов до прихода поезда.
Но весть о Ленине передавалась из уст в уста. Она наклеена была «самодельной» гектографированной листовкой на телеграфных столбах (в числе других этим делом занималась, по поручению Ваулина, Ириша Карабаева), весть короткими призывными словами уместилась на фанерных и картонных плакатах, она по проводам городского телефона дошла до солдатских полковых комитетов и по кабелю — до судов на Кронштадтском рейде.
— Ленин!
Это слово, как раскат грома, повисло вдруг, грохоча, над Петербургом, над его сереньким весенним вечером обычной политической погоды, а она ведь, казалось иным, прочно установилась по воле мартовского правительства России.
И вдруг —
— Ленин…
Это навстречу ему со всех концов города потекли к Финляндскому вокзалу людскими ручьями и потоками сотни и тысячи рабочих и работниц, вооруженные части столичных полков — броневые, пулеметные, пехотинцы, саперы; шел всякий народ следом за веселой и звучной музыкой армейских оркестров.
За Литейным мостом улицы пели песни свободы и революции.
Развернув знамена питерских ленинцев, двигались к привокзальной площади колонны большевиков, батальоны рабочей красной гвардии с винтовками за плечами. По талому льду пришли в Питер кронштадтские моряки.
Был тот час, когда нетерпеливо ожидаемый поезд подкатил к узенькому перрону пограничного с Финляндией Белоострова.
Поезд встречали дозорные Питера: рабочие сестрорецкого оружейного завода, возглавляемые группой прибывших из столицы большевиков.
Встречающие двинулись к подходившему поезду. Один из рабочих обратил внимание на высунувшегося из окошка паровоза широко улыбающегося, седого и курчавого машиниста. Тот, не в силах заглушить взлетавшие крики «ура», молчаливо показывал свою руку, подняв ее вверх и растопырив пальцы.
— Пятый… пятый вагон! — поняли теперь на перроне и кинулись к оливковому вагону с полуспущенными окнами.
Минута — и Ленина вынесли на руках из вагона. Шумно и радостно выкрикивая приветствия, его донесли к зданию вокзала; там состоялся митинг.
Когда поезд тронулся, продолжая путь к Петербургу, в жестком вагоне Ленина окружили возвращавшиеся с границы солдаты. Они наперебой задавали вопросы: о войне, о крестьянском хозяйстве, о власти.
Степенный, но словоохотливый солдат с умными серыми глазами, в которых светилось одновременно и любопытство, и некоторая настороженность, и в то же время явное желание быть доброжелательным слушателем, привлек особое внимание Ленина. Владимир Ильич уселся напротив солдата так близко, что колени их соприкасались, сам он немного нагибался вперед, прислушиваясь к словам солдата, и с очень деловым, озабоченным видом выспрашивал, выпытывал солдатские мысли и коротко отвечал на них: так, чтобы ответы его были понятны всем солдатам.
— Рабочие хотят республики, а республика есть гораздо более «упорядоченное» правительство, чем монархия. Уверяю вас, Захар Матвеевич! — обращался он к солдату, который так и назвал себя — «Захар Матвеевич», когда Ленин осведомился, для удобства в разговоре, о его фамилии. — Катастрофу несет именно продолжение войны, то есть именно новое правительство. Правительство Гучкова, Милюкова и Керенского. Да, и Керенского, Захар Матвеевич!.. Пролетарская республика, поддержанная сельскими рабочими и беднейшей частью крестьян и горожан, одна только может обеспечить мир, дать хлеб, порядок, свободу».. Неужели пролетариат России проливал свою кровь только для того, чтобы получить пышные обещания одних только политических демократических реформ? Вы как думаете? — обращался Ленин к окружающим его солдатам. — Неужели наш рабочий класс не потребует и не добьется, чтобы всякий трудящийся тотчас увидал и почувствовал известное улучшение своей жизни? Чтобы каждая семья имела хлеб! Чтобы всякий ребенок имел бутылку хорошего молока… Чтобы дворцы и богатые квартиры, оставленные царем и аристократией, не стояли зря, а дали приют бескровным и неимущим… Разве все это вас не касается, уважаемый Захар Матвеевич? Заранее могу сказать, что касается.
Солдаты доброжелательно ухмылялись. Что и говорить, все это их касается! И никто не удивлялся тому, как отменно хорошо знает он их жизнь и думы: казалось, он присутствовал вместе с ними и на оставленном крестьянском дворе, и в могилах-окопах, и на койках воинских лазаретов.
В окна вагонов ворвались огни освещенного петроградского перрона. Вот и столь долгожданная встреча с питерским пролетариатом!
Владимир Ильич поспешно вышел на ступеньки вагона — и застыл на месте, взволнованный, немного озадаченный: мощное бушевавшее «ура», звуки грянувшего оркестра и неожиданная зычная воинская команда «Сми-иррно!» брошены были ему навстречу.
— Что это? — обернулся он к своим спутникам.
— Революционные солдаты и питерские рабочие приветствуют вас, своего учителя и вождя! — крикнул кто-то, стоявший у вагона. Это был Ваулин.
Вместе с другими партийцами и рабочими он быстро образовал цепь с обеих сторон ступенек, и по узкой просеке Ленин, подняв кепку кверху, помахивая ею во все стороны, двинулся к вокзалу.
— Да здравствует Ленин! Пролетарский привет вождю революции! — гремело вокруг на его пути.
Старые друзья и ученики бросались к нему, жали руки, обнимали, запевали революционные песни. Песни подхватывались всей толпой.
— Сми-иррно!
Это морской офицер с пурпурной розеткой на груди отдал команду, и балтийские матросы длинной шеренгой почетного караула встретили Владимира Ильича.
И вдруг стало тихо и торжественно.
Ленин сделал несколько шагов вдоль почетного караула и остановился, обнажив голову и сунув кепку в карман своего серого пальто.
— Матросы… товарищи… — начал он свою первую питерскую речь. — Приветствую вас. Я еще не знаю, верите ли вы всем посулам Временного правительства, но твердо знаю, что, когда‘вам говорят сладкие речи, когда вам много обещают, — вас обманывают, как обманывают и весь русский народ. Народу нужен мир. Народу нужен хлеб. Народу нужна земля.
Спутник по вагону, степенный солдат, стоявший с сундучком в руках позади шеренги матросов, бросился теперь ему в глаза, и, словно продолжая прежнюю беседу с ним, Ленин повторил:
— Народу нужна земля… А вам дают войну, голод, на земле оставляют помещиков. Матросы! Товарищи! Вам нужно бороться за социальную революцию, бороться до конца, до полной победы пролетариата!.. Мир хижинам, война дворцам!..
Он едва успел закончить последнюю фразу, как матросы подхватили его на руки и, восторженно выкликивая приветствия, понесли его по перрону к выходу.
— Сюда, сюда! — распоряжалось несколько голосов из толпы, — и матросы понесли Ленина к дверям бывших царских парадных комнат, где, как передавали, ждала Владимира Ильича делегация меньшевистско-эсеровского Совета во главе с его председателем Чхеидзе.
Ваулину удалось попасть туда же вместе с группой матросов и рабочих, прорвавших заслон часовых.
У овального стола с изогнутыми ножками, лицом к тяжелой малиновой портьере, по обеим сторонам которой возвышалось двое рослых офицеров, стоял Чхеидзе. Рядом и позади него — десяток каких-то людей в котелках и мягких весенних шляпах.
Увидев Ленина, весь этот кустик людей зашевелился, вперив в него глаза. Одни — с нескладной приветственной улыбкой, другие — с открытой тревогой и опасливым любопытством. Кое-кто из них рискнул зааплодировать, но вялый, медленный и короткий хлопок никем не ощутился как звук приветствия и тотчас же конфузливо замер.
Ленин быстрым взглядом окинул просторную «царскую комнату», кивнул издали людям у столика и, сделав несколько шагов в сторону от входа, очутился почти рядом с порывисто дышавшим от волнения Сергеем Леонидовичем.
Вот двинулся от столика осторожной, медленной походкой Чхеидзе, держа руки в карманах своего новенького выутюженного пиджака. Он словно боялся поскользнуться на зеркальном паркете и все время смотрел вниз, на пол. Чхеидзе остановился посреди комнаты и тогда только поднял голову. Лицо его было угрюмо, почти сердито, крупные поседевшие брови сбежались к переносице.
Он начал говорить, и гортанный голос зазвучал нравоучительно и без теплоты:
— Товарищ Ленин, от имени Петербургского Совета рабочих и солдатских депутатов и всей революции мы приветствуем вас в России… Мы полагаем, что главной задачей революционной демократии является сейчас защита нашей революции от всяких на нее посягательств как изнутри, так и извне. Мы полагаем, что для этой цели необходимо не разъединение, а сплочение рядов всей демократии. Мы полагаем, что вы вместе с нами будете преследовать эти цели. Мы полагаем, что вы призовете к тому же всей силой вашего авторитета ваших давнишних друзей и соратников…
Чхеидзе умолк. Стоявшие у столика зааплодировали, но все остальные в комнате молчали.
Во время речи Чхеидзе Сергей Леонидович напряженно следил за выражением ленинского лица, за его жестами, по которым хотелось догадаться об ответе, который вот сейчас должен последовать из уст этого великого товарища по партии — ее вождя и основателя.
Ленин слушал нотацию меньшевистского лидера с видом человека, которого все происходящее здесь никак не касается. Он осматривался по сторонам, смотрел в потолок, разглядывал лица окружающих, кое-кому из знакомых подмигивая лукаво-косящими веселыми глазами, кое-кого изучая быстрым, но внимательным взглядом — прямым и ясным, одухотворенным умом, ласковой иронией и боевым задором.
Его лицо, — заметил Ваулин, — отличалось математически-точными очертаниями. Его большая голова с мощным выпуклым лбом мыслителя воплощала в себе всю силу, энергию и громадную жизнеспособность его личности.
В какой-то момент своей речи Чхеидзе ощутился как неожиданное препятствие, — надо его быстрей опрокинуть!.. И Ваулин видит, как меняется вдруг лицо Владимира Ильича: он чуть пригнулся, взгорбил плечи — стал следить за оратором. Бегут от глаз к вискам насмешливой, вздрагивающей паутинкой морщинки, а правая рука быстро-быстро почесывает за ухом.
— Ну, горячо, кажись, будет! — убежденно сказал по соседству с Ваулиным один из старых приятелей Ленина, знавший его привычные жесты.
У Владимира Ильича была не замечаемая им самим привычка перед решительным выступлением ощупывать себя. И теперь, как бы желая лишний раз убедиться, все ли у него на месте, он несколько раз провел рукой по голове, коротким жестом пригладил усы. По лицу то и дело пробегала задорная едкая усмешка: она могла ранить — без помощи слов.
Меньшевистский лидер, закончив свою «предостерегающую» речь, насупившись, откинув голову назад, смотрел на Ленина.
Его конусообразная черно-седая борода была выставлена, как копье, навстречу «незваному гостю».
И вдруг Ленин, круто отвернувшись от меньшевистской делегации, стремительно шагнул мимо Чхеидзе — к плотно стоящей у противоположной стены группе людей. Весело и широко улыбаясь, он, быстро, подряд пожав руки нескольким стоявшим впереди незнакомым рабочим и отступив на шаг, обратился ко всем им со следующими словами:
— Дорогие товарищи… солдаты, матросы и рабочие! Я счастлив приветствовать в вашем лице победившую русскую революцию, приветствовать вас как передовой отряд всемирной пролетарской армии. Грабительская империалистическая война есть начало войны гражданской во всей Европе… Недалек час, когда народы обратят оружие против своих эксплуататоров-капиталистов! Заря всемирной социалистической революции уже занялась. Не нынче-завтра, каждый день может разразиться крах всего европейского империализма. Русская революция, совершенная вами, положила ему начало и открыла новую эпоху.
Речь коротка, но сила ее новой, ослепительной мысли — грозной, непреклонной и призывной — требует всего ораторского напряжения. Ленин весь в ней, в этой речи. Его голос, все его движения, пройдет еще минута — и будут брошены на площади, на улицы — народу, любовно ждущему своего вождя, своего первого великого гражданина революции.
— …Международная социальная революция начинается… В начавшейся схватке пролетариата с буржуазией самую гнусную роль играют всевозможные соглашатели, социал-патриоты, всякие меньшевики и эсеры, они предают рабочих во всех странах!
В начале речи обе руки его бездействовали. Но вот появилась правая рука, и ее энергичный жест, сопутствуя мысли — огневой и твердой, непоколебимой и точной, начинает, разрезая воздух ребром ладони, подчеркивать слова и фразы, начинает как бы ставить невидимые в речи знаки препинания, дабы слова и фразы легли в сознании слушателей так, как хочет того он — Ленин.
Дальше уже и левая рука не может утерпеть, и обе вместе гармоничными короткими жестами начинают иллюстрировать усложняющийся ход мысли.
Но вот руки неожиданно меняют свое положение: откинувшись назад туловищем, обводя присутствующих спокойным и величавым взглядом своих глубоких и светящихся веселой мудростью глаз, Ленин закладывает большие пальцы обеих рук в прорезы жилета, распахнув пальто и пиджак. Сейчас он почти неподвижен, а голос звучит с той же силой и твердостью.
— …Рабочий класс идет своей дорогой — дорогой мирового сплочения и мировой социальной революции.
И вновь правая рука выбрасывается стремительно вперед, словно расчищая путь великому знамени всей его, ленинской, речи:
— Да здравствует всемирная социалистическая революция!
Шумно провожаемый ликующими матросами и рабочими, отыскав глазами своих соратников по партии, Ленин на минуту исчезает в их рядах, но уже в следующие секунды — окруженный своими знакомыми и незнакомыми друзьями и учениками — идет к выходу, оставив без рукопожатия, в безмолвии и растерянности., сварливо кашляющего Чхеидзе и его сконфуженных единомышленников.
В густых сумеркам позднего весеннего вечера свет фонарей серебрил сплошную массу людей, стоявших возле вокзала густыми, сбитыми рядами.
Пылали ярко факелы пожарных. В беспокойном колеблющемся свете рдели полотнища знамен.
Облитая громадными, «марсианскими» лучами прожекторов, блестела сталь солдатских штыков и стволы винтовок.
Толпа ждала.
Но была ли это толпа? Всегда безыменная, таящая в себе всегда неизвестное и неожиданное, — изменчивая и неуверенная?..
Нет!
Это был народ. Рабочие и работницы, матросы и солдаты, пролетарии и крестьяне, — это был народ.
Он принес сюда свою силу, свою волю, свою решимость: это было несокрушимое оружие победы, каким владеть могла только революция.
…Последняя минута ожидания, минута трепетной тишины — и буря народного ликования поднялась с площади и закружилась на ней: на крыльце вокзала стоял Владимир Ильич Ленин.
Грянули оркестры, грянул рабочий гимн, громом взлетели приветствия, заглушившие музыку.
Революция открыла своему величайшему вождю питерские ворота России.
«…И ты поверишь, что нет времени. Но вот уж собралась. Спасибо, дорогой Федулка, за поздравление. И тебе — мое ответное, самое лучшее пожелание. Что ж, тронулись в жизнь? В новую? Сережа говорит то же самое.
Сейчас его нет дома, пропадает целые дни во дворце Кшесинской. Там Ленин. Все наши (я говорю о товарищах Сергея) в один голос говорят: вот оно — история началась, настоящая революция началась в 11 часов ночи 3 апреля на перроне Финляндского вокзала. Ты знаешь, я ведь была тогда на площади, среди тысяч рабочих, солдат и матросов, и видела его — Ленина. Какой простой! Прост, как правда. Прожекторы осветили его своим светом, словно понесли его вдаль. Он взобрался на броневик, посмотрел вокруг, чуть-чуть потоптался на одном месте, как будто пробовал, крепко ли оно, крепко ли под ногами. Крепко! И потом все услышали его слова.
О чем была речь? Я стояла очень близко от броневика, я хорошо видела и слышала Ленина. Мне кажется, что никто точно не может передать его слов, но каждый на всю жизнь будет помнить их небывалую силу. Это была не подготовленная речь, а огненные слова, рвавшиеся из самой глубины его души, отданной навсегда народу. Все вокруг меня бдаш растроганы. Я сама чувствовала, как что-то теснило в груди, какая-то горячая волна шла от плеч и по спине, спазма, сжавшая вдруг дыхание, выжала из глаз слезы. Какой-то особый внутренний подъем охватил и меня и всех-всех…
Броневик тронулся, я в толпе пошла за ним. Везде по пути стояли люди, жаждавшие увидеть и услышать Ленина. Остановка следовала за остановкой, и на каждой он разговаривал с народом. Так продолжалось до самого дворца Кшесинской.
Федулка, я видела Ленина!
Сережа говорит о нем с каким-то особенным вдохновением: судьба революции. Значит, и наша с тобой, Федя, судьба, — правда? Или ты как считаешь?
Я всегда любила читать исторические книжки и всегда завидовала не только их героям, но и тем простым людям, которые видели своими собственными глазами историю. Мне кажется, что я теперь ее вижу воочию. Она как будто стала осязаема, стоит протянуть палец — и он ткнется в нее. И, знаешь, мне пришла в голову мысль. А что, если каждому из нас — любому солдату, измучившемуся на войне, рабочему, учителю, тебе, мне — действительно суждено самым доподлинным образом делать эту историю? Заново делать? Что тогда? Вероятно, надо тогда стать совершенно другими людьми — готовиться стать людьми будущего.
Сергей шутит и посмеивается надо мной. Это правильно, — говорит он, — что строить-то будем все мы, миллионы людей, для самих себя, народ для народа, а вот ты-то, Ириша, по мордасам будешь бить тех, кто станет мешать нам? Хочу, говорит, научить тебя драться.
Ей-богу, хороший он у меня — «собственность» моя! Конечно, легче подталкивать того, кто уже бежит, чем подвинуть того, кто еще и не двигается. Например, наш Юрка: так и метит стать дурацким юнкером. А «министерская дочка», увы, не в почете у своего отца. Ты думаешь, мне по-родственному легко? Каюсь, иногда я поплачу, чтоб никто не видел… Того еще дождешься, что он когда-нибудь вместе со своими милюковцами и шульгинцами будет арестовывать Сергея и всех таких, как он.
Словом, Федулка, я чувствую как-то, что все вышло из своей прежней колеи и не нашло еще новой. Все сдвинуто, и живописец, рисуя картину эту, должен был бы сейчас писать всех в движении.
Ты мне представляешься в такой позе: счастливый — кружишься на одном месте от счастья и любви, ничего не понимающий говоришь: «Да погодите вы приставать ко мне с вопросами: я еще не остановился!» Лучше посмейся, чем обижаться на меня, Федюшка. Прости меня, но я так поняла твое состояние из твоего письма. Сплошной горячий сумбур!
Итак, биографии всех нас начались заново. Кто может точно сказать, как они продолжатся?
Во всяком случае, в Петрограде, в поздний апрельский вечер, почти ночью, при свете факелов человек с протянутой вперед рукой…»
Вспомнив об этом, не дописав фразы, она на минуту прервала письмо: она хотела найти самые лучшие слова, чтобы ими сказать своему другу о впереди лежащей жизни.
1928–1937–1954 гг.
Ленинград — Моста
Примечания
1
В. И. Ленин, Сочинения, т. 23, стр. 296.
(обратно)2
В. И. Ленин, Сочинения, т. 23, стр. 297.
(обратно)3
Боже, покарай Англию! (нем.)
(обратно)4
«Немецкий банк» (нем.)
(обратно)5
«Далеко до Типперери» (англ.)
(обратно)6
Не так ли? (франц.)
(обратно)7
Вы в смешном положении! Простите… (франц.)
(обратно)8
Этот разговор (франц.)
(обратно)9
Хорошо (франц.)
(обратно)10
Хозяин положения (франц.)
(обратно)11
Невозможно! (франц.)
(обратно)12
Мой бог! (франц.)
(обратно)13
Я знаю (франц)
(обратно)14
Но я не знаю… (франц.)
(обратно)15
Но это не мое дело (франц.)
(обратно)16
Для того чтобы быть красивым, необходимо страдать.
(обратно)17
О, святая наивность! (лат.)
(обратно)18
В курсе (франц.)
(обратно)19
Быки дрожат (нем.)
(обратно)20
С распростертыми объятиями (франц.)
(обратно)21
Выслушать ваши советы (франц.)
(обратно)22
С меня хватит! (франц.)
(обратно)23
Этот хочет сесть на мое место! (франц.)
(обратно)24
Пусть это остается между нами! (франц.)
(обратно)25
Переворот (франц.)
(обратно)26
Роковой дар данайцев (лат.)
(обратно)27
Нет барина, который лакею казался бы героем.
(обратно)
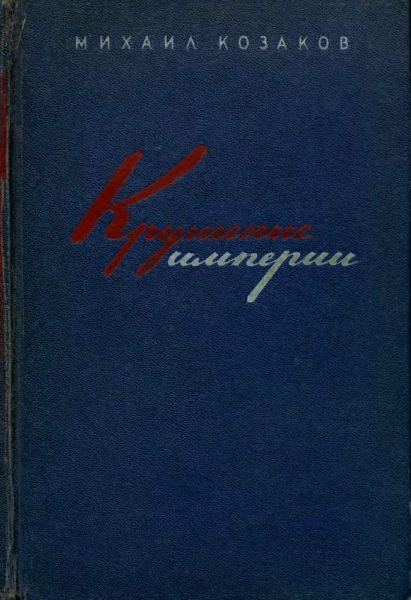





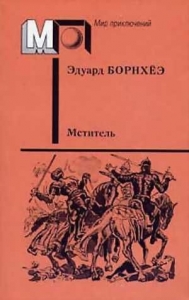
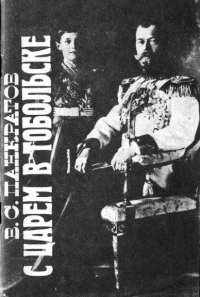

Комментарии к книге «Крушение империи», Михаил Эммануилович Козаков
Всего 0 комментариев